Абрахам Меррит Колесо страха (авторский сборник)
Гори, ведьма, гори
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я – врач, специалист по нервным и мозговым болезням, занимаюсь вопросами болезненной патологии и в этой области считаюсь знатоком. Я связан с двумя лучшими госпиталями Нью–Йорка и получил ряд наград в своей стране и за границей. Я пишу о том, что действительно произошло. Пишу, рискуя быть узнанным, не из честолюбия, не потому, что хочу показать, что компетентные наблюдатели могут дать о тех событиях вполне научное суждение.
Лоуэлл не мое имя. Это псевдоним, так же как и все остальные имена в этой книге. Причины вы поймете позже. Я мог изложить эту историю в форме доклада в одном из медицинских обществ, но я слишком хорошо знаю, с какой подозрительностью, с каким презрением встретили бы мои коллеги эту историю, настолько противоположны общепринятым мнениям многие причины и следствия из фактов и наблюдений, которыми я обладаю.
Но теперь, ортодоксальный медик, я спрашиваю самого себя, нет ли причин иных, чем те, которые мы воспринимаем? Сил и энергий, которые мы отрицаем только потому, что наша узкая современная наука не в силах объяснить их? Энергий, реальность которых проявляется в фольклоре, в древних традициях всех народов. Энергий, которые мы, чтобы оправдать наше невежество, относим к мифам и суевериям.
Мудрость – наука неизмеримо древняя, рожденная до истории, но никогда не умиравшая, никогда целиком не исчезавшая. Секретная Мудрость, хранимая ее беззаветными служителями, переносившими ее из столетия в столетие. Темное пламя запрещенного знания, горевшее в Египте еще до постройки пирамид, прячущееся под песками Гоби, известное сынам Эда (которого Аллах, как говорят арабы, превратил в камень за колдовство за десять тысяч лет до того, как Авраам появился на улицах Ура в Халдее), известное Китаю и тибетским ламам, шаманам азиатских степей и воинам южных морей. Темное пламя злой мудрости, мерцавшее в тени скандинавских замков, вскормленное руками римских легионеров, усилившееся неизвестно почему в средневековой Европе и все еще горящее, все еще живое, все еще сильное.
Довольно предисловий. Я начинаю с того момента, когда темная мудрость, если это была она, впервые бросила на меня свою тень…
Доктор Лоуэлл
1. НЕПОНЯТНАЯ СМЕРТЬ
Я услышал, как часы пробили час ночи, когда я стал подниматься по ступеням госпиталя. Обычно в это время я уже спал, но в этот вечер мой ассистент Брейл позвонил мне и сообщил о неожиданном развитии болезни одного из наших пациентов. Я остановился на минуту, чтобы полюбоваться яркими ноябрьскими звездами. И в этот момент к воротам госпиталя подъехал автомобиль. Пока я раздумывал, кто бы это мог быть так поздно, из автомобиля вышел человек, потом другой. Оба нагнулись, как бы вытаскивая что‑то. Затем они выпрямились, и я увидел между ними третьего. Голова его свисала на грудь, тело бессильно обвисло. Из машины вышел четвертый. Этого я узнал. Это был Джулиан Рикори, личность, известная в преступном мире, продукт закона о запрещении спиртных напитков. Если бы я и не видел его раньше, я все равно узнал бы его – газеты давно познакомили меня с его лицом и фигурой. Худой и высокий, с серебристо–белыми волосами, всегда прекрасно одетый, с ленивыми движениями, он больше напоминал джентльмена из респектабельного общества, чем человека, ведущего темные дела, в которых его обвиняли.
Я стоял в тени незамеченный. Теперь я вышел на свет. Пара, несущая человека, тотчас остановилась. Они опустили свободные руки в карманы пальто. В этих движениях была угроза.
— Я доктор Лоуэлл, – сказал я. – Заходите. Но они не отвечали и не двигались. Рикори вышел вперед, вгляделся, затем кивнул остальным. Напряжение ослабело.
— Я знаю вас, доктор, – сказал он приветливо. – Но позвольте дать вам совет: не стоит так быстро и неожиданно появляться перед неизвестными людьми, особенно ночью в этом городе.
— Но я же знаю вас, мистер Рикори.
— Тогда вы поступили вдвойне неверно, а мой совет вдвойне ценен, – улыбнулся он.
Я открыл двери. Двое прошли мимо меня со своей ношей, следом мы с Рикори. Внутри я повел себя как врач и подошел к раненому. Двое бросили взгляд на Рикори, тот кивнул. Я поднял голову и содрогнулся. Такого выражения ужаса я еще не видел за свою долгую практику ни среди здоровых, ни среди сумасшедших. Это был не просто ужас, а предельный ужас. Голубые в темных ресницах глаза, казалось, смотрели не только на меня, но сквозь меня и в то же время внутрь, как будто кошмар, который они видели, был до сих пор внутри них. Рикори внимательно наблюдал за мной.
— Доктор, – обратился он ко мне, – что увидел мой друг, или что ему дали, что он стал таким? Я заплачу большую сумму, чтобы узнать это. Я хочу, чтобы его вылечили. Но я буду с вами откровенен, доктор: я отдал бы последнее пенни, чтобы узнать наверное, что они не сделают этого со мной, не заставят увидеть и перечувствовать того же.
Я позвонил, вошли санитары и положили пациента на носилки. Пришел дежурный врач. Рикори дотронулся до моего локтя:
— Мне хотелось бы, доктор, чтобы вы сами лечили его. Я много слышал о вас. Могли бы вы оставить всех пациентов и заняться только им, не думая о затратах?
— Минутку, мистер Рикори, – перебил я его, – у меня есть больные, которых я не могу оставить. Ваш друг под моим постоянным наблюдением и под наблюдением людей, которым я вполне доверяю. Согласны?
Он согласился, хотя я видел, что он не вполне удовлетворен. Я приказал перенести пациента в соседнюю комнату и провел все необходимые формальности.
Рикори сказал, что его зовут Томас Питерс, он одинок и является его лучшим другом. Вынув из кармана пачку денег, он отсчитал тысячу долларов на «предварительные расходы». Я пригласил Рикори присутствовать при осмотре, и он согласился. Его телохранители стояли на страже у дверей госпиталя, мы прошли в комнату. Питер лежал на койке, покрытый простыней. Над ним стоял Брейл с недоумевающим выражением лица. Я с удовлетворением отметил, что к больному назначена сестра Уолтерс, одна из самых способных и знающих в госпитале.
— Явно какое‑то отравление, – обратился ко мне Брейл.
— Может быть, – ответил я, – но такого яда я еще не встречал. Посмотрите его глаза.
Я закрыл веки Питерса. Но как только я отнял пальцы, они медленно раскрылись. Ужас в них не уменьшался. Я начал обследование. Тело было расслаблено, бессильно, как у куклы. Все нервы как будто вышли из строя, но паралича не было. Тело не реагировало ни на какие раздражения, и только зрачки слабо сужались при сильном свете. Когда Хоскинс, наш гематолог, взял анализ крови, я снова стал осматривать тело, но не мог найти ни единого укола, ранки, царапины, ссадины. С разрешения Рикори я сбрил волосы с груди, ног, плеч, головы Питерса, но не нашел ничего, что указывало бы на инъекцию яда. Я сделал промывание желудка, проверил нос и горло – все было нормально. Тем не менее я взял с них срезы для анализа. Давление было низким, температура ниже нормальной, но это ничего не значило. Я ввел дозу морфия. Впечатление было не больше, чем от простой воды. Я ввел еще дозу морфия, никакого результата. Пульс и дыхание были прежние. Я сделал все, что мог, и откровенно сказал об этом Рикори, который с интересом наблюдал за происходящим.
— Я ничего больше не могу сделать, пока не узнаю результатов анализа. Откровенно говоря, я ничего не понимаю.
— Но доктор Брейл говорил о каком‑то яде… – начал Рикори.
— Это только предположение, – торопливо прервал его Брейл, – как и доктор Лоуэлл, я не знаю ни одного яда, который давал бы такой эффект.
Рикори посмотрел на лицо Питерса и вздрогнул.
— Теперь я должен задать вам несколько вопросов, – начал я. – Болел ли этот человек? Если да, то кто его лечил? Не жаловался ли он на что‑нибудь? Не замечали ли вы за ним каких‑нибудь странностей?
— Отвечаю «нет» на все ваши вопросы. Питерс был со мной всю прошлую неделю. Он был совершенно здоров. Сегодня вечером мы беседовали с ним в моей квартире за поздним, но довольно легким обедом. Посреди фразы он вдруг остановился, полуобернув голову, как бы прислушиваясь, затем соскользнул на пол. Когда я нагнулся над ним, он был такой, как сейчас. Это случилось в половине первого. В час мы были у вас.
— Хорошо. Это дает нам хотя бы точное время приступа. Вы можете идти, мистер Рикори, если не хотите оставаться с больным.
— Доктор Лоуэлл, – сказал он, – если этот человек умрет и вы не узнаете, что с ним было, я плачу вам обычный гонорар – и госпиталю тоже – не больше. Но если вы узнаете, хотя бы даже после его смерти, в чем дело, я заплачу вам сто тысяч для благотворительных целей, какие вы назовете. Если же вы сделаете это до его смерти и вернете ему здоровье, я плачу эту сумму вам лично.
Я смотрел на него, не понимая. Затем смысл предложения дошел до меня, и с трудом сдерживая гнев и раздражение, я ответил:
— Рикори, мы живем с вами в разных мирах, поэтому я отвечаю вам очень вежливо, хотя мне и трудно сдерживаться. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему или выяснить, что с ним. Я сделал бы это и если бы вы были бедняком. Я заинтересован в нем только как в проблеме, бросающей вызов мне как врачу. Но в вас и в ваших деньгах – нисколько. Считайте, что я положительно отказываюсь. Понятно?
Он промолчал.
— Так или иначе, – сказал он наконец, – я больше, чем когда‑либо хочу, чтобы вы лечили его.
— Очень хорошо. Где я могу найти вас, если вы мне понадобитесь?
— Видите ли, я с вашего позволения хотел бы иметь… представителей что ли в этой комнате, все время. Двух. Если вы захотите видеть меня – скажете им, и я скоро буду здесь.
Я улыбнулся, но он был серьезен.
— Вы напомнили мне, доктор, что мы живем в разных мирах. Вы принимаете свои меры, чтобы быть в безопасности в вашем мире, а я стараюсь уменьшить опасности в своем. И опасаюсь от них, как могу.
Все это выглядело противозаконно, но мне нравился Рикори. Он чувствовал это и настаивал.
— Мои люди не будут мешать. Они будут охранять вас и ваших помощников, если то, что я подозреваю – правда. Но они будут в комнате днем и ночью. Если Питерса переведут, они будут сопровождать его.
— Хорошо, я устрою это, – сказал я.
Я послал санитара, и он вернулся с одним из стражей. Рикори пошептался с ним, и он вышел. Немного погодя, оба стража вернулись вместе. За это время я объяснил ситуацию дежурному врачу. Оба стража были хорошо одеты, вежливы, со сжатыми губами и холодными внимательными глазами. Один из них взглянул на Питерса.
— Иисусе! – пробормотал он.
Комната была угловой, с двумя окнами: одно на бульвар, другое – на боковую улицу. Дверь вела в залу. Ванная была темная, без окон. Рикори и его телохранители детально осмотрели комнату. Рикори потушил свет, все трое подошли к окнам и внимательно осмотрели улицу напротив госпиталя, где располагалась церковь.
— Эту сторону наблюдать, – сказал Рикори и указал на церковь. – Можно включить свет.
Он подошел к двери, потом вернулся.
— У меня много врагов, доктор, а Питерс был моей правой рукой. Если один из этих врагов убил его, он сделал это, чтобы ослабить меня. Я смотрю на Питерса и впервые в жизни я, Рикори, боюсь. Я не хочу быть следующим, не хочу смотреть в ад!
Я недовольно заворчал.
Он снова подошел к двери и снова остановился.
— Есть еще одна вещь, доктор. Если кто‑нибудь позвонит по телефону и спросит о здоровье Питерса, пусть подойдут мои люди. Если кто‑нибудь придет и будет спрашивать, впустите его, но если их будет несколько, впустите только одного. Если кто‑нибудь будет уверять, что он его родственник, пусть его расспросят мои люди.
Он сжал мою руку и вышел. На пороге его ждала другая пара телохранителей. Они пошли – один впереди, другой сзади него. Я заметил, что выходя, Рикори энергично перекрестился.
Я закрыл двери и вернулся в комнату. Я посмотрел на Питерса и… если бы я был религиозен, я бы тоже перекрестился. Выражение лица Питерса переменилось. Ужас исчез. Он по–прежнему смотрел как бы сквозь меня и внутри себя, но с выражением какого‑то злого ожидания, такого злого, что я невольно оглянулся. В комнате никого не было. Один из парней Рикори сидел у окна в тени, наблюдая за парапетом церковной крыши, другой неподвижно сидел у дверей.
Брейл и сестра Уолтерс стояли по другую сторону кровати. Их глаза не могли оторваться от лица Питерса. Затем Брейл повернул голову и осмотрел комнату, как это сделал только что я.
Вдруг глаза Питерса стали сознательными, они увидели нас, увидели комнату. Они заблестели какой‑то необычайной радостью. Радостью не маниакальной, а дьявольской. Это был взгляд дьявола, надолго исключенного из любимого ада и возвращенного туда. Затем это выражение исчезло и вернулось прежнее – ужаса и страха. Я невольно с облегчением вздохнул, как будто из комнаты исчез кто‑то злобный. Сестра дрожала. Брейл спросил напряженно:
— Как насчет еще одной инъекции?
— Нет, – ответил я. – Понаблюдайте за ним без наркотиков. Я пойду в лабораторию.
В лаборатории Хоскинс продолжал возиться с пробирками.
— Ничего не нашел. Прекрасное здоровье. Правда, я не все еще закончил.
Я кивнул, предчувствуя, что и остальные анализы ничего не дадут. И я потрясен случившимся больше, чем мне хотелось бы сознаться. Меня давило ощущение какого‑то кошмара. Чтобы успокоиться, я взял микроскоп и стал рассматривать мазки крови Питерса, не ожидая, впрочем, ничего интересного. Но на четвертом мазке я наткнулся на что‑то необычайное. При повороте стекла появился белый шарик. Простой белый шарик, но внутри него наблюдалась фосфоресценция, он сиял, как маленький фонарик! Сначала я подумал, что это действие света, но свечение не исчезало. Я подозвал Хоскинса, он внимательно посмотрел в микроскоп, вздрогнул и покрутил винтами.
— Что вы видите, Хоскинс?
— Лейкоцит, внутри которого фосфоресцирует какой‑то шарик, – ответил он. – Его свет с изменением освещения не меняется. В остальном – обычный лейкоцит.
— Но это невозможно, – сказал я.
— Конечно, – согласился он. – Однако, он тут.
Я отделил лейкоцит и дотронулся до него иглой. И тут он как бы взорвался. Шарик фосфоресценции уплотнился, и что‑то вроде миниатюрного языка пламени пробежало по препарату. И все: фосфоресценция исчезла. Мы начали изучать препарат за препаратом. Еще дважды мы нашли маленькие сияющие шарики, и каждый раз результат прикосновения был тот же. Зазвонил телефон. Хоскинс ответил.
— Это Брейл. Он просит вас побыстрее наверх.
Я поспешил наверх. Войдя, я увидел сестру с лицом белее мела и с закрытыми глазами. Брейл наклонился над пациентом со стетоскопом. Я взглянул на Питерса и снова почувствовал ужас. На его лице опять было выражение дьявольской радости, но оно держалось не дольше нескольких минут.
Брейл сказал мне сквозь сжатые зубы:
— Сердце остановилось три минуты назад! Он должен быть мертвым, но послушайте…
Тело Питерса выпрямилось. Низкий нечеловеческий звук смеха сорвался с его губ. Человек у окна вскочил, стул его с шумом упал. Смех замер, тело Питерса лежало неподвижно. Открылась дверь и вошел Рикори.
— Как он, доктор? Я не могу спать…
Он увидел лицо Питерса.
— Матерь божия, – прошептал он, опускаясь на колени.
Я все видел, как в тумане – я не мог отвести глаз от лица Питерса. Это было лицо демона с картины средневекового художника. Это было лицо смеющегося, радующегося негодяя – все человеческое исчезло. Голубые глаза злобно глядели на Рикори. Мертвые руки шевельнулись, локти медленно отделились от туловища, пальцы сжимались. Вдруг мертвое тело начало извиваться под покрывалом. Этот кошмар привел меня в чувство. Это было затвердевание тела после смерти, но проходящее необыкновенно быстро. Я подошел и накрыл покрывалом его ужасное лицо. Рикори стоял по–прежнему на коленях, крестясь и молясь. А позади него тоже на коленях стояла сестра Уолтерс, бормоча молитву. Часы пробили пять.
2. ВОПРОСНИК
Я предложил Рикори поехать вместе домой, и, к моему удивлению, он согласился. Он, видимо, был потрясен. Мы ехали молча, в сопровождении его телохранителей. Я дал Рикори сильное снотворное и оставил его спящим под охраной двух стражей. Я сказал им, чтобы его не беспокоили, а сам поехал на вскрытие тела.
Вернувшись, я обнаружил, что тело Питерса отнесли в морг. Затвердевание тела окончилось, по словам Брейла, быстро, менее, чем в час. Я сделал необходимые для вскрытия приготовления и, забрав с собой Брейла, поехал домой поспать несколько часов. На душе было как‑то неспокойно, и я был рад обществу Брейла так же, как он, кажется, моему.
Когда я проснулся, кошмарная подавленность все еще оставалась, хотя и ослабела. Около двух мы приступили к вскрытию. Я снял простыню с тела Питерса с явным волнением. Но лицо его изменилось. Дьявольское выражение исчезло. Лицо было серьезное, простое, лицо человека, умершего спокойно, без агонии тела или мозга. Я поднял руку, она была мягкая – значит, все тело еще не отвердело!
Вот тогда‑то я понял, что имею дело с каким‑то абсолютно новым агентом смерти. Как правило, затвердевание тела продолжается от 16 до 24 часов, в зависимости от состояния пациента перед смертью, температуры и дюжины других факторов. Диабетики затвердевают быстрее, но вообще оно может длиться до 72 часов. Быстрое повреждение мозга, как выстрел в голову, ведет к убыстрению процесса. Но в данном случае затвердевание началось одновременно со смертью и быстро закончилось, однако дежурный врач доложил, что он осматривал тело через 5 часов и отвердевание еще не закончилось. Следовательно, оно появилось и исчезло!
Результат вскрытия можно изложить двумя словами. Не было никаких причин смерти. И все же он был мертв!
Позже, когда Хоскинс делал свой доклад, ничего не изменилось. Не было причин для смерти, но он умер. Если таинственный свет, который мы видели под микроскопом, и имел отношение к его смерти, то он не оставил никаких следов! Все его органы были абсолютно здоровы, все в полном порядке, он был на редкость здоровым парнем. После моего ухода из лаборатории Хоскинс не мог больше найти ни одного светящегося шарика.
Вечером я написал короткую записку, в которой перечислил симптомы, наблюдавшиеся у Питерса, не останавливаясь на смене выражения его лица, но осторожно ссылаясь на «необычайные гримасы» и «выражение интенсивного ужаса». Мы с Брейлом размножили записку и разослали по почте во все госпитали и клиники Нью–Йорка. Такие же письма мы отправили многим частным врачам.
В записке мы также просили врачей, наблюдавших подобное, прислать подробное описание, имена, адреса, род занятий этих людей и другие детали, конечно, в запечатанном виде и с полной гарантией секретности. Я льстил себя надеждой, что моя репутация не позволит врачам, получившим мой вопросник, заподозрить в нем простое любопытство или неэтичность.
Я получил в ответ семь писем и персональный визит одного из авторов. Каждое из этих писем, за исключением одного, с разной степенью врачебного консерватизма давало ответ на мой вопрос. Прочитав их, я убедился, что на протяжении шести месяцев 7 человек, самых разных по возрасту и положению в жизни, умерли так же, как Питерс. Хронологически они располагались так:
Май, 25. Руфь Вейли, девица, 50 лет, здоровье среднее, работала в специальной регистратуре, хорошая характеристика, добра, любит детей.
Июнь, 20. Патрик Мак–Иррек, каменщик, жена и двое детей.
Август, 1. Анита Грин, девочка 11 лет, родители небогатые люди с хорошим образованием.
Август, 15. Стив Стендит, акробат, 30 лет, жена и трое детей.
Август, 30. Джон Маршалл, банкир, 60 лет, любит детей.
Сентябрь, 10. Финеас Диматт, 35 лет, акробат на трапециях, есть ребенок.
Октябрь, 12. Гортензия Дарили, около 30 лет, без определенного занятия.
Адреса за исключением двух разбросаны по всему городу.
Каждое письмо сообщало о быстром наступлении затвердевания тела и быстром его окончании. От первого проявления болезни до смерти во всех случаях проходило пять часов. В 5 случаях отмечались странные выражения лица, которые так обеспокоили меня; в той осторожной форме, в которой они описывались, я чувствовал страх и удивление писавших.
«Глаза пациентки оставались открытыми», – писал врач, наблюдавший девицу Вейли. – Она глядела, но не узнавала окружающих и не видела предметов вокруг себя. Выражение дикого ужаса на лице перед смертью весьма подействовало на обслуживающий персонал. Это выражение стало еще интенсивнее после смерти. Затвердевание тела наступило и закончилось в течение трех часов.
Врач, наблюдавший каменщика, ничего не мог сообщить о явлениях после смерти, но много писал о выражении лица пациента. «Это ничего общего не имело, – писал он, – ни со сжатием мускулов, которое называется «гиппократовым выражением», ни с широко раскрытыми глазами и искривленным ртом, обычно известным под названием «улыбка смерти». Не было также никаких признаков агонии после смерти – как раз наоборот. Я бы назвал это выражение необыкновенного озлобления».
Отчет врача, наблюдавшего Стендита, акробата, был необычайно точен. Он упоминал, что «после смерти пациента странные, очень неприятные звуки издавались его горлом».
Это, видно, были такие же дьявольские вещи, которые мы наблюдали у Питерса, и если так, то не было ничего удивительного в том, что мое письмо вызвало самые детальные ответы.
Я знал врача, наблюдавшего банкира – самоуверенного, важного, великолепного доктора для очень богатых.
«Причина смерти для меня не является тайной, это наверняка тромб в области мозга. Я не придаю значения гримасам и быстрому затвердеванию тела. Вы знаете, дорогой Лоуэлл, что ничего нельзя обосновать на длительности этого процесса».
Мне хотелось ответить ему, что тромб является просто удобным диагнозом для прикрытия невежества врача, но это ни к чему бы не привело.
Отчет о Диматте был простым перечислением фактов.
А вот доктор, наблюдавший маленькую Аниту, не был так сдержан. Вот что он писал: «Дитя было прелестно. Казалось, она не испытывала страданий, но в глазах ее застыл ужас. Это было так, словно она находилась в каком‑то кошмаре, так как несомненно до самой смерти она была в сознании. Большая доза морфия не оказала никакого действия. После ужас исчез и появилось другое выражение, которое мне не хочется описывать, но о котором я могу вам рассказать, если вы желаете. Вид ребенка после смерти был потрясающим, но опять‑таки, я хотел бы лучше рассказать вам об этом, вместо того, чтобы писать».
Внизу была торопливо сделана приписка. Я представил себе, как он сначала раздумывал, затем решил поделиться тем, что его угнетало, быстро приписал несколько фраз и поспешил отправить, пока не передумал. «Я написал, что ребенок был в сознании до самой смерти. То, что меня мучает – это уверенность, что она была в сознании после физической смерти!
Разрешите мне поговорить с вами!»
Я с удовлетворением кивнул. Я не смел спросить об этом в моем вопроснике. И если это было верно и в других случаях, значит, все доктора, кроме наблюдавшего за Стендитом, оказались так же консервативны (или трусливы), как я.
Врачу маленькой Аниты я позвонил тотчас же. Он был взволнован и повторял снова и снова: «Девочка была мила и кротка, как ангел, и вдруг превратилась в дьявола!»
Я пообещал сообщить ему обо всех открытиях, которые мне удалось сделать, а вскоре после разговора с ним принял у себя доктора, наблюдавшего Гортензию Дарили.
Доктор У., как я его буду называть, не мог ничего нового добавить к своему отчету, но после разговора с ним мне стала яснее практическая линия разрешения проблемы.
Его приемная, сказал он, находится в том же доме, где жила Гортензия Дарили. Он задержался на работе и был вызван к ней на квартиру в 10 часов вечера ее горничной–мулаткой. Он нашел пациентку лежащей на кровати и сразу же был потрясен выражением ужаса на ее лице и необыкновенной гибкостью тела.
Он описал ее как голубоглазую блондинку «кукольного вида». В квартире находился мужчина. Сначала он не хотел себя называть, заявив, что он просто знакомый пациентки.
Доктор У. подумал, что женщина могла подвергнуться побоям, но при осмотре он не нашел ни синяков, ни ушибов. «Знакомый» рассказал ему, что мисс Дарили сползла со стула, когда они обедали, как будто все ее кости размягчились, и больше от него ничего нельзя было добиться.
Горничная подтвердила это. На столе еще стоял несъеденный обед, и оба – и мужчина и женщина – утверждали, что Гортензия была в прекрасном настроении и никакой ссоры не было. «Знакомый» сказал, что приступ начался три часа назад, они пытались привести ее в чувство сами, но смена выражений ее лица заставила позвать доктора. С горничной при этом началась истерика. И она убежала, но мужчина был более смелым и оставался до конца. Он был потрясен так же, как и доктор У. тем, что наблюдал после ее смерти.
После того, как врач заявил, что этот случай для прокурора, он перестал упрямиться и сказал, что его имя Джеймс Мартин, и попросил врача произвести вскрытие и полное исследование трупа. Он был откровенен: он жил с мисс Дарили и у него было «достаточно неприятностей, чтобы ее смерть пришили мне». Обследование тела показало, что мисс Дарили была абсолютно здорова, если не считать небольшого заболевания сердечного клапана. Записали, что смерть произошла от инфаркта, но доктор У. прекрасно знал, что сердце тут не при чем.
Меня в этом случае поразило другое: она жила рядом с Питерсом (адрес его мне дал Рикори). Более того, по наблюдениям доктора У., Мартин был из того же мира. Здесь была какая‑то связь между двумя случаями, отсутствовавшая у всех остальных.
Я решил поделиться своими соображениями с Рикори. За те две недели, что я занимался делом, я ближе познакомился с ним, и он мне страшно нравился, несмотря на его репутацию. Он был поразительно начитан, умен, хотя аморален и суеверен. В давние времена он был бы отличным кондотьером – ум и шпага для найма. Кто его родители, я не знал. Он посетил меня несколько раз после смерти Питерса и явно разделял мою симпатию к нему. Его всегда сопровождали те два молчаливых стража, которые дежурили в госпитале. Одного из них звали Мак–Кенн, он был наиболее приближенным к Рикори человеком, безраздельно ему преданным. Это тоже был интересный тип и тоже симпатизирующий мне. Он был южанином, как он рассказал, «коровьей нянькой с Аризоны», ну а затем «стал слишком популярен на границе».
— Я за вас, док, – говорил он мне, – вы добры к хозяину. И когда я прихожу сюда, я могу вынуть руку из кармана. Если кто‑нибудь нападет на вас, зовите меня скотиной. Я попрошу отпуск на денек.
И затем он добавлял просто, что он может «всадить шесть пуль подряд в одну точку на расстоянии 100 футов».
Я не знаю, в шутку он говорил это или серьезно. Во всяком случае, Рикори никуда не выходил без него, а то, что он оставил его охранять Питерса, показывало, как он ценил погибшего друга.
Я позвонил Рикори и пригласил его пообедать с Брейлом у меня вечером. В семь он приехал и приказал вернуться шоферу за ним к десяти. Мы сели за стол, а Мак–Кенн остался на страже в гостиной, приводя в волнение двух ночных сиделок – у меня был маленький частный госпиталь рядом с квартирой.
После обеда я перешел к делу. Я рассказал Рикори о вопроснике и о семи аналогичных нашему случаях.
— Вы можете выкинуть из головы все подозрения о том, что смерть Питерса как‑то связана с вами, Рикори, – сказал я. – За одним возможным исключением, ни один из семи не принадлежит к тому, что вы называете вашим миром. Если этот единственный случай и затрагивает сферу вашей деятельности, он не меняет моей абсолютной уверенности в том, что вы никакого отношения ко всему этому не имеете. Знали ли вы или слыхали о женщине по имени Гортензия Дарили?
Он покачал головой.
— Она жила напротив Питерса.
— Но Питерс не жил по этому адресу, – сказал Рикори, улыбаясь несколько смущенно. – Видите ли, я не знал тогда вас так хорошо, как теперь.
Я немного растерялся.
— Ну, хорошо, – продолжал я, – а вы не знали некоего Мартина?
— Как вам сказать, – я знаю нескольких Мартинов. А как его имя?
— Джеймс.
Он покачала головой.
— Может быть, Мак–Кенн помнит его, – сказал он наконец.
Я послал лакея за Мак–Кенном.
— Мак–Кенн, ты знаешь женщину по имени Гортензия Дарили? – спросил Рикори, когда тот пришел.
— Конечно, – ответил Мак–Кенн, – беленькая куколка. Она живет с Мартином. Он взял ее из театра Бенити.
— А Питерс знал ее? – спросил я.
— Да, конечно, она была знакома с Молли, вы ее знаете, босс, – маленькая сестра Питерса.
Я внимательно взглянул на Рикори, вспоминая о том, что он говорил мне об отсутствии родственников у Питерса. Он ничуть не смутился.
— А где сейчас Мартин? – спросил он.
— Уехал в Канаду, как я слышал. Хотите, чтобы я разыскал его, босс?
— Я скажу тебе об этом позже, – сказал Рикори, и Мак–Кенн вернулся в гостиную.
— Мартин ваш друг или враг?
— Ни то, ни другое.
Я помолчал, обдумывая то, что услышал. Связь между случаями Питерса и Дарили исчезла, но появилось другое. Гортензия умерла двенадцатого октября, Питерс – десятого ноября. Когда Питерс виделся с ней?
Если таинственная болезнь была заразной, никто, конечно, не мог сказать, сколько длится инкубационный период. Мог ли Питерс заразиться от нее?
— Рикори, – сказал я, – дважды сегодня вечером я узнал, что вы сказали мне неправду о Питерсе. Я забуду об этом, так как думаю, что это больше не повторится. Я хочу верить вам, даже если мне придется выдать вам мою профессиональную тайну. Прочтите эти письма.
Я передал ему ответы на мой вопросник. Он молча прочел все, потом я рассказал ему то, что передал мне доктор У., рассказал ему все, вплоть до светящихся шариков в крови Питерса.
Он побледнел и перекрестился.
– Sanctus! – пробормотал он. – Ведьма! Это ее огонь!
— Чепуха, друг! Забудьте о своих проклятых суевериях. Они не помогут.
— Вы, ученые, ничего не знаете. Есть некоторые вещи, доктор… – начал он горячо и замолчал. – Что вы хотите от меня, доктор? – спросил он наконец.
— Во–первых, – сказал я, – давайте проанализируем эти восемь случаев. Брейл, у вас есть ли какие‑нибудь соображения?
— Да, – ответил Брейл, – я считаю, что все восемь были убиты.
3. СМЕРТЬ СЕСТРЫ УОЛТЕРС
Брейл высказал то, что все время находилось у меня в подсознании, хотя и не имело никаких доказательств, и это привело меня в раздражение.
— Ого! Я вижу, лавры Шерлока Холмса не дают вам покоя, – сказал я иронически.
Брейл покраснел, но упрямо повторил:
— Они убиты…
– Sanctus! – снова прошептал Рикори.
Я повернулся к нему, но он больше ничего не сказал.
— Бросьте биться головой об стену, Брейл. Какие у вас доказательства?
— Вы отходили от Питерса почти на два часа, а я был с ним от начала до конца. Пока я изучал его, у меня все время было ощущение, что причина его гибели в уме, а не в теле, нервах, мозгу, которые не отказывались функционировать. Отказала воля. Конечно не совсем так. Я хочу сказать, что его воля перестала управлять функциями организма, а как бы сконцентрировалась, чтобы убить его.
— Но то, что вы сейчас говорите, – самоубийство, а не убийство. Так или иначе, он погиб. Мне приходилось наблюдать, как люди умирали только потому, что потеряли волю жить.
— Я подразумеваю другое, – перебил он меня. – То было пассивно. Это было активно.
— Боже мой, Брейл! – я был шокирован. – Значит, все восемь отправились к праотцам потому, что они этого активно захотели… И среди них одиннадцатилетний ребенок!
– Sanctus! – снова прошептал Рикори.
Я сдержал раздражение, так как уважал Брейла. Он был слишком умный, хороший, здравомыслящий человек, чтобы можно было легко отмахнуться от него.
— Как же, по–вашему, были совершены эти убийства? – по возможности вежливо спросил я.
— Не знаю, – просто ответил Брейл.
— Ну что ж, рассмотрим вашу теорию. Рикори, по этой части у вас опыта больше, чем у нас, поэтому слушайте внимательно и забудьте о вашей ведьме, – я говорил довольно грубо. – В каждом убийстве есть три фактора: метод, возможность, мотив.
Рассмотрим по порядку. Метод. Имеется три пути, которыми можно отравить человека: через нос, рот и кожу. Отец Гамлета, например, был отравлен через ухо, хотя я всегда в этом сомневался. Я думаю, что в нашем случае этот способ можно откинуть. Остаются только первые три. Были ли какие‑нибудь признаки того, что Питерс был отравлен через кожу, нос или рот? Наблюдали ли вы, Брейл, какие‑нибудь следы на коже, дыхательных путях, в горле, на слизистой оболочке, в желудке, крови, нервах, мозгу – хоть что‑нибудь?
— Вы знаете, что нет, – ответил Брейл.
— Знаю. Таким образом, кроме проблематичного шарика в крови нет никакого признака метода. Давайте рассмотрим второй фактор – возможность. У нас имеются: сомнительная дама, бандит, уважаемая пожилая девица, каменщик, одиннадцатилетняя школьница, банкир, акробат, гимнаст. Самая разношерстная компания. Никто из них, кроме трех, не имеет ничего общего. Кто мог войти в одинаково тесный контакт с бандитом Питерсом и девицей из Социальной регистратуры Руфью Вейли? Как мог человек, связанный с банкиром Маршаллом, иметь связь с акробатом? И так далее. Надеюсь, трудность положения вам ясна? Если все это убийства, нужно наличие отношений между всеми этими людьми. Вы с этим согласны?
— Частично.
— Хорошо, продолжаю. Если бы они все были соседями, мы могли бы предположить, что они находились в сфере деятельности гипотетического убийцы. Но они…
— Простите меня, доктор, – перебил Рикори. – Но представьте себе, что у них мог быть какой‑то общий интерес, который ввел их в эту сферу?
— Какой же общий интерес может быть у столь разных людей?
— Он ясно указан в этих письмах и в рассказе Мак–Кенна.
— О чем вы говорите, Рикори?
— Дети, – ответил он.
Брейл кивнул.
— Я тоже заметил это.
— Посмотрите письма, – продолжал Рикори, – мисс Вейли описана как дама добрая и любящая детей. Ее доброта как раз и выливалась в то, что она помогала им. Маршалл, банкир, тоже интересовался детскими приютами. Каменщик, гимнаст и акробат имели своих детей. Анита сама ребенок. Питерс и Дарили, по словам Мак–Кенна, сходили с ума по ребенку.
— Но если это убийства, то все они сделаны одной и той же рукой. Не может быть, чтобы все восемь интересовались одним ребенком?
— Правильно, – заметил Брейл. – Все они могли интересоваться какой‑нибудь особой вещью, которая нужна ребенку для развлечения или еще чего‑нибудь и которую можно достать в одном месте. А исследовав это место…
— Над этим стоит подумать, – сказал я. – Но мне кажется, здесь дело проще. Дома, в которых жили эти люди, мог посещать один какой‑то человек, например, радиомеханик, страховой агент, сборщик податей…
Брейл пожал плечами. Рикори не ответил. Он глубоко задумался и, кажется, даже не слыхал моих слов.
— Послушайте, Рикори, – сказал я. – Мы зашли слишком далеко. Метод убийства – если это убийство – неизвестен. Возможность убийства надо определить, найдя особу, профессия которой представляла интерес для всех восьми и которая посещала их или они посещали ее, например, особо, имеющая отношение к детям. Теперь о мотивах. Месть, выгода, любовь, ревность, самозащита? Ни один не может быть избран, так как мы снова упремся в социальные мотивы – положение людей в обществе и т. д.
— А что, если это будет удовлетворение, которое чувствует субъект, удовлетворяя страсть к убийству, к смерти, это не может быть мотивом? – спросил как‑то странно Брейл.
Рикори приподнялся, внимательно и удивленно посмотрел на него и снова опустился в кресло. Чувствовалось, что он теперь живо заинтересован.
— Я как раз и хотел рассмотреть возможность появления такого убийцы, – сказал я сердито.
— Это совсем не то, – уверенно произнес Брейл. – Помните у Лонгфелло: «Я пускаю стрелу на воздух, она падает на землю, не знаю куда». Я никогда не соглашался с тем, что автор подразумевал в этих строках отправку корабля в неизвестные порты и его возвращение с грузом слоновой кости, павлинами, обезьянами и драгоценными камнями. Есть люди, которые не могут стоять у окна над шумной улицей или на вершине небоскреба, чтобы не чувствовать в глубине души желание бросить вниз что‑нибудь тяжелое. Они чувствуют приметное волнение, стараясь угадать, кто был бы убит. Это чувство силы. Как–будто он становится Богом и может наслать чуму на людей. В душе ему хотелось и выпустить стрелу и представить в своем воображении, попала ли она кому‑нибудь в глаз, в сердце или убила бродячую собаку.
Теперь продолжим начатое рассуждение. Дайте одному из таких людей силу и возможность выпустить в мир смерть, причину которой невозможно обнаружить. Он в безопасности – бог смерти. Не имея никакой особой ненависти к кому‑либо персонально, он просто выпускает свои стрелы в воздух, как стрелок Лонгфелло, ради удовольствия.
— И вы не назовете такого человека убийцей–маньяком? – спросил я сухо.
— Не обязательно. Просто лишенным обычных взглядов на убийство. Может быть, он не знает, что поступает плохо. Каждый из нас приходит в мир со смертным приговором, причем метод его выполнения и время неизвестны. Ну, убийца может рассматривать себя самого таким же естественным фактором, как сама смерть. Ни один человек не верит в то, что он и все на земле управляется мудрым и всесильным Богом, не считает его убийцей–маньяком. А он напускает на человечество войны, чуму, голод, потопы, болезни, землетрясения – на верующих и неверующих одинаково.
Если вы верите в то, что все находится в руках того, кого неопределенно называют судьбой, назовете вы судьбу маньяком–убийцей?
— Ваш гипотетический стрелок, – сказал я, – выпустил исключительно неприятную стрелу, Брейл. Дискуссия наша приняла слишком метафизический характер для такого простого научного работника, как я. Рикори, я не могу доложить все это полиции. Они вежливо выслушают и от всей души посмеются после моего ухода. Если я расскажу все, что было, медицинским авторитетам, они сочтут меня ненормальным. И мне не хотелось бы привлекать к делу частных сыщиков.
— Что вы хотите от меня? – спросил Рикори.
— Вы обладаете необыкновенными связями, Рикори. Я хочу, чтобы вы восстановили все передвижение Питерса и Гортензии Дарили за последние два месяца. Я хочу, чтобы вы, по возможности, проверили и других. Я хочу, чтобы вы нашли то место, в котором скрестились пути этих бедняг. И хотя ум говорит мне, что вы с Брейлом несете чушь, чувства говорят, что вы в чем‑то правы.
— Вы прогрессируете, доктор, – вежливо сказал Рикори. – Я предсказываю, что скоро вы признаете существование моей ведьмы.
— Я до такой степени выбит из колеи, что могу признать даже это.
Рикори рассмеялся и занялся выпиской сведений из писем.
Пробило 10. Появился Мак–Кенн и сказал, что машина подана. Мы проводили Рикори и тут мне в голову пришла одна идея.
— С чего вы хотите начать, Рикори?
— Я съезжу к сестре Питерса.
— Она знает, что он умер?
— Нет, – ответил он неохотно. – Она думает, что он уехал. Он часто подолгу отсутствовал и при этом ничего не сообщал ей о себе. Связь с ней обычно держал я. Я не сказал ей о его смерти, потому что она очень любила его. Известие причинит ей огромное горе, а… через месяц у нее будет ребенок.
— А про Гортензию она знает?
— Не знаю. Наверное.
— Ну, хорошо, – сказал я, – не знаю, удастся ли теперь скрыть от нее его смерть, но это ваше дело.
— Точно, – ответил он и пошел к машине.
Мы с Брейлом не успели войти в мою библиотеку, как раздался звонок телефона. Брейл ответил. Я услышал, как он выругался. Рука его, державшая трубку, задрожала. Лицо исказилось.
— Сестра Уолтерс, – сказал он, – заразилась от Питерса.
Я вздрогнул. Уолтерс была наша лучшая сестра и кроме того, чудная и красивая девушка. Чистый галльский тип – синевато–черные волосы, голубые глаза с удивительно длинными ресницами, молочно–белая кожа. Да, это была удивительно привлекательная девушка.
Минуту промолчав, я сказал:
— Ну, вот, Брейл. Все ваши догадки летят к черту. И ваша теория убийств. От Дарили к Питерсу, затем к Уолтерс. Нет сомнения, что это инфекционная болезнь.
— Разве? – сказал он угрюмо. – Я что‑то не очень готов согласиться с этим. Случайно я знаю, что Уолтерс большую часть денег тратит на маленькую больную племянницу, которая живет вместе с ней, девочке восемь лет. Мысль Рикори подходит и к этому случаю.
— Тем не менее, – мрачно сказал я, – я приму все меры против заражения.
Разговаривая, мы одевались; мы сели в мою машину. Госпиталь был в двух шагах, но нам не хотелось терять ни минуты.
Осматривая Уолтерс, я обнаружил ту же пластичность тела, что и у Питерса. Но ужаса на лице не было, хотя страх был, страх и отвращение. Но никакой паники. Опять у меня было впечатление, что она смотрит и вовнутрь и наружу. Когда я осматривал ее, я ясно видел, что на несколько мгновений она узнала меня и глаза приняли умоляющее выражение. Я посмотрел на Брейла, он кивнул. Он тоже заметил это. Дюйм за дюймом я осмотрел ее тело. Оно было совершенно чисто, за исключением розовой полоски на правой ноге. Это был какой‑то легкий ожог, совершенно заживший, а в остальном все было, как у Питерса.
Она потеряла сознание, когда собралась уходить домой. Мои вопросы ее подругам были прерваны восклицанием Брейла. Я повернулся к постели и увидел, что рука Уолтерс слегка приподнята и дрожит, как если бы действие стоило ей огромного напряжения воли. Палец указывал на розовую полоску. На эту же полоску указывали ее глаза. Напряжение было слишком велико, рука упала, глаза снова наполнились страхом. Но нам было ясно, что она хотела что‑то сообщить нам, что‑то, связанное с зажившим ожогом на ноге.
Я стал спрашивать сестер, но никто об этом ничего не слышал. Сестра Роббинс, однако, сообщила, что у Уолтерс была маленькая племянница по имени Диана. Я попросил Роббинс, собравшуюся уходить, сразу же зайти ко мне, как только она вернется.
Хоскинс взял кровь на анализ. Я попросил его быть внимательным и сообщить мне сейчас же, если он найдет светящиеся корпускулы. Случайно в госпитале был Бартане, прекрасный эксперт по тропическим болезням, и Соммерс, специалист по мозговым заболеваниям, пользовавшийся моим большим доверием. Я привлек их к наблюдениям, ничего не говоря о предыдущих случаях.
Они вернулись очень взволнованные. Хоскинс, говорила она, выделил светящийся лейкоцит. Они посмотрели в микроскоп, но ничего не увидели. Соммерс серьезно посоветовал мне проверить зрение у Хоскинса. Бартане сказал ехидно, что он удивился бы меньше, увидев миниатюрную русалку, плавающую в артерии. По этим замечаниям я еще раз понял, как умно я сделал, что молчал. Ожидаемая смена выражения лица не появилась. Продолжало держаться выражение страха и отвращения. Бартане и Соммерс оба заявили, что выражение «необычно», и оба согласились с тем, что состояние больной вызвано каким‑то повреждением мозга. Они не нашли никаких признаков инфекции, яда или наркотиков. Согласившись с тем, что случай очень интересный, и, попросив меня сообщить о дальнейшем течении болезни, оба ушли.
В начале четвертого часа появились признаки в выражении лица, но не те, которые мы с таким страхом ждали. На лице появилось только отвращение. Один раз мне показалось, что по лицу пробежало и моментально исчезло дьявольское злобное выражение. В половине четвертого глаза ее снова увидели нас. Сердце стало работать медленнее, но я чувствовал какую‑то концентрацию нервных сил.
А затем ресницы начали подыматься и падать медленно–медленно, как–будто огромными усилиями, причем равномерно, похоже, целеустремленно. Четыре раза они подымались и опускались, затем пауза, затем они закрылись и снова открылись. Она повторила это дважды.
— Она пытается что‑то просигналить, – прошептал Брейл, – но что?
Снова длинные ресницы опустились и поднялись. Четыре раза… пауза… девять раз… пауза… один раз…
— Она умирает, – шепнул Брейл.
Я опустился на колени рядом с ней, ожидая последней ужасной спазмы. Но ее не было. На лице держалось выражение отвращения… Никакой дьявольской радости. Никаких звуков. Под моей рукой быстро затвердела ее рука. Неизвестная смерть погубила сестру Уолтерс. Но каким‑то подсознательным чутьем я чувствовал, что она не победила ее.
Тело ее – да, но не ее волю.
4. СЛУЧАЙ В МАШИНЕ РИКОРИ
Я вернулся домой вместе с Брейлом, глубоко потрясенный. Все время я чувствовал себя так, как будто находился в тени чего‑то неизвестного, неизведанного, нервы мои были напряжены, как будто кто‑то следил за мной, невидимый, находящийся вне нашей жизни. Подсознание мое словно билось в дверь сознания, призывая быть настороже каждую секунду. Странные фразы для медика? Пусть. Брейл был жалок и совершенно измучен. Я задумался о том, испытывал ли он только профессиональный интерес к умершей девушке. Если между ними что‑то было, он не сказал бы мне об этом.
Мы приехали ко мне домой около четырех утра. Я настоял, чтобы Брейл остался со мной. Потом позвонил в госпиталь. Сестра Роббинс еще не появлялась, и я заснул на несколько часов беспокойным нервным сном. Около девяти позвонила Роббинс. Она была в истерике от неожиданного горя.
Я попросил ее прийти, и когда она явилась, мы с Брейлом задали ей ряд вопросов.
Вот ее рассказ. «Около трех недель назад Харриет принесла домой для Дианы прелестную куклу (я живу вместе с ними). Я спросила ее, где она ее достала, и она ответила, что в маленькой странной лавочке на окраине города. Ребенок был в восторге. «Джоб, – сказала Харриет (меня зовут Джобина), – там сидит странная женщина. Я, кажется, боюсь ее, Джоб». Я не обратила на нее внимания. Харриет вообще была не очень разговорчива. Мне кажется, что она пожалела сразу же, что сказала это.
И когда я сейчас все это вспоминаю, мне кажется, что она себя как‑то странно после этого вела. То она была весела, то… ну, как сказать… задумчива, что ли…
Около 10 дней назад она вернулась домой с завязанной ногой. Правой? Да. Она сказала, что пила чай с этой странной женщиной и случайно опрокинула чайник. Горячий чай пролился на ногу. Женщина смазала ногу какой‑то мазью, и теперь она нисколько не болит. «Но я думаю, что нужно смазать ногу чем‑нибудь своим», – сказала мне Харриет. Затем она спустила чулок и начала развязывать бинт. «Странно, – сказала она, – смотри, Джоб, здесь был ужасный ожог, и уже зажил. А ведь не прошло и часа, как она смазала мне его мазью».
Я посмотрела на ее ногу. На ней была большая красная полоска, но совершенно зажившая. Я сказала, что по–видимому, чай был не очень горячий. «Но ведь это был ожог, Джоб, – сказала она, – я хочу сказать, сплошной пузырь». Я осмотрела повязку. Мазь была голубоватая и как‑то странно блестела, словно сияла. Я никогда не видела ничего подобного. Запаха не было. Свет мази странно мерцал, то есть не горел, а померцал некоторое время и исчез. Харриет побледнела. Потом снова поглядела на свою ногу. «Джоб, – сказала она, – я никогда не видела, чтобы что‑нибудь заживало так быстро, как моя нога. Она, должно быть, ведьма». «Господи, о чем ты говоришь, Харриет?» – спросила я. «О, ничего. Только мне хотелось бы разрезать это место на ноге и втереть что‑нибудь противодействующее этой мази».
Затем она засмеялась, и я решила, что это шутка. Но она смазала место ожога йодом и завязала чистым бинтом. На утро она разбудила меня и сказала: «Посмотри теперь. Вчера на ногу был вылит чайник кипятка, а сегодня кожа уже загрубела, хотя должна быть очень нежной. Джоб, я хотела бы, чтобы ожог существовал».
Вот и все, доктор. Больше она ничего не говорила. Казалось, она все позабыла. Я как‑то спросила у нее, где находится эта маленькая лавочка и кто была эта женщина, но она не сказала, не знаю почему. Но после этого она никогда уже не была веселой и беспечной. Никогда. О, почему она должна была умереть? Почему?
Брейл спросил:
— Послушайте, Роббинс, а номер 491 вам что‑нибудь говорит? О каком‑нибудь адресе, например?
Она покачала головой.
Я рассказал ей о движении ресниц Харриет.
— Она явно хотела передать нам что‑то этими цифрами. Подумайте, что.
Вдруг она выпрямилась, стала что‑то считать на пальцах, потом кивнула.
— А не могла ли она передать слово? Может это буквы «Д», «И» и «А». Это первые три буквы имени «Диана».
— Да, конечно, это довольно просто. Она могла попытаться попросить нас позаботиться о ребенке.
Я взглянул на Брейла. Он отрицательно покачала головой.
— Она знала и так, что я это сделаю. Нет, это что‑то другое.
Вскоре после ухода Роббинс позвонил Рикори. Я сказал ему о смерти Уолтерс. Он был искренне расстроен. Затем мы занялись грустным делом – вскрытием тела. Результаты были те же – ничего такого, от чего девушка могла бы умереть. Около четырех часов следующего дня Рикори снова позвонил по телефону.
— Будете дома между шестью и девятью часами, доктор?
В его голосе слышалось сдерживаемое волнение.
— Конечно, если это нужно, – ответил я, – вы нашли что‑нибудь, Рикори?
Он помолчал, раздумывая.
— Не знаю. Может быть – да.
— Вы подразумеваете то предполагаемое место, о котором вы говорили?
Я даже не пытался скрыть свое волнение.
— Возможно. Я узнаю позже. Я еду сейчас туда.
— Скажите, Рикори, что вы предполагаете там найти?
— Кукол, – ответил он. И, словно избегая дальнейших разговоров, повесил трубку.
Кукол! Я сидел, задумавшись. Уолтерс купила куклу и в том самом месте получила этот странный ожог. У меня не было сомнения, что именно через него получила она эту болезнь, через него и через мазь. И она давала нам это понять. Впрочем, может быть, она и ошибалась. Но Уолтерс любила детей, как и те восемь. И, конечно, дети больше всего любят кукол.
Что же обнаружил Рикори? Я позвонил Роббинс и попросил привезти куклу, что она и сделала. Кукла была исключительно хороша. Она была вырезана из дерева и затем покрыта гипсом. Она была поразительно похожа на живого ребенка – ребенка с маленьким личиком Эльфа. Ее платье было покрыто изысканной вышивкой – нарядное платье какой‑то страны, которую я не мог определить. Эта вышивка была просто музейной вещью и стоила, конечно, куда дороже, чем сестра Уолтерс могла себе позволить. Никакой марки с указанием фирмы или хозяина магазина не было.
Осмотрев внимательно, я спрятал куклу в ящик стола, и с нетерпением стал ждать звонка Рикори.
В семь часов раздался звонок у дверей. Я услышал голос Мак–Кенна. Увидев его, я сразу понял, что что‑то неблагополучно. Его загорелое лицо побледнело, глаза смотрели изумленно.
— Пойдемте к машине, док. Хозяин, кажется, умер.
— Умер? – воскликнул я и бросился вниз к машине. Шофер открыл дверцу, и я увидел Рикори, сжавшегося в углу заднего сиденья. Я не услышал пульса, а когда поднял ему веки, на меня уставились невидящие глаза. Но он был еще теплым. Я приказал внести его. Мак–Кенн и шофер положили его на кушетку в моем кабинете. Я нагнулся над ним со стетоскопом. Сердце не билось, дыхания не было. По всей видимости, Рикори был мертв. И все‑таки я не мог успокоиться. Я проделал все, что делается в сомнительных случаях – безрезультатно. Мак–Кенн и шофер стояли рядом. Они прочли приговор на моем лице и переглянулись; лицо каждого из них сдерживало страх, и шофер был напуган больше, чем Мак–Кенн. Последний спросил меня монотонным голосом:
— Может быть, это отравление?
— Да, может…
Я остановился. Яд! И этот страшный визит, о котором он говорил по телефону! А возможность отравления в других случаях! Но эта смерть была не такой – я чувствовал это – как те…
— Мак–Кенн, – обратился я к телохранителю, – когда и где вы заметили, что с хозяином не все в порядке?
Он ответил также монотонно.
— Около шести кварталов от вас. Хозяин сидел близко, неожиданно он сказал: «Иисус!», как будто испугался. Прижимая руки к груди, застонал и словно окаменел. Я сказал ему: «Что с вами, босс? Вам больно?» Он не ответил, затем свалился в мою сторону, а глаза его были широко открыты. Он показался мне мертвым. Тогда я крикнул Полю, чтобы он остановил машину, и мы осмотрели его. А затем на всех парах прилетели сюда…
Я прошел в кабинет и налил им по стаканчику спирта с бренди – они явно нуждались в этом. Потом покрыл тело простыней.
— Сядьте, ребята. Итак, Мак–Кенн, расскажи мне все, что случилось с того момента, как вы выехали из дома. Не упускай ни малейших деталей.
Он начала:
— Около двух часов босс поехал к Молли, это сестра Питерса, оставался у нее час, вышел, поехал домой и приказал Полю вернуться за ним в четыре. Но он много говорил по телефону, поэтому мы выехали только в пять. Он приказал Полю ехать на одну маленькую улицу за Баттери–парком. Он сказал Полю, чтобы тот ехал по улице, а машину остановил бы около парка. А мне он сказал: «Мак–Кенн, я пойду туда один. Я хочу, чтобы они знали, что я пришел один. – И добавил, – у меня есть на то причины. А ты будь поблизости, но не заходи, пока я не позову тебя». Я сказал: «Босс, вы думаете, что это благоразумно?» «Я знаю, что делаю. Выполняй то, что я приказал», – ответил он. Поэтому я замолчал.
Мы приехали, и Поль сделал, как было приказано, а босс пошел по улице и остановился у маленькой лавочки с куклами на окне, я разглядел лавчонку, когда проходил мимо. Она плохо освещена, но я заметил внутри массу кукол и худую девушку за кассой. Она показалась мне бледнее рыбьего брюха. Босс постоял у окна, а затем быстро вошел. Я опять прошел мимо и мне показалось, что девица стала еще бледнее. Я еще думал, что никогда не видел человека с таким цветом лица.
Босс поговорил с девушкой, и она показала ему несколько кукол. А когда я опять проходил, я заметил в лавке женщину. Она была очень крупная. Я постоял у окна минуты две, так она меня удивила. Лицо у нее коричневое, похожее на лошадиное, над губами усы, много больших родинок или бородавок, и она как‑то странно смотрела на девицу. Большая и толстая. Но как щурились ее глаза! Бог мой, какие глаза! Большие и черные, и блестящие, и они мне особенно не понравились, впрочем, как и она сама.
В следующий раз, когда я проходил мимо, босс стоял у прилавка и разговаривал с большой женщиной. В руках у него была пачка чеков, а девушка смотрела совсем испуганно. В следующий раз я испугался. Я не увидел ни хозяина, ни дамы. Поэтому я встал у окна и стал смотреть, так как очень не любил терять босса из виду. Затем босс вышел из двери, находящейся внутри лавки. Он был рассержен, вероятно, и нес сверток, а женщина шла позади, и глаза ее метали молнии. Босс что‑то говорил, дама – тоже и делала какие‑то странные движения руками. Какие? Ну, какие‑то нелепые. Но босс не обращал внимания на нее, пошел к двери и сунул при этом сверток под пальто, а пуговицы застегнул. Это была кукла. Я видел ее ноги, болтавшиеся в воздухе, когда он запихивал ее под пальто. Большая кукла, очень большая…
Мак–Кенн остановился и начал механически разминать сигарету, затем взглянул на тело, покрытое простыней и отшвырнул ее в сторону.
— Я никогда раньше не видел босса таким сердитым. Он бормотал что‑то себе по–итальянски, повторяя часто слово «Иисус!», я видел, что говорить пока не следует и молча шел за ним. Один раз он сказал громко: «В Библии сказано, что нельзя позволять жить на свете ведьмам». Так он продолжал бормотать, крепко прижимая к себе под пальто куклу.
Мы пришли к машине, и он сказал Полю ехать скорее к вам, и к черту правила движения, так ведь, Поль? Когда мы сели в машину, он перестал бормотать и сидел спокойно до тех пор, пока я не услышал «Иисус», об этом я уже рассказывал. И это все, не правда ли, Поль?
Шофер не ответил. Он сидел, глядя на Мак–Кенна умоляющим взглядом. Я ясно видел, как Мак–Кенн отрицательно качнул головой. Шофер сказал с сильным итальянским акцентом:
— Я не видел лавку, но все остальное правильно.
Я встал и подошел к телу Рикори. На простыне расплылось красное пятнышко величиной с монету, как раз напротив сердца Рикори. Я взял одну из моих самых сильных луп и вынул самый тонкий из зондов. Под лупой я увидел на груди Рикори крохотный укол, не больше чем от тончайшей иглы. Осторожно я вставил туда зонд. Он легко скользнул вниз, пока не дотронулся до стенки сердца. Дальше он не пошел. Какая‑то острая, исключительно тонкая игла вошла через грудь Рикори прямо к сердцу. Я посмотрел на него с сомнением. Не было причины умирать от такого укола. Если, конечно, орудие не было отравлено, или если укол не сопровождался каким‑нибудь неожиданным шоком. Но вряд ли шок мог убить Рикори – человека, ко всему привыкшего в жизни. Нет, я, несмотря ни на что, не был уверен в смерти Рикори. Но я не сказал об этом. Живой он или мертвый, Мак–Кенн должен объяснить ужасный факт. Я повернулся к паре, внимательно следившей за каждым моим движением.
— Вы говорили, вас в машине было всего трое?
Снова я увидел, как они переглянулись.
— Была еще кукла, – сказал Мак–Кенн, как‑то вызывающе.
Но я нетерпеливо отмахнулся.
— Я повторяю вопрос: вас было только трое в машине?
— Трое людей. Да.
— Тогда, – сказал я угрюмо, – следует много объяснить. Рикори был убит. Заколот. Я должен вызвать полицию.
Мак–Кенн встал и подошел к телу. Он поднял лупу и долго смотрел на маленькое пятнышко укола. Затем он повернулся к шоферу.
— Я сказал тебе, Поль, что это сделала кукла!
5. ВЕРСИЯ МАК–КЕННА
Я сказал недоверчиво:
— Мак–Кенн, ты, конечно, не думаешь, что я этому поверю?
Он не ответил, размял вторую сигарету между пальцами и закурил. Шофер приблизился к телу, опустился на колени и начал молиться. Мак–Кенн, к моему удивлению, совершенно успокоился. Было похоже, что установление причины смерти Рикори восстановило его обычное хладнокровие. Он сказал почти весело:
— Я должен вас заставить поверить.
Я подошел к телефону. Мак–Кенн прыгнул к телефону и загородил его спиной.
— Подождите минутку, док. Если я принадлежу к тому типу крыс, которые могут вонзить иглу в сердце человека, который нанял охранять его, не кажется ли вам мое поведение непонятным? Как вы думаете, что в этом случае помешало нам с Полем убежать?
Откровенно говоря, я об этом не подумал. Теперь только мне стало понятно, в какое опасное положение попал я сам. Я взглянул на шофера. Он поднялся с колен и стоял, глядя на Мак–Кенна.
— Я вижу, вы все поняли.
Мак–Кенн невесело улыбнулся. Он подошел к итальянцу.
— Дай‑ка твои игрушки, Поль.
Шофер молча погрузил руки в карманы и передал ему пару автоматических пистолетов. Мак–Кенн положил их на стол и добавил к ним свои два.
— Сядьте, док, – сказал он, указывая на мой стул у стола. – Это вся наша артиллерия. Пусть она будет у вас под руками. Если мы пошевелимся, стреляйте. Все, о чем я прошу вас, – не звоните никому, пока не выслушаете меня.
Я сел, положил перед собой оружие, проверил его. Пистолеты были заряжены.
— Я хочу, чтобы вы подумали над тремя вещами, док, – сказал Мак–Кенн.
— Первая, если бы я был хоть как‑нибудь виноват в смерти босса, разве я так вел бы себя? Вторая – я сидел с правой стороны. На нем было толстое пальто. Как бы я мог проткнуть его такой тончайшей иглой через одежду и через куклу? Да еще сделать это так, чтобы он не заметил? Рикори был сильным человеком. И Поль заметил бы что‑нибудь.
— Какая в этом разница, если Поль сообщник?
— Верно, – согласился он. – Поль сидит в той же луже, что и я. Не так ли, Поль?
Шофер молча кивнул.
— Ладно, оставим это с вопросительным знаком. Возьмем третью версию – если бы я убил босса этим путем, а Поль был со мной, неужели бы мы привезли его к единственному человеку, который может понять, как он убит? А когда вы определили причину смерти, как мы и ожидали, рассказать вам все как было – значит погубить себя. Иисус, док, я не такой идиот, чтобы так поступить. – Лицо его исказилось. – И зачем мне убивать его? Я бы прошел через ад для него, и он знал это. И Поль тоже…
Я почувствовал правоту всего сказанного. В глубине души я был уверен в том, что Мак–Кенн говорит правду – или, по крайней мере, то, что кажется ему правдой. Он не убивал Рикори. И все же сваливать это на куклу было слишком фантастично. В машине было три человека. Мак–Кенн словно читал мои мысли.
— Это могла быть какая‑нибудь механическая кукла, – сказал он, – заводная, приспособленная для удара.
— Мак–Кенн, сойди вниз и принеси ее сюда, – приказал я резко.
Он дал, наконец‑то, рациональное объяснение.
— Ее там нет, – сказал он и весело усмехнулся. – Она выпрыгнула.
— Нелепость… – начал я.
Шофер перебил меня.
— Но это верно, что‑то выпрыгнуло, когда я открыл дверь. Я подумал, что это кошка, собака или какой‑нибудь другой зверек. Я сказал «кой–черт» и тут увидел ее. Она улепетывала со всех ног, затем остановилась и исчезла в тени. Я видел ее один момент, как блеск молнии. Я сказал Мак–Кенну: «Что за черт?» Мак–Кенн шарил в машине. Он сказал: «Это кукла. Она убила босса». Я сказал: «Кукла? Что ты хочешь сказать?» Он объяснил. Я ничего не знал до этого про куклу, хотя видел, что босс нес что‑то под пальто. Я не знал, что там у него. Но я видел продолговатую штуку. Не кошку и не собаку. Она выпрыгнула у меня из машины между ног.
Я спросил иронически:
— Вы считаете, Мак–Кенн, что эта механическая кукла была заведена так, что могла убежать после удара?
Он покраснел, но ответил спокойно:
— Я не утверждаю, что это была механическая кукла. Но всякое другое предположение было бы сумасшествием, не правда ли?
— Мак–Кенн, – сказал я, – чего вы хотите?
— Док, когда я был в Аризоне, там умер один фермер. Умер неожиданно. Там был один парень, который, казалось, был здорово замешан в этом деле. Маршалл сказал: «Я не думаю, что ты это сделал, но среди присяжных я один так думаю. Что ты скажешь?» Парень ответил: «Маршалл, дайте мне две недели, и если я не притащу убийцу, можете меня повесить». Маршалл сказал: «Прекрасно. Временное определение – умер от шока». Это и был шок. От пули. Ну вот, еще до конца второй недели явился этот парень с убийцей, привязанным к его седлу.
— Я понял тебя, Мак–Кенн. Но здесь не Аризона.
— Я знаю. Но разве вы не можете сказать всем, что он умер от инфаркта? Временно. И дать мне одну неделю? Тогда, если я не явлюсь, обвиняйте меня. Если вы скажете полиции… лучше возьмите один из этих пистолетов и убейте меня с Полем сейчас же. Если мы скажем им о кукле, они умрут от смеха и сейчас же отправят нас в Синг–Синг. Если мы ничего не скажем, будет то же самое. Все останется невыясненным навсегда. Если каким‑то чудом полицейские потеряют нас…
Я говорю, док, вы убьете двух невинных людей. И никогда не узнаете, кто убил босса, потому что никто не станет искать настоящего убийцу. Зачем это им?
Облако сомнения в невиновности этих людей закралось в мой ум. Предложение, кажущееся наивным, было хитро задумано. Если я соглашусь, Мак–Кенн и его сообщник будут иметь целую неделю, чтобы скрыться. Если они не вернутся и я расскажу правду, я буду выглядеть, как сообщник. Если я скрою причину смерти и ее обнаружат другие, я буду обвинен в невежестве. Если их поймают и они во всем сознаются, опять я буду выглядеть как сообщник.
Мне пришло в голову, что сдача мне оружия была необыкновенно умно задумана. Я не смогу показать, что мое согласие было вынужденным. И кроме того, это могло быть хитрым жестом с целью завоевать мое доверие, ослабить сопротивление его просьбе. Разве я знал, есть ли у них еще оружие, которое они в случае отказа могут пустить в ход? Пытаясь найти выход из этой ловушки, я подошел к Рикори, положив оружие в карманы халата, и нагнулся над ним.
И вдруг в углу его рта начал появляться и исчезать пузырек. Рикори был жив! Но для меня опасность только увеличивалась. Если Мак–Кенн убил его, если они оба были в заговоре и вдруг узнают, что их попытка кончилась неудачно, не захотят ли они закончить начатое дело? Если Рикори жив и сможет говорить – им грозит смерть даже скорее, чем если бы их судили. Приговор в банде Рикори выносился им самим. А убивая Рикори, они должны будут покончить и со мной.
Все еще наклоняясь, я сунул руки в карманы и направил на них два пистолета.
— Руки вверх! Оба! – приказал я.
Удивление показалось на лице Мак–Кенна, сосредоточенность на лице Поля. Оба подняли руки.
Я сказал:
— Мак–Кенн, в вашем умном предложении нет смысла. Рикори жив! Когда он сможет говорить, он сам скажет, что с ним произошло.
Я не был подготовлен к тому, что произошло за этим. Если Мак–Кенн не был искренен, он был изумительным актером. Его тело напряглось. Я редко видел такое радостное облегчение, какое появилось на его лице. Слезы катились по его загорелым щекам. Шофер опустился на колени, рыдая и молясь. Мои подозрения исчезли. Я не мог поверить, что это – игра. Мне стало как‑то стыдно за себя.
— Вы можете опустить руки, ребята, – сказал я и положил оружие в карманы халата.
Мак–Кенн спросил хрипло:
— Будет он жить?
— Считаю, что должен, – ответил я. – Если только нет никакой инфекции, можно быть в этом уверенным.
— Благодарение богу, – прошептал Мак–Кенн.
В этот момент вошел Брейл и остановился, с удивлением глядя на нас.
— Рикори заколот. Я расскажу все после, – сказал я ему, – крошечный укол под сердце, а, может быть, в сердце. Он страдает главным образом от шока. Сейчас он придет в себя. Возьмите его в палату и проследите за ним, пока я не приеду.
Я быстро сказал ему, что нужно предпринять, какие лекарства ввести, как ухаживать за больным; и когда Рикори унесли, я обратился к его людям.
— Мак–Кенн, – сказал я, – я не собираюсь объясняться. Не теперь. Но вот ваши пистолеты. Вы получили свой шанс.
Он взял оружие и посмотрел на меня с каким‑то странным теплым блеском в глазах.
— Я не хочу сказать, что не хотел бы знать, что изменило вас, док, – сказал он, – но что бы вы ни делали, по мне все правильно, лишь бы вы поставили на ноги босса.
— Без сомнения, есть люди, которым следует сообщить о его состоянии, – ответил я. – Все это я поручаю вам. Все, что я знаю, это то, что он ехал ко мне. У него был сердечный приступ в машине. Вы привезли его сюда. Теперь я лечу его от сердечного приступа. Если он умрет, Мак–Кенн, тогда будет другое дело.
— Я сообщу, – ответил он. – Вам придется повидаться только с двумя людьми. Затем я поеду в эту кукольную лавку и выбью правду из этой старой карги.
Его глаза казались щелками, рот был твердо сжат.
— Нет, – сказал я твердо. – Не сейчас. Поставьте наблюдение. Если женщина выйдет, следите за ней. Следите за девушкой. Если покажется, что одна или обе хотят убежать, пусть бегут. Но следите за ними. Я не хочу, чтобы их трогали, пока Рикори не расскажет нам, что случилось.
— Ладно, – согласился он с неохотой.
— Ваша кукольная сказка для полиции не будет так убедительна, как для моего доверчивого ума, – напомнил я иронически. – Смотрите, чтобы они не вмешались в это дело. Пока Рикори жив, не нужно их беспокоить. – Я отвел его в сторону. – Можете вы верить шоферу? Он не будет болтать?
— Поль правильный парень, – сказал он.
— Ну вот, для вас обоих будет лучше, если он таким и будет, – предупредил я.
Они ушли. Я вошел к Рикори. Сердце билось сильнее, дыхание было еще слабым, но спокойным. Температура поднялась. Если на оружии не было яда, он будет жить.
Позже, ночью, ко мне зашли два очень вежливых джентльмена, выслушали мой рассказ о самочувствии Рикори, спросили, не могут ли они повидать его, зашли, посмотрели и удалились. Они уверили меня в том, что «выиграю я или проиграю», я могу не беспокоиться об оплате или об оплате самых дорогих консультантов. Я убедил их в том, что Рикори, по–видимому, скоро поднимется. Они попросили меня не пускать к нему никого, кроме них и Мак–Кенна. Они считали, что спокойнее было бы, если бы я согласился поместить пару их людей в соседней комнате. Я ответил, что буду очень рад. В необычайно короткий срок два спокойных наблюдательных человека поместились у двери комнаты Рикори, совершенно такие, как когда‑то и Питерса.
…А во сне вокруг меня танцевали куклы, преследуя меня и пугая. Это был неприятный сон…
6. СТРАННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ С ОФИЦЕРОМ ШЕЛВИНЫМ
К утру состояние Рикори значительно улучшилось. Глубокий транс не прошел, но температура была почти нормальной, дыхание и работа сердца – удовлетворительны. Брейл и я дежурили поочередно, таким образом, что один из нас мог быть всегда вызван сиделкой. Стражи во время завтрака сменялись. Один из моих вчерашних знакомых гостей явился посмотреть на Рикори и с теплой благодарностью выслушал мой отчет об улучшении состояния.
Когда я вчера лег спать, мне вдруг в голову пришла мысль, что Рикори мог написать что‑нибудь в записной книжке о своих поисках. Момент был удобный. Я сказал, что мне хотелось бы посмотреть бумаги Рикори, так как мы с ним были заинтересованы в общем деле, для обсуждения которого он и ехал ко мне, когда с ним случился приступ.
Я сказал, что у него могут быть заметки, интересующие меня. Мой гость согласился: я приказал принести пальто и костюм больного, и мы осмотрели их. В карманах были бумаги, но ничего интересующего меня, относящегося к нашему делу. Однако во внутреннем кармане пальто оказался странный предмет
— тонкая веревочка около восьми дюймов длины, на которой было завязано девять узелков, расположенных на различных расстояниях друг от друга. Это были странные узелки, я таких никогда не видел. Я рассматривал веревочку с каким‑то неопределенным неприятным чувством. Я взглянул на гостя и увидел изумление в его глазах. Я вспомнил, что Рикори был суеверен и решил, что эта завязанная узелками веревка была, возможно, талисманом или чем‑нибудь в этом роде. Я положил ее обратно в карман.
Оставшись один, я снова вынул веревку и осмотрел ее внимательнее. Она была туго сплетена из человеческих волос; волосы светло–пепельные и, без сомнения, женские. Каждый узел был завязан по–разному. Узелки были очень сложные. Разница между ними и разница расстояния узелка от узелка создавали впечатление написанного слова или фразы. Изучая узелки, я опять почувствовал себя так, будто стоял у запертой двери, которую мне жизненно важно было открыть. Это было то же ощущение, которое я испытывал, наблюдая за умирающим Питерсом. Как бы слушаясь какого‑то неясного импульса, я не спрятал веревочку обратно в карман, а бросил ее вместе с куклой, принесенной сестрой Роббинс, в ящик стола.
Вскоре после этого мне позвонил Мак–Кенн. Я страшно обрадовался, услышав его голос. При свете дня история в машине Рикори казалась мне невероятно фантастичной, и все мои сомнения вернулись. Я снова начала задумываться о моем незавидном положении в случае его исчезновения. Мои настроения, видимо, проскользнули в особо сердечном тоне моего приветствия, потому что он рассмеялся.
— Думали, что я сбежал, док? Нет, вы и силой бы меня не угнали. Вот подождите, пока не увидите то, что у меня есть для вас.
Я с нетерпением ожидал его приезда. Он явился не один, с ним был грубый мужчина с красной физиономией и большим бумажным мешком для одежды. Я узнал в нем полисмена, которого часто встречал на бульваре, хотя раньше никогда не видел его без формы.
Я пригласил их сесть. Полисмен сел на кончик стула и положил мешок к себе на колени. Я вопросительно взглянул на Мак–Кенна.
— Шелвин говорит, что он вас знает, док, – он махнул рукой в сторону полисмена. – Я привел его к вам.
— Если бы я не знал доктора Лоуэлла, я бы не был здесь, Мак–Кенн, мой мальчик, – сказал Шелвин угрюмо. – Но у доктора в голове мозги, а не вареная картошка, как у нашего лейтенанта.
— Ладно, – сказал Мак–Кенн ядовито, – доктор пропишет тебе что‑нибудь, Тим.
— Я не за этим пришел сюда, – обиделся Шелвин. – Я видел это собственными глазами, говорю я тебе. И если доктор Лоуэлл скажет мне, что я был пьян или сошел с ума, я пошлю его к черту, как послал лейтенанта. И я говорю это же и тебе, Мак–Кенн.
Я слушал с возрастающим интересом.
— Ну, ну, Тим, – успокаивающим тоном сказал Мак–Кенн. – Я‑то верю тебе. Ты даже себе представить не можешь, как я хочу верить тебе – и почему.
Он кинул на меня быстрый взгляд, и я понял, что какова бы ни была причина, по которой он привел ко мне полисмена, он ничего не сказал ему о Рикори.
— Видите ли, доктор, когда я сказал вам об этой кукле, что она выпрыгнула из машины, вы подумали, что я шарлатан. Ладно, сказал я себе, может быть, она не убежала далеко. Может быть, это была одна из усовершенствованных механических кукол, но у нее тоже когда‑нибудь должен кончиться завод.
И я отправился искать кого‑нибудь, кто видел ее. И встретил Тима Шелвина. Валяй, Тим, расскажи доктору.
Шелвин поморгал глазами, осторожно сдвинул свой мешок и начал. У него был угрюмый вид человека, повторяющего снова и снова одно и то же. И при том окружении, в которое не верит. Он посматривал на меня очень подозрительно и угрожающе повышал голос.
— Это было в час ночи. Я стоял на посту, когда услышал, как кто‑то кричит с отчаянием: «Помогите! Убивают! Уберите ее прочь!»
Я прибежал и увидел парня, стоящего на скамейке в вечернем костюме и шляпе. Он бил что‑то палкой, танцевал и кричал. Я подошел и ударил его дубинкой потихоньку, чтобы обратить на себя внимание, он посмотрел и бросился ко мне в объятия. Мне показалось, что я понял, в чем дело, когда почувствовал, что от него пахнет вином. Я поставил его на ноги и сказал: «Успокойтесь, любезный, зеленые черти скоро исчезнут. Это все закон о спиртных напитках привел к тому, что мужчины разучились пить. Скажите мне ваш адрес, и я посажу вас в такси. А может, вы хотите в госпиталь?»
Он стоял, держась за меня, и дрожал. «Вы думаете, я пьян?» Я посмотрел на него и увидел, что он действительно трезв. Он, может быть, и был пьян, но теперь совершенно протрезвел.
И вдруг он прыгнул на скамейку, завернул брюки, спустил носки, и я увидел кровь, которая текла из доброй дюжины маленьких ранок, а он сказал: «Может быть, вы скажете, что это сделали зеленые черти?» Ранки выглядели так, как будто их сделал кто‑то иглой для шляпы.
Я невольно взглянул на Мак–Кенна, но тот отвел глаза и продолжал спокойно разминать сигарету.
Шелвин продолжал:
— Я сказал: «Что за черт! Кто сделал это?» А он ответил: «Кукла».
Дрожь пробежала у меня по спине, и я снова взглянул на Мак–Кенна. Шелвин посмотрел на Мак–Кенна и на меня предостерегающе.
«Кукла, сказал он мне», – закричал Шелвин. – Он сказал мне «Кукла»!
Мак–Кенн засмеялся, а Шелвин быстро обернулся к нему.
Я сказал торопливо:
— Я понимаю вас, господин офицер. Он сказал вам, что кукла нанесла ему ранения. Это, конечно, удивительно.
— Вы хотите сказать, что не верите мне? – спросил он свирепо.
— Я верю, что он вам это сказал. Продолжайте, пожалуйста.
— Ну, конечно, вы скажете еще, что и я был пьян, если поверил ему. Это мне и сказал лейтенант с картошкой вместо мозгов.
— Нет, нет, – торопливо уверил я его.
Шелвин усмехнулся и продолжал:
— Я спросил пьяного, как ее зовут. «Кого?», «Да куколку, – сказал я. – Готов держать пари, что она блондинка. Брюнетки не употребляют ножи». «Офицер, – сказал он торжественно, – это была кукла, кукла–мужчина. И говоря «кукла», я имею в виду именно куклу. Я шел по аллее. Я не отрицаю, что немного выпил, но был всего лишь навеселе. Я шел, размахивая тростью, и уронил ее вот тут. Я нагнулся, чтобы поднять ее, и увидел куклу. Это была большая кукла и лежала она вся скрюченная. Я хотел поднять ее. Но, когда я до нее дотронулся, она вдруг вскочила, как на пружине. И прыгнула выше моей головы. Я удивился и испугался, стал искать ее и вдруг почувствовал страшную боль в икре. Я подпрыгнул и увидел эту куклу с иглой в руке, приготовившуюся ударить меня снова».
— Может быть, это был карлик, – спросил я.
— К черту карлика. Это была кукла, и колола она меня шляпной иглой. Она была около двух футов высотой, с голубыми глазами. Она смеялась так, что у меня кровь похолодела от ужаса. И пока я стоял, парализованный от страха, она опять и опять ударяла меня. Я думал, она убьет меня и стал орать. А кто бы не стал? И вот вы пришли, и кукла спряталась в кусты. Ради бога, проводите меня до такси, потому что я не скрываю, что напуган до безумия.
Я взял его за руку, уверенный, что все это привиделось ему спьяну и удивляясь, откуда у него такие ранки на ногах. Мы пошли по бульвару. Он вдруг заорал: «Вот она идет! Она идет!» Я обернулся и увидел в тени что‑то движущееся, не то кошку, не то собаку. Затем вдруг из‑за поворота выехала машина и эта кошка или собака сразу же попала под нее. Пьяный страшно закричал, а машина пронеслась на большой скорости и исчезла прежде, чем я успел свиснуть. Мне показалось, что на мостовой что‑то шевелится, и я все еще думал, что это собака. Я подошел к тому, что лежало на мостовой.
Он снял с колен мешок, положил на стол и развязал его.
— Вот что это было.
Из мешка он вынул куклу, точнее то, что от нее осталось. Автомобиль переехал ее посредине туловища. Одной ноги не хватало, другая висела на ниточке. Одежда была порвана и запачкана в пыли. Это была кукла, но удивительно похожая на пигмея. Шея безжизненно свисала вниз. Мак–Кенн подошел и приподнял голову куклы. Я посмотрел и… все похолодело у меня внутри… сердце замерло… волосы зашевелились на голове. На меня смотрело лицо Питерса. И на нем, как тонкая вуаль, сохранилась тень той дьявольской радости, которую я наблюдал на лице Питерса, когда смерть остановила его сердце…
7. КУКЛА ПИТЕРСА
Шелвин смотрел на меня, когда я взглянул на куклу и был удовлетворен тем действием, которое она произвела на меня.
— Адская штука эта игрушечка, не правда ли? – спросил он. – Доктор это понимает, Мак–Кенн. Я тебе говорил, что он умен.
Он снял куклу с колен и посадил на край стола, напоминая краснолицего чревовещателя с удивительно злобной куклой – должен сказать, что я не удивился бы, услышав вдруг дьявольский смех, вырывающийся из ее слегка улыбающегося рта.
— Я постоял над ней, – продолжал Шелвин, – затем наклонился и поднял ее. «Здесь что‑то не так, Тим Шелвин», – сказал я себе. И оглянулся на моего пьяного. Он стоял на прежнем месте, и когда я подошел к нему, сказал: «Ну, что я говорил. Ха! Это она и есть, та самая кукла!» Тогда я сказал ему: «Молодой человек, мой мальчик, что‑то тут не так. Ты пойдешь со мной в участок, скажешь лейтенанту все, что ты видел, покажешь ему ноги и все такое».
И он сказал: «Хорошо, но держите эту куклу подальше от меня».
— И мы пошли в участок. Там был лейтенант, сержант и еще пара ребят. Я подошел и положил куклу перед лейтенантом.
— Что это? – спросил он, ухмыльнувшись. – Опять кража ребенка?
— Покажи ему ноги, – сказал я пьяному, вставая.
— Кукла, – ответил пьяный.
Лейтенант посмотрел на него и сел, моргая. Тогда я рассказал ему все с начала до конца. Сержант и ребята при этом хохотали до слез, а лейтенант покраснел и заорал:
«Ты что, дураком меня считаешь, Шелвин?»
— Но, я пересказываю то, что мне рассказал этот парень, – говорю я. – А также то, что видел сам. А вот и кукла.
А он сказал: «Да, самогон силен, но я не думал, что действует так безотказно». Лейтенант поманил меня пальцем и сказал: «Ну‑ка, дыхни, я хочу знать, чем ты освежился, стоя на посту».
И тогда я понял, что ничего не докажу, потому что у моего пьяного была с собою фляга и он по дороге угостил меня. Только глоток, но от меня, конечно, пахло.
И лейтенант сказал: «Я так и думал. Убирайся. – А потом он еще орал на пьяного: ты, с трухой под шелковой шляпой, как ты смеешь развращать хорошего офицера и морочить мне голову? Первое ты сделал, но второе тебе не удастся. Посадите его в вытрезвитель и бросьте эту проклятую куклу с ним для компании!»
При этом бедный парень разорался и упал без сознания.
А лейтенант говорит: «Ты, несчастный дурак, веришь в собственное вранье. Приведите его в себя и отпустите». А мне он сказал: «Если бы ты не был таким хорошим парнем, Тим, я бы тебя выгнал за это. Возьми свою дегенеративную куклу и отправляйся домой. Я пошлю на пост замену, а утром приходи трезвым».
— Я сказал ему: «Ладно, но я видел то, что видел». «К черту вас всех», – сказал я смеющимся ребятам. Но они подыхали со смеху. Тогда я взял куклу и ушел.
Шелвин вздохнул и продолжал:
— Я взял куклу домой и рассказал все своей жене Мегги. И что она ответила? «Я думала, что ты бросил пить уже давно, а ты – посмотри на себя! Со всей этой болтовней о куклах, да еще с оскорблением лейтенанта, ты дождешься, что тебя прогонят с работы, а Дженни только что поступила в институт. Ложись спать и проспись хорошенько, а куклу я выкину на помойку».
Но к этому моменту я совсем взбесился, крикнул на нее, взял куклу с собой и ушел. Тут я встретил Мак–Кенна, который, видимо, знает кой–чего. Я рассказал ему все, и он привел меня к вам. А для чего, я не знаю.
— Хотите, я поговорю с лейтенантом? – предложил я.
— А что вы можете ему сказать, – возразил он довольно логично. – Если вы скажете ему, что пьяный был прав и что я тоже видел, как кукла бежала, он подумает, что вы такой же сумасшедший, как и я. А если вы ему докажете, что я не был пьян, меня пошлют в госпиталь. Нет, доктор, очень вам благодарен, но все, что мне остается сделать, это молчать, стараться держать себя с достоинством и не обращать внимания на шутки и насмешки товарищей. Я благодарен вам за то, что вы так терпеливо меня выслушали, теперь я чувствую себя лучше.
Шелвин встал и глубоко вздохнул.
— А что вы думаете обо всем этом? – спросил он с беспокойством.
— Я ничего не могу сказать о пьяном, – сказал я осторожно. – Что касается вас, могло случиться, что кукла давно могла лежать на мостовой, а кошка или собака бежала перед автомобилем. Она убежала, а вы так были заняты куклой, что…
Он перебил меня.
— Ладно, ладно. Этого достаточно. Я оставляю вам куклу в благодарность за диагноз, сэр.
Шелвин распорядился и вышел. Мак–Кенн трясся от беззвучного смеха.
Я взял куклу и положил ее на стол. Глядя в ее маленькое злое лицо, я не чувствовал желания смеяться. По какой‑то неясной для меня причине я вынул из стола и вторую куклу и положил ее рядом, затем вынул веревочку со странно завязанными узелками и ее тоже положил между ними.
Мак–Кенн стоял возле меня и смотрел. Я услышал, как он тихо свистнул.
— Где вы ее взяли, док? – он указал на веревочку.
Я рассказал. Он снова свистнул.
— Я уверен, что босс не знал о том, что она у него в кармане. Интересно, кто ее туда положил? Конечно, это карга. Но как?
— О чем ты говоришь? – спросил я.
— Ну как же, ведь это «лестница ведьмы». – Он снова показал на веревочку. – Так ее называют в Мексике. Это колдовская штука. Ведьма кладет ее вам в карман и приобретает над вами…
Он нагнулся над веревочкой.
— Да, это ведьмина лестница – на ней девять узелков, они из женских волос… и в кармане у босса!
Он стоял и глядел на веревочку. Я обратил внимание на то, что он не сделал попытки взять ее в руки.
— Возьми ее и посмотри внимательнее, Мак–Кенн, – сказал я.
— Ну уж нет! – Он сделал шаг назад. – Я вам сказал, док, что это колдовская штука!
Меня все больше раздражал туман суеверия, опутывавший все это дело, и наконец я вышел из себя.
— Слушай, Мак–Кенн, – сказал я сердито, – не пытаешься ли ты, как сказал Шелвин, морочить мне голову? Каждый раз, когда я говорю с тобой, я сталкиваюсь с каким‑то грубым выступлением против здравого смысла. Сначала эта кукла в машине, потом Шелвин. А теперь эта лестница ведьмы. К чему ты клонишь? Чего ты хочешь?
Он посмотрел на меня, сощурившись, и слабый румянец появился у него на скулах.
— Все, что я хочу, – сказал он, растягивая слова по–южному, – это увидеть босса на ногах. И добраться до того, что чуть не убил его. А Шелвину вы не верите?
— Нет. И помни все время, что ты был с Рикори рядом, когда его ударили иглой. И не могу не удивляться, как быстро ты нашел Шелвина сегодня.
— И какой вывод?
— Вывод, что пьяный исчез. Вывод, что, возможно, это был твой сообщник. Вывод, что такой эпизод, произведший сильное впечатление на досточтимого Шелвина, мог быть просто умно разыгранной сценкой, а кукла на мостовой и автомобиль – осторожно спланированным маневром. И обо всем этом я знаю только по словам шофера и твоим. Еще вывод…
Я остановился, давая себе отчет, что обрушиваю на человека в основном свое скверное настроение, вызванное недоразумением.
— Я кончу за вас, – сказал он. – Вы хотите сказать, что за всем этим стою я.
Лицо его побелело, мускулы напряглись.
— Вам везет, что вы мне нравитесь, док. Еще лучше, что я знаю о вашей дружбе с боссом. А самое лучшее, может быть, то, что вы единственный человек, который может ему помочь. Все.
— Мак–Кенн, – сказал я. – Мне жаль. Мне очень жаль. Не о том, что я сказал, а о том, что я должен был это сказать. В конце концов, сомнение существует и никуда от него не денешься, вы должны признать это. Лучше все прямо высказать вам, чем таиться и быть двуличным.
— Но какую же я могу иметь цель?
— У Рикори могли быть сильные враги и сильные друзья. Для врагов было выгодно убрать его без всяких подозрений и получить авторитетный диагноз от врача с репутацией честного и неподкупного человека. И это не эгоцентризм, а моя профессиональная гордость – то, что я считаюсь именно таким врачом.
Он кивнул. Лицо его смягчилось и напряжение исчезло.
— У меня нет доказательств, док, и я ничего не могу вам ответить. Но я вам благодарен за высокое мнение о моем уме. Нужно быть очень умным человеком, чтобы все это устроить. Совсем как в кино, где преступник устанавливает кирпич, который должен свалиться на голову его врагу ровно в 20 минут 26 секунд третьего. Да, я должен быть гениальным.
Меня передернуло от этого явного сарказма, но я промолчал.
Мак–Кенн взял куклу Питерса и стал ее осматривать. Я позвонил по телефону, чтобы осведомиться о состоянии Рикори. И обернулся, услышав восклицание – Мак–Кенн протягивал мне куклу, указывая на воротник ее пиджака. Я пощупал это место и, почувствовав что‑то вроде головки большой булавки, вытащил ее. Это была стальная игла около девяти дюймов длины. Она была тоньше обычной шляпной иглы, крепкая и заостренная. Я сразу понял, что смотрю на инструмент, пронзивший сердце Рикори.
— Еще одно нарушение здравого смысла, – сказал Мак–Кенн, – может, это я засунул ее туда, а, доктор?
— Вы имели такую возможность, Мак–Кенн.
Он засмеялся. Я рассматривал странную иглу – это было фактически тонкое лезвие. Оно было сделано как будто из стали, и в то же время я не был уверен, что это металл. Она совершенно не гнулась. Маленький шарик наверху, был не менее полдюйма в диаметре, и больше походил на рукоятку кинжала, чем на булавочную головку.
Под увеличительным стеклом были видны на ней углубления, как будто для пальцев маленькой руки… кукольной руки… Кукольный кинжал!.. На нем были пятна. Я отложил вещь в сторону, решив заняться их анализом позже. Я знал, что это кровь. Но даже, если это так, доказательств, что именно кукла сделала это – нет.
Я взял куклу Питерса и начал детально ее изучать. Из чего она была сделана, определить было невозможно. Она была не из дерева, как первая кукла, а материал напоминал сплав, состоящий из резины и воска. Я не знал о существовании такого состава. Я снял с куклы одежду. Неповрежденная часть куклы анатомически совершенно повторяла строение человеческого тела. Волосы были человеческие, искусственно вставленные в череп. Глаза – какие‑то голубые кристаллы. Одежда была так же искусно сшита, как и одежда куклы Дианы. Висящая нога держалась не на нитке, а на проволочной основе. Я прошел в свой кабинет, взял скальпель, несколько ножей и пилку.
— Подождите минуту, док, – сказал Мак–Кенн, следивший за мной. – Вы хотите разрезать эту штуку на части?
Я кивнул головой.
Он сунул руку в карман и вынул острый охотничий нож. Прежде, чем я успел остановить его, он ударил им по шее куклы, отрезал голову и взял ее в руки. Выскочила проволочка. Он бросил голову на стол и подвинул ко мне туловище. Голова покатилась по столу и остановилась против веревочки, которую он назвал лестницей ведьмы. Голова, казалось, повернулась и посмотрела на нас. Одну секунду мне казалось, что глаза сверкнули красным огнем, черты лица исказились, выражение злобы усилилось, как на лице живого Питерса в часы его смерти. Я рассердился на себя. Просто так упал свет. Я повернулся к Мак–Кенну и зло спросил:
— Зачем ты это сделал?
— Вы значите для босса больше, чем я, – загадочно ответил он.
Я молча разрезал туловище куклы. Как я и думал, внутри была проволочная рамка. Она была сделана из одного куска проволоки и так же хитро, как и тело куклы, причем удивительно ловко имитировала человеческий скелет. Не абсолютно точно, но удивительно аккуратно, не было никаких сочленений. Вещество, из которого была сделана кукла, было удивительно эластичным. Казалось, я режу что‑то живое. И было… страшно.
Я взглянул на голову. Мак–Кенн наклонился над ней и пристально смотрел ей в глаза. Руки его сжимали край стола и были напряжены, как будто он делал страшное усилие, чтобы оттолкнуться. Когда он бросил голову на стол, она подкатилась к веревочке с узелками, а теперь эта веревочка почему‑то обвилась вокруг ее шеи и свешивалась со лба, как маленькая змейка.
Я ясно видел, как лицо Мак–Кенна все ближе… ближе… придвигалось к крошечному личику на столе, в котором, казалось, сконцентрировалась вся злоба ада. А лицо Мак–Кенна было как маска ужаса.
— Мак–Кенн, – крикнул я и ударил его в подбородок, заставив откинуть голову. И я мог поклясться, что глаза куклы повернулись ко мне, и губы ее исказились.
Мак–Кенн опомнился. Минуту он тупо смотрел на меня, потом бросился к столу, швырнул голову на пол и стал топтать, как топчут ядовитого паука. Голова превратилась в бесформенную лепешку, все человеческое исчезло, и только два голубых кристалла глаз все еще мерцали и веревочка обвивалась вокруг них.
— Господи, она… тянула меня к себе. – Мак–Кенн зажег сигарету дрожащими руками и отбросил в сторону спичку. Спичка упала на то, что было кукольной головой. Затем последовала яркая вспышка, раздался странный стонущий звук. Через нас прошла волна интенсивного тока.
Там, где находилась голова куклы, осталось неправильное пятно сгоревшего паркета. Внутри лежали кристаллы глаз, лишенные блеска и почерневшие. Веревочка исчезла. На столе стояла пахучая лужица черной воскоподобной жидкости, из которой поднимались ребра проволочного скелета.
Зазвонил телефон. Я машинально снял трубку и сказал – «Да».
— Мистер Рикори пришел в сознание, сэр.
Я повернулся к Мак–Кенну.
— Рикори пришел в себя.
Он схватил меня за плечи, затем отступил назад. На лице его был страх.
— Да, прошептал он. – Да, он пришел в себя, когда сгорела ведьмина лестница. Это освободило его. Теперь мы с вами должны беречься.
8. ДНЕВНИК СЕСТРЫ УОЛТЕРС
Я взял с собой Мак–Кенна, когда пошел к Рикори. Очная ставка с начальником была лучшей проверкой его искренности. Мне казалось, что все эти странные явления, о которых я рассказал, могли быть частью хитро задуманного плана, в котором мог быть замешан и Мак–Кенн. Отсечение головы у куклы могло быть драматическим жестом, предназначенным для того, чтобы воздействовать на мое воображение. Именно Мак–Кенн всеми своими действиями привлек мое внимание к страшному значению этой веревочки с узлами.
Он нашел иглу. Его очарованность отрезанной головой могла быть наигранной. И то, что он бросил непотухшую спичку, могло быть действием, рассчитанным на уничтожение улики. Но в то же время я ощущал бессилие и неспособность разобраться в собственных ощущениях.
Все‑таки трудно было представить себе, что Мак–Кенн мог быть таким актером. Он мог выполнять инструкции другого человека, который был способен на эти вещи. Мне хотелось верить Мак–Кенну, и я надеялся, что он с честью выдержит очную ставку. От всей души я хотел этого.
Но ничего не вышло. Рикори был в полном сознании, он не спал. Мозг его был живым и здоровым, как всегда. Но тело его не было свободным. Паралич сковал его мускулы. Он не мог говорить. Глаза смотрели на меня – блестящие и умные, но лицо было неподвижно. Таким же неизменившимся взглядом смотрел он на Мак–Кенна.
Мак–Кенн прошептал:
— Может ли он слышать?
— Думаю, что да, но он не может сообщить нам об этом, – ответил я.
Мак–Кенн опустился около кровати на колени, взял руки больного в свои и сказал четко:
— Все в порядке, босс. Мы все работаем.
Это не было похоже на поведение виноватого человека, но все же Рикори ведь не мог говорить.
Я сказал Рикори:
— Вы прекрасно поправляетесь. У вас был тяжелый шок, и я знаю причину. Я думаю, что через день–два вы сможете двигаться. Не расстраивайтесь, не волнуйтесь, старайтесь не думать ни о чем неприятном. Я дам вам успокоительного, и вы не старайтесь бороться с его действием. Засните.
Я дал ему снотворное и с удовольствием отметил его быстрое действие. Это убедило меня в том, что больной меня слышал.
Я вернулся в кабинет вместе с Мак–Кенном, сел и задумался. Никто не знал, сколько времени Рикори будет парализован. Он мог пролежать в таком состоянии от часа до нескольких месяцев.
За это время мне нужно было добиться нескольких вещей. Во–первых, установить внимательное наблюдение за местом, где Рикори достал куклу; во–вторых, узнать все возможное про женщин, о которых рассказывал Мак–Кенн; и в–третьих, – что заставило Рикори отправиться в это место. Я решил, что Мак–Кенн не лжет, но в то же время не хотел этого показывать.
— Мак–Кенн, – обратился я к нему, – ты установил слежку за лавкой?
— А как же, муха не вылетит незамеченной.
— Что‑нибудь интересное было?
— Ребята окружили весь квартал около полуночи. Окно было темное. Позади лавки есть помещение. Там тоже окно с тяжелыми ставнями, но из‑под них видна полоска света. Около двух часов ночи явилась бледная девица и ее впустили, затем свет потух. Утром девица открыла лавку. Через некоторое время в лавке появилась и баба–яга. Наблюдение продолжается.
— А что вы о них узнали?
— Ведьму зовут мадам Менделип. Девица – ее племянница, так она себя называет. Въехали они сюда около трех месяцев назад. Никто не знает, откуда они приехали. Аккуратно платят по счетам. Денег полно. Старуха никогда не выходит из дома. Держатся особняком, с соседями не общаются. У ведьмы имеется ряд покупателей – в большинстве случаев богатые люди. Делают вроде бы два вида работ – обычных кукол и все, что надо для них, и каких‑то специальных, по которым старуха – мастерица. Соседи их не любят. Некоторые считают, что старуха торгует наркотиками. Пока это все.
Специальные куклы? Богатые люди? Богатые люди, вроде девицы Вейли или банкира Маршалла? А обычные куклы для людей, как акробат или каменщик? Но и эти куклы могли быть специальными, только Мак–Кенн не узнал этого…
— Позади лавки, – продолжал он, – две или три комнаты. На втором этаже большая комната вроде склада. Они снимают все помещение. Старуха и девица живут в комнатах позади лавки.
— Отличная работа, – похвалил я. – А слушай, Мак–Кенн, кукла тебе ничего не напомнила?
Он посмотрел на меня, прищурившись.
— Скажите сначала вы сами, – сказал он сухо.
— Ну, хорошо. Мне показалось, что она похожа на Питерса.
— Показалось, что похожа, – взорвался он. – К черту «показалось»! Это была его точная копия!
— И все же ты мне об этом ничего не сказал. Почему? – спросил я подозрительно.
— Будь я проклят, – начал он, но сдержался. – Я знал, что вы заметили это, но вы были так заняты уличением меня, что я просто не имел возможности.
— Тот, кто делал куклу, хорошо должен был знать Питерса, а Питерс должен был позировать, как хорошему художнику или скульптору. Почему он это сделал? Когда? И вообще, почему ему или кому‑нибудь еще может захотеться иметь свою копию в виде куклы?
— Разрешите мне повозиться с ведьмой часик, и я вам все скажу, – ответил он мрачно.
— Нет, – покачал я головой, – ничего такого, пока Рикори не сможет говорить. Но может быть, мы сможем выяснить что‑либо другим путем. У Рикори была какая‑то причина попасть в эту лавку. Я знаю, какая, но не знаю, что привлекло его внимание в этой лавке. Кажется, он получил какие‑то сведения от сестры Питерса. Если ты ее знаешь достаточно близко, съезди к ней и узнай, что она рассказала Рикори. Но не говори ничего о болезни Рикори.
Он сказал:
— Если вы мне расскажете больше. Молли не глупа.
— Хорошо. Не знаю, сказал ли тебе Рикори, что мисс Дарили умерла. Мы думаем, что имеется связь между ее смертью и смертью Питерса. Есть что‑то в том, что все это имеет какое‑то отношение к их любви – к ребенку Молли. Дарили умерла так же, как и Питерс.
— Вы хотите сказать – с такими же… особенностями, – прошептал он.
— Да. Мы имеем основания думать, что оба они – Дарили и Питерс – заразились где‑то в одном месте. Рикори решил, что Молли может знать это место. Место, где оба они бывали не обязательно в одно и то же время и могли заразиться. Может быть, даже какой‑нибудь человеконенавистник заразил их нарочно… Ясно, что к Менделип Питерса направила Молли. Тут есть одна неловкость – я не знаю, говорил ли ей Рикори о смерти брата. Если он ей ничего не сказал, ты тоже ничего не должен говорить ей.
— А вы, наверное, много кой–чего знаете, – сказал он, вставая и собираясь уходить.
— Да, – ответил я откровенно. – Но я сказал тебе достаточно.
— Ну что же, может быть, – он посмотрел на меня мрачным взглядом. – Так или иначе, я скоро узнаю, сказал ли он об этом Молли. Если да, то наша беседа будет вполне естественна. Если нет – ну, ладно, я позвоню вам. До свидания.
Он ушел.
Я подошел к остаткам куклы на столе. Душистая лужица затвердела. При этом она приняла форму, грубо напоминающую человеческое тело; с миниатюрными ребрами и просвечивающим позвоночником она имела исключительно неприятный вид.
Преодолевая отвращение, я собирал вещество для анализа, когда пришел Брейл. Я был так возбужден улучшением состояния Рикори и случившимся, что не сразу заметил его бледность и задумчивость. Я прервал свой рассказ о сомнениях, касающихся Мак–Кенна, чтобы спросить его, в чем дело.
— Сегодня утром я проснулся с мыслью о Харриет, – сказал он. – Я знал, что цифры 4 – 9 – 1, если только было так, не означали Диана. Эта мысль преследовала меня. Неожиданно я вдруг сообразил, что это означает «diary» (дневник). В свободный час я побежал к Роббинс. Мы обыскали квартиру и нашли дневник Харриет. Вот он.
Он протянул мне маленькую тетрадку и тихо сказал:
— Я уже прочел ее.
Вот что там было (переписываю части, касающиеся описываемых событий).
3 ноября. Сегодня со мной случилось странное событие. Зашла в парк Баттери посмотреть на новых рыбок в аквариуме. Имела свободный часок после этого и пошла побродить по лавочкам, чтобы купить что‑нибудь для Дианы. Наткнулась на странную маленькую лавочку. В окне стояли прелестнейшие куклы и лежали самые чудесные кукольные платья, какие я когда‑либо видела. Я стояла, глядя на них и в лавку через окно.
В лавке была девушка. Она стояла спиной ко мне. Вдруг она повернулась и посмотрела на меня. Она меня как‑то странно поразила. Лицо ее было бледно, совсем без окраски, а глаза – большие и испуганные. У нее была масса волос пепельного цвета, собранных на макушке. Странная девушка!
Не менее минуты мы смотрели друг на друга. Затем она быстро покачала головой и сделала знак рукой, как бы предлагая мне уйти. Я была так удивлена, что едва поверила глазам. Я уже хотела зайти и спросить, в чем дело, но взглянув на часы, увидела, что опаздываю в госпиталь. Я снова посмотрела в лавку и заметила, что задняя дверь ее медленно отворяется. Девушка сделала отчаянный жест. Что‑то было такое во всем этом, что мне захотелось вдруг убежать. Я не убежала, но повернулась и пошла прочь.
Весь день я об этом думала. Мне было любопытно, и я немного сердилась. Куклы и их платья были прелестны. Почему мне нельзя было войти? Почему их не купить? Но я выясню это.
5 ноября. Сегодня я опять пришла в лавку. Тайна углубилась. Только я не думала, чтобы тут была какая‑нибудь тайна. Я думаю, бедняжка немного ненормальная. Я не остановилась у окна, а зашла прямо в лавку. Когда она увидела меня, ее глаза стали еще более испуганными, и она даже задрожала. Я подошла к ней и она прошептала:
— О, я же сказала вам, чтобы вы ушли. Зачем вы вернулись?
Я засмеялась и сказала: «Вы странная продавщица. Разве вы не заинтересованы в продаже своих товаров?»
Она ответила быстро и тихо: «Теперь поздно. Вы уже не можете уйти. Но не трогайте ничего. Не прикасайтесь ни к чему, что она будет давать вам, не прикасайтесь». А затем она сказала обычным голосом: «Что вам показать? У меня есть все для кукол».
Переход был так резок, что я поразилась. И тут я увидела, что дверь открылась. Та же дверь, что и тогда, и на ее пороге стоит женщина и смотрит на меня.
Я смотрела на нее, не знаю сколько времени. Она была какая‑то особенная. В ней было не менее одного метра восьмидесяти сантиметров роста, она была огромна, с огромными грудями, но не жирна, а мощна. Лицо у нее было длинное и коричневое. Над губами у нее были усы, волосы густые, серебристо–серые. Но ее глаза просто приковывали меня к месту. Она, видимо, была ужасно жизнеспособна. Или, может быть, казалась таковой рядом с безжизненной девушкой?
Нет, конечно, она была полна необычной энергии. У меня по спине пробежала дрожь, когда я смотрела на нее.
Я подумала глупо: «Какие у тебя большие глаза, бабушка! – Чтобы лучше тебя видеть, внученька! – Какие у тебя большие зубы, бабушка! – Чтобы лучше тебя съесть, внученька!»
А у нее действительно были большие зубы, сильные и желтые.
Я сказала совсем глупо: «Как поживаете?»
Она улыбнулась и дотронулась до моей руки и я почувствовала странную дрожь от ее прикосновения.
Руки ее были удивительно красивы. Так красивы, даже жутко! Длинные с заостренными пальцами, белые. Как руки Эль–Греко или Боттичелли. Я думаю, что именно это и поразило меня. Казалось, что они не принадлежат ее огромному телу. И глаза тоже. Глаза и руки. И все‑таки было именно так.
Она улыбнулась и сказала: «Вы любите красивые вещи?»
Голос ее был такой же, как руки и глаза. Глубокое богатое контральто. Я почувствовала, как он входит в меня, как аккорд органа.
Я кивнула. Она сказала: «Тогда я покажу их вам, дорогая. Войдите». На девушку она не обращала никакого внимания. Когда я переступила порог, я оглянулась.
Девушка стояла испуганная, и я ясно услышала, как она шепнула «Помните».
Мы вошли в комнату… я не могу описать ее. Она была такой, как глаза, голос, руки ее хозяйки. Когда я вошла, у меня появилось ощущение, что я не в Нью–Йорке, не в Америке. Нигде на земле. У меня было ощущение, что единственное место на земле, где можно существовать – эта комната.
Я испугалась. Комната была больше, чем можно было предположить по размерам лавки. Может быть, в этом был виноват свет. Мягкий, приятный, сумеречный свет. Панели были изысканны, потолок был обшит материей. Одна стена была пуста, только старый камин. Было очень тепло. В комнате стоял старый приятный запах, может быть, от горящих поленьев. Мебель была старая, изысканная и очень необычная. На стене висели старинные ковры.
Странно, но мне трудно вспомнить, что было в этой комнате. Осталось только ощущение небывалой красоты. Ясно я помню стол и круглое зеркало, о котором мне почему‑то неприятно вспоминать.
Я неожиданно для себя начала ей рассказывать о себе, о Диане, о том, что Диана любит красивые вещи.
Она выслушала и сказала своим чудесным голосом: «У нее будет красивая вещь, моя дорогая». Она вынула из шкафа самую прелестную на всем свете куклу. Я пришла в восторг от мысли, как обрадовалась бы ей моя маленькая Ди. Маленькая бэби была сделана изысканно и совсем как живая. «Нравится?» – спросила у меня хозяйка. Я ответила, что к сожалению, я бедна и не смогу купить у нее такое сокровище.
— Но я не бедна. Она будет вашей, когда я кончу ее одежду, – рассмеялась она.
Я не удержалась и, хотя это было невежливо, сказала ей: «Вы, наверное, очень богаты. У вас такие чудесные вещи. Удивляюсь, зачем вы держите кукольную лавку».
А она снова засмеялась и сказала: «Чтобы встречаться с такими милыми людьми, моя дорогая».
И вот тут начались эти странные вещи с зеркалом. Оно было круглое, как я уже упоминала, и я смотрела и смотрела на него, потому что оно было похоже на половинку огромного шара с чистейшей водой. Оно было в раме из резного коричневого дерева, и резьба отражалась в нем и, казалось, шевелилась, как трава на берегу озера, когда дует ветерок. Мне захотелось заглянуть в него, и вдруг это желание стало непреодолимым.
Я подошла к нему. В нем отражалась комната, совсем так, как будто я смотрела в окно на другую такую же комнату. А затем вдруг волны словно прошли по зеркалу и оно стало туманным, а мое отражение, наоборот, очень ярким. Я видела себя, но я становилась все меньше и меньше, пока не стала величиной с большую книгу.
Я приблизила к зеркалу лицо, и маленькое личико приблизилось к моему. Я покачала головой и улыбнулась – кукла повторила мои движения. Это было мое отражение, но только маленькое. И тут я почувствовала страх и закрыла глаза. А когда я снова взглянула в зеркало, все было по–прежнему.
Я взглянула на часы и удивилась, как долго я здесь пробыла. Я встала, чтобы уйти, все еще с паническим страхом в душе. Она сказала: «Зайдите ко мне завтра, дорогая, я приготовлю для вас куклу». Я поблагодарила и пообещала зайти. Она проводила меня до двери лавки. Девушка не глядела на меня. Имя хозяйки – мадам Менделип.
Я не пойду к ней ни завтра, ни когда‑либо вообще. Она очаровательна, но я ее боюсь. Мне не нравится чувство, которое я испытала перед зеркалом. И почему, когда я видела в нем всю комнату, там не было ее отражения? Не было? И комната была освещена, хотя в ней не было ни окон, ни ламп. И эта девушка… А все‑таки Ди так понравилась бы кукла.
7 ноября. Удивительно, как трудно выдерживать решение не идти к ней!
Всю ночь мне снились кошмары. Снилось, что я опять в этой комнате, как кукла. Я испугалась, стала биться, как бабочка об стекло, и вдруг увидела две красивые белые руки, протягивающиеся ко мне. Они открыли зеркало и поймали меня, а я билась, старалась вырваться.
Я проснулась со страшным сердцебиением. Диана сказала, что я плакала и кричала: «Нет, нет, не хочу!»
Сегодня я ушла из госпиталя, собиралась идти домой. И вдруг оказалось, что я жду поезда на Баттери, то есть по рассеянности направляюсь к мадам Менделип. Это меня так испугало, что я бегом выбежала из метро. Я делаю глупости, а я всегда гордилась своим здравым смыслом. Нужно, наверное, посоветоваться с мистером Брейлом и проверить нервы. И почему я не могу поехать к мадам Менделип? Я интересный человек, и я ей явно понравилась. С ее стороны было так любезно предложить мне эту куклу. Она должна подумать, что я глупа и неблагодарна.
И кукла так понравится Ди! А зеркало – я чувствовала себя около него, как Алиса в Зазеркалье. Может быть, жара и запах привели меня к легкому головокружению и галлюцинациям. Просто я была слишком занята разглядыванием самой себя и не заметила отражения мадам Менделип. Смешно прятаться, как ребенок от бабы–яги. Мне хочется пойти, и я не вижу, почему бы мне этого не сделать.
10 ноября. Ну, я даже рада, что пошла. Мадам просто удивительна. Конечно, тут есть что‑то странное, но я не понимаю что, но это потому, что она не такая, как все. Когда попадаешь в ее комнату, жизнь кажется совсем другой. Когда я ухожу, мне кажется, что я покидаю заколдованный дворец и возвращаюсь в серый унылый мир.
Вчера, когда я решила пойти к ней прямо из госпиталя, точно груз свалился с плеч, стало весело и легко. Но когда я вошла, белая девушка – ее зовут Лашна – посмотрела на меня так, как будто собиралась плакать. Она сказала мне странным приглушенным голосом: «Помните, что я старалась спасти вас!» Мне это показалось таким забавным, что я расхохоталась и никак не могли остановиться. А когда я взглянула в глаза мадам Менделип и услышала ее голос, я поняла, почему так легко у меня на сердце – будто я вернулась в дом, по которому страшно истосковалась. Чудесная комната, казалось, приветствовала меня.
У меня было странное ощущение, что она живая, что она часть самой мадам Менделип, как ее глаза, руки, голос. Она ни о чем меня не спросила, а принесла куклу. Кукла была еще красивее, чем раньше, и пока мадам делала последние стежки, заканчивая ее одежду, мы сидели и разговаривали.
Она сказала: «Мне хотелось бы сделать куклу из вас, моя дорогая». Это точные ее слова. Я на секунду чего‑то испугалась, вспомнив сон, но потом поняла, что это ее манера выражаться, и она имеет в виду сделать с меня слепок, похожий на меня. Я засмеялась и сказала: «С удовольствием, мадам Менделип, она, наверное, будет даже лучше, чем я сама». Она засмеялась вместе со мной. Глаза ее стали большими и сильно блестели.
Она принесла немного воска и стала лепить мою голову. Ее красивые пальцы работали быстро, артистически ловко. Я следила за ними, очарованная. Мне хотелось спать все сильнее и сильнее. Она сказала: «Милочка, мне хотелось бы, чтобы вы разделись и я могла слепить все ваше тело. Не стесняйтесь, я ведь старуха». А мне было все равно, и я ответила в полусне: «Конечно, пожалуйста».
Я встала на маленький стул и продолжала наблюдать, как воск под ее пальцами стал превращаться в мою копию. Я была такой сонной, что мадам должна была помочь мне одеться, потом я, по–видимому, заснула, а проснувшись увидела, что она сидит рядом и гладит мою руку. «Мне жаль, дитя мое, что я вас так утомила. Полежите, отдохните. Но если вам нужно домой, то поспешите – уже поздно!» Я знала, что поздно, но мне было все равно. Потом мадам прижала пальцы к моим глазам и вся сонливость вдруг исчезла. Она сказала: «Приходите завтра за куклой». Я сказала, что должна заплатить ей, хотя бы сколько могу, но она возразила: «Вы полностью заплатили тем, что позволили сделать из себя куклу». После чего мы обе засмеялись и я ушла. Девушка была чем‑то занята в лавке. Я сказала ей: «До свидания», но она ничего не ответила.
11 ноября. Я получила куклу и Диана в восторге. Она боготворит куклу. Сидела опять для мадам Менделип, чтобы она могла закончить мою куклу. Она настоящий ангел! Удивляюсь, зачем ей эта лавочка? Она могла бы быть величайшим скульптором. Кукла – точная моя копия.
По ее просьбе я дала прядь своих волос. Но мадам сказала, что это только модель, а не кукла, которую она из меня сделает. Та будет гораздо больше и из гораздо более прочного материала, а эту она отдаст мне, когда кончит с ней работать.
На этот раз я недолго оставалась в лавке. Выходя я улыбнулась Лашне и заговорила с ней, она кивнула мне, но без симпатии. Не знаю, может быть, она ревновала меня к мадам?
13 ноября. Впервые сажусь писать после ужасной смерти мистера Питерса 11 ноября. Я только кончила писать о кукле Ди, как меня вызвали на ночное дежурство в госпиталь. О, как я жалею, что не отказалась! Никогда не забуду эту жуткую смерть! Не хочу ни писать, ни думать об этом. Но когда я пришла домой, утром, я не могла уснуть, я мучилась, стараясь вынуть из памяти это лицо. Я думала до этого, что мадам Менделип поможет мне забыть об этом. И около двух я была у нее.
Мадам была в лавке, и казалось, была удивлена, увидев меня так рано. И, по–моему, не так приветлива, как всегда. Как только я вошла в чудесную комнату, я все забыла.
Мадам что‑то делала из проволочки, сидя за столом, я не рассмотрела что, так как она усадила меня подальше на удобном стуле.
«Дитя мое, вы выглядите усталой. Посидите и отдохните, пока я кончу. Перед вами лежит интересная книга». Она дала мне странную старую книгу, длинную и узкую. Она походила на средневековую книгу, написанную от руки монахами. На картинках были нарисованы сады и деревья, причем престрашные.
Людей не было, но у меня не проходило ощущение, что они прятались за деревьями и смотрят оттуда на меня. Не знаю, сколько времени я рассматривала картинки, стараясь рассмотреть прячущихся людей, но наконец мадам позвала меня. Я подошла к столу, все еще держа книгу в руках.
Мадам сказала: «Это для куклы, которую я делаю из вас. Возьмите и посмотрите, как искусно это сделано». Я взяла в руку то, что лежало на столе и увидела, что это проволочный скелет, небольшой, как у ребенка.
И вдруг лицо Питерса появилось передо мной, я вскрикнула и выронила книгу. Она упала на скелет, раздался глухой звук и скелет подпрыгнул. Я пришла в себя и увидела, что конец проволоки высвободился, проткнув книгу, и так и лежал.
Минуту мадам была в страшной ярости. Она схватила меня больно за руку и спросила странным голосом: «Почему вы это сделали? Отвечайте! Почему?» И тряхнула мою руку. Я не осуждаю ее теперь, но тогда она испугала меня. Наверное она думала, что я сделала это нарочно. Потом она увидела, что я вся дрожу; глаза и голос стали ласковыми. «Что‑то волнует вас, милая. Скажите мне, может быть, я смогу помочь вам». Она уложила меня на диван, села около и стала гладить мои волосы и лоб.
И вдруг я рассказала ей всю историю Питерса, хотя никому никогда о делах госпиталя не говорила. Она спросила, кто привез его в госпиталь, и я сказала, что доктор Лоуэлл зовет этого человека Рикори и что он, кажется, знаменитый гангстер. Ее руки успокаивали меня, мне хотелось спать, и я рассказала ей о докторе Лоуэлле, какой это великий доктор и как я ужасно влюблена в доктора Брейла. Я очень сожалею, что рассказала ей об этом. Никогда ни с кем не была так откровенна, но не в силах была остановиться и все говорила, говорила. Все в мозгу перепуталось, и когда я подняла голову, мне показалось, что мадам упивается моим рассказом. А я была совсем не похожа на себя.
Когда я кончила, она приказала мне поспать, а она разбудит меня, когда я захочу. Я сказала, что хочу уйти в четыре, быстро заснула, и проснулась успокоенной и отдохнувшей.
Когда я встала, маленький скелет и книга все еще лежали на столе, и я извинилась. Она сказала: «Лучше книга, чем рука, дорогая. Проволока могла развернуться и жестоко поранить вас». Она попросила меня принести мою форменную одежду, чтобы сделать для новой куклы такую же.
14 ноября. Я бы хотела никогда не видеть мадам Менделип. Моя нога не была бы повреждена. Но не только поэтому я высказала эти слова. Мне хотелось бы никогда ее не встречать.
Я отнесла ей одежду сегодня утром. Она быстро вырезала маленькую модель.
Мадам Менделип была очень весела и спела мне несколько очень оригинальных песенок. Я не поняла слов. Она засмеялась, когда я спросила, на каком языке она поет, и сказала: «Это язык народа, который смотрел на вас с картинок моей книги, дорогая». Это так странно. Откуда она знает, что я думала о людях, спрятавшихся в лесах?
Она вскипятила чай и налила две чашки. И когда она протягивала мне чашку, она зацепила локтем чайник и опрокинула его. Кипящий чай вылился мне на правую ногу. Боль была страшная. Но она сняла мою туфлю и чулок и смазала ожог мазью. Она сказала, что боль сейчас пройдет и все заживет. Боль прекратилась, а когда я пришла домой, я не поверила глазам. Ожога не было.
Мадам Менделип была ужасно огорчена происшедшим, или сделала вид. Она не проводила меня до двери, как обычно, а осталась в комнате. Лашна стояла у двери, когда я вышла в лавку. Она поглядела на повязку на моей ноге. Я сказала ей, что это ожог и мадам завязала мне ногу. Она даже не посочувствовала мне. Уходя, я сказала ей сердито: «Прощайте». Глаза ее наполнились слезами и она грустно сказала: «До свидания». Закрывая за собой дверь, я увидела, что по щекам ее покатились слезы. Почему? (Мне не хотелось бы больше сюда!) 15 ноября. Нога зажила. У меня нет ни малейшего желания вернуться к мадам Менделип. Я никогда больше не пойду туда. Мне хочется уничтожить куклу, которую она дала для Ди. Но это разобьет сердечко ребенка.
20 ноября. Все еще не имею желания видеть ее. Постепенно забываю ее. Вспоминаю о ней только тогда, когда вижу куклу Ди. Я так рада! Так рада, что мне хочется плясать и петь! Я никогда не пойду туда! Боже мой, как бы мне хотелось никогда, никогда в жизни не видеть ее! И все‑таки не понимаю, почему…
Это был последняя ссылка на мадам Менделип в дневнике сестры Уолтерс. 25 ноября она умерла.
9. КОНЕЦ КУКЛЫ ПИТЕРСА
Брейл внимательно следил за мной. Я встретил его вопросительный взгляд и постарался скрыть чувство паники, охватившее меня.
— Никогда не предполагал такого богатого воображения у Уолтерс, – сказал я.
Он вспыхнул, спросил сердито:
— Вы думаете, она сочинила?
— Не совсем. Наблюдая ряд обычных явлений сквозь дымку живого и богатого воображения, она изобразила все иначе, чем было на самом деле.
Он сказал недоверчиво:
— А вы не думаете, что все то, что она описала, является субъективным описанием гипноза, акта гипноза?
— Я не думал о такой возможности, – ответил я сердито, – но я не вижу признаков, подтверждающих это мнение. Я вижу только, что Уолтерс была далеко не такой уравновешенной особой, как я считал. Видимо, в один из визитов к мадам Менделип она была утомлена и находилась в состоянии чрезвычайно нервной неуравновешенности, особенно после случая с Питерсом.
Рассмотрим все логически, Брейл. Нервы Уолтерс уже были напряжены из‑за странного поведения и намеков бледной девушки. Затем Уолтерс привлекают куклы, она заходит прицениться – любой поступит так же. Она встречает женщину, физические качества которой возбуждают ее воображение. Она откровенничает с ней. Эта женщина явно тоже эмоционального типа, как и она. Она дарит ей куклу. Женщина–артистка, она видит в Уолтерс чудесную натурщицу. Она просит ее позировать, без всякого принуждения, естественная просьба, – и Уолтерс позирует ей. Женщина разработала свою технику работы, как и все артисты, часть этой техники проволочные скелеты для кукол. Естественная и умная процедура. Вид скелета напоминает Уолтерс о смерти, смерти Томаса Питерса. Она представляет себе его лицо, произведшее на нее сильное впечатление, и с ней начинается истерика.
Она пьет чай с мастерицей, и та нечаянно обваривает ее. Естественно, хозяйка хлопочет, завязывает обожженное место, смазывает его какой‑то мазью, в которую верит. И это все. Где же здесь гипноз? А если гипноз, то зачем он был нужен старухе?
— Она сама сказала зачем. «Я сделаю из вас куклу, моя дорогая!» – ответил Брейл.
Я уже почти убедил себя своими аргументами и, услышав его замечание, вздрогнул.
— Вы хотите меня убедить в том, что Уолтерс возвращалась в лавку помимо своей воли для каких‑то дьявольских целей мадам Менделип? Что жалостливая продавщица старалась спасти ее от того, что в старых мелодрамах называется «судьбой» или хуже – «приманкой на крючке колдуньи»? И для применения мази необходимо было ее ранить?
Первая попытка ранить проволокой не удалась и был приведен в исполнение инцидент с чайником. А теперь душа Уолтерс бьется в зеркале колдуньи, как ей приснилось. Так, что ли? И все это самое неистовое суеверие, мой дорогой Брейл!
— Вот оно что, – сказал он уклончиво, – значит, все это приходило и в вашу голову? Значит ваш мозг не настолько еще окаменел…
Я почувствовал отчаяние.
— Значит, ваша теория заключается в том, что с момента, как Уолтерс вошла в лавку, каждое рассказанное ею событие вело к тому, чтобы мадам Менделип овладела ее душой, что и случилось в момент смерти?
— В общем, да, – немного подумав, сказал он.
— Душа, – сказал я иронически. – Но я никогда не видел ее. Что такое душа, если она существует? Ведь никто не может овладеть тем, что не существует материально. И как можно ее принуждать, направлять, ограничивать, если она не вещественна? Вы ведь считаете, что именно так поступила мастерица с Харриет? Где же помещается душа? В мозгу? Но я сотни раз оперировал мозг и никогда не видел в нем секретной камеры с таинственным жильцом. Вот маленькие клетки, много более сложные в своей деятельности, Брейл, чем любая машина, это я видел, Брейл, но души не видел. Хирурги полностью исследовали тело человека, но тоже ничего не нашли. Покажите мне душу, Брейл, и я поверю мадам Менделип.
Он несколько минут изучал мое лицо, потом кивнул.
— Теперь я понимаю. Все это поразило вас тоже, не правда ли? Вы тоже бьетесь о ваше собственное зеркало, не так ли? Что ж, я тоже претерпел огромную борьбу, чтобы отбросить в сторону все, чему меня учили, и принять, что в мире есть что‑то ненормальное; это дело, Лоуэлл, вне медицины, вне науки. И не признав этого, мы ничего не поймем. Мне хочется напомнить вам о двух вещах. Питерс и Дарили умерли одинаковой смертью. Рикори выяснил, что оба они имели дело с мадам Менделип. Он сам посетил ее и едва не погиб. Харриет зашла к ней – и умерла, как и те. Разве это не говорит о том, что мадам Менделип источник зла?
— Конечно, – ответил я.
— Значит, мы должны сделать вывод, что существовала реальная причина для страха Харриет, другая, нежели ее эмоциональность и слишком развитое воображение – даже, если Харриет и не знала об этих обстоятельствах.
Я снова был вынужден согласиться с ним.
— Второе, это исчезновение всякого желания вернуться в лавку после инцидента с чайником. Это не удивило вас?
— Нет. Если она была эмоционально неустойчива, испытанный ею шок мог привести к обратным настроениям, создать бессознательный барьер. Обычно такие люди не любят возвращаться туда, где они испытали что‑то непристойное.
— А заметили ли вы, что после ожога хозяйка не проводила ее до дверей? И что это было в первый раз после их знакомства?
— Я не обратил на это внимания. А что?
— Так. Если применение мази было последним действием, и смерть стала неизбежной, для мадам Менделип становилось неудобным, если жертвы будут ходить часто в лавку, пока их не убьет яд. Приступ может даже начаться в лавке и привести к опасным расследованиям. Поэтому было умным сделать так, чтобы жертвы потеряли всякий интерес к ней, даже чувствовали неприязнь к ней, или забывали ее. Это можно легко сделать под гипнотическим внушением. А мадам Менделип имела для этого все возможности. Разве это не объясняет поведения Харриет?
— Да, – снова сознался я.
— И поэтому женщина не пошла к двери. Ее план удался. Все было кончено. Она внушила то, что хотела, и контакт с Харриет больше не нужен. Она выпускает ее без сопровождения. Показательно для окончания всего… – он задумался. – Нет нужды опять встречаться с Харриет, – прошептал он, – до ее смерти.
Я вздрогнул.
— Что вы хотите этим сказать?
Брейл подошел к почерневшему месту на полу и поднял кристаллик. Потом посмотрел на гротескную фигуру с ребрами скелета на столе.
— Интересно, как подействует на нее огонь, – подумал он вслух и хотел поднять скелет. Но тот прилип к столу, и Брейлу пришлось его сильно дернуть. Раздался резкий металлический звук, и Брейл выронил его с испуганным восклицанием. С минуту проволока извивалась на полу, как живая и, наконец, раскрылась; несколько минут она еще скользила как змея, затем стихла, вздрагивая. Мы посмотрели на стол. Вещество, напоминающее скрюченное безголовое тело, исчезло. На его месте осталась только пленка серой тонкой пыли. Некоторое время она клубилась и шевелилась, как от ветра, потом исчезла.
10. ШАПОЧКА СИДЕЛКИ И «ЛЕСТНИЦА ВЕДЬМЫ»
— Она умеет отделываться от улик, – рассмеялся Брейл, но в смехе не было веселья. Я промолчал. Эту же мысль я скрыл от Мак–Кенна, когда исчезла голова куклы. Избегая дальнейших разговоров на эту тему, мы с Брейлом отправились навестить Рикори.
У двери стояли два новых телохранителя. Они вежливо поднялись и ответили на наши вопросы.
Мы тихо зашли. Рикори спал. Он дышал легко, спокойно, в глубоком здоровом сне.
Комната была в конце здания, окна выходили в небольшой садик. Оба моих дома старомодны; толстые лозы вирджинского винограда оплетают их задние фасады.
Я приказал сестре установить экран и лампы, чтобы на Рикори падал очень слабый свет. Я предупредил телохранителей, что здоровье их босса зависит в значительной мере от тишины. Было около шести часов. Я пригласил Брейла к обеду, затем попросил его навестить пациентов в госпитале и вызвать меня, если появится необходимость.
Мне хотелось быть дома в момент пробуждения Рикори.
Мы почти кончили обед, когда зазвонил телефон. Брейл взял трубку.
— Мак–Кенн, – сказал он.
Я подошел.
— Как босс?
— Лучше. Я ожидаю, что он проснется и заговорит, – ответил я, внимательно прислушиваясь, какова будет реакция.
— Это чудесно, док!
Я не мог уловить в его тоне ничего, кроме глубокого удовлетворения.
— Слушайте, док. Я видел Молли и узнал кое‑что. Зашел к ней сразу от вас. Муж ее был дома; мы оставили с ним ребенка, и я повез ее покататься.
— Знала она о смерти Питерса? – перебил я.
— Нет. И я ей не сказал. Теперь слушайте. Я говорил вам про Горти… Как кто? Да мисс Дарили, девушка Джима Уилсона. Да. Дадите вы говорить наконец? Я вам сказал, что Горти любила ребенка Молли.
В начале прошлого месяца Горти явилась с красивой куклой для девочки. У нее была поранена рука, и она сказала, что повредила ее там же, где достала куклу. Женщина наложила ей повязку, она подарила ей куклу, потому что Горти показалась ей хорошенькой и согласилась попозировать ей для статуэтки, что ли. Горти это очень польстило, и она страшно расхваливала эту даму.
Через неделю Питер зашел к Молли и увидел эту куклу. Она понравилась ему; он даже приревновал девочку к Горти и спросил, где она ее достала. Та дала ему адрес мадам Менделип. Том сказал, что кукла хороша и ей нужна пара, и решил достать куклу–мальчика. И через неделю принес чудного мальчишку–куклу. Молли спросила, сколько он заплатил (она скрыла, что Горти заплатила позированием). Молли говорит, что Том смутился, но ответил, что плата за куклу его не разорила.
Тогда она стала шутить, спрашивая, не нашла ли мастерица кукол его достаточно хорошеньким, чтобы позировать ей, но в это время девочка закапризничала, и она отвлеклась, не получив ответа.
Том не показывался до первых чисел этого месяца. Когда он явился, на руке его была повязка, и Молли шутя спросила его, не поранил ли он руку там, где взял куклу.
— «Да, там, – удивленно ответил он, – но какого черта ты знаешь об этом?» Да, да, именно так и спросил. Что? Завязала ли она ему руку? Нет, не знаю. Молли не сказала, я не спрашивал.
— Слушайте, док, я вам говорил, что Молли не дура. Мне пришлось потратить два часа, чтобы все выяснить. Говорил о том, о другом, опять, будто невзначай, возвращался к старому. Но я боялся задавать слишком много вопросов. Да, я сам понимаю, док, что глупо, но повторяю, что я боялся заходить слишком далеко. Молли слишком умна.
Рикори, когда был у нее, видимо, применял ту же тактику. Он восхищался куклами, спрашивал, где она их достала, сколько это стоило… Вспомните, я говорил вам, что оставался в машине, когда он был у нее. После этого он приехал домой, звонил по телефону, а потом отправился к этой бабе–яге. Вот и все. Что‑нибудь это значит? Да, тогда здорово!
Он помолчал немного, но трубку не вешал.
— Ты слушаешь, Мак–Кенн? – спросил я.
— Да, я думал… Мне хотелось быть с вами, когда босс проснется. Но мне нужно съездить и удостовериться, как мои люди смотрят за этими коровами Менделип. Может быть, я попозже заеду к вам. Всего!
Я медленно подошел к Брейлу, пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Я повторил ему то, что сказал Мак–Кенн.
Он не перебивал меня. Потом спокойно сказал:
— Гортензия Дарили отправляется к старухе Менделип, ей дают куклу, просят позировать, ранят, затем лечат рану, и она умирает. Питерс тоже отправляется к ней, получает куклу, как Гортензия. Вы видели куклу, для которой он, видимо, позировал. Харриет прошла через то же самое. Также умерла. Что же теперь?
Я вдруг почувствовал себя старым и утомленным. Не очень приятно видеть и чувствовать, как рушится знакомый и организованный мир. Я сказал устало:
— Не знаю.
Брейл погладил меня по плечу.
— Поспите немного. Сестра позовет вас, если Рикори проснется. Мы доберемся до сути истории.
— Если даже сами в нее попадем, – улыбнулся я.
— Даже если сами должны будем в нее попасть, – сказал он, но не улыбнулся.
После ухода Брейла я долго сидел глубоко задумавшись. Затем попытался читать, но безуспешно. Мой кабинет, как и комната Рикори, выходит в маленький сад. Я подошел к окну и стал смотреть в него, ничего не видя. Яснее, чем когда‑либо, я чувствовал себя стоящим перед закрытой дверью, которую важно было открыть.
Я вернулся в кабинет и удивился, что уже 10 часов. Я погасил свет и лег на кушетку. Почти тотчас же я заснул. Я проснулся, вздрогнув, как будто кто‑то сказал мне что‑то громкое прямо в ухо, и сел, прислушиваясь. И вдруг я почувствовал, что тишина какая‑то странная, давящая. Она заполняла кабинет густой массой, ни один звук снаружи не мог пробиться сквозь нее. Я вскочил на ноги и включил свет. Тишина, казалось, стала изливаться из комнаты, как что‑то материальное. Но медленно.
Теперь я мог расслышать тиканье моих часов. Я неторопливо подошел к окну, нагнулся над подоконником и высунулся, чтобы глотнуть чистого воздуха. Потом я высунулся еще больше, чтобы взглянуть на окно комнаты Рикори. При этом я оперся рукой о ствол виноградной лозы и вдруг почувствовал, что она слегка дрожит, как будто кто‑то осторожно трясет ее или по ней взбирается какое‑то маленькое существо.
Окно комнаты Рикори вдруг осветилось. Позади я услышал тревожный звонок и бросился вверх по лестнице. У дверей комнаты Рикори стражи не было, двери были распахнуты. Я остановился на пороге ошеломленный. Один из стражей перегнулся через подоконник с автоматом в руках, другой склонился над телом Рикори, лежащим на полу. Пистолет его был направлен на меня. Кровать была пуста. За столом сидела сиделка, голова ее свешивалась на грудь, она спала или была без сознания. Телохранитель опустил оружие.
Я нагнулся над Рикори. Он лежал вниз лицом в нескольких футах от кровати. Я перевернул его. Лицо было смертельно бледное, но сердце билось.
— Заприте дверь, и помогите положить его на кровать, – приказал я. Телохранитель повиновался. Человек у окна, не оборачиваясь, спросил сквозь зубы:
— Босс умер?
— Не совсем, – ответил я и затем выругался, что делал весьма редко:
— Что же вы, черт побери, мерзавцы этакие, за сторожа?
Человек, запиравший дверь, невесело засмеялся.
— Тут есть много такого, о чем следует порасспрашивать, док.
Я взглянул на сиделку. Она все еще сидела в расслабленной позе.
Я снял с Рикори пижаму и начал детальное обследование тела. Никаких следов не было. Я сделал адреналин, потом занялся сиделкой. Она не просыпалась. Я стал трясти ее, потом поднял веки. Зрачки были сжаты. Я поднес к ним яркий свет, но реакции не было. Пульс и дыхание были слабыми, но не опасны. Я оставил ее в покое и обратился к стражам.
— Что случилось?
Они смущенно поглядывали друг на друга. Стоявший у окна махнул рукой, как бы приглашая своего товарища поговорить.
Тот начал.
— Мы сидели в коридоре. Вдруг в доме наступила какая‑то проклятая тишина. Я сказал Джеку: «Как будто глушители подставили во всем доме». Он ответил: «Да». И вдруг мы услышали звук из комнаты, как от падения тела с кровати. Ворвались в комнату и увидели босса в таком виде, как застали вы. И сиделку тоже. Мы позвонили, и скоро пришли вы. Это все, Джек?
— Да, – ответил тот, – я полагаю, все.
Я посмотрел на него подозрительно.
— Ты полагаешь, что это все? Что ты хочешь сказать этим «я полагаю»?
Они снова переглянулись.
— Давай, катай все, Билл, – сказал Джек.
— Черт, ведь не поверит, – сказал тот.
— И никто не поверит. Тем не менее, расскажи.
Билл начал.
— Когда мы ворвались в комнату, мы увидели что‑то похожее на пару дерущихся кошек на подоконнике. Босс лежал на полу. Мы схватились за пистолеты, но боялись стрелять, так как вы сказали нам, что шум может убить босса. Потом мы услышали странный звук, будто кто‑то играл на флейте за окном. Два существа разъединились и прыгнули за окно. Мы бросились к окну, но ничего не увидели.
— Вы видели какие‑то существа? На что они были похожи?
— Скажи, Джек.
— На кукол.
Дрожь пробежала у меня по спине. Это был ответ, которого я ожидал и боялся. Выпрыгнули в окно! Я вспомнил, как дрожала лоза.
Билл посмотрел на меня, и рот у него раскрылся.
— Иисус, Джек, – прошептал он. – Док верит этому.
Я заставил себя говорить.
— Какие это были куклы?
Джек у окна ответил уже более доверительно.
— Одну мы не рассмотрели. Другая была совсем как одна из ваших сиделок, если бы ее уменьшить футов до двух.
Одна из моих сиделок… Уолтерс!.. Я почувствовал слабость и опустился на край кровати. Что‑то белое на полу у кровати привлекло мое внимание. Я тупо посмотрел на эту вещь несколько секунд, потом нагнулся и поднял ее. Это была… шапочка сиделки, маленькая копия тех, которые носят мои сиделки. Она была как раз таких размеров, которые нужны были для двухфутовой куклы. На полу лежало еще что‑то. Я поднял. Это была веревочка из волос с узелками… Светлые пепельные волосы… Девять сложных узлов на разных расстояниях друг от друга.
Билл стоял, глядя на меня с тревогой, потом спросил:
— Хотите, я найду ваших людей, док?
— Постарайтесь найти Мак–Кенна, – попросил я, затем повернулся к Джеку. – Заприте окна, опустите гардины, проверьте дверь.
Билл позвонил по телефону. Сунув шапочку и веревочку в карман, я подошел к сиделке. Она начала быстро приходить в себя. Через две минуты мне удалось разбудить ее.
Сначала она ничего не понимала, затем встревожилась и вскочила.
— Я не видела, как вы вошли, доктор. Неужели я заснула? Что случилось?
Она схватилась за горло.
— Я надеюсь, что вы нам об этом расскажете, – сказал я мягко.
Она взглянула на меня с удивлением.
— Я не знаю… стало вдруг очень тихо… Мне показалось, будто что‑то шевелится на подоконнике… затем появился какой‑то странный свет… и затем я увидела вас, доктор.
Я спросил:
— Не можете ли вы вспомнить что‑нибудь о том, что вы видели на окне? Малейшую деталь, малейшее представление. Попытайтесь, пожалуйста.
Она ответила медленно.
— Там было что‑то белое… Оно наблюдало за мной… Затем появился странный свет… запах цветов… Это все.
Билл повесил трубку.
— Все в порядке, док. Пошли за Мак–Кенном. Что теперь?
— Мисс Натлер, – обратился я к сестре, – я заменю вас сегодня. Идите спать. Я хочу, чтобы вы выспались. Советую вам принять… – я назвал лекарство.
— Вы не сердитесь, не считаете, что я недобросовестна?
— Нет, нет, – я улыбнулся и погладил ее по плечу. – Просто произошли некоторые серьезные изменения в состоянии больного. И все. Не задавайте больше вопросов и идите.
Я проводил ее и запер дверь. Потом сел около Рикори. «Шок, который он испытал, должен пройти или убить его», – подумал я мрачно. Одна рука со сжатым кулаком начала медленно подниматься, губы зашевелились. Он заговорил по–итальянски так быстро, что я не уловил ни единого слова. Я встал. Паралич кончился. Он мог двигаться и говорить. Но вернется ли к нему сознание? Это будет ясно через несколько часов; больше я ничего не мог сделать.
— Слушайте меня внимательно, – сказал я обоим ребятам, – то, что я скажу, покажется вам диким, но вы должны повиноваться мне даже в мелочах, от этого зависит жизнь Рикори. Я хочу, чтобы один из вас сел позади меня у стола. Другой сядет в головах кровати Рикори между мною и им. Если заметите какое‑нибудь изменение в состоянии Рикори, немедленно разбудите меня. Ясно?
— Ясно, – ответили они.
— Очень хорошо. Теперь самое важное. Вы должны внимательно наблюдать за мной, буквально не сводить с меня глаз. Если я подойду к вашему боссу, я могу сделать только три вещи: послушать его сердце и дыхание, поднять веки и измерить температуру. Если вам покажется, что я хочу сделать что‑нибудь другое – остановите меня. Если я буду сопротивляться – свяжите меня, но рот не затыкайте, слушайте, что я говорю и запоминайте, затем позвоните доктору Брейлу. Вот его телефон. – Я написал на клочке бумаги. – И не вредите мне больше, чем необходимо.
Они засмеялись, затем переглянулись между собой недоуменно.
— Если вы так говорите, док… – начал с сомнением Билл.
— Я так говорю. Не рассуждайте, ребята. Если вы будете грубы со мной, я не обижусь.
— Док знает, что говорит, Билл, – сказал Джек.
— Тогда ладно, – согласился Билл.
Я потушил все лампы, за исключением той, которая стояла на столике сиделки, потом вытянулся на стуле и установил лампу так, чтобы мое лицо было хорошо видно. Маленькую белую шапочку я положил в ящик стола. Джек сел возле Рикори. Билл придвинул стул и сел напротив меня. Я засунул руки в карман, закрыл глаза, постарался ни о чем не думать. Веревочку с узелками я держал в руке, засунутой в карман. Оставив на время мои концепции о здравом порядке в этом мире, я решил дать мадам Менделип все возможные шансы действовать.
Вскоре я заснул. Сквозь сон я услышал, как пробил час ночи.
…Где‑то дул ветер. Он схватил меня и унес. Я не имел тела или какой‑то формы, и все же существовал, бесформенный, но чувствующий, кружащийся по воле ветра, уносящийся в бесконечное пространство. Бестелесный, нематериальный, я знал все‑таки, что существую, больше того, я обладал какой‑то неземной жизненностью. Я ревел вместе с ветром в нечеловеческом ликовании. Ветер нес меня обратно из неизмеримых пространств… Вот я как бы проснулся, но пульс странной жизненности все еще пронизывал меня… Ах! Там на кровати было что‑то, что я должен уничтожить, убить, чтобы мой пульс не замер, чтобы ветер подхватил меня снова, унес, дал бы мне свою энергию… Но осторожнее, осторожнее… вот тут в горле под ухом… в этом место я должен вонзить… затем снова улететь с ветром… туда, где бьется пульс… Что держит меня?.. Осторожнее, осторожнее… – Я хочу померить его температуру. – Теперь один быстрый прыжок – и в горло, в то место, где бьется пульс. Нет, не этим! Кто это сказал? Все еще держат меня. Ярость, всепоглощающая в своем бессилии… темнота и звук удаляющегося ветра…
Я услышал голос:
— Стукни его еще раз, Билл, но не сильно. Он приходит в себя.
Я почувствовал сильный удар по лицу, танцующий туман развеялся. Я стоял на полпути между столиком сиделки и кроватью. Джек держал мои руки. Рука Билла была еще поднята. Я что‑то крепко сжимал в руке. Я посмотрел. Это был большой скальпель, отточенный, как бритва.
Я уронил его и сказал спокойно:
— Теперь все в порядке, можете отпустить меня.
Билл не сказал ничего. Его товарищ не разжал рук. Я посмотрел на них внимательно и увидел, что лица обоих землисто–бледные.
Я сказал:
— Это было то, чего я ожидал. Поэтому я и дал вам соответствующие инструкции. Все кончено. Вы можете направить на меня оружие, если желаете.
Джек опустил мои руки.
Я пощупал лицо и сказал мягко:
— Вы стукнули меня довольно сильно, Билл.
Он ответил:
— Если бы вы видели ваше собственное лицо, док, вы бы не удивились тому, что я ударил изо всех сил.
Я кивнул, прекрасно понимая теперь демонический характер испытанной ярости.
— Что я делал, Билл?
— Вы проснулись, сидели несколько минут, глядя на босса. Затем вынули что‑то из ящика и встали, сказав, что хотите измерить температуру. Вы были уже на полпути, когда мы заметили, что у вас в руках. После этого вы словно обезумели. И мне пришлось стукнуть вас. Все.
Я снова кивнул. Затем вынул из кармана веревочку с узелками, сплетенную из волос, положил ее на поднос и поднес к ней спичку. Она начала гореть, извиваясь, как маленькая змея и при этом крошечные узелки сами развязывались. На подносе образовалась кучка пепла.
— Я думаю, что сегодня больше ничего не будет, – сказал я, – но все‑таки, будьте настороже, как всегда.
Я снова упал на стул и закрыл глаза.
Да, Брейл не показал мне души, но я поверил в мадам Менделип.
11. КУКЛА УБИВАЕТ
Конец ночи. Я спал крепко и без снов. Проснулся я как обычно, в семь. Я спросил телохранителей, не слышно ли чего‑нибудь от Мак–Кенна, и они ответили отрицательно. Я был немного удивлен, но они, казалось, не придали этому особого значения. Они скоро должны были смениться. Я предупредил их, чтобы они никому ничего о событиях ночи не рассказывали, за исключением Мак–Кенна, и они уверили меня, что будут молчать. Кроме того, я предложил им, чтобы они дежурили в комнате, а не у дверей.
Рикори спал крепко и спокойно, состояние его было отличное. Я подумал, что второй шок как бы противодействовал первому. Когда он проснется, он сможет говорить и двигаться. Я сказал об этом его людям. Я видел, что они горят желанием задать ряд вопросов, но я дал понять, что отвечать не собираюсь.
В десять тридцать ко мне забежал Брейл позавтракать и доложить о больных. Я рассказал ему о ночных делах, умолчав, правда, о шапочке сиделки и моем печальном опыте. Я сделал это потому, что Брейл ухватился бы за эту шапочку. Я сильно подозревал, что он был влюблен в Уолтерс и что я не смогу в этом случае удержать его от визита к кукольной мастерице. Это было бы опасного для него, а его наблюдения не имели бы никакой цены для меня. Кроме того, узнав о моем опыте, он отказался бы оставлять меня одного. А это помешало бы моему решению увидеть мадам Менделип наедине (за исключением Мак–Кенна, который наблюдал бы за мной извне).
Что могло получиться из этого, я не знал. Но только это могло спасти мое самоуважение. Признать, что все случившееся было колдовством, волшебством, сверхъестественным – означало сдаться на милость суеверия. Ничего нет сверхъестественного! Если что‑нибудь существует, оно должно подчиняться естественным законам. Мы можем не знать этих законов, но они существуют.
Если мадам Менделип обладает неизвестным знанием, я должен раскрыть его. Тем более, что я смог предугадать ее технику. Во всяком случае, я должен ее увидеть. Но сегодня был день моих консультаций, и до двух часов дня я не мог уйти. Я попросил Брейла остаться на дежурство после двух. Около двенадцати сиделка позвонила и сообщила, что Рикори проснулся, может говорить и просит меня придти.
Он улыбнулся мне, когда я вошел. Я нагнулся послушать его пульс, и он сказал мне:
— Я думаю, вы спасли больше, чем мою жизнь, доктор Лоуэлл, благодарю вас, я этого не забуду.
Немного цветисто, но в его характере. Это показывало, что мозг его работал нормально, и я успокоился.
— Да, вы были плохи. – Я погладил его руку.
Он прошептал:
— Были еще случаи смертей…
Мне захотелось узнать, помнит ли он что‑нибудь о том вечере. Я ответил:
— Нет, но вы потеряли много сил с тех пор, как Мак–Кенн привез вас сюда. Я не хочу, чтобы вы много разговаривали сегодня… – И добавил обычным тоном: – Нет, ничего не случилось. О, да, вы упали с кровати сегодня утром. Вы помните?
Он посмотрел на людей, потом на меня и сказал:
— Я слаб, очень слаб. Вы должны быстро поставить меня на ноги.
— Вы будете сидеть через пару дней.
— Меньше, чем через два дня, я должен встать. Есть одна вещь, которую я должен сделать. Я не могу ждать.
Я не хотел, чтобы он волновался, и сказал решительно:
— Это зависит только от вас. Я дам указания о вашем питании. Кроме того, я хочу, чтобы ваши ребята оставались в комнате.
— И тем не менее, вы хотите уверить меня, что ничего не случилось, – сказал он.
— Я хочу, чтобы ничего не случилось.
Я нагнулся над ним и прошептал: Мак–Кенн расставил людей вокруг ее жилища. Она не сможет убежать.
— Но ее слуги способнее моих, доктор, – ответил он.
Я взглянул на него – глаза его были непроницаемы. Я пошел в кабинет в глубокой задумчивости. Что знал Рикори?
В половине первого позвонил Мак–Кенн. Я был так рад услышать его голос, что даже рассердился.
— Где ты был?.. – начал я.
— Слушайте, док, я у сестры Питерса, Молли, – перебил он меня. Приходите скорее.
Это требование еще больше рассердило меня.
— Не сейчас, я освобожусь только после двух.
— А не можете ли вы все‑таки приехать? Что‑то случилось, и я не знаю, что делать.
В его голосе слышалось отчаяние.
— Что случилось? – спросил я.
— Я не могу сказать по… – голос его снизился, стал мягким, я слышал, как он сказал: «Успокойся, Молли, это не поможет». И затем мне: – Ну, хорошо, приезжайте, когда сможете док, я подожду. Запишите адрес. – Затем, когда он все продиктовал, я услышал, как он сказал: «Оставь это, Молли! Я не уеду от тебя». Он резко повесил трубку.
Я вернулся к столу обеспокоенный. Он даже не спросил о Рикори – это было само по себе тревожным признаком. Может быть, Молли узнала о смерти брата и ей стало плохо? Я вспомнил, что Рикори говорил, что она ждет ребенка. Нет, я чувствовал, что паника Мак–Кенна вызвана чем‑то большим. Убедившись, что серьезных вызовов нет, я попросил дежурного отсрочить их, заказал машину и назвал адрес Молли.
Мак–Кенн встретил меня на пороге, лицо его похудело и осунулось, в глазах стояло загнанное выражение. Он молча пропустил меня через гостиную. Я увидел женщину с плачущим ребенком на руках. Мак–Кенн провел меня в спальню. На кровати лежал мужчина, накрытый покрывалом до подбородка. Я нагнулся, попробовал пульс, сердце. Он был мертв. Мак–Кенн сказал:
— Муж Молли. Осмотрите его, как босса.
Я почувствовал исключительно неприятное чувство. Питерс, Уолтерс, Рикори, этот лежащий передо мной – будто какая‑то рука специально направляла меня; когда же это прекратится?
Я раздел мужчину, вынул из сумки увеличительное стекло и зонды. Я осмотрел все тело, дюйм за дюймом, начиная от области сердца. Ничего… Я перевернул тело и сейчас же в основании черепа увидел крошечную точку. Я вынул самый тонкий зонд и ввел его. Зонд – и опять у меня возникло ощущение бесконечного повторения – свободно скользнул в отверстие. Я слегка пошевелил им. Что‑то вроде длинной тонкой иглы было введено в то место, где позвоночник соединяется с мозгом. Случайно, а может быть, потому, что игла дико вращалась, чтобы прервать нервные пути, случился паралич дыхания. Это вызвало моментальную смерть. Я вынул зонд и повернулся к Мак–Кенну.
— Этот человек убит. Убит тем же оружием, от которого пострадал Рикори. Но на этот раз более умело.
— Да? – спокойно спросил Мак–Кенн. – С этим человеком были только его жена и ребенок. По–вашему, это они убили его, как вы говорили на нас с Полем?
— Что ты знаешь, Мак–Кенн, и как ты попал сюда?
Он терпеливо ответил:
— Меня не было здесь… Это случилось в два часа ночи. Молли позвонила мне с час назад.
— Ей повезло больше, чем мне, – сказал я сухо. – Ребята Рикори ищут тебя с часу ночи.
— Я знаю, но я уходил по делам босса и вашим. Во–первых, я хотел узнать, где племянница этой дикой кошки держит свой маленький автомобиль. Я нашел, но поздно.
— Ну а люди, которые должны были наблюдать?
— Слушайте, док, поговорите с Молли. Я боюсь за нее. Ее поддерживает только то, что я говорил ей о вас.
Мы вернулись в комнату. Женщине было не более 27–28 лет. При обычных обстоятельствах она была бы очень хороша. Теперь ее лицо было смертельно бледно, глаза полны ужаса, граничащего с сумасшествием. Глаза глядели на меня, не видя. Она все время растирала губы концами пальцев. Девочка лет четырех продолжала беспрерывно плакать.
Мак–Кенн встряхнул ее за плечи.
— Кончи это, Молли, – сказал он грубо, но с жалостью. – Вот док.
Женщина посмотрела на меня и спросила со слабой надеждой: «Он жив?» Она прочла ответ на моем лице и закричала: «О, Джонни, Джонни, родной! Умер!» Потом взяла на руки ребенка и сказала почти спокойно: «Успокойся, крошка, мы скоро увидимся с ним».
Мне бы хотелось, чтобы она заплакала; этот глубокий страх, не оставляющий ее глаз, был слишком силен, он как бы закрывал все выходы для горя. Ее мозг длительное время не мог вынести такое напряжение.
— Мак–Кенн, – прошептал я, – скажи ей что‑нибудь, сделай что‑нибудь, что хоть немножко подбодрит или отвлечет ее. Сделай так, чтобы она сильно рассердилась или заплакала. Все равно, что.
Он кивнул. Потом выхватил ребенка у нее из рук, спрятал его за спиной, близко наклонился к ней и грубо спросил:
— Ну‑ка, скажи начистоту, Молли, почему ты убила Джона?
На минуту она замерла, не понимая. Затем вся вздрогнула. Ужас исчез из ее глаз, и они заблестели от бешенства. Она бросилась на Мак–Кенна и принялась бить его кулаками по лицу.
Я поймал ее за руки. Ребенок кричал.
Напряжение ее тела ослабло, руки бессильно опустились. Она соскользнула на пол и положила голову на колени. И слезы пошли. Мак–Кенн хотел поднять ее и успокоить.
Я остановил его.
— Пусть поплачет. Для нее это лучше всего.
Немного погодя, она взглянула на Мак–Кенна и спросила тихо:
— Ты ведь не думаешь этого, Дан?
— Нет. Я знаю, что это не так. А сейчас расскажи все доку – и скорее.
Она спросила довольно спокойно.
— Вы будете задавать вопросы, доктор, или мне просто рассказывать?
Мак–Кенн сказал:
— Расскажи так, как рассказала мне. Начни с куклы.
Я кивнул. Она начала.
— Вчера перед обедом Дан приехал и повез меня покататься. Обычно Джон не приходит… не приходил домой до шести. Но вчера он беспокоился обо мне и приехал домой рано, около трех. Он любит… любил Дана, и настоял, чтобы я поехала.
Я вернулась около шести. «Пока ты отсутствовала, Молли, дочурке прислали подарок, – сказал он. – Это опять кукла. Я уверен, что это прислал Том». Том – мой брат.
Я открыла коробку на столе. Там лежала чудеснейшая кукла. Маленькая девочка, но не ребенок, а лет двенадцати. Одета ученицей, с книжками через плечо, высотой около тридцати сантиметров. Личико как у ангелочка. Джон сказал: «Адрес был на твое имя, Молли. Я подумал, что там цветы, и вскрыл посылку. Просто так и ждешь, что она заговорит, правда? Эта кукла – портрет. Я уверен, что он сделан с живой модели». Я тоже решила, что куклу прислал Том, он уже дарил моей дочери куклу. А моя подруга… которая умерла… рассказывала мне, что женщина, которая делает кукол, просила ее позировать для нее. А когда я спросила Джона, не было ли там записки или письма, он вытащил из кармана странную вещь – веревочку из волос, завязанную узелками. «Вот что там было… Удивляюсь, что за фантазия у Тома», – сказал Джон. Он положил веревочку обратно в карман и мы забыли о ней.
Маленькая Молли спала. Мы поставили куклу так, чтобы она сразу увидела ее, как только проснется. И Молли не могла от нее оторваться, когда увидела ее.
Когда она ложилась спать, я хотела забрать куклу, но она расплакалась и пришлось куклу оставить. Перед сном мы подошли к колыбельке, она стоит в спальне в углу, у окна. Джон сказал: «Господи, Молли, я бы не удивился, если бы кукла встала и пошла. Она выглядит такой живой, как наша дочурка! Для нее позировала прелестная девочка». И это было так. У нее было прелестное доброе личико. О, доктор, это было так ужасно, так ужасно…
Я увидел, что страх опять появляется в ее глазах.
Мак–Кенн сказал:
— Держись, Молли.
Она продолжала:
— Я попыталась оторвать куклу, боясь, что во сне Молли может помять ее, но Молли крепко ее держала и мне не хотелось беспокоить ее.
Когда мы раздевались, Джон опять вынул из кармана волосяную веревочку. «Странная штука, когда увидишь Тома, спроси, что это такое», – сказал он, потом сунул ее в ящик стола у кровати и заснул. Потом заснула и я… Потом я проснулась… или думала, что проснулась… Не знаю, спала я или нет… и все же… О, господи, я слышала, как умирал Джон.
И слезы снова брызнули из ее глаз.
— Если я проснулась, то от странной тишины. Она бывает только во сне, такая тишина. Мы живем на втором этаже, и к нам всегда доносятся звуки с улицы. Я прислушивалась, пытаясь уловить хоть малейший шум. Я даже не слышала дыхания Джона. Что‑то жуткое было в этой тишине. Я хотела разбудить Джона, но не могла ни двигаться, ни крикнуть. Занавески на окнах были наполовину опущены. Слабый свет проникал из‑под них с улицы.
И вдруг он исчез. Комната погрузилась во мрак. И затем появился зеленый свет, но не снаружи. Он был в самой комнате! Он слегка разгорался и угасал, разгорался и угасал, но после каждого угасания становился все ярче. Он был как свет, но это не был свет – он сиял, был повсюду, под столом, под стульями – он не давал тени! Я могла видеть все в комнате, видела дочурку в колыбели и голову куклы у нее на плече.
И вдруг кукла зашевелилась! Она повернула голову, как бы прислушиваясь к дыханию ребенка, и положила ручки на руку ребенка. Рука упала. Кукла села! Теперь я была уверена, что это сон. Странная тишина, странный зеленый свет и это… Кукла упала через стенку колыбельки на пол. Затем добежала вприпрыжку до кровати, как ребенок, таща за собой свои учебники на ремешке. Она поворачивала голову во все стороны, как любопытное дитя.
Потом увидела туалетный столик, остановилась, потом вспрыгнула на него, села на край стола и стала любоваться собой в зеркало… Она прихорашивалась, вертелась, рассматривая себя то через правое, то через левое плечо. Я подумала: «Какой странный дикий сон! Все это Джон со своими замечаниями. Но я не сплю, иначе бы я не раздумывала о том, почему мне снится сон». Все это показалось мне такой чепухой, что я засмеялась. Но звука смеха не было. Смех был как бы внутри меня.
Но кукла, похоже, услышала. Она повернулась и посмотрела прямо на меня. Мне показалось, что сердце остановилось в груди. У меня бывали кошмары, доктор, но ужаснее глаз этой куклы я не видела ничего. Это были глаза дьявола! Они отливали красным. Я хочу сказать, фосфоресцировали, как глаза животного в темноте. Но в них была злоба, жуткая злоба, которая потрясла меня. Эти глаза дьявола на ангельском личике!
Не помню, долго ли она так стояла, глядя на меня. Потом она спрыгнула вниз и села на край стула, болтая ногами, как ребенок. Затем медленно и спокойно закинула руки за голову и также медленно их опустила.
В одной из них была длинная, как кинжал, игла… Она спрыгнула на пол, подбежала ко мне и спряталась под кровать. Минута – и она взобралась на кровать и стояла в ногах у Джона, все еще глядя на меня своими красноватыми глазами. Я попыталась крикнуть, шевельнуться, разбудить Джона. «О, господи, спаси, разбуди его, – молилась я. Кукла начала медленно взбираться к его голове вдоль тела. Я попыталась пошевелить рукой, чтобы схватить ее. И не смогла. Кукла исчезла из моего поля зрения. И потом… я услышала ужасный стон. Я почувствовала, как тело Джона содрогнулось, вытянулось, замерло. Затем он вздохнул.
Я знала, что Джон умирает. Я не могла ничего сделать… и это молчание… и зеленый свет… Из‑под окон раздался какой‑то звук свирели или флейты. Я почувствовала какое‑то движение. Кукла пробежала по полу и вспрыгнула на подоконник. Она нагнулась, глядя на улицу. И увидела у нее в руках ту веревочку с узелками. Снова раздался звук флейты… кукла прыгнула в окно. Глаза ее сверкали, и она исчезла. Зеленый свет замигал и исчез. Снова появился свет под занавесками.
Тишина… казалось, вытекала из комнаты. А меня захлестнула какая‑то темнота. Когда я снова проснулась или пришла в себя после обморока, часы пробили два. Я повернулась к Джону. Он лежал рядом… так тихо! Я дотронулась до него. Он был такой холодный, боже мой, такой холодный… Доктор, скажите, что было сном, а что правда? Не могла же кукла убить его? Неужели я сама… во сне… убила Джона?
12. ТЕХНИКА МАДАМ МЕНДЕЛИП
В глазах ее было что‑то такое, что запрещало говорить правду, поэтому я солгал: «В этом‑то я могу вас успокоить. Ваш муж умер от обычного тромба в мозгу. Вы не имеете к этому ни малейшего отношения. Что касается куклы, вы видели просто очень яркий сон. Вот и все. Это случается часто с нервными людьми».
Она посмотрела на меня так, как будто рада была бы всю душу отдать, чтобы поверить мне. Затем сказала:
— Но я слышала, как он умирал.
— Это весьма возможно, – я принялся за сугубо профессиональные объяснения, которые, я знал, будут ей совершенно непонятны, а потому убедительны, – вы могли наполовину проснуться, то, что мы называем «на грани сознания». Может быть, весь он был навеян слышанным. Ваше подсознание пыталось объяснить звуки, и так зародился весь этот фантастический сон, который вы рассказали мне. То, что вам казалось длящимся несколько минут, на деле заняло часть секунды – у подсознания свое время. Это обычное явление. Хлопает, скажем, дверь, это будит спящего, и у него остается воспоминание о каком‑то необычайно ярком сне, кончившимся громким звуком. На самом деле сон начался одновременно со звуком. Ему кажется, что сон длился часы, а на самом деле он уместился в краткий миг между звуком и пробуждением.
Она тяжело вздохнула: ужас в ее глазах ослабел.
Я продолжал:
— И есть еще что‑то, о чем вам нужно помнить – ваше положение. В это время у женщин бывают очень яркие сны, обычно неприятного характера. Иногда даже галлюцинации.
Она прошептала:
— Это верно. Когда я была беременна маленькой Молли, я видела ужасный сон… – она задумалась. На лице ее снова появилось сомнение. – Но кукла! Кукла‑то исчезла!
Я выругал себя за то, что не подготовил себя к этому вопросу.
Мак–Кенн пришел на помощь. Он сказал:
— Конечно, исчезла, Молли. Я выбросил ее в мусоропровод. После того, что ты рассказала, я решил, что тебе лучше не видеть ее.
Она резко спросила:
— Где ты ее нашел? Я искала ее.
— Видимо, ты была в таком состоянии, что тебе было не до поисков, – ответил он. – Она была просто в ногах колыбели, закручена в простыню. Выглядела она так, будто Молли всю ночь проплясала на ней.
Она сказала задумчиво:
— Действительно, кукла соскользнула к ее ногам. Кажется, я там не посмотрела.
— Ты не должен был этого делать, Мак–Кенн, – притворно строго обратился я к нему. – Если бы была кукла, миссис Джилмор поняла бы, что все это сон и успокоилась бы.
— Но я думал, док, так будет лучше, – голос его звучал виновато.
— Пойди и поищи ее, – сказал я сердито.
Он взглянул на меня понимающе, я кивнул. Через несколько минут он вернулся.
— Уже вывезли мусор, – доложил он. – Кукла исчезла. Но я нашел вот что.
Он держал в руке связку миниатюрных книжек на ремешке. Он спросил:
— Это не те книжки, которые в твоем сне уронила кукла, Молли?
Она вздрогнула и отпрянула в сторону.
— Да, – прошептала она. – Убери их, Дан. Я не хочу их видеть!
Она посмотрела на меня.
— Думаю, что я все‑таки был прав, когда выбросил куклу, доктор.
Я взял ее холодные руки в свои.
— Теперь слушайте меня, миссис Джилмор. Вы должны запаковать вещи, необходимые вам с Молли на неделю, и немедленно уехать отсюда. Я думаю о вашем положении, о маленькой жизни, которая скоро появится на свет. Я займусь необходимыми формальностями. Вы можете взять себе в помощь Мак–Кенна. Но вы должны немедленно уехать.
К моему облегчению, она охотно согласилась. Последовали быстрые сборы, затем тяжелый момент прощания с телом. Наконец, все было готово. Девочка хотела забрать своих кукол, но я запретил, несмотря на опасность снова возбудить подозрения Молли.
Я не хотел, чтобы хоть что‑то от Мадам Менделип сопровождало их в пути. Они уехали к родственникам в деревню. Мак–Кенн поддержал меня, и куклы остались в квартире.
Я пригласил по телефону знакомого гробовщика. Вскрытия я не опасался, так как в моем заключении никто не стал бы сомневаться, а крошечный укол невозможно было бы обнаружить. Гробовщику я сказал, что у жены умершего начались родовые схватки и ее отправили в больницу. В диагнозе я написал, что смерть наступила в результате тромбоза и мрачно подумал при этом, что такой же диагноз поставил врач банкира.
Разделавшись с гробовщиком, я сидел и ждал Мак–Кенна. Я старался разобраться во всей этой фантасмагории, которую мой мозг упорно отказывался принимать. Я начинал понимать, что мадам Менделип обладает каким‑то знанием, неизвестным современной науке. Я отказывался называть это колдовством. Это слово веками применялось к самым естественным явлениям, причины которых разъяснялись много позже.
Еще недавно зажженная спичка была волшебством для дикаря. Нет, мастерица не была «ведьмой», как считал Рикори. Просто она знала неизвестные никому какие‑то законы, а мы, будучи на положении дикарей, не знали, что заставляет гореть спичку. Что‑то от этих законов, от техники, если можно так выразиться, этой женщины, мне казалось, я уже уловил. Веревочка с узелками – «лестница ведьмы», была необходима для оживления кукол. Одну такую положили в карман Рикори перед первым покушением на него… Вторую я нашел у его кровати прошлой ночью. Я заснул, держась за нее рукой, и попытался его убить. Третья веревочка помогла убить Джона. Значит ясно, что веревочка была частью механизма управления и контроля за куклами. Правда, пьяный бродяга, на которого напала кукла Питерса, не мог иметь при себе «лестницы». Может быть, она только приводит кукол в действие, а потом они живут какой‑то длительный период? И вообще существовала какая‑то формула. Во–первых, предполагаемая жертва должна была позировать по доброй воле для своей копии; во–вторых, необходимо было ранить жертву и ввести ей в кровь какое‑то снадобье, вызывающее неизвестную смерть; в–третьих, кукла должна быть точной копией жертвы. Но связаны ли все эти смерти с оживлением кукол? Являются ли они необходимой частью операции?
Мастерица кукол считает, без сомнения, что да, я – нет.
То, что кукла, проткнувшая Рикори, была копией Питерса, кукла–сиделка – копией Уолтерс, а кукла, убившая Джилмора, возможно копией Аниты, двенадцатилетней школьницы, – это я признавал. Но что‑то от жизненности, ума, души Питерса, Уолтерс, Аниты было изъято и перемещено как эссенция всего злого в куколок с проволочными скелетами, что это «что‑то» оживляло кукол после смерти этих людей… против этого возмущалось все мое думающее «я». Я не мог даже заставить свой мозг принять такое предположение.
Мой анализ прервал Мак–Кенн. Он сказал коротко:
— Ну, с этим кончено.
Я спросил:
— Мак–Кенн, ты случайно не сказал правду, что выбросил куклу?
— Нет, док, она сбежала.
— А где ты взял книжечки?
— Как раз там, где по словам Молли, кукла уронила их – на туалетном столике. Я спрятал их в карман после ее рассказа. Она и не заметила. Я ее обманул. Здорово получилось, не правда ли?
— А что бы мы сказали, если бы она спросила о веревочке?
— Веревочка произвела на нее большое впечатление, но знаете, док, по–моему, она и на самом деле означает чертовски много. И я думаю, что если бы я не увез ее на прогулку и Молли бы открыла коробку вместо Джона, она лежала бы сейчас на его месте.
— Ты предполагаешь?..
— Я думаю, куклы охотятся за теми, у кого веревочка, – сказал он угрюмо.
Ну что же, эта мысль приходила и мне в голову.
— Но зачем ей понадобилось убивать Молли?
— Может быть, она слишком много знает. Да, док, я хотел сказать вам. Менделип прекрасно знает, что за ней следят.
— Ну что ж, ее слуги лучше моих, – вспомнил я слова Рикори, и рассказал Мак–Кенну о том, что было ночью и зачем я искал его.
— А это доказывает, что ведьма Менделип прекрасно знает, кто следит за ней, – сказал он, выслушав меня. – Она старается убрать обоих – босса и Молли. Она и за вами охотится, док.
— Куклы кем‑то сопровождаются, – сказал я. – Музыка отзывает их обратно. Ведь они не тают в воздухе, а уходят куда‑то… туда, где слышна музыка. Но куклы должны быть вынесены из лавки или выйти сами. Как они проскальзывают мимо ваших людей?
— Я не знаю. – Похудевшее лицо Мак–Кенна было измучено. – Белая девка делает это. Слушайте, что я обнаружил, док.
Вчера от вас я пошел к ребятам. Я много чего услышал. Они говорят, что около четырех часов девица уходит в помещение позади лавки, а старуха усаживается на ее место. В этом вроде бы нет ничего особенного. Но около семи часов они вдруг видят, что девица идет по улице и входит в лавку. Ее ни разу не видели выходящей, и ребята, сторожащие задний выход, без конца ссорятся с ребятами, сторожащими выход с улицы.
Так вот, около 11 часов ночи один из ребят шел по Бродвею, когда ее обогнала маленькая машина, за рулем которой сидела девица из лавки. Он не мог ошибиться, он хорошо изучил ее. За ней никто не следил. Он начал искать такси, но не нашел. Поэтому он вернулся к ребятам и спросил, какого черта все это значит. И опять никто не видел, как она выходила.
Я взял пару ребят, и мы начали прочесывать весь квартал, чтобы найти гараж. В четыре часа прибежал один из наших и сказал, что видел девушку, по крайней мере, ему показалось, что это она, идущей по улице за углом, недалеко от лавки. В руках у нее были два больших чемодана, которые она несла так легко, как будто они были совершенно пустые. Она быстро пошла прочь от лавки. Парень на секунду отвернулся, а она исчезла.
Он обыскал все вокруг, но ее не нашел. Было темно. Он дергал ручки дверей и калиток, но все было заперто. Он побежал ко мне. Я осмотрел место. Это совсем недалеко от лавки. Там все больше лавки, а дальше склад, народа мало, дома старые. Ну, мы осмотрели все и нашли‑таки гараж. И там действительно стояла машина с еще горячим радиатором, та самая, которую видели на Бродвее.
Вместе с ребятами я вернулся к лавке и сторожил с ними до утра. Около восьми утра девушка показалась в лавке и открыла ее.
— И все‑таки это могло быть просто совпадением. Просто похожая на нее девушка, – упрямо сказал я.
Мак–Кенн посмотрел на меня с сожалением.
— Она выходила днем, и никто не видел. Почему же ей не проделать это ночью? Парень видел ее за рулем. И машину нашли около того места, где встретили эту девку.
Я задумался. Не было причины не верить Мак–Кенну. Кроме того, это ужасающее совпадение во времени?!
Я сказал негромко:
— И время ее отсутствия днем совпадает со временем, когда Джилморам доставили куклу, а время отсутствия ночью совпадает со временем нападения на Рикори и смертью Джона Джилмора.
— Да, да, вы попали не в бровь, а в глаз! – обрадованно сказал Мак–Кенн. – Она вышла и оставила куклу у Молли, потом вернулась. Она вышла ночью и натравила куклу на босса. Она подождала, когда они выпрыгнут из окна. Затем она поехала забрать ту, которую оставила у Молли. Затем поспешила домой. Куклы были в чемоданах, которые она несла.
Я не мог сдержать злого раздражения, вызванного моим бессилием:
— Может, вы там думаете, что она вылетает на метле из трубы? – спросил я насмешливо.
Часы пробили три. Мак–Кенн молчаливый и озабоченный, ждал приказаний. Мы отправились на свидание с мадам Менделип.
13. РОКОВОЕ ЗНАКОМСТВО
Я стоял у окна кукольного магазина, стараясь подавить страшное желание ворваться в него. Я знал, что Мак–Кенн следит за мной, что люди Рикори находятся в доме напротив, а также ходят как прохожие по улице. Несмотря на грохот надземной железной дороги, шум движения вокруг Баттери и нормальную жизнь улицы, кукольная лавка казалась крепостью, в которой царила полная тишина. Я стоял, содрогаясь, на пороге, словно в преддверии неизвестного мира.
На окне было выставлено несколько кукол, достаточно необычных, чтобы привлечь внимание как ребенка, так и взрослого. Не такие красивые, как куклы, подаренные Джилморам или Уолтерс, но тоже прелестные в своем роде.
Свет в лавке был слабый. Я заметил за прилавком худенькую девушку, без сомнения, племянницу хозяйки. Размеры лавки не обещали наличия большой комнаты сзади, о которой писала Уолтерс. Но дом был старый и мог продолжаться во двор.
Резко и нетерпеливо я толкнул дверь и вошел. Девушка повернулась ко мне. И пока я шел к прилавку, мы молча изучали друг друга. Это был не вызывающий сомнения тип истерички: бледные голубые глаза с неопределенным взглядом из‑под опущенных ресниц, длинная тонкая шея, бледное округлое личико, белые тонкие пальцы. Руки у нее были необычайно гибкие.
В другие времена она была бы монахиней, жрицей, оракулом или святой. Основное в ней был страх, в этом не было никакого сомнения. Но боялась она не меня. Это был скорее какой‑то глубокий давнишний страх, который как бы лежал, свернувшись, в основании ее существа, высасывал ее жизнь – какой‑то духовный страх. Я посмотрел на ее волосы. Они были серебристо–пепельные… цвета волос, из которых были сплетены веревочки с узелками! Когда она увидела, что я смотрю на ее волосы, неопределенность ее взгляда уменьшилась. Она как будто впервые увидела меня.
Я сказал как можно обычнее:
— Меня интересует кукла в вашем окне. Я думаю, что она должна понравиться моей внучке.
— Вы можете купить ту, которая вам понравилась. Цены указаны.
Голос ее был тихий, низкий, безразличный. Но глаза становились все внимательнее.
— Это может сделать любой покупатель, – сказал я, – но внучка – моя любимица. Я хочу купить для нее самую лучшую куклу. Не можете ли вы показать мне еще кукол, может у вас есть лучше?
Она отвернулась. Мне показалось, что она прислушивается к каким‑то звукам, которых я не слышал. Ее манеры потеряли вдруг свое безразличие, стали грациозны.
И в этот момент я почувствовал на себе чей‑то внимательный изучающий взгляд. Ощущение было так сильно, что я оглянулся и невольно оглядел лавку. Никого не было, кроме меня и девушки.
В конце прилавка была дверь, но она была крепко заперта. Я глянул в окно, не смотрит ли в него Мак–Кенн. Никого не было. Затем сразу, как будто щелкнула камера фотоаппарата, невидимый взгляд исчез…
Я повернулся к девушке. Она поставила на прилавок дюжину ящиков и открыла их. На меня она смотрела искренне, почти ласково. Потом сказала:
— Конечно, вы можете посмотреть все, что у нас есть. Мне очень жаль, что вы подумали, будто я безразлична к вашим желаниям. Моя тетя, которая делает кукол, любит детей и не любит, когда люди, тоже любящие детей, уходят от нас неудовлетворенными.
Это была странная маленькая речь, как будто повторенная под диктовку. Но меня больше заинтересовало изменение, происшедшее с самой девушкой. Ее голос не был более безжизненным. Он звучал живо и бодро. И сама она не была больше безжизненной. Она была оживлена, даже чересчур; на щеках ее появилась краска. Вся неопределенность исчезла из ее глаз – они смотрели чуть насмешливо и даже слегка злобно.
Я рассматривал кукол.
— Они прелестны, – наконец сказал я. – Но может быть, у вас есть еще лучше? У меня сегодня особое событие – моей внучке исполняется семь лет. Цена для меня значения не имеет, конечно, если она в пределах разумного…
Она вздохнула. Я взглянул на нее. Ее глаза снова приобрели испуганное выражение, блеск и насмешка исчезли из них. Она побледнела, и снова я почувствовал на себе незримый взгляд, еще более действующий, чем раньше. И снова содрогнулся.
Дверь за прилавком открылась. Подготовленный дневником Уолтерс к чему‑то необычному, я все‑таки был поражен видом мастерицы кукол. Ее рост и массивность подчеркивались размерами кукол и тонкой фигурой девушки. С порога на меня глядела великанша с тяжелым лицом, усами над верхней толстой губой и весьма мужественным выражением лица.
Я посмотрел на ее глаза и забыл карикатурность ее лица и фигуры. Глаза были огромные, блестящие, черные, изумительно живые. Как будто это были духи–близнецы, не связанные с телом. Из них словно изливался поток жизненности, который вздергивал мои нервы, и в этом не было бы ничего угрожающего… если… если. С трудом я отвел глаза и взглянул на ее руки. Она вся была завернута во что‑то черное, и ее руки были спрятаны в складках. Я снова поднял глаза и, встретившись с ее глазами, заметил в них насмешку и неудовольствие. Она заговорила, и я сразу понял, что вибрация жизни в голосе девушки были эхом ее приятного, звучного и глубокого голоса.
— Вам не понравилось то, что показала моя племянница?
Я собрался с мыслями и сказал:
— Они все прекрасны, мадам… мадам…
— Менделип, – сказала она вежливо, – мадам Менделип. Вы не знали моего имени, а?
— К несчастью. У меня есть маленькая внучка. Я хочу чего‑нибудь красивого к ее седьмому дню рождения. Все, что я видел у вас, чудесно, но мне хотелось бы чего‑нибудь особенного…
— Чего‑нибудь особенного, – повторила она, – еще более красивого. Хорошо, может быть и есть. Но когда я особо обслуживаю покупателей, – она сделала ударение на слове «особо», – я должна знать, с кем имею дело. Вы, должно быть, считаете меня странной хозяйкой магазина, не так ли?
Она засмеялась, и я поразился свежести, молодости, удивительно нежной звонкости ее смеха.
С явным усилием я заставил себя вернуться к действительности и насторожиться. Я вытащил из чемоданчика карточку моего давно умершего друга – доктора.
— А, – сказала она, взглянув на нее, – вы врач. Ну, а теперь, когда мы знаем друг друга, зайдите ко мне, я покажу вам своих лучших кукол.
Она ввела меня в широкий, плохо освещенный коридор. Потом дотронулась до моей руки, и снова я почувствовал странное приятное напряжение нервов. Она остановилась около двери и снова взглянула мне в лицо.
— Здесь я держу моих лучших. Моих особенно хороших. – Она засмеялась и открыла дверь.
Я перешагнул через порог и остановился, осматривая комнату быстрым беспокойным взглядом. Но это была не та чудесная комната, которую описала Уолтерс. Действительно, она была немного больше, чем можно. Но не было изысканных старых панелей, ковров, волшебного зеркала и прочих вещей, превращающих комнату в земной рай. Свет проходил через полузанавешенные окна, выходившие в небольшой пустой дворик. Стены и потолок были выложены простым коричневым деревом. Одна из стен была покрыта маленькими шкапчиками с деревянными дверцами. На стене висело зеркало, оно было круглой формы, и на это кончалось сходство с описанием Уолтерс.
В углу стоял обыкновенный камин. На стене висело несколько гравюр. Обыкновенный большой стол был завален кукольными одеждами, законченными и недошитыми. По–видимому, дневник Уолтерс был все‑таки плодом разыгравшегося воображения. И все же насчет самой мастерицы кукол, ее рук, глаз, голоса, она была права…
Женщина оторвала меня от моих мыслей.
— Моя комната интересует вас?
— Любая комната, в которой творит настоящий артист, должна интересовать. А вы истинный художник, мадам Менделип, – ответил я.
— Откуда вы это знаете? – спросила она задумчиво.
Я сказал торопливо, осознав свой промах:
— Не нужно видеть целую галерею картин Рафаэля, чтобы понять, что он мастер. Я видел ваших кукол.
Она дружески улыбнулась. Затем закрыла за мной дверь и указала на стул около стола.
— Не обождете ли вы немного, пока я кончу одно платьице? Я обещала сделать его сегодня, и малютка, которая ждет его для своей куклы, должна придти. Я быстро кончу.
Почему же нет?
Я сел. Она сказала мягко:
— Здесь так тихо. А вы устали. Вы много работали, да? И вы очень устали.
Я облокотился на спинку стула. Вдруг я почувствовал, что и вправду ужасно устал. На один момент я словно потерял сознание. С трудом открыв глаза, я увидел, что мадам села за стол. И тут я увидел ее руки. Длинные, выхоленные, белые… красивее их я еще не видел. Так же, как и глаз. Они, казалось, жили отдельно от ее тела. Она положила руки на стол и снова ласково заговорила.
— Хорошо иногда придти в спокойный уголок, где царит покой. Человек устает, очень устает.
Она взяла со стола маленькое платье и начала шить. Длинные белые пальцы водили иглу, тогда как другая рука поворачивала крошечную одежду. Как удивительно гармоничны были движения ее длинных белых рук… как ритм… как песня… покой. Она сказала тихим прекрасным голосом:
— Ах, сюда не достигает шум света. Все здесь мирно… и тихо… и покой…
Я отвел глаза от медленного танца ее рук, от мягких движений длинных тонких пальцев, которые так ритмично двигались. Она смотрела на меня мягко, с нежностью… глаза ее были полны того покоя, о котором она говорила.
«А ведь и вправду, не вредно немного отдохнуть, набраться сил для предстоящей борьбы. Я устал. Я даже не сознавал раньше, как я устал. «Я снова стал смотреть на ее руки.» Странные руки, как будто не принадлежащие ее телу. Может это тело – только плащ, обертка, скрывающая настоящее тело, которому принадлежат эти руки, глаза, голос… Оно прекрасно, это настоящее тело…»
Так думал я, следя за медленными ритмическими движениями ее рук.
Она начала напевать какую‑то странную песню, сонливую, баюкающую. Она обволакивала мой усталый мозг, навевала сон, сон, сон… и руки ее распространяли сон. А глаза звали – засни! засни!
Вдруг что‑то бешено забилось внутри меня, заставляя вскочить, сбросить это летаргическое оцепенение…
Страшным усилием я вернулся на порог сознания, но знал, что еще не ушел из этого странного состояния. И на пороге полного пробуждения я на миг увидел комнату такой, какой ее видела Уолтерс. Огромная, наполненная мягким светом, увешанная старинными коврами, с панелями и словно вырезанными экранами, за которыми словно прятался кто‑то, смеющийся надо мной.
На стене огромное полушарие чистой воды, в котором отражалась резная рамка; отражения колебались, как зелень, окружающая чистый лесной пруд. Огромная комната заколебалась и пропала.
Я стоял около перевернутого стула, в комнате, где заснул. Мастерица стояла рядом со мной, очень близко, и смотрела на меня с каким‑то удивлением и печально как человек, которому внезапно помешали.
Помешали! Когда она встала со стула? Сколько времени я спал? Что она делала со мной, когда я спал? Что мне помогло порвать паутину сна?
Я хотел заговорить и не мог. Я стоял бессловесный, обозленный, униженный. Меня, который был так осторожен, поймали в ловушку голосом, глазами, движениями рук, простейшим гипнозом.
Что сделала она, пока я спал? Почему я не могу двигаться? Я чувствовал себя так, как будто вся энергия моего тела ушла в этот разрыв ужасной паутины сна. Ни один мускул не подчинился мне.
Мастерица кукол засмеялась и подошла к шкапчикам в стене. Мои глаза беспомощно следили за ней. Паралич не ослабевал. Она нажала пружину и дверцы шкапчика распахнулись.
Там была кукла – ребенок. Маленькая девочка с прелестным улыбающимся личиком. Я посмотрел на нее и почувствовал холод в сердце. В ее маленьких сжатых ручках была игла–кинжал; и я понял, что это та кукла, которая зашевелилась в объятиях крошки Молли, вылезла из ее колыбельки, потанцевала у кровати и…
— Это моя особенно хорошая!
Глаза мастерицы не отрывались от меня. Он были наполнены злобной насмешкой.
— Отличная кукла! Немного неаккуратная, правда; иногда забывает принести домой свои книжки, когда ходит с визитами. Но зато послушная. Хотите ее для вашей внучки?
Она снова засмеялась молодым, сверкающим, злым смехом.
И вдруг я понял, Рикори был очень прав, и что эту женщину нужно убить. Я собрал все свои силы, чтобы прыгнуть на нее. Но не мог двинуть даже пальцем.
Длинные белые пальцы дотронулись до следующей пружины. Сердце мое сжалось – из шкапчика на меня смотрела Уолтерс! И она была распята! Она была как живая – казалось, я гляжу на девушку в обратную сторону бинокля. Я не мог думать о ней, как о кукле. Она была одета в форму сиделки. Но шапочки не было – ее черные, растрепанные волосы свисали ей на лицо. Руки ее были вытянуты и через каждую ладонь был проткнут маленький гвоздик, прикалывающий ее руки к стенке шкапчика. Ноги были босые, одна лежала на другой и через обе был вбит в стенку еще один гвоздь. Над головой висел маленький плакатик: «Сожженная мученица».
Голос мастерицы кукол был словно мед, собранный с цветов ада.
— Эта кукла вела себя плохо. Она была непослушна. Я наказываю моих кукол, когда они себя плохо ведут. Ну, я вижу, вы расстроились. Ну, что же, она была достаточно наказана, можно простить ее… на время.
Длинная белая рука протянулась к шкапу, вынула гвозди. Затем она посадила куклу, облокотив ее спиной о стену. Затем повернулась ко мне.
— Может быть, вы хотите ее для своей внучки? Увы! Она еще не продается. Ей нужно еще выучить урок, тогда она сможет ходить с визитами.
Голос ее вдруг изменился, потерял свою дьявольскую сладость, стал полным угрозы.
— Теперь слушайте меня, доктор Лоуэлл! Что, не думали, что я знаю, кто вы? Вы тоже нуждаетесь в уроке! – ее глаза заблестели. – Вы получите свой урок! Вы дурак! Вы, претендующий на то, чтобы лечить умы, и не знающий ничего, что такое ум! Вы, считающий ум частью машины из мяса, крови, нервов и костей, считающий, что нет ничего такого, что вы не сможете измерить в своих дурацких пробирках и микроскопах, определяющий сознание как фермент, как продукт предмета клеток. Осел! Вы и ваш дикарь Рикори осмелились оскорбить меня, вмешиваясь в мои дела, окружая меня шпионами. Осмеливаетесь угрожать мне, мне – обладающей древней мудростью, рядом с которой вся ваша наука ничего не значит. Идиоты! Я знаю силы, обитающие в мозгу, заставляющие двигаться ум, знаю то, что живет вне мозга. Эти силы являются по моему зову. А вы думаете выставить против меня ваши кухонные знания! Глупцы! Вы поняли меня?
— Ты чертова ведьма, – хрипло крикнул я. – Ты – проклятая убийца! Ты сядешь на электрический стул раньше, чем твои черти помогут тебе исчезнуть в преисподней.
Она подошла ко мне, смеясь.
— Вы предадите меня закону? Но кто поверит вам? Никто. То невежество, которое вы насадили своей наукой, явится моим щитом. Темнота вашего неверия будет моей неприступной крепостью. Идите, забавляйтесь вашими машинками, глупец! Играйте с ними. Но не вмешивайтесь больше в мои дела.
Голос ее стал смертельно спокоен.
— Теперь вот что. Если вы хотите жить и хотите, чтобы жили люди, которых вы любите, уберите ваших шпионов. Рикори вы не спасете – он мой. Но никогда не лезьте в мои дела. Я не боюсь ваших шпионов, но они оскорбляют меня. Уберите их сейчас же. Если к ночи они будут на своих местах…
Она схватила меня за плечо и стала с такой силой трясти, что оно заныло. Затем толкнула меня к двери.
— Идите.
Я старался стать хозяином своей воли, поднять руки. Если бы я мог сделать это, я бы убил ее как бешеного зверя. Но я не мог пошевелить руками. Как автомат я пересек комнату до двери. Мастерица открыла ее. Я услышал странный шелестящий звук из шкапчика и с трудом повернул голову.
Кукла Уолтерс упала. Ее руки были протянуты в мою сторону, как–будто оно умоляла меня взять ее с собой. Я видел ее ладони, проткнутые гвоздями. Ее глаза глядели на меня.
— Уходите, – повторила старуха, – и помните.
Такими же связанными шагами я прошел через коридор и лавку. Девушка посмотрела на меня своими туманными испуганными глазами. И словно чья‑то мощная рука тащила меня вперед. Я не в состоянии был остановиться и быстро вышел на улицу.
Мне показалось, что позади раздался насмешливый, злой и одновременно мелодичный смех мастерицы кукол.
14. МАСТЕРИЦА КУКОЛ НАНОСИТ УДАР
В тот момент, когда я вышел на улицу, ко мне вернулась подвижность, энергия и сила. Но, повернувшись, чтобы вернуться в лавку, я в метре от двери натолкнулся на что‑то, похожее на невидимую стену. Я не мог сделать и шага, не мог даже протянуть руку, чтобы дотронуться до дверей. Как будто в этом месте воля переставала функционировать, а руки и ноги отказывались слушаться меня. Я понял, что это было так называемое постгипнотическое внушение, часть того же явления, которое держало меня в неподвижности перед мастерицей и отправило, как робота, вон из лавки.
Я увидел подходящего ко мне Мак–Кенна, и на секунду мне в голову пришла сумасшедшая идея приказать ему войти и прикончить мадам Менделип. Здравый смысл немедленно сказал мне, что мы не сможем дать правдоподобного объяснения этому буйству и попадем на тот самый электрический стул, которым я только что грозился ей.
Мак–Кенн сказал:
— Я уже начал беспокоиться, док. Хотел уже вломиться сюда.
— Пойдем, Мак–Кенн. Я хочу как можно скорее попасть домой.
Он посмотрел мне в лицо и свистнул.
— Вы выглядите так, словно выдержали битву.
— Да, Мак–Кенн. И победа пока на ее стороне.
— Вы вышли оттуда довольно спокойно. Не так, как босс, который словно сбежал из ада. Что случилось?
— Я скажу тебе позже. Дай мне успокоиться. Я хочу подумать.
На самом деле мне хотелось вернуть себе самообладание. Мой мозг, казалось, был полуслепым, как будто я попал в какую‑то исключительно неприятную паутину и, хотя и вырвался, куски ее все еще цеплялись за меня.
Несколько минут мы шли молча, потом сели в машину и поехали. Затем любопытство Мак–Кенна взяло верх.
— Что вы все‑таки думаете о ней? – спросил он меня.
К этому времени я уже пришел к определенному решению. Никогда в жизни я не испытывал такой гадливости, такой холодной ненависти, такого неудержимого желания убить, какое возбуждала во мне эта женщина. И не только потому, что пострадало мое самолюбие. Нет, я был убежден в том, что в задней комнате лавки жило чернейшее зло. Зло настолько нечеловеческое и неизвестное, словно мастерица кукол действительно явилась прямо из ада, в который верил Рикори. Не может быть компромисса с этим злом, а также с мастерицей, в которой оно концентрируется.
Я сказал:
— Мак–Кенн, во всем свете нет ничего более злого, чем эта женщина. Не позволяйте девушке снова проскользнуть сквозь ваши пальцы. Как ты думаешь, она вчера заметила, что вы выследили ее?
— Не думаю.
— Увеличьте количество людей против фасада дома и позади его. Сделайте это открыто, чтобы они думали (если, конечно, девушка не заметила, что за ней следили), что мы не подозреваем о другом выходе. Они решат, что мы верим в то, что они выходят невидимыми через переднюю и заднюю двери. Поставьте наготове две машины в начале и в конце той улицы, на которой они держат гараж. Будьте осторожны. Если появится девица, следуйте за ней…
Я остановился.
— А дальше что? – спросил Мак–Кенн.
— Я хочу, чтобы вы взяли ее, увезли, украли – как это там называется. Это должно быть сделано совершенно тихо. Я полагаюсь на вас. Сделайте это быстро и спокойно. Вы знаете, как это делается, лучше, чем я. Но не очень близко от лавки, если можно. Засуньте девице в рот кляп, свяжите ее, если нужно. Затем хорошо обыщите машину. Привезите девушку в мой дом, со всем, что у нее найдете. Понимаешь?
— Вы хотите ее допросить?
— Да. Кое о чем. И еще. Я хочу посмотреть, что может сделать старуха. Я хочу довести ее до какого‑нибудь действия, которое даст нам возможность официально наложить на нее руки. Приведем ее в границы законности. Она хочет иметь и невидимых слуг. Но я хочу пока отнять у нее всех кукол. Это поможет выявить остальных. По меньшей мере это обезвредит ее.
Мак–Кенн посмотрел на меня с любопытством.
— Она стукнула вас весьма чувствительно, док.
— Да, Мак–Кенн.
— Вы расскажете об этом боссу?
— Может да, а может – пока нет. Зависит от его состояния. А что?
— Дело в том, что если мы будет провертывать такое дельце, как похищение девицы, он должен об этом знать.
Я резко сказал:
— Мак–Кенн, я сказал тебе, что Рикори приказал безусловно повиноваться мне. Я дал тебе приказание. Всю ответственность я беру на себя.
— Ладно, – сказал он, но я видел, что он еще сомневается.
А почему бы в самом деле не рассказать все Рикори, если он хорошо себя чувствует? Другое дело – Брейл. Зная его чувства к Уолтерс (я не мог заставить себя думать о ней, как о кукле), я не мог рассказать ему о распятой Уолтерс. Ничто не удержит его тогда от нападения на мастерицу кукол.
Я не хотел этого. Но я чувствовал ничем необъяснимое желание рассказать о деталях своего визита как Рикори, так и Мак–Кенну. Я отнес это за счет нежелания показать себя в смешном виде.
Около шести мы остановились возле моего дома. Перед тем, как выйти из машины, я повторил свои распоряжения. Мак–Кенн кивнул.
Дома я нашел записку Брейла о том, что он придет после обеда. Я был рад этому. Я боялся вопросов. Рикори спал. Мне сказали, что он поправляется с неслыханной быстротой. Я пообещал зайти к нему после обеда. Потом я лег вздремнуть. Но спать я не мог. Как только я начинал дремать, передо мной возникало лицо старухи, я вздрагивал и просыпался.
В семь я встал, съел хороший сытный обед, выпил нарочно вдвое больше вина, чем обычно позволял себе, закончил все чашкой крепкого кофе. После обеда я почувствовал себя много лучше, энергичнее и самостоятельнее – или мне так показалось.
Я решил рассказать Рикори о моих распоряжениях Мак–Кенну. Историю своего визита в лавку я уже сформулировал в уме. И вдруг я с неожиданным ужасом почувствовал, что не могу передать другим то, что мне… не разрешено. И это все по приказу старухи – постгипнотическое внушение, часть того запрета, сделавшего меня бессильным, выведшего меня, как робота, из лавки и отшвырнувшего меня от двери, когда я хотел вернуться.
Во время моего короткого сна она внушила мне: «Этого и этого не должен говорить. Это и это – ты можешь».
Я не мог рассказать о кукле с иглой, проткнувшей мозжечок Джилмора. Я не мог говорить о кукле Уолтерс и ее распятии. Я не мог говорить о старухином признании в том, что она отвечает за смерти, приведшие нас к ней. Однако, осознав это, я почувствовал себя лучше. Тут, по крайней мере, было что‑то понятное – реальность, о которой я тосковал, что‑то, что объяснялось без привлечения колдовства или каких‑то других темных сил; что‑то находящееся всецело в сфере моих знаний. Я делал то же с моими пациентами и возвращал умы в нормальное состояние таким же постгипнотическим внушением. Кроме того, я мог избавиться от всех внушений этой женщины по моему собственному внушению. Но опять что‑то останавливало меня. Быть может, я боялся мадам Менделип? Я ненавидел ее – да, но не боялся. Зная ее технику, я не мог допустить такую глупость – отказаться от наблюдения за самим собой, как за лабораторным опытом. Я говорил себе, что в любой момент сниму внушение. Она не успела внушить мне всего, что хотела, так как мое внезапное пробуждение вспугнуло ее.
Боже мой, как она была права, называя меня глупым и самоуверенным ослом!!!
Когда появился Брейл, я уже был в состоянии спокойно его встретить. Едва я успел с ним поздороваться, как позвонила сиделка. Рикори просил зайти к нему.
Я сказал Брейлу:
— Это кстати. Идемте. Это избавит меня от повторения одной и той же истории.
— Какой истории?
— Моего интервью с мадам Менделип.
— Вы видели ее? – спросил он недоверчиво.
— Я провел с ней все время до обеда. Она весьма… интересная особа. Пойдемте, я расскажу об этом.
Я быстро пошел к Рикори, не отвечая на его вопросы.
Рикори сидел. Я осмотрел его. Он был еще слаб, но уже вполне здоров. Я поздравил его с удивительно быстрой поправкой.
Я прошептал ему:
— Я видел вашу ведьму и говорил с ней. Мне нужно много сказать вам. Попросите ваших телохранителей выйти.
Когда ребята и сиделка ушли, я рассказал о событиях дня, начиная с вызова Мак–Кенна к Джилморам.
Рикори с мрачным лицом выслушал рассказ о Молли.
— Брат, а теперь муж! Бедная Молли! Но теперь она будет отомщена. Да! И здорово, – сказал он.
Я рассказал свою весьма неполную версию встречи с мастерицей кукол и о своих распоряжениях Мак–Кенну. Я закончил свой рассказ следующими словами:
— Таким образом, сегодня ночью мы, наконец, сможем спать спокойно. Потому что Мак–Кенн перехватит девицу с куклами. А без нее мастерица кукол не сможет ничего сделать. Вы согласны со мной?
Рикори внимательно посмотрел на меня.
— Я согласен, доктор. Вы поступили так, как и я поступил бы на вашем месте. Но… мне кажется, что вы не сказали нам всего, что произошло между вами и ведьмой.
— То же и я думаю, – сказал Брейл.
Я встал.
— Во всяком случае, я сказал вам основное. И я смертельно устал. Я приму ванну и лягу спать. Сейчас 9.30. Девушка выходит около 11, даже позже. Я собираюсь поспать, пока Мак–Кенн не поймает ее. Если этого не случится, я буду спать всю ночь. Это конец. Отложит вопросы до утра.
Ищущий взгляд Рикори ни на минуту не оставлял меня. Он сказал:
— Почему не лечь спать здесь? Это было бы безопаснее… для вас.
Я почувствовал раздражение. Моя гордость и без того была задета тем, что старуха перехитрила меня. И предложение спрятаться за спину ребят Рикори показалось мне оскорбительным.
— Я не ребенок, – сердито возразил я. – Я могу побеспокоиться о себе сам. Я не собираюсь жить под охраной вооруженных людей.
Я остановился, сожалея о сказанном. Но Рикори не обиделся. Он кивнул и облокотился на подушку.
— Вы сказали то, что я хотел знать. Ваши дела плохи, Лоуэлл. И вы не сказали нам… главного.
— Мне очень жаль, Рикори… но…
— Не надо, – улыбнулся он, – я прекрасно понимаю. Я тоже немного психолог. И я скажу вам следующее: неважно, приведет сегодня или нет девушку Мак–Кенн. Завтра ведьма умрет, и девушка вместе с ней.
Я не ответил. Я приказал сиделке и телохранителям быть в комнате. Что бы я ни чувствовал относительно себя, я не имел права подвергать опасности Рикори. Я не сказал ему об угрозе старухи на его счет, но я не забыл ее.
Брейл проводил меня в кабинет. Он сказал извиняющимся тоном:
— Я знаю, что вы чертовски устали, Лоуэлл, и не хочу надоедать вам. Но, может быть, вы разрешите мне посидеть у вас в комнате, пока вы будете спать?
Я ответил ему с той же упрямой раздражительностью.
— Ради бога, Брейл, разве вы не слышали, что я сказал Рикори? Я вам очень обязан, но это относится и к вам.
Он ответил спокойно:
— Я останусь здесь в кабинете и не буду спать, пока Мак–Кенн не приведет девицу, или пока не рассветет. Если я услышу какой‑нибудь шум из вашей комнаты, я войду. Когда мне захочется посмотреть, все ли в порядке с вами, я войду. Не запирайте дверь, иначе я ее сломаю. Вам ясно?
Я еще более рассердился.
— Ладно, черт с вами, делайте как хотите.
Я зашел в спальню и захлопнул за собой дверь, но не запер ее. Я очень устал, в этом не было сомнения. Даже час сна был бы для меня большим подкреплением. Я решил не купаться и стал раздеваться. Я снимал рубаху, когда заметил крошечную булавочку на ней, слева против сердца. Я вывернул рубашку – на обратной стороне была приколота веревочка с узелками. Я сделал шаг к двери, открыл рот, чтобы позвать Брейла. И вдруг остановился. Я не покажу ее Брейлу. Это приведет к бесконечным вопросам, а мне хотелось спать. Лучше сжечь ее. Я нашел спички и только хотел зажечь, как услышал шаги Брейла и сунул веревочку в карманы брюк.
— Чего вам надо? – спросил я.
— Просто хотел взглянуть, легли ли вы.
Он немного приоткрыл дверь. Он, конечно, просто хотел выяснить, не запер ли я дверь.
Я ничего не сказал и продолжал раздеваться.
Моя спальня – большая комната с высоким потолком на втором этаже моего дома. Она выходит окнами в садик и является смежной с кабинетом. Два окна обвиты снаружи плющом. В комнате стоит массивный старинный канделябр с люстрой из хрустальных призм, кажется, они называются подвесками. Это длинные висюльки, расположенные на шести кругах, из середины которых поднимается стержень с подставками для свечей. Это одна из копий прелестных канделябров колониальных времен из зала Независимости в Филадельфии и, когда я купил дом, я не позволил вынести канделябр или заменить свечи лампочками.
Моя кровать стоит в конце комнаты, и когда я поворачивался на левый бок, я видел слабо освещенное окно. Тот же слабый свет, установленный призмами, превращается в маленькое мерцающее облачко. Это успокаивает, навевает сон. В саду имеется старое грушевое дерево – остатки сада. Канделябр стоит в ногах кровати. Выключатель находится в головах ее. Сбоку стоит старинный камин, отделанный по бокам мрамором, с широкой полкой сверху. Чтобы хорошо понять, что потом произошло, нужно иметь в виду это расположение.
К тому времени, как я разделся, Брейл, видимо, уверившись в моей честности, закрыл дверь и ушел в кабинет. Я взял веревочку, «лестницу ведьмы», и бросил на стол. Я думал, что в этом был какой‑то вызов, хвастовство. Если бы я не был так уверен в Мак–Кенне, я сжег бы веревочку. Я выпил снотворное, потушил свет и лег. Снотворное быстро подействовало. Я все глубже погружался в море сна…
Я проснулся. Огляделся. Что за странное место? Я стоял в мелкой круглой яме, оконтуренной зеленью. Край ямы достигал моих колен. Яма была центром круглого ровного луга, примерно в четверть мили диаметром. Он был покрыт травой, странной травой с пурпурными цветами. Вокруг травянистого круга росли незнакомые деревья: деревья с изумрудно–зеленой листвой и ярко–красные деревья с опущенными ветвями, покрытыми папоротниковидными листьями и обвитыми тонкими лозами, похожими на змей.
Деревья окружали луг, как сторожа… наблюдали за мной, ожидали моего движения… Нет, не деревья! Кто‑то прятался среди деревьев… Какие‑то злые созданья… злобные существа. Это они наблюдали за мной, ожидая, пока я двинусь. Но как я попал сюда?
Я был одет в голубую пижаму, в которой я лег спать в своем доме.
Как я попал сюда? Я, видимо, не спал… Теперь я видел, что из ямы вели три тропинки. Они выходили на край и протягивались, каждая в своем направлении, в сторону леса. Я чувствовал, что для меня жизненно важно выбрать одну из этих тропинок, единственную, которая пересечет местность безопасно… что две другие отдадут меня во власть этих злобных существ. Яма начинала сжиматься. Я чувствовал, как ее дно поднимается под моими ногами – оно как бы выбрасывало меня наружу.
Я прыгнул на тропинку вправо и побежал в сторону леса. Ее окаймляли деревья и она исчезла в туманной зеленоватой дали. Я бежал по лесу, а невидимые существа собирались на деревьях, окаймляющих тропинку, толпились на ее краях, безмолвно сбегались со всего леса. Что они собой представляют, что они могли мне сделать, я не знал. Я знал только, то никакая агония не могла сравниться с тем, что я испытаю, если они поймают меня. Я все бежал и бежал, и каждый шаг был кошмаром. Я чувствовал, что руки протягиваются, чтобы схватить меня, слышал топот… Весь потный, дрожащий, я вырвался из леса и помчался по обширной равнине, протягивающейся из дальнего горизонта. Равнина была покрыта коричневой высокой травой.
Неважно. Это было лучше, чем полный привидений лес. Я чувствовал на себе мириады злых глаз. Небо было туманно–зеленое. Высоко вверху засветились два туманных круга… черные солнца… это были глаза… глаза мастерицы кукол! Это они смотрели на меня с туманного зеленого неба. Над горизонтом этого странного мира начали подниматься две гигантские руки. Они тянулись ко мне, чтобы поймать меня, швырнуть обратно в лес… белые руки с длинными пальцами… и каждый палец живое существо. Руки мастерицы кукол! Все ближе спускались глаза, все ближе тянулись руки. С неба послышался взрыв смеха. Смеха мастерицы кукол! Этот смех еще звучал в моих ушах, когда я проснулся – или мне показалось, что я проснулся.
Я сидел, выпрямившись на постели в своей комнате. Сердце билось так, что все тело вздрагивало, липкий пот покрывал тело. Подвески канделябра слабо светились, создавая впечатление небесной туманности. Окна тоже слабо светились. Было очень тихо.
Что‑то зашевелилось на окне. Я хотел подойти, но почувствовал, что не могу двигаться. В комнате появился слабый зеленый свет. Сначала он был похож на едва мерцающую флюоресценцию гнилого пня. Он то угасал, то разгорался, но все время усиливался. Комната осветилась. Канделябр сиял, как россыпь изумрудов. На подоконнике появилось маленькое лицо. Лицо куклы! Сердце мое подпрыгнуло и остановилось в отчаянии. Я подумал: «Мак–Кенн подвел. Это конец».
Кукла смотрела на меня с усмешкой. Лицо, гладко выбритое, принадлежало человеку лет сорока. Нос длинный, большой рот с тонкими губами. Глаза глубоко посажены, лохматые брови. Глаза сверкали, красные, как рубины.
Кукла влезла на подоконник. Она соскользнула головой вперед в комнату, стояла минуту на голове, болтая в воздухе ногами, затем ловко сделала в воздухе двойное сальто, стала на ноги и, уперев руки в бока, посмотрела мне прямо в глаза, как будто ожидая аплодисментов. На ней были рейтузы и жакет циркового акробата. Она поклонилась мне. Затем показала рукой на окно.
Там появилось другое маленькое лицо. Оно было важное, холодное – лицо человека лет 60 с меланхолическими бакенбардами. Он смотрел на меня с таким выражением, с каким банкир смотрит на неведомого ему человека, который пришел получать заем. Мысль показалась мне забавной. И вдруг я испугался.
Кукла банкира. Кукла акробата. Куклы тех двух, умерших от неизвестных болезней!
Кукла–банкир с достоинством спустилась с подоконника. Она была в вечернем костюме, во фраке и накрахмаленной манишке. Банкир остановился и с достоинством поднял руку к окну.
Там стояла третья кукла – женщина такого же возраста, как и банкир, в приличном вечернем туалете. Старая дева! Это она спрыгнула на пол.
На окно взобралась четвертая кукла, в темном блестящем трико. Она спрыгнула с окна и стала рядом с акробатом. Она посмотрела на меня, усмехаясь, и поклонилась.
Четыре куклы начали маршировать в мою сторону. Впереди акробат, затем важно и неторопливо банкир под руку со старой девой. Гротескные, фантастические, но вовсе не смешные. Боже мой, нет! А если и было что‑то смешное, то такого характера, что над ним мог смеяться только дьявол.
Я подумал с отчаянием: «Брейл рядом, по другую сторону двери. Если бы я мог произвести хоть какой‑нибудь звук!»
Четыре куклы остановились, как бы для консультации. Акробаты сделали легкие пируэты, доставая из‑за шеи длинные иглы–кинжалы. В руках других кукол появились такие же иглы. Красные глаза второго акробата–гимнаста (я узнал его) остановились на канделябре. Он остановился, изучая его, сунул иглу–кинжал обратно в «ножны», позади шеи. Потом опустился на колени, сложив ладошки чашечкой. Первая кукла кивнула, затем откинула голову назад, явно измеряя высоту канделябра от пола. Потом указала на полку камина и они полезли туда. Пожилая пара с интересом наблюдала за ними. Гимнаст поставил маленькую ногу на сложенные чашечкой руки акробата, тот выпрямился; гимнаст пролетел через пустоту между полкой камина и канделябром, ухватился за один из кругов, увешанных подвесками, и закачался. Сейчас же другая кукла прыгнула, поймала круг и закачалась с первой.
Старый тяжелый круг закачался и задрожал. Призмочки–подвески посыпались на пол. В мертвой тишине это напоминало взрыв.
Я услышал, как Брейл подбежал к двери, распахнул ее и остановился на пороге. Я хорошо видел его в зеленом свете, но знал, что для него комната погружена во мрак.
Он закричал:
— Лоуэлл, что с вами? Зажгите свет!
Я попытался ответить, предупредить его. Напрасные усилия!
Он бросился к выключателю и в этот момент увидел кукол. Он остановился как раз позади канделябра, глядя вверх. И в этот момент кукла, висящая над ним, повисла на одной руке, вытащила иглу–кинжал и прыгнула на плечо Брейла, бешено ударяя иглой в его горло. Брейл вскрикнул – всего один раз. Крик перешел в ужасный хлюпающий звук…
И тут я увидел, как канделябр закачался и упал со своего старинного фундамента. Упал прямо на Брейла, и куклу, все еще бьющую иглой в его горло. Неожиданно зеленый свет исчез. По полу раздались мелкие быстрые шаги, как будто бежала большая крыса.
Мой паралич прошел. Я повернул выключатель и вскочил на ноги. Маленькие фигурки лезли на окно – четыре проворных легких человечка спешили убежать.
Я увидел в дверях Рикори. По бокам его стояли телохранители, с автоматическими пистолетами и стреляли в окно. Я нагнулся над Брейлом. Он был мертв. Упавший канделябр разбил ему череп. Но… Брейл умер до того, как упал канделябр. Его горло было проткнуто, артерия порвана. Кукла, убившая его, исчезла!
15. ВОЗНИЦА СМЕРТИ
Я выпрямился и сказал с горечью:
— Вы были правы, Рикори, ее слуги лучше наших.
Он не ответил, глядя на Брейла полными жалости глазами.
— Если все ваши люди исполняют свои обязанности так же, как Мак–Кенн, я считаю чудом, что вы до сих пор живы.
— Что касается Мак–Кенна, – он печально глянул на меня, – он умен и предан. Я не стал бы обвинять его, не выслушав. И если бы вы, доктор, были откровеннее с нами вечером, Брейл был бы жив.
Я съежился, в этом было слишком много правды. Я весь дрожал от сожаления, горя в бессильной ярости. Я не должен был этой проклятой гордости давать руководить мною. Если бы я сказал им все, что я испытал и видел в лавке, объяснил бы все детали, попросил бы Брейла снять с меня постгипнотическое внушение, если бы принял предложение Рикори охранять меня, ничего бы не случилось.
В кабинет собрались люди, привлеченные шумом падения канделябра.
Я спокойно сказал сиделке:
— Когда доктор Брейл стоял у моей кровати, упал канделябр и убил его. Работникам госпиталя скажите, что Брейл тяжело ранен и будет отправлен в большой госпиталь. Затем вернитесь с санитаром и вытрите кровь. Канделябр не трогайте.
— Что вы видели, когда стреляли? – обратился я к людям, когда все ушли.
Один сказал:
— Мне показалось, какие‑то обезьяны.
— Или карлики, – добавил второй.
По лицу Рикори я понял, что он видел.
По моей просьбе люди Рикори отнесли Брейла в соседнюю комнату и положили на койку. Его лицо и руки были порезаны стеклами, и случайно одна такая рана замаскировала то место, в которое была воткнута игла куклы. Рана была глубока, и, возможно, вызвала вторичный разрыв артерии.
Я последовал за Рикори в маленькую комнату. Люди положили тело на койку и вернулись в спальню.
— Что вы намерены делать, доктор? – обратился ко мне Рикори.
Мне хотелось просто заплакать, но я ответил:
— Этой случай для следователей. Я должен тотчас же заявить в полицию.
— Что же вы скажете?
— Вы видели кукол?
— Да.
— И я. Но куклам не поверят. Я скажу, что упал канделябр и стекло проткнуло ему горло. И этому охотно поверят…
И тут самообладание покинуло меня, и впервые за много лет я заплакал.
— Рикори, вы были правы, не Мак–Кенн виноват в этом, а я – старческое тщеславие… если бы я рассказал вам все полностью, Брейл был бы жив. Но я этого не сделал… Я убил его.
Рикори утешал меня, спокойно, как женщина.
— Это не ваша вина. Вы и не могли поступить иначе, будучи самим собой, имея взгляды, которых вы придерживались всю жизнь. Вашим вполне естественным неверием она и воспользовалась… Но теперь она ничем не воспользуется. Чаша переполнилась.
Он положил руку мне на плечо.
— Не говорите ничего полиции, пока мы не получим вестей от Мак–Кенна. Сейчас около четырех. Он должен позвонить.
— Что вы хотите делать, Рикори?
— Я убью ведьму, – спокойно сказал он. – Убью ее и девушку. До утра. Я слишком долго ждал. Она больше не будет убивать.
Я почувствовал слабость и опустился на стул. Рикори дал мне стакан с водой, и я жадно выпил.
Сквозь шум в ушах я услышал стук в дверь и голос одного из ребят Рикори.
— Мак–Кенн здесь, босс.
— Пусть войдет.
Дверь отворилась, на пороге стоял Мак–Кенн.
— Я захватил ее.
Он замолчал, глядя на нас. Глаза его остановились на покрытом простыней теле. Лицо его помрачнело.
— Что случилось?
— Куклы убили Брейла, – глухо ответил Рикори. – Ты слишком поздно захватил ее. Почему?
— Убили Брейла! Боже мой!
Голос его звучал так, словно ему сжали горло.
— Где девушка?
— Внизу в машине, с кляпом во рту.
— Сядь, Мак–Кенн, в случившемся виноват больше я, чем ты, – сказал я.
— Разрешите мне судить об этом – ответил Рикори сдержанно. – Мак–Кенн, ты блокировал улицу, как велел доктор?
— Да, босс.
— Тогда начни свой рассказ с этого момента.
Мак–Кенн начал:
— Она вышла на улицу около 11. Я стоял на восточном конце. Поль – на западном. Я сказал Тони: «Ну, девочка попала в мешок». Она несла два чемодана. Осмотрелась и пошла к тому месту, где стояла ее машина. Она выехала и направилась в сторону Поля. Я предупредил Поля, чтобы он не хватал ее близко от лавки.
Поль последовал за ней. Я бросился за ним. Она повернула на Бродвей. Там была пробка, и Поль столкнулся с неудачно подвернувшимся «фордом». Когда мы выбрались из каши, девка исчезла. Я позвонил Рэду и сказал, чтобы он хватал девку, как только она появится, даже если ее придется схватить на пороге кукольной лавки.
Нам повезло. Она не сопротивлялась, но мы все‑таки связали ее и сунули в рот кляп. В машине было два пустых чемодана. Девка здесь.
— Давно это было? – спросил я.
– 10–15 минут назад.
Я посмотрел на Рикори.
— Мак–Кенн наткнулся на девку, как раз тогда, когда умер Брейл.
Рикори кивнул.
— Что с ней делать? – спросил Мак–Кенн.
Он смотрел на Рикори, не на меня.
Рикори молча сжал левую руку, резко раскрыл ее, расставив пальцы.
— Ладно, босс, – сказал Мак–Кенн и пошел к выходу.
— Подождите, – сказал я и стал спиной к двери. – Слушайте, Рикори, Брейл был так же дорог мне, как вам Питерс. Но какова бы ни была вина мадам Менделип, эта девушка лишь слепое оружие. Ее воля абсолютно подчинена мастерице кукол. Я подозреваю, что большую часть времени она находится под гипнозом. Не могу забыть, что она пыталась спасти Уолтерс. Не хочу, чтобы ее убили.
— Если вы правы, ее тем более надо как можно скорее уничтожить, – сказал Рикори, – тогда ведьма не сможет ее использовать.
— Я не позволю этого, Рикори. И есть на то причина. Я должен задать ей ряд вопросов. Это позволит мне узнать, как мадам Менделип делает эти вещи… тайну кукол, мази… есть ли еще люди, обладающие ее знаниями. Если девушка знает это, я могу заставить ее рассказать.
— Как? – недоверчиво спросил Мак–Кенн.
Я ответил угрюмо: «Применяя ту же ловушку, в которую старуха поймала меня».
Минуту Рикори серьезно думал.
— Доктор Лоуэлл, – сказал он, – последний раз я уступаю вам в этом деле. Я считаю, что вы неправы, и что каждая минута жизни этой девушки – угроза для нас всех. Тем не менее, я вам уступаю… в последний раз.
— Мак–Кенн, – сказал я, – приведи девушку в мой кабинет.
Я пошел вниз. Мак–Кенн и Рикори шли следом за мной. Там никого не было.
Я поставил на стол зеркало Льюиса, употребляемое для гипноза в госпитале. Оно состояло из двух параллельных рядов маленьких рефлекторов, вращающихся в разных направлениях. Луч света освещает их таким образом, что их поверхности то вспыхивают, то темнеют. Этот аппарат должен был подействовать на девушку, чувствительную к гипнозу. Я поставил удобный стул под нужным углом и притушил свет так, чтобы он не мешал.
Едва я кончил приготовления, как привели девушку. Ее посадили на стул и вынули кляп.
Рикори сказал:
— Тонни, пойди к машине. Мак–Кенн, останься здесь.
16. КОНЕЦ КОЛДУНЬИНОЙ ДЕВУШКИ
Девушка уже не сопротивлялась. Она, казалось, ушла в себя и глядела на меня своим обычным туманным взглядом.
Я взял ее за руки. Они были безжизненны, холодны. Я сказал ей ласково.
— Дитя мое, никто здесь не причинит тебе вреда. Отдохни и успокойся. Засни, если хочешь, засни.
Она продолжала бессмысленно смотреть на меня. Я отпустил ее руки, сел напротив нее и включил аппарат. Она взглянула на зеркала и больше не отрывалась от них, как завороженная. Напряжение ее тела ослабло, она облокотилась на спинку стула. Ресницы ее начал опускаться.
— Спи, – сказал я мягко. – Здесь никто не тронет тебя. Спи… спи…
Глаза ее закрылись, она вздохнула. Я сказал:
— Ты спишь. Ты не проснешься, пока я не разбужу тебя.
Она повторила последнюю фразу тихим, совсем детским голосом.
Я остановил вращение зеркал и сказал:
— Я задам тебе несколько вопросов. Ты ответишь правду. Ты не сможешь солгать. Ты это знаешь.
Она повторила про себя:
— Я не могу солгать. Я это знаю.
Я не мог бросить победного взгляда на Рикори и Мак–Кенна. Рикори крестился, глядя на меня широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Я знал, что он думает, что я тоже знаю какое‑то колдовство. Мак–Кенн сидел, нервно перебирал пальцами и смотрел на девушку.
Я начал спрашивать, стараясь выбирать вопросы, которые не взволновали бы ее.
— Ты действительно племянница мадам Менделип?
— Нет.
— Кто ты?
— Я не знаю.
— Когда ты стала жить с ней и почему?
– 30 лет назад она взяла меня из приюта в Вене. Я – сирота, подкидыш. Она научила меня называть ее тетей.
— Где вы жили после этого?
— В Берлине, Лондоне, Праге, Варшаве, Париже.
— И везде она делала кукол?
Девушка не ответила, она содрогнулась, ее ресницы начали дрожать.
— Спи. Ты не можешь проснуться, пока я не разбужу тебя. Отвечай на вопрос.
— Да.
— И они убивали во всех этих городах?
— Да.
— Успокойся. Спи, никто тебя не обидит.
Ее волнение снова усилилось, и я сменил тему.
— Где родилась мадам Менделип?
— Не знаю.
— Сколько ей лет?
— Не знаю. Когда я спрашивала, она смеялась и говорила, что время для нее ничего не значит. Мне было пять лет, когда она взяла меня. Она и тогда выглядела так же, как и сейчас.
— Есть ли у нее сообщники… я подразумеваю – еще мастера кукол?
— Один. Она научила его. Он был ее любовником в Праге.
— Ее любовником? – воскликнул я недоверчиво.
Перед моими глазами встало ее огромное жирное тело, большой бюст, тяжелое лошадиное лицо.
Девушка сказала:
— Я знаю, о чем вы думаете. Но она имеет другое тело. Она носит его, когда хочет, красивое тело. Ему‑то и принадлежат ее глаза, руки, голос. Когда она одевает это тело, она ужасающе прекрасна. Я видела ее такой много раз.
Другое тело! Иллюзия, конечно… Как комната, описанная Уолтерс, которую и я видел один момент, выбиваясь из паутины гипноза, которой она меня оплела. Картина, нарисованная ее мозгом, в мозгу этой девушки. Я откинул это и принялся за основное.
— Она убивает мазью и куклами, не так ли?
— Да.
— Сколько она убила мазью в Нью–Йорке?
Она ответила не прямо.
— Она сделала 14 кукол с тех пор, как мы здесь.
Значит, я знал не о всех случаях.
— А сколько убили куклы?
— Двадцать.
Я услышал, как выругался Рикори, и бросил на него предостерегающий взгляд. Он наклонился вперед, бледный и напряженный. Мак–Кенн сидел тихо.
— Как она делает кукол?
— Не знаю.
— А мазь?
— Она ее делает тайно.
— А что оживляет кукол?
— Делает их живыми?
— Да.
— Что‑то от мертвых.
Рикори снова тихо выругался.
— Если ты не знаешь, как делаются куклы, то что делает их живыми? Что это?
Она молчала.
— Ты должна отвечать мне. Ты должны слушать меня. Говори.
Она сказала:
— Ваши вопросы не ясны. Я сказала, что‑то от мертвых делает их живыми. Что вы еще хотите знать?
— Начни с того, как люди позируют для куклы, когда впервые приходят к мадам Менделип, и кончи последним шагом, когда кукла оживает.
Она заговорила медленно.
— Она говорит, к ней должны придти по собственному желанию. Человек должен без всякого принуждения согласиться, чтобы из него сделали куклу. То, что он не знает, на что идет, ничего не значит. Она должна немедленно начать первую модель. Она говорит, что мазь освободит жителя мозга, он придет к ней и войдет в куклу. Она говорит, что это не единственный житель мозга, но до других ей дела нет. И она выбирает не всех, кто к ней приходит. Я не знаю, по какому признаку она их выбирает. Она кончает куклу – вторую – и тот, кто позировал, умирает. А кукла оживает. Она слушается ее, они все слушаются ее… – Она замолчала, затем сказала, как бы раздумывая:
— Все, кроме одной.
— Кого же?
— Вашей сиделки. Она не слушается. Моя тетя мучает ее, наказывает, но не может подчинить ее себе. Прошлую ночь я привезла маленькую сиделку с другими куклами – убить человека, которого прокляла моя… тетя. Она дралась с другой куклой и спасла человека. Это что‑то, чего моя тетя не может понять. Это смущает ее… и это дает мне… надежду…
Ее голос заглох. Затем она внезапно сказала громко и твердо:
— Вы должны спешить. Мне нужно вернуться за куклами. Скоро она начнет искать меня. Я должна идти… или она придет за мной сюда… и убьет меня.
— Ты привезла кукол, чтобы убить меня?
— Конечно.
— А где куклы сейчас?
— Ваши люди сейчас схватили меня, т. е. раньше, чем они появились. Они идут ко мне. Они быстро ходят, если надо. Без меня им труднее, но они вернутся домой.
— Зачем куклы убивают?
— Чтобы доставить… удовольствие ей.
— Я не знаю, что она говорит, – начала она, и вдруг с отчаянием, как испуганное дитя, она прошептала: – Она ищет меня! Ее глаза смотрят на меня, ее руки ищут… Она видит меня! О, спрячьте скорее!
— Спи крепче, – сказал я. – Глубже, глубже засни. Теперь она не может найти тебя. Ты спрятана.
— Я сплю крепко, – прошептала она. – Она потеряла меня. Но она ищет, все ищет меня.
Рикори и Мак–Кенн вскочили.
— Вы верите, что ведьма ищет ее?
— Нет, – ответил я, – но это вполне возможно. Девушка была во власти этой женщины так долго и так полно, что ее реакция стала естественна. Это может быть результатом внушения или ее собственного подсознательного мышления. Она нарушила распоряжение и боится наказания, если…
Девушка закричала в агонии страха:
— Они тянутся ко мне! Она нашла меня!
— Спи, спи крепче! Она не может повредить тебе! Она опять потеряла тебя!
Она не ответила, но где‑то в ее горле слышался слабый стон.
— Иисус! – сказал хрипло Мак–Кенн, помогите же ей!
Глаза Рикори неестественно ярки, они блестят на побледневшем лице.
— Пусть умрет! Это избавит нас от лишних тревог.
Я сказал девушке строго:
— Слушай меня и подчиняйся. Я буду считать до пяти. Когда досчитаю до пяти, проснись! Проснись сразу же! Ты должны проснуться так быстро, чтобы она не успела схватить тебя!
Я стал медленно считать. Я боялся, что быстрое пробуждение может вредно подействовать на ее больной мозг.
Раз… два… три…
Девушка вскрикнула, а затем…
— Она поймала меня! Ее руки сжимают мне сердце! А–а-а!
Ее тело поникло, по нему пробежали спазмы, затем оно обмякло и соскользнуло со стула. Глаза остекленели, челюсть отвисла…
Я расстегнул платье, послушал сердце. Оно не работало.
И затем вдруг из ее мертвого горла послышался голос, похожий на орган, прекрасный, полный угрозы и недовольства…
— Вы глупцы…
Голос мадам Менделип…
17. ВЕДЬМА, СГОРИ!
Странно, но Рикори был наиболее спокоен из всех нас. Я дрожал. Мак–Кенн, хотя и не слышал никакого голоса мастерицы кукол, был поражен. Наконец Рикори сказал:
— Вы уверены, что она умерла?
— К сожалению, да.
Рикори кивнул Мак–Кенну.
— Отнеси ее обратно в машину.
— Что вы хотите делать, Рикори?
Он ответил:
— Убить ведьму, – и добавил иронически. – В смерти они не должны быть разделены. И в аду они тоже будут гореть вместе!
Он внимательно посмотрел на меня.
— Вы не одобряете этого, доктор?
— Рикори, я не знаю. Сегодня я мог бы убить ее собственноручно… но сейчас ярость прошла. То, что вы хотите сделать, против всех инстинктов, привычек, идеалов, понятия о справедливости, наказании. Это для меня просто убийство.
— Вы слышали девушку. 20 человек только в этом городе убито куклами и 14 превращены в кукол. 14 человек умерли, как Питерс.
— Но, Рикори, ни один суд не примет показаний под гипнозом, как действительные. Это может быть правда, может – нет. Девушка была ненормальной. Все, что она говорила, могло быть плодом ее больного воображения.
Он ответил:
— Нет, ни один земной суд не признает.
И сжал мое плечо.
— А вы верите?
Я не мог ответить, так как в глубине души верил, что это правда.
— То‑то, – сказал Рикори. – Вы ответили мне, доктор. Вы знаете так же, как и я, что девушка не лгала. И знаете, что закон не может наказать ведьму. И убив ее, я не буду убийцей! Нет, я буду орудием мщения.
Мне нечего было ответить.
Мак–Кенн вышел со своей легкой ношей.
Рикори сказал:
— Доктор, вы должны поехать со мной и быть свидетелем расправы.
Меня передернуло.
— Рикори, я не могу. Я измучен телом и душой. Я слишком много перенес сегодня.
— Вы должны поехать, – перебил он меня, – даже если нам придется связать вас. Если вы останетесь, ваши научные знания могут победить, и вы помешаете мне совершить то, что я поклялся сделать Иисусом Христом, его Святой матерью и всеми святыми. Вы можете поддаться слабости и передать все дело полиции. Я не могу рисковать. Я уважаю вас, доктор, больше того, я привязан к вам. Но, повторяю вам, что если бы моя собственная мать постаралась остановить меня сегодня, я оттолкнул бы ее в сторону так же грубо, как сейчас вас.
— Я поеду с вами, Рикори.
— Тогда прикажите сиделке подать мою одежду. Пока все не будет кончено, мы будем вместе.
Я снял трубку телефона и отдал соответствующие указания.
Вернулся Мак–Кенн. Рикори спросил:
— Кто сейчас в машине?
— Ларсен и Картелло.
— Хорошо. Мы едем к ведьме. Возможно, она знает это, благодаря мертвым ушам девушки. Неважно. Будем считать, что она ничего не знает. Дверь лавки запирается на задвижку?
— Я не был в лавке, босс, – сказал Мак–Кенн. – Я не знаю, но есть стеклянная панель в двери. Если есть задвижка, мы сможем открыть ее. Тони захватит инструменты, пока вы одеваетесь.
— Доктор, – Рикори повернулся ко мне, – можете вы дать слово, что не перемените решения ехать с нами и не будете делать никаких попыток помешать мне?
— Я даю слово, Рикори.
— Мак–Кенн, можешь не возвращаться. Жди нас в машине.
Рикори оделся. Когда мы вышли, часы пробили час ночи. Я вспомнил, что все это началось неделю назад в этот же час…
Я ехал на заднем сиденьи вместе с Рикори. Между нами была мертвая девушка. Против нас сидели Ларсен и Картелло, первый – крупный швед, второй – маленький итальянец. Человек по имени Тони вел машину, рядом с ним сидел Мак–Кенн.
Через 20 минут мы были в нижней части Бродвея. Небо было покрыто тяжелыми тучами, с моря дул холодный ветер. Я задрожал, но не от холода.
Мы медленно подъехали к углу улицы, где была лавка. Улицы были мертвы, ни души не было кругом.
Рикори приказал Тони:
— Остановись против лавки. Мы войдем. Поезжай за угол и жди нас там.
Мое сердце тяжело билось. Ночь была так темна, что, казалось, поглощала свет фонарей. В лавке не было света, вход был погружен в глубокую темень. Выл ветер. Я подумал, смогу ли я перейти через порог, или запрет мастерицы кукол до сих пор имеет надо мной власть.
Мак–Кенн вышел из машины, неся в руках тело девушки. Он прислонил его к стене в тени у входа. Рикори, я, Ларсен и Картелло последовали за ним. Машина отъехала, и снова меня охватило чувство нереальности и кошмара, которое я ощущал с тех пор, как мои пути пересеклись со странной тропой мастерицы кукол…
Картелло обклеил дверь каким‑то резиноподобным веществом. В центре ее он прикрепил маленькую вакуумную резиновую чашечку. Потом он вынул из кармана инструмент и вырезал им круг в стекле сантиметров 30 в диаметре. Держа в руке вакуумную чашечку, он слегка постучал по стеклу резиновым молоточком. Стеклянный круг оказался в его руке.
Все было сделано абсолютно бесшумно. Он опустил руку в отверстие и повозился несколько секунд. Дверь бесшумно открылась. Мак–Кенн внес мертвую девушку. Молча, как призраки, вошли мы в кукольную лавку. Картелло быстро вставил стеклянный круг на место. Я мог смутно видеть дверь, открывшуюся в коридор, ведущий в ужасную комнату.
Картелло повозился с дверью несколько секунд и открыл ее. Рикори вошел первый, за ним Мак–Кенн, с девушкой в руках. Мы прошли как тени по коридору и остановились у последней двери. Она открылась раньше, чем мы успели дотронуться до нее. Мы услышали голос мастерицы кукол.
— Войдите, джентльмены. С вашей стороны было очень любезно привезти ко мне мою дорогую племянницу. Я бы встретила вас у входа, но ведь я только старая испуганная женщина!
Мак–Кенн прошептал:
— Отойдите, босс! – Он держал тело девушки на левой руке, как щит, а правой направил револьвер на старуху.
Рикори слегка отодвинул его. Держа наготове автомат, он переступил порог. Я последовал за Мак–Кенном, двое остальных вошли за мной.
Я быстро оглядел комнату. Мастерица сидела за столом и шила. Она была спокойна, совершенно спокойна. Ее белые пальцы как бы танцевали в ритм стежкам. Она даже не взглянула на нас.
От камина шел жар. В комнате было очень тепло, и она была полна каким‑то сильным приятным ароматом, незнакомым мне. Я взглянул на шкапчик с куклами. Он был открыт. Куклы стоял ряд за рядом, глядя на нас зелеными, голубыми, серыми, черными глазами, и вид у них был такой живой, как будто это были карлики на какой‑то шутовской выставке. Их было много, сотни.
Одни были одеты так, как одеваемся мы в Америке, другие – как немцы, испанцы, французы, англичане, многие были в костюмах, неизвестных мне национальностей. Балерина, кузнец с поднятым молотком, французский солдат, немецкий студент со шпагой в руке и шрамом на лице, апаш с ножом в руке и сумасшедший, с желтым лицом кокаиниста, рядом с ним женщина, с порочным ртом уличной девки, жокей… достаточно для одной мастерицы!
Куклы, казалось, были готовы броситься прямо на нас.
Я старался успокоиться, привести в порядок свои мысли, чтобы выдержать их взгляды, убедить себя, что это только безжизненные куклы. Я заметил пустой шкапчик… еще один… и еще… шесть шкапчиков без кукол. Не было тех четырех марширующих ко мне кукол, которых я наблюдал, лежа в параличе, освещенный зеленым светом. И не было Уолтерс… Я отвел взгляд от наблюдавших за мной кукол.
Старуха все еще спокойно шила, как будто она была одна, не видела нас и пистолеты, направленные в ее грудь. Она шила тихо и напевала. На столе перед ней лежала кукла Уолтерс. Ее ручки были связаны в запястьях веревочкой с узелками из пепельных волос. Они были обрезаны много раз и к ним была привязана игла–кинжал!
Описывать это долго, но для того, чтобы увидеть все это, нам понадобилось несколько долей секунды. Занятие мастерицы кукол, ее полное безразличие к нам, тишина, создали как бы экран между нами и ею, этот барьер становился все плотнее. Острый приятный запах все усиливался.
Мак–Кенн уронил тело девушки на пол. Он пытался что‑то сказать, но это удалось ему только с третьей попытки. Он сказал Рикори хриплым, странным голосом:
— Убейте ее… или я сам.
Рикори не двигался. Он стоял, застывший, с автоматом, направленным в сердце старухи. Глаза его не отрывались от ее танцующих рук. Казалось, он не слушал Мак–Кенна или не обращал на него внимания… а она продолжала петь… ее пение напоминало пчел… было необычайно приятным… оно собирало сон… как пчелы собирают мед… сон…
Рикори прыгнул вперед и ударил автоматом по руке старухи. Рука упала, пальцы начали извиваться, ужасно было видеть, как длинные белые пальцы дрожали и извивались как змеи с перебитыми спинами… Рикори поднял автомат для второго удара.
Прежде, чем он смог это сделать, она вскочила на ноги, перевернув стол. По комнате пронесся какой‑то шепот, и куклы, казалось, наклонились вперед. Глаза мастерицы кукол глядели на нас. Они были как горящие черные солнца, в которых плясали языки красного пламени.
Ее воля охватывала нас и подчиняла. Она была ощутима, как волна. Я чувствовал, как она бьется об меня, словно что‑то материальное. Какое‑то бессилие охватило меня. Я знал, что она охватывает всех моих товарищей. Рука Рикори, сжимавшая автомат, разжалась и побелела… Еще раз мастерица кукол одолела нас.
Я прошептал:
— Не смотрите на нее, Рикори… Не смотрите ей в глаза!
С огромным усилием я отвел глаза от ее огромных горящих черных глаз. Я взглянул на куклу Уолтерс. С огромным трудом я двинулся к ней, не знаю, почему, но я сделал попытку схватить ее. Но старуха опередила меня и, схватив здоровой рукой, прижала ее к груди.
Она закричала, и вибрирующая мелодия ее голоса действовала на каждый нерв, увеличивая охватившую нас летаргию.
— Не смотреть на меня?! Глупцы! Вы не можете делать ничего другого!
И тут начался тот странный эпизод, который был началом конца.
Аромат, которым наполнилась комната, казалось, пульсировал, становился все сильнее. Что‑то похожее на блестящий туман клубилось в воздухе и покрывало мастерицу кукол, пряча от нас лошадиное лицо и уродливое тело. Только глаза блестели сквозь туман… Туман внезапно рассеялся. Перед нами стояла женщина захватывающей дух красоты – высокая, тонкая, изящная. Совершенно нагая. Черные шелковистые волосы покрывали ее, спускались до колен. Сквозь них сияло золотистое тело. Только глаза, руки да кукла, прижатая к одной из высоких округлых грудей, говорили о том, кто она…
Автомат выпал из рук Рикори. Оружие остальных тоже упало на пол. Я знал, что они стоят не в силах двигаться, как и я, ошеломленные этим невероятным превращением и совершенно беспомощные во власти страшной силы, изливающейся из этой женщины. Она показала на Рикори и засмеялась.
— Ты хотел убить меня! Подними оружие, Рикори, попробуй!
Тело Рикори качнулось медленно… медленно… медленно. Я видел его плохо, сбоку, так как не мог отвести глаз от женщины.
И я знал, что он тоже смотрит на нее, не отрываясь, пока наклоняется. Я скорее почувствовал, чем увидел, что он дотронулся до оружия, попытался поднять его. Я услышал, как он застонал. Мастерица снова засмеялась.
— Довольно, Рикори. Ты не можешь сделать этого.
Тело Рикори внезапно выпрямилось, как будто кто‑то подхватил его под подбородок и поставил на ноги. Позади меня послышался шорох и топот маленьких ног. У ног женщины появились четыре маленьких фигурки: те четверо, что маршировали ко мне в зеленом свете, банкир, старая дева, акробат, гимнаст. Они стали перед ней, глядя на нас. В руках каждого появилась игла, направленная в нашу сторону, как маленькая рапира.
И еще раз смех женщины наполнил комнату. Она сказала ласково:
— Нет, нет, мои миленькие, я не нуждаюсь в вас.
Она показала на меня.
— Вы знаете, что мое тело не более, чем иллюзия, не так ли? Говорите.
— Да.
— А эти, у моих ног, мои миленькие, тоже только иллюзия?
— Не знаю.
— Вы знаете слишком мало и знаете слишком много. Поэтому вы должны умереть, мой слишком мудрый и слишком глупый доктор.
Большие глаза ее смотрели на меня с ироническим сожалением, прелестное лицо стало угрожающим.
— Рикори должен умереть, он тоже слишком много знает. И вы, остальные умрете. Но не от рук моего маленького народа. Не здесь. Нет. У себя дома, мой славный доктор. Вы уйдете отсюда тихо, не разговаривая друг с другом, ни с посторонними по пути домой. А дома… Вы возненавидите друг друга, станете убивать друг друга, как бешеные волки, как…
Она отступила на шаг и выпрямилась. И тут я увидел, что кукла Уолтерс пошевелилась. Затем быстро, как жалящая змея, она подняла свои связанные руки и вонзила иглу в горло мастерицы кукол, выхватила ее и снова дико вонзила, снова и снова ударяя в золотистое горло женщины, как раз в то место, в которое другая кукла вонзила иглу Брейлу.
И так же, как кричал Брейл, вскрикнула теперь мастерица кукол, ужасно, в агонии. Она оторвала куклу от груди и отбросила ее прочь. Кукла перелетела по воздуху к камину покатилась и дотронулась до тлеющих углей.
Вспыхнул язык необыкновенно яркого огня, и волна интенсивно нагретого воздуха охватила нас. Как тогда, когда Мак–Кенн уронил спичку на куклу Питерса. И сразу от волны все куклы у ног женщины исчезли. На месте каждой на мгновение возникло такое же яркое пламя. Оно охватило мастерицу кукол в одно мгновение с ног до головы. Я видел, как прекрасное тело снова растаяло. На его месте стояло огромное тело мадам Менделип с лошадиным лицом и мертвыми слепыми глазами. Длинные руки сжимали порванное горло… но они не были больше белыми, они были алыми от крови. Так она стояла минуту, затем упала. И в то же мгновение часы исчезли.
Рикори нагнулся над бесформенным телом, которое недавно было мастерицей кукол. Он плюнул на него и закричал в экстазе:
— Сгори, ведьма, сгори!
Он толкнул меня к двери и показал на ряды кукол в шкапчике. Они казались совершенно безжизненными. Только куклами.
Огонь приближался к ним по занавесям и портьерам, как какой‑то очищающий дух.
Мы бросились вон из лавки. Через дверь в лавку за нами ворвался огонь. Мы выбежали на улицу.
Рикори крикнул:
— Быстро! К машине!
Улица вдруг осветилась красным светом. Я слышал, как открывались окна, раздавались тревожные крики. Я вскочил в машину, и она тронулась.
ЭПИЛОГ
«ТЕМНАЯ МУДРОСТЬ»
«Они сделали подобие, похожее на меня телом, и оно отняло у меня мое дыхание; они дали ему мои волосы, мое платье, маслом из вредных трав натерли меня, они привели меня к смерти. О, бог огня, уничтожь их!»
Три недели прошли со дня смерти мастерицы кукол. Мы с Рикори сидели за обедом в моем доме. Мы сидели молча. Затем я процитировал те несколько фраз, которые являются эпиграфом к завершающей главе моей книги, причем я почти не осознал, что говорил вслух.
Рикори поднял голову.
— Вы процитировали что‑то. Что это?
— Древние глиняные таблицы с надписями Ассурбанапала, три тысячи лет тому назад.
— И в этих нескольких словах он предсказал нашу историю!
— Да, Рикори. Здесь все – куклы, мазь, мучение, смерть, очищающее пламя!
Он подумал вслух:
— Это странно. Три тысячи лет тому назад. Даже тогда было известно это зло. И то, чем его излечивать… Подобие, похожее на меня лицом и телом, которое отняло у меня дыхание… масло из вредных трав… привели меня к смерти… О, бог огня, уничтожь их! Да, это о нас, доктор!
Я сказал:
— Куклы смерти много–много древнее, чем Ур Халдеев. Древние истории. Я проследил их пусть в веках после того, как был убит Брейл. Это длинная история, Рикори. Они были найдены глубоко похороненными под очагами кроманьонцев, очагами, огонь которых давно потух – 2000 лет назад. Их находили под еще более холодными очагами еще более древних народов. Куклы из кремня, камня, клыков мамонта, костей пещерного медведя, зубов саблезубого тигра. Даже тогда люди обладали темной мудростью.
Рикори кивнул.
— Однажды у меня работал парень, который мне нравился. Трансильванец. Однако я спросил его, почему он приехал в Америку. О, он рассказал мне странную историю.
Он сказал мне, что у них в деревне жила девушка, о матери которой говорили, что она знает вещи, которые не положено знать христианам. Он говорил об этом осторожно, осеняя себя крестным знамением. Девушка была миловидная, но он не любил ее. А она влюбилась в него; может быть, его равнодушие привлекало ее.
Однажды, возвращаясь с охоты, он проходил мимо ее хижины. Она зазвала его. Он хотел пить, и выпил поданное ею вино. Вино было хорошее. Он развеселился, но все равно не чувствовал любви к ней. Тем не менее он зашел в дом и выпил еще. Смеясь, он позволил ей срезать волосы у него с головы, отрезать ногти, взять немного крови из руки и слюны изо рта. Смеясь, он оставил ее и пошел домой.
Когда он проснулся вечером, он вспомнил не все, а только, что он пил вино с ней. Что‑то толкнуло его пойти в церковь. Он стал молиться и вдруг вспомнил, что девушка взяла у него кровь, слюну, волосы, ногти. Он решил пойти посмотреть, что она делает с этими его частицами. Он говорит, что будто бы святые, которым он молился, приказали ему сделать это.
Он прокрался к хижине девушки и заглянул в окно. Она сидела у очага, замешивая тесто для хлеба. Ему стало стыдно, что он пробрался сюда с такими мыслями, но вдруг он увидел, что она бросает в тесто взятые у него частицы. Она смешала их с тестом… Затем он увидел, что она лепит из теста человека. Она брызнула водой на его голову, как бы крестя его, и при этом повторяла какие‑то слова.
Он испугался, этот парень. Но в то же время его охватил гнев. Он наблюдал за ней, пока она не кончила. Потом она завернула куклу в фартук и пошла из избы. Он последовал за ней. Он был охотник, умел выследить. Она и не подозревала ни о чем.
Она пришла к перекрестку. Светил молодой месяц. Она подняла к нему лицо и сказала вслух какую‑то молитву. Затем вырыла яму, положила в нее куклу из теста и зарыла ее. Потом она сказала: «Зару! (Так звали парня – Зару). Зару! Я люблю тебя. Когда твое подобие сгниет, ты будешь бегать за мной, как пес за сукой. Ты мой, Зару, душой и телом! Когда твое подобие сгниет, ты станешь моим. Навсегда, навсегда, навсегда!»
Тогда он прыгнул на нее и задушил. Он хотел вырыть куклу, но услышал голоса, испугался и убежал. Он не вернулся в деревню, а сбежал в Америку. Он говорил мне, что первые дни путешествия он чувствовал, словно чьи‑то руки, обхватив его бедра, тянули его в море, обратно в деревню, к девушке. Он понял, что не убил ее. Он боролся с этими руками. Ночь за ночью. Он не мог спать, потому что во сне видел себя на перекрестке и девушку рядом. Трижды он просыпался, как раз вовремя, чтобы отойти от борта судна, через который он готов был броситься в море. Затем сила рук стала ослабевать. И, наконец, через несколько месяцев все исчезло. Но все‑таки он еще долго жил в страхе, пока не получил известий из своей деревни. Он был прав – он не убил, девушка обладала тем, что вы называете «темной мудростью».
Да, видимо, она обратилась против нее в конце концов, так же, как и против ведьмы, которую мы знали.
Я сказал:
— Странно, Рикори, странно, что вы сказали о темной мудрости, которая оборачивается против того, кто владеет ею. Но об этом позже… Любовь, ненависть и сила – всегда являются тремя ногами треножника, на котором горит темное пламя, поддерживающее площадку, с которой сходят куклы смерти…
А знаете, Рикори, кто впервые сделал кукол смерти? Это был бог. Его имя было Хнум. Он был богом много раньше, чем Иегова евреев, который тоже делал кукол; вспомните, он сделал двух в саду Эдема, оживил их, но дал им только два права – страдать и умирать. Хнум был более милосердным богом. Он не отрицал права умирать, но не считал, что куклы должны страдать. Он любил, когда они развлекались в те короткие минуты, когда они жили.
Хнум был таким древним, что он царствовал в Египте задолго до того, как были построены пирамиды и Сфинкс. У него был брат, тоже бог по имени Кефер – с головой овода. Это именно Кефер послал мысль, которая полетела, как ветерок ада, над поверхностью Хаоса. Эта мысль оплодотворила Хаос и от этого родился мир.
Только легкий ветерок над поверхностью, Рикори! Если бы она проникла под кожу Хаоса или глубже в сердце… что представляло бы собой человечество?.. И все‑таки, даже такая мысль приняла форму человека. Работа Хнума заключалась в том, что он лепил тело ребенка в утробе матери. Его называли богом–горшечником. По приказу Амона, величайшего из богов, он слепил тело царицы Хетшепсут.
А за тысячу лет до этого жил принц, которого Озирис и Изида очень любили за красоту, смелость и силу. Нигде на земле, по их мнению, не было достойной его женщины, поэтому они позвали бога Хнума и попросили его сделать женщину для принца. Он явился с длинными белыми руками, как у… той, каждый палец словно живой. Он сделал из глины такую красавицу, что даже богиня Изида позавидовала. Они были весьма практичны, эти древнеегипетские боги. Они усыпили принца, положили рядом женщину и посмотрели, подходил ли она ему. Увы, она была слишком мала. Тогда Хнум сделал другую куклу, но она была велика. Ему пришлось сломать шесть кукол, пока он не достиг требуемого совершенства. Тогда боги удовлетворились, а принц получил жену, которая была только куклой.
Столетиями позже во времена Рамзеса III жил человек, который долго искал и наконец нашел секрет Хнума. Всю свою жизнь он добивался этого знания. Он был уже стар, сгорблен и морщинист, но страсть к женщинам была еще сильна в нем. Все, чего он добивался, сводилось к удовлетворению этой страсти. Но ему требовалась модель. Кто были прекраснейшие из женщин, могущие позировать для него? Конечно, жены фараона. Тогда он сделал кукол по образцу и подобию людей, сопровождающих фараона, когда тот посещал жен.
Кроме того, он слепил копию фараона и сам вошел в нее, оживив ее. Куклы внесли его в гарем мимо царских сторожей, которые сочли его за фараона. И развлекали соответственно. Но когда он уже собирался уходить, вошел настоящий фараон. Неожиданно и таинственно в гареме появились два фараона. Но Хнум спустился с небес и дотронулся до кукол, отняв у них жизнь. Они упали на пол и оказались просто куклами. А там, где стоял второй фараон, лежала кукла, а рядом с ней дрожащий сморщенный старик.
Вы можете прочесть эту историю и детальное описание последовавшего процесса в папирусе, хранящемся в Туринском музее. Там же приведен перечень пыток, которые претерпел колдун, прежде, чем его казнили. Нет сомнения, что был точно такой процесс, что обвинения такого рода имели место – папирус сохранил детали процесса.
Но что это было на самом деле? Что‑то случилось, но что? Является ли эта история очередным суеверием или она имеет в своей основе проявление темной мудрости?
Рикори сказал:
— Вы сами видели плоды этой темной мудрости. И вы еще не верите в ее реальность.
Я продолжал:
— Веревочка с узлами – «лестница ведьмы». Это тоже древнее понятие. Наиболее древние фракийские документы – свод законов – гласит, что строжайшее наказание ожидает того, кто завяжет узел ведьмы!!! Мы хорошо знаем эту вещь к великому нашему горю.
Я заметил, что Рикори побледнел и сжал пальцы.
Я торопливо сказал:
— Но, конечно, вы понимаете, Рикори, что я только рассказываю древние легенды, фольклор? И никаких научных фактов для этого нет?
Он с шумом отодвинул стул и, недоверчиво посмотрев на меня, заговорил с усилием:
— Вы до сих пор считаете, что вся эта дьявольская кухня может быть объяснена с точки зрения известной вам науки?
Я неловко поежился.
— Я не говорю этого, Рикори. Я считаю, что мадам Менделип была необыкновенным гипнотизером, хозяйкой иллюзии…
Он перебил меня.
— Вы думаете, что ее куклы были иллюзией?
Я ответил уклончиво:
— Вы же сами знаете, как реальна была иллюзия красивого тела. А мы видели, как оно изменилось под действием истинной реальности огня. Оно выглядело таким же реальным, как куклы, Рикори.
Он снова перебил меня.
— А удар в мое сердце… кукла, убившая Джилмора, кукла, убившая Брейла, благословенная кукла, убившая ведьму! Вы называете их иллюзией?
Я ответил немного сердито (старое неверие с новой силой вспыхнуло в моей груди):
— Возможно, что, подчиняясь постгипнотическому внушению, вы, вы сами воткнули иглу в сердце! Возможно, что по такому же приказу, не знаю где и когда данному, сестра Питерса убила своего мужа. Канделябр убил Брейла, когда я был под влиянием тех же постгипнотических внушений, а обломок стекла перерезал ему артерию. Что же касается смерти мадам Менделип, возможно, что мозг ее временами оказывается жертвой тех иллюзий, которые она возбуждала в умах других людей. Она была сумасшедшим гением, сознание которого управлялось манией окружать себя подобием людей, которых она убивала мазью.
Маргарита Валуа, королева Наварры, носила с собой бальзамированные сердца более дюжины своих любовников, умерших из‑за нее. Она не убивала их, но являлась непосредственной причиной их смерти.
Психология королевы Маргариты, собиравшей сердца, и мадам Менделип, собиравшей коллекцию кукол – одинаковы.
Все еще напряженным голосом он повторил:
— Я спросил вас, считаете ли вы иллюзией убийства, совершенные ведьмой?
— Вы ставите меня в неудобное положение, Рикори, когда смотрите на меня так… я отвечаю на ваш вопрос. Я повторяю, что ее собственный мозг временами являлся жертвой тех же иллюзий, что она вселяла в мозг других. Что временами она сама думала, что куклы живые. В ее странном мозгу возникла ненависть к кукле Уолтерс. И в конце концов под влиянием раздражения, вызванного нашим нападением, это убеждение убило ее.
Эта мысль появилась у меня, когда я сказал вам о том, как странно, что вы заговорили о темной мудрости, обращающейся против своего обладателя. Она мучила куклу, она ожидала, что кукла может отомстить. И так сильна была вера или это ожидание, что когда наступил благоприятный момент, она драматизировала его. Как видите, она могла сама себе воткнуть в горло иглу…
— Ты глупец!
Это сказал Рикори, но слова его так живо напомнили мне мадам Менделип в волшебной комнате или говорящую через мертвые губы Лашны, что я, дрожа, упал на стул.
Рикори нагнулся ко мне. Его черные глаза были невидящими, без всякого выражения. Я закричал, чувствуя, как ужас охватывает меня.
— Рикори проснитесь…
Взгляд его снова стал острым и внимательным.
Он сказал:
— Я не сплю, я настолько не сплю, что не стану больше слушать вас. Послушайте лучше вы меня, доктор! Я вам говорю – к черту вашу науку! За завесой материального, на которой останавливается наше зрение, имеются силы и энергии, которые ненавидят нас, но которым Бог все‑таки позволяет существовать. Я говорю вам, что эти силы могут проникать через завесу в материальный мир и подчиняться таким созданиям, как мадам Менделип.
Это так! Ведьмы и колдуны рука об руку со злом! Это так! И есть силы, дружественные нам, которые проявляются в избранных. Я говорю, – продолжал он горячо, – что мадам Менделип – проклятая ведьма! Инструмент злых сил! Девка сатаны! Она сгорела, как и полагается ведьме! Она будет гореть в аду вечно!
А маленькая сиделка была инструментом добрых сил. И она счастлива теперь в раю и будет счастлива вечно!
Он замолчал, дрожа от волнения. Потом дотронулся до моего плеча.
— Скажите мне, доктор, скажите правдиво, как перед Богом, если бы вы верили в него, как верю я, действительно ли вас удовлетворяют ваши научные объяснения?
Я ответил очень спокойно:
— Нет, Рикори!
И так оно и было.
Ползи, тень, ползи!
1. ЧЕТЫРЕ САМОУБИЙСТВА
Я мрачно распаковывал свои вещи в клубе Первооткрывателей. Депрессия, охватившая меня накануне, когда я проснулся в своей каюте, не проходила.
Похоже на воспоминания о кошмаре, подробности которого забыты, но который остается на самом пороге сознания.
К этому добавились и другие раздражающие обстоятельства.
Конечно, я не ожидал, что мое возвращение домой будет приветствовать специальная делегация мэрии. Но то, что ни Беннет, ни Ральстон меня не встретили, вызывало тревогу. Перед отплытием я написал им обоим и думал, что по крайней мере один из них встретит меня на пристани.
Это мои ближайшие друзья, и меня часто забавляла некоторая странная враждебность между ними. Каждый из них привлекал другого, и в то же время они не одобряли друг друга. Мне казалось, что внутренне они даже ближе друг к другу, чем ко мне; они могли бы стать Дамоном и Финтием, если бы не осуждали так отношение к жизни другого; впрочем, может, они все же были Дамоном и Финтием, вопреки всему.
Много столетий назад старина Эзоп сформулировал их различия в басне о стрекозе и муравье. Билл Беннет был муравьем. Серьезный трудолюбивый сын доктора Лайонела Беннета стал одним из пяти наиболее выдающихся специалистов современного цивилизованного мира по патологии мозга. Я подчеркиваю, что речь идет о современном и цивилизованном мире, потому что у меня есть доказательства: тот мир, который мы называем нецивилизованным, имеет гораздо больше таких экспертов, и у меня есть основания полагать, что древний мир в этом отношении обладал еще большими познаниями, чем современные миры, цивилизованный и нецивилизованный.
Старший Беннет был одним из тех редких специалистов, которые больше думают о своей работе, чем о банковском счете. Прославленный, но небогатый Беннет–младший мой ровесник, ему тридцать пять. Я знал, что отец во многом опирался на сына. Я подозревал также, что в некоторых отношениях, особенно в изучении подсознания, сын превзошел отца, у него более гибкий, более открытый ум. Год назад Билл написал мне, что его отец умер и что он теперь работает ассистентом доктора Остина Лоуэлла, заняв место доктора Дэвида Брэйла, который недавно был убит упавшим подсвечником в частной больнице доктора Лоуэлла.
Дик Ральстон – стрекоза. Наследник состояния такого огромного, что даже зубы депрессии смогли лишь слегка его поцарапать. Лучший образчик сына богача, впрочем, не видящий ни почета, ни радости, ни пользы и никаких других достоинств в работе. Беспечный, умный, щедрый, но, безусловно, первоклассный лентяй.
А я выполнял компромиссную роль, служил мостом, на котором они встречались. У меня есть медицинский диплом, но есть и деньги, которые спасают от скучной практики. Достаточно, чтобы делать, что захочу, то есть бродить по всему земному шару с этнологическими исследованиями. Особенно в тех областях, которые мои медицинские и иные научные братья называют суевериями: колдовство, волшебство, вуду и прочее. В своих исследованиях я так же страстен, как Билл в своих.
И он знал это.
Дик, с другой стороны, приписывал мои странствия бродяжьему инстинкту, который я унаследовал от одного из своих бретонских предков, пирата, отплывшего из Сен–Мало и заслужившего кровавую репутацию в Новом мире. За что и был повешен. Мои необычные интересы он также приписывал тому обстоятельству, что среди моих предков были две ведьмы, сожженные в Бретани.
Я для него был совершенно понятен.
Занятия Билла он понимал гораздо меньше.
Я мрачно размышлял, что хоть и отсутствовал три года, это слишком небольшое время, чтобы меня забыть. Но потом умудрился стряхнуть дурное настроение и посмеяться над собой. В конце концов они могли не получить мои письма, или у них были свидания, которые они не могли отменить, и каждый считал, что другой обязательно меня встретит.
На кровати лежала газета – «Ивнинг Стар». За вчерашнее число. Мой взгляд остановился на заголовке. Я тут же перестал смеяться. Заголовок гласил: Наследник пяти миллионов кончает самоубийством Ричард Дж. Ральстон младший пускает пулю себе в голову
Я прочел заметку.
Ричард Дж. Ральстон младший, унаследовавший два года назад свыше пяти миллионов после смерти своего отца, владельца шахт, сегодня утром найден мертвым в своей постели на Парк Авеню 35642. Он выстрелил себе в голову и сразу умер. Пистолет лежал на полу, куда упал из его руки. Следователи установили, что на пистолете отпечатки пальцев только его владельца.
Тело обнаружил дворецкий Джон Симпсон, который рассказал, что вошел в комнату, как обычно, в восемь часов. По состоянию тела доктор Пибоди, коронер, установил, что выстрел был произведен около трех часов, то есть примерно за пять часов до того, как Симпсон обнаружил тело.
Три часа? У меня по спине поползли мурашки. Если учесть разницу между корабельным временем и временем Нью–Йорка, это именно тот момент, когда я проснулся в странной депрессии. Я продолжал читать.
Если рассказ Симпсона правдив, а полиция не имеет оснований в этом сомневаться, самоубийство не было подготовлено заранее, а явилось результатом внезапного подавляющего импульса. Это предположение подкрепляет найденное письмо, которое Ральстон начал писать, но не закончил и разорвал. Обрывки найдены под столом в спальне, куда он их бросил. В письме говорится:
Дорогой Билл,
прости, но больше я не могу выдержать. Я хотел бы, чтобы ты считал это объективным, а не субъективным явлением, как бы невероятно это ни казалось. Если бы только здесь был Алан. Он знает больше…
В этот момент Ральстон, очевидно, изменил свои намерения и разорвал письмо. Полиция хотела бы знать, кто такой Алан и и о чем он «знает больше». Она также надеется, что Билл, которому адресовано письмо, объявится. Нет никаких сомнений, что здесь мы действительно имеем дело с самоубийством, но, возможно, тот, кто что‑то знает об «объективном, а не субъективном характере явления», прольет свет на мотивы этого самоубийства.
В настоящий момент не известны причины, по которым мистер Ральстон покончил с жизнью. Его поверенные, известная фирма «Уинстон, Смит энд Уайт», заверили полицию, что состояние его в полном порядке, что никаких «осложнений» в жизни их клиента не было. Известно, что, в отличие от большинства сыновей богачей, Ральстон никогда не оказывался впутанным в скандалы.
Это четвертый за последние три месяца случай самоубийства состоятельных людей примерно возраста Ральстона и такого же образа жизни. На самом деле обстоятельства самоубийства во всех четырех случаях настолько аналогичны, что полиция серьезно рассматривает возможность какого‑то договора самоубийц.
Первая из этих четырех смертей произошла 15 июля, когда Джон Марстон, всемирно известный игрок в поло, прострелил себе голову в спальне своего сельского дома в Локуст Уолли, Лонг Айленд. Причины этого самоубийства так и не выяснены. Подобно Ральстону, Марстон был холост. 6 августа тело Уолтера Сент–Клера Колхауна было найдено в его автомобиле вблизи Риверхеда, Лонг Айленд. Колхаун съехал с главной дороги, которая здесь по обеим сторонам заросла деревьями, на открытое поле и здесь пустил себе пулю в голову. Причина до сих пор не известна. Колхаун три года состоял в разводе. 21 августа Ричард Стентон, миллионер, яхтсмен и путешественник, выстрелил себе в голову на палубе собственной океанской яхты «Тринклу». Это произошло накануне намеченного им путешествия в Южную Америку.
Я читал и читал… соображения по поводу договора о самоубийствах, предположительно вызванного скукой и болезненным стремлением к острым ощущениям… истории Марстона, Колхауна и Стентона… некролог Дика…
Читал, почти не понимая прочитанное. но по–прежнему казалось, что этого не может быть.
Нет никаких причин для самоубийства Дика. Во всем мире нет человека, который меньше был бы способен убить себя. Теория самоубийственного договора абсурдна, во всяком случае по отношению к Дику. Разумеется, Алан из письма – это я. А Билл – Беннет. Но что такое я знаю, отчего Дик хотел бы, чтобы я был с ним?
Зазвонил телефон.
— К вам доктор Беннет.
Я сказал:
— Пришлите его ко мне. – А про себя: «Слава Богу!»
Вошел Билл. Он был бледен и изможден, как человек в тяжелых испытаниях, которые еще не миновали. В глазах его застыл ужас, будто он смотрел больше не на меня, а на то, что вызвало этот ужас. С отсутствующим видом он подал мне руку и сказал только:
— Я рад, что ты вернулся, Алан.
В другой руке я держал газету. Он взял ее, взглянул на число. И сказал:
— Вчерашняя. Ну, здесь все. Все, что знает полиция.
Прозвучало это странно. Я спросил:
— Ты хочешь сказать, что знаешь еще кое‑что?
Ответ показался мне уклончивым.
— О, у них все факты. Дик прострелил себе голову. И они правы, когда связывают все эти смерти…
Я спросил:
— Что ты знаешь такого, чего не знает полиция, Билл?
Он ответил:
— Что Дик был убит!
Я удивленно смотрел на него.
— Но если он пустил пулю себе в голову…
— Твое удивление понятно. И все‑таки: я знаю, что Дик выстрелил в себя, и в то же время знаю, что он был убит.
Он сел на кровать, сказал:
— Мне нужно выпить.
Я достал бутылку шотландского виски, которое клубный слуга заботливо принес в качестве приветствия по поводу моего возвращения. Он налил себе большую порцию. Повторил:
— Я рад, что ты вернулся! Нас ждет тяжелая работа, Алан!
Я налил и себе; спросил:
— Какая работа? Найти убийцу Дика?
Он ответил:
— Да. Но больше. Прекратить убийства.
Я снова налил ему и себе. Сказал:
— Перестань ходить вокруг да около и расскажи мне, в чем дело.
Он задумчиво посмотрел на меня и негромко ответил:
— Нет, Алан. Еще нет. – Поставил стакан. – Предположим, ты открыл нового возбудителя болезни, неизвестный микроб – или считаешь, что открыл. Ты изучал его и отметил его особенности. Предположим, ты хочешь, чтобы кто‑нибудь проверил твои выводы. Что ты сделаешь: сообщишь ему сразу все свои данные и попросишь его взглянуть в микроскоп, чтобы подтвердить их? Или просто дашь самые общие сведения и предложишь посмотреть в микроскоп и обнаружить самому?
— Конечно, общие сведения – и пусть смотрит сам.
— Точно. Ну, я считаю, что нашел такого нового возбудителя, вернее, очень старого, хотя у него нет ничего общего с микробами. Но больше я тебе ничего не скажу, пока ты сам не посмотришь в микроскоп. Не хочу, чтобы мое мнение воздействовало на твое. Пошли за газетой.
Я позвонил и попросил принести свежий номер «Сан». Билл взял его. Просмотрел первую полосу, потом стал перелистывать газету, пока не нашел то, что ищет.
— Случай Дика переместился с первой полосы на пятую, – сказал он. – Вот. Прочти первые несколько абзацев, остальное – пересказ уже известного и праздные соображения. Очень праздные.
Я стал читать.
Доктор Уильям Беннет, известный специалист в области мозга и ассистент знаменитого медика доктора Остина Лоуэлла, сегодня утром пришел в полицию и заявил, что он и есть Билл из неоконченного письма, найденного в спальне Ричарда Дж. Ральстона младшего, после того как тот вчера утром совершил самоубийство.
Доктор Беннет заявил, что письмо, несомненно, адресовалось ему, что мистер Ральстон один из его старейших друзей и недавно консультировался с ним по поводу того, что можно в общих чертах назвать бессонницей и дурными снами. Накануне вечером мистер Ральстон обедал в гостях у доктора Беннета. Доктор хотел, чтобы мистер Ральстон провел ночь у него, тот вначале согласился, но потом передумал и отправился спать домой. Именно это он имеет в виду в начальной фразе своего письма. Профессиональный долг заставляет доктора Беннета воздержаться от дальнейшего описания симптомов болезни мистера Ральстона. Когда его спросили, можно ли объяснить самоубийство Ральстона состоянием его психики, доктор Беннет осторожно ответил, что самоубийство всегда объясняется состоянием психики.
Несмотря на всю растерянность и горе, я не мог улыбнуться этим строкам.
Доктор Беннет заявил, что Алан, который упоминается в письме, это доктор Алан Карнак, также старый друг мистера Ральстона, который сегодня возвращается в Нью–Йорк после трехлетнего пребывания в Северной Африке. Доктор Карнак хорошо известен в научных кругах своими этнологическими исследованиями. Доктор Беннет сказал, что мистер Ральстон считал: некоторые симптомы его болезни могут быть объяснены доктором Карнаком, который хорошо знает умственные заболевания примитивных народов.
— А теперь главное, – сказал Беннет и указал на следующий абзац.
После визита в полицию доктор Беннет ответил на вопросы репортеров, но не смог сообщить никаких новых сведений. Он сказал, что за две недели до смерти мистер Ральстон снял со своих счетов большие суммы и неизвестно, что стало с этими деньгами. Похоже, он тут же пожалел о сказанном, заявив, что это не имеет отношения к самоубийству мистера Ральстона. Он неохотно признал, однако, что речь может идти более чем о ста тысячах долларов и что полиция занимается этим обстоятельством.
Я сказал:
— Похоже на шантаж.
Он ответил:
— Никаких доказательств. Но тут передано все, что я сказал полиции и репортерам.
— Репортеры скоро будут здесь, Алан. И полиция. Я ухожу. Ты меня не видел. Не имеешь ни малейшего представления о происходящем. Больше года ничего не слышал о Ральстоне. Скажи им, что когда свяжешься со мной, может, что‑то сможешь добавить. А сейчас – ты ничего не знаешь. И это правда – ты действительно ничего не знаешь. Держись этого.
И он пошел к двери. Я сказал:
— Минутку, Билл. Но что скрывается за всем, что я прочитал?
Он ответил:
— Это тщательно замаскированная приманка.
— А кто на нее должен клюнуть?
— Убийца Дика.
Он повернулся к двери.
— И еще кое‑кто совсем в твоем вкусе. Ведьма.
И закрыл за собой дверь.
2. МАДЕМУАЗЕЛЬ ДАХУТ
Вскоре после ухода Билла меня посетил представитель полиции. Было очевидно, что он считает свое посещение пустой формальностью. Вопросы его были поверхностными, и он не спрашивал, виделся ли я с Беннетом. Я угостил его скотчем, и он расслабился. Сказал:
— Не одно, так другое. Если у тебя нет денег, загоняешь себя насмерть, добывая их. А если есть, все время кто‑то старается тебя ограбить. Или свихнешься, как этот бедняга, и тогда что толку от твоих денег? Я слышал, этот Ральстон был неплохой парень.
Я согласился. Он выпил еще и ушел.
Потом пришли три репортера: один из «Сити Ньюс», двое из вечерних газет. Они задали несколько вопросов о Дике, но больше их интересовали мои путешествия. Я почувствовал облегчение, послал за второй бутылкой скотча и рассказал им несколько историй о волшебных зеркалах женщин Риффа, которые считают, что в определенное время и при определенных условиях могут захватить отражения тех, кого любят или ненавидят, и тем самым распоряжаться их душами.
Репортер из «Сити Ньюс» сказал, что если бы риффские женщины обучили его своему искусству, он смог бы завладеть душами всех изготовителей зеркал в Америке, помочь им выйти из депрессии и тем самым разбогатеть. Остальные двое мрачно признали, что знают издателей, чьи отражения они готовы хоть сейчас поймать.
Я рассмеялся и сказал, что лучше пригласить одного–двух старинных болгарских каменщиков. Нужно заманить издателя, дать каменщику возможность измерить с помощью веревки его тень. После этого каменщик положит веревку в ящичек, который замурует в стене. Через сорок дней издатель умрет, а его душа будет сидеть в ящике рядом с веревкой.
Один из репортеров мрачно заметил, что сорок дней – слишком долго для человека, которого он имеет в виду. А другой с обезоруживающей наивностью спросил, верю ли я, что подобные вещи возможны. Я ответил, что если человек убежден, что в определенный день он умрет, он в этот день и умрет. Не потому, что тень его измерили веревкой, а веревку замуровали, а потому, что верит, что это его убьет. Это просто внушение, самогипноз. Подобно этому кахуна, колдуны южных морей, предсказывают смерть человека, и этот человек умирает, конечно, если знает, что кахуна предсказал его смерть.
Мне нужно было подумать раньше. В газетах лишь несколько строк было посвящено тому, что я отвечал на вопросы полиции и не смог пролить какой‑либо свет на самоубийство Ральстона. Но в газете наивного репортера была специальная статья.
«Хотите избавиться от своих врагов? Раздобудьте волшебное зеркало риффских женщин или пригласите болгарского каменщика. Доктор Алан Карнак, известный исследователь, рассказывает, как отделаться от тех, кто вам не нравится. Но сначала вы должны убедить их, что можете это сделать», – гласили заголовки.
Неплохая статья, хотя временами я начинал браниться. Я перечитал ее и рассмеялся. В конце концов я сам в этом виноват. Прозвонил телефон, меня вызывал Билл. Он неожиданно спросил:
— Как тебе пришло в голову разговаривать с репортерами о тенях?
Он нервничал. Я сказал:
— Да никак. А почему бы мне не поговорить с ними о тенях?
Какое‑то время он молчал. Потом спросил:
— Ничего не направило тебя на эту тему? Никто не предложил ее?
— Все страньше и страньше, как говаривала Алиса. Нет, Билл, я сам поднял эту тему. И никакая тень не нашептывала мне на ухо…
Он резко прервал:
— Не говори так!
Теперь я действительно удивился, потому что в голосе Билла звучал страх.
— Да никакой причины не было. Просто так получилось, – повторил я. – А в чем дело, Билл?
— Неважно. – Я еще больше удивился облегчению в его голосе. Он быстро сменил тему. – Завтра похороны Дика. Увидимся там.
Единственная вещь, которую меня не заставят и не убедят сделать, – это присутствовать на похоронах друга. Если с похоронами не связаны какие‑нибудь интересные и незнакомые мне обряды, они бессмысленны. Я хочу помнить друзей живыми, энергичными, проворными. Картина гроба заслоняет это все, и я теряю друзей. По–моему, животные в этом смысле поступают мудрее. Они прячутся и умирают. Билл знает, что я об этом думаю, поэтому я ответил:
— Там мы с тобой не увидимся. – И чтобы пресечь спор, спросил:
— Кто‑нибудь клюнул на твою приманку?
— И да и нет. Не настоящая поклевка, как я надеялся, но внимание с совершенно неожиданных направлений. После того как я ушел от тебя, позвонил поверенный Дика и спросил, что мне известно о взятых Диком деньгах. Он рассказал, что они пытаются установить, что с ними сделал Дик, но не могут. Он мне не поверил, конечно, когда я ответил, что ничего не знаю; что у меня только смутные подозрения. Я его не виню. Сегодня утром позвонил душеприказчик Стентона и задал тот же вопрос. Сказал, что перед смертью Стентон снимал значительные суммы, и они не могут установить их местонахождение.
Я свистнул.
— Странно. А как насчет Колхауна и Марстона? Если у них то же самое, то начинает попахивать.
— Пытаюсь установить, – ответил он. – До свидания…
— Минутку, Билл, – сказал я. – Я умею ждать и все такое. Но меня мучает любопытство. Когда мы с тобой увидимся и что мне до того времени делать?
Ответил он таким серьезным голосом, какой я у него не слышал.
— Алан, ничего не делай, пока я не выложу перед тобой карты. Не хочу сейчас ничего объяснять, но поверь, у меня убедительные доводы. Скажу тебе только одно. Твое интервью – это еще одна приманка, и мне кажется, она еще лучше моей.
Это было во вторник. Естественно, я был крайне удивлен и возбужден. Настолько, что если бы кто угодно, кроме Билла, попросил меня сидеть спокойно и ничего не предпринимать, я бы страшно рассердился. Но Билл знает, что делает, я был уверен в этом. Поэтому я ждал.
В среду похоронили Дика. Я просматривал свои записи и начал первую главу книги о марокканских колдунах. В четверг вечером позвонил Билл.
— Завтра вечером у доктора Лоуэлла небольшой прием, – сказал он. – Доктор де Керадель с дочерью. Я хочу, чтобы ты пришел. Обещаю, будет интересно.
Де Керадель? Знакомое имя.
— Кто это? – спросил я.
— Рене де Керадель, французский психиатр. Ты, наверно, читал его…
— Да, конечно, – прервал я. – Он продолжил эксперименты Шарко по гипнозу в больнице «Сальпетриер». Начал там, где Шарко остановился. Несколько лет назад при неясных обстоятельствах покинул «Сальпетриер». То ли пациенты умерли, то ли он применял слишком неортодоксальные методы.
— Это он.
Я сказал:
— Буду. Мне интересно с ним встретиться.
— Хорошо, – сказал Билл. – Обед в семь тридцать. Надень вечерний костюм. И приди на час раньше. С тобой хочет до прихода гостей поговорить одна девушка.
— Девушка? – удивленно переспросил я.
— Элен, – с усмешкой сказал Билл. – И не разочаровывай ее. Ты ведь ее герой. – И он повесил трубку.
Элен – сестра Билла. Моложе меня лет на десять. Я не видел ее пятнадцать лет. Припомнил озорного ребенка. Глаза слегка раскосые и желтовато–карие. Волосы чуть рыжеватые. Когда я видел ее в последний раз, она была неуклюжей и склонной к полноте. Ходила ха мной следом, когда я на каникулы приезжал к Биллу, сидела и молча смотрела на меня, отчего я начинал нервничать.
Трудно сказать, то ли это было молчаливое восхищение, то ли чистейшая проказа. Тогда ей было двенадцать. Никогда не забуду, как она с невинным видом усадила меня на подземное осиное гнездо: не забуду и того, как, ложась в постель, обнаружил в ней семейство ужей. Первое могло быть случайностью, хотя я в этом сомневался, но второе нет. Я выбросил ужей в окно и впоследствии ни словом, ни взглядом, ни жестом не выдал этого происшествия, получив в награду замешательство девочки от моего молчания и ее явное, но поневоле немое любопытство. Я знал, что она закончила Смит–колледж и изучала искусство во Флоренции. Интересно, какой она стала, когда выросла.
На следующий день в библиотеке медицинской академии я прочел несколько статей де Кераделя. Несомненно, странный человек, и теории у него странные. Неудивительно, что «Сальпетриер» избавилась от него. Если отбросить словесное научное обрамление, главная мысль удивительно похожа на то, что говорил мне много–раз–рожденный лама в монастыре Джиангцзе на Тибете. Святой человек и известный чудотворец, искатель странных знаний. Суеверные люди могут назвать такого колдуном. Примерно то же говорил мне греческий монах в Дельфах. Плащ христианства едва прикрывал у него случай явного языческого атавизма. Он предложил продемонстрировать свои способности и сделал это. И почти убедил меня. Припоминая теперь то, что он мне показывал, я думаю, что он на самом деле убедил меня.
Я почувствовал сильный интерес к доктору де Кераделю. Имя бретонское, как и мое, и такое же необычное. У меня в памяти всплыло еще одно воспоминание. В семейных хрониках де Карнаков есть упоминание о де Кераделях. Я просмотрел хроники. Между двумя семействами не было любви, мягко выражаясь. Но то, что я прочел, подогрело мое любопытство к де Кераделю почти до лихорадочного состояния.
Я на полчаса опоздал к доктору Лоуэллу. Дворецкий провел меня в библиотеку. Из большого кресла поднялась девушка и пошла мне навстречу с протянутой рукой.
— Здравствуй, Алан, – сказала она.
Я, мигая, смотрел на нее. Невысокая, но с пропорциями, которые придавали скульпторы афинского золотого века своим танцующим девушкам. Тонкое, как паутина, черное платье не скрывало этих пропорций. Волосы медного цвета и убраны в высокую прическу. Тяжелый шиньон на шее показывает, что она устояла перед соблазном короткой стрижки. Глаза золотого янтарного цвета и изящно наклонены. Нос маленький и прямой, подборок круглый. Кожа не молочно–белая, как часто бывает у рыжеволосых, а золотистая. Такое лицо и такая голова могли бы послужить моделью для лучшей золотой монеты Александра. Слегка архаичные, тронутые античной прелестью. Я снова замигал. И выпалил:
— Не может… Элен!
Глаза ее блеснули, проказливое выражение, заставившее меня вспомнить ужей, появилось на лице. Она вздохнула:
— Она самая, Алан! Она самая! А ты – о, позволь мне взглянуть на тебя. Да, по–прежнему герой моего детства. То же живое смуглое лицо, как у… я тебя называла Ланселотом Озерным, про себя, конечно. То же стройное сильное тело – я тебя называла также Черной Пантерой, Алан. А помнишь, как ты запрыгал, как пантера, когда тебя ужалили осы…
Она склонила голову, и ее плечи затряслись. Я сказал:
— Ты маленький чертенок! Я так и знал, что ты сделала это нарочно.
Она приглушенно ответила:
— Я не смеюсь, Алан. Я плачу.
Она взглянула на меня, и на глазах у нее действительно были слезы, но я уверен, это не слезы горя. Она сказала:
— Алан, долгие, долгие годы я хотела тебя кое о чем спросить. Хотела, чтобы ты мне ответил. Нет, не ответил, что ты меня любишь, дорогой. Нет! Нет! Я всегда знала, что рано или поздно это произойдет. Нет, о другом…
Я тоже смеялся, но со странным смешанным чувством. Я сказал:
— Скажу тебе все. Даже, что я тебя люблю… и, может, на самом деле…
— Ты нашел ужей в своей постели? Или они расползлись до тебя?
Я повторил:
— Ты маленький чертенок!
— Значит они там были?
— Да, были.
Она удовлетворенно вздохнула.
— Ну, одним комплексом меньше. Теперь я знаю. Мне так иногда хотелось узнать, что я не могла выдержать.
Она подняла ко мне лицо.
— Поскольку ты все равно будешь меня любить, Алан, можешь меня поцеловать.
Я ее поцеловал. Может, она и дурачилась, говоря о герое своего детства, но в моем поцелуе дурачества не была – и в ее ответном тоже. Она вздрогнула и положила голову мне на плечо. Томно сказала:
— Вот и еще одного комплекса не стало. Где же я остановлюсь?
Кто‑то кашлянул у двери. Прошептал извиняясь:
— Мы не хотели мешать.
Элен опустила руки, и мы повернулись. Я понял, что у двери стоит дворецкий и еще один человек. Но я не мог оторвать взгляда от девушки – или женщины, стоявшей с ними.
Знаете как бывает: в метро, или в театре, или на скачках вдруг почему‑то, а может, и вовсе беспричинно чье‑нибудь лицо привлекает внимание в толпе, как будто твой мысленный прожектор осветил его, и все остальные лица становятся туманными и отступают на второй план. Со мной это часто случается. Что‑то в таких лицах, несомненно, пробуждает старые забытые воспоминания. Или оживляет память предков, чьи призраки всегда смотрят через наши глаза. Вот такое у меня было впечатление от лица этой девушки, и даже больше.
Я не видел больше никого, даже Элен.
Никогда я не видел таких голубых глаз, вернее, глаз странно глубокого фиолетового оттенка. Большие, необычно широко расставленные, с длинными загнутыми черными ресницами и тонкими, словно нарисованными черными бровями, которые почти встречались над орлиным, но изящным носом. Я скорее почувствовал, чем увидел цвет этих глаз. Лоб у нее широкий, но низкий ли, сказать невозможно: он скрыт прядями чистого золота, и концы волос на голове завиваются, и такие они тонкие и блестящие, что создается впечатление ореола вокруг головы. Рот чуть великоват, но прекрасно очерчен и изысканно чувственен.
Кожа ее – чудо, белая, но полная жизни, как будто сквозь нее просвечивает лунное сияние.
Ростом почти с меня, с женственной фигурой, с полной грудью. Грудь такая же чувственная, как губы. Голова и плечи, как лилия, выступают из чашечки блестящего, цвета морской волны платья.
Красивая женщина, но я сразу понял, что ничего небесного в голубизне ее глаз нет. И ничего святого в ореоле вокруг головы.
Само совершенство. Но я почему‑то почувствовал приступ ненависти. Я вдруг понял, как можно разрезать картину – шедевр красоты, или взять молот и разбить статую – другой такой же шедевр, если они возбуждают такую ненависть, какую я испытал в этот момент.
И тут я подумал:
— Я ее ненавижу – или боюсь?
И все это в мгновение ока.
Элен отошла от меня с протянутой рукой. В ней не было никакого смущения. Как будто прервали не объятие, а простое рукопожатие. Она с улыбкой сказала:
— Я Элен Беннет. Доктор Лоуэлл попросил меня принять вас. Вы ведь доктор де Керадель?
Я посмотрел на человека, склонившегося с поцелуем к ее руке. Он распрямился, и я почувствовал замешательство. Билл сказал, что придут доктор де Керадель с дочерью, но этот человек выглядел не старше девушки, если она его дочь. Правда, в чуть более бледном золоте его волос виднелись серебряные нити; правда, его голубые глаза не имели такого фиолетового оттенка…
Я подумал: «Но у них нет возраста. – И сразу: – Да что это со мной такое?»
Мужчина сказал:
— Я доктор де Керадель. А это моя дочь.
Девушка – или женщина – рассматривала нас с Элен, явно забавляясь. Странно отчетливо выговаривая слова, доктор де Керадель сказал:
— Мадемуазель Дахут д'Ис, – немного поколебавшись, добавил: – де Керадель.
Элен сказала:
— А это доктор Алан Карнак.
Я смотрел на девушку – или женщину. Имя Дахут д'Ис что‑то затронуло в моей памяти. А когда Элен назвала меня, фиолетовые глаза расширились, стали огромными, прямые брови соединились над носом в одну линию. Я почувствовал ее взгляд, как физический удар. Она, казалось, впервые увидела меня. И в глазах ее появилось что‑то угрожающее… собственническое. Тело ее напряглось. Она как бы про себя сказала:
— Алан де Карнак…
Потом посмотрела на Элен. Взгляд был расчетливым, оценивающим. Но и презрительно равнодушным, я это сразу понял. Так может посмотреть королева на служанку, осмелившуюся поднять взгляд на ее любовника.
Правильно я понял ее взгляд или нет, но Элен что‑то такое почувствовала. Она повернулась ко мне и сладко сказала:
— Дорогой, мне за тебя стыдно. Проснись!
И боком туфельки незаметно толкнула меня в ногу.
Но тут вошел Билл, а с ним почтенный седовласый джентльмен, который, несомненно, был доктором Лоуэллом.
Не знаю, когда я еще так радовался появлению Билла.
3. ТЕОРИИ ДОКТОРА ДЕ КЕРАДЕЛЯ
Я дал Биллу наш старый сигнал тревоги, и после представлений он увел меня, оставив мадемуазель Дахут с Элен и доктора де Кераделя с доктором Лоуэллом. Мне очень хотелось выпить, и я сказал Биллу об этом. Билл без комментариев передал мне коньяк и содовую воду. Я выпил неразбавленного коньяку.
Элен привела меня в замешательство, но это замешательство было приятным и не из‑за него мне потребовался алкоголь. А вот мадемуазель Дахут – это совсем другое дело. Вот она вызвала настоящее смятение. Мне пришло в голову сравнение с кораблем, идущим под парусом с опытным капитаном и по хорошо исследованным морям. Элен подобна порыву, хорошо укладывающемуся в известную картину, а мадемуазель Дахут – урагану, дующему совсем в новом направлении и уносящему корабль в неизведанные воды. В этом случае ваши навигационные познания вам мало помогут. Я сказал:
— Элен способна привести в порт Рай, а другая – в порт Ад.
Билл ничего не ответил, продолжая смотреть на меня. Я налил себе вторую порцию. Билл спокойно сказал:
— За обедом будут коктейли и вина.
— Прекрасно, – ответил я и выпил коньяк.
И подумал:
— Не ее адская красота так выбила меня из равновесия. Но почему я так возненавидел ее с первого же взгляда?
Теперь ненависти во мне больше не было. Было только страстное любопытство. Но почему мне кажется, что я когда‑то был знаком с ней? И почему кажется, что она знает меня лучше, чем я ее? Я прошептал:
— Она заставляет вспомнить о море, вот что.
— Кто?
— Мадемуазель д'Ис.
Он сделал шаг назад и сказал, как будто его что‑то душило:
— А кто такая мадемуазель д'Ис?
Я подозрительно посмотрел на него и спросил:
— Ты не знаешь имена своих гостей? Эта девушка там внизу – мадемуазель Дахут д'Ис де Керадель.
Билл ответил:
— Нет, я этого не знал. И Лоуэлл представил ее только как де Керадель.
Спустя минуту он сказал:
— Вероятно, еще одна порция тебе не повредит. А я присоединюсь.
Мы выпили. Он небрежно заметил:
— Никогда раньше не встречался с ними. Де Керадель позвонил Лоуэллу вчера утром, как один известный психиатр другому. Лоуэлл заинтересовался и пригласил его с дочерью на обед. Старик очень любит Элен, и со времени своего возвращения в город она всегда на его приемах играет роль хозяйки. Она его тоже любит.
Он допил свой коньяк и поставил стакан. Потом по–прежнему небрежно добавил:
— Я так понял, что де Керадель здесь уже больше года. Однако до вчерашних интервью, твоего и моего, он ни разу нас не навещал.
Я подпрыгнул, когда до меня дошло, на что он намекает. Я сказал:
— Ты хочешь сказать…
— Ничего не хочу. Просто указываю на совпадение.
— Но если они имеют отношение к смерти Дика, зачем им рисковать, приходя сюда?
— Чтобы узнать, много ли нам известно. – Он колебался. – Это может ничего не значить. Но… именно о таких случаях я думал, готовя свою наживку. А де Керадель и его дочь похожи на рыбу, которую я надеялся поймать… особенно теперь, когда я знаю о д'Ис. Да, особенно.
Он обошел вокруг стола и положил руки мне на плечи.
— Алан, то, что я думаю, может показаться тебе сумасшествием. Да и мне самому иногда кажется. Не Алиса в Стране Чудес, а Алиса в Стране Дьявола. Я хочу, чтобы сегодня ты говорил все, что придет в голову. Вот и все. Пусть тебя не удерживают соображения вежливости, приличия, удобства или еще какие‑нибудь. Если считаешь, что твои слова могут стать оскорблением, пусть так и будет. Не заботься о том, что подумает Элен. Забудь о Лоуэлле. Говори все, что приходит в голову. Если де Керадель будет утверждать что‑то, с чем ты не согласен, не слушай вежливо, возражай ему. Если он сорвется, тем лучше. Выпей столько, чтобы всякие сдерживающие соображения о вежливости тебе не мешали. Ты будешь говорить, я – слушать. Понятно?
Я рассмеялся и сказал:
– In vino veritas. Твоя мысль заключается в том, что vino мое, а veritas – у противников. Здравая психология. Ладно, Билл, выпью еще немного.
Он сказал:
— Ты знаешь свои возможности. Но будь осторожен.
Мы спустились вниз к обеду. Я чувствовал себя заинтересованным, веселым и беззаботным. Представление о мадемуазель упростилось до тумана серебристо–золотых волос с двумя фиолетовыми пятнами на белом лице. С другой стороны, Элен оставалась четкой античной монетой. Мы сели за стол. Доктор Лоуэлл сидел во главе, слева от него де Керадель, справа мадемуазель Дахут. Элен сидела рядом с де Кераделем, а я рядом с мадемуазель. Билл сидел между мной и Элен. Стол был красиво убран, и вместо электричества горели свечи. Дворецкий принес коктейли. Я поднял свой и сказал Элен:
— Ты прекрасная античная монета, Элен. Тебя отчеканил Александр Великий. И ты будешь в моем кармане.
Доктор Лоуэлл удивленно посмотрел на меня. Но Элен чокнулась со мной и прошептала:
— Ты ведь никогда не потеряешь меня, дорогой?
Я ответил:
— Нет, сердце мое, и не отдам тебя никому, и никому не позволю украсть мою любимую античную монету.
Ко мне прижалось мягкое плечо. Я отвел взгляд от Элен и посмотрел прямо в глаза мадемуазель. Теперь они не были просто фиолетовыми пятнами. Удивительные глаза. Большие, чистые, как вода на тропической отмели, и в них поблескивали маленькие светло–лиловые искорки, как блестит солнце в мелкой тропической воде, когда поворачиваешь голову и смотришь сквозь чистую воду.
Я сказал:
— Мадемуазель Дахут, почему, глядя на вас, я думаю о море? Я видел в Средиземном море цвет точно, как ваши глаза. А пена на волнах белая, как ваша кожа. И водоросли, как ваши волосы. Ваш аромат – аромат моря, а ходите вы как волна…
Элен протянула:
— Как ты поэтичен, мой дорогой. Может, тебе лучше заняться супом, а не брать другой коктейль?
Я ответил:
— Дорогая, ты моя античная монета. Но ты еще не в моем кармане. И я не в твоем. Я выпью еще коктейль, а потом займусь супом.
Она вспыхнула. Я пожалел о сказанном. Но взгляд Билла подбодрил меня. И глаза мадемуазель отплатили мне за любые угрызения совести – если бы я только не понял, что за вновь вспыхнувшей ненавистью совершенно определенно скрывается страх. Она легко положила свою руку на мою. Рука была щекочуще теплой. При ее прикосновении странное неприятное отталкивающее ощущение прошло. Я почти с болью осознал ее исключительную красоту. Она сказала:
— Вы любите… старинные вещи. Потому что в вас древняя кровь… кровь Арморики. Вы, кажется, помните…
Мой коктейль пролился на пол. Билл сказал:
— О, прости, Алан. Как это неуклюже с моей стороны. Бриггс, принесите доктору Карнаку другой.
— Все в порядке, Билл, – сказал я.
Надеюсь, я сказал это легко, потому что глубоко во мне горел гнев. Интересно, сколько времени прошло с этого «помните» мадемуазель и до того, как перевернулся мой стакан. Когда она произнесла это, ее щекочущее тепло превратилось в огненную точку, эта искра воспламенила мой мозг. И вместо приятной освещенной свечами комнаты я увидел обширную равнину, уставленную огромными монолитами. Эти монолиты стояли рядами и сходились к центру, в котором находилась гигантская пирамида из камней. Я знал, что это Карнак, загадочный памятник друидов и забытых народов, живших до друидов. От этого места происходит моя фамилия, только за столетия добавился один слог.
Но это не тот Карнак, который я видел в Бретани. Это место моложе, все камни на месте, стоят прямо; их еще не изгрызли зубы неисчислимых столетий. По проходам между монолитами идут люди, сотни людей. И хотя я знал, что дело происходит днем, какая‑то чернота нависла над склепом, находившимся в центре круга. И океана я не видел. Там, где должен был быть океан, виднелись высокие башни из серого и розового камня, туманные очертания стен большого города. Я стоял, как мне показалось, очень долго, и страх медленно вползал мне в сердце, как прилив. А с ним ползли холодная неумолимая ненависть и гнев.
Я услышал слова Билла – и снова оказался в комнате. Страх миновал. Гнев остался.
Я взглянул в лицо мадемуазель Дахут. Мне показалось, что я вижу в нем торжество и радостное оживление. Я прекрасно понимал, что произошло, и мне не нужно было отвечать на ее прерванный вопрос. Она знала. Это какой‑то гипноз, внушение в очень высокой степени. Я подумал, что если Билл прав в своих подозрениях, то со стороны мадемуазель Дахут было не слишком умно раскрывать так быстро свои карты. А может, она просто уверена в себе. Я постарался не думать об этом.
Билл, Лоуэлл и де Керадель разговаривали. Элен слушала и краем глаза следила за мной. Я прошептал мадемуазель:
— Я знаю колдуна в Зулуленде, который может сделать то же самое, мадемуазель де Керадель. Он называют это «посылать душу». Но он не так прекрасен, как вы; может, поэтому ему требуется больше времени.
Я готов был уже добавить, что она быстра, как нападающая змея, но сдержался.
Она не побеспокоилась ответить. Спросила:
— Вы так думаете… Алан де Карнак?
Я снова рассмеялся:
— Я думаю, ваш голос – это голос моря.
Так оно и было: я не слыхал более мягкого сладкого контральто; голос низкий, убаюкивающий, шепчущий, успокаивающий, как шелест волн на длинном гладком берегу. Она сказала:
— Но разве это комплимент? Вы сегодня много раз сравнивали меня с морем. Разве море – предательское?
— Да, – сказал я. Пусть понимает ответ как хочет. Она не казалась оскорбленной.
За обедом продолжались разговоры и том и о сем. Хороший обед, и вино хорошее. Дворецкий так внимательно следил за моим стаканом, что я подумал, уж не дал ли ему указаний Билл. Взгляды мадемуазель на жизнь оказались космополитичными, она умна и, несомненно, очаровательна – если использовать это затасканное слово. У нее дар казаться тем, чем она хочет представить себя в разговоре. Ничего экзотического, ничего загадочного теперь в ней не было. Современная хорошо информированная, ухоженная молодая женщина исключительной красоты. Элен была восхитительна. Ничто не заставляло меня спорить, быть невежливым или оскорбительным.
Мне показалось, что Билл смущен, находится в замешательстве, как пророк, предсказавший явление, которое и не думает материализоваться. Если де Керадель был заинтересован в смерти Дика, ничто об этом не свидетельствовало. Некоторое время они с Лоуэллом негромко что‑то обсуждали, а остальные в их разговоре не участвовали. Вдруг я услышал слова Лоуэлла:
— Конечно, вы не верите в объективную реальность подобных существ?
Вопрос сразу привлек мое внимание. Я вспомнил разорванное письмо Дика. Дик хотел, чтобы Билл считал что‑то объективным, а не субъективным. Я заметил, что Билл внимательно прислушивается. Мадемуазель с легким интересом смотрела на Лоуэлла.
Доктор Керадель ответил:
— Я знаю, что они объективны.
Доктор Лоуэлл недоверчиво спросил:
— Вы верите, что эти создания, эти демоны… действительно существовали?
— И по–прежнему существуют, – сказал де Керадель. – Точно воспроизведите условия, при которых обладавшие древней мудростью пробуждали эти существа – силы, присутствия, власти, назовите их как угодно, – и дверь откроется, и Они придут. Та Светлая, которую египтяне именовали Изидой, снова, как в старину, встанет перед нами, предлагая поднять Ее вуаль. И Темный и Сильный, которого египтяне называли Сет и Тифон, но у которого есть и более древнее имя, известное в храмах более древней и мудрой расы, – Он тоже проявит себя. Да, доктор Лоуэлл, и другие придут через открытые двери учить нас, советовать нам, направлять нас и владеть нами…
— И приказывать нам, отец мой, – почти нежно добавила мадемуазель де Керадель.
— Или приказывать нам, – повторил де Керадель механически; кровь отхлынула от его лица, и мне показалось, что во взгляде, который он бросил на дочь, был страх.
Я коснулся ноги Билла и почувствовал его подбадривающее пожатие. Поднял свой бокал и сквозь него посмотрел на де Кераделя. И сказал раздражающе поучительно:
— Доктор де Керадель настоящий шоумен. Если подготовить подходящее театральное помещение, подходящий сценарий, подобрать состав исполнителей, соответствующую музыку, то в нужный момент из‑за кулис появятся демоны. Что ж, я видел, как в таких условиях производились прекрасные иллюзии. Настолько реальные, что способны обмануть простых любителей…
У де Кераделя сузились глаза; он привстал со своего кресла, прошептал:
— Любителей? Вы считаете меня любителем?
Я вежливо ответил, по–прежнему глядя сквозь свой стакан:
— Вовсе нет. Я сказал – шоумен, организатор представления.
Он с трудом подавил свой гнев и сказал Лоуэллу:
— Это не иллюзии, доктор Лоуэлл. Существуют образцы, формулы, которые нужно соблюдать. Есть ли что‑либо более жесткое, чем формулы, при помощи которых католическая церковь устанавливает контакт со своим Богом? Пение, молитвы, жесты, даже интонации молитв – все жестко закреплено. В любом ритуале: мусульманском, буддистском, синтоистском – каждый акт поклонения в любой религии по всему миру жестко определен. Человеческий мозг сознает, что только при точном соблюдении формулы может он соприкоснуться с мозгом… нечеловеческим. Это древняя мудрость, доктор де Карнак, но довольно об этом. Говорю вам: то, что появляется на моей сцене, не иллюзия.
Я спросил:
— Откуда вы знаете?
Он негромко ответил:
— Знаю.
Доктор Лоуэлл успокаивающе сказал:
— Исключительно странные и исключительно реальные видения можно вызвать комбинацией звуков, запахов, движений и цветов. Кажется, существуют комбинации, которые у разных индивидуумов вызывают приблизительно те же видения, устанавливают одинаковый эмоциональный ритм. Но я никогда не имел доказательств, что эти видения не субъективны…
Он помолчал, и я заметил, что руки у него сжаты, костяшки пальцев побелели; он медленно сказал:
— За одним исключением.
Доктор де Керадель следил за ним, и сжатые руки не скрылись от его внимания. Он спросил:
— И это исключение?
Лоуэлл хрипло ответил:
— У меня нет доказательств.
Де Керадель продолжал:
— Но в вызывании духов есть еще один элемент, который не относится к сцене, не принадлежит шоумену, доктор Карнак. Это, если использовать химический термин, катализатор. Он вызывает необходимые последствия, а сам при этом остается незатронутым и неизменным. Это человеческий элемент – мужчина, женщина, ребенок, находящийся в связи с пробуждаемым Существом.
Такой была пифия в Дельфах, сидевшая на треножнике с мозгом, открытым богу, и говорившая его голосом. Таковы жрицы Изиды в Древнем Египте, и жрицы Иштар в Вавилоне – впрочем, богиня одна и та же. Таковы жрицы Гекаты, богини Ада, чьи тайные обряды оставались забытыми, пока я не восстановил их. Таков был воин–король, жрец Калкру, Кракена древних уйгуров. И таковы были жрецы, по призыву которых приходил Черный Бог скифов в виде чудовищной лягушки…
Билл прервал его:
— Но все это в далеком прошлом. В них уже много столетий никто не верит. И линия этих жрецов и жриц давным–давно оборвалась. Как можно сегодня найти такого?
Мне показалось, что мадемуазель бросила предупреждающий взгляд на де Кераделя и собиралась заговорить. Он не обратил на это внимания, захваченный своими мыслями, стараясь получше объяснить их. Он сказал:
— Вы ошибаетесь. Они живут. Они живут в сознании своих потомков. Спят в их мозгу. Спят, пока не появится человек, знающий, как их разбудить. И какова награда разбудившему! Не золото и сверкающее барахло из гробницы Тутанхамона, не добыча Чингиз–Хана или Аттилы… блестящие камешки и ничего не стоящий металл… игрушки. Нет, запасы воспоминаний, ульи знаний. Это знание возносит своего владельца так высоко над остальными людьми, что он становится богом.
Я вежливо заметил.
— Мне бы хотелось какое‑то время побыть богом. Где я могу найти такой запас? Открыть такой улей? Может, ужалят несколько раз, но дело того стоит.
Жилы вздулись на его висках; он сказал:
— Вы насмехаетесь. Тем не менее я намекну. Однажды доктор Шарко загипнотизировал девушку, которая давно была объектом его экспериментов. Неожиданно он услышал другой голос, исходивший из ее горла. Мужской голос, грубый голос французского крестьянина. Доктор Шарко расспрашивал этот голос. И тот рассказал о многом, о таком, чего не могла знать девушка. Голос рассказывал о событиях Жакерии. А Жакерия происходила шестьсот лет назад.
Доктор Шарко записал то, что говорил голос. Позже тщательно проверил. Все подтвердилось. Он проследил родословную девушки. Оказалось, она по прямой линии происходит от предводителя этого восстания. Он попробовал снова. Пошел еще глубже. И услышал другой голос, женский, который рассказывал о событиях, происходивших тысячи лет назад. Рассказывал в подробностях, которые мог знать только непосредственный свидетель. Снова доктор Шарко проверил записи. И снова обнаружил, что голос говорил чистую правду.
Я спросил еще более вежливо:
— Значит, мы пришли к переселению душ?
Он яростно ответил:
— Не смейте смеяться! Шарко проник сквозь множество вуалей в памяти за тысячу лет. А я пошел дальше. Не на тысячу, а на десятки тысяч лет. Я, де Керадель, говорю вам это.
Лоуэлл сказал:
— Но, доктор де Керадель, воспоминания не передаются по наследству. Физические характеристики, слабости, предрасположенности, цвет, форма – да. Сын скрипача может унаследовать пальцы своего отца, его талант, слух, но не воспоминания о нотах, которые играл его отец. Не воспоминания своего отца.
Доктор де Керадель ответил:
— Вы ошибаетесь. Эти воспоминания могут передаваться. Через мозг. Точнее через то, что использует мозг. Я не утверждаю, что каждый человек наследует воспоминания своих предков. Мозг человеческий не стандартизирован. Природа – не рабочий в фирменной одежде. У некоторых людей, похоже, отсутствуют клетки, способные нести эти воспоминания. У других они неполны, неясны, в них много пробелов. Но у некоторых, немногих, записи полны, четки, реальны, как записи в книге, и нужна игла сознания, глаз сознания, чтобы прочесть их.
Меня он игнорировал, а доктору Лоуэллу сказал с напряженной страстностью:
— Говорю вам, доктор Лоуэлл, это так, что бы ни писали о наследственном веществе, хромосомах, генах – маленьких переносчиках наследственности. Говорю вам, я это доказал. И говорю вам, что существуют мозги, в которых записаны воспоминания, уходящие в те времена, когда человек еще не был человеком. Воспоминания его обезьяноподобных предков. И дальше этого – к первым амфибиям, которые выползли из моря и начали долгий подъем по лестнице эволюции, чтобы стать тем, чем мы стали сегодня.
Мне уже не хотелось прерывать, не хотелось вмешиваться – сила веры этого человека была велика. Он сказал:
— Доктор Карнак презрительно упомянул о переселении душ. А я утверждаю, что человек не может вообразить нечто несуществующее и тот, кто презрительно говорит о любом веровании, сам невежественный человек. Именно эта наследственная память лежит в основе веры в реинкарнацию и, может, веры в бессмертие. Позвольте в качестве иллюстрации привести одну из современных игрушек – фонограф. То, что мы называем сознанием, это игла, бегущая по бороздкам, сделанным опытом. Точно так, как игла фонографа бежит по бороздкам пластинки.
— После того как бороздки записаны, игла снова может пройти по ним, это называется воспоминаниями. Мы снова видим, снова слышим, снова живем, читая записанный опыт. Не всегда сознание находит нужную бороздку. Тогда мы говорим, что забыли. Иногда бороздки недостаточно глубоки, диск поврежден, и наши воспоминания смутны, неполны.
— Древние воспоминания, древние диски заключены в другой части мозга, в стороне от тех, что несут воспоминания этой жизни. Очевидно, так должно быть, иначе получилось бы смешение, человеку мешали бы воспоминания об условиях, которые больше не существуют. В древности, когда жизнь была проще и условия не так сложны, эти две области воспоминаний располагались ближе.
— Именно поэтому мы утверждаем, что древний человек больше полагался на «интуицию», а не на разум. И сегодня примитивные племена поступают так же. Но время проходило, жизнь все более усложнялась. Те, кто больше опирался на свои собственные воспоминания, чем на воспоминания предков, получали больше шансов выжить. Как только это расхождение началось, оно должно было совершаться быстро, как все подобные эволюционные процессы.
— Но природа никогда не теряет того, что когда‑то создала. Поэтому на определенных стадиях своего развития у человеческого зародыша появляются жабры, а еще позже волосы обезьяны. И поэтому и сегодня есть люди, у которых запасы древних воспоминаний полны, их нужно суметь открыть, доктор Карнак, а открыв, суметь прочитать.
Я улыбнулся и отпил вина.
Лоуэлл сказал:
— Все это весьма предположительно, доктор де Керадель. Если ваша теория верна, эти унаследованные воспоминания будут восприниматься как прошлые жизни теми, кто может их вспомнить. Они могут быть основанием доктрины о переселении душ, о реинкарнации. Как еще их может объяснить примитивный мозг?
Де Керадель сказал:
— Это объясняет множество вещей, например, веру китайцев, что только человек, не имеющий сына, умирает на самом деле. Народную поговорку: «Человек живет в своих детях»…
Лоуэлл сказал:
— Новорожденная пчела отлично знает законы и обязанности улья. Ее не нужно учить веять, обмахивать, чистить, смешивать пыльцу и нектар в желе, которым кормят матку и трутней, не нужно учить, что для работниц следует смешивать другое желе. Никто не учит ее сложным законам жизни улья. Знания, память заключены в яйце, в личинке, в куколке. То же самое справедливо для муравьев и других насекомых. Но это не так для человека и других млекопитающих.
Доктор де Керадель ответил:
— Это справедливо и для человека.
4. УТРАЧЕННЫЙ ГОРОД ИС
В словах де Кераделя много правды. Я встречался с проявлениями наследственной памяти в самых разных уголках земли. Мне очень хотелось поддержать его, несмотря на вполне извинительный намек на мое невежество. Хотелось бы поговорить с ним, как с более осведомленным исследователем.
Вместо этого я осушил свой стакан и строго сказал:
— Бриггс, у меня уже пять минут нечего пить, – а потом обратился ко всем за столом: – Минутку. Будем логичны. Такая важная проблема, как душа и ее странствия, заслуживает внимательного рассмотрения. Доктор де Керадель начал обсуждения, утверждая объективное существование того, что демонстрирует шоумен. Верно, доктор де Керадель?
Он коротко ответил:
— Да.
Я сказал:
— Затем доктор де Керадель упомянул некоторые эксперименты доктора Шарко в области гипноза. Эти случаи меня не убеждают. В южных морях, в Африке, на Камчатке я не раз слышал, как наиболее способные фокусники–шаманы говорят не двумя и не тремя, а десятком разных голосов. Хорошо известно, что загипнотизированный человек иногда начинает говорить не своим голосом. Известно также, что шизоид, то есть человек с расщепленной личностью, может говорить разными голосами – от баса до сопрано. И все это без всякого вмешательства наследственной памяти. Это просто симптомы их состояния. И ничего больше. Я прав, доктор Лоуэлл?
— Да, – сказал Лоуэлл.
Я продолжал:
— Что касается того, что рассказывал Шарко его пациент – кто знает, что рассказывала этой девушке ее бабушка? В семьях часто передаются такие рассказы, дети их запоминают, сохраняют в своем подсознании. К тому же их мог подсказать сам Шарко. Он обнаружил, что некоторые сведения соответствуют действительности. Ничего удивительного для того, кто желает подкрепить свою idee fixe, свою любимую теорию. И эти некоторые сведения становятся всем. Но я не так доверчив, как Шарко, доктор де Керадель.
Он сказал:
— Я прочел в газете ваше интервью. Там вы говорите по–другому, доктор Карнак.
Значит, он читал интервью. Я почувствовал, как Билл опять нажимает мне на ногу. И сказал:
— Я пытался объяснить репортерам, что вера в обман необходима, чтобы он стал эффективным. Признаю, что для жертвы нет особой разницы, обман это или реальность. Но это вовсе не значит, что обман становится реальностью. И я старался показать, что защита от обмана очень проста – не верить.
Вены на лбу де Кераделя начали дергаться. Он сказал:
— Под обманом вы понимаете, по–видимому, эффектный номер.
— Больше того, – жизнерадостно заявил я. – Полнейший вздор!
Доктор Лоуэлл выглядел смущенным. Я допил вино и улыбнулся мадемуазель.
Элен сказала:
— У тебя сегодня прекрасные манеры, дорогой.
Я ответил:
— Манеры – к дьяволу! Какие нужны манеры в обсуждении гоблинов, реинкарнации, наследственной памяти, Изиды, Сета и Черного Бога скифов, похожего на лягушку? Я хочу вам кое‑что сказать, доктор де Керадель. Я побывал во многих местах земного шара. Я охотился повсюду за гоблинами и демонами. И во всех своих странствиях я ни разу не встречал того, что нельзя объяснить массовым гипнозом, внушением или мошенничеством. Поняли? Ни разу. А я видел многое.
Это ложь, но я хотел посмотреть, как это на него подействует. И увидел. Вены у него на висках вздулись еще сильнее, губы побелели. Я сказал:
— Много лет назад у меня появилась блестящая мысль, которая сводит всю проблему к простейшей форме. Блестящая идея основана на том факте, что слух, вероятно, последнее чувство, умирающее у человека. После остановки сердца мозг продолжает функционировать, пока у него есть кислород. И вот мозг функционирует, а чувства уже мертвы, а умирающему кажется, что проходят дни и недели, хотя на самом деле видения длятся секунды.
— «Небо и Ад, Инкорпорейтед», – вот моя идея. «Обеспечьте себе бессмертие радости!» «Дайте вашему врагу бессмертие мук!» Опытные специалисты–гипнотизеры, мастера внушения будут сидеть у постели умирающего и нашептывать ему, а мозг драматизирует это после того, как все остальные чувства умрут…
Мадемуазель резко сдержала дыхание. Де Керадель со странным напряжением смотрел на меня.
— Вот и все, – продолжал я. – За определенную сумму вы можете дать вашему клиенту бессмертие. Любой тип бессмертия, все, что захочет, от населенного гуриями рая Магомета до рая с ангельскими хорами. А если сумма достаточна, вы можете и врагу вашего клиента нашептать ад на века и века. И, готов поручиться, он туда отправится. Вот какова моя «Небо и Ад, Инкорпорейтед».
— Прекрасная мысль, мой дорогой, – прошептала Элен.
— Прекрасная мысль, – согласился я с горечью. – Но позвольте вам сказать, что она придумана со мной. Положим, она вполне осуществима. Хорошо, возьмем меня, изобретателя. Если существует восхитительная жизнь после смерти, буду ли я наслаждаться ею? Вовсе нет. Я буду думать: «Это только видение в умирающих клетках моего мозга. Это не объективная реальность». Ничего из происходящего в этом будущем, если оно реально, не станет для меня реальностью.
— Я буду думать: «О, да, я это очень хорошо придумал, но все же это только умирающие клетки моего мозга». Конечно, – сказал я мрачно, – есть и компенсация. Если я приземлюсь в традиционном аду, я не восприму его серьезно. И все чудеса, вся магия, все волшебство, которые я видел, не более реальны, чем эти видения умирающего мозга.
Мадемуазель прошептала, чуть слышно, так что понятно было только мне:
— Я могу сделать их реальными для вас, Алан де Карнак, И небо, и ад.
Я сказал:
— В жизни и в смерти ваши теории не могут быть доказаны, доктор де Керадель. По крайней мере для меня.
Он не ответил, продолжая смотреть на меня и постукивая пальцами по столу.
Я продолжал:
— Предположим, например, что вы хотите узнать, кому поклонялись среди камней Карнака. Вы можете воспроизвести все обряды. Можете найти потомка жреца, у которого в мозгу живет древний дух. Но откуда вы знаете, что тот, кто появится на большой пирамиде в кругу монолитов – Собиратель в Пирамиде, Посетитель Алкар–Аза, – что он реален?
Де Керадель недоверчиво спросил напряженным голосом, будто его что‑то сдерживало:
— А вы что знаете об Алкар–Азе и о Собирателе в Пирамиде?
Я тоже удивился этому. Не могу припомнить, чтобы когда‑либо слышал эти названия. Но они возникли у меня на устах, будто я их давно знаю. Я взглянул на мадемуазель. Она опустила глаза, но я успел заметить в них торжество, как и тогда, когда при прикосновении ее руки я увидел древний Карнак. Я ответил де Кераделю:
— Спросите у своей дочери.
Глаза его больше не были голубыми, они стали бесцветными. И были похожи на огненные шары. Он молчал, но глаза его требовали от нее ответа. Мадемуазель равнодушно взглянула на него. Пожала белыми плечами. И сказала:
— Я ему не говорила. – И добавила с угрозой: – Может, отец, он помнит.
Я наклонился к ней и коснулся своим стаканом ее. Я снова чувствовал себя очень хорошо. Сказал:
— Я помню… помню…
Элен ядовито заметила:
— Если будешь пить еще, запомнишь головную боль, дорогой.
Мадемуазель прошептала:
— А что вы помните, Алан де Карнак?
Я запел старую бретонскую песню:
Эй, рыбак, скажи скорей,
Царица из страны теней
Не проезжала ль здесь верхом
На черном жеребце своем
Со сворой призрачной у ног?
Ее не видеть ты не мог.
Конь ее мчится, словно тень
От облака в ненастный день,
Как тучи сумрачной копье.
Дахут Белая – имя ее.
Наступило странное молчание. Я заметил, что де Керадель сидит напряженно и смотрит на меня с тем же выражением, с каким смотрел, когда я говорил об Алкар–Азе и Собирателе в Пещере. Лицо Билла побледнело. Я посмотрел на мадемуазель: в ее глазах плясали светло–лиловые искорки. Не представляю, почему старая песня могла произвести такой эффект. Элен сказала:
— Странный мотив, Алан. А кто эта Дахут Белая?
— Ведьма, мой ангел, – ответил я. – Злая, но прекрасная ведьма. Не рыжая, как ты, а светловолосая. Она жила больше двух тысяч лет назад в городе Ис. Никто не знает, где находился город Ис, но, может, там, где между Киброном и Бель–Илем плещется море. Когда‑то здесь была суша. Ис был злым городом, полным ведьм и колдунов, но самой злой из них была Дахут, дочь короля. Она брала себе в любовники, кого хотела. Они удовлетворяли ее ночь, две ночи, редко три. Потом она бросала их, говорят некоторые, в море. Или, как говорят другие, отдавала их своим теням…
Билл прервал:
— Что ты хочешь этим сказать?
Лицо его еще больше побледнело. Де Керадель пристально смотрел на него. Я сказал:
— Я хочу сказать – теням. Разве ты не слышал в песне, что она была королевой теней? Она была ведьмой и заставляла тени подчиняться себе. Любые тени: тени убитых ею любовников, тени демонов, инкубов и суккубов из кошмаров.
— Наконец боги решили вмешаться. Не спрашивайте меня об этих богах. Если это было до христианства, то языческие, если после – христианские. Во всяком случае они, по–видимому, считали, что тот, кто живет мечом, от меча и должен умереть и все подобное. Они послали в Ис юного героя, которого Дахут полюбила страстно и неистово. Это был первый человек, которого она полюбила, несмотря на все свои прежние связи. Но он оказался очень скромен. Он мог простить ей прежние приключения, но чтобы полюбить ее, он хотел убедиться, что она сама его любит. Как она могла убедить его? Очень просто. Ис был построен ниже уровня моря, и его от воды защищали прочные стены. Были одни ворота, через которые могло войти море. Зачем были сделаны эти ворота? Не знаю. Вероятно, на случай вторжения, революции или чего‑то подобного. Во всяком случае легенда гласит, что такие ворота были. Ключ от них всегда висел на шее короля Иса, отца Дахут.
— «Принеси мне ключ, и я поверю, что ты меня любишь», – сказал герой. Дахут прокралась в спальню отца и сняла у него с шеи ключ. И отдала его своему любимому. Он открыл морские ворота. Море ворвалось в город. Конец злому Ису. Конец злой Дахут Белой.
— Она утонула? – спросила Элен.
— В легенде есть любопытная подробность. Дахут в порыве дочерней преданности прибежала к отцу, разбудила его, взяла своего большого черного жеребца, оседлала его, посадила перед собой короля и попыталась ускакать от волн на возвышение. В конце концов в ней было что‑то хорошее. Но – еще одна интересная подробность – восстали ее тени, устремились в волны и стали их двигать все быстрее и выше. И волны обогнали черного жеребца, Дахут и ее папу. И тут уж действительно конец. Но она по–прежнему едет по берегам Киброна на своем черном жеребце, и у ее ног теневая свора… – я неожиданно смолк.
Левая рука у меня была поднята, в ней я держал стакан. Свечи отбрасывали резкую тень руки на скатерть прямо перед мадемуазель.
И белые руки мадемуазель что‑то делали с тенью моей руки, как будто просовывали что‑то под тень, чем‑то окружали ее.
Я опустил руку. Она быстро спрятала свои под стол. Я тотчас же схватил ее за руку и разжал пальцы. В них был длинный волос. Я поднял его над столом и увидел, что волос ее собственный.
Я поднес его к огню свечи и подождал, пока он сгорит.
Мадемуазель насмешливо рассмеялась. Я слышал и смешок де Кераделя. Странным казалось, что его смех был не только откровенным, но и дружеским. Мадемуазель сказала:
— Сначала он сравнивает меня с морем, с предательским морем. Потом намеком, скрытно, со злой Дахут, королевой теней. А потом решает, что я ведьма, и сжигает мой волос. И в то же время говорит, что он недоверчив, что он не верит!
Она снова рассмеялась, и де Керадель снова подхватил ее смех.
Я чувствовал себя глупо, очень глупо. Несомненно, это туше. Я взглянул на Билла. Какого дьявола он завел меня в эту ловушку? Но Билл не смеялся. Он смотрел на мадемуазель с каменным выражением лица. Не смеялась и Элен.
Я улыбнулся и сказал ей:
— Похоже, еще одна леди посадила меня на гнездо ос.
Наступило короткое неловкое молчание. Нарушил его де Керадель.
— Не знаю почему, но мне вспомнился вопрос, который я хотел задать вам, доктор Беннет. Я очень интересуюсь обстоятельствами самоубийства мистера Ральстона, который, как я понял из газет, был не только вашим пациентом, но и близким другом.
Билл ответил спокойно, в лучшей профессиональной манере:
— Вы правы, доктор де Керадель, как друга и пациента я знал его, вероятно, лучше, чем кто бы то ни было.
Де Керадель сказал:
— Меня интересует не только его смерть. Упоминались еще три самоубийства и намекалось, что все они вызваны одной причиной.
— Совершенно верно, – сказал Билл. Де Керадель посмотрел на свой стакан, медленно повертел его в руке и сказал:
— Я действительно очень заинтересован, доктор Беннет. Мы все здесь психиатры. Ваша сестра… и моя дочь… мы им доверяем. Они не станут болтать. Вы действительно считает, что у этих четырех смертей есть нечто общее?
— Несомненно, – ответил Билл.
— Что? – спросил де Керадель.
— Тени! – сказал Билл.
5. ШЕПЧУЩАЯ ТЕНЬ
Я недоуменно смотрел на Билла. Вспомнил, как он беспокоился из‑за того, что я упомянул тени в разговоре с репортерами, и его напряженность, когда говорил о тенях Дахут Белой. И вдруг он снова о тенях. Должна быть какая‑то связь, но какая?
Де Керадель воскликнул:
— Тени! Вы хотите сказать, что все они страдали аналогичными галлюцинациями?
— Тени – да, – сказал Билл. – Галлюцинации – не уверен.
Де Керадель задумчиво повторил:
— Вы не уверены. – Потом спросил: – Об этих тенях ваш друг и пациент говорил, что хочет считать их объективными, а не субъективными? Я с большим интересом прочел газетные материалы, доктор Беннет.
— Я в этом уверен, доктор де Керадель, – ответил Билл, и в голосе его чуть слышно звучала ирония. – Да, он хотел, чтобы тень я считал объективной, а не субъективной. Тень, а не тени. Была только одна… – он помолчал и добавил подчеркнуто: – у каждого лишь одна тень, вы знаете.
Я решил, что понял план сражения Билла. Он основывался на интуиции, блефовал, делал вид, что знает о теневой ловушке смерти, чем бы ни была эта тень, точно так же как он делал вид, что знает общую причину смерти всех четверых. Он использовал эту ловушку, чтобы приманить свою рыбу поближе к крюку. А теперь заставляет рыбу клюнуть. Не думаю, чтобы он знал больше, чем когда мы разговаривали с ним в клубе. И подумал, что он опасно недооценивает де Кераделя. Последний удар был слишком очевидным.
Де Керадель спокойно говорил:
— Одна тень или несколько, какая разница, доктор Беннет? Галлюцинация может возникать в одной форме – традиция утверждает, что тень Юлия Цезаря появлялась перед раскаивающимся Брутом. Или может быть умножена тысячекратно. Мозг умирающего Тиберия произвел тысячи теней убитых им, они окружили его сметный одр, угрожали ему. Существуют органические нарушения, которые вызывают такие галлюцинации. Например, нарушения в области зрения. Или наркотики и алкоголь. Их порождают аномалии мозга и нервной системы. Они дети самоотравления. Результат лихорадки и высокого кровяного давления. Их также порождает совесть. Следует ли понимать, что вы отвергаете все эти рациональные объяснения?
Билл флегматично ответил:
— Нет. Скорее я не принимаю ни одно из них.
Неожиданно вмешался доктор Лоуэлл:
— Есть еще одно объяснение. Внушение. Постгипнотическое внушение. Если Ральстон и остальные попали под влияние человека, который знает, как контролировать мозг такими методами… тогда я понимаю, как их могли убедить убить самих себя. Я сам…
Пальцы его сжали ножку бокала. Бокал сломался, порезав его. Он обмотал кровоточащую руку носовым платком. И сказал:
— Не беда. Хотел бы я, чтобы воспоминание, вызвавшее это, не резало глубже.
Мадемуазель смотрела на него, на губах ее была легкая улыбка.
Я уверен, что де Керадель ничего не упустил. Он сказал:
— Вы принимаете объяснение доктора Лоуэлла?
Билл неуверенно ответил:
— Нет… не полностью. Не знаю.
Бретонец замолчал, изучая его со странным напряжением. Потом сказал:
— Ортодоксальная наука утверждает, что тень – это всего лишь уменьшение света в определенном месте, вызванное появлением материального тела между источником света и поверхностью. Тень нематериальна. Она ничто. Так говорит ортодоксальная наука. Каким же было материальное тело, бросившее тень на четверых, если это не галлюцинация?
Доктор Лоуэлл сказал:
— Мысль, коварно помещенная в человеческий мозг, может вызвать такую тень.
Де Керадель вежливо ответил:
— Но доктор Беннет не принимает эту теорию.
Билл ничего не сказал. Де Керадель продолжал:
— Если доктор Беннет считает, что причина смерти тень, не признает галлюцинации и то, что тень отбрасывало материальное тело, тогда мы неизбежно придем к заключению, что он приписывает тени признаки материального тела. Тень откуда‑то появляется, она преследует человека и принуждает его в конце концов убить себя.
— А это предполагает познавательные способности и целеустремленность, волю и эмоции. Все это – в тени? Все это атрибуты материальных тел, феномены сознания, находящегося в мозгу. Мозг материален и находится в несомненно материальном черепе. Но тень нематериальна, у нее нет черепа для размещения мозга; следовательно, у нее нет мозга и нет сознания. И опять следовательно – нет познавательных способностей и целеустремленности, нет воли и эмоций. И наконец, следовательно, у нее нет понуждений, стремлений, желаний пугать или принуждать материальное существо к самоуничтожению. И если вы все это не признаете, мой дорогой доктор Беннет, вы признаете… колдовство.
Билл спокойно ответил:
— Если так, то почему вы надо мной смеетесь? Что такое ваши теории, которые вы сегодня излагали, как не колдовство? Может, вы обратили меня в свою веру, доктор де Керадель.
Бретонец неожиданно перестал смеяться. Он сказал:
— Да? – и снова медленно: – Да! Но это не теории, доктор Беннет. Это открытия. Или вернее повторение открытий… неортодоксальной науки. – Вены у него на лбу дергались. Он добавил с явной угрозой: – И если именно я открыл вам глаза, то намерен завершить ваше обращение.
Я видел, как внимательно Лоуэлл смотрит на де Кераделя. Мадемуазель смотрела на Билла, и в глазах ее мелькали маленькие дьявольские огоньки: и в ее слабой улыбке я увидел и угрозу и расчет. Над столом нависло странное напряжение, как будто что‑то невидимое подготовилось к удару.
Нарушила молчание Элен, сонно процитировав:
— Поцелуй тени и благословение тени…
Мадемуазель рассмеялась: смех ее больше всего походил на смех маленьких волн. Но в нем были полутона, которые мне понравились еще меньше, чем угроза в улыбке. Что‑то в этом было нечеловеческое, как будто волны смеются над утонувшим человеком.
Де Керадель быстро заговорил на языке, который я, казалось, узнаю, и в то же время я его не понимал. Мадемуазель стала сдержанной. Она сладко сказала:
— Простите, мадемуазель Элен. Я смеялась совсем не над вами. Я вдруг вспомнила нечто очень забавное. Когда‑нибудь я вам расскажу, и вы тоже засмеетесь…
Де Керадель прервал ее, тоже вежливо.
— И вы меня простите, доктор Беннет. Вы должны извинить грубость энтузиаста. И его настойчивость. Я очень прошу вас, если это не нарушает, конечно, доверия между врачом и пациентом, рассказать о симптомах мистера Ральстона. Поведение этой… этой тени, как вы ее называете. Я весьма заинтересован… как профессионал.
Билл ответил:
— Ничего не хотел бы больше. Вы, с вашим уникальным опытом, можете увидеть то, что укрылось от меня. Чтобы удовлетворить профессиональную этику, давайте назовем это консультацией, хотя и посмертной.
Мне показалось, что Билл доволен, что он добился чего‑то, к чему вели его маневры. Я немного отодвинул стул, чтобы видеть одновременно мадемуазель и ее отца. Билл сказал:
— Начну с самого начала. Если захотите, чтобы я что‑нибудь разъяснил, прерывайте не стесняясь. Ральстон позвонил мне и попросил его осмотреть. Я уже несколько месяцев не видел его и не слышал о нем, думал, что он в одной из своих поездок за границей. Он начал неожиданно. «Что‑то со мной неладно, Билл. Я вижу тень. – Я рассмеялся, но он оставался серьезен. И повторил: – Я вижу тень, Билл. И я боюсь!» Я ответил, все еще смеясь: «Если бы ты не видел тени, тогда действительно с тобой что‑то неладно».
Он ответил, как испуганный ребенок: «Но, Билл, эту тень ничего не отбрасывает!»
Он придвинулся ко мне, и тут я понял, что он держит себя в руках исключительным усилием воли. Он спросил: «Я схожу с ума? Видеть тень – это симптом сумасшествия? Скажи, Билл, так ли это?»
Я ответил, что это вздор; вероятно, у него неполадки со зрением или с печенью. Он сказал: «Но эта тень… шепчет!»
Я сказал: «Тебе нужно выпить» и дал ему. Потом продолжал: «А теперь постарайся точно описать, что ты видишь, и если можно, когда тебе в первый раз показалось, что ты видишь».
Он ответил: «Четыре ночи назад. Я был в библиотеке, писал…» Позвольте вам объяснить, доктор де Керадель, что он жил в старом доме Ральстонов на Семьдесят восьмой улице, жил один, если не считать Симпсона, дворецкого, унаследованного от отца, и полудесятка слуг. Он продолжал: «Мне показалось, что кто‑то скользнул вдоль стены за занавес, закрывавший окно. Окно у меня за спиной, я был погружен в письмо, но впечатление такое яркое, что я вскочил и подошел к окну. Там никого не было. Я вернулся к столу, но не мог избавиться от чувства, что кто‑то… или что‑то находится в комнате». Он сказал: «Я был так встревожен, что отметил время».
— Умственное отражение зрительной галлюцинации, – сказал де Керадель. – Очевидное сопутствующее обстоятельство.
Билл сказал:
— Возможно. Во всяком случае немного погодя движение повторилось, но на этот раз справа налево, в противоположном направлении. За последующие полчаса оно повторилось шесть раз, и всегда в противоположном направлении, то есть слева направо, потом справа налево и так далее. Он подчеркнул это, как будто считал очень важным.
Он сказал: «Как будто она ткала». Я спросил, на что она похожа. Он ответил: «У нее нет формы. Она движение. Тогда не было формы». Чувство, что он не один в комнате, усилилось настолько, что спустя короткое время он ушел из библиотеки, не выключая огни, и лег спать. В спальне повторения симптомов не было. Спал он хорошо. И на следующую ночь его ничего не тревожило. И на следующий за этим день он почти забыл о происшествии.
В тот вечер он обедал не дома и вернулся около одиннадцати. Пошел в библиотеку, чтобы просмотреть почту. Он сказал мне: «Неожиданно у меня появилось сильнейшее чувство, что кто‑то смотрит на меня от занавеса. Я медленно повернул голову. И отчетливо увидел на занавесе тень. Вернее, тень переплеталась с занавесом, как будто ее отбрасывало что‑то стоявшее сзади. По форме и размеру тень напоминала человека». Он подбежал к занавесу и рывком отодвинул его. За ним ничего не было, ничто не могло отбросить эту тень.
Он снова сел за стол, но по–прежнему чувствовал на себе чей‑то взгляд. «Немигающие глаза, – сказал он. – Взгляд не отрывался от меня. Как будто кто‑то постоянно находится на самом краю поля зрения. Если я быстро поворачивался, он скользил за мной и смотрел уже с другой стороны. Если я двигался медленно, точно так же медленно двигалась и тень».
Иногда ему казалось, что он уловил это движение, увидел эту тень. Но она тут же растворялась, исчезала, прежде чем он мог рассмотреть ее. И тут же он чувствовал на себе взгляд с другого направления.
«Оно двигалось справа налево, – говорил он, – и слева направо… и снова назад… и опять… и опять… все ткало… ткало…»
«Что ткало?» – спросил я.
Он ответил просто: «Мой саван».
Он сидел в библиотеке до тех пор, пока мог выдержать. Потом сбежал в спальню.
На этот раз спал он плохо, ему казалось, что тень ждет его на пороге. Он прижался к двери, прислушиваясь. Но ничего не услышал. Тень не входила.
Наступил рассвет, и он крепко уснул. Встал поздно, играл в гольф. пообедал, Пошел со знакомой в театр, а потом в ночной клуб. Несколько часов и не вспоминал о событиях ночи. Он сказал: «Когда я подумал об этом, то рассмеялся своей детской глупости». Домой он приехал в три часа ночи. Вошел. И, закрывая дверь, услышал шепот: «Ты сегодня поздно!» Слышал совершенно ясно, как будто шепчущий стоял рядом…
Де Керадель прервал:
— Прогрессирующая галлюцинация. Вначале мысль о движении, потом форма становится отчетливее, затем звук. Галлюцинация прогрессирует от зрительной к слуховой.
Билл продолжал, как будто не слышал:
— Он сказал, что у голоса было странное свойство, которое – я цитирую – «заставляет вас чувствовать отвращение, как будто вы рукой коснулись скользкого слизняка в саду ночью, и в то же время нечестивое желание слушать этот шепот вечно». Он сказал: «Безымянный ужас и извращенный восторг в одно и то же время».
Симпсон не выключал огни. Холл был хорошо освещен. Но никого не было видно. Однако голос звучал вполне реально. Ральстон несколько мгновений стоял, пытаясь справиться с собой. Потом вошел, снял шляпу и пальто и начал подниматься по лестнице. Он сказал: «Я случайно взглянул вниз и увидел тень, скользящую примерно в шести футах передо мной. Поднял глаза – она исчезла. Я медленно начал подниматься по лестнице. Когда смотрел на ступеньки, видел тень, идущую передо мной. Всегда на одном и том же расстоянии. Поднимал голову – ничего. Тень была резче, чем накануне. Мне показалось, что это тень женщины. Обнаженной женщины. И вдруг я понял, что шепчущий голос тоже принадлежал женщине».
Он пошел прямо к себе в комнату. Миновал дверь. Посмотрел вниз и увидел, что тень по–прежнему в двух шагах перед ним. Тогда он быстро шагнул назад, вошел в комнату, закрыл дверь и запер ее на ключ. Включил все огни и стоял, прижавшись ухом к двери. «Я услышал, как кто‑то смеется, тот же голос, что шептал». – А потом он услышал шепот: – «Я буду ждать снаружи сегодня, сегодня, сегодня…» Слушал он с той же странной смесью ужаса и желания. Он хотел распахнуть дверь, и в то же время какое‑то отвращение удерживало его.
Он сказал: «Я не выключил свет. Но это существо выполнило свое обещание. Оно всю ночь ждало у моей двери. Но не просто ждало. Оно танцевало… Я не видел его, но знал, что оно танцует и ткет… справа налево… слева направо… и снова… и снова… танцевало и ткало, пока не занялся рассвет… ткало мой саван, Билл…»
Я спорил с ним, примерно как вы, доктор де Керадель. Тщательно осмотрел его. Внешне ничего необычного. Взял образцы для различных анализов. Он сказал: «Надеюсь, ты что‑нибудь обнаружишь, Билл. Если же нет, значит тень реальна. Я предпочел бы сойти с ума. В конце концов сумасшествие можно излечить».
Я сказал: «Ты не пойдешь домой. Живи в клубе, пока не получим результаты анализов. А потом, что бы они ни показали, садись на корабль и отправляйся в длительное путешествие».
Он покачал головой: «Я должен вернуться домой, Билл».
Я спросил: «Но почему, ради Бога?»
Он колебался, на его лице появилось выражение удивления. Потом он сказал: «Не знаю. Но должен».
Я твердо заявил: «Останешься на ночь у меня, а завтра уплывешь. Куда угодно. Я сообщу тебе результаты анализов и свои предписания по радио».
Он ответил все с тем же удивленным выражением: «Я не могу уплыть сейчас. Дело в том… – Он колебался… – дело в том, Билл… я встретил девушку… женщину… я не могу бросить ее».
Я смотрел на него, разинув рот. Потом сказал: «Ты хочешь на ней жениться? Но кто она?»
Он беспомощно смотрел на меня. «Не могу сказать тебе, Билл. Ничего не могу сказать о ней».
Я спросил: «А почему не можешь?»
Он ответил с той же удивленной нерешительностью: «Не знаю, почему. Но не могу. Это кажется частью… частью того. Но… не могу тебе сказать». И на любой вопрос, касающийся этой девушки, он отвечал так же.
Доктор Лоуэлл резко сказал:
— Вы мне ничего этого не рассказывали, доктор Беннет. Он больше ничего не говорил? Что не может ничего сказать об этой женщине? Что не знает почему, но не может?
Билл ответил:
— Больше ничего.
Элен холодно спросила:
— Что вас так забавляет, мадемуазель? Не вижу в этом ничего смешного.
Я посмотрел на мадемуазель. Маленькие светло–лиловые искорки ожили в ее глазах, красные губы улыбались – жестокой улыбкой.
6. ПОЦЕЛУЙ ТЕНИ
Я сказал:
— Мадемуазель – подлинный художник.
Над столом повисло напряженное молчание. Его торопливо нарушил де Керадель.
— Что вы этим хотите сказать, доктор Карнак?
Я улыбнулся.
— Подлинный художник радуется, когда искусство достигает совершенства. Умение рассказывать – это искусство. Доктор Беннет рассказывает превосходно. Поэтому ваша дочь, подлинный художник, довольна. Прекрасный силлогизм. Разве не так, мадемуазель?
Она негромко ответила:
— Это вы сказали. – Но больше она не улыбалась, и в глазах ее появилось новое выражение. И в глазах де Кераделя тоже. Прежде чем он смог заговорить, я сказал:
— Всего лишь дань восхищения одного художника другому, Элен. Продолжай, Билл.
Билл быстро продолжал:
— Я спорил с ним. Дал выпить крепкого. Сослался на некоторые случаи галлюцинаций: Паганини, великий скрипач, временами видел теневую женщину в белом, она стояла рядом с ним и играла на скрипке, и он играл с ней дуэтом. Леонардо да Винчи считал, что разговаривал с Хироном, мудрейшим из кентавров, тем самым, что воспитывал молодого Асклепия. И десятки подобных примеров. Я говорил ему, что он вступил в общество гениев и что, вероятно, это значит, что от него тоже можно ждать чего‑нибудь гениального. Через некоторое время он смеялся. Сказал: «Ну, ладно, Билл, ты меня убедил. Но мне не нужно убегать. Наоборот, нужно идти навстречу и победить». Я ответил: «Конечно, если ты считаешь, что справишься. Это всего лишь одержимость, игра воображения. Попробуй сегодня ночью. Если придется туго, позвони мне. Я сразу приеду. И побольше выпей». Ушел он от меня в нормальном состоянии.
Он не звонил мне до второй половины следующего дня, а когда позвонил, спросил, что с анализами. Я ответил, что все анализы свидетельствуют о полном здоровье. Он негромко ответил: «Я так и думал». Я спросил, как он провел ночь. Он рассмеялся и ответил: «Очень интересно, Билл. Очень. Я последовал твоему совету и напился». Голос его звучал нормально, даже весело. Я спросил: «А как же твоя тень?» – «Превосходно, – ответил он. – Я ведь говорил тебе, что это тень женщины? Так оно и есть». Я сказал: «Тебе лучше. Хорошо ли относится к тебе твоя женская тень?» Он ответил: «Скандально хорошо, и обещает быть еще скандальнее. Именно это и сделало ночь такой интересной». Он снова рассмеялся. И неожиданно повесил трубку.
Я подумал: «Ну, раз Дик может смеяться над тем, что еще день назад приводило его в ужас, значит ему лучше». И сказал себе, что дал ему хороший совет.
Но я чувствовал смутное беспокойство. Оно росло. Чуть позже я позвонил ему, но Симпсон ответил, что он отправился играть в гольф. Это казалось вполне нормальным. Да, все это лишь мимолетный случай, все нормализуется. Да, я дал хороший совет. Какие… – Билл неожиданно прервал свой рассказ. – Какие мы иногда глупцы, доктора!
Я украдкой взглянул на мадемуазель. Ее большие глаза были широко открыты, смотрели нежно, но в глубине их таилась насмешка.
Билл сказал:
— На следующий день я получил еще несколько результатов, все хорошие. Позвонил Дику и сообщил ему. Забыл сказать, что я велел ему обратиться к Бьюканану. Бьюканан, – Билл повернулся к де Кераделю, – это лучший окулист в Нью–Йорке. Он не нашел никаких нарушений, и это устраняло многие возможные причины галлюцинаций, если это галлюцинации. Я рассказал это Дику. Он весело ответил: «Медицина – наука исключения, не так ли, Билл? Но если после исключения всего вы добираетесь до чего‑то, о чем ничего не знаете, что вы тогда делаете, Билл?»
Странное замечание. Я спросил: «Что ты этим хочешь сказать?» Он ответил: «Я всего лишь жадный искатель знаний». Я подозрительно спросил: «Ты много пил накануне?» – «Не очень». – «А как тень?» – «Все интереснее». Я сказал: «Дик, я хочу, чтобы ты немедленно приехал. Я тебя осмотрю». Он пообещал, но не приехал. Меня задержал тяжелый случай в больнице. Я освободился около полуночи и позвонил ему. Ответил Симпсон. Он сказал, что Билл лег рано и приказал его не тревожить. Я спросил Симпсона, как выглядит Билл. Нормально, даже очень весел. Но я не мог избавиться от необъяснимого беспокойства. Попросил Симпсона передать мистеру Ральстону, что если он до пяти часов на следующий день не приедет ко мне, я сам отправлюсь к нему.
Он приехал ровно в пять. Я сразу почувствовал, как тревога усиливается. Лицо его осунулось, глаза казались странно яркими. Не лихорадочными, скорее будто он принимал какой‑то наркотик. Во взгляде оживленное выражение и в то же время легкий ужас. Я не выдал того шока, который получил от его внешности. Сказал, что получил последние результаты и они все отрицательные. Он сказал: «Итак, я здоров? Ничего со мной неладного?» Я ответил: «Так свидетельствуют анализы. Но все же я хочу, чтобы ты для обследования на несколько дней лег в больницу». Он рассмеялся и ответил: «Нет. Я совершенно здоров, Билл».
Он сидел молча и смотрел на меня, в его слишком ярком взгляде смешивались оживление и ужас, и вообще он как будто намного превзошел меня в каком‑то знании и в то же время ужасно этого знания боится. Он сказал: «Мою тень зовут Бриттис. Она мне сказала об этом прошлой ночью».
Я подпрыгнул. «Какого дьявола? О чем это ты говоришь?»
Он терпеливо ответил: «Моя тень. Ее зовут Бриттис. Так она сказала мне прошлой ночью, лежа рядом со мной в постели. Женская тень. Обнаженная».
Я смотрел на него, а он рассмеялся. «Что ты знаешь о суккубах, Билл? Я полагаю, ничего. Хорошо бы Алан вернулся, он‑то знает. У Бальзака есть отличный рассказ, я помню, но Бриттис говорит, что это не о ней. Сегодня утром я пошел в библиотеку и стал искать. Рылся в «Malleus Maleficarum»…
Я спросил: «А это что такое?»
«Молот ведьм». Старая книга инквизиции, в которой говорится, кто такие инкубы и суккубы, что они могут сделать, как выявлять ведьм, как поступать с ними и тому подобное. Очень интересно. Там говорится, что демон может превратиться в тень, в таком виде прикрепиться к живому человеку и стать материальным, настолько материальным, чтобы зачать, как весьма красочно это называет Библия».
Демоны женского пола – это суккубы. Когда одна из них возжаждет мужчину, она соблазняет его так или иначе, пока не добьется своего. Он дает ей свою искру жизни и, вполне естественно, сам умирает. Но Бриттис говорит, что у меня не будет такого конца и что она не демон. Она…
«Дик, – прервал я его, – что это за вздор?»
Он раздраженно ответил: «Клянусь небом, я хотел бы, чтобы это было галлюцинацией. Но если я здоров, как ты утверждаешь, этого не может быть. – Он колебался. – Даже если веришь, что это реально, что ты можешь сделать? Ты не знаешь, что знает тот, кто послал к тебе тень. Вот почему я хотел бы, чтобы Алан был здесь. Он знал бы, что делать.. – Он снова помолчал, потом медленно добавил: – Но… я не уверен… что принял бы его совет… теперь…»
Я спросил: «Что ты имеешь в виду?»
Он ответил: «Начну с того времени, когда мы решили, что мне лучше пойти домой и бороться. Я пошел в театр. Сознательно задержался. Когда вошел в дом, у двери меня не ждал никто. Пошел в библиотеку и по–прежнему ничего не видел. Смешал себе коктейль, сел и стал читать. Включил все огни в комнате. Было два часа ночи.
Пробило полчаса. Я оторвался от книги. Ощутил странный аромат, незнакомый, вызывающий необычные представления: я подумал о лилии, раскрывающейся по ночам под лунными лучами в тайном пруду среди древних руин, окруженных пустыней. Поднял голову и осмотрелся в поисках его источника.
И увидел тень.
Больше не было похоже на то, что кто‑то стоит за занавесом и отбрасывает тень. Она видна была совершенно отчетливо, в десяти футах от меня. Четко очерченная, в комнате. Видна была в профиль. Стояла неподвижно. С девичьим лицом, тонким, изящным. Я видел ее волосы, уложенные на голове, и две пряди более темной тени, спускающиеся между круглыми, наклоненными грудями. Тень высокой девушки, стройной, с узкими бедрами, стройными ногами. Она двинулась. Начала танцевать. Она не была ни черной, ни серой, как мне показалось сначала. Слегка розоватой, жемчужно–розового оттенка. Прекрасная, соблазнительная, живая женщина не может быть такой. Она танцевала, потом задрожала – и исчезла. Я услышал шепот: «Я здесь». Она была за мной… танцевала… сквозь нее я смутно видел комнату.
«Танцевала, – продолжал он, – ткала. Ткала мой саван… – Он рассмеялся. – Но богато украшенный саван, Билл.»
Он сказал, что ощутил желание, какого никогда не испытывал к женщине. А с ним и страх, ужас, тоже никогда не испытанный. Как будто приоткрылась дверь, через которую ему нужно пройти в немыслимый ад. Желание победило. Он побежал к танцующей розовой тени. И тень, и ее аромат исчезли, как будто задули свечу. Он снова принялся читать, ожидая. Ничего не происходило. Часы пробили три, потом пол четвертого. Он пошел к себе. Разделся и лег в постель.
Он сказал: «Медленно, как ритм, возник аромат. Он пульсировал, все быстрее и быстрее. Я сел. Розовая тень сидела в ногах моей кровати. Я потянулся к ней. Но не смог двинуться. Мне показалось, что я слышу шепот: «Еще нет… еще нет… еще нет…»
— Прогрессирующая галлюцинация, – сказал де Керадель. – От зрения к слуху. От слуха к запаху. Потом вовлекаются мозговые центры цвета. Все это очевидно. Да?
Билл не обратил внимания, продолжал:
— Он внезапно уснул. Проснулся утром очень возбужденным и почему‑то с решением избегать меня. У него было только одно желание: чтобы день побыстрее кончился и он смог встретиться с тенью. Я саркастически спросил: «А как же другая девушка?»
Он ответил, явно удивленный: «Какая другая девушка, Билл?»
Я сказал: «Другая девушка, в которую ты так влюблен. Имя которой ты не мог мне назвать».
Он ответил удивленно: «Не помню никакой другой девушки».
Я бросил быстрый взгляд на мадемуазель. Она скромно смотрела в свою тарелку. Но мне показалось, что в ее взгляде по–прежнему пляшут светло–фиолетовые искорки. Доктор Лоуэлл спросил:
— Сначала он не мог назвать ее имя из‑за какого‑то принуждения? Потом сказал, что ничего о ней не помнит?
Билл ответил:
— Так он объяснил мне, сэр.
Я заметил, как побледнел Лоуэлл, как мадемуазель обменялась быстрым взглядом с отцом.
Де Керадель сказал:
— Предыдущая галлюцинация уничтожена более сильной.
Билл сказал:
— Может быть. Во всяком случае день он провел в настроении смеси ожидания и ужаса. «Как будто, – объяснил он, – начала необыкновенно радостного события и в то же время открытия двери в камеру осужденного». Но решимость не видеть меня еще больше укрепилась, хотя он беспокоился из‑за того, нашел ли я причину его видений. Поговорив со мной, он ушел из дома, не для игры в гольф, как объяснил Симпсону, но просто туда, где я не смог бы его найти.
Домой он вернулся к обеду. Ему показалось, что за обедом он заметил несколько мимолетных движений, легкое перепархивание тени. Все время он чувствовал, что за ним следят. У него появилось паническое желание убежать из дома – «пока еще есть время», как выразился он. Но более сильным оказалось желание остаться, что‑то продолжало нашептывать ему о необыкновенных наслаждениях, неведомых радостях. Он сказал: «Как будто у меня две души. Одна корчится от отвращения и протестует против рабства. А другой все равно, если только она получит обещанные радости».
Он пошел в библиотеку…
И тень появилась, как и накануне. Она подошла ближе, но не настолько, чтобы он мог ее коснуться. Тень запела, и у него пропало желание касаться ее; не осталось никаких желаний, кроме желания сидеть бесконечно и слушать. Он сказал: «Это была тень песни, а пела тень женщины. Как будто звуки доносились из‑за невидимого занавеса… из какого‑то чуждого пространства. Звуки сладкие, как аромат. Одно целое с ароматом, сладкие, как мед… но в каждой ноте скрывалось зло». Он сказал: «Если у этой песни и были слова, я их не слышал. Слышал только мелодию… обещающую…»
Я спросил: «Что обещающую?»
Он ответил: «Не знаю… радости, не испытанные никем из живущих людей… они будут моими… если…»
«Что если?»
«Не знаю… Но я должен что‑то сделать, чтобы заслужить их… но тогда я не знал, что должен сделать…»
Пение смолкло, тень и ее аромат исчезли. Он немного подождал, потом пошел в спальню. Тень не появлялась, хотя ему казалось, что она следит за ним. Он быстро уснул спокойным сном без сновидений. Проснулся с оцепеневшим сознанием, в какой‑то необычной летаргии. Продолжал мысленно слышать мелодию песни тени. Сказал: «Она как будто плела сеть между реальностью и нереальностью. У меня была только одна сознательная мысль: острое нетерпение узнать результаты анализов. Когда ты сообщил их мне, то, что боялось тени, заплакало, а то, что ждало ее, возрадовалось».
Наступила ночь – третья ночь. За обедом он не чувствовал наблюдения за собой. Не было этого чувства и в библиотеке. Он ощутил одновременно разочарование и облегчение. Пошел в спальню. Там ничего. Примерно час спустя он уснул. Ночь была теплой, поэтому он укрылся только простыней.
Он мне сказал: «Не думаю, чтобы я спал. Нет, я уверен, что не спал. И вдруг почувствовал, что меня окружает аромат… и услышал совсем рядом шепот. Сел… Тень лежала рядом со мной.
Она была резко очерчена, бледно–розовая на фоне простыни. Склонялась ко мне, одна рука под подушкой, на другую опирается приподнятая голова. Я видел острые ногти этой руки, мне даже показалось, что я вижу блеск глаз тени. Я собрал все свое мужество и положил на нее руку. И ощутил только простыню.
Тень придвинулась ближе… шепча… шепча… и я понял, что она шепчет… и тогда она сказала мне свое имя… и многое другое… и что я должен сделать, чтобы заслужить обещанные мне наслаждения. Но я ничего не должен делать, пока она не сделает того‑то и того‑то, и я должен это сделать в тот момент, как она меня поцелует… когда я почувствую ее губы…
Я резко спросил: «Что ты должен сделать?»
Он ответил: «Убить себя».
Доктор Лоуэлл, дрожа, отодвинул свое кресло.
— Боже! И он убил себя! Доктор Беннет, не понимаю, почему вы не проконсультировались со мной по этому случаю. Зная, что я рассказал вам о…
Билл прервал его:
— Именно поэтому, сэр. У меня были причины пытаться справиться с этим одному. Я готов изложить вам эти причины.
Я сказал ему: «Это всего лишь галлюцинация, Дик. Фантом воображения. Тем не менее он достиг степени, которая мне не нравится. Ты должен пообедать со мной и остаться на ночь. Если не согласишься, откровенно говоря, я применю насилие».
Он со странным выражением посмотрел на меня. Потом негромко сказал: «Но если это галлюцинация, что это даст? Мое воображение ведь со мной? И Бриттис появится здесь, как и у меня дома».
Я ответил: «К дьяволу все это. Ты остаешься здесь».
Он ответил: «Хорошо. Я готов попробовать».
Мы пообедали. Я не позволил ему говорить о тени. Добавил в его стакан сильное снотворное. В сущности накачал его наркотиком. Немного погодя у него начали слипаться глаза. Я уложил его в постель. А про себя сказал: «Приятель, если ты проснешься раньше, чем через десять часов, я не врач, а ветеринар».
Мне пришлось уйти. Вернулся я сразу после полуночи. Прислушался у двери Дика, не решаясь войти, чтобы не побеспокоить его. Решил не входить. На следующее утро в девять часов я заглянул к нему. Комната была пуста. Я спросил слуг, когда ушел мистер Ральстон. Никто не знал. Когда я позвонил ему, его тело было уже обнаружено.
Я ничего не мог сделать, и мне нужно было время, чтобы подумать. Чтобы мне не мешала полиция. Чтобы провести собственное исследование в соответствии с тем, что говорил мне Ральстон и что я не считал связанным с этим случаем.
Билл повернулся к де Кераделю.
— Ведь вас профессионально интересуют только симптомы?
Доктор де Керадель ответил:
— Да. Но в вашем рассказе ничто не противоречит моему диагнозу о галлюцинациях. Может, если вы сообщите подробности, о которых сами хотели подумать…
Я прервал его.
— Минутку. Билл, ты ведь сказал: Бриттис, кто бы она ни была, тень или иллюзия, утверждала, что она не демон, не суккуб. Ты начал передавать его слова: «Она сказала, что она…» – и смолк. Но кем она себя считала?
Казалось, Билл колеблется, затем он медленно ответил:
— Она сказала, что была девушкой, бретонкой, пока не стала… тенью из Иса.
Мадемуазель откинула назад голову и безудержно рассмеялась. Она положила свою руку на мою.
— Тень злой Дахут Белой! Алан де Карнак, одна из моих теней!
Лицо де Кераделя оставалось невозмутимым.
— Вот как? Теперь я понимаю. Так. Ну, доктор Беннет, если принять вашу теорию о колдовстве, то с какой целью это было сделано?
Билл ответил:
— Вероятно, деньги. Надеюсь со временем узнать точно.
Де Керадель откинулся назад, благосклонно поглядывая на Лоуэлла. Он сказал:
— Не обязательно деньги. Цитируя доктора Карнака, возможно, это искусство ради искусства. Проявление истинного художника. Гордость. Некогда я знавал… ну, несомненно, суеверные люди назвали бы ее ведьмой… так вот она гордилась своим мастерством. Это заинтересовало бы вас, доктор Лоуэлл. Дело происходило в Праге…
Лоуэлл вздрогнул. Де Керадель вежливо продолжал:
— Подлинный художник, она практиковалась в своем мастерстве, или использовала свой разум, или, если предпочитаете, доктор Беннет, исполняла колдовские обряды исключительно ради удовольствия, которое получала как художник. Между прочим, она умела заключать что‑то от убитых ею в маленьких кукол, точное подобие убитых, и оживляла этих кукол; и затем они выполняли ее приказания… – Он заботливо наклонился к доктору Лоуэллу: – Вам плохо, доктор Лоуэлл?
Лоуэлл был бледнее бумаги. Глаза его, устремленные на де Кераделя, были полны ужасом. Он пришел в себя и твердым голосом сказал:
— У меня случаются прострельные боли. Ничего страшного. Продолжайте.
Де Керадель сказал:
— Подлинный художник… да, ведьма, доктор Беннет. Но я назвал бы ее не ведьмой, а владелицей древних тайн, утраченной мудрости. Из Праги она отправилась в этот город. Приехав, я попытался отыскать ее. Узнал, где она жила. Но увы! Она и жившая с ней племянница сгорели, со всеми своими куклами и вместе с домом. Загадочный пожар. Откровенно говоря, я почувствовал облегчение. Я немного побаивался этой кукольницы. Не таю зла против тех, кто организовал ее уничтожение, если оно было организовано. В сущности… это может показаться бессердечным, но вы, мой дорогой доктор Лоуэлл, поймете, я уверен… в сущности, я даже благодарен им… если они существуют.
Он взглянул на часы и сказал дочери:
— Дорогая, нам пора идти. Мы уже опоздали. Время прошло так приятно, так быстро… – Он помолчал и сказал подчеркнуто, медленно: – Если бы я обладал той властью, которой обладала она, а она обладала этой власть, я, доктор де Керадель, не боялся бы ее… Если бы я обладал этой властью, ни один из тех, кто мешал мне, становился на моем пути, не прожил бы долго… – Он пристально посмотрел на Лоуэлла, затем на Билла, Элен, наконец на меня… – Я уверен, что даже моя благодарность не спасла бы их, не спасли бы и те, кто их любит.
Наступило молчание. Его нарушил Билл:
— Откровенно сказано, де Керадель.
Мадемуазель с улыбкой встала. Элен провела ее в холл. Никто не подумал бы, что они ненавидят друг друга. Пока де Керадель вежливо прощался с Лоуэллом, мадемуазель подошла ко мне. Она прошептала:
— Жду вас завтра, Алан де Карнак. В восемь. У нас есть что сказать друг другу. Не подведите меня.
И что‑то сунула мне в руку.
Де Керадель сказал:
— Скоро будет готов мой главный эксперимент. Хотел бы, чтобы вы были свидетелем, доктор Лоуэлл. И вы, доктор Карнак. Вам будет особенно интересно. А до того времени – adieu.
Он поцеловал руку Элен, поклонился Биллу. Я подумал со странным предчувствием, почему он не пригласил и их.
У дверей мадемуазель повернулась, слегка коснулась щеки Элен. Сказал:
— Вот сюда вас поцелует тень…
Смех ее прозвучал, как шелест маленьких волн. Она и ее отец сели в ожидавший автомобиль.
7. ЛЮБОВНИК КУКОЛЬНИЦЫ
Бриггс закрыл дверь и ушел. Мы вчетвером молча стояли в холле. Вдруг Элен топнула ногой и яростно заявила:
— Будь она проклята! Пыталась заставить меня чувствовать себя рабыней. Как будто я одна из твоих любовниц, Алан, И королева с насмешкой это заметила.
Я улыбнулся, потому что это почти точно совпало с моими мыслями. Она гневно сказала:
— Я видела, как она с тобой шепталась. Вероятно, приглашала к себе в любое время. – И стала извиваться, будто надевала спасательный жилет.
Я раскрыл руку и посмотрел, что сунула туда мадемуазель. Чрезвычайно тонкий серебряный браслет, лента в полдюйма, почти такая же гибкая, как тяжелый шелк. В браслете полированный, грубо овальной формы черный камень. На его гладкой верхней грани заполненный каким‑то красноватым материалом символ власти древнего бога океана, у которого было множество имен задолго до того, как греки прозвали его Посейдоном: трезубец, которым он управляет своими глубинами.
Один из загадочных талисманов смуглого маленького азильско–тарденуазского человека, который семнадцать тысяч лет назад смел с лица земли высокого, светловолосого, голубоглазого, с большим мозгом кроманьонца; а этот кроманьонец и сам появился в Западной Европе неизвестно откуда. Вдоль серебряной ленты было вырезано изображение крылатой змеи, в своих челюстях она держала черный камень.
Да, я знал такие камни и браслеты. Но меня поразило какое‑то внутреннее убеждение, что мне знакомы именно этот браслет и именно этот камень. Что я видел их много раз… мог даже прочесть символ… если бы только мог припомнить…
Может быть, если надену на руку, вспомню…
Элен вырвала браслет у меня из рук. Поставила на него ногу и надавила. Сказала:
— Сегодня эта дьяволица вторично пытается надеть на тебя свои кандалы.
Я потянулся к браслету, но она оттолкнула его ногой.
Билл наклонился и поднял его. Протянул его мне, и я опустил его в карман. Билл резко сказал:
— Успокойся, Элен! Он должен пройти через это. Впрочем, он, вероятно, в большей безопасности, чем мы с тобой.
Элен страстно сказала:
— Пусть только попробует завладеть им!
Она угрюмо посмотрела на меня.
— Не хотела бы я, чтобы ты встречался с мадемуазель, Алан. Прогнило что‑то в Датском королевстве… что‑то между вами странное. Я бы не стала на твоем месте стремиться к этому египетскому котлу для варки мяса. Много мошек уже обожглось на этом.
Я вспыхнул:
— Ты откровенна, моя дорогая, как все ваше поколение, и твои метафоры соответствуют вашей морали. Но не ревнуй меня к мадемуазель.
Конечно, это ложь. Я чувствовал смутный, необъяснимый страх, тайную непонятную ненависть, но и что‑то еще. Она прекрасна. Никогда не смог бы я полюбить ее, как, например, Элен. Но все же у нее есть нечто, чего нет у Элен, что‑то, несомненно, злое, но такое, что, как мне казалось, я пил давным–давно и должен буду пить снова. И жажда может быть утолена только так.
Элен негромко сказала:
— Я могла бы ревновать. Но я боюсь – не за себя, а за тебя.
Доктор Лоуэлл, казалось, проснулся. Ясно, что, погруженный в свои мысли, он не слышал нашего разговора. Он сказал:
— Идемте к столу. Мне нужно кое‑что сказать вам.
Он пошел по лестнице и шел так, будто внезапно состарился. Билл сказал мне:
— Де Керадель был откровенен. Он нас предупредил.
— О чем?
— Ты не понял? Предупредил, чтобы мы не расследовали обстоятельства смерти Дика. Они не узнали того, что хотели. Но узнали все же достаточно. А я узнал, что хотел.
— И что же это?
— Они убийцы Дика, – ответил он.
Прежде чем я мог о чем‑нибудь его спросить, мы оказались за столом. Доктор Лоуэлл позвонил, чтобы подавали кофе, потом отпустил дворецкого. Он вылил себе в кофе полный бокал коньяка. И сказал:
— Я потрясен. Несомненно, потрясен. Происшествие, ужасное происшествие, которое, как я считал, завершилось, получило продолжение. Я рассказывал о нем Элен. У нее сильный дух и светлый ум. Следует ли понять так, – обратился он к Биллу, – что и вы поверяете ей тайны, что она знала факты, которые так поразили меня?
Билл ответил:
— Отчасти, сэр. Она знала о тени, но не знала, что у мадемуазель де Керадель есть и имя д'Ис. Да и я этого не знал. И у меня не было никаких оснований подозревать де Кераделей, когда они приняли ваше приглашение. До этого я не обсуждал с вами подробности случая с Ральстоном прежде всего потому, что это вызвало бы болезненные воспоминания. И очевидно, пока де Керадель сам не объявил об этом, я и не подозревал, что он так тесно связан с вашими черными воспоминаниями.
Доктор Лоуэлл спросил:
— Доктор Карнак знает?
— Нет. Я решил, справедливы мои соображения или нет, рассказать историю Дика в присутствии де Кераделей. Я попросил доктора Карнака рассердить де Кераделя. Хотел проследить за его реакцией и реакцией его дочери. И за вашей реакцией, сэр. Мне казалось это важным. Я считаю, что мои действия оправданы. Я хотел, чтобы де Керадель выдал себя. Если бы я сам выложил перед вами карты, он бы этого не сделал. Вы были бы настороже, и де Керадель понял бы это. И тоже был бы настороже.
— Ваша очевидная неосведомленность в моем расследовании, то, как вы невольно выдали свой ужас от аналогичного происшествия, – все это побудило его показать, что он знал кукольницу. Он почувствовал презрение к нам и позволил себе угрозу.
— Конечно, он вне всякого сомнения каким‑то образом узнал о вашем участии в истории кукольницы. Он считает, что вы до глубины души поражены ужасом… боитесь, что что‑нибудь случится с Элен или со мной и заставите меня прекратить расследование смерти Ральстона. Если бы он в это не верил, он никогда бы не предупредил нас.
Лоуэлл кивнул.
— Он прав. Я испуган. Мы все трое в опасности. Но он и ошибся. Мы должны продолжать…
Элен резко сказала:
— Втроем? Я думаю, Алан в гораздо большей опасности, чем мы. У мадемуазель уже готово клеймо, чтобы добавить его к своему стаду.
Я сдержал улыбку.
— Не будь такой вульгарной, дорогая. – Я обратился к Лоуэллу. – Я все еще в темноте, сэр. Объяснения Билла по поводу случая Ральстона абсолютно ясны. Но я ничего не знаю об этой кукольнице и поэтому не понимаю, почему упоминание о ней де Кераделя так значительно. Если я и дальше буду участвовать, то мне нужно знать все факты… да и для самозащиты тоже.
Билл мрачно заметил:
— Считай себя призванным.
Доктор Лоуэлл сказал:
— Расскажу вам коротко. Потом, Уильям, вы можете сообщить доктору Карнаку все подробности и ответить на его вопросы. Я встретился с кукольницей мадам Мэндилип из‑за удивительного случая заболевания: странная болезнь и не менее странная смерть приближенного одного из известных руководителей подпольного мира Рикори. Все это было весьма необычно.
— Я до сих пор не знаю, была ли эта женщина тем, что обычно называют ведьмой, или обладала знанием естественных законов, которые нам, исключительно из‑за нашего невежества, кажутся сверхъестественными, или же наконец просто была прекрасным гипнотизером. Но она была убийцей. Среди многих смертей, за которые она несет ответственность, смерть моего ассистента доктора Брэйла и сестры, которую он любил. Эта мадам Мэндилип была исключительной мастерицей.
— Она делала кукол поразительной красоты и естественности. У нее был кукольный магазин, и она подбирала жертвы среди покупателей. Убивала она с помощью яда, предварительно завоевав доверие своей жертвы. Она делала копии, кукольные, своих жертв, их точное подобие. Этих кукол она оживляла и посылала со своими смертоносными заданиями. Она полагала, что в куклах сохраняется некая жизненная сущность тех, кого они изображали. Это было нечто невероятно злое, эти маленькие демоны с острыми стилетами… за которыми присматривала бледнолицая, пораженная ужасом девушка, которую мадам Мэндилип называла своей племянницей, но которую держала под таким гипнотическим контролем, что она буквально стала вторым я кукольницы. Было ли это иллюзией или реальностью, одно несомненно: куклы убивали.
— Рикори стал одной из жертв, но благодаря моей помощи пришел в себя в моей больнице. Он суеверен, поверил, что мадам Мэндилип ведьма, и поклялся уничтожить ее. Похитил ее племянницу, и в этом самом доме я поместил ее под собственный гипнотический контроль, чтобы извлечь из нее тайны кукольницы. Она умерла с криком, что кукольница душит ее, останавливает ее сердце…
Он помолчал, как будто снова видел эту ужасную картину, потом продолжил:
— Но перед смертью рассказала, что у мадам Мэндилип в Праге был любовник, которому она передала тайну изготовления живых кукол. В ту же ночь Рикори со своими людьми отправился… уничтожать кукольницу. Она погибла – в огне. Я, вопреки своей воле, был свидетелем этой невероятной сцены… до сих пор не могу поверить, хотя видел своими глазами…
Он помолчал, потом твердой рукой поднял стакан.
— Похоже, этим любовником был де Керадель. Похоже также, что, помимо тайны кукол, он знает и тайну теней. Или ее знает мадемуазель? А что еще ему известно из темных знаний? Ну, вот, все начинается сначала. Но на этот раз будет потруднее…
Он задумчиво сказал:
— Я бы хотел, чтобы Рикори нам помог. Но он в Италии. И я не смогу связаться с ним вовремя. Однако тут есть его ближайший помощник, участвовавший во всем деле и в казни. Он здесь. Мак Канн! Я свяжусь с Мак Канном!
Он встал.
— Прошу прощения, доктор Карнак. Уильям, передаю все в ваши руки. Сам пойду в кабинет и в спальню. Я потрясен. Элен, моя дорогая, позаботьтесь о докторе Карнаке.
Он поклонился и вышел. Билл начал:
— Так вот относительно кукольницы…
Была уже почти полночь, когда он закончил рассказ и у меня не осталось вопросов. Когда я уже уходил, он спросил:
— Ты смутил де Кераделя, когда заговорил…. как же это?.. – об Алкар–Азе и Собирателе в Пирамиде, Алан. А что это значит?
Я ответил:
— Билл, сам не знаю. Слова сами по себе возникли на языке. Может, их подсказала мадемуазель… как я и сказал ее отцу.
Но в глубине души я знал, что это не так, что я знал, когда‑то знал… и Алкар–Аз и Собирателя в Пирамиде… и настанет день, когда я вспомню.
Элен сказала:
— Билл, отвернись.
Она обхватила меня руками за шею и прижалась губами к моим губам. Прошептала:
— У меня сердце поет оттого, что ты здесь. И сердце мое разбивается оттого, что ты здесь. Боюсь, я так боюсь за тебя, Алан.
Она откинулась назад и слегка засмеялась.
— Вероятно, ты считаешь это опрометчивостью моего поколения и его морали… и, может, вульгарностью. Но на самом деле все не так внезапно, как кажется, дорогой. Вспомни… я тебя любила еще во времена ос и ужей.
Я ответил на ее поцелуй. Откровение, которое началось, когда я ее встретил, теперь завершилось.
По дороге в клуб я видел только лицо Элен, с ее медными волосами и золотыми янтарными глазами. Если иногда и вспоминал мадемуазель, то только как серебристо–золотой туман с двумя пурпурными пятнами на белой маске. Я был счастлив.
Присвистывая, начал раздеваться, по–прежнему видя перед собой лицо Элен. Сунул руку в карман и извлек серебряный браслет с черным камнем. Лицо Элен внезапно поблекло. И на его месте, как живое, возникло лицо мадемуазель, с большими нежными глазами, улыбающимися губами…
Я отбросил браслет, как змею.
Но когда я засыпал, у меня перед глазами было лицо мадемуазель, а не Элен.
8. В БАШНЕ ДАХУТ. НЬЮ–ЙОРК
На следующее утро я проснулся с головной болью. К тому же мне снился сон. В нем куклы держали в руках длинные, в фут, иглы и плясали в розовых тенях вокруг огромных камней–монолитов. А Дахут и Элен попеременно и быстро обнимали и целовали меня. Я хочу сказать, что обнимала и целовала меня Элен, но тут же лицо ее расплывалось и вместо него возникало лицо мадемуазель, потом оно менялось на лицо Элен и так далее.
Я еще во сне подумал, что это очень похоже на весьма необычное увеселительное заведение в Алжире, именуемое «Дом сердечного желания». Им владеет француз, куритель гашиша и удивительный прирожденный философ. Мы с ним очень подружились. Кажется, я заслужил его уважение, рассказав ему о своем плане «Небо и Ад, Инкорпорейтед», который так заинтересовал мадемуазель и де Кераделя. Он процитировал Омара:
Я душу посылал в незримый Край:
«Лети, душа, и, что нас ждет, узнай!»
И мне она, вернувшись, принесла
Такой ответ: «Во мне и ад, м рай».
[1]
Потом сказал, что моя идея не так уж оригинальна: комбинация этого рубаи и того, что делает его заведение таким прибыльным. В его доме скрывались два беглых сенуси. Эти сенуси – настоящие волшебники, мастера иллюзий. У него также двенадцать девушек, прекраснее я не видел, всех цветов кожи: белые, желтые, черные, коричневые и промежуточных оттенков. Когда кто‑то желает получить объятие «сердечного желания», а это очень дорогое удовольствие, все девушки, обнаженные, встают в круг, большой широкий круг в большой комнате, все берутся за руки. Сенуси садятся в центре этого круга со своими барабанами, а желающий получить удовольствие встает рядом с ними. Сенуси начинают петь и бить в барабаны и делать разные магические жесты.
Девушки танцуют, переплетаясь. Все быстрее и быстрее. Пока белое, желтое, черное, коричневое и все прочее не сливается в одну божественную девушку, девушку мечты, как говорится в старых сентиментальных песнях. В ней Афродита, Клеопатра – все красавицы; во всяком случае это такая девушка, которую всегда хотел иметь мужчина, сознавал он это или нет. И он получает ее.
— Такова ли она, как он считает? Откуда я знаю? – пожимал плечами француз. – Для меня – если смотреть со стороны – всегда остаются одиннадцать девушек. Но для него, если он так считает, то да.
Мадемуазель и Элен менялись так быстро, что мне захотелось, чтобы они слились окончательно. Тогда мне не нужно будет беспокоиться. Мадемуазель, казалось, остается дольше. Она прижалась ко мне губами… и вдруг мне показалось, что у меня в мозгу огонь и вода, и огонь превратился в столб, к которому привязан человек, и пламя закрывает его, как одежда, и я не могу рассмотреть его лицо.
А вода – кипящее море… и из него, распустив бледно–золотые волосы, омываемая волнами, поднимается Дахут… глаза смотрят в небо… она мертва.
И тут я проснулся.
После холодного душа я почувствовал себя лучше. За завтраком попытался привести события предшествовавшего вечера в логический порядок. Прежде всего история Лоуэлла о кукольнице. Я много знал о магии оживших кукол, это гораздо более сложное дело, чем простое подобие, в которое вкалывают иголки или сжигают на огне. И я не верил, чтобы гипотеза о гипнозе объясняла столь древнюю и широко распространенную веру.
Но более древней и гораздо более зловещей была магия теней, которая убила Дика. Немцы могли изобразить ее в более или менее юмористическом виде Питера Шлемиля, который продал свою тень дьяволу, а Барри приложил свое воображение, рассказав о Питере Пене, чья тень застряла в ящике комода и оторвалась. Но остается фактом, что вера в связь тени с жизнью человека, его личностью, душой – назовите, как угодно, – самая древняя из всех. И жертвы, которые приносились для умиротворения теней, обряды, связанные с этой верой, ничему не уступят по жестокости. Я решил пойти в библиотеку и подробней познакомиться с этой темой. Я пошел к себе в комнату и позвонил Элен.
Я сказал:
— Дорогая, знаешь ли ты, что я в тебя отчаянно влюблен?
Она ответила:
— Знаю, что даже если это не так, то будет так.
— Во второй половине дня я буду занят, но ведь есть еще вечер.
— Буду ждать, дорогой. Но ведь ты не собираешься к этой белой дьяволице?
— Нет. Я даже забыл, как она выглядит.
Элен рассмеялась. Моя нога коснулась чего‑то. Я посмотрел вниз. Браслет. Элен сказала:
— До вечера.
Я поднял браслет и положил в карман. И механически ответил:
— До вечера.
Вместо того чтобы заниматься преданиями о тенях, я провел день в двух богатых частных собраниях, к которым имею доступ, погрузившись в старые книги и рукописи о древней Бретани, или Арморике, как она называлась до прихода римлян и еще пять столетий спустя. Я искал упоминания о городе Ис и хотел найти где‑нибудь объяснения Алкар–Аза и Собирателя в Пирамиде. Очевидно, я слышал эти названия раньше или читал о них.
Единственное возможное альтернативное объяснение заключалось в том, что мне их внушила мадемуазель, и, вспоминая то, как при прикосновении ее руки я ясно и четко увидел Карнак, я склонялся ко второму объяснению. С другой стороны, она отказалась, но я не верил ее отказу. Мне это казалось похожим на правду. Никаких упоминаний об Алкар–Азе я не нашел. Но в одном палимпсесте седьмого столетия на оборванном листке находились строки, которые могли иметь отношение к Собирателю. Если свободно перевести с монастырского латинского, в них говорилось:
… говорят, не из‑за участия жителей Арморики в галльском восстании римляне расправились с ними с такой жестокостью, но из‑за жестоких и злых обрядов, равным которым по свирепости римляне нигде не встречали. Существовало одно… (несколько слов неразборчиво)… место стоячих камней, называемое… (две строки неразбочивы)… бьют по груди сначала медленно… (пропуск)… пока грудь и даже сердце не разбиваются, и тогда в склепе в центре храма появляется Чернота…
Здесь кончается отрывок. Возможно, «место стоячих камней» – это Карнак, а «Чернота», которая появляется «в склепе в центре храма», и есть Собиратель в Пирамиде. Вполне возможно. Я знал, разумеется, что римляне буквально истребили туземное население Арморики после восстания 52 года, а выжившие бежали от их гнева, оставив страну ненаселенной до пятого столетия, когда множество живших в Британии кельтов под давление саксов и англов не переселились в Арморику и заново населили полуостров Бретань.
Римляне в целом были людьми широких взглядов и весьма терпимыми к богам народов, которые они завоевывали. И не в их обычае было так свирепо расправляться с побежденными. Что же это за «жестокие и злые обряды, равным которым по свирепости римляне нигде не встречали» и которые их так поразили, что они безжалостно уничтожили все связанное с ними?
Я нашел множество упоминаний о большом городе, затонувшем в море. В некоторых случаях он назывался Ис, в других не имел названия. Рассказы о нем, подвергшиеся уничтожению в христианские времена, явно были апокрифами. Город относился к доисторическим временам. Почти во всех случаях указывалось, что это злой город, что он предался злым духам, колдовству. В основном легенда сводилась к резюме, которое я изложил накануне вечером. Но нашелся один вариант, который крайне меня заинтересовал.
В нем говорилось, что гибель Иса вызвал повелитель Карнака. Именно он «соблазнил Дахут Белую, дочь короля, как она до этого соблазнила и уничтожила многих мужчин». Далее говорилось, что «красота этой волшебницы была так велика, что повелитель Карнака не сразу набрался решительности, чтобы уничтожить ее и злой Ис»; и что она родила ребенка, дочь; и что, открыв ворота морю, Карнак бежал с дочерью, а тени Иса вынесли его в безопасное место, точно так же, как они подгоняли волны, утопившие Дахут и ее отца, которые преследовали Карнака.
Это, особенно в свете теорий де Кераделя о наследственной памяти, поразило меня. Во–первых, помогало понять замечание мадемуазель о том, что я «помню». И давало еще одно объяснение, пусть абсурдное, тому, почему я произнес эти два названия. Если эта Дахут происходит непосредственно от той Дахут, может, и я происхожу прямо от владыки Карнака, который «соблазнил» ее. В таком случае контакт с Дахут мог привести в действие одну из пластинок в моем мозгу. Я думал, что Алкар–Аз и Собиратель должны были произвести очень сильное впечатление на владыку Карнака, моего предка, и поэтому именно эта пластинка ожила первой. Я улыбнулся этой мысли и подумал об Элен. Что бы там ни было, но я помнил о вечернем свидании с Элен и радовался ему. У меня также свидание с Дахут, но что с того?
Я взглянул на часы. Пять часов. Достал носовой платок, и что‑то со звоном упало на пол. Браслет. Он лежал и смотрел на меня черным глазом. Я смотрел на него, и жуткое чувство узнавания становилось во мне все сильней и сильней.
Я пошел в клуб переодеться. Выяснил, где остановились де Керадели.
Послал Элен телеграмму.
Прости. Неожиданно вызван из города. Некогда позвонить. Позвоню завтра. Люблю и целую.
Алан
В восемь часов вечера я передавал свою карточку мадемуазель.
Это был один из больших жилых домов с башнями, выходящих на Ист Ривер: роскошный дом; его самые дорогие квартиры выходят окнами на Блеквелл Айленд, где содержатся отбросы общества, мелкие преступники, недостойные общественной жизни Синг–Синга, строгостей Деннмора или чести жить в других аналогичных крепостях цивилизации. Это мусорный ящик общества.
Жилой дом де Кераделей – зенит, презрительно глазеющий на надир.
Лифт поднимался все выше и выше. Когда он остановился, лифтер нажал кнопку и через одну–две секунды массивные двери разошлись. Я вышел в холл, похожий на прихожую средневекового замка. Услышал за собой шум закрывающейся двери и оглянулся. Два человека опустили занавес, скрывавший дверь.
Чисто по привычке я обратил внимание на рисунок занавеса – привычка путешественника, автоматически намечающего ориентиры для возможного вынужденного отступления. На занавесе изображалась морская женщина, фея Мелузина, во время своего еженедельного очищающего купания. За ней наблюдает удивленный муж – Раймон Пуатье. Старинный занавес.
Люди у занавеса – бретонцы, смуглые, коренастые, но одеты они так, как не одеваются в Бретани. На них свободное зеленое одеяние, тесно перепоясанное, а на груди, на черном фоне, справа, тот же символ, что и на браслете. Мешковатые коричневые брюки, кончающиеся под коленом и плотно завязанные, похожие на брюки древних кельтов или скифов. На ногах сандалии. Когда они брали у меня пальто и шляпу, я приветствовал их на бретонском, как благородный человек приветствует крестьянина. Они смиренно ответили, и я заметил, как они обменялись удивленными взглядами.
Они отвели в сторону другой занавес, и один из них нажал на стену. Открылась дверь. Я прошел через нее в удивительно большую комнату с высоким потолком, обитую древним темным дубом. Комната была тускло освещена, но я заметил кое–где резные сундуки, астролябию и большой стол, покрытый книгами в кожаных и велюровых переплетах.
Я повернулся как раз вовремя, чтобы заметить, как скользнула на место дверь, и стена оказалась внешне сплошной. Тем не менее я решил, что в случае необходимости найду выход.
Двое провели меня через комнату в ее правый угол. Опять отодвинули занавес, и меня окутал мягкий золотой свет. Они поклонились, и я прошел на этот свет.
Я находился в восьмиугольной комнате более двадцати футов в длину. Все ее восемь стен покрыты шелковыми шпалерами исключительной красоты. Все сине–зеленые, и на каждой какая‑нибудь подводная сцена: рыбы странных форм и расцветок плавают в лесах бурых водорослей… анемоны, похожие на фантастические цветы, машут над ртами смертоносными щупальцами… золотые и серебряные стаи крылатых змей караулят свои замки из коралла. В центре комнаты стол, на нем старинный хрусталь, прозрачный фарфор и старинное серебро, все блестит в свете высоких свечей.
Я взял в руки занавес, отвел его в сторону: ни следа двери, через которую я вошел. Я услышал смех, подобный смеху маленьких волн, смех Дахут…
Мадемуазель стояла в дальнем углу восьмиугольной комнаты, отводя в сторону еще один занавес. За ним другая комната, оттуда вырывается свет и создает розовый ореол вокруг ее головы. Ее исключительная красота на мгновения заставила меня забыть все в мире, даже сам этот мир.
От белых плеч до белых ног она была укутана в прозрачное зеленое платье, похожее по покрою на столу древних римлянок. На ногах сандалии. Две толстые пряди бледно–золотых волос спускаются меж грудей, и сквозь одежду видны все линии прекрасного тела. Никаких украшений на ней нет, да она в них и не нуждается. Глаза одновременно ласкают и грозят, и в смехе тоже одновременно нежность и угроза.
Она подошла ко мне, положила руки мне на плечи. Аромат ее как запах морских цветов, ее прикосновение и аромат заставили меня пошатнуться.
Она сказала на бретонском:
— Итак, Алан, вы по–прежнему осторожны. Но сегодня вы пойдете только туда, куда я захочу. Вы преподали мне хороший урок, Алан де Карнак.
Я тупо спросил, все еще находясь под воздействием ее красоты:
— Когда я вас учил, мадемуазель?
Она ответила:
— Давным–давно, – и мне показалось, что угроза изгнала из ее взгляда нежность. С отсутствующим видом она сказала:
— Мне казалось, что будет легко говорить то, что я собиралась сказать, когда встретила вас вечером. Я думала, слова сами польются из меня… как воды полились в Ис. Но я смутилась… оказалось, что это трудно… воспоминания борются друг с другом… битва любви и ненависти…
К этому времени я взял себя в руки. Сказал:
— Я тоже смущен, мадемуазель. Я говорю по–бретонски не так хорошо, как вы, и поэтому, может, не вполне вас понимаю. Нельзя ли нам говорить по–французски или по–английски?
Дело в том, что бретонский слишком… интимен, слишком близко подходит к сути мысли. Другие языки послужат барьером. Но потом я подумал: барьером против чего?
Она страстно ответила:
— Нет! И больше не зовите меня мадемуазель и де Керадель! Вы меня знаете!
Я рассмеялся и ответил:
— Если вы мадемуазель де Керадель, то вы и морская фея Мелузина… или Гульнар, рожденная в море… и я в безопасности в вашем, – тут я посмотрел на шпалеры, – аквариуме.
Она сумрачно ответила:
— Я Дахут… Дахут Белая, королева теней… Дахут древнего Иса. Возрожденная. Возрожденная здесь, – она постучала себя по лбу. – А вы Алан де Карнак, мой любимый… мой самый любимый… мой предатель. Так что берегитесь!
Неожиданно она приблизилась ко мне, прижалась своими губами к моим, так крепко, что ее маленькие зубы впились в меня. К такому поцелую невозможно отнестись равнодушно. Я обнял ее, и меня как будто охватило пламенем. Она оттолкнула меня от себя, почти ударила, так сильно, что я пошатнулся.
Она подошла к столу и наполнила из кувшина два стройных бокала бледно–желтым вином. Насмешливо сказала:
— За наше последнее расставание, Алан. И за нашу встречу. – И пока я раздумывал над этим тостом, добавила: – Не бойтесь, это не колдовское зелье.
Я коснулся ее бокала и выпил. Мы сели, и по сигналу, которого я не видел и не слышал, вошли еще двое странно одетых слуг и стали нам прислуживать. Они делали это на старинный манер, коленопреклоненно. Вино оказалось великолепным, обед превосходным.
Мадемуазель почти ничего не ела и не пила. Говорила она мало, иногда погружалась в раздумья, иногда поглядывала на меня со смесью угрозы и нежности. Никогда не обедал я тет–а-тет с такой красивой женщиной и так мало говорил; и с такой, которая сама говорит так мало. Мы как противники в некоей игре, от которой зависит жизнь, думали над ходами, изучали друг друга, прежде чем начать. Какова бы ни была эта игра, у меня сложилось неприятное впечатление, что мадемуазель знает ее гораздо лучше меня; может, вообще устанавливает ее правила.
Из большой комнаты за занавесом доносились приглушенная музыка и пение. Мелодии странные, смутно знакомые. Музыканты будто находились в той комнате и в то же время далеко, ужасно далеко. Тени песен? Я вспомнил, как Дик описывал пение своей тени. Холодок пробежал по спине. Я поднял голову от тарелки и увидел, что мадемуазель смотрит на меня с насмешкой. Я почувствовал, как во мне пробуждается благотворный гнев. Страх перед ней исчез. Она красивая и опасная женщина. Вот и все. Несомненно, она понимает, о чем я думаю. Она подозвала слуг, и они убрали со стола, оставив вино. Мадемуазель прозаично заметила:
— Пойдем на террасу. Прихватите с собой вино, Алан. Оно вам может понадобиться.
Я рассмеялся, взял бутылку и бокалы и вслед за ней прошел в комнату с розовым светом.
Это была ее спальня.
Подобно предыдущей, она тоже была восьмиугольной, но, в отличие от нее, потолком являлась настоящая башня. Потолок не был прямым. Он уходил вверх конусом. В сущности, обе комнаты находились в башне, и мне показалось, что стена между ними фальшивая, она разделила некогда бывшую здесь большую комнату. И здесь стены были увешаны сине–зелеными морскими шпалерами, но без изображений. Я медленно шел, и цвет шпалер менялся, темнел, как океанские глубины, светлел, как бледный изумруд отмелей, и все время по ним передвигались тени, теневые фигуры выплывали из глубин, задерживались и томно уходили за пределы видимости.
Низкая широкая кровать, шкафчик, стол, два или три низких стула, шкаф со странной резьбой и окраской, диван. Розовый свет шел из какого‑то хитроумно скрытого источника в башне. У меня опять появилось тревожное чувство узнавания, которое возникло впервые, когда я посмотрел на черный камень на браслете.
Окно выходило на террасу. Я поставил вино на стол и вышел на террасу, Дахут за мной. Башня, как я и думал, находилась на самом верху здания, в его юго–восточном углу. справа от меня магическая ночная панорама Нью–Йорка. Далеко внизу Ист Ривер как лента тусклого серебра со множеством мостов. В двадцати футах под нами другая терраса, ее ясно видно, так как здание выстроено уступом.
Я насмешливо спросил у мадемуазель:
— Похоже на вашу башню в древнем Исе, Дахут? И с такого ли балкона ваши слуги бросали наскучивших вам любовников?
Конечно, шутка сомнительного вкуса, но она сама напросилась; к тому же необъяснимый гнев продолжал гореть во мне. Она ответила:
— Там было не так высоко. И ночи Иса не похожи на здешние. Чтобы увидеть звезды, нужно было смотреть на небо, а не вниз, на город, как здесь. И моя башня выходила на море. И я не бросала с нее своих любовников, потому что в смерти они служили мне лучше, чем в жизни. А этого не добьешься, бросая их с башни.
Она говорила спокойно, с очевидной искренностью. Я не сомневался, что она верила в то, что говорила. Я схватил ее за руку. Спросил:
— Вы убили Ральстона?
Она с тем же спокойствием ответила:
— Да.
Прижала мою ногу своей, прислонилась ко мне, глядя мне в глаза. Ревность боролась во мне с гневом. Я спросил:
— Он был… вашим любовником?
Она ответила:
— Не был бы, если бы я встретила вас раньше.
— А остальные, другие? Вы и их убили?
— Да.
— И они тоже…
— Если бы раньше встретила вас…
Мне хотелось схватить ее за горло. Я попытался снять руку с ее руки и не смог. Как будто она держала ее, и я не мог шевельнуть и пальцем. Я сказал:
— Вы цветок зла, Дахут. Корни ваши в аду… Вы из‑за денег его убили?
Она откинулась и рассмеялась, и в смехе ее глаз и рта было торжество. Она сказала:
— В старину вы не заботились о любовниках, бывших до вас. А почему сейчас заботитесь, Алан? Но нет – не из‑за денег. И умер он не потому, что дал их мне. Я устала от него, Алан… но он мне нравился… а Бриттис, бедное дитя, так давно не развлекалась… если бы он мне не нравился, я бы не отдала его Бриттис…
Ко мне вернулся здравый смысл. Несомненно, мадемуазель отомстила за мои вчерашние предположения о ней. Метод ее, может быть, сложноват, но эффективен. Мне стало стыдно за себя. Я опустил руки и рассмеялся вместе с ней… но откуда все‑таки этот опустошительный гнев и эта ревность?
Я отбросил сомнения в сторону. Сказал печально:
— Дахут, ваше вино крепче, чем я думал. Я говорил глупости и прошу прощения.
Она загадочно посмотрела на меня.
— Прощения? Интересно. Мне холодно. Пойдемте в комнату.
Вслед за ней я вернулся в комнату с башней. Я тоже замерз и ощущал странную слабость. Налил себе вина и выпил. Сел на диван. Мысли стали смутными, как будто холодный туман окутал мозг. Налил себе еще. Увидел, что Дахут принесла стул и села у моих ног. В руках у нее была старинная многострунная лютня. Она рассмеялась и прошептала:
— Вы просите прощения, но не знаете, чего просите.
Она коснулась струн и начала петь. Было что‑то странное в этой песне – сплошной дикий вздыхающий минор. Мне показалось, что я узнаю эту песню, когда‑то уже слышал ее, в такой же башне, как эта. Посмотрел на стены. Оттенки на шпалерах менялись все быстрее… от малахитовых глубин к изумрудным отмелям. И тени поднимались все быстрее и быстрее, подходили все ближе и ближе к поверхности, прежде чем снова затонуть…
Дахут сказала:
— Вы принесли браслет, который я вам дала?
Я пассивно сунул руку в карман, достал браслет и отдал ей. Она надела мне его на руку. Красный символ на камне блеснул, как будто по нему пробежал огонь. Она сказала:
— Вы забыли, что я дала вам его… давным–давно… человек, которого я любила больше всех… человек, которого я ненавидела больше всех… Вы забыли, как он называется. Что ж, услышьте его имя еще раз, Алан де Карнак… и запомните, что вы просили у меня прощения.
Она произнесла имя. Миллионы искр вспыхнули у меня в мозгу, огонь растопил опутавший его холодный туман.
Она произнесла его снова, и тени на шпалерах устремились к поверхности, сплетая руки.
Они танцевали вокруг стен… все быстрее и быстрее… тени мужчин и женщин. Я лениво подумал о танцах девушек из «Дома сердечного желания», танцах под барабаны волшебников сенуси… эти тени точно так же танцуют под музыку Дахут.
Все быстрее и быстрее неслись тени, они тоже запели, слабыми шепчущими голосами, тенями голосов… на шпалерах меняющиеся цвета превратились в волны, теневое пение стало шумом волн.
И снова Дахут произнесла имя. Тени сорвались со шпалер и устремились ко мне… все ближе и ближе. Шум волн превратился в рев урагана, он подхватил меня и понес – все ниже и ниже.
9. В БАШНЕ ДАХУТ. ИС
Рев урагана и гром моря стихли и превратились в регулярные удары больших волн о какую‑то преграду. Я стоял у окна в каком‑то высоком месте, глядя на покрытое белой пеной штормовое море. Закат был красным и мрачным.
Широкая полоса крови легла от солнца на воду.
Я высунулся из окна и посмотрел направо, стараясь разглядеть что‑нибудь в сгущающемся сумраке. И увидел. Широкая равнина, уставленная массивными вертикальными камнями; их сотни, они рядами устремляются к центру, где расположено приземистое каменное здание храма, похожее на центральную ось колеса, спицами которого служат ряды монолитов. Камни так далеко от меня, что похожи на булыжники, но потом по какому‑то капризу миража они дрогнули и придвинулись. Лучи заходящего солнца осветили их, и мне показалось, что они забрызганы кровью, а приземистое здание храма источает кровь.
Я знал, что это Карнак, а я его владыка. А приземистый храм – Алкар–Аз, где по призыву Дахут Белой и злых жрецов появляется Собиратель в Пирамиде.
И что я в древнем Исе.
Мираж снова вздрогнул и исчез. Тьма затянула Карнак. Я посмотрел вниз, на циклопические стены, о которые разбивались с громом длинные волны. Стены необыкновенно толстые и высокие; они торчат прямо из океана, как нос какого‑то каменного корабля.
Уходя к материку через мелководье, они становятся меньше. Там, дальше, белый песок побережья.
Я хорошо знал этот город. Красивый город. Храмы и здания из резного камня, с черепичными крышами, с красными, зелеными, синими и оранжевыми крышами, дома из крашеного дерева, совершенно непохожие на грубые жилища моего клана. Город, полный садов, где шепчут фонтаны и распускаются странные цветы. Тесно заселенный город, похожий на корабль: там, где стоят дома, – палуба, а стены – борта. Построен на полуострове, далеко уходящем в море. Море всегда угрожает ему, но море всегда удерживают стены и колдуны Иса. Из города выходит широкая дорога и через пески устремляется на материк; она идет прямо к злому сердцу монолитов, где приносят в жертву людей моего народа.
Не мой народ построил Ис. И не он воздвиг камни Карнака. Нашим бабушкам рассказывали их бабушки, что когда‑то, давным–давно, приплыли на кораблях странной формы люди, поселились на полуострове и укрепили его; и теперь мы у них в рабстве; и на стволе мрачного ритуала выросли ветви, с которых свисают плоды ужасного безымянного зла. Я пришел в Ис, чтобы обрубить эти ветви. И если выживу, чтобы срубить сам ствол.
Я страстно ненавидел жителей Иса, они все колдуны и колдуньи, и у меня был план, как уничтожить их всех, как навсегда покончить с ужасными обрядами Алкар–Аза, избавить храм от Того, кто по призыву Дахут и злых жрецов Иса приходит вслед за мучениями и смертью моих людей. И все это время я знал, что одновременно я не только повелитель Карнака, но и Алан Карнак, который попал в руки мадемуазель де Керадель и видит теперь только то, что хочет она. Алан Карнак знал это, но повелитель Карнака нет.
Я услышал сладкий звук легкого прикосновения к лютне, услышал смех, похожий на плеск маленьких волн, и голос – голос Дахут!
— Владыка Карнака, мрак скрывает твою землю. И не достаточно ли ты смотрел на море, возлюбленный? – У нее холодные руки, у меня – теплые.
Я отвернулся от окна, и на мгновение древний Карнак и древний Ис показались фантастическим сном. Потому что по–прежнему находился в башне, из которой, как мне казалось, меня унесли тени; все в той же восьмиугольной комнате, освещенной розовым светом, увешанной шпалерами, на которых прибывали и убывали зеленые волны; а на низком стуле с лютней в руке сидела Дахут, все в том же платье цвета моря, с прядями волос меж грудей.
Я сказал:
— Вы настоящая ведьма, Дахут: как вы меня заманили в ловушку. – И повернулся к окну, чтобы посмотреть на знакомые огни Нью–Йорка.
Но их не было, и я не повернулся. Я обнаружил, что иду прямо к ней и произношу совсем не те слова, которые, как я считал, я произнес; я говорю:
— Ты сама из моря, Дахут… и хоть руки у тебя теплее, сердце такое же немилосердное.
И тут я понял, что это – пусть сон или иллюзия, – но это настоящий Ис; та часть меня, которая была Аланом Карнаком, могла видеть глазами, слышать ушами другой моей части, могла читать мысли этой части, которая была владыкой Карнака, но сам владыка Карнака об этой другой части не подозревал. А я был бессилен управлять им. Приходилось мириться с тем, что он делал. Как актер в пьесе, с той только разницей, что я не знал ни роли, ни сюжета. Чрезвычайно неприятное состояние. На мгновение я подумал, что нахожусь полностью под гипнотическим контролем Дахут. И почувствовал слабое разочарование в ней. Мысль эта промелькнула и исчезла.
Она взглянула на меня, и глаза ее были влажными. Закрыла лицо прядями и плакала за этим занавесом. Я холодно сказал:
— Многие женщины плакали, как ты… из‑за убитых тобой людей, Дахут.
Она ответила:
— С тех пор как месяц назад ты приехал в Ис из Карнака, у меня нет мира. Огонь пожирает мое сердце. Что для меня и для тебя прежние любовники? До твоего появления я не знала любви. Я больше не убиваю, я изгнала свои тени…
Я мрачно спросил:
— А если они не смирятся со своим изгнанием?
Она отбросила назад волосы, пристально взглянула на меня:
— Что ты хочешь этим сказать?
Я ответил:
— Я создаю крепостных. Учу их служить мне и не признавать других хозяев. Кормлю их, даю им кров. Допустим, я вдруг перестаю их кормить и отказываю в приюте. Изгоняю их. Что станут делать мои голодные бездомные крепостные, Дахут?
Она недоверчиво спросила:
— Ты думаешь, мои тени восстанут против меня? – Рассмеялась, но потом глаза ее расчетливо сузились: – Все же… в твоих словах что‑то есть. Но то, что я создала, я могу и уничтожить.
Мне показалось, что в комнате прозвучал вздох и на мгновение тени на шпалерах задвигались еще быстрее. Если и так, Дахут не обратила на это внимания, сидела задумчивая и печальная. Сказала негромко:
— В конце концов… они ведь не любят меня… мои тени… они выполняют мои приказы… но они меня не любят… не любят свою создательницу. Нет.
Я, Алан Карнак, улыбнулся этим ее словам, но я, Алан де Карнак, воспринял эти ее слова совершенно серьезно… как Дик принимал слова тени!
Дахут встала, обняла меня белыми руками за шею, и ее аромат, подобный аромату тайного морского цветка, заставил меня пошатнуться, и от ее прикосновения вспыхнуло желание. Она томно сказала:
— Любимый… ты очистил мое сердце от прежних увлечений… ты пробудил меня к любви… почему ты не любишь меня?
Я хрипло ответил:
— Я люблю тебя, Дахут… но я не верю тебе. Откуда я могу знать, что твоя любовь продлится… или не настанет время, когда я тоже превращусь в тень… как произошло с другими, любившими тебя?
Она ответила, прижимаясь ко мне губами:
— Я уже сказала тебе. Я никого их них не любила.
— Но кое–кого ты все же любишь.
Она откинулась, посмотрела мне в глаза, ее собственные глаза сверкали.
— Ты о ребенке. Ты ревнуешь, Алан. Значит, ты меня любишь. Я отошлю девочку. Нет, если захочешь, прикажу убить ее.
Холодная ярость заглушила во мне желание: эта женщина легко обещает убить единственную собственную дочь. Но даже в Карнаке ее рождение не было тайной. Я видел маленькую Дахут, с фиолетовыми глазами, молочно белой кожей, с лунным огнем в жилах. Невозможно ошибиться в том, кто ее мать, даже если она бы и отказалась. Я справился со своей яростью. В конце концов я этого ожидал, но решимость моя укрепилась.
— Нет. – Я покачал головой. – Это будет просто означать, что она тебе наскучила, как наскучил ее отец, как наскучили все прошлые любовники.
Она прошептала, и в ее глазах было подлинное безумие страсти:
— Что же мне делать? Алан, что мне сделать, чтобы ты поверил?
Я сказал:
— Когда наступит новолуние, будет праздник Алкар–Аза. Ты призовешь Собирателя в Пирамиде, и тогда под кувалдами жрецов погибнет множество людей, они будут поглощены Чернотой.
— Обещай, что ты не будешь вызывать… Его. Тогда я тебе поверю.
Она отшатнулась, губы ее побелели; прошептала:
— Я не могу этого сделать. Это будет означать конец Иса. И конец… меня. Собиратель призовет… меня… проси чего угодно, любимый… но этого я сделать не могу.
Что ж, я ожидал отказа, надеялся на него. Я сказал:
— Тогда дай мне ключи от ворот моря.
Она застыла; я прочел сомнение, подозрение в ее взгляде; когда она заговорила, в ее голосе не было мягкости.
Она медленно сказала:
— А зачем они тебе, владыка Карнака? Они символ Иса, сама суть его. Они сам Ис. Их выковал морской бог, который давным–давно привел сюда моих предков. И они всегда были только в руках короля Иса.
— И никогда не должны попадать в другие руки. Зачем они тебе?
Да, наступил кризис. Момент, к которому я так долго шел. Я взял ее в руки, хоть она и высокая женщина, обнял как ребенка. Прижал губы к ее губам, почувствовал, как она дрожит, руки ее обвились вокруг моей шеи, зубами они прикусила мой рот. Я отбросил голову и захохотал. И сказал:
— Ты сама сказала, Дахут. Я прошу их, потому что они символ Иса. Потому что они – ты. И пока я их держу, сердце твое не изменится, Белая Ведьма. И для меня это щит от твоих теней. Удвой стражу у морских ворот, если хочешь, Дахут. Но, – я снова прижал ее к себе и поцеловал, – я никогда больше не поцелую тебя, если ключи не будут у меня в руках.
Она, запинаясь, ответила:
— Подержи меня еще немного, Алан… и ты получишь ключи… держи меня… ты освобождаешь мою душу от рабства… ты получишь ключи…
Она склонила голову, и я почувствовал ее губы у себя на сердце. И во мне боролись черная ненависть и черная похоть.
Она сказала:
— Отпусти меня.
Когда я это сделал, она посмотрела на меня мягким затуманенным взглядом, сказала:
— Ты получишь ключи, любимый. Но надо подождать, пока уснет мой отец. Я позабочусь, чтобы он рано лег спать. И ключи от Иса будут в руках короля Иса… потому что ты, мой любимый, станешь королем Иса. А теперь жди меня…
И она исчезла.
Я подошел к окну и посмотрел на море. Буря усилилась, превратилась в ураган, и волны все били и били о каменный нос Иса, и я чувствовал, как дрожит от этих ударов башня. Эти удары и бушующее море соответствовали возбуждению в моем сердце.
Я знал, что прошли часы, я ел и пил. У меня были смутные воспоминания о большом зале, я сидел за столом с другими пирующими, а на возвышении сидел старый король Иса, и справа от него Дахут, а слева жрец в белой одежде, с желтыми глазами, вокруг его лба узкая золотая лента, а у пояса священная кувалда, которой разбивают груди моих людей у алтаря Алкар–Аза. Он злобно смотрел на меня. А король стал сонным, голова его склонялась, склонялась…
Но теперь я в башне Дахут. Буря стала еще сильнее, и еще сильнее бились волны о каменный нос Иса. Розовый свет померк, тени на зеленых шпалерах застыли. Но мне показалось, что они близки к поверхности, следят за мной.
В руках у меня три стройных бруска зеленого морского металла, с углублениями и зарубками: на всех символ трезубца. Самый длинный втрое длиннее расстояния между концом указательного пальца и запястьем, самый короткий длиной в ладонь.
Они висят на браслете, тонкой серебряной ленте, в которой посажен черный камень с тем же алым трезубцем, символом морского бога. Это ключи Иса, созданные морским богом, построившим Ис.
Ключи от морских ворот!
Рядом со мной стояла Дахут. Она как девочка в своем белом платье, стройные ноги обнажены, серебристые волосы падают на изысканные плечи, розовый свет создает ореол вокруг ее головы. Я, Алан Карнак, подумал: «Она похожа на святую». Я, владыка Карнака, ничего не знал о святых и потому подумал: «Как я могу убить такую женщину, хотя и знаю, что она зла?»
Она просто спросила:
— Теперь ты веришь мне, мой владыка?
Я опустил ключи и обнял ее за плечи:
— Да.
Она, как ребенок, подставила мне свои губы. Я почувствовал жалость. Хоть я и знал, кто она такая, все равно почувствовал жалость. И солгал. Сказал:
— Пусть ключи вернутся на место, белый цветок. До наступления утра, до того, как проснется твой отец, верни их на место. Это было всего лишь испытание, сладкое белое пламя.
Она серьезно взглянула на меня.
— Если хочешь, это будет сделано. Но не нужно. Завтра ты станешь королем Иса.
Я испытал шок, жалость исчезла. Если обещание ее что‑нибудь значит, она собирается убить своего отца так же безжалостно, как предложила убить дочь. Она сонно сказала:
— Он состарился. И устал. Он будет рад уйти. А с этими ключами… я отдаю тебе себя. Этими ключами… я закрываю прежнюю жизнь. Я пришла к тебе… девственной. Забыла тех, кого убила, и ты их забудешь. А их тени… перестанут существовать.
И опять я услышал вздох в комнате, но она не слышала… или не обратила внимания.
Неожиданно она сжала меня в объятиях, впилась губами… больше она не была девственной… и желание, как пламя, охватило меня…
Я не спал. Зная, что мне предстоит сделать, я не смел спать, хотя сон смыкал мне глаза. Лежал, прислушиваясь к дыханию Дахут, дожидаясь, пока она уснет крепче. Но, должно быть, я все же задремал, потому что осознал, что слышу шепот и что шепот этот начался раньше.
Я поднял голову. Розовый свет потускнел. Рядом лежала Дахут, белая рука и грудь обнажены, волосы разбросаны по подушке.
Шепот продолжался, становился все настойчивей. Я огляделся. Команата была заполнена теневыми фигурами, которые раскачивались и шевелились, как тени волн. Ключи Иса лежали на полу, куда я их бросил, сверкал черный камень.
Я снова посмотрел на Дахут – и смотрел и смотрел на нее. У нее на глазах тень, как от протянутой руки, такая же тень над губами, и над сердцем тень руки, ее запястья и ноги держат такие же теневые руки, сжимают, как кандалами.
Я выскользнул их постели, быстро оделся и набросил на плечи плащ. Подобрал ключи.
Последний взгляд на Дахут – и решимость почти оставила меня. Ведьма или нет, она слишком хороша, чтобы умереть.
Шепот становился все яростней, он угрожал, он подталкивал меня. Больше я не смотрел на Дахут, не мог. Вышел из ее спальни и почувствовал, что тени сопровождают меня, вьются передо мной, вокруг меня и за мной.
Я знал путь к воротам моря. Он идет по дворцу, оттуда к подземному помещению в самом конце каменного носа города–корабля, выступающего в океан, о который бьются волны.
Ясно рассуждать я не мог, мысли были как в тумане, я сам шел, как тень среди теней.
Тени торопили меня, шептали… о чем они шепчут? Что мне ничто не может повредить… ничто не остановит меня… но я должен торопиться… торопиться…
Тени окутали меня, как плащом.
Я увидел стражника. Он стоял у входа в тот подземный коридор, куда я направлялся. Стоял сонно, глядел отсутствующим взглядом, смотрел сквозь меня, как будто я уже превратился в тень. Тени шептали: «Убей!» Я ударил его кинжалом и прошел мимо.
Из подземного коридора я вышел в помещение, за которым находились ворота. Туда вела еще одна закрытая дверь. Оттуда только что вышел человек. Это был жрец в белой одежде с желтыми глазами. Для него я не был тенью.
Он смотрел на меня и на ключи в моих руках, будто я демон. Потом бросился ко мне, взмахнув кувалдой, поднимая к губам золотой свисток, чтобы вызвать стражу. Тени подтолкнули меня вперед, и прежде чем он поднес свисток к губам, я пронзил кинжалом его сердце.
Передо мной была дверь, Я взял самый маленький ключ, и при его прикосновении дверь открылась.
И снова тени собрались вокруг меня, подталкивая вперед.
Здесь находились два стражника. Одного я убил, прежде чем он смог извлечь оружие. Потом бросился на второго и задушил его, прежде чем он смог поднять тревогу.
И когда мы с ним боролись, тени окружили его и тоже душили. Скоро он лежал мертвый.
Я подошел к воротам моря. Они из того же металла, что и ключи; огромные; в десять раз выше меня; шириной в два раза больше высоты: такие массивные, что не могли быть выкованы людьми; действительно, дар морского бога, как и говорили жители Иса. Я нашел скважину. Тени шептали… сначала я должен вставить больший ключ и повернуть… теперь меньший и повернуть… теперь нужно произнести имя, написанное на камне… раз, и два, и три. Я произнес имя.
Массивные створки задрожали: начали открываться – внутрь. В отверстии показалась вода, сначала тонкой струйкой. Она, как мечом, ударила в противоположную стену.
Тени продолжали шептать… нужно бежать… быстрее… быстрее…
Прежде чем я добрался до двери, щель между створками превратилась в ревущий водопад. Прежде чем добрался до коридора, меня ударила волна. На гребне ее летело тело жреца, руки протянуты ко мне, как будто и после смерти он старается вцепиться в меня, утащить за собой на дно… под воду…
И вот я на лошади, скачу по широкой дороге в Карнак сквозь ревущий ураган. В руках у меня ребенок, девочка, ее фиолетовые глаза широко раскрыты, в них ужас. А я скачу все вперед и вперед, и волны гонятся за мной, пытаются схватить.
И сквозь рев ветра и волн доносится другой шум из Иса: рушатся дома и храмы, море разрушает стены, слышится предсмертный крик жителей, и все это сливается в одну ноту отчаяния.
10. ПРОЧЬ ИЗ БАШНИ ДАХУТ
Я лежал с закрытыми глазами, но не спал. Сражался за пробуждение, боролся за господство над собой с другой личностью, которая упорно не желала сдаваться. Я победил, и другая личность ушла в мои воспоминания об Исе. Но воспоминания эти очень живы и сильны, как и та, вторая личность; и она будет жить, пока живут эти воспоминания; будет ждать своего шанса.
Я так устал, будто борьба была физической; в моем сознании владыка Карнака и Алан Карнак, Дахут из древнего Иса и мадемуазель де Керадель сливались в колдовском танце, переходя друг в друга, перемещаясь от одного к другому – как девушки в «Доме сердечного желания».
Прошло время между тем моментом, когда во время бегства по белым пескам меня догнал предсмертный вопль Иса, и моим пробуждением. Я это знал. Но были ли это минуты или тысячелетия, сказать не мог. И произошло многое другое, чего я не помнил.
Я открыл глаза. Мне казалось, что я лежу на мягкой постели. Но это не так. Я стоял одетый у окна в комнате, полной розовым светом: в комнате, похожей на башню… с восьмиугольными стенами, покрытыми шпалерами цвета морской волны, на которых двигались тени.
И вторая личность во мне вдруг ожила, и я услышал рев бегущих за мной волн…
Я быстро повернул голову и посмотрел в окно. Никакого бурного моря, никаких пенных волн, бьющих о стены. Я смотрел на перекрытую мостами Ист Ривер и на огни Нью–Йорка; смотрел и извлекал из этого зрелища силу и умственное здоровье.
Медленно отвернулся от окна. На постели лежала Дахут. Она спала, одна рука и грудь обнажены, волосы шелковой сетью покрывают подушку. Лежала, прямая и стройная, как меч, и улыбалась во сне.
Никакие теневые руки не держат ее. На руке у нее браслет, и черный камень немигающим глазом смотрит на меня, наблюдает за мной. Я подумал, не смотрит ли она на меня из‑за своих закрытых ресниц. Грудь ее поднималась и опускалась, как медленный подъем и падение воды в море. Рот, с оттенком какой‑то древности, мирно расслаблен.
Она похожа на душу моря, над которым пронесся ураган, оставив море спящим. Очень красива… и в сердце у меня желание и страх. Я сделал шаг к ней… убить, пока она лежит, спящая и беспомощная… убить безжалостно, как убивала она…
Я не могу сделать это. И разбудить ее не могу. Мешает страх, стоящий на пути. А желание таким же барьером стоит перед убийством. Я отступил назад и вышел на террасу.
Немного подождал, размышляя и следя за комнатой Дахут. Возможно, колдовство – суеверие. Но то, что дважды сделала со мной Дахут, вполне подходит под определение колдовства. Я подумал о том, что произошло с Диком, и о том, как она спокойно призналась, что убила его. Она сказала правду, независимо от того, что вызвало смерть: внушение или настоящая тень. Мой собственный опыт не давал усомниться в этом. Она убила Дика Ральстона и тех троих тоже. И только она одна знает, сколько еще.
Я отказался от мысли возвращаться через ее башню и искать скрытую дверь. Может, тени не станут помогать мне, как помогли в древнем Исе. И еще впереди прихожая и лифт.
Правда же заключалась в том, что холодный ужас, который я испытывал перед мадемуазель, парализовал во мне всякую веру в себя. В ее доме я слишком уязвим. И если я ее убью, то как объясню свой поступок? Смерть Дика, тени, колдовство? В лучшем случае меня ожидает сумасшедший дом. Как я смогу доказать весь этот абсурд? А если я ее разбужу и потребую, чтобы она меня освободила… мне казалось, что это тоже не сработает. Нью–Йорк и древний Ис все еще слишком близки в моем сознании, и что‑то шептало мне, что избранный мною в древнем Исе путь по–прежнему остается лучшим. Бежать, пока она спит.
Я подошел к краю террасы и заглянул за перила. Следующая терраса находилась ниже в двадцати футах. Прыгать я не рискну. Я осмотрел стену. Там и тут выступали кирпичи, и я подумал, что справлюсь.
Я снял туфли и повесил за шнурки на шею. Потом перелез через перила и без особых трудностей добрался до нижней террасы. Окна ее были открыты, и изнутри доносился храп. Часы пробили два раза, и храп прекратился. Какая‑то женщина подошла к окну, выглянула из него и захлопнула. Мне пришло в голову, что это не место для незнакомца без шляпы, пальто и обуви, просящего убежища. Поэтому я пополз к следующей террасе, но она оказалась заколоченной.
Спустился еще ниже – опять заколоченная терраса. К этому времени рубашка моя превратилась в лохмотья, брюки порвались в нескольких местах, ноги стали голыми. Я понял, что быстро приобретаю такую форму, при которой потребуется все мое красноречие, чтобы мне позволили уйти, как бы мне дальше ни повезло. Я посмотрел на террасу Дахут, и мне показалось, что свет в ее комнате стал ярче. Я торопливо перелез через перила и направился к следующей террасе.
Там оказалась ярко освещенная комната. Четверо мужчин играли в покер за столом, уставленным бутылками. Я перевернул горшок с растением. И увидел, что они смотрят в окно. Ничего не оставалось делать, как войти и использовать представившуюся возможность. Я так и поступил.
Во главе стола сидел толстяк с маленькими мигающими голубыми глазками и торчащей изо рта сигарой; рядом с ним – человек, похожий на старомодного банкира, затем худой мужчина с насмешливым ртом и меланхоличный человек маленького роста с выражением неизлечимого несварения желудка.
Толстяк спросил:
— Вы все видите то же, что и я? Все, сказавшие да, получают выпивку.
Все взяли полные стаканы, и толстяк заявил:
— Единогласно.
Банкир сказал:
— Если он не выпал из самолета, значит это человек–муха.
Толстяк спросил:
— Так как же, незнакомец?
— По стене, – ответил я.
Меланхоличный человек заметил:
— Я так и знал. Я всегда говорил, что этот дом лишен морали.
Худой человек встал и погрозил мне пальцем.
— Откуда по стене? Сверху или снизу?
— Сверху, – ответил я.
— Ну что ж, – заявил он, – тогда мы не возражаем.
Я удивленно спросил:
— А какая разница?
— Большая, – ответил он. – Дело в том, что мы все живем в этом доме ниже и все, кроме толстяка, женаты.
Меланхоличный человек сказал:
— Пусть это послужит вам уроком, незнакомец. Не верьте в присутствие женщин и в отсутствие мужчин.
Худой человек сказал:
— За это следует выпить, Джеймс. Билл, налей всем рому.
Толстяк налил. Я вдруг понял, какой им кажусь нелепой фигурой. Я сказал:
— Джентльмены, я могу назвать вам свое имя и дать удостоверение личности, и в случае необходимости вы можете проверить по телефону. Признаю, что я предпочел бы этого не делать. Но если вы позволите мне уйти отсюда, вы не совершите никакого преступления. А правду вам сообщать бесполезно, потому что вы все равно мне не поверите.
Худой человек задумчиво сказал:
— Сколько раз мне приходилось уже слышать оправдания и в таких же точно словах. Стойте на месте, незнакомец, пока присяжные не вынесут решения. Осмотрим сцену преступления, джентльмены.
Они вышли на террасу, осмотрели перевернутый горшок, осмотрели стену здания, вернулись. С любопытством посмотрели на меня.
Худой человек сказал:
— Либо у него стальные нервы и он спасал репутацию леди, либо папочка напугал его до смерти.
Меланхоличный человек, Джеймс, горько:
— Есть способ проверить его мужество. Пусть сыграет с этим толстым пиратом.
Толстяк, Билл, возмущенно заявил:
— Я не играю с человеком, у которого туфли на шнурках вокруг шеи.
Я надел туфли. И почувствовал себя лучше. Теперь я достаточно далеко и от древнего Иса, и от мадемуазель. Я сказал:
— Даже под разорванной рубашкой может биться бесстрашное сердце. Играю.
Худой человек сказал:
— Бесподобное заявление. Джентльмены, еще один кон с участием незнакомца. – Мы все выпили. Не знаю, как они, а я в этом нуждался.
Я сказал:
— Играю на пару носков, чистую рубашку, брюки, пальто, шляпу и свободный уход без всяких вопросов.
Худой человек сказал:
— А мы играем на ваши деньги. И если проиграете, уйдете, в чем пришли.
— Справедливо, – сказал я.
Я раскрыл карты, и худой человек написал что‑то на листке бумаги, показал мне и бросил в котел. Я прочел: «Один носок». Остальные торжественно написали свои ставки, и игра началась. Я выигрывал и проигрывал. Последовало множество интересных заявлений и столь же много конов. В четыре часа я выиграл право на уход. Одежда Билла мне была велика, но остальные ушли и быстро вернулись с необходимым.
Они провели меня вниз. Посадили в такси и закрыли руками уши, когда я называл шоферу адрес.
Прекрасная четверка, кем бы они ни были. Когда я переодевался в клубе, из кармана у меня выпало несколько клочков бумаги. На них было написано: половина рубашки, половина брюк, поля шляпы и так далее.
Я с трудом двинулся на северо–северо–восток, к кровати. Забыл и об Исе, и о Дахут. И во сне ничего не видел.
11. ДАХУТ ШЛЕТ СУВЕНИР
Когда я проснулся, все было иным. Тело болело, затекло, и потребовались три порции выпивки, чтобы я пришел в себя. Воспоминания о мадемуазель Дахут и древнем Исе оставались яркими, но приобрели черты ночного кошмара. Например, бегство из ее башни. Почему я не остался и не вырвался силой? У меня не было причин Иосифа, убегавшего от жены Потифара. Я знал, что я не Иосиф. Угрызения совести меня не мучили, но факт оставался фактом: я убежал самым недостойным образом. Всякий раз, как я встречаюсь с Дахут – за сомнительным исключением древнего Иса, – она побеждает меня.
Что ж, правда в том, что я бежал в ужасе и предал Билла и Элен. В этот момент я ненавидел Дахут так, как ненавидел ее владыка Карнака.
Я позавтракал и позвонил Биллу. Ответила Элен. Она с ядовитой озабоченностью сказала:
— Дорогой, ты, должно быть, ехал всю ночь, чтобы вернуться так рано. Где ты был?
Я все еще нервничал и ответил кратко:
— Три тысячи миль отсюда и пять тысяч лет назад.
Она сказала:
— Как интересно. Не в одиночестве, разумеется.
Я подумал:
— Черт бы побрал всех женщин! – И спросил: – Где Билл?
Она ответила:
— Дорогой, у тебя виноватый голос. Ты ведь был не один?
— Нет. И путешествие мне не понравилось. И если ты думаешь о том же, о чем я… что ж, я виноват. И мне это тоже не нравится.
Когда она снова заговорила, голос ее изменился, в нем слышалась настоящая озабоченность и страх.
— Ты имеешь в виду – три тысячи миль и тысячелетия?
— Да.
Снова она молчала. Потом:
— С… мадемуазель?
— Да.
Она яростно сказала:
— Проклятая ведьма! О, если бы только ты был со мной… Я избавила бы тебя от всего этого.
— Может быть. Но тогда в какую‑нибудь другую ночь. Рано или поздно это произошло бы, Элен. Почему это так, я не знаю – пока. Но это правда. – Мне вспомнилась странная мысль о том, что я пил злое зелье мадемуазель давным–давно и буду пить еще. И я понял, что это правда.
Я повторил:
— Это должно было случиться. И теперь все кончилось.
Это ложь. Я знал это, знала и Элен. Она жалобно сказала:
— Все еще только начинается, Алан.
У меня не было ответа. Она сказала:
— Я отдала бы жизнь, чтобы помочь тебе, Алан… – голос ее прервался; потом торопливо: – Билл просил подождать его в клубе. Он будет у тебя около четырех. – И повесила трубку.
И тут же мне принесли письмо. На конверте трезубец. Я открыл его, Письмо на бретонском:
Мой ускользающий… друг! Кем бы я ни была, я все же женщина и любопытна. Вы умеете превращаться в тень? Двери и стены ничего для вас не значат? Но ночью вы не казались тенью. С нетерпением жду вас сегодня вечером, чтобы узнать. Дахут
В каждой строчке этого письма угроза. Особенно в той части, где говорится о тени. Гнев мой рос. Я написал:
Расспросите ваши тени. Может, они окажутся более верными вам, чем в Исе. А что касается сегодняшнего вечера – я занят.
Подписался «Алан Карнак» и отправил письмо. Потом подождал Билла. Некоторое утешение принесла мысль, что мадемуазель, по–видимому, не знает, каким образом я сбежал из ее башни. Это означает, что власть ее ограничена. К тому же если тени действительно существуют не только в воображении ее жертв, я мог вызвать некий переполох в ее хозяйстве.
Сразу после четырех появился Билл. Он выглядел встревоженным. Я все рассказал ему с начала и до конца, включая даже партию в покер. Он прочел письмо мадемуазель и мой ответ. Потом поднял голову.
— Не виню тебя за последнюю ночь, Алан. Но я предпочел бы, чтобы ты ответил… по–другому.
— Мне нужно было принять приглашение?
Он кивнул.
— Ты теперь предупрежден. И можешь выжидать. Поиграй с ней немного… пусть поверит, что ты ее любишь… сделай вид, что согласен присоединиться к ней и к де Кераделю.
— Участвовать в их игре?
Он поколебался, потом сказал:
— Ненадолго.
Я рассмеялся.
— Билл, что касается предупреждения, то ведь этот сон о городе Ис говорит о том, что мадемуазель тоже предупреждена. И гораздо лучше вооружена. А что касается выжидания, игры с нею – она и ее отец видят меня насквозь. Нет, остается только бороться.
— Но как бороться… с тенями?
Я сказал:
— Потребовалось бы множество дней, чтобы я тебе рассказал о всех заговорах, колдовских средствах, экзорцизме и всем остальном, что придумал для этой цели человек: и кроманьонец, и тот, кто ему предшествовал, и даже получеловек, живший до них. Шумеры, египтяне, финикийцы, греки, римляне, кельты, галлы и все остальные народы под солнцем, известные и забытые, приложили к этому руку.
— Но есть только один способ победить теневое колдовство – не верить в него.
Он ответил:
— Когда‑то, и даже совсем недавно, я бы согласился с тобой. Теперь мне это напоминает способ избавления от рака – не верить, что у тебя опухоль.
Я нетерпеливо сказал:
— Если бы ты испробовал на Дике гипноз, контрвнушение, вероятно, он был бы жив.
Он негромко ответил:
— Я пробовал. Просто не хотел, чтобы де Керадель знал об этом. И ты тоже. Я старался изо всех сил, и это ничего не дало.
И пока я думал над его словами, он спросил:
— Ведь ты в них не веришь, Алан? В тени? В то, что они реальны?
— Нет, – ответил я. Хотел бы я, чтобы это было правдой.
— Что ж, – заметил он, – похоже, твое неверие не очень помогло тебе ночью.
Я подошел к окну и выглянул. Хотел сказать, что есть другой способ остановить теневое колдовство. Единственный надежный способ. Убить ведьму. Но что это даст? У меня была такая возможность, и я ее упустил. И знал, что если бы эта ночь повторилась, я бы не убил ее. Я сказал:
— Это верно, Билл. Но просто мое неверие не было достаточно сильно. Дахут ослабила его. Поэтому я и хочу держаться от нее подальше.
Он рассмеялся.
— Ты по–прежнему напоминаешь мне больного раком: если бы он действительно не верил в опухоль, она бы не убила его. Что ж, раз не хочешь идти, не пойдешь. У меня есть для тебя новости. У де Кераделя большое имение на Род Айленд. Я узнал о нем вчера. Уединенное место, вдали от всех, на самом берегу океана. У него есть яхта – мореходная. Он, должно быть, очень богат.
— Де Керадель теперь там, поэтому ты и оказался наедине с мадемуазель. Лоуэлл вчера послал за Мак Канном, и Мак Канн придет сегодня вечером, чтобы обсудить положение. Это идея Лоуэлла, и моя тоже. Мы хотим, чтобы Мак Канн побродил вокруг этого места. Узнал бы, что можно, от местных жителей. Лоуэлл, кстати, преодолел свою панику. Он ненавидит де Кераделя, да и мадемуазель тоже. Я тебе говорил, что он очень любит Элен. Считает ее своей дочерью.
Я сказал:
— Прекрасная мысль, Билл. Де Керадель говорил о каком‑то эксперименте. Это, несомненно, там. Там его лаборатория. Мак Канн может многое узнать.
Билл кивнул.
— Почему бы тебе не присоединиться к нам?
Я уже хотел согласиться, как вдруг меня охватило чувство сильной опасности. Предчувствие, что я не должен соглашаться. Как будто прозвенел глубоко скрытый сигнал тревоги. Я покачал головой.
— Не могу, Билл. У меня есть кое–какая работа. Расскажешь мне обо всем завтра.
Он встал.
— Может, передумаешь насчет свидания с мадемуазель?
— Нет. Передай привет Элен. И скажи, что больше никаких путешествий не будет. Она поймет.
Я действительно работал весь день. И весь вечер. И все время у меня было чувство, что за мной наблюдают. На следующий день позвонил Билл и сказал, что Мак Канн отправился на Род Айленд. Трубку взяла Элен и сказала, что получила мое сообщение. Не приду ли я к ней сегодня? Голос у нее теплый, мягкий… какой‑то очистительный. Я хотел прийти к ней, но зазвенел категорично скрытый сигнал тревоги. Я извинился, довольно неуклюже. Она сказала:
— Ты ведь не вбил в свою упрямую голову, что ведьма тебя запачкала?
Я ответил:
— Нет. Но не хочу подвергать тебя опасности.
Она сказала:
— Я не боюсь мадемуазель. Знаю, как с ней бороться, Алан.
— Что ты этим хочешь сказать?
Она яростно ответила:
— Будь проклята твоя глупость! – И повесила трубку, прежде чем я смог ответить.
Я был удивлен и обеспокоен. Тревожное чувство, предупреждающее, чтобы я держался подальше от доктора Лоуэлла и от Элен, нельзя было игнорировать. Наконец я побросал свои вещи и заметки в саквояж и нашел убежище в небольшом отеле. Предварительно я отправил записку Биллу, сообщил ему, где он может меня найти, и предупредил, чтобы он не говорил этого Элен. Добавил, что у меня важные причины временно скрыться. Это было в четверг. В пятницу я вернулся в клуб.
Там меня ждали два письма мадемуазель. Одно пришло сразу после того, как я ушел в убежище. В нем говорилось: «Вы передо мной в долгу. Частично вы его оплатили. Но я в долгу перед вами не останусь. Любимый, приходите ко мне сегодня вечером».
Второе письмо пришло на следующий день. «Я помогаю отцу в его работе. Когда позову вас в следующий раз, приходите обязательно. Шлю сувенир, чтобы вы не забыли».
Я с удивлением читал и перечитывал эти записки. В первом просьба, мольба. Такое письмо женщина может написать не очень пылкому любовнику. А во втором угроза. Я с беспокойством расхаживал по комнате. Потом позвонил Биллу. Он сказал:
— Итак, ты вернулся. Сейчас приду.
Он пришел через полчаса. Казалось, он сильно нервничает. Я спросил:
— Есть новости?
Он сел и ответил небрежно, слишком небрежно:
— Да. Она прикрепила одну ко мне.
Я тупо спросил:
— Кто сделал? И что?
— Дахут. Прикрепила ко мне одну из своих теней.
Руки и ноги у меня неожиданно похолодели, я почувствовал, что задыхаюсь. Передо мной лежало письмо, в котором Дахут написала о сувенире. Я сложил его. И сказал:
— Расскажи мне все, Билл.
Он ответил:
— Не паникуй, Алан. Я не похож на Дика и других. Со мной не так легко справиться. Но не скажу, чтобы было очень… приятно. Кстати, ты ничего не видишь справа от меня? Какое‑то движение, темный занавес?
Он смотрел мне в глаза, но ясно было, что для этого требовалась вся его сила воли. Глаза покраснели. Я внимательно посмотрел и сказал:
— Нет, Билл. Я ничего не вижу.
Он сказал:
— Если не возражаешь, я закрою глаза. Вчера вечером я вышел из больницы около одиннадцати. У обочины стояло такси. Водитель дремал за рулем. Я раскрыл дверцу и уже собрался сесть, как увидел: кто‑то… что‑то.. передвинулось в угол. В машине было темно, и я не мог определить, мужчина это или женщина, Я сказал: «Простите. Я думал, такси свободно». И отступил.
Шофер проснулся. Он тронул меня за плечо и сказал: «Все в порядке, хозяин. Садитесь. У меня никого нет». Я ответил: «Конечно, есть». Он зажег лампочку. В машине никого не было. Он сказал: «Я уже час жду здесь, хозяин. Немного задремал. Нет клиентов. Вы видели тень».
Я сел в машину и назвал адрес. Мы проехали уже несколько кварталов, когда мне показалось, что рядом кто‑то сидит. Рядом. Я смотрел вперед и быстро повернул голову. Заметил что‑то темное между мной и окном. И потом – ничего, но я отчетливо услышал слабый шорох. Как сухой лист, влетевший ночью в окно. Я передвинулся в ту сторону. Мы проехали еще несколько кварталов, и я снова заметил движение слева от себя, и снова между мной и окном была тончайшая темная вуаль.
Очертания человеческого тела. И снова шорох. И в этот момент, Алан, я понял.
Признаю, что на мгновение я испугался. Сказал шоферу, чтобы он отвез меня назад в больницу. Но тут же взял себя в руки и велел ехать домой. Вошел в дом. Чувствовал, что тень вошла со мной. Все в доме спали. Тень сопровождала меня, неощутимая, нематериальная, видимая только в момент движения. Я лег спать. Тень оставалась со мной всю ночь.
Я думал, что, как тень Дика, она на рассвете уйдет. Но эта не ушла. Она была здесь, когда я проснулся. Я подождал, пока все позавтракают – в конце концов неудобно представлять такого спутника членам семьи. – Он сардонически подмигнул мне.
Я спросил:
— Очень плохо, Билл?
— Пока справляюсь. Только бы хуже не стало.
Я взглянул на часы. Пять. Сказал:
— Билл, у тебя есть адрес де Кераделей?
— Да. – И дал мне адрес. Я сказал: – Билл. Больше не волнуйся. У меня есть идея. Если можешь, забудь о тени. Если нет важных дел, иди домой и ложись спать. Или поспишь здесь?
Он ответил:
— Я лучше полежу здесь. Эта штука, кажется, здесь беспокоит меня меньше.
Билл лег. Я развернул второе письмо мадемуазель и перечел его. Позвонил в телеграфную компанию и узнал телефон ближайшего к дому де Кераделей поселка. Позвонил туда, в телеграфную контору, и спросил, есть ли в доме доктора де Кераделя телефон. Ответили, что есть, но это частный провод. Я сказал, что это неважно, я только хочу продиктовать телеграмму мадемуазель де Керадель. Переспросили: «Кому?» – «Мисс де Керадель». Это невинное «мисс» вызвало у меня ироничную усмешку. Мне сказали, что передадут телеграмму.
Я продиктовал:
— Ваш сувенир убеждает, но приносит затруднения. Заберите его, и я капитулирую без всяких условий. Нахожусь в вашем распоряжении с того момента, как это будет сделано.
Я сел и посмотрел на Билла. Он спал, но тревожным сном. Я не спал и тоже тревожился. Я люблю Элен, хочу Элен. Но то, что я собираюсь сделать, уводит от меня Элен навсегда.
Часы пробили шесть. Прозвенел телефон. Дальний звонок. Заговорил человек, которому я продиктовал телеграмму.
— Мисс де Керадель получила телеграмму. Вот ее ответ: «Сувенир забираю, но он всегда может вернуться». Вы понимаете, что это значит?
— Конечно. – Если он ожидал, что я пущусь в подробности, то был разочарован. Я повесил трубку.
Пошел к Биллу. Он спал спокойнее. Я сел и смотрел на него. Через полчаса он стал дышать совсем ровно, лицо его приобрело мирное выражение. Я дал ему еще час, потом разбудил.
— Пора вставать, Билл.
Он сел и непонимающим взглядом посмотрел на меня. Осмотрелся, подошел к окну. Постоял так с минуту, потом повернулся ко мне.
— Боже, Алан! Тень исчезла!
12. ИСЧЕЗНУВШИЕ НИЩИЕ
Я ожидал результата, но не такого быстрого и полного. Так я получил новое и пугающее представление о силе Дахут, была ли эта сила внушением на расстоянии или колдовством. Такое внушение на расстоянии уже само по себе было бы колдовством. Но все‑таки что‑то несомненно произошло как результат моего послания, и по облегчению, которое испытал Билл, я понял, как трудно ему приходилось.
Он подозрительно посмотрел на меня. Спросил:
— Что ты делал со мной, пока я спал?
— Ничего.
— А зачем тебе нужен адрес де Кераделей?
— О, просто любопытство.
Он сказал:
— Ты лжец, Алан. Если бы я был в нормальном состоянии, я бы спросил до того, как сообщить тебе. Ты что‑то предпринял. Что?
— Билл, – сказал я, – это глупо. Мы оба глупо себя вели в этой истории с тенями. Ты даже не можешь точно сказать, была ли у тебя тень.
Он угрюмо спросил:
— Неужели? – И я увидел, как он сжал кулаки.
Я бойко продолжал:
— Не можешь. Ты слишком много думал о Дике, и о бреде де Кераделя, и том, что я рассказывал тебе о гипнотическом эксперименте мадемуазель. Твое воображение слишком ожило. Я же возвращаюсь к здравому скептическому чисто научному подходу. Никакой тени не было. Мадемуазель очень сильный гипнотизер, и мы позволили ей играть нами, вот и все.
Он некоторое время смотрел на меня.
— Тебе никогда не удавалось солгать, Алан.
Я рассмеялся. И ответил:
— Билл, скажу тебе правду. Пока ты спал, я испробовал контрвнушение. Посылал тебя все глубже и глубже, пока не добрался до тени – и не уничтожил ее. Убедил твое подсознание, что больше никогда ты не увидишь тень. И ты не увидишь.
Он медленно сказал:
— Ты забыл, я испробовал это на Дике. Не подействовало.
— А на тебя подействовало.
Надеюсь, он мне поверил. Это помогло бы увеличить его сопротивляемость, если бы мадемуазель снова попробовала на нем свои трюки. Но на это я не слишком надеялся. Билл сам психиатр, он лучше меня знает странности и отклонения в работе человеческого мозга. И если он не сумел убедить себя в том, что его тень – галлюцинация, то сумею ли это сделать я?
Минуту или две Билл сидел молча, потом вздохнул и покачал головой.
— И это все, что ты мне скажешь, Алан?
— Все, что могу тебе сказать, Билл. Больше говорить нечего.
Он снова вздохнул и посмотрел на часы.
— Боже, уже семь часов!
Я спросил:
— Не останешься ли обедать? Или ты вечером занят?
Лицо Билла прояснилось.
— Я не занят. Но нужно позвонить Лоуэллу. – И он взял трубку.
Я сказал:
— Минутку. Ты рассказал Лоуэллу о моем свидании с мадемуазель?
— Да? Ты ведь не против? Я думал, это поможет.
— Я рад, что ты это сделал. А Элен сказал?
Он колебался.
— Ну, не все.
Я весело заметил:
— Отлично. Она знает то, что ты рассказал. Это сбережет мне время. Звони.
Я спустился, чтобы заказать обед. Решил, что нам обоим не помешает что‑нибудь особое. Когда я вернулся, Билл был очень возбужден. Он сказал:
— Вечером придет с докладом Мак Канн. Он что‑то узнал. Будет у Лоуэлла в девять.
— Пообедаем и пойдем, – сказал я. – Мне хочется увидеть Мак Канна.
Мы пообедали. И в девять были у Лоуэлла. Элен не было. Она не знала, что я приду. И Лоуэлл ей не сказал о Мак Канне. Она пошла в театр. Я был рад этому и в то же время расстроен. Через несколько минут пришел Мак Канн.
Он мне сразу понравился. Долговязый техасец, с настоящим техасским акцентом. Доверенный телохранитель и порученец предводителя подпольного мира Рикори. Прежде был ковбоем. Преданный, изобретательный и абсолютно бесстрашный. Я много слышал о нем, когда Билл пересказывал историю невероятных приключений Лоуэлла и Рикори с кукольницей мадам Мэндилип, чьим любовником некогда был де Керадель. У меня сложилось впечатление, что то же самое чувство Мак Канн испытывает по отношению ко мне. Бриггс принес кувшин и стаканы. Лоуэлл закрыл дверь. Мы вчетвером сели за стол. Мак Канн сказал Лоуэллу:
— Ну, док, кажется, нам предстоит еще раз загонять скот, как в прошлый раз. Может, даже похуже. Хотел бы я, чтобы босс был здесь.
Лоуэлл объяснил мне:
— Мак Канн имеет в виду Рикори, он в Италии. Мне кажется, я вам говорил.
Я спросил Мак Канна:
— Много ли вы знаете?
Ответил Лоуэлл.
— Он знает столько же, сколько я. Я ему полностью доверяю, доктор Карнак.
— Прекрасно, – сказал я. Мак Канн улыбнулся мне и сказал:
— Но босса здесь нет, поэтому, может, телеграфируете ему, что вам нужна помощь, док? Попросите его связаться с этими парнями, – он протянул Лоуэллу список, в котором было больше десяти имен, – и приказать им явиться ко мне и делать, что я скажу. И попросите побыстрее вернуться.
Лоуэлл неуверенно спросил:
— Вы думаете, это оправданно, Мак Канн?
— Да. Я бы даже добавил в телеграмме, что вопрос жизни и смерти и что ведьма, делавшая кукол, ребенок по сравнению с теми, с кем мы сейчас имеем дело. И послал бы телеграмму немедленно, док. Я ее тоже подпишу.
Лоуэлл снова спросил:
— Вы уверены, Мак Канн?
— Босс нам понадобится. Говорю вам, док.
Билл писал. Он спросил:
— Как вам это? – и протянул написанное Мак Канну. – Вставьте имена людей, которые вам нужны.
Мак Канн прочел:
— Рикори. Угроза кукольницы ожила в более опасной форме. Срочно необходима ваша помощь. Прошу вас немедленно вернуться. Тем временем телеграфируйте… таким‑то… немедленно связаться с Мак Канном и безусловно выполнять его приказы. Телеграфируйте, когда вас можно ожидать.
— Хорошо, – сказал Мак Канн. – Полагаю, босс прочтет между строк и без упоминания жизни и смерти.
Он вписал отсутствующие имена и протянул листок Лоуэллу.
— Я отправил бы немедленно, док.
Лоуэлл кивнул и написал адрес, Билл напечатал телеграмму на машинке. Лоуэлл открыл дверь и позвал Бриггса. Бриггс пришел, и послание Рикори отправилось в путь.
— Надеюсь, он быстро его получит и приедет, – сказал Мак Канн и налил себе большую порцию виски. – А теперь, – сказал он, – начну с самого начала. Прошу дать мне возможность рассказать все по–своему, а если у вас будут вопросы, задавайте, когда я кончу.
После того как вы мне все рассказали, я направился в Род Айленд. Действовал без точных сведений, поэтому прихватил с собой толстую пачку чеков. По большей части фальшивых, но производят впечатление. И я не собирался покупать скот, просто показывать. По карте приметил деревушку, называется Беверли. На карте это самый близкий поселок к ранчо де Кераделя. Дальше либо пустынная местность, либо большие поместья. Поехал туда в машине. Добрался уже в темноте.
Красивая деревушка, старомодная, одна улица ведет к воде, несколько магазинчиков, кино. Увидел дом с надписью «Беверли Хаус» и решил, что там можно переночевать. Де Кераделю и его девчонке нужно проезжать через эту деревушку, чтобы добраться до своего ранчо, и, может, они тут что‑нибудь покупали. В любом случае должны быть разговоры, и тип, который владеет этим «Беверли Хаус», их слышал.
Там за прилавком я увидел старика, похожего на помесь козла с вопросительным знаком, и сказал ему, что хочу переночевать и, может, задержусь на день–два. Он спросил, не турист ли я, я ответил нет, поколебался и добавил, что у меня тут дело. Он навострил уши, а я сказал, что у нас принято делать ставки перед игрой, и вытащил пачку чеков. Он прямо замахал ушами, а когда я договорился с ним о плате, он меня зауважал.
Я пообедал, и когда уже кончал, старик пришел и спросил, как мне все, и я сказал отлично и садитесь. Он присел. Мы поговорили о том о сем, потом он стал расспрашивать о моем деле, и мы с ним выпили неплохого яблочного бренди. Я стал доверчив и рассказал ему, что выращивал в Техасе коров и разбогател на этом. Сказал, что мой дед как раз из этих мест и мне хочется сюда переселиться.
Он спросил, как звали моего деда, и я сказал Партингтон и что хочу купит наш старый дом, но слишком поздно узнал, что он продавался, и какой‑то француз, по имени де Керадель, купил его вместе с землей. Но, может, сказал я, мне удастся купить место поблизости, или, может, француз продаст мне часть земли. А потом я подожду, может, французу тут надоест, и я куплю старый дом по дешевке.
Билл объяснил мне:
— Дом, который купил де Керадель, много поколений принадлежал семье Партингтонов. Последний из них умер четыре года назад. Я все это сообщил Мак Канну. Продолжайте, Мак Канн.
— Он слушал меня со странным выражением лица, будто испугался, – сказал Мак Канн. – Потом предположил, что мой дед, должно быть, Эбен Партингтон, который после Гражданской войны уехал на запад, и я сказал, что, наверно, так и есть, потому что папу тоже звали Эбен и он никогда не говорил о своей семье, как будто злился на родственников, поэтому я и захотел купить старый дом. Я сказал, что это рассердило бы духи тех, кто выпнул моего дедушку.
Ну, это был выстрел вслепую, но он попал в цель. Старый козел стал разговорчивей. Он сказал, что я настоящий внук Эбена, потому что Партингтоны никогда не забывали обид. Потом сказал, что вряд ли я смогу купить старый дом, потому что француз потратил на него массу денег, но тут поблизости он знает одно место, которое я могу купить, и очень дешево. Он еще сказал, что и землю у француза я не смогу купить, а если бы и смог, то мне бы она не понравилась. И все смотрел на меня, будто не мог решить, говорить дальше или нет.
Я сказал, что все‑таки хочу сначала попробовать старый дом, потому что слышал, что для востока он очень хорош, и земли много, хотя для запада это, конечно, мало. И спросил, а что там сделал француз. Ну, старый козел принес карту и показал мне окрестности. Большой кусок земли, выходит прямо в океан. Узкий перешеек, примерно в тысячу футов, соединяет его с материком. За этим перешейком земля расширяется веером, там примерно две–три тысячи акров.
Он сказал, что француз построил на перешейке стену высотой в двадцать футов. В середине ворота. Но через них никто не проходит. Все, что приходит из деревни, включая почту, забирают охранники. Иностранцы, он сказал, странные смуглые маленькие люди, у которых всегда наготове деньги и которые всегда молчат. Сказал, что много привозят в лодке. Там есть ферма и много скота: коровы, овцы, лошади, свора больших собак. Он говорил: «Никто этих собак не видел, только один человек, и он…»
Тут он неожиданно замолк, как будто сказал слишком много, и на лице у него появилось испуганное выражение. Поэтому я запомнил его слова и отложил расспросы на потом.
Я спросил, был ли кто‑нибудь внутри и как там все выглядит, и он сказал: «Никто, кроме человека, который…» Тут он снова замолк, и я решил, что он говорит о том же человеке, который видел собак. И мне становилось все интереснее.
Я сказал, что ведь кто‑нибудь может незаметно подобраться со стороны океана и посмотреть. И никто не увидит. Но он ответил, что там всюду скалы, и только в трех местах можно причалить на лодке, и все эти три места, как и ворота, охраняются. Он посмотрел на меня подозрительно, и я сказал: «О, да, я помню, папа мне про это рассказывал». И побоялся дальше его расспрашивать.
Я спросил, какие еще изменения сделаны, и он ответил, что появился большой сад с камнями. Я заметил, что никто не делает сад с декоративными камнями там, где и так хватает камней. Он выпил еще и заявил, что это совсем другой сад, и вообще не сад, а, может, кладбище, и на лице у него опять появилось то же странное испуганное выражение.
Мы еще выпили, и он сказал, что его зовут Эфраим Хопкинс, и рассказал, что примерно через месяц после того, как тут поселился француз, рыбаки возвращались с моря и у них как раз напротив этого места вышел из строя мотор. А в это время подошла яхта француза, и из нее на причал вышло много людей. Рыбаки плыли на веслах, и пока они шли мимо, высадилось не менее ста человек.
Ну, потом он рассказал, что еще примерно через месяц житель Беверли по имени Джим Тейлор ехал ночью домой, и фары осветили на дороге парня. Парень заорал, увидев огни, и пытался убежать, но упал. Тейлор вышел посмотреть, что с ним. На парне было только белье и сумка на шее. И он был без сознания.
Тейлор подобрал его и привез сюда, в «Беверли Хаус». В него влили алкоголя, и он пришел в себя. Оказался итальянец, по–английски почти не говорил и был испуган до смерти. Хотел получить одежду и убраться. Открыл сумку и показал деньги. Оказывается, он сбежал из этого дома де Кераделя. Добрался до воды и плыл, пока не решил, что вышел за стену, потом выбрался на берег. Сказал, он каменщик, один из той группы, что приплыла на яхте. Сказал, они устраивают каменный сад, высекают камни и ставят их стоймя, как большие могильные плиты, ставят кольцами, а внутри строят каменный дом. Сказал, эти камни двадцати – тридцати футов высотой…
Я почувствовал, как что‑то вроде ледяной руки коснулось моих волос. И сказал:
— Повторите, Мак Канн.
Он терпеливо сказал:
— Лучше я продолжу по–своему, док.
Билл заметил:
— Я знаю, о чем ты думаешь, Алан. Но пусть Мак Канн продолжает.
Мак Канн продолжал:
— Итальянец не говорил, что его напугало. Просто начинал что‑то бормотать, дрожал и крестился. Понятно было, что он считает дом в центре камней проклятым. Ему дали еще выпить, и он сказал, что дьявол там берет свое. Сказал, что из более чем сотни приехавших с ним людей половина погибла под упавшими камнями. Сказал, что никто не знает, куда дели их тела. Сказал, что рабочих набирали из разных отдаленных поселков, и никто из них не знает друг друга. Сказал, что после него прибыло еще больше пятидесяти. Сказал, что нанимали только людей без семьи.
И потом он вдруг неожиданно закричал, закрыл голову руками и выбежал, и никто не успел его задержать. А два дня спустя, рассказывал старый козел, его выбросило море на берег примерно в миле отсюда.
— Итальянца похоронили и из его денег заплатили налоги за бедную ферму. Об этой бедной ферме я расскажу позже, – сказал Мак Канн.
И тут, похоже, старому козлу пришло в голову, что то, что он мне рассказывает, не поможет продать мне то, что он хотел бы продать. Он замолчал, стал махать своей бороденкой и поглядывать на меня. И я тогда сказал, что каждое его слово делает покупку для меня все более интересной. Сказал, что для меня нет ничего лучше хорошей таинственной истории, и чем больше я его слушаю, тем больше хочется мне поселиться здесь поблизости. Мы еще выпили, и я попросил его, если он еще что‑нибудь узнает, рассказать мне. А я ему заплачу. И еще, что завтра мы с ним отправимся смотреть то место, о котором он говорит. Я решил, что надо дать ему все это усвоить, поэтому мы еще выпили, и я отправился спать. И заметил, уходя, что он очень странно смотрит мне вслед.
Мак Канн продолжал:
— Следующий день – была среда – оказался ярким и светлым. Мы сели в его машину и поехали. Немного погодя он стал рассказывать о том типе, что видел собак. Назвал его Лайас Бартон. Сказал, что Лайас любопытнее десятка старых дев, которые подглядывают в окошко за молодоженами. У Лайаса любопытство как болезнь. Сказал, что тот вытащил бы пробку из ада, чтобы поглядеть, даже если бы знал, что ад выплеснется ему в лицо. Так вот, Лайас все думал и думал об этой стене и о том, что за ней. Он много раз бывал в поместье Партингтонов и все там знал, но эта стена все равно что жена, которая вдруг закрыла лицо вуалью. Он знает, что увидит то же самое лицо, но не может не сорвать вуаль. И вот по этой самой причине Лайас должен был заглянуть за стену.
Он знал, что днем такой возможности нет, но все там обошел, обползал и наконец нашел одно место у самой воды. Эф говорит, что стена с обеих сторон кончается скалой, она в нее встроена, но к ней можно подойти со стороны воды. Лайас решил, что он сможет со стороны воды подобраться к стене и перелезть через нее. Выбрал ночь, когда луна полная, но тучи часто закрывают ее. Взял в лодку легкую лестницу и погреб. Причалил, приставил лестницу и, когда тучи закрыли луну, поднялся на стену. И вот он наверху. Втащил туда лестницу и лег, чтобы осмотреться. У него была мысль поставить лестницу по другую сторону, спуститься и отправиться на разведку. Он подождал, пока выйдет луна, и увидел перед собой широкий луг, усеянный большими кустами. Потом дождался, пока луна снова скрылась, поставил лестницу и начал спускаться…
И вот в этом месте старый Эф замолчал, подвел машину к обочине и остановился. Я спросил: «Ну, а дальше что?» Эф ответил: «Мы его нашли утром у гавани, он греб как сумасшедший и кричал: «Уберите их от меня! Уберите их от меня!» Когда он немного успокоился, то рассказал то, что я рассказал вам.
— А потом, – сказал Мак Канн, – а потом, – он налил себе и выпил, – потом старый козел показал, что он прекрасный актер или отъявленный лжец. Он сказал: «И тут Лайас сделал так», глаза у Эфа закатились, лицо задергалось, и он заскулил: «Как они пищат! Пищат, как птицы! Как они бегут! О боже, они в кустах! Прячутся и пищат! Боже, они похожи на людей, но это не люди. Как они бегут и прячутся!..
«Но что это? Похоже на лошадь… большая лошадь… скачет… скачет…»
«Смотрите на нее… как летят ее волосы!.. посмотрите на эти голубые глаза на белом лице!.. и на лошадь… большую черную лошадь…»
«Смотрите, как они бегут… и как пищат… Слышите, как они пищат, как птицы! В кустах… перебегают от куста к кусту…»
«Смотрите на собак!.. это не собаки… Уберите их от меня! Уберите их от меня! Собаки ада… Боже… уберите их от меня!»
Мак Канн сказал:
— У меня мурашки поползли по коже. И сейчас ползут, когда я вам рассказываю.
Тут Эф включил мотор, и мы поехали дальше. Я спросил: «А потом что?» Он ответил: «Все. Все, что мы смогли у него выудить. И с тех пор он ничего не говорит. Может, упал со стены и ударился головой. Может, так, а может, нет. Во всяком случае Лайас больше не любопытен. Ходит по деревне, один, с широко раскрытыми глазами. Вспугни его, и он начнет то, что я показал, только получше». – И он посмеялся.
Я сказал: «Но если то, что похоже на человека, не человек, и то, что похоже на собак, не собаки, то что это?»
Он ответил: «Вы знаете столько же, сколько я».
Я сказал: «Но вы хоть представляете, кто эта девчонка на большой черной лошади?»
Он ответил: «Она, да. Девчонка француза».
Снова ледяная рука коснулась моих волос, мысли заметались… Дахут на черном жеребце… охотится… на кого? И стоящие камни, и люди, гибнущие под ними… все как в старину… в старом Карнаке…
Мак Канн продолжал свой рассказ.
— Мы поехали дальше, и я видел, что старый козел очень возбужден, он все время жевал свои усы. Наконец мы приехали в место, о котором он говорил. Осмотрелись. Хорошее место. Похоже на такое, которое я хотел бы купить, как я ему рассказывал. Старый каменный дом, много комнат – для востока. Меблированные. Мы немного побродили вокруг и скоро увидели стену. Все, как сказал старый козел. Нужна артиллерия или тринитротолуол, чтобы пробить ее. Эф бормотал, чтобы я не особенно на нее смотрел. Большие ворота поперек дороги, похожи на стальные. И хоть мы никого не видели, мне показалось, что за нами все время следят.
Мы походили тут и там, потом вернулись к дому. И тут старый козел беспокойно спросил меня, что я думаю, и я сказал, что все в порядке, если цена устроит, и какая же цена. И он назвал сумму, от которой я замигал. Не потому, что велика, наоборот. И тут у меня появилась мысль. Я сказал, что хочу посмотреть еще несколько домов. Мы еще там походили, а мысль не выходила у меня из головы.
Было уже поздно, когда мы вернулись в деревню. На пути назад остановились поговорить с одним человеком. Он сказал: «Эф, еще четверо исчезли из бедной фермы».
Старый козел заерзал и спросил, когда. Тот ответил, прошлой ночью. Сказал, что управляющий хочет позвонить в полицию. Эф как будто что‑то стал подсчитывать и сказал, что всего уже около пятидесяти. Тот сказал, да. Они покачали головами, и мы поехали дальше. Я спросил, что это за бедная ферма, он ответил, что это в десяти милях, там живут нищие, и вот последние три месяца они стали исчезать. И у него появилось то же испуганное выражение, и он заговорил о другом.
Ну, мы вернулись в «Беверли Хаус». Там было много местных жителей, и они отнеслись ко мне с почтением. Видимо, Эф сказал им, кто я такой, и это было что‑то вроде комитета по встрече.
Один из них встал и сказал: хорошо, что я вернулся, но надо было мне вернуться раньше. Они уже знали об исчезнувших нищих, и им это не понравилось.
Я поужинал, вышел, людей прибавилось. Они будто собирались вместе, чтобы не так бояться. А моя мысль становилась все настойчивее. А мысль заключалась вот в чем. Я ошибался, думая, что Эф заботится только о выгоде. Мне показалось, что они все страшно напуганы и, может, решили, что я тот самый человек, который может им помочь.
Наверно, Партингтоны там были большими шишками, и вот я, один из них, возвращаюсь. Можно сказать, послало само небо, как раз вовремя. Я сидел, прислушивался, и все разговоры крутились вокруг бедной фермы и француза.
Около девяти пришел еще один. Сказал: «Нашли двух исчезнувших нищих». Все подошли ближе, и Эф спросил: «Где?» И тот ответил: «Билл Джонсон приплыл вечером. Увидел за кормой двух утопленников. Подцепил их. На пристани они со стариком Си Джеймсоном рассмотрели их. Говорит, что он их знает. Сэм и Мэтти Вилан, которые уже три года жили на ферме. Так и лежат на пристани. Наверно, упали в воду, ударились о камни и утонули.
«Как это ударились о камни?» – спросил Эф. И тот ответил, что у них в груди ни одной целой кости. Ребра все разбиты, похоже, их много дней колотило о скалы. Как будто их к ним привязали. Даже сердца раздавлены…
Я почувствовал тошноту и гнев; услышал внутри себя голос: «Так было в старину… так убивали твой народ… давным–давно…» Тут я понял, что вскочил на ноги и Билл удерживает меня за руки. Мак Канн тоже вскочил, но на лице его не было удивления, и я подумал, что он не все нам рассказал.
Я сказал:
— Все в порядке, Билл. Простите, Мак Канн.
Мак Канн мягко ответил:
— Ладно, доктор, у вас свои причины. Ну, вот, тут в комнату вошел долговязый парень с пустыми глазами и расслабленным ртом. Никто не произнес ни слова, все только смотрели на него. Он подошел ко мне и стал смотреть. Потом задрожал и прошептал: «Она опять скачет. Скачет на черной лошади. Прошлой ночью скакала, и волосы развевались за ней, и собаки бежали у ее ног…»
Тут он испустил пронзительный крик и стал подпрыгивать, как игрушка на резинке, и кричать: «Это не собаки! Не собаки! Уберите их от меня! Боже… уберите их от меня!»
И все вокруг стали его успокаивать: «Успокойся, Лайас, успокойся». И увели его, а он продолжал кричать. Оставшиеся молчали. Смотрели на меня серьезно, выпивали, потом уходили. Я… – Мак Канн заколебался… – я был потрясен. Если бы я был старым козлом, я бы показал вам, как кричал Лайас.
Как будто дьяволы ухватили щипцами его душу и вытаскивают, как гнилой зуб. Я выпил еще и пошел спать. Старый Эф остановил меня. Он был бледен, и борода у него дрожала. Принес еще кувшин и сказал: «Задержитесь немного, мистер Партингтон. Нам показалось, что вы согласны поселиться тут. Если вам не подходит цена, назовите вашу. Мы согласимся».
К этому времени не нужно было быть гением, чтобы понять, что вся деревня напугана до смерти. И по тому, что я слышал и видел, я их винить не мог. Я сказал Эфу: «Эти нищие. Как вы думаете, куда они исчезают? Кто их забирает?»
Он огляделся, прежде чем ответить, потом прошептал: «Де Керадель».
«Зачем?»
Он опять шепотом: «Для своего каменного сада».
Раньше я бы над этим посмеялся. Но тут мне смеяться не хотелось. И я сказал ему, что место мне нравится, но завтра я вернусь в Нью–Йорк и подумаю, а тем временем почему бы им не заявить в полицию? Он ответил, что деревенский полицейский испуган так же, как и все остальные, и он уже говорил с офицерами, но те решили, что он спятил. На следующее утро я расплатился и обещал через день–два вернуться. Небольшая делегация явилась попрощаться со мной и уговаривала вернуться.
Интересно было бы взглянуть на это место за стеной и особенно на то, что Эф назвал каменным садом. У меня в Провиденсе друг, у него есть гидросамолет. Я поехал к нему и договорился, что вечером полетим над поместьем Кераделя. Полетим над берегом. Ночь была лунная, и мы вылетели в десять. Когда подлетали, я достал бинокль. Все вокруг ясно, но над этим местом поднялся туман. Быстро поднялся, будто хотел обогнать нас.
У причала, в глубокой бухте, стояла большая яхта. Она направила на нас прожектор. Не знаю, то ли хотела ослепить, то ли выяснить, кто мы и откуда. Я попросил лететь к дому, и мы ушли от прожектора. Я поднял бинокль и увидел длинный старинный каменный дом, полускрытый холмом. И еще увидел кое‑что, от чего поползли мурашки… как от воплей Лайаса. Не знаю, почему. Много больших камней, расположенных кругами, и большая груда камней в середине. Туман вился вокруг, как змеи, и среди камней поблескивали огоньки… серые огоньки… какие‑то отвратительные…
Мак Канн смолк, дрожащей рукой поднес ко рту бокал и выпил.
— Гнилые огни. Как будто… разлагаются… И на груде камней сидело что‑то черное… бесформенное… тень какая‑то. Эта тень дрожала, колебалась… а камни будто старались стащить нас вниз, к этой черной тени…
Он поставил бокал, и рука у него все еще дрожала.
— И тут мы пролетели. Я оглянулся, но все закрыл туман.
Он сказал Лоуэллу:
— Говорю вам, док, что с ведьмой Мэндилип я никогда не чувствовал себя так отвратительно, как над этим местом. Мэндилип была связана с адом, верно. Но это место – само по себе ад, говорю вам!
13. ДАХУТ ПРИСЫЛАЕТ ВЫЗОВ
— Вот и все. – Мак Канн зажег сигарету и посмотрел на меня. – Мне кажется, что для доктора Карнака мой рассказ имеет больше смысла, чем для меня. Я… я просто знаю, что тут черное зло. А он, может, знает, насколько черное. Например, док, почему вы вздрогнули, когда я рассказал о двух нищих?
Я сказал:
— Доктор Лоуэлл, если не возражаете, я хотел бы поговорить наедине с Биллом. Мак Канн, заранее прошу прощения. Билл, идем в уголок. Хочу с тобой пошептаться.
Мы с Биллом отошли так, чтобы нас не могли услышать, и я спросил:
— Много ли знает Мак Канн?
Билл ответил:
— Все, что мы знаем о Дике. Он знает, что де Керадель был связан с кукольницей. И с него этого достаточно.
— Знает ли он о моих встречах с мадемуазель?
— Определенно нет. Мы с Лоуэллом решили, что тут слишком много интимного.
— Весьма деликатно с вашей стороны, – я с трудом сохранил серьезность. – Но говорил ли ты кому‑нибудь, кроме меня, об этой твоей воображаемой тени?
— Воображаемой? Какого дьявола!.. Нет, не говорил.
— Даже Элен?
— Да.
— Отлично, – сказал я. – Теперь я знаю, где нахожусь. – Я вернулся к столу и снова извинился перед Мак Канном. И сказал Лоуэллу:
— Помните, де Керадель говорил, что готовит некий эксперимент? Цель эксперимента – оживить бога или демона, которому поклонялись когда‑то давно. По рассказу Мак Канна я могу заключить, что эксперимент зашел далеко. Он установил камни в порядке, предписанном древним ритуалом, и в середине соорудил Большую Пирамиду. Дом Черноты, Храм Собирателя. Алкар–Аз…
Лоуэлл оживленно прервал:
— Вы опознали это название? Я помню, когда вы впервые его упомянули, де Керадель пришел в ужас. А вы не ответили на его вопрос. Вы это сделали, чтобы ввести его в заблуждение?
— Нет. До сих пор не знаю, как возникло в моем сознании это название. Может, от мадемуазель… как потом многое другое. А может, и нет. Если помните, мадемуазель предположила, что я… вспомнил. Тем не менее я знаю, что сооружение в центре монолитов – Алкар–Аз. И что это, как справедливо заметил Мак Канн, черное зло.
МАк Канн спросил:
— Но двое нищих, док?
— Может, действительно их било волнами о скалы. Но в древнем Карнаке и в Стоунхендже в старину друиды своими дубовыми, каменными и бронзовыми кувалдами били жертвы по груди, пока не разбивали ребра и не превращали сердца в месиво.
Мак Канн негромко сказал:
— О боже!
Я продолжал:
— Пытавшийся сбежать каменщик рассказал о людях, которые гибли под камнями, и тела их исчезали. Недавно при исследованиях в Стоунхендже под многими камнями найдены остатки человеческих скелетов. Когда устанавливали монолиты, эти люди были живы. Такие же останки и под стоячими камнями древнего Карнака. В древности под стенами городов замуровывали мужчин, женщин, детей. Иногда их предварительно убивали, а иногда замуровывали живьем. Основания храмов покоятся на таких жертвах. Мужчины, женщины, дети… их души навсегда прикованы там… они охраняют. Так верили древние. Даже сейчас есть суеверие, что только тот мост будет прочен, при строительстве которого погиб хотя бы один человек. Надо покопаться у камней… сада де Кераделя. Бьюсь об заклад, что там найдутся тела исчезнувших работников.
Мак Канн сказал:
— Бедная ферма у самой воды. Легко оттуда увозить людей на лодке.
Лоуэлл резко возразил:
— Ерунда, Мак Канн. Как можно их захватить тайно? Вы ведь не считает, что де Керадель подплывает, загоняет на борт нищих, уплывает, и ни один человек этого не видит?
Мак Канн успокаивающе ответил:
— Ну, док, это не так уж трудно. Я видел, как бегут из тюрем. Охрану всегда можно снять.
Я сказал:
— Есть другие пути. Они могли добровольно уйти в тайне. Кто знает, что пообещал им де Керадель, если они уходили именно к нему?
Лоуэлл заметил:
— Но как он мог подобраться к ним? Как установил контакт?
Билл негромко ответил:
— При помощи теней Дахут!
Лоуэлл сердито отодвинул свой стул.
— Вздор! Допускаю, что внушение могло подействовать в случае с Ральстоном. Но допустить, что в коллективную галлюцинацию вовлекаются полсотни участников… вздор!
— Ну, во всяком случае они исчезли, – протянул Мак Канн.
Я сказал:
— Де Керадель – энтузиаст, и очень большой. Подобно Наполеону, он знает, что нельзя изготовить омлет, не разбив яйца; нельзя иметь мясо без скота, нельзя принести человеческие жертвоприношения без людей. Как он подбирает рабочих? Его агенты отыскивают людей без семьи, о таких никто не побеспокоится после исчезновения. И они из разных, удаленных друг от друга мест, не знают друг друга. Зачем? Чтобы уменьшить риск при розыске. А что происходит с ними после окончания работ? Кто знает? И кого это интересует?
Позволят ли им уйти после окончания работ? Сомневаюсь. Иначе к чему все эти странные предосторожности? И опять – кто знает и кого это интересует?
Билл сказал:
— Ты хочешь сказать, что он использует их для…
Я прервал его:
— Для своего эксперимента, конечно. Или, как отметил старый козел Мак Канна, для своего каменного сада. Они подопытные кролики. Но запас кроликов подходит к концу. По какой‑то причине он не хочет или не может добывать их прежним способом. Но они ему нужны. Для такого эксперимента нужны толпы. Где он может найти их с минимальным риском? Не крадя людей поблизости. Тут бы ад поднялся. И не из тюрьмы: каждый исчезнувший из тюрьмы человек вызвал бы еще больший ад. К тому же ему нужны не только мужчины, но и женщины. А кого не заметят в этом мире? Нищего. А тут поблизости источник. И вот нищие начинают исчезать.
Мак Канн сказал:
— Похоже на правду. Но как же собаки, которые не собаки? Их видел спятивший Лайас.
… На черном жеребце своем
Со сворой призрачной у ног
… Вспомнил я и ответил:
— Ваши догадки не хуже моих, Мак Канн. А что вы собираетесь делать с этими вашими людьми, если Рикори отдаст их в ваше распоряжение? У вас есть план?
Он уселся поудобнее.
— Ну, вот как. Если босс передаст их мне, значит, он сам собирается вернуться. А когда босс принимает решение, он действует быстро. Эти парни, которых я назвал, не боятся ни ада, ни его чертей. Все владеют оружием, но не отбросы какие‑нибудь, хорошо выглядят, нормально себя ведут… почти всегда. Теперь вот к чему я веду. Если де Керадель действительно занят тем, о чем мы говорим, рано или поздно произойдет что‑нибудь, что даст к нему доступ. Мне кажется, что эти двое нищих, которых он бросил в воду, это ошибка. Он не хочет ничего заметного, ничего подозрительного. Но, может, он и другие ошибки допустит. А мы будем тут как тут.
— Жители Беверли рады видеть меня. Пойду с двумя парнями к Эфу и скажу, что хотел бы попробовать пожить в доме, который они предлагают мне купить. За день–два подтянутся остальные. Приедут порыбачить с Мак Канном на досуге. Будем рыбачить, будем бродить по окрестностям. К тому времени как появится босс, мы все там будем знать. Ну, а уж там он скажет нам, что делать.
Доктор Лоуэлл сказал:
— Мак Канн, все это будет стоить денег. Я не соглашусь, если вы не позволите мне оплатить расходы.
Мак Канн улыбнулся.
— Не беспокойтесь об этом, док. Дом нам ничего не будет стоить. Об этом позаботятся Эф и его друзья. А что касается парней… ну, я тут по поручению босса кое–чем занимался, и у меня много денег. Да и босс за все заплатит. Ну, и еще… – в глазах Мак Канна блеснула алчность, – по тому, что говорили вы и доктор Беннет, в доме де Кераделя может ждать неплохая добыча.
Шокированный Лоуэлл воскликнул:
— Мак Канн!
Я рассмеялся, посмотрел на Мак Канна. И у меня появилась беспокойная мысль, что он, может быть, не такой уж незаинтересованный человек. Кажется прямым и откровенным, его рассказ подкрепляет все наши подозрения, но не слишком ли все кстати? Он и Рикори гангстеры и рэкетиры, они действуют жестоко, нарушая законы.
Я не сомневался, что в основном его рассказ правдив, что он действительно обнаружил деревню, полную страха и слухов. Но, может, это всего лишь слухи в маленькой общине, жители которой негодуют из‑за того, что им теперь воспрещен доступ туда, куда они свободно проходили на протяжении многих поколений? Во многих местах Новой Англии соседи посчитают оскорблением, если вы на ночь задернете занавески на окнах. Если ничего плохого не делаете, зачем закрываться от соседей? Может, те же самые соображения лежат в основе беспокойства в Беверли? Все, что может происходить за стеной де Кераделя, нарисовано их воображением. И постепенно слухи будут становиться все более дикими.
Разбойнику нетрудно воспользоваться такой ситуацией; привести с собой банду, поселиться в заброшенном доме по соседству с имением де Кераделя. Потом, под каким‑нибудь вымышленным предлогом, а может, и без него, утверждая, что нужно избавить жителей деревни от страха, опираясь на поддержку суеверных жителей, ночью преодолеть стену, ворваться в дом и ограбить его. Охранников можно «устранить», и никто не вмешается. Может, у Мак Канна есть информация о деньгах Ральстона и других.
Может, он уже известил Рикори о такой возможности, и посланная Лоуэллом телеграмма – только для отвода глаз.
Эти мысли промелькнули у меня в одно мгновение. Я сказал:
— Звучит прекрасно. Но нужно, чтобы кто‑нибудь находился в самом доме и мог с вами связаться.
Мак Канн категорически ответил:
— Это сделать невозможно.
— Ошибаетесь. Я знаю человека, который может это сделать.
Он улыбнулся.
— Неужели? И кто же это?
— Я.
Лоуэлл склонился вперед, недоверчиво глядя на меня. Билл побледнел, и на лбу у него выступил пот. Мак Канн перестал улыбаться. Он спросил:
— Как вы собираетесь попасть туда?
— Через парадный вход, Мак Канн. В сущности у меня уже есть приглашение от мадемуазель де Керадель. Я его принял. Боюсь, я забыл сказать тебе об этом, Билл.
Билл мрачно ответил:
— Боюсь, что так. Вот зачем тебе нужен был адрес де Кераделя? И вот что ты делал, пока я спал… и вот почему…
Я легко заметил:
— Не имею ни малейшего представления, о чем это ты толкуешь, Билл. Мадемуазель – очень привлекательная женщина. Просто приглашение пришло, когда ты спал, и я его тут же принял. Вот и все.
Он задумчиво сказал:
— И немедленно…
Я торопливо прервал его:
— Ничего подобного, Билл. Забудь об этом. Вот как я оцениваю ситуацию…
Мак Канн прервал меня, глаза его сузились, лицо затвердело.
— Похоже, доктор Карнак, вы знаете эту девчонку де Керадель лучше, чем я думал. И многое другое тоже знаете.
Я весело ответил:
— Очень многое, Мак Канн. И так и останется. Как хотите. Ваша банда будет за стеной. А я внутри. Если хотите сотрудничать со мной, прекрасно. Не хотите, попробую поиграть один. Чего вы опасаетесь?
Он вспыхнул, руки его быстрым движением устремились вниз, к бокам. Он протянул:
— Я ничего не опасаюсь… просто хочу получше знать тех, с кем приходится работать.
Я рассмеялся:
— Можете мне поверить, Мак Канн, я не собираюсь вас предавать. Но больше ничего не скажу.
Билл, по–прежнему в поту, сказал:
— Я тебе это не позволю, Алан.
Я сказал:
— Слушайте. Либо де Керадель и мадемуазель довели до самоубийства Дика и остальных, либо нет. Если они это сделали, то при помощи каких‑то темных знаний или гипнотическим внушением. В любом случае никакого доказательства, которое принял бы во внимание суд, нет. Но если де Керадель действительно проводит дьявольский эксперимент, на который намекнул, и если он приманивает, похищает или каким‑либо другим образом добывает людей для человеческих жертвоприношений, в таком случае доказательства раздобыть можно и можно обвинить его в убийствах. И соответственно подвесить с петлей на шее. А также, – я поморщился при этой мысли, – и мадемуазель.
Но единственное место, где можно раздобыть доказательства, это Род Айленд. План Мак Канна хорош, но ведь он будет находиться за стеной и у него будет меньше возможностей для наблюдения. Так случилось, что я не только единственный имею доступ внутрь, я еще подготовлен для отправления туда… При этом я не смог сдержать обращенной к Биллу сардонической улыбки. – К тому же, Билл, если меня ждет опасность, то я убежден: она меньше, если я приму приглашение мадемуазель, чем если не приму.
Я подумал, что это истинная правда. Повинуясь призыву Дахут, я, вероятно, навсегда потеряю Элен. Если не повинуюсь – тоже ее потеряю. И мне не нравилась мысль о том, что может при этом случиться с нею и с Биллом. В моем мозгу боролись неверие и абсолютная убежденность в нечестивой власти мадемуазель. И я в одно и то же время и верил, и не верил.
Билл сказал:
— Тебе никогда не удавалось солгать, Алан.
Мак Канн протянул руку.
— Ну, ладно, док. Простите, что не так сказал. Ничего больше можете мне не говорить. И больше говорить не будем, потому что я хочу, чтобы доктор Беннет в этом не участвовал.
Билл горячо сказал:
— Не участвовал? К дьяволу! Я отправлюсь с Мак Канном.
— Я знаю, о чем говорю, – сказал я. – Я буду играть с Мак Канном. И с Рикори, если он появится. А ты в этом не участвуешь, Билл. Я не хочу, чтобы ты даже разговаривал с Рикори. Пусть все объясняет доктор Лоуэлл.
Билл упрямо сказал:
— Я поеду.
— Ты думаешь, тупица, я о тебе забочусь? Об Элен.
Лицо его снова побелело и на лбу выступили капли пота. Он медленно сказал:
— Вот оно что.
— Именно. Подумай об этом как следует. Нечего делать, Билл. Ты исключен.
Я повернулся к доктору Лоуэллу.
— У меня есть причины для того, чтобы говорить так. Надеюсь, вы меня поддержите. Думаю, для вас особой опасности нет. Но для Элен и Билла – очень опасно.
Лоуэлл серьезно ответил:
— Я понял, Алан. Я вас не подведу.
Я встал. Посмотрел на Билла и рассмеялся. Сказал:
— У тебя такой вид, будто твой лучший друг только что прошел в маленькую зеленую дверь, из которой никто не возвращается. Ничего подобного, Билл. Я собираюсь навестить очаровательную женщину и ее, может быть, слегка свихнувшегося, но тем не менее гениального отца. Меня ждет очень интересное время. А если папа слишком уж спятит, меня выручит Мак Канн. Если ты мне понадобишься, я с тобой свяжусь. Существуют почта и телефон. Идемте, Мак Канн.
Мы вчетвером спустились в холл.
Я сказал:
— Билл, ничего не говори Элен, пока я с тобой не свяжусь.
И в этот момент открылась дверь и вошла Элен.
Глаза ее широко раскрылись, она выглядела расстроенной и сказала:
— Здравствуй, дорогой. Почему мне не сказали, что ты сегодня придешь? Я бы не уходила.
Она обняла меня за шею и поцеловала. Губы у нее мягкие и теплые, всю ее окружает аромат, не морского цветка, а цветка, растущего на земле.
— Я сам не знал о том, что приду.
— Ну, а сейчас иди обратно. Нам нужно о многом поговорить.
Я хотел побыть с Элен, но именно сегодня мне нельзя было с ней говорить. Я бросил невольный взгляд о помощи на Мак Канна.
Мак Канн понял. Он сказал:
— Простите, мисс Элен, но мы должны немедленно уходить.
Элен взглянула на него.
— Здравствуйте, Мак Канн. Я вас не заметила. А что вы собираетесь делать с этим моим человеком?
— Все, что прикажете, мисс Элен. – Мак Канн улыбался, но мне показалось, что он говорит чистую правду: что бы ни приказала ему Элен, он все бы выполнил.
Билл сказал:
— Алан должен идти, Элен.
Она сняла шляпу и пригладила волосы. Спокойно спросила:
— Дело де Кераделей, Алан?
Я кивнул, и она слегка побледнела. Я сказал:
— Ничего особенно важного, но, честно, я не могу остаться. Увидимся завтра, Элен. Давай встретимся у Маргенса за ленчем. Потом побродим, поужинаем и отправимся на какое‑нибудь шоу. Я уже три года не был в театре.
Она одну–две минуты смотрела на меня, потом положила руки мне на плечи.
— Хорошо, Алан. Встретимся в два. Но приходи.
По дороге я поклялся себе, что что бы ни случилось: ад или наводнение, – я приду обязательно. И если Биллу придется несколько часов поразвлекать тень Дахут, что ж, он выдержит. В клубе мы с Мак Канном выпили, и я рассказал ему кое‑что еще. Я сказал, что и де Керадель, и его дочь спятили и что меня приглашают потому, что мадемуазель кажется, что несколько тысяч лет назад мы были любовниками. Он молча слушал.
Когда я кончил, он сказал:
— Эти тени, док. Вы думаете, они реальны?
Я ответил:
— Не знаю, как они могут быть реальны. Но те, кто их видит, так считают.
Он кивнул с отсутствующим видом.
— Ну, с ними нужно обращаться, как с реальными. Но как надавить на тень? Впрочем, за их действия отвечают реальные люди. Вот на них надавить всегда можно.
Потом добавил:
— Например, эта девчонка де Керадель. Что вы о ней думаете? Я слышал, она очень красива. Безопасно к ней отправляться?
Я вспыхнул, потом холодно ответил:
— Когда мне понадобится охранник, Мак Канн, я дам вам знать.
Он ответил так же холодно:
— Я ничего не имел в виду. Только… не хочу, чтобы пострадала мисс Элен.
Это меня задело. Я горячо начал:
— Если бы не мисс Элен… – и замолк. Он наклонился ко мне, взгляд его стал менее жестким.
— Я так и думал. Вы боитесь за мисс Элен. Поэтому вы идете. Но, может, вы не тот способ защиты выбрали?
— А вы знаете лучший?
— Почему бы не отдать все мне в руки?
— Я знаю, против кого иду, Мак Канн, – сказал я ему.
Он вздохнул и сдался.
— Ну, ладно, скоро появится босс, а пока надо договориться, как поддерживать связь. Во–первых, у конца стены будет рыбачить лодка. Когда вы отправитесь?
— Когда за мной пошлют.
Он снова вздохнул, торжественно пожал мне руку и ушел. Я лег и уснул. На следующее утро в девять позвонил Билл и сказал, что Рикори телеграфировал необходимые инструкции и сообщил, что вылетает из Генуи в Париж, затем сядет на «Мавританию» и через неделю будет в Нью–Йорке. Позвонил с той же новостью Мак Канн, и мы договорились в полночь встретиться, чтобы обсудить совместные действия.
Я провел прекрасный день с Элен. Встретил ее у Маргенса и сказал:
— Это твой и мой день, дорогая. Ни о чем другом думать не будем. К дьяволу де Кераделей. Это последнее упоминание о них.
Она очаровательно ответила:
— Место рядом с дьяволом вполне им соответствует, дорогой.
Как я сказал, день был прекрасный, и задолго до его конца я понял, как сильно влюблен в Элен. Всякий раз как мысль о мадемуазель выползала из темного угла сознания, куда я ее затолкал, я заталкивал ее обратно, испытывая укол ненависти, как боль от жала. В половине одиннадцатого я попрощался с Элен у дверей Лоуэлла. Я спросил:
— Как насчет завтра?
— Очень хорошо. Если сможешь.
— А почему это я не смогу?
— День кончился, Алан. Ты не избавишься от Дахут так легко. – Я попытался ответить, она меня остановила. – Ты не знаешь, как я тебя люблю. Пообещай… если я тебе понадоблюсь… приходи ко мне… в любое время… и в любой… форме.
Я схватил ее за руки.
— В любой форме? Что ты этим хочешь сказать?
Они потянула мою голову вниз, прижалась губами – свирепо, нежно и страстно в одно и то же время. Открыла дверь, на мгновение повернулась.
Закрыла дверь. Я сел в такси и поехал в клуб, ругая мадемуазель более всесторонне, чем я это делал со времен Иса – если я тогда это делал. Мак Канн еще не появился, но меня ждала телеграмма. Я прочел:
Завтра в полдень у причала Ларчмонт–клуба вас будет ждать яхта. Она называется «Бриттис». Там я вас встречу. Искренне надеюсь, вы придете готовый остаться навсегда.
Ну, вот. Я не пропустил ни названия яхты, ни насмешки в этом «остаться навсегда». Элен – реальность, а Дахут – тень. Но я понял, что тень тоже становится подлинной реальностью. С печалью в сердце, с мрачным предчувствием, с сожалением об Элен, с которой я, возможно, распрощался навсегда, с жгучей ненавистью к этой женщине, которая так полупрезрительно призывает меня, – со всем этим я понимал, что ничего не остается делать, как повиноваться.
14. ЗА СТЕНОЙ ДЕ КЕРАДЕЛЯ
Когда я паковал саквояж, появился Мак Канн. Он удивленно посмотрел на меня.
— Вы куда‑то отправляетесь, док?
В неожиданном порыве откровения я протянул ему телеграмму мадемуазель. Он молча прочел ее, поднял голову.
— Только что пришло? А мне показалось, вы говорили доктору Беннету, что приглашение у вас уже есть.
— Это, – терпеливо пояснил я, – только подтверждение предварительной договоренности, устанавливает время, которое не было установлено раньше. Можете сами увидеть, если прочтете внимательнее. – Я начал паковать второй саквояж. Мак Канн перечел телеграмму, некоторое время молча смотрел на меня, потом сказал:
— За доком Беннетом ходила одна из этих теней, верно?
Я резко повернулся к нему.
— Почему вы так думаете?
Он продолжал, как будто не слышал меня:
— А потом ее не стало, когда вы были с ним.
— Мак Канн, – сказал я, – вы сошли с ума. Почему вы так думаете?
Он вздохнул и ответил:
— Когда вы с ним спорили о том, чтобы ехать к де Кераделю, я удивился. Но когда увидел телеграмму, больше не удивлялся. Получил ответ.
— Ну и хорошо, – сказал я и продолжал паковаться. – И каков же ответ?
— Вы что‑то отдали за тень доктора Беннета.
Я посмотрел на него и рассмеялся.
— У вас отличные идеи, Мак Канн. Что же я мог отдать, и кому, и зачем?
Мак Канн снова вздохнул и показал пальцем имя мадемуазель.
— С ней, – потом показал слова «остаться навсегда» и сказал: – И вы отдали это за тень.
— Мак Канн, – сказал я и подошел к нему. – Он действительно считал, что его преследует тень. Но только потому, что он слишком много думал об этом странном деле. И у него такая же идея о том, почему он освободился от… наваждения, что и у вас. Я хочу, чтобы вы пообещали ничего не говорить ему о своих подозрениях. И особенно не говорить мисс Элен. И если кто‑нибудь из них заговорит с вами об этом, постарайтесь их разубедить. И у меня есть основания просить об этом, поверьте. Обещаете?
Он спросил:
— Мисс Элен еще ничего об этом не знает?
— Нет, если ей не сказал доктор Беннет после нашего ухода, – ответил я. Я с беспокойством подумал об этом и проклял свою глупость: почему я его не предупредил?
Он немного подумал, потом сказал:
— Хорошо, док. Но боссу я должен буду рассказать.
Я рассмеялся и ответил:
— Хорошо, Мак Канн. К тому времени игра будет кончена. Останутся посмертные процедуры.
Он резко спросил:
— Что вы этим хотите сказать?
— Ничего, – ответил я. И продолжал паковаться. Правда в том, что я и сам не знал, что хотел сказать.
Он сказал:
— Вы там будете завтра к вечеру. Я с ребятами задолго до темноты остановлюсь у старого козла. Вероятно, до следующего дня мы не пойдем в тот дом, о котором я вам рассказывал. У вас есть план, как нам связываться?
— Я думал об этом. – Я перестал укладывать вещи и сел на кровать. – Не знаю, насколько тщательно за мной будут следить, будет ли у меня свобода передвижения. Ситуация… необычная и сложная. Очевидно, ни письмам, ни телеграммам я не могу довериться. Я могу приехать в деревню, но это не значит, что смогу связаться с вами, потому что, наверно, буду не один. Даже если вы будете там, весьма глупо было бы узнать вас и заговорить. А де Керадели не глупцы, Мак Канн, и они сразу поймут, в чем дело. Пока я не окажусь по другую сторону стены, могу предложить только одно.
— Вы так говорите, будто приговорены к пожизненному, – улыбнулся он.
— Нужно рассчитывать на худшее. Тогда не придется разочаровываться. Если поступит телеграмма – запишите, Мак Канн, – доктору Беннету: «Все в порядке. Не забудь переслать почту», как можно быстрее перебирайтесь через стену, как можно быстрее к дому – и огонь из всех калибров. Понятно, Мак Канн?
— Хорошо, – согласился он. – У меня тоже есть одна–две аналогичные мысли. Когда попадете туда, вам никто не помешает писать. Прекрасно. Пишите. Найдите возможность выбраться в «Беверли Хаус», я вам о нем рассказывал. Войдите. Кто бы с вами ни был, найдите возможность бросить письмо на пол или куда‑нибудь. Никому не передавайте. После вашего ухода перевернут весь дом, но найдут. И я его получу.
— Дальше. У северного конца стены все время будут рыбачить парни. Если идти от дома, это слева. Там скала. Можете взобраться на нее и осмотреть окрестности. Вы ведь за стеной, и вам не помешают. Напишете другую записку, положите в маленькую бутылочку, побросаете в море камни и среди них бутылочку. А парни именно этого и будут ждать.
— Хорошо, – сказал я и налил ему. – Теперь только ждите телеграмму для Беннета и приводите своих мирмидонцев.
— Кого, кого? – переспросил Мак Канн.
— Ваших одаренных парней с пушками и лимонками.
— Хорошее название. Парням оно понравится. Ну‑ка скажите еще раз.
Я сказал и добавил:
— И не забудьте сказать об этом доктору Беннету.
— Значит вы с ним до отъезда разговаривать не будете?
— Нет. И с мисс Элен тоже.
Он немного подумал, потом спросил:
— Вы вооружены, док?
Я показал ему свой 32 калибр. Он покачал головой.
— Вот этот лучше, док.
Полез под мышку и отстегнул кобуру. В ней был маленький пистолет с коротким стволом.
– 38 калибр, – сказал он. – Только броня выдержит. Держите свой прежний, а этот носите под мышкой. Носите всегда, днем и ночью. И прячьте. В кармане кобуры запасные заряды.
Я сказал:
— Спасибо, Мак, – и бросил его на кровать.
— Нет, надевайте и носите. К нему нужно привыкнуть.
— Хорошо, – сказал я. И послушался.
Он неторопливо выпил еще, сказал мягко:
— Конечно, есть прямой и легкий выход. Вам всего лишь нужно, когда сядете за стол с де Кераделем и его девчонкой, достать пушку и прикончить их. Я со своими парнями вас прикрою.
— Не знаю, Мак, – вздохнул я. – Честно, не знаю.
Он тоже вздохнул и встал.
— Вы слишком любопытны, док. Ну, что ж, действуйте по–своему…
У дверей он повернулся.
— Вы бы понравились боссу. Босс любит крепких парней.
И вышел. Я чувствовал себя посвященным в рыцари.
Написал короткую записку Биллу. Просто говорил, что когда принимаешь решение, отступать нельзя, нужно действовать, и поэтому с утра я буду в хозяйстве мадемуазель. Я ничего не написал о телеграмме: пусть думает, что это исключительно мое решение. Написал, что у Мак Канна есть для него важное сообщение, и если и когда он получит телеграмму от меня, это будет означать начало решительных действий.
И еще написал короткое письмо Элен…
На следующее утро я вышел из клуба рано – прежде чем доставили мои письма. Доехал на такси до Ларчмонта; незадолго до полудня был на пристани; там мне сказали, что меня ждет лодка с «Бриттис». Я нашел лодку. В ней оказались три человека, бретонцы или баски, трудно сказать. Странные люди, неподвижные лица, зрачки глаз необычно расширены, кожа желтовато–болезненная. Один из них взглянул на меня и лишенным выражения тоном спросил по–французски:
— Сир де Карнак?
Я нетерпеливо ответил:
— Доктор Карнак. – И сел на корме.
Он обернулся к остальным двоим.
— Сир де Карнак. Пошли.
Мы проплыли сквозь стаи мальков и направились к стройной серой яхте. Я спросил:
— Это «Бриттис»?»
Рулевой кивнул. Прекрасный корабль, около ста пятидесяти футов в длину, шхуна, созданная и оснащенная для быстрого движения. Мак Канн усомнился в ее океанских способностях. Напрасно.
Мадемуазель стояла у верха трапа. Вспоминая, как я с ней расстался в последний раз, я испытывал некоторое замешательство. Я заранее подумал об этом и решил держаться как ни в чем не бывало – если она позволит. Способ, которым я спасся, сбежал из ее спальни, был вовсе не романтичным. Но я надеялся, что ее способности, адские или любые другие, не помогли ей восстановить картину моего бегства. Поэтому, поднявшись по трапу, я с в идиотским весельем заявил:
— Здравствуйте, Дахут. Вы прекрасно выглядите.
И это правда. Ничего от Дахут из древнего Иса, ничего от королевы теней, ничего от ведьмы. На ней щегольской белый спортивный костюм, и бледные золотые волосы не создают никакого ореола вокруг головы. Напротив, на голове у нее мудреная маленькая зеленая вязаная шляпка. Большие фиолетовые глаза смотрят ясно, и в них нет ни следа светло–лиловых адских искорок. Внешне просто исключительно красивая женщина, и не более опасна, чем любая другая красавица.
Но я знал, что это не так, и что‑то говорило мне, что нужно удвоить бдительность.
Она рассмеялась и протянула мне руку:
— Добро пожаловать, Алан.
С легкой загадочной улыбкой взглянула на два мои саквояжа и провела вниз, в роскошную небольшую каюту. Сказала самым обычным тоном:
— Я подожду вас на палубе. Не задерживайтесь. Ленч готов.
Яхта уже двинулась. Я взглянул в иллюминатор и удивился тому, как мы далеко от берега. «Бриттис» даже быстроходнее, чем я считал. Через несколько минут я поднялся на палубу и присоединился к мадемуазель. Она разговаривала с капитаном, которого представила мне под добрым старым бретонским именем Браз, а меня ему как «сира де Карнака». Капитан был плотнее остальных членов экипажа, но с тем же неподвижным лицом и странно расширенными зрачками. Я видел, как эти зрачки вдруг сузились, в глазах блеснуло такое выражение, будто он припоминает…
Я знал, что это не просто неподвижность, отсутствие выражения. Это уход. Сознание этого человека жило в собственном мире, он действовал и отвечал на внешние раздражения почти исключительно инстинктивно. По какой‑то причине его истинное сознание выглянуло наружу на мгновение под воздействием древнего имени.
Остальные члены экипажа тоже в таком странном состоянии?
Я сказал:
— Капитан Браз, я предпочел бы, чтобы меня называли доктор Карнак, а не сир де Карнак.
Я внимательно смотрел на него. Он не ответил, лицо его осталось невыразительным, глаза широко раскрытыми и пустыми. Он меня как будто и не слышал. Мадемуазель сказала:
— Владыка Карнака совершит с нами много путешествий.
Он поклонился и поцеловал мне руку; ответил таким же лишенным выражения голосом, как и человек в лодке:
— Владыка Карнака оказывает мне великую честь.
Он поклонился мадемуазель и ушел. Я смотрел ему вслед, и по спине побежал холодок. Как будто говорил автомат, автомат из плоти и крови, который видит меня не таким, каким я есть, а таким, как ему приказано видеть.
Мадемуазель с откровенной насмешкой смотрела на меня. Я равнодушно заметил:
— У вас на корабле превосходная дисциплина, Дахут.
Она опять рассмеялась.
— Превосходная, Алан. Начнем ленч.
Ленч тоже оказался превосходным. Даже слишком. Двое слуг были похожи на остальных членов экипажа, и прислуживали нам они на коленях. Мадемуазель оказалась прекрасной хозяйкой. Мы говорили о том, о сем… и постепенно я забывал о том, кто она такая. только к концу еды то, о чем мы оба думали, проявилось.
Я сказал, почти про себя:
— Здесь встречаются феодальное и современное.
Она спокойно ответила:
— Как и во мне. Но вы слишком консервативны, говоря о феодальных временах, Алан. Мои слуги уходят гораздо дальше. Как и я тоже.
Я ничего не ответил. Она подняла бокал с вином, поворачивая его, чтобы в нем заблестели искорки света, и добавила так же спокойно:
— И вы тоже.
Я поднял свой бокал и коснулся ее.
— К древнему Ису? В таком случае я пью за это.
Она серьезно ответила:
— К древнему Ису… и мы пьем за это.
Мы снова соприкоснулись бокалами и выпили. Она поставила свой бокал и с легкой насмешкой взглянула на меня.
— Похоже на медовый месяц, Алан?
Я холодно ответил:
— Если и так, то в нем не хватает новизны.
Она слегка покраснела. Сказала:
— Вы… грубы, Алан.
— Я бы больше чувствовал себя новобрачным, если бы меньше – пленником.
Она на мгновение сдвинула прямые брови, и адские искорки заплясали во взгляде. И скромно заметила, хотя на щеках еще сохранялась краска гнева:
— Но вы так легко… ускользаете, мой возлюбленный. У вас дар исчезать незаметно. Вам нечего было бояться… в ту ночь. Вы видели то, что я хотела вам показать, поступали так, как мне хотелось… так почему же вы сбежали?
Это меня задело; я снова ощутил смесь гнева и ненависти, схватил ее за руку.
— Не потому что испугался вас, белая ведьма. Я мог задушить вас во сне.
Она спокойно спросила, у губ ее появились ямочки:
— Почему ж вы этого не сделали?
Я отпустил ее руку.
— Такая возможность по–прежнему есть. Вы нарисовали в моем спящем мозгу удивительную картину.
Она недоверчиво смотрела на меня.
— Вы думаете… вы не считаете ее реальной? Вам кажется, древний Ис не реален?
— Не более реален, Дахут, чем мир, в котором живут люди на этой яхте. По вашему приказу… или приказу вашего отца.
Она серьезно ответила:
— Значит, я должна убедить вас в его реальности.
Все еще с гневом я сказал:
— Он не более реален, чем ваши тени.
Она еще более серьезно ответила:
— Тогда и в их реальности я должна вас убедить.
Я тут же пожалел, что сказал о тенях. И ее ответ меня не успокоил. Я проклинал себя. Не так нужно играть эту игру. Никакого преимущества я не получу, ссорясь с мадемуазель. Наоборот, это может навлечь несчастье на тех, кого я пытаюсь от него спасти. Что скрывается за ее обещанием убедить меня? Она обещала относительно Билла, выполнила свое обещание, и вот я здесь расплачиваюсь за это. Но ведь об Элен она ничего не обещала.
Не так я должен себя вести; более убедительно; без оглядки. Я взглянул на мадемуазель и с угрызениями совести вспомнил об Элен. Если Дахут захочет участвовать в игре, то я получу очень своеобразную компенсацию за отказ от Элен. Но я тут же постарался не думать об Элен, как будто мадемуазель могла прочесть мои мысли.
Существует только один способ убедить женщину.
Я встал. Взял бокалы, свой и Дахут, и бросил их на палубу, разбил вдребезги. Подошел к двери каюты и повернул ключ. Подошел к Дахут, поднял со стула и перенес на диван под иллюминатором. Она обняла меня за шею, подняла ко мне губы… закрыла глаза…
Я сказал:
— К дьяволу Ис и все его загадки! Я живу сегодня.
Она прошептала:
— Вы меня любите?
— Да.
— Нет! – Она оттолкнула меня. – Когда‑то давно вы меня любили. Любили, хоть и убили. Но в этой жизни не вы, а владыка Карнака был моим возлюбленным той ночью. Но я знаю – и в этой жизни вы будете любить меня. Но должны ли вы снова меня убить? Не знаю, Алан… не знаю…
Я взял ее руки, они были холодны; в глазах ни насмешки, ни забавы, только смутное удивление и легкий страх. И ничего в ней нет от ведьмы. Я почувствовал, как шевельнулась жалость: что если она, подобно всем остальных на яхте, жертва чьей‑то злой воли? Де Кераделя, который называет себя ее отцом… Дахут лежала, глядя на меня, как испуганная девочка… она была прекрасна…
Она прошептала:
— Алан, любимый… и для вас, и для меня было бы лучше, если бы вы не ответили на мой призыв. Неужели это из‑за той тени, которую я наслала на вашего друга?.. Или у вас есть и другие причины?
Это укрепило мою решимость. Я подумал: «Ведьма, ты не так уж умна».
И сказал, как бы с неохотой:
— Есть и другие причины, Дахут.
— Какие же?
— Вы.
Она откинулась со смехом – смех маленьких шаловливых волн, беззаботный и жестокий.
— Вы странно ухаживаете за мной, Алан. Но мне это нравится… я знаю, что вы говорите правду. А что вы на самом деле обо мне думаете, Алан?
— Я думаю, что вы подобны саду, который вырастили под красным сердцем дракона за десять тысяч лет до постройки Великой Пирамиды… и лучи этого сердца освещали самый священный и тайный алтарь… таинственный сад, Дахут, наполовину морской… и листва на деревьях не шелестит, а поет… и цветы его могут быть злыми, а могут и не быть, но они не полностью принадлежат земле… а птицы в том саду поют странные песни… трудно войти в этот сад… еще труднее найти его сердце… и самое трудное – найти выход и спастись.
Она склонилась ко мне, с широко раскрытыми сверкающими глазами, поцеловала.
— Вы так обо мне думаете! Это верно… а владыка Карнака так меня и не понял… вы помните больше, чем он…
Она схватила меня за руки, прижалась грудью.
— Эта рыжеволосая девушка… забыла, как ее зовут… она ведь не похожа на такой сад?
Элен!
Я равнодушно ответил:
— Земной сад. Ароматный и приятный. Но оттуда нетрудно найти выход.
Она отпустила мои руки и некоторое время молчала; потом вдруг сказала:
— Идемте на палубу.
Я с беспокойством последовал за ней. Что‑то не так. Что‑то я сказал или не сказал насчет Элен. Не знаю, что бы это могло быть. Я посмотрел на часы. Уже больше четырех. На море туман, но яхта не обращает на это внимания; мне показалось даже, что она идет быстрее. Мы сели на палубе в кресла, и я сказал об этом мадемуазель. Она с отсутствующим видом ответила:
— Неважно. Туман для нас не опасен.
— Но скорость кажется опасной.
Она ответила:
— Мы должны к семи быть в Исе.
Я тупо повторил:
— В Исе?
— Да. Так мы назвали наш дом.
Она снова замолчала. Я смотрел на туман. Странный туман. Не проносится мимо нас, как обычный. Казалось, движется вместе с нами, сопровождает нас.
Движется вместе с нами.
Мимо проходили моряки с пустыми глазами и лицами. Мне показалось, что я вижу кошмар, что это какой‑то призрачный корабль. современный летучий голландец, отрезанный от всего мира, подгоняемый невидимыми, неслышимыми, неощущаемыми ветрами. Или его подталкивает какой‑то гигантский пловец, ухватившись рукой за корму… а грудь этого пловца – окруживший нас туман. Я посмотрел на мадемуазель. Глаза ее были закрыты. Казалось, она спит.
Я тоже закрыл глаза.
Когда я открыл их, яхта стояла. Ни следа тумана. Мы находились в небольшой гавани между двумя скалами. Дахут трясла меня за плечи. Оказывается, я уснул. Это все морской воздух, сонно подумал я. Мы сели в шлюпку и высадились на пристани. Поднялись по лестнице, бесконечно длинной, как мне показалось. В нескольких ярдах от начала лестницы стоял старый длинный каменный дом. Он был темен, а за ним я не мог разглядеть ничего, кроме деревьев, уже наполовину лишившихся осенней листвы.
Мы вошли в дом, и нас встретили слуги, с такими же расширенными зрачками и невыразительными лицами, как и у экипажа «Бриттис».
Меня отвели в мою комнату, и лакей начал распаковывать мои вещи.
В том же оцепенении я переоделся к обеду. Только один раз во мне пробудилось сознание: я случайно задел рукой кобуру Мак Канна.
Смутно помню этот обед. Де Керадель встретил меня исключительно вежливо и приветливо. За обедом он много говорил, но пусть меня повесят, если я помню, о чем. Время от времени из окутавшего меня тумана выплывали лицо и большие глаза мадемуазель. Время от времени я думал, что меня чем‑то напоили, но мне казалось это неважным. Я сознавал только, что нужно отвечать на вопросы де Кераделя, но другая часть моего сознания, нормальная часть, как будто не затронутая странным параличом, заботилась об этом, и у меня сложилось впечатление, что она делала это удовлетворительно.
Спустя какое‑то время я услышал слова Дахут:
— Алан, вы засыпаете на ходу. Вам трудно держать глаза открытыми. Это, должно быть, морской воздух.
Я ответил, что это верно, и извинился. Де Керадель с какой‑то заботливой готовностью принял мое извинение. Он сам отвел меня в мою комнату. По крайней мере помню, что он отвел меня туда, где есть постель.
Только по привычке я разделся, лег и почти немедленно уснул.
Я сел в постели. Странное оцепенение прошло. Что меня разбудило? Взглянул на часы: начало второго. Снова послышался разбудивший меня звук – отдаленное приглушенное пение, доносящееся как из‑под земли. И как будто далеко от дома.
Звук приближался к дому, усиливался. Странное пение, древнее; смутно знакомое. Я встал с постели и подошел к окну. Оно выходило на океан. Луны не было, но я ясно видел серые волны, мрачно бившие о скалистый берег. Пение становилось громче. Я не нашел выключатель. В одном из моих саквояжей был ручной фонарик, но куда дели содержимое саквояжа, я не знал.
Я нащупал коробку спичек. Пение смолкало, как будто поющие миновали дом. Я зажег спичку и увидел на стене выключатель. Щелкнул им, но безрезультатно. На стуле у постели увидел свой фонарик. Взял его: он не работает. Я почувствовал подозрение, что все это взаимосвязано: странная сонливость, бесполезный фонарик, неработающее освещение…
Пистолет Мак Канна! Я сунул руку. Он на месте, под левой мышкой. Магазин полон, и запасные патроны не тронуты. Я подошел к двери и осторожно повернул ключ. Дверь открылась в широкий зал со старинной мебелью, в конце его виднелся тусклый свет. Большое окно. Что‑то в этом зале показалось мне странным, беспокойным. Не могу описать это чувство. Как будто его заполняли шепчущие и шуршащие… тени.
Я колебался, потом осторожно подошел к окну и выглянул. За ним росли деревья, сквозь их ветви виднелось широкое поле. За ним еще одна роща. И оттуда доносилось пение.
За этими деревьями и над ними виднелись огни – странные огни. Я вспомнил, как говорил Мак Канн… отвратительные огни, огни разложения.
Именно так. Я стоял, ухватившись за подоконник, глядя, как распускается и угасает разлагающееся свечение… распускается и угасает… А пение – как будто преображенные в звук эти мертвые огни…
И вдруг послышался резкий болезненный крик. Крик человека.
Шепот теней в зале становился все настойчивее. Шорох приблизился. Тени столпились вокруг меня. Они отталкивали меня от окна, толкали назад в комнату. Я закрыл дверь и прислонился к ней, мокрый от пота.
И снова услышал крик, резкий, еще более полный боли. И неожиданно стихший.
Снова меня охватило оцепенение. Я добрался до кровати, лег и уснул.
15. ТЕНЬ РАЛЬСТОНА
Что‑то плясало, дрожало передо мной. У него не было формы, но был голос. Голос повторял снова и снова: «Дахут… берегись Дахут… Алан, берегись Дахут… освободи меня, Алан… но берегись Дахут… Алан, освободи меня… от Собирателя… от Черноты…»
Я попытался сосредоточиться на этом пляшущем существе, но тут что‑то ярко вспыхнуло, и существо растворилось в этом сверкании и пропало; только когда я отвернул голову, я снова увидел это нечто, пляшущее и дрожащее в сиянии, как муха в паутине.
Но голос – голос я узнал.
Нечто танцевало и дрожало; становилось больше, но никогда не приобретало определенную форму; становилось меньше, но по–прежнему оставалось бесформенным… летучая тень, захваченная паутиной яркости.
Тень!
Нечто шептало: «Собиратель, Алан… Собиратель в Пещере… не позволяй ему съесть меня… но берегись, берегись Дахут… освободи меня, Алан… освободи… освободи…»
Голос Ральстона!
Я встал на колени, присел, опираясь руками в пол; устремив взгляд на свечение, стараясь рассмотреть это дрожащее бесформенное нечто, говорившее голосом Ральстона.
Свечение сжалось, как зрачки капитана «Бриттис». И стало ручкой двери. Медной ручкой, блестящей от рассвета.
На ручке муха. Синяя муха, муха, питающаяся падалью. Ползет по ручке и жужжит. Голос Ральстона превратился в это жужжание. Только синяя муха, жужжащая на блестящей дверной ручке. Муха поднялась с ручки, облетела меня и исчезла.
Я с трудом встал на ноги. И подумал: «То, что ты со мной сделала на яхте, Дахут, первоклассная работа». Посмотрел на часы. Начало седьмого. Зал тих и спокоен, никаких теней. В доме ни звука. Казалось, он спит, но я ему не доверял. Бесшумно закрыл двери. Вверху и внизу двери большие задвижки. Я закрыл их.
В голове странная пустота, и я не очень хорошо вижу. Подошел к окну и вдохнул чистый утренний воздух с запахом моря. И от этого почувствовал себя лучше. Повернулся и осмотрел комнату. Она огромна, стены покрыты деревянными старинными панелями, шпалеры, выцветшие за столетия. Кровать тоже старинная, резного дерева, под пологом. Комната какого‑нибудь замка в Бретани, а не в имении в Новой Англии. Слева шкафчик, такой же старинный, как кровать. Я открыл ящик. На платках лежал мой пистолет. Я осмотрел его. В магазине ни одного патрона.
Я недоверчиво смотрел на него. Я же помню, что когда укладывал его в саквояж, он был заряжен. И неожиданно отсутствие патронов связалось с бездействующим фонариком, не включающимся электричеством, странной сонливостью. И тут я проснулся по–настоящему. Положил пистолет в ящик и лег в кровать. У меня теперь не было ни малейших сомнений, что мое оцепенение объяснялось не естественными причинами. Неважно, было ли это внушением со сторону Дахут или она дала мне за ленчем какой‑то наркотик. Моя состояние не было естественным. Наркотик? Я вспомнил слабый наркотик, которым владеют тибетские ламы, они называют его «Хозяин воли». Он снижает сопротивляемость к гипнозу и делает мозг открытым к восприятию гипнотических команд и галлюцинаций.
И я сразу понял поведение и внешность людей на яхте и в доме. Они все получали какой‑то наркотик; действовали и думали только так, как приказывали им мадемуазель и ее отец. Я был окружен человеческими роботами, созданиями, отражениями, копиями де Кераделей.
А что, если я и сам могу попасть в такое рабство?
Чем больше я думал, тем больше верил в свою догадку. Я попытался вспомнить вечерний разговор с де Кераделем. Не мог. Но у меня сохранялось впечатление, что я выдержал это испытание успешно, что та другая часть моего существа не позволила мне допустить ошибку. И я почувствовал удовлетворение.
И вдруг я ощутил на себе чей‑то взгляд. За мной следят. Я лежал лицом к окну. Глубоко, как во сне вздохнул, и повернулся, закрывая лицо рукой. Под ее укрытием чуть приоткрыл ресницы. Через мгновение из‑под шпалеры показалась белая рука, отвела шпалеру в сторону, и в комнату вошла Дахут. Пряди ее спускались до талии, на ней тончайшее неглиже, и она невероятно хороша. Беззвучно, как одна из ее теней, она подошла к кровати и остановилась, глядя на меня.
Я заставлял себя дышать ровно, как будто крепко сплю. Она была так хороша, что мне это удавалось с трудом. Она подошла еще ближе и склонилась ко мне. Я почувствовал, как ее губы легко коснулись моей щеки. Как поцелуй мотылька.
И вдруг, так же неожиданно, я понял, что она ушла. Открыл глаза. В комнате другой запах, незнакомый, смешивался с запахом моря. Он действовал бодряще. Вдохнув его, я почувствовал, как мое оцепенение рассеивается. Я сел, совершенно не испытывая сонливости, настороже. На столике у кровати мелкое металлическое блюдо. На нем гуда листьев, похожих на листья папоротника. Они дымятся, и этот дым и пахнет так бодряще. Я прижал листья, дым и запах исчезли.
Очевидно, это противоядие от состояния оцепенения; и столь же очевидно, никто не сомневается, что я спал без пробуждений всю ночь.
И возможно, пришло мне в голову, зал, заполненный тенями, и муха на дверной ручке, жужжащая голосом Ральстона, – все это лишь производное наркотика, воздействие на подсознание, фантастически искажавшее окружающую действительность и навязывавшее эти искажения сознанию.
Может, на самом деле я всю ночь проспал. Может, мне только снилось, что я выходил в полный тенями зал… бежал из него и спрятался за дверью… и пение мне только приснилось.
Но если нет ничего, чего мне нельзя было бы увидеть и услышать, зачем тогда меня закутали в это сонное одеяло?
Но в одном я был уверен. Мне не приснилось, что Дахут заходила в мою комнату с листьями.
А это означает, что я реагировал не совсем так, как они рассчитывали, иначе я не проснулся бы и не увидел ее. Счастливая для меня ошибка, каковы бы ни были ее причины. Если усыпление повторится, я смог бы использовать листья.
Я подошел к шпалере и поднял ее. Никаких следов отверстия, стена внешне сплошная. Конечно, есть какая‑то потайная пружина, но я решил не искать ее. Открыл дверь: задвижки на ней так же гарантировали уединение, как стена комнаты, у которой три остальные стены отсутствуют. Взял оставшиеся листья, положил их в конверт и сунул в кобуру Мак Канна. Потом выкурил с полдесятка сигарет и добавил их пепел к кучке на блюде. Столько пепла было бы, если бы все листья сгорели. Может, никто и не стал бы проверять, но кто знает?
Семь часов. Нужно ли мне одеваться и вставать? Через сколько времени должно подействовать противоядие? Я не знал этого и не хотел допускать ошибки. Спать подольше гораздо безопасней, чем проснуться слишком рано. Я снова лег. И действительно уснул, честно и без сновидений.
Когда я проснулся, кто‑то выкладывал мою одежду. Лакей. Блюдо с пеплом исчезло. Было пол девятого. Я сел, зевнул, и лакей с древней покорностью сообщил, что ванна для владыки Карнака готова. О чем бы ни думал владыка Карнака, это сочетание древнего раболепия и современных удобств заставило меня рассмеяться. Но никакой ответной улыбки не последовало. Лакей стоял, склонив голову, обязанный делать только строго определенные вещи. Улыбки не входили в его приказ.
Я посмотрел на невыразительное лицо, на пустые глаза, которые, кажется, совсем не видят ни меня, ни окружающего мира; глаза человека из другого мира. Но каков этот другой мир, у меня не было ни малейшего представления.
Я набросил на пижаму халат и закрыл дверь за лакеем. Потом снял кобуру Мак Канна и спрятал ее, прежде чем выкупаться. Вымывшись, я отпустил лакея. Он сказал, что завтрак будет готов в начале десятого и, поклонившись, ушел.
Я подошел к шкафчику, взял свой пистолет и осмотрел его. Патроны на месте. Больше того, все запасные патроны тоже на месте и лежат в прежнем порядке. Может, мне приснилось, что их не было? Мне в голову пришло неожиданное подозрение. Если я не прав, объясню случайностью. Я подошел с пистолетом к окну, направил его в море и нажал курок. Резкий щелчок от взрыва капсюля. Ночью из патронов извлекли порох, а потом, во время моего предутреннего сна, пистолет с пустыми патронами вернули на место.
Что ж, подумал я мрачно, еще одно предостережение, без всякой жужжащей мухи, и положил пистолет обратно. Потом спустился к завтраку, холодный от гнева и намеренный при случае его проявить. Мадемуазель ждала меня, прозаически читая газету. Стол был убран на двоих, поэтому я решил, что ее отец занят в другом месте. Я взглянул на Дахут, и, как всегда, восхищение и нежность стали бороться с гневом и ненавистью. Она была красивей, чем когда‑либо раньше, свежая, как росистое утро, кожа – чудо, глаза ясные, с оттенком скромности… совсем не похожа на ведьму и убийцу. Чистая.
Она опустила газету и протянула мне руку.
Я с иронией поцеловал ее.
— Надеюсь, вы хорошо спали, Алан.
Как раз нужный оттенок домашности. Но почему‑то меня это раздражало. Я сел, расстелил на коленях салфетку.
— Хорошо, Дахут, только прилетела большая синяя муха и стала шептать мне.
Глаза ее сузились, я заметил, как она вздрогнула. Потом опустила глаза и рассмеялась.
— Вы шутите, Алан.
— Вовсе нет. Большая синяя муха, она жужжала и шептала, жужжала и шептала.
Она негромко спросила:
— И о чем же она шептала, Алан?
— Она советовала опасаться вас, Дахут.
Она по–прежнему спросила:
— Значит, вы не спали?
Вспомнив об осторожности, я рассмеялся:
— А разве бодрствующим шепчут мухи? Я крепко спал и видел это во сне – несомненно.
— А голос вы узнали? – Она неожиданно посмотрела прямо мне в глаза.
— Когда услышал, мне показалось, что узнал. Но, проснувшись, забыл.
Она молчала, пока слуга с пустым взглядом расставлял перед нами еду. Потом устало сказала:
— Уберите меч, Алан. Сегодня он вам не нужен. И я сегодня не вооружена. Прошу вас об этом. Сегодня можете мне верить. Обращайтесь со мной сегодня, только как… с человеком, который вас любит. Сделаете, Алан?
Сказано было так просто, так искренне, что гнев мой исчез, а недоверие ослабло.
Впервые я почувствовал жалость. Она сказала:
— Я даже не прошу вас, чтобы вы делали вид, будто любите меня.
Я медленно ответил:
— Трудно не полюбить вас, Дахут.
Ее фиолетовые глаза затуманились слезами. Она сказал:
— Я… сомневаюсь…
Я сказал:
— Уговор. Сегодня утром мы встретились впервые. Я о вас ничего не знаю, Дахут, и сегодня вы для меня только та… какой кажетесь. Возможно, к вечеру я буду… вашим рабом.
Она резко ответила:
— Я просила вас оставить ваш меч.
Но я хотел сказать только то, что сказал. Никаких намеков… И тут же вспомнил голос, который потом стал жужжанием мухи: «Берегись… берегись Дахут… Алан, берегись Дахут…» Подумал о людях с пустыми глазами, рабах ее и ее отца…
Я искренне сказал:
— Не имею никакого понятия, о чем вы, Дахут. Честно. Я хотел сказать то, что сказал.
Казалось, она мне поверила. И на этой основе, достаточно пикантной, если вспомнить, что происходило между нами в Нью–Йорке и древнем Исе, завтрак продолжался. Дахут была очаровательна. К концу я понимал, что опасно близок к тому, чтобы думать о ней так, как она того хочет. Мы не торопились и кончили в одиннадцать. Она предложила прогулку по поместью, и я с облегчением пошел переодеваться. Пришлось несколько раз щелкнуть пистолетом и взять листья из кобуры Мак Канна, чтобы очистить мозг от обезоруживающих сомнений. Дахут умеет добиваться своего.
Когда я спустился вниз, Дахут ждала меня в костюме для верховой езды, волосы вокруг головы как шлем. Мы пошли к конюшне. Здесь находилось с десяток первоклассных лошадей. Я поискал черного жеребца. Не увидел, но один бокс был пуст. Я выбрал чалого жеребца, а Дахут длинноногого гнедого. Я больше всего хотел увидеть «каменный сад» де Кераделя. Но не увидел.
Мы неторопливо прошлись по хорошо ухоженной трассе для верховой езды; иногда виднелось море, но чаще скалы и деревья закрывали его. Своеобразная местность и очень хорошо приспособленная для одиночества. Наконец мы подъехали к стене, повернули и поехали вдоль нее. Проволочное заграждение охраняло ее верх, и мне показалось, что провода находятся под напряжением. Лайас не мог здесь перелезть через стену. Я подумал, что, может, он не только получил, но и преподал урок. У стены там и тут стояли невысокие смуглые люди. У них были дубины, но я не мог определить, есть ли другое оружие. Когда мы проезжали, они кланялись.
Мы приблизились к массивным воротам, охраняемым гарнизоном из нескольких человек. Проехали мимо и оказались на широком длинном лугу, усеянном низкорослыми кустами, похожими на присевших людей. Мне пришло в голову, что здесь несчастный Лайас встретился с собаками, которые не собаки. При свете солнца, на свежем воздухе, в возбуждении верховой прогулки этот рассказ терял свою достоверность. Но все же вид у этого места пугающий и зловещий. Я мимоходом сказал об этом Дахут. Она со скрытой насмешкой посмотрела на меня и спокойно ответила:
— Да, но здесь хорошо охотиться.
И поехала дальше, ничего не сказав о том, что это за охота. А я не спросил: что‑то в ее ответе восстановило мою веру в рассказ Лайаса.
Мы подъехали к концу стены, и, как и говорил Мак Канн, она была встроена в скалу. Большая скала закрывала вид на то, что находится дальше. Я сказал:
— Я хотел бы посмотреть сверху, – и прежде чем она смогла ответить, спешился и стал взбираться на скалу. С вершины виден был открытый океан. В нескольких сотнях ярдов от берега в небольшой лодке сидели два рыбака. Увидев меня, они подняли головы, и один стал опускать ручную сеть.
Работа Мак Канна.
Я спустился и присоединился к Дахут. Спросил:
— Не хотите ли проехаться за воротами галопом? Я бы хотел осмотреть окрестности.
Она поколебалась, затем кивнула. Мы повернули назад, проехали через ворота и оказались на сельской дороге. Немного погодя мы увидели старинный дом в стороне от дороги среди больших деревьев. От дороги его отделяла каменная стена. У ворот стоял Мак Канн.
Он невозмутимо смотрел, как мы подъезжаем. Дахут проехала, не взглянув на него. Я отстал на несколько шагов и, проезжая мимо Мак Канна, бросил карточку. Я надеялся на такой случай и потому заранее написал:
Что‑то тут очень плохое, но доказательств пока нет. Примерно тридцать человек, думаю, все вооружены. За стеной проволочное заграждение под напряжением.
Догнал мадемуазель, и мы проехали еще с милю. Она остановилась и спросила:
— Достаточно видели?
Я ответил:
— Да, – и мы повернули назад. Мак Канн по–прежнему стоял у ворот, как будто и не двигался. Но бумаги на дороге не было. Охранники увидели нас и открыли ворота. Тем же путем мы вернулись к дому.
Дахут раскраснелась от езды. Она сказала:
— Я выкупаюсь. Ленч на яхте.
— Отлично, – ответил я. – Надеюсь, после него мне не захочется спать, как вчера.
Глаза ее сузились, но мое лицо оставалось невинным. Она улыбнулась.
— Не захочется, я уверена. Вы привыкаете.
Я мрачно заметил:
— Надеюсь. За обедом вчера я был ужасно скучен.
Она снова улыбнулась.
— Вовсе нет. Вы очень понравились моему отцу.
И со смехом ушла в дом.
Я был очень рад, что понравился ее отцу.
Абсолютно восхитительная морская прогулка с абсолютно восхитительной девушкой. Только когда один из членов экипажа при нашем приближении встал на колени, ощутил я зловещее нижнее течение. А потом обед с де Кераделем и его дочерью. Разговор с де Кераделем был настолько интересен, что я забыл о том, что я пленник.
Я обсуждал с ним то, что хотел обсудить в тот вечер, когда Билл попросил меня ни с чем не соглашаться. Иногда манеры де Кераделя раздражающе напоминали манеры верховного жреца, обучающего новичка самым элементарным вещам: он принимал само собой разумеющимися такие факты, которые современная наука считает мрачнейшими суевериями, он же считал все это доказанным на опыте. Но знания его были огромными, а ум острым, и я удивлялся, как можно за одну короткую жизнь узнать так много.
Он говорил о враге Озириса черном Тифоне, которого египтяне также называли Сетом Рыжеволосым. Рассказывал о Элевсинских и Дельфийских мистериях, как будто сам был их свидетелем. Описывал их в мельчайших подробностях, да и другие, более древние и страшные обряды, давно погребенные в сгнивших от времени храмах. Злые тайны шабаша были открыты для него; однажды он заговорил о преклонении перед Корой, Дочерью, известной также как Персефона, Геката и под множеством других уходящих в бесконечную цепь веков имен, – женой Аида, царицей теней, чьими дочерьми были фурии.
Я рассказал ему, чему был свидетелем в Дельфийской пещере, когда христианский священник с душой язычника пробудил Кору… и я видел, как величественная, ужасная фигура появилась в клубах дыма от жертвы на древнем алтаре.
Он слушал внимательно, не прерывая, как будто для него рассказ этот знаком. Спросил:
— А Она приходила к нему раньше?
— Не знаю, – ответил я.
Он сказал, обращаясь непосредственно к мадемуазель:
— Даже если и так, тот факт, что она явилась… доктора Карнаку… весьма многозначителен. Это доказывает, что он…
Дахут прервала его, и мне показалось, что в ее взгляде было предупреждение:
— Что он… приемлем. Да, отец.
Де Керадель рассматривал меня.
— Весьма полезный опыт. В его свете… и в свете других обстоятельств, которые вы нам поведали, я удивляюсь… почему вы были так враждебны к этим идеям в тот вечер, когда мы впервые встретились.
Я ответил прямо:
— Я был пьян… и готов спорить с кем угодно.
Он оскалил зубы, затем открыто рассмеялся.
— Вы не боитесь говорить правду.
— Не боюсь, ни в пьяном, ни в трезвом виде, – согласился я.
Он молча рассматривал меня. Потом проговорил, скорее обращаясь к самому себе, чем ко мне:
— Не знаю… возможно, она права… если бы я мог доверять ему, это бы нам дало многое… у него есть любопытство… но есть ли храбрость?..
Я рассмеялся и смело заявил:
— Если бы у меня ее не было, разве я был бы здесь?
— Совершенно верно, отец. – Дахут зло улыбалась.
Де Керадель хлопнул по столу рукой, как человек, принявший решение.
— Карнак, я говорил вам об эксперименте, которым сейчас занят. Вместо того чтобы быть зрителем, вольным или невольным… или не зрителем, как я решу… – он помолчал, чтобы до меня дошла скрытая угроза… – я приглашаю вас проводить этот эксперимент со мной. У меня есть основания считать, что если эксперимент удастся, он щедро вознаградит нас.
Мое приглашение не бескорыстно. Я признаю, что не достиг еще полного успеха в своем эксперименте. Я получил результаты, но это не то, на что я надеялся. Но то, что вы рассказали о Коре, доказывает, что вы не препятствие для материализации этого Существа… этой Власти или Присутствия, как вы предпочтете, оно сможет воплотиться, неведомая энергия придаст ему форму, оно станет ощутимо для людей в соответствии с доступными для людей законами. К тому же в вас древняя кровь Карнака и древние воспоминания вашей расы. Возможно, я упустил некоторые важные подробности, которые ваша – стимулированная – память сохранила. Возможно, в вашем присутствии это Существо, которое я хочу воскресить, появится во всей своей мощи… и со всем, что значит для нас эта мощь.
— А что это за Существо? – спросил я.
— Вы сами его назвали. Оно в многочисленных формах появлялось в Алкар–Азе древнего Карнака, как приходило в храмы моего народа за века до Иса и до того, как были подняты камни Карнака, – Собиратель в Пирамиде…
Если я и почувствовал холодок на спине, он этого не видел. Я ожидал этого ответа и был к нему готов.
Я долго смотрел на Дахут, чтобы он, как я надеялся, истолковал этот взгляд по–своему, потом тоже хлопнул рукой по столу.
— Де Керадель, я с вами.
В конце концов разве не ради этого я сюда пришел?
16. MAEL BENNIQUE
Де Керадель сказал:
— Выпьем за это! – Он отпустил слуг, открыл шкаф и достал из него графин с зеленой жидкостью. Пробка была притерта и открывалась с трудом. Она налил три небольших бокала и сразу закрыл пробку. Я взял свой бокал.
Он остановил меня.
— Подождите!
В зеленой жидкости поднимались пузырьки, как алмазные атомы, как расщепленные солнечные лучи, отбрасываемые из бездонных глубин. Они поднимались все быстрее и быстрее, и вдруг зеленая жидкость закипела, потом стала неподвижной, прозрачной.
Де Керадель поднял свой бокал:
— Карнак, вы присоединяетесь к нам по собственной воле?
Мадемуазель спросила, придвинув свой бокал к моему:
— Вы по своей воле присоединяетесь к нам, Алан де Карнак?
Я ответил:
— По собственной воле.
Мы соприкоснулись бокалами и выпили.
Странный напиток. От него зазвенело в мозгу и нервах, и сразу я ощутил необыкновенную свободу, быстрое снятие всяких сдерживающих начал: старые истины исчезали, будто их уносило ветром с поверхности сознания. Как будто я змея, которая внезапно сбросила старую кожу. Воспоминания становились смутными, уходили, изменялись. У меня появилось неописуемое чувство освобождения… Я могу все, поскольку для меня, как для Бога, не существует ни добра, ни зла. Что бы я ни захотел сделать, все могу, поскольку нет ни добра, ни зла, а есть только моя воля… Де Керадель сказал:
— Вы один из нас.
Мадемуазель прошептала:
— Вы с нами, Алан.
Глаза она полузакрыла, длинные ресницы касались щек. Но мне показалось, что за ними я заметил пурпурное пламя. И де Керадель тоже закрывал глаза руками, как бы пытаясь спрятать их, но меж его пальцев я различил сияние. Он сказал:
— Карнак, вы не спрашивали меня, что это за Собиратель – Существо, которое я собираюсь разбудить полностью. Вы знаете это?
— Нет, – ответил я и хотел добавить, что мне это и не важно, но вдруг понял, что важно, что больше всего я хочу узнать именно это. Он сказал:
— Гениальный англичанин однажды сформулировал превосходное материалистическое кредо. Он сказал, что возникновение человека – случайность, его история – это краткий и преходящий эпизод в жизни самой обычной, средней планеты. Он указал, что наука ничего не знает о той комбинации причин, которая заставила мертвые органические составляющие соединиться в живом организме предков человечества. Да и не имеет значения, знает ли это наука. Няньки: голод, болезни, взаимные убийства – постепенно создали существо с сознанием и разумом достаточными, чтобы осознать собственную незначительность.
— История прошлого полна крови и слез, тупого послушания, беспомощных блужданий, диких восстаний и пустых надежд. Постепенно энергия нашей системы рассеется, солнце померкнет, инертная, лишенная приливов земля опустеет. Человек погибнет, и все его мысли погибнут с ним.
— Материя больше не будет осознавать себя. Все будет так, будто ничего никогда не было. И ничего больше не будут значить все труды, все чувства, жалость, любовь и страдание человека.
Все сильнее ощущая в себе богоподобную силу, я сказал:
— Это неправда.
— Отчасти правда, – ответил он. – Неправда то, что жизнь случайна. Мы называем ее случайностью только потому, что не знаем причин ее возникновения. Жизнь должна происходить от жизни. Не обязательно от такой, какая нам знакома, но от некоего Существа, действующего сознательно, суть которого была – есть – жизнь. Правда, что боль, страдания, печаль, ненависть и раздоры – основания человечества. Правда, что голод, болезни и убийства – его няньки. Но правда и то, что существуют мир, счастье, жалость, восприятие красоты, мудрость… хотя это всего лишь тонкая пленка на поверхности пруда в лесу, в котором отражается окружающий цветущий мир… да, эти вещи существуют… мир и красота, счастье и мудрость. Они есть.
— И поэтому, – де Керадель по–прежнему прикрывал глаза руками, но сквозь пальцы я видел его пристальный взгляд, – поэтому я утверждаю, что все эти качества должны быть неотъемлемо присущи Тому, кто вдохнул жизнь в первобытную слизь. Так должно быть, потому что создаваемое не может обладать теми качествами, каких нет у создателя.
Разумеется, я все это знаю. Зачем он тратит усилия, убеждая меня в очевидном. Я терпеливо сказал:
— Это очевидно.
— Но так же очевидно должно быть и то, что приблизиться к этому… Существу мы можем только через его темную, злую, беспощадную сторону. Единственным доступом к нему могут стать боль и страдания, жестокость и злоба.
Он помолчал и свирепо добавил:
— Разве не этому учит любая религия? Что человек становится ближе к своему Создателю только через страдания и печаль? Жертвы… Распятие!
Я ответил:
— Верно. Крещение кровью. Очищение через слезы. освобождение через страдания.
Мадемуазель прошептала:
— Струны, которые нужно задеть, прежде чем мы добьемся совершенной гармонии.
В ее словах звучала насмешка, я быстро обернулся к ней. Она не открывала глаз, но я уловил ироничный изгиб ее губ.
Де Керадель сказал:
— Жертвы готовы.
Я ответил:
— Так принесем их.
Де Керадель отвел руки. Зрачки его глаз светились; лицо его, казалось, куда‑то ушло, видны были только два бледно–голубых огненных шара. Мадемуазель подняла взгляд: ее глаза – два глубоких пруда с фиолетовым пламенем; лицо ее расплывалось за ними. Тогда это не показалось мне странным.
На стене висело зеркало. Я взглянул на него и увидел, что мои глаза сверкают тем же жестоким огнем, лицо расплылось, и только эти горящие глаза смотрели на меня…
И это не показалось мне странным. Тогда.
Де Керадель повторил:
— Жертвы готовы.
Вставая, я сказал:
— Воспользуемся ими.
Мы вышли из столовой и поднялись по лестнице. Нечеловеческое возбуждение не проходило, наоборот, становилось более сильным и безжалостным. Жизнь придется отбирать, но что такое жизнь одного или даже многих, если это ступени лестницы, по которой можно выбраться из темной ямы на солнце? Я узнаю Того, кто жил до жизни… создал ее… Создателя.
Рука об руку с де Кераделем я вошел в свою комнату. Он велел мне раздеться и принять ванну и оставил меня. Я разделся, и рука моя коснулась чего‑то под левой мышкой. Кобура с пистолетом. Я забыл, кто дал ее мне, но он говорил мне, что это важно… очень важно, ее нельзя никому отдавать, нельзя снимать… Я рассмеялся. Бросил ее в угол комнаты.
Рядом был де Керадель, и я смутно удивился, как не заметил его появления. Я вымылся и стоял совершенно обнаженным. Он обернул мне вокруг бедер повязку, дал сандалии на ноги, помог просунуть руки в рукава длинного одеяния из плотного хлопка. Отступил назад, и я увидел, что он в такой же белой одежде. Опоясан он был широким поясом из черного металла или старого дерева. Такой же пояс вокруг груди. Они были украшены серебряными символами… но кто видел, чтобы серебро меняло цвет и форму… одна руна сменялась другой… как здесь? На лбу у него был венок из темных дубовых листьев, с пояса свисали длинный черный нож, черная кувалда, овальное блюдо и черный кувшин.
Дахут смотрела на меня, и я удивился, почему не видел ее раньше. На ней тоже белая одежда их плотного хлопка, но пояс золотой, а его меняющиеся символы красные; и лента красного золота перехватывала волосы, и золотые красные браслеты. В руке она держала золотой серп с острым, как бритва, лезвием.
Они закрепили на мне пояс с черными и серебряными символами, одели на голову венок из черных дубовых листьев. Де Керадель снял с пояса черную кувалду и вложил мне в руки. Я отшатнулся от ее прикосновение, и кувалда упала. Он подобрал ее и сжал вокруг мои пальцы. Я попытался разжать их и не смог, хотя прикосновение кувалды вызывало отвращение. Я поднял кувалду и посмотрел на нее. Очень тяжелая и древняя… как и пояс… Вырезана из одного куска, из самого сердца дуба; в центре ручка, концы массивной головы тупые…
Mael bennique! «Ударяющий в грудь!» Разбиватель сердец! Я понял, что чернота его не от возраста, а от красного крещения.
Возбуждение спало. Что‑то во мне поднималось из самой глубины, пыталось разорвать кандалы, шептало мне… шептало, что я должен покончит с ударами этой кувалды, что я пришел издалека, из самого Карнака, чтобы убить Дахут… и что бы ни случилось, я не должен пользоваться этой кувалдой… но должен идти дальше, идти, как я шел в древнем Исе… встретиться и даже смешаться с этим древним злом…
Де Керадель яростно смотрел на меня, адский огонь пылал в его взгляде:
— Ты один из нас, Носитель Кувалды!
Дахут коснулась меня рукой, прижалась к щеке. Возбуждение вернулось, протест из глубины забылся. Но какой‑то отголосок остался. Я сказал:
— Я один из вас, но кувалду не возьму. – Дахут прикоснулась ко мне снова, пальцы мои разжались, и я отшвырнул кувалду.
Де Керадель угрожающе сказал:
— Делайте то, что я приказываю. Подберите кувалду.
Дахут сладко, но с такой же смертоносной угрозой сказала:
— Терпение, отец. Он понесет блюдо и кувшин и поступит с ними, как предписано. Он будет питать огонь. Если он владеет кувалдой не по собственной воле, это бесполезно. Имей терпение.
Он яростно ответил ей:
— Ты уже однажды предала отца ради любовника.
Она спокойно сказала:
— И могу снова… и что ты можешь сделать, отец?
Лицо его побелело; он поднял руку, будто хотел ударить ее. И тут в его глазах появился страх, как тогда, когда он говорил о Силах, которые сможет вызвать и приказывать им, а она добавила:
— Или они будут приказывать нам.
Рука его опустилась. Он поднял кувалду и дал мне блюдо и кувшин. Мрачно сказал:
— Идемте.
Мы вышли из комнаты, он по одну сторону от меня, Дахут по другую. Спустились по лестнице. В зале находилось множество слуг. Все в белой одежде и с незажженными факелами. Когда мы появились, все они опустились на колени. Де Керадель нажал на стену, часть ее отошла, обнажив уходящие вниз широкие каменные ступени. Рука об руку мы пошли по ним, слуги за нами, пока не остановились перед сплошной стеной. Де Керадель снова нажал, часть стены медленно и плавно, как занавес, поднялась.
Она закрывала вход в обширное помещение, высеченное в скале. Долетел резкий удушливый запах и рокот множества голосов. Помещение освещалось не ярко, но свет был чистый и прозрачный, как сумерки в лесу. На нас смотрело свыше ста мужчин и женщин, у всех широко раскрытые пустые глаза, все восхищенно смотрят в другой мир. Но нас они видят. Вокруг всей пещеры маленькие помещения, оттуда выходят все новые и новые люди; женщины несут на руках детей; дети побольше держаться за юбки матерей. И у детей тоже широко раскрытые глаза.
Де Керадель поднял булаву и крикнул им что‑то. Они ответили на крик, подбежали к нам и упали лицом вниз. Подползали, чтобы поцеловать мне ноги, ноги де Кераделя, стройные ноги Дахут.
Де Керадель начал петь, пение низкое, звучное, древнее. Дахут подхватила песню, и я услышал, что сам пою, хотя не понимал языка. Мужчины и женщины встали. Они тоже запели. Стояли, раскачиваясь в такт. Я смотрел на них. У большинства лица истощенные, старческие.
Одежда как в древнем Карнаке, только лица другие, чем у жертв в Карнаке.
На груди, над сердцами, сверкание, только у многих оно тусклое, пожелтевшее, умирающее. Только у детей яркое и устойчивое.
Я сказал де Кераделю:
— Слишком много стариков. Суть жизни у них истощена. Нужны молодые жертвы, в которых огонь жизни горит высоко.
Он ответил:
— Разве это важно? Любая отбираемая жизнь – жизнь.
Я гневно сказал:
— Важно! Нам нужны молодые! Не эти старики со старческой кровью.
Он посмотрел на меня в первый раз с того момента, как я отбросил кувалду. В его горящих глазах расчет, удовлетворение и одобрение. Посмотрел на Дахут, она кивнула и прошептала:
— Я права, отец, он с нами, но… терпение.
Де Керадель сказал:
— Молодые будут… позже. Сколько угодно. А пока придется обойтись тем, что есть.
Дахут коснулась моей руки и указала. В дальнем конце пещеры рампа вела к другой двери. Дахут сказала:
— Время идет, мы должны сделать, что можем… сейчас.
Де Керадель продолжил песнь. Мы пошли втроем перед рядами раскачивающихся поющих мужчин и женщин. Слуги с факелами шли за нами, дальше – поющие жертвы. Мы поднялись по рампе. Беззвучно открылась дверь. Мы прошли в нее и оказались на открытом воздухе.
Де Керадель прошел вперед, пение его становилось все яростнее, все более вызывающим. Ночь облачная, вокруг нас вились клочья тумана. Мы пересекли широкое открытое пространство и вступили в темную дубовую рощу. Дубы вздыхали и шептали, потом ветви их задрожали, листья зашумели, подхватив пение. Де Керадель приветствовал их поднятой кувалдой. Мы миновали дубы.
На мгновение древние времена, современность, вообще всякое время сошлись во мне. Я приглушенно сказал:
— Карнак – не может быть. Древний Карнак был тогда, и он здесь, сейчас!
Дахут обхватила меня за плечи. Губы Дахут прижались к моим. Она прошептала:
— Для нас нет ни тогда, ни сейчас, любимый.
Пение становилось слабее, неувереннее. Показалась ровная площадка, уставленная монолитами; не упавшие или наклоненные, как сейчас в Карнаке, но прямые, вызывающие, как в Карнаке тогда. Десятки монолитов образовали спицы огромного колеса. А в центре их сердце, гигантский дольмен, Пирамида. Храм. Подлинный Алкар–Аз, больший, чем в древнем Карнаке, и вокруг него клубятся клочья тумана. Туман, как огромная перевернутая чаша, накрывает Пирамиду и монолиты. А у камней стоят тени – тени людей.
Руки Дахут закрыли мне глаза. И вдруг вся странность, все сравнения – все это забылось. Де Керадель обернулся к жертвам, продолжая выкрикивать песню, он поднял кувалду, черные символы на поясе и груди его плясали, как ртуть. Я поднял блюдо и кувшин, продолжая петь. Запинающиеся голоса снова набирали силу, пели, и губы Дахут снова были с моими:
— Любимый, ты с нами.
Дубы наклонялись, размахивали ветвями, подхватывали пение.
Слуги подняли факелы и стояли, как ожидающие собаки, вокруг жертв. Вы вышли на площадку с монолитами. Впереди шел, высоко подняв кувалду, де Керадель, ею он указывал на Пирамиду, как священник на алтарь. Дахут шла рядом со мной, пела, пела, высоко поднимая свой золотой серп. Толще становились стены перевернутой туманной чаши над нами и вокруг нас, все гуще окутывал нас туман. Темнее становились тени, охраняющие стоящие камни.
Жертвы обходили стоящие монолиты, танцевали вокруг них в древнем танце, как бы сливаясь с танцующими клочьями тумана. Слуги погасили факелы, но теперь на камнях зажглись огни святого Эльма. Колдовские огни. Фонари мертвых. Вначале слабо, потом все ярче и ярче. Сверкающие, сияющие шары, но с мертвенной серостью.
И вот я стою перед большой Пирамидой. Смотрю в ее внутренности, пустые, ненаселенные – пока. Пение становилось громче, жертвы все приближались, обходя монолиты. Все ближе и ближе. И все ярче светились огни святого Эльма, освещая дорогу к Пирамиде.
Пение смешалось, стало молитвой, заклинанием. Жертвы прижимались ко мне; раскачивались; напряженные взгляды не отрывались от Пирамиды. Что они в ней увидели?
У входа в Пирамиду стоят три камня. Средний – гранитная плита, в длину больше рослого человека, и на том месте, где находились бы плечи лежащего, – каменное возвышение, как подушка. Камень в пятнах – как и кувалда; красные пятна и по бокам. Слева другой камень; низкий; приземистый; в середине углубление и от него канавка, как бы для спуска жидкости. А справа еще одна плита с углублением, которое почернело от огня.
Меня охватило странное оцепенение, чувство отъединения, как будто часть меня, самая жизненная часть, отступила в сторону, чтобы смотреть на представление, а другая часть меня, менее важная, в этом представлении участвует. И в то же время эта меньшая часть прекрасно знает, что ей делать. Двое слуг в белом протянули мне пучки прутьев, связки листьев и две чаши, в которых находились какие‑то желтые кристаллы и смолистое резиноподобное вещество. На почерневшем камне–алтаре я развел костер, как предписывает древний обряд… разве я не помню, как жрец в древнем Карнаке разжигал костер перед Алкар–Азом?
Я ударил кремнем, прутья вспыхнули, я бросил в огонь листья, кристаллы и резину. Поднялся странный острый запах, он окутал нас и устремился в Пирамиду, как будто его туда всасывало сквозняком.
Дахут проплыла мимо меня. Рядом с ней шла женщина с ребенком на руках. Дахут взяла у нее ребенка, женщина не сопротивлялась, Дахут отошла к алтарю. В дыму я различил блеск золотого серпа, потом де Керадель взял у меня блюдо и кувшин. Поставил их возле алтаря. И вернул мне, когда они заполнились.
Я опустил пальцы в блюдо и брызнул его содержимым на порог Пирамиды. Взял кувшин и вылил его содержимое на этот порог. Потом вернулся к костру и начал подкармливать его, беря ветви в красные руки.
Теперь у приземистого алтаря стоял де Керадель. Он поднял в руках маленькое тело и бросил его в Пирамиду. Дахут напряженно застыла рядом, высоко подняв золотой серп, но серп больше не был золотым. Он стал красным, как мои руки. Между нами и вокруг нас вился дым от священного огня.
Де Керадель выкрикнул слово, и пение прекратилось. Из рядов жертв, спотыкаясь, вышел мужчина, с широко раскрытыми, немигающими глазами, с восхищенным лицом. Де Керадель схватил его за плечи, двое слуг немедленно набросились на него, сорвали с него одежду и положили обнаженного на камень. Голова его упала на каменную подушку, грудь выступила над ней. Де Керадель быстро нажал на горло, на грудь, на бедра. Жертва неподвижно лежала на камне, и де Керадель начал бить по обнаженной груди черной кувалдой. Вначале медленно, потом все быстрее и быстрее, все сильнее, как предписывал древний обряд.
Человек на камне закричал от боли. И, как подкормленные этим криком, вспыхнули огни святого Эльма. Они пульсировали, то разгорались, то увядали. Жертва замолкла, де Керадель нажал на горло… боль жертвы должна быть безмолвной, безмолвную боль труднее переносить, поэтому она более приемлема для Собирателя…
Кувалда нанесла последний удар, раздробив ребра и превратив в месиво сердце. Дым от огня уходил в Пирамиду. Де Керадель поднял высоко над головой тело жертвы.
Он бросил его в Пирамиду, а красные руки Дахут бросили туда же меньшее тело.
Красные руки Дахут!
В Пирамиде послышалось гудение, как от множества мух, питающихся падалью. Туман над Пирамидой сгустился. Бесформенная тень сгустилась в тумане и нависла над Пирамидой. Она сделала туман темным, она опустилась на Пирамиду, но я знал, что это только часть чего‑то, протянувшегося до края галактики, и что наш мир в этом чем‑то только ничтожный мотылек, а наше солнце – ничтожная искорка… Это нечто повисло над Пирамидой, но не вошло в нее.
Снова в руках Дахут сверкнул золотой серп; снова де Керадель наполнил блюдо и кувшин и передал их мне; снова оцепенело прошел я сквозь туман и дым к алтарю и брызнул красным на огонь и на порог Пирамиды, полил порог содержимым кувшина.
Де Керадель снова высоко поднял кувалду и выкрикнул имя. Из рядов жертв вышла женщина, старуха, сморщенная и дрожащая. Помощники де Кераделя раздели ее, он бросил ее на камень, ударил по увядшим грудям кувалдой, еще и еще.
Бросил тело в Пирамиду, и других подводили к нему, и он взмахивал булавой, уже не черной, а красной, и бросал и бросал тела.
Нечто уже не висело над Пирамидой, оно вступило в нее, просочилось сквозь камни крыши, не по–прежнему сквозь него устремлялись клочья тумана. В Пирамиде стало темнее. И дым алтаря больше не окутывал де Кераделя, Дахут и меня, а устремлялся прямо в Пирамиду.
Жужжание прекратилось; все стихло; наступило молчание, подобное тому, какое царило до рождения солнца. Все движения прекратились.
Но я знал, что бесформенная чернота в Пирамиде знает обо мне. И рассматривает меня тысячью глаз. Я чувствовал его внимание, зловещее, жестокое настолько, что человек не может воспринять эту меру жестокости. Это внимание, как щупальцами, окутало меня. Как будто черные бабочки притрагивались ко мне своими усиками.
Снова в Пирамиде послышалось гудение, оно поднималось все выше и выше, пока не превратилось в слабый, сдержанный шепот.
Де Керадель на коленях стоял на пороге, внимательно слушая. Рядом с ним слушала Дахут… в руках ее серп, не золотой, а красный.
На каменном алтаре плакал ребенок – еще не мертвый.
И вдруг Пирамида опустела, тени в тумане не стало… Собиратель ушел.
Мы шли назад между камнями, де Керадель и Дахут рядом со мной. Огней святого Эльма не было. В руках слуг горели факелы. Сзади, распевая и раскачиваясь, шли оставшиеся в живых жертвы. Мы миновали дубовую рощу, деревья молчали. Меня по–прежнему охватывало странное оцепенение, и я не чувствовал ужаса перед тем, что видел… или делал.
Передо мной дом. Странно, как изменяются его очертания, какими туманными и нематериальными они кажутся.
И вот я в своей комнате. Оцепенение, приглушившее эмоциональные реакции на все, сопровождавшее призыв Собирателя, уступало место чему‑то другому, еще не определенному, но достаточно сильному. Возбуждение, вызванное зеленым напитком, уходило. У меня появилось впечатление нереальности, я двигался в нереальном мире среди нереальных предметов. Что стало с моей белой одеждой? Я помнил, что де Керадель снял ее с меня, но куда он ее девал и куда делся сам, я не знал. И руки у меня чистые, больше не в крови.
Со мной Дахут, ноги у нее голые, тело просвечивает сквозь одежду. Фиолетовые огни все еще слабо видны во взгляде. Она обнимает меня руками за шею, прижимается ко мне губами. Шепчет:
— Алан! Я забыла Алана де Карнака. Он заплатил за то, что сделал. Он умирает. Это вас я люблю, Алан.
Я держал ее в объятиях и чувствовал, как умирает владыка Карнака. Но я, Алан Карнак, еще не проснулся.
Руки мои все теснее прижимали ее. В ней аромат какого‑то тайного морского цветка, а в ее поцелуях сладость вновь познанного или давно забытого зла.
17. БЛЮДО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Я проснулся с таким чувством, будто избавился от дурного сна. Что это за сон, я не помнил, помнил только, что он… отвратителен. День ветреный, волны бьют о скалистые берега, воет ветер, и в окна пробивается серый свет. Я поднял левую руку, чтобы посмотреть на часы, но их не было. Не было их и на столе у кровати. Во рту у меня пересохло, кожа была сухой и горячей, я себя чувствовал так, будто два дня подряд пил.
Хуже всего страх, что я вспомню свой сон. Я сел в постели. Еще кое–чего, кроме часов, не хватало: пистолета под мышкой, пистолета Мак Канна. Я лег и постарался вспомнить. Вспомнил зеленый напиток, в котором поднимались светящиеся пузырьки, и потом – ничего. Между этим зеленым напитком и настоящим – туман. И туман скрывает то, что я боюсь вспомнить.
Туман был и во сне. И пистолет тоже был во сне. Когда я пил этот напиток, пистолет был со мной. Вспышка воспоминаний: после напитка пистолет казался нелепым. ненужным, и я бросил его в угол. Я выскочил из кровати и стал искать пистолет.
Нога моя запнулась о черное овальное блюдо. Не черное, все в пятнах и полосах, а внутри что‑то похожее на резину.
Блюдо жертвоприношения!
Внезапно туман рассеялся… я вспомнил сон… если это сон… вспомнил все ужасные подробности. Отшатнулся, не только морально, но и физически, почувствовал тошноту.
Если это не сон, тогда я проклят и трижды проклят. Я не убивал, но участвовал в убийстве. Я не бил жертвы по груди, но и не поднял руки, чтобы спасти их, и я подкладывал ветви в их погребальный костер.
Вместе с Дахут и де Кераделем я вызывал черную и злую Силу, вместе с ними я палач, убийца, раб ада. Как можно доказать, что это сон? Иллюзия, внушенная Дахут и де Кераделем, пока моя воля бездействовала под чарами зеленой жидкости. Я отчаянно пытался уверить себя, что это был только сон. В их глазах сверкал мрачный огонь, в моих тоже. Физиологическая особенность, которой человек в обычных условиях не обладает. Никакой напиток не может создать клетки, способные на это. И у человека на груди, на сердце нет огня, яркого в юности, тускнеющего к старости. Но эти огни горели на груди жертв!
И только во сне дубы могут петь и склонять в такт свои ветви.
Но – это окровавленное блюдо! Может ли оно материализоваться из сна?
Нет, но де Керадель и Дахут могли поместить его рядом со мной, чтобы убедить, что сон был реальностью. Сон или не сон, я запятнан злом.
Я встал и поискал пистолет. Нашел в углу комнаты, куда я его сам бросил. Что ж, по крайней мере это реальность. Пристегнул кобуру под мышку. Голова моя напоминала улей, в котором непрерывно жужжат пчелы мысли. В но в потрясенном мозгу все сильнее становилась холодная, безжалостная ненависть, отвращение к де Кераделю и его ведьме–дочери.
Дождь бил в окна, ветер свистел за окнами старого дома. Где‑то ударили один раз часы. Я не знал, полчаса это или час. И тут мне пришла в голову еще одна мысль. Я достал из кобуры листья и пожевал их. Они были очень горькими, но я их проглотил, и почти сразу же голова моя прояснилась.
Нет смысла искать де Кераделя, чтобы убить его. Прежде всего, я не смогу оправдать свой поступок. Если только в Пирамиде нет груды костей и я не смогу открыть пещеру с нищими. Но я не верил, что найду пещеру или тела.
Убийство де Кераделя будет казаться поступком сумасшедшего, и в лучшем случае меня ждет сумасшедший дом. К тому же, если я его убью, придется считаться с его слугами с пустыми глазами.
И Дахут… Я сомневался, что смогу хладнокровно убить Дахут. И даже если сделаю это, все‑таки остаются слуги. Они меня убьют… а мне не хотелось умирать. Передо мной возникло лицо Элен, и нежелание умирать стало еще сильнее.
К тому же предстояло еще установить, сон или реальность то, что я вспоминал. Прежде всего необходимо установить это. Как угодно, любым способом нужно связаться с Мак Канном. Сон или реальность, я должен продолжать игру и не позволять, чтобы меня снова поймали в ловушку.
Прежде всего я должен изображать, что считаю виденное реальностью; убедить де Кераделя, что я в это верю. Иначе зачем бы ему или Дахут оставлять возле меня блюдо?
Я оделся, взял блюдо и пошел вниз, держа его перед собой. Де Керадель сидел за столом, но мадемуазель не было. Я увидел, что сейчас начало второго. Когда я сел, де Керадель пристально взглянул на меня и сказал:
— Кажется, вы спали хорошо. Я приказал, чтобы вас не тревожили. День сегодня испорчен, и моя дочь спит поздно.
Я рассмеялся.
— Еще бы. После такой ночи.
— Что вы этим хотите сказать?
— Не нужно больше скрываться от меня, де Керадель, – сказал я, – не нужно после этой ночи.
Он медленно спросил:
— А что вы помните об этой ночи?
— Все, де Керадель. Все, начиная с ваших убедительных объяснений, как тьма порождает жизнь, порождает эволюцию. А доказательство – то, что мы призывали к Пирамиде.
— Вам это приснилось.
— И это?
Я поставил блюдо в пятнах на стол. Глаза его стали шире, он переводил взгляд с меня на блюдо.
— Где вы это нашли?
— Рядом со своей постелью. Когда недавно проснулся.
Вены на его висках вздулись и запульсировали, он прошептал:
— Зачем она это сделала?
Я сказал:
— Потому что она мудрее вас. Потому что знает, что мне нужно говорить правду. Потому что верит мне.
Он сказал:
— Некогда она уже поверила вам. Это дорого стоило и ей, и ее отцу.
— Когда я был владыкой Карнака, – рассмеялся я. – Владыка Карнака прошлой ночью умер. Так она сама мне сказала.
Он долго смотрел на меня.
— Как умер владыка Карнака?
Я грубо ответил:
— В объятиях вашей дочери. И теперь она предпочитает… меня.
Он оттолкнул кресло, подошел к окну и долго смотрел на дождь.
Потом вернулся к столу и спокойно сел.
— Карнак, что вам приснилось?
— Пустая трата времени рассказывать. Если это был сон, вы внушили его и поэтому знаете. Если не сон, вы там были.
— Тем не менее прошу вас рассказать.
Я изучал его. что‑то необычное в этой просьбе, похоже, он искренен. И тут в колесе моих стройных суждений появилась палка.
Я решил выиграть время.
— После еды, – сказал я.
Во время завтрака он молчал; но когда я поднимал взгляд, он смотрел на меня. Казалось, он о чем‑то напряженно думает. Я пытался извлечь палку из колеса своих рассуждений. Удивление и гнев при виде блюда кажутся искренними. Но в таком случае не он поставил блюдо у моей кровати. Поэтому не он хочет, чтобы, проснувшись, я вспомнил – сон или реальность.
Значит Дахут. Но почему она хочет, чтобы я вспомнил, если ее отец этого не хочет? Единственный ответ – между ними конфликт. Но может быть и другая причина. Я был очень высокого мнения об уме де Кераделя. Не думаю, чтобы он стал спрашивать у меня то, что сам уже знает. По крайней мере не без причины. Означает ли его вопрос, что он не принимал участия в вызове Собирателя? Что никаких жертвоприношений не было… что все это иллюзия… и что не он создал эту иллюзию?
Что все это работа одной Дахут?
Но погоди! Не означает ли это также, что зеленая жидкость предназначалась для того, чтобы я все забыл? И что по какой‑то причине у меня оказался частичный иммунитет против нее? И теперь де Керадель хочет понять, до какого предела простирается этот иммунитет… сравнить мои воспоминания с действительностью?
Но остается блюдо; и дважды я видел страх в его глазах, когда к нему обращалась Дахут… все‑таки между ними трещина… и мне нужно этим воспользоваться.
А может, кто‑то другой, не Дахут, поместил блюдо рядом со мной?
Я вспомнил голос Ральстона, перешедший в жужжание мухи. Услышал, как Дик кричит мне:
— Берегись, берегись Дахут… освободи от Собирателя, Алан.
В комнате потемнело, как будто дождевые тучи спустились еще ниже, все заполнили тени.
Я сказал:
— Отпустите слуг, де Керадель. Я вам расскажу.
Я рассказал. Он слушал не прерывая, с неизменным выражением лица, бледные глаза время от времени поглядывали в окно, потом смотрел на меня. Когда я кончил, он с улыбкой спросил:
— Вы считаете это сном… или реальностью?
— Но вот это… – я указал на блюдо.
Он взял его и задумчиво стал рассматривать. Сказал:
— Предположим для начала, что ваш опыт реален. При этом я оказываюсь колдуном, волшебником, жрецом ада. И вас я не люблю. Не только не люблю, но и не доверяю вам. Меня не обманула ваша готовность участвовать в наших делах и целях. Я знаю, что вы пришли сюда только от страха перед тем, что может случиться с вашими друзьями. Короче, я знаю все о взаимоотношениях моей дочери с вами и о том, что из этого следует. Я мог бы… избавиться от вас. Очень легко. И избавился бы, если бы не одно препятствие. Любовь моей дочери к вам.
— Обращаясь к воспоминаниям ее далекого предка из Иса, превращая ее в древнюю Дахут, я, очевидно, не мог пользоваться только избранными воспоминаниями. Для моих целей они должны быть полными. Я должен восстановить их все. К несчастью, в их числе и владыка Карнака. К еще большему несчастью, она встретилась с вами, чьим отдаленным предком является все тот же владыка Карнака. Ваше уничтожение означало бы необходимость полностью перестраивать все мои планы. И это привело бы ее в ярость. Она стал бы мои врагом. Поэтому вы – не прекратили существовать. Ясно?
— Абсолютно, – сказал я.
— Далее – по–прежнему предполагая, что я именно тот, кем кажусь вам, – что я должен предпринять? Очевидно, сделать вас particeps criminis, соучастником преступления. Вы не сможете разоблачить меня, не разоблачив тем самым и себя. Я даю вам некий напиток, который уничтожает ваши предубеждения относительно того и этого, устраняет ограничения. Вы становитесь particeps criminis. И теперь бессильны разоблачить меня, если сами не хотите получить петлю на шею. Несомненно, – вежливо заметил он, – все эти соображения приходили вам в голову.
— Действительно, – согласился я. – Но я хотел бы задать вам несколько вопросов, вам в роли колдуна, волшебника, жреца ада, вымышленной или реальной.
— Спрашивайте.
— Вы были причиной смерти Ральстона?
— Нет, – ответил он. – Это моя дочь. Она приказывает теням.
— Но была ли тень, шептавшая ему о смерти… реальной?
— Достаточно реальной, чтобы вызвать его смерть.
— Вы начинаете говорить двусмысленно. Я спросил, реальна ли она.
Он улыбнулся.
— Есть доказательства, что он в это верил.
— А остальные трое?
— Тоже считали реальностью. Именно неожиданное установление доктором Беннетом связи между этими четырьмя случаями вызвало наш визит к доктору Лоуэллу… исключительно неудачный визит, поскольку, как я уже заметил, там она встретила вас. Конечно, по–прежнему допуская, что я колдун и злодей, Карнак.
— Но зачем вы их убили?
— Мне временно понадобились деньги. Вы помните, возникли трудности с доставкой золота из Европы. Мы много раз убивали и раньше – в Англии, во Франции, в других местах. Дахут нуждается в развлечениях, ее тени тоже. И они должны питаться – время от времени.
Говорит ли он правду или играет со мной? Я холодно сказал:
— Те, что ночью шел к Пирамиде… мы по–прежнему предполагаем, что мое видение реально… – нищие…
Он меня прервал:
— Нищие! Почему вы их так называете?
Теперь я рассмеялся.
— А разве это не так?
Он успокоился.
— Большинство из них – да. А теперь вы будете спрашивать, как я их получаю. Это, дорогой мой Карнак, исключительно просто. Нужно только подкупить одного–двух чиновников, передать нищим некий наркотик, потом тени моей дочери начнут им нашептывать, и вот по ночам они начинают ускользать и под руководством теней добираются до места, где их ждет моя яхта. И вот они здесь… и очень счастливы, уверяю вас… между жертвоприношениями.
Он вежливо спросил:
— Удовлетворительно ли я рассеял ваши сомнения? Разве все это не соответствует характеру колдуна и его дочери?
Я не ответил. Он сказал:
— Продолжая рассуждения, мой дорогой Карнак, предположим, что вы сбежите, расскажете эту историю другим, привлечете ко мне человеческий закон… что произойдет тогда? Не найдут никаких жертв, ни мертвых в Пирамиде, ни живых в пещере. И Пирамиды никакой не будет. Я позаботился об этом.
— Найдут лишь мирного ученого, у которого невинное хобби – воспроизвести в миниатюре древний Карнак. Он покажет свои стоячие камни. Его очаровательная дочь будет сопровождать и развлекать прибывших. Вы… вы тоже будете присутствовать, но как сумасшедший. Но, будете вы здесь или не будете, что произойдет с вами дальше? Вы не умрете… даже если очень захотите… даже если у вас останется сил, чтобы сформулировать такое желание…
Губы его улыбались, но глаза были холодны, как лед.
— Я по–прежнему говорю как колдун, разумеется.
Я спросил:
— Но почему со своим экспериментом вы приехали сюда, де Керадель? Разве не лучше было бы провести его в Карнаке, перед древней Пирамидой? Собиратель хорошо знает туда дорогу.
Он ответил:
— Собиратель знает все дороги. И как я могу свободно открывать эту дорогу в земле, где так живы воспоминания? Где нашел бы я жертвы, как бы смог провести ритуал без помех? Невозможно. Поэтому я и пришел сюда. Здесь Собиратель неизвестен… пока.
Я кивнул; все это достаточно разумно. Прямо спросил:
— Чего вы рассчитываете добиться?
Он рассмеялся.
— Вы слишком наивны, Карнак. Этого я вам не скажу.
Гнев и угрызения совести заставили меня забыть об осторожности.
— Я никогда больше не буду помогать вам в этом черном деле, де Керадель.
— Вот как! – медленно сказал он. – Вот как! Я так и думал. Но вы мне больше не нужны, Карнак. Сближение прошлой ночью было почти совершенным. Таким совершенным, что больше мне не нужна даже… Дахут.
Он сказал это почти задумчиво, как будто рассуждал вслух, а не говорил со мной. И опять я почувствовал между ними какую‑то трещину, какой‑то разлад… страх перед Дахут гонит его… куда?
Он откинулся в кресле и рассмеялся; в глазах и губах смех без угрозы или злобы.
— Это одна сторона дела, доктор Карнак. А теперь возьмем другую сторону, сторону здравого смысла. Я способный психиатр и любитель приключений, Исследователь, но не джунглей и пустынь этого мира. Я исследую мозг человека, а это тысячи миров. Большинство из них, я это признаю, удручающе однообразны. Но время от времени встречаются такие отличия, которые оправдывают всю работу.
— Предположим, я слышал о вас. Кстати, Карнак, я знаю историю вашей семьи лучше вас. Но у меня все же не было желания встретиться с вами, пока я не прочел ваше интервью по поводу случая с Ральстоном, о котором я ничего не знал. Оно возбудило мое любопытство, и я решил исследовать… вас. Но как лучше всего приблизиться к вам, не возбудив подозрений? Как проникнуть в частный мир вашего мозга, который я хочу осмотреть?
— Я прочел, что вы друг доктора Беннета, у которого есть интересные мысли по поводу смерти этого самого Ральстона. Я узнал, что Беннет – ассистент доктора Лоуэлла, которому я давно собирался позвонить как известному специалисту. Я позвонил ему и, совершенно естественно, получил приглашение прийти с дочерью на обед. И, как я и ожидал, там же были вы и доктор Беннет.
— Очень хорошо. Вы любитель колдунов, исследователь волшебства. Я повел беседу в этом направлении. Вы говорили с журналистами о тенях, и, к своей радости, я понял, что доктор Беннет одержим той же идеей. И что еще лучше, он почти убежден в реальности волшебства. И вы двое настолько связаны, что я не только легко получаю доступ к вашему мозгу, но и к его тоже.
Он посмотрел на меня, как бы ожидая замечаний, но я промолчал. Лицо его стало менее дружеским. Он сказал:
— Я назвал себя исследователем мозга, Карнак. Я прокладываю в нем свой путь, как другие исследователи пробираются через джунгли. Даже лучше. потому что я могу контролировать… растительность.
Он снова помолчал, а когда я опять ничего не сказал, спросил со следами раздражения:
— Вы меня поняли?
Я кивнул.
— Следую за вами. – Я не стал добавлять, что не только следую за ним, но и иду немного впереди него… у меня начинала формироваться мысль.
Он сказал:
— А теперь хочу вам сообщить – опять‑таки в своей сути психиатра–исследователя, а не колдуна, – что весь мой эксперимент был направлен на пробуждение тех воспоминаний, которые вы получили от своих далеких предков, приносивших жертвы богу–демону. Те самые жертвоприношения, в которых, вам показалось, вы участвовали прошлой ночью. То, что вы видели над Пирамидой и в Пирамиде, на самом деле представление о демоне–боге, созданное вашими предками столетия назад. Только это и ничего больше.
Я полагаю, что с момента нашей встречи мало из того, что казалось вам реальностью, было ею на самом деле: на самом деле ткань из смеси темных воспоминаний предков и реальности, ткань, которую ткал я. Не существует никакого Собирателя… нет никаких ползущих теней… нет пещеры, скрытой под этим домом. Моя дочь, участвующая в моих экспериментах, иногда кажется вам тем, чем и есть на самом деле: современной женщиной, образованной, разумеется, но не большей ведьмой, чем та Элен, которую вы назвали своей античной монетой. И наконец здесь вы только гость. Не пленник. И ничто не побуждает вас тут оставаться, кроме вашего собственного воображения… стимулированного, признаю это, моим участием в исследовании.
Он добавил с почти не скрываемой иронией:
— И участием моей дочери.
Теперь я подошел к окну и встал, повернувшись к нему спиной. Я заметил, что дождь прекратился и сквозь облака просвечивает солнце. Он лжет. Но в какой из двух интерпретаций лжет меньше? Ни один колдун не мог организовать башню Дахут в Нью–Йорке и в древнем Исе и тем более руководить моими действиями там, реальными или воображаемыми; не мог он отвечать и за то, что произошло после ритуалов прошлой ночи. Только колдунье доступно такое.
Во втором объяснении есть и другие слабые места. Но неуничтожимая скала, о которую оно окончательно разбивается, – свидетельства Мак Канна, который, пролетая над этим местом, тоже видел огни святого Эльма, эти гниющие огоньки мертвых… видел черную бесформенную фигуру, сидящую на Пирамиде… видел людей среди стоячих камней, пока все не поглотил туман.
В какую из этих историй я должен поверить? Как убедить в этом де Кераделя? Я знал, что он мне не верит. Может, это ловушка, лабиринт? Какую из дверей должен я открыть?
Мысль, формировавшаяся в моем сознании, становилась все яснее. Я повернулся к нему, постарался придать лицу смешанное выражение вины и восхищения и сказал:
— Откровенно говоря, не знаю, де Керадель, чего во мне больше: разочарования или облегчения. В конце концов вы ведь действительно возвели меня на гору и показали земные царства, и часть меня возрадовалась перспективам и готова была следовать за вами. И вот одна часть радуется, что это всего лишь мираж, зато другая хотела бы, чтобы это было правдой. И я разрываюсь между негодованием, что стал для вас подопытным кроликом, и восхищением тем, как вы провели эксперимент.
Я сел и беззаботно добавил:
— Я считаю, что сейчас все стало ясно. Эксперимент окончен.
Бледно–голубые глаза не отрывались от меня. Де Керадель медленно ответил:
— Он кончен – насколько это зависит от меня.
Но я хорошо знал, что ничего не кончено; знал, что я по–прежнему пленник; но я зажег сигарету и спросил:
— Значит, я могу идти, куда хочу?
— Ненужный вопрос, – бледные глаза сузились, – если вы принимаете мое основанное на здравом смысле объяснение.
Я рассмеялся.
— Это дань вашему искусству. Не так легко избавиться от иллюзий, созданных вами, де Керадель. Кстати, я хотел бы послать телеграмму доктору Беннету.
— Жаль, – ответил он, – но буря порвала провод между нами и деревней.
Я сказал:
— Я был в этом уверен. Но я собирался написать доктору Беннету, что мне здесь нравится и что я намерен оставаться так долго, как мне разрешат. Что вопрос, который нас с ним интересовал, разъяснился к полному моему удовлетворению. Что ему не о чем беспокоиться и что позже я объясню все подробнее в письме.
Помолчав, я посмотрел ему прямо в глаза.
— Мы напишем это письмо вместе – вы и я.
Он откинулся, глядя на меня с ничего не выражающим лицом, но я успел заметить его удивление при моем неожиданном предложении. Он взял приманку, хотя еще не проглотил ее.
— Почему? – спросил он.
— Из‑за вас, – ответил я и подошел к нему. – Де Керадель, я хочу тут остаться. С вами. Но не как человек, которого держат – наследственные воспоминания. И не воображение, которое подстегиваете вы или ваша дочь. Не внушение… не колдовство. Я хочу оставаться здесь в здравом уме и самим собой. И чары вашей дочери не имеют к этому отношения. Меня мало интересуют женщины, де Керадель, кроме нагой дамы, которую зовут Истина. Из‑за вас, только из‑за вас я хочу остаться.
Опять он спросил:
— Почему?
Но он заглотил приманку. Его бдительность ослабла. У каждой симфонии есть главная тема, а в ней основная нота. Так же и с каждым человеком. Узнай эту ноту, узнай, как ее заставить звучать, – и этот человек твой. Доминанта де Кераделя – тщеславие, эготизм. Я заставил звучать именно эту ноту.
— Никогда, я думаю, де Карнак не называл де Кераделя… хозяином. Никогда не просил разрешения сидеть у ног де Кераделя и учиться. Я достаточно знаю историю наших семей, чтобы уверенно утверждать это. Ну, этому конец. Всю жизнь я стремился сорвать с Истины ее вуаль. Я считаю, вы можете сделать это, де Керадель. Поэтому – я останусь.
Он с любопытством спросил:
— Которой же из двух моих историй вы поверили?
Я рассмеялся.
— Обеим и ни одной. Разве иначе заслуживал бы я быть вашим учеником?
Он сказал, почти задумчиво:
— Хотел бы я верить вам… Алан де Карнак! Мы бы много могли достичь вместе.
Я ответил:
— Верите вы мне или нет, но как я, будучи здесь, могу повредить вам? Если я исчезну… или покончу самоубийством… или сойду с ума… это, конечно, может вам повредить.
Он с отсутствующим видом покачал головой, с холодным равнодушием сказал:
— Я легко могу избавиться от вас, де Карнак, и никаких объяснений не понадобится… но я хотел бы вам верить.
— Но если вы ничего не теряете, почему бы не согласиться?
Он по–прежнему медленно сказал:
— Я согласен.
Взял в руки блюдо жертвоприношений и взвесил его. Поставил на стол. Протянул ко мне обе руки, не касаясь меня, и сделал жест, на который я, при всем том, что было в моем сердце, не мог ответить. Этому священному жесту научил меня тибетский лама, которому я спас жизнь… и де Керадель осквернил его… но все же жест означал обязательства… обязательства, которые простираются за пределы жизни…
Спасла меня Дахут. В комнату полился поток солнечных лучей. Вместе с ним появилась и Дахут. Если бы что‑то нужно было для подтверждения второй версии де Кераделя, версии здравого смысла, так это Дахут, идущая в лучах солнца. Но ней был костюм для верховой езды, сапоги, сине–зеленый шарф, соответствовавший цвету ее глаз, и берет точно такого же цвета. Подойдя ко мне в солнечных лучах, она выбила из моей головы и де Кераделя, и все остальное.
Она сказала:
— Здравствуйте, Алан. Прояснилось. Не хотите ли прогуляться?
И тут она увидела блюдо жертвоприношений. Глаза ее расширились, так что стали видны белки… и в глазах заплясали фиолетовые огни.
Лицо де Кераделя побледнело. В нем появилось понимание… предупреждение, известие – от него к ней. Ресницы мадемуазель дрогнули.
Я сказал беззаботно, как будто ничего не заметил:
— Прекрасно. пойду переоденусь. – Я уже знал, что не де Керадель поставил рядом со мной блюдо. Теперь я знал, что и Дахут не делала этого. Тогда кто же?
Я вошел к себе в комнату и снова как будто услышал жужжание… Алан, берегись Дахут…
Может, все‑таки тени будут ко мне добры.
18. ПСЫ ДАХУТ
Как бы ни разгадывалась загадка блюда, приглашение Дахут было тем счастливым случаем, на который я надеялся. Я торопливо переоделся. Мне представлялось, что ее разговор с отцом будет не вполне дружеским, и я не хотел, чтобы она переменила намерение насчет прогулки. Возможно, в деревню мне попасть не удастся, но до скалы, где дежурят рыбаки, я доберусь.
Я написал записку Мак Канну:
— Будьте у скалы ночью от одиннадцати до четырех. Если я не покажусь, будьте здесь же завтра ночью в те же часы. То же и относительно ночи послезавтра. Если я тогда не покажусь, передайте Рикори, чтобы действовал по усмотрению.
К тому времени Рикори уже должен приехать. И если я тогда не смогу связаться с Мак Канном, значит я в трудном положении, если вообще способен находиться в любом положении. Я надеялся на изобретательность и безжалостность Рикори, не меньшие, чем у де Кераделя. И он будет действовать быстро. Я изготовил дубликат записки: в конце концов, может, удастся попасть и в деревню. Одну записку положил в двухунциевую бутылочку и плотно закрыл, вторую сунул в карман.
Насвистывая, спустился вниз, предупреждая о своем появлении. Вошел в комнату так, будто никого в мире ни в чем не подозреваю. Впрочем, я не играл: я испытывал душевный подъем; так боксер, проигрывавший раунд за раундом в бою с противником с совершенно незнакомым стилем, вдруг получает ключ к противнику и знает, как с ним справиться.
Мадемуазель стояла у очага, постукивая по сапогам рукоятью арапника. Де Керадель по–прежнему сидел за столом, слегка съежившись. Блюда жертвоприношений не было видно. Мадемуазель напоминала прекрасную осу, да Керадель – маленький Гибралтар, отражающий нападки осы.
Я рассмеялся, когда это сравнение пришло мне в голову.
Дахут сказала:
— Вы веселы.
Я ответил:
— Да, весел. Веселее, чем был, – тут я взглянул на де Кераделя, – многие годы.
Она не пропустила ни этот взгляд, ни ответную напряженную улыбку. Сказала:
— Идемте. Ты уверен, отец, что не хочешь присоединиться к нам?
Де Керадель покачал головой.
— У меня много дел.
Мы пошли к конюшне. Она взяла ту же гнедую, я – чалую. Некоторое время она ехала передо мной молча, потом позволила мне догнать ее. Сказала:
— Вы так веселы, будто едете на встречу с любимой женщиной.
— Надеюсь встретить ее, хотя и не в этой поездке.
Она прошептала:
— Это Элен?
— Нет, Дахут, хотя у Элен есть много ее особенностей.
— Кто же она?
— Вряд ли вы хорошо с ней знакомы, Дахут. Она не надевает одежды, кроме вуали на лице. Ее зовут Истина. Ваш отец пообещал мне приподнять ее вуаль.
Она подъехала ближе, схватила меня за руку.
— Он обещал это… вам?
— Да. И очень обрадовался, что теперь ему не нужна ваша помощь.
— Почему вы говорите мне это? – Она крепче сжала мою руку.
— Потому что, Дахут, я очень хочу встретиться с этой нагой дамой Истиной, когда на ней вообще не будет вуали. И у меня было чувство, что если я не отвечу искренне на все вопросы, наша встреча отдалится.
Она угрожающе сказала:
— Не играйте со мной. Зачем вы сказали мне это?
— Я не играю с вами, Дахут, я отвечаю честно. Настолько, что сообщу вам и другую причину.
— Какую же?
— Разделяй и властвуй.
Она, не понимая, смотрела на меня.
— В Индии рассказывают, – сказал я. – Это джатака, басня о животных. Ссорились между собой царица тигров и царь львов. Их вражда опечаливала джунгли. И было решено, что они сядут на чашки весов над прудом, полным крокодилов. Царица тигров и царь львов сели на чашки. И оказалось, что весят они одинаково. Но по середине весов ползал муравей с песчинкой в челюстях. «Хо! – воскликнул он. – О чем спор? И кто спорит?» Так сказал этот ничтожный муравей царице тигров и царю львов. И песчинка в его челюстях – их жизнь и смерть.
Дахут спросила, затаив дыхание:
— Кто же из них остался жить?
Я рассмеялся.
— Об этом ничего не говорится.
Она поняла, что я хочу сказать, щеки ее покраснели, искорки заплясали в глазах. Она отпустила мою руку. Сказала:
— Отец очень доволен вами, Алан.
— Вы уже говорили мне об этом, Дахут… и никакой радости это не принесло.
Она прошептала:
— Кажется, я уже слышала такие слова от вас… и мне это не принесло радости. – Она снова схватила меня за руку. – Но я недовольна, Алан.
— Простите, Дахут.
— Несмотря на всю свою мудрость, мой отец простодушен. Но я нет.
— Прекрасно, – сказал я. – Я тоже. Я ненавижу простодушие. Но никакой наивности в вашем отце я пока не заметил.
Она все сильнее сжимала мою руку.
— Эта Элен… сильно ли она напоминает нагую даму с вуалью, которую вы ищете?
Сердце у меня забилось чаще; я ничего не мог сделать, она это почувствовала.
Сладко сказала:
— Не знаете? Значит, у вас не было возможности… сравнивать.
В ее смехе, напоминающем журчание маленьких волн, звучала безжалостность.
— Оставайтесь веселым, мой Алан. Возможно, когда‑нибудь я предоставлю вам такую возможность.
Она похлопала лошадь плетью и поехала дальше. Мне уже не было весело. Какого дьявола я позволил вовлечь в обсуждение Элен? Не подавил ее имя в самом начале? Я ехал сразу за Дахут, но она не оглядывалась на меня и ничего не говорила.
Мы проехали одну–две мили и оказались на лугу с скорчившимися кустами. Тут к ней как будто вернулось хорошее настроение, и она поехала рядом со мной. Сказала:
— Разделяй и властвуй. Мудрое изречение. Чье оно, Алан?
— Насколько мне известно, древнеримское. Его цитировал Наполеон.
— Римляне были мудры, очень мудры. А если я расскажу отцу, что вы настраиваете меня так?
Я равнодушно ответил:
— Почему бы и нет? Но если такая мысль еще не пришла ему в голову, зачем вооружать его против себя?
Она задумчиво сказала:
— Вы сегодня странно уверены в себе.
— Только потому, что говорю правду, – ответил я. – Поэтому если на кончике вашего красивого язычка вопросы, ответы на которые могут оскорбить ваши прекрасные уши, лучше не задавайте их.
Она склонила голову и поскакала по лугу. Мы подъехали к скале, на которую я взбирался во время первой прогулки. Я слез с лошади и начал подниматься. Добрался до вершины, обернулся и увидел, что она тоже спешилась и нерешительно смотрит на меня.
Я помахал ей рукой и сел на скалу. Рыбачья лодка находилась в нескольких сотнях ярдов. Я бросил в воду один–два камня, потом маленькую бутылочку с запиской Мак Канну. Один из рыбаков встал, потянулся и начал вытаскивать якорь.
Я крикнул ему:
— Как клюет?
Дахут стояла рядом со мной. Луч заходящего солнца упал на горлышко бутылки, оно заблестело. Дахут посмотрела на него, потом на рыбаков, потом на меня.
Я спросил:
— Что это? Рыба?
Она не ответила; стояла, разглядывая людей в лодке. Они гребли между нами и бутылочкой, потом завернули за скалу и исчезли. Бутылочка продолжала блестеть на солнце, поднимаясь и опускаясь с волной.
Дахут приподняла руку, и я готов поклясться, что по воде пробежал вихрь, толкнул бутылочку к нам.
Я схватил Дахут за плечи, повернул ее лицо и поцеловал. Она, дрожа, прижалась ко мне. Я взял ее руки, они были холодны, помог ей спуститься со скалы. Внизу я взял ее на руки и понес. Поставил на ноги возле ее лошади. Ее длинные пальцы обвились вокруг моего горла, полупридушив меня; она прижалась ко мне губами, от поцелуя у меня перехватило дыхание. Вскочила на гнедую и безжалостно хлестнула ее арапником. И понеслась по лугу, быстрая, как бегущая тень.
Я тупо смотрел ей вслед. Сел на чалую…
Поколебался, размышляя, не залезть ли на скалу снова, чтобы убедиться, что люди Мак Канна взяли бутылочку. Решил, что лучше не рисковать, и поехал за Дахут.
Она держалась впереди, ни разу не оглянувшись. У дверей дома соскочила с гнедой, слегка хлопнула ее по шее и быстро ушла. Жеребец потрусил к конюшне. Я свернул и въехал в дубовую рощу. Я хорошо помнил то место, где роща кончается и начинаются монолиты.
Доехал до края и действительно увидел стоячие камни, свыше двухсот; они занимали десятиакровую площадку, скрытую со стороны моря соснами, росшими на верху небольшого возвышения. Камни не серые, какими казались в тумане. Заходящее солнце окрасило их в красный цвет. В центре приземистая Пирамида, загадочная и злая.
Гнедая не хотела выходить из рощи. Она подняла голову, принюхалась и заржала; начала дрожать, покрылась потом, и в ржании звучал страх. Потом она повернула и пошла в рощу. Я не мешал ей.
Дахут сидела за столом. Отец ее куда‑то ушел на яхте и, возможно, сегодня не вернется, сказала она… Я подумал, правда, не вслух, не за новыми ли нищими он отправился.
Когда я приехал с прогулки, его не было. И Дахут я не видел, пока не сел за стол. Я пошел к себе, выкупался, неторопливо переоделся. Прижался ухом к шпалере и снова начал отыскивать скрытую пружину. Ничего не услышал и ничего не нашел. Склонившийся слуга сообщил, что обед ждет. Меня заинтересовало, что он не обратился ко мне как к владыке Карнака.
Дахут была в черном, впервые с нашего знакомства. Платья было не очень много, и то, что было, прекрасно демонстрировало ее красоту. Выглядела она устало, не увядшей, не унылой, а как морской цветок, которого вынесло приливом на берег и который ждет нового прилива. Мне стало ее жаль. Она посмотрела на меня, взгляд ее был осторожным. Она сказала:
— Алан, если не возражаете… сегодня будем говорить только банальности.
Внутренне я улыбнулся. Ситуация более чем пикантная. Мало о чем можем мы говорить таком, что не заряжено мощной взрывчаткой. Я согласился с ее предложением, у меня не было настроения играть со взрывчаткой. Все‑таки что‑то не так с мадемуазель, иначе она никогда бы не сделала такое предложение. Может, боится, что я заговорю о блюде жертвоприношений… или мой разговор с де Кераделем расстроил ее. Ей он явно не понравился.
— Пусть будут банальности, – сказал я. – Если бы мозги были искрами, от моего сегодня не зажечь даже спичку. Обсуждение погоды почти за пределами моего интеллекта.
Она рассмеялась.
— И что же вы думаете о погоде, Алан?
— Она должна быть запрещена поправкой к конституции.
— А что создает погоду?
— Сейчас, – ответил я, – вы – для меня.
Она мрачно посмотрела на меня.
— Я хотела бы, чтобы это было правдой… но берегитесь, Алан.
— Прошу прощения, Дахут. Вернемся к банальностям.
Она вздохнула, потом улыбнулась, и было трудно думать о ней, как о Дахут, которую я знал в башне Нью–Йорка или древнего Иса… или с красным золотым серпом в руке.
Мы говорили банальности, хотя время от времени возникали опасные повороты. Великолепные слуги подавали превосходный обед. Де Керадель, ученый или колдун, понимал толк в винах. Но мадемуазель ела мало и совсем не пила, она становилась все более вялой. Я отодвинул кофе и сказал:
— Кажется, наступил отлив, Дахут.
Она выпрямилась и резко спросила:
— Почему вы так говорите?
— Не знаю. Но вы всегда напоминаете мне море, Дахут. Я сказал вам это в тот вечер, когда мы встретились. Ваш дух поднимается и угасает вместе с приливом.
Она резко встала, лицо ее было лишено краски.
— Спокойной ночи, Алан. Я очень устала. Спите… без сновидений.
И вышла, прежде чем я смог ответить. Почему упоминание о приливе вызвало такое изменение, заставило ее бежать – ибо ее уход не что иное, как бегство? Я не находил ответа. Часы пробили девять. Я еще с четверть часа посидел за столом, слуги с пустыми глазами смотрели на меня. Я встал, потянулся, сонно улыбнулся дворецкому и сказал ему по–бретонски:
— Сегодня я… буду спать.
Он шел с факелом в руке впереди тех, кто вел жертвы. Он низко поклонился, лицо его не изменилось, он никак не показал, что понял истинное значение моих слов. Отвел для меня занавес, и, медленно поднимаясь по лестнице, я чувствовал на себе его взгляд.
В зале я на минуту задержался и посмотрел в окно. Тонкие облака почти скрывали луну. Прошло несколько ночей после полнолуния. Ночь тускло освещенная и очень тихая. В старомодном широком зале никаких теней, шепчущих и шуршащих. Я пошел к себе в комнату, разделся и лег. Было около десяти.
С час я лежал, притворяясь спящим. Потом произошло то, чего я ждал. Кто‑то появился в комнате, по странному аромату я узнал Дахут. Она стояла у моей постели. Я почувствовал, как она наклоняется ко мне, вслушивается в дыхание; потом пальцы ее легко, как мотылек, коснулись пульса у меня на шее, на запястье. Я вздохнул, повернулся и, казалось, снова погрузился в глубокий сон. Услышал, как она вздохнула, почувствовал прикосновение к щеке – не пальцев. Аромат беззвучно исчез. Но я знал, что у шпалеры Дахут задержалась, прислушиваясь. Постояла несколько долгих минут, потом послышался слабый щелчок, и я понял, что она ушла.
Тем не менее я ждал, пока стрелки на часах не покажут одиннадцать, потом встал, надел брюки, рубашку, темный свитер и туфли.
Дорога от двери вела прямо к охраняемым воротам, туда примерно полторы мили. Я не думал, что она охраняется, и решил пройти по ней с полмили, потом свернуть влево, добраться до стены и идти вдоль нее до скалы, где меня поджидает Мак Канн. Правда, хозяин гостиницы говорил, что с воды к скале не подобраться, но я был уверен, что Мак Канн найдет способ. Я легко доберусь за полчаса.
Я вышел в зал, прокрался к началу лестницы и посмотрел вниз. Горел неяркий свет, но ни следа слуг. Я спустился по лестнице и дошел до входной двери. Она не была закрыта. Я прикрыл ее за собой, укрылся в тени рододендронов и начал осматриваться.
Здесь дорога делает широкую петлю, не защищенную растительностью. Облака разошлись, луна светила ярко, но после петли можно будет укрыться в деревьях, которые росли по обе стороны дороги. Я пересек петлю и добрался до деревьев. Добрых пять минут выжидал. Дом оставался темным, ни в одном окне не было света; ни звука, ни движения. Я пошел по дороге.
Я прошел примерно треть мили, когда добрался до узкой аллеи, уходившей влево. Аллея ровная и хорошо видна в лунном свете. Она тянется в общем направлении скалы и обещает не только более короткий, но и более безопасный путь. Я пошел по ней. Несколько десятков ярдов, и деревья кончились. Аллея продолжалась, но росли по ее сторонам кусты. Они позволяли заглядывать через них и в то же время достаточно надежно скрывали меня.
Я прошел с полмили и ощутил весьма неприятное чувство, будто кто‑то идет за мной. Чувство крайне неприятное, будто за мной следует кто‑то отвратительный. И вдруг оно бросилось на меня сзади. Я повернулся, выхватывая пистолет из кобуры.
За мной никого не было. Аллея уходила назад совершенно пустая.
Но теперь вкрадчивое движение началось в кустах по бокам аллеи. Как будто какие‑то существа скрывались там, следуя за мной, следя за мной, издеваясь надо мной. Послышался шорох, шуршание, отвратительный писк.
Аллея кончилась. Я пятился шаг за шагом, пока не стало слышно шуршания и писка. Но в кустах по–прежнему кто‑то двигался, и я знал, что за мной следят. Я повернулся и увидел, что стою на краю луга. Он и днем казался зловещим, но по сравнению с ночью, под окруженной облаками, убывающей луной, это было веселое зрелище.
Я не мог перейти луг, разве что очень быстро. Не мог я и возвращаться к пищащим существам. И я побежал через луг к скале.
Я уже пробежал треть, когда услышал собачий лай. Он шел со стороны дома, и я невольно остановился, прислушиваясь. Лай не похож был на крики обычной своры. Он был непрерывный, воющий, невыразимо печальный; и с тем же оттенком непристойности, что и писк.
Из аллеи вырвались теневые фигуры. Черные под луной, они напоминали фигуры людей, но людей изуродованных, искаженных, переделанных в адской мастерской. Они были… отвратительны.
Лай стал ближе, послышался топот копыт, это скачет галопом крупная лошадь…
Из аллеи вылетел большой черный жеребец, вытянув шею; его грива летела за ним. На нем сидела Дахут, распустив волосы, в ее глазах горели фиолетовые ведьмовские огни. Она увидела меня, подняла свой хлыст, закричала, натянув поводья, так что жеребец взлетел передними ногами в воздух. Снова она крикнула и указала на меня. Из‑за жеребца показалась свора огромных псов, их было несколько десятков, похожих на шотландскую борзую… на больших собак друидов…
Они черной волной покатились ко мне… и я увидел, что это тени, но в черноте тени сверкали красные глаза, они горели тем же адским огнем, что и глаза Дахут. А за ними на жеребце скакала Дахут… она больше не кричала, рот ее был искажен в яростной гримасе, и у нее было лицо не женщины, а призрака.
Они почти достигли меня, когда мое оцепенение кончилось. Я поднял пистолет и выстрелил прямо в нее. Прежде чем я снова смог нажать курок, свора накинулась на меня.
Они были материальны, эти теневые псы Дахут. Разреженные, туманные, но материальные. Я уронил пистолет и отбивался голыми руками. От собак исходил странный цепенящий холод. Сверкая красными глазами, они рвали мне горло, и как будто сквозь их клыки вливался холод. Я слабел. Мне все труднее становилось дышать. Руки и ноги онемели, и я теперь лишь слабо барахтался, как в паутине. Упал на колени, с трудом пытался вдохнуть…
Дахут соскочила с жеребца и отогнала собак. Я смотрел на нее, пытаясь встать на ноги. Яростное выражение с ее лица исчезло, но в ее фиолетовых глазах не было милосердия. Она ударила меня хлыстом по лицу.
— Лента за твое первое предательство!
Хлестнула снова.
— Лента за второе.
И в третий раз:
— Лента за третье!
Я смутно удивился, почему не ощущаю ударов. Ничего не чувствовал, все тело застыло, как будто холод сгустился в нем. Холод медленно вползал в мозг, цепенил его, морозил мысли. Дахут сказала:
— Вставай!
Я медленно встал. Она вскочила на жеребца. Сказала:
— Подними левую руку.
Я поднял ее, и она обвила ее свей плетью, как кандалами.
Она сказала:
— Посмотри. Мои собаки кормятся.
Я посмотрел. Теневые псы гонялись по лугу за теневыми существами, которые убегали, перескакивали от куста к кусту, визжали, пищали в ужасе. Псы догоняли их, рвали на клочья.
Она сказала:
— Ты тоже будешь… кормиться.
Она подозвала собак, и они прекратили охоту и подбежали к ней.
Холод охватил мой мозг. Я не мог думать. Видеть я мог, но почти не понимал увиденного. У меня не осталось воли, я полностью подчинился ее воле.
Жеребец пошел в аллею, я побежал рядом с ним, удерживаемый петлей Дахут, как беглый раб. У ног моих бежали собаки, их глаза сверкали красным. Но больше это не имело значения.
Оцепенение все усиливалось, и я знал только, что бегу, бегу…
И тут последние остатки сознания оставили меня.
19. «ПОЛЗИ, ТЕНЬ!»
Я не чувствовал своего тела, но мозг мой был жив. У меня как будто не было тела. Мне показалось, что холодный яд от клыков теневых собак все еще грызет меня. Но мозг от него очистился. Я мог слышать и видеть.
Но видел я только зеленую полумглу, как будто лежу на дне океанской бездны и смотрю вверх сквозь бесконечно толстый слой неподвижной, кристально прозрачной зеленой воды. Я плыл глубоко в неподвижном море, но слышал, как надо мной шепчут и вздыхают волны.
Я начал подниматься, плыть вверх сквозь глубины к шепчущим вздыхающим волнам. Их голоса становились все яснее. Они пели странную старинную песню, морскую песню, которая старше человека… пели ее под размеренный ритм крошечных колокольчиков, медленно бьющих под поверхностью моря… мягко звучали струны морских арф, розовато–лиловые, фиолетовые, желтые.
Я поднимался вверх, пока звуки колокольчиков и арф не слились в один…
Голос Дахут.
Она была рядом и пела, но я ее не видел. Не видел ничего, кроме зеленой полумглы, и она быстро темнела. Голос Дахут звучал сладко и жестоко, и песня ее была бессловесной… но тяжелой…
— Ползи, тень! Жаждай, тень! Голодай, тень! Ползи, Тень, ползи!
Я попытался заговорить и не смог. Попытался шевельнуться и не смог. А песня ее продолжалась… и ясной была только тяжесть.
— Ползи, тень! Голодай, тень!.. кормись только там и тогда, где и когда я прикажу. Жаждай, Тень!.. Пей только там и тогда, где и когда я прикажу. Ползи, тень… ползи!
Неожиданно я ощутил свое тело. Сначала легкое, потом свинцово тяжелое, а потом – как страшную боль. Я был вне своего тела. Оно лежало на низкой широкой кровати и в комнате, увешанной шпалерами, залитой розовым светом. Свет не проникал в то место, где я находился, скорчившись у ног своего тела. На лице моего тела виднелись три алые полоски – следы хлыста Дахут, и Дахут стояла у головы моего тела, нагая, две толстые пряди волос спускались меж белых грудей. Я знал, что мое тело не мертво, но Дахут не смотрела на него. Она смотрела на меня… кем бы я ни был… а я сидел скорчившись у ног своего тела.
— Ползи, тень… ползи… ползи… ползи, тень… ползи…
Комната, мое тело и Дахут исчезли именно в такой последовательности. Я полз, полз сквозь тьму. Как будто ползешь сквозь туннель, потому что вверху, внизу и по обе стороны от меня было нечто твердое. И наконец, как в конце туннеля, чернота передо мной начала светлеть. Я выполз из черноты.
Я находился на самом краю стоячих камней, на пороге монолитов.
Луна спустилась низко, и монолиты на ее фоне были черными.
Ветер не ослабевал и понес меня, как листок, среди камней. Я подумал: «Кто я такой, если ветер несет меня, как листок?» Я чувствовал негодование, гнев. И подумал: «Гнев тени!»
Я был возле одного из стоячих камней. Хоть он и черен, но тень, прислонившаяся к нему, еще чернее. Это тень человека, хотя никакое тело ее не отбрасывает. У других монолитов тоже тени… и каждая по колено в земле. Ближайшая ко мне тень задрожала, как будто отброшенная пламенем свечи на ветру. Она склонилась ко мне и прошептала:
— У тебя есть жизнь. Живи, тень… и спаси нас!
Я прошептал:
— Я тень… тень, как и вы… как я могу спасти вас?
Тень у камня раскачивалась.
— У тебя есть жизнь… убей… убей ее… убей его.
Тень у камня за мной прошептала:
— Убей… ее… первой.
От всех монолитов слышался шепот:
— Убей… убей… убей…
Ветер подул сильнее и понес меня, как листок, к основанию Пирамиды. Шепот теней, прикованных к монолитам, стал резким, он сражался с ветром, увлекающим меня в Пирамиду… создавал барьер между мной и Пирамидой… оттягивал меня назад, дальше от монолитов.
Пирамида и монолиты исчезли. Луна исчезла, и исчезла знакомая земля. Я был тенью… в земле теней…
Здесь нет ни звезд, ни луны, ни солнца. Только слабо светящаяся полумгла заполняет этот мир, и все в этом мире тусклое, пепельное и черное. Я один стою на обширной равнине. Нет ни перспективы, ни горизонта. Всюду я как будто смотрю на обширный экран.
Но я знаю, что в этом странном мире есть и глубины, и расстояния. Я тень, смутная, нематериальная. Но могу видеть и слышать, могу осязать. Я знаю это, потому что сжал руки и ощутил их, а во рту у меня горький вкус пепла.
Передо мной теневые горы, нарезанные, как гигантские ломти черного гагата, они отличаются друг от друга только степенью черноты.
Кажется, я могу протянуть руку и коснуться их, но я знаю, что они очень далеко. Мои глаза… мое зрение… то, что служит зрением в этом теневом мире… обострилось. Я по колено в мрачной серой траве, усеянной цветами, которые должны бы быть небесно–голубыми, но которые на самом деле печально серые. Теневые лилии, которые должны быть алыми и золотыми, раскачиваются на ветру, которого я не ощущаю.
Я слышу над собой тонкий жалобный крик. Теневые птицы летят к далеким горам.
Они пролетают, но крик остается… он становится голосом… голосом Дахут:
— Ползи, тень! Голодай… тень!
Мой путь лежит к горам, теневые птицы указали мне его. У меня мятежный порыв:
— Я не послушаюсь. Это иллюзия. Останусь на месте…
Безжалостный голос Дахут:
— Ползи, тень! Узнай, реален ли это мир.
И я иду по сумрачной траве к черным горам.
За мной послышался приглушенный топот копыт. Я обернулся. Теневая лошадь скачет ко мне, большой боевой конь. На нем вооруженная тень, тень рослого мужчины, широкоплечего, с мощным телом, лицо у него открытое, но все тело от шеи до ног в кольчуге; на поясе боевой топор, а за спиной длинный обоюдоострый меч. Конь близко, но его топот по–прежнему звучит глухо, как отдаленный гром.
Я увидел, что за вооруженным человеком скачут другие теневые всадники, прижав головы к теням низкорослых лошадей.
Вооруженный человек остановил около меня коня, посмотрел, на его теневом лице слабо блестели карие глаза.
— Незнакомец! Клянусь нашей госпожой, я не оставляю отставшего солдата волкам! Садись, тень… садись!
Он протянул руку и поднял меня, усадил на спину лошади за собой.
— Держись крепче! – крикнул он и пришпорил своего серого коня. Мы быстро поскакали.
И скоро оказались вблизи черных гор.
Открылось ущелье. У входа в него он остановился, оглянулся, сделал презрительный жест и рассмеялся:
— Теперь они нас не догонят.
Прошептал:
— Не знаю, почему моя лошадь так устала.
Он обратил ко мне свое теневое лицо.
— Знаю… в тебе слишком много жизни, тень. Тот, кто отбрасывает тебя… не мертв. Но тогда что ты здесь делаешь?
Он повернулся, снял меня с лошади и поставил на землю.
— Смотри! – он указал мне на грудь. Здесь была нить блестящего серебра, тонкая, как паутинка, она отходила от груди… тянулась в ущелье… указывала путь, по которому я должен идти… она исходила будто из моего сердца…
— Ты не мертв! – Теневая жалость была в его взгляде – Значит, ты должен голодать, должен жаждать; пока не наешься и не напьешься там, куда приведет тебя нить. Полутень, меня послала сюда ведьма – Беренис де Азле из Лангедока. Но тело мое давно превратилось в прах, и я давно уже смирился с участью тени. Давно, говорю я… но здесь никто не знает времени. Мой год был годом 1346 нашего Господа. А каков твой год?
— Почти шесть столетий спустя, – сказал я.
— Как долго… как долго… – прошептал он. – Кто послал тебя сюда?
— Дахут из Иса.
— Царица теней! Ну, она многих сюда послала. Прости, полутень, но дальше я не смогу тебя везти.
Неожиданно он хлопнул себя по бокам и захохотал:
— Шестьсот лет, а у меня по–прежнему есть возлюбленные. Теневые, правда, но я и сам тень. И я все еще могу сражаться. Беренис, спасибо тебе. Святой Франциск, пусть Беренис не так жарко придется в аду, где она, несомненно, находится.
Он наклонился и хлопнул меня по плечу.
— Но убей свою ведьму, полубрат, если сможешь!
Он въехал в ущелье. Я направился за ним пешком. Вскоре он исчез из вида. Не знаю, долго ли я шел. В этом мире действительно нет времени. Я вышел из ущелья.
Черные горы окружали сад, полный бледных лилий. В центре его глубокий черный пруд, в котором плавали другие лилии, черные, серебристые и ржаво–черные. Пруд окружен черным гагатом.
Здесь я ощутил первый укус ужасного голода, первую боль ужасной жажды.
На широком гагатовом парапете лежали семь девушек, тускло–серебристых теней… изысканно прекрасных. Обнаженные… одна опиралась головой на туманные руки, на ее теневом лице блестели глубоким сапфиром глаза… другая сидела, опустив стройные ноги в черный пруд, и волосы ее были чернее его вод, черной пены еще более черных волн… и из черного тумана ее волос на меня смотрели глаза, зеленые, как изумруды, но мягкие, как обещание.
Они встали, все семь, и подплыли ко мне.
Одна сказала:
— В нем слишком много жизни.
Другая:
— Слишком много, но – недостаточно.
А третья:
— Он должен поесть и напиться, а когда он вернется, посмотрим.
Девушка с сапфирово–голубыми глазами спросила:
— Кто послал тебя сюда, тень?
Я ответил:
— Дахут Белая. Дахут из Иса.
Они отпрянули от меня.
— Тебя послала Дахут? Тень, ты не для нас. Тень, проходи.
Ползи, тень!..
Я сказал:
— Я устал. Позвольте мне немного отдохнуть здесь.
Зеленоглазая девушка сказала:
— В тебе слишком много жизни. Если бы у тебя ее совсем не было бы, ты бы не уставал. Только жизнь утомляет.
Голубоглазая девушка прошептала:
— Жизнь – это только усталость.
— Я все равно отдохну. Я проголодался и хочу пить.
— Тень, в которой слишком много жизни. Здесь тебе нечего есть, здесь тебе нечего пить.
Я указал на пруд.
— Я выпью это.
Они рассмеялись.
— Попробуй, тень.
Я лег на живот и перегнулся лицом к черной воде. Поверхность пруда отступила от меня. Она отступила от моих губ… это была всего лишь тень воды… и я не мог ее пить.
Жаждай, тень… пей только там и тогда, где и когда я тебе прикажу…
Голос Дахут!
Я сказал девушкам:
— Позвольте мне отдохнуть.
Они ответили:
— Отдыхай.
Я присел на черный гагат. Девушки отодвинулись от меня, стеснились, переплели теневые руки, шептались. Хорошо было отдыхать, хотя спать мне не хотелось. Я сидел, сжимая руками колени, опустив голову на грудь. Одиночество опустилось на меня, как одеяние, накрыло меня. Девушка с сапфирными глазами скользнула ко мне. Обняла меня за плечи, прижалась ко мне.
— Когда поешь и напьешься, возвращайся ко мне.
Не знаю, долго ли я лежал у черного пруда. Но когда наконец встал, серебристых девушек не было. Вооруженный мужчина сказал, что в этой земле нет времени. Он мне понравился, этот воин. Я хотел бы, чтобы его лошадь была достаточно сильна, чтобы нести меня вместе с ним. Голод мой усилился, жажда тоже. Снова я нагнулся и попытался захватить воды из пруда. Теневая вода не для меня.
Что‑то тянуло меня, тащило дальше. Серебряная нить, она сверкала, как нить живого света. Я пошел за ней.
Горы остались позади. Теперь я шел по обширному болоту. Призрачные кусты росли по сторонам опасной тропы, в них прятались теневые фигуры, невидимые, но ужасные. Они смотрели на меня, и я знал, что должен идти осторожно: неверный шаг может погубить меня.
Над болотом навис туман, серый мертвый туман, который сгущался, когда прятавшиеся существа высовывались… или устремлялись вперед по тропе, чтобы ждать моего приближения. Я чувствовал на себе их взгляды, холодные, мертвые, злобные.
Показалось небольшое возвышение, поросшее призрачными папоротниками, в них скрывались другие теневые фигуры, они толкали друг друга, теснились и следовали за мной, а я продолжал свой путь мимо призрачных кустарников. И с каждым шагом все сильнее становилось чувство одиночества, мучительнее голод и жажда.
Я миновал ворота и вышел на тропу, которая быстро расширилась, превратившись в большую дорогу. Эта дорога, извиваясь, тянулась по безграничной облачной равнине. По дороге двигались другие тени, тени мужчин и женщин, старых и молодых, тени детей и животных… но ни одной тени нечеловеческой или неземной.
Они напоминали фигуры, состоящие из густого тумана, замерзшего тумана. Они шли быстро и медленно, стояли и бежали, группами и в одиночку. Когда они обгоняли меня или я обгонял их, я чувствовал на себе их взгляды.
Казалось, они представители всех времен и народов, эти теневые люди. Тут и худой египетский жрец, на плече которого сидела теневая кошка; при виде меня она изогнула спину и беззвучно зашипела… три римских легионера, на их головах более темным туманом круглые, тесно прилегающие шлемы; проходя мимо, они подняли теневые руки в древнем приветствии.
Греческие воины в шлемах с теневыми плюмажами, теневые женщина, которых несли в носилках теневые рабы… однажды мимо прошла группа маленьких людей на волосатых маленьких пони; на спинах у людей призрачные луки, раскосые глаза смотрят на меня… а вот и тень ребенка, которая долго шла рядом со мной, протягивая руки к огненной лини, которая вела меня… тащила меня… куда?
Дорога шла все дальше и дальше. Она все более заполнялась тенями людей, и я увидел, что многие идут и навстречу мне. Потом справа от меня, на туманной равнине, начал разгораться тусклый свет… как сверкание огней святого Эльма, огней мертвых… среди монолитов.
Свет превратился в ущербную луну, которая лежала на равнине, как огромные ворота. Она бросала на равнину дорожку пепельного света, и теневые люди с дороги устремились на эту дорожку. Не все. Одна тень остановилась возле меня; с мощным телом; в конической шапке с плюмажем, с плащом, который развевался на ветру, не ощутимом для меня; этот ветер будто стремился разорвать большое тело в клочья. Человек прошептал:
— Пожиратель теней ест много.
Я повторил:
— Пожиратель теней?
И почувствовал на себе его внимательный взгляд. Он ответил голосом, в котором слышался шорох гниющих ядовитых листьев:
— Хе–хе–хе… девственник! Новорожденный в этом восхитительном мире! Ты ничего не знаешь о Пожирателе теней? Хе–хе–хе.. но это единственная форма смерти в этом мире, и те, кто устал от него, идут туда. Ты этого еще не понимаешь, потому что он еще не проявил себя полностью. Глупцы! – прошептал он яростно. – Они должны были научиться, как научился я, получать пищу в том мире, откуда пришли. Не теневую пищу… нет, нет, нет… настоящую плоть, тело и душу… душу, хе–хе–хе!
Теневая рука ухватилась за сверкающую нить и отдернулась, как обожженная… большая тень скорчилась от боли. Шелестящий голос стал злобным высоким воем.
— Ты идешь на свой брачный пир… у своей брачной постели… прекрасный стол из плоти, тела и души… из жизни. Возьми меня с собой, новобрачный; возьми меня с собой. Я многому могу научить тебя! А цена – несколько крошек с твоего стола… лишь малая доля твоей невесты.
Что‑то собиралось в воротах ущербной луны; что‑то сгущалось на ее сверкающей поверхности… бездонные черные тени собирались в гигантское, лишенное черт лицо. Нет, не лишенное черт: виднелись два отверстия глаз, сквозь которые пробивалось тусклое сияние. Бесформенный разинутый рот, и дергающаяся лента мертвого света высовывалась изо рта, как язык. Язык слизывал тени и уносил их в рот, и губы закрывались за ними… затем снова открывались, и снова высовывался язык…
— О мой голод! О моя жажда и мой голод! Возьми меня с собой, новобрачный… к твоей невесте. Я многому смогу научить тебя… за такую малую плату…
Я ударил бормочущую тень и бежал от ее смертоносного шепота; бежал, закрыв теневыми руками глаза, чтобы не видеть это ужасное лицо…
— Голодай, тень… кормись только там и тогда, где и когда я прикажу. Жаждай, тень… пей только там и тогда, где и когда я прикажу…
Теперь я знал. Знал, куда тянет меня серебряная нить, я рвал ее теневыми руками, но не мог разорвать. Пытался бежать назад, сопротивлялся, но она поворачивала меня и неумолимо тащила вперед.
Я знал… что нахожусь на пути к еде и питью… к своему брачному пиру… к моей невесте – Элен!
Ее тело, ее кровь, ее жизнь должны утолить мой голод и мою жажду.
К Элен!
В теневом мире посветлело. Он стал прозрачнее. В нем появились более тяжелые, темные тени. Они уплотнялись, и земля теней исчезла.
Я был в старом доме. Здесь же Элен, и Билл, и Мак Канн, и человек, которого я не знаю; смуглый худой человек с тонким аскетическим лицом и белоснежными волосами. Но погоди… это ведь Рикори…
Сколько времени пробыл я в теневом мире?
Голоса доносились до меня негромким гудением, слов я не различал. Меня не интересовало, о чем они говорят. Все мое существо было сосредоточено на Элен. Я умирал с голоду от нее, жаждал ее… я должен есть и пить…
Я подумал: «Если я это сделаю… она умрет!» Потом подумал: «Пусть умирает. Я хочу есть и пить».
Она резко подняла голову. Я знал, что она почувствовала мое присутствие. Обернулась и посмотрела прямо на меня. Увидела меня… Я знал, что она меня видит. Лицо ее побледнело… на нем отразилась жалость. Золото ее глаз потемнело от гнева, в котором светилось полное понимание… потом стало нежным. Маленький круглый подбородок затвердел, красный рот с оттенком древности стал загадочным. Она встала и что‑то сказала остальным. Я увидел, как они недоверчиво смотрят на нее, потом осматривают комнату. Кроме Рикори, который смотрел только на нее, его строгое лицо смягчилось. Теперь я стал понимать слова. Элен сказала:
— Я сражусь с Дахут. Дайте мне час. Я знаю, что делаю. – Волна краски залила ее лицо. – Поверьте, я знаю.
Я увидел, как Рикори склонился и поцеловал ее руку; он поднял голову, и на лице его была железная уверенность.
— И я знаю… вы победите, мадонна… а если проиграете, будьте уверены, что я отомщу.
Она вышла из комнаты. Тень, которой был я, поползла за ней.
Она поднялась по лестнице и оказалась в другой комнате. Включила свет, поколебалась, потом закрыла за собой дверь на ключ. Подошла к окну и опустила занавес. Протянула ко мне руки.
— Ты меня слышишь, Алан? Я тебя вижу… еле–еле, но более ясно, чем внизу. Если слышишь, подойди ко мне.
Я дрожал от желания… есть и пить ее. Но голос Дахут звучал в моих ушах, и я не мог не повиноваться:
— Ешь и пей… когда я прикажу тебе.
Я знал, что голод должен стать гораздо сильнее, жажда более поглощающей. Чтобы только вся жизнь Элен могла утолить этот голод и эту жажду. Чтобы, питаясь, я убил ее.
Я прошептал:
— Я слышу тебя.
— И я тебя слышу, дорогой. Иди ко мне.
— Не могу… пока не могу. Мой голод и моя жажда тебя должны стать сильнее… и когда я приду к тебе, ты умрешь.
Она погасила огни, подняла руки и распустила волосы, так что они сверкающими прядями окутали ее до талии. Спросила:
— Что удерживает тебя от меня? От меня, которая тебя любит… от меня, которую ты любишь?
— Дахут… ты знаешь.
— Любимый, я этого не знаю. Это неправда. Никто не может удержать, если ты меня любишь и если я люблю тебя. Это правда… и я говорю тебе: приди ко мне, любимый… возьми меня.
Я не ответил, не мог. И подойти к ней не мог. И все более сильным становился голод, все более безумной жажда.
Она сказала:
— Алан, думай только об одном. Думай только о том, что мы любим друг друга. И никто не удержит нас друг от друга. Думай только об этом. Ты меня понял?
Я прошептал:
— Да. – И постарался думать только об этом, а голод и жажда ее, как два огромных пса, старались сорваться с поводка.
Она сказала:
— Дорогой, ты меня видишь? Ты хорошо меня видишь?
Я прошептал:
— Да.
— Тогда смотри – и иди ко мне.
Я пытался разорвать кандалы, удерживавшие меня, напрягался, как напрягалась бы душа, которую уводят из ада в к воротам рая, как она пыталась бы разорвать свои путы и войти.
— У нее нет над тобой власти. Ничто не разделит нас… иди ко мне, любимый.
Кандалы лопнули… Я был в ее объятиях.
Тень, я ощущал вокруг себя ее мягкие руки… чувствовал тепло ее дыхания… ощущал ее поцелуи на своих теневых губах. Я ели и пил ее… ел ее жизнь… чувствовал, как эта жизнь устремляется в меня… растапливает ядовитый холод теневых собак…
Освобождает меня от теневого рабства…
Освобождает от Дахут!
Я стоял у кровати и смотрел на Элен. Она лежала, бледная и истощенная, полуприкрытая своими красно–золотыми волосами… она умерла? Дахут победила?
Я прижался теневой головой к ее сердцу, прислушался, но не услышал его биения. Любовь и нежность, каких я никогда не испытывал раньше, исходили от меня, накрывая ее. Я подумал: «Эта любовь сильнее смерти… она вернет ей жизнь, которую я отобрал…»
Но я по–прежнему не слышал ее сердцебиения.
Вместе с любовью пульсировало отчаяние. А за ним гнев, более холодный, чем яд теневых собак.
Ненависть к Дахут.
Ненависть к колдуну, называющему себя ее отцом.
Ненависть к обоим, неумолимая, безжалостная, непримиримая.
Ненависть росла. Она смешивалась с жизнью, взятой мной у Элен. Она поднимала меня. На ее крыльях я полетел… прочь от Элен… назад в теневой мир…
И проснулся… уже не тенью.
20. ОТЕЦ ПРОТИВ ДОЧЕРИ
Я лежал на широкой низкой кровати в комнате, завешанной шпалерами и освещенной неярким розовым светом древней лампы. Комната Дахут, из которой она послала меня тенью. Руки мои были скрещены на груди, и что‑то их связывало. Я поднес их к глазам и увидел колдовские кандалы – витой бледно–золотой волос, волос Дахут. Я разорвал его. Ноги у меня были связаны такими же кандалами, я разорвал и их. Слез с кровати. На мне была белая хлопчатобумажная одежда, как та, которую я носил во время жертвоприношения. Я с отвращением сорвал ее с себя. Над туалетным столиком зеркало – в нем мое лицо с тремя полосками от бича Дахут, больше не алыми, а бледными.
Сколько времени я находился в теневом мире? Достаточно, чтобы вернулся Рикори… но насколько дольше? И еще важнее – сколько времени прошло после встречи с Элен? На часах около двенадцати. Неужели это все та же ночь?
Не может быть. Но время и пространство в теневом мире совсем чуждые. Я преодолел огромные расстояния и все же нашел Элен у самых ворот дома де Кераделя. Потому что был уверен: та старая комната – в доме, снятом Мак Канном.
Очевидно, Дахут не ожидала этого моего возвращения… во всяком случае не так скоро. Я мрачно подумал, что во всем, что касается Дахут и ее отца, я всегда немного опережаю расписание. И еще более мрачно подумал, что это никогда не приводило ни к чему хорошему. Тем не менее, это означает, что и ее темное искусство имеет свои границы… что никакие теневые шпионы не сообщили ей о моем бегстве… что она считает меня еще находящимся во власти ее колдовства, послушного ее воле; считает, что ее приказ все еще удерживает меня, пока стремление к Элен не станет настолько сильным, что убьет ее…
Значит ли это, что она не достигла цели?… что освобожденный слишком рано, я не убил?.. что Элен жива?
Мысль эта как крепкое вино. Я подошел к двери и увидел, что она закрыта на мощные запоры. Но как это может быть, если я в комнате один? Конечно… я пленник Дахут, и она не хотела, чтобы кто‑нибудь имел доступ к моему телу, пока ее нет поблизости. Она закрыла дверь изнутри и ушла через тайный вход. По–видимому, она считает, что я не смогу открыть эти запоры бессильными руками. Я осторожно открыл их и попробовал открыть дверь.
Она подалась. Я медленно и осторожно приоткрыл ее и постоял, глядя в зал и вслушиваясь.
И тут я впервые ощутил беспокойство, смятение, страх старого дома. Он был полон страхом. И гневом. Это ощущение исходило не только от зала – от всего дома. Дом, казалось, чувствует мое присутствие, пытается отчаянно объяснить мне, чего он боится, на что гневается.
Впечатление было настолько сильным, что я закрыл дверь, запер ее и постоял, прижавшись к ней. Комната спокойна, ничего не боится, никаких теней в ней нет, все углы освещены неярким розовым светом.
Дом вторгался в комнату, пытался сообщить мне, чем он встревожен. Как будто восстали призраки всех тех, кто здесь жил, любил и умер… Они в ужасе перед тем, что должно случиться… что‑то невероятно гнусное, отвратительное… злое… какое‑то зло было зачато в этом доме, а его призраки смотрели, не в силах предотвратить его появление… и вот теперь умоляют меня прекратить это зло.
Дом задрожал. Дрожь эта началась где‑то под ним и охватила каждую балку, каждый камень. И тут же то, что умоляло меня, то, что было в ужасе, отступило и устремилось, как мне показалось, к источнику этой дрожи. Снова дом задрожал. Он на самом деле дрожал, я чувствовал это по дрожи двери. Дрожание становилось все сильнее, заскрипели старые балки. Послышался отдаленный ритмичный гром.
Он стих, старый дом продолжал дрожать, скрипели балки. Затем наступила тишина… и снова меня окружили призраки старого дома, в гневе и страхе, они кричали мне, хотели, чтобы я их услышал, понял.
Я их не понимал. Подошел к окну и выглянул. Темная ночь, душная и угнетающая. Далеко на горизонте вспыхнула молния, донесся отдаленный раскат грома. Я быстро осмотрел комнату в поисках какого‑нибудь оружия, но ничего не нашел. Я хотел пробраться в свою комнату, переодеться и затем отыскать Дахут и де Кераделя. Что именно я собираюсь с ними делать, когда найду, я не знал, но твердо намерен был покончить с их колдовством. У меня исчезли всякие сомнения, с чем я имею дело: с колдовством или мастерской иллюзией. Это злая реальность, происходящая от злого искусства, используемого во зло… Никому нельзя позволить владеть такой злой силой… и они устремились к какой‑то жестокой, ужасной кульминации, и им нужно помешать любой ценой.
Призраки старого дома молчали: я получил наконец их сообщение. Они молчали, но страх их не исчез, и они следили за мной. Я подошел к двери. Какое‑то непонятное побуждение заставило меня набросить белую одежду. Я вышел в зал. Он был полон тенями, но я не обратил на них внимания. Ведь я и сам был тенью. Я шел, а они жались ко мне и ползли за мной. Я понял, что тени тоже испуганы, как старый дом, они страшатся чего‑то неизбежного и ужасного, как и призраки, умоляющие меня предотвратить этот ужас…
Снизу доносились голоса, гневный голос де Кераделя, затем смех Дахут, ядовитый, издевающийся, полный угрозы. Я спустился с лестницы. Нижний зал был освещен, но очень слабо. Голоса доносились из гостиной. Очевидно, отец с дочерью спорили, но слова их неразличимы. Я прижался за одним из занавесей, закрывавших вход в гостиную.
И услышал слова де Кераделя, произнесенные ровным, контролируемым голосом:
— Говорю тебе, все готово. Остается принести только последние жертвы… я принесу их сегодня ночью. Для этого ты мне не нужна, дочь моя. И после этого ты мне больше не понадобишься. И ты ничего не можешь сделать, чтобы остановить меня. Достигнут результат, к которому я стремился всю жизнь. Он… он сказал мне. Он… проявится полностью и сядет на свой древний трон. А я, – в голосе де Кераделя звучало тщеславие, огромное, богохульственное, – я буду сидеть рядом с Ним. Он… обещал мне. Темные силы, которых многие века искали люди, силы, которых почти достигли атланты, которые слабо, через Пирамиду, получали в Исе, силы, которых так настойчиво, но тщетно искал средневековый мир, эти силы будут моими. Во всей своей полноте. Во всей своей невероятной мощи.
— Существовал еще один обряд, о котором никто не знал… и Он… научил меня. Да, ты мне больше не нужна, Дахут. Но мне не хотелось бы потерять тебя. И… Он… хочет тебя. Но тебе придется заплатить за это.
Наступила короткая тишина, затем очень спокойный голос Дахут:
— И какова цена, отец?
— Кровь твоего любовника.
Он ждал ответа, я тоже, но она не ответила, и он сказал:
— Мне она не нужна. Я зажал своих нищих. У меня теперь достаточно их крови. Но его кровь обогатит жертву… и будет приемлема для… Него. Он… сказал мне это. Эта кровь усилит его материализацию. И… Он попросил об этом.
Она медленно спросила:
— А если я откажусь?
— Это его не спасет, дочь моя.
Он ждал ответа, затем сказал с деланным злобным удивлением:
— Дахут из Иса опять колеблется между отцом и любовником? Этот человек должен заплатить свой долг, дочь моя. Древний долг: именно ради человека, носившего то же имя, твоя далекая прародительница предала своего отца. Или это была ты, Дахут? Мой долг исправить это древнее зло… чтобы оно случайно не возродилось.
Она негромко спросила:
— А если я откажусь, что станет со мной?
Он рассмеялся.
— Откуда мне знать? Пока меня удерживают отцовские чувства. Но когда я буду сидеть рядом с… Ним… что ты можешь значить для меня? Может, ничего.
Она спросила:
— Какую форму Он примет?
— Любую и все сразу. Нет формы, которую Он не мог бы принять. Но будь уверена, что это не та хаотичная чернота, которая отупляет разум тех, кто ее пробуждает. Ритуалы Пирамиды сдерживают… Его. Нет, нет. Он может даже принять обличье твоего любовника, Дахут. Почему бы и нет? Ты нравишься Ему, дочь моя.
Я похолодел, и ненависть к нему сжала мои виски, как раскаленным железом. Я собрался с силами, чтобы прыгнуть и сомкнуть руки вокруг его горла. Но тени удержали меня, они шептали, и призраки старого дома шептали вместе с ними…
— Еще нет! Еще нет!
Он сказал:
— Будь разумна, дочь моя. Этот человек всегда предавал тебя. Что ты с твоими тенями? Что была Элен Мэндилип с ее куклами? Дети. Дети, играющие игрушками. Тенями и куклами. Пора вырасти, дочь моя. Дай мне кровь твоего любовника.
Она удивленно ответила:
— Ребенок. Я забыла, что когда‑то была ребенком. Если бы ты оставил меня ребенком в Бретани, а не сделал тем, кем я стала.
Он ничего не ответил на это. Она, казалось, ждала ответа, потом спокойно сказала:
— Итак, тебе нужна кровь моего любовника. Что ж, ты ее не получишь.
Послышался стук упавшего стула. Я чуть отодвинул занавес и заглянул. Де Керадель стоял у стола, гневно глядя на Дахут. Но это не лицо и не тело де Кераделя, какими я их знал. Глаза его больше не были бледно–голубыми… они стали черными, и его серебристые волосы почернели, а тело выросло… он протянул к Дахут длинные руки с острыми когтями.
Она бросила что‑то на стол между собой и им. Я не видел, что это, но оно, как волна, покатилось к де Кераделю. Он отскочил и стоял дрожа, глаза его вновь поголубели, но налились кровью. Тело съежилось.
— Берегись, отец! Ты пока еще не сидишь на троне… с Ним. А я все еще из моря, отец. Так что берегись!
Сзади послышался шорох ног. Рядом со мной стоял дворецкий с пустым взглядом. Он начал кланяться, и тут же глаза его приобрели выражение. Он прыгнул на меня, открыл рот, чтобы поднять тревогу. Прежде чем он сумел издать звук, я схватил его руками за горло, нажал на гортань, ударил коленом в пах. С силой, которой и не подозревал у себя, я поднял его за шею в воздух. Он обернул вокруг меня ноги, а я резко ударил его головой в подбородок. Послышался треск, и тело его обвисло. Я отнес его в зал и бесшумно опустил на пол. Вся короткая схватка произошла совершенно бесшумно. Его глаза, теперь совершенно пустые, смотрели на меня. Я обыскал его. На поясе ножны, и в них длинный, изогнутый и острый, как бритва, нож.
Теперь у меня есть оружие. Я закатил тело под диван, прокрался назад к гостиной и заглянул за занавес. Комната была пуста, Дахут и де Керадель ушли.
Я на мгновение снова укрылся за занавесом. Я знал теперь, чего боялись призраки старого дома. Знал, что означает дрожь дома и ритмические удары. Уничтожается пещера жертв. Как это выразился де Керадель? «Я зажал своих нищих, и у меня теперь достаточно их крови» для последнего жертвоприношения. Невольно я вспомнил строки «Апокалипсиса»: «И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь…» Не очень подходит. Я подумал: «Де Керадель прижимает другое точило, чтобы напоить Собирателя». И моя кровь была бы там, если бы Дахут не отказалась!
Но я не испытывал к ней благодарности за это. Она паук, считающий, что муха уже в его паутине, и не допускающий другого паука к своей добыче. Вот и все. Но муха освободилась из паутины, и вовсе не благодаря Дахут. Если ненависть к де Кераделю у меня усилилась, то к Дахут не ослабла.
Тем не менее то, что я слышал, заставило меня изменить планы мести. Рисунок прояснился. Тени ошиблись. Дахут не должна умереть раньше отца. У меня лучший план. Он у меня от владыки Карнака, который, как считала Дахут, умер в ее руках… и который дал мне совет, как когда‑то, давным–давно, дал совет и себе в древнем Исе.
Я пошел вверх по лестнице. Дверь в мою комнату была открыта. Я смело включил свет.
Между мной и кроватью стояла Дахут.
Она улыбнулась, но глаза ее не улыбались. Подошла ко мне. Я направил на нее нож. Она остановилась и рассмеялась, но глаза ее по–прежнему не смеялись. Она сказала:
— Вы так уклончивы, мой возлюбленный. У вас такой дар исчезать.
— Вы говорили мне это и раньше, Дахут. И… – я коснулся своей щеки, – даже подчеркнули это.
Глаза ее затуманились, наполнились слезами, слезы покатились по щекам.
— Вы должны многое простить, Алан. Но я тоже.
Что ж, это правда…
… Берегись… берегись Дахут.
— Откуда у вас нож, Алан?
Этот практичный вопрос укрепил меня; я ответил так же практично:
— От одного из ваших людей, которого я убил.
— И убили бы меня, если бы я подошла ближе?
— А почему нет, Дахут? Вы послали меня тенью в теневую землю, и я усвоил урок.
— Какой урок, Алан?
— Быть безжалостным.
— Но я не безжалостна, Алан, иначе вы не были бы здесь.
— Я знаю, что вы лжете, Дахут. Не вы освободили меня от рабства.
Она сказала:
— Я не это имела в виду… и я не лгу… и хочу испытать вас.
Она медленно двинулась ко мне. Я держал нож наготове. Она сказала:
— Убейте меня, если хотите. Я не очень люблю жизнь. Все, что я люблю, это вы. Если вы меня не любите, убейте.
Она была близко, нож коснулся ее груди. Сказала:
— Ударьте, и покончим с этим.
Рука моя упала.
— Я не могу убить вас, Дахут!
Глаза ее смягчились, лицо стало нежным, но за этой нежностью скрывалось торжество. Она положила руки мне на плечи, потом один за другим поцеловала рубцы от хлыста, говоря:
— Этим поцелуем я прощаю… и этим прощаю… и этим.
Протянула ко мне губы.
— Поцелуйте меня, Алан, и скажите, что прощаете меня.
Я поцеловал ее, но не сказал, что прощаю, и не выпустил нож. Она с дрожью прижалась ко мне, прошептала:
— Скажите… скажите…
Я оттолкнул ее от себя и рассмеялся.
— Почему вам так нужно прощение, Дахут? Зачем вам мое прощение перед тем, как ваш отец убьет меня?
— Откуда вы знаете, что он хочет вас убить?
— Я слышал, как он требовал моей крови только что. Торговался с вами из‑за меня. Обещал замену, которая гораздо больше удовлетворит вас. – Снова я рассмеялся. – Мое прощение – обязательная часть этого воплощения?
Она, задыхаясь, ответила:
— Если вы слышали, то слышали и то, что я вас не отдала ему.
Я солгал.
— Нет, не слышал. Именно тогда ваш слуга вынудил меня убить его. Когда я освободился, чтобы снова подслушивать, точнее говоря, вернулся, чтобы перерезать горло вашему отцу, прежде чем он перережет мое, он ушел. Вероятно, сделка была заключена. Отец с дочерью объединились для достижения одной цели, начали готовить погребальный пир – меня самого, Дахут, накрывать брачный стол. Бережливость, бережливость, Дахут!
Она съежилась под моими насмешками, побледнела. Сказала приглушенно:
— Я не договаривалась. Я не позволю ему забрать вас.
— Почему?
— Потому что люблю вас.
— Но зачем вам нужно мое прощение?
— Потому что я вас люблю. Потому что хочу стереть прошлое, начать все заново, любимый.
На мгновение и у меня появилась двойная память, как будто я эту сцену уже проделывал в мельчайших подробностях: я понял, что это было во сне о древнем Исе, если это был сон. И, как и тогда, она шептала жалобно, отчаянно:
— Ты мне не веришь, любимый… как мне заставить тебя поверить?
Я ответил:
— Выбирай между отцом и мной.
— Но я уже выбрала, любимый. Я сказала тебе… – и прошептала: – Как мне заставить его поверить?
Я ответил:
— Положи конец… его колдовству.
Она презрительно сказала:
— Я его не боюсь. И больше не боюсь того, кого он пробуждает.
Я сказал:
— Но я боюсь. Покончи с его колдовством.
Глаза ее сузились, на мгновение она задумчиво взглянула на меня.
Медленно сказала:
— Для этого есть только один способ.
Я молчал.
Она подошла ко мне, притянула мою голову и взглянула мне в глаза.
— Если я это сделаю… ты простишь меня? Будешь любить меня? Никогда не бросишь меня… как ты некогда сделал… давным–давно, в Исе… тогда я тоже выбирала между отцом и тобой?
— Я прощу тебя, Дахут. И никогда не покину тебя, пока ты жива.
И это было правдой, и я замкнул свой мозг, чтобы она не могла прочесть моей решимости. И снова, как некогда в Исе, я взял ее на руки… и страсть к ее губам, к ее телу потрясла меня. Я почувствовал, как слабеет моя решимость. Но жизнь, пришедшая ко мне от Элен, была неумолимой, безжалостной, непреклонной… только женщина, которая любит мужчину, может ненавидеть так другую женщину…
Она разжала руки.
— Оденься и жди меня здесь. – И вышла.
Я оделся, но нож из рук не выпустил.
21. ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
Занавес, скрывавший тайный проход, дрогнул, и Дахут появилась в комнате. На ней старинная зеленая одежда, зеленые сандалии, пояс не золотой, но украшенный камнями, в которых меняющийся цвет волны, а на голове венок из морских цветов. На запястье серебряный браслет с черным камнем, на камне алый треножник, символ призывного имени морского бога. Она похожа на дочь бога моря… может, так оно и есть.
Я почувствовал, как слабеет моя решимость. Она подошла ближе, и я посмотрел ей в лицо. Она не улыбалась, рот ее был жесток, и дьявольские огоньки плясали в глазах.
Она подняла руки и пальцами закрыла мне глаза. Прикосновение ее пальцев подобно морской пене.
— Пошли! – сказала она.
Призраки старого дома шептали:
— Иди с ней… но берегись!
Тени шептали:
— Иди с ней… но берегись!
Берегись Дахут… Рука моя крепче сжала рукоять ножа.
Мы вышли из дома. Странно, как ясно я все вижу. Небо закрыто тучами, воздух туманный. Я знал, что сейчас темная ночь, но каждый камень, каждый куст, каждое дерево были как будто освещены собственным светом. Дахут шла на расстоянии десяти шагов передо мной, и я никак не мог сократить это расстояние, как ни старался. Она двигалась, как волна, и вокруг нее образовался слабый бледно–зеленый нимб, как неяркое свечение, которое иногда в темноте окутывает волны.
Тени вокруг нас раскачивались, переплетались, плыли друг к другу и друг от друга, как тени большого дерева, раскачиваемого порывистым ветром. Тени следовали за нами, шли по бокам, раскачивались перед нами, но отшатывались от Дахут; и никогда тени не вставали между мною и ею.
Дубы, окружавшие стоячие камни, слабо светились. Но это не огни святого Эльма. Устойчивый, красноватый блеск, как от неподвижного огня. Пения я не слышал.
Дахут не пошла к дубам. Пошла к той скале, которая закрывала стоячие камни со стороны моря. Скоро тропа поднялась на вершину скалы, и передо мною открылось море. Мрачное и темное море, с длинными медленными волнами, падающими на берег.
Тропа привела на вершину, которая на целых двести футов поднималась над волнами. Неожиданно Дахут оказалась на самом верху, она протянула руки к морю. С ее губ сорвался призыв, низкий и нечеловечески прекрасный; в нем слышалась тоска крика чайки, вздохи волн над немыслимыми, неиспорченными глубинами, пение морских ветров. Голос самого моря доносился из горла женщины, но при этом он не утратил своих нечеловеческих качеств и не приобрел человеческих.
Мне показалось, что волны на мгновение застыли, прислушиваясь к этому призыву.
Снова она испустила зов… и еще раз. А потом поднесла руки ко рту и выкрикнула слово… имя.
Из моря, издалека, донесся ревущий ответ. Длинная белая полоса пены устремилась из тьмы, огромная волна, на вершине которой метались сотни грив рассерженных лошадей. Волна ударила о берег и разбилась.
Столб пены взлетел в воздух и коснулся вытянутой руки Дахут. Мне показалось, что из ее руки выпало что‑то, и на мгновение пена окрасилась алым.
Я поднялся к ней. Ни в лице, ни в глазах ее не было и следа нежности. Только торжество… и глаза ее превратились в фиолетовое пламя. Она приподняла полу одежды, пряча от меня свое лицо и глаза.
На руке ее не было браслета Иса!
Она поманила меня, и я пошел за ней. Мы обогнули хребет, и ровное красноватое сияние стало ярче. Я увидел, что за нами движутся огромные волны, над ними вздымаются белые флаги пены, мечутся белые гривы морских коней. Дорога проходила по вершине холма. Впереди, дальше от моря, виднелась еще одна высокая скала. На этой скале Дахут подождала меня. Она стояла, отвернувшись, по–прежнему закрывая лицо тканью. Указала на скалу и сказала:
— Поднимайся – и увидишь. – Холодная пена коснулась моих глаз. – И услышишь. – И пена коснулась ушей.
Дахут исчезла.
Я поднялся на вершину. На самый верх.
Сильные руки схватили меня, прижали к скале. Я смотрел в лицо Мак Канна. Он наклонился ко мне, напряженно всматриваясь, как будто не очень хорошо меня видел. Я воскликнул:
— Мак Канн!
Он недоверчиво выругался. Освободил меня. Кто‑то еще стоял на скале – стройный смуглый человек с худым аскетическим лицом и белоснежными волосами. Он тоже напряженно всматривался в меня, будто ему трудно было меня разглядеть. Странно. Я прекрасно видел их обоих. Я узнал его… он был в старом доме, где кончился мой теневой поиск Элен… Рикори.
Мак Канн, запинаясь, выговорил:
— Карнак… Боже мой, босс, это Карнак!
Я прошептал, готовясь встретить удар:
— Как Элен?
— Жива.
Ответил Рикори.
Я ослаб от реакции и упал бы, если бы он меня не поддержал.
Новый страх охватил меня:
— Она будет жить?
Он ответил:
— Произошло странное… происшествие. Мы оставили ее в полном сознании. Она становится все крепче. С ней ее брат. Все, что ей нужно, это вы. Вы ее герой и должны вернуться к ней.
Я сказал:
— Нет. Пока не…
Порыв ветра заставил меня закрыть рот, как будто его ударили рукой. Волна ударила в скалу, заставив ее вздрогнуть. Я почувствовал на лице пену, и это было как хлыст Дахут, как ее холодные пальцы у меня на глазах…
Неожиданно Мак Канн и Рикори показались мне нереальными и теневыми. Сияющее тело Дахут виднелось на тропе между морем и хребтом, и в сердце своем я услышал голос – голос владыки Карнака и мой собственный:
— Как я могу убить ее, хоть она и зло?
Голос Рикори… давно ли он говорит?
– … и вот, когда прошлой ночью вы не пришли, я решил, как вы и предлагали, действовать по своему усмотрению. Убедившись в том, что она в безопасности, мы пошли сюда. Убедили… охранников у ворот пропустить нас. Они больше ничего не будут охранять. Увидели огни и решили, что вы где‑нибудь поблизости. Распределили наших людей, а мы с Мак Канном случайно оказались на этом превосходном наблюдательном пункте. Ни вас, ни Дахут мы не видели…
Дахут!.. Еще одна волна ударила о скалу и заставила ее задрожать, потом откатилась с криком… с криком – Дахут! Еще одна заревела у скалы… заревела – Дахут!
Рикори говорил:
— Они там внизу ждут нашего сигнала…
Я прервал его, внезапно уловив смысл сказанного:
— Сигнала к чему?
Он указал на внутренний край скалы, и я увидел, что из‑за нее виднеется ржавое зарево. Я подошел к краю и посмотрел вниз…
И ясно увидел Пирамиду. Я подумал:
— Какой странно близкой она кажется. И как четко видны монолиты.
Как будто Пирамида находилась всего в нескольких ярдах от меня… и де Керадель стоит так близко, что я могу протянуть руку и коснуться его. Я знал, что между мною и пирамидой много стоячих камней и что туда не менее тысячи футов. Но я не только видел Пирамиду так, будто стою в нескольких футах от нее. Я видел и внутри нее.
Странно также, что хотя на скале ветер ревел и сбивал нас с ног, у пирамиды огни горели ровно; они начинали колебаться, только когда их подкармливали, сбрызгивали из черных кувшинов.. и хоть ветер, казалось, дул со стороны моря, дым от костров уходил навстречу ему.
И странно, как тихо среди монолитов, а рев ветра и гром волн становятся все громче… молнии вспыхивают все ярче, но пламя костров от этого не меркнет, и рев волн не вторгается в тишину равнины…
Те, кто подкармливал огни, были не в белом, а в красном. И де Керадель тоже в красной одежде, а не в белой, как во время прошлого жертвоприношения.
На нем черный пояс, но движущиеся символы на нем блестят не серебром, но красным…
Всего десять костров окружают три алтаря перед входом в Пирамиду. Каждый чуть выше человеческого роста, и все горят коническим, неподвижным пламенем. Из вершины каждого костра поднимается столб дыма. Толщиной в руку человека, эти столбы поднимаются прямо на двойную высоту костра и затем изгибаются, устремляясь к порогу Пирамиды. Как десять черных артерий, отходящих от десяти сердец, и они перевиты алыми нитями, словно кровавыми сосудами.
Почерневший камень с углублением закрыт большим костром, горящим не только красным, но и черным. И пламя это, в отличие от остальных, не неподвижно. Оно медленно и ритмично пульсирует, как будто и на самом деле это сердцем. Между ним и большой гранитной плитой, на которую укладывали жертвы, стоит де Керадель.
Что‑то лежало на поверхности камня жертвоприношений, накрывая его. Вначале мне показалось, что там лежит человек, гигант. Потом я увидел, что это огромный сосуд, странной формы. Чан.
Я не видел, что в нем. Он был наполовину заполнен свернувшейся красновато–черной жидкостью, на поверхности которой плясали крошечные огоньки. Не бледные и мертвенные, как огни святого Эльма, а алые и полные злой жизнью. Именно из этого чана наполняли свои кувшины люди, подкармливавшие огни. И отсюда брал де Керадель то, чем обрызгивал пульсирующее пламя… и его руки были красны от этого.
На пороге Пирамиды стоял другой сосуд, большая чаша, похожая на крещенскую купель. Она была полна, и по ее поверхности пробегали алые огоньки. Дым от меньших огней, десять алых артерий, сливался с более толстым столбом, поднимавшимся от пульсирующего огня, и все они, смешавшись, устремлялись в Пирамиду…
Тишину на равнине нарушил шепот, слабый вопль, и от основания монолитов начали подниматься тени. Они вставали на колени… их вырывало из земли, со стонами, с воплями втягивало в пирамиду… они пытались сбежать, но их несло к Пирамиде, било о нее.
А в Пирамиде был Собиратель… Чернота.
Я с самого начала знал, что Он здесь. Он больше не был бесформенным, туманным – часть чего‑то неизмеримо большего, живущего в космосе и вне космоса. Собиратель высвобождался… принимал форму. Маленькие алые огоньки пробегали в нем, как частицы злой крови. Он конденсировался, становился материальным.
Купель перед Пирамидой опустела. Де Керадель вновь наполнил ее из чана… и снова… и снова. Собиратель пил из купели и питался тенями и дымом костров, которых подкармливали кровью. И становился все более четким.
Я отступил, закрывая глаза.
Рикори спросил:
— Что вы увидели? Я вижу там, далеко, только людей в красном, они поддерживают костры… и еще один стоит перед каменным сооружением… а вы что видите, Карнак?
Я прошептал:
— Я вижу вход в ад.
Я заставил себя еще раз взглянуть на то, что рождалось в каменном чреве Пирамиды… и стоял, не в силах отвести взгляд… услышал собственный голос, кричащий:
— Дахут!.. Дахут!.. пока еще не поздно!
И как бы в ответ море стихло. На хребте слева от нас появился яркий зеленый свет… далеко ли до него, я не мог сказать с тем колдовским зрением, которое дала мне Дахут. Свет стал овальным изумрудом.
Он стал… Дахут!
Дахут… одетая в бледно–зеленые морские огни, глаза ее как фиолетовые морские бассейны, широкие, такие широкие, что их окаймляет белое; ее стройные черные брови – как брус над ними; лицо белое, как пена, жестокое и насмешливое; волосы как серебряная морская пена. Она казалась так же близко от меня, как и де Керадель. Как будто она стоит прямо над Пирамидой… может дотянуться до нее и коснуться де Кераделя. Для меня этой ночью, как и в теневой земле, не существовало расстояний.
Я схватил Рикори за руку, показал и прошептал:
— Дахут!
Он ответил:
— Я вижу там далеко какую‑то светящуюся фигуру. Мне показалось, что это женщина. Когда вы меня держите за руку, я вижу ее яснее. Что вы видите, Карнак?
— Я вижу Дахут. Она смеется. Глаза ее не похожи на женские… лицо тоже не женское. Она смеется, говорю я… разве вы не слышите этого, Рикори? Она кричит де Кераделю… голос ее сладок и жесток… как море! Она кричит: «Отец мой, я здесь!» Он видит ее… Существо в Пирамиде знает о ней… де Керадель кричит ей: «Слишком поздно, дочь моя!» Он насмешлив, презрителен… но Существо в Пирамиде нет. Оно напрягается… торопится завершить свое формирование. Дахут снова кричит: «Родился ли мой жених? Выполнена ли работа? Успешно ли действовала повитуха? Получу ли я спутника в постель?» Разве вы не слышите этого, Рикори? Она как будто стоит рядом со мной…
Он сказал:
— Я ничего не слышу.
— Мне не нравятся эти шутки, Рикори. Они… ужасны. И Существу в Пирамиде они не нравятся… хотя де Керадель смеется. Существо высовывается из Пирамиды… оно тянется к чану и камню жертвоприношений… Оно пьет… растет… Боже! Дахут! Дахут!
Как будто услышав, сияющая фигура подняла руку… протянула ко мне… я почувствовал прикосновение ее пальцев к своим глазам и ушам, губы ее коснулись моих. Она посмотрела на море и широко развела руки.
Выкрикнула Имя, негромко… ветер на море стих… Снова, как будто имела право вызывать… волны стихли… и в третий раз – торжествующе.
Крик волн, гром прибоя, рев ветра, весь шум моря и воздуха смешались в могучем диапазоне. Все смешалось в хаотическом вопле, первобытном, страшном. Неожиданно все море покрылось гривами белых морских коней… армией белых морских коней… белых коней Посейдона… ряд за рядом эти кони устремлялись из глубины океана и обрушивались на берег.
Над более низкими возвышенностями, между скалой, на которой стояла Дахут, и вершиной, на которой стоял я, выросла стена воды, она поднималась, быстро и целеустремленно. Поднимаясь, она меняла форму… набирала силу. Все выше и выше, на сто футов, двести футов над скалами. Остановилась, вершина ее стала плоской. Ее вершина превратилась в гигантский молот…
А за ней показалась гигантская туманная фигура, голова ее скрывалась в облаках и была увенчана молниями.
Молот обрушился, ударил на Существо в Пирамиде, на де Кераделя и одетых в красное людей с пустыми глазами, на монолиты.
Пирамиду и монолиты скрыла вода, кипящая, бьющая струями, разбивающая камни. Она переворачивала эти камни, бросала их.
На мгновение послышался нечеловеческий вопль их глубины Пирамиды, и я увидел, как Чернота, укутанная алыми огоньками, извивается под ударом молота воды. Мириадами рук бьется она в воде. И исчезает.
Вода устремилась назад. Она завихрялась вокруг нас, уходя, мы стояли по колено в воде.
Она уходила… со смехом.
Снова поднялась гора, увенчанная молотом, снова обрушилась на Пирамиду и стоячие камни. а этот раз воды зашли так далеко, что под их напором падали дубы… и снова они отступили… и снова поднялись и ударили… и я увидел, как исчез старый дом со всеми его призраками.
И все это время морская Дахут стояла неподвижно. Ее безжалостный смех покрывал рев моря и удары громящего молота.
Назад устремились последние воды. Дахут протянула ко мне руки, крикнула:
— Алан… иди ко мне, Алан!
И я ясно увидел тропу между собой и ею. Как будто Дахут была рядом. Но я знал, что это не так, что это колдовское зрение, которым она меня наделила, позволяет так видеть.
Я сказал:
— Удачи, Мак Канн… удачи, Рикори… Если я не вернусь, скажите Элен, что я ее любил.
— Алан… иди ко мне, Алан!
Рука моя упала на ручку длинного ножа. Я крикнул:
— Иду, Дахут!
Мак Канн схватил меня. Рикори отбросил его руки.
Он сказал:
— Пусть идет.
— Алан… иди ко мне…
Воды стремились назад, через скалы. Водоворот обернулся вокруг Дахут. Поднял ее высоко… высоко…
И вдруг со всех сторон на нее набросились тени… били ее, бились о нее, толкали ее назад… в море.
Я видел, как на лице ее появилось изумление, затем гнев, потом ужас… и отчаяние.
Вода неслась в море, и с нею Дахут, а тени топили ее…
Я услышал собственный крик:
— Дахут! Дахут!
Подбежал к краю скалы. Сверкнула яркая молния. В ее свете я увидел Дахут… лицо поднято, волосы раскинулись, как серебряная сеть, глаза широкие и полные ужаса… умирающие.
А тени топили ее, толкали под воду, вглубь… вглубь…
Колдовское зрение быстро слабело. Но колдовской слух все еще был со мной.
Прежде чем зрение совсем ушло, я увидел де Кераделя. Он лежал на пороге Пирамиды, раздавленный ее камнями. Камни раздавили грудь и сердце де Кераделя, как он это делал с жертвами. Видны были только его руки и голова… лицо смотрит вверх, мертвые глаза полны ненавистью… мертвые руки протянуты в… проклятии или мольбе…
Пирамида плоская, и нет ни одного стоячего камня.
Колдовское зрение и колдовской слух исчезли. Вокруг было темно, только сверкали молнии. Море темное, белеют только верхушки волн. И слышен шум волн, ничего больше. Ветер – обычный шум ветра.
Дахут мертва.
Я повернулся и спросил Рикори:
— Что вы видели?
— Три волны. Они уничтожили все внизу. Убили моих людей.
— Я видел гораздо больше, Рикори. Дахут мертва. Все кончено, Рикори. Дахут мертва, и ее колдовство кончилось. Нужно ждать здесь до утра. Тогда сможем вернуться… к Элен…
Дахут мертва.
Как в старину, давным–давно в Исе… ее убили ее тени и ее злоба… убило море… и я.
Смог ли бы я убить ее ножом, если бы добрался раньше волны?
Цикл замкнулся и кончился, как в старину, давным–давно, в Исе…
Море очистило землю от ее колдовства, как очистило давным–давно Ис.
Оставалась ли в Карнаке Элен, когда я выступил из него, чтобы убить Дахут?
Очистила ли она меня от воспоминаний от Дахут, когда я к ней вернулся?
Сможет ли это сделать Элен?
Корабль Иштар
1. ПОЯВЛЕНИЕ КОРАБЛЯ
Облачко странного запаха по спирали поднималось над большим каменным блоком. Кентон почувствовал, как оно будто ласковой ладонью коснулось его лица.
Он отчетливо ощущал этот запах – незнакомый аромат, слегка беспокоящий, воскрешающий в памяти чуждые ускользающие образы, отрывки мыслей, что исчезали, прежде чем мозг мог уловить их, – ощущал с того самого мгновения, как снял упаковку с предмета, который старый археолог Форсит прислал ему из песчаных склепов давно мертвого Вавилона.
Он снова мысленно измерил блок – четыре фута в длину, несколько больше в высоту, немного меньше в ширину. Выцветшего желтого цвета, столетия висели на нем, как полупрозрачное одеяние. Надпись только на одной стороне, десяток параллельных линий архаичной клинописи; если Форсит не ошибся в своем толковании, надпись сделана во времена правления Саргона Аккадского, шесть тысяч лет назад. Поверхность камня оббита, усеяна трещинами, знаки в форме клиньев повреждены, почти неразличимы.
Кентон склонился ниже, аромат стал сильнее, его спирали цеплялись, как десятки щупалец, как маленькие пальцы, тоскующие, просящие, умоляющие…
Умоляющие об освобождении!
Что за вздор! Кентон распрямился. Рядом лежал тяжелый молоток; Кентон схватил его и нетерпеливо ударил.
Послышался звук; он становился громче; еще громче, в нем прозвучали музыкальные тона, будто заговорили где‑то далеко нефритовые колокольчики.
Звук прекратился, остался только высокий колокольный перезвон; колокольчики звучали все яснее, все ближе, они приближались по бесконечным коридорам времени.
Потом резкий треск. Блок раскололся. Оттуда запульсировало сияние розового перламутра, а вместе с ним – волна за волной аромата, больше не вопрошающего, не тоскующего, не умоляющего.
Теперь он был ликующим! Триумфальным!
Что‑то скрывается в блоке! Что‑то пролежало в нем шесть тысяч лет, со времен Саргона Аккадского!
Снова прозвучали нефритовые колокольчики. Снова они просили о чем‑то, потом повернули и понеслись назад, по бесконечным коридорам времени. Стихли, и тут же блок стал опадать; исчез; превратился в кружащееся, медленно оседающее облако сверкающей пыли.
Облако вращалось, водоворот сверкающего тумана. И исчезло, как будто отдернули занавес.
В блоке находился – корабль!
Он плыл на пьедестале волн из лазурита, верхушки волн белели молочным горным хрусталем. Корпус корабля тоже из хрусталя, кремового и слегка прозрачного. Нос в виде ятагана, круто изогнутого назад. Под загнутым назад концом ятагана каюта, ее обращенные к морю стены, как у галеонов, образованы высоко поднятыми на носу бортами. Там, где борта поднимались, образуя каюту, начиналось легкое сияние, согревавшее туманный хрусталь; оно становилось сильнее по мере подъема бортов; ярко сверкало на самом верху, превращая каюту в розовый драгоценный камень.
В центре корабля, занимая треть его длина, находилась гребная яма; к ней от розовой каюты спускалась палуба цвета слоновой кости; часть палубы, шедшая к корме по другую сторону ямы, черная. На корме другая каюта, больше, чем на носу, но приземистая и тоже черная. Обе части палубы широкими платформами тянулись по бокам гребной ямы. Посреди корабля белая и черная части палубы встречались, при этом возникало странное впечатление соперничества, борьбы. Они не смешивались, не переходили друг в друга. Обрывались резко, край к краю, враждебно.
Из ямы поднималась высокая мачта; заостренная и зеленая, как сердцевина огромного изумруда. На рее размещался широкий парус, светящийся, будто сделанный из огненных опалов; от мачты и реи спускались снасти тусклого золота.
По обе стороны корабля по одному ряду больших весел – их семь, их алые лопасти погружены в перламутровую лазурь волн.
И драгоценный корабль имел экипаж! Почему, удивился Кентон, он не заметил этого раньше?
Как будто крошечные фигурки только что появились на палубе… женщина выскользнула из двери розовой каюты, ее рука еще протянута к закрывающейся двери… и еще женские фигуры на белой палубе, их три, они сидят… головы низко опущены; две держат арфы, третья – двойную флейту…
Маленькие фигурки, не больше двух дюймов в высоту…
Игрушки!
Странно, но он не может различить ни черты лица, ни детали одежды. Фигурки нечеткие, как будто на них наброшена вуаль. Кентон сказал себе, что виной тому его глаза; на мгновение закрыл их.
Открыл их, взглянул на черную каюту и почувствовал все растущее недоумение. Когда корабль появился, черная палуба была пуста – он готов поклясться в этом.
Теперь здесь, на самом краю ямы, виднелись четыре куклы.
А сбивающая с толку дымка вокруг игрушек все гуще. Конечно, виной его глаза – что же еще? Надо лечь и дать им отдохнуть немного. Он неохотно повернулся, медленно пошел к двери, остановился в нерешительности, оглядываясь на сверкающую загадку…
Всю комнату за кораблем затянуло дымкой!
Кентон услышал рев бури, звуки множества ураганов, свистящий хаос обрушился на него водопадом могучих ветров.
Комната раскололась на тысячи фрагментов, растаяла. Сквозь этот хаос ясно послышались звуки колокола… один… два… три…
Он узнал этот колокол. Его часы били шесть. Третий удар оборвался на середине.
Прочный пол, на котором он стоял, растаял. Кентон почувствовал, что висит пространстве, полном серебряного тумана.
Туман рассеивался.
Кентон увидел сквозь него обширную поверхность волнующегося океана, а в десяти футах под собой – палубу корабля.
Потом ошеломляющий толчок, удар в правый висок. Расщепляющиеся молнии принесли с собой тьму, которая охватила и море, и корабль.
2. ПЕРВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Кентон лежал, прислушиваясь к негромкому шепоту, несмолкающему, настойчивому. Будто небольшие медленные волны. Все вокруг наполнено этим звуком. Журчащий шепот становился все настойчивее. В закрытые глаза ударил свет. Кентон почувствовал движение, поверхность под ним мягко поднималась и опускалась. Он открыл глаза.
Он на корабле, лежит на узкой палубе, головой упираясь в фальшборт. Перед ним мачта, поднимающаяся из ямы. В яме прикованные люди движут большими веслами. Мачта, похоже, деревянная, но покрыта прозрачным изумрудным лаком. Она пробуждает какие‑то неясные воспоминания.
Где‑то он уже видел эту мачту.
Взгляд его пополз вверх по мачте: широкий парус, сделанный из опалового шелка. Низко нависло небо, затянутое мягким серебристым туманом. Он услышал женский голос, глубокий, музыкальный, льющийся, золотистый. Справа от него каюта под изогнутым ятаганом носом; она розовая. По ее верху проходит балкон; на нем цветущие маленькие деревья; голуби с клювами и лапками, алыми, будто вымоченными в рубиновом вине, взмахивают в ветвях белоснежными крыльями.
У дверей каюты женщина, высокая, стройная, глядящая куда‑то вдаль. У ног ее три девушки. Две держат арфы, третья поднесла к губам двойную флейту. И снова воспоминания зашевелились в памяти Кентона и тут же были забыты: взгляд его упал на лицо женщины.
У нее широкие глаза, зеленые, как глубины лесных оврагов, и так же полные движущимися тенями. Голова маленькая, прекрасные черты лица, рот, говорящий о любви. На шее ямочка – чаша для поцелуев, пустая и ждущая наполнения. Над бровями серебряный полумесяц, тонкий, как нарождающаяся луна. Над каждым рогом полумесяца поток рыже–золотых волос обрамляет прекрасное лицо; поток устремляется вниз, разделяясь заостренными грудями; ручейками падает до самых ног в сандалиях.
Юная, как весна, – и мудрая, как осень; весна какого‑то древнего Боттичелли – но и Монна Лиза в то же время; девственна телом, но не душой.
Он проследил за ее взглядом. По другую сторону гребной ямы стояли четыре человека. Один на голову выше Кентона, значительно массивнее его. Бледные глаза, не мигая, устремлены на женщину; в них угроза, злоба. Лицо у человека безбородое, бледное. Огромная приплюснутая голова гладко выбрита; нос хищно изогнут; с плеч падает до самых ног просторное черное одеяние. Слева от него еще два человека с бритыми головами, в черной одежде, сухощавые, похожие на волков; у каждого бронзовый рог в форма раковины.
Глаза Кентона задержались на последнем члене этой группы. Человек присел на корточки, опираясь заостренным подбородком на высокий барабан; изогнутые бока барабана блестели алым и черным, как полированная кожа большой змеи. Ноги мощные, но короткие – тело гиганта, узловатое и искривленное, невероятно сильное. Обезьяньими руками он обвивал бока барабана, длинные пальцы, лежавшие на коже барабана, подобны паучьим лапам.
Но Кентона поразило выражение его лица. Сардоническое и злое, но злоба не такая, как у остальных троих. Широкий рот похож на лягушечий, на тонких губах усмешка. Глубоко посаженные немигающие черные глаза с открытым восхищением устремлены на женщину с полумесяцем. На мочках оттопыренных ушей висят золотые диски.
Женщина быстро спустилась и встала рядом с Кентоном. Он мог бы протянуть руку и коснуться ее. Но, казалось, она его не видит.
— Эй, Кланет! – воскликнула она. – Я слышу голос Иштар. Он идет на свой корабль. Ты готов поклониться ей, слизь Нергала?
Ненависть исказила массивное бледное лица, как адская волна.
— Это корабль Иштар, – ответил он, – но мой страшный повелитель тоже претендует на него, Шарейн. Дом богини насыщен светом, но ответь мне, разве за мной не видна тень Нергала?
И Кентон увидел, что палуба, на которой стояли эти люди, черна, как смоль, и снова неясные воспоминания зашевелились в его мозгу.
Неожиданный порыв ветра ударил корабль, как открытой ладонью, наклонил его. Голуби на ветвях деревьев над розовой кабиной подняли крик; они взлетели, как белое облако, перевитое розовым; собрались вокруг женщины.
Обезьяньи руки барабанщика развернулись, паучьи пальцы удерживались на поверхности барабана Тьма сгустилась над ним и скрыла его; тьма затянула всю корму корабля.
Кентон чувствовал, как собираются неведомые силы. Он скользнул ниже, прижимаясь к фальшборту.
От розовой каюты донесся золотой трубный звук, негодующий, нечеловеческий. Кентон повернул голову, волосы его встали дыбом, по коже поползли мурашки.
На крыше розовой каюты появился большой шар, похожий на полную луну, но не белый и холодный, как луна, – он жил, кипел розовым накалом. Он протянул лучи по кораблю, и там, где стояла женщина – Шарейн – теперь была на женщина.
Купающаяся в розовых лучах шара, она казалась гигантской. Веки закрыты, но сквозь закрытые веки смотрят глаза. Кентон ясно видел их – глаза, жесткие, как нефрит, смотрят сквозь веки, будто это паутина. Стройный полумесяц на голове превратился в арку живого пламени, а вокруг развевались рыже–золотые волосы.
А облако голубей круг за кругом вилось над кораблем, белые крылья бьются, розовые клювы раскрыты, они кричат, кричат…
В черноте корабельной кормы загремел змеиный барабан. Чернота проредилась. Сквозь нее смотрело лицо, полускрытое, бестелесное, плывущее в тени. Лицо человека, по имени Кланет, – и в то же время так же не принадлежащее ему, как лица бросившей ему вызов женщины – Шарейн. Бледные глаза превратились в два бассейна адского пламени; они без зрачков. Мгновение это лицо парило, обрамленное тьмой Потом его затянула и скрыла тень.
Теперь Кентон увидел, что тень эта висит, как занавес, точно по центру корабля, и что сам он лежит едва ли в десяти футах от того места, где этот занавес делит корабль надвое. Он лежит на белой палубе, и снова в голове зашевелилось неясное воспоминание. Сверкание шара ударило в теневой занавес, образовало диск, более широкий, чем корабль, как паутина лучей, протянулся он от огненной луны. Но тень прижалась к сверкающей паутине, стремясь прорвать ее.
Гром барабана с черной палубы усилился, заревели бронзовые рога. Звуки барабана и рогов смешались, они стали пульсом преисподней, логовища обреченных.
А рядом с Шарейн три женщины испустили бурю звуков, арпеджио арф устремились, как тонкие стрелы, резкие звуки флейты, как копья. Стрелы и копья звука прорывали барабанный гром и рев рогов, заглушали их, отгоняли прочь.
Внутри тени началось движение. Тень забурлила. Она кишела. На поверхности сверкающего диска появились черные формы. Их безлицые тела походили на гигантских личинок, на слизняков. Они рвали паутину, пытались прорваться сквозь нее, колотились о нее.
Паутина подалась! Края ее держались, но центр медленно отступал, пока диск не превратился в полусферу. Внутри вогнутой полости ползали извивались, кишели чудовищные формы. Триумфально взревели во тьме барабан и бронзовые рога.
Снова с белой палубы золотой трубный звук. Из шара полилось невыносимое сияние. Края паутины устремились вперед и сомкнулись. Они захватили черные порождения, те бились и извивались, как рыба в сети. Как сеть, поднятая могучей рукой, паутина поднялась высоко над кораблем. Она стала еще ярче, сравнялась в яркости с шаром. Пойманные черные формы испускали жалкие высокие писки. Они сжимались, таяли; исчезли.
Сеть раскрылась. Оттуда посыпалась черная пыль.
Паутина вернулась к пославшему ее шару.
И тут же шар исчез.
Исчезла и тень, затягивавшая корму корабля. Высоко над кораблем кружили белоснежные голуби, с победоносными криками.
Чья‑то рука коснулась плеча Кентона. Он взглянул в затененные глаза женщину, которую звали Шарейн, теперь это была не богиня, просто женщина. В глазах ее виднелось недоумение, крайнее изумление.
Кентон вскочил на ноги. Резкая боль пронзила его голову. Палуба под ногами вращалась. Он старался преодолеть головокружение, не мог. Корабль продолжал медленно поворачиваться под ногами. А дальше широкой аркой поворачивалось бирюзовое море и серебряный горизонт.
И вот все образовало водоворот, внутрь которого его затянуло – он падал все быстрее, быстрее. Вокруг все стало бесформенным. Снова послышались голоса бурь, резкие крики ветров пространства. Звуки стихли. И только три ясных звонких удара…
Кентон стоял в своей комнате!
Колокол, который он слышал, – это часы, отбивавшие шесть. Шесть часов? Но ведь последний звук, который он слышал в своем мире, прежде чем его унесло в мир загадочного моря, был третий удар все тех же шести часов. Удар, оборванный посредине.
Боже – что за сон! И все на протяжении половины боя часов.
Он поднял руку и коснулся ссадины на виске. Сморщился – по крайней мере этот удар не был сном. Подошел к драгоценному кораблю. И в недоумении уставился на него.
Игрушечные фигурки на палубе переместились – и появились новые.
На черной палубе не было больше четырех кукол. Стояли только две. Одна указывала рукой направо, на место на палубе рядом с мачтой, другой рукой она опиралась на плечо игрушечного солдата, рыжебородого, с агатовыми глазами, одетого в сверкающую кольчугу.
Не было и женщины у двери розовой каюты – там ее видел Кентон, когда впервые появился корабль. На пороге каюты виднелись пять стройных девушек с короткими копьями в руках.
А женщина стояла на правой половине палубы и низко склонилась над бортом.
И весла корабля больше не были погружены в волны из лазурита. Они были подняты, готовы к очередному гребку!
3. КОРАБЛЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Одну за другой Кентон потрогал фигурки. Неподвижные, твердые, они казались частью палубы. Никакими усилиями он не мог их передвинуть.
Но что‑то их передвинуло – а куда подевались исчезнувшие? Откуда возникли новые?
Вокруг крошечных фигур не было дымки, они больше не расплывались, каждая вырисовывалась очень четко. Игрушка, указывавшая на правую сторону палубы, – с короткими, кривыми ногами, у нее торс гиганта, лысая голова блестит, в ушах золотые диски. Кентон узнал его – барабанщик, бивший в змеиный барабан.
На голове склонившейся маленькой женщины–игрушки – миниатюрный полумесяц, и над ним потоки рыже–золотых волос…
Шарейн!
А место, на которое она смотрит, – разве не на этом месте лежал он на другом корабле в своем сне?
Этот – и есть тот корабль? Кентон опять увидел белую и черную палубы, розовую каюту и изумрудную мачту. Это тот самый корабль! Сон? Но что передвинуло игрушки?
Удивление Кентона росло. В то же время нарастало беспокойство, возбуждение, любопытство. Он обнаружил, что, глядя на корабль, не может четко рассуждать; казалось, корабль притягивает его к себе, наполняет его каким‑то напряженным ожиданием. Кентон снял со стены занавес и набросил на сверкающую загадку. Потом вышел из комнаты, каждый шаг давался ему с трудом, непреодолимым было желание вернуться, повернуть голову. Он вытащил себя за дверь, чувствуя, будто чьи‑то руки держат его, тащат назад. Все еще стараясь не обернуться, он протиснулся в дверь, затворил ее, закрыл на замок.
В ванной он осмотрел ссадину на голове. Болезненная, но ничего серьезного. Холодный компресс в течение получаса – и ничего не будет видно. Он говорил себе, что, должно быть, упал на пол под действием странного запаха, – но знал, что это не так.
Кентон пообедал в одиночестве, не обращая внимания на то, что стояло перед ним; мозг его по–прежнему был в недоумении. Что связано с этим блоком из Вавилона? Кто пометил внутрь его корабль и почему? В письме Форсита говорилось, что блок нашли в холме, известном под названием Амран, непосредственно к югу от Ксара – развалин «дворца» Набупалассара. Кентон знал: существуют доказательства, что Ксар – одна из сторон Е–Сагиллы, зиккурата, ступенчатого храма, который когда‑то был Великим Домом богов в древнем Вавилоне. Блок, должно быть, пользовался особым почтением, заключил Форсит, поскольку только он был спасен при разрушении города Сеннахерибом и впоследствии помещен в восстановленный храм.
Но почему к нему относились с таким почтением? Почему такой чудесный корабль был заключен в камне?
Какой‑то ключ к разгадке могла дать надпись, если бы не была так повреждена. В своем письме Форсит указывал, что имя Иштар – матери–богини всех вавилонян, а также богини мщения и разрушения, несколько раз повторялось в надписи. Видны были также стрелообразные символы Нергала, бога вавилонского Аида и повелителя мертвых. Много встречались символы Набу, бога мудрости. Эти три имени были почти единственными различимыми словами на блоке. Как будто кислота времени, изъевшая остальные знаки, эти не могла тронуть.
Кентон читал клинопись почти так же свободно, как родной английский. Он припомнил, что в надписи символы Иштар говорили о ее гневной ипостаси скорее, чем о доброй. И всегда сопровождались знаком Набу, одновременно обозначавшим сигнал об опасности, предупреждение.
Очевидно, Форсит этого не заметил – или не счел достойным упоминания в письме. По–видимому, он также не подозревал о таинственном запахе блока.
Что ж, теперь нечего раздумывать о надписи. Она исчезла навсегда с пылью, в которую превратилась.
Кентон нетерпеливо отодвинул стул. Он знал, что весь час тянул время, разрываясь между горящим желанием вернуться в комнату, где находился корабль, и страхом, что когда он туда вернется, все его приключение окажется иллюзией, сном; Что маленькие фигуры на самом деле не двигались, что они на тех же местах, где и были, когда он впервые увидел корабль, что это всего лишь игрушки – ничего больше. Больше оттягивать он не будет.
— Больше обо мне сегодня не беспокойтесь, Джевинс, – сказал он дворецкому. – У меня важная работа. Если будут звонить, говорите, что меня нет. Я закроюсь, и тревожить меня можно только, если протрубит архангел Гавриил, не меньше.
Старик слуга, полученный Кентоном в наследство от отца, улыбнулся.
— Хорошо, мистер Джон, – сказал он. – Я не позволю никому беспокоить вас.
Путь в комнату с кораблем пролегал через другую, где Кентон держал предметы, приобретенные им в разных отдаленных концах земли. Проходя, он заметил яркое голубое свечение о остановился, как будто его задержали. Свечение исходило от рукояти меча в одном из шкафов – любопытного оружия, купленного им у одного кочевника в Аравийской пустыне. Меч висел на старинном плаще, в который он был завернут, когда вороватый араб проскользнул в его палатку. Бесчисленные столетия обесцветили лазурь плаща, на чьей ткани извивались большие серебряные змеи, кабалистически переплетенные.
Кентон достал меч. Серебряные змеи, двойники тех, что изображались на плаще, вились вокруг рукояти. От рукояти отходил бронзовый стержень, восьми дюймов длиной и трех толщиной, круглый, как посох. Стержень расширялся и распластывался в лезвие в форме листа в два фута длиной и в шесть дюймов шириной в середине. В рукоять был посажен большой туманно–синий камень.
Камень больше не был туманным. Он стал полупрозрачным и светился, как огромный сапфир.
Повинуясь полуоформленной мысли, связавшей эту новую загадку и сиянием корабля–игрушки, Кентон снял плащ и набросил его себе на плечи. Держа в руке меч, он открыл дверь и закрыл ее за собой на ключ; подошел к завешенному кораблю; снял с него покрывало.
Чувствуя, как сильнее забилось сердце, Кентон отпрянул.
На корабле виднелись лишь две фигуры: барабанщик, сидевший на корточках на черной палубе, положив голову на руки, а на белой палубе девушка, склонившаяся на перила и смотревшая в гребную яму.
Кентон выключил электричество и стоял в ожидании.
Ползли минута за минутой. Отсветы огней Пятой авеню проникали сквозь занавеси и отсвечивали в корабле. Приглушенно, но отчетливо доносились звуки уличного движения, по временам гудки автомобилей – знакомый голос Нью–Йорка.
Что за ореол окутал корабль? И куда делись звуки с улицы?
Комната наполнялась тишиной, как сосуд наполняется водой.
Но вот тишину нарушил звук – звук волн, томный, ласкающий. Звуки гладили, такие усыпляющие, прижимали веки. С огромными усилиями он удержал глаза открытыми.
На него наплывал круглый серебряный туман. В тумане плыл корабль, весла его неподвижны, парус наполнен наполовину. Волны завивались у заостренного носа, светло–бирюзовые с кружевами пены.
Половина комнаты потерялась в волнах приближающегося моря… та часть, в которой он стоял находилась на много футов выше волн… они так далеко внизу, что палуба корабля на уровне его ног.
Корабль приближался. Кентон удивился, почему не слышит свиста ветра, грома ураганов, ни звука, кроме слабого шепота увенчанных пеной волн.
Отступая, Кентон уперся спиной в противоположную стену. Перед ним плыл туманный мир, и на его груди – корабль.
Кентон прыгнул, нацеливаясь на палубу.
Вокруг него теперь ревел ветер, ветры выли и кричали – он их слышал, но совсем не чувствовал. И неожиданно все стихло.
Ноги Кентона коснулись твердой поверхности.
Он стоял на белой палубе, лицом к розовой каюте, чьи маленькие цветущие деревья были полны воркующими голубями с алыми клювами и зелеными лапами. Между ним и дверью каюты стояла девушка, мягкие карие глаза полны удивлением и тем же недоверием, которое он видел в глазах Шарейн, когда та впервые увидела его у изумрудной мачты.
— Ты повелитель Набу, что явился из воздуха, в его плаще мудрости, на котором вьются его змеи? – прошептала девушка. Но этого не может быть – Набу очень стар а ты молод. Ты его посланец?
Она опустилась на колени, сложила руки, ладонями наружу, над лбом. Потом вскочила и побежала к закрытой двери каюты.
— Кадишту! – она кулаком ударила по двери. – Святая, вестник от Набу!
Дверь каюты распахнулась. На пороге стояла женщина – Шарейн. Взгляд ее упал на Кентона, потом – на черную палубу. Он тоже посмотрел туда. Там на корточках сидел барабанщик; казалось, он спит.
— Карауль, Саталу! – сказала Шарейн девушке.
Она схватила Кентона за руку и втащила его в дверь. Там были еще две девушки. Они уставились на Кентона. Шарейн вытолкнула их.
— Наружу! – прошептала она. – Наружу и помогите Саталу.
Они выскользнули из каюты. Шарейн подбежала к другой, внутренней, двери, ведущей во вторую часть каюты, и закрыла ее на затвор.
Потом повернулась и медленно подошла к Кентону. Протянула к нему тонкие пальцы, коснулась ими его глаз, рта, сердца – как будто хотела убедиться, что он реален.
Взяла его руки в свои, прижалась к ним лбом, волны ее волос окутали его. Волосы ее – серебряная сеть, в которую устремилось его сердце.
Она подняла голову, посмотрела на него.
— Что повелитель Набу хочет сказать мне? – голос ее поразил Кентона опасной мягкостью. – Каковы его слова ко мне, посыльный? Я готова слушать – в своей мудрости повелитель Набу прислал посыльного, которого легко… слушать.
В голосе ее звучало легкое кокетство, в обращенных к нему туманных глазах – озорство.
Потрясенный близостью к ней, в поисках прочной почвы, Кентон пытался найти слова ответа. Стараясь выиграть время, он осмотрелся. В дальнем конце каюты алтарь. Он вышит блестящими жемчужинами, перламутровыми и бледными лунными камнями, застывшим молочным хрусталем. Перед алтарем семь хрустальных бассейнов, из них поднимается неподвижное серебряное пламя. За алтарем альков, но свет семи огней скрывает его содержимое. У Кентона появилось смутное ощущение, что в алтаре кто‑то скрывается.
В дальнем конце каюты низкий широкий диван слоновой кости, выложенный молочным хрусталем и украшенный золотыми арабесками. Серебряные шпалеры покрывают стены, многоцветные, вышитые цветами. Мягкие глубокие серебряные ковры покрывают пол каюты, на коврах – груды подушек. Сзади и слева открыты два широких низких окна, сквозь них струится серебряный свет.
На подоконник села птица, снежно–белая, с алым клювом и лапками; посмотрела на Кентона, прихорошилась, проворковала и улетела.
Мягкие ладони коснулись его, лицо Шарейн было близко, в глазах теперь – глубокое сомнение.
— Ты на самом деле от Набу? – спросила она и ждала ответа; а он по–прежнему не знал, что сказать. – Ты должен быть посланником, – она запнулась, – иначе… как ты можешь оказаться на борту корабля Иштар?… И ты одет в плащ Набу… у тебя его меч… я много раз видела его в храме в Уруке… и я так устала от этого корабля, – прошептала она. – Я хочу снова увидеть Вавилон! О, как я хочу в Вавилон!
Теперь Кентон нашел нужные слова.
— Шарейн, – смело сказал он, – у меня есть послание для тебя. Это правда, а наш повелитель Набу – бог правды, поэтому послание должно быть от него. Но прежде чем я сообщу его тебе, расскажи мне – что это за корабль?
— Что за корабль? – она откинулась, теперь все ее лицо выражало недоверие. – Но если ты действительно от Набу, ты должен это знать!
— Не знаю, – ответил он. – Не знаю даже значения того послания, которое несу – расшифровать его должна ты. Но я здесь, на корабле, перед тобой. И своими ушами я слышал приказ – приказ самого Набу – я не должен говорить, пока ты не расскажешь мне, что это за корабль.
Некоторое время она стояла, разглядывая его, изучая.
— Неисповедимы пути богов, – вздохнула она наконец. – Трудно их понять. Но – я повинуюсь.
4. ГРЕХ ЗАРПАНИТ
Шарейн опустилась на диван и поманила Кентона к себе. Положила руку ему на сердце. Сердце забилось от ее прикосновения, она тоже почувствовала это и слегка отодвинулась, улыбаясь, глядя на него сквозь полуприкрытые, загибающиеся ресницы. Подогнула под себя стройные ноги в сандалиях, зажала белые руки меж круглых коленей. А когда заговорила, голос ее звучал негромко, музыкально.
— Грех Зарпанит; рассказ о ее прегрешении против Иштар; Иштар могучей богини матери богов и людей, повелительницы неба и земли – которая любила ее.
Главной жрицей Иштар в ее Большом доме в Уруке была Зарпанит. Кадишту, святая, была она А я, Шарейн, родом из Вавилона, стояла к ней ближе всех; ее главная помощница; она любила меня, как ее любила Иштар. Через Зарпанит богиня давала свои советы и предупреждения, награждала и наказывала – королей и простых людей. В теле Зарпанит приходила богиня в свой храм, видела глазами Зарпанит, говорила ее устами.
Храм, в котором мы жили, назывался Домом семи богов. В нем было святилище Сина, бога богов, живущего на Луне; Шамаша, сына Сина, чей дом на Солнце; Абу, повелителя мудрости; Ниниба, повелителя войн; Нергала, Темного безрогого, правителя мертвых; и Бела–Мардука, великого повелителя. Но прежде всего это был дом Иштар, здесь она была в своем праве – ее храм был ее святым домом.
Из Гутава, на севере, из храма, в котором темный Нергал правил так же, как в Уруке правила Иштар, приехал в Дом семи богов жрец, чтобы стать главным жрецом храма Нергала. Звали его Алусар – и как Зарпанит была близка к Иштар, так он был близок к Нергалу. Нергал проявлял себя через Алусара, говорил через него и временами жил в нем, как жила иногда в Зарпанит Иштар. Вместе с Алусаром прибыла свита жрецов, и среди них это порождение слизи Нергала – Кланет. Кланет был так же близок к Алусару, как я – к Зарпанит.
Шарейн подняла голову и сузившимися глазами посмотрела на Кентона.
— Я узнала тебя! – воскликнула она. – Ты недавно лежал на корабле и следил за моей борьбой с Кланетом. Я узнала тебя, хоть тогда на тебе не было этого плаща и меча; и ты исчез, когда я смотрела на тебя.
Кентон улыбнулся ей.
— У тебя было испуганное лицо, – сказала она. – Ты смотрел на меня испуганными глазами – и бежал!
Она привстала; он видел, что ее вновь охватило сомнение; презрение в ее голосе вызвало в нем вспышку гнева. Он привлек ее к себе.
— Я был тот человек, – сказал он. – И не моя вина, что я исчез, я вернулся, как только смог. И твои глаза обманули тебя. Никогда больше не думай, что я тебя боюсь! Посмотри мне в глаза! – яростно говорил он.
Она смотрела – долго; вздохнула и отклонилась, снова вздохнула и качнулась к нему, томно. Его руки обхватили ее.
— Довольно, – она отвела их. – Я не тороплюсь читать в глазах незнакомцев. Но беру свои слова назад – ты не боялся. И не сбежал! Теперь я в тебе не буду сомневаться. Да будет так!
Между Иштар и Нергалом, – продолжала она прерванный рассказ, – существуют и всегда должны существовать ненависть и борьба. Потому что Иштар – созидательница жизни, а Нергал – ее уничтожитель. Она возлюбленная добра, он возлюбленный зла. И как же можно соединить небо и ад, жизнь и смерть, добро и зло?
И все же она, Зарпанит, кадишту, святая жрица Иштар, ее любимица, соединила все это. Там, где ей следовало отвернуться, она посмотрела с вожделением; там, где нужно было ненавидеть, она – любила!
Да, жрица повелительницы жизни полюбила Алусара, жреца повелителя смерти! Ее любовь была ярким пламенем, в котором она видела его и только его. Будь Зарпанит самой Иштар, она ради Алусара пошла бы в жилище мертвых, как поступила богиня ради своего возлюбленного Таммуза, – чтобы забрать его оттуда или жить там с ним.
Да, даже жить с ним там, в холодной тьме, где медленно передвигаются мертвые, перекликаясь слабыми птичьими голосами. В холоде царства Нергала, в голоде его жилища, в черноте его города, где самая глубокая тень земли как солнечный луч, Зарпанит была бы счастлива – зная, что она с Алусаром.
Так сильно она любила его!
Я помогала ей в ее любви – ради любви к ней, – шептала Шарейн. – Но Кланет всегда был рядом с Алусаром, ожидая шанса предать его и самому занять его место. А Алусар верил ему. И вот настала ночь…
Шарейн замолчала, лицо ее казалось изможденным от ужаса воспоминаний.
— Настала ночь… ночь, когда Алусар лежал с Зарпанит… в ее комнате. Он обнимал ее… она обнимала его… губы и соприкасались…
И в эту ночь спустилась с неба Иштар и вселилась в нее!..
И в то же мгновение из своего темного города явился Нергал… и вселился в Алусара…
И в объятиях друг друга, глядя друг другу в глаза, охваченные огнем смертной любви… были… Иштар и Нергал… небо и ад… душа жизни слилась с душой смерти!
Шарейн задрожала и заплакала, прошли долгие минуты, прежде чем она снова смогла заговорить.
И тут же двое обнявшихся были оторваны друг от друга. Мы были подхвачены ураганом, ослеплены молниями, обожжены и избиты о стены. А когда пришли в себя, вокруг были все жрецы и жрицы всех семи храмов. И грех перестал быть тайной!
Да, и даже если бы Иштар и Нергал… не встретились… грез все равно стал бы известен. Потому что Кланет, который должен был стоять на страже, предал их и привел всю свору.
Да будет проклят Кланет! – Шарейн высоко подняла руки, и ее ненависть ударила Кентона, как языком пламени. – Пусть Кланет вечно ползает слепой в холодной черноте жилища Нергала! Но богиня Иштар! Гневная Иштар! Отдай сначала его мне, чтобы я сама послала его туда!
5. КАК РАССУДИЛИ БОГИ
— Некоторое время, – продолжала Шарейн, – мы лежали во тьме, Зарпанит и я, а об Алусаре мы ничего не знали. Велик был грех этих двоих, и я разделяла его. Долго пришлось нам ждать решения своей судьбы. Я, как могла, утешала ее – я ее любила и о себе не думала, а сердце ее готово было разбиться: она ведь ничего не знала о нем, том, которого любила.
Потом настала ночь, когда за нами пришли жрецы. Они вытащили нас из темницы и молча отвели к входу в Ду–Аззага, бриллиантовый зал, зал совета богов. Здесь были другие жрецы с Алусаром. Вход боязливо открыли и нас троих втолкнули внутрь.
И тут я впервые упала духом, я испугалась и почувствовала, как рядом дрожит Зарпанит.
Потому что Ду–Аззага была полна светом, а на месте изображений богов были сами боги! Скрытые сверкающим облаком, боги глядели на нас. А на месте Нергала была тьма.
Из сияющего лазурного тумана перед алтарем Набу донесся голос повелителя мудрости.
— Велик твой грех, женщина, – произнес этот голос, – и твой, жрец, так велик, что обеспокоил даже нас, богов! Что вы можете сказать, прежде чем мы вас накажем?
Голос Набу звучал холодно и бесстрастно, как свет далеких звезд, – и все же в нем было понимание.
И тут вспыхнула моя любовь к Зарпанит, я ухватилась за нее, и она придала мне силы; я чувствовала, как распрямляется ее душа, непокорная, любовь стала ее щитом. Она не ответила – только протянула руки к Алусару. И его любовь проявилась бесстрашно, как и ее. Он обнял ее.
Их губы встретились – и боги–судьи были забыты!
Тогда снова заговорил Набу.
— В этих двоих пламя, которое никто, кроме Иштар, не может погасить; и вряд ли даже она сможет.
При этих словах Зарпанит отвела руки своего возлюбленного, подошла к сиянию, скрывавшему Иштар, поклонилась и обратилась к ней:
— Да, о мать, разве ты не мать огня, который мы зовем любовью? Разве не ты создала любовь и, как факел, утвердила ее над хаосом? И разве ты не знаешь, какова сила любви? Любовь, созданная тобой, пришла незваной в этот храм, в мое тело, которое было твоим и все еще им остается, хотя ты от него отказалась. Разве моя вина, что любовь оказалась такой сильной, что взломала двери твоего храма; разве моя вина, что любовь ослепила меня и дала видеть лишь того, на ком она сияет? Ты создательница любви, о Иштар и если ты хотела, чтобы ее можно было победить, почему ты сделала ее такой могучей? И если любовь стала сильнее, чем ты ее создавала, можно ли винить нас, мужчин и женщин, если даже ты не можешь справиться с нею? И даже если любовь не сильней тебя, ты сделала ее сильней человека.
Молчание богов нарушил повелитель Набу.
— В ее словах правда Огонь, который горит в них, известен тебе лучше, чем нам, о Иштар. Поэтому отвечать должна ты.
Из‑за сверкающей вуали донесся голос богини, мягкий, но в то же время гневный:
— Есть правда в том, что ты говоришь, Зарпанит, которую я некогда называла дочерью. Из‑за этой правды я сдержу свой гнев. Ты спрашиваешь, сильнее ли любовь меня, ее создательницы. Мы узнаем это! Ты и твой возлюбленный будете жить в некоем месте, открытом только для вас. Вы вечно будете вместе. Вы сможете смотреть друг на друга, глаза ваши будут встречаться – но никогда руки или губы! Вы сможете говорить друг с другом – но никогда об этом пламени, называемом любовью! Ибо когда оно вспыхнет и повлечет вас друг к другу, я, Иштар, вселюсь в тебя, Зарпанит, и вступлю с нею в бой! И это будет не знакомая тебе Иштар. Это будет та моя ипостась, которую люди называют Гневной, Уничтожителем, – она овладеет тобой. И так будет до тех пор, пока пламя ее в тебе не погаснет!
Голос Иштар смолк. Остальные боги сидели молча. Потом и тьмы алтаря Нергала донесся голос повелителя смерти!
— Так говоришь ты, Иштар! А я, Нергал, говорю тебе – я с этим человеком, моим жрецом. Не могу сказать, что я им недоволен: благодаря ему я так близко заглянул в твои глаза, о мать жизни! – тьма задрожала от хохота. – Я буду с ним и встречусь с тобой, Иштар–Разрушительница! Да, с искусством, достойным твоего, и с силой, не меньшей, чем твоя, – пока я, а не ты, загашу это пламя. Потому что в моем жилище такого пламени нет – и я погашу его, чтобы моя тьма не испугалась, когда эти двое наконец попадут ко мне!
И снова хохот сотряс черное облако, а сияние, скрывавшее богиню, задрожало от ее гнева.
А мы трое слушали в отчаянии – наши несчастья усугублялись, когда мы слышали этот разговор Темного Безрогого с Матерью неба.
Снова послышался голос Иштар, еще тише:
— Да будет так, Нергал!
Остальные боги продолжали молчать; и мне показалось, что за своими покровами они искоса смотрят друг на друга. Наконец послышался бесстрастный голос Набу:
— А как эта другая женщина?..
Нетерпеливый ответ Иштар:
— Ее судьба будет связана с судьбой Зарпанит. Она будет в свите Зарпанит, там, куда она отправляется.
Снова голос Набу:
— Жрец Кланет – он свободен?
— Что Разве у Алусара не будет своей свиты? – насмешливо спросил Нергал. – Нет, Кланет и другие будут с Алусаром.
И снова мне показалось, что боги поглядывают друг на друга; потом Набу спросил:
— Так ли, Иштар?
И Иштар ответила:
— Да будет так!
Ду–аззага потемнела, мы были одни.
Проснувшись, мы оказались на этом корабле, в этом странном море, в странном мире, и все, что провозгласили боги в Ду–аззаге, осуществилось. С Зарпанит и мною были пять храмовых девушек, которых она любила. А с Алусаром был Кланет и свора черных жрецов. У нас были гребцы, крепкие храмовые рабы, – по двое на каждое весло. Корабль был прекрасен, и боги позаботились, чтобы в нем было все необходимое.
На мгновение в глазах ее вспыхнуло пламя гнева.
— Да, – сказала она, – добрые боги устроили нас удобно – и спустили этот корабль в странное море этого странного мира как поле битвы любви и ненависти, как арену, на которой сражаются Гневная Иштар и Темный Нергал, как камеру пыток для своих любимых жрицы и жреца.
Зарпанит проснулась в этой каюте – с именем Алусара на устах. Она выбежала из двери, а из черной каюты, призывая ее, вышел Алусар. Я видела, как она добежала до линии, разделяющей корабль, там, где встречаются белая и черная палубы, – и вот ее отбросило назад, как чьими‑то руками. Потому что там барьер, вестник, барьер, созданный богами, и никто из нас на корабле не может преодолеть этот барьер. Но ведь тогда мы ничего не знали об этом. И Алусар тоже был отброшен назад.
И вот, когда они встали, протягивая друг к другу руки, пытаясь коснуться друг друга, в Зарпанит вселилась ипостась Иштар, Гневная Иштар, Иштар–Разрушительница, а вокруг Алусара собралось темное облако и скрыло его. А когда оно рассеялось, вместо лица Алусара смотрело лицо Нергала, повелителя смерти!
Так и было – как установили боги. И вот бессмертные двойники в теле смертных, любивших друг друга, сражались, ненавидели, а рабы в яме цеплялись за весла и сходили с ума или падали без сознания при виде этого ужаса. А храмовые девушки падали на палубу или бежали, зажав уши, в каюту, чтобы ничего не видеть. И только я не кричала и не бежала – тот, кто однажды видел богов в Ду–аззаге, больше никогда ничего не боится.
И так продолжалось; как долго, я не знаю; в этом месте, кажется, нет времени; здесь нет ни дня, ни ночи, какими мы знали их в Вавилоне.
И снова и снова Зарпанит и Алусар стремились встретиться, и снова и снова Гневная Иштар и Темный Нергал отбрасывали их друг от друга. Много хитростей знает повелитель тьмы, и бесчисленно его оружие. Много искусств у Иштар, и разве не всегда полон ее колчан? Вестник, я не знаю, сколько выдержала эта пара. Но все время пытались они разорвать преграду, влекомые своей любовью. И всегда…
Шарейн продолжала шептать:
— Пламя в них продолжало гореть. Ни Нергал, ни Иштар не могли приглушить его. Их любовь делалась все сильнее. И вот настал день…
Это было в середине схватки. Иштар овладела Зарпанит и стояла там, где начинается гребная яма. Нергал вселился в Алусара и бросил свою темную сеть через яму на сверкавшую молниями богиню.
И тут, сидя скорчившись у входа в каюту, я увидела, как померкло сияние Иштар. Лицо Иштар стало расплываться и блекнуть, и на его месте показалось лицо Зарпанит.
Тьма, окружавшая повелителя мертвых, просветлела, как будто внутри нее вспыхнуло сильное пламя.
И тут Иштар сделала шаг к барьеру, разделявшему палубы, и еще шаг, и еще. Но мне показалось, что не по своей воле она движется. Нет! Она шла спотыкаясь, неохотно, как будто кто‑то сильнее ее подталкивал ее вперед. И так же двигался Нергал внутри своей тени навстречу ей.
Они все ближе подходили друг к другу. А сияние Иштар все меркло и меркло. И тьма, окутывавшая Нергала, все светлела и светлела7 И вот медленно, вопреки своей воле, но неумолимо они приближались друг к другу. Я видела, как сквозь маску Нергала просвечивает лицо жреца Алусара.
Медленно, медленно белые ноги Зарпанит несли Иштар к барьеру; и медленно, медленно, как и она, шел ей навстречу Алусар. И они встретились!
Руки их соединились, губы соприкоснулись, и побежденные бог и богиня покинули их.
Они поцеловались и упали. Упали на палубу – мертвые. Мертвые, в объятиях друг друга.
Не победили ни Иштар, ни Нергал! Нет! Победила любовь – любовь мужчины и любовь женщины. Победившее бога и богиню пламя освободилось!
Жрец упал по нашу сторону барьера. Мы не разжимали их объятий. Опустили их в воду вместе, лицом к лицу.
И я побежала навстречу Кланету – чтобы убить его. Но я забыла, что ни Иштар, ни Нергал не победили друг друга. И вот в меня вселилась богиня, а в Кланета – Нергал. И как раньше, они сражались друг с другом. И снова, как и раньше, невидимый барьер был непреодолим, отделяя тех, кто на белой палубе, от тех, кто на черной.
Но я была счастлива, потому что знала – боги забыли о Зарпанит и Алусаре. Для них двоих битва кончилась. Ни Гневная Иштар, ни Нергал больше не думали о своих жрице и жреце – в моем теле и теле Кланета они могли продолжать свою борьбу за обладание кораблем…
И вот мы плывем – и боремся, плывем – и боремся… Как долго, я не знаю. Много, много лет должно было пройти с того времени, как я видела богов в Уруке, но посмотри, я все еще молода, все еще хороша! По крайней мере так говорит мне зеркало, – и она вздохнула.
6. Я НЕ – ЖЕНЩИНА!
Кентон сидел молча, не отвечая. Она молода и хороша – а Урук и Вавилон уже тысячи лет лежат в развалинах!
— Скажи мне, – услышал он ее голос, – по–прежнему ли храм в Уруке славится между народами? А Вавилон по–прежнему ли гордится своим господством?
Он молчал, в нем боролась вера в то, что он в каком‑то чужом, незнакомом мире, и здравый смысл.
А Шарейн, с обеспокоенным лицом, смотрела на него все с большим и большим сомнением. Она отскочила от него и стояла дрожа, как гневное лезвие в прекрасных ножнах.
— Ты принес мне послание? – воскликнула она. – Говори – и быстро!
Женщина из мечты, женщина из древнего волшебства, для Шарейн у него был только один ответ – правда.
И Кентон рассказал ей правду, начав с появления каменного блока из Вавилона в его доме он не упускал ни одной подробности, чтобы ей стало понятней. Она слушала, не отрывая от него взгляда, она упивалась его словами – удивления сменялось на ее лице недоверием, а потом гневом, отчаянием.
— Даже место, где находился древний Урук, забыто, – закончил он. – Дом семи богов – теперь груда песка. А Вавилон, великий Вавилон, уже тысячи лет сровнен с землей!
Она вскочила на ноги – вскочила и бросилась на него, глаза ее сверкали, рыже–золотые волосы развевались.
— Лжец! – закричала она. – Лжец! Теперь я знаю – ты посланец Нергала.
В ее руке сверкнул кинжал; он успел перехватить ее руку, боролся с ней, отбросил ее на диван.
Она ослабла, почти потеряла сознание в его руках.
— Урук превратился в пыль! – всхлипывала она. – Храм Иштар – пыль! Вавилон – пустыня! И Саргон Аккадский умер шесть тысяч лет назад, ты говоришь – шесть тысяч лет! – Она задрожала, вырвалась из его объятий. – Но если это так, то кто же я? – шептала она побледневшими губами. – Кто – я? Шесть тысяч лет и больше прошло с моего рождения, а я – жива! Кто же я?
Ее охватил страх, глаза ее потускнели, она ухватилась за подушки. Он склонился к ней, она обняла его белыми руками.
— Я жива? – воскликнула она. – Я – человек? Я – женщина?
Ее мягкие губы умоляюще прижались к его губам, аромат ее волос охватил его. Она держала его, прижалась своим стройным телом в крайнем отчаянии. И он почувствовал, как сильнее бьется его сердце. И между поцелуями она шептала: «Разве я не женщина? Я не живая? Скажи мне, разве я не жива?»
Желание охватило его, он отвечал ей поцелуем на поцелуй и в то же время понимал, что не мгновенная любовь и не страсть бросили ее в его объятия.
За ее ласками стоял ужас. Она боялась – страшилась пропасти глубиной в шесть тысяч лет между ее жизнью и его. Цепляясь за него, она хотела увериться в себе. Она ухватилась за последнее оружие женщины – первичное назначение женщины – уверенность в своей женственности, в том, что ее желают.
Нет, поцелуи, обжигавшие его губы, должны были убедить не его – ее самое.
Но ему было все равно. Она была в его объятиях. Он отвечал поцелуем на поцелуй.
Она оттолкнула его, вскочила на ноги.
— Значит, я женщина? – торжествующе спросила она. – Женщина – и живая?
— Женщина! – хрипло ответил он, все его тело дрожало. – Живая! Господи, да!
Она закрыла глаза; глубоко вздохнула.
— Это правда, – воскликнула она, – и это единственная правда из всего сказанного тобою. Нет, теперь молчи, – остановила она его. – Если я женщина и жива, отсюда следует, что все сказанное тобою – ложь. Я не могу быть живой, если с того момента, как я вступила на этот корабль, прошло шесть тысяч лет и Вавилон превратился в пыль. Ты лживая собака! – закричала она и украшенной кольцами рукой ударила Кентона по губам.
Кольца глубоко врезались. Кентон упал, ошеломленный и болью, и неожиданным изменением положения, а она раскрыла внутреннюю дверь.
— Луарда! Атнал! Все!! – гневно призывала она. – Быстро! Свяжите эту собаку! Свяжите его, но не убивайте!
Из каюты вырвались семь девушек–воинов, в коротких юбках, обнаженных по пояс, в руках они держали легкие копья. Они набросились на него. И в то же время Шарейн вырвала у него из руки меч Набу.
И вот юные ароматные тела окружили его кольцом женской плоти6 мягкой, но неразрывной, как сталь. На голову ему набросили синий плащ, обернули вокруг шеи. Кентон очнулся от оцепенения – очнулся с гневным ревом. Высвободился, сорвал плащ, прыгнул к Шарейн. Но гибкие тела двигались быстрее, девушки заслонили Шарейн от него. Они кололи его копьями, как матадор колет нападающего быка. Назад и назад теснили они его, рвали одежду, там и тут показалась кровь.
И сквозь эту пытку он слышал ее хохот.
— Лжец! – насмехалась она. – Лжец, трус и глупец! Орудие Нергала, посланное сюда с лживой весть, чтобы поколебать мое мужество! Назад к Нергалу вернешься ты с другой вестью!
Девушки, опустив копья, как одна, бросились вперед. Они вцепились в него, обхватили руками и ногами, увлекли вниз. Выкрикивая проклятия, молотя кулаками, пинаясь – больше не думая, что перед ним женщины, – Кентон боролся с ними. Ногой он зацепился за перемычку двери розовой каюты. И упал, таща за собой этих диких кошек. Продолжая драться, они выкатились за дверь.
Сзади послышался крик, предупреждение Шарейн – какой‑то резкий приказ державшие его руки и ноги разжались, девушки отступили.
Всхлипывая от гнева, Кентон вскочил на ноги. И увидел, что находится совсем рядом с чертой, разделяющей белую и черную палубы. Он подумал, что именно поэтому Шарейн отозвала своих фурий: они подкатились слишком близко к загадочной преграде.
Снова он услышал ее смех. Она стояла на галерее с маленькими цветущими деревьями, голуби вились над нею. В руках ее был меч Набу; она насмешливо подняла его.
— Эй, лживый посланец! – насмехалась Шарейн. – Эй, собака, побитая женщинами! Иди, возьми свой меч!
— Иду, черт тебя побери! – крикнул он и прыгнул вперед.
Корабль покачнулся. Потеряв равновесие, Кентон откинулся назад и перекатился через линию, разделяющую белую и черную палубы. Перекатился – невредимый!
Что‑то в глубине его сознания отметило этот факт, отметило его чрезвычайную важность. Как бы велика ни была власть барьера, на Кентона она не распространялась. Он приготовился прыгнуть назад на белую палубу.
— Остановите его! – послышался голос Кланета.
И посредине прыжка его за плечо схватили длинные мускулистые пальцы, повернули. Он смотрел в лицо барабанщика. Когти барабанщика подняли его и, как щенка, швырнули назад.
Тяжело дыша, как рассерженный щенок, Кентон с трудом удержался на ногах. Вокруг него смыкалось кольцо людей в черной одежде, с смертельно–бледными, невыразительными лицами, с сжатыми кулаками. За этим кольцом стоял воин с красной бородой и бледными агатовыми глазами; а рядом с ним Черный жрец.
Но Кентон не обратил на них внимания. Он ринулся вперед. Черные одеяния сомкнулись над ним, охватили его, прижали к палубе.
Корабль снова качнулся, на этот раз сильнее. Кентон, сбитый с ног, скользнул в сторону. И его накрыло волной. Руки, державшие его, разжались. Другая волна подняла его и погрузила в воду. Он погрузился глубоко; отчаянно устремился к поверхности; вытер с глаз воду и поискал корабль.
Ревел ветер. Подгоняемый ветром, корабль быстро удалялся – он был уже в ста ярдах. Кентон закричал, поплыл к нему. Парус спустили, весла ожили, стремясь удержать корабль против ветра. Но корабль продолжал удаляться все быстрее и быстрее.
Он затерялся в серебристом тумане.
Кентон перестал бороться; плыл, затерянный в неведомом мире.
Его ударило волной; он вынырнул, давясь водой. Морская пена хлестала его. Он услышал гром прибоя, свист волн, разбиваемых скалами. Его подхватила другая волна. Борясь на ее вершине, он увидел прямо перед собой желтый утес, поднимающийся из груды огромных камней, на которые с ревом накатывались волны, брызгая фонтанами пены.
Огромная волна подняла его бросила на желтый столб.
Толчок оказался не сильнее, чем прикосновение к паутине. Несколько мгновений ему казалось, что он несется сквозь мягкую густую тьму. И с ним несется рев ураганов. Неожиданно движение прекратилось, шум ураганов стих.
Он лежал навзничь, пальцы его сжимали какую‑то жесткую ткань, которая упрямо рвалась из рук. Он перекатился, вытянул руки, одна из них коснулась холодного полированного дерева. Он сел…
Он снова был в своей комнате!
Кентон с трудом встал и, ошеломленный, стоял, покачиваясь. Что это за темное пятно у его ног? Вода – вода, капающая с него, странного цвета – чуть красноватая.
Он понял, что вся его одежда промокла. Лизнул губы – соленые. Одежда его изорвана, с нее капает соленая вода.
А из десятка ран течет кровь и смешивается с водой.
Он, спотыкаясь, двинулся к игрушечному кораблю. На черной палубе несколько кукол, наклонились через борт, смотрят в воду.
На галерее над розовой каютой крошечная фигурка…
Шарейн!
Он коснулся ее – алмазно твердая, алмазно холодная, игрушка!
И все же – Шарейн!
Его сотрясла вернувшаяся волна безумного гнева. Слыша ее смех, Кентон бранился, искал, чем бы ударить по кораблю, разбить его на куски. Никогда больше Шарейн не будет смеяться над ним!
Он схватил за ножку тяжелый стул, поднял его над головой и на мгновение задержал, прежде чем обрушить на корабль…
И вдруг ощутил на губах медовый вкус ее поцелуев – поцелуев Шарейн!
Стул выпал из его рук.
— Иштар! Набу! – прошептал он и упал на колени. – Отправьте меня назад на корабль! Иштар! Делай со мной что хочешь – только верни на свой корабль!
7. РАБ НА КОРАБЛЕ
Ответ пришел быстро. Кентон услышал далекий рев прибоя, постоянно бьющего о скалистый берег. Рев становился громче.
С грохотом волн передняя стена его комнаты исчезла. Там, где была стена, возвышалась вершина огромной волны. Волна перекатилась через Кентона, подняла его, унесла далеко; и выбросила, хватающего воздух.
Он плыл по поверхности бирюзового моря.
Корабль находился близко. Близко! Его закругленный нос пронесся рядом с головой Кентона, пролетел мимо. Золотая цепь свисала с него, рассекая вершины волн. Кентон попытался ухватиться за нее – и промахнулся.
Он упал в воду. Мимо него быстро двигался сверкающий корпус корабля. Он снова поднялся над водой. С корпуса свисала другая цепь – черная цепь свисала с кормы, рассекая волны.
Он ухватился за цепь. Море цепляло его за ноги. Он крепко держался. Перехватываясь руками, осторожно подтянулся. Теперь он находился на уровне фальшборта. Медленно поднял голову и заглянул на палубу.
К нему протянулись длинные руки, схватили за плечи, подняли, швырнули на палубу, прижали к ней. Вокруг ног обвился ремень, руки были прижаты к бокам.
Он смотрел в лицо с лягушечьим ртом – лицо барабанщика. А из‑за широченных плеч барабанщика виднелось белое лицо Кланета. Послышался его голос:
— Неси его, Джиджи.
Барабанщик поднял его легко, как ребенка, и в своих огромных руках пронес в черную каюту.
Тут он поставил его на ноги и с любопытством оглядел. С таким же любопытством его разглядывали агатовые глаза краснобородого воина и бледные глаза Кланета.
Кентон в свою очередь разглядывал этих троих. Сначала черный жрец – массивный, со слоновьими мускулами бледная кожа, словно кровь в нем течет слишком глубоко, чтобы оживить плоть; лицо Нерона, вылепленное из холодной глины онемевшими пальцами.
Затем Джиджи – барабанщик. Лягушечье лицо с заостренными ушами; короткие согнутые ноги; тело гиганта в верхней половине; огромные плечи, с которых свисают длинные мускулистые обезьяньи руки, силу которых испытал на себе Кентон; в углах рта смех. Что‑то в нем от древних богов земли, что‑то от Пана.
Рыжебородый – перс из того времени, когда орды персов были для всего мира тем же, чем позже стали легионы Рима. Так рассудил Кентон по короткой кольчуге, по ногам в шелке, по высоким ботинкам со шнуровкой по изогнутым кинжалам и ятагану на украшенном драгоценностями поясе. Человек, как и сам Кентон. Ни кладбищенского запаха Кланета, ни гротескности Джиджи. Полные красные губы над тщательно подстриженной бородой чувственные, полные любви к жизни; тело плотное и мускулистое; лицо белее, чем лицо Кентона. Но лицо унылое, на нем глубоко отпечаталась тоска, скука, так что даже любопытство, вызванное появлением Кентона, не изменило его тоскливого выражения.
Перед ним находилась широкая плита из красного железняка. Перед ней склонились шесть жрецов, поклоняясь чему‑то, стоящему в нише над плитой. Что это было, он не мог сказать, – но это что‑то дышало злом. Немного больше человека, это что‑то в нише было черным и бесформенным, как будто сделано из свернувшихся теней. Оно дрожало, пульсировало – как будто тени, из которых оно состояло, постепенно сгущались вокруг него, проникали внутрь и сменялись другими.
Мрачной была эта каюта, стены сумрачные, из тусклого черного мрамора. Другие тени цеплялись за темные стены, сгущались в углах. Казалось, они только ждут приказа, чтобы сгуститься еще больше.
Нечестивые тени – подобные тем, что собрались в нише.
В глубине, как и в каюте Шарейн, находилось другое помещение, у входа в него толпился с десяток жрецов в черной одежде с бледными лицами.
— Возвращайтесь на место, – обратился к ним Кланет, нарушив молчание. Они выскользнули из каюты. Черный жрец закрыл за ними дверь. Он коснулся ближайшего из стоявших на коленях жрецов.
— Вы достаточно восхваляли нашего повелителя Нергала, – сказал он. – Смотрите – он проглотил ваши молитвы.
Кентон посмотрел на существо в нише. Оно больше не было туманным. Теперь оно вырисовывалось ясно и четко. У него было тело человека а на лице виднелось то же злобное выражение, которое Кентон видел на лице черного жреца во время первого своего приключения.
Лицо Нергала – повелителя смерти!
А что же за свернувшиеся дрожащие тени обволакивали статую?
Он чувствовал, что Кланет украдкой изучает его. Трюк! Трюк, чтобы испугать его! Он спокойно встретил взгляд жреца, улыбнулся.
Перс рассмеялся.
— Эй, Кланет, – сказал он. – Твоя стрела пролетела мимо. Может, этот незнакомец видел такие вещи раньше. Может, он сам колдун и может делать кое‑что похлеще. Измени игру, Кланет.
Он зевнул и уселся на низком стуле. Лицо черного жреца стало еще мрачнее.
— Лучше помолчи, Зубран, – ответил он. – Иначе Нергал изменит свою игру с тобой и навсегда уничтожит твое неверие.
— Неверие? – повторил перс. – О, Нергал вполне реален. Не неверие раздражает меня, а вечное однообразие. Неужели ты не можешь сделать что‑нибудь новое, Кланет? Может ли Нергал сделать что‑нибудь новое? Изменить игру со мной, а? Клянусь Ариманом, именно этого я и жду от него, если он, конечно, может.
Он снова нарочито зевнул. Черный жрец что‑то проворчал, повернулся к шести помощникам.
— Идите, – приказал он, – и пришлите ко мне Зачеля.
Они гуськом вышли через внешнюю дверь. Черный жрец опустился на другой стул, изучая Кентона; барабанщик сидел на корточках, тоже глядя на него; перс что‑то бормотал про себя играя рукоятью кинжала. Дверь раскрылась, и в ней появился жрец, в одной руке он держал длинный хлыст, чей змеиный конец, увенчанный металлом, был много раз свернут вокруг его руки. Он поклонился Кланету.
Кентон узнал его. Когда он лежал на палубе у мачты, он видел этого человека: тот сидел на высокой платформе у основания мачты. Надсмотрщик рабов галеры, гребцов, был Зачель, а длинный хлыст был рассчитан на то, чтобы достать до любого раба, хоть немного замешкавшегося.
— Этого ли человека ты видел на палубе несколько снов назад? – спросил Кланет. – Он лежал на палубе и, как ты рассказывал, исчез в тот момент, когда шлюха Иштар вон оттуда склонилась к нему.
— Он самый, господин, – ответил надсмотрщик, подходя ближе к Кентону и рассматривая его.
— Куда же он тогда исчез? – спросил Кланет скорее самого себя. – В каюту Шарейн? Но если так – почему она выгнала его, а ее кошки вцепились в него когтями? А откуда меч, которым она размахивала и звала его вернуться за мечом? Я знаю этот меч…
— Он не ушел тогда в каюту, хозяин, – прервал его Зачель. – Я видел, как она его искала. Она вернулась в кабину одна. Он исчез.
— И его прогнали два сна назад, – продолжал размышлять Кланет. – Корабль с тех пор непрерывно двигался. Мы видели, как он боролся с волнами далеко позади нас. Но вот он снова на корабле – и раны его совсем свежие, все еще кровоточат, будто нанесены несколько мгновений назад. И как он прошел барьер? Да… как он прошел барьер?
— Наконец‑то ты задал настоящий вопрос, – воскликнул перс. – Пусть он мне только расскажет это, и, клянусь девятью кругами ада, недолго я буду твоим товарищем, Кланет.
Кентон заметил, как барабанщик украдкой сделал предупреждающий жест персу, увидел, как сузились глаза черного жреца.
— Ха–ха! – рассмеялся Джиджи. – Зубран шутит. Жизнь там так же утомительна, как и нас. Не правда ли, Зубран?
И снова предупреждающий знак. Перс заметил его.
— Да, думаю, это так, – неохотно ответил он. – Во всяком случае – разве я не принес обет Нергалу? Тем не менее, – пробормотал он, – боги даровали женщине одно умение, которое не наскучило мужчинам с того дня, как создан мир.
— Они забывают это умение в жилище Нергала, – мрачно сказал жрец. – Помни это и придерживай свой язык, иначе окажешься в худшем месте, чем это – тут тебе по крайней мере сохранили тело.
— Могу я сказать, господин? – спросил Зачель и Кентон почувствовал угрозу в брошенном на него взгляде надсмотрщика.
Черный жрец кивнул.
— Я думаю, он миновал барьер, потому что ничего не знает о нашем повелителе, – сказал Зачель. – Он, может быть, даже враг нашего повелителя. А если нет – как он смог сбросить с себя руки жрецов, исчезнуть в море… и снова появиться?
— Враг Нергала! – пробормотал Кланет.
— Но отсюда не следует, что он друг Иштар, – спокойно вмешался барабанщик. – Конечно, если бы он присягнул Темному повелителю, он не смог бы пересечь барьер. Но правда и то, что присяга Иштар так же помешала бы ему сделать это.
— Верно! – лицо Кланета прояснилось. – И я знаю этот меч – это меч самого Набу.
Он помолчал, задумался. А когда заговорил, его низкий голос звучал вежливо.
— Незнакомец, – сказал он, – если мы были грубы с тобой, прости нас. Посетители на этом корабле – большая редкость. Ты, как бы это сказать, застал нас врасплох и заставил забыть о манерах. Зачель, развяжи его.
Зачель наклонился и угрюмо снял с ног Кентона ремень.
— Если, как я думаю, ты пришел от Набу, – продолжал черный жрец, – говорю тебе, что я не ссорюсь с Мудрейшим и его людьми. И мой хозяин повелитель смерти равен повелителю мудрости. Как может быть иначе, если один держит ключи знаний этой жизни, а другой – ключи, раскрывающие двери к абсолютному знанию? Нет, никакой вражды здесь нет. Ты приближенный Набу? Он послал тебя на корабль? И – зачем?
Кентон молчал, напряженно размышляя в поисках ответа. Он знал, что оттягивать ответ, как с Шарейн, нельзя. Бесполезно и рассказать всю правду, как он рассказал ей – и был изгнан, как преследуемая крыса. Здесь его ждет опасность, большая, чем в розовой каюте. Его мысли прервал голос Кланета:
— Но хоть ты и посланец Набу, похоже, он не смог помешать тебе потерять его меч, не спас от копий женщин Иштар. И если это так, спасет ли он тебя от моего хлыста, от моих цепей?
И поскольку Кентон продолжал молчать, волчий огонь загорелся в мертвых зрачках и черный жрец с криком вскочил на ноги:
— Отвечай мне!
— Отвечай Кланету! – крикнул Джиджи. – Иди страх перед ним отнял у тебя язык?
Под внешним гневом в голосе барабанщика звучало предупреждение, дружелюбие.
— Если Набу и мог спасти меня, он этого не сделал – угрюмо сказал Кентон.
Черный жрец с усмешкой снова сел.
— И не спасет, если я приговорю тебя к смерти, – сказал он.
— Смерть – если он приговорит к ней, – прохрипел Джиджи.
— Кем бы ты ни был и откуда бы ни явился, – продолжал черный жрец, – одно кажется мне верным. Ты можешь порвать цепь, которая раздражает меня. Нет, Зачель, останься, – сказал он, заметив, что надсмотрщик сделал движение к выходу. – Твой совет ценен. Останься!
— Умер один из рабов на веслах, – сказал надсмотрщик. – Я хочу снять с него цепи и выбросить за борт.
— Умер? – в голосе Кланета прозвучала заинтересованность. – Который? И как он умер?
— Кто знает? – Зачель пожал плечами. – От усталости, может быть. Он один из тех, кто отплыл с нами с самого начала. Он сидел рядом с желтоволосым рабом с севера которого мы купили в Эмактиле.
— Да, он прослужил долго, – сказал черный жрец. – Его забрал Нергал. Пусть его тело еще немного поносит цепи. Оставайся со мной.
И он снова обратился к Кентону, неторопливо, непререкаемо:
— Предлагаю тебе свободу. Ты получишь почести и богатство в Эмактиле, куда мы поплывем, как только ты выполнишь мою просьбу. Станешь главным жрецом в храме, если захочешь. Золото, женщины, звания – все твое, если сделаешь то, что я велю.
— Что же я должен сделать, чтобы заслужить все это? – спросил Кентон.
Черный жрец встал и склонил голову так, чтобы смотреть прямо в глаза Кентону.
— Убей Шарейн! – сказал он.
— Мало разума в этом, Кланет, – насмешливо сказал перс. – Разве ты не видел, как его побили ее девушки? Все равно что послать на схватку с львицей человека, побежденного львятами.
— Нет, – сказал Кланет, – я вовсе не имел в виду, что он открыто пересечет палубу, чтобы его все могли видеть. Он может перебраться за борт – и продвигаться от цепи к цепи, с выступа на выступ. В задней стене каюты, где она спит, есть окно. Он может пробраться сквозь него.
— Лучше пусть принесет клятву Нергалу, господин, прежде чем отправиться в дорогу, – прервал Зачель. – Иначе мы его больше не увидим.
— Дурак! – заявил Джиджи. – Если он принесет клятву Нергалу, он вообще ничего не сможет сделать. Откуда мы знаем, что тогда барьер не закроется для него, как он закрыт для всех, поклявшихся Темному повелителю и Иштар?
— Верно, – кивнул черный жрец. – Мы не можем рисковать. Хорошо сказано, Джиджи.
— А почему Шарейн должна быть убита? – спросил Кентон. – Позволь мне сделать ее рабыней, чтобы я мог отплатить за насмешки и удары. Отдай ее мне – и оставь у себя все обещанные богатства и почести.
— Нет! – Черный жрец склонился ближе, внимательно глядя ему в глаза. – Она должна быть убита. Пока она жива, у богини есть сосуд, в который она может вливаться. Шарейн мертва – и на этом корабле нет никого, через кого проявила бы себя Иштар. Я, Кланет, знаю это. Шарейн мертва, Нергал правит – через меня! Нергал выигрывает – благодаря мне!
У Кентона выработался план. Он пообещает сделать это – убить Шарейн. Он проберется в ее каюту, расскажет о заговоре черного жреца. Каким‑нибудь образом заставит ее поверить ему.
Слишком поздно понял он по лицу Кланета, что черный жрец уловил его мысли. Слишком поздно вспомнил, что зоркие глаза надсмотрщика не отрываются от него, не упускают ни тени выражения.
— Смотри, господин! – проворчал Зачель. – Смотри! Разве ты не читаешь его мысли, как я? Ему нельзя доверять. Ты призвал меня сюда для совета и назвал мой совет ценным – позволь высказать, что у меня на уме. Я думал, что этот человек у мачты исчез, как я и говорил тебе. Но так ли это? Боги приходят на корабль и уходят с него, как хотят. Но не человек. Нам кажется, мы видели, как он борется с волнами позади корабля. Но так ли это? Колдовством он мог заставить нас видеть то, чего в действительности не было. Он был все это время на корабле, прятался в каюте Шарейн. Мы видели, как он вышел из ее каюты…
— Но его выгнали оттуда женщины, Зачель, – прервал барабанщик. – Выбросили. Избили. Вспомни это. Там нет дружбы, Кланет. Они рвались к его горлу, как псы к горлу оленя.
— Игра! – воскликнул Зачель. – Игра, чтобы обмануть тебя, господин. Они могли убить его. Почему не убили? Его раны – булавочные уколы. Они гнали его, но куда? Сюда, к нам! Шарейн знала, что он может пересечь барьер. Послала ли бы она нам такой подарок, если бы у нее не было цели? А какая цель у нее может быть, господин? Только одна. Поместить его сюда, чтобы убить тебя… точно так, как ты хочешь послать его, чтобы убить ее!
Он сильный человек – и позволил девушкам побить себя! У него был меч, священное острое оружие – и он позволил женщинам отобрать его. Ха–ха! – рассмеялся Зачель. – Ты веришь в это, господин? Я – нет!
— Клянусь Нергалом. – Кланет встал, разгневанный. – Клянусь Нергалом…
Он схватил Кентона за плечи, швырнул через дверь каюты на палубу. И быстро вышел за ним.
— Шарейн! – взревел он. – Шарейн!
Кентон поднял голову, увидел Шарейн у дверей ее каюты; она обнимала руками талии двух стройных девушек.
— Нергал и Иштар заняты, – насмехался черный жрец. – Жизнь на корабле стала скучной. У меня под ногами раб. Лживый раб. Ты его знаешь, Шарейн?
Он наклонился и высоко поднял Кентона, как мужчина ребенка. Ее лицо, холодное, презрительное, не изменилось.
— Он ничто для меня… червь, – ответила она.
— Ничто для тебя? – ревел Кланет. – Но по твоей воле он пришел ко мне. У него лживый язык, Шарейн. По старому закону раб должен быть наказан за это. Я выставлю против него четверых моих людей. Если он победит их, я сохраню ему жизнь… на некоторое время… чтобы он и дальше развлекал нас. Но если победят они… у него вырвут его лживый язык. Я пришлю его тебе в знак моей любви, о священный сосуд Иштар!
— Ха–ха! – рассмеялся черный жрец, видя, как побледнела Шарейн. – Испытание твоего колдовства, Шарейн. Заставь этот язык говорить. Заставь его… – хриплый голос замурлыкал… – заставь его говорить тебе о любви. О том, как ты прекрасна, Шарейн. Как удивительна, как сладка, Шарейн! Немного упрекать тебя, может быть, за то, что ты позволила его вырвать!
— Хо–хо! – хохотал Кланет. Потом, как бы выплевывая: – Ты, храмовая шлюха!
Он сунул в руки Кентону легкий хлыст.
— Сражайся, раб, – рявкнул он, – дерись за свой лживый язык!
Вперед прыгнули четверо жрецов, вытягивая из‑под одежды ремни, окованные металлом. Они окружили его и, прежде чем Кентон собрался с силами, набросились. Прыгнули, как четыре тощих волка, стегали его своими ремнями. Удары падали ему на голову, на обнаженные плечи. Он пытался отразить удары, вернуть их. Металл ремней глубоко врезался в тело. С плеч, груди, со спины потекла кровь.
Ремень попал ему в лицо, на какое‑то время ослепив.
Он услышал издалека золотой голос Шарейн, полный презрения:
— Раб – ты даже бороться не можешь!
Изрыгая проклятия, он отбросил ненужный хлыст. Прямо перед собой увидел улыбающееся лицо жреца, который ударил его. Прежде чем жрец смог снова поднять ремень, кулак Кентона ударил его прямо в ухмыляющийся рот. Кентон почувствовал, как под костяшками его пальцев хрустнули кости носа, посыпались зубы. Жрец отшатнулся, упал и покатился к борту.
И сразу оставшиеся трое набросились на него, пытались схватить за горло, рвали ногтями, хотели сбить с ног. Он высвободился. На мгновение трое отступили, потом набросились вновь. Один оказался немного впереди остальных. Кентон схватил его за руку, завел эту руку за плечо, подставил бедро, напрягся и швырнул жреца по воздуху на остальных. Голова жреца ударилась о палубу, послышался треск, как от лопнувшего сухожилия. Мгновение тело стояло на голове, касаясь палубы плечами, ноги извивались в гротескном полуобороте. Затем упало и лежало неподвижно.
— Хороший бросок! – услышал Кентон голос перса.
Длинные пальцы схватили его за ноги, ноги его потянуло в сторону. Падая, он увидел перед собой лицо – вернее, красное пятно на месте лица; лицо первого жреца, которого он ударил. Кентон вытянул руки. В глотку ему вцепились когти. В мозгу Кентона вспыхнула ужасная картина, которую он видел в другой неравной схватке на поле битвы во Франции. Вверх взметнулась его правая рука с вытянутыми двумя пальцами. Они попали в глаза душителя. Кентон безжалостно нажал. И услышал крик боли, слезы и кровь струились по его рукам, душившие пальцы разжались. На месте глаз были теперь две пустых красных глазницы, из которых торчали какие‑то утолщения.
Кентон вскочил на ноги. Наступил на красное лицо, наступил раз, два, три – и пальцы, державшие его за ноги, разжались.
Он мельком заметил бледное лицо Шарейн с широко раскрытыми глазами; понял, что черный жрец больше не смеется.
На него устремился четвертый жрец, сжимая в руке нож с широким лезвием. Кентон наклонил голову и бросился навстречу. Схватил руку, державшую нож, дернул ее назад, услышал, как щелкнула кость. Четвертый жрец закричал и упал.
Кентон увидел Кланета, смотревшего на него, раскрыв рот.
Прямо к горлу черного жреца он прыгнул, подняв кулак. Но жрец вытянул руку, схватил его в прыжке, поднял высоко над головой и приготовился ударить о палубу.
Кентон закрыл глаза – это конец.
Он услышал настойчивый голос перса:
— Эй, Кланет, эй! Не убивай его! Ради Исхака из девяти адов – не убивай его! Кланет! Сохрани его для будущих схваток!
Потом барабанщик:
— Нет, Кланет, нет! – Он чувствовал, как его перехватили когти Джиджи, держали его крепко. – Нет, Кланет! Он сражался честно и храбро. Хорошо его сохранить на будущее. Может, он изменит свои намерения – научится повиновению. Помни, Кланет, он может пересекать барьер.
Огромное тело жреца задрожало. Медленно руки его начали опускать Кентона.
— Повиновение? Ха! – послышался резкий голос надсмотрщика. – Дай мне его, господин, на место раба, умершего у весла. Я научу его… повиновению.
Черный жрец опустил Кентона на палубу. Постоял над ним. Потом кивнул, повернулся и ушел в каюту. Кентон, охваченный реакцией, съежился, сжал руки в коленях.
— Сними цепи с мертвого раба и выбрось его за борт, Зачель, – услышал он голос Джиджи. – Я послежу за ним, пока ты не вернешься.
Кентон слышал, как ушел надсмотрщик. Барабанщик склонился над ним.
— Ты хорошо сражался, волчонок, – прошептал он. – Хорошо сражался! Теперь в цепи. Повинуйся. Придет и твоя возможность. Слушайся меня, волчонок, и я сделаю, что могу.
Он отошел. Кентон, удивленный, поднял голову. Увидел, как барабанщик нагнулся поднял тело жреца со сломанной шеей и одним движением длинной руки бросил его за борт. Наклонившись опять, выбросил тело того, на чье лицо наступил Кентон. Остановился в раздумье перед кричащим ужасом с пустыми глазницами, извивающимся на палубе. Потом, весело улыбнувшись, схватил его за ноги и тоже перебросил через борт.
— Потом будет на трех меньше беспокойства, – пробормотал Джиджи.
Кентона охватила дрожь, зубы его застучали, он всхлипнул. Барабанщик удивленно взглянул на него.
— Ты храбро сражался, волчонок, – сказал он. – Почему же ты дрожишь, как побитый пес, у которого отобрали кость?
Он положил руки на окровавленные плечи Кентона. При этом прикосновении Кентон перестал дрожать. Как будто через руки Джиджи вливался поток силы, которую пила его душа. Как будто он наткнулся на древний источник, на древний бассейн равнодушия к жизни и смерти.
— Хорошо! – сказал Джиджи и встал. – За тобой идет Зачель.
Надсмотрщик стоял рядом, он коснулся плеча Кентона, указал вниз, на лестницу, ведущую с черной палубы в гребную яму. Кентон спустился в полутьму ямы, Зачель – за ним. Кентон, спотыкаясь пошел по узкому проходу, был остановлен у большого весла, на котором лежала голова человека с мускулистыми плечами и длинными, как у женщины, светлыми волосами. Гребец с золотыми волосами спал. Вокруг его талии шло толстое железное кольцо. Сквозь это кольцо была продета цепь, ее конец крепился к скобе, глубоко вбитой в скамью, на которой сидел гребец. На запястьях его были наручники. Такие же кольца – на весле. Кольца и наручники соединяла еще одна цепь.
Слева от спящего было пустое металлическое кольцо, на весле – пара пустых колец, с которых свисала цепь с наручниками.
Зачель подтолкнул Кентона к этому месту рядом со спящим. Надел ему на пояс кольцо, защелкнул его, закрыл на замок.
Сунул руки не сопротивлявшегося Кентона в наручники, защелкнул и их и тоже закрыл на замок.
И тут Кентон почувствовал на себе чей‑то взгляд. Смотрели сзади. Он увидел наклонившееся над перилами лицо Шарейн. В глазах ее была жалость и еще какое‑то чувство, от которого сердце Кентона забилось.
— Я научу тебя повиновению – не сомневайся! – сказал Зачель.
Кентон снова оглянулся.
Шарейн ушла.
Он склонился к веслу рядом со спящим гигантом.
Склонился к веслу…
Прикован к нему.
Раб на корабле!
8. РАССКАЗ СИГУРДА
Кентон проснулся от резкого звука свистка. Плечо его обожгло как горячим железом. Он рывком поднял голову, лежавшую на руках; тупо посмотрел на наручники на запястьях. Опять обожгло плечи, впилось в тело.
— Вставай, раб! – услышал он рычание – он знал этот голос и пытался осознать свое окружение. – Вставай! За весла!
Другой голос, рядом, прошептал хрипло, но с теплым чувством товарищества:
— Поднимайся, иначе кнут напишет на твоей спине кровавые руны.
Кентон с трудом распрямился, руки его механически легли в два гладких полированных углубления на деревянном стволе, к которому он был прикован. Стоя на скамье, он увидел спокойный бирюзовый океан, небольшие волны в огромном перевернутом кубке из серебристого тумана. Перед ним находились четыре человека, два стояли, два сидели у больших весел, подобных тому, за которое держался он; весла проходили сквозь борт судна. За ними видна была черная палуба…
Память вернулась к нему, уничтожив остатки сна. Первый голос принадлежал Зачелю, а прикосновение к плечу – удар бича надсмотрщика. Кентон повернул голову. Еще с десяток мужчин, черных и коричневых, сидели и стояли у других больших весел, сгибаясь и разгибаясь, двигая корабль Иштар по спокойному лазурному морю. И на платформе у мачты стоял Зачель, насмешливо улыбаясь. Кентона снова ударил длинный бич.
— Не оглядывайся! Греби! – рявкнул Зачель.
— Я буду грести, – прошептал второй голос. – Стой и качайся вместе с веслом, пока к тебе не вернется сила.
Кентон взглянул на светловолосую голову; волосы длинные, будто женские. Но ничего женского в этом поднятом на мгновение ему навстречу лице не было. Ледяной холод и ледяная синева были в глазах, как будто чуть подтаявших от теплого дружеского чувства. Кожа, закаленная бурями, окрашенная ураганами. Ничего женского и в больших мышцах плеч, спины и рук, которые вздымали огромное весло легко, как женщина метлу.
Северянин до кончика пальцев; викинг из древней саги и, подобно Кентону, раб на корабле; гигант, спавший на весле, когда Кентона приковывали к месту.
— Я Сигурд, сын Тригга, – пробормотал северянин – Какие злые норны привели тебя на корабль колдунов? Говори тихо, наклонись к веслу – у дьявола с хлыстом острый слух.
В такт движениям весла Кентон наклонялся и выпрямлялся, стоя на скамье. Оцепенение, охватившее его мозг, проходило и тем быстрее, чем быстрее мышцы, державшие весло, разгоняли кровь по телу. Сосед одобрительно крякнул.
— Ты не слабый человек, – прошептал он. – Весла утомляют, но по ни из моря идет сила. Однако пей эту силу неторопливо. Становись сильней – медленно. А потом, может быть, мы с тобой…
Он замолчал, искоса бросил осторожный взгляд на Кентона.
— По внешности ты Эйрна, с южных островов, – прошептал он. – Я не таю злобу на людей Эйрна. Они всегда отвечают нам мечом на меч, встречают грудь к груди. Многими ударами мы обменялись, и крылатые валькирии никогда не возвращаются в Валгаллу с пустыми руками, когда мы встречаемся с людьми Эйрна. Храбрые люди, сильные люди, люди, которые умирают с криком, целуя лезвие меча и острие копья весело, как невесту. Ты один из них?
Кентон быстро соображал. Он должен так ответить, чтобы подкрепить дружбу, ясно предложенную ему. Ни откровения полной правды, ни уклончивого ответа, вызывающего подозрение.
— Меня зовут Кентон, – негромко ответил он. – Мои предки из Эйрна. Они хорошо знают викингов и их корабли – и мне не передали никакой злобы к ним. Я буду твоим другом, Сигурд, сын Тригга, все время, пока мы будем вместе. И мы с тобой… вместе…
Он многозначительно замолчал, как перед этим викинг. Северянин кивнул, затем снова взглянул искоса.
— Как выпала тебе эта злая судьба? – спросил он по–прежнему шепотом. – С тех пор как меня привели на корабль на острове волшебников, мы не заходили в гавань. И тебя здесь не было, когда меня приковали к веслу.
— Сигурд, клянусь всеобщим отцом Одином, не знаю! – руки северянина вздрогнули при имени его бога. – Невидимая рука выхватила меня из моего мира и перенесла сюда. Сын Гелы, главный на черной палубе, предложил мне свободу – если я совершу постыдный поступок. Я отказался. Я сразился с его людьми. Убил троих. И тогда меня приковали к веслу.
— Ты убил троих! – Викинг смотрел на Кентона сверкающими глазами, оскалив зубы. – Убил троих! Твое здоровье! Товарищ! Твое здоровье!
Что‑то, похожее на летающую змею, свистнуло рядом с Кентоном; свистнуло и ударило северянина по спине. Кровь брызнула с этого места. Хлыст ударил еще и еще.
Сквозь свист бича послышалось рычание Зачеля:
— Собака! Отродье свиньи! Ты сошел с ума? Убить тебя?
Под ударами хлыста Сигурд, сын Тригга, задрожал. Он посмотрел на Кентона, на губа]х его появилась кровавая пена. И Кентон вдруг понял, что это не от боли ударов – от стыда и гнева, что удары вызывают кровотечение из сердца, могут разорвать его.
И Кентон, откинувшись, заслонил собою окровавленную спину, принял удары на себя.
— Ха! – закричал Зачель. – Ты тоже хочешь? Ты ревнуешь к поцелуям моего кнута? Что ж – получи их сполна!
Хлыст безжалостно свистнул и ударил, свистнул и ударил. Кентон стоически переносил побои; ни на мгновение не отодвинул он своего ставшего щитом тела; и при каждом ударе думал, как он ответит на них, когда придет время…
Когда он овладеет кораблем!
— Остановись! – Сквозь затянутые болью глаза он увидел наклонившегося через перила барабанщика. – Ты хочешь убить раба? Клянусь Нергалом, если ты сделаешь это, я попрошу у Кланета разрешения приковать тебя на его место!
Потом мрачный голос Зачеля: «Греби, раб!
Молча, почти теряя сознание, Кентон склонился к веслу. Северянин взял его за руку, сжал его в железном захвате.
— Я Сигурд, сын Тригга! Внук Ярла! Хозяин драккаров! – голос его звучал негромко, но в нем был отзвук скрещивающихся мечей; он говорил, закрыв глаза, будто стоял перед алтарем. – Теперь между нами кровное братство, Кентон из Эйрна! Мы с тобой – кровные братья. Клянусь кровавыми рунами на твоей спине, которую ты подставил вместо моей. Я буду твоим щитом, как ты был моим. Наши мечи всегда будут заодно. Твои друзья – мои друзья, твои враги – мои враги И моя жизнь – твоя, если понадобится! Клянусь всеобщим отцом Одином и всеми асами – я, Сигурд, сын Тригга! И если я нарушу эту клятву, пусть жалят меня ядовитые змеи Гелы, пока не увянет Ягдразил, древо жизни, и не наступит Рагнарек – ночь богов!
На сердце у Кентона стало тепло.
Пожатие северянина стало еще сильнее. Затем он разжал руку и склонился к веслу. Ничего больше не было сказано, но Кентон знал – клятва скреплена.
Щелкнул бич надсмотрщика, просвистел резкий свисток. Четыре передних гребца высоко подняли весла и положили их в ниши. Викинг поднял свое весло и положил в такое же углубление.
— Садись, – сказал он. – Сейчас нас вымоют и накормят.
Тут на них полилась вода. Прошли два коричневых человека, обнаженные по пояс, со спинами, покрытыми шрамами. В руках они держали ведра. Подняли их и опрокинули на следующих двух гребцов. Потом повернулись и ушли по узкому проходу между скамьями. Тела у них были мощные. Лица как будто с древней ассирийской фрески, узкие, с крючковатыми носами, с полными губами. На этих лицах не было признаков разума. Глаза у них были пустые.
Пара вернулась с другими ведрами, воду вылили на пол и чисто вымыли его. Тогда два других раба поставили на скамью между Кентоном и северянином грубую тарелку и чашку. На тарелке лежал десяток длинных стручков и груда круглых лепешек, напоминающих хлеб из маниоки, который в тропиках пекут на солнце. Чашка полна была темной густой жидкостью, пурпурно–красной.
Кентон пожевал стручки. Они были мясистые, и вкусом напоминали мясо. Круглый лепешки имели вкус того, что они напоминали, – хлеба из маниоки. Жидкость оказалась крепкой, ароматной, со вкусом брожения. В этой еде и питье была сила. Северянин улыбнулся ему.
— Теперь хлыста нет, можно говорить, только негромко, – сказал он. – Таково правило. Поэтому, пока мы едим и пьем, задавай вопросы без страха, кровный брат.
— Прежде всего я хотел бы узнать две вещи из многих, – ответил Кентон. – Как ты попал на корабль, Сигурд? И откуда приходит эта пища?
— Пища из разных мест, – ответил викинг. – Это корабль колдунов, к тому же проклятый. Он нигде не может надолго останавливаться, и нигде его не ждут. Да, даже в Эмактиле, которая полна колдунами. Когда корабль приходит в гавань, на него несут пищу и такелаж быстро и со страхом. Все это быстро грузят на корабль и отплывают, чтобы владеющие им демоны не рассердились и не уничтожили их. У них сильное колдовство – у этого бледного сына Гелы и у женщины на белой палубе. Иногда она мне кажется дочерью Локи, которого Один заковал в цепи за его злобность. А иногда я считаю ее дочерью Фреи, матери богов. Но кто бы она ни была, она прекрасна и у нее великая душа. У меня к ней нет ненависти.
Он поднес чашку к губам.
— Как я появился здесь, – продолжал он, – это долгая история. Я плыл на юг во флоте Рагнара Красное Копье. Мы выплыли на двенадцати больших драккарах. И плыли на юг через множество морей, грабя по пути. Потом из оставшихся десяти драккаров шесть приплыли в город в земле египтян. Очень большой город и полон храмов богов со всего мира – кроме наших.
Нас рассердило, что среди этих храмов нет храма всеобщего отца Одина. Мы разгневались. И вот однажды вечером, когда мы выпили много крепкого египетского вина, мы вшестером решили захватить храм, выбросить оттуда его бога и отдать его Одину.
Мы пришли к храму и вошли в него. Это был темный храм, полный черных одежд, как эти, на корабле. Когда мы объяснили им, что собираемся делать, они зажужжали, как пчелы, и бросились на нас волчьей стаей. Мы тогда многих убили. И захватили бы храм для Одина, воюя вшестером в кольце врагов, но тут – затрубил рог.
— Он призывал помощь? – спросил Кентон.
— Вовсе нет, кровный брат, – ответил Сигурд. – Это был колдовской рог. Рог сна. Он навел на нас сон, как ветер бросает брызги пены на паруса. Он превратил наши кости в воду, наши красные мечи выпали из рук, которые больше не могли держать их. И мы упали, охваченные сном, упали среди мертвых.
Проснулись мы в храме. Мы решили, что это тот же самый храм: он был темный, и в нем полно жрецов в черных одеждах. Мы были закованы в цепи, нас высекли и превратили в рабов. И тут мы узнали, что находимся не в земле египтян, а в городе, который называется Эмактила, на острове колдунов в море, и все это, как я думаю, в мире колдунов. Долго я был рабом у черных жрецов, я и мои товарищи, пока меня не приволокли на этот корабль, который бросил якорь в гавани Эмактилы. И с тех пор я сижу у весла, смотрю на их колдовство и стараюсь уберечь свою душу.
— Рог, который насылает сон! – удивленно сказал Кентон. – Я не понимаю этого, Сигурд.
— Поймешь, товарищ, – мрачно сказал Сигурд. – Скоро поймешь. Зачель хорошо играет на нем… слушай… он начинает.
Сзади послышался звук рога – глубокий, монотонный, густой звук. Низкий, дрожащий, длительный, он забирался в уши и через них, казалось, проникает в каждый нерв, касается его, ласкает, навевает на самую душу наркотический сон.
Нота монотонно тянулась, навевая сон.
Гневные глаза викинга были напряжены в борьбе со сном. Медленно, медленно его веки сомкнулись. Руки расслабились, пальцы разжались, тело покачнулось, голова упала на грудь. И он упал на скамью.
Монотонная нота продолжала тянуться.
Как ни старался Кентон, он не мог отогнать мягкий, липкий сон, навалившийся на него со всех сторон. Все тело его онемело. Сон, сон – рои бесчисленных частиц сна летели на него, плыли в крови каждого сосуда, вдоль каждого нерва, туманили мозг.
Все ниже и ниже опускались его веки.
Больше он не мог бороться. Звеня цепями, он упал рядом с Сигурдом.
Что‑то глубоко внутри Кентона заставило его проснуться. Что‑то поднялось из пропасти зачарованного сна к поверхности его сознания.
Медленно начали подниматься тяжелые веки и остановились, повинуясь какому‑то предупреждению. Он посмотрел сквозь сомкнутые ресницы. Цепи, приковывавшие его руки к кольцам на весле, были длинные. Он подвинулся во сне и теперь лежал вытянувшись, спиной к низкой скамье. Лицом к белой палубе.
На краю ее, глядя на него, стояла Шарейн. Бледно–голубая накидка, на которой руки давно умерших ассирийских девушек выткали золотые лотосы, покрывала ее грудь, струилась по стройной талии и падала к маленьким ногам в сандалиях. Черноволосая Саталу стояла рядом с ней и тоже наклонялась, глядя на него.
— Госпожа, – услышал он голос Саталу, – он не может быть человеком Нергала, слуги Нергала приковали его здесь.
— Да, – проговорила Шарейн, – да, в этом я ошибалась. И будь он слугой Нергала, он не смог бы пересечь барьер. И Кланет не насмехался бы надо мной, как тогда…
— Он очень красив и молод, – вздохнула Саталу, – и силен Сражался с жрецами, как повелитель лев.
— Даже крыса, загнанная в угол, может отбиваться, – презрительно ответила Шарейн. – Он позволил заковать себя в цепи, как побитую собаку.
— О! – воскликнула Шарейн, это был наполовину плач, – о, Саталу, я стыжусь! Лжец, трус, раб – и все же он затрагивает что‑то в моем сердце, что не затрагивал еще ни один мужчина. О, я стыжусь, я стыжусь, Саталу!
— Госпожа Шарейн, не плачь! – Саталу схватила ее за руки. – Может быть, он не лжец и не трус. Откуда нам знать Может, он сказал правду. Как нам знать, что случилось в мире, который мы потеряли так давно? И он очень красив – и молод!
— И все же он раб, – горько сказала Шарейн.
— Ш–ш-ш! – предупредила Саталу. – Зачель возвращается.
Они повернулись, направились к каюте и исчезли из поля зрения Кентона.
Прозвучал свисток побудки. Рабы зашевелились, и Кентон застонал, потянулся, потер глаза и схватился за весло.
В сердце его был восторг. Ошибиться в словах Шарейн было нельзя. Он привлекал ее. Может быть, слегка, но привлекал И если бы не был рабом – но ведь он не всегда будет рабом – что тогда? Не такой тонкой нитью будет он держать ее. Он рассмеялся, но негромко, чтобы не услышал Зачель. Сигурд с любопытством взглянул на него.
— Сонный рог принес тебе веселые сны, – прошептал он.
— На самом деле веселые, Сигурд, – ответил Кентон. – Такие сны делают наши цепи тоньше, пока мы не сможем их порвать.
— Пусть Один шлет такие сны почаще, – пожелал северянин.
9. ДОГОВОР С ШАРЕЙН
Когда Зачель снова подул в свой рог, Кентону не нужна была его помощь, чтобы уснуть. Острый взгляд надсмотрщика улавливал все хитрости Сигурда, он постоянно следил за Кентоном и стегал его, если то сбивался с ритма или позволял северянину брать на себя большую тяжесть. Руки Кентона были в волдырях, каждая кость и каждая мышца болели, а мозг тупо дремал в усталой голове. И так продолжалось пять следующих снов.
Однажды Кентон нашел в себе силы и задал вопрос, который все время возникал в его мозгу. Половина гребцов находилась за линией, разделяющей белую и черную палубы – ни Кланет с его свитой, ни Шарейн с ее женщинами не могли пересечь эту границу. А Зачель расхаживал от одного края ямы до другого; другие жрецы тоже, потому что он видел их. И хотя он не видел внизу ни Кланета, ни Джиджи, ни перса, он не сомневался, что они тоже могли бы пройти. Почему же тогда черные одежды не проберутся понизу и не захватят розовую каюту? Почему Шарейн и ее женщины не спустятся в яму и не устроят засаду черной каюте? Почему не пускают в ход свои копья, свои стрелы – через яму в стаю черных жрецов?
Это колдовской корабль, повторил викинг, и на нем лежит не простое заклятье. Умерший раб рассказывал ему, что он был на корабле с того дня, как его спустили боги, и что всегда невидимый загадочный барьер отделял одну половину корабля от другой. Ни копье, ни стрела, ни другой снаряд не могли пересечь этот барьер, если не были посланы рукой бога или богини.
Оставаясь людьми, и тот и другой лагерь бессильны друг перед другом. Есть и другие законы, говорил раб Сигурду. Ни Шарейн, ни Кланет не могут покинуть корабль, когда он приходит в гавань. Женщины Шарейн могут. Черные жрецы тоже, но ненадолго. Скоро они должны вернуться. Корабль тянет их к себе. Что сними будет, если они не вернутся? Раб не знал, но сказал, что это невозможно, корабль все равно притянет их.
Кентон раздумывал над этим, с болью в спине гребя веслом. Несомненно, корабль создали весьма практичные и эффективные божества они ничего не упустили, ни малейшей подробности, подумал он насмешливо.
Что ж, они создали игру, и у них есть право создавать законы этой игры. Он подумал, сможет ли Шарейн свободно ходить по кораблю от носа до кормы, когда он станет его хозяином. Думая об этом, он услышал рог Зачеля и, довольный, погрузился в забвение, которое приносил сон.
После шестого сна он проснулся с кристально ясным сознанием, с удивительным чувством радости жизни, тело его, свободное от боли, стало гибким и сильным. Он легко и сильно двигал веслом.
— Я предсказывал, что сила придет к тебе из моря, – сказал Сигурд. Кентон с отсутствующим видом кивнул, его обострившаяся мысль ухватилась за проблему освобождения от цепей.
Что происходит на корабле, когда гребцы спят? Не может ли представиться ему и викингу шанс освободиться, если они не заснут?
Если бы он мог не заснуть!
Но как закрыть уши, если рог льет в них сон, как сирены в древности лили свои смертоносные песни в уши моряков, посмевших приплыть в их владения.
Сирены! В его памяти вспыхнуло приключение хитроумного Одиссея. Как его охватило желание услышать песни сирен – но не остаться с ними. Как приплыл он в их владения, залепил уши своих гребцов растопленным воском, велел им привязать себя к мачте с открытыми ушами – и тога, проклиная всех, стремясь разорвать путы, сходя с ума от желания прыгнуть в их белые руки, он слышал их зачарованные мелодии – и благополучно уплыл от них.
Поднялся ветер – постоянный ровный ветер, который заполнял парус корабля и нес его по мягким волнам. Скомандовали сушить весла. Кентон склонился на скамье. Сигурд был в дурном настроении, когда он становился молчалив, лицо хмурое, глаза устремлены вдаль, он полон мечтами о далеких днях, когда его драккар бороздил Северный океан.
Кентон опустил руки на шелковые тряпки, в которые были завернуты его ноги, пальцы его, внешне бесцельно, начали отрывать нити, сминать их и собирать в шелковые цилиндрики. Он продолжал работать, викинг не обращал на него внимания. И вот он сделал две пробки. Зажал одну в ладони, потер лицо и незаметно всунул пробку в ухо. Немного подождал, закрыл второе ухо. Рев ветра превратился в громкий шепот.
Медленно, незаметно вынул пробки, скрутил еще нитей. Снова заткнул уши. Теперь слышалось только слабое далекое бормотание. Удовлетворенный, он сунул пробки за пояс.
Корабль летел вперед. Вскоре пришли рабы и вылили на них с викингом ведра с водой, принесли им еду и питье.
Перед самым началом сна Кентон опустил голову на скамью, держа в пальцах шелковые цилиндрики. Быстро засунул их в уши. И расслабил все мышцы. Монотонный звук рога превратился в еле слышное жужжание. Но даже и теперь его охватывал сон. Кентон боролся с ним, отгонял сон. Жужжание прекратилось. Он слышал, как рядом прошел надсмотрщик, посмотрел ему вслед сквозь сомкнутые ресницы. Надсмотрщик поднялся на корму и исчез в каюте Кланета.
Черная палуба была пуста. Как бы ворочаясь во сне Кентон перевернулся, опустил руку со скамьи, положил на нее руку и взглянул на то, что находилось за ним.
Он услышал смех, золотой, звонкий. По краю палубы шла Шарейн, рядом с ней черноволосая Саталу. Шарейн села, развязала свои волосы, распустила золотое облако по плечам, сидела будто под ароматным шелковым красно–золотым тентом. Шаталу приподняла золотистую прядь, начала расчесывать ее.
И сквозь эту прекрасную паутину глаза Шарейн устремились на него. Невольно он широко раскрыл свои, взглянул в ее полускрытые зрачки. Она удивленно выдохнула, приподнялась, в изумлении смотрела на него.
— Он не спит! – прошептала она.
— Шарейн! – выдохнул он.
Он видел, как краска покрыла ее лицо, оно стало холодным. Она подняла голову, нарочито принюхалась.
— Саталу, – сказала она, – тебе не кажется, что очень воняет из ямы? – Она сморщила нос. – Да, я уверена. Как на старом базаре рабов в Уруке, когда приводили новых рабов.
— Я… я не заметила, госпожа, – запинаясь, ответила Саталу.
— Ну, конечно, – голос Шарейн стал безжалостен. – Вот он сидит, новый раб. Странный раб, который спит с открытыми глазами.
— Но он… он не похож на раба, – девушка по–прежнему запиналась.
— Неужели? – ласково спросила Шарейн. – Что с твоей памятью, девушка? Каковы признаки раба?
Черноволосая девушка не ответила, низко склонилась над локонами госпожи.
— Цепь и следы кнута, – насмехалась Шарейн. – Вот признаки раба. И у этого нового раба они есть – во множестве.
Кентон по–прежнему молчал, не отвечал на насмешки, не двигался; он на самом деле едва слышал ее, упиваясь ее красотой.
— Ах, мне снился человек, который пришел ко мне с великими словами, носитель обещаний, надежда моего сердца, – вздохнула Шарейн. – Я открыла ему свое сердце – в том сне, Саталу. Все сердце! А он ответил мне ложью, и его обещания оказались пустыми, и мои девушки побили его. А теперь мне кажется, что там сидит этот лжец и слабый человек из моего сна, и на спине у него следы кнута, а руки у него в цепях. Раб!
— Госпожа! О, госпожа! – прошептала Саталу.
Кентон хранил молчание, хотя насмешки начали жечь его.
Неожиданно она встала, просунула руки сквозь сверкающие пряди.
— Саталу, – прошептала она, – может ли мой вид разбудить раба? Может ли раб, особенно молодой и сильный, разорвать свои цепи – ради меня?
Она качнулась, обернулась; сквозь тонкую одежду сверкнули изящные розовые округлости грудей и бедер. Она широко раскинула сеть своих волос, посмотрела сквозь них на него шаловливым взглядом. Прихорашиваясь, выставила вперед розовую ногу, колено с ямочкой.
Он безрассудно поднял голову, кровь ударила ему в лицо.
— Цепи будут разорваны, Шарейн! – воскликнул он. – Я разорву их – не сомневайся. И потом…
— И потом, – повторила она, – потом мои девушки снова побьют тебя, как и раньше! – она усмехнулась и отвернулась.
Он следил, как она уходит, пульс бился в его висках, как барабан. Он заметил, что она остановилась и что‑то шепнула Саталу. Черноволосая девушка обернулась и сделала ему предупреждающий жест. Он закрыл глаза и опустил голову на руки. И услышал шаги Зачеля, спускавшегося в яму. Прозвучал будящий свисток.
Но если она смеялась над ним, почему предупредила об опасности?
Шарейн снова смотрела на него с палубы.
С того первого раза прошло время, но как измерить его в этом заколдованном мире, Кентон не знал Как и корабль, он запутался в безвременной паутине.
Сон за сном лежал он на скамье, ожидая ее. Она не выходила из каюты. Или если и выходила, то не попадалась ему на глаза.
Он не рассказывал викингу, что сумел разорвать чары сна. Сигурду он верил душой и телом. Но он был уверен в хитрости северянина, не был уверен, что тот сумеет изобразить сон, как это делал Кентон. Он не мог рисковать.
И вот Шарейн стояла и смотрела на него с палубы возле изумрудной мачты. Рабы спали. На черной палубе никого не было. И в лице Шарейн не было насмешки. И когда она заговорила, слова ее нашли отклик в его сердце.
— Кто бы ты ни был, – шептала она, – две вещи ты можешь делать. Пересекать барьер. Оставаться бодрствовать, когда другие рабы спят. Ты сказал, что можешь разорвать цепи. Поскольку те две вещи ты можешь делать, я верю, что и третья может оказаться правдой. Если только…
Она помолчала; он прочел ее мысли.
— Если только я солгал тебе, как лгал и раньше, – спокойно сказал он. – Что ж, я тебе не лгал.
— Если ты разорвешь цепи, – сказала она, – ты убьешь Кланета?
Он сделал вид, что думает.
— Зачем мне убивать Кланета? – спросил он наконец.
— Зачем? Зачем? – в голосе ее звучало презрение. – Разве он не заковал тебя в цепи? Не высек тебя? не сделал тебя рабом?
— А разве Шарейн не прогнала меня копьями? – спросил он. Разве не Шарейн сыпала мне соль на раны своими насмешками? Своим смехом?
— Но… но ты лгал мне! – воскликнула она.
Снова он сделал вид, что раздумывает.
— И что же получит этот лжец, слабак и раб, если убьет ради тебя этого черного жреца? – спросил он.
— Получит? – повторила она, не понимая.
— Чем ты мне за это заплатишь? – сказал он.
— Заплатить тебе? Заплатить? – она жгла его своим презрением. – Тебе заплатят. Ты получишь свободу – любые из моих драгоценностей – все бери…
— Свободу я и так получу, убив Кланета, – ответил он. – Какая польза мне от драгоценностей на этом проклятом корабле?
— Ты не понимаешь, – сказала она. – Когда ты убьешь черного жреца, я смогу высадить тебя в любом месте, где захочешь, в этом мире. Тут везде ценятся драгоценности.
Она помолчала и добавила: «И разве они не ценятся в твоем мире, куда ты, кажется, можешь возвращаться, когда тебе грозит опасность?» Голос ее теперь был сладкий яд. Но Кентон только рассмеялся.
— Чего же еще ты хочешь? – спросила она. – Если этого недостаточно, чего же еще?
— Тебя!
— Меня? – выдохнула она. – Я, которая не отдавалась за плату никому. Я – должна отдаться тебе? Ты избитый пес. – Она бушевала. – Никогда!
До этого момента Кентон вел рассчитанную игру; теперь же он почувствовал гнев, такой же настоящий, как и ее.
— Нет! – воскликнул Кентон. – Нет! Ты не отдашь себя мне! Клянусь Богом, Шарейн, я возьму тебя!
Он протянул к ней сжатые в кулак закованные руки.
— Я буду хозяином корабля, и без всякой твоей помощи – ты назвала меня трусом и лжецом, а теперь готова бросить мне плату мясника. Я захвачу корабль своими руками. И теми же руками возьму – тебя!
— Ты угрожаешь мне! – лицо ее покраснело от гнева. – Ты!
Она прижала руку к груди, достала кинжал – бросила в него. Но он, как будто ударившись о невидимую стену, упал со звоном у ее ног, лезвие откололось от рукояти.
Она побледнела, съежилась.
— Ненавидь меня! – насмехался Кентон. – Ненавидь меня, Шарейн: что такое ненависть, как не очищающий пламень для чаши любви?
Она ушла и дверь каюты закрыла вовсе не бесшумно. А Кентон, мрачно усмехаясь, склонил голову на весло. Скоро он спал, как и его сосед северянин.
10. НА КОРАБЛЕ ПОД ПАРУСОМ
Он проснулся от шума и суматохи по всему кораблю. На белой и черной палубах стояли люди, они указывали, разговаривали, жестикулировали. Стая птиц, первая увиденная им в этом странном мире, пролетела над головой. Крылья у птиц были похожи на крылья больших бабочек. Оперение сияло как лакированное золотым и ярко–зеленым цветом. Из раскрытых клювов доносились крики, похожие на перезвон маленьких колоколов.
— Земля! – воскликнул викинг. – Мы входим в гавань. Должно быть, кончаются пища и вода.
Дул свежий ветер, и корабль шел под парусом. Не думая о биче Зачеля, Кентон взобрался на скамью, заглянул за нос. Надсмотрщик не обратил на это внимания, его собственный взгляд был устремлен вперед.
Перед ними находился солнечно–желтый остров, высокий и круглый, усеянный кратерами радужной расцветки. Если не считать этих углублений, весь остров казался сверкающим топазом, от основания, лежавшего в переливчатом мелком лазурном море до вершины, на которой росли деревья с листвой, похожей на оперение; ветви деревьев напоминали огромные плюмажи из страусиных перьев, окрашенные в тусклое золото. Над ними и в них мелькали яркие вспышки – как многочисленные летающие цветы.
Корабль подошел ближе. На носу собрались девушки Шарейн, они смеялись и болтали. А на галерее стояла Шарейн и смотрела на остров грустным задумчивым взглядом.
Теперь берег был совсем рядом. Опустился ярко–синий парус. Корабль на веслах медленно подходил все ближе и ближе. И только когда нос чуть не уткнулся в берег, рулевой резко повернул рулевое весло и развернул корабль. Они плыли вдоль берега, и султаны странных деревьев, овевающих палубу своими листьями, походили на ту листву, которую рисует мороз на стекле. Топазно–желтыми и солнечно–янтарными были эти листья, а ветви, с которых они свисали, блестели, как высеченные из желтого хризалита. На них висели огромные гроздья цветов, в форме лилий, пламенно–алых.
Медленно, все более медленно плыл корабль. Он вполз в широкую расщелину, которая рассекала остров почти до его середины. Берега расщелины пестрели многоцветными кратерами, и Кентон теперь увидел, что это просто поля цветов, росших как бы глубокими круглыми амфитеатрами. А сверкающие вспышки оказались птицами – птицами всех размеров, маленькие не больше стрекозы, а у самых больших крылья как у кондоров с высоких Анд. Большие и маленький, все они летали на ярких крыльях бабочек.
Остров дышал ароматом. И в нем не было ничего зеленого, кроме изумрудного сверкания птичьих перьев.
Мимо них скользила долина. Все медленнее мели палубу ветви деревьев. Корабль проскользнул в устье оврага, в конце которого водопад обрушивал дождь жемчужин в золотой бассейн, обрамленный папоротником. Послышался звон цепи, упал якорь. Нос корабля развернулся, прорезал листву, уперся в берег.
По трапу спустились женщины Шарейн, неся на головах большие корзины. Шарейн смотрела им вслед с глубокой грустью. Женщины мелькнули меж цветов, усеивавших рощу, все тише и тише звучали их голоса, совсем стихли. Шарейн, опустив подбородок на белые руки, впивала в себя землю широко раскрытыми тоскующими глазами. Над ее головой, над серебряным полумесяцем, по которому струились рыже–золотые волосы, парила птица – птица из сверкающих бриллиантов и блестящей синевы, с звоном волшебных колокольчиков. Кентон видел слезы на ее щеках. Шарейн заметила его взгляд и гневно отвернулась. Повернулась, как будто хотела уйти, потом уныло спряталась за цветущими деревьями своей галереи, где он больше не мог видеть, как она плачет.
Женщины вернулись с корзинами, полными добычи: фруктами, похожими на тыкву, пурпурными и белыми, большими гроздьями тех стручков, которые он ел, когда оказался на корабле. Они занесли свой груз в каюту и вышли с пустыми корзинами. Еще не раз они уходили и возвращались. Наконец они унесли не пустые корзины, а мехи для воды. Их они наполнили водой у водопада. Несколько раз приносили они мехи, полные водой, на своих плечах.
И вот они еще раз отправились на берег, на этот раз без ноши; весело спустились с борта, скинули свои легкие одежды и бросились в воду. Как водяные нимфы, плавали они и играли, а перламутровая вода ласкала, гладила их изысканные округлости – цвета слоновой кости, теплого розового цвета, мягкого коричневого. Наконец они выбрались из пруда, в цветочных венках и с охапками водяных лилий в руках, неохотно поднялись на борт и исчезли в каюте.
Теперь за борт спустились люди Кланета. Они тоже носили грузы на корабли, выливали воду в баки.
И снова началось движение на корабле. Загремели цепи, поднялся якорь. Вверх и вниз взметнулись весла, отводя корабль от берега. Вверх взлетел синий парус. Корабль развернулся, поймал ветер, медленно поплыл по аметистовым отмелям Быстрее заработали весла. Золотой остров уменьшался, превратился в шафрановое облачко на горизонте, исчез.
Корабль шел на парусах.
Все дальше и дальше – куда, в какой порт, этого Кентон не знал. Сон за сном шел корабль безостановочно. Огромная чаша серебряного тумана, краем которой был горизонт, то расширялась, то сужалась – туман то сгущался, то чуть рассеивался. Им встречались бури, но они их выдерживали; ревущие шторма сменяли серебро тумана расплавленной медью, чернотой, более глубокой, чем ночная тьма. Неожиданные порывы бури грозили молниями, страшными и прекрасными. Эти молнии напоминали осколки огромных призм, разбитые драгоценные радуги. Бури мчались на ногах громов. Гром звучал металлически, как звон колоколов; ураганы из бьющихся цимбал сменялись дождями многоцветных пламенеющих жемчужин.
И постоянно море вливало в Кентона силу через весло, как и пообещал Сигурд, переделывая его, преобразовывая, превращая его тело в машину, такую же закаленную и гибкую, как рапира.
Между снами Сигурд пел ему песни викингов, неспетые саги, забытые эпосы севера.
Дважды посылал за ним черный жрец допрашивал, угрожал, соблазнял – напрасно. И каждый раз с еще более мрачным лицом отправлял его обратно к цепям.
Сражений бога и богини больше не было. И Шарейн во время сна рабов не выходила из своей каюты. Бодрствуя, он не мог повернуть головы, не рискуя навлечь на себя бич Зачеля. Поэтому он часто поддавался сонному рогу – какой смысл бодрствовать, если Шарейн скрывается?
И вот наступил момент, когда он, лежа с закрытыми глазами, услышал чьи‑то шаги. Он повернулся, лицом прижимаясь к спинке скамьи, как будто в беспокойном сне. Шаги остановились возле него.
— Зубран, – это голос Джиджи, – этот человек превратился в юного льва.
— Да, он силен, – согласился перс. – Жаль, что сила его тратится здесь, перегоняя корабль от одного скучного места в другое.
— Я думаю так же, – сказал Джиджи. – Сила теперь у него есть. И есть мужество. Помнишь, как он убивал жрецов?
— Помню ли я? – в голосе перса больше не слышалась скука. – Как я могу забыть? Клянусь сердцем Рустама, это забыть невозможно! Для меня это первый глоток жизни, кажется, за столетия. Я у него в долгу за это.
— К тому же, – продолжал Джиджи, – у него есть верность. Я рассказывал тебе, как он защитил своей спиной человека, который спит с ним рядом. Этим он мне еще больше понравился.
— Прекрасный жест, – сказал перс. – Может, для изысканного вкуса чересчур цветистый. Но все же – прекрасный.
— Мужество, верность, сила, – размышлял барабанщик, потом медленно, с оттенком веселья в голосе, – и хитрость. Необычная хитрость, Зубран: он нашел способ закрыть уши для сонного рога – и сейчас он не спит.
Сердце Кентона остановилось, потом начало биться сильнее. Откуда барабанщик знает? Знает ли он на самом деле? Или только догадывается? Он отчаянно пытался сдержать нервы, заставлял себя лежать неподвижно.
— Что! – воскликнул перс недоверчиво. – Не спит! Джиджи, ты бредишь!
— Нет, – спокойно ответил Джиджи. – Я незаметно следил за ним. Он не спит, Зубран.
Неожиданно Кентон почувствовал прикосновение к своей груди, к сердцу руки. Барабанщик усмехнулся, отвел руку.
— Он к тому же осторожен, – одобрительно сказал он. – Он мне немного верит, но только немного. И тебя он знает недостаточно, Зубран, чтобы довериться тебе. Поэтому он лежит тихо и говорит себе: «Джиджи на самом деле не знает. Он не может быть уверен, пока я не открою глаза». Да, он осторожен. Но смотри, Зубран, он не может заставить кровь отхлынуть от лица, не может замедлить ритм сердца до сонного.
Он снова усмехнулся.
— А вот и еще одно доказательство его осторожности: он не сказал своему товарищу, что рог не имеет над ним власти. Слышишь, как храпит длинноволосый? Он‑то уж точно спит. Мне это нравится – он знает, что тайна, разделенная двоими, уже не тайна.
— Он кажется мне спящим. – Кентон почувствовал, как перс склоняется к нему, сомневаясь.
Усилием воли он держал свои веки закрытыми, дышал регулярно, спокойно. Долго ли они будут стоять тут?
Наконец Джиджи нарушил молчание.
— Зубран, – негромко сказал он, – подобно тебе, мне тоже наскучил черный жрец и эта бесплодная борьба между Иштар и Нергалом. Но, связанные обетом, ни я, ни ты не можем сразиться с Кланетом, не можем причинить вред его людям. Неважно, что обеты вырваны у нас хитростью. Мы их дали – и они действуют. До тех пор, пока Нергал через своего жреца правит на своей палубе, мы не можем сражаться с ним. Но, предположим, Кланет больше не правит, что чья‑нибудь рука отправила его к его темному хозяину?
— Это должна быть могучая рука! Где в этих морях мы найдем такую руку? И если найдем, как убедим выступить против Кланета? – насмехался перс.
— Я думаю, она здесь, – Кентон снова ощутил на себе руку барабанщика. – Мужество, верность, сила, быстрый ум и осторожность. У него все это есть. К тому же – он может пересекать барьер.
— Клянусь Ариманом! Верно! – Теперь я хочу дать еще один обет. Обет, к которому ты присоединишься. Если цепи этого человека будут… разорваны, он легко сможет пробраться к Шарейн, легко вернет свой меч.
— Ну, и что тогда? – спросил Зубран. – Ему все же нужно будет встретиться с Кланетом и его сворой. А мы не сможем помочь ему.
— Да, не сможем, – согласился барабанщик. – Но мы не будем и мешать ему. Наши клятвы не заставляют нас воевать на стороне черного жреца, Зубран. На месте этого человека – если бы мои цепи были разорваны – и меч снова у меня – я нашел бы возможность освободить спящего рядом товарища. Он, я думаю, смог бы удержать свору, пока этот волчонок, который больше не волчонок, а взрослый волк, сразился бы с Кланетом.
— Что ж, – с сомнением начал перс, а потом с большим воодушевлением продолжал: Я хотел бы видеть его свободным, Джиджи. По крайней мере хоть что‑то нарушит это проклятое однообразие. Но ты говорил об обете.
— Клятва за клятву, – ответил Джиджи. – Если его цепи будут сломаны, если он вернет себе свой меч, если мы не будем помогать Кланету справиться с ним и если он убьет Кланета, станет ли он товарищем тебе и мне, Зубран? Вот что меня интересует.
— Почему он должен давать такую клятву? – спросил Зубран. – Разве только мы сломаем его цепи.
— Вот именно, – прошептал Джиджи. – Если он даст такую клятву, я сломаю его цепи.
Кентон почувствовал надежду. Но потом сомнение. Не ловушка ли это? Уловка, чтобы мучить его. Он не станет рисковать… и все же… свобода!
Джиджи склонился к нему.
— Верь мне, Волк, – тихо сказал он. – Клятва за клятву. Если согласен, посмотри на меня.
Ему предлагают кости. Он не знает, фальшивые ли они, но нужно бросать. Кентон открыл глаза, посмотрел прямо в близкие мигающие бусинки. И снова крепко закрыл, возобновил спокойное дыхание, снова будто крепко спал.
Джиджи со смехом распрямился. Кентон слышал, как эти двое поднялись по ступеням из ямы.
Снова свобода! Может ли это быть? И когда Джиджи – если это правда и не ловушка – когда Джиджи разорвет его цепи? Он лежал, разрываясь между надеждой и холодным сомнением. Может ли это быть правдой?
Свобода! И…
Шарейн!
11. ДЖИДЖИ РАЗРЫВАЕТ ЦЕПИ
Недолго пришлось ждать Кентону. Едва прозвучал в следующий раз сонный рог, как Кентон почувствовал прикосновение к своему плечу. Длинные пальцы дернули его за ухо, приподняли веки. Он смотрел в лицо Джиджи. Кентон вытащил пробки из ушей, которые помогли ему не поддаться рогу.
— Вот как ты это делаешь. – Джиджи с интересом осмотрел их. Он присел на корточки рядом.
— Волк, – сказал он, – я пришел поговорить с тобой, чтобы ты узнал меня немного получше. Я мог бы посидеть рядом с тобой, но кто‑нибудь из этих проклятых жрецов может рыскать близко. Поэтому я сяду на стул Зачеля. А ты повернись лицом в мою сторону и прими тот обманчивый сонный вид, который я столько раз наблюдал у тебя.
Он поднялся со скамьи.
— Зубран сейчас с Кланетом, спорит о богах. Зубран, хоть и присягнул Нергалу, считает его подчиненным Аримана, персидского бога тьмы. Он также убежден, что эта борьба между Иштар и Нергалом за корабль не только лишена оригинальности и изобретательности, но и вкуса – ничего подобного его собственные боги и богини не сделали бы или если бы сделали, то гораздо лучше. Это бесит Кланета, что, в свою очередь, веселит Зубрана.
Джиджи встал и осмотрелся.
— Однако, – продолжал он, – на этот раз Зубран спорит, чтобы держать Кланета и особенно Зачеля подальше от нас, пока мы говорим: в таких спорах Кланет часто за аргументами обращается к Зачелю. Я сказал им, что не выношу таких разговоров и буду сидеть на месте Зачеля, пока спор не кончится. А он не кончится, пока я не вернусь, потому что Зубран умен, о, очень умен и ожидает, что наш разговор приведет в конечном счете к освобождению его от его скуки.
Он искоса взглянул на белую палубу.
— Так что не бойся, Волк, – он привстал на коротких ногах. – Только следи за мной. Я предупрежу тебя, если понадобится.
Он, раскачиваясь, пошел к сидению надсмотрщика и сел на него. Кентон, повинуясь, сонно повернулся, положил руку на скамью и голову на руку.
— Волк, – неожиданно сказал Джиджи, – есть ли в том месте, откуда ты пришел, куст под названием чилкор?
Кентон смотрел на него, поставленный в тупик вопросом. Но у Джиджи, должно быть, была причина спрашивать. Слышал ли он о таком растении? Он порылся в памяти.
— Листья у него вот такого размера, – Джиджи расставил пальцы на три дюйма. – Он растет только на краю пустыни и очень редок – к сожалению. Послушай, может, ты знаешь его под другим названием? Может, вот что тебе поможет. Нужно растереть его почки, перед тем как они раскрываются. Потом смешать с сезамовым маслом и медом, добавить немного перегоревшей слоновой кости и намазать голову, как пастой. Потом тереть, тереть, тереть – вот так, так, так – он показал это на своей лысой сверкающей голове.
— Спустя немного, – продолжал он, – начинают расти волосы; они прорастают, как зерно под весенним дождем, и вот скоро – о, чудо! – лысый купол оброс. И вместо того, чтобы отражать свет, на нем играют новые волосы. И мужчина, который был лыс, снова прекрасен в глазах женщин!
Клянусь Надаком Козлиным! Клянусь Танит, подательницей радости! – с воодушевлением воскликнул Джиджи. – Мазь отращивает волосы! Как растут от нее волосы! Они выросли бы и на дыне. Да, даже на досках, если натереть их этой мазью, отрастут волосы, как трава. Ты уверен, что не слыхал об этом растении?
Борясь с изумлением, Кентон отрицательно покачал головой.
— Ну, что ж, – печально сказал Джиджи – Все это делают почки чилкора. И вот я их ищу, – он испустил могучий вздох, – я, который снова хотел бы быть прекрасным в женских глазах.
Он снова вздохнул. Потом одного за другим потрогал спящих рабов концом хлыста Зачеля – даже Сигурда.
— Да, – прошептал он, – да, они спят.
Его черные глаза подмигнули Кентону, лягушечий рот улыбался.
— Ты думаешь, зачем я говорю о таких обыденных вещах, как растения, волосы и лысые макушки, в то время как ты закован в цепи, – сказал он. – Что ж, Волк, это вещи вовсе не обыденные. Именно они привели меня сюда. А не будь я здесь, разве у тебя была бы надежда на свободу, а, подумай? Нет, – сказал Джиджи. – Жизнь – серьезное дело. И все ее части серьезны. И поэтому никакая ее часть не может быть обыденной. Отдохнем немного, Волк, чтобы ты мог постигнуть эту великую истину.
И снова, одну за другой, он перетрогал спины спящих рабов.
— Так вот, Волк, – продолжал он, – теперь я расскажу тебе, как оказался на этом корабле из‑за чилкора, его воздействия на волосы и из‑за моей лысой головы. И ты увидишь, что от них зависит и твоя судьба. Волк, когда я был ребенком в Ниневии, девушки находили меня исключительно привлекательным.
«Джиджи! – кричали они, когда я проходил мимо. – Джиджи, милый, Джиджи, дорогой! Поцелуй меня, Джиджи!»
Голос Джиджи стал нелепо меланхоличным; Кентон рассмеялся.
— Ты смеешься, Волк, – заметил барабанщик. – Что ж – мы теперь лучше понимаем друг друга
И его глаза озорно блеснули.
— Да, – сказал он – «Поцелуй меня!» – восклицали они. И я целовал их, потому что считал такими же привлекательными, каким они считали меня. И по мере того как я рос, эта взаимная привлекательность возрастала. – Ты, несомненно, заметил, – самодовольно сказал Джиджи, – что я человек необычный. Но когда я перешел от отрочества к зрелости, самой большой моей красой стали волосы. Длинные, черные, завитые в кольца, они падали мне на плечи. Я заботился о них, смачивал благовониями, и нежные маленькие сосуды радости, которые любили меня, переплетали ими свои пальцы, когда моя голова лежала у них на коленях. Они наслаждались ими, как и я.
А потом я заболел. И когда оправился, мои прекрасные волосы исчезли.
Он замолчал и снова вздохнул.
— В Ниневии была женщина, которая пожалела меня. Именно она смазала мне голову мазью из чилкора, рассказала, как готовить эту мазь, показала растущие кусты. После многих лет… ммм… взаимного влечения… я снова заболел. И снова потерял волосы. Я тогда был в Тире, Волк, и, как мог быстрее, вернулся в Ниневию. Но когда я вернулся, добрая женщина уже умерла, а буря покрыла песком то место где росли кусты чилкора, которые она мне показывала.
Он испустил чудовищный вздох. Кентон, очарованный, в тайне забавляющийся рассказом, не мог предвидеть подозрительного взгляда после этого меланхоличного излияния. Это уже казалось перебором.
— И тут, прежде чем я смог продолжить поиски, – торопливо продолжал Джиджи, – пришло известие, что женщина, которая любила меня – принцесса, – находится на пути в Ниневию, чтобы повидаться со мной. Какой стыд я испытал и какую боль! Я не мог встретиться с ней со своей лысиной. Никто не любит лысого мужчину.
— Никто не любит толстяков, – улыбнулся Кентон. Говорил он, как ему показалось, на своем языке; во всяком случае барабанщик не понял.
— Что ты сказал? – спросил он.
— Я сказал, – серьезно ответил Кентон, – что для человека с такими превосходными качествами, как ты, утрата волос должна иметь не больше последствий, чем потеря одного пера из хвоста любимой птицы.
— Забавный у тебя язык, – флегматично заметил Джиджи. – В нем так много можно сказать в нескольких словах.
— Ну что ж, – продолжал он. – Я действительно расстроился. Я мог бы спрятаться, но боялся, что воля моя окажется недостаточно сильной, чтобы укрываться долго. Она была очень красива, эта принцесса, Волк. К тому же я знал, что если она узнает, что я в Ниневии, то найдет меня обязательно. У нее были светлые волосы. А между блондинками и брюнетками есть разница – брюнетки ждут, когда к ним придут, а блондинки сами ищут встречи. А в другой город отправиться я не мог – в каждом городе были женщины, восхищавшиеся мной. Что мне оставалось делать?
— Почему ты не надел парик? – спросил Кентон, настолько заинтересованный теперь рассказом Джиджи, что даже забыл о цепях.
— Я говорил тебе, Волк, что они любили играть моими волосами, продевать пальцы в мои локоны, – свирепо ответил Джиджи. – Может ли парик остаться на месте после такого обращения? Нет, если женщины так любят, как любили меня – Нет! Нет! Я расскажу тебе, что я сделал. И тут ты увидишь, как связаны мои утраченные волосы с тобой. Верховный жрец Нергала в Ниневии был моим другом. Я пошел к нему и попросил с помощью волшебства вырастить мне снова волосы. Он возмутился, сказал, что его искусство не для таких пустяков.
Именно тогда, Волк, я начал сомневаться в истинных возможностях этих жрецов. Я видел, как этот жрец совершал магические обряды. Он создавал привидения, от которых поднимались мои волосы – когда они у меня еще были. Насколько легче для него снова отрастить мне волосы, не тревожа привидения. Я ему так и сказал. Он еще более возмутился, сказал, что имеет дело с богами, а не с цирюльниками!
Но я уже понял. Он просто не мог этого сделать! Тем не менее я решил его использовать и попросил спрятать меня, чтобы принцесса меня не нашла, и чтобы я, слабовольный, сам не мог пойти ей навстречу. Он улыбнулся и сказал, что знает такое место. Он посвятил меня в последователи Нергала и дал опознавательный знак, по которому, как он сказал, меня узнает и хорошо примет некто по имени Кланет. И взял с меня клятвы, которые нельзя нарушить. Я весело дал их, считая их временными. Его друга Кланета я счел жрецом какого‑нибудь отдаленного храма. В эту ночь я спокойно уснул, а проснулся, Волк, – здесь!
— Это была дурная шутка, – гневно прошептал Джиджи. – И как бы пожалел о ней тот жрец из Ниневии, если бы я мог найти к нему дорогу.
— И вот с тех пор я тут, – резко добавил он. – Моя клятва Нергалу не дает мне пересечь барьер и перейти на ту палубу, где есть маленький сосуд радости, по имени Саталу, который я с радостью взял бы в руки. И я не могу покинуть корабль, когда он пристает к берегу в поисках пищи и воды – ведь я искал убежища, из которого не смог бы уйти к своей принцессе.
— Клянусь Тиамат из пропасти – я нашел такое убежище! – печально воскликнул он. – И клянусь Белом, покорившим Тиамат, я устал от этого корабля не меньше Зубрана!
— Но если бы я не был здесь, – добавил он как бы вдогонку, – кто бы снял с тебя цепи? Куст, потеря волос, любящая принцесса и мое тщеславие – все это привело меня на корабль, чтобы я смог освободить тебя. Из таких нитей ткут боги наши судьбы.
Он наклонился вперед, вся злость исчезла из мигающих глаз, в выражении лягушечьего рта – нежность.
— Ты мне нравишься, Волк, – просто сказал он.
— И ты мне нравишься, Джиджи, – все опасения Кентона были забыты. – Очень нравишься. И я тебе верю. Но Зубран…
— Не сомневайся в Зубране, – выпалил Джиджи. – Его тоже обманом заманили на корабль, и он еще больше меня хочет освободиться. Когда‑нибудь он расскажет тебе свою историю, как рассказал я. Хо! Хо! – рассмеялся барабанщик. – Вечно ищет нового, вечно устает от известного – таков Зубран. И такова его судьба – оказаться в новом мире и найти его еще хуже старого. Нет, Волк, не бойся Зубрана. С мечом и щитом будет он стоять рядом с тобой – пока не устанет даже от тебя. Но и тогда он сохранит верность.
Он помрачнел, всматривался, не мигая, в Кентона, заглядывал, казалось, в самую душу.
— Подумай как следует, Волк, – прошептал он. Шансы будут против тебя. Мы двое не сможем помочь тебе, пока Кланет правит на палубе. Возможно, ты не сумеешь освободить своего длинноволосого соседа. Тебе придется драться с Кланетом и двадцатью его людьми, а может, и с Нергалом! И если ты проиграешь – смерть – после долгой, долгой пытки. Здесь, прикованный к веслу, ты по крайней мере жив. Подумай!
Кентон протянул к нему руки в наручниках.
— Когда ты освободишь меня от цепей, Джиджи? – все, что он спросил.
Лицо Джиджи прояснилось, черные глаза сверкнули, он распрямился, золотые кольца в заостренных ушах заплясали.
— Теперь же! – сказал он. – Клянусь Сином, отцом богов! Клянусь Шамашем, его сыном, и Белом–громовержцем – теперь же!
Он просунул руки между талией Кентона и большим бронзовым кольцом, обвивавшим ее, потянул кольцо, будто сделанное из замазки, разорвал наручники на руках Кентона.
— Бегай на свободе, Волк! – прошептал он. – Бегай на свободе!
И, не оглядываясь, пошел к лестнице из ямы и начал подниматься по ней. Кентон медленно встал. Цепи спали с него. Он посмотрел на спящего викинга. Как освободить его? И как, если это удастся, разбудить его до прихода Зачеля?
Он снова осмотрелся. У основания высокого сидения надсмотрщика лежал его сверкающий нож, с длинным лезвием, тонкий нож, который уронил Джиджи – для него? Он не знал. Но знал, что ножом можно попробовать снять цепи с Сигурда. Он сделал шаг к ножу…
Сколько прошло времени до второго шага?
Его окутал туман.
Сквозь туман он видел, как задрожали фигуры спящих гребцов – стали похожи на призраки. И он больше не видел нож.
Он потер глаза, посмотрел на Сигурда. И увидел призрак!
Посмотрел на борта корабля. Они таяли у него на глазах. Он успел заметить сияющее бирюзовое море. И тут же оно – испарилось. Его не было. Оно перестало существовать!
Кентон плыл в густом тумане, пронизанном серебряным светом. Свет исчез. Теперь его несло через тьму полную ревом ветров.
Чернота исчезла! Сквозь закрытые веки он ощутил свет. И больше он не падает. Стоит, качаясь, на ногах. Он открыл глаза…
Он опять находился в своей комнате! Снаружи доносился шум уличного движения с Авеню, подчеркнутый сигналами автомобилей.
Кентон подбежал к маленькому кораблю. Кроме рабов, на нем виднелась только одна крошечная фигура – игрушка. Кукла, стоявшая на полпути к яме, с раскрытым ртом, с кнутом в руке, в каждой черте полное недоумение.
Зачель, надсмотрщик!
Кентон посмотрел в гребную яму. Рабы спали, весла были подняты…
И вдруг он увидел себя в длинном стенном зеркале! И стоял, с удивлением рассматривая себя.
Тот, кого он увидел, не был тем Кентоном, которого унесло отсюда на грудь загадочного моря. Рот его затвердел, глаза стали бесстрашными и острыми, как у ястреба. На широкой груди выдавались мускулы – не застывшие – грациозные, гибкие и твердые, как сталь. Он согнул руки – мышцы волной пробежали под кожей. Он повернулся, разглядывая в зеркале спину.
Ее покрывали шрамы, залеченные рубцы бича. Бича Зачеля…
Зачеля – игрушки?
Игрушка не могла нанести эти шрамы!
И игрушечное весло не вызвало бы к жизни эти мышцы.
И вдруг мозг Кентона проснулся. Проснулся и наполнил его стыдом, горящим стремлением, отчаянием.
Ярость сотрясала его. Он должен вернуться! Вернуться раньше, чем Сигурд и Джиджи узнают, что его нет на корабле.
Долго ли он отсутствовал? Как бы в ответ на его мысль начали бить часы. Он считал. Восемь ударов.
Два часа его собственного времени провел он на корабле. Только два часа? И за эти два часа произошло столько? Его тело так изменилось?
Но что случилось на корабле за те две минуты, что он находится в своей комнате?
Он должен вернуться! Должен…
Он подумал о предстоящей схватке. Можно ли взять с собой пистолеты, если он вернется – если сможет вернуться? С ними он справился бы с любым количеством жрецов. Но они в другой комнате, в другой части дома. Он снова посмотрел на себя в зеркале. Если его увидят слуги… такого… Они его не узнают. Как он сможет им объяснить? Кто ему поверит?
Они могут помешать ему вернуться – вернуться в комнату, где стоит корабль. Его единственная возможность вернуться в мир Шарейн.
Он не смеет рисковать, выходя из комнаты.
Кентон упал на пол, схватил тоненькую золотую цепочку, свисавшую с корабельного носа – такой маленькой она была, такой тонкой на этом игрушечном корабле.
Всей своей волей он устремился к кораблю. Вызывал его. И приказывал ему.
Золотая цепь шевельнулась в его пальцах. Она увеличивалась. Он почувствовал сильный рывок. Все толще делалась цепь. Она поднимала его. Снова ужасный рывок, разрывающий каждую мышцы, каждый нерв и кость.
Ноги его повисли.
Страшные ветры дули вокруг – на короткое мгновение. Исчезли. Их место занял шум волн. Он почувствовал, как его обдает брызгами.
Под ним летело лазурное море. Высоко изгибался нос корабля Иштар. Но не игрушечного корабля. Нет. Зачарованный корабль, символом которого была игрушка настоящий корабль, на котором удары тоже настоящие и на котором ютится смерть – смерть, которая, может быть, именно сейчас ожидает его, приготовясь к удару!
Цепь, на которой он висел, уходила в швартов, раскрашенный, как гигантский глаз, между стеной носовой каюты и концом носа. За ним вздымались и опускались большие весла. Гребцы не могли его видеть: они сидели спиной к нему, а отверстия, через которые проходили весла, были плотно закрыты кожей – это защита от постоянных брызг. Не могли его видеть и с черной палубы из‑за изгиба борта.
Медленно, молча, рука за руку, как можно плотнее прижимаясь к борту, он начал подниматься по цепи. Вверх к каюте Шарейн. Вверх к маленькому окну, которое вело в ее каюту с маленького участка палубы сразу за изогнутым носом.
Медленно, еще медленнее полз он; через каждые несколько звеньев останавливался, прислушиваясь; добрался наконец до швартова; перенес ногу через фальшборт и упал на маленькую палубу. Подкатился под окно, прижался к стене каюты, скрытый теперь от всех на корабле, скрытый даже от Шарейн, если она выглянет в окно.
Сжался здесь – в ожидании.
12. ХОЗЯИН КОРАБЛЯ!
Кентон осторожно поднял голову. Цепь проходила через отверстие швартова, обвивалась вокруг грубого ворота и крепилась к тонкому двойному крюку, больше похожему на цепляющую кошку, чем на якорь. Очевидно, хотя контроль над рулевым оборудованием, мачтой и гребной ямой находился в руках черного жреца, женщины Шарейн следили за якорем. Кентон с некоторым беспокойством посмотрел на дверь, ведущую во внутреннюю каюту, где размещались девушки. Впрочем, решил он, маловероятно, чтобы кто‑нибудь из них вышел, пока корабль движется под парусом или на веслах. В любом случае придется рискнуть.
В открытое окно над собой он слышал голоса. Послышался полный презрения голос Шарейн.
— Он разорвал цепи, как и обещал, и бежал!
— Но, госпожа, – это Саталу, – куда он мог деться? Сюда он не пришел. Откуда мы знаем, что не Кланет взял его?
— Ошибиться в гневе Кланета нельзя, – ответила Шарейн – И в том, как он избил Зачеля. И то, и другое не поддельны, Саталу.
Итак, черный жрец избил Зачеля; само по себе это уже хорошая новость.
— Послушай, Саталу, – сказала Шарейн, – к чему спорить? Он стал силен. Он разорвал цепи. И бежал. И тем самым доказал, что он трус. Я так его и назвала, но никогда в это не верила – а теперь верю.
В каюте наступило молчание. Потом снова заговорила Шарейн.
— Я устала. Луарда, иди наружу, следи за дверью. Вы, остальные, отправляйтесь спать – или делайте, что хотите. Саталу, расчеши мне волосы, потом можешь тоже идти.
Снова молчание, на этот раз долгое Потом голос Саталу:
— Госпожа, ты почти спишь. Я ухожу.
Кентон ждал, но недолго. Подоконник, если бы он встал на палубе, пришелся бы ему на уровне подбородка. Он осторожно подтянулся, заглянул внутрь. Взгляд его упал вначале на алтарь с сверкающими жемчужинами и бледными лунными камнями, свернутыми молочными кристаллами. У него появилось ощущение, что алтарь пуст, лишен обитателей. В семи маленьких хрустальных сосудах не горели огни.
Тогда он взглянул вниз. Почти непосредственно под ним находилось изголовье широкого дивана слоновой кости с золотыми арабесками. На диване лежала Шарейн, лицом в подушки, одетая только в тонкое шелковое покрывало и в свои золотые волосы. Она плакала, плакала, как женщина с разбитым сердцем.
Плакала – о нем?
Он увидел блеск сапфира, блеск стали. Это его меч – меч Набу. Он поклялся, что возьмет этот меч сам, а не из ее рук. Меч висел над самой ее головой; ей нужно только поднять руку, чтобы схватить его.
Он опустился, нетерпеливо дожидаясь, пока прекратится плач. Он чувствовал к ней любовь – или вожделение. Но как ни искал в сердце, не чувствовал жалости.
Скоро всхлипывание прекратилось, затихло. Немного погодя он снова просунул голову в окно. Шарейн спала, повернувшись лицом к входу в каюту, на длинных ресницах еще видны слезы, но дышала она ровно и спокойно.
Кентон ухватился за подоконник и подтягивался, пока его плечи и грудь не оказались в каюте. Тогда он перегнулся в поясе. Одной руки коснулся мягкого ковра на полу каюты. Соскользнул неслышно, держась ногами за подоконник. Медленно, как акробат, опустил ноги, лег во всю длину у подножия постели Шарейн.
И снова ждал. Ее ровное дыхание не изменилось. Он поднялся на ноги. Подкрался к двери, ведущей во внутреннюю каюту. Оттуда доносились негромкие голоса. Он увидел засов, бесшумно задвинул его. Теперь кошки в клетке, подумал он, улыбаясь.
Осмотрел каюту. На низком стуле лежал небольшой шелковый платок, рядом – другой, длинный, похожий на шарф. Он взял маленький и искусно сделал из него кляп. Потом взял длинный и испытал на прочность. Тяжелый и прочный, то, что нужно, подумал он. Но этого недостаточно. Он снял со стены занавес.
На цыпочках подошел к изголовью дивана. Шарейн беспокойно зашевелилась, как будто почувствовала на себе его взгляд, как будто начала просыпаться.
Прежде чем она смогла открыть глаза, Кентон раскрыл ей рот и сунул шелковый кляп. Потом, прижимай ее своим весом, приподнял ее голову и прочно обвязал рот длинным шарфом. Все так же быстро связал ей руки.
Гневно сверкая глазами, она попыталась выкатиться из‑под него, ударить его коленями. Он сместился, лег поперек ее бедер, связал ноги вторым куском ткани, снятым со стены.
Теперь она лежала неподвижно, глядя на него. Он насмешливо послал ей поцелуй. Она повернулась, попыталась упасть на пол. По–прежнему бесшумно он снял еще один занавес и плотно укутал ее. И наконец привязал к дивану.
Не обращая на нее больше внимания, он прошел к внешней двери. Ему нужно как‑то заманить девушку по имени Луарда в каюту и сделать такой же беспомощной, как ее хозяйка, такой же бессловесной. Он чуть–чуть приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Луарда сидела рядом, спиной к нему, глядя на черную палубу.
Он отошел, отыскал еще один кусок шелка, сорвал со стены еще один занавес. Маленький кусок превратил в кляп. Потом опять чуть приоткрыл дверь, прижал губы к щели и высоким женским, насколько сумел, голосом позвал:
— Луарда! Тебя зовет госпожа! Быстрее!
Она вскочила. Он отшатнулся, вжался в стену рядом с дверной рамой. Ничего не подозревая, она открыла дверь, вошла и на мгновение остановилась, широко раскрыв рот, при виде связанной и беспомощной Шарейн.
Это мгновение и нужно было Кентону. Одной рукой он схватил ее за горло и придавил. Свободной рукой сунул ей в рот кляп; в тот же момент ногой притворил дверь. Девушка в его руках извивалась, как змея. Он сумел удержать ее рот закрытым, пока не обмотал ей голову занавесом. Она царапалась, пыталась обвиться вокруг него ногами. Он крепче затянул шелк, начал душить ее. Когда она перестала бороться, он связал ей руки. Положил на пол и связал, как Шарейн, по рукам и ногам.
Теперь она лежала беспомощно, как и ее госпожа. Кентон поднял ее, понес к дивану, закатил под него.
Только теперь он взял свой меч. Постоял возле Шарейн.
В ее горящих глазах не было страха. Только гнев, но не страх.
Кентон негромко рассмеялся, прижался губами к ее перевязанным губам. Поцеловал гневные глаза.
— А теперь, Шарейн, – смеялся он, – я иду брать корабль – без твоей помощи. И когда я возьму его, вернусь и возьму – тебя!
Он подошел к двери, открыл ее, осмотрелся.
На черной палубе сидел на корточках Джиджи, упираясь лбом в барабан, длинные руки бесцельно свисали. В его позе было отчаяние, от которого Кентону захотелось заплакать. Но вид головы Зачеля быстро заставил его забыть об этом желании. Он видел эту голову над низкими перилами, которые отделяли палубу Шарейн от гребной ямы.
Кентон присел, так чтобы голова надсмотрщика не была видна – в такой позиции и Зачель его не увидит. Привязал меч к поясу. На четвереньках отполз от двери каюты. Он видел, что в каюте, где спят девушки Шарейн, тоже есть окно. Но двери прямо на палубу нет. Чтобы попасть туда, они должны пройти через первую каюту. Но если они что‑нибудь заподозрят и обнаружат, что из дверь закрыта, они, несомненно, выберутся через окно. Что ж, опять придется рисковать; он надеялся, что большую часть необходимого проделает прежде, чем они что‑то заподозрят.
Если бы он смог застать Кланета врасплох, ударить быстро и молча, тогда с остальными они с викингом справились бы быстро, и тогда пусть женщины делают, что хотят. Они не смогут ни помочь, ни помешать. Будет слишком поздно.
Кентон распластался на палубе, подполз под окно, прислушался. Теперь голоса не слышались. Медленно он приподнялся, заметив, что это место скрыто от надсмотрщика мачтой. Продолжая осторожно поглядывать на безутешного Джиджи, Он подтянулся и заглянул во вторую каюту. Здесь было восемь девушек, все они спали, кто на груди друг у друга, кто на шелковых подушках. Он протянул руку и бесшумно прикрыл окно.
Снова лег и мимо стены каюты пополз к правому борту. Перелез через фальшборт. Повисел на руках, отыскивая ногой цепь. Потом ухватился за цепь и повис на ней. Цепь тянулась вдоль борта. Он пополз по ней. Добравшись до конца, снова ухватился за фальшборт.
Теперь мачта находилась непосредственно против него, он добрался до места, с которого собирался нанести первый удар. Он прижался подбородком и, как змея, перелез через перила. Снова лег и лежал неподвижно у фальшборта, пока дыхание не восстановилось.
Отсюда он видел Джиджи – и когда он так лежал, голова Джиджи рывком поднялась с барабана, его глаза заглянули прямо в глаза Кентона. Уродливое лицо выразило крайнее изумление и сразу же стало равнодушным, неподвижным. Он зевнул, встал. Заслонив глаза от солнца, стал пристально всматриваться в море, как будто увидел там что‑то.
— Клянусь Нергалом, Кланет должен об этом узнать! – сказал он. И, переваливаясь, пошел к черной каюте.
Кентон подполз к краю ямы. Он видел, как Зачель встал и смотрит в море, отыскивая, очевидно, то, что возбудило интерес барабанщика.
Кентон прыгнул в яму. Одним прыжком он оказался у мачты. Надсмотрщик резко обернулся. Он открыл рот, чтобы крикнуть, и опустил руку к поясу, где у него висел короткий кинжал.
Меч Кентона свистнул в воздухе.
Отрубленная голова Зачеля соскочила с плеч, с раскрытым ртом, с раскрытыми глазами. Еще несколько мгновений тело надсмотрщика стояло, из перерезанных артерий била кровь, рука все еще держалась за кинжал.
Потом тело Зачеля начало клониться.
Сонный рог выпал из‑за пояса. Кентон перехватил его. Колени Зачеля подогнулись, и он упал.
Со скамей гребцов не донеслось ни звука, ни вскрика; все они сидели, раскрыв рты, неподвижно держа весла.
Кентон принялся искать на поясе надсмотрщика ключи, чтобы освободить Сигурда. Нашел, снял их, вынул кинжал из стынущих пальцев Зачеля и побежал по узкому проходу к викингу.
— Брат! Я думал, ты ушел. Забыл о Сигурде… – бормотал северянин. – Клянусь Одином, какой удар! Голова собаки слетела с плеч, будто сам Тор ударил своим молотом…
— Тише, Сигурд, тише! – Кентон с отчаянной торопливостью рылся среди ключей, отыскивая тот, что подойдет к цепи Сигурда. – Мы должны сражаться за корабль, мы с тобой вдвоем… Дьявол, который же ключ! Если сможет добраться до логова Кланета раньше, чем поднимется тревога, стой между мной и жрецами. Оставь Кланета мне Не трогай Джиджи и рыжебородого Зубрана. Они не могут нам помочь, но не будут и сражаться против нас… помни, Сигурд… ага!
Наручники Сигурда щелкнули и раскрылись, замок на металлическом поясе расстегнулся. Сигурд стряхнул цепи, потянулся и снял пояс. Распрямился, его соломенная грива струилась по ветру.
— Свободен! – взревел он. – Свободен!
— Закрой рот! – Кентон зажал рукой кричащий рот. – Ты хочешь, чтобы на нас набросилась вся свора, прежде чем мы выберемся отсюда?
Он сунул в руки викингу кинжал Зачеля.
— Пользуйся этим, – сказал он, – пока не найдешь оружие получше.
— Это? Хо–хо! – рассмеялся Сигурд. – Женская игрушка! Нет, Кентон, Сигурд найдет себе получше!
Он уронил кинжал. Схватился за весло, поднял его из уключины. Резко ударил о борт. Послышался треск, скрип расщепленного дерева. Сигурд вытащил весло и ударил о противоположный борт. Еще раз послышался треск, и весло раскололось посередине. В руках викинга оказалась гигантская дубина десяти футов длиной. Он ухватился за расколотый конец, повертел над головой, как булаву, с весла свисали цепь и наручники.
— Пошли! – рявкнул Кентон и наклонился, подбирая кинжал.
Теперь гребцы подняли шум, они пытались разорвать свои цепи, просили выпустить их.
А с палубы Шарейн донеслись пронзительные женские крики. Через окно выбирались девушки–воины.
Теперь черного жреца не застигнешь врасплох. Остается драться. Его меч и дубина Сигурда против Кланета и всей его своры.
— Быстрее, Сигурд! – закричал он. – На палубу!
— Я первый! – отозвался Сигурд. – Я твой щит!
Он оттолкнул Кентона и пробежал мимо него. Но прежде чем он добрался до верха лестницы, на ее верху уже толпились жрецы, бледнолицые, кричащие, размахивающие мечами и короткими копьями.
Кентон оступился на чем‑то, откатившемся от него, и упал на колено. Взглянув вниз, он увидел улыбающееся лицо Зачеля. Он споткнулся на его отрубленной голове. Кентон схватил ее за волосы, размахнулся и швырнул прямо в лицо переднему жрецу на лестнице. Она попала тому прямо в лицо, отскочила и покатилась.
Жрецы отпрянули. Прежде чем они смогли собраться снова, викинг уже был наверху и теснил их, размахивая дубиной, как цепом. А за ним двигался Кентон, пробиваясь к черной каюте.
Им противостояло восемь черных жрецов. Весло северянина ударило, расколов череп одного из них, как скорлупу яйца. Прежде чем он смог поднять дубину вновь, двое жрецов набросились на него с копьями. Меч Кентона опустился, отрубив руку с копьем, которое немного не дошло до груди Сигурда. Быстрый рывок вверх разрезал тело этого жреца от пупа до подбородка. Викинг, освободив одну руку, перехватил ею древко копья у второго жреца, вырвал его из рук противника и пронзил его сердце. Еще один упал от удара меча Кентона.
Из двери бежали еще жрецы, вооруженные мечами, копьями и щитами. Они кричали.
И вот из черной каюты выбежал Кланет, с ревом, с большим мечом в руках. За ним – Джиджи и перс. Черный жрец напал прямо на Кентона, прорвавшись, как бык сквозь кольцо служителей. А Джиджи и перс отошли к барабану и стояли, не вмешиваясь.
Мгновение черный жрец стоял, возвышаясь над Кентоном. Затем нанес молниеносный удар сверху вниз, который должен был рассечь Кентона от плеча до бедра.
Но Кентона не оказалось на том месте, куда обрушился удар. Быстрее меча Кланета он отскочил в сторону, ударил своим мечом…
Почувствовал, как он погрузился в бок жреца.
Черный жрец взревел и отшатнулся. И тут же его приближенные заслонили его от Кентона. Окружили его.
— Спина к спине! – закричал викинг. Кентон слышал удары большой дубины, видел, как падали жрецы под натиском огромного цепа. Он ударами разбросал набросившихся на него жрецов.
Теперь борьба переместилась к барабану. Кентон видел перса, тот держал в напряженной руке меч. И бранился, всхлипывал дрожал, как пес на привязи, которого не спускают на добычу. Джиджи, с пеной на углах широко рта, с искаженным лицом, стоял, вытянув длинные руки, трясясь от жажды боя.
Кентон знал, что он жаждет присоединиться к нему и Сигурду в битве, но не может: его удерживают данные им клятвы.
Джиджи указал вниз. Кентон посмотрел туда и увидел ползущего с мечом в руках жреца. Тот уже почти добрался до ног Сигурда. Один удар по ногам, и с Сигурдом будет покончено. Забыв о собственной защите, Кентон наклонился вперед, ударил мечом вниз. Голова ползущего соскочила с плеч и откатилась.
Но, распрямляясь, он увидел над собой готового к удару Кланета.
— Конец! – подумал Кентон. Он упал на палубу и откатился от разящего удара.
Он не рассчитывал на викинга. Но тот видел этот эпизод. Поднял весло, держа его горизонтально, размахнулся и нанес страшный удар. Он пришелся Кланету в грудь.
Удар мечом не дошел до Кентона, черный жрец отскочил назад и, несмотря на свой массивный корпус и силу, чуть не упал.
— Джиджи! Зубран! Ко мне! – взревел он.
Прежде чем Кентон смог встать, двое жрецов насели на него, цепляясь, тыча копьями. Он выпустил рукоятку меча схватил кинжал Зачеля. Ударил вверх, почувствовал, как тело над ним напряглось, затем упало, как пробитый воздушный шарик; его затопил поток крови. Услышал бормотание, и вторая тяжесть тоже откатилась.
Он опять схватил меч и с трудом встал. Из всей своры Кланета на ногах осталось не более полудюжины. Они отступили, подальше от дубины викинга. Викинг стоял, тяжело дыша. Черный жрец тоже отдувался, держась за широкую грудь, куда пришелся удар Сигурда. У его ног виднелась лужица крови; кровь капала из бока, пронзенного мечом Набу.
— Джиджи! Зубран! – в трудом выговорил он. – Возьмите этих собак!
Барабанщик усмехнулся.
— Нет, Кланет, – ответил он. – Мы не давали клятв помогать тебе.
Он приподнял огромный барабан и одним движением швырнул его в воду.
Жрецы испустили громкий стон. Кланет стоял молча, ошеломленный.
И тут от волн, касавшихся бортов корабля, донесся звук – громкий и зловещий.
Барабанный бой, угрожающий, злобный – призывный!
Бум–бум–бум!
Барабан плыл у борта. Поднятый волнами, он ударялся о корабль.
Призывал – Нергала! Корабль задрожал. На море упала тень. Вокруг Кланета начала собираться тьма.
Все более гневно гремел барабан под ударами волн. Туман вокруг черного жреца густел, завивался; началось адское превращение жреца Нергала в самого повелителя мертвых.
— Бей! – взвыл Джиджи. – Быстрее! Кусай глубже!
КЕнтон Бросился на туманный ужас, внутри которого двигался черный жрец. Меч прошел сквозь туман, ударил. Послышался болезненный крик. Голос Кланета. Кентон ударил снова.
И понял, что барабанный бой прекратился, голос барабана стих. Он слышал крик Джиджи:
— Бей еще, Волк! Сильнее!
Туман вокруг Кланета разошелся. Жрец стоял, закрыв глаза, держа одной рукой другую, сквозь его пальцы сочилась кровь.
И когда Кентон поднял меч, чтобы нанести еще один удар, Кланет брызнул ему в глаза кровью. Ослепленный, Кентон задержал удар. И черный жрец опять напал на него. Кентон механически, затуманенным взглядом, поднял лезвие ему навстречу. Он видел, как Сигурд сдерживает оставшихся жрецов слышал треск костей, когда окрашенное кровью весло встречалось с их телами.
Его меч столкнулся с мечом Кланета, был отбит.
Кентон поскользнулся на луже крови. Упал. Черный жрец набросился на него, обхватил руками. Они покатились по палубе. Он видел, как Сигурд пытается ударить…
И вдруг Кланет разжал руки, вытянулся, лежал неподвижно.
Кентон склонился к нему, взглянул на северянина.
— Не твой! – выдохнул он. – Мой!
И потянулся за кинжалом. Тело черного жреца напряглось. И, как выпущенная пружина, отбросило Кентона. Прежде чем Сигурд смог поднять весло, Кланет оказался у борта.
И прыгнул в море!
В ста футах плыл змеиный барабан, с верхушкой, разрезанной ножом Джиджи. Голова Кланета появилась возле него, руки ухватились за барабан. Под тяжестью жреца барабан наклонился, как бы в гротескном коленопреклонении. Послышался далекий звук, похожий на плач.
Из серебряного тумана надвинулась тень. Остановилась над черным жрецом и барабаном. Накрыла их и отступила. Ни черного жреца, ни барабана не стало видно. Человек и барабан – исчезли.
13. ХОЗЯИН… ШАРЕЙН!
Все еще ощущая боевую ярость в крови, Кентон осмотрелся. Черная палуба была усеяна людьми Кланета, людьми, избитыми и изломанными булавой Сигурда, людьми, у которых его собственный меч перерезал нить жизни, людьми в грудах, людьми – но таких было немного – ранеными и стонущими.
Он обернулся к палубе Шарейн. У входа в каюту толпились ее женщины, с побелевшими лицами.
А на самой границе между двумя палубами стояла Шарейн. Гордо смотрела она на него, но в глазах, на ресницах которых еще виднелись слезы, был туман. Сияющий полумесяц с головы исчез, исчез и ореол богини, который, даже когда Иштар была далеко, окружал это ее живое воплощение.
Она была всего лишь женщиной. Нет – всего лишь девушкой! Изящной, человеческой…
Джиджи и перс высоко подняли Кентона.
— Да здравствует! – воскликнул Джиджи. – Да здравствует! Хозяин корабля!
— Хозяин корабля! – подхватил перс.
Хозяин корабля!
— Опустите меня! – приказал он. И когда его поставили на ноги, направился прямо к Шарейн. Остановился перед ней.
— Хозяин корабля! – рассмеялся он. – И твой хозяин, Шарейн!
Он обнял ее за стройную талию, привлек ее к себе.
Послышался крик Джиджи, громкий стон перса. Лица Шарейн побледнело…
Из черной каюты вышел Сигурд, неся в руках темную статую туманного зла, стоявшую в алтаре Кланета.
— Стой! – закричал Джиджи и прыгнул. Но прежде чем ниневит смог дотянуться до него, Сигурд поднял идола и бросил его в воду.
— Последний демон ушел! – закричал он.
Корабль задрожал… задрожал так, словно какая‑то рука схватила его за киль и затрясла.
Корабль остановился. Вокруг него вода потемнела.
Глубоко, глубоко внизу, в потемневших водах начало разгораться алое облако. Глубоко, глубоко под ними облако двигалось и разрасталось, как грозовая туча. Оно завертелось водоворотом, в котором алый шторм был усеян черными пятнами. Эти пятна стали всплывать; и при этом алое становилось все ярче, а черное – все более угрожающим.
Поднимающееся облако завертелось, из него брызнули странные лучи, горизонтальные, в форме веера. И вот из этого огромного колеса, поднимающегося из пропасти, полетели огромные пузыри, алые и черные. Они поднимались и при этом росли, приближаясь к поверхности.
В них Кентон разглядел туманные фигуры, тела вооруженных людей, чьи доспехи сверкали алым и черным.
Люди внутри пузырей!
Вооруженные люди! Мужчины, прижимающиеся головой к коленям одетые в сверкающую броню. Воины, держащие в руках туманные мечи, туманные луки, туманные копья.
Вверх летели пузыри, мириады за мириадами. И вот они уже рядом с поверхностью моря. Они прорывают поверхность.
Пузыри лопаются!
Оттуда выпрыгивают воины В пестрых кольчугах, бледнолицые, глаза без зрачков полуоткрыты и мертвы; они выпрыгивают из потемневшей голубизны моря. Перепрыгивают с волны на волну. Бегут по воде как по полю увядших фиалок. Молча окружают корабль.
— Люди Нергала! – закричала Шарейн. – Воины Темного повелителя! Иштар! Иштар, помоги нам!
— Привидения! – воскликнул Кентон и высоко поднял свой окровавленный меч. – Привидения!
Но в глубине души он знал, что это не привидения.
Передний ряд воинов расположился на гребне волны, как на низком холме. Луки воинов больше не казались туманными. Воины поднесли к щекам оперения длинных стрел. Послышался звон тетивы, свист разрезаемого воздуха. Дюжина стрел торчала в мачте, одна упала у ног Кентона – похожая на змею, ало–черная, ее острие глубоко вонзилось в доску.
— Иштар! Мать Иштар! Избавь нас от Нергала! – призывала Шарейн.
И в ответ корабль рванулся вперед, будто другая гигантская рука подхватила его снизу.
Воины, все еще выпрыгивавшие из пузырей, закричали. И помчались за кораблем. Посыпался новый дождь стрел.
— Иштар! Мать Иштар! – всхлипывала Шарейн.
Нависшая тьма раскололась. На мгновение оттуда выглянул гигантский шар, окруженный гирляндами маленьких лун. Из него лился серебряный огонь, живой, трепещущий, ликующий. Пульсирующий поток ударил в море и растворился в нем. Тени сомкнулись, шар исчез.
Лунное пламя, которое он оставил, погружалось все глубже и глубже. И оттуда начали подниматься большие пузыри, розовые, перламутровые, серебряные, сверкающие нежнейшими оттенками жемчуга.
В каждом из них виднелась фигура – удивительная, тонкая и изящная; женское тело, к красоте которого добавлялось сверкание пузырей.
Женщины внутри пузырей.
Вверх поднимались блестящие шары, касались поверхности бледного моря, лопались.
Оттуда устремлялось женское войско. Обнаженные, покрытые только черными, как ночь, волосами, серебряные, как луна, золотые, как пшеница, и оранжево–красные, они выходили из светящихся дарохранительниц, которые вознесли их наверх.
Они вздымали руки, белые и коричневые, розовые и бледно–янтарные, призывая бегущих рожденных морем воинов.
Глаза их сверкали, как драгоценные озера – сапфирно–голубые, бархатно–черные, солнечно–желтые, колдовские, глаза серые, как лезвие меча под зимней луной.
С округлыми бедрами, с высокими грудью, женственные, они раскачивались на вершинах волн, маня, призывая воинов Нергала.
И под их призывом – сладким, как голубиный, убедительным, как призыв чайки, нетерпеливым, как крик сокола, сладким и ядовитым – воины дрогнули, остановились. Поднятые луки опустились, мечи плеснули по воде, копья погрузились в глубины В их мертвых глазах вспыхнуло пламя.
Воины закричали. Они прыгнули… навстречу женщинам…
Вершины волн, на которых стояли воины в кольчугах, устремились навстречу вершинам, на которых стояли удивительные женщины. Руки в железных перчатках обняли женщин. На мгновение черные, серебряные, как луна, золотые, как пшеница, волосы обвились вокруг черных и алых кольчуг.
Воины и женщины слились воедино за бегущим кораблем, стали единой сверкающей кильватерной струей, струя эта катилась и вздыхала, как будто была душой любовного моря.
— Иштар! Возлюбленная мать! – молилась Шарейн. – Поклонитесь Иштар!
— Поклонимся Иштар! – подхватил Кентон и опустился на колени.
Поднявшись, он прижал ее к себе.
— Шарейн! – выдохнул он. Ее мягкие руки обвились вокруг его шеи.
— Мой повелитель, молю о прощении, – вздохнула она. – Молю о прощении! Но откуда я могла знать, когда ты впервые лежал на палубе и казался таким испуганным? полюбила тебя Но я не могла знать, какой ты могучий, мой повелитель.
Ее аромат потряс его, от ее мягкого прикосновения перехватило горло.
— Шарейн! – прошептал он. – Шарейн!
Губы ее отыскали его губы и прижались к ним, безумное вино жизни пробежало по жилам, в сладком огне ее поцелуя забылось все, кроме этого момента.
— Я… отдаюсь… тебе! – выдохнула она.
Он вспомнил…
— Ты ничего не отдаешь, Шарейн, – ответил он. – Я беру!
Он поднял ее, пошел к розовой каюте ударом ноги закрыл за собой дверь и задвинул засов.
Сигурд, сын Тригга, сидел на пороге розовой каюты. Он полировал лезвие меча черного жреца, негромко напевая древние венчальные песни.
На черной палубе Джиджи и Зубран выбрасывали в море тела убитых, кончали страдания тех, кто еще не умер, и тоже бросали их за борт.
Сначала один, потом другой голубь опустились на кроны маленьких цветущих деревьев. Викинг следил за ними, продолжая напевать. Вскоре появились еще, пара за парой. Они ворковали, изгибали изящные шеи. Образовали полукольцо перед закрытой дверью каюты.
Голуби с белой грудью, алыми клювами, зелеными лапами бормочущие, воркующие, ласкающие голуби, они поставили снежную печать на пути Кентона и Шарейн.
Голуби Иштар повенчали их!
14. ЧЕРНЫЙ ЖРЕЦ НАНОСИТ УДАР
— Мой дорогой повелитель! Кентон, – шептала Шарейн. – Мне кажется, даже ты не понимаешь, как сильно я тебя люблю!
Они сидели в розовой каюте, ее голова у него на груди.
Новый Кентон смотрел вниз, на поднятое к нему лицо. Все современное отпало от него. Он стал выше ростом, лицо и широкая грудь в открытой рубашке загорели. Голубые глаза ясные и бесстрашные, полные веселой беззаботностью, но чуть–чуть тронутые безжалостностью. Над локтем левой руки широкий золотой браслет, с выгравированными на нем символами Шарейн. На ногах сандалии, которые Шарейн украсила вышитыми вавилонскими заклинаниями – чтобы ноги несли по тропе любви, ведущей только к ней.
Сколько времени прошло со дня битвы с черным принцем, подумал он, ближе привлекая ее к себе. Казалось, вечность, а в то же время как будто вчера. Как давно
Он не мог сказать – в этом мире без времени вчера и вечность были одинаковы.
И вчера и вечность тому назад перестал об этом беспокоиться.
Они плыли все вперед и вперед. В черной каюте, очищенной от зла, жили теперь викинг, Джиджи и перс. Джиджи или Сигурд двигали прикрепленные к корме два больших весла, с помощью которых поворачивали корабль. Иногда, в хорошую погоду, место у руля занимали девушки Шарейн. В черной каюте викинг отыскал наковальню, изготовил горн и теперь ковал мечи. Он сделал меч для Джиджи, девяти футов в длину, и гигант с ногами гнома вертел им, как веткой. Но Джиджи больше нравилась булава, которую тоже изготовил для него Сигурд – длинная, как меч, с огромным бронзовым шаром, усаженным остриями, на конце. Зубран остался верен своему ятагану. А викинг продолжал работать, готовя более легкое вооружение для девушек Шарейн. Он сделал им щиты и учился пользоваться одновременно мечом и щитом, как это они делали. А Кентон участвовал в этом обучении, фехтовал с Сигурдом, боролся с Джиджи и пытался своим мечом отразить удары ятагана Зубрана.
Все это Джиджи всячески поощрял.
— Пока жив Кланет, мы с опасности, – хрипло повторял он. – Наш корабль должен быть сильным.
— Мы покончили с Кланетом! – отвечал Кентон слегка хвастливо.
— Нет, – отвечал Джиджи. – Он придет в сопровождении множества воинов. Раньше или позже, но черный жрец придет.
Они получили вскоре подтверждение этого. Сразу после битвы Кентон взял одного из черных рабов, нубийца, и посадил его на место Зачеля. Теперь им не хватало гребцов. Они встретили корабль, остановили его и потребовали гребца. Капитан отдал им одного – со страхом, быстро и тут же торопливо уплыл.
— Он не знал, что Кланета тут больше нет, – усмехнулся Джиджи.
Но вскоре после этого они встретили еще один корабль. Капитан не остановился, когда они его окликнули, и им пришлось преследовать корабль и сражаться. Это было маленькое судно, его легко догнали и захватили. И капитан корабля мрачно сообщил им, что Кланет находится в Эмактиле, он там верховный жрец храма Нергала и входит в совет храма Семи Зон. Больше того, черный жрец пользуется расположением того, кого капитан назвал Повелителем двух смертей, – они решили, что это правитель Эмактилы.
Кланет, так говорил капитан, сообщил всем, что корабля Иштар больше не нужно бояться, что на нем больше нет ни Нергала, ни Иштар, а только мужчины и женщины. Всякий, кто встретит этот корабль, должен его потопить, а экипаж пленить. За них назначена награда.
— И будь моя лодка немного побольше и людей у меня не так мало, я попробовал бы получить награду, – смело закончил он.
Они взяли все, что им было нужно, и отпустили корабль, но когда тот таял в тумане, капитан крикнул им, чтобы они наслаждались жизнью, пока могут, потому что Кланет на большом корабле со многими людьми ищет их, и им недолго осталось жить.
— Хо–хо! – рассмеялся Джиджи, – хо–хо! Кланет ищет нас? Что ж, я тебя предупреждал, Волк, что так и будет. Что же теперь?
— Можно пристать к одному из островов, выбрать хорошую позицию, и пусть приходит, – ответил Кентон. – Мы можем построить крепость, создать защиту. Так у нас будет больше возможностей, чем на корабле, – если правда, что он преследует нас на большом судне со множеством солдат.
Они решили, что совет Кентона хорош, и поплыли к островам – Сигурд у руля, Джиджи, перс и женщины Шарейн на карауле.
— Да, мой дорогой повелитель, даже ты не знаешь, как сильно я тебя люблю, – снова прошептала Шарейн, глаза восхищенные, руки обнимают шею. Губы их соединились. Даже в горячем огне их соприкосновения он удивлялся перемене, происшедшей с Шарейн, – любовь изменила ее с того момента, как он внес ее в ее жилище, взяв ее по праву своими сильными руками.
Воспоминания заставили его задрожать: Шарейн поверженная, неземные чудеса, вспыхнувшие над ее алтарем и своими огненными пальцами переплетшие его душу с ее в пламенном экстазе.
— Скажи мне, повелитель, как ты меня любишь, – томно шептала она.
И тут послышался крик Сигурда:
— Буди рабов! Весла в работу! Шторм приближается!
Незаметно в каюте потемнело. Кентон слышал свисток надсмотрщика, крики и топот ног. Он расцепил руки Шарейн, поцеловал ее, лучше, чем словами, ответив на вопрос, и вышел на палубу.
Небо быстро чернело. Вспыхнула призматическая молния, раздался грохот грома. Поднялся и заревел ветер. Спустили парус. И корабль, ведомы твердой рукой Сигурда, полетел перед бурей.
Начался дождь. Корабль несся сквозь него, окруженный чернотою, прошитой мириадами многоцветный змей–молний, соединивших море с небом.
Сильный порыв ветра накренил корабль. Дверь каюты Шарейн распахнулась. Кентон пробрался к Джиджи, крича женщинам, чтобы они шли внутрь. Он смотрел, как они с трудом уходят.
— Мы с Зубраном присмотрим, – крикнул он в ухо Джиджи. – Помоги Сигурду у руля.
Но Джиджи не успел пройти и метра, как ветер неожиданно стих.
— Направо! – услышали они крик Сигурда. – Посмотрите направо!
Втроем они подбежали к правому борту. Во тьме виднелся широкий слабо сверкающий диск, как огонь маяка в тумане. Его диаметр быстро уменьшался, при этом диск становился ярче.
Диск вырвался из тумана, превратился в ослепительный луч, который пролетел над волнами и уперся в корабль. Кентон разглядел два ряда весел, которые несли навстречу им огромный корпус с чудовищной скоростью. Виднелся сверкающий таран, заостренный, как копье. Он выдавался из носа корабля, как рог гигантского носорога.
— Кланет! – закричал Джиджи и с криком побежал к черной каюте, Зубран за ним.
— Шарейн! – крикнул Кентон и заторопился к ее двери.
Корабль резко повернул и накренился так, что вода хлынула через правый борт. Кентон упал и покатился к фальшборту, ударился и несколько мгновений лежал оглушенный.
Маневры Сигурда не могли спасти корабль. Бирема изменила курс и пошла параллельно, чтобы срезать весла правого борта. Викинг пытался предотвратить удар. Но на атакующем корабле было слишком много гребцов, его скорость намного превосходила скорость корабля Иштар с его единственной банкой с семью веслами. Вниз опустились весла биремы, она ударила по борту корабль Иштар, сломав его весла, как палочки.
Кентон с трудом встал; он видел, как спешит к нему Джиджи с булавой в руках, рядом со сверкающим ятаганом Зубран. А сразу за ними, оставив бесполезный руль, викинг Сигурд, со щитом на руке, с высоко поднятым большим мечом.
Они уже рядом с ним. Головокружение его прошло. Викинг сунул ему щит. Кентон извлек собственный меч.
— К Шарейн! – выдохнул он. Они побежали.
Прежде чем они успели добежать до ее каюты, защитить ее, два десятка солдат, одетых в кольчуги из колец, вооруженные короткими мечами, высыпали из триремы и преградили им путь к каюте. А за ними виднелись еще десятки.
Взметнулась булава Джиджи, обрушившись на солдат. Голубое лезвие меча Набу, ятаган Зубрана, меч Сигурда поднимались и опускались, ударяли и рубили. Через мгновение они были покрыты кровью.
Но они не могли приблизиться ни на шаг. На месте каждого убитого солдата тут же появлялся новый. А из биремы продолжали высыпать воины.
Просвистела стрела, задрожала в щите Сигурда. Еще одна ударила Зубрана в плечо.
Послышался рев Кланета:
— Никаких стрел! Черноволосую собаку и желтоволосую взять живыми! Остальных убивайте, если нужно, мечами.
Теперь солдаты биремы окружили их со всех сторон. Спина к спине на небольшом пространстве сражались четверо. На палубу падали солдаты в кольчугах. Гора трупов вокруг все росла, а они продолжали сражаться. На волосатой груди Джиджи появилась рана, оттуда лилась кровь. Сигурд получил десяток разрезов. А Зубран, если не считать раны от стрелы, оставался невредим. Он сражался молча, а Сигурд ревел и пел при ударах, Джиджи смеялся, когда его гигантская палица сокрушала кости и сухожилия.
Но барьер из людей Кланета между ними и Шарейн оставался непреодолимым.
Что с Шарейн? Сердце Кентона упало. Он бросил быстрый взгляд на галерею. Она стояла там с тремя вооруженными девушками, с мечом в руке, отражая натиск солдат, которые по двое поднимались по узкому мостику, переброшенному с биремы.
Но это взгляд не был разумным поступком. В незащищенный бок ударил меч, парализуя его. Кентон упал бы, если бы не рука викинга.
— Спокойно, кровный брат – услышал он голос Сигурда. – Мой щит перед тобой. Передохни!
С корабля Кланета донесся торжествующий крик. С его палуба протянулись два ствола. К ним были привязаны веревки, а с концов свисала сеть – она опустилась точно га Шарейн и трех других женщин.
Они пытались выбраться из сети. Но сеть связывала, спутывала их. Они бились в ней, беспомощные, как бабочки.
Неожиданно сеть натянулась под действием веревок. Медленно стволы стали подниматься, перенося сеть на палубу атакующего корабля.
— Хо! Шарейн! – насмехался Кланет. – Хо! Сосуд Иштар! Добро пожаловать на мой корабль!
— Боже! – простонал Кентон. Ярость и отчаяние вернули ему силы, и он бросился вперед. Под его напором воины отступили. Снова он теснил их. Что‑то ударило его в висок. Он упал. Люди Кланета набросились на него, хватая за руки, за ноги, за горло.
Что‑то разбросало их. Короткие ноги Джиджи появились рядом, его булава свистела, люди падали от ее ударов. Кентон поднял голову и смутно разглядел Сигурда справа от себя и Зубрана слева.
Он посмотрел вверх. Сеть с бьющимися женщинами опустилась на палубу биремы.
И снова послышался рев Кланета:
— Добро пожаловать, прекрасная Шарейн! Добро пожаловать!
Он с трудом встал, вырвался из рук викинга, шатаясь, пошел вперед – к ней.
— Схватите его! – послышался крик черного жреца. – Его вес в золоте тем, кто принесет его – живым!
Теперь вокруг него образовалось кольцо воинов. От троих товарищей его отделяли солдаты. Они падали под ударами булавы, меча и ятагана, но место их занимали другие. И расстояние между Кентоном и его товарищами постоянно увеличивалось.
Он перестал отбиваться. В конце концов ведь он этого хочет. Так будет лучше. Они возьмут его – и он будет с Шарейн.
— Поднимите его! – заревел Кланет. – Пусть эта шлюха Иштар увидит его!
Пленившие его воины высоко подняли его на руках. Он слышал плач Шарейн…
Головокружение охватило его. Как будто его бросили в водоворот, который засасывает его – далеко.
Он видел смотрящих на него Джиджи, Зубрана и Сигурда, лица их превратились в невероятные кровавые маски. И они прекратили сражаться. И другие лица, десятки, все смотрели на него с тем же выражением изумления, переходившего в ужас.
Теперь они все смотрели на него как в отверстие огромного туннеля, в который он падал.
Державшие его руки растаяли. Лица исчезли.
— Джиджи! – звал он. – Сигурд! Зубран! Помогите мне!
Он слышал рев ветра.
Потом трубный звук. Постепенно этот звук стал подозрительно знакомым – он слышал его в другой жизни, века и века назад. Что это? Звук становился все громче, безапеляционней…
Сигнал автомобиля!
Задрожав, он открыл глаза.
И оказался в своей комнате!
Перед ним стоял игрушечный драгоценный корабль.
И в дверь стучали, возбужденно, часто; слышались испуганные голоса.
Потом голос Джевинса, запинающийся, полный страха:
— Мистер Джон! Мистер Джон!
15. ВНИЗ ПО ЗВУКОВОЙ НИТИ
Кентон подавил дурноту; протянув дрожащую руку, включил электричество.
— Мистер Джон! Мистер Джон!
В голосе старого слуги звучал ужас он колотил в дверь, дергал за дверную ручку.
Кентон ухватился за край стола, заставил себя заговорить.
— Да… Джевинс, – он пытался говорить как можно естественнее, – в чем дело?
Он услышал облегченный вздох, бормотание других слуг, снова заговорил Джевинс.
— Я проходил мимо и услышал ваш крик. Ужасный крик. Вы больны? Кентон отчаянно боролся с подступающей слабостью, умудрился рассмеяться.
— Нет, я уснул. И видел кошмар. Не беспокойтесь! Идите спать.
— О… и все?
В голосе Джевинса звучало облегчение, но слышалось и сомнение. Он не уходил; в неуверенности стоял за дверью.
Перед глазами Кентона стоял туман, тонкая алая вуаль. Колени его неожиданно подогнулись, он едва не упал. Добрался до дивана и лег. Паническое желание позвать на помощь, попросить взломать дверь едва не заставило его говорить. Но тут же он понял, что не должен этого делать; он должен сражаться один – если хочет сохранить надежду вернуться на палубу корабля.
— Идите, Джевинс! – резко сказал он. – Разве я не говорил вам, что меня сегодня нельзя тревожить? Уходите!
Слишком поздно он сообразил, что никогда раньше не говорил так со стариком, который любил его, как сына. Он выдал себя, подтвердил сомнения Джевинса, что что‑то в закрытой комнате неладно. Страх подстегнул его язык.
— Все в порядке. – Он заставил себя рассмеяться. – Конечно, со мной все в порядке.
Проклятый туман перед глазами! Что это? Он провел рукой по глазам, она была вся в крови. Он тупо смотрел на нее.
— Хорошо, мистер Джон, – в голосе слуги больше не было сомнения, только любовь. – Но я слышал, как вы кричите…
Боже! Неужели он никогда не уйдет! Взгляд Кентона перешел на предплечье, на плечо. Все в крови Кровь капала с пальцев.
— Всего лишь кошмар, – спокойно прервал он. – Я теперь закончу работу и лягу, так что можете идти.
— Спокойной ночи, мистер Джон.
— Спокойной ночи, – ответил он.
Качаясь, сидел он на диване, пока не затихли шаги Джевинса и остальных. Потом попытался встать. Слабость его была слишком велика. Он соскользнул на колени, пополз по полу к низкому шкафчику, ощупью открыл дверь и достал бутылку коньяку. Поднес к губам и отпил. Крепкий напиток придал ему сил. Он встал.
У него сильно болел бок. Он зажал его рукой и почувствовал, как сквозь пальцы сочится кровь.
Он вспомнил – сюда его поразил меч одного из людей Кланета.
И тут в его мозгу всплыла картина – стрела, дрожащая в щите викинга, булава Джиджи, глядящие воины, сеть, захватившая Шарейн и ее женщин, удивленные лица…
И теперь – это!
Он снова поднял бутылку. На полпути ко рту остановился, каждая мышца напряжена, каждый нерв натянут. Против него стоял человек, весь в крови с головы до ног. Он увидел сильное гневное лицо, сверкающие глаза со смертоносной угрозой, длинные спутанные черные волосы спускались до окрашенных в алое плеч. На лбу у основания волос резаная рана, из которой капает кровь. Человек этот обнажен по пояс, и справа на боку у него широкий разрез, до самого ребра.
Кровавый, грозный, ужасный в алой жидкости жизни, живой призрак с какого‑то пиратского корабля смотрел на него.
Стоп! Что‑то в этом призраке знакомое – глаза! Взгляд Кентона привлекло сверкание золотого кольца на правой руке над локтем. Браслет. И он узнал этот браслет…
Свадебный подарок Шарейн!
Кто этот человек? Кентон не мог думать ясно, мозг его охватывала немота, красный туман стоял перед глазами, слабость снова наползала на него.
Неожиданно его охватил приступ гнева. Он схватил бутылку и хотел швырнуть ее прямо в дикое яростное лицо.
Левая рука человека взметнулась, сжимая такую же бутылку.
Это он сам, Джон Кентон, в длинном зеркале на стене. Залитая кровью, страшно израненная, гневная фигура – это он сам!
Часы прозвонили десять.
И как будто эти медленные удары послужили детонатором, с Кентоном произошло изменение. Мозг его прояснился, воля и целеустремленность вернулись. Он еще отпил из бутылки, и, не глядя больше в зеркало, не глядя на игрушечный корабль, пошел к двери.
Взяв в руку ключ, он остановился и задумался. Нет, этого делать нельзя. Он не может рисковать, выходя из комнаты. Джевинс может все еще быть поблизости; кто‑нибудь другой из слуг может увидеть его. Если он сам не узнал себя, как же будут реагировать другие?
Он не сможет пойти куда‑нибудь, чтобы очистить раны, смыть кровь. Придется действовать здесь.
Кентон вернулся в кабинет, по дороге сдернув со стола скатерть. Ногой он задел что‑то на полу. Меч Набу лежал тут, больше не голубой, а, как и он сам, красный от лезвия до рукояти. Кентон пока оставил его на полу. Смочил коньяком скатерть и попробовал промыть раны. Из другого шкафчика достал свою аптечку. Тут была корпия, бинты и йод. Закусив губу от боли, он залил йодом большую рану у себя на боку, смазал рану на лбу. Сделал компресс из корпии и привязал ко лбу и к груди. Кровь остановилась. Боль от йода уменьшилась. Тогда он снова подошел к зеркалу и осмотрел себя.
Часы пробили половину одиннадцатого.
Половина одиннадцатого! Сколько было, когда он взял в руки золотую цепочку и призвал корабль – цепь подняла его и перенесла в загадочный мир?
Тогда было девять!
Всего полтора часа назад! Но за это время в том другом мире без времени он побывал и рабом, и победителем, сражался в великих битвах, завоевал и корабль, и женщину, которая насмехалась над ним, стал тем, кем он теперь был.
И все это меньше чем за два часа!
Он направился к кораблю, подобрав по дороге меч. Вытер кровь с рукояти, но не тронул лезвие. Еще отпил из бутылки, прежде чем осмелился опустить взгляд.
Вначале он взглянул на каюту Шарейн. Среди маленьких цветущих деревьев виднелись пустоты. Дверь каюты, разбитая, лежала на палубе. Подоконник окна разбит. На крыше он заметил сидящих голубей. Головы у них были опущены, как в трауре.
Вместо семи весел торчали только четыре. И в гребной яме осталось только восемь гребцов.
В правом борту корабля были щели и глубокие вмятины – следы столкновения с биремой в том странном мире, где остался корабль и откуда его унесло.
У рулевого весла стояла кукла – игрушка, направлявшая игрушечный корабль. Высокий человек с длинными светлыми волосами. И ног его еще две игрушки – одна с сияющей безволосой головой и обезьяньими руками, другая рыжебородая, с агатовыми глазами и сверкающим ятаганом на коленях.
Страстное стремление потрясло Кентона, он ощутил сердечную боль, такую тоску, какую может испытать человек, заброшенный на далекую звезду в просторах космоса.
— Джиджи! – застонал он. – Сигурд! Зубран! Верните меня к себе!
Он наклонился к ним, касался их нежными пальцами, дышал на них, как будто хотел передать им тепло жизни. Дольше всех он задержался на Джиджи – инстинктивно чувствовал, что ниневит больше других способен помочь ему. Сигурд силен, перс умен, но в коротконогом гиганте жили древние боги земли, когда она была еще молода и полна неведомыми силами, давно забытыми людьми.
— Джиджи! – прошептал он, приблизив к нему лицо. Снова и снова повторял он: – Джиджи! Услышь меня! Джиджи!
Показалось ли ему или кукла шевельнулась? И тут, нарушив его сосредоточенность, послышался крик. Мальчишки–газетчики кричали о каких‑то глупых новостях этого глупого мира, который он давно отбросил от себя. Крик нарушил, разорвал тонкую нить, которая начала образовываться между ним и игрушкой. Он с проклятием выпрямился. В глазах его помутилось, он упал. Сказалось усилие, вернулась предательская слабость. Он дотащился до шкафа, отбил горлышко второй бутылки и влил ее содержимое себе в горло.
Подстегнутая кровь зашумела в ушах, силы возвращались к нему. Он выключил свет. Через тяжелый занавес с улицы пробивался луч света и падал на игрушечные фигурки. Снова Кентон собрал все силы воли для призыва.
— Джиджи! Это я! Зову тебя! Джиджи! Ответь мне! Джиджи!
Игрушка шевельнулась, голова ее поднялась, тело дрогнуло.
Далеко, далеко, холодный, как морозный узор на стекле, призрачный и нереальный, приходящий из неизмеримого удаления, услышал он голос Джиджи:
— Волк! Я слышу тебя! Волк! Где ты?
Мозг его ухватился за этот голос, как будто это нить, держащая его над огромной пропастью.
— Волк, вернись к нам – голос звучал сильнее.
— Джиджи! Джиджи! Помоги мне вернуться!
Два голоса – далекий, тонкий, холодный и его собственный встретились, сплелись, связались. Они протянулись над пропастью, которая лежала между ним и тем неведомым измерением, в котором плыл корабль.
Маленькая фигура больше не сидела на корточках. Она распрямилась. Голос Джиджи звучал все громче:
— Волк! Иди к нам! Мы слышим тебя! Иди к нам!
И, как заклинание:
— Шарейн! Шарейн! Шарейн!
При имени любимой он почувствовал, как удваиваются его силы.
— Джиджи! Джиджи! Продолжай звать!
Он больше не видел свою комнату. Он видел корабль – далеко, далеко внизу. Сам он превратился в плывущий высоко комочек жизни, стремящийся вниз и зовущий, зовущий Джиджи на помощь.
Нить звуков, соединившая их, напряглась и задрожала, как паутинка. Но выдержала и продолжала держать его.
Корабль увеличивался. Он был туманным, облачным, но все рос и рос, и Кентон все опускался на него по звуковой нити Теперь послышались еще два голоса, подкреплявшие первый: пение Сигурда, призывы Зубрана, шум ветра в корабельных снастях, молитва волн, перебирающих четки пены.
Корабль становился все реальнее. Через него просвечивала комната. Казалось, она борется с кораблем, пытается отогнать его. Но корабль отгонял ее, призывал его голосами товарищей, голосами ветра и моря.
— Волк! Мы чувствуем – ты близко! Иди к нам… Шарейн! Шарейн! Шарейн!
Призрачные очертания ожили, охватили его. К нему протянулись руки Джиджи, схватили его, выхватили их пространства.
И тут он услышал хаотический шум, другой мир, подстегиваемый могучими ветрами, закружился вокруг него.
Он стоял на палубе корабля.
Джиджи прижимал его к своей волосатой груди. На плечах его лежали руки Сигурда. Зубран держал Кентона за руки выкрикивая радостные и непонятные персидские проклятия.
— Волк! – взревел Джиджи, слезы лились по его морщинистому лицу. – Куда ты ушел? Во имя всех богов, где ты был?
— Неважно! – всхлипывал Кентон. – Неважно, где я был, Джиджи. Я вернулся. Слава Богу, я вернулся!
16. В ПОИСКАХ ОСТРОВА КОЛДУНОВ
Им везло. Серебряный туман тесно окутал корабль, так что он плыл в круге, едва ли вдвое превышавшем его длину. Туман скрывал корабль. Кентон спал мало и загонял гребцов до изнеможения.
— Приближается сильная буря, – предупредил Сигурд.
— Молись Одину, чтобы она задержалась до нашего прихода в Эмактилу, – ответил Кентон.
— Будь у нас лошадь, я принес бы ее в жертву Всеобщему Отцу, – сказал Сигурд. – Тогда он придержал бы бурю.
— Говори тише, чтобы нас не услышали морские кони, – сказал Кентон.
Он расспросил викинга о его замечании во время рассказа пленного капитана, когда тот сказал, что жрица в жилище Бела.
— Она в безопасности, даже от Кланета, пока у нее нет другого возлюбленного, кроме бога, – объяснил Сигурд.
— Другого возлюбленного, кроме бога! – взревел Кентон, опуская руку на рукоять меча и свирепо глядя на Сигурда. – У нее не будет другого возлюбленного, кроме меня, Сигурд, ни бога, ни человека! Что ты хотел сказать?
— Убери руку с меча, Волк, – ответил Сигурд. – Я не собираюсь оскорблять тебя. Только – боги есть боги! И ведь капитан говорил, что твоя женщина ходит как во сне, память у нее отобрали. Если это так, кровный брат, то она и тебя не помнит.
Кентон сморщился.
— Нергал однажды пытался разлучить любивших друг друга мужчину и женщину, – ответил он, – как мы с Шарейн. Не смог. Не думаю, что жрец Нергала преуспеет там, где потерпел поражение его хозяин.
— Не очень умное рассуждение, Волк, – это Зубран неслышно подошел к ним. – Боги сильны. Поэтому им не нужны хитрость и коварство. Они наносят удар, и все кончено. Я согласен, что это не артистично, но зато результативно. Человек, у которого нет силы богов, должен полагаться на хитрость и коварство. Поэтому человеку часто удается то, что не удается богам. Из своей слабости он черпает силу. Богов нельзя в этом винить – разве в том, что сделали человека слабее себя. Поэтому Кланета следует опасаться больше, чем Нергала, его хозяина.
— Он не может изгнать меня из сердца Шарейн! – воскликнул Кентон.
Викинг склонился к компасу.
— Может, прав ты, – пробормотал он. – А может, Зубран. Все, что я знаю: пока твоя женщина верна Белу, ни один человек не может повредить ей.
Уклончивый в этом пункте, в остальных викинг отвечал прямо и подробно. Он многое видел, будучи рабом жрецов Нергала. Он знал город, хорошо знал Храм Семи Зон. Но лучше всего то, что он знал, как попасть в Эмактилу другой дорогой, не через гавань.
Это было очень важно: ясно, что в гавани их могли сразу же узнать.
— Смотрите, друзья, – Сигурд концом меча начертил грубую карту на досках палубы. – Вот город. Он в конце фьорда. По обе стороны фьорда вздымаются горы и двумя длинными полосами уходят далеко к морю. Но вот здесь, – он указал место, где береговая линия приближается к вилке, откуда отходит левый горный отрог, – здесь залив с узким входом со стороны моря. Жрецы Нергала используют это место для тайных жертвоприношений. Между заливом и городом дорога, идущая через холмы. Дорога приводит к большому храму. Я прошел по ней и стоял на берегах залива. Вместе с другими рабами нес жрецов в носилках и предметы для жертвоприношения. Потребуется два сна, чтобы корабль добрался от Эмактилы до этого места, но только половина этого времени напрямик, и сильный человек смог бы проделать этот путь еще быстрее. К тому же я хорошо знаю Храм Семи Зон, он долго был моим домом, – продолжал Сигурд. – В высоту он достигает тридцати мачт.
Кентон быстро прикинул. Получается около шестисот футов. Да, высоко.
— Сердцевину храма, – говорил Сигурд, – составляют святилища богов и богини Иштар, одно над другим Вокруг этой сердцевины помещения жрецов и жриц и меньшие святилища. Главных святилищ семь, самое верхнее их них принадлежит Белу. Внизу обширный двор с алтарями и другими священными предметами, куда люди приходят молиться. Все входы сильно укреплены и охраняются. Даже мы вчетвером не сможем войти – здесь.
Но вокруг храма, который имеет такую форму, – он нацарапал усеченный конус, – проходит большая каменная лестница вот так, – он провел спиральную линия от основания конуса к вершине. – На одинаковом расстоянии друг от друга на лестнице стоят часовые. У основания лестницы казармы гарнизона. Ясно?
— Ясно, что потребуется армия, чтобы захватить храм, – проворчал Джиджи.
— Вовсе нет, – ответил викинг. – Вспомните, как мы захватили галеру, хотя их было гораздо больше. Мы подплывем на корабле к этому тайному месту. Если жрецы там, сделаем, что сможем, – перебьем их или убежим. Но если Норны прикажут жрецам не быть там, мы спрячем корабль и оставим гребцов на попечении чернокожего. Потом мы вчетвером, в одежде моряков и в длинных плащах, захваченных на галере, пойдем скрытной дорогой к городу.
По поводу лестницы – у меня есть план. Вдоль нее стена – до груди человека. Если сможем незаметно пробраться у основания лестницы, поползем в тени этой стены, по дороге убивая часовых. Доберемся до жилища Бела, войдем и заберем Шарейн.
Но в хорошую погоду этого не сделать, – закончил он. – Должна быть темнота или буря, чтобы нас не увидели с улицы. Поэтому я молю Одина, чтобы он задержал бурю, пока мы не доберемся до города и не начнем подъем по лестнице. Потому что в бурю мы сможем все это проделать, и сделаем быстро.
— Но я не вижу в этом плане возможности убить Кланета, – ворчал Зубран. – Ползем, прячемся, снова ползем с Шарейн. И все. Клянусь Ормуздом, у меня слишком нежные колени, чтобы ползать. К тому же мой ятаган хочет оцарапать шкуру черного жреца.
— Пока Кланет жив, для нас нет безопасности, – прохрипел Джиджи на свой старый мотив.
— Я пока не думал о Кланете, – сказал викинг. – На первом месте женщина Кентона. После этого – займемся черным жрецом.
— Мне стыдно, – сказал Зубран. – Следовало бы помнить. Но, по правде говоря, я чувствовал бы себя лучше, если бы по дороге к ней у нас была возможность убить Кланета. Я согласен с Джиджи – пока он жив, нет безопасности ни для твоего кровного брата, ни для кого из нас. Впрочем, Шарейн, конечно, в первую очередь.
Викинг всматривался в компас. Снова посмотрел внимательно и показал остальным.
Голубые стрелки располагались параллельно, их острия указывали на одно место.
— Мы движемся прямо к Эмактиле, – сказал Сигурд. – Но вошли ли мы в фьорд? Во всяком случае мы близко к нему.
Он повернул рулевое весло. Корабль развернулся. Большая стрелка повернулась на четверть оборота. Малая указывала по–прежнему прямо.
— Это ничего не доказывает, – сказал викинг, – только то, что мы больше не направляемся прямо к городу. Но мы где‑то рядом с входом. Следите за гребцами.
Все медленнее полз корабль, отыскивая путь в тумане. И вот перед ними показалось что‑то темное. Оно росло медленно, медленно. Показался низкий берег, который вскоре резко поднимался и тонул в глубокой тени. Сигурд произнес благодарственную молитву.
— Мы по другую сторону гор, – сказал он. – Где‑то вблизи от того места, о котором я вам говорил. Пусть надсмотрщик ведет корабль вдоль берега.
Он резко повернул весло, корабль развернулся и пошел вдоль берега. Скоро впереди показался высокий хребет. Они обогнули его и оказались у узкого залива, в который Сигурд и направил корабль.
— Здесь мы спрячемся, – сказал он. – Вон в той группе деревьев. Они растут прямо из воды. В этой рощице корабль не увидят ни с моря, ни с берега.
Они вплыли в рощу. Длинная густая листва скрыла корабль.
Привяжите корабль к деревьям, – прошептал Сигурд. – Побыстрее. Тут могут оказаться жрецы. Посмотрим позже, когда двинемся в путь. Корабль оставим на женщин. С ними чернокожий. И пусть сидят тихо до нашего возвращения.
Он прожал сильными плечами.
— У тебя будет больше шансов вернуться, если ты срежешь свои длинные волосы и бороду, Сигурд, – сказал перс и добавил: – И у нас тоже.
— Что! – гневно воскликнул Сигурд. – Срезать волосы! Даже когда я был рабом, их не тронули!
— Умный совет, – заметил Кентон. – И, Зубран, Твоя пламенная борода и рыжие волосы – лучше бы сбрить их, или по крайней мере перекрасить.
— Клянусь Ормуздом, нет! – воскликнул перс так же гневно, как Сигурд.
— Птицелов расставил сеть и попался в нее! – рассмеялся Сигурд. – Совет тем не менее хорош. Лучше потерять волосы с головы, чем голову с плеч!
Девушки принесли ножницы. Со смехом они подстригли гриву Сигурда, укоротили его длинную бороду, придав ей форму лопаты. Удивительно преобразился после этого Сигурд, сын Тригга.
— Вот уж кого Кланет не узнает, увидев, – сказал Джиджи.
Теперь в руках женщин оказался перс. Они погрузили в темную жидкость тряпки и обложили ими голову и бороду Зубрана. Красный цвет потемнел, сменился каштановым. Разница между старым и новым Зубраном оказалась не так велика, как между старым и новым Сигурдом. Но Кентон и Джиджи кивнули одобрительно – красный цвет, бросавшийся в глаза, как и грива северянина, исчез.
Оставались Кентон и Джиджи. С ними мало что можно было сделать. Нельзя изменить лягушечий рот Джиджи, мигающие бусинки глаз, лысую макушку, необыкновенно широкие плечи.
— Сними кольца с ушей, – попросил Кентон.
— А ты – браслет с руки, – ответил Джиджи.
— Подарок Шарейн! Никогда! – воскликнул Кентон гневно, как только что северянин и перс.
— Ушные кольца подарила мне женщина, которая любила меня не меньше, чем твоя. – Впервые за то время, что Кентон знал Джиджи, в голосе того прозвучал гнев.
Перс негромко рассмеялся. Это сняло напряжение. Кентон виновато улыбнулся барабанщику. Джиджи ответил улыбкой.
— Что ж, – заметил он, похоже, мы все должны принести жертву, – и начал отстегивать кольца.
— Не надо, Джиджи! – Кентон почувствовал, что он не в состоянии расстаться с браслетом – символом любви Шарейн. – Оставь их. Кольца и браслет можно спрятать.
— Не знаю, – с сомнением ответил Джиджи. Лучше бы снять. И что‑то есть в идее жертвоприношения…
— В твоих словах мало смысла, – упрямо сказал Кентон.
— Ты думаешь? – размышлял Джиджи. – Многие видели у тебя на руке этот браслет, когда ты сражался с Кланетом и потерял Шарейн. И Кланет видел его. Что‑то нашептывает мне, что он более опасен, чем кольца в моих ушах.
— Мне никто ничего не шепчет, – упрямо ответил Кентон. Он пошел в бывшую каюту Кланета и начал переодеваться в одежду моряков, взятую на галере. ОН надел кожаную рубашки, рукава которой крепились вокруг запястий.
— Видишь, – сказал он Джиджи, – браслет не виден.
Затем брюки из того же материала, перевязанные у пояса. Высокие ботинки со шнуровкой. Поверх рубашки короткая кольчуга. На голове конический металлический шлем, с которого на плечи и спину свисала промасленная прочная кожа.
Остальные оделись так же. Только перс не расстался со своей старой кольчугой. Он сказал, что знает ее прочность, а остальные ему незнакомы. Старый друг, испытанный и всегда верный, сказал он он не оставит его ради новых, чью верность еще не испытал. А Джиджи низко натянул шлем и спрятал уши и ушные кольца. Вокруг шеи он повязал шелковый шарф, укрыв им рот.
Набросил поверх всего плащи, они посмотрели друг на друга повеселевшими глазами. Викинг и перс изменились неузнаваемо. Можно не бояться, что их узнают. Кентон тоже сильно изменился благодаря новой одежде. Плащ скрыл короткие ноги Джиджи, шарф вокруг лица и конический шлем делали его тоже с трудом узнаваемым.
— Хорошо! – прошептал викинг.
— Очень хорошо! – подхватил Кентон.
Они перепоясались и сунули за пояс свои мечи и короткие мечи, скованные Сигурдом. Только Джиджи не взял ни девятифутовый меч, скованный Сигурдом, ни свою булаву. Булава слишком известна, меч – помеха в пути, и его, как и булаву, невозможно скрыть. Он взял два меча средней длины. Взял и длинную веревку и прицепил к ней крюк. Обвязался веревкой, а крюк подцепил к поясу.
— Веди нас, Сигурд, – сказал Кентон.
Один за другим они перелезли через борт, прошли по мелкой воде и постояли на берегу, пока Сигурд осматривался в поисках ориентиров. Туман стал еще плотнее. Золотые листья, соцветия алых и желтых цветов были вытканы на фоне тумана, как на древнем китайском экране. В тумане показалась фигура Сигурда.
— Пошли. Я нашел дорогу.
Молча пошли они за ним сквозь туман, под серебряной тенью деревьев.
17. В ГОРОДЕ КОЛДУНОВ
Путь действительно оказался тайным. Как Сигурд находил дорогу в мерцающем тумане, какими приметами руководствовался, Кентон не мог сказать. Но викинг без колебаний шел вперед.
Между двумя холмами, заросшими золотым папоротником, пролегала узкая дорога, она проходила через густой кустарник, где неподвижный воздух был томным от запаха бесчисленных незнакомых цветов, через рощи стройных деревьев, похожих на бамбук, только стволы у них были ярко–алые, через леса, похожие на парки, в которых сгущались тускло–серебряные тени. Шагали они по мягкому мху неслышно. Давно позади остался шелест моря. Все вокруг было тихо.
На краю одной из таких похожих на парк рощ викинг остановился.
— Место жертвоприношений, – прошептал он. – Посмотрю, нет ли поблизости черных собак Нергала. Подождите меня здесь.
Он растворился в тумане. Они молча ждали. Чувствовалось, что что‑то злое спит под этими деревьями, и если они заговорят или пошевельнутся, оно может проснуться. Оттуда, как будто спящее зло дышало, доносился сладковатый кладбищенский запах, который был и в каюте Кланета.
Бесшумно, как и ушел, вернулся Сигурд.
— Черных одежд нет, – сказал он. – И все же – что‑то от их темного бога всегда живет в этой роще. Быстрее бы миновать это место! Идите быстро и не шумите.
Они пошли. Наконец Сигурд остановился и облегченно вздохнул.
— Прошли, – сказал он.
И повел их быстрее. Путь начал круто подниматься. Они шли длинным глубоким оврагом, в котором туман стоял так плотно, что они с трудом пробирались через булыжники, усеивавшие его дно.
Миновали два больших монолита – и остановились. Внезапно тишина, окружавшая их до сих пор, была нарушена. Перед ними по–прежнему была лишь стена тумана, но оттуда и снизу доносилось бормотание, голоса большого города, скрип мачт, дребезжание цепей, всплески весел и время от времени крики, вырывавшиеся из смутного гула стремительно, как хищная птица.
— Гавань, – сказал Сигурд и указал вниз и направо. – Эмактила под нами, близко. А там, – он снова указал вниз и немного налево, – там Храм Семи Зон.
Кентон взглянул в том направлении. Туманная громада виднелась в серебряных облаках, очертания ее конусообразные, вершина плоская. Сердце его забилось быстрее.
Они продолжали спускаться. Бормотание города становилось все громче. Все яснее виднелся гигантский храм, все выше уходил он в небо. И по–прежнему туман скрывал от них город.
Они подошли к высокой каменной стене. Здесь Сигурд повернул и повел их в рощу мощных, густо поросших листвой деревьев. Они скользили меж деревьями, следуя за викингом, который теперь двигался очень осторожно.
Наконец он выглянул из‑за толстого ствола, поманил их. За деревьями виднелась широкая дорога с глубокими колеями.
— Дорога в город, – сказал он. – Теперь можем идти спокойно.
Они спустились с откоса и пошли по дороге, идя теперь рядом друг с другом. Скоро деревья уступили место полям, насколько позволял видеть туман, возделанным. На полях росли высокие растения с листьями, как у кукурузы, но шафраново–желтыми, а не зелеными, а вместо початков длинные метелки блестящих белых плодов; видня были ряды кустов, на которых росли зеленые, как изумруд, ягоды; странные фрукты; деревья обвивали лианы, с которых свисали похожие на тыкву плоды, но в форме звезды.
Они увидели дома, двухэтажные, похожие на кубики, с меньшими кубиками, пристроенными с боков, как игрушки детей. Дома были причудливо раскрашены – и по цвету, и по рисунку. Фасады в полоску, с чередованием вертикальных полос шириной в ярд и голубого цвета; другие фасады желтые, с алыми зигзагами, как упрощенное изображение молнии; широкие горизонтальные полосы алого цвета чередовались с зелеными.
Дорога сузилась стала улицей, вымощенной камнями. Раскрашенные дома стояли гуще. Мимо проходили мужчины и женщины, коричневые и черные, одинаково одетые в белые одеяния без рукавов, доходившие до колен. На правом запястье у всех виднелось бронзовое кольцо, с которого спадала небольшая цепь. Они несли груз – кувшины, корзины с фруктами и другими продуктами, плоские хлебы красновато–коричневого цвета, плоские фляги шириной в фут. Проходя, они с любопытством взглядывали на четверку.
— Рабы, – сказал Сигурд.
Теперь раскрашенные дома стояли сплошной линией. На них виднелись галереи, а на них – цветущие деревья и растения, похожие на те, что росли над розовой каютой на корабле. С некоторых галерей наклонялись женщины и подзывали прохожих.
По этой улице они дошли до другой, большой и полной народу. И здесь Кентон остановился в изумлении.
Вдали виднелся огромный храм с террасами. Вдоль его сторон располагались многочисленные лавки. У дверей стояли хозяева, расхваливая свои товары. Свисали флаги, на которых клинописью были расписаны эти же товары.
Мимо него проходили ассирийцы, жители Ниневии и Вавилона с завитыми волосами и украшенными кольцами бородами; крючконосые яркоглазые финикийцы, египтяне с глазами как вишни, эфиопы с большими золотыми кольцами в ушах, улыбающиеся желтые люди с миндальными веками. Проходили солдаты в кольчугах, с колчанами на спине, полными стрел и с луками в руке, жрецы в черных, алых и синих одеждах. Перед ним на мгновение остановился краснокожий мускулистый воин, который нес на плече топор с двойным лезвием – оружие древнего Крита. На его плече лежала белая рука женщины в странно современной плиссированной юбке, с высокой белой грудью, выдававшейся из тоже очень современно по покрою блузки. Миноец и его подруга – они, может быть, были свидетелями того, как к дверям лабиринта подходила дань Афины Минам. А вот и римлянин в полном вооружении, сжимающий короткий бронзовый меч, который мог бы прорубать дорогу для Цезаря. За ним – гигантский галл со спутанными волосами и глазами, голубыми и холодными, как у Сигурда.
Взад и вперед по середине улицы двигались носилки, которые несли на своих плечах рабы. Кентон проводил взглядом гречанку, длинноногую и стройную, с волосами цвета созревшей пшеницы. Потом карфагенянку с горячими глазами, такую красивую, что она могла быть невестой Баала. Та высунулась из носилок и улыбнулась ему.
— Я хочу есть и пить, – сказал Сигурд. – Чего мы тут стоим? Пошли.
И Кентон понял, что пышная процессия выходцев из прошлого для его товарищей, которые сами из прошлого, совсем не удивительное зрелище. Он кивнул в знак согласия. Они смешались с толпой и отыскали место, где люди ели и пили.
— Лучше войдем по двое, – сказал Джиджи. – Кланет ищет четверых, а мы четверо незнакомцев. Волк, иди сначала ты с Сигурдом. Мы с Зубраном следом – и не замечайте нас, когда мы войдем.
Хозяин поставил перед ними еду и кувшины с вином. Он оказался разговорчив, спросил, откуда они, благополучным ли было их путешествие.
— Сейчас хорошо не быть в море, – болтал он. – Приближается буря, и сильная. Молюсь Владыке морей, чтобы он удержал ее, пока не кончится служба Белу. Скоро закрываю свое заведение и отправлюсь посмотреть на эту новую жрицу, о которой так много говорят.
Лицо Кентона было наклонено, закрыто свисавшей со шлема кожей. Но при этих словах он поднял голову и посмотрел прямо на хозяина.
Тот отступил, запнулся, смотрел на него широко раскрытыми глазами.
Его узнали? Рука Кентона потянулась к рукояти меча.
— Прошу прощения! – выдохнул хозяин. – Я вас не узнал… потом наклонился поближе, всмотрелся и рассмеялся. – Клянусь Белом! Я думал, ты… Боги!
И торопливо ушел. Кентон смотрел ему вслед. Может быть, его уход – хитрость? Он узнал в нем человека, которого ищет Кланет? Не может быть. Слишком реален был его испуг, слишком искренним облегчение. На кого же тогда похож Кентон, так похож, что вызывает испуг?
Они быстро поели, расплатились золотом, взятым с галеры, снова вышли на улицу. Почти тут же к ним присоединились Джиджи и перс.
По двое пошли они вдоль улицы, неторопливо, как люди, только что прибывшие из долгого путешествия. Но Кентон с удивлением и растущими опасениями все чаще замечал устремленные на него взглядЫ; люди тут же отворачивались и быстро уходили. Остальные тоже заметили это.
— Закрой плотнее лицо, – беспокойно сказал Джиджи. – Мне не нравится, как на тебя смотрят.
Кентон рассказал им о разговоре с хозяином.
— Плохо, – Джиджи покачал головой. – На кого ты можешь быть похож, что они так пугаются? Спрячь получше лицо.
Кентон так и поступил и шел согнувшись. Тем не менее на него продолжали посматривать.
Улица кончилась у большого парка. По его газону ходили люди, сидели на каменных скамьях, на гигантских корнях деревьев, чьи стволы были толстые, как у секвойи, а вершины терялись в тумане. Пройдя немного по улице, Сигурд свернул в парк.
— Волк, – сказал он, – Джиджи прав. На тебя слишком много смотрят. Мне кажется, что тебе лучше не идти дальше. Сиди на этой скамье. Наклони голову, будто спишь или пьян. В парке немного народу и будет еще меньше, когда заполнится двор храма. Туман скроет тебя от прохожих на улице. Мы втроем пойдем в храм и изучим лестницу. Потом вернемся к тебе и посоветуемся.
Кентон понимал, что викинг прав. Беспокойство его тоже росло. Но как трудно оставаться позади, не видеть место, где держат в плену Шарейн, предоставить другим возможность найти дорогу к ней.
— Смелее, брат, – сказал Сигурд, когда они уходили. – Один задержал для нас эту бурю. Он поможет нам и освободить твою женщину.
И вот долго–долго, как ему кажется, он сидит на скамье, закрыв лицо руками. Все сильнее и сильнее становится желание самому увидеть тюрьму Шарейн, изучить ее слабые места. В конце концов его товарищи заинтересованы не так, как он, взгляд их не обострен любовью. Он может достичь успеха там, где у них ничего не получится, его глаза увидят то, что пропустят их взгляды. Наконец нетерпение овладело им. Он встал со скамьи и вернулся на многолюдную улицу. Не доходя до нее нескольких шагов, он повернулся и пошел по парку вдоль улицы.
Вскоре он дошел до конца парка и остановился, полускрытый.
Прямо перед ним, не далее чем в пятидесяти ярдах, возвышался огромный Храм Семи Зон.
Гигантский конус закрывал все поле зрения. Вокруг него, как змея, извивалась большая лестница. На сто футов от основания храм сиял, как полированное серебро. Затем в конус врезалась круглая терраса. Ад террасой еще на сто футов поверхность была покрыта каким‑то металлом красно–золотого или оранжевого цвета. Еще терраса, и дальше абсолютно черный фасад, тусклый и мертвенный. Снова терраса. Туман скрывал стену над ней, но Кентону показалось, что он видит алую стену, а над ней синюю.
Взгляд его следовал за извивами лестницы. Он вышел вперед, чтобы разглядеть ее получше. Широкие ступени вели от ее основания к обширной платформе, на которой стояло множество вооруженных людей. Он понял, что это гарнизон, который они должны победить или обмануть. Сердце его упало при виде этих многочисленных солдат.
Он посмотрел, что за ними. Лестница охранялась. В пяти тысячах футов парк подступал вплотную к стене храма. Там группа высоких деревьев, их ветви почти касаются лестницы.
Веревка Джиджи и крюк! Как мудро поступил ниневит, предвидя такую возможность. Кентон самый легкий из четверых, он взберется на дерево, переберется на лестницу, а если это невозможно, перебросит веревку с крюком и поднимется по веревке.
Потом опустит веревку для остальных. Можно сделать! А если будет буря, которую предсказывает Сигурд, охрана ничего не услышит.
Неожиданно он почувствовал, что за ним следят. Между ним и храмом людей не было, у основания лестницы стоял офицер и смотрел на него.
Кентон повернулся, быстро прошел по краю улицы и оказался вновь у свей скамьи. Сел, как и раньше, наклонился, закрыл лицо руками.
Кто‑то сел рядом.
— В чем дело, моряк? – грубовато спросили его. – Если болен, почему не идешь домой?
Кентон ответил хрипло, продолжая закрывать лицо.
— Слишком много вина в Эмактиле. Оставь меня. Пройдет.
— Хо! – рассмеялся незнакомец и схватил Кентона за локоть. – Подними голову. Иди лучше домой, пока не началась гроза.
— Нет, нет, – хрипло ответил Кентон. – Я не боюсь бури. Вода мне поможет.
Руку с его локтя убрали. Некоторое время сидевший рядом молчал. Потом встал.
— Хорошо, моряк, – сердечно сказал он. – Оставайся здесь. Вытянись на скамье и поспи. Боги да будут с тобой!
— И с тобой, – пробормотал Кентон Он слышал удаляющиеся шаги. Осторожно повернул голову, посмотрел в том направлении. Среди деревьев видно было несколько фигур. Одна из них – человек в длинном синем плаще, другая – офицер, одетый, как тот, который смотрел на Кентона от основания большой лестницы; моряк; горожанин. Кто они такие?
Человек, сидевший рядом с ним, схватил его за руку как раз, тем где был надет браслет Шарейн! А этот офицер? Тот же самый? За ним следят?
Он выпрямился, натянул на браслет кожаный рукав. Но рука его вновь легла на браслет. Рукав был отрезан ножом.
Кентон вскочил, хотел бежать. Но прежде чем он успел сделать шаг, послышался топот. На голову ему набросили тяжелую ткань. Чьи‑то руки схватили его за горло. Другие руки обвили его веревкой, прижали его руки к бокам.
— Снимите ткань с его лица, но держите руки на горле, – услышал он холодный мертвый голос.
Голову его открыли. Он смотрел прямо в бледные глаза Кланета.
И тут из двойного кольца солдат послышались изумленные возгласы, движения ужаса. Вышедший вперед офицер смотрел на него в изумлении.
— Мать богов! – застонал он и склонился у ног Кентона. – Повелитель, я не знал, – он вскочил и поднес нож к веревке.
— Остановись! – заговорил Кланет. – Это раб! Посмотри внимательней!
Дрожа, офицер посмотрел в лицо Кентону, приподнял завесу шлема, выругался.
— Боги! – воскликнул он. – А я‑то думал, что это…
— Ты дуиал неверно, – спокойно прервал его Кланет. Он пожирал глазами Кланета. Наклонился, вытащил меч Набу.
— Подожди! – офицер взял у него меч. – Этот человек – мой пленник, пока я не доставлю его королю. И до этого времени я сохраню его меч.
Смертельной опасностью загорелись глаза жреца.
— Он отправится в Дом Нергала, – взревел он. – Берегись, капитан, противоречить Кланету!
— Я слуга короля, – ответил офицер. – Я подчиняюсь его приказам. А ты, как и я, хорошо знаешь, что он приказал всех пленников приводить прежде всего к нему – что бы ни говорили жрецы. К тому же, – добавил он, – возникает вопрос о награде. Пусть это дело будет записано. Король справедлив.
Черный жрец стоял молча, прикрыв рукой рот. Офицер рассмеялся.
— Вперед! – приказал он. – К храму! Если этот человек убежит, вы все умрете.
Тройное кольцо солдат окружило Кентона. Рядом с ним шел офицер. По другую сторону – черный жрец, не отрываясь взглядом от Кентона, облизывая свои безжалостные губы.
Так прошли они через парк, вышли на улицу и наконец прошли через высокую арку в храм.
18. ПОВЕЛИТЕЛЬ ДВУХ СМЕРТЕЙ
Король Эмактилы, Повелитель двух смертей, сидел, скрестив ноги, на высоком диване. Он очень походил на старого короля из детских песенок, включая веселость, румянец на лице и круглые, как яблочко, и такие же красные щеки. В его водянистых голубых глазах светилось веселье. На нем была свободная алая одежда. Он шаловливо размахивал своей длинной белой бородой, испачканной брызгами красного, пурпурного и желтого вина.
Судная палата короля Эмактилы достигала ста квадратных футов. Диван короля размещался на платформе, в пять футов высотой, которая, как сцена, тянулась от одного края комнаты до другого. Пол, выложенный квадратными плитками, круто поднимался к платформе. Вогнутый край его резко обрывался пролетом широких невысоких ступеней, которые заканчивались в пяти футах от дивана короля.
Двенадцать лучников в перевязанных поясами куртках серебряного и алого цвета стояли на самой нижней ступени плечо к плечу, луки наготове, стрелы наложены на тетиву, в одно мгновение они поднимут лук и выстрелят. Двадцать четыре лучника стояли у их ног. Тридцать шесть смертоносных стрел смотрели на Кентона, черного жреца и капитана.
По обе стороны ступеней вдоль задней изогнутой стены палаты вытянулся еще ряд лучников, серебряных и алых, плечо к плечу, стрелы наготове. Мигающие глаза короля видели их головы, которые окружали сцену, как рампа.
Вдоль остальных трех стен, плечо к плечу стрелы на тетивах, глаза не отрываются от короля Эмактилы, идет не прерываясь серебряно–алый фриз из лучников. Они стоят молча; напряженные, как заведенные автоматы, готовые действовать, как только нажмут невидимую пружину.
В помещении нет окон. Светло–голубые занавеси покрывают все стены. Сотни ламп освещают комнату ровным желтым пламенем.
На расстоянии двух ростов человека слева от короля неподвижно, как и лучники, стоит затянутая вуалью фигура. Сквозь вуаль чуть видны изгибы прекрасного тела.
На том же расстоянии справа от короля другая скрытая фигура. Вуаль не в силах скрыть исходящий от нее ужас.
Одна фигура заставляет сердце биться ускоренно.
Другая – останавливает его биение.
На полу, у ног короля, сидит гигант китаец с изогнутым алым мечом.
У дивана с обеих сторон стоят девушки, прекрасные, юные, обнаженные по пояс. Шесть с одной стороны, шесть – с другой. В руках у них кувшины, полные вином. У их ног вазы с вином, красным, пурпурным и желтым, эти вазы стоят в еще больших вазах со снегом.
Справа от Повелителя двух смертей склонилась девушка с золотой чашкой в вытянутой руке. Слева – другая с золотым флаконом. Король берет то чашку, то флакон и пьет, потом возвращает. Девушки тут же наполняют их.
Через много переходов вели капитан и черный жрец Кентона к этому месту. Теперь король выпил вина, поставил чашку и хлопнул в ладоши.
— Король Эмактилы судит! – звучно произнес китаец.
— Он судит! – прошептали лучники, стоящие у стен.
Кентон, черный жрец и капитан вышли вперед и остановились перед упершимися им в грудь стрелами. Король наклонился, веселыми мигающими глазами разглядывая Кентона.
— Что это за шутка, Кланет – воскликнул он высоким дрожащим голосом. – Или дома Бела и Нергала объявили войну друг другу?
— Войны нет, повелитель, – ответил Кланет – Это раб, за которого я объявил награду и кого я хочу получить, так как я захватил…
— Так как я захватил, повелитель, – прервал капитан, опустившись на колено. – И я тем самым заслужил награду Кланета, о справедливый!
— Ты лжешь, Кланет, – захихикал король. – Если ты не воюешь, почему же ты связал…
— Посмотри внимательней, повелитель, – прервал его Кланет. – Я не лгу.
Водянистые глаза уставились на Кентона.
— Да! – рассмеялся король. – Ты прав. Он тот, кем мог бы быть тот, другой, если бы он хоть наполовину был мужчиной. Ну, ну… – Он поднял флакон и, прежде чем выпить, заглянул в него. – Не полон! – хихикнул он. – Только наполовину.
Он перевел взгляд с флакона на девушку, которая стояла ближе всех к той, что склонилась слева от него. Его круглое радостное лицо устремилось к ней.
— Насекомое! – засмеялся король. – Ты забыла наполнить мой флакон!
Он поднял палец.
Слева донесся звон тетивы, пролетела стрела. Она ударила дрожащую девушку в правое плечо. Девушка покачнулась, закрыв глаза.
— Плохо! – весело крикнул король и снова поднял палец.
Справа прозвучала тетива, просвистела стрела. Она попала в сердце первому лучнику. Прежде чем его тело коснулось пола, тот же самый лук выстрелил вторично. Вторая стрела попала в сердце раненой девушке.
— Хорошо! – засмеялся король.
— Наш повелитель даровал смерть! – запел китаец. – Слава ему!
— Слава ему! – подхватили лучники и девушки с чашами.
Но Кентон, охваченный приступом гнева при виде этого бессердечного убийства, прыгнул вперед. Немедленно тридцать шесть лучников натянули стрелы, оперения стрел коснулись их ушей. Черный жрец и капитан схватили Кентона и оттянули назад.
Китаец вытащил маленький молот и ударил по лезвию своего меча. Тот зазвенел, как колокол. На помосте появились два раба и унесли мертвую девушку. Другая заняла ее место. Рабы унесли мертвого лучника. Другой выскользнул из‑за занавеси и занял его место.
— Отпустите его, – радостно крикнул король и выпил полный флакон.
— Повелитель, он мой раб, – черный жрец не мог скрыть высокомерное нетерпение в своем голосе. – Его привели сюда, исполняя твой приказ. Ты видел его. Теперь я требую, чтобы его отвели ко мне на казнь.
— О–хо–хо! – король поставил чашку и рассмеялся. – О–хо–хо! Значит, ты требуешь его? И хочешь увести? О–хо–хо!
— Ноготь гниющей мухи! – взревел он. – Король я в Эмактиле или нет? Отвечай!
Отовсюду послышался звук натягиваемых луков. Каждая стрела из всего живого фриза была нацелена в грузное тело черного жреца. Капитан присел рядом с Кентоном.
— Боги! – прошептал он. – Ад побери тебя и награду! И зачем я увидел тебя?
Черный жрец заговорил голосом, в котором смешались гнев и страх:
— Ты король Эмактилы!
И поклонился. Король взмахнул рукой. Луки опустились.
— Встаньте! – воскликнул король. Все трое встали. Король Эмактилы указал пальцем на Кентона.
— Почему ты так рассердился? – захихикал он. – Я дал благодеяние смерти двоим. Человек, много раз будешь ты умолять смерть прийти, молить о моих быстрых лучниках, прежде чем Кланет покончит с тобой.
— Это убийство – сказал Кентон, спокойно глядя в водянистые глаза.
— Моя чаша должна быть полна, – мягко ответил король. – Девушка знала о наказании. Она нарушила мой закон. Она убита. Я справедлив.
— Наш повелитель справедлив! – пропел китаец.
— Он справедлив! – повторили лучники и девушки.
— Лучник заставил ее страдать, а я хотел для нее безболезненной смерти. Поэтому он убит, – сказал король. – Я милостив.
— Наш повелитель милостив! – запел китаец.
— Он милостив! – подхватили лучники и девушки.
— Смерть! – морщинистое лицо короля лучилось в улыбке. – Человек, смерть – это лучший дар. Это единственное, в чем боги не могут нас обмануть. Она одна сильнее непостоянства богов. Она одна принадлежит только человеку. Превыше богов, независимо от богов, сильнее богов – так как даже боги должны будут умереть в свое время!
— Ах! – вздохнул король, и на мгновение вся его веселость исчезла. – Ах! В Халдее был поэт, когда я жил там – он знал смерть и знал, как писать о ней. Малдонах его звали. Здесь никто его не знает…
И затем негромко:
— Лучше умереть, чем жить, сказал он,
А еще лучше никогда не быть!
Кентон слушал, интерес к этой странной личности погасил гнев. Он тоже знал Малдонаха из древнего Ура; он читал эту самую поэму, которую цитировал король, в глиняных таблицах, раскопанных Хайлпрехтом в песках Ниневии – в той старой, полузабытой жизни. И невольно он произнес начало последнего мрачного отрывка:
— Жизнь есть игра, – сказал он, – Конца ее мы не знаем – и не хотим знать, И мы зеваем, приходя к концу…
— Что! – воскликнул король. – Ты знаешь Малдонаха! Ты…
И он затрясся от хохота.
— Продолжай! – приказал он. Кентон чувствовал, как дрожит рядом с ним от гнева Кланет. И Кентон рассмеялся, встретив подмигивающий взгляд короля; и пока повелитель двух смертей приканчивал то чашку, то флакон, он читал стихи с их резвым ритмом, так несоответствующим стилю похоронного марша:
— Приятно играть с западней, Обходить ловушку, играть с опасностью И легко проигрывать выигранное; Есть открытая дверь, сказал он, Место, куда ты можешь идти – Но то, что ты видел, и то, что ты сделал, Что это все, когда гонка уже окончена И ты стоишь у самой дальней двери? Как будто всего этого никогда не было, сказал он, Все миновало, как пульс мертвеца! Иди легко и ни о чем не печалься! Тот, кому нечего бояться, ни о чем не горюет. Лучше умереть, чем жить, сказал он, А еще лучше никогда не быть рожденным!
Король долго сидел молча. Наконец он шевельнулся, поднял флакон и подозвал одну из девушек.
— Он пьет со мной! – сказал он, указывая на Кентона.
Лучники расступились, пропустили девушку. Она остановилась перед Кентоном, поднесла к его губам флакон. Он выпил, поднял голову и поклонился.
— Кланет, – сказал король, – человек, знающий Малдонаха из Ура, не может быть рабом.
— Повелитель, – упрямо ответил черный жрец. – Мой раб останется у меня.
— Неужели? – засмеялся король. – Язва в брюхе комара! Неужели?
Вокруг зазвенели натягиваемые луки.
— Повелитель, – выдохнул Кланет и опустил голову, – он остается у тебя.
Проходя мимо, Кланет слышал, как скрипят зубы черного жреца, слышал, как он втягивает воздух, как после долгого бега. И Кентон, улыбаясь, прошел сквозь строй лучников и остановился возле короля.
— Человек, знающий Малдонаха, – улыбнулся король, – ты удивляешься, как это я, один, обладаю большей властью, чем жрецы всех богов и все их боги. Потому, что во всей Эмактиле только у меня нет ни богов, ни суеверий. Я единственный человек, который знает, что в мире существуют лишь три реальности. Вино – оно до некоторого предела позволяет человеку видеть яснее, чем боги. Власть – вместе с хитростью она делает человека выше богов. Смерть – которую боги не могут отменить и которой распоряжаюсь я.
— Вино! Власть! Смерть! – запел китаец.
— У этих жрецов множество богов, и каждый ревнует к остальным. Хо! Хо! – рассмеялся король. – У меня нет богов. Поэтому я справедлив ко всем. Справедливый судья должен не иметь предрассудков и не иметь веры.
— Наш повелитель не имеет предрассудков! – запел китаец.
— Он не имеет веры! – пели лучники.
— Я на одной чашке весов, – кивнул король. – На другой множество богов и жрецов. Есть только три вещи, в реальности которых я уверен. Вино, власть, смерть! Те, кто пытается перевесить меня, верят во многое другое. Поэтому я перевешиваю их. Если бы мне противостоял только один бог, только одна вера – я был бы внизу. Да, три к одному! Вот парадокс – и в нем правда.
— Повелитель Эмактилы говорит правду! – шептали лучники.
— Лучше три прямые стрелы в колчане, чем триста кривых И если в Эмактиле появится человек с одной стрелой и эта стрела будет прямее моих трех – этот человек будет править на моем месте, – лучился радостью король.
Лучники, слушайте своего короля! – пел китаец.
— Итак, – сказал король, – поскольку боги и жрецы ревнуют друг к другу, они сделали меня, который не думает ни о богах, ни о жрецах, королем Эмактилы, чтобы сохранить мир между ними и не дать им уничтожить друг друга. И так как у меня десять лучниках против одного их лучника и двадцать мечников против одного их мечника, я делаю это очень хорошо. Хо! Хо! – рассмеялся король. – Такова власть.
— У нашего повелителя есть власть! – воскликнул китаец.
— А имея власть, я могу пить, сколько хочу, – хихикал король.
— Наш повелитель пьян, – шептали лучники вдоль всей палаты.
— Пьяный или трезвый, я король двух смертей, – хихикал правитель Эмактилы.
— Двух смертей, – шептали лучники, кивая друг другу.
— Перед тобой, человек, знающий Малдонаха, я сниму с них покрывала, – сказал король.
— Лучники по сторонам и сзади, наклоните головы! – закричал китаец. Головы лучников со всех трех сторон живого фриза немедленно упали на грудь.
Вуаль спала с фигуры слева от короля.
Глядя на Кентона глубокими глазами, в которых была нежность матери, стыдливость девушки, страсть любовницы, стояла женщина. Ее обнаженное тело было безупречно. В единый хор в нем сливались мать, девушка и любовница. на дышала всеми веснами, когда‑либо посещавшими землю. Она была дверью в очарованный мир, символом всего, что может дать земля – всей красоты и всей радости. Она была всей сладостью жизни, ее обещаниями, ее экстазами, ее соблазнами и ее разумом. Глядя на нее, Кентон понял, что за жизнь нужно держаться всеми силами. Она дорога и полна удивительными дарами. Ее нельзя упускать!
И что смерь ужасна!
Он не испытывал желания к этой женщине. Но она пробудила в нем желание жить и раздула это пламя в целый пожар.
В правой руке она держала странный изогнутый инструмент, с длинными кривыми лезвиями и острыми клыками.
— Ей я отдаю только тех, кто мне очень не нравится, – хихикал король. – Она убивает их медленно. Глядя на нее, они цепляются за жизнь, яростно, отчаянно цепляются за нее. Каждый момент жизни, который она отнимает у них этими клыками и когтями, длится целую вечность. И целую вечность они борются со смертью. Медленно отнимает она у них жизнь, и они уходят из жизни с воплями, цепляясь за нее, отворачивая упрямые лица от смерти. А теперь – взгляни!
Спала вуаль с фигуры справа.
Здесь скорчился черный карлик, бесформенный, искривленный, отвратительный. Он смотрел на Кентона тусклыми глазами, в которых были все печали, вся усталость, все разочарования жизни; вся жизнь с ее бесполезной, утомительной, пустой работой. Глядя на него, Кентон забыл о первой фигуре – он понял, что жизнь ужасна, что ее не стоит беречь.
И что единственное в ней хорошо – это смерть!
В правой руке карлик держал острую шпагу, тонкую, с игольным острием. Кентон боролся с охватившим его желанием броситься на это острие, умереть на нем.
— Ему я отдаю тех, кем очень доволен, – засмеялся король. – Быстра их смерть, как сладкая чаша у губ.
— Ты, – король указал на капитана, пленившего Кентона, – я тобой недоволен, ты схватил человека, который знает Малдонаха, хоть он и был рабом Кланета. Иди к левой смерти!
С побледневшим лицом капитан поднялся по ступеням, прошел мимо лучников, шел не останавливаясь, пока не оказался рядом с женщиной. Китаец ударил в свой меч. Появились два раба со склоненными головами, неся металлическую решетку. Они сняли с капитана вооружение, привязали его обнаженным к решетке. Женщина склонилась к нему, вся нежность, вся любовь вся жизнь с ее обещаниями. Она прижала свой инструмент к его груди – с такой любовью!
Капитан закричал, громко, отчаянно послышались мольбы и проклятия стоны вновь проклятого.
Женщина продолжала склоняться к нему, улыбаясь, нежно, глаза ее не отрывались от него.
— Хватит! – усмехнулся король. Она убрала орудие пытки с груди солдата, взяла свою вуаль и накинула на себя. Рабы развязали капитана, одели его дрожащее тело. В всхлипываниями он, шатаясь, побрел назад, встал на колени справа от черного жреца.
— Я недоволен, – весело говорил король. – Но ты выполнял свой долг. Поэтому живи еще немного, поскольку ты этого хочешь. Я справедлив
— Наш повелитель справедлив, – подхватили все в палате.
— Ты, – он указал на лучника, поразившего девушку и своего товарища, – тобой я очень доволен. Ты получишь награду. Иди к моей правой смерти!
Медленно лучник выступил вперед. Се быстрее двигался он, глядя в тусклые глаза лучника. Все быстрее и быстрее – он взлетел по ступеням, разбрасывая стоявших там лучников, и бросился на острую шпагу.
— Я щедр – сказал король.
— Наш повелитель щедр, – распевал китаец.
— Щедр, – шептали лучники.
— Я хочу пить, – засмеялся король. Он выпил чашку и флакон. Голова его опустилась, он покачнулся совсем пьяно.
— Приказываю! – он открыл сначала один глаз, потом другой. – Слушай меня, Кланет! Я хочу спать. Я буду спать. Когда я проснусь, приведи ко мне человека, который знает Малдонаха, снова. Никто не смеет повредить ему. Таков мой приказ. Его должны охранять лучники. Уведите его. Охраняйте. Таков мой приказ!
Он потянулся за чашкой. Она выпала из ослабевшей руки.
— Клянусь моими смертями, – заплакал он. – Какой стыд! В кувшин входит так много, а в человека так мало!
И он упал на диван.
Повелитель двух смертей захрапел.
— Наш повелитель спит! – негромко запел китаец.
— Он спит! – шептали лучники и девушки.
Китаец встал, склонился к корою. Поднял его как ребенка. Две смерти шли вслед. Двенадцать лучников с нижней ступени повернулись и замкнули кольцо вокруг короля. Двадцать четыре лучника окружили их. Остальные лучники отделились от стен и по шесть человек пошли сзади.
Двойное кольцо прошло через занавеси в тылу комнаты. За ними маршировали лучники.
Из их строя отделилось шесть человек и остановились возле Кентона.
Девушки взяли чашки и кувшины Они исчезли за занавесом.
Один из шести лучников показал вниз. Кентон спустился по ступеням.
Черный жрец с одной стороны, бледный капитан с другой, трое лучников перед ним, трое сзади, он вышел из судной палаты короля.
19. ЗА СТЕНОЙ
Кентона отвели в маленькую комнату, в высоких стенах которой были прорезаны узкие окошки. Дверь из прочной бронзы. Вокруг стен низкие деревянные скамьи. В центре еще одна скамья. Лучники посадили его на нее, связали ноги кожаными ремнями, бросили на скамью плащи и усадили на них. Сами сели по трем сторонам комнаты, не отрывая взгляда от черного жреца и капитана.
Капитан тронул жреца за плечо.
— Где моя награда? – спросил он. – Когда я ее получу?
— Когда раб будет в моих руках, не раньше, – ответил Кланет свирепо. – Если бы ты был – умнее, ты бы уже получил ее.
— Много хорошего она принесла бы мне со стрелой в сердце или, – он вздрогнул, – с объятиями левой смерти короля.
Черный жрец злобно взглянул на Кентона, склонился к нему.
— Не надейся на милость короля, – сказал он. – Это говорило его опьянение. Протрезвев, он все забудет. Даст мне тебя без всяких вопросов. Не надейся!
— Неужели? – Кентон спокойно смотрел в злобные глаза. – Я уже дважды побил тебя, черная свинья!
— Третьего раза не будет! – выплюнул Кланет. – А когда король проснется, в моих руках будешь не только ты, но и храмовая шлюха, которую ты любишь. Хо! – загремел он, увидев, как сморщился Кентон. – Это тебя трогает, не так ли? Да, вы у меня будете оба. И вместе умрете – медленно, ах, как медленно, глядя на муки друг друга. Рядом, бок о бок, медленно, медленно, мои пытки уничтожат остатки ваших тел. Нет, остатки ваших душ! Никогда раньше мужчина и женщина не умирали так, как умрете вы!
— Ты не можешь повредить Шарейн, – ответил Кентон. – Стервятник, чья пасть изрыгает только ложь! Она жрица Бела и может не опасаться тебя!
— Хо! Ты это знаешь? – смеялся Кланет; потом склонился к его уху и прошептал так, чтобы слышал только он: Послушай, у тебя будет о чем поразмыслить, пока я отсутствую. Только пока жрица верна богу, она вне моей досягаемости. А теперь слушай, слушай: прежде чем король проснется, у Шарейн будет другой любовник! Да! Твоя любовь будет лежать в руках земного любовника! И это будешь – не ты!
Кентон напрягся, пытаясь разорвать ремни.
— Прекрасная Шарейн! – насмешливо прошептал Кланет. – Священный сосуд радости! И я разобью его – пока король спит.
Он обернулся к офицеру, захватившему Кентона.
— Пошли.
— Нет, нет, – торопливо ответил тот. – Я предпочитаю это общество К тому же если я потеряю этого человека, я навсегда потеряю и награду, которую ты пообещал.
— Дай мне его меч, – приказал Кланет, протянув руку к мечу Набу, который находился у офицера.
— Меч остается с этим человеком, – ответил капитан и спрятал его за собой; он посмотрел на лучников.
— Правильно, – кивнули друг другу лучники. – Жрец, мы не можем отдать тебе меч.
Кентон рявкнул, руки его взметнулись. Шесть луков напряглись, шесть стрел нацелились ему в сердце. Ни слова не говоря, он вышел из комнаты. дин из лучников встал и закрыл дверь на засов. Наступило молчание. Офицер о чем‑то задумался; время от времени он вздрагивал, как от холода, и Кентон понял, что он думает о смерти с улыбающимися, нежными глазами, которая поднесла к его груди орудие пытки. Шестеро лучников не мигая смотрели на него.
И Кентон закрыл глаза, стараясь отогнать ужас, который почувствовал от последних слов Кланета, борясь с отчаянием.
Какой заговор против нее подготовил жрец, какую ловушку расставил? Он был так уверен в том, что Шарейн окажется в его руках. И где Джиджи, Зубран и Сигурд? Знают ли, что он схвачен? Он почувствовал ужасное одиночество.
Долго ли были закрыты его глаза, спал ли он, он не мог сказать. Но вдруг услышал как бы с бесконечного удаления спокойный бесстрастный голос.
— Проснись! – приказывал голос.
Он открыл глаза, поднял голову. Рядом с ним стоял жрец, длинный синий плащ покрывал его с ног до головы. Лицо жреца не было видно.
Руки и ноги Кентона были свободны. Он сел. Веревки и ремни лежали на полу. На каменных скамьях, прислонившись друг к другу, спали лучники. Офицер тоже спал.
Жрец указал на его меч, меч Набу, лежавший на коленях спящего офицера. Кентон взял его. Жрец указал на засов, закрывавший дверь. Кентон отодвинул его и распахнул дверь. Синий жрец скользнул за дверь, Кентон последовал за ним.
Синий жрец прошел по коридору около ста шагов и затем нажал на то, что Кентону казалось обычной стеной. Сдвинулась панель. Они стояли в другом коридоре, длинном, тускло освещенном. Коридор изгибался большой дугой. Кентону пришло в голову, что он идет вдоль внешней стены храма.
Их путь преградила массивная бронзовая дверь. Синий жрец, казалось, слегка коснулся ее. Однако она открылась и закрылась за ними.
Кентон стоял в келье в несколько десятков квадратных футов. В одном конце ее была массивная дверь, через которую они вошли. В другом еще одна такая же дверь. Слева большая каменная плита, гладкая, бледная.
Синий жрец заговорил – если только он действительно говорил: голос, как и тогда, когда Кентон проснулся, доносился как бы с бесконечно большого удаления.
— Мозг женщины, которую ты любишь, спит, – произнес этот голос. Она ходит во сне, движется среди сновидений, которые насылает ей другой мозг. Зло захватывает ее. Нельзя допустить, чтобы зло победило. Но это зависит от тебя, от твоей мудрости, твоей силы, твоей храбрости. Когда твоя мудрость подскажет тебе, что настало время, открой дальнюю дверь. Твой путь пролегает через нее. И помни: ее мозг спит. Ты должен разбудить его, прежде чем зло овладеет ею.
Что‑то звякнуло на полу. У ног Кентона лежал клинообразный ключ. Подняв его, он увидел, что синий жрец стоит у дальней двери.
Теперь он казался облаком дыма, принесенного ветром затем это облако рассеялось и исчезло!
Кентон услышал гул множества голосов, приглушенный, смутный. Он прислушался. Голоса доносились не их коридора. Казалось, они проходят сквозь плиту бледного камня. Он прижал к ней ухо. Звуки теперь слышались отчетливее, но слова он по–прежнему не мог разобрать. Должно быть, камень здесь очень тонок, подумал он, если через него можно слышать. Справа он увидел небольшой рычажок. Нажал на него.
Туманный светлый диск в три фута шириной появился в камне. Он ослепительно сверкнул; казалось, в камне просверлили дыру. На месте диска теперь было круглое окно. В нем виднелись силуэты женщины и двух мужчин. Голоса их доносились теперь так ясно, будто они стояли рядом. Слышался также гул толпы. Кентон отпрянул, боясь, что его увидят. Поставил рычаг в прежнее положение. Диск померк. Голоса почти стихли. Он снова смотрел на гладкий бледный камень.
Медленно он снова опустил рычаг, снова смотрел, как в сплошном камне появляется отверстие, увидел головы. Свободная рука его прижималась к стене рядом с диском; теперь он просунул ее прямо в диск. И коснулся холодного камня. То, что глазу казалось отверстием, оставалось на ощупь гладким камнем.
Он понял: это какое‑то изобретение колдунов, жрецов. Приспособление, позволяющее им подсматривать, подслушивать, стоя в келье. Какие‑то знания особенностей света, еще неизвестные науке мира Кентона, какие‑то вибрации, делающие камень прозрачным изнутри, но не снаружи. Камень пропускал не только свет, но и звук!
Держа руку на рычаге, Кентон смотрел на людей, стоявших рядом и не подозревавших о его присутствии.
20. ПЕРЕД АЛТАРЕМ БЕЛА
Туман поднялся. Грозовые тучи прижимались к вершине Храма Семи Зон. Перед Кентоном был обширный двор храма, вымощенный большими восьмиугольными плитами белого и черного мрамора. Двор окружали широким полукругом стройные колонны, похожие на волшебный лес. Их стволы блестели красным и черным, заостренные вершины были увенчаны резными остроконечными листьями, сверкавшими, как огромные папоротники росой, бесчисленными драгоценными камнями. На черных и алых стволах виднелись мистические символы, выложенные золотом, лазуритом, изумрудом и серебром. Ряды этих колонн тянулись вверх к мрачному, угрожающему небу.
В ста футах от него находился золотой алтарь, охраняемый керубами – выкованными их темного металла изображениями львов с человеческими лицами и орлиными крыльями. Керубы стояли по углам алтаря, их жестокие бородатые лица напряжены, как живые. На алтаре находился треножник, с него поднимался неподвижный заостренный язык пламени.
Обширным полумесяцем в десяти ярдах от колонн стоял двойной ряд лучников и копьеносцев. Они сдерживали толпу; мужчины, женщины, дети толпились меж колонн, роились за строем солдат, как листья, прижатые ветром к стене. Десятки и сотни людей, вырванных из своего времени и помещенных в этот безвременной мир.
— Говорят, эта новая жрица очень красива, – заговорил один их мужчин перед Кентоном. У него было худое бледное лицо, фригийская шапка на гладких волосах. Женщина дерзкой цветущей миловидности, черноволосая, черноглазая. Мужчина справа от нее – ассириец, бородатый, с волчьим профилем.
— Она была принцессой, я слышала, – сказала женщина. – Принцессой в Вавилоне.
— Принцесса в Вавилоне! – повторил ассириец, его волчье лицо смягчилось, в голосе прозвучала тоска: – О, вернуться в Вавилон!
— Жрец Бела любит ее – так говорят, – нарушила молчание женщина.
— Жрицу? – прошептал фригиец. Женщина кивнула. – Но это запрещено, – прошептал он. – Это – смерть! – Женщина рассмеялась.
— Тише! – предупредил осторожный ассириец.
— А Нарада, танцовщица бога, любит жреца Бела! – продолжала, не обращая на его слова внимания, женщина. – И, как всегда, добычу получит Нергал!
— Тише! – снова прошептал ассириец.
Послышался барабанный бой, сладкая музыка флейт. Кентон поискал источник этих звуков. И увидел с десяток храмовых девушек. Пять сидели с маленькими барабанами, положив на них розовые пальцы; две держали у губ флейты; три склонились к арфам. В их круге лежало что‑то, напоминавшее груду серебристой паутины, перевитой черными нитями, среди которых запутались золотые бабочки. Груда зашевелилась, поднялась.
Появилась женщина в черных шелках, такая привлекательная, что на мгновение Кентон забыл Шарейн. Она была смуглой, с бархатной чернотой полуночи. Глаза ее – бассейны полуночной тьмы, в которых не светили звезды волосы – порывы урагана, пойманные в золотые сети. Золото мрачное, угрюмое, и что‑то угрожающее было в этой сладкой красоте.
— Вот это женщина! – обратилась смелая красавица к ассирийцу. – Она получит все, что хочет, клянусь своей постелью!
Кто‑то рядом произнес, задумчиво, сонно, преклоняясь:
— Да! Но новая жрица – вот это женщина! Она Иштар!
Кентон вытянул шею, рассматривая говорившего. Он увидел юношу, едва ли старше девятнадцати лет, стройного, одетого в шафран. Глаза и лицо у него были как у мечтающего ребенка.
— Он безумец, – прошептала женщина ассирийцу. – С того момента, как появилась новая жрица, он отсюда не уходит.
— Приближается буря. Небо как медная чаша, – прошептал фригиец. – Воздух пугает.
Ассириец ответил:
— Говорят, бел приходит в свой дом во время бури. Может быть, жрица не будет сегодня одна.
Женщина лукаво рассмеялась. Кентон почувствовал желание сжать ее горло руками. Послышался гром.
— Может, это он приближается, – мечтательно сказала женщина.
Послышались звуки арфы, барабанный бой. Одна из девушек запела:
«Рождена была Нала для наслаждения,
Никогда не танцевали такие белые ноги;
Сердца, на которые она наступала,
Умирая, считали ее богиней;
Днем и ночью был распущен ее пояс -
Рождена была Нала для наслаждения».
Гневно сверкнули глаза Нарады.
— Замолчи! – услышал Кентон ее шепот. Девушки рассмеялись; две с флейтами негромко заиграли; так же негромко забили барабаны. Но девушка, которая пела, молча сидела у свой арфы с опущенными глазами.
Фригиец спросил:
— Эта жрица действительно так прекрасна?
Ассириец ответил:
— Не знаю. НИ один человек не видел ее без вуали.
Юноша прошептал:
— Я дрожу, когда она идет. Я дрожу, как маленькое озеро, когда на него наступает ветер. Только глаза мои живут, и что‑то перехватывает мне горло.
— Тише! – заговорила женщина с карими глазами добрым лицом и с ребенком на руках. – Не так громко, лучники могут выстрелить.
— Она не женщина! Она Иштар! Иштар! – воскликнул юноша.
Это был Зубран!
Зубран! Но он уйдет! Услышит ли он Кентона? Его тело не видно снаружи, но, может, голос пройдет сквозь камень?
Офицер осмотрел молчаливую группу. Перс с серьезным видом отсалютовал ему.
— Молчание! – проворчал наконец офицер и вернулся на свое место.
Перс улыбнулся, оттолкнул от себя юношу, посмотрел на смуглую женщину глазами, такими же смелыми, как ее. Оттолкнул фригийца, положил руку на руку женщины.
— Я слушал, – сказал он. – Кто эта жрица? Я недавно в этой земле и не знаю местных обычаев. Но клянусь Ормуздом! – он положил руку на плечо женщины. – Стоило проделать путешествие, чтобы встретить тебя! Кто эта жрица, которую считают такой прекрасной?
— Она хранительница жилища Бела, – женщина прижалась к нему.
— А что она там делает? – спросил Зубран. – Ну, если бы это была ты, я бы не спрашивал. И зачем жрица приходит сюда?
— Жрица находится в жилище Бела на вершине храма, – заговорил ассириец. – Она выходит сюда преклониться перед его алтарем. Когда служба заканчивается, она возвращается.
— Для такой красавицы, какой вы ее считаете, мир у нее маленький, – заметил Зубран. – Почему, если она так прекрасна, она удовлетворяется таким тесным мирком?
— Она принадлежит богу, – ответил ассириец. – Она хранительница его жилища. Когда бог появится, он может быть голоден. Всегда в доме должна быть пища для него и женщина, которая будет прислуживать. Или он захочет любви…
— И для этого тоже нужна женщина, – прервала шлюха со смелыми глазами и улыбнулась Зубрану.
— В моей стране тоже есть похожий обычай, – перс привлек ее к себе. – Но жрицы никогда долго не ждут. Об этом заботятся жрецы. Хо! Хо!
Боже! Неужели Зубран никогда не подойдет близко к стене? Так близко, чтобы Кентон мог окликнуть его. А если он подойдет? Услышат ли другие?
— Когда‑нибудь эти ждущие жрицы, – голос Зубрана звучал мягко, – развлекали… бога?
Юноша сказал: «Голуби говорят о ней. Голуби Иштар. Говорят, она прекраснее Иштар!»
— Дурак! – прошептал ассириец. – Дурак, замолчи! Или навлечешь на нас несчастье! Ни одна женщина не может быть прекраснее Иштар.
— Нет, женщина может быть прекраснее Иштар, – вздохнул юноша. – Значит, она – Иштар!
Фригиец сказал: «Он спятил».
Но перс протянул руку, привлек к себе юношу.
— Когда‑нибудь эти жрицы принимали бога? – спросил он.
— Подожди – прошептала женщина. – Я спрошу Народаха, лучника. Он иногда бывает в моем доме. Он знает. Он видел много жриц. – Она крепко держала перса за пояс, наклонилась вперед: – Народах! Иди сюда!
Один из лучников обернулся, прошептал что‑то соседу, выскользнул из строя. Строй за ним сомкнулся.
— Народах, – спросила женщина, – скажи нам, какая‑нибудь из жриц принимала… Бела?
Лучник беспокойно огляделся.
— Не знаю, – ответил он наконец. – Рассказывают многое. Но правда ли это? Когда я пришел сюда впервые, в доме Бела жила жрица. Она была подобна полной луне в нашем старом мире. Многие мужчины желали ее.
— Эй, лучник, – вмешался перс. – А бога она принимала?
Народах ответил: «Не знаю. Говорят, да; говорят, ее сжег его огонь. Жена колесничего верховного жреца Ниниба рассказывала мне, что лицо у нее было очень старое, когда вынесли ее тело. Похожа на дерево, увядшее раньше, чем принесло плоды, говорила она».
— На месте жрицы, и такой прекрасной, я не стала бы ждать бога, – женщина жалась к Зубрану. – Я взяла бы мужчину. Да, я взяла бы много мужчин!
— За ней была другая жрица, – продолжал лучник. – Она говорила, что к ней приходит бог. Но она была безумна, ее забрали жрецы Нергала.
— А мне дайте мужчин, – шептала женщина.
А Народах сказал задумчиво: «Была жрица, которая выбросилась из жилища. Была такая, которая исчезла. И была…»
Перс прервал его: «Похоже, жрицы, которые ждут бога, несчастны».
А женщина с глубокой убежденностью добавила: «Дайте мне… мужчин!»
Гром прогремел ближе. Грозовое небо еще больше потемнело.
— Идет большая буря, – прошептал перс.
Девушка, которую оборвала Нарада, коснулась струн своей арфы; она строптиво, злопамятно запела:
Каждое сердце, ищущее убежища,
Стремилось к Нале -
Рождена была Нала для наслаждения…
Она прервала песню. Издалека послышалось пение, топот ног. Лучники и копьеносцы в приветствии подняли луки и копья. Вся толпа опустилась на колени. Перс прижался к стене. И теперь в круглом окне видна была только его голова.
— Зубран! – негромко позвал Кентон.
Перс обернулся удивленно к стене, прижался к ней, набросив плащ на лицо.
— Волк! – прошептал он. – Где ты? Что с тобой?
— Я за стеной, – ответил Кентон. – Говори тихо.
— Ты ранен? В цепях? – шептал перс.
— Я в безопасности, – ответил Кентон. Но где Джиджи, Сигурд?
— Ищут тебя, – ответил перс. – Наши сердца разбились, когда…
— Слушай, – сказал Кентон, – Вблизи лестницы, у гарнизона, группа деревьев…
— Знаем, – ответил Зубран. – Оттуда мы поднялись в храм. Но ты…
— Я буду в жилище Бела – сказал Кентон. – Как только начнется буря, идите туда. Если меня не будет, берите Шарейн и уходите на корабль. Я приду следом.
— Без тебя мы не уйдем, – прошептал перс.
— Я слышу голос, говорящий сквозь камень, – это ассириец. Зубран исчез из поля зрения Кентона.
Пение стало громче. Топот ног – ближе. Затем из какого‑то тайного входа в храм появилась группа лучников и копьеносцев. За ними шли бритые жрецы в желтых одеждах размахивая золотыми курильницами и распевая. Солдаты образовали полукруг перед алтарем. Жрецы замолчали. Они упали на землю и прижались к ней.
Во дворе появился человек, ростом с Кентона. Он был в сияющей золотой одежде, складки одежды он держал в поднятой левой руке, полностью скрывая лицо.
— Жрец Бела! – прошептала склонившаяся женщина.
Среди храмовых девушек началось движение. Нарада привстала, ее глазах было страстное ожидание горькое и горячее желание. Жрец Бела прошел мимо, не замечая ее. Ее стройные пальцы рванули серебряные пряди покрывала, оно вздымалось вместе с ее грудью; рыдания сотрясали ее.
Жрец Бела подошел к золотому алтарю. Он опустил руку, державшую складки одежды. И пальцы Кентона чуть не рванули рычаг.
Он смотрел, как в зеркало, на свое собственное лицо!
21. ТАНЕЦ НАРАДЫ
Затаив дыхание, смотрел Кентон на своего странного двойника. Та же выдающаяся челюсть, то же твердое смуглое лицо, те же ясные голубые глаза.
Он пытался понять замысел черного жреца. Это – будущий любовник Шарейн? Что‑то промелькнуло в мозгу, но слишком неясно.
Через каменную стену он услышал проклятие перса. Потом:
— Волк, ты здесь? Ты на самом деле здесь, Волк?
— Да, – прошептал он в ответ. – Я здесь, Зубран. Это не я. Какое‑то колдовство.
Он снова посмотрел на жреца Бела, начал замечать некоторые различия в лицах. Губы не так тверды, углы рта опущены, какой‑то след нерешительности в подбородке. И глаза напряжены, в них полубезумное, полудикое стремление. Молча, напряженно жрец Бела смотрел над головой Нарады, не замечая ее стройного тела, такого же напряженного, как у него, смотрел на тайный выход, через который только что появился сам.
Заостренное алое пламя на алтаре дрогнуло, качнулось.
— Боги да хранят нас! – услышал он возглас женщины со смелыми глазами.
— Тише! В чем дело? – спросил ассириец.
Женщина прошептала: «Ты видел Керубы посмотрели на жреца. Они шевельнулись!»
Женщина с ребенком сказала: «Я тоже видела. Мне страшно!»
Ассириец: «Просто свет на алтаре. Огонь заколебался».
Теперь негромко фригиец: «А может, и керубы. Они ведь посланцы Бела. Вы ведь сами говорили, что жрец любит женщину Бела».
— Тишина! – послышался голос офицера из‑за двойного кольца солдат. Жрецы затянули негромкое пение. В глазах жреца сверкнул огонь, тело его напряглось, будто натянутое невидимой нитью. Через пустое обширное пространство шла женщина – одна. Она с ног до головы была закутана в пурпур. Голова закрыта золотой вуалью.
Кентон узнал ее!
Сердце его готово было выпрыгнуть ей навстречу, кровь быстрее потекла в жилах. Он задрожал от такого желания, что сердце его могло вырваться из тела.
— Шарейн! – крикнул он, забыв обо всем. – Шарейн!
Она обогнула ряды солдат, вставших на колени при ее приближении. Подошла к алтарю и молча, неподвижно остановилась около жреца Бела.
Послышались громкие раскаты металлического грома. Когда они стихли, жрец повернулся к алтарю, высоко поднял пуки. Остальные жрецы запели монотонно на одной ноте. Семь раз вздымались руки жреца, семь раз кланялся он огню алтаря. Потом выпрямился. Лучники и копьеносцы с шумом, звоном копий опустились на колени.
Под ту же однообразную ноту жрец Бела начал свое обращение к богу:
О милостивейший среди богов!
О быкорогий среди богов!
Бел Мардук, царь неба и земли!
Небо и земля принадлежат тебе!
Ты вдыхаешь во все жизнь.
Твой дом ждет тебя!
Мы молимся и ждем.
Кентон услышал голос, дрожащий, золотой: «Я молюсь и жду!»
Голос Шарейн! Голос Шарейн, натянувший в нем каждый нерв, словно мириады пальцев – струны арфы.
Снова жрец Бела:
О родитель! О саморожденный!
О прекраснейший, дающий жизнь ребенку!
О милостивый, возвращающий жизнь мертвым!
Король Эзиды! Повелитель Эмактилы!
Твой дом – место отдыха царя небес!
Твой дом – место отдыха повелителя слов!
Мы молимся и ждем тебя!
И снова Шарейн дрожащим голосом: «Я молюсь и жду тебя!»
Жрец пел:
Владыка молчаливого оружия!
Взгляни милостиво на твой дом, о повелитель отдыха!
Пусть в мире пребудет Эзида в твоем доме!
Пусть отдохнет Эмактила в твоем доме!
Мы молимся и ждем тебя!
И снова Шарейн: «Я молюсь и жду тебя!»
Кентон увидел, как жрец протянул к алтарю руки с вызывающим видом. Потом повернулся и посмотрел на Шарейн. Голос его зазвенел громко, радостно:
Полно радости твое превосходство!
Ты открыватель замка утра!
Ты открыватель замка вечера!
Твое право – открывать запоры неба!
Я молюсь и жду тебя!
При первых же словах пение жрецов смолкло. Кентон заметил, что они неуверенно поглядывают друг на друга, увидел, как зашевелились коленопреклоненные солдаты, как молящиеся подняли головы, услышал шепот, удивленный, беспокойный.
Рядом с ним стоящий на коленях ассириец произнес: «Этого нет в ритуале!»
Перс спросил: «Чего нет в ритуале?»
Ответила женщина: «Последних слов жреца. Это не молитва Белу. Это молитва госпоже нашей Иштар».
Юноша прошептал: «Да! Да, он тоже узнал ее. Она Иштар!»
Женщина с ребенком всхлипнула: «Вы видели, как керубы вытянули когти? Я боюсь! Я боюсь, а это плохо для молока. Огонь на алтаре похож на пролитую кровь!»
Беспокойно сказал ассириец: «Мне это не нравится! Этого нет в ритуале Бела. И буря быстро приближается».
Неожиданно встала Нарада. Ее девушки склонились к барабанам и арфам, поднесли флейты к губам. Послышалась мягкая любовная тема, тонкая, звонкая, как биение крыльев бесчисленных голубей, объятия бесчисленных мягких рук, дрожь бесчисленных сердец. Под эту музыку Нарада качнулась, как зеленый тростник при первом порыве весеннего ветра. Все, как один, выдохнули и ждали.
Но Кентон заметил, что взгляд жреца не отрывался от Шарейн, которая стояла под вуалью, как во сне.
Все громче звучала музыка, все быстрее, пронизанная любовным желанием, нагруженная страстью, горячая, как самум. И Нарада начала танцевать под эту музыка, превращая ее невысказанные страсти в движения тела.
В полуночных глазах, доныне столь печальных, вспыхнули и заплясали многочисленные маленькие веселые звездочки. Алый рот призывал, обещал неслыханные восторги, рой бабочек, вышитых на ее одеянии, вспархивал и ласкал ее прекрасное жемчужное тело, как будто она была чудесным цветком. Золотые бабочки покрывали ее, целовали сквозь покровы, сквозь туманное облачное покрывало виднелись только очертания безупречного тела. Танец и музыка становились все быстрее, безумнее, в нем Кентону виделись соединяющиеся звезды, встречающиеся солнца, луны, взбухшие перед родами. Он чувствовал всю страсть, все желания всех женщин под луной, под солнцем, под звездами.
Музыка стала тише, замедлилась. Танцовщица застыла. В толпе послышался рокот. Зубран хрипло сказал:
— Кто эта танцовщица? Она как огонь! Как огонь, который танцует перед Ормуздом на алтаре десяти тысяч жертвоприношений!
Женщина ревниво ответила: «Это был танец ухаживания Бела за Иштар. Она его танцевала много раз. И ничего нового не показала».
Фригиец злобно: «Он спросил тебя, кто она такая?»
Женщина презрительно: «Боги! Говорю вам, танец не новый. Многие женщины танцевали его».
Ассириец: «Это Нарада. Она принадлежит Белу».
Перс гневно: «Неужели все прекрасные женщины в этой земле принадлежат Белу? Клянусь девятью адами, царь Кир дал бы за нее десять талантов золота!»
— Тише! – прошептал ассириец. Остальные подхватили: – Тише!
Нарада снова начала танцевать. Музыка зазвучала громче. Но теперь она была томной, сладкой, источающей желание.
Кровь зазвенела в ушах Кентона.
Она танцует «Иштар уступает Белу» – это насмешливо ассириец.
Перс выпрямился.
— Ах! – воскликнул он. – Кир дал бы за нее пятьдесят талантов! Она как пламя! – воскликнул Зубран хриплым, сдавленным голосом. И если она принадлежит Белу, почему она так смотрит на жреца?
Никто не слышал его из‑за шума толпы; солдаты и молящиеся не отрывали взглядов от танцовщицы.
Не слышал и Кентон.
Но вот колдовство полуночной женщины рассеялось; сердясь на себя, Кентон ударил о камень. Потому что спокойствие Шарейн нарушилось. Ее белая рука просунулась сквозь складки покрывала. Она обернулась, быстро направилась к тому тайному выходу, через который вошла.
Танцовщица остановилась, музыка стихла, снова беспокойно зашевелились молящиеся, громче стал ропот.
— Этого нет в ритуале! – ассириец вскочил на ноги. – Танец еще не кончен.
Над головой послышались раскаты грома.
— Ей не терпится встретиться с богом, – цинично сказала женщина.
— Она Иштар! Она луна, скрывающая свое лицо за облаками. – юноша сделал шаг к жрице.
Женщина со смелыми глазами схватила его за руку, сказала солдатам:
— Он безумен! Он живет в моем доме. Не трогайте его. Я уведу его.
Но юноша вырвался, оттолкнул ее. Прорвался сквозь строй и побежал по площади навстречу жрице. Бросился к ее ногам. Спрятал лицо в ее покрывале. Она остановилась, глядя на него сквозь вуаль. Немедленно рядом оказался жрец Бела. Он ногой ударил юношу по лицу, тот откатился.
— Алькар! Дручар! Возьмите его! – закричал жрец. Два офицера подбежали, обнажая мечи. Зашептались жрецы, все молящиеся застыли.
Юноша вырвался, вскочил на ноги, встал лицом к жрице.
— Иштар! – воскликнул он. – Покажи мне твое лицо! позволь умереть!
Она стояла молча, будто не видела и не слышала его. Солдаты схватили его, потащили за руки. И тут сила хлынула в стройное юношеское тело. Он, казалось, разрастается, становится выше ростом. Он отбросил солдат, ударил жреца Бела по лицу, схватил вуаль жрицы.
— Я не умру, не увидев твое лицо, о Иштар! – воскликнул он – и сорвал вуаль…
Кентон увидел лицо Шарейн.
Но не Шарейн с корабля – сосуд, полный огнем жизни.
У этой Шарейн широко раскрыты, но невидящие глаза; в глазах ее сон; мозг ее блуждает в лабиринте иллюзий.
Жрец Бела закричал:
— Убейте его!
Два меча пронзили грудь юноши.
Он упал, сжимая вуаль. Шарейн без всякого выражения смотрела на него.
— Иштар! – выдохнул он. – Я видел тебя, Иштар!
Глаза его помутились. Шарейн вырвала вуаль из стынущих пальцев, набросила ее обрывки на лицо. Пошла к храму – и исчезла.
Толпа зашумела. Лучники и копьеносцы начали теснить толпу к колоннам, толпа рассеивалась. Вслед за жрецами ушли солдаты. Ушли арфистки, флейтистки и барабанщицы Нарады.
На широком дворе, окруженном стройными колоннами, остались только танцовщица и жрец Бела. Грозовое небо все более темнело. Медленно движение туч ускорилось. Пламя на алтаре Бела загорелось ярче – гневно, как поднятый алый меч. Вокруг керубов сгустились тени. Металлический гром звучал все продолжительней, все ближе.
Кентон хотел открыть бронзовую дверь сразу, как только ушла Шарейн. Что‑то подсказало ему, что еще не время, что он должен еще немного подождать. И тут танцовщица и жрец подошли к тому странному окну, у которого он стоял.
Рядом с ним они остановились.
22. ТАНЦОВЩИЦА И ЖРЕЦ
— Бел должен быть доволен службой, – услышал Кентон слова танцовщицы.
— О чем ты? – хмуро спросил жрец.
Нарада приблизилась к нему, протянула руки.
— Шаламу, – прошептала она, – разве я танцевала для бога? Ты знаешь, я танцевала – для тебя. А кому поклоняешься ты, Шаламу? Богу? Нет – жрице. А кому, ты думаешь, поклоняется жрица?
— Она поклоняется Белу! Нашему повелителю Белу, который – все! – горько ответил принц.
Танцовщица насмешливо сказала: «Она поклоняется самой себе, Шаламу».
Он повторил упрямо, устало: «Она поклоняется Белу».
Ближе придвинулась Нарада, лаская его ждущими, жаждущими руками.
— Разве женщина поклоняется богу, Шаламу? – спросила она. – Нет! Я женщина, я знаю. Эта жрица не будет женщиной бога – и мужчины тоже. Она слишком высоко себя держит, слишком она драгоценна для мужчины. Она любит себя. Она преклоняется перед собой. Она преклоняется перед собой как перед женщиной бога. Женщины делают из своих мужчин богов и поклоняются им. Но никакая женщина не любит бога, если сама не создала его, Шаламу!
Жрец угрюмо сказал: «Я поклоняюсь ей».
— Как она – самой себе, – подхватила танцовщица. – Шаламу, разве хочет она принести радость Белу? Нашему повелителю Белу, обладавшему Иштар? Можем ли мы дать радость богам – богам, имеющим все? Лотос раскрывается навстречу солнцу – но ведь не для того, чтобы принести радость солнцу. Нет! Чтобы самому радоваться! Так и жрица. Я женщина – и я знаю.
Руки ее лежали на его плечах, он взял их в свои. «Почему ты говоришь мне это?»
— Шаламу! – прошептала она. – Посмотри мне в глаза. Посмотри на мой рот, на мою грудь. Как и жрица, я принадлежу богу Но отдаю себя тебе, любимый!
Он сонно ответил: «Да, ты прекрасна».
Руки ее обнимали его, губы прижимались к его губам.
— Люблю ли я бога? – шептала она. – Разве я танцевала, чтобы была радость в его глазах? Для тебя танцевала я, любимый. Для тебя смею я вызывать гнев Бела. – Она мягко привлекла его голову к себе на грудь. – Разве я не хороша? Разве я не красивей этой жрицы, которая принадлежит Белу и никогда не отдастся тебе? Разве не приятен мой запах? Ни один бог не владеет мной, возлюбленный.
Опять он сонно ответил: «Да, ты очень хороша».
— Я люблю тебя, Шаламу!
Он оттолкнул ее. «Ее глаза как бассейны мира в долине забытья! Когда она подходит ко мне, голуби Иштар вьются над моей головой. Она идет по моему сердцу!»
Нарада отшатнулась, алые губы побледнели, брови грозно сошлись в одну линию.
— Жрица?
— Жрица, – ответил он. – ЕЕ волосы как облако, закрывающее солнце в сумерках. Ветерок от ее платья обжигает меня, как ветер из полуденной пустыни обжигает пальмы. И холодит, как ночной ветер пустыни холодит пальмы.
Она сказала: «Этот юноша был храбрее тебя, Шаламу».
Кентон видел, как краска появилась на лице жреца.
— О чем ты – выпалил он.
— Почему ты убил юношу? – холодно спросила она.
Он горячо ответил: «Он совершил святотатство. Он…»
Она презрительно остановила его: «Он храбрее тебя. Он осмелился сорвать с нее вуаль. А ты трус. Вот почему ты его убил!»
Руки его схватили ее за горло. «Ты лжешь! Ты лжешь! Я посмею!»
Она снова рассмеялась: «Ты даже не посмел убить его сам».
И она спокойно отвела его руки.
— Трус! – сказала она. – Он посмел снять вуаль с той, которую любил. Он пренебрег гневом Бела и Иштар.
Жрец судорожно воскликнул: «А разве я не посмею? Разве я боюсь смерти? Разве я боюсь Бела?»
Глаза ее смеялись над ним.
— Эй! Как сильно ты любишь! – дразнила она. – Жрица ждет бога – одна в его одиноком доме. Но, может, он не придет. Может, занят с другой женщиной… О, бесстрашный! Храбрый любовник! Займи его место!
Он отшатнулся от нее.
— Занять… его… место! – прошептал он.
— Ты знаешь, где хранятся доспехи бога. Иди к ней как бог! – сказала она.
Он стоял дрожа. Кентон видел, как решимость заняла место нерешительности. Жрец шагнул к алтарю – пламя уменьшилось, задрожало, погасло. В сгустившемся сумраке керубы, казалось, расправили крылья.
Блеснула молния.
В ее блеске Кентон видел, как жрец быстро пошел туда, откуда вышла и куда ушла Шарейн; видел Нараду, лежащую в груде своих покрывал, усеянную золотыми бабочками; услышал негромкий отчаянный плач.
Рука Кентона медленно отпустила рычаг. Сейчас время использовать ключ, оставленный синим жрецом, пройти там, куда указывал жрец. Но тут рука его застыла на рычаге.
Тень, чернее собравшегося сумрака, прошла мимо окна, остановилась над танцовщицей; огромное громоздкое туловище – знакомое.
Кланет!
— Хорошо! – прогремел черный жрец и коснулся ее ногой. – Теперь ни он, ни Шарейн больше не будут беспокоить тебя. И ты заслужила обещанную награду.
Нарада повернула к нему жалкое побледневшее лицо, протянула к нему дрожащие руки.
— Если бы он любил меня, – плакала она, – никогда бы не ушел. Если бы он хоть немного любил меня, я не дала бы ему уйти. Но он рассердил меня, он устыдил меня, он отказался от любви, которую я предлагала ему. Не для тебя, черная змея, не ради нашего уговора я послала его к ней – и на смерть!
Черный жрец рассмеялся.
— Как бы то ни было, ты послала его, – сказал он. – А Кланет платит обещанное.
Он бросил горсть сверкающих драгоценностей в ее протянутые ладони. Она закричала, разжала пальцы, как будто драгоценности жгли ее; они упали и покатились по камням.
— Если бы он любил меня! Если бы он хоть немного любил меня! – всхлипывала Нарада – и снова скорчилась под своими бабочками.
Теперь Кентону стал ясен замысел черного жреца; Кентон опустил рычаг, быстро пошел к дальней бронзовой двери, сунул в нее клинообразный ключ; скользнул в открывающуюся дверь и побежал по коридору, который за ней открылся. В нем пылали два пламени: белое пламя любви к его женщине, черное пламя ненависти к Кланету. Он знал, что там, где теперь будет жрец Бела, там будет и Шарейн. Конец, если только Кентон не опередит черного жреца, неизбежен.
На бегу Кентон испускал проклятия. Если Шарейн, погруженная в свой колдовской сон, увидит в жреце Бела бога, она примет земного любовника. И ее невинность не спасет ее. Кланет позаботится об этом.
Нарада раскаялась – но слишком поздно.
А если Шарейн проснется – Боже! В полутьме она примет жреца Бела за него самого, кентона!
И в любом случае присутствия жреца в жилище бога будет достаточно, чтобы осудить их обоих. Да, об этом позаботится Кланет.
Кентон пересек поперечный коридор, побежал вниз по длинному спуску мимо ряда ухмыляющихся химер; остановился перед широким порталом, который закрывал занавес, неподвижный и жесткий, казалось, выкованный из серебра. Что‑то предупредило ему, что нужно быть осторожнее. Он осторожно раздвинул занавес, заглянул за него…
И увидел собственную комнату.
Перед ним была его старая комната из его старого мира.
Он увидел драгоценный корабль, сверкающий, мерцающий, но видел его как бы сквозь туман, сквозь облако ярких частиц. Длинное зеркало сзади отражало такое же сверкающее облако. Бесконечно маленькие, в бесчисленном количестве, сверкающие атомы отделяли его от его комнаты – в Нью–Йорке.
Он – в этом странном мире.
Туманной была его комната, облачной дрожащей, она отступала в бесконечность.
И вот, пока он смотрел, сжигаемый отчаянием, он почувствоваЛ6 как занавес в его руках становится все более жестким, металлическим, потом снова рассеивается, и так несколько раз попеременно.
А очертания корабля в его комнате стали яснее, кристаллизовались, они звали его к себе, тянули назад.
23. ЖЕЛАНИЯ БОГОВ – И ЧЕЛОВЕКА
Кентон напрягся, прочнее ухватился за занавес. Всей силой воли он пытался помешать ему растаять. Теперь занавес был преградой между его старым миром и миром его великого приключения.
Какая‑то сила тащила его вперед всякий раз, как занавес начинал таять и яснее становились туманные очертания комнаты. Он ясно различал каждую деталь в этой комнате, видел длинное зеркало, шкаф, диван – все еще влажные пятна крови на полу.
И всякий раз занавес снова становился прочным – и сверкающим.
Теперь комната повернулась, старый китайский ковер оказался под ним – близко и в то же время бесконечно далеко. Он уже слышал кричащие голоса пространства.
И в это же мгновение понял, что назад его тянет сверкающая игрушка.
Что‑то тянулось к нему с черной палубы корабля. Что‑то злобное и насмешливое. Тянуло его, притягивало к себе.
Все темнее становилась черная палуба – сильнее ее притяжение…
— Иштар! – взмолился он, глядя на розовую каюту. – Иштар!
Вспыхнула ли розовая каюта, наполнившись светом?
Очертания комнаты поблекли; снова он ощутил в руках тяжелый занавес; снова стоял прочно на ногах у входа в храм Лунного бога.
И еще раз, и два, и три комната тянула его к себе, но с каждым разом все менее сильно, более призрачно. И каждому рывку Кентон противопоставлял свою волю, закрывал глаза и отбрасывал изо всех сил вид комнаты.
Он побеждал. Комната исчезла, исчезла окончательно, он не мог ошибиться. Чары разрушены, непрочная линия разорвана.
Охваченный реакцией, он держался за занавес, колени его дрожали. Медленно пришел он в себя, решительно распахнул занавес.
Он смотрел в обширный зал, наполненный туманным серебряным светом. Туман стоял неподвижно, но ощутимо – как будто был сплетен из осязаемых нитей. Этот светящийся, переплетенный нитями туман делал зал огромным. Кентону показалось, хотя он не был уверен, что в серебряной паутине что‑то движется – появляются и исчезают смутные формы, но они не становятся полностью видимыми. Вдали он уловил другое движение, неумолимо, равномерно двигалась чья‑то фигура. Она медленно приближалась, стала хорошо видна – человек, в золотом шлеме через плечо короткий золотой плащ, вышитый алым, в руке золотой меч, голова наклонена, как будто человек пробивается сквозь сильное течение.
Жрец Бела, одетый в доспехи своего бога!
Не дыша, Кентон смотрел на него. Глаза, как и у него, но полны ужасом и благоговением – но и целеустремленностью и решительностью; неизбежностью. Рот сжат губы побелели, тело дрожит, дрожит – глубоко внутри – душа жреца. Реальные или призрачные, Кентон знал, ужасы этого места вполне реальны для этого его странного двойника.
Жрец Бела прошел мимо, и Кентон, подождав, пока тот наполовину скроется в тумане, выскользнул из‑за занавеса и пошел за ним.
Теперь Кентон услышал голос спокойный, бесстрастный, как тоТ, что призвал его встать с каменной скамьи; голос этот не был ни внутри зала, ни вне его. Как будто он рождался где‑то в бесконечно далеком пространстве.
Голос Набу, бога мудрости!
Слушая, Кентон ощущал себя не одним человеком, а сразу тремя: Один Кентон, целеустремленный, шел следом за жрецом и будет идти за ним и в ад, если там Шарейн; другой Кентон, связанный неразрывной нитью с мозгом жреца, чувствовал, видел и слышал, страдал и страшился, как и он; и Кентон, который вслушивался в слова Набу так же холодно и бесстрастно, как они произносились, следил так же холодно и отстраненно, как рисовалось в словах бога.
— Дом Сина! – звенел голос. – Главы богов! Наннар! Родителя богов и людей! Повелителя Луны! Повелителя бриллиантового полумесяца. Обладающего великими рогами! Наннар! Совершенного в формах! Открывателя судеб! Самосоздателя! Чей дом в первой зоне и чей цвет – серебро!
Он проходит через дом Сина!
Он проходит мимо алтаря из халцедона и сардоника, усаженного большими лунными камнями и горным хрусталем, алтаря, на котором горит белое пламя, из которого Син Созидатель сотворил Иштар! Он видит, как извиваются ему навстречу бледно–серебряные змеи Наннара, как сквозь серебряный туман, который скрывает рога бога, на него ползут белые скорпионы.
Он слышит топот миллиардов ног, ног тех, кто еще будет рожден под Луной. Он слышит плач миллиардов женщин, плач всех женщин, которые будут рождены и будут рожать. Он слышит гул несозданного.
И проходит.
Ибо ни Создатель богов, ни страх перед ним не могут остановить желания человека!
Голос прозвенел – и стих. И Кентон все это видел – видел серебряных змей, извивающихся в тумане и набрасывавшихся на жреца видел кидающихся на него крылатых скорпионов; видел в тумане гигантскую фигуру, на голове которой светился изогнутый полумесяц. Своими ушами слышал он топот армий нерожденных, плач нерожденных женщин, гром несозданного. Виде и слышал, как – он знал это – видел и слышал жрец Бела.
И шел следом.
Высоко над ним вспыхнул золотой шлем. Кентон остановился у основания широкой извивающейся лестницы, чьи широкие ступени завивались вверх, при этом цвет их постепенно переходил от серебряного к горящему оранжевому. Он подождал, пока жрец, не торопясь, не оглядываясь, поднимется и пройдет начало лестницы, и последовал за жрецом.
Он увидел храм, заполненный шафрановым светом, который, как и тот, через который он уже прошел, был переплетен лунными лучами. В ста шагах от него шел жрец, и Кентон, идя следом за ним, услышал спокойный голос:
— Дом Шамаша! Сына Луны! Бога дня! Живущего в сияющем доме! Уничтожителя тьмы! Короля справедливости! Судьи человечества! Того, на чьей голове рогатая корона! В чьих руках жизнь и смерть! Кто своими руками очищает человека, как сверкающую медную табличку! Чей дом во второй зоне и чей цвет оранжевый!
Он проходит через дом Шамаша!
Вот алтари из опала, усаженные бриллиантами, и алтари из золота, выложенного янтарем и желтым солнечным камнем. На алтарях Шамаша горит сандаловое дерево, кардамон и вербена. Он проходит мимо алтарей из опала и золота; он минует птиц Шамаша, чьи головы – сверкающие огненные колеса и которые охраняют колесо, вращающееся в доме Шамаша, – гончарное колесо, на котором вылепляются души людей.
Он слышит шум миллиардов голосов – голосов тех, которые уже осуждены, и тех, кому еще предстоит суд.
И он проходит.
Потому что ни Король справедливости, ни страх перед ним не может встать между человеком и его желанием!
Снова Кентон видел и слышал все это и следом за жрецом пришел к второй лестнице, цвет ступеней которой менялся от оранжевого к абсолютно черному. И все так же идя следом, он оказался наконец в большом мрачном зале, имя ужасного хозяина которого он знал раньше, чем спокойный голос донесся до него из тайного далекого пространства:
— Дом Нергала! Могучего в Великом жилище! Короля смерти! Разбрасывателя эпидемий! Того, кто правит над погибшими! Мрачного Безрогого! Чей дом в третьей зоне и чей цвет черный!
Он проходит через дом Нергала!
Он проходит мимо алтаря Нергала из черного янтаря и красного железняка! Он проходит мимо алтаря, на котором горит циветтин и бергамот! Он минует львов, охраняющих этот алтарь! Черных львов, чьи глаза как рубины, а когти кроваво–красные, и красных львов, чьи когти черны, и глаза черны; он минует ястребов Нергала чьи глаза как карбункулы и у которых бесплотные женские головы.
Он слышит шепот жителей этого великого жилища и ощущает пепел их страстей.
И он проходит!
Потому что ни Повелитель мертвых, ни ужас перед ним не могут отвернуть человека от его желания!
Теперь ступени лестницы, по которой Кентон поднимался от дома Нергала, из черных стали алыми, и ярко–алым и свирепым был свет, заполнявший зал, в котором он стоял, глядя на уходившего жреца.
— Дом Ниниба! – продолжал голос. – Повелителя копий! Повелителя битв! Хозяина щитов! Владыки сердец воинов! Правителя битв! Уничтожающего противников! Разрушителя замков! Молотобойца! Чей цвет алый, чей дом в четвертой зоне!
Из щитов и копий сделаны алтари Ниниба, а огонь на алтарях питается кровью мужчин и слезами женщин, на алтаре Ниниба горят ворота павших городов и сердца побежденных королей! Он минует алтарь Ниниба! Он видит нацеленные на него алые клыки кабанов Ниниба, чьи головы оплетены правыми руками воинов, видит слонов Ниниба, чьи ноги увешаны черепами королей, видит алые языки змей Ниниба, которыми они лижут города!
Он слышит звон копий, удары мечей, падение стен, крики завоеванных.
И проходит!
Сколько существует человек, алтари Ниниба кормятся плодами человеческих желаний!
Кентон поставил ногу на четвертую лестницу, поднялся по ступеням, цвет которых их алого становился спокойно–синим, цветом безмятежного неба; стоял в зале, заполненной спокойным лазоревым светом. Голос теперь казался ближе.
— Дом Набу! Повелителя мудрости! Носителя посоха! Могучего на водах! Владыки земель, открывающего подземные потоки! Провозгласителя! Того, кто открывает уши понимания! Чей цвет синий и чей дом в пятой зоне!
Алтари Набу из голубого сапфира и изумруда, и с них сияют ясные аметисты. Пламя, горящее на алтарях, голубое, и в его свете только правда отбрасывает тень. Огонь Набу холодный огонь, и запаха у него нет. Он проходит алтари из сапфира, изумруда, с их холодным пламенем. Он проходит рыб Набу, у которых женские груди, но молчащие рты. Он проходит всевидящие глаза Набу, которые глядят из‑за алтарей, и не трогает посох Набу, в котором содержится мудрость.
Да, он проходит!
Когда же мудрость останавливала человека перед его желанием?
Вверх от синего дома Набу поднимался жрец, а за ним по лестнице цвет которой из сапфирового становился розовым и белым, поднимался Кентон. Тонкие ароматы почувствовал он, услышал томные любовные звуки, льстящие, зовущие, бесконечно привлекательные, опасно сладкие. Медленно, медленно шел Кентон за жрецом, слушая голос и почти не замечая его, почти забыв о своем поиске, борясь с желанием не слышать ничего, кроме этой зовущей, вяжущей любовной музыки, поддаться духу этой зачарованной комнаты, не идти дальше, забыть – Шарейн!
— Дом Иштар! – слышался голос. – Матери богов и людей! Великой богини! Повелительницы утра и вечера! Полногрудой! Производительницы! Той, что склоняется к просителям! Великого оружия богов! Той, что рождает и убивает любовь! Чей цвет розовый. А дом Иштар в шестой зоне!
Он проходит дом Иштар Из белого мрамора и розового коралла ее алтари, и белый мрамор испещрен голубым, как женское сердце. На ее алтарях горят мирра и ладан, розовое масло и серая амбра. И алтари Иштар усажены белыми и розовыми жемчужинами, усажены гиацинтами, бирюзой и бериллами.
Он проходит мимо алтарей Иштар, и, как розовые ладони страстных женщин, крадутся к нему венки ароматов. Белые голуби Иштар бьют крылами перед его глазами. Он слышит звук соединившихся губ биение сердец, вздохи женщин, поступь белых ног.
И все же он проходит.
Ибо никогда любовь не останавливала желаний человека!
Неохотно поднималась лестница из комнаты любовного колдовства, и розовый цвет сменился пламенным, сверкающим золотом. Поднявшись, Кентон оказался еще в одном обширном покое, светлом, как будто это сердце солнца. Быстрее и быстрее шел вперед жрец Бела, как будто все ужасы, пройденные им, столпились сзади, гнались за ним.
— Дом Бела! – гремел голос. – Мардука! Правителя четырех королевств, повелителя земель! Рожденного днем! Быкошеего! Со слоновьими клыками! Могучего! Покорителя Тиамат! Повелителя Иджиджи! Короля неба и земли! Создателя совершенств! Возлюбленного Иштар!
Бела–Мардука, чей дом в седьмой зоне и чей цвет золотой!
Быстро проходит он через дом Бела!
Алтари Бела из золота и светятся, как солнце! На них горит золотой огонь летних молний и аромат фимиама висит над ними, как грозовые тучи. Керубы с львиными туловищами и орлиными головами и керубы с бычьими телами и человеческими головами охраняют золотые алтари Бела, и у всех керубов могучие крылья! И алтари Бела стоят на мускулистых слонах, которые стоят на шеях быков и на лапах львов.
Он минует их. Он
24. В ЖИЛИЩЕ БЕЛА
Началась буря. Кентон, поднимаясь, слышал гром, похожий на удары щитов, звон бесчисленных цимбал, бой миллионов бронзовых колоколов. По мере того как он поднимался, гром становился все слышнее. С ним смешивался гул ветра, стаккато водопадов дождя.
Лестница поднималась по крутой стене контрфорса как виноградная лоза на башню. Она была неширокой – только три человека могли пройти по ней в ряд, не больше. Она головокружительно вела вверх. Пять резко изгибавшихся пролетов по сорок ступеней в каждом, четыре меньших пролета по пятнадцати ступеней прошел он, прежде чем добрался до вершины. Внешний край лестницы ограждала только толстая веревка витого золота, поддерживаемая на расстоянии пять футов друг от друга столбиками.
Так высока была эта лестница, что когда Кентон поднялся на вершину и посмотрел вниз, дом Бела скрылся в золотистом тумане, как будто Кентон смотрел с высокого горного хребта на долину, которую покрывали облака, тронутые восходящим солнцем.
На вершине лестницы находилась плита длиной в десять и шириной в шесть футов. На нее выходила дверь – узкий арочный портал, едва позволяющий двум человекам пройти бок о бок. Дверь вела в темные внутренние помещения. Комната, куда она открывалась, находилась на вершине гигантского контрфорса.
Один человек мог защищать здесь лестницу от сотни.
Дверь была завешена золотым занавесом, таким же тяжелым и металлическим, как тот, что скрывал вход в серебряный дом лунного бога. Невольно Кентон отшатнулся от занавеса – вспомнив, что он увидел за тем, первым. Подавив страх, он отвел угол занавеса.
Он увидел квадратную комнату примерно в тридцать футов, полную танцующих огненных отблесков молний. Это его цель – место развлечений Бела, где ждет его любовь, опутанная сном.
Он увидел жреца, прижавшегося к дальней стене и восхищенно глядящего на женщину в белой вуали, которая стояла, широко расставив руки у окна близко к правому углу комнаты. Тысячами огней молнии освещали картины любовных приключений Бела, вышитые на настенных шпалерах.
В комнате находились золотые сто и два стула массивная, деревянная, с украшениями из слоновой кости, кровать. Возле кровати стояла широкая толстая жаровня и курительница в форме больших песочных часов. Из жаровни вздымалось высокое желтое пламя. На столе стояли небольшие пирожные, шафранного цвета, на тарелках желтого янтаря и золотые флаконы с вином. Вдоль стен маленькие лампы и под каждой – кувшин с благовонным маслом для наполнения ламп.
Кентон неподвижно ждал. Опасность собиралась внизу, как грозовая туча, которую Кентон расшевелил в колдовском котле. Он ждал, понимая, что должен постигнуть сон Шарейн, проникнуть в фантазию, которой она живет со спящим мозгом, прежде чем разбудить ее. Так сказал ему синий жрец.
Он услышал голос:
— Кто видел биение его крыльев? Кто слышал топот его ног, подобный грому тысяч колесниц, устремляющихся на битву? Какая женщина смотрела в яркость его глаз?
Ослепительно вспыхнула молния, загремел гром – казалось, в самой комнате. Когда зрение его прояснилось, Кентон увидел, что Шарейн, зажав глаза руками, отвернулась от окна.
А перед ней возвышалась фигура, казавшаяся на фоне вспыхивающего неба гигантской, вся в золоте, – богоподобная фигура.
Сам Бел–Мардук прыгнул сюда со своих коней бури, и одежда его еще полна была молниями.
Так на мгновение подумал Кентон, потом понял, что это жрец в украденной одежде своего бога.
Белая фигура – Шарейн – медленно отвела ладони с глаз, так же медленно опустила их, глядя на стоявшую перед ней фигуру. Начала опускаться на колени, потом гордо поднялась; искала частично скрытое лицо широко раскрытыми зелеными дремлющими глазами.
— Бел! – прошептала она и повторила: – Повелитель Бел!
Жрец заговорил: «О прекрасная, кого ты ждешь?»
Она ответила: «Кого, как не тебя, повелитель молний!»
— А почему ты меня ждешь? – спросил жрец, не приближаясь к ней. Кентон, приготовившийся прыгнуть, остановился при этом вопросе. Что задумал жрец Бела? Чего он ждет?
Шарейн в недоумении, стыдливо ответила:
— Это твой дом, Бел. Разве не должна тебя здесь ждать женщина? Я… я дочь короля. М я давно тебя жду.
Жрец сказал: «Ты прекрасна – Глаза его не отрывались от нее. – Да, многие мужчины сочли бы тебя прекрасной. Но я – бог!»
— Я прекраснейшая из принцесс Вавилона. Но разве не самая красивая должна ждать тебя в твоем доме? Я красивей всех… – ответила Шарейн с сонной страстью.
Снова заговорил жрец:
— Принцесса, а как было с теми мужчинами, которые считали тебя прекрасной? Скажи, разве твоя красота не убивала их как быстрый сладкий яд?
Разве думала я о мужчинах? – дрожащим голосом спросила она.
Он строго ответил: «Но многие мужчины должны были думать о тебе, королевская дочь. И яд, хоть он быстрый и сладкий, все равно приносит боль. Я бог! Я это знаю!»
Наступило молчание. Неожиданно он спросил: «Как ты ждала меня?»
Она ответила: «Я держала лампы полными масла, приготовила для тебя пирожные и поставила вино. Девушки украсили меня».
Жрец сказал: «Многие женщины делали то же – ради мужчин, королевская дочь, а я – бог!»
Она прошептала: «Я прекрасней всех. Принцы и короли желали меня. Посмотри, о великий!»
Быстрые молнии ласкали серебряное чудо ее тела, едва прикрытое золотыми прядями волос, распущенных и падавших свободно.
Жрец отпрыгнул от окна. Кентон, чуть не сходя с ума от ревности, оттого, что кто‑то другой видит эту белоснежную красоту, готов был наброситься на жреца. Но опять остановился, поняв, что держит жреца, и даже испытывая к нему жалость.
Душа жреца обнаженной предстала перед его внутренним взором, как будто Кентон стал жрецом, а жрец – Кентоном.
— Нет! – воскликнул жрец Бела и сорвал золотой шлем своего бога с головы, отбросил меч, рванул застежку и сбросил плащ…
— Нет! Ни одного поцелуя для Бела! Ни одного удара сердца для Бела! Не буду сводником Бела! Нет! Мужчину ты должна целовать – меня! И мужское сердце должно биться рядом с твоим – мое! Я… Я… Не бог получит тебя!
Он схватил ее, прижался губами.
Кентон был рядом.
Он сунул руку под подбородок жреца, сгибал назад голову, пока не хрустнула шея. Глаза жреца глядели на него, руки его оставили Шарейн и вцепились в лицо Кентона, он пытался вырваться. Потом перестал бороться, ужас появился на его лице. Жрец увидел у противника собственное лицо.
Собственное лицо глядело на него, обещая смерть.
Бог, которого он обманул, предал, ударил. Кентон читал его мысли, как будто тот произносил их вслух. Он переместил хватку, приподнял жреца и швырнул его тело высоко над полом о стену. Жрец ударился о стену, упал, лежал, дергаясь.
Шарейн присела, крепко держа вуаль застывшими руками, на краю кровати. Она жалобно смотрела на него, ее широко раскрытые глаза, ошеломленные, не отрывались от него; он чувствовал, что она приходит в себя от паутины сна.
Он почувствовал прилив огромной любви и жалости; в нем не было страсти; в этот момент она была для него ребенком, испуганным, удивленным, жалким.
— Шарейн, – прошептал он и взял ее за руки. – Шарейн, любимая! Любимая, проснись!
Он целовал ее холодные губы, испуганные глаза.
— Кентон! – прошептала она. – Кентон! – и потом так тихо, что он едва расслышал: – Да, я помню, ты был моим повелителем… века, века тому назад!
— Проснись, Шарейн! – воскликнул Кентон, и снова губы его прижались к ее губам. Но теперь губы ее потеплели и ответили ему.
— Кентон! – прошептала она. – Мой дорогой повелитель!
Она откинулась, схватила его руки маленькими холодными пальцами, которые сжимали, как стальные; в глазах ее он видел уходящий сон, как грозовые облака расходятся перед солнцем; сон делал ее глаза то светлее, то темнее, но постепенно они все светлели.
— Любимый! – воскликнула Шарейн, полностью проснувшись и, свободная от сна, обхватила его руками за шею прижалась губами: – Любимый! Кентон!
— Шарейн! Шарейн! – шептал он, ее волосы закрыли его, как покрывалом, а она прижимала его лицо к своим щекам, к горлу, к груди.
— Где бы тыл, Кентон? – всхлипнула она. – Что со мной сделали? И где корабль – куда меня забрали? Но… какая разница, раз ты снова со мной?
— Шарейн! Шарейн! Любимая! – больше он ничего не мог сказать, повторял снова и снова, прижимаясь к ней губами.
Сильные руки схватили егоза горло, прервали дыхание. Задыхаясь, он увидел безумные глаза жреца Бела. Он считал его убитым, но тот был жив.
Кентон просунул за жреца правую ногу, изо всех сил навалился на жреца, тот упал, увлекая за собой Кентона. Руки его ослабли чуть–чуть, но достаточно, чтобы Кентон сам схватил его за горло. Как змея, жрец выскользнул, откатился, встал. Кентон, не менее быстрый, поднялся. Прежде чем он смог извлечь меч, жрец опять был рядом, одной рукой он прижимал правую руку Кентона, другой отводил левую руку Кентона, одновременно вцепившись ему в горло.
Сквозь барабанный бой крови в ушах Кентон услышал далеко внизу бой другого барабана, будящего, призывающего, угрожающего, как будто в гневе и тревоге билось само сердце зиккурата!
Этот звук слышал и Джиджи; далеко внизу он только что своими обезьяньими руками забросил веревку с крюком на ограждение внешней лестницы; с лихорадочной скоростью взобрался он по веревке, и так же быстро последовали за ним Зубран и сразу же Сигурд.
— Тревога! – прошептал Сигурд, увлекая их под укрытие стены, чтобы они могли его услышать. – Молитесь Тору, чтобы эти часовые не услышали. Теперь быстро!
Цепляясь за стену, трое ползли вверх и вокруг серебряной террасы Сина, бога Луны. Молнии почти прекратились, но дождь струился сплошным потоком, ревел ветер. Лестницу покрывал поток воды почти по колено. Тьма большой бури окружала их.
Дыша ветром и дождем, запруживая встречный поток, они поднимались – трое!
По высокому жилищу Бела катались Кентон и жрец, стискивая друг друга и пытаясь вырваться. Вокруг них кружила Шарейн, держа в руках меч украденный жреца, тяжело дыша, пытаясь найти возможность для удара; но так тесно были сплетены дерущиеся, что она такой возможности не находила; перед ней то спина жреца, то тут же спина Кентона.
— Шаламу! Шаламу! – у золотого занавеса стояла танцовщица Бела, которую сквозь ужасы таинственных храмов привели любовь, раскаяние, отчаяние. С бледным лицом, дрожа, цеплялась она за занавес.
— Шаламу! – кричала танцовщица. – Они идут за тобой! Их ведет жрец Нергала!
Спина жреца была обращена к ней, а Кентон глядел на нее. Голова жреца склонялась вперед, он пытался зубами вцепиться в шею противника, разорвать артерии; он был глух, слеп ко всему, кроме стремления убивать.
И Нарада, увидев лицо Кентона в неверном свете жаровни, приняла его за лицо человека, которого она любила.
Прежде чем Шарейн смогла пошевелиться, Нарада пролетела по комнате.
И вонзила кинжал по самую рукоять в спину жреца Бела!
Укрываясь в алькове в стене зиккурата, часовые серебряной зоны вдруг увидели руки, протянутые к ним из бури. Двое упали с шеями, переломанными когтями Джиджи, двое – под быстрыми ударами меча Сигурда, еще двое – под ятаганом перса. В нише лежало шесть трупов.
— Быстрее! Быстрее! – Сигурд побежал вверх. Они обогнули оранжевую зону Шамаша, бога солнца.
Три смерти протянулись из пустоты, часовые оранжевой зоны мертвыми лежали под ногами троих.
Они ощутили глубокую черноту слева – черная стена зоны Нергала, бога смерти…
— Быстрее! Быстрее!
Жрец Бела выкатился из рук Кентона, упал на колени, откинулся, умирающими глазами глядя на танцовщицу.
— Нарада! – выдохнул он сквозь кровавую пену. – Нарада… ты… – пена стала кровавым потоком.
Жрец Бела умер.
Один взгляд бросила танцовщица на Кентона и поняла…
— Шаламу! – завопила она и с воплем бросилась на Кентона, готовая ударить кинжалом. Прежде чем он смог поднять меч, прежде чем поднял руки, даже прежде чем он смог отступить, она была рядом. Вниз опустилось лезвие, целясь прямо ему в сердце. Он почувствовал укол…
Кинжал скользнул, разрезав кожу в районе ребер. В то же мгновение прыгнула Шарейн, схватила танцовщицу за руку, вырвала у нее кинжал и глубоко вонзила его в грудь Нарады.
Как молодое дерево под ударом топора, танцовщица на мгновение остановилась дрожа и упала на тело жреца. Застонала и последними усилиями жизни обняла, прижалась к его губам.
Мертвыми губами к губам мертвеца!
Они смотрели друг на друга – Шарейн с окровавленным кинжалом в руке, Кентон с красными рунами на груди, написанными этим кинжалом, потом посмотрели на жреца и танцовщицу; в глазах Кентона была жалость; не было жалости в глазах Шарейн.
— Она могла тебя убить! – прошептала она. И снова: – Она могла тебя убить!
Ослепительная вспышка заполнила комнату, сразу вслед за ней раскатился гром. Снова засверкали молнии. Кентон подбежал к двери, распахнул занавес, прислушался. Под ним в сверкающем тумане лежал тихий дом Бела. Он ничего не слышал, но какие звуки можно услышать в этом громе? Он ничего не видел, не слышал, и все же…
Он чувствовал, что опасность близка, крадется к ним, может быть, даже сейчас ползет по тем зигзагам лестницы, которые скрыты от взгляда. Пытки и смерть для Шарейн и для него… ползет, крадется, все ближе и ближе.
Он подбежал к окну. Джиджи, Сигурд, Зубран! Где они? Смогли ли подняться по наружной лестнице? Или сейчас поднимаются, прорубая себе дорогу через ряды часовых? Насколько они близко?
Смогут ли они с ними встретиться, Шарейн и он?
Окно было глубоким. К нему через каменную кладку шел подоконник шириной в ярд, окно закрывала широкая сплошная прозрачная пластина. Кентон подтянулся, увидел, что эта пластина представляет собой сплошной толстый прозрачный хрусталь, удерживаемый на месте металлическим обрамлением; закрывалось окно при помощи рычагов, углубленных в камень стены. Один за другим он поднял рычаги. Окно распахнулось, его почти втолкнуло обратно силой ветра и дождя. Он боролся с ними, посмотрел вниз вдоль наружной стены…
Ступени большой наружной лестницы проходили в сорока футах внизу!
Между окном и ступенями пролегала почти перпендикулярная стена, покрытая потоками ливня; по ней так же невозможно спуститься, как и подняться.
Он посмотрел в обе стороны и наверх.
Жилище Бела представляло собой большой куб, посаженный на вершину конического храма. Окно, через которое он смотрел, находилось рядом с гранью этого куба. Не более ярда от его правой руки до грани. На двадцать футов налево тянулась черная стена, верхняя плоскость куба также в двадцати футах.
Он почувствовал рядом Шарейн, понял, что она что‑то пытается сказать ему.
Но не расслышал ни слова в реве бури.
На фоне вспыхивавших молний часовые Нергала увидели три силуэта судьбы, обрушившиеся на них из тьмы. Ударили мечи. Один закричал и попытался бежать. Ревущий ветер на клочки разорвал его крик, длинные руки схватили его, длинные когти сломали шею; он, кружась на ветру, полетел вдоль наружной стены.
А теперь и часовые красной зоны мертвы в своей нише.
Вот трое проходят синюю зону Набу, бога мудрости; часовых здесь нет; нет их и перед белым домом Иштар, нет снаружи золотого дома Бела.
И тут извивающаяся лестница внезапно кончается.
Здесь трое устраивают совет, разглядывают гладкую каменную стену, поднимающуюся над ними без единого углубления. Слышат вопль, который не смогла заглушить даже буря, – отчаянный вопль танцовщицы Бела, бросившейся на Кентона.
— Крик донесся оттуда! – Сигурд указывал на край стены, за которой, скрытое от них, окно жилища Бела смотрело на молнии. Тут они видят, что большая лестница заканчивается у самого края стены. Но устоять и заглянуть за этот край невозможно.
— Попробуем воспользоваться твоими длинными руками, Джиджи, – выдохнул Сигурд. – Стань как можно ближе к концу лестницы. Вот так! Ухвати меня за ноги и просунь наружу. У меня сильная спина, и я смогу заглянуть за угол.
И Сигурд, как листок, прижатый к стене ветром, посмотрел прямо в лицо Кентона; до него было не более фута.
— Подожди! – крикнул Сигурд и толчком ноги дал знак Джиджи тянуть его назад.
— Там Волк! – сказал он. – В окне, так близко, что сможет втащить меня. Подними меня снова, Джиджи Когда я дерну ногой, отпускай! Потом пусть Зубран пройдет той же дорогой. А ты оставайся здесь, Джиджи, – без тебя мы не сможем вернуться. Стой на месте с вытянутыми руками и жди, когда их коснутся. Тогда тащи. Теперь быстрее!
Снова он повис, руки его поймал Кентон. Джиджи выпустил его. Мгновение он висел в пустоте, затем его втянули в окно.
— Сейчас Зубран! – крикнул он Кентону и побежал к двери, у которой с мечом в руке стояла Шарейн.
А теперь перс, вися в могучих руках Джиджи, перегнулся за угол, ухватился за руки Кентона, стал рядом с ним.
Раздуваемая порывами ветра через открытое окно, жаровня вспыхнула, как факел; тяжелый золотой занавес вздымался маленькие огоньки вдоль стен погасли. Перс откинулся назад, нашел рычаги, закрыл окно. Быстро пожал руку Кентона, с любопытством взглянул на тела жреца и танцовщицы.
— Где Джиджи? – спросил Кентон. – Что с ним? Вас не преследовали?
— Нет, – мрачно ответил перс. Или если и преследовали, то руки у них из тени, так что удержать меч не смогут, Волк. Джиджи в безопасности. Он ждет, чтобы подхватить нас, когда мы вылезем из окна. Все, кроме одного, – добавил он негромко.
Кентон, думая о Джиджи и о пути на свободу, не слышал последней странной фразы. Он подошел к двери, по одну сторону которой стояла бдительная Шарейн, по другую – напряженный Сигурд. Привлек к себе Шарейн в яростной ласке; выпустил ее и выглянул за занавес. Далеко внизу он увидел тусклый блеск, отражения света в кольчугах, щитах и мечах. На четверти высоты угловатой лестницы, ведущей от дома Бела, поднимались солдаты, медленно, осторожно, молча; они ползли, надеясь застать врасплох, как они думали, жреца Бела, дремлющего в объятиях Шарейн.
Есть еще время, минуты, чтобы пустить в ход свой быстрый разум. Он надел на голову золотой шлем Бела, взял щит, набросил плащ.
— Сигурд! – прошептал он. – Зубран! Те, что поднимаются, считают, что здесь только Шарейн… и этот человек, лежащий там. Иначе они бы дали сигнал тревоги, по наружной лестнице тоже поднимались бы солдаты, и с нами было бы кончено. Поэтому когда те внизу приблизятся, мы с Шарейн покажемся с мечами. Они не будут нас убивать, им нужно нас пленить. Они отступят. Тогда быстро берите Шарейн и передайте ее Джиджи. Мы последуем за ней…
— Первая часть плана хороша, Волк, – спокойно прервал перс. – Но не последняя. Нет, кто‑то один должен оставаться здесь, пока остальные не покинут благополучно храм. Иначе как только они войдут сюда, черный жрец поймет, что произошло. И вокруг храма будет кольцо, через которое не прорвется и целый отряд. Нет, кто‑то должен остаться, сдерживать их, на время.
— Ч останусь! – сказал Кентон.
— Любимый! – прошептала Шарейн. – Ты уходишь со мной, или я не ухожу.
— Шарейн, – начал Кентон.
— Мой дорогой повелитель, – невозмутимо сказала она. – Неужели ты думаешь, что я позволю снова разлучить нас? Никогда! В жизни и в смерти – Никогда!
— Нет, Волк, я останусь, – сказал перс. – Шарейн не пойдет без тебя. Это исключает тебя, потому что она должна уйти. Джиджи не может остаться, так как не может и добраться сюда в одиночку. С этим ты согласен? Хорошо! Сигурд должен идти, чтобы показывать дорогу назад никто, кроме него, ее не знает. Кто остается? Зубран! Боги сказали! Их доводы неоспоримы.
— Но как ты уйдешь? Как найдешь нас? – простонал Кентон. – Как без помощи Джиджи сможешь выбраться из окна?
— Не смогу – ответил Зубран. – Но я смогу сделать веревку из постельных покрывал и занавесей. И по ней спущусь к тем ступеням внизу. Один сможет ускользнуть там, где не смогут пятеро. Я помню дорогу через город до рощи. Подождите меня там.
— Они близко, Кентон! – негромко позвала Шарейн.
Кентон подбежал к двери. В десяти шагах внизу позли солдаты, два десятка их неслышно парами поднимались по лестнице, держа наготове щиты, с мечами в руках; за ними небольшая группа жрецов в желтых и черных одеждах, и среди них – Кланет.
Справа от Шарейн к стене прижимался Сигурд, невидимый, но готовый защитить Шарейн. Перс встал слева от Кентона и тоже прижался к стене, чтобы снизу его не было видно.
— Прикрой жаровню, – сказал Кентон. – Лучше совсем погаси ее. Чтобы за нами не было света.
Перс потянулся к жаровне, но не набросил на нее покров, который погасил бы огонь. Напротив, он потряс ее, прикрыл пламя углями и поставил в угол, где угли были едва видны.
Ноги передних солдат были уже почти на верхней ступеньке, руки их протянулись, чтобы отдернуть занавес.
— Пора! – выдохнул Кентон. Он сорвал занавес с двери. Они стояли, она в белой одежде жрицы, он в золотых доспехах бога, против солдат. И те, ошеломленные неожиданным появление, смотрели на двоих.
Прежде чем они смогли прийти в себя, сверкнуло лезвие Шарейн, меч Кентона ударил с быстротой молнии. Вниз полетели двое передних. Прежде чем солдат упал, Кентон выхватил у него из рук щит, протянул его Шарейн, ударил по солдатам, стоявшим сзади.
— За Иштар! – услышал он крик Шарейн, увидел, как глубоко вонзился ее клинок.
— Женщина! Жрец! Взять их! – послышался рев Кланета.
Кентон наклонился, поднял упавшего солдата и швырнул его в остальных. ело ударило их, размахивая руками, как живое. И они с проклятиями покатились вниз; летели вниз по лестнице, солдаты и жрецы. Некоторые ударялись о непрочное ограждение, прорывали его, падали камнем сквозь туман, чтобы разбиться на полу дома Бела далеко внизу.
Кентон отпрыгнул, схватил Шарейн, передал ее Сигурду.
— К окну, – приказал он. – Передавай ее Джиджи!
Сам устремился перед ними, открыл окно. Гроза ушла, где‑то далеко сверкали молнии; тьма сменилась сумерками дождь продолжал идти, подгоняемый ветром. В полутьме он увидел протянутые из‑за угла жилища руки Джиджи. Отступил. Его место, держа Шарейн, занял викинг. Но мгновение она повисла в воздухе затем Джиджи поймал ее; она исчезла из виду.
Снизу послышались крики; солдаты пришли в себя, устремились вверх. Кентон видел, как Сигурд и перс подняли тяжелую кровать, сорвали с нее покрывала, наклонили. Подтащили к двери, просунули наружу и пустили по лестнице. Послышались вопли, крики боли, стоны. Кровать ударила по солдатам, пролетела меньший пролет, уперлась в веревочное ограждение, образовав баррикаду.
— Иди, Сигурд! – крикнул Кентон. – Я остаюсь с Зубраном. Ждите нас в лесу.
Перс взглянул на него, во взгляде его была любовь, смягчившая холодные агатовые глаза. Потом он кивнул Сигурду.
Как будто они условились об этом заранее, руки викинга обвились вокруг Кентона. Хоть он стал и очень силен, Кентон не мог разорвать эти руки. А Зубран снял с его головы золотой шлем Бела и надел его на себя; Сорвал золотой щит, сбросил свой плащ с кольчуги и на его место надел мантию бога, потом окутал его лица, совсем скрыв бороду.
И Кентона, как бьющегося ребенка, отнесли к окну, просунули наружу Джиджи поймал его и поставил рядом с плачущей Шарейн.
Викинг повернулся и обнял перса.
— Некогда, северянин! Не до чувств! – выпалил Зубран, вырываясь. – Ты знаешь, Сигурд, для меня спасения нет! Веревка? Слова, чтобы успокоить Волка. Я люблю его. Веревка? Они спустятся вслед за мной, как змеи. А я не дрожащий заяц, чтобы вести свору к добыче. Не я! Иди, Сигурд, и когда выйдете из города, расскажи им. И как можно быстрее идите на корабль.
Викинг сказал торжественно: «Девушки с щитами близко! Один принимает героя, откуда бы он ни был родом. Скоро ты будешь пировать с Всеобщим отцом Одином, перс!
— Пусть приготовит блюда, которые я еще не пробовал! – пошутил перс. – окно, северянин!
Зубран держал его за ноги, а Сигурд высунулся и был пойман Джиджи.
И вот вчетвером – впереди Сигурд, Шарейн, прикрытая широким плащом Джиджи, Кентон с проклятиями – они начали спускаться.
25. СМЕРТЬ ЗУБРАНА
Перс не закрыл за ними окно. Он позволил ветру врываться внутрь. Принялся расхаживать по жилищу Бела.
— Клянусь всеми дэвами! – произнес Зубран. – Никогда не испытывал я такого чувства свободы, как сейчас! Я один, последний человек в мире! Никто не может помочь мне, никто не даст совета, никто не утомит меня! Наконец‑то жизнь проста все, что мне осталось, убивать или быть убитым. Клянусь Ормуздом, мой дух встал на цыпочки…
Н выглянул в дверь.
— Никогда мужчинам не приходилось так трудно с кроватью! – усмехнулся он, глядя, как солдаты внизу пытаются преодолеть препятствие.
Повернувшись, он собрал посредине комнаты шелковые покрывала с кровати. Сорвал со стен шпалеры и бросил их в груду. Одну за другой брал лампы и выливал из них масло на погребальный костер; Потом вылил масло из кувшинов.
— Мой старый мир, – рассуждал перс, работая, – он утомил меня. И этот тоже мне наскучил, клянусь пламенем жертвоприношения! И я уверен, что новый мир Волка утомит меня больше всех. Я со всеми тремя покончил.
Он поднял тело жреца Бела, поднес к окну.
— Ты больше удивишь Кланета снаружи, а не внутри – рассмеялся он и выбросил тело из окна.
Потом остановился над танцовщицей.
— Как прекрасна! – прошептал он, касаясь ее губ, груди. – Интересно, как ты умерла… и почему. Должно быть, это было забавно… Некогда было расспрашивать Волка. Что ж, будешь спать со мной, танцовщица. И, может быть, когда мы проснемся, – если проснемся, – ты мне расскажешь.
И он положил Нараду на груду промасленных тканей. Взял дымящуюся жаровню и поставил рядом с ней…
Снизу послышался рев, топот ног по лестнице. Вверх стремились солдаты, получившие многочисленное подкрепление. На мгновение Зубран показался в двери, в золотом плаще Бела, обернутом вокруг шеи, скрывающим лицо.
— Жрец! Жрец! – закричали они. Всех перекрыл рев Кланета:
— Жрец! Убейте его!
Перс с улыбкой отступил за стену. Поднял щит, который уронила Шарейн.
Через узкую дверь прыгнул солдат, за ним второй.
Дважды свистнул ятаган, быстрый, как быстрейшая из змей. Двое упали под ноги шедших за ними, мешая им, стесняя их движения.
Вверх и вниз, ударяя, разрезая, укалывая, плясал клинок Зубрана, пока рука его не окрасилась в красный цвет до самого плеча. Перед ним росла баррикада из трупов.
Только по двое могли враги вступать на порог жилища Бела – и по двое они падали преграждая доступ остальным, и все время росла стена из трупов. Наконец, ему уже не видны были их мечи, он только слышал крики; взобравшись на тела, он увидел, что солдаты пытаются расчистить баррикаду, убрать мешавших им пройти мертвецов.
Перс напряг уставшие мышцы руки, рассмеялся, услышав голос Кланета:
— Там только один человек. Убейте его и принесите мне женщину. Десять ее весов в золоте тому, кто принесет ее мне!
Они собрались, устремились вверх, как набегающая волна, вскарабкались на стену из мертвецов. Красный ятаган Зубрана превратился в сверкающий ручей… почувствовал сильную боль в боку, над пахом. Упавший мечник приподнялся, ударил его снизу своим мечом.
Перс понял, что рана его смертельна.
Он разрубил улыбающееся лицо, снова прыгнул на мертвых, расчистил пространство бурей ударов. Нажал плечами на баррикаду из мертвецов. Они повалились по лестнице вниз. Падали на поднимающихся солдат, путали им ноги. Прижимали с к стене, посылали вниз сквозь туман хватающих руками воздух.
Двадцать верхних ступеней расчистились.
Свистнула стрела.
Она пробила плащ и попала Зубрану в шею, в том месте, где сходятся шлем и воротник лат. Он глотнул соленую кровь, хлынувшую из горла.
Перс, шатаясь, побрел к груде тканей, на которой лежала Нарада, ногой задел за жаровню, опрокинул ее на промасленные ткани.
Взметнулось пламя. Порыв ветра из открытого окна подхватил его и раздул в ревущий ураган.
Зубран лег рядом с телом танцовщицы, повернувшись, взял ее руки в свои.
— Чистая смерть, – прошептал он – Наконец‑то… как все… Возвращаюсь… к богам моих отцов. Чистая смерть! Прими меня, о бессмертный огонь!
Пламя поднялось над ним. Покрыло его, как навесом.
Верхняя часть пламенного языка расширилась.
Она стала огненной чашей, полной огненного вина!
И в эту чашу перс погрузил свои губы, он пил огненное вино, он вдыхал его аромат.
Голова его упала, мертвое лицо улыбалось. Голова его лежала на груди Нарады.
Пламя скрыло их.
26. КАК ОНИ ВЕРНУЛИСЬ НА КОРАБЛЬ
Четверо, за чью свободу умер перс, были уже далеко. Благополучно миновали они террасы; мертвые часовые лежали так, как упали. Но, уходя, четверо услышали, как зиккурат загудел изнутри, словно потревоженный колоссальный улей, услышали бой большого барабана и заторопились под укрытие каменной стены, на которой висел крюк Джиджи. Один за другим соскользнули они по веревке вниз, под защиту деревьев. Буря бушевала, но деревья защищали их. Никого на улицах не было. Жители Эмактилы прятались в своих раскрашенных домах от бури.
Когда губы перса окунулись в пламенную чашу, они были уже далеко на пути к кораблю.
Когда наконец солдаты набрались мужества, чтобы снова подняться по ступеням и они, а вслед за ними и черный жрец вошли в жилище Бела, четверо были уже за пределами города и пробирались через глубокую грязь впереди викинг, сзади Кентон, все время оглядывавшийся в ожидании Зубрана.
А в комнате, где пепел Зубрана смешался с пеплом танцовщицы, черный жрец стоял изумленный, чувствуя, как что‑то похожее на страх коснулось его злобного сердца, но тут взгляд его уловил блеск бабочек с вуали Нарады, которая соскользнула с нее, когда перс укладывал ее на погребальный костер. Жрец увидел и кровавый след, который вел к открытому окну. Выглянув из окна, Кланет увидел в грозовом сумраке разбитое тело жреца Бела – мертвое, белое лицо смотрело на него снизу, с расстояния в сорок футов.
Жрец! Чьи же кости сгорели в огне? Кто был человек, сражавшийся в золотом шлеме и со щитом, с лицом, скрытым мантией бога? Он так быстро орудовал мечом, его так скрывали поднимавшиеся солдаты и частично стена, что Кланет снизу видел его лишь мельком; он считал, что это жрец Бела.
Назад побежал черный жрец, свирепо распинал пепел костра и то, что лежало в нем.
Что‑то звякнуло – сломанный ятаган. Он узнал это оружие – ятаган Зубрана, перса.
Еще что‑то сверкнуло у его ног – пряжка, жемчуга которой не потускнели в огненной ванне. Он узнал эту пряжку – она была на поясе у Нарады, танцовщицы.
Значит, эти почерневшие останки – Зубран и танцовщица! Шарейн освобождена!
Черный жрец стоял неподвижно, лицо его стало так ужасно, что солдаты отшатнулись от него, прижались к стенам.
С воем бросился Кланет из жилища Бела, вниз по угловатой лестнице. вниз через тайные храмы, все вниз и вниз, пока не добрался до камеры, в которой оставил Кентона с шестью лучниками. Он распахнул дверь, увидел крепко спящих лучников и офицера. Кентона не было.
Изрыгая проклятия, выбрался он из камеры, приказывая обыскать город, найти и схватить храмовую шлюху и раба; предлагая за их поимку все, чем владеет, все, все! Если только ему приведут эту пару живыми.
Живыми!
Теперь четверо свернули с дороги и находились в лесу в том месте, откуда начиналась тайная тропа к морю и где хитроумный перс просил их подождать его. И Сигурд рассказал им о самопожертвовании Зубрана и почему это самопожертвование было необходимо. И Шарейн плакала, а горло Кентона сжималось от горя, А черные бусинки глаз Джиджи смягчились и слезы побежали по морщинам его лица.
— Что сделано – сделано, – сказал Сигурд. – Теперь он пирует с Одином и героями.
Он решительно раздвинул их и пошел дальше.
Они шли все вперед и вперед. Дождь промочил их, ветер продул. Когда буря стихала, они шли быстрее; когда темнело так, что викинг не видел дороги, они останавливались. Все вперед и вперед – к кораблю.
Шарейн споткнулась и упала, встать она не смогла. Трое, столпившись вокруг нее, увидели, что ее сандалии изорваны, а стройные ноги босы и кровоточат и что давно уже каждый шаг должен причинять ей страшную боль. Кентон взял ее на руки и понес а когда он устал, ее понес Джиджи, а Джиджи был неутомим.
Наконец они пришли к спрятанному кораблю. Они окликнули девушек, те оказались на страже. Они передали девушкам Шарейн, и те унесли свою хозяйку в каюту и занялись ею.
Теперь поднялся спор, стоит ли ожидать, пока стихнет буря. Наконец они решили, что ждать не стоит; лучше выйти в бурное море, чем оставаться вблизи Эмактилы и страшного дома Нергала. Цепи сняли с деревьев, вывели корабль из убежища и развернули в сторону выхода из бухты.
Подняли якорь, опустили весла. Медленно корабль набирал скорость. Он повернул за скалы, и Сигурд, стоявший у рулевого весла, вдохнул ревущие волны и, как бегун, направил корабль в открытый океан.
Кентон, до предела уставший, упал на месте. Джиджи поднял его и отнес в черную каюту.
Долго сидел рядом с ним Джиджи, не спал, хотя тоже устал, смотрел туда и сюда своими зоркими глазами; прислушивался, караулил. Джиджи казалось, что черная каюта не такая, какой они ее оставили. Казалось Джиджи, что он слышит шепот, даже призрак шепота, приходящий и уходящий.
Кентон застонал, что‑то пробормотал в глубоком сне, тяжело задышал, будто чьи‑то руки сдавили ему горло. Джиджи, прижав руку к груди Кентона, успокоил его.
Но вот и бдительные глаза Джиджи помутились, веки закрылись, голова опустилась.
В пустой нише где на плите из кровавого железняка раньше стоял идол Нергала, сгустилась какая‑то смутная тень.
Тень потемнела. В нем начало проглядывать лицо, это лицо, полное ненависти, угрозы, смотрело на спящую пару…
Кентон снова застонал, он боролся с кошмаром. Барабанщик протянул длинные руки, вскочил на ноги, осмотрелся…
Быстро, как и появилась, прежде чем Джиджи полностью открыл еще сонные глаза, теневое лицо исчезло, ниша опустела.
27. ВИДЕНИЕ КЕНТОНА
Когда Кентон проснулся, рядом с ним лежал не Джиджи, а раздетый Сигурд. Он громко храпел. Он, должно быть, проспал долго, потому что мокрая одежда, которую снял с него ниневит, просохла. Кентон оделся, сунул ноги в сандалии, набросил на плечи короткий плащ и тихо отворил дверь. Тьма и черные сумерки уступили место бледному рассвету, который окрасил море в тускло–серый цвет. Дождь прекратился, но корабль весь дрожал от сильного ветра.
Корабль летел по ветру, как чайка на волнах гигантских волн; скользил назад, когда волна проходила, по воде как по шиферу, и снова поднимался на гребне следующей волны.
Кентон пробрался к месту рулевого, пена жгла его лицо, как дождь со снегом. В одно рулевое весло вцепился Джиджи, за другим были два раба из гребной ямы. Ниневит улыбнулся Кентону, указал на компас. Кентон взглянул и увидел, что стрелка, которая всегда направлена к Эмактиле, указывает точно на корму.
— Логово далеко за нами! – крикнул Джиджи.
— Иди вниз! – крикнул Кентон в заостренное ухо и хотел взяться за весло. Но Джиджи только рассмеялся, покачал головой и указал на каюту Шарейн.
— Вот твой курс! – проревел он. – Вставай на него!
Борясь с ветром, Кентон добрался до розовой каюты, открыл дверь. Шарейн спала, щекой на стройной руке, пряди покрывали ее, как золотая сеть. Две девушки сидели рядом.
Как будто он ее позвал, она открыла сонные глаза, которые становились все более томными.
— Мой дорогой повелитель! – прошептала Шарейн.
Она села, знаком велела девушкам уйти. А когда они ушли, протянула к нему свои белые руки. Его руки обвились вокруг нее. Как птица, она угнездилась в них, подняла навстречу ему губы.
— Мой дорогой повелитель! – прошептала Шарейн.
Он больше не слышал рева ветра не слышал ничего, кроме шепота и вздохов Шарейн; забыл все на свете, кроме нежных рук Шарейн.
Долго плыли они, подгоняемые бурей. Дважды Кентон сменял Джиджи у рулевого весла, дважды его заменял викинг, пока ветер не стих и они плыли опять по улыбающемуся, блестящему бирюзовому морю.
Для плывущих на корабле началась жизнь преследуемых – преследуемых не только людьми, но и призраками.
Эмактила должна была остаться далеко позади, и тем не менее все четверо ощущали, что их преследуют. Не страх, не ужас – знание того, что корабль преследуют, что если они не перехитрят флот, который отыскивает их повсюду в этом странном море, не найдут безопасную тайную гавань, конец у них будет один. И ни один из них в глубине души не верил, что такая гавань отыщется.
И все же они были счастливы. Жизнь расцветала рядом с Кентоном и Шарейн. Они любили друг друга. А Сигурд пел старые саги и новые, которые сочинял о персе Зубране, пока они с Джиджи прибивали большие щиты к бортам на носу. Они укрепили щиты вдоль фальшборта и прорезали в них бойницы, сквозь которые можно было стрелять. На корме они тоже прибили два щита, чтобы защищать кормчего.
И Сигурд пел о грядущей битве, о крылатых воительницах, которые парят над кораблем, готовые унести душу Сигурда, сына Тригга, на его место в Валгалле, где его ждет Зубран. Он пел о местах, которые там ждут Кентона и Джиджи, но не тогда, когда его могла слышать Шарейн, потому что в Валгалле нет места для женщин.
Преследуемые – призраками!
В черной каюте тени сгущались и рассеивались, становились сильнее и уходили, снова возвращались. Что‑то от Темного повелителя вернулось, снова требовало свою палубу. Ни Джиджи, ни викинг больше не спали в черной каюте, они спали на открытой палубе или в каюте девушек.
А рабы шептались о тенях, которые пролетают над черной палубой, собираются у перил и смотрят на них сверху вниз!
Однажды Сигурд задремал над рулевым веслом, а проснувшись, обнаружил, что курс корабля изменился – большая стрелка указывала на нос, на Эмактилу, корабль на веслах шел к острову колдунов!
После этого они правили кораблем по двое – Кентон и Шарейн, Джиджи и викинг.
И не в силах Шарейн было отогнать эти тени.
Они пристали к одному острову и пополнили запасы пищи и воды. На острове была хорошая скрытая гавань, за ней их манил большой лес. Здесь они провели некоторое время, говорили о том, чтобы вытащить корабль на берег, спрятать его, затем найти в лесу место и построить крепость, там встретить нападение, если оно будет.
Корабль Иштар притягивал их к себе.
Они не находили себе места на берегу, каждый втайне опасался, что остальные трое решат остаться. И веселились, как дети, когда корабль вышел из гавани и погрузил нос свой в увенчанные пеной волны, а чистый морской ветер кричал и остров постепенно терялся вдали.
— Тюрьма, – рассмеялся Кентон.
— Это не жизнь! – согласился Джиджи. – Прятаться в норе, пока собаки не отыщут и не выкопают оттуда. Теперь нам по крайней мере видно, чего ожидать.
Они встретили длинный корабль, унирему, как и их, но с двадцатью веслами. Это был торговый корабль, к тому же тяжело груженный; он попытался уйти от них. Но викинг закричал, что они не должны дать ему уйти в Эмактилу и там рассказать о них. Они преследовали корабль, таранили его и потопили вместе с вопящими закованными рабами – Кентон, Сигурд и Джиджи с тяжелым сердцем, Шарейн бледная и плачущая.
Встретили другой, легкий, не больше их, но на этот раз военный корабль, охотник. Сделали вид, что бегут, корабль начал их преследовать. Когда преследователь был совсем близко, викинг резко развернул корабль Иштар и срезал весла преследователя. На этом корабле сражались храбро, но, сдерживаемые приказом черного жреца не убивать, а взять живыми, не могли противостоять большой булаве Джиджи, мечу викинга, быстрому клинку Кентона. Они сдались перед ними и перед бурей стрел, которую создали Шарейн и ее девушке. Но и на корабле Иштар были потери: одна девушка умерла, стрела попала ей в сердце, а Джиджи и Сигурд были ранены.
На этом корабле они нашли запас металла для наковальни викинга. И что еще лучше, связки бечевки, масло, чтобы смачивать их, кремень, позволяющий зажигать пламя, прочные древка и странной формы мощные самострелы, которые должны были стрелять пылающими стрелами. Все это и металл они взяли. Потом потопили корабль с живыми и мертвыми.
Все дальше и дальше плыл корабль, Сигурд ковал длинные щиты, Джиджи и Кентон установили возле розовой и черной каюты самострелы, приготовили бечевку, масло и огниво.
Шло время; мощные потоки жизни, исходившие от Кентона и Шарейн, не слабели, наоборот, становились сильнее.
Лежа рядом со спящей любимой, Кентон проснулся – или подумал, что проснулся; открыв глаза, он увидел не каюту, а два лица, глядящие на него из какого‑то неизвестного пространства; огромные лица, смутные и туманные. Их теневые глаза устремились на него.
Кто‑то заговорил, и Кентон узнал – этот голос вел его по тайным переходам храма! Голос Набу!
— Снова Нергал сосредоточил свой гнев на корабле, о Иштар! – произнес этот голос. – Борьба между ним и твоей ипостасью снова будет беспокоить богов и людей в мириадах миров. Великая мать, только ты можешь кончить ее.
— Я дала слово, – другой голос был как ветер, шевелящий струны тысячи арф, – я дала слово; и та моя ипостась, которую люди в старину называли Гневная Иштар, разве у нее нет прав? Нергал не победил ее. Но и она не победила Нергала. Соглашение не было достигнуто. Как же может отдыхать моя ипостась, если слово, которое я произнесла в гневе, не нашло ответа. И пока будет бороться она, будет и Нергал, он тоже связан словом.
— Но ведь огонь, зажженный тобой в сердцах Зарпанит и Алусара, огонь, ставший сутью их душ, не погас, – прошептал спокойный голос. – Разве эти огни не ускользнули и от твоей Гневной сестры, и от Темного Нергала? И почему, Иштар? Разве не потому что ты этого хотела? Разве не ты скрыла их? Что же тогда говорить о твоем слове?
— Ты мудр, Набу! – послышался голос Иштар. – Пусть этот человек, чьи глаза мы открыли, увидит, что произвели моя жрица и ее любовник, когда привели в объятия друг друга Мать Жизни и Повелителя Смерти! Пусть этот человек рассудит, справедлив ли мой гнев!
— Пусть этот человек рассудит! – повторил голос Набу.
Огромные лица поблекли. Кентон смотрел в глубочайшие глубины, в бесконечные бесконечности пространства. Мириады солнц роились здесь, а вокруг них вращались мириады и мириады миров. Через это бесконечное пространство двигались две силы, смешавшиеся, но и раздельные. Одна – свет и плодовитость, она давала рождение, жизнь и радости жизни; другая – тьма и уничтожение, она отнимала у первой ее порождения, утихомиривала их, погружала в темноту. Внутри первой силы было невыразимое сияние, и Кентон знал, что это ее душа. В темной силе была еще более темная тень, и он знал, что это ее мрачная душа.
Перед ним появились фигуры мужчины и женщины; что‑то прошептало ему, что имя женщины Зарпанит, а мужчины – Алусар, это жрица Иштар и жрец Нергала. Он увидел в их сердцах удивительное чистое белое пламя. Он видел, как два пламени заколебались, склонились друг к другу. И в то же время сияющие нити света потянулись от первой силы, связывая жрицу с ее душой; и из мрачного сердца тьмы протянулись темные нити и обвились вокруг жреца. И на мгновение в соединившемся пламени светлые и темные нити соединились, слились, стали одним и тем же.
В то же мгновение все пространство задрожало, солнца закачались, миры начали раскачиваться, бьющий прибой жизни замер.
— Ты созерцаешь грех! – прозвенел голос струн арфы.
— Раскрой глаза шире! – донесся спокойный холодный голос.
И вот Кентон видит большое помещение, в котором пребывают ужасные силы, в сиянии и славе, – все, кроме одной, погруженной во тьму. И перед ними стоят жрец и жрица, а рядом со жрицей – Шарейн!
Снова видит он белое пламя в сердцах этих двоих – спокойное, ясное, равнодушное к богам или к гневной богине. Склоняются друг к другу, неугасимые, неизменные, равнодушные к гневу богов или к их наказанию.
Картина начала расплываться, исчезла. Теперь в этом же помещении находились жрец и жрица, Шарейн, Кланет и вокруг них тела многих мужчин и женщин. Был также высокий алтарь, полускрытый облаком мерцающего лазурного тумана. В тумане, на алтаре, невидимые руки строили чудесный корабль.
И по мере того как рос этот корабль, где‑то далеко от него, как бы в тени другого измерения, рос другой корабль; корабль, который, казалось, возникал сам собой на бирюзовом море в мире серебристых облаков! Шаг за шагом этот теневой корабль повторял создание игрушечного корабля на алтаре.
Кентон знал, что реальна именно тень: игрушка на алтаре – ее символ.
Знал также, что символ и реальность – одно и то же, они связаны древней мудростью, созданы древними силами так, что судьба и благополучие одного есть судьба и благополучие другого.
Едины в двух формах. Кукольной и реальной. И каждая – одно и то же.
Невидимые руки в лазурном тумане кончили корабль. Они одно за другим коснулись тел жрицы Иштар и жреца Нергала, тел Шарейн и Кланета и все тех, кто лежал вокруг. И все эти тела исчезли. Невидимые руки подняли и поставили на игрушечный корабль маленьких кукол.
А на палубе теневого корабля в лазурном море появились тела – одно за другим появлялись тела тех, которые, как игрушечные, появлялись на алтаре.
И вот на полу зала совещаний богов не осталось ни одной фигуры.
Корабль был создан и населен.
Луч от сияния, окружавшего Иштар, коснулся носа корабля. Щупальце тьмы протянулось из черноты, в которой восседал Повелитель смерти, и коснулось кормы корабля.
Картина расплылась и исчезла.
Появилась другая комната, маленькая, почти келья. В ней стоял одинокий алтарь. Над алтарем висела лампа, окруженная лазурным ореолом. Алтарь из лазурита и бирюзы, усаженной синими сапфирами. Кентон понял, что это тайный алтарь Набу, бога мудрости.
На алтаре стоял корабль. Кентон смотрел на него и понимал, что эта драгоценная игрушка неразрывными нитями связана с другим кораблем, плывущим в другом пространстве, в другом измерении, плывущим по неведомым морям в неведомом мире…
С кораблем, на котором плыл он сам!
И что происходит с игрушкой, то же происходит и с кораблем Иштар; и каково кораблю Иштар, таково и игрушке; то, что угрожает одному, угрожает и другому; они разделяют судьбу друг друга.
И эта картина исчезла. Теперь он видел город, огражденный стеной; над городом возвышался большой храм ступенчатый, – зиккурат. Город осаждало войско, обороняющиеся стояли на стенах. Он знал, что этот город – древний Урук и что перед ним храм, в котором построили чудесный корабль. И тут осаждающие прорвались сквозь стены, подавили защитников. Он мельком увидел кровавую бойню – картина исчезла.
Снова увидел он келью Набу. В ней находились два жреца. Корабль стоял на полу на решетке из серебристого металла. Над алтарем висело небольшое сияющее голубоватое облако. Кентон понял, что жрецы повинуются голосу, исходящему из облака, они спасают корабль и тех, кто плывет на нем, от нападающих. Они залили корабль строительным раствором, походившим на размельченную слоновую кость, смешанную с жемчугом. Раствор скрыл игрушку. Теперь вместо корабля стоял каменный блок. Облако исчезло. Появились другие жрецы, они вытащили блок, пронесли его по коридорам во двор храма. И тут оставили его.
Во двор ворвались победители, грабя и убивая. Но никто из них не обратил внимания на грубый каменный блок.
Теперь Кентон видел другой город, великий и прекрасный. Он знал, что это Вавилон в самом расцвете его могущества. Новый зиккурат стоял на месте прежнего. Картина поблекла, Кентон увидел внутренность другого святилища Набу. Каменный блок находился здесь.
Перед ним мелькали картины битв и побед, пышных процессий и поражений, мгновенные картины уничтожения, восстановления и нового уничтожения города; каждый раз, уничтоженный, он восстанавливался заново в новом великолепии…
Потом пал, покинутый богами.
Потом разрушился, покинутый людьми, пустыня наползла на него, покрыла его.
И город был забыт.
Последовал водоворот видений неустойчивых, с трудом различимых, быстро сменявших друг друга. Картина стала устойчивой. Он увидел людей, раскапывающих пески на месте могилы Вавилона. Он узнал среди этих людей – Форсита! Видел, как откопали блок, как его унесли высокие арабы, видел, как его уложили на примитивную повозку, которую потащили терпеливые маленькие пони в грубой упряжи, смотрел, как его грузят в корабль и как этот корабль плывет по морю, которое он знал, как блок заносят в его собственный дом…
Он увидел самого себя, освобождающего корабль.
И снова смотрел в теневые глаза.
— Суди! – вздохнули струны арф.
— Еще нет! – прошептал спокойный голос.
Кентон снова смотрел в бесконечное пространство, где впервые увидел силы сияющие и темные. Но теперь в этом пространстве он видел бесчисленное количество огоньков, подобных тем, что горели в груди жрицы Иштар и жреца Повелителя смерти; видел, как сама бесконечность светится и пламенеет в них. Они горели глубоко внутри тени, и при их свете их тьмы вырывались новые мириады и мириады других огней, которые скрывала тьма. И он увидел, что без этих огней само свечение было бы тоже тьмой!
Он увидел корабль, как будто плывущий в том же самом пространстве. Глубокая тень отделилась от души тьмы и нависла над кораблем. Немедленно ему навстречу из души света вырвалось сияние. Они встретились и вступили в схватку. Корабль был фокусом схватки, от которого расходились круги ненависти и гнева. Как круги на воде, расходились они, и тьма пила силу в этих волнах и становилась все темнее. И в этой битве свечение тускнело, и бесчисленные огоньки мигали, раскачивались, тревожились.
— Суди! – прошептал холодный голос Набу.
И Кентон в своем сне, если это был сон, заколебался. Не простое дело рассудить эти силы, судить Иштар, богиню, которая в этом чуждом мире облагает могучей властью. К тому же, разве он не молил Иштар, разве она не ответила на его мольбу? Да, но он молил и Набу, а Набу – бог правды…
И мысли обрекли форму слов его родного языка, в его привычных оборотах
— Если бы я был богом, – просто начал он, – и создал бы живые существа, мужчин и женщин, я не сделал бы их несовершенными, чтобы они не могли в своем несовершенстве нарушить мои законы. Нет, если бы я был всемогущим и всеведущим, какими и должны быть, по моему мнению, боги. Если, конечно, мне не нужны игрушки, с которыми я мог бы играть. И если бы я обнаружил, что создал их несовершенными и что поэтому они нарушили мои законы, я подумал бы, что я отвечаю за их грехи, потому что, будучи всемогущим и всеведущим, я мог бы сделать их совершенными, но не сделал. А если бы я создал их как игрушки, тем более не стал бы я навлекать на них несчастья и разочарования, горе и боль – и не наказывал бы их, о Иштар!..
— Конечно, – продолжал Кентон наивно и без всякой иронии, – я не бог, тем более не богиня, и до того, как появиться в этом мире, никогда с ними не встречался. Но, говоря как человек, даже если бы я стал наказывать нарушивших мой закон, я не тронул бы тех, кто ничего общего не имеет с той первоначальной причиной, которая вызвала мой гнев. Но именно это, как мне кажется, происходит на этом корабле.
— Нет, – искренне сказал Кентон, почти забыв о нависших над ним огромных лицах, – я не вижу справедливости в мучениях этого жреца и этой жрицы, и не вижу справедливости в тех бедах, которые причиняет борьба за этот корабль, и я бы остановил эту борьбу, если бы смог. Во–первых, я побоялся бы, что тьма станет слишком сильной и погасит эти огоньки. Во–вторых, если я когда‑либо и произнес гневные слова, вызвавшие все эти беды, я не позволил бы им быть сильнее меня. Не позволил бы как человек. И тем более не позволил бы, будь я богом или богиней.
Наступило молчание, затем…
— Человек рассудил! – прошептал спокойный голос.
— Он рассудил! – струнный голос арф теперь был почти таким же холодным. – Я беру назад свое слово. Пусть борьба кончится!
Два лица исчезли. Кентон поднял голову и увидел вокруг знакомые стены розовой каюты. Все это было сном? Не все… слишком ясными были картины, слишком последовательными, слишком убедительными.
Рядом пошевелилась Шарейн, повернулась к нему лицом.
— Что тебе снилось, Джонни? – спросила она. – Ты что‑то бормотал – странные слова, которые я не могла понять.
Он наклонился и поцеловал ее.
— Боюсь, сердце мое, что я оскорбил твою богиню, – сказал он.
— О, Джонни, нет! Как? – В глазах Шарейн появился ужас.
— Сказав ей правду, – ответил Кентон и рассказал Шарейн о своем видении.
— Я забыл, что она женщина, – закончил он.
— Но, любимый, она сама женственность! – воскликнула Шарейн.
— Тем хуже! – печально ответил Кентон.
Он встал, набросил плащ и пошел поговорить с Джиджи.
Но Шарейн долго после его ухода сидела, размышляя, с беспокойными глазами. Наконец она подошла к пустому алтарю бросилась перед ним на пол, стала молиться.
28. КАК КОНЧИЛАСЬ БОРЬБА
— Что на корабле началось, на корабле и должно кончиться! – сказал Джиджи, кивая мудрой лысой головой, когда Кентон рассказал ему о своем видении. – Думаю, недолго нам осталось ждать, прежде чем мы увидим этот конец.
— А потом? – спросил Кентон.
— Кто знает? – пожал широкими плечами Джиджи. – Но пока Кланет жив, для нас покоя нет, Волк. Да, я думаю, что знаю, что означает эта сгущающаяся тень на черной палубе. Из этой тени за нами следит Кланет. По ней он следует за нами. Кожа у меня чувствительная, и она говорит мне, что черный жрец близко. Когда он появится – что ж, мы победим его или он победит нас, вот и все. И думаю, не стоит тебе рассчитывать на какую‑нибудь помощь от Иштар Помни, в твоем видении она обещала только, что кончится борьба между ее гневной ипостасью и Темным повелителем. Ни тебе, ни Шарейн она не давала никаких обещаний – и никому из нас.
— Это было бы хорошо, – весело ответил Кентон. – Пока у меня есть возможность честно, лицом к лицу стоять перед этим порождением адских помоев Кланетом, я доволен.
— Но мне кажется, ты понял, что она не очень довольна твоими словами, – лукаво улыбнулся Джиджи.
— Но это не причина для преследований Шарейн, – ответил Кентон, возвращаясь к прежним мыслям.
— А как иначе она может наказать тебя? – зловеще спросил Джиджи, потом посерьезнел, вся его проказливость исчезла – Нет, Волк, – сказал он и положил руку ему на плечо, – у нас мало шансов. И все же… если твое видение истинно и эти огоньки, которые ты видел, реальны, это многое значит…
Только когда эти огоньки, которые есть ты и Шарейн, встретятся в бесконечном пространстве и станут одним пламенем и к ним подлетит другое пламя, которое некогда было Джиджи из Ниневии, позволите ли вы ему быть с вами? – задумчиво продолжал Джиджи.
— Джиджи, – в глазах Кентона показались слезы. – Что бы с нами ни случилось и где бы мы ни оказались, ты будешь с нами, пока сам этого хочешь.
— Хорошо! – прошептал Джиджи.
Сигурд крикнул у рулевого весла, он указывал на нос корабля. Они побежали к двери Шарейн, через ее каюту и каюту девушек на маленькую палубу под заостренным носом. На горизонте показалась линия башен и минаретов, шпилей и колоколен, небоскребов и мечетей – огромный город. С того места, где они находились, эти очертания казались слишком правильными, слишком ровными, чтобы не быть искусственными.
Город ли это? Убежище, которое они ищут? Место, где они могут остановиться, не опасаясь Кланета и его своры, пока не смогут встретить эту свору и ее хозяина на более равных условиях?
Но если это город, какие гиганты воздвигли его?
Глубже погрузились весла, корабль пошел быстрее, ближе подошел к барьеру…
Это не город!
Из глубины бирюзового моря торчали тысячи скал. Синих и желтых, алых и малахитово–зеленых; скал, окрашенных охрой, и скал, вымоченных в красных красках осенних закатов многоцветная Венера забытого каменного народа, вырубленная каменными титанами. В одном месте стройный минарет на двести футов возносился в воздух, при этом в толщину он едва достигал десяти; в другом пирамида размером в Хеопсову, с аккуратно отделанными сторонами, – тысячами, насколько хватал глаз, возвышались многоцветные конусы и пики, вершины и минареты, обелиски, колокольни и башни.
Прямо из глубины вздымались они, а между ними море вливалось во множество каналов, узких и широких; в одних оно текло спокойно, в других – с завихрениями, водоворотами и стремительным течением; а в некоторых местах море лежало гладкими озерами.
Викинг снова крикнул, тревожно, призывно и сопроводил свой крик ударами меча о щит.
Немного больше мили сзади показалась длинная линия судов, двадцать или больше, с одной и с двумя банками, – военных кораблей, которые неслись на веслах, опускавшихся и поднимавшихся со скоростью удара меча. Впереди неслась стройная черная бирема, прыгая по волнам, как волк.
Свора Кланета во главе с черным жрецом!
Свора, незаметно для Сигурда вылетевшая из тумана: его глаза, как и глаза остальных, были устремлены на колоссальную фантазию из камня, которая казалась концом этого странного мира.
— В скалы! – закричал Кентон. – Быстрее!
— Ловушка! – закричал Сигурд.
— Не только для нас, но и для них, – ответил Кентон. – По крайней мере в скалах они не смогут окружить нас своими кораблями.
— Единственный шанс! – согласился Джиджи.
Рабы согнули спины; корабль летел по широкому проливу меж двух монолитных раскрашенных минаретов. За ними слышались крики – лай голодных псов при виде добычи.
Теперь они плыли среди скал, гребцам приходилось работать медленно и требовалось все искусство викинга, потому что их поворачивало течением, разворачивало то носом, то кормой, а рядом возвышались угрожающие скалы. Поворачиваясь, уклоняясь, они продвигались все вперед и вперед, пока открытого моря сзади совсем не стало видно. Но теперь и Кланет со своей сворой углубился в лабиринт. Они слышали скрип весел, команды кормчих, их искали, выслеживали.
Неожиданно, будто отрезанный, исчез свет, наступила тьма. Тьма закрыла канал, по которому они плыли, закрыла скалы. От преследующих кораблей донеслись сигналы рога резкие приказы, выкрикиваемые голосами, полными страха, возгласы.
Во тьме начало разгораться пурпурное сияние.
— Нергал! – прошептала Шарейн. – Это идет Нергал!
Вся черная палуба затянулась чернильно–черным облаком, из этого облака вынырнул Сигурд и побежал к остальным.
Теперь со всех сторон горизонта к ним устремились черные столбы. Основания их находились в угрюмом море, а вершины терялись в туманной пелене над головами. И с ними приближался кладбищенский запах, дыхание смерти.
— Нергал во всей своей мощи! – задрожала Шарейн.
— Но Иштар… Иштар обещала, что борьба закончится! – простонал Кентон.
— Она не сказала, как она кончится – причитала Шарейн. – И, о любимый, Иштар больше не приходит ко мне… вся моя сила ушла!
— Иштар! Иштар! – воскликнула она, Кентон обхватил ее руками. – Мать, мою жизнь отдаю за жизнь этого человека! Мою душу за его! Мать Иштар!..
Передние ряды кружащихся столбов теперь были совсем близко; пространство между ними и кораблем быстро сужалось. Как эхо возгласов Шарейн сверкнула молния, жемчужно–белая и жемчужно–розовая, она осветила их всех – Шарейн, троих мужчин, девушек–воинов, жавшихся с бледными лицами к ногам Шарейн.
Высоко над их головами, на высоте трех человеческих ростов, повис большой огненный шар, лучезарный, ясный яркий, гораздо ярче полной луны. Из его краев полились лучи, окружили всю переднюю часть корабля, накрыли его пологом света; теперь они стояли в сияющем конусе, вершиной которого был шар.
А вокруг этого конуса кружили черные столбы, пытались прорваться, найти вход – и не находили.
Вначале далеко, потом все ближе послышались резкие крики, они становились все громче, как будто кричали адские орлы, только что выпущенные из преисподней. Пурпурная тьма посветлела, стала огненно–фиолетовой. И ее пронзили бесчисленные алые огоньки.
Эти мириады огней обрушились на корабль, как маленькие огненные змейки, ударялись они о шар и о стороны сверкающего конуса, летели, как огненные стрелы, били, как копья с огненными наконечниками.
Послышался шум, шорох тысяч крыльев. Вокруг спокойного шара и конуса света вились тысячи голубей Иштар. И как только огненные змеи устремлялись вперед, навстречу им летели голуби. Как маленькие живые щиты из сверкающего серебра встречали они удары огненных копий своей грудью.
Откуда появлялись эти голуби? Стая за стаей летели они из лунного шара, их пепел уносил ветер, но на место каждого сгоревшего появлялись десятки новых, и воздух трепетал от ударов их крыльев.
Крик взметнулся на целую октаву. Чернильное облако поднялось над палубой гигантское, башнеподобное, оно повисло в небе. Бесчисленные огненные острия полетели навстречу друг другу, соединились. Они превратились в алый огненный ятаган, который обрушился на сияющий шар и на корабль.
И тут же удар ятагана встретил щит из голубей. Это на самом деле был щит, достойный рук Иштар.
И всякий раз, как ятаган наносил удар, щит отражал его. Огонь бился о серебряный щит, его живое серебро помутнело, но не было пробито. И тут же к этим ранам слетались новые тысячи голубей и залечивали их.
Ятаган потускнел. Больше его огни не казались такими яркими.
Лунный шар пульсировал, его сияние расширялось, ослепительно, ошеломляюще. И отгоняло тьму.
Быстро, как и появился, шар исчез.
Вместе с ним исчезли и голуби.
Кентон видел, как гигантский ятаган остановился в нерешительности, как будто страшную руку, державшую его, остановило какое‑то сомнение, затем снова ударил вниз.
И на середине падения встретился с другим мечом ослепительно яркого света, мечом, выкованных из всех тех огней, что он видел в своем видении и которые были жизнью того сияния, что оплодотворяло бесконечные рои миров.
Алый ятаган раскололся!
И тут послышался голос – голос Иштар:
— Я победила тебя, Нергал!
И огрызающийся ответ Нергала:
— Хитрость, Иштар! Не с тобою, а с твоей гневной ипостасью мы вели борьбу
И снова Иштар:
— Никакой хитрости, Нергал! Я никогда не говорила, что не буду бороться с тобой. Но я все же иду на уступки: хоть ты и потерял этот корабль, я не беру его! Корабль свободен!
И неохотно, по–прежнему огрызаясь, Нергал:
— Борьба окончена! Корабль свободен!
На одно мгновение Кентону показалось, что он видит огромное туманное лица, которое смотрит сверху на корабль, в котором нежность всех матерей, всех любящих женщин под солнцем, туманные глаза взглянули на Шарейн, мягко, но загадочно на него…
Лицо исчезло!
И как будто прикрыли чем‑то лампу, упала тьма; и как будто подняли завесу, тьма исчезла, его место занял свет.
Корабль находился в широком канале, вокруг фантасмагория каменных строений. Множество толстых обелисков, тускло–зеленых и ярко–зеленых, высоко поднимали свои вершины. В трех полетах стрелы сзади вздымался монолит, пирамидальный, его заостренная вершина находилась в сотнях футов в воздухе.
И из‑за него выползала черная бирема Кланета!
29. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
Вид корабля, который, как тощая борзая, стремится за ними, подействовал, как вино, на Кентона и на всех остальных.
Над них все еще действовало впечатление только что кончившейся схватки – они лишь мошки, беспомощно танцующие в огне жизненного духа или беспомощно неподвижные в черноте отрицания жизни. Кентон все еще ощущал кладбищенский запах, прикосновение червей к глазам.
Но это – этот корабль черного жреца – это ему знакомо!
Острие меча и острие стелы – смерть, возможно; смерть, пульсирующая, как военный барабан горячая смерть, не менее горячая жизнь – это постижимо, это он знает.
Он слышал золотой негодующий призыв Шарейн, рев Джиджи, крики Сигурда. И он тоже кричал – бросал вызов черному жрецу, насмехался над ним.
Стройный корабль молча сближался с ними.
— Сигурд, к рулю! – способность рассуждать вернулась к Кентону. Направляйся в узкий канал. Такой, в котором мы могли бы грести, а им пришлось бы поднять верхнюю банку весел. Тогда наша скорость сравняется.
Северянин побежал к рулевому веслу. В яме прозвучал свисток надсмотрщика, корабль прыгнул вперед.
Он обогнул обелиски бирема находилась теперь лишь в двух полетах стрелы, и оказался в широком голубом озере, обрамленном сотнями куполов, красными всех оттенков. Бирюзовые протоки текли между математически точными сторонами кубов сотнями каналов, едва позволявших кораблю протиснуться и не задеть веслами берегов.
— Туда! Закричал Кентон. – В любой канал!
Корабль повернул и направился к ближайшему каналу. Сзади просвистела туча стрел с биремы – не долетели на пять длин корабля!
Огромные скалы с мачетеобразными вершинами стояли по обе стороны канала, куда они вошли. На целую милю впереди простирался канал. Пройдя треть этого расстояния, они услышали плеск весел биремы, увидели, как она на одной банке весел сворачивает за ними. Быстрее по приказу Кентона заработали весла; бирема, более тяжелая, чем их корабль, стала отставать.
В это время Кентон и Шарейн провели быстрый совет с Джиджи и Сигурдом на корме корабля.
— Вороны слетаются! – речитативом произнес Сигурд. В глазах его загорались огоньки воинственного безумия. – Воительницы скачут из Валгаллы! Я слышу топот их коней!
— Они могут вернуться с пустыми руками! – воскликнул Кентон. – Нет, Сигурд, у нас есть еще шанс. Никто, кроме Кланета, не учуял нас. Дадим ему бой.
— Нас только семеро, а их на биреме много раз по семеро, Волк, – сказал с сомнением Джиджи, но его маленькие глазки сверкнули.
— Я больше не убегаю от черной свиньи! – горячо воскликнул Кентон. – Я устал от уклонения и укрывания. Давайте сыграем игру сейчас! А что ты думаешь, Шарейн?
— Я думаю то же, что и ты – спокойно ответила она. – Как ты хочешь, так и будет, любимый!
— А ты, северянин? – спросил Джиджи. – Нужно решать – и быстро!
— Я с Волком, – ответил Сигурд. – Лучшей возможности не будет. В старые времена, когда я был хозяином драккара, у нас была хитрость, которую мы использовали, когда нас преследовали. Видели ли вы собаку, к которой оборачивается кошка? Хо! Хо! – захохотал Сигурд. – Быстро бежит кошка, пока ее не загонят в угол. И здесь она прячется, пока пес не пробежит мимо. И тут выпрыгивает кошка, глубоко вонзает когти, выцарапывает глаза, рвет бока. Хо! Хо! – рассмеялся он. – Мы бежим быстро, как кошка, пока не находим место, где можно затаиться. И вот, когда преследователь проплывает мимо, мы выскакиваем из засады; как собака, громко кричит он, когда мы рвем его на части! Хо – найдем такой угол, где мы могли бы подождать, пока адская собака не проползет мимо. И тогда выпрыгнем.
— А тем временем, – спросил, сморщив лицо, Джиджи, – как насчет их стрел?
— Придется полагаться на удачу, – сказал Кентон. – Джиджи, я с Сигурдом, если только ты не предложишь лучший план.
— Нет, – ответил Джиджи, нет, у меня нет плана, Волк, – он приподнял свое большое тело, потряс длинными руками.
— Клянусь святыми адами и Исхаком, их хранителем, – взревел Джиджи, – я тоже устал от бегства! Я убежал от принцессы из‑за своей лысой головы – и что мне это дало? Клянусь Наззуром, поедателем сердец, клянусь Зубраном, – тут голос его смягчился, – который отдал за нас жизнь, больше я не бегу! Занимай свое место, Волк, и ты, Сигурд! Будем драться!
Он, переваливаясь, пошел от них, потом обернулся
— Конец канала близко, – сказал он. – Шарейн, между сердцами твоим и твоих девушек и концами их стрел только мягкие груди и тонкая ткань. Наденьте кольчуги, как наши, наденьте шлемы и ботинки с наголенниками. Я иду надеть еще одну кольчугу и взять свою булаву.
Он спустился по ступеням; Кентон кивнул и вслед за Джиджи велел Шарейн и ее девушкам снять свои одежды и надеть кольчуги, потом оделся сам.
— А после того, как ты срежешь их весла – если, конечно, это удастся? – спросил он, задержавшись возле Сигурда.
— Повернем и протараним их, – ответил Сигурд. – Так мы поступали в старые дни. Наш корабль легче их галеры и может повернуть гораздо быстрее. Когда мы их протараним, вы на носу должны постараться помешать им перебраться к нам на борт. После того, как галера Кланета лишится весел и будет протаранена, мы сможем рвать ее, как кошка.
Конец канала был близок, сзади, на расстоянии в полмили, двигалась бирема.
Из розовой каюты вышли Шарейн и три ее девушки – четыре стройных воина в кольчугах волосы их были скрыты под шлемами кожаные ботинки и наголенники защищали ноги. Они приготовили стрелы на носу и на корме; вместе с Джиджи подготовили к стрельбе самострелы, кремень, масло, бечеву.
Корабль выплыл из канала, задержался на гребущих против движения веслах, пока Кентон и викинг осматривались. Слева и справа двумя большими арками тянулись высокие стены из сплошной красной скалы. Гладкие, неприступные, продолжаясь, они могли бы сомкнуться и образовать круг диаметром в милю или больше. Но смыкаются ли они, Кентону не было видно.
Они вздымались из воды вертикально, а в центре круга, если они действительно образовывали круг, Возвышалась огромная скала, ее острая, как игла, вершина втрое превышала высоту скал, закрывая перспективу. Основанием ее был единый блок, восьмиугольный, в форме звезды. Из центра звезды расходились лучи, длинные и узкие, как титанические крылья, их края высотой в пятьдесят футов и острые, как ножи.
— Идем налево, – сказал Сигурд. – Пусть черный пес знает, куда мы движемся.
Кентон вспрыгнул на крышу каюты, замахал оскорбительно руками, услышал ответные крики.
— Хорошо! – сказал Сигурд. – Теперь пусть придут. Здесь, Волк, мы устроим засаду. Смотри, – корабль проплывал мимо первого луча звезды. – между концами лучей и стеной едва хватит места, чтобы разойтись кораблю с галерой. Камень высок и скроет нас. Да, это место подходит! Но не здесь, не за первым лучом, мы спрячемся. Кланет будет ожидать этого, его галера приплывет медленно и осторожно. И не за вторым – потому что он опять пойдет медленно, хотя и не так медленно, как раньше. Но, не найдя нас там, он поверит, что наша единственная мысль – убежать. Поэтому он пройдет третий луч как можно быстрее. И тут мы прыгнем на него!
— Хорошо! – ответил Кентон и спрыгнул с крыши каюты, стал рядом в Шарейн и Джиджи.
Джиджи выразил одобрение и прошел еще раз проверить самострелы. Но Шарейн обвила руками шею Кентона, прижала его лицо к себе и печальными глазами смотрела на него, не могла насмотреться.
— Это конец, любимый? – прошептала она.
— Для нас не будет конца, о мое сердце, – ответил он.
Так они стояли молча, а мимо проплывал второй луч звезды. И вот они поравнялись с концом третьего, и Сигурд приказал сушить весла. И когда корабль проплыл около ста ярдов, резко развернул его. Он подозвал к себе надсмотрщика.
— Мы ударим по левой банке биремы, – сказал он. – Но я не хочу, чтобы корабль налетел на скалу. Когда я крикну, втяни левые весла. А когда мы срежем их весла и пройдем, пусть рабы опять гребут изо всех сил. Когда протараним бирему, изо всех сил гребите в обратном направлении, чтобы освободиться. Понятно?
Глаза чернокожего сверкнули, он обнажил белые зубы, побежал назад в яму.
Теперь из‑за края камня послышался плеск весел, скрип такелажа. Две девушки подбежали к Сигурду и присели со стрелами наготове у прорезей высоких щитов. Напряжение охватило корабль.
— Один поцелуй, – прошептала Шарейн. Глаза ее затуманились. Губы их слились.
Ближе слышались звуки, ближе, ближе, быстрее…
Негромкий свист викинга, и гребцы согнули спины под ударами бича. Десяток гребков, и корабль, как дельфин, выпрыгнул из‑за луча звезды.
Пролетел острие луча, наклонился, когда викинг резко положил кормовое весло вправо.
Впереди, на расстоянии в десять длин корабля, была бирема, летевшая вперед на четырех многосложных весельных лапах, как гигантский паук. Когда корабль вылетел из засады, шум поднялся на полной людей палубе биремы, крики, звон оружия, дикая смесь команд – и во всем этом шуме изумление.
Весла биремы остановились на середине гребка, они лежали неподвижно, едва касаясь воды.
— Быстрей! – взревел Сигурд, под свист бича он развернул корабль параллельно курсу биремы.
— Суши весла! – заревел он снова.
Нос корабля Иштар ударил весла биремы. Он прошел через них, как лезвие через щетину. Расколотые, поломанные, длинные стволы падали, задерживая корабль Иштар не больше, чем если бы были из соломы. Но на биреме те, что держали эти весла, падали со сломанными спинами и шеями от упавших на них тяжелых ударов.
И с палубы проходящего корабля прямо в ряды солдат, оцепеневших от этого неожиданного нападения, падали огненные стрелы. Свистя, как змеи, разгораясь в полете, огненные шары жгли солдат, они падали на палубу и в открытую яму и все, что могло гореть, загоралось.
Снова на галере послышались крики – на этот раз крики ужаса.
Корабль Иштар освободился, заработали его весла. Упрямо вперед устремился он, в свободное пространство между концом луча и стеной. Здесь викинг опять быстро развернул его. И корабль полетел на бирему.
А бирема беспомощно болталась, как паук, у которого отрезали ноги, и ползла, как тот же паук, к острому, как нож, краю луча звезды. С ее палубы и из трюма поднимались небольшие столбы дыма.
Сигурд понял, в какой опасности бирема, увидел, что ее вот–вот пронзит острый каменный конец, понял, что он может загнать ее на этот конец и тем самым разрезать ее каменным ножом, уничтожить.
— Охраняйте нос! – закричал он.
И, сделав широкий разворот, направил корабль не на корму галеры, как предполагал раньше, а прямо на середину Таран корабля ударил и глубоко вошел в бирему, нос тоже. От удара Кентон и остальные упали, вцепившись в палубу.
От удара бирема вздрогнула, наклонилась, море хлынуло через дальний борт. Весла правого борта пытались оттолкнуть ее от камня. Но галера продолжала сближаться с камнем.
Она ударилась об острый конец скалы.
Камень прорезал борт, послышался треск.
— Хо! – заревел викинг. – Тонете, крысы!
На корабль обрушился дождь стрел. Они свистели вокруг Кентона, пытавшегося встать. Втыкались в палубу, падали в гребную яму. Прежде чем гребцы могли начать грести обратно, высвободить корабль, они падали, свисали со своих весел, пронзенные стрелами.
На нос корабля упал десяток крючьев, намертво прикрепив его к тонущей галере. По веревкам заскользили мечники.
— Назад! Ко мне! – закричал Сигурд.
Бирема задрожала, ее нос опустился, скользнул по скале на десять или больше футов, на палубу хлынула вода. В море плыло множество голов солдат, их уносило в сторону, они плыли к кораблю. На палубе биремы готовились перейти на борт корабля.
— Назад! – закричал Кентон.
Он схватил Шарейн за руку, они побежали, наклонив головы; с места рулевого в поток солдат, приближающихся к розовой каюте, полетели стрелы Сигурда и девушек.
Бирема опустилась еще ниже, нос ее уже был под водой, но ее держал таран корабля. И этот таран наклонился резко вместе с биремой. Палуба корабля наклонилась, Кентон упал, увлекая за собой Шарейн. Он мельком видел людей, прыгавших с биремы в море, плывущих к кораблю.
Он поднялся на ноги, когда солдаты наступали на нос. Мимо него пробежал Джиджи, размахивая своей булавой. Кентон побежал рядом с ним, около него – Шарейн.
— Назад! Назад к Сигурду! – выкрикнул ниневит; его булава колотила солдат, как цеп в жатву.
— Поздно! – воскликнула Шарейн.
Поздно!
По цепям взбирались солдаты, поднимались из моря, срывали щиты. биремы донесся вой, страшный, звериный. При этом звуке даже солдаты замерли, булава Джиджи застыла в воздухе.
На палубу корабля Иштар прыгнул черный жрец!
Бледные глаза полны адским пламенем, рот – квадратное отверстие, из которого кричит черная ненависть, он прорвался сквозь мечников, увернулся от булавы Джиджи и бросился на Кентона.
Но Кентон был готов.
Сверкнуло синее лезвие и встретило удар меча черного жреца. Но меч Кланета оказался быстрее; отдернув его, жрец нанес удар в старую рану на боку.
Кентон пошатнулся, оружие едва не выпало из его рук.
С торжествующим криком Кланет нанес смертельный удар.
Но прежде чем он смог опуститься, между Кентоном и Кланетом оказалась Шарейн, она отразила удар жреца своим мечом.
Взметнулась левая рука черного жреца с зажатым в ней кинжалом. Он глубоко погрузил кинжал в грудь Шарейн.
Весь мир красным пламенем вспыхнул перед глазами Кентона, и это пламя не оставило ничего, кроме лица Кланета. Прежде чем жрец смог шевельнуться, быстрее молнии, ударил Кентон.
Его меч разрубил лицо Кланета, оставив на месте щеки и челюсти красное пятно и прорубил наполовину плечо.
Меч черного жреца звякнул о палубу.
Меч Кентона взлетел вновь – и ударил по шее.
Голова Кланета соскочила с плеч, покатилась к борту и упала в море. Еще мгновение громоздкое тело стояло, из шеи потоком била кровь. Затем тело повалилось.
Но Кентон больше не обращал внимания ни на него, ни на людей с биремы. Он склонился к Шарейн, поднял ее.
— Любимая! – звал он и целовал бледные губы, закрытые глаза. – Вернись ко мне!
Глаза ее открылись, стройные руки попытались приласкать его.
— Любимый! – прошептала Шарейн. – Я… не могу… я буду… ждать… – Голова ее упала на грудь.
Кентон, держа в руках мертвую возлюбленную, осмотрелся. Вокруг него стояли те, что уцелели из экипажа биремы, они молчали, не двигались.
— Сигурд! – крикнул он, не обращая на них внимания. Там, где сражался викинг, лежала лишь груда тел.
— Джиджи! – прошептал Кентон.
Джиджи не было! Там, где он вращал своей булавой, толстый слой трупов.
— Шарейн! Джиджи! Сигурд! – Кентон всхлипнул. – Умерли! Все умерли!
Корабль накренился, дрогнул. Кентон сделал шаг вперед, держа в руках тело Шарейн.
Прозвенел лук, стрела попала ему в бок.
Неважно… пусть его убьют… Шарейн умерла… и Джиджи…
Но почему он больше не чувствует тело Шарейн в своих руках?
И куда исчезли солдаты?
Где корабль?
Вокруг него ничего нет, только тьма – тьма и ревущая буря, которая несет его откуда‑то, из далекого пространства.
Сквозь эту тьму, ища Шарейн, пытаясь нащупать ее руками, летел Кентон.
Качаясь плача от горя и слабости, он открыл глаза…
Он был в своей старой комнате!
30. КОРАБЛЬ УХОДИТ
Кентон стоял в оцепенении, комнату он почти не видел, его скрывали мелькающие картины недавней битвы. Часы ударили трижды.
Три часа! Конечно… в этом мире есть время… не как в мире корабля…
Корабль!
Он, шатаясь, добрался до сияющей загадки, которая дала ему все, чего он желал в жизни – и в конце концов все отняла.
Шарейн!
Вот она лежит… на белой палубе… рядом с гребной ямой… блестящая игрушка, драгоценная кукла с рукоятью крошечного кинжала в груди…
Шарейн, в которой для него была вся радость, вся сладость, все, что может дать жизнь.
Безголовая кукла рядом с ней…
Кланет!
Он посмотрел на черную палубу – но где же все мертвые? У рулевого весла лежали три куколки, одна из них светловолосая, в избитом вооружении… Сигурд и две девушки, сражавшиеся рядом с ним. Но где же солдаты, которых они убили? За безголовым телом черного жреца лежал… Джиджи! Джиджи со своей булавой в руках, с подогнутыми короткими ногами. Убитые им – тоже исчезли!
Джиджи! Рука Кентона оставила Шарейн, погладила его.
Он почувствовал жгучую боль в боку. Упал на колени. Рукой нащупал оперенный конец. Стрела! И вдруг он понял, что жизнь его подходит к концу.
Под его другой рукой корабль задрожал. Он смотрел на него, изумленный. В этот краткий момент нос корабля исчез, растаял – и с ним розовая каюта.
Корабль содрогнулся. Вслед за розовой каютой исчезла черная палуба, вместе с ней – Джиджи.
— Шарейн! – закричал он и крепко сжал куклу. – Любимая!
Корабль разрушался, исчезал, вот за Шарейн только дюйм палубы.
— Шарейн! – завопил Кентон – и слуги в доме проснулись от этого душераздирающего вопля и заторопились к двери.
Из последних сил он сжал пальцы, вырвал игрушку… она высвободилась… она в его руках… он поднес ее к губам…
Теперь ничего не осталось от корабля, только продолговатое основание из лазуритовых волн.
Он знал, что это означает. В глубины странного моря того необычного мира погружалась бирема, а вместе с нею и корабль Иштар. Как живет символ, так живет и корабль – и как живет корабль, так живет и символ.
В дверь застучали, послышались крики. Он не обратил на них внимания.
— Шарейн! – услышали слуги крик, но теперь в этом крике звучала радость.
Кентон упал, поднеся игрушечную женщину к губам, сжимая ее костенеющими пальцами.
Исчезло и основание из волн. На том месте, где находился корабль, что‑то зашевелилось и приобрело форму… большой теневой птицы с серебряными крыльями и грудью, с алыми лапами и клювом. Она взлетела. Повисла над Кентоном.
Голубь Иштар.
Повисла – и исчезла.
Дверь упала; слуги через порог вглядывались в темную комнату.
— Мистер Джон! – дрожащим голосом позвал старый Джевинс. Ответа не было.
— Тут кто‑то есть – на полу! Зажгите свет! – прошептал один из них.
Загорелось электричество и осветило тело, лежавшее лицом вниз на окровавленном ковре, тело в избитой и порванной кольчуге алого цвета, в боку торчит стрела, на одной сильной руке широкий золотой браслет. Они отступили от тела, глядя друг на друга испуганными удивленными глазами.
Один из них, смелее остальных, осторожно приблизился, перевернул тело.
Мертвое лицо Кентона улыбалось им, на нем были мир и великое счастье.
— Мистер Джон! – заплакал старый Джевинс и, наклонившись, положил его голову себе на колени.
— Что это у него в руке? – прошептал слуга. Сжатая рука Кентона была прижата к губам. С трудом они разжали неподвижные пальцы.
Но рука Кентона была… пустой.
1
Пер. О.Румера
(обратно)

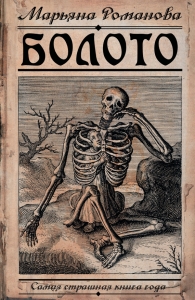

Комментарии к книге «Колесо страха», Абрахам Грэйс Меррит
Всего 0 комментариев