Елена Блонди ТАТУИРО (HOMO)
Глава 1
– Ты готов?
– Да!
И все, кроме ветра, пропало. Плотный воздух обтекал лицо, скользил по коже.
«Летим!» – мелькнула восторженная мысль и сменилась боязливой – «или падаем…». Он напряг зрение, пытаясь разглядеть женщину рядом, но темнота была полной – черный ветер. Сердце сжалось, и тут же – пожатие холодных пальцев.
– Не бойся! Отпусти себя! – дыхание выбивалось из тугого ветра, щекотало ухо. И Витька понял, что надо делать: чувствуя, как закипает кровь, отбросил страх, сжал ее руки. И сразу ускорился полет. Запрокинул голову, смеясь в кромешную тьму. Женщина вторила ему нежным смехом.
Как две рыбы, прильнув друг к другу телами, они кружили в ночном пространстве с немыслимой скоростью. Синхронно изгибались, вонзались в темноту, бросались из стороны в сторону, ныряли вниз и камнем падали – бесконечно долго, чтобы потом, прогнувшись, снова нестись вверх, переплетая пальцы и запрокидывая лица навстречу мраку.
«Ноа!» – мысль становилась ярче, объемнее, переполняя мозг:
«Я знаю имя! Ноа! Н-на Нуи-и Ноа!!!»
* * *
– Эй! Вить! – темнота схлопнулась, оставив вместо себя жиденький серый рассвет, замаячила перед глазами растрепанная голова, – ты чего? Проснись! Мне уходить надо, а сигареты где? Я свои в клубе забыла.
Витька зажмурился, пожалел, что не умеет сворачивать уши. Дура Ирка – такой сон испортила! Лежал, притворяясь спящим, гулко билось сердце. Во рту пересохло.
– Хватит дрыхнуть! Обещал отвезти домой! Мне ж сегодня еще на фотосессию! – в Иркином голосе послышались визгливые нотки.
– Обещал, так отвезу, – в подушку пробубнил Виктор, – дай проснуться.
– Дай-дай! От вас только и слышишь, что дай! Один без денег, другой без машины, ты вот – думала нормальный, а туда же, всю ночь орешь и мычишь! Догоняешься чем-то, что ли?
Витька вздохнул и сел в постели, обнял колени:
– Чего верещишь? С похмелья? Так не надо было вчера с двух рук коньяк хлестать. Тоже мне, декадентка хренова! Нет бы, завтрак с утра приготовить, или кофе!
– Тебе-е? Кофе?!! – Ирка промахнулась помадой мимо губ, – да ты кто такой? Со мной, знаешь, какие люди общаются? И, между прочим, завтрак в постель приносят!
– Ага, только не общаются, кошечка моя, а употребляют.
– С-скотина!! – Ирка, тряся стильными разноцветными кудряшками, подхватила сумочку, рванула дверь спальни. Уперев подбородок в колени, Витька наблюдал за ней с мрачным удовлетворением. Не меняя позы, выслушал, как буйствовала в прихожей – там зазвенело, глухо брякнуло, заныла гитарная струна. Дверь в спальню с треском распахнулась, и мимо кровати снарядом пролетела вычурная бронзовая ваза, сбила табуретку и вместе с ней въехала под стол. Старый паркет украсили выпавшие из вазы старые перчатки и носовые платки.
Входная дверь захлопнулась.
«Умница!» – констатировал. «Не стала высоко кидать, побоялась стенку испортить». Упал на подушку, закрыл глаза и попытался вспомнить, как летал. Не вспоминалось.
Потянулся и снова сел, сбросив одеяло. Рассеянно потер ногу. Под ладонью заболело.
«Татуировка!» – радостно спохватился. Вытянул правую ногу и уставился на подживающий рисунок. Разноцветная змейка обвивалась вокруг голени, захлестнув щиколотку тонким хвостом. Узкая головка почти легла на колено. Осторожно провел пальцем по раздвоенному языку.
– Красавица! – прошептал, разглядывая переливчатую чешую, – прямо живая!
И нахмурился. Кажется, полмесяца назад, когда только вернулся от мастера, головка змейки была немного ниже.
– Ты ползаешь, да? – снова погладил припухший рисунок. Рассмеялся и тряхнул головой. Глупости! Просто, так близко он свою новую татуировку еще не разглядывал. У мастера было слишком больно – невозможно сосредоточиться. А потом начались эти сумасшедшие две недели, и было не до любования.
Он спрыгнул с постели и, не одеваясь, отправился в кухню. Посвистывая, сварил кофе.
Развалился на кухонном диванчике, отхлебнул, обжигаясь. Подумал, и отключил телефон. Обойдутся без него пару часов!
Забавно, еще месяц назад напрочь никому не был нужен, а сейчас!… Поглядывая на огонек телефона, безголосо разрывавшегося на кухонном столе, Витька лениво перебирал в памяти события последних недель.
* * *
Дожив почти до тридцати лет, Витька Саенко был образцом умеренности, если не сказать – усредненности. По утрам, бреясь в маленькой ванной с высоким потолком в рыжих разводах, он рассматривал себя в зеркало и думал, а может быть, так оно и надо? Серые глаза и русые, коротко стриженые волосы, не слишком широкие плечи и не самая атлетическая фигура. Рот как рот, нос как нос. Разве что уши торчат, да и то не слишком. Ничего, в общем, примечательного.
Нормальная внешность, обычные мозги, непыльная работа фотографом в притулившемся на задворках одной из московских улиц НИИ. Но все-таки… Почему какие-то бесталанные, никчемные экземпляры блистают на тусовках, снимают отпадных девиц, зарабатывают денег на тв, а он – профессионал, не дурак, не урод – пустое место?
Больше всего задевало невнимание девиц.
– Харизма, братишка! – ораторствовал его напарник, рыжий и крючконосый Степан, выпроводив поутру из их фотолаборатории очередную длинноногую пассию и щедро подливая в кофе дорогущего коньяку, – угощайся, Лилька вчера две бутылки притаранила. Портфолио делаю, для модельного агентства. О чем я? А, харизма – ты получше меня умеешь бабу посадить-поставить, вон, неплохие портреты заворачиваешь! А идут – ко мне, да! Косяком идут! Вечером в клубе на Ордынке буду, стрелка еще с тремя курочками, портфолио просят. Я бы тебя взял, да сколько можно – две недели таскались по тусовкам без толку. Вареный ты, Витус, какой-то…
…Ну, не знаю я, в чем дело! Ты, может, волосы покрась в зеленый. Или бровь проколи.
– Да что я голубой, что ли…
– Или татуировку сделай! На самом видном месте! Чужого наколи или еще какую хрень!
– Ага! На лбу!
– Ну, не на лбу. …Не знаю. Я ведь так, для примера. Все равно не станешь. Характер не тот. Ну, я, это, отвалю сейчас, ладно? Прикроешь, о`кей?
И Степан убегал, семеня кривыми ногами.
После одной такой беседы, прибирая в лаборатории разбросанный Степкой хлам, Витька нашел маленький флаер. Золотисто-коричневый бумажный прямоугольник, сложное переплетение разноцветного рисунка. Повертев бумажку в руках, красивая… – сунул в карман.
Вечером, в просторной и гулкой кухне, за окном которой фонарь гнул железную шею, заглядывая за провисшую занавеску, вспомнил про рекламку и, под свист красного чайника, поедая из банки фасоль, залюбовался прихотливой вязью. Потянувшись за хлебом, глянул на картинку немного сбоку и прочитал в рисунке слово ТАТУ. Восхитился. Забыл про еду, полчаса вертел бумажку, разглядывая под разными углами. Слово среди ярких завитков то появлялось, то пропадало. А под рисунком, в нижней части флаера, маячила, раздражая глаз, мутноватая точка – как бы дефект печати. Фотограф в нем недовольно морщился, – точка мешала. Хотел прикрыть ее пальцем, но вдруг будто прозрел:
– Что за… Ну и ну! – он понял, что на самом деле это след от прививки, оспина. Теперь он увидел, что флаер – это фотография. Чье-то плечо с золотистым загаром украшено этим изысканно-прихотливым рисунком, – таким тонким, совершенным и нежным. И слово в сердце рисунка продолжало появляться и исчезать.
Вот как должна выглядеть настоящая татуировка! Такую он сделает! Но почему на рекламке нет ни телефона, ни адреса?
Кинулся звонить Степану. Ждать до утра не мог. Трубку сняла очень злая барышня и Витька выяснил, что Степан «свалил на юг, с-скотина, наверняка с Элкой, а договаривались на сегодня, и, вообще, сколько можно ждать фоток!…»
Спать лег поздно, утомившись подставлять флаер под все в доме лампы. Уже засыпая, вспомнил про синюю, с рефлектором, которой когда-то грел простуженное ухо, раскопал ее, пыльную, на антресолях, и еще битый час светил, пытаясь рассмотреть еще что-нибудь, кроме слова ТАТУ. Безуспешно. Зарылся в подушку, жмуря уставшие глаза и злясь.
Ни широкий подоконник снаружи падали первые сухие листья, проводя коготками по жести и звук это был странно слышен поверх городского шума.
Степки не было неделю. Заведующая отделом отвечала на все вопросы ледяным молчанием: как бывало иногда, Степан пропал, не предупредив. Оставалось ждать.
Витька таскал флаер в нагрудном кармане, вынимая и разглядывая картинку каждую свободную минуту. По ночам смотрел в потолок, слушая проволочные шорохи осени, иногда сдобренные крапанием еще теплых дождей. И вставал злой, невыспавшийся.
В один из дней решил показать рекламку Степкиным клиенткам, благо, они заглядывали в лабораторию чуть ли не каждый час. Но, увидев наколотого на загорелом животике очередной барышни дебиловатого дракончика, передумал.
За неделю извелся совершенно, но вернувшийся, наконец, Степан только пожал плечами:
– Какой флаер? Не помню, братишка! У меня этой макулатуры каждую неделю три кило! В день пять презентаций обскакать, плюс показы, плюс открытие клуба…
А-а, ты решился, наконец? Так я тебе подыщу мастера, хочешь? Вон, у Лорика какой дракон на пузике – самый крутой мастер в Москве делал! Лорик, иди к Степе, медвежонок, покажи дяде животик!
Лорик с готовностью показала дяде животик, Витька еле кивнул, и, обиженная невниманием, барышня, надув губки, снова отправилась на хайтековский стул принимать позы.
Вечером он сидел в кухне, ел вареную с чесноком картошку и вертел флаер в руках. На табуретке рядом громоздились кучи рекламных проспектов и глянцевых журналов, придавленные парой роскошно изданных альбомов о татуировках и боди-арте. И нигде ничего похожего! Старался не отчаиваться.
…Телефонный номер приснился ему этой же ночью. Он был изящно вписан в буквы, и Витька долго любовался прихотливой вязью, по которой бежали медленные искры.
Проснувшись и схватившись за карточку, уже изрядно потертую, цифр не увидел. Но не расстроился. Он их помнил.
«Наваждение – так наваждение» – думал, набирая в пять утра телефонный номер. Он так устал, что не удивился и почти не обрадовался, когда трубку подняли.
– Я вас слушаю, – сказала трубка глуховатым голосом.
– Я хочу сделать татуировку. Сегодня.
– Уже решили, какую? – поинтересовался собеседник.
– Нет. Но выберу на месте. Куда приехать?
– А где вы находитесь?
– Метро Преображенская площадь.
– Дайте подумать. У меня сегодня много работы. Может быть, договоримся на завтра?
– Нет.
Возникла пауза. На том конце провода выжидательно молчали, но Витька уже все сказал.
– Хорошо, тогда подъезжайте на Профсоюзную к одиннадцати вечера. Из первого вагона направо, снова направо, подниметесь по лестнице. В двадцать три ноль пять выйдете на площадь, направо в первый переулок и пойдете по правой стороне. Обычным шагом. Через десять минут начинайте смотреть на вывески. Зайдете без звонка.
– Может, скажете адрес?
– Нет.
– Хорошо. А что на вывеске? Я вас точно найду?
В трубке послышался смешок:
– Вы нас уже нашли, – и раздались короткие гудки.
Глава 2
В душном метро Витьку морозило. А поднимаясь по лестнице навстречу ночной свежести бабьего лета, он вспотел. В запасе было еще полчаса и пришлось бродить от одного киоска к другому, изображая заждавшегося любовника под взглядом ночного мента. Боясь расспросов не вовремя, Витька купил несвежих гвоздик в золоченом целлофанчике. Конспирация подействовала – милиционер потерял к нему интерес.
В двадцать три ноль четыре Витька вышел из стеклянной двери, выравнял дыхание, и на ватных ногах двинулся к темным домам. Гвоздики полетели в урну.
Он шел по темному переулку, поглядывая на часы, и маялся, пытаясь сообразить, обычным ли шагом идет. Поверх головы, не для него, светились вечерние окна. Одиноко звучали шаги мимо приткнувшихся к тротуару спящих автомобилей.
…И все-таки он почти пропустил ее. Краем глаза, почти ухом, заметил вспыхнувшую на секунду прихотливую вязь неоновых трубок в узкой черноте между глухих стен. Сердце остановилось вместе с Витькой. Не закончив шаг, он медленно повернулся к темному провалу, вцепясь взглядом в тающий свет. Секунда кончилась, вывеска погасла. Держась глазами за черное пространство, в котором исчезал знакомый рисунок, Витька взялся за рифленые перила. Нащупал ногой ступеньку и стал спускаться по разбитой лесенке, уговаривая себя, что неоновая вспышка не привиделась. Холодное железо высасывало жар из ладони. Неровная стена на каждом шагу толкала в левое плечо, и на рукав сыпались хлопья старой краски.
В тесном закутке у последней ступеньки он замер, нащупывая ладонью кнопку звонка возле бугристой от ржавчины двери. Понимающе кивнул, не найдя ничего. Нашел ручку, потянул и, высоко подняв ногу через невидимый порог, шагнул. Все было так, как надо. Он принимал условия игры. Густая кровь толкалась в виски, во рту пересыхало. Когда же он в последний раз так волновался? Прыгая с парашютом? Скорее, когда первый раз целовался. Нет, когда собирался поцеловаться. Но тогда это длилось недолго…
Ступил в темноту, закрывая за собой входную дверь.
– Эй!– разломив короткое слово непослушным голосом, позвал он, оглядывая полумрак. Из дальней полуоткрытой двери падал неяркий свет, размазываясь по захламленным столам и креслам.
Прокашлялся и повторил:
– Эй, есть кто? Я пришел.
Из темного ущелья между столами на свет вспрыгнул большой кот. Оскользнулся на кипе журналов в кресле, но удержался. Недовольно муркнул и стал вылизывать заднюю лапу, поглядывая на Витьку.
«Буду разговаривать с котом» – подумал Витька, но чья-то фигура заслонила падающий из двери свет. Кот повернул морду, глаза сверкнули разными огнями – красным и зеленым.
– Заходите, я сейчас включу свет, – раздался знакомый глуховатый голос:
– И осторожнее, у нас не убрано.
По-комариному зажужжали лампы и вспыхнули, залив комнату без окон мертвой белизной. Витька заморгал, оглядываясь. Столы, разнокалиберные стулья и кресла. Стеллажи, зеркала, постеры и картины. Все поверхности завалены, – рисунки, раскрытые книги, полуразвернутые чертежи. В неразбериху воткнуты чашки с чем-то недопитым, пузырьки, баночки с краской. На самой высокой пирамиде из книжек – павлинье перо придавлено глиняным черепком.
– Располагайтесь, – высокий мужчина в застиранной футболке с глухим воротом, но с оборванными рукавами, подхватил кипу бумаги с кресла, свалил ее на соседнее. На вид он был чуть постарше Витьки.
– А я только закончил. Клиент ушел минуту назад, и, если позволите, я отдохну, пока оглядитесь. Сядьте.
Витька кивнул, сделал несколько шагов и, усаживаясь, утонул в расшатанном кресле. Теперь книжные завалы были много выше его головы.
– Как у вас тут! – вытягивая шею, он с любопытством рассматривал мешанину.
– Это не мое, – из-за двери отозвался мастер, – здесь иногда художники работают. Книжные. Ну и клиент, опять же, я вам говорил. Такой, знаете, попался, никак не мог выбрать. Вот и набросали бумаг-то.
…Вам с сахаром?
– Да. Я тоже еще не выбрал. Ничего?
– Ну, если вы знаете, чего хотите, проблем не будет, – мастер бережно пронес между столами большую чашку и вручил ее Витьке. Витька с удовольствием принял чашку. Пришел кот, потерся, предупреждая, и вспрыгнул на колени. Помесил передними, улегся, упрятав лапы под грудь, и задремал. Витька осторожно прихлебывал из чашки поверх кота. Мастер ходил между столами с кружкой кофе, одной рукой беря то раскрытую книгу, то рисунок, закрывал, ставил на полку, укладывал в стопки на стеллаже. Иногда ерошил темные волосы и поглядывал на Витьку карими глазами-вишнями.
– Я хоть разомнусь, часов шесть работал. Допьете, на этой стенке можете посмотреть часть работ. И альбом с фото вот здесь, на столе.
Витька дохлебал кофе и осторожно переместил кота в нагретое кресло. Тот затарахтел, не открывая глаз. Мастер отдернул полотняную занавеску, открывая ряд больших снимков, развешанных на стене.
Герои и нелюди, боги и демоны, звери и монстры…. Натюрморты с роскошными бабочками, сидящими на изысканных сосудах прозрачного стекла и чеканного металла…. Непонятные символы и гербы…. Рисунки размером с почтовую марку и вычурные композиции, занимающие всю поверхность руки, бедра, торса. Старинный паровоз с драконьей мордой на чьей-то мускулистой спине. Надписи на знакомых и неизвестных языках.
Взгляд цеплялся за каждый снимок, уже с нетерпением ожидая следующего. И одновременно, не имел сил полностью оторваться от уже пройденного. Мастер наблюдал, улыбаясь. Потом, сжалившись, предложил:
– Давайте по-другому сделаем, – протянул руку под стол и щелкнул тумблером. Комната погрузилась в темноту, оставив подсвеченным только снимок, перед которым стоял Витька. Насмотревшись, он сделал шаг влево, свет погас, и загорелась подсветка у следующей работы.
– Так лучше?
– Д-да, – отозвался Витька, ощущая в темноте скрытое движение образов, символов и предметов на просмотренных снимках. Правое плечо покрылось мурашками.
Вспыхнул следующий снимок и Витька окаменел, рассматривая огненную маску тигра на мужском лице. Полосы пламенели, окаймляя светлые глаза и улыбку-оскал существа, готового на все. Рисунок был, как отражение в стекле, через которое просматривается другое – можно остановиться на одном, и тут же перевести взгляд дальше.
– Это же…
– Гулли Фойл, – подхватил мастер, улыбаясь воспоминанию. Я был рад, что он захотел сделать именно это. Я тоже люблю эту книгу. И этого персонажа.
– Но как он ходит – с таким лицом? Нет, здорово, конечно! Я хотел сказать, где он, ведь о нем бы все говорили?
– Это невидимая татуировка. Мы хотели сделать именно то, о чем написал Бестер. Работали долго. И все получилось. У меня всегда все получается.
– То есть, она появляется, когда он разозлится?
– Или испугается. Или обрадуется. Если вы читали, то знаете.
– Да-а! Послушайте, это гениально! Почему о вас никто не знает?
– Это не нужно. Вы смотрите, смотрите. Время идет.
Где-то наверху, за толстыми стенами старого дома, грохотал, вскрикивая автомобильными клаксонами, прорываясь музыкой из-за освещенных окон, ворочался город. А тут, под несколькими этажами, в подвале с потолком вровень с асфальтом, мурлыкал невидимый кот, сухо щелкал свет перед очередным рисунком, медленно шелестели страницы толстого альбома…
Через час Витька, упершись взглядом в последнюю страницу альбома, набирался смелости сказать мастеру, что он хочет посмотреть все еще раз.
– Вижу, не выбрали, – мягко сказал мастер, – но не переживайте, все придет.
– Понимаете, – Витька захлопнул альбом, – все тут хорошее… Отлично просто. А выбрать не могу.
– Значит, не ваше. Попробуем так. Вы рассказывайте мне, чего вам в этой жизни хочется больше всего на свете, а я буду делать эскизы.
Мастер сел на стол, утвердил на колене, обтянутом рваной джинсой, альбом, положил рядом смятую сигаретную пачку, и – Витька смешался. Угнетала мысль, что он ничуть не лучше предыдущего, который «никак не мог определиться».
И чего хотеть, в самом деле? Всего и много, как все? Все те, не обремененные большим несчастьем, пожирающим желания? А этого ли хочется? …Времени нет на раздумья.
– Подумайте о самом главном. На остальное плюньте.
– Я хочу, – медленно начал Витька. В голове мелькали деньги, женщины, деньги, яхты с белыми парусами, студия, сверкающая софитами, деньги, тьфу – бред какой!
– Я хочу женщину, от которой у меня все время будет кружиться голова. Одну женщину! И – летать, – закончил он упавшим голосом. Помолчал секунду, убедился, что сказал именно то, что хотел, и повторил с вызовом:
– Да, я так хочу!
– Молодец! – отозвался мастер, не поднимая головы от альбома. Темные волосы падали ему на глаза. Он набрасывал эскиз, время от времени сдувая прядь с носа, – вы молодец, не дали сбить себя с толку. Сейчас, один готов. Признайтесь, хотели сначала другого захотеть, да? Того, чего принято, да? Эдакий набор плейбоя?
Витька засмеялся. Поднял кота на руки. Поглаживая кошачий живот, услышал пальцами и коленями, как завелся под теплой шерстью урчальный моторчик:
– Знаете, это все, как в кино. Кровью расписываться не заставите?
– А вам кажется, что я исполняю желания? …Второй готов. Сейчас сделаю третий – и выберете. …Ошибаетесь. Это все психология. Вам же теперь с этой картинкой всю жизнь ходить. Вы должны ее любить, как женщину, нет, как часть себя. Но я не отращиваю вам еще одну руку или ногу. Я проявляю. …Ну вот, готово.
Мастер соскочил со стола и подал первый набросок.
Витька разволновался. На листе он увидел бабочку. Черные бархатные крылья, покрытые витражной мозаикой разных оттенков. Черный с изумрудным, черный с пурпурным отливом, прожилки черного серебра, кайма цвета старого золота – по краю крыльев. Он восхищенно вглядывался в изломанность фрагментов, граница каждого – уже рисунок следующего. Некоторые плоскости небрежно подштрихованы яркими мелками.
– Там будут прозрачные детали, – подсказал мастер. И Витька вдруг увидел, какая она вся хрупкая, его бабочка – просвечивает насквозь! А рисунок крыльев сложился в картинку и позволил увидеть нежный профиль, короткий носик, распахнутый глаз, вьющиеся волосы.
– Феечка! – сказал Витька. Мастер улыбнулся.
– Был такой художник – Муха. Да… Смотрите следующий.
На следующем рисунке прямо на него летела чайка. Ярко-желтые глаза с черной сердцевиной, разинутый в крике клюв. И над все этим – остро изломанные крылья. Черные концы их казались испачканными кровью.
– Ух! – Витька невольно отодвинул рисунок и прищурился, чтобы сбить резкость очертаний.
Казалось, что птица приближается. Атакует. Он обратил внимание, что изображена она чуть сбоку и в повороте. Будто летела мимо, но, увидев его, резко вывернулась, атакуя.
– Видите, – сообщил мастер, – она летит на вас, но голова повернута, чтобы можно было хорошо разглядеть глаз. Посмотрите в глазок внимательно…
Витька всмотрелся, пытаясь избавиться от наваждения, – ему казалось, что птица находится в беспрерывном стремительном движении. И увидел, что зрачок – это крошечный силуэт, стройная фигурка в золоте огромного солнечного диска.
«Она выходит из воды» – подумал Витька. «Она ко мне идет!» – его слегка замутило от все усложняющегося движения – полет, поворот, текучесть воды – все перемещалось, оставаясь на месте. Желудок плавно съехал вниз, вызывая в памяти ощущения детства – большие качели, близкое небо.
Он резко перевернул эскиз. Прижал бумагу ладонью и беспомощно глянул на мастера. Тот курил, смотрел с непонятным выражением. Витька молчал. Мастер приподнял брови и холодновато спросил:
– Что, показывать третий?
– Если можно… – чувствовал себя гадко, но остановиться не мог, и ел глазами изнанку третьего эскиза, который хозяин небрежно прижал локтем к боку, прикуривая следующую сигарету.
Мастер вздохнул, спрыгнул со стола и заходил по захламленным лабиринтам, продолжая держать рисунок под мышкой. Каждый раз, когда он поворачивался, Витька напрягался, надеясь увидеть хоть что-то на изломанном листе.
– Три желания, – раздумчиво проговорил мастер, – три попытки, три дороги, три дочери царя… каким хламом забиты ваши головы! Откуда столько жадности? Вы уверены, что третье самое лучшее! Вы думаете, «чтО он придержал для себя? Что-то неимоверное!» Восхитили мои эскизы, так? Но, не покажи я вам третий, останетесь разочарованы и будете вечно тосковать по тому, чего недополучили. И все потускнеет, станет ненужным. А я, принятый поначалу за гения, стану для вас насмешником за спиной.
Витька слушал, чувствуя, как жар заливает шею, уши, лицо. Он опустил голову, и ему казалось: жар, стекая по носу, начнет капать на пол, прожигая линолеум. Тогда он резко поднял лицо и глянул на мастера:
– Как вас зовут?
– Что? А, да, мы же не познакомились. Я, обычно, не настаиваю на условностях. Люди приходят ко мне только один раз. Продолжения не бывает.
– Да, я это понял! И растерялся! Я же не могу ошибиться! Это же не просто так татуировка, чтоб после еще одну! Поймите! Я фотограф, – образы, тени, линии – профессия. Я восхищен, да. Но хочу, чтоб в самое сердце, понимаете? Вы же сами сказали, спрашивали то есть, чего хочу. Я и хочу… чтоб…
Он замолчал. Снова опустил голову:
– А если своей не найду, не буду делать. Вообще. Клянусь.
Слова упали на истертый линолеум смятыми бумажками. После минутной тишины Витька поднял голову и растерялся, натолкнувшись на взгляд, полный сожаления и понимания.
Мастер покачивал головой, медленно сминая так и не увиденный эскиз. Вздохнул, отбросив бумажный комок, и двинулся к стене с занавеской.
Подойдя, осмотрел старый шкаф, из тех, что бабушки называют «шифоньерчиками», примерился и ухватился с одной стороны.
– Идите, поможете.
Витька с готовностью ухватился за обшарпанную фанеру. Вдвоем они отодвинули ветерана. За ним обнаружился большой лист бумаги, небрежно прикнопленный к стенке.
– Сейчас, – мастер отколупывал кнопки, складывая их в ладонь. Лист зашуршал, свернулся верхней частью и отвалился, и Витька застыл перед открывшимся фотопортретом, намертво приклеенным к старой стене.
Это было черно-белое изображение. Спиной к зрителю сидела обнаженная девушка. Только что сидела ягодицами на пятках и, вот, собралась вставать. Плавно изогнув спину с цепочкой оттененных позвонков, она опиралась пальцами правой руки в пол – просто так, легонько и без напряжения. В правую же сторону наклонена голова – прямые черные волосы, едва доходя до плеч, длинными иглами показывали направление наклона. Округлые ягодицы, уже приподнявшись над ступнями, слегка напряжены. И трогательно, чуть косолапо повернутые ступни с поджатыми пальчиками. Узкие пятки, на черно-белом снимке казавшиеся темнее, чем остальная кожа («она же сидела на них» – подумал, – «они темно-розовые»). Левая рука модели, с отставленным в сторону локтем, пальцами касалась уха, слегка взъерошив в этом месте волосы.
Съедая глазами снимок (за шкафом, не новый, нет ее, нет! В этой жизни, наверное, нет…), не сразу заметил татуировку. Какое тату, если только что он увидел свою женщину!
Множество женщин пытаются уговорить мужчин в сладкий момент после сладкого оргазма – я твоя женщина! И многие мужчины, ощущая неумолимое течение времени – песок меж растопыренных пальцев (а что я смогу через пять-десять-пятнадцать лет?), кивают головой в душной темноте, насыщенной испарениями джунглей – да! Не забыв уточнить про себя – ну, наверное, да….
А сейчас Витька смотрел на эти линии, оттенки, полутона – без всякого «наверное».
Это было то, что напыщенно выделяют большой буквой, жирным курсивом – кто как умеет. Вик знал, что сможет жить дальше и не зачахнет, конечно. Но одновременно знал и что никакие «я – твоя» не обманут его с этого мгновения. И понимание наполнило страдальческой гордостью и восторгом. Впереди жизнь без иллюзий, – но видеть он будет больше.
– Ну? – суховато поинтересовался мастер.
– Сейчас, – неопределенно пробормотал Витька, собираясь с мыслями. И увидел.
Татуировка занимала всю спину. С правого плеча к позвоночнику стекало прихотливо расписанное тулово, чтобы, изогнувшись посреди спины, окантовать сбоку левую ягодицу и, под ней, сужаясь, уйти в пространство между бедрами. Додумывая те части, которые пришлись на живот и грудь (здесь Витьке стало просто нехорошо), он опустил взгляд на левую ногу модели и увидел ожидаемое окончание рисунка – узкий хвост, захлестнувший тонкую щиколотку.
– Они смотрят друг на друга, – шершавым голосом сообщил мастер. И Витька ревниво понял, что тот тоже не может просто смотреть на снимок. Может, поэтому, он задвинут шкафом и закрыт всякой ерундой?
– Ее голова лежит… на левой груди. И, когда она опускает глаза, их взгляды встречаются. И она гладит себя… по узкой голове, по цветной коже. Она и она…
– Хватит, – сказал Витька, – да, я вижу, да, это – мое.
Оба помолчали, собираясь с духом, чтобы перейти на обыденные рельсы обсуждения деталей. Мастер кашлянул.
– Подержите кнопки, – ссыпал Витьке в ладонь прохладные колючки и завозился с упавшим на пол листом.
Потом он прикнопливал непослушный лист, скребя пальцами по Витькиной ладони. Лист сворачивался и тыкал мастера углом в лицо.
Потом они вдвоем задвинули на место шкаф. И мастер увел Витьку в маленькую комнатушку с медицинским креслом, застеленным белым полотном.
– Снимайте брюки, садитесь, – отрывисто сообщил он из угла, склонившись над раковиной умывальника.
Витька, хоть и удивился несколько, но не возражал. Он был спокоен теперь и уверен, – все будет сделано, как надо. С любопытством разглядывал небольшой столик, татуировочную машинку на подставке, вереницу крошечных скляночек с цветными чернилами.
Мастер вернулся от умывальника уже в хорошем расположении духа. Усевшись напротив, взялся руками в тонком латексе за Витькину ногу и утвердил ее перед собой.
– То, что вы увидели – лишь задает направление. Я не буду мучить вас, разрисовывая все тело. Сделаем небольшую змейку, аккуратную, надо только правильно выбрать место…
Он держал ногу сильными ладонями, слегка поворачивая ее перед собой. Взялся за ступню, согнул, подвигал, наблюдая за движением сухожилий и связок. Потянулся за фломастером и уверенными движениями повел линию, объясняя:
– Видите, самый кончик хвоста здесь, от пальцев. Затем через подъем, чуть наискосок – выше косточки выходим на внешнюю сторону икры. Если смотреть сзади, то на икре будет самое широкое место туловища змеи. По диагонали змейка пересечет икру и уйдет, сужаясь, на внутреннюю сторону. И здесь, на передней части – голова. Не так, – он оторвал фломастер и показал над кожей движение вверх, – чтобы не создавать излишней симметрии, а либо вниз головка будет смотреть, либо в сторону и самую малость вверх.
– Да, – сказал Витька, вспомнив о взгляде глаза в глаза девушки и змеи, – если нельзя совсем вверх, то лучше самую малость вверх.
Мастер поднял голову, посмотрел темными глазами на Витьку и улыбнулся:
– Не переживайте. Все будет.
– Я понял.
– Тогда гляньте в зеркало, на рисунок, как это будет. И начнем.
Глава 3
Следующие три часа Витька сидел, иногда ерзая – с разрешения, – чтобы размять затекшие ноги; слушал и рассказывал анекдоты; выяснил, что темные кудри мастера изрядно поредели на макушке; пересчтиал все белые квадраты и круги на потолке; поражался и поражался… (А вы знаете, что человек, нарисовавший знаменитого Чужого, делает тату-рисунки, и любой желающий с деньгами может заказать себе авторского монстра на все бедро или спину? Оказывается, вы можете оставить тату в наследство кому захотите, и тогда кусок вашей разрисованной кожи будет висеть в рамочке на стене у наследников).
Потом они сделали перерыв на кофе и покурили.
И снова над Витькой тонко жужжала машинка и он подбирался от боли, стараясь не показывать этого, когда мастер снова и снова проходил по свежей ссадине, выкладывая разноцветный орнамент.
К концу шестого часа Витька измучился. Мастер тоже через каждые полчаса отрывался, массировал кисти рук, иногда потирал грудь, проводя рукой по застиранной тишотке, поглаживал, будто успокаивал собаку…
«Сердце, что ли?» – …расспрашивать не захотел. Хотел только, чтобы сеанс закончился. Он устал, и ему было больно. И все чаще поглядывал на часы, висевшие на стене комнатки. А часы злорадно показывали вместо времени тягучий сироп.
Наконец, устав так, что – на все наплевать, хотел уже взмолиться – хватит, баста, сколько можно! Но мастер все пикировал и пикировал иглой на израненную кожу, добавляя то тут, то там тончайшие штришки.
Спас телефонный звонок. Мастер извинился и, стягивая перчатку, ушел за дверь.
Витька расслабился, откинул голову на подголовник кресла, лежал, слушая толчки крови под свежим тату.
– Да, – доносилось из-за двери, – а где вы находитесь? Шоссе энтузиастов? Дайте подумать… Угу, так, сегодня подъезжайте на Павелецкий вокзал без четверти полночь. Не надо на машине. Сядете в электричку, но сразу, не задерживаясь, и поезжайте до станции Домодедово. Выйдите из вагона и идите вдоль центральной улицы за зданием вокзала, справа увидите вывеску. Я буду вас ждать. Угу, да… Нет, не думаю… нет, этого нельзя. Не переживайте, вам хватит тех денег, что захватите с собой…
Витька усмехнулся, вспомнив, как, пересчитав наличность, долго смотрел на веер банкнот в руках, потом решительно разделил деньги на две равные части, потом добавил из той, что собирался оставить дома, еще половину. А перед самым выходом вытряс из книги всю оставленную заначку. Да еще и напугал соседа-музыканта, случайно встреченного в подъезде, просьбой дать в долг пару тысяч.
Мастер вернулся, потирая грудь рукой, и Витька почувствовал, что вполне сможет дотерпеть пытку до конца. И еще он испытывал чувство окончательного обладания: теперь тату никто не отберет. Разве что с ногой.
Он воспрянул духом настолько, что почти набрался смелости осторожно поспрашивать у мастера о девушке со змеей. Но не набрался. Выглядел тот неважно – глаза тусклые, от усталости, верно, лоб в испарине. «Все потом. Закончим когда, и, может, будем курить последний раз…»
Закончили неожиданно быстро. Мастер еще минут пятнадцать перехватывал Витькину ногу сильными пальцами, еще разок перевернул его, так сказать, изнанкой вверх, чтобы снова пройтись по икре и встал, потянувшись и заложив руки за голову:
– Ну, вот, собственно, и все…
Витька осторожно перекантовал себя в нормальное положение, стараясь не задевать ногой простыню. И спросил снизу вверх:
– Я могу вставать?
– Да. Идите к зеркалу, гляньте.
Неуклюже – отсидел все, что можно – сполз с кресла и заковылял к большому зеркалу. Ему так не терпелось посмотреть, – что сначала увидел тату, а уж потом только себя – взъерошенного, в перекошенных боксерах и мятой белой футболке.
Яркой припухшей ленточкой змейка обвивала голень. Витька перемялся с ноги на ногу, и с восторгом увидел, как шевельнулся уложенный на нужные мышцы змеиный хвостик.
– Вам нравится?
Витька резко оглянулся, не узнав голоса. На секунду ему показалось, что в комнату вошел кто-то еще. Но это был мастер – посвежевший, с блестящими глазами. Он улыбался. Тоже смотрел на змею, не скрывая восторга:
– Вы видите? Видите – какая? Она – совершенство! Я снова сделал это! Никто не может так – только я! Вы будете просыпаться и здороваться с ней. Потому что она – живая!
Витька стоял вполоборота, неудобно выставив полусогнутую ногу, ошеломленный внезапной переменой в мастере. Тот расхохотался и махнул рукой:
– Не обращайте внимания! Семь часов… Ни единой ошибки. Конечно, исправить всегда можно, перебить аккуратно и все. Любой хороший татуировщик умеет. Но ведь я не просто татуировщик. Вот так-то.
…Нет-нет, погодите. Сейчас, у меня еще есть составчик специальный, надо втереть, пока татушка свежая. Это, чтобы она потом не выцветала на солнце. Вы же летом поедете на моря, купаться будете, загорать.
Говоря это, мастер оттеснил Витьку от зеркала и снова уложил его на кресло. Осторожно подхватил его ногу, установил поудобнее.
– Положите руки на подлокотники, вот так. Откиньтесь.
Витька послушно откинул голову на подоконник и вдруг, в секунду похолодев, услышал металлические щелчки и почувствовал на запястьях холод металла. В голове пронеслись ужасные мысли – винегрет из всех прочитанных и просмотренных хорроров. Самой ясной и оформившейся мыслью была такая «щас этот безумец таки отрежет мне ногу, чтобы его искусство осталось при нем!!!»
Витька дернулся, выворачивая руки.
– Да ладно вам, – приговаривал мастер, ухватывая неразрисованную ногу и прищелкивая ее к креслу, – сейчас отпущу, через минуту. Покричать можете, здесь звукоизоляция хорошая.
Это подействовало. Витька замер, напряженно глядя в белый потолок.
– Объясняю. Раствор едкий. Будет очень больно. Но быстро пройдет – пожжет секунд тридцать и все. Если бы я вас не зафиксировал, не выдержали бы, точно. Я знаю, что говорю. У меня клиенты сбегали в одних трусах, бывало.
– Могли бы сказать, – хрипло сказал Витька, чувствуя, как его начинает трясти.
– Да? Что именно? Садитесь, дружок, я вас немножко прикую? Не смешите!
Голова исчезла, послышался скрип какой-то дверцы, стеклянное звяканье.
– Так, сейчас начну обрабатывать, – и Витьку выгнуло дугой от невыносимой боли. Поверив до этого мастеру на мгновение, сейчас он снова убедился, что попал в руки маньяку, и тот поливает ногу кислотой. Наверняка при этом сладострастно и хищно улыбаясь.
– Если можете, попробуйте не кричать, потом будете этим гордиться…
Витька проглотил дикое «А», бывшее уже у самых зубов. И обозлился. «Даже если помру» – через вату боли подумал он. Но застонал мучительно, скрипя зубами и удерживая крик.
За следующие двадцать секунд Витька многое понял об относительности всего – времени, доброжелательности, веры в человека. Еще через пару секунд боль исчезла. Мгновенно и совершенно. Даже та, которая появилась после набивания.
Это было настолько, настолько хорошо…
– Ну вот, – обыденным голосом сказал мастер, – снимаю зажимы. Бить не будете?
– Не-ет, – выдохнул он вместе с первым щелчком стального браслета. Еще два щелчка – и он сел на смятой простыне, крутя головой.
– Все, экстрим закончен, – улыбаясь, подытожил мастер, – можете одеваться. Чаи, извините, гонять не будем, устал я. А вечером – клиент, вы слышали.
– Ага, – Витька дрожащими руками натягивал брюки. Расспрашивать уже ни о чем не хотелось. Поскорее бы вырваться на свежий воздух. Уйти от всего. Унести на себе татуировку, такую выстраданную.
Мастер сидел на одноногом табурете, слегка покручиваясь, то в одну сторону, то в другую, отталкивался от пола подошвой растоптанного кроссовка. Руки выглядели такими уставшими, что Витька представил себе, как он зубами ставит на плиту чайник.
– Сколько я должен?
Тот пренебрежительно дернул подбородком:
– А-а, сами знаете, сколько. Удивительно, но Витька действительно знал. Он отсчитал большую часть купюр, поколебался, добавил еще две. Вспомнил щелчки браслетов и решительно убрал одну.
Мастер, наблюдая за манипуляциями, улыбался.
– На стол положите. Угу, спасибо. Извините, не провожаю. Дверь только поплотнее. Пожалуй, надо поспать. Не люблю клиентов подряд, но так получилось. Ну, ничего, один всего, потом – перерывчик…
Он говорил монотонно, почти дремотно. Витька стоял на пороге комнатушки, придерживая дверь рукой и, кивая, дожидался паузы, чтобы попрощаться и уйти, наконец.
– Да, – вспомнил, – не мочить или что там еще?
– Нет-нет, раствор знатный, инфекции не страшны. Сейчас кожа будет подживать пару недель. Потом сойдут корочки – полиняет наша красавица. И все – пойман! До конца жизни…
Не открывая глаз, он засмеялся сухим шелестящим смехом.
– Ну, ладно… пошел я. Удачи в работе. Счастливо.
– Идите уж, оба, – мастер повесил голову и сгорбился, похоже заснул прямо на табурете.
Витька вышел в темный зал, прорезанный лучом из каморки, и стал осторожно пробираться к выходу, ощупывая столы и кресла. Муркнул кот и побежал провожать, путаясь между ногами.
– Ты, значит, встречаешь и провожаешь, а хозяин твой на людях рисует. Разделение труда.
Толкнув входную дверь, он наклонился и с удовольствием погладил кота по теплой спине:
– Ну, ладно, встречальщик-провожальщик, прощай. Передавай хозяину спасибо.
Чуть подумал и добавил уверенно:
– От нас обоих.
Он медленно поднялся по ступенькам и пошел в бессолнечное утро, с наслаждением вдыхая и выдыхая тонкий, немного студеный воздух, раглядывая обычный московский переулочек, с желтыми и серыми домами и поредевшие авто у тротуаров. Щеки горели, куртку тащил в руке, размахивая. Шлепнул по спине объехавшую его деваху на роликах.
– Ну, ты! – спела деваха, манерно вильнула попкой и унеслась вперед, громыхая коньками.
С песней внутри и приятно горящей змейкой на ноге, шел в сторону метро, жадно разглядывая редких прохожих, тонувшие в утреннем тумане кроны деревьев, машины у светофора. Наслаждался.
– Эй!
Он повернул голову, не сразу определив, откуда кричат.
– Эй, ты, улыбнутый!
Ничуть не удивился, увидев зализанную перламутром иномарку на перекрестке. Подошел, облокотился на опущенное стекло и ответил большим дымчатым очкам в оправе со стразами, тщательно прорисованным губам и нежному подбородку:
– Да, миледи? Я весь ваш. Но только на сегодня.
– Неужели? А что, все расписано по дням?
– Нет, но я не знаю, чего мне захочется завтра.
Миледи немного подумала, постукивая по баранке роскошным маникюром.
Витька рассматривал ее очки, улыбаясь.
– Занесло по темноте после клуба в эти гавнищи, а кофе хочется. Не ехать же домой в шесть утра, верно?
– Несомненно, мадам. Явившись домой в такую рань, вы рискуете сойти за собственную горничную. Предлагаю – уютная кофейня через улицу – утреннее меню и нежная музыка специально для клабберов. А там – решим.
– Ну, запрыгивай, ковбой.
Витька увалился на переднее сиденье, хлопнул дверцей. Огляделся, достал сигарету. Перед его носом щелкнула сверкающая зажигалка – вся в каменьях. Витька поморщился вкусу хозяйки и с наслаждением затянулся. Усевшись удобно, выпустил дым, повернулся и осмотрел привлекательный профиль. Девушка, глядя на желтый глаз светофора, улыбнулась, почувствовав взгляд и слегка поежилась.
– Я – Виктор.
– Наташа.
Витька протянул руку и дотронулся пальцами до нежной шеи над какими-то черными перьями, по вырезу блузки. Наташа коротко вздохнула.
«Мне теперь все можно» – с ленивым удивлением подумал и положил ладонь на ее колено:
– Поехали, Наташенька.
Светофор загорелся зеленым.
Глава 4
Сумрачный подвальчик, мягкие диваны, почти домашний уют кабинетика, задернутого тяжелой шторой. Запах кофе – такой сильный и обволакивающий, что, казалось, в нем можно утонуть. И почему-то, усыпляющий.
С густым правильным кофе и крошечными пирожными очень хорошо пошел какой-то ликер. Спать расхотелось, и все больше хотелось чего-то еще.
Наташа сняла стрекозиные очки и, то опускала, то вскидывала крашеные ресницы, коротко вздыхая и трогая розовым языком верхнюю губу. Забравшись на диван, она сразу же скинула туфли и подобрала ноги под коротенькую расклешенную юбку. Покрутившись, села по-турецки. Коленки торчали в разные стороны из-под раскинутого подола. Все, вроде бы прикрыто, и руки целомудренно сложены поверх юбки… Но… «Руки я уберу в любой момент» – как бы говорила она. И убирала, – цепляя пальчиками кофейную чашку, поправляя пышные завитки афро-укладки в стиле семидесятых. Прикуривая от подставленной зажигалки, долго не отводила руку, придерживая витькино запястье.
Ленивая беседа вилась сигаретным дымком. Вопросы-ответы – обмануть самих себя, – зыбкий орнамент знакомства. Флер флирта.
Витька наслаждался. Им интересовались, его, похоже, недвусмысленно хотели. И он, как настоящий герой-любовник – не искал слов, попадал в такт, шутил, улыбался тонко. Внимательно следя за охотницей-жертвой, знал: нельзя упустить момент, когда барышне поднадоест флирт и захочется продолжить и усилить. И понимал, даже если упустит, Наташенька не уйдет, вздохнув от его непонятливости, а сама сделает следующий шаг. Но одновременно понимал, что ни ему, ни ей такого развития ситуации не слишком хочется.
«Что-то ты, брат, много сегодня понимаешь, а всего-то полчаса, как зашли».
Нежно гладил Наташины пальчики. Поднял голову и посмотрел в маленькое окошечко, забранное кованой решеткой:
– Наверху уже день. Безжалостное солнце. А мы так уютно продлили ночь, да, принцесса?
Наташа загадочно улыбнулась, в полумраке блеснули зубки. Промолчала, ожидая продолжения
– Но, как ни жаль, нам скоро придется отсюда убегать.
– Почему-у?
– Потому что после клабберов сюда приходит шумный утренний народ на деловые завтраки. Эти скучные клерки, в их скучных костюмах и галстуках. Постные рожи и лаптопы вместо собеседников. Я думаю, нам с ними не по дороге, принцесса.
– И? – предположила принцесса, улыбаясь.
– Все просто. Мы поедем продлевать ночь ко мне.
– Ну-у, я не зна-аю, – девушка старательно изобразила сомнение, – хорошо, но мне нужно позвонить.
Она достала мобильник, выжидательно посмотрела на Витьку.
– Пойду закажу сок, – благородно сказал тот, и полез из-за стола, прихватив куртку, чтобы прикрыть ею живот и все, что ниже.
Вернувшись с двумя высокими стаканами, на минутку остановился за шторой, прислушиваясь:
– Кутя, ну ты же знаешь Таньку, ага, да. Соплями изойдет, будет жаловаться целую неделю. А завтра она свалит в Италию, на месяц, на целый. Посажу ее на самолет и вечером домой. Да, целую в ушко. Вот и молодец, кутеночек. Бай.
Витька представил себе стокилограммового кутеночка лет пятидесяти, увенчанного большими ветвистыми рогами. Замшелыми уже. Нацепил на лицо нежную улыбку и нырнул за штору.
В полутемной прихожей Витькиной однушки они дотискались страстно, роняя ключи, сигареты, сумочку…. Потом Витька оставил «добычу» ожидать сюрприза и помчался задергивать портьеры.
«Хорошо, занавески из профкомплекта лабораторного, свет не пропускают!» Пронесся к окну, попутно что-то распихивая, заталкивая. Какую-то неопознанную на бегу кучу тряпья пнул ногой под кровать.
«Нормально! Нормальненько!» – лихорадочно думал он – «темно, хорошо, что темно! Ванную – проверить, чтобы носков и трусов не валялось, не висело». Мельком вспомнил Степкин неандертальский вопль «мне дадут!!!»
А ведь, точно, дадут. Да еще какая фемина!
– Наташенька, – вполголоса попросил он из-за полуоткрытой двери комнаты, – протяни руку и погаси свет в прихожей.
Щелкнул выключатель, Наташа ойкнула в упавшей на нее темноте. Витька, неслышно ступая, приблизился к девушке почти вплотную. Услышал ее короткое дыхание. «Волнуется» – подумал, улыбаясь.
– Витя? – ее голос чуть дрожал, – ну, ты где? Не пугай меня, я ничего не вижу!
– Вить?!!! – голос зазвенел, – дурак! Я ухожу, открой дверь!
Зашарила руками по темноте, наткнулась на его плечо и вскрикнула, а он схватил, не давая опомниться, стал целовать, стаскивая тонкую маечку с дурацкими перьями.
– Я просто сделал ночь, – шептал по дороге к кровати, останавливаясь, чтобы стащить и уронить на пол юбку, крошечный лифчик с неожиданными железками в ткани, – мы прогнали день и заменили его еще одной ночью. Тебе нравится? Как сладко ты пахнешь!
Наташа помедлила, ошарашенная натиском, и жарко включилась в предложенную игру.
Виктор, подумал, что даже слишком жарко. «Кажется, она испугалась, там, в темноте, по-настоящему» – мелькнула у него мысль.
Нарочная темнота обостряла ощущения, Витька пытался хоть что-то разглядеть, скользил пальцами по ее лицу.
– Я-же-кра-сивая-да-Ви-тя-на-меня-же-смотрят-всег-да! – вплетала девушка ритмично в покачивания, толчки, стискивания, удары и повороты – как бредила – откидываясь и выгибаясь в его руках, – я-хочу-чтоб-ты-по-смот-рел-да-да-да-на-меня-а-а-х!
– Я посмотрю, – шептал Витька, трогая губами край нежного уха. И тут же сламывал ее почти грубо, поворачивал, крепко прихватывал за отведенные локти, думая о том, как беззащитно смотрят вверх невидимые соски. И – опять ласково – проводил по ним ладонью, прихватывал пальцами и, сжимая, слушал, как хрипло вскрикивает она в такт его пальцам.
Ощущая, как нарастает в ней мелкая дрожь, убирал руки в темноту, сталкивал с бедер ее напряженные ягодицы, – мучил немножко. Она вскрикивала снова, на этот раз возмущенно, и пыталась найти в темноте его тело. Вернее, уже не она пыталась, а ее тело жадно искало его.
И, наконец, не давая ему опомниться, с каким-то птичьим почти клекотом, вцепившись мертвой хваткой в его плечи, кинула Витьку навзничь, в одно мгновение оседлала, как амазонка. Толкая в ребра железными коленями и, пригвоздив плечи к простыне закаменевшими пальцами, победно выкрикнула что-то несвязное и уронила голову к его шее. Завитки волос, пахнущие дикой смесью дорогого бальзама и любовного пота, рассыпались по его щеке. Слушая, как сотрясается ее тело, и ослабевает хватка на его ключицах, он поймал волну вслед за ней, продлив и усилив судороги, дергающие их тела.
А потом были огоньки сигарет, рисующие огненные арабески по черному бархату тьмы, тихие разговоры, на этот раз с настоящим интересом друг к другу. Откровения о том, где, как и что было – и потому – мы такие и здесь…. И он узнал, что нежной и юной на вид («не обольщайся, Витюша, мне тридцать в этом году») принцессе есть отчего бояться незнакомцев с неясными намерениями.
– Понимаешь, Витюша, всякое, было, конечно. Но, похоже, природу свою кошкину не переборешь. Ты мне показался таким солнышком простецким – идешь в серости утренней, улыбаешься во весь рот. Я прямо песенку твою услышала, ту, что внутри. А женщины такие – надо взять, чего захотелось. Секс – самая короткая дорожка. Правда, быстро взятое, быстро и уходит. Но зато, синичку в руке подержала.
Она засмеялась, проводя по его телу горячей рукой.
– Да чего там. Увидала красавчика и сразу поплыла. Эстетка, ё-моё.
– Это кого же?
– Да, тебя же!
– Меня-а? Так, пора зажечь какой-нибудь свет. Наташ, ну, какой же я красавчик!
– Давай-давай, зажигай. Только свечей не надо, хорошо? А то я уже всей этой романтикой сыта по уши.
Витька заскрипел кроватью, роняя подушки:
– Не волнуйся, нету свечей. Вот наша лампа Ильича! Увидишь, какой тебе достался красавчик.
Вспыхнувший свет заставил прищуриться, и Витька поспешно подобрал с пола бандану с черепами, накинул на ярко-зеленый плафон.
Наташа лежала на боку, приподняв подбородок, изящно выгнув бедро, в позе, явно подсмотренной в каком-то журнале – Витька закатил глаза. Прыгнул рядом с ней на кровать, повалил и затискал:
– Ну? Чего жмуришься, кошка, ну-ка, смотреть на голого красавца и не моргать!
– Пусти! Пусти же! Вижу!
– Что ты видишь? Глянь, глаза – серые, уши торчат, рот большой.
Она притянула его к себе и обхватила ногами:
– А то и вижу – глазищи – серые, ушки смешные такие и милые – торчат, рот – м-м-м. А живот какой классный!
– Ты и живот на улице успела разглядеть?
– Дурак ты, Витька! Причем тут живот? Ты сам по себе красивый. Весь. Вон, у тебя даже пятки красивые! Дай укусить.
– Не щекотись! – Витька вспомнил о тату и отдернул ногу.
Они скатились с кровати. Валяться на полу было холодно и, в общем, пыльно. Наташа вскочила и потянула его к большому зеркалу. Поставила во весь рост и прижалась сзади, выглядывая из-за его плеча.
– Смотри, глупый, смотри внимательно! – водила руками по его бокам, бедрам, плечам, – смотри, как все хорошо и как всего в меру. И на шею глянь, и на волосы, – она взъерошила его короткие вихры. Чего тебе еще? Бицепсов арнольдовых? Кудрей черных сатанических?
Привстала на цыпочки и закинула ногу ему поперек живота:
– А Наташенька, смотри, как тебе идет, видишь? Двое голых – это так часто бывает красиво! Как в раю, наверное.
– Мы ищем рай, – констатировал Витька, любуясь отражением. Интересно, рыжий Степка тоже красив – голый с какой-нибудь очередной моделькой? Еще вчера успехнулся бы, а сейчас подумал: так и есть. И Кутя, с его годами, животом и какими-то банковскими заботами, тоже, может быть, красив. Если оба в это время счастливы – мужчина и его женщина…
…Придуманная ночь длилась и длилась. Секс был еще и еще. И нежный, и почти жестокий. Поспали, умерев друг у друга в объятиях. И лишь глубокой настоящей ночью, Наташа вздохнула, потянулась к сумочке и достала мобильник.
– Кутенька? – сказала она хрипловатым голосом, – соскучился, милый? Я скоро буду, через пару часиков. Сделаешь мне кофейку, как я люблю, хорошо? Целую тебя.
Разговаривая, гладила Витьку по голове, пробегая пальцами по его лицу. Попрощавшись, повернулась на Витькин мрачный взгляд и вызывающе задрала подбородок:
– Что, судишь? Не надо. Он меня вытащил. Я бы сейчас у трех вокзалов за рюмку водяры минет делала, лимитчица безмозглая. Ничего в моей истории особенного нет. Были амбиции, было дерьмо, теперь вот – папик с деньгами. Иногда думаю, он мне вместо отца послан.
– Инцест, однако, – мрачно подытожил Виктор, осознавая, что не вправе он судить. Тем более не свою женщину:
– Ты глазами не сверкай. А то укушу на прощанье за попу, будешь потом объясняться с Кутей своим.
– Ах, ты!!!
И они успели еще раз, уже просто нежно и спокойно.
Когда за тщательно одетой и причесанной Наташей захлопнулась дверь, голый Витька постоял в прихожей, слушая гудение лифта. Подошел к окну в комнате. Хлопнула дверца и машина отъехала. Посмотрел задумчиво на листок с Наташиным телефоном под лампой. Хотел было скомкать и выбросить в форточку, но устыдился жеста и аккуратно переписал цифры в память мобильника.
Шлепая босыми ногами, прошелся по квартире и включил свет везде – в ванной, в туалете, на кухне, в комнате по всем углам, и – большую нелепую люстру с хрустальными висюльками тоже включил. Подтащил стул к зеркалу, установил спинкой вперед и уселся на вылощенную прохладу старой венской фанеры. Положил подбородок на спинку стула и глянул исподлобья на обнаженного парня, сероглазого, большеротого, с красивыми, оказывается, руками, крепкими коленями… «Да, про пятки не забудь, они тоже красивые» – и расхохотался…
– Кажется, дружок, у тебя действительно начинается новая жизнь! – сказал отражению, припоминая, что татуировку Наташа, похоже, не увидела.
Глава 5
После ухода Витьки мастер не встал. Из темноты бесшумно пришел кот, неодобрительно посмотрел на хозяина и уселся на полу, обернув себя хвостом. Сироп времени капал и, казалось, секунда тянется в тонкую сахарную нитку, чтобы оторваться и кануть, лишь подталкиваемая следующей набухающей каплей.
День за стенами без окон невнятно и однородно шумел.
Через несколько минут коту надоело ждать, он стал тереться об ногу мастера, просительно мурлыча. Человек разлепил глаза:
– Гулять, да? Умаялся, котище? Пойдем, выпущу.
Трудно встал и прошел в темноту большого зала. Обернулся:
– Ну? Ведь просился!
Кот сидел на свету и умывался, пристально глядя на хозяина. Тот оперся рукой на стол, уронив какие-то бумаги. И бережно положил другую руку на грудь.
– Ох, – голос его дрогнул, – лучше бы завтра…
Вздохнул:
– Ну, понял я, понял! Иди, а то не выпущу ведь, придется до вечера куковать.
Кот, удовлетворясь, что послание дошло, потянулся, напряженно отведя назад одну лапу, вторую, и потрусил за хозяином.
Мастер выпустил зверя в шум и неяркое осеннее солнце. Затворил тяжелую дверь и щелкнул замком.
…Большое зеркало еще недавно отражало новорожденную змейку на Витькиной ноге и ликование мастера. Сейчас от ликования не осталось и следа. Глаза потускнели, даже волосы будто свалялись. Он посмотрел на опущенные свои плечи, бессильные руки, на резкие складки в углах рта. И усмехнулся. Заговорил сам с собой.
– Да, что уж, – сказал, снимая через голову застиранную тишотку.
– Не первый раз ведь, – добавил, расстегивая джинсы, стаскивая их вместе с трусами и отшвыривая в угол босой ногой.
– Пройдет, зато потом будет хорошо, – сказал, рассматривая свое худое тело, и расправил плечи.
Бережно провел рукой по рисунку на груди.
Это было похоже и непохоже на татуировку с плаката за шкафом. Змея, захлестнувшая грудь, спину, бедра и ноги мастера, была, пожалуй, побольше и сложнее нарисована. Рисунок захватывал все тело, не касаясь лишь рук и шеи. Взгляд без труда угадывал направление извивов – вокруг поясницы, один виток по диагонали через живот, под левым соском и дальше под рукой – на лопатки. А оттуда – на правое плечо – чтобы свеситься тяжелой переливающейся чешуей на грудь и, вывернув узкую шею, устроить аккуратную голову поперек ключиц – под самым подбородком.
Пристально глядя в зеркало, мастер начал поглаживать черно-зеленое тулово с желтыми, красными, черными, серыми иероглифами. Поводил плечами, как бы справляясь с тяжестью прильнувшего к нему тела, и рисунок оживал, чешуя шевелилась.
В какой-то момент, как всегда упущенный им, сочность и яркость татуировки уже перестала лишь казаться рельефной. Змея стала выпуклой, и он касался пальцами гладкой чешуи, чувствуя, как пульсирует живое под кожей – уже не его кожей.
Рисунок набухал, как гигантская выпирающая вена. Пять минут понадобилось для того, чтобы татуировка стала округлой, почти отдельной мышечной массой другого создания. Почти, но не совсем отдельной. Казалось, человек и змея срослись телами – теплым человеческим и прохладным змеиным. В зеркале было видно, как от тяжести змеи натягивается кожа на груди, и расправляются плечи в попытке переместить центр тяжести.
Змея шевельнулась. Человек охнул и подхватил руками провисающие кольца.
– Ты стала еще больше, – сказал он зеркалу, обращаясь к сверканию темных глаз в тени подбородка, – мне тяжело так.
По кольцам пробежала волна. Мастер запрокинул голову и застонал. Вместе с болью в стоне прозвучало наслаждение. Он нащупал левой рукой продолговатую голову на ключице и стал медленно, по миллиметру, оттягивать ее, отрывая от груди, как бинт, присохший к ране.
По телу змеи пробегали судорожные волны, она как бы помогала человеку, раскачивая свою плоть. И чем больнее становилось мастеру, тем ярче разгорались глаза змеи – блеском темного янтаря.
И вот, со звуком отдираемого пластыря, голова и часть шеи освободилась. Мужчина бережно подхватил ее, продолжая другой рукой потихоньку оттягивать змею. На тех местах, где создание отделилось, осталась полоса из мельчайших капелек крови.
Дальше пошло легче, самая широкая и толстая часть тулова отходила под собственной тяжестью плавно, чуть потрескивая. Освобожденные кольца не падали на пол, а тут же начинали беспрерывное струение, сдвигаясь в стороны, создавая новые изгибы – все более просторные. И, наконец, когда освободился хвост, обвивавший правую ногу, змея задвигалась вся, стремительно меняя свое положение на человеке.
И только узкая голова спокойно лежала в ладони, глядя темными, продолговатыми, не змеиными глазами.
Мастер смотрел на змею, не отрываясь, и по лицу его бежали тени наслаждения, когда извивы струились по неповрежденной коже, страдания, когда серо-желтое брюхо терлось об израненную поверхность.
– Ты пришла…, – покачивая ладонь, он легонько погладил пальцами другой руки плоскую голову.
– Я прихожу всегда. Ты не рад? – ей, конечно, необязательно было открывать пасть.
– Конечно, рад, ты же знаешь. Но я работаю… Думал, придешь завтра. И надолго. Превратишься…
Аккуратная голова змеи поднялась над ладонью, приблизилась, а потом нырнула на плечо, чтобы, проскользив по шее, устроиться у левого уха мастера и там замереть. Он прикрыл глаза и застыл, впитывая прикосновения.
– В этом ты весь, – донесся шепот. «Вессссь» – поймало ухо мастера….
– Ты уже выбрал свои важные вещи…. (вещщщщи)… И мы оба это знаем. Мы с тобой… (ссссс тобой)….
– Да, я знаю. Все давно решено. Но иногда сомневаюсь….
Он замолчал. Змея молчала тоже.
– А ты? Ты никогда не сомневаешься, так?
– Мне сомневаться? Я не умею, ты знаешь (знаешшь). А ты… Твой выбор сделан… (ссссделан)…. – маленькая голова скользнула по шее, по плечу и двинулась, обвивая руку, гипнотизируя человека струящимся перемещением рисунка. Улеглась в ладонь, и человек чуть согнул пальцы, как бы защищая узкую голову, позволяя ей улечься поудобнее.
– Да, но… Ведь можно сомневаться и потом. Правильно ли сделан выбор? А вдруг я уже не хочу? Вдруг хочу другого?
– А ты хочешь? Если хочешь… (хочешшшь)… откажись сегодня и все прекратится.
Человек прикрыл глаза и задумался, покачивая на ладони змеиную голову.
– Я обещал…. – интонация получилась слегка вопросительной, будто он хотел, чтобы его подтолкнули. Туда или сюда.
– Я мог бы сделать эту последнюю работу и потом все бросить…
– Мог бы? – кольца замедлили движение, – не лги себе… (сссебе)… Бросишь? (сссс… шшш…) Ты уже думаешь, что он захочет на себе увидеть, так?
– Да, – мастер покорно кивнул. Вздохнул. И повторил окрепшим голосом, – да! Я уже думаю, прикидываю.
– Предвкушаешь…
– Да. Ты права. Я сделал свой выбор. А этот парень сегодня? Он тоже выбрал? Как я? Ты видела, он сам нашел Ноа!
– Не как ты. Другой мастер. Он не ужален совершенством. Пока нет. И он еще спит (с-спит).
– Он счастливее меня?
– Необязательно, совсем необязательно. Он проснется, скоро. А значит, его счастье отодвинется. Он будет искать, свое. Нам – ждать…
Мастер кивал, соглашаясь. Слушая, подошел к кушетке и, бережно сдвинув кольца тяжелого туловища, улегся. Змея свернулась поверх него, прижав головку к щеке. Поднял руку, погладил чешую:
– Ты не останешься? Не превратишься сегодня?
– Разве ты этого хочешь?… (Ш-ш-ш…) Через несколько часов ты будешь творить.
– Да, наверное, да. Ты уйдешь, я отдохну. Я должен сделать лучше всех. Свою работу.
– Знаю. Я уйду. С-с-скоро. Как всегда – я вернусь. Превращаться. Нам будет хорошо.
Покачиваясь, засмотрелась в полузакрытые глаза человека:
– Поссспи. Все хорошо. Ты ведь сам сотворил меня.
Мастер вздохнул, улыбнулся. Поднял руку и мягко притянул змеиную голову к губам. Сухой прохладой скользнула по ним блестящая чешуя. Заснул, уже не чувствуя, как ползет по нему змеиное туловище, укладываясь кольцами по груди, животу. Во сне он несколько раз повернулся, позволяя рисунку обвить бедра, спину и ногу.
Через полчаса на месте красных запекшихся полос на человеке красовалась татуировка – большая, длинная, красивая змея, свернувшаяся кольцами по всему его худому телу. Везде – кроме шеи и рук.
Глава 6
– Где тебя носит, – рявкнул утром Степан, таща гигантский софит, который обычно коротал время в углу – ненужный и пыльный.
– Я спал! – Виктор улыбнулся, вспомнив, как и сколько раз.
– Спал-спал! – передразнил напарник, ворочая лампу, – ты нужен, во как! – И заорал на лаборантку, – иди уже, чудо! Толку от тебя!
Девочка вздрогнула и ушуршала, взмахнув полами белого халатика.
Витька бросил куртку на спинку кресла и устроился в нем, положив ногу на ногу:
– О чем шум?
– Таньку помнишь? Ну, я в прошлом году снимал? Которая Тина Тин теперь?
Степка нервно затанцевал вокруг софита – подкручивая, выравнивая, направляя.
– Да я ее и не видел толком. Мыша, по-моему, полная.
– Мыша-мыша! – Степка взволновался, – вот тебе и мыша! Она ж теперь по всем конкурсам призы собирает, певица, блин!
Он запустил руки в рыжие патлы и забегал по студии:
– Ну, дурак я был, дурак! Кто знал, что она так вскарабкается? Был бы сейчас, ну не кум королю, но – звезде любовник! Трахнул два разочка, так она месяц за мной бегала – «Степушка, любимый». Прятался в студии, помнишь, за диваном?
– Точно, вспомнил! Жалко ее было – серенькая, несчастная, в очечках. Ты пыльный вылез, в паутине. Козел ты, Степка… А ты и не хвастался, что Тина Тин та самая мыша.
Степка остановился посреди студии и, как бы позируя, воздел к потолку конопатые руки:
– Чем хвастаться? Что я такую телку пропустил? Ты ее по телеку видел? Сплошные норки и мерсы, блин!
– Стоп! Не факт, что с тобой она бы карьеру сделала. Вот ты ее послал и, получается, в нужном направлении. Придал ускорение.
– Ага, вот ты ей и объясни. Чтоб не съела меня с английским завтраком. Она сюда на съемку едет!
Степка безумными глазами окинул захламленный зальчик, шторы, картонные от грязи по краям, кучу старых фотоплакатов у стены. И подытожил умирающим голосом:
– Оййй, бля-а-а….
Витька уютнее устроился в кресле:
– Ага, попал, дружок! И чего она про тебя вспомнила? У нее теперь самые крутые фотографы.
– Да я, чтоб отвязаться тогда, пообещал ей полноценную фотосессию. Одну. В любое время, когда захочет. Вот, и…
– Поплясать на твоей могилке захотела? Приехала королева к заштатному фотографу.
– Слушай, не рви душу. Нытье-нытьем, а отработать надо. Не сиди, посуетись!
– Ага, – согласился Витька, не вставая, – суечусь. Мысленно. Не боись, брат, обойдется. Когда все кончится, накатим по коньячку. Идут, между прочим.
В коридоре уже слышался топот.
«Свита», подумал Витька, наблюдая из кресла надувных дядей в черных футболках с логотипом из сплетенных букв Т на груди. Дяди упруго пробежались по зальчику, заглядывая в углы и за старый продавленный диван – тот самый. Степка потел рядом с софитом, опустив руки по швам.
«Королева», отметил Витька. В дверях показалась тонкая девица. Ее блестящие от геля волосы змеились по меховой накидке, – декольтированной, с рукавами по локоть – изысканная, подчеркнуто непрактичная вещь. Высокомерно задранный подбородок, сверкающее колье на белой груди, блестящий конвертик-сумочка в ухоженной лапке. Джинсы с разодранной коленкой – долларов за пару тысяч.
«Эк тебя дизайнеры завинегретили, дурочку!», подумал Витька.
Звезда остановилась посреди комнаты, медленно оглядывая ее, подчеркнуто не замечая потеющего Степана. За спиной красавицы человек пять – стайкой, на подхвате, с бутылочками минералки перье, с чемоданом косметики, с пухло укутанными белым одежными вешалками.
– Э-э, – набрался храбрости бывший покоритель провинциальной дурочки, – здравствуй, Танечка. Как твои дела?
Экс-Танечка соизволила перевести взгляд на Степку. Смерила его взглядом. Медленно повернула голову к свите. И улыбнулась, изогнув бровь. Включенные этой улыбкой, послышались смешки.
Снова глянула на Степана. И – слегка пожала плечиком.
Народ в голос расхохотался. Степка краснел волной от макушки до шеи, и Витька увидел, как из-под коротких рукавов старой футболки покраснели его руки – до кончиков пальцев.
Нелепость вопроса была так обыграна маленькой, но явно талантливой стервой, что Витька, не удержавшись, захохотал со всеми.
– Степушка, любимый, – дождавшись паузы в общем веселье, обратилась бывшая мыша к экс-покорителю, – время дорого, котик! Давай работать!
Омахнув Степку пушистой меховой полой, стремительно прошла к дивану и скинула на облезлую обивку свою шкурку, оставшись в микроскопической маечке цвета собственной незагорелой кожи.
Села рядом, погладила обивку, очаровательно сморщив носик, и выжидательно уставилась на Степку:
– Ну?
Медленно закинула ногу на ногу, копируя Шарон Стоун.
«Надо спасать», подумал Витька. Поднялся с кресла и пошел к софиту, у которого пребывал в ступоре напарник. Поправляя лампу, чувствительно заехал тому локтем в бок. И посмотрел в глаза.
– Работай, псище, – прошептал и с удовлетворением увидел, что глаза Степкины приобретают осмысленное выражение.
– Это еще кто? – недовольно вопросила дива. И двое одинаковых в черных майках подскочили, готовясь изгнать постороннего.
«Ага», сообразил Витька, «не узнает, типа, мстит, за то, что я тогда ее выставил. Ну, ладно, подыграем.»
– Осветитель я, – робко сказал, держась за софит, – практикант у мастера. Из, э-э, Джанкоя приехал. Учусь.
– Оставьте, – разрешила королева чернофутболочникам, – пусть поучится.
Оклемавшийся Степка кругами заходил по залу, то ускоряя, то замедляя шаги. Подбегал к дивану, брал диву за подбородок, вертя лицо в разные стороны, отскакивал, не отводя глаз.
– Угу-угу, – бормотал он. Отчаяние из глаз не ушло, но он явно работал, увлекся, и, похоже, думать забыл о постыдном начале фотосессии.
Сбегал за аппаратурой, и работа закипела.
Тин царила. Падала на диван, закинув ножку на изголовье. Садилась, широко разведя коленки и, свесив черные пряди волос, хищно скалилась в камеру, что ей шло чрезвычайно. Пряталась за спинку дивана, выставив носик и сверкая темными глазищами, ухватывалась за обивку, веером по-лягушачьи расставляя ухоженные пальчики. Сползала на пол, скрестив ноги, и, обессиленно откинувшись, грустно глядела прямо перед собой.
Пять раз переодевалась, не стесняясь показывать острые маленькие груди и узкие бедра с полоской прозрачных сетчатых трусиков. Один из сосков был проколот колечком с бриллиантом.
Дважды отдыхала на том же диване, запивая протеиновый коктейль минералкой.
«А ведь работает девка!», восхищенно думал Витька, бегом перенося свет, волоча и укладывая шнуры и кабели, «Да как работает! Такая всего добьется. Даже Степку забыла доесть, настолько ответственно пашет. Ну, закончит пахать, обязательно вспомнит.»
Наконец, все выдохлись. Перешучиваясь, свита споро собрала вещи и выстроилась, ожидая команды отбыть.
Тина Тин не торопилась подниматься с дивана. Сидела, задумчиво поглаживая древний гобелен, думала. Придавила рукой выпирающую пружину, отпустила. Послушала, как та заныла. Улыбнулась, но тут же нахмурилась. И нашла глазами Степана.
Витька подумал о том, что ведь на этом самом диване имел ее когда-то непутевый любовник. И синяки на узких бедрах от этой вот пружины неделю потом сходили.
– Ну, Степушка, – звенящим голосом начала Татьяна. Но не закончила.
– Э-э, – вклинился Витька, – я, это, попросить хотел…
Он подбежал, загородив Степана. Прижал руки к груди и завертел головой, засматривая в лица девушке и другу:
– Это, а можно мне, а? Немного совсем, кадров десять! А то, когда еще такой случай!
Она удивленно расширила глаза, и Витька убедился, помнит она его прекрасно. Поежился, вот тебе и серый незаметный. Но, начав игру сама, королева вынуждена была ее продолжить.
– Ну, что ж, твоя правда, я тут больше не появлюсь. Давай, действуй. Десять минут у тебя.
– Ага, десяти хватит! Я быстро! – радостно отозвался Витька и унесся в лаборантскую.
Гремя старыми бачками для проявки, он рылся на полке, сам не зная, что ищет. Встав на цыпочки, потянулся вглубь и вдруг охнул. Мышцы икры задергало, как рану под бинтами. Витька нагнулся и, продолжая оглядывать полки, крепко потер ногу через джинсы.
– Некогда, некогда, потом, – бормотал он. Подтащил табурет, забрался и, наконец, извлек из дальнего угла старенькую пластмассовую «мыльницу».
Спрыгнул, покрутил в руках. Ага, пленка есть, и батарейки работают. Сколько же лет ей – год, два?
Махнул рукой, так и не припомнив, когда именно он, прикупив роскошный по тем временам свой первый цифровик, закинул старый фотоаппарат на полку, даже не потрудившись проявить отщелканный десяток кадров.
Увидев простенькую камеру, дива высокомерно фыркнула.
А он, подбежав, рванул ее за руку и швырнул перед собой на колени.
– Ты!!! – задохнулась от возмущения девушка, опираясь рукой в пол, изогнувшись в попытке вскочить.
Щелк. Щелк. Щелк.
Вспышка отразилась в широко раскрытых темных глазах. Тина Тин ахнула и прикрыла лицо рукой. На щеках выступили неровные красные пятна.
– Глаза у тебя – темный янтарь, – негромко сказал Виктор и, удерживая аппарат одной рукой – палец на кнопке, упал на колени, подхватив диву под гибкую спину – помочь подняться. Дождался, когда она обопрется на его руку, шаря за спиной в поисках опоры. И – одним движением бросил на пол, нависнув над ней. Жадно глядел, как дрожат четко прорисованные губы. Прижал ее грудь левой рукой и откинулся дальше, направляя объектив.
Щелк. Щелк. Щелк.
– Лолитины грудки. Маленькие. Правильная девочка, без силикона.
Легко вскочил, краем глаза видя суету охраны вокруг и слыша Степкины вопли:
– Не трогать, бля! Работает!
Снова упав на колени, сгреб горстью нагеленные змеи волос, запутал в них руку покрепче, змеем нырнул к розовому ушку:
– Хочешь стать настоящей звездой? Дай отмашку своим бугаям, быстро! Четыре кадра осталось!
И затаил дыхание. Секунда. Другая…
Шевельнулась на его затылке узкая ладонь:
– Мы. Работаем, – раздался ее сломанный голос, – стоять, нормально!
Свита, привыкнув ко всякому – шоу-бизнес! – успокоилась.
Витька тут же забыл обо всем, что за спиной. Выпутал руку из темных прядей и медленно, любуясь, разложил их веером по затоптанному полу. Провел пальцами по нежной щеке до уголка губ. Тина беспомощно, по-детски смотрела на него снизу.
…Подцепил пальцем лямочку прозрачной майки и потащил с плеча. Тронул колечко в соске.
Тина сжавшись, попыталась отвернуть лицо. Прикусила губу.
Щелк. Щелк.
Профиль на фоне разбросанных волос.
Неловко выворачивая ткань изнанкой, он вернул майку на место. Вскочил, не отрывая взгляда:
– Можешь вставать, – сказал сверху.
Тина зашарила руками по полу, оперлась. И в это время Витька наступил ей на волосы ногой.
Уже почти встав, она подранком забилась, выгибая спину и пытаясь удержаться на ладонях, упертых в пол. Лицо запрокинуто, нижняя губа закушена, жилка на открытой шее…
Щелк.
«На кадре будет виден кусок кроссовка у самой головы», с отстраненным удовлетворением подумал Витька. Убрал ногу с волос. Поспешно отступил на пару шагов.
Девушка взвилась с пола. Разъяренная, с горящими злобой глазами, размахнулась тонкой рукой и кинулась на Витьку.
Звякнуло под каблуком туфельки упавшее колье.
Щелк.
Витька бросил аппарат на диван и выставил перед собой руки, ловя, не давая добраться, расцарапать лицо.
– Ну-ну-ну, – успокаивающе приговаривал, уворачиваясь, – все уже, все.
Тина всхлипнула, плечи ее обмякли. Махнула рукой и, повернувшись, побрела к дивану. Повалилась на него ничком и зарыдала в голос, завесив лицо растрепанными волосами.
Степан, боязливо обойдя Витьку по широкой дуге, присел рядом. Стал гладить вздрагивающие плечи, темные волосы.
– Ну-ну-ну, – бормотал он ей те же слова, что и Витька, не замечая этого, – ну все уже, Танюшка, все. Успокойся, девочка, ну, хватит.
– Да-а-а, – пожаловалась и дернула плечом. Почему-то было понятно, что дернула обвиняюще, в Витькину сторону. И сквозь рыдания задышала прерывисто, успокаиваясь.
– А полу-у-учится-а-а? – вопросила, не поднимая головы, уткнувшись лицом в сгиб локтя.
– Конечно! – поспешил успокоить ее Степан, продолжая гладить затылок. И испепелил Витьку взглядом.
Витька закивал и показал Степке большой палец. Сел в кресло и потянулся, закинув руки за голову. Прикрыл глаза. Слушал Степкино бормотание, Тинкины всхлипы – все реже и реже. Вот процокала мимо визажистка со своим волшебным чемоданчиком, обходя кресло подальше.
Через две минуты, вернув прежнее высокомерие, дива направилась к выходу, отрывисто обговаривая со Степаном детали сессии. На Витьку не посмотрела.
Но у самых дверей не удержалась. Повернулась и процедила сквозь зубы, сузив глаза:
– Не получится, уничтожу…
– Да, да! – закивал Витька, улыбаясь. И послал воздушный поцелуй.
Стало тихо. В окно, на поводке желтого луча, билась сонная муха.
Витька сидел, наблюдая, как Степан курсирует по зальчику, бесцельно перенося с места на место кипы старой бумаги, мотки шнуров. Молчали. Степан – укоризненно, Витька – благодушно.
– Ну…, – собрался начать разговор Витька. И Степка взорвался:
– Ну, ну! Что, ну? С-скотина! Ты чего сделал, пакость такая! Ты же мне, блин, всю карьеру испоганил! Она же теперь! Эхх!
И безнадежно махнул свободной рукой. Подумал, взъярился снова и с силой швырнул в стену отражатель из старого зонтика. Со стены с грохотом упала деревянная рама. Заныли пружины в брюхе старого дивана.
Степка диковато глянул на диван, скривился и, подбежав, плюхнулся на продавленное сиденье. Упер руки в колени и уткнулся в кулаки подбородком.
– Девочку жалко, – невнятно и тоскливо сказал он, – унизил.
Витька сорвался с кресла и заходил взад-вперед по залу.
– А ты не жалей. Год назад ты ее унизил куда больше. Скотина, говоришь? Пленочку прояви сегодня же. И учти, мой эксклюзив. Все переговоры – со мной. А проявишь, тогда и поговорим, кто кого унизил и кто кому карьеру сломал.
Остановился перед Степаном и посмотрел на рыжую макушку:
– Карьера! Ты ее хочешь, карьеру? Ты хочешь спокойно и радостно жить, трахая девок, и по тусовкам слоняться. Коньяк наш где?
– В лаборантской, – пробубнил Степка, – зря ты так, про меня. Я ж с тобой хорошо. У нас так хорошо все было. Ровно.
– Ну, ровно. Я тут недавно, Степа, одну вещь понял. Говно это ровно. Если ровно, значит – вниз. А выбирать надо, Степа, или вверх, или вниз.
Он сходил в лаборантскую, налил из початой бутылки коньяку и вернулся к другу. Сунул стакан куда-то под рыжие кудри:
– На, герой-любовник. И пленку прояви, не тяни резину. Я утром появлюсь.
– И куда тебя понесет, интересно? – Степан выпил залпом, перекосив тоскливое лицо.
Витька у окна отпил глоток и поставил стакан на подоконник. Засмотрелся на огненный дикий виноград, лезущий по козырькам подъездов.
– В ботанический сад поеду. Гулять. За вдохновением.
– Вот, бля, – подытожил Степан, провожая взглядом Витькину спину. Сходил к подоконнику, допил коньяк из его стакана. И пошел проявлять пленку.
… Нагулявшись среди пенсионеров, антикварными пешками ходившими по дорожкам парка, насмотревшись на листья, ветки, стволы, камни и жухлую траву, Витька попал домой поздно вечером. Уставший, с трудом разделся и упал ничком на измятые простыни. Ткнулся носом в тающий запах Наташиных духов. Уже засыпая, изогнулся и снова крепко потер ноющую икру.
Ночью, во сне, первый раз полетел…
Глава 7
Витька ехал в вагоне метро, глядя в черное стекло. Если покачать головой, то отражение, перетекая, вытягивает челюсть, раздает в стороны скулы, скашивает глаза. Попытался найти положение головы, при котором отражение будет более-менее симпатичным. Почти нашел, но обширная спина заслонила стекло. Грузная тетка, вся в черной коже – даже кепи матово поблескивает на пышной прическе. Он прикрыл глаза. Вспомнил американский ужастик про огромных тараканов. Да-да, как раз в метрополитене они и водились. А вдруг это и не тараканы вовсе, а такие тетки в своих колом стоящих длиннющих кожанах, тем более, что цвета – черный да темно-коричневый, как раз самое оно.
Покачиваясь, представлял темный тоннель, по которому снуют перебежками кожаные тетки, поджидая неосторожного пассажира. Что же они там с ними делают, в черном зеве тоннеля, где капает сверху медленная вода? Пусть они их едят, но не просто, а, как настоящие хозяйки, маринуют или мелко рубят для салата оливье.
Потом шел пешком, щурясь на мокрые взблески осеннего солнца. Неожиданное солнце – выглядывает, никого не предупреждая. Смотрел на синий глаз неба в прорывах ватных облаков за домами. Небу, наверное, тоже интересно смотреть на землю. Как из иллюминатора самолета. Маленькие домики, дороги; озера и реки сверкают так яростно, будто сделаны из фольги, кажется, даже края у них приподняты над землей. Небо, может быть, забывает, как именно выглядит земля, когда она долго спрятана под облачным одеялом.
Он видел кадры! Вот же, вот!
Голова регулировщика над крышами автомобилей, он будто тонет в металлической реке с выражением лица человека, не успевшего додумать очень длинную мысль.
Крошечная девочка в оранжевой куртке на фоне киоска с мороженым ест эскимо. А на киоске нарисовано то же эскимо размером в два раз поболе девочки – с глазами и раззявленным ртом, – того и гляди, само ее съест.
Две бабки на остановке склонились над раскрытой сумкой и хвастаются покупками, – одна растянула на ладонях белоснежные трусы великанского размера, другая щупает их с интересом и уважением.
Витька дернулся от охотничьего азарта. Махнул рукой в легком отчаянии – эх, балда лопоухая, что ж пошел без камеры! И, одновременно с острой болью в икре, вдруг остановился, хватаясь за воздух растопыренными пальцами.
Кадры-кадры-кадры обступали со всех сторон. Вселенная перестроилась и обрушила на него бесконечное множество составляющих. Заключенные в невидимые рамки, снимки перетекали один в другой, плыли, скакали, выстраивались и кидались в глаза, чтобы тут же, отпрянув, показать перспективу, поймать рамкой кусок неба с искрой самолета, набухшее водянкой колено тучи, что присела на высотку, неожиданное дерево, альпинистом торчащее на далекой недостроенной крыше.
Витька шел, не успевая за миром. Взглядывая вниз, отводил глаза, боясь утонуть в рассыпанном под ногами великолепии – ржавый лист прилип к мокрому асфальту рядом с окурком в алой помаде, нежная щетинка юной и глупой травы, которую вытянуло за вихры из-под бордюра осеннее солнце; иглой сверкнувший осколок зеленого стекла, отбросивший кисейную тень на сонную бабочку…
И тогда он засмеялся. Пошел дальше, – быстро, уже не боясь, открывая глаза широко, чтобы больше съесть, вобрать, выпить и – опьянеть от увиденного. Какая разница, есть у него сейчас фотоаппарат или нет! Он – видит! А всех снимков все равно не переделать. Пусть живут и летают.
В ботаническом саду ходил долго и медленно. Задирал голову, смотрел на старую кору больших деревьев. На гроздья разноцветных листьев, отягощенные недавним дождем. Останавливался на дорожках и смотрел вдаль, очарованный плавной сменой кадров. Вот пустая дорожка, только цветные листья на разном расстоянии от него пальцами и ладонями свисают из-за границ кадра, и глаз перебирается по ним вдаль, как по камням в воде – с одного на другой. А вот вдалеке – парочка стариков. Зонтик-трость у него, собачий поводок у нее. Старик длинный, худой, сгорбленный, старушка маленькая и круглая. И такса – хвост саблей – боевая, упругая, яркое пятно на фоне черных силуэтов. А вот, когда пенсионеры подошли ближе, вдалеке за ними силуэтом – парочка обнявшись.
Левый нижний угол – крупным планом два старых лица в морщинах, а далеко, ох, как же далеко от них нынешних, справа вверху – тонкие, слившиеся, на четырех рядом идущих молодых ногах…
Витька свернул на тропинку и пошел вглубь парка. Голуби, взлетая, чертили в воздухе невидимые плоскости, изредка дрожал большой лист, уронив тяжелую каплю. Он осторожно обошел сидящую на корточках девочку, не отрывая глаз от черных рассыпанных по плечам прядей и от белой ладошки, выступаюшей на кадре из-под глянцевого веера волос, на фоне крупных сероватых зерен. Девочка рисовала веточкой на песке.
За черными кривыми стволами сверкнула фольгой вода. Уже осенняя, потому и блестит тяжело, без прозрачности.
Вышел к небольшому озерцу, аккуратно заключенному в берега из камня-дикаря. Тропки, что пробрались между камней, походили на змеек, окунувших головы в воду. Деревья, не решаясь подступить ближе, свешивали руки с множеством темных пальцев, глядя на змей и на воду.
Посреди водоема на островке стоял домик-хижина. Нарочито старый, под тростниковой крышей. Грубая деревянная дверь – чуть приоткрыта. Черная полоса нутра режет глаз бархатной лентой.
От Витькиных ног, продолжая тропинку, в воде – плоские камни на расстоянии шага друг от друга – туда, к хижине, к приоткрытой двери. Витька засмотрелся на первый камень, любуясь тонкими тенями, проложенными аккуратно вдоль каждого уступчика на поверхности, глядя на густеющую прозрачность, что утягивала взгляд в глубину, вдоль каменной грани.
За спиной прочирикала птица, что-то спросив. И, вплетаясь в вопрос, – скрип плашмя лег на спокойную воду.
Витька оторвал взгляд от мокрых камней, с усилием, как полоску липкой ленты. И увидел, дверь в хижину распахнута.
Внутри – чернота. Взгляд падал внутрь и барахтался, не в силах выбраться обратно. Хоть что-то разглядеть бы! …Вот! В пол удара сердца он успел увидеть подошву кроссовка – кто-то вошел. Входил, продолжая движение, разбивая иллюзию плотности, превращая ее в темную пустоту, наполненную присутствием человека.
Сжал кулаки, чувствуя, как ногти кусают мякоть ладоней. В голове всплыло Степкино ликующее «кадррр дня!!!». Да, это был бы настоящий кадр дня. Может быть, даже недели. Или всей его карьеры.
Рамки в рамках. Квадратная рамка снимка, в которую заключена неровно-округлая рама озера, в которой – черный прямоугольник проема, что служит рамой для незримого живого, там, в сердце пустоты – сгусток человеческого тепла. И маленький кусочек светлой подошвы – движение в тихой осенней неподвижности – доказательство наполненности черного нутра.
Но камеры не было. И он, вздохнув, снял сердцем и памятью глаз. Мельком подумал о том, что, вспоминая увиденное, будет одновременно слышать этот вопрос птицы, скрип дерева над водой и чувствовать чайный запах намокшей привяленной листвы.
Подошва исчезла. Кто-то, войдя, а как он вошел так незаметно? Или с другой стороны есть еще дорожка из камней, а Витька так засмотрелся на воду, что и не увидел, как человек обошел хижину и открыл дверь? И этот кто-то, войдя, остался там.
Витька стоял, пытаясь увидеть. Снова что-то спросила птица. Мягко захлопали крылья голубей за спиной. Звуки вращались, приближаясь и удаляясь – детский крик далеко-далеко, смех чуть ближе, скрип песка на соседней тропке за деревом – рядом совсем.
От напряжения заныла шея и даже уши. Он разжал кулаки и перевел дыхание. Перетоптался, становясь поудобнее. Решил дождаться появления человека из домика. Что там можно делать? Ведь не пописать же он туда нырнул, посреди людного парка, и даже дверей не прикрыв за собой?
Минуты ползли улитками. Даже, кажется, останавливались передохнуть.
А глаз уже шагал с камня на камень, приглашая ноги. А что? Вдруг он только подошел и не знает, что в хижине уже кто-то есть? Гулял, захотел пройтись по воде, к островку! Имеет право!
Он ступил на первый камень. Тенькнула, оторвавшись, последняя минута ожидания, отпустила, осталась на берегу обрывком резиновой нити. И потекло быстрое время. Плавное, осторожное, охотничье.
Он дошагал по спинкам камней до песчаного бережка и остановился перед входом. Прислушался. Ничего не услышал, озлился чуть и ступил в темноту, как в воду.
А внутри темноты не было. Провалившись через отверстие в круглой кровле, столб света упирался в песчаный пол. В рассеянном свете, что пылинки оторвали от столба, видны были каменные стены, грубые лавки вдоль них. И почти в центре – девушка в джинсах и свободном светлом свитере, темные прямые волосы рассыпались по плечам. На правом плече водопад волос больше, – голова чуть наклонена. Опущена рука вдоль колонны света и раскрыта ладонь, в которую сеялись лучи заходящего солнца.
Витька стоял и смотрел. На руку, светлеющую, прорвавшую условную границу темноты, на ноги, обтянутые потертыми джинсами, кроссовки… Обычные светлые кроссовки. Поднял глаза, привыкая к полумраку после светящейся ладони с тонкими пальцами. Посмотрел в лицо. Ровная японская челка, темные глаза. Лица от волнения не разглядел. Смотрел в глаза, чуть суженные к внешним краям, но не приподнятые.
Сглотнул, не зная, что сказать.
«Ну, девушка» – стукнуло изнутри в висок, «ну и что, дурак! Просто – девушка!». Но сердце гулко бухало, сотрясая и разбивая мысли в голове, не давая ничего сообразить.
А потом она улыбнулась. Темные в полутьме губы чуть разошлись, блеснули зубы. Тряхнула волосами, рассмеялась беззаботно, будто давно ждала именно его. Будто она – его девушка и договорились встретиться здесь, а он опоздал, как дурак, засмотревшись на посторонних людей и птиц, загулявшись по осеннему райскому саду, но она не стала сердиться, вот – смеется.
Подняла руку и протянула к нему, погрузив ее по плечо в отвесное падение световоды.
Витька помедлил и, сделав шаг, взял прохладные пальцы в свои. И почувствовал, как запело все внутри. Не мелодию услышал, а будто стронулись вековые пласты и поползли, потекли, мощно гудя, не обещая смолкнуть.
Придвинулся ближе и она, поднимая голову, чтобы не отрывать взгляда от его глаз, оказалась ему по плечо – невысокая совсем. И вдруг плавно опустилась, поджимая под себя скрещенные ноги, одним движением перетекая на песчаный пол. И он, повинуясь ее руке, тоже опускался все ниже, подгибая колени, что и так уже подгибались сами. Девушка подала вторую руку. Теперь – сидели на песке, взявшись за руки, разделенные световым столбом. Витька смутно различал светлый овал лица, темные волосы, текущие прямо-прямо вниз на плечи, откуда, гладко изогнувшись, рассыпАлись по свитеру тонкими иглами.
Она крепче сжала его пальцы и, чуть наклонившись, нырнула лицом в свет. Витька подался навстречу. Теперь свет падал на кожу, высветляя и засвечивая, убивая все тени. Оставив девушке темноту глаз и яркость полных шероховатых губ.
– Как хорошо, что ты пришел, – сказала, – я немного беспокоилась. За тебя. Но ты пришел. Значит, все будет в порядке.
Витька открыл рот и закрыл, побоявшись, что голос сорвется. Да и не знал, что сказать. Она улыбнулась. Каждый раз, когда улыбалась, губы размыкались не сразу, чуть разлепляясь от центра к краям.
– Ты не говори ничего, – заботливо сказала, – это совсем необязательно сегодня. Если тебе легче молчать, не говори.
Голос шершавый, немного низкий, и он вспомнил, как мальчишкой, приходя к деду в гараж, стоял у верстака и водил пальцем по самой мелкой наждачке – нулевке. Бархат без мягкости. От ее голоса кружилась голова, и он подумал, что она может заласкать его, не трогая, а только говоря, говоря – не важно что, лишь бы без остановки.
Девушка глянула на него внимательно. Отпустила руки. И выгнувшись, взялась скрещенными руками за подол, потащила через голову свитер. Витька смотрел, как скользит трикотаж по обнаженному телу, открывая тонкую талию и небольшую грудь. И – роспись. Вырываясь из-под пояса джинсов, змеясь по ребрам и груди, уходя под рукой на спину – широкая полоса многоцветного орнамента. Свитер упал на песок, и Витька увидел узкую голову, лежащую чуть выше грудей.
Девушка подняла руку и провела по змеиной голове. Потянулась к Витьке. Зацепила пальцами его тишотку. Он послушно нагнул голову, освобождаясь. Улыбнувшись, она снова взяла его руки, плавно подымаясь.
…Стояли внутри света, прижавшись кожей к коже. Витька смотрел на гладкий пробор в темном глянце волос и думал о третьем. Или – о третьей. Кожа змеи между их телами. Не мог думать о ней, как о рисунке. Девушка стояла неподвижно, только грудь чуть вздымалась, прижимаясь крепче. И снова чуть свободнее. И каждый раз ему чудилось, что есть еще шевеление, не от дыхания.
Она подняла лицо, пересыпая прямые пряди по голым плечам. Посмотрела серьезно и перевела взгляд в полынью неба над их головами. Сильнее сжала его ладони холодными пальцами.
– Ты готов, Витька? – спросила шепотом, без звона, одним шорохом.
– Да, – он и сам не знал, к чему. Внутренний гул усиливался…
Она резко подняла вверх его руки. Столб света будто вобрал их в себя, всосал и выплюнул в темнеющую уже синеву. Прошуршали, пытаясь задержать, но лишь гладя по голым локтям и джинсам, стебли и метелки тростника, устилавшего крышу. И, поворачиваясь, сливаясь и откидываясь назад, запрокидывая лица в небо, они вонзились в прохладный осенний воздух.
Витька закричал ликующе, заорал, чувствуя подошвами кроссовок, как уменьшаются стремительно вода и песок, деревья и крыши окрестных домов.
Она смеялась. Звонко, тысячью колокольчиков. Витька вспомнил жаворонков над жаркой летней степью. И пронзился мгновенным пониманием того, сколько таких невидимых летят и смеются в разреженной голубизне просторного неба.
Летели вверх, только вверх, все быстрее и быстрее. И Витька был счастлив. Так счастлив, как никогда раньше. Счастье разрывало его кожу и разносило тело на множество мелких клочков, что летели вверх, перемешиваясь с воздухом. Он смотрел на закрытые глаза девушки, на темные полукружия ресниц и хотел умереть. Умереть в воздухе, а потом – упасть, свалиться – лучше в воду, кануть и не оставить следа.
Что-то хлопнуло резко за спиной. Девушка глянула на него, и, откидываясь, оторвалась… Закружилась листом и пропала.
«Упаду… без нее…» – стукнуло камнем по виску, – «уже падаю»… И громкий настойчивый стук, грохот – разорвал уши, ударил по шее.
Витька падал так же стремительно, как поднимался вверх. Успел подумать, что падение – тот же полет, только в другую сторону, и проснулся. Упав лицом в мокрую подушку, ушами – в грохот.
Кто-то колотил во входную дверь.
Глава 8
Рывком сел в кровати, скидывая на пол скомканную простыню. Поймал глазами отключенный мобильник с пульсирующим огоньком вызова.
– Витька!!! – орал Степан в коридоре.
Вскочил и, пошатываясь, побрел к двери. Щелкнул замком. Дверь распахнулась, больно ударив его по плечу. Степка ворвался в прихожую, следом стали вваливаться еще люди. Витька только крутил взлохмаченной головой, провожая безумным взглядом резиновых амбалов в черных футболках. В прихожую влетела Тина Тин. Проскочила было в комнату, но остановилась, увидев хозяина за дверью. Смерила взглядом голое бедро плечо и локоть, фыркнула высокомерно-заинтересованно.
Степка уже метнулся обратно, таща в руках застиранный махровый халат. Ткнул им Витьку в живот:
– Надевай, давай! Переговоры щас будут!
– Ага, – неопределенно отозвался Витька и стал совать руки в уворачивающиеся рукава, – вы, это, на кухню идите. Хотя, не поместитесь там. И неубрано.
Завязал пояс халата и прошлепал в комнату, слушая цокот певичкиных сапожек за спиной. Сел на кровать, поджал пальцы ног – холодно босиком-то, не лето.
Двое в черном рассредоточились по комнате. Тина постояла в центре, огляделась. Подошла к столу, присела изящно, будто сниматься собралась. И вопросительно глянула на Степку.
Взгляд Степку воодушевил.
Он заходил по комнате, недовольно морщась, когда надо было обходить охранников.
Витька следил за другом, просыпаясь потихоньку.
– Ты где был? Я тебе звонил полдня вчера! И ночью звонил, думал, вдруг мобильный дома оставил, придешь – ответишь! – Степан остановился напротив и упер руки в бока, – что молчишь?
– Ну, отключил я его.
– Отключил! Всех ошарашил, съемку гениальную сделал! И смылся. И телефон отключил! – Степан посмотрел на Тину возмущенно, призывая возмутиться за компанию, – что ж ты такое делал, а?
– Летал.
– Ах, он лета-а-ал! – И Степан набрал воздуха в грудь, собираясь разразиться речью, но Тина махнула рукой:
– Оставь, Степушка, думаю, он и, правда, летал. Пусть проснется сначала.
Подняв брови, она что-то разглядывала на смятых простынях. Крошечные трусики – нежно-сиреневый смятый лепесток, что оставила Наташа, надев свежие перед уходом. А когда напомнил ей, фыркнула, что, мол, снятые второй раз не надевает – выкинешь. Он тогда головой покачал, выкинуть пожалел и усмехнулся про себя, подумав, что вот так и становятся фетишистами.
Тина перевела взгляд на его колено. Виктор ухмыльнулся и целомудренно потащил полу халата, прикрываясь.
– Да, – повторила задумчиво, – вижу, летал…
Он неопределенно пожал плечами. Дива вкладывала в слово несколько другой смысл, возможно, единственный, ей понятный. Но тоже была права. Ведь и с Наташей летал. Чуть-чуть.
Встал и, придерживая запахнутый халат, отправился на кухню.
– Кому кофе? – бросил через плечо.
Степка запыхтел следом в узком коридорчике, подталкивая в спину.
В кухне навалился на Витьку, прижав к раковине, уронил со стола полотенце. Зашептал громко, брызгая слюной:
– Блин! Ты хоть на снимки-то глянь, они в пакете у Таньки! Это ж гениально! Да, пока она там, со своими мамонтами, я о деле, дурак, о деле! Надо контракт, хуе-мое, все чин-чином! Поднимемся, понял? Ты же гений, блин, в халате своем, да запахнись, видеть не могу, тьфу!
– Не можешь, не тискай, – Витька вывернулся из-под Степки, снова затянул пояс, – принеси мне джинсы с майкой, а то что я, как Рокфеллер какой – полуголый людей принимаю.
– Ага! Ага! Щас принесу. Давай уже просыпайся!!!
Витька потер лоб крепко. Взъерошил волосы:
– Степ, мне такой сон снился… Мне вчерашний день снился, ну, как я в Ботаническом хожу. Только там еще девушка была…
– И ушла от тебя без трусов, да?
– Нет! Она во сне только была, понимаешь?
– Нет. Да фигня все, напарник! Ты ж не забудь, что я сказал! Молчи, может? Я сам тебя буду сватать, мол, самородок, еще никто не знает, Ля Шапель из Джанкоя…
И Степан, пихнув Витьку в бок, так, что тот снова приложился бедром к столу, понесся в комнату за парадной одеждой для деловых переговоров.
Освободив помпезный круглый стол с ободранной полировкой от накиданных на него курток, плакатов и раскрытых книг, собрались вокруг. Тина достала из нарядного пластикового пакета бумажный и открыла клапан, царапая бумагу острыми ногтями. Степка попытался вытащить из рук у нее сокровище, но был жестко отпихнут плечом – похоже, никому даже подержать не собиралась отдавать.
Снимки веером легли на вытертый лак. Тина замерла, не отводя глаз от себя. Степка шумно дышал ей в ухо. Витька посмотрел. Второй раз. Со спокойным удовлетворением. Он уже видел их, когда делал. Как бы и не новость перед глазами. И легкое недовольство внутри – ведь можно было сделать сильнее, чтобы смыслы полезли через изображение и бумагу, взрывая изнутри это нежное лицо с дрожащими губами, притягивая взгляды и не отпуская, заставляя думать-думать и возвращаться, чтобы снова напиться этих смыслов и увидеть новые…
– Ну? – требовательно вопросил Степка.
– Так…
– Как так? Что – так? Не видишь, что ты сделал?
– Вижу, – Витька отошел от стола, поставил на подоконник чашку, взял сигарету из растрепанной пачки, и закурил, смешивая дымок с кофейным запахом. Засмотрелся в окно.
– И?
Он повернулся. Степан стоял, сжимая и разжимая кулаки, смотрел на него с недоумением, но воинственно. Тина за его спиной, выпав из реальности, никак не могла оторваться от снимков. Мамонты стояли в разных местах комнаты, повесив перед собой невидящие взгляды, как отключенные роботы, что пока без надобности.
– Понимаешь, Степ. Я посмотрел. Хорошая работа. Но я могу лучше.
– Ну-у, ты загнул, парень! – начал Степка, но осекся, вспомнив, видимо, уже сделанные снимки.
– Да, могу. И это не только радует. Думаю, у меня многое теперь изменится в жизни. Давай уже переговоры переговаривать, да я думать буду. Мне как-то, Степа, вдруг подумать захотелось…
Степан заоглядывался. Переговоров с известными певицами он никогда еще не вел. До этого все деловые переговоры происходили за кружкой пива в шумном спортбаре или в цветных вспышках дискотечных огней – криком на ухо предполагаемой клиентке. Или – с ней же, размякнув поутру после веселой совместной ночи. В последнем случае Степан иногда лишь после удачного завершения переговоров осторожно выяснял, как заказчицу будущего портфолио зовут.
– Тиночка! – начал ласково, но спохватился и попытался убрать из голоса мед, – Тань, да оторвись же! Ну? И помогай мне давай! А то ты не знаешь, какой из меня бизнесмен!
Тина отклеила взгляд от сверкающего глянца, сосредоточилась на растерянном, но воинственном Степке. И – расхохоталась. Покачала головой, по темным волосам заскользили мягкие блики осеннего солнца:
– Степушка. Ну ты хорош! Тут же про себя все и рассказал. Обмануть тебя – плевое дело.
Тот покраснел. Повесил голову, махнул рукой и тяжело пошел к дверям.
– Стой, дурак! – велела Тина, – обманывать не собираюсь. Пока я тебя люблю, паршивца, все будет хорошо и ладно, понял?
– Как? Любишь?… – Степка напрягся, полуобернулся, глядя недоверчиво на собеседницу.
– А! Потом-потом, не отвлекайся! Иди сюда. Да не давай мне смотреть на снимки!
Она, ловко поворачивая Степана за широкие бока маленькими руками, утвердила его между собой и столом. Улыбаясь, поправила рыжую прядь на просторном его лбу. Повернулась к Витьке. Степан застыл неуклюже, боясь сменить позу. Только глазами отчаянно ел Витьку из-за хрупкого Танькиного плечика.
– Ну, самородок джанкойский, слушай мои предложения, – начала.
Витька закивал с готовностью, изобразил на лице внимание. Он хотел все побыстрее закончить.
– Ты идешь ко мне на ставку фотографом. Будешь получать в месяц… И за каждую сессию… Кроме меня – никаких съемок звезд. Никаких за моей спиной переговоров. В контракте будет оговорена неустойка, если вдруг захочешь меня бросить и перейти на другую работу, в сумме…
Витька слушал, как Тина называет суммы для него астрономические, кивал. Смотрел на нее. Опять видел снимки. Новые. Усмехнулся. Ей бы не понравились. Металлическая Тина. Не стальная амазонка с обтекаемой сверкающей грудью. Нет – собранная из случайных, найденных на улице, а то и на помойках, шестеренок и изношенных чужих деталек – разных и уже со ржавчинкой.
– Ты меня слушаешь?
– Да, слушаю. Не буду я на тебя работать.
– Хочешь больше?
– Нет. – Он смял окурок в пепельнице, дождался, пока не умрет дымок – тоньше, тоньше – над миниатюрной помойкой из спичек и бывших сигарет…
– Тань, ты в Москву зачем приехала? Ведь не звездой становиться? Или?
Тина подняла брови. Подошла к Витьке. Задевая его плечом, достала из смятой пачки сигарету. Сунула ему в лицо, дожидаясь зажигалки.
«Оскорбляет» – ласково подумал Витька, суетливо щелкая, бережно придерживая, с полупоклоном отступая, – «с мыслями собирается».
– Это имеет значение?
– Ага.
Тина помолчала. И сказала правду:
– Я в МГУ приехала. В своем поселке первая отличница была. Ну и завалила первый же экзамен. А возвращаться… Это здесь такие мыши, как я, в обработку идут – что хочешь, то и нарисуешь. А там у меня всего будущего – муж-алкоголик да выводок полунормальных детей. А что?
– А то. Значит, умница и поймешь. То, что я сделал – красиво и мало. А будем вместе, будет много и безжалостно. Потому что в тебе не только это есть, что я тогда ухватил. Из-за Степки волновалась очень, вот все мягкое, трогательное – наружу и полезло. А сделай я снимки сейчас, ты бы меня убила! Ой, убила бы – точно! Хотя и вошла бы вместе со мной в историю искусства. В качестве модели гениального фотохудожника.
Степан у стола фыркнул возмущенно. Негромко, впрочем.
Тина молчала. Курила. Глянула на Витьку отчаянно, собираясь что-то сказать, но не сказала.
Тишина повисла в комнате, перевивая собой струи дыма под висюльками люстры.
– Ты пожалеешь. И возненавидишь меня, – ласково сказал Витька, – за то, что я вытаскиваю из тебя все. И показываю всем. А диктовать мне уже нельзя будет. Иначе – не сделаю так. А сделаю – ремеслуху просто.
Тина поморщилась:
– Ну, занесло тебя! Будто мы не картиночки обсуждаем, а вопросы мироздания!
– Ага, мироздание. Все на свете – мироздание. И картиночки – тоже. Ты, умница, это понимаешь. Только упрямишься и уже мечтаешь все, что случилось, в рамки загнать. Не получится!
Тина потушила сигарету. Устроилась рядом, расплющив о подоконник маленькую попу, обтянутую серыми бриджами. Стояли, смотрели на Степку задумчиво. Степка ежился. Топтался нервно, пытаясь принять независимую позу.
– Хочешь, я тебя утешу? – предложил Витька, глянув искоса на тщательные локоны, заправленные за маленькое ухо. Мочка уха, в трех местах – точки проколов – светилась розовым.
– Хочу, – уныло отозвалась, смиряясь с мыслью о неудаче.
– Ты, Тинка, на этих снимках куда угодно теперь въедешь. Вот, куда захочешь. Любой, кто увидит, больше ни о чем думать не будет, только – взять бережно в ладошки и от всего защитить.
– Думаешь?
– Знаю! Ты только умно выбери, хорошо? А то ведь, защита разная бывает. Найдется человек, что и от жизни захочет спасти.
– Вот уж утешил!
– Обязан предупредить.
– Угу. Я подумаю.
– А я уже подумал! – жизнерадостно заявил Витька и толкнул ее локтем в бок, – хочешь совет?
– Давай уж, прорицатель.
Витька наклонился и, ладонью подавая к себе нежно пахнущую девичью голову, зашептал на ухо:
– Ты ведь не со мной контракт хочешь заключить на самом деле. Тебе Степка нужен, так? Ты признайся самой себе, что – так. И подумай лучше в эту сторону.
Тина медленно кивнула, и они снова уставились на Степана. Тот, мучаясь ревностью, гневно сверкал синими глазами на прижавшуюся друг к другу парочку.
– Д-да, – медленно начала Тина, – но…
В сумочке ее требовательно запиликал мобильник. Витька почувствовал, как напрягся и даже будто похолодел локоть у его руки.
Она глянула исподлобья на Степана, вытащила телефон и заоглядывалась, не нажимая кнопки соединения.
– В кухню только если, – предложил Витька.
И дива зацокала сердито каблучками к дверям, уже не глядя ни на ребят, ни на охранников своих, вздыхающих расслабленно, по-буйволиному.
– Да, Ники, да, – чуть приглушая голос, унесла в кухню начало разговора.
Степан подошел, присел на то же место, что грела до него Тина.
– Чего вы тут. Шептались? – поинтересовался сурово. И покраснел до рыжих волос над конопатым лбом.
– Степа, не буянь. Я делаю, как лучше.
– Лу-учше, – уныло передразнил тот, – откуда тебе знать, что для меня лучше.
– Знаа-аю, – важно ответил Витька, выдерживая ту же унылую интонацию. И предложил, оживившись, – а хочешь, я тебя сфотографирую? И все-все про тебя узнаю? И ты узнаешь?
– Не-а, не хочу, – честно ответил Степан, – я ж не дурак!
– Да, Ники, да! – Тина снова шла в комнату, неся те же слова и разрезая пространство перед собой раздраженным взглядом, – ну, какие проблемы! Никто не прячется, не глупи! Да, уже спрашиваю!
И, оторвав от уха телефон, рыкнула на Витьку раздраженно:
– Номер квартиры какой?
– Девяносто три. А-а, подъезд и номер дома? Не нужен?
– Девяносто три! – крикнула Тина в трубку, сложила телефон, как скомкала и глянула на стоящих телохранителей с ненавистью.
– Не нужен ему номер дома. Уже подъехал и во дворе стоит. Кто-то из этих капнул, – дернула в сторону мамонтов подбородком.
– Ну, и зачем держишь при себе – столько? – ядовито поинтересовался Степка, – тоже мне Мадонна!!!
– Контракт у меня такой, Степушка, – голос у Тины устал и потускнел, – обратная связь, понимаешь ли, имидж…
В дверь позвонили. Еще. И постучали.
– Открой, – сказала дива, – это Ники пришел.
Витька пошел к двери, слушая, как ворчит за его спиной Степка:
– Ники еще какой-то… На фиг нам Ники? И без него хорошо…
В длинной раме двери стоял изящный молодой человек. Серый пиджак и темные брючки – все по фигуре узенькой и гибкой, расслабленно умеющей повестись в нужную сторону, так, будто это единственная возможная сейчас для него поза. Оптимум тела в пространстве. Полусвет лестничной площадки удивительно шел ему. Изящно вырезанный силуэт на разжиженном сереньком. Сверкнуло – улыбка ровного ряда зубов до того белых, что кажется, фосфоресцируют в полумраке лица:
– Рад! Рад! Пройду?
– Пройдите-пройдите.
Ники вошел. Изгибаясь, чтоб не касаться Витьки в узком коридоре, проследовал в комнату. Мельком оглядевшись, направился к старому креслу, двумя пальцами поднял скомканную рубашку и, чуть поморщившись, опустил на пол. Поддернул брюки и плавно сел, положив ногу на ногу. Посмотрел благодушно на всех снизу вверх. Приготовился слушать.
Все молчали.
Тина вздохнула.
– Познакомьтесь, это мой штатный фотограф Николай Сеницкий, он…
– Как Сеницкий? – заорал Степка, – тот самый Сеницкий?
Он подбежал к Ники, обеими руками затряс расслабленную кисть.
– Неужто знаете? – лениво удивился гость, стараясь не трястись вслед за плененной рукой.
– А как же! Как же! Да вас в столице каждая собака, э-э, каждый фотограф знает! Даже Витька наш, уж на что из Джанкоя, так и то!
Ники бросил на Витьку острый взгляд:
– Н-да, это, конечно, показатель… В самом Джанкое знают… И?
– Что «и»? – удивился Степка.
– До чего договорились?
– А никто ни о чем не договаривался, Ники, – подала голос Тина, – я заехала показать снимки. И все.
– И все. Будто? – Ники смотрел на Тину. Темными глазами, что не освещали, а затеняли смуглое лицо.
– Представь себе.
Ники отлепил от нее взгляд и уставился на Витьку. Тот благодушничал, усевшись на постель. Крутил в руках Наташины трусики.
После нового молчания Сеницкий понял, что помогать ему в беседе никто не намерен. Сжал тонкие губы.
– Значит, переговоров за моей спиной не вели? Никаких денег и работы она, – кивок в сторону Тины, – тебе не предлагала, – уперся в хозяина квартиры ненавидящим взглядом.
– Нет, – хором сказали Витька и Тина.
– Какие переговоры? – фальшиво изумился Степан.
И снова все замолчали. Разговор походил на кучу громоздких камней, каждый, примериваясь, жалел поднятую для пинка ногу и выжидал, кто пнет первым.
Витька посмотрел в окно. В стекло билась оранжевая бабочка. Маленький глухой стук, будто подушечкой пальца легонечко и неровно. Волнистые блики прозрачными и призрачными осколками резали суетливые крылья. Руки у Витьки зачесались. Заныла икра. Он бросил трусики на смятые простыни:
– Слушайте, мистер большой фотограф, или вы скажете, чего хотите, или я вынужден просить всю кодлу покинуть мою скромную квартиру. Простите, конечно, Тина, вы, конечно, звезда, а мальчик ваш, конечно, даже в провинции известен, но я только что встал и по утрам люблю в сортире газетку почитать. Будете ждать или как?
– Я скажу, чего я хочу! – Сеницкий вскочил, – я не позволю за моей спиной…
– Говорил уже, – подсказал Степка, – дальше давай.
Сеницкий резко повернулся:
– Ты еще тут, бездарь неотесанная! Сам фотосессию завалил, а туда же!
– Кстати, о сессии, – звонким голосом прервала его Тина, – вы же не видели, мальчики, результатов. А Степушка что-то скромен оказался. Успехи помощника заслонили ему даже собственные достижения. Временно, надеюсь.
Простучав каблуками к столу, Тина схватила пакет, перевернула его и высыпала поверх Витькиных снимков ворох глянцевых отпечатков. Повернулась к своему фотографу:
– Ну? Посмотришь? И скажешь, почему у тебя я получаюсь таким манекеном пластмассовым? Только на имидж не вали, ладно?
Витька, забыв о ноге и бабочке, подхватился с кровати. Стал перебирать фотографии. Сеницкий дышал ему в ухо смешанным запахом хорошего коньяка и освежающих конфеток.
Тина отошла в угол комнаты и тихонько взяла Степкину руку.
– Степа-ан… – протянул Витька, держа в руках снимок, – и молчал?
– Тина, ты не видишь, что ли? Посмотри, ноги какие толстые, – занервничал Ники. Выхватил фото, сжал тонкими пальцами. Фотография выгнулась, протестуя. Он замахал перед Степкиным носом полузадушенным отпечатком:
– Это работа, по-твоему? Да это непрофессионально совершенно!
– Я старался, – Степка опустил голову, – я так вижу.
– Так вижу! – передразнил Сеницкий, – на хрен кому такое видение! Она тут на пэтэушницу похожа!
– Не на пэтэушницу, а на школьницу.
Тина рванула из его рук смятый снимок:
– Не трожь! Мне нравится! Это мое!
– Твое, – подтвердил Степка, не поднимая головы, – только твое. Я так никого никогда. Только тебя, Тань. Веришь?
– Верю, – Танька не смотрела на него, яростно уставившись на своего фотографа:
– Слушай меня, чучело гламурное. Ты все доказывал мне, что кроме пары ножек и вульгарного ротика, у меня нет ничего! А два просто фотографа, заштатные ребятки, нераскрученные, увидели другое и – каждый свое. А ты только и можешь, что из импортных журнальчиков позы и выражения лица слизывать? А я? Где у тебя я?
– Да кому ты нужна? Нужен набор суповой – губы, сиськи, ноги! Крылья и душа, милая, в набор не входят, их не купят. А мой наборчик – скушают и запросят еще. Ты мне всем обязана! И деньгами! Души захотелось!
– Ну-ну, – Витька поднял руку, – вы еще мне о смысле жизни дискуссию устройте! Я что, неясно выразился?
Ники оскалился, вскочив. Зубы сверкнули, лицо упало в собственную темноту. Зацепил Тину за руку и потащил к дверям. Она, вырвавшись, подбежала к столу и стала запихивать снимки в пакет, роняя скользкие отпечатки на пол и всхлипывая. Собрав все, метнулась в коридор. Ники пошел следом. В дверях обернулся:
– За деньгами придете в офис, вот по этому адресу, – кинул на пол визитную карточку.
Ребята, раскрыв рты, смотрели в сторону коридора. Сквозь медленно закрывающуюся входную дверь шум лифта шершавым одеялом накрывал женские вскрики и мужские раздраженные восклицания.
– Опять скандалят, – поделился один из охранников, включившись, – ну, помирятся, не впервой. Пошли, что ли.
– Да-а, – подытожил Витька, когда они со Степаном остались, наконец, в тихой квартире:
– Цунами, тайфун, ураган, что там еще? Милые бранятся-тешатся все время, оказывается! Крепко же он ее за горло держит!
Нагнулся, поднял с пола залетевший за ножку стола снимок:
– Спят, верно, вместе, – предположил, с одобрением Степкину работу разглядывая.
– Заткнись, а? – попросил Степка, – дай лучше выпить, а то этот Сволочицкий навонял коньяком, хоть закусывай.
– Пойдем, брат, в кухню. А что, он, правда, такой сильный фотограф?
– Где там. Спекулянт чистой воды. Знаешь, как начинал? В парках выслеживал собачек всяких крутых шишек, портреты делал и рассылал потом хозяевам в качестве подарков – с сахарными подписями и расшаркиваниями. Вот и поднялся, через собак и кошечек.
– Да, силен, – Витька оглянулся на окно, прищурился на солнце. Схватил валяющуюся на столе камеру:
– Давай, Степ, на кухне разберись, а у меня тут бабочка, оранжевая. Не улетела, милка, ждет бессмертия!
Глава 9
…Витька потянулся сладко.
Так и начались и поехали все быстрее, как под горку разгоняясь, самые сумасшедие две недели его жизни.
…Нашарил за голой спиной телефон, включил сигнал. Запела полифония оркестром сверчков в тесной коробочке. Ладонь зачесалась от желания прихлопнуть. Надоели! Прежний мобильник, попроще, потерял по дороге с вечеринки. Работа теперь у него такая…
Телефон выпал из кармана куртки, когда они со Степкой запихивали в авто пьяную Тину. А потом и саму куртку, потрепанную и благородно вытертую на локтях, забыл в клубе, где тройка девиц – популярный молодежный коллективчик, последний проект модного продюсера – украла его с презентации.
Из прежней жизни в памяти телефона нужным был только Cтепкин номер, а его Витька знал наизусть. И Степка был всегда рядом, бдительно дыша в ухо, и заламывая несуразные цены за фотосессии. Витька только головой качал, краснел и отворачивался. Делал вид, что это к нему не относится. Но в Степане внезапно проснулся азарт менеджера, и он выдавал невероятные предложения, чувствуя спиной непробиваемую страховку Витькиного дара.
– Мы их! – кричал напарник и корявил пальцы, скручивая фигу, а когда фига уже не желала крутиться, настолько пьян был хозяин, то, помогая другой рукой, сводил в кулак и размахивал перед лицом.
– М-мы их, он-ни у нас – по-смот-рят кузькину мать! – и долго косноязычно рассуждал о таланте, Божием даре, о вечной свободе человека творящего.
Тогда, с девочками, перекрикивая тяжкие вздохи ударных техно-ритмов, тоже говорил много. Полагая, видимо, что на троих и доза красноречия должна быть тройная. Девчонки, все как одна меленькие, тонкокостные, с круглыми свежесделанными грудями и сливочными голыми животиками, хихикали. А потом, перемигнувшись, утащили Витьку под руки через темноту и нервные вспышки в остренький воздух ночной улицы. Поддавая твердыми коленками, запихали на заднее сиденье, – Витька споткнулся, и попал в машину уже плашмя. Уткнулся носом в нежную замшу сиденья, почуял сквозь ароматизатор еле заметный запах кислятины. Поморщился, прикидывая, что, как и сколько раз на этом сиденье делалось. Но не поднялся даже сесть – шалили.
И лишь в огромной квартире-студии со стенами, не доходящими до потолка, так что всю ночь, в постели бескрайней, как пампасы, – слышал тонкие вскрики и захлебы смеха школьницы, которую прихватил из клуба охранник (она была в дурацком платье, очень хорошенькая и пьяная до стекла в глазах, а губы с размазанной помадой – припухшие, чуть вывернутые от недавних стараний), понял, что куртка осталась в клубе. Со Степкой и новой фотокамерой.
Фотокамеру Витька пожалел мимоходом два раза, просыпаясь среди шевеления девичьих тел. От количества горячих рук и гладких ног ему привиделся в какой-то момент кошмарный осьминог в бульоне. Вскинулся брезгливо, и лишь, очнувшись, сознанию дал уговорить себя, порепетировав рассказы про то, как «я – с троими, ну да, теми самыми»… И прикинул кадры – белесые лучи рук, ног – в беспорядке – мертвенькие морские звезды, засосанные темной трясиной сбитой постели.
А куртку старую коричневую пожалел сильнее. Она его была, в отличие от камеры. Камеру ему Наташа купила. Просто так. Они и не спали вместе больше. Но она нянчилась с Витькой. Болтали подолгу. Девушка с удовольствием просвещала его, дабы не садился в калошу на всяких вечеринках и презентациях. Витька чувствовал себя золушкой, при фее Наташе.
Не желая быть должным, предложил Наташеньке поснимать ее. Она отказалась.
Витьку укололо тогда. И – неприязнь, легкая, крылышком мухи. Проскользила, наобещав по-мушиному – вернуться.
Замаявшись раскаянием, Витька прямо спросил о причинах.
Они снова сидели в утреннем кафе. Две сумбурных недели, прошедших со дня их знакомства, вместили целую новую жизнь. И даже – новые традиции проросли в этой жизни. Уже раза четыре, вываливаясь под утро из очередного клуба, и махнув на дела рукой, садились в Наташин автомобильчик и ехали в маленький бар. Снова пили кофе и шоколад. Снова она забиралась с ногами на кожаный диванчик. Но разъезжались – по домам.
– Я с тобой совсем целомудренная стала. Весталка, – смеялась Наташа.
Там, в баре, глядя на разноцветных витражных зайцев, пятнающих старое дерево стола, собрался с духом и – спросил, вертя кукольную чашку. Подставлял гладенькое нутро ее под красное пятно, топил зайца в остатках кофе:
– Наташ, а почему не хочешь сняться? Ты очень красивая. Да и я… я ведь не сделаю плохо.
Вслух стеснялся хвалить сам себя. Мысленно – сколько угодно, перебирал снимки, отсматривал в компьютере, каждый раз удивляясь безмерно, что вот это – он сделал. Он? Смотрел, как на чужое.
Наташа поморщилась чуть заметно, рассмеялась. Что-то рассказала множеством мелких слов – о неумении своем принимать позы, о нефотогеничности…
– Я с тобой отдыхаю, Витенька, а так – все будет испорчено. Лишние мысли, лишние претензии.
– Как с сексом?
Сейчас все меленькие слова отмел в сторону – ненужные и неважные. Но на гримаску ее – назойливой мухой вернулась неприязнь. Это было важнее секса, оказывается.
Наташа почувствовала, – зацепился, как за гвоздь в половице, что не выдерешь – надо всю половицу снимать. И, без улыбки, сказала:
– Витюша, я тебе объясню все. Позже.
– Не забудь, хорошо? – неприязнь улетела, жужжа.
И отправились в фотоцентр – покупать камеру.
Три этажа стекла и стеллажей. И продавцы, настолько вылощенные и по-свойски хамоватые, что Витька, в наброшенной на плечи заслуженной куртке, мучительно затосковал и до смешной дрожи в коленях не захотел идти по зеркалу полов – туда, в бесконечность изысканного металла и пластика – желанных, выученных по каталогам наизусть, таких недоступных прежде – камер, гаджетов, штативов.
Наташа все поняла, Бог ее послал, что ли, держать за русые вихры, не давать упасть в этих дурацких плоскостях меж этажей, когда перебираешься из одной жизни в другую, туда, где все богаты и не нужно думать, сколько в кармане до следующего заказа. И где, как выяснилось – огромное количество условностей, правил – придуманных для развлечения и узнавания своих…
Взяв под руку, прижалась маленькой грудью, потащила мимо продавцов, что глядели на куртку и стрижку с презрительной усмешкой.
Небрежно сунула в руки Витьке громоздкую камеру с отчаянным глазом объектива – будто выловленная глубоководная рыба.
– Ну, что скажешь?
Зацепив локотком, скинула на пол нарядный ценник с безумными цифрами. Витька дернулся было – поднять. Но девушка увлекла по зеркалу пола его вместе с камерой к огромному окну, все убыстряясь, будто желая выбить собой бликующую плоскость.
Остановились резко и белобрысый продавец, что нагнал их, глядя уже лишь с преданностью собачьей, налетел со спины, заизвинялся, кланяясь.
Витька, схватившись за камеру, как за спасательный круг, узнав в новизне и блеске – знакомое (на фестивале как-то даже поснимал такой – но потертой и заслуженной), – отмяк, увлекаясь:
– Нет, что ты! Это для спорта, к ней еще до фига нужно – и в руках не унесешь.
– Ага, надо начинать с покупки автомобиля, – рассмеялась Наташа, – но она мне все равно нравится. Купим?
– Нет, я не работаю такими, сам сейчас найду.
– Давай хоть посмотрим! – затеребила крышку объектива.
Витя отобрал аппарат, вертел в руках, объяснял, как навести резкость. Разрешил себя снять. Наташа смеялась. Мигала вспышка, добавляя блеска вокруг.
Наигравшись, сунула камеру продавцу и затормошила Витьку:
– Ну, ищи сам, я ведь не знаю, что тебе нужно!
И Витька, войдя в азарт, долго таскал ее по магазину, хватал с полок камеры – маленькие, побольше – совал в руки, показывая, где какие недостатки.
Когда, наконец, вышли, таща цветные кубики коробок, поискал глазами солнце, плавающее в облачной мути, заговорил об одежде:
– Наташ, я понимаю, по мне сразу видно, на твои деньги пришел покупать. Но, все так… быстро… Первый гонорар, за Тинку, тут же разошелся, Степка стал таскать по презентациям, типа, контракт искать. И, вроде бы, все заинтересованы во мне, но пока – одни разговоры. Вот и выгляжу – дурак дураком в куртке с Черкизовского рынка…
Наташа слушала рассеянно, придерживая дверцу машины, пока он складывал игрушки. И вдруг оживилась:
– Смотри! Видишь, дядька идет, во-он, в старом пальто. Из-за угла вывернулся?
– Ну?
– Это Альехо Алехандро! То бишь – Ляпиков Илья Афанасьич, по-настоящему.
Витька разглядывал сгорбленную фигуру, квадратные брюки, волосы, жиденько собранные на затылке, обширную лысину.
– Это?
– Да!
Витька смотрел. Почти с возмущением. Имя Альехо красовалось под лучшими с точки зрения Витьки снимками – лучших моделей глянца. Не слишком интересуясь репортажами с тусовок, где, как он полагал, Альехо должен был мелькать часто, представлял себе смуглого мачо, приехавшего из южных краев, очарованного северными красотками. И оставшегося в столице купаться в деньгах, славе и женщинах.
Толстяк, не вынимая рук из карманов, прошел в разъехавшиеся двери фотоцентра.
– Ну, посмотрел? Рот закрой, поехали!
– Наташ! Я поговорить с ним должен, сказать…
– Как гений с гением, да?
Уже сидя за рулем, газанула:
– Садись.
Витька сел. Со злостью глянул, как зевающее со сна в облаках солнце просвечивает Наташины кудряшки.
– Слушай, я что – жиголо какой? Не нужна мне твоя камера! Раскомандовалась, блин.
Наташа заглушила двигатель.
– Витенька… Ты прости меня…
Смотрела на обиженный Витькин профиль – не поворачивался, дулся. Ждала. Не выдержал, повернулся, уперся в глаза.
– Ну, вот, хорошо. Ты уж смотри на меня, ладно? Пойми, тогда, в первый наш с тобой день, я случайно в тот район попала. Тебя увидела, с курткой в руке. И сразу поняла – переспим. Кажется, просто все, но – не так. Будто щелчок и сразу – свет в длинном ангаре, когда между полок и до самой дальней стены. А на стене – рисунок. Поняла тогда, что будем вместе для чего-то. Все будто сдвинулось и стало падать на меня. Все. Кроме той стены с рисунком. Нет, не падало, а – придвинулось, наделось на меня, как новая шуба. Я говорю ерунду?
– Н-не знаю…
Наташа смотрела беспомощно, держала руки перед собой, раскрывала веером пальцы, сжимала кулаки…
– И я не знаю. Только Альехо… Рано тебе еще – с ним…
– На фига ты мне его тогда показала?
– Потому что про одежду заговорил! Вот и… Ты посмотрел на него? Посмотрел? Плюнь на тряпки, ходи в своем! Ты важен, не куртка!
Витька смотрел вниз. Колени обтянуты джинсами, свет все ярче – видны переплетения нитей. Руки с полусогнутыми пальцами, каждая на своем колене. Несимметричная симметрия. Волоски на фалангах, ноготь большого пальца ловит блик. Ловит и отпускает в такт дыханию. А правый указательный – с обгрызенным краешком ногтя. Все ровные и гладкие, а этот, как грыз в детстве, так и остался с щербатинкой сбоку.
Запульсировало в ноге. Мысленно ограничил кадр, двигая рамки, решая – пусть руки будут вместе с запястьями, тогда видно, откуда ассимметрия, – одна рука чуть вывернута, изгиб запястья – почти надлом. И внизу, из полумрака выступив, еле видна обувь. Далеко, маячит. Из темноты низа.
– Ты слышишь меня?
– Да.
– А мне кажется, нет.
– Ты откуда знаешь? Про Альехо? Знакома с ним?
– Да.
– А…
– Витя, ну, не спрашивай пока!
Посмотрел в блестящие глаза. Скруглился блеск, пополз по щеке – слезой. Витька расстроился, довел девочку хорошую, добрую девочку. Но, если вот так, крупным планом – лицо, а сбоку обязательно, чтоб краешек зеркала вошел, и в нем – остро загнутые ресницы накладные, мокрые, жалкенькие. И подпись «Объяснение». Нет, не надо подписи…
Наташа вздохнула. Вытерла слезы невесомым платочком:
– Снял, придурок талантливый?
Витька покраснел:
– Что, заметно?
– А то! Глаза стеклянные, уши глухие.
– Наташка, ты зачем все понимаешь? Я не знал, что такие женщины бывают!
Она, дождавшись просвета, плавно поворачивая руль, встроилась в поток автомашин.
– Бывают, только нечасто. Я тебя у метро высажу. Камеру забери. Остальное вечером подвезу, когда приеду вас забирать со Степкой.
На перекрестке у станции Витька, уже выскочив из машины, держа вытащенную из коробки серебристую игрушку, оглаживая ее пальцами, нагнулся к раскрытому окну. Как в первый раз…
– Ты не плачь больше, хорошо?
– Не буду. Витюш, носи эту куртку, хорошо?
– Господи, Натка, сама же сказала – условности, пустяки!
– Да! Вот мы по их условностям – нашими! Будешь носить?
– Конечно!
Стоял, смотрел, как выворачивает девушка машину, вертя кудрявой головой и вдруг вспомнил. Подбежал, уцепился за круглый краешек стекла:
– Наташка, а что там на стене? Какой рисунок?
– На какой стене?
– Ты сказала – стена, щелчок, свет.
– Цветное что-то, граффити. Змея, кажется.
Да, змея. Витька стоял, сжимая камеру. Улыбался. Конечно, змея.
Уши ныли, хоть и накрыл телефон разноцветной подушкой. Снова отключить? Что-то пустился в воспоминания. Будто именно сегодня надо повторить пройденное, как в школе. Есть ли время? Через час придет Степан. Будет пилить из-за этой, как ее, что убежала. Ирки. За фотосессию обещала дать денег. Потом поднапилась и захотела переспать.
Второй раз уже. И денег обещала второй раз.
Он усмехнулся. Скинул подушку и отключил телефон. Повторять пройденное, так повторять…
Целый час в запасе.
Вспомнить девочек, клубы, тусовки?
Но вспомнил опять куртку. Как проснулся тогда в огромной квартире. Девочки спали живописной кучей. Брюнетка уткнулась носом в подушку, приоткрыла рот, с уголка капает слюнка – крепко спит, однако. Блондинка зажала между колен край одеяла, выставила попку – почему-то единственная из всех – в трусиках с нарисованным котом Гарфилдом в пожарной каске. Шатенка прижалась к ней сзади, обхватив рукой и – полусогнутые пальцы чашечкой – отвалились от блондинкиной груди – ослабели, спят.
Витька через головную боль снова пожалел, что камеру похерил. Но услышал голос напарника над стенками. Раскаянно обрадовался и, крикнул, обозначая себя.
Степка пришел хмурый и злой. Принес камеру. А про куртку и разговаривать не стал. Обиделся, что бросили его в клубе. Выслушал извинения, глянул на спящих и сунул камеру – работай!
Работали час. Посмеиваясь, бегали вокруг постели. Степка светил переноской – на цыпочки становясь, падая на колени. Витька танцевал вокруг, тоже падая, выгибаясь, балансируя на подтащенном парчовом табурете. Крупные планы – совсем детское личико, вздернутый нос, сдвинутая подушкой щека, в которой утонул зажмуренный глаз, и в дымке заднего плана – обнаженные ягодицы, прихваченные хищными ноготками партнерши… Сверху перепутанные волосы двух цветов и тонущий в них профиль лежащей позади девушки, центр кадра – ушко. А сережка встала дыбом от ночного кувыркания в постели. Никакого порно. Ничего, во что можно ткнуть пальцем, уличая. Но одновременно все – набухшее эротикой, как кровью, распирающей кожу в приступе нарастающего желания.
…Снимки девчонкам понравились. Только брюнетка вдруг разозлилась и ушла плакать в другую комнату. Остальные утешили мальчиков, что она «с похмелья всегда так, переживает – мама увидит и расстроится…». Попили кофе. Девочки дали денег.
А про куртку он потом сказал Наташе. Бросила трубку. Позже помирились.
И заметил, в те дни, когда с Наташей общался, летал ночами. То много, долго, а то – лишь просверком сквозь сон ощущение. Будто отметину ставил, было, летал. А сегодня снова пришла девушка-змея. Ноа. Так, наверное, зовут. А, может, придумалось имя. Остров Пасхи какой-то!
Витька глотнул сладкого кофе, снова включил телефон. Думать про сны – долго и, чем дальше, тем более громоздкими кажутся мысли, ветвятся, множатся. И непонятно, за какой идти, а целиком уже и не охватишь.
Утопая в солнце, следя прищуренными глазами за руками – без теней, лишь светлота кожи на оранжевой столешнице – захотел анатомический атлас. Вот это что за кость? Маленьким бугорком у сгиба локтя.
Телефон молчал, уютно лежа в ладони дремлющей рыбой. Непривычно…
И – звонок. Витька подскочил, ругнулся шепотом, криво улыбаясь.
– Да?
Сквозь потрескивание и нарастающее шипение – странный, сухой голос, как бы и не на связках, а бумагой по бумаге:
– Ты нужен нам… сс-сегодня…
Глава 10
Витька бережно отнес трубку от уха и, держа на весу, уставился на яркий экранчик. На кнопки, булавочные дырочки микрофона и динамика. Раньше не задумывался, откуда именно истекает голос собеседника при телефонном разговоре. Подносить трубку к уху не хотелось. Вспомнил, как в детстве поразил его эпизод отравления отца Гамлета: спящему – кАпель в ухо. И – смерть…
Смотрел на молчащий телефон и представлял себе, как оживут, начнут течь длинные слова першащим дымом, вползут в ухо, в мозг, устроятся там. Разъедая сухостью живые мягкие ткани.
Экран засветился, телефон ожил. Слабый гелиевый голосок пытался перепрыгнуть непосильное пространство:
– Витус? Ты где там? Зарраза!!!
Сглотнул и поднес телефон к уху, стараясь не касаться пластиком кожи.
– Але?
– Витька! – заорал телефон и Виктор нежно, горячо полюбил своего напарника. Живого и настоящего.
– Степ, ты?
– Блин, а кто ж еще?
– А че с голосом у тебя было?
– А-а! Это Тинка пыталась с тобой поговорить.
И Степан заржал удовлетворенно:
– Мы тут куролесили немножко. У нее голос сел, хрипит теперь.
– Так это она? Шипела?
– Ну! Уже и доктор был, все в порядке, но репетировать сегодня нельзя. Я и попросил, чтоб она мне телефон подала, чтоб тебе звякнуть, чтоб ты приехал, чтоб время зря не пропадало…
– Степа, заткнись!
– Ага! В общем, горло перевязано, подушки, градусники, патипа – «когда моя девушка больна». Трогательно…
– Логично. Молодец, Степчик. Сейчас соберусь и буду.
– Я стараюсь, сам же сказал, расти надо, всегда.
– Ждите.
И почти закончив разговор, Витька вдруг закричал в трубку:
– Слышь, напарник? Я правильно понял, Тинка-то не простыла? А?
– Ну! – гордясь, согласился рыжий, – кричала много. Ночью. Я и говорю – попросил, чтоб позвонила, а то мне через нее не дотянуться. Из койки.
– Поздравляю…
– Ага. Да, на работу заедь, если успеваешь. Надо шефине ручку поцеловать, и там сюрприз для тебя. Кожанка твоя нашлась. Забрал из гардероба «Флая». Так хороша, что за неделю никто и не позарился, га!! Я ее бросил в лаборатории.
И отключился.
Витька улыбнулся, радуясь за рыжего с Тиной. Отключил трубку, все равно полдня проведет с ребятами, а кому надо – из-под земли достанут. Потянулся, отлепляясь от деревянной нагретой лавки.
И не завершив движения, ахнул, схваченный тоской. Тяжело свалился на место. Вцепился руками в стол и уставился на ярко-желтое дерево в разводах годовых колец, краем сознания понимая, что теперь надолго тоска для него будет – такого цвета.
Так беспросветно, так горько… Нет, не горько. Ржаво. Ржаво на фоне серого низкого неба. Будто вся жизнь – кладбище бывших самолетов. Или – автомашин. Никого, лишь он и тоска. Которая притворяется чем-то конечным, с границами: ржавый остов, серый облачный слой; а сама смеется карканьем птиц – нет конца, нет границ, и Витька это понимает. Потому что кончится ржавье, а за ним – снова тоска, длинная, долгая, широкая – бесконечным покрывалом.
Раздавленно сидел, боясь двинуться, любое движение заранее вызывало острую боль никчемностью. Не хотел думать – больно. Пережидал. И паника уже скребет заточенным коготком по черепу изнутри: что будешь делать, если не пройдет? Так и будешь сидеть? А если станет – сильнее?
Можно ли умереть вот так, голым, только что болтая по телефону, прилипнув к дереву лавки? Перед щербатой чашкой с кофейной гущей? И – от чего?
Понимал, что именно от тоски, вряд ли. Но от сердечного приступа, что придет вслед за тоской, или инсульта, или приступа астмы, наверное – можно.
Было все равно. Может и лучше. Лишь бы не это.
Но рождалась медленно-медленно, выпутываясь из-под покрывала тоски, мысль. Надо плавно встать, одеться, выйти. И водой потечь. Найти русло. Минуя и обтекая, не затронув, острия и выступы.
Увидел, где ему быть сейчас… В открытом мерзлом поле, утыканном будыльями еще весной засохших метелок высоких трав. Зная, что на километры вокруг – никого. Лишь черный ветер по черной земле и чуть забеленные ночным снежком провалы закоченевшей земли. Серая охра травяной шерсти – клочками, облезлым рваньем, что не спасает землю от ночного холода. Сиротский голос птицы, вплетенный в ветер нитью темного цвета.
А больше нигде нельзя. Только там.
Двигаясь, как больной, медленно оделся. Выбрал кроссовки старенькие, с завязанными намертво шнурками – снимались и одевались всю жизнь кроссовочью – не шнуруясь. Не представлял, как сейчас – нагибаться, перевязывать что-то. Не расчесался, предпочел из двух действий, вызывающих глухую боль, выбрать одно – зубы почистил.
Из прихожей, поколебавшись, представив длинную пустыню комнаты, сходил таки за камерой, шаркая ногами. Уронил, зацепив боком, книжку на пол со стола. Не оглянулся.
Захлопнул входную дверь и побрел вниз по лестнице, боясь лифта, шума и встреч в нем.
На улице полегчало немного. Но за город, где нет людей и машин, оранжевых экскаваторов и бегающих с криками школьников, тянуло еще сильней. Тащило. Витька прибавил шагу, слабо радуясь кусачему северному ветру. И даже пару раз мелькнули будущие фразы, что потом скажет Степке – вот это меня прихватило! А сам будет удивляться, покачивая головой.
Маршрутка до института. Сунуть денег шоферу, привалиться к окну, ни на кого не смотреть. Пусть перемешанное городом пролетает, мелькая, гладит глаза.
Пустым гулким коридором – в лабораторию. Куртка. Хорошая куртка. Как была дерьмовенького вида, так и осталась – после всех приключений. Переодеться и, крадучись, через черный ход, какая шефиня, какие поцелуи ручек! – на улицу.
Маршрутка до вокзала. Билет на электричку. Чтоб уж совсем спокойно. И завалиться в угол, где перед носом отпотевшая черная резина – рамой заплеванному заоконью.
Два часа просидел, свернувшись внутри себя клубком. Не видя и не чувствуя заходящих, толкающихся, орущих, выходящих, и – других на их места. С сумками, тележками, открытым пивом, запахом пережаренных на старом масле пирожков из вокзальных буфетов.
За немытыми стеклами – дома, магазинчики, рынки, новостройки. Не то! Перелески, овраги, снова новостройки – щербатыми вставными челюстями на каменной от ночного морозца земле. Не то…
Два раза проваливался в сухую дремоту, истыканную разговорами попутчиков.
И, наконец, бетонная платформа в пустошах. Одна скамейка, промелькнувшая полосой синевы надпись – название станции. Не успел прочитать. Но, подхватился и, торопясь осторожно, вышел. Один. Постоял на платформе. За уехавшей электричкой разглядел извилины грунтовки – к горсти маленьких домиков почти на горизонте. Повернулся к ним спиной и пошел в поле, в другую сторону.
Шел долго. Оглядывался, проверяя. И только, когда станция скрылась из виду за плавным подъемом незаметного всхолмья, остановился.
Смотря вокруг, поворачиваясь, не видя ничего, кроме сухих трав, земли и серого неба, раскинул руки и закричал. Плакал криком, жаловался на тоску. Пел, срывая голос, заплетая рядом с птичьим темным криком темные жалобы без слов.
Пьянел от высокого градуса тоски, подставлял голову укусам северного ветра.
И отпустило немного.
Поднял брошенный фотоаппарат. Повесил на плечо чехол, на шею – камеру. И пошел от одного куста к другому. Снимал. Ложился навзничь, подползая под куртины тонких стеблей. Снимал мертвые метелки на фоне неживого неба. Нависая, снимал рыжие щеточки осоки на черных выжженных проплешинах. Скудный снежок, присыпавший серые комья. Истертый ботинок, полузарытый, с раззявленным в отчаянном пустом крике нутром, рядом – дохлый жук – унесло бы ветром, но зацепился колючей скрюченной лапой за истлевший шнурок. Разбитый игрушечный автомобильчик с проказой ржавчины по бывшей веселой зелени и красноте деталек. Общим планом – бескрайнее поле с черными шестеренками ельника на самом горизонте.
Снял свою тоску…
Через пару часов, оглядевшись, понял, что не знает, в какой стороне станция. А уже отошел, отмяк, ожил. Замерз и проголодался.
Уже и покрутил головой юмористически, в полную силу репетируя будущие воспоминания о том, как скрутило-то! И заволновался слегка, стемнеет, не ночевать же в поле, замерзнет. Но волновался пока не всерьез. Был мягок и слаб, как после жестокого приступа болезни. Пустая голова, пустая душа, легкое сердце плавает в груди бумажным фантиком по водной ряби.
Спрятал камеру в чехол и пошел прямо, собирая себя, дожидаясь мыслей. Пусть на ходу – сами. Может, все образуется.
Ровный гул двигателя догнал его, толкнув под правый локоть. Витька остановился, прислушиваясь. Так и есть. Справа, за плавным возвышением, гудит. Там, верно, дорога.
Свернул и заторопился вверх по склону. Не круто, но утомительно. Ухом держался за звук работающего мотора. Прикидывал, это же грунтовка, одна машина проскочит за два часа, мерзни потом. Боялся, что звук стихнет. Но он не стихал.
Добравшись до вершины, увидел пологую впадину, дорогу, еле нарисованную по черной земле. И яркой кнопкой среди тусклых оттенков – красный блестящий автомобиль. Звук уже не был ровным, мотор взревывал натужно. Похоже, застряли. У машины двое черными закорючками, шевелятся споро, перебегают с места на место.
– Эй!! – закричал Витька. И заторопился спуститься. Радуясь услужливой реальности. Сейчас он им поможет, они его куда-нибудь подбросят. Может, не в Москву, – на станцию. А если не на станцию, то приключение продолжится – заночует у сторожа в дачном кооперативе. Полстакана водки, чай, сало в рваной бумажке, разговоры. Волноваться за него некому, Степка хорошо, если к утру из постели Тинкиной выберется. Он и сам мастер пропасть куда на пару дней.
На бегу, подворачивая ноги на мерзлых комьях, Витька улыбнулся, представив, как он, такой всегда смирный и для Степана скучноватый, расскажет небрежно:
– Забрел в степь монгольскую, ночевал у аборигена. От самогона до сих пор, блин, череп раскалывается.
Двое, бросив суету, стояли неподвижно, глядя, как он приближается.
Белобрысый, с мокрыми от усилий жидкими прядями через широкий лоб, облокотившись на машину, смотрел узкими внимательными глазами. Темноволосый, с круглой стрижкой под горшок, подняв плечо, прикуривал сигарету, закрывал зажигалку длиннопалой ладонью. И сам – длинный, изогнутый. За локтем белобрысого на месте водителя маячила темная голова, чуть просматриваясь.
– Ух, еб! – добродушно удивился блондин, – ты откуда взялся, земеля?
Витька смешался. И в самом деле, что говорить? Судя по золотой цепи на шее у блондина и килограммовым перстням на длинных пальцах темноволосого – рассказы о вселенской тоске, погнавшей трезвого человека в эту пустошь, могут быть приняты за издевательство.
– Я… – он остановился рядом, развел руки и широко улыбнулся. Пожал плечами:
– Бухали с ребятами. А потом…
– Ага, за грибами ушел, да? – предположил блондин.
– Ну, типа того.
Темный молчал, курил. Потом выбросил длинный окурок, отошел на два шага от машины и, не отворачиваясь, расстегнул ширинку, стал мочиться на мерзлую землю. На лице – скука и недовольство.
У Витьки по спине побежали мурашки.
– Ну, ладно, чего стоять, – хмуро сказал темный, застегнувшись, – давай навалимся, втроем-то.
– Щас, Жука, погодь. Дай с малышом познакомиться. Как тя звать, малыш?
– Вик… Витька, – голос съехал в хрип и Витька прокашлялся:
– А вы не в Москву поедете?
– Подбросить?
– Хотелось бы, – неуверенно сказал, про себя прикидывая, может, заночевать в степи оно и лучше было бы.
– Подбросим, – легко согласился белобрысый, щуря узкие глаза. Протянул широкую ладонь:
– Я – Юра. Юрок Карпатый. Не слыхал?
– Н-нет.
– Вот и хорошо. Ну ладно, давай, хлопчики, напряглись!
Мотор снова взревел, втроем они поддели машину за багажник, раскачали. Медленно автомобиль пополз из рытвины, разбрызгивая болотистую мешанину. Встал на дороге, урча.
– Запрыгивай, герой, вовремя ты грибы пошел собирать!
Карпатый сел на переднее сиденье. Жука снова прикурил и, дымя, полез на заднее.
Витьке отчаянно захотелось остаться. Вот сказать сейчас «ну, ребята, я пошел, счастливо!»
Дверца с его стороны распахнулась.
– Ну, чего телишься, темнеет уже, – с нотками раздражения крикнул Карпатый, – залазь!
Витька нырнул в салон.
Жука сидел, привалившись к дверце, вытянув в просвет между передних сидений длинную ногу в остроносой туфле. А посередине, глядя прямо перед собой, сложив на коленках острые кулачки и сместив в Витькину сторону сомкнутые ноги в длинных сапожках, сидела девушка.
Витька опешил.
– Здрасс, – сказал, устраиваясь. Стараясь не прикасаться бедром к ворсистой темной юбке.
Девушка кивнула равнодушно, не поворачиваясь.
– Знакомься, кореш. Это Ладочка. Моя бывшая женщина. Решила сегодня скрасить нам одиночество. Правда, Ладочка?
Девушка промолчала.
Белобрысый повернулся, скрипя кожаной курткой, закинул локоть на спинку сиденья. Повторил вопрос:
– Правда, Ладочка?
Ладочка оторвала взгляд от зеркала заднего вида. На секунду.
– Правда.
– Молодец, ладушки! – хохотнул Карпатый и, потянулся через салон, мазнул девушку по лицу широкой ладонью:
– Любит меня, – поделился с Витькой, – от меня женщины просто так не уходят. Нравлюсь. Правда, девонька?
– Правда.
– Та-ак…
– Правда, Юрочка.
– Хорошо, – удовлетворился Карпатый. И поторопил шофера:
– Ну, давай, уже, давай, ехай. А то Чумка там на сранье изойдет, без водки.
Ехали около получаса. Ладочка молчала, глядя темным взглядом в спинку переднего сиденья. Карпатый и Жука лениво переговаривались. Вспоминали каких-то знакомых, посмеивались.
В сереньких сумерках подъехали к дощатой сторожке – не сторожке – одинокий домишко на два окна. Будка собачья, металлолом, раскиданный по грязному двору, обозначенному забором из сетки-рабицы.
Выскочили из машины. Заходили рядом, переговариваясь. Витька остался сидеть. Лада тоже. Жука побежал стучать в облезлую деревянную дверь, крича хозяина.
Карпатый нагнулся к открытой дверце:
– Ну, чего сидите? Вылазь, перекусим, с хозяином побазарить надо. А там и поедем. Не боись, малышок, доставим в целости и сохранности.
И ушел к дому.
– Никуда он вас не отпустит, – сухим шепотом сказала девушка, – не надейтесь.
– Как не отпустит? – у Витьки все затосковало внутри. Другой тоской, опасной.
– А так. Попали вы.
И она, нагнув светлую голову, полезла из автомобиля. Встала, кутаясь в приталенную плюшевую курточку. Тонкая, невысокая, длинные волосы по плечам светят в сумраке на черном плюше.
Вспыхнул свет в окнах. В открывшуюся дверь задолбило басовитой воркотней.
Карпатый, посмеиваясь, разговаривал с хозяином. Что-то внесли, достав из багажника – какие-то мешки.
Витька встал рядом с Ладой.
– Что же делать? – спросил шепотом, беспомощно.
– А хер знает, – зло ответила Лада. Махнула по мокрым глазам тонкими пальцами.
– Ну, че стоите, как засватанные? – загремел Карпатый, – давай в дом. Греться будем.
Девушка поправила волосы и пошла медленно в полосу света из дощатой двери.
Витька огляделся. Пусто. За сеткой-рабицей во все стороны – поле, холмы плавные. С одной стороны – черная недостроенная дача. Или полуразваленная, не понять. Некуда. Пусто. На машине догонят в момент. Не стемнело еще толком, побежать – увидят, куда. И – девушка. Черт знает что!
Медленно поднялся на крыльцо. Сжал пальцами чехол с камерой. Вздрогнул, услышав, как взревел мотор позади, развернувшись, машина уехала, сверкнув фарами по ржавым останкам.
Ну, может, попозже, удастся, как-нибудь, отсюда. В темноте.
Перевел дыхание и вступил в жаркую вонь комнатки.
Глава 11
Комната до того засалена, нетронута наведением порядка, что ни к чему еще не касаясь, руки хотелось помыть. Девушка, в простеньких, хоть и сидящих по фигуре вещичках, сразу показалась магазинной игрушкой – новенькой, ничьей еще.
Стояла ровно, чуть опустив голову, не смотрела по сторонам – не испачкать глаз, казалось.
Юрок плавным котом двигался по тропам нахоженным среди хлама – вдоль стола, к ларям у стен, к замызганному холодильнику – в грязно-белых круглых обводах с облезлым хромом. Разговаривал, похохатывая, с хозяином, доставал из холодильника кульки, свертки, бросал на стол. Взамен ткнул в желтушное нутро три бутылки водки. Зазвенело стекло по металлическим решеточкам.
Жука, подойдя к столу, выгреб из пакета нарядные магазинные упаковки и банки: чипсы, тушенка, какая-то рыба. Или – крабы. Отошел в угол и, примерившись, чтоб не цеплять хлам, сел в старое кресло, утонул, сложив колени, так что лишь макушка за длинными ногами маячила. Достал из кармана телефон и погрузился в пиканье и звяканье – играл.
Проследив, куда обращается Карпатый, Витька с трудом разглядел хозяина. Сливаясь с хламом, укоренившись в него, длинный сухопарый старик в тельнике, рваном на худом плече, сидел, яростно сверкая глазами. Слушал прибаутки и матерки Юрка с мучительной гримасой как бы ненависти, какая бывает у пьяного глухого – подраться хочется, а не понять, с кого начинать, откуда оскорбили. Похоже, пьян был всегда. Но не водкой, а самой жизнью своей, что подходила к концу на взятом когда-то молодеческом бандитском размахе. Видно, что так и скользил по времени, старея и снашиваясь, спиваясь, но не останавливаясь, безоглядно – по черной трубе со свистящим в ней сквозняком.
– Ну, Чумка, не боись, сейчас ужинать соберем. А я тебе хозяйку привез. Не узнал девочку, а, Чумка?
Витька краем глаза увидел, как вздернулись плечи девушки, будто ударили ее резко и от неожиданности больнее, чем ждала.
– Ты! – каркнул Чумка, – Галя где? Где Галя моя?
Подавшись вперед, упер мятый костистый кулак в столешницу, завозил, расшвыривая пакеты. И, заклекотав, захлебнулся кашлем, покраснел всосанными внутрь щеками, ощерясь, закричал тонко, пронзительно:
– Уби-ил мою Галю, паскуда!!!
По серым щекам текли слезы, проваливаясь во впадины.
– Бля, совсем съехал с катушек, дурила старый, – лениво сказал Жука, не отрываясь от игрушки, – Карпатый, водяры налей ему.
– Давай, Ладочка, снимай шубку, хозяйствуй, – распорядился Карпатый. Сел между столом и холодильником, вздохнул. Огрызнулся:
– Подождет, старый пидар, Галю ему подавай. На работе твоя Галя, на работе. Не смогла приехать. У нас вот – Ладочка.
– Галя! – старик тряс головой, плакал.
Карпатый, хмыкнул, глянул на Витьку, покрутил головой:
– Идиот. Белка у него. Уже и водяры не надо. А Галю любит. Это моя женщина – Галя. Жена бывшая. Чумка еще не болел, она ему сильно нравилась. Да, Чумка? Хороша была Галя, да? Она даже тебе, козлу старому, как-то дала. Пожалела. Вот он ее и любит с тех пор. Я бы вас познакомил, земеля, да Галка сегодня не поехала, смена у нее сегодня.
Откинувшись от стола, открыл холодильник и достал на ощупь бутылку:
– Сейчас налью, а то ведь и посидеть не дашь. Будешь все Галю поминать.
И, наливая до половины мутный стакан, поделился с Витькой, радуясь удаче:
– Не смогла Галка с нами. А тут, глядь, стоит красавица – ножки-сапожки. Будто и не прошло пяти лет, как последний раз виделись! Ладочка, девочка, а как мы с тобой зажигали! Ну, это еще со школы у нас с ней – такая цыпа – юбочка синенькая, рубашечка! Глазками стреляла. Я тогда из бурсы сбегал, через забор посмотреть, как они на физкультуре выебывались. Да, Ладунчик?
Лада, сняв курточку, занималась столом. Разворачивала свертки, нарезала колбасу. Услышав вопрос, опустила голову ниже, свесились гладкие волосы, скрывая лицо.
– Не слышу, – лениво удивился Карпатый.
Тишину простукивал звук ножа о засаленную столешницу.
– Не слышу, блядь! – заорал блондин, подавшись вперед. И Витька высмотрел во внезапном разрыве времени, в этом – широкоплечем, гибком в талии, с красивой крепкой шеей – Чумку, чье сознание уже схлопнулось в визгливом истерическом тумане.
– Нет! – крикнула Лада. Звякнул широкий мельхиоровый нож с тупым, не пригодным ни к чему лезвием. Закрыла лицо руками:
– Не было ничего, ты все врешь!
– Не было? – широкое лицо Карпатого наливалось краснотой, становилось бурым. В углу Чумка, получив свои полстакана, чмокал древним младенцем, постанывая от удовольствия, тряся рукой, подбирал с подбородка капли водки, сосал пальцы.
– Не было! – театрально сокрушаясь, Карпатый налил себе, махнул одним глотком, прижал ко рту рукав:
– Вот она, благодарность бабская! Вот они суки! А как я за тебя отпиздил урода того в ресторане? Не было, говоришь? Ты мне на шею кинулась тогда! И сюда приехала. Сама, блядь, приехала, никто тебя не тащил за шкирку, паскуда. А потом, когда беременную встретил, помнишь? Цветов подарил, ах, радовалась!
Выпил снова. Бросил на стол кулаки. Задумался, темнея бурым лицом. «Мордой» – бессильно подумал Витька, сидя напротив, костенея яростью до боли в позвоночнике.
– Веришь, всю жизнь только об ней, – добавив в голос ноющих ноток, заговорил Юрок, – узнал, что развелась, вот, думаю, – сойдемся, будем вдвоем!
Лада кинула ненавидящий взгляд на витийствующего Карпатого. Руками дергала и мяла веселый хрустящий пакет на столе. Промолчала.
– Ну, Жука, давай к столу, – деловым уже голосом распорядился Юрок.
– А ты, земеля, мобилу дай.
Витька холодными руками общупал карманы куртки, висевшей на спинке облезлого стула.
– Нет у меня, в другой куртке оставил, – сказал. Внутри мелькнула радость, хоть в чем-то может отказать уроду.
– Как это нет? – тяжело удивился Карпатый, – такой модный мальчик и без мобилы? Че думаешь, не найдем, что ли? Жука?
Жука подошел сзади, перетряхнул куртку, прошелся по карманам Витькиных джинсов. Отобрал с колен камеру.
– Нету, Юрок. Фотик только. Навороченный, гляди!
– Опа! Так ты у нас фотограф, блядь? Ну, повезло, Ладка девка видная. Фотомодель. Щас пожрем и поснимаешь. Она все поснимает, а ты ее поснимаешь!
И захохотал собственному остроумию.
– Не надо, Юра, – тихо сказала девушка. Слезы катились из глаз, догоняли друг друга, пятная серый тонкий свитерок черными крапинами.
– Надо, девка, надо. Вас учить, бля, надо. Всегда. А то привыкли, глазами стрелять, динамить. Бля, место должны знать, свое! Пей водку, Ладка. Пей, не боись. Я тебя в обиду не дам. Сам поебу, Жуке дашь – мальчик поснимает. Санек с утреца приедет и всех по домам. Ты только, земеля, так сними, штоб ее личико было, а наших не видать, понял? Мне потом снимочки сделаешь, пригодятся.
– Юра! – закричала девушка, – Юра, ну зачем? Ты же сказал – на минутку! Ты же обещал подвезти только к метро! Юрочка, я тебя прошу, Христом богом прошу, не трогай меня!
– Не ссы, пей. Шучу я. Поговорим. О книжках, да? Ты ж у нас девочка интеллигентная, культурная. С Галкой говорить – пиздец. А ты сейчас расскажешь что-нибудь. Расскажешь? Ну?
– Да.
– Во, бля! Снова забыла, как надо?
– Да, Юрочка, – шепотом сказала девушка. Села, опустив голову, мяла одной рукой другую, царапала. Витька сбоку видел, как мелко тряслись ее колени.
Жука подсел к столу. Выпил, стал есть крабов из банки, цепляя длинные бело-розовые клочья вилкой и пачкая мокрым темные усы.
Следующие два часа Карпатый царил. …Поганый цирк одного актера. Рассказывал какие-то случаи, хохотал, пускался в воспоминания, пьянея все больше. Не забывал пугать Ладу тем, что сейчас будет, и с удовольствием наблюдал, как сжималась девушка, втягивая голову в плечи.
Витька один раз услышал со стороны свой деревянный голос. Что-то он такое сказал, вроде бы «оставь ее в покое». И взрывом – дерево стола об скулу и ухо. Извиваясь, пытался выбраться из-под насевшего Жуки, и обмяк смертно внутри, на расстоянии нескольких сантиметров увидев полуобморочно закаченный в сладострастном предвкушении чужой смерти Жукин глаз.
Потом, когда Жука отлепился нехотя, повинуясь косноязычному грозному крику Карпатого, обнаружил, располосована футболка на боку и из пунктира неглубоких порезов, суетясь, бежит каплями кровь. Но глаза, в котором перед этим увидел смерть – испугался больше.
А Лада кричала:
– Не надо, Сережа, миленький, не надо!
И, уже отпущенный смертью и Жукой, лежа щекой на занозах стола, Витька удивился ватно – какой Сережа?
Трусливо хотелось потерять сознание. Время становилось невыносимым. Висело на шее гирей, тянуло вниз, к точке излома. Каждая секунда казалась последней, которую выдержит. Следующую уже нет. А Лада? Думал, она ведь тоже так, наверное.
Чувствуя, что сердце вот-вот разорвется от невозможности сделать хоть что-то, в надежде выпасть из этой реальности, куда угодно – два раза выпил водки. Ставя пустой стакан, наткнулся на взгляд Лады, что, остро жалея Витьку, одобрил. Даже кивнула слегка. Понял. Да разве ж можно это вынести на трезвую голову. Она тоже пила. Немного.
После того, как Жука подрезал Витьку, что-то, верно, решила про себя. Мертво улыбалась Карпатому, поддакивала, слушала, ахая, его рассказы. Со страшным, устремленным вглубь себя взглядом – свернулась – пережить, перетерпеть все. Только бы ночь прошла. Как угодно, лишь бы – прошла.
Раза два вставала, пробиралась к двери. Задремавший было Карпатый бдительно вскидывался:
– Куда? А, поссать. Жука!
И Жука, ухмыляясь, выходил следом в колкую темноту.
Витька всякий раз замирал, ожидая крика, но Лада возвращалась. Жука следом – к столу. Он почти и не пьянел, хотя пил много. Иногда взглядывал на Витьку, почти с нежностью, словно благодаря за доставленное удовольствие. Как на женщину, что была сладка и которую можно еще, потом, уверенно.
Очнувшись от дремоты, Карпатый впал в слезливость. Путаясь руками, стащил щегольскую шелковую тишотку, обдавая всех запахами дорогого парфюма и свежего пота, возил пальцами по груди, показывал купола, тигров, женский портрет на предплечье. Потребовал музыки. Под включенную автомобильную магнитолу, разбросавшую на подоконнике разноцветные провода, прерываясь, чтобы подпеть шансонье, рыдающему о маме, объяснял, где сидел, за что, почему набил вот это и вот это.
Потом заснул, обвалившись на стул, свесив полураскрытые кулаки. Захрапел пьяным булькающим храпом.
Витька напрягся, забегал зло и беспомощно глазами по сторонам, пытаясь высмотреть что-нибудь тяжелое, сил терпеть уже не было никаких. И встрепенулся на умоляющий шепот:
– Нет, Жука, н-не надо…
Увидел, что Жука, в секунду переметнувшись, облапил Ладу, унимая свистящее дыхание, задирал свитерок, кося сторожко на Карпатого. Лез другой рукой в мякоть сжатых коленок, цепляясь за тонкий нейлон колготок. Прошипел что-то.
Витька подхватился, вцепившись руками в стол. Вот, сейчас! Падлу этого!
– Сидеть, ссуки!
…Застыл ломано над столом, ударенный в лоб совершенно трезвым голосом Карпатого.
– Жука, пошел вон, морда хитрожопая, – будничным голосом распорядился проснувшийся.
Жука тут же отошел, бросился в кресло с недовольным лицом. Но в глазах страх, выдернутый натянутой струной угрозы в спокойном голосе хозяина.
Карпатый встал, потянулся сладко. Будто и не пил вовсе. Оглядел сверху гостей.
– Ну, Ладка, раздевайся, – велел.
– Юра…
– Я кому сказал. Не доводи, снимай свои тряпки.
Витька уперся взглядом в столешницу. Серое дерево, истыканное ножом. Царапины, задиры, вот свежий надрез желтеет дурацким солнечным оттенком. Глаз поднять не мог.
– Во-от, – услышал, – молодец, девка! Туда положи, подальше, в сундук. Ох, трусики какие! Ну-ка, повернись спиной. Ах, какая, смерть – девка! Покрутись, покрутись. Снимай кружавчики свои.
– Юра… Я тебя прошу, Юра…
– Раньше надо было думать. Что, Юра? Я тебя спас, а ты и поблагодарить не хочешь? Нехорошо!
– Я… Юра, пойдем туда, Юра. Я там разденусь, можно?
– Жука, смотри за малышом, – голос у Карпатого был довольный, – позову, придете вместе.
Хлопнула дверь. Витька потащил взгляд вверх, через иронично посматривающего на него Жуку. У того в длинных белых пальцах танцевал нож. Сверкал, складывался и распахивался узкими крыльями. Равнодушно миновав Жуку глазами, увидел неприметную дверь среди составленных у стены коробок, тряпья и кучами – старых газет. Ну да, спальня…
В наступившей тишине бормотал, ворочался и вскрикивал давно отрубившийся Чумка.
Черным мазутом потекли минуты. Неровные, отмечаемые сверкающими взмахами ножа. Время испугалось и подчинилось. Минута – разошлись острые лопасти крыльями богомола, другая – схлопнулись тонкой закоченелой змеей.
И – тихо за серой дверью. Услышать бы, понять – что там, переспорить уверенность, подраться с ней, доказать, там – ничего. Сидят, разговаривают. Но не переспоришь. С каждой следующей минутой тишины, – хоть завозились бы, крикнули, уверенность тяжелела. И падала в черную дыру непоправимости того, что, хотя еще происходит, но уже произошло.
По времени, измучившись его неровностью, пошла трещина. Отламывая кусок, приближала секунду, за которой – нет сил терпеть, никаких сил, за которой – все, что угодно, только не ожидание. Почти отломила, куском асфальта – жестким угловатым – повисла минута на тонком сломе тягучего битума последних секунд.
И тогда Витька, заранее умерев внутри, понял, что нет назад дороги, нет. Теперь, сейчас – на одну плоскость с ними, в черную трубу их реальности, дать подхватить себя свистящему вонючему сквозняку.
Приготовился вскочить и кинуться на нож, вдруг кто спасет. Говорят, Бог есть. Пусть он. Ведь не за себя же. Она там. Он даже лица не разглядел – девушка и все. Только волосы длинные, гладкие. Сделает стрижку, и он не узнает ее на улице, мимо пройдет. Ну и пусть. Пусть так. Если дано ему будет пройти, а ей – сделать стрижку.
А в мазуте вдруг зашевелился звук, посторонний. И оба насторожились, подняли головы, в слепое оконце, за которым, оказывается, уже не чернота, а серенько, жидко. Машина? Близко совсем.
Жука мягко вскочил, приоткрыл входную дверь, высунул голову. И тут же обратно, чиркнул по Витьке темным, смертью грозяшим взглядом. Крикнул:
– Юрок! Галка твоя едет!
– Бля!!!
Дверь в спальню резко распахнулась и Карпатый выскочил, очумело вертя головой, придерживая спадающие джинсы. Рукой приминая рыжие заросли, защищая плоский белый живот от зубчиков молнии, застегивался по голому. За его спиной, в раме облезлых дверных косяков, среди раскиданных подушек – Лада, маленьким комком, кажется, на ладони можно унести. Белые полосы коленок. Рядом на сероватом смято-простынном – черное пятнышко мертвым скворцом. Трусики. Руками обхватила голые плечи.
Стукнулась о косяк входная дверь. Бледный рассвет затек, перемешался с желточным светом грязной лампочки. И в сереньком – ярко – рослая женщина в черной кожаной куртке, блестящей юбке по колено, в серебристых с каменьями сапожках на шпильках. Черные локоны, взбитые вокруг белого лица, красные губы. Уши с мочками, оттянутыми длинными серьгами: заскакали зайчики от крупных камней – по разоренному столу, по голому торсу Карпатого, отразились в сомкнутых крыльях Жукиного ножа.
Боязливое облегчение, неистовая надежда пополам со стыдом – баба сейчас все разрулит, что ему не удалось, – упала на Витьку, заморозила посреди движения.
Стремительно подойдя к столу, Галка стукнула пузатой бутылкой о расстеленную газету.
– Гуляем, значит, – спросила с угрозой в голосе, – опять поблядушку притащил, да?
– Галочка, все путем, – засмеялся Карпатый, пятерней приглаживая жидкие пряди. Потянулся, обхватив женщину рукой, – поцеловать. Та, зажмурясь, подставила ему щеку.
– Вот, знакомься, Витюша и Ладочка. Грибы собирали. Я им спальню Чумкину уступил. Витек у нас фотограф, хочешь, тебя снимет.
– Ага, – Галка села, перевела дух, откупорив бутылку, плеснула себе в стакан благородной жидкости.
– Так я тебе и поверила. Он-то, может, и фотограф. А потаскуху ты сам подобрал.
Карпатый сел за стол и налил себе:
– И что?
– Да ничего. Я на базе до самого утра колупалась, пока ревизия, пока то да се, а ты, сукин кот, веселишься.
Жука с интересом слушал, переводил взгляд с Карпатого на Галку. Витька осторожно сел снова. Карпатый выпил. Закурил сигарету из брошенной Галкой на стол узкой золоченой пачки. Выпустил дым. Сказал ласково:
– Ты, если приехала, пей и молчи. Я что хочу, то и делаю. Еще мне будешь указывать. Или сейчас разденешься, ляжешь к Ладке, вдвоем поваляетесь, нам будет на что посмотреть. Кончит она еще раз, мне будет приятно.
И выругался длинно.
Витька подобрался, ожидая скандала.
– Да что ты, Юрочек, – ласково сказала Галка. Улыбнулась сочно пламенеющими губами:
– Разве я тебе когда перечила. Выпей коньячку, солнышко, и иди опять к своей курве. А я посижу пока, устала очень.
– То-то же.
Карпатый повернулся, изломившись белой кожей над ремнем джинсов, крикнул в открытую дверь:
– Котенок, иди к нам, познакомься с Галинкой.
И подмигнул Витьке. Подождал и, ругнувшись шепотом, снова крикнул:
– Я все по два раза должен? А ну, давай сюда!
Босая Лада вышла из спальни. Черные трусики, на плечи наброшена рваная рубашка. Верно, нашла в завалах тряпья у кровати. Присела на край стула. Заоглядывалась, ища взглядом свою одежду.
– Обойдешься, – лениво сказал Юрок, – хряпни коньячку, согреешься.
Жука придвинул кресло к столу и, утопая рядом с крутым Галкиным бедром, незаметно для Карпатого положил пальцы на плотный шелк юбки. Усмехнулся метнувшемуся в сторону Витькиному взгляду.
Через полчаса Карпатого настиг-таки хмель.
Галка оживилась, командуя, заставила Витьку и Жуку перенести бесчувственное тело на смятую постель. Поморщилась, увидев на кровати скомканные трусы-боксеры. Стоя над храпящим, немного подумала.
– Жука, – распорядилась, – сними с него джинсы и ботинки, пусть поспит.
– Так я…
– Жука, давай быстро, а то мы все без тебя выпьем!
Выскочила из комнатки, прикрыв дверь. Схватила и сунула в руки Витьке камеру и куртку.
– Быстро, сучонка, одевайся, – прошипела Ладе, оглядываясь.
– Там все, в сундуке…
– Идиотка!
И вытолкала обоих за входную дверь. Швырнула следом высокие Ладкины сапожки:
– Мотайте отсюда, быстро. Как сможете!
Дверь захлопнулась, протащив по грязному полу упавшую с плеч девушки засаленную рубаху. Витька услышал, как закричала Галка встревоженно внутри:
– Батюшки, убежали, сволочи! Сейчас, Сережа, сейчас, тут дверь заело.
Витька схватил Ладу за руку, потащил к машине. Подергал ручку дверцы. Заперто. Заметался беспомощно, проклиная себя за медлительность и бестолковость. Время растянулось, вибрируя – сейчас порвется. Лада, ссутулившись, натягивала сапожки, всхлипывала.
Витька рванулся к ней, кинул на плечи куртку. И застыл на секунду, пораженный. На угловатом плече, из-под сползшей куртки – татуировка. Цветная змейка. Мелькнуло, деталей не разглядел. Закинул ремень камеры через голову, схватил девушку за руку.
Побежали, спотыкаясь на комьях мерзлой земли.
Позади распахнулась дверь. Галкин крик стукнул в спину, подгоняя.
Оглянувшись, Витька увидел, как выбежала она на крыльцо и накинула крючок. Изнутри заревел Жука, поливая Галку бранью, ярясь.
– Бегите! – крикнула Галка. Засмеялась пьяно, запрыгала по двору, закружилась, раскидывая по утреннему ветру черные локоны.
– Ты что умеешь? – на бегу крикнул Витька, сжимая Ладкины пальцы, нещадно подтаскивая ее за собой.
– Что?
– За что змея, спрашиваю? Татуировка?
– Я не… Что? – Лада заплакала от неумения понять, чего он хочет.
Дверь позади с треском распахнулась. Жука, хрипло выкрикивая что-то, вырвался.
Витька не удержался, снова оглянулся. Галка лежала на земле, раскинув полные ноги в сверкающих сапожках. Жука прыгнул в машину.
Витька поддал, Лада повисла на его руке, не успевая.
Но уже все было хорошо. Кроме черной трубы со смертным сквозняком, кроме мерзлых комьев и лежащей на них Галки, на смеющееся лицо которой, с заплывающим уже глазом от Жукиной оплеухи, сеялся скупой утренний снежок, – была еще одна реальность.
Не обращая внимания на шум мотора, буравящий спину, Витька остановился. Напрягся, стараясь унять крупную дрожь. Главное – не сомневаться. Главное верить – получится. Должно получиться! За всех тех, кто ничего не смог сделать.
Глядя на запрокинутое лицо Лады (глаза у нее круглые, темно-карие, ресницы прямые – щеточкой, а подбородок, оказывается, остренький, с ямочкой посередке – узнает он ее теперь, везде узнает!), прижал девушку к себе:
– Слушай, все будет хорошо. Ты только скажи, что ты умеешь делать лучше всего на свете?
Лада молчала, глядя на него отчаянными глазами. Не понимала.
– Вздохни. Хорошо, – он почувствовал, как прикоснулась к футболке ее грудь.
– А теперь, слушай и говори. Что. Ты. Умеешь. Делать. Лучше. Всего?
Увидел, как темнота из глаз, размываясь, стала уходить. Побледневшие губы пошли трещинками улыбки. Поняла!
– Я рисую! Витька! Я рисую!!! Лучше всех!
И, уже поднимаясь плавно вверх, не замечая, как протекают они слившимися телами широкие струи мягкого ветра, заторопилась:
– Я не училась никогда, понимаешь, но вдруг – стала рисовать. Это волшебство просто, я ночами не сплю, тоскую, потом беру мелки и раз, раз… Потом смотрю и… Я это сделала, я! А никому, вроде бы и не нужно, но я, я – рисую, Вить!
– Нужно, Лада, нужно, – Витька уткнулся носом в гладкую макушку, подышал. Рассмеялся.
– Посмотри вниз, не бойся.
– Ой.
Внизу, поездив беспорядочно по двору, Жука выбрался из машины, и стоял на крыльце, задрав голову. Кричал сорванным голосом.
Лада подняла лицо. Глянула на Витьку быстро темнеющими глазами:
– Им это точно не нужно.
И, вывернувшись вдруг, откинулась, повернулась вниз, будто свесившись с балкона. Обхватив одной рукой Витьку, другой резко махнула вниз, сведя пальцы, будто хотела, оторвав руку – бросить.
Через секунду безвременья, в тишине его, сторожка вдруг взорвалась огненным столбом, торопясь распуститься языками пламени – вверх, в стороны…
Звук бухнул, догнал их, подтолкнул снизу.
Девушка рассмеялась ликующе и горько, прижалась к Витьке. Ветер, будто снова поменяв направление, мощно задул с земли, унося их выше, еще выше. От догорающей сторожки, от сидящей на земле крошечной Галки, что смотрела, не понимая, потом поднялась и, прихрамывая, заторопилась к машине, подальше от жара и падающих на мерзлую землю огней.
– Он ведь не все наврал, Витя, – сказал голос Лады в темноте. Высокой и ветреной темноте.
– Это неважно. Мы сейчас спустимся. Или проснемся. И ты…
– Нет, Витя. Ты спустишься. Или проснешься. А я – не хочу. И не могу. После того, что сделала.
– Как? Я не понимаю.
Он почувствовал – зашевелилась, стаскивая куртку. Ткнула в руки, подмышку неудобным комком:
– Не потеряй, улетит.
И оттолкнувшись, оторвалась, невидимая в черном пространстве. Похоже, они залетели даже за день и находятся в чьей-то ночи.
Витька зашарил руками вокруг:
– Лада? Ты что? Куда ты?
– Все нормально, Витька! – она рассмеялась. И смех запрыгал по темноте нежными вспышками, какие бывают, если нажать пальцами на закрытые веки.
– Мы встретимся. Я еще не знаю, где. И я сделаю стрижку. А ты меня – все равно узнаешь…
Глава 12
Больно!
Витька дернулся, полез, сгибаясь, потереть ногу. И скривился, свистя воздухом сквозь зубы. По привычке, оказывается, потянулся – боль не в ноге. Скрученный наклоном бок заболел сильнее, запульсировал. Кожу кипятило.
Выпрямившись, упер взгляд перед собой: серо, черные жилочки, будто потерянные волосы развезли мокрой тряпкой. Слушая боль, просыпался. Или – приходил в себя.
Второй приступ боли прояснил сознание. Электричка. Перед глазами – пластиковая стена вагона, серая в черных прожилках. Мутное стекло окна холодит лентой пейзажа щеку и глаз. А с другой стороны – толстяк в драпе. Мрачно поглядывая, умащивает между собой и Витькой угловатый черный портфель. Тычет им в бок. И бок – болит.
Витька повернул голову, уставился на толстяка. Может, с излишним вниманием. Все еще соображал, откуда здесь, вокруг Витьки – электричка. Толстяк вспотел верхней губой вызывающе. Измазал Витькино лицо темными глазками. И забеспокоился. Рот приоткрыл чуть, задышал, сглотнул. Забегали глазки быстрее, оглядывая всего Витьку.
Захотелось прихлопнуть бегающий по лицу взгляд.
Толстяк отвернулся, вцепился белыми пальцами в ручку портфеля и застыл, изучая стенку перед собой. Профиль его чутко следил за Витькой.
А тот снова удивился боли в боку. Ну, портфель, но так больно?
Заворочался, царапнув пальцы расстегнутой молнией куртки, полез внутрь. Нащупал шершавый край футболки. И, локтем отжимая портфель, потянул, распахивая, край куртки – смотреть.
Увидел – маячит багровым ртом засохшее пятно крови вдоль четкой линии разреза на ткани. «Острый нож был у Жуки…». Полез пальцем в дыру, раздвигая жесткие обрывки. И поморщился, нащупав пунктир ссадины. Пальцу потеплело.
Вытащил руку и посмотрел на яркую праздничную кровь. Щекой почувствовал тревогу толстяка. Портфель по сиденью отъехал медленно и осторожно. Стало легче дышать.
Вдохнул, следя – заболит ли. И зажмурился, вспомнив яркую вспышку. Будто из космоса, смотрел сверху на кляксу огня. «Кто еще так смотрел, мы вот – смотрели».
Мы? Витька измазанными пальцами схватился за чехол камеры – там аппарат, на месте. И вспомнил много всего. В полном беспорядке. Сжался внутри, притих, забился в угол сознания, наблюдая, как хлопьями снега закружились воспоминания глаз, воспоминания ушей, ладоней. Знал, пока не надо ловить, собирать, пусть валятся все, как можно больше. Тогда и подумает, про электричку, порезы на ребрах, грязную куртку – что было, а что прилетело за компанию – из сна.
Стало совсем свободно. Толстяк вышел. Нет, пересел, вон его стриженая шея из-под кожаной кепки, напряглась, – сторожится.
На освободившееся место никто не сел. Витька криво ухмыльнулся, уперев в колено локоть измазанной кровью руки. Еще бы. И пил. Перегаром, верно, дышит. Как раз к месту здесь, в дальней электричке, такой дальней, что ребятки успевают и напиться, и подраться, и покемарить, и проснуться.
Никого не удивит он здесь. Правда, ментов могут вызвать по внутрипоездной связи. Но пока, вроде бы, нет возмущенных дамочек с опухолями начесов на головах. Такие, обычно, активничают. И толстяки такие. Но толстяки трусливее. А какая-нибудь толстуха уже бы истерику устроила…
Мысли какие-то… Гопнические…
Вспомнил Ладу, швыряющую вниз огонь и ощутил холодную ненависть, смешанную с удовлетворением – как она этих! И правильно!
Все ли было на самом деле так, как вспомнилось? Ладно, дома подумает, после ванной. Передернул плечами. Воспоминания пачкали. Но все подходили и подходили, настойчиво дергали за край куртки, открыв рты, дышали со свистом, как грязные дети с полипами в носу. Не прогонишь.
Витька привалился к холодному стеклу лбом, закрыл глаза. Стекло при каждом рывке больно стукало бровь. Съехал пониже, утонув головой в воротнике куртки, прижался ухом к нагретому нутру. Валясь в дремоту, подумал, «я сейчас совсем такой, как они, там в сторожке. Были».
Проснулся ватно. Стоявшая рядом бабка в черном цыганском платке с золотыми и красными розами – маленькое сморщенное личико – случайным камушком в складках орнаментов и цветов, осторожно дергала его за плечо:
– Ты, милый, здесь выйди. Тута билет не нужен. На конечной возьмут тебя. А здесь можно…
Витька промычал что-то, в полном соответствии с образом. И вышел, до двери вагона поддерживаемый бабкой под локоть. Да, в ментовку угодил бы запросто на вокзале. А бабка спасибо. Хотя она кому угодно так поможет – убийце, бандиту. Все у нее милыя.
Прерывисто работало сознание. На автомате двигаясь, обнаруживал себя на остановке, в маршрутке (застегнулся глухо, руку спрятал в карман), в лифте, в ванной. Кривясь, промыл рану – неглубокую, но длинную, противно. Мастер Жука, знал, как подрезать, чтобы крови побольше. Был мастером. Был?
И, упав ничком на смятую постель, успел подумать, запачкает простыни, надо менять…
…Приснилось море. Далеко внизу ярились волны в белоснежных пенах. Витька, боясь и оскальзываясь, пробирался узкой тропочкой по крутому склону. Не к морю вниз, и не наверх, а – вдоль. Хватаясь за обдерганные стебли полыни и дерезы, нащупывал ногой залощенную подошвами глину. Каждый раз, начиная скользить, обморочно представлял, как срывается и, разодрав до крови ладони, падает в веселое яростное море, где мокро торчат темные клычья камней.
Знал, там, наверху, автострада. Посвистывают шинами длинные авто – одно за другим. Пешеходные дорожки без уклонов, ровные и безопасные. Но брел здесь, прозревая бесконечность змеиной кривизны тропки. Безнадежную бесконечность. Или наоборот, хорошо, что не кончается?
К вечеру, так и не вспомненный Степкой, один и радуясь этому, брился, пудрил порез толченым стрептоцидом, снова на кухне ел и пил. Ел сначала мало, будто забыв, как и зачем. Но потихоньку вспомнил и наелся от души. Не поленился сварить пельменей, что стеклянно перестукивались в картонной коробке. Думал о фотоаппарате. Он важничал на столике в прихожей, храня внутри степь, скудный снежок и мертвые травы. Смотреть не хотелось.
Вдруг, к пришедшему страху снова пережить утреннюю тоску, добавилось еще чувство. Стыдился сделанных кадров. Будто сам себя снимал голым, за нехорошим интимным, в процессе – сладчайше, а потом – стереть из памяти и не вспоминать. До следующего раза…
Медленно ел, обдумывал, теряясь. Что это значит? Снова вспомнил из вчерашнего утра – старый ботинок и ржавую машинку. Уши запылали, пельмень застрял в горле. Проглотил с трудом, бросил на стол жирную вилку. Уставился на желтые разводы столешницы. И даже не вспомнил о тоске, скользя глазом по годовым кольцам бывшего дерева.
Это как, хорошо или плохо? Может кадры такие плохие? Если стыдно до такой степени? Но ведь не могут быть настолько ужасными, чтобы так корчило?
Хотел посмотреть, но решил – потом. И доел пельмени.
Валялся на незастеленной кровати, щелкал пультом телевизора. Звук убрал. На экране все быстро, суетливо. А мысли в голове – медленно, лунатиками, наталкиваясь друг на друга. Про телевизор подумалось – все скачет так быстро, будто снова идем к тем старым черно-белым кинопленкам, где все двигалось в два раза быстрее. Подумал еще и о том, а куда ему с мыслями? К Степка? Он конечно, друг, но с ним надо просто. Клиенты теперешние? Да-а-а-а… Наташа? Ну, может быть. Хотя не слишком он Наташе нужен, так показалось. С кем же ему серьезно поговорить не про еду и не о бабле?
Кому даже вопрос такой задать, о том, с кем бы можно поговорить – вот так? Не философу поговорить, а просто вот такому Витьке?
С раздражением погасил цветное мелькание экрана. Сел на постели и рассмеялся в тишину комнаты. Бок сразу заныл, отзываясь на смех. По сравнению с тем, что было в степи, все вокруг казалось ненастоящим, кукольным. Но было еще что-то, что вело дальше… По сравнению с тем, что пыталось родиться в голове, даже ночные события казались не самыми важными. Было так, будто жукин нож прорезал дыру не в старой футболке, а в ткани нынешней реальности и дыра, раскрываясь все больше, показала ему больший мир…
Он вспомнил короткие мятые брюки и перхотную лысину Альехо Алехандро. Вот с ним бы поговорить. Ведь он когда-то был таким, как Витька. Может подсказать, наверно, объяснить, что происходит и что будет происходить с Витькой. Или – не был таким?
Витька раздраженно пнул ногой жаркое одеяло. Ни одного ответа. Вернее, на все вопросы – минимум два. Противоположных.
И обрадовался длинному звонку в дверь. Пошел открывать, волоча за собой пояс халата.
Степан торжественно сиял в полумраке тихим лицом. Войдя, ткнул в Витьку оставленной в лаборатории, взамен надетой кожанки, курткой:
– На тебе. И не знаю, балда, чего я за тобой тряпье твое ношу. И телефон там разрывался в кармане. Пока не сдох. Поставь заряжаться.
Тихо проследовал в кухню, положил себе пельменей и увалился на кожаный диванчик с тарелкой на коленях. Молча и медленно ел.
– Ты, Степ, какой-то не такой, – Витька занялся кофе, – это Тинка тебя так?
– Да, – согласился Степан просто, – она.
И ошарашил друга:
– Я ее люблю. А она – меня.
Витька открыл было рот, но, глянув через плечо на светлое Степино лицо, понял, шутки не то что неуместны, а просто услышаны не будут.
– И как же вы теперь?
– Что как?
– У нее же гастроли, контракты, Сволочицкий этот. А ты здесь, у тебя работа. Все-таки.
– Не думали еще. Это неважно.
– Как?
– Так. Пусть все идет, как идет. И нас тащит.
– Вы что так договорились оба?
– При чем тут договорились? Ничего не договорились, – Степка доел пельмени, отодвинул тарелку и осиял друга синими глазами:
– Кофе где?
– Тьфу на тебя! Я уж думал, ты серьезно, про любовь-то! – Витька заерзал по плите старенькой туркой.
– А я серьезно. И про кофе серьезно.
Витька смотрел на Степкины конопатины и понимал, что, похоже, да – очень серьезно. Вспомнил, как Степка влюблялся, раз в пару месяцев. Ни о чем другом, кроме прелестей новой подружки и говорить не мог.
…«Да-а-а, брат, если б ты знал, брат»… и тут же брата просвещал.
А тут – молчит. Будто все решено, и не ими. А может, так и есть?
Витька, разливая по чашкам чернейший кофе, прислушивался к себе: и зависть тихая к Степке мелькнула, и жалость, прислонясь к углу, наблюдала, покачивая головой, и грусть, будто уезжает друг и вернется ли…
– Ты хвались, давай, – потребовал напарник, – показывай новое. Ведь не зря пропадал весь день. К нам не доехал.
– Я думал, не заметите.
– Плохо думал. Заметили.
Витька вертел чашку, следя, как черный напиток движется с опозданием, медленнее фаянсовых краев. Вот чертов Степан. Не дал разобраться, что к чему. Надо было стереть снимки и дело с концом…
– Степа, я не знаю. Кажется, не получилось у меня на этот раз. Я не смотрел еще.
– Во как! Хорош мастер, сделал и не смотришь. Заводи комп, пойдем смотреть. Под кофе как раз.
Витьку передернуло:
– Нет. Не хочу. Ты иди, я тут посижу. Под кофе.
Глотал сладкую горечь, пытался отвлечься, глядел на себя в черном стекле окна. Но слушал чутко, как возится Степан в комнате. Бормоча, шебуршит тряпками в коридоре, топчется в углу, разыскивая нужный кабель. Несколько минут тишины. И еще несколько.
И – криком по Витькиному изнеможению:
– Ах, ну ты даешь! Ну, даешь, черт! Ох, брат!
Витька обмяк на стуле. Улыбался. Вытер пот со лба трясущейся ладонью. Заухмылялся стыдливо собственной трепетности. Степка возник в кухонных дверях. Смотрел расплывшимся взглядом, будто и не на Витьку, а на что-то вокруг него:
– Ты хоть понимаешь, что ты сделал?
– Нет, – признался Витька. И расхохотался освобожденно, любя Степку всей душой.
– Ох, балда! Это уже гениально!
– Не бросайся словами.
– А я и не бросаюсь. Не маленький. Вот, как думаешь, делал ты средненько работу, жил, делал. И вдруг вылупился в тебе – Мастер. Неужто думаешь – научился?
– Ну-у…
– Не тебя хвалю. Но без тебя – кто бы эти снимки сделал? Идем смотреть, идем!
Степа потащил друга за ворот халата. Витька, морщась от боли в боку, пошел следом. Степан усадил его перед компьютером и засопел в ухо, наваливаясь на плечо.
– Смотри, смотри внимательно! Там же вороны кричат! Слышно их! На траву эту смотри, на снег в дырах земли, на скелетики травяные! Ботинок – набитый тоской по самые дохлые шнурки! Видишь? Ты видишь?
– Степа, прости, пока не очень. Понимаешь, когда делал Тинку, девчонок, город, видел, восхищался, типа, «ай да Витька, ай да сукин сын». А это… Меня что-то в краску вгоняет. Смотреть неловко.
– Пройдет! Это ты сам себя обогнал уже, братишка. Сделал и глазами хлопаешь – чего я такое исделал? Пока верь мне. У меня глаз заточен. А то, что я сам средний фотограф, так оно же, как у собаки, что все понимает, а сказать – не может. А ты – можешь. Вот и говори.
– Хорошо, хорошо, Степ. Давай уж не будем больше смотреть. Ну, не могу я пока. Мучает.
– Ага. Счас пожалею. Я теперь добер и мудер. Это от любви все. Я, Викочка, вдруг много вещей стал понимать. Не все, но много. Сейчас вторую папку быстренько глянем и все, не буду мучить.
– Какую вторую, Степ. Все здесь, больше ничего.
– Да? А это что? Сегодняшним числом датировано!
Степан открыл вторую папку. И Витька, поймав сердце в горле и, не замечая, трудно проглотив его, увидел снимки.
Глава 13
Снимок 1.
Черная дорога улеглась брошенной веревкой к подножию плавного холма. И на фоне рыжей травы, – цвет смягчен серым отсветом – красный автомобиль. Карпатый стоит, расслабленно, скрестив ноги, обтянутые джинсами, выпирая ширинкой, как всегда бывает – в такой позе, в таких джинсах (специально, что ли, так их шьют?). Чуть исподлобья глядит в объектив. Засвеченное лицо его – маска, руки ноют – сорвать и увидеть, кто там, за ней. И страшно. Глаза узкие – прорезями в картоне.
И не только от глаз страшно. А от изогнутой фигуры Жуки, что стоит в характерной позе, срезанный правым краем кадра. Вроде бы случайно попал, очертания смазаны, не в фокусе. Но от доисторического спокойствия звероящера, оправляющегося куда-то за пределы кадра – веет полным отсутствием человека. Пренебрежение ко всему, что не есть он и его физиология.
Снимок 2.
В тусклом свете маячащей в центре кадра лампочки (кривовата и мрачно-желта, царапает глаз), положив кулаки на стол среди бессмысленно разноцветных пакетов, подался худой грудью вперед Чумка.
Лицо из морщин и шрамов, темная прядь на лбу. А в глазах – полет. И лицо из-за этого летит на зрителя. Хочется прикрыться, потому что, стронувшись, все плывет, переворачиваясь на ходу, не полет это, а падение чугунной чушки на запрокинутое лицо, когда черные дыры глаз держат тебя на линии падения. И, не имея возможности от свистящей черноты оторваться, понимаешь, прикрывайся – не прикрывайся, не поможет. Размозжит ненавистью. Что даже и не к тебе, а просто – есть.
Снимок 3.
Лада, завесив лицо длинными гладкими волосами, режет на столе колбасу. Все закрашено серым. А волосы и пальцы – одного цвета. Цвета блестящей карамели, светлые, чуть коричневатые. Не отсюда цвет, не из этого снимка. И свет на них падает – не этой лампочки, что болеет под запаутиненным потолком.
А колбаса, разваливаясь неровными кружками – багрового, настойчиво мрачного цвета. Цвет наступающего будущего, что и предсказывать не надо.
Потому что будущее ее – за изгибами тонкого свитерка и уютной ворсистой юбки – мутными силуэтами с двух сторон. Слева, откинувшись на стуле глыбой – Карпатый, не в фокусе. Белесая голова, но четко по ней – те же прорези глаз, что на первом снимке. Я там, я внутри, всегда наготове…
Справа, полуспрятавшись за высокими коленями – Жука в низком кресле, локти в стороны, пальцы облапили чуть видный телефон.
И так расположено все: добыча ясно и крупно – целью; охотник главный, которому – все, поэтому он ближе и выше, и рука на стол брошена – крупной, расслабленной кистью; и охотник не главный, которому – сладкие объедки… Потом. Но – будут…
Степка шумно вздохнул. Промычал что-то, но затих, сам себя прервав. Витька положил палец на мышку, собираясь открыть следующий кадр. Но друг ухватил его запястье, холодя кожу пальцами.
– Вить, – и прокашлялся. Замолчал. Рассердился, ерзнул рукой по Витькиному запястью. Курсор метнулся по монитору:
– Ты че сделал, бля? Боюсь я смотреть следующий, понял? Придурок одаренный! Одарили на свою голову!
И засопел, смиряясь. Витька покорно ждал. Пальцы на мышке немели.
– Открывай, давай, – уныло сказал Степан. Перестал дышать в ухо. Витька шевельнул немым пальцем, чувствуя, как сердце забивает сваи в солнечное сплетение. Он предполагал, что может быть на следующем снимке. И тоже смотреть его не хотел.
Снимок 4.
Косая в перспективе рама двери. Все пространство за ней – серые смятые простыни. В правом углу – собранная в комок белая фигура, снова лицо завешено волосами. И ощущение дыры в пространстве, будто, не имея возможности метнуться в сторону здесь, схлопывается, стягивается, перетекает вовнутрь, в другое измерение неподвижная маленькая фигурка. Состояние беспрерывного движения, утекание – в отчаянной попытке исчезнуть. Будто светлый туман, что клубится в сфере толстого стекла, никуда не деваясь.
А на переднем плане слева – бледная муть Карпатого – плечо с размытыми куполами, согнутый локоть, рельефная линия бока, к талии суженная – хорошая фигура, атлетическая. И длясь в главное, безнадежно совершившееся уже – распахнутый пояс джинсов, надетых на голое тело. Без деталей, но глаз следует за мышцами пресса, упираясь в край кадра, продлевая увиденное, вон там, за дымкой рыжеватых волос из-под неожиданно четких зубчиков молнии.
Голый локоть, пересекая облезлый косяк, метит присутствием разоренную постель, почти касается комка фигуры.
И на серой простыне – маленькое черное пятнышко с кружевным краем.
Степан перевел дыхание. Молчали.
– Там еще два кадра, – деревянно сказал Витька.
– Объяснять будешь?
– Что, Степ?
Степка забегал по комнате. Витька вполоборота обвис на спинке стула. Водил глазами за другом. Думал, а что говорить? Может, сказать, мол, пьяный был, не помнил, что и где? А все недоумения припрятать. И думать их в одиночестве, думать…
Но Степан вдруг остановился. Глянул на друга диковато.
– Витьк, знаешь, не объясняй пока. Не надо. Сам подумай, хорошо? Если захочешь, потом скажешь. Что-нибудь.
– Степ, – мягко сказал Витька, – все хорошо.
И открыл предпоследний кадр. Смотрел уже не на монитор, а на близкий Степанов профиль: лоб наморщен страдальчески, а круглый синий глаз распахнут и плывет дымкой от нетерпения.
– Ахха! – выдохнул Степка с мрачным удовлетворением.
Снимок 5.
Клякса огня, расцветясь, заняла почти весь кадр. В изгибах пламени, что рвалось вверх, а на мониторе – вперед, обжигая смотрящим носы, – просветы серой земли, помазанные оранжевыми бликами. В самом большом просвете сидит на земле крошечная Галка – полные ноги подобраны в одну сторону, сверкают покрасневшим серебром циркульно острые сапожки, голова, размахнув черные кудри, повернута в изумлении.
– Ну! Ну! Давай уже! Последний давай! – Степка схватил друга за махровое застиранное плечо, – что там, что?
– Сейчас…
Снимок 6.
Просто портрет. Просто лицо – во весь монитор. Чуть-чуть улыбки на приоткрытых губах в мелких трещинках. Глаза круглые, темно-карие, ресницы почти без изгиба – прямой щеточкой, подбородок маленький, острый после широковатого лица. Шея светлая. Нос – обычный самый нос.
Да и все лицо – просто лицо. Глаза только живые, настоящие глаза. И – ресницы густые, красивые. А подбородок маленький такой, после круглого лица – на нет. Сердечком лицо, вспомнил Витька, как говорят. И – шея. Светлая такая…
Рассмеялся нервно. Обычная такая девочка, совсем обычная. Вот только…
– Это она? – услышал Степку, – что там, на кровати? Она?
– А кто же еще?
– Ну, там же лица не видать, а волосы – другие.
Витька присмотрелся.
– Постриглась, все-таки, – обрадовался он, чувствуя неимоверное облегчение.
Все движется, все, ничто не остановилось!
Не осталось в прошлом щербатой пластинкой, что все ловит и ловит иглу одной и той же музыкальной фразой.
Лицо Лады окружало облако легкомысленных кудряшек. Казалось, бегала по душистым сквознякам, путала волосы с солнечными лучами, а потом, утомившись и насмеявшись, бросилась навзничь, раскидывая гриву, на подушку собственных волос. И притихла, сдерживая дыхание, глядя на Степана и Витьку с веселым интересом.
«Какая же ты!», подумал Витька, «какая!»
– Познакомишь, – деловито распорядился Степан.
– Шиш тебе! У тебя – Тинка.
Степан вывернул голову и уставился Витьке прямо в глаз.
– Дурень ты, хоть и из Джанкоя, – сообщил нежно, – это же твоя девочка! А я твой друг, наставник и учитель. Так что – обязан познакомить. Чтоб я на тебя через нее влиял! Понял?
– Понял…
Глава 14
Наташа красила ногти. Поджимала лопатки, чувствуя, как елозит, цепляясь за лямку тонкой маечки, прозрачная штора. Сначала села и отразилась в большом зеркале. Но, чтоб не смотреть на себя, передвинула мягкий широкий пуф. Теперь зеркало не мешало, но встать и отодвинуть штору – лень.
И выходить лень. И маникюршу вызвонить лень. Идти к машине, глядя, как в огороженном завитушечной решеткой дворе гуляют соседские малышата с нянями, лень. И – противно.
Иногда все становилось противно. Сто лет назад, толстощекой девицей-старшеклассницей в приморском городишке, она твердо знала, почему противно. Конечно, провинция. Все незначительны и провинциальны. А там, в столице – культура…
Дочь нищих совковых интеллигентов. Семья, в которой слово «деньги» – не менее стыдно, чем матерное ругательство. Конечно, то, что зарабатывал папа в филиале института водного транспорта, деньгами и не назовешь. Не деньги, точно.
Большой палец левой руки. Красивый лак. Изысканный. Вкус у нее есть, но Наташа им то пользовалась, то нет. Иногда надо было, чтоб не лучше какой-нибудь банкирши на приеме. Базарного вида. Чтоб Санюльке не навредить. Раньше психовала, дура, пыталась ему доказать, – все подумают, что она и правда так любит. Вот, чтобы боа из розовых перьев, закрепленных стразами Сваровски перо к перу, а на ямочке у горла – застежка – мальтийский крест из каменьев двадцати цветов. Бр-р-р…
Санюлька усмехался только. Но один раз, когда на дыбы встала, накричал так, что горничная Оленька уронила вазочку. Хлопнул дверью и уехал один.
Указательный палец… Стыдно, конечно. Санюлька тащит всех ее родственников. Их и немного, вроде бы. Родители и брат старший. Но то, что могут родные заработать, настолько мизерно по сравнению с Санюлькиными деньгами, что они просто перестали работать в один прекрасный день. Это еще стыднее. Тем более, что муж никогда и ни разу не попрекнул ее этим.
Средний… надо будет попить витаминов. Что-то зима еще не началась, а ногти слабые. Или – уехать к чертям. Где у нас там сейчас черти? Если с мужем, то надо ехать в пафосные места. Маврикий, Мальдивы… А в одиночку зимой мотается она в Египет. Прилетела с морозца градусов 30 в пятницу, три дня на пляже повалялась одна, и обратно. Пяток поездок за зиму – лучше всяких витаминов.
Безымянный левый… Санюлька в шутку пеняет ей, мол, чересчур демократичный отдых, среди бухгалтеров и средних предпринимателей, но – доволен. Потому что деньги он считает и уважает, что жена не тратит попусту.
Мизинец… Точно по центру полоску положить, ровненько. И – полюбоваться…
Ох, не тратит жена, не тратит. Давно уж не тратила… Это, когда Сережа был. Серенький Сержик. Вот тогда она изрядно пощипала мужнин кошелек.
Наташа отставила руку, помахала. Вытягивая шею, головой чуть сдвинула штору. Штора тут же вернулась на место, щекоча плечо. Наташа повернулась на табурете, уперлась подбородком в колено. Занялась другой рукой.
С большого пальца начать. Длинного маникюра не любит. Акрила не любит. А ногти широковаты, лопатками. Длинные не вырастают, ломаются. Поэтому короткие. Лак обычно – бледный, но любого цвета может быть. И синий, и зеленый. Умеет Натка, в общем. Если б не муж, прямая дорога – в маникюрши. Вот так и ездила бы по клиенткам с раскладным ридикюльчиком. Возила бы сплетни.
Указательный. Правый указательный. Сто лет ножниц не держала в руках. А палец так и остался, чуть кривой над суставом. Вот тебе и год в парикмахерской.
Средний. Да, Сережка. Смуглый эльф Сережка. Паршивец тонкопалый. У него ногти были красивые. Зачем мужчине такие ногти? И подъем ступни такой зачем? При всем при этом – мужчина. Вернее, мальчик. Мальчик-мачо. Тонкий, смуглый, копна черных волос до пояса – вьются мелким бесом. Когда работал, прихватывал заколкой на затылке. Заколки не хватало, пряди выпрыгивали. Он двигал вперед нижнюю челюсть и фыркал – сдувал с мокрого носа.
Безымянный. Толстое кольцо, скучная платина, зеленое золото. Средних размеров брюлик в веночке сверкающей крошки. Херня, в общем. У них с Санюлькой по два кольца. Есть еще секретные. Она выпросила. После свадьбы ими обменялись.
Ну, никак не верила она в то, что все теперь другое. И суеверно цеплялась за старое, пряталась. Секретные – тонкие колечки, совсем дешевые. Любой может позволить такое. Санюлька понял. Конечно. Дураки больших денег не зарабатывают. Он вообще ее понял. Навсегда. Это и хорошо и плохо.
Ну вот, мизинец. Левой рукой – аккуратно, аккуратненько… Скорее всего Санюлька знал о Серже. Она же тогда – то плакала, то смеялась, то злилась. Если не позвонит, и голоса она не услышит, – ночь вместо дня. Ходила, молчала. Не жила. Вдруг звонок, три секунды разговора. И она – всех любит, хохочет, блестит глазами.
Ни разу муж не вмешался. Ни разу. Может, не успел просто? Так быстро, так все быстро.
…Познакомились. Наташа у подружки сидела в гостях. А подружка из прежней жизни – в Москву переехала, когда тетка умерла и оставила ей двушку в доме под снос. И тут он зашел, из сосденей однокомнатной. Позвал хозяйку шепотом, стесняясь, и она сбегала, а потом хохотала – курицу не смог затолкать в кастрюлю:
– Кино! – кричала Светка, размахивая сигаретой, – захожу, а на плите из кастрюли торчат желтые ноги накрест! Ну, поверишь, что не нарочно?
И Натка зачастила к ней на кофеек. Целых два раза успела попить кофейку в Светкиной двушке. Потом уж только в Сережкиной захламленной квартирке, на той же лестничной площадке.
…Резкий взлет – ах-ах, талантище, самородок, гениальный художник. Деньги. Нет – деньжищи. Он ни от чего не отказывался. И себе ни в чем не отказывал. А как кричали друг на друга! Аргументов приводил столько, впору философское учение основывать. «О пользе дорогих блядей и безумно дорогого алкоголя для развития живописного таланта».
Сгорел за полгода. Деньги она тогда и потратила – на клиники, лекарства, врачей…
Ей потом снова было страшно спать. Все так быстро, она и привыкнуть-то к нему не успела. Только знала, если надо – умрет за него. А как умрешь за другого? Не позволил, сам умер.
Наташа сидела на фоне светлого большого окна, изогнувшись на мягком широком табурете. Держала перед собой растопыренные ладони. Плакала, чувствуя, как мокро под носом. Штора жалела, тонко гладила голое плечо.
Плакала, зная, что будет полегче. Сейчас. А год назад ни плакать не могла, ни вспоминать. Прошлое колыхалось серой рваниной в черных дырах. Пытаясь мирить себя с настоящим, сама себе доказывала, все ведь хорошо, как у всех, кому повезло в жизни. Чтобы потом, оглянувшись, увидеть еще одну черную дыру на растянутой тряпке прошлого. Иногда хотелось что-то разбить, поджечь. Где оно? То, вокруг которого будет – жизнь ее? Как оно должно выглядеть? У всех оно, наверное, разное, но где – ее?
Она тогда подумала, что любовь это – ее. Полюбить и начать жить по-настоящему. Сейчас поняла, ошибалась. Он умер, ее любимый. А ей всего-то – страшно спать. И вспоминать уже может, не умирая от воспоминаний. Поплачет аккуратно, пока сохнет маникюр, и выйдет на улицу. Через детей, нянек, решетки, собак и консьержа – к машине. Поедет к девчонкам в ателье. Придумает очередную ненужную юбку. Будет ездить на примерки, болтать и смеяться. Хорошо заплатит за работу и будет возить им сласти. А они закричат возмущенно, что она специально их раскармливает, и будут щипать себя за бока, показывая складки.
Наташа всхлипнула и улыбнулась. Да, она поедет к девчонкам. Пусть бы не было у них срочного заказа, когда голов не поднимают, и словом некогда перекинуться. Тогда она там чужая, барыня, что свою скуку не знает, куда привезти.
Но, когда она к ним ездит, потом ночью – не страшно.
А они и не знают.
Глава 15
Дом вырастал справа, вываливался на дорогу грязно-белыми углами с квадартными дырочками окон. Окошки такие маленькие, что сразу понятно, дом огромный. Дом-улица. Если кто выскочит на одной остановке, руководствуясь лишь номером дома на смятой бумажке с адресом, то, вполне возможно, еще остановку-другую пройдет, рассматривая цифирь над грязными подъездами. Пожухлая предзимняя травка на одинаковых газончиках – прогулочными площадками для толстых крыс, что, не стесняясь, выходят греться днем.
Наташа поежилась, подумав, а ночью? Сколько же их ночью, если днем вдоль пяти подъездов – чуть ли не десяток? Или они, осмелев, перешли на дневной образ жизни?
Припарковалась у горсти неровных гаражиков-ракушек. И побежала к дверям, зябко поводя плечами.
Ателье занимало два гипсокартонных зальчика в первом этаже – светленьких, с жужжащими палочками ламп по всему высокому потолку.
Но пройти в него можно было только через каморку консьержей. И все усилия хозяйки ателье Нинки выглядеть пафосно, по-столичному, разбивались о скрипучую дверь, обитую продольными засаленными плашками, невнятной формы диван слева, кривобокий столик справа. На столике всегда ярился кипятильник, сунутый в мутную литровую банку, и лежала еда на полураскрытой ладони грязной газеты.
Бдительные консьержи и консьержки, что менялись постоянно, были схожи в главном: вонь перегара, горизонтальное расположение на диване в любое время суток и активная неприязнь к веселым девахам-рукодельницам и их клиенткам. Последние напоминали здесь райских птичек, заблудившихся на помойке.
Наташе обрадовались.
Невысокая Нинка, таская за собой под локтем что-то невыразимо таинственное и прелестное – затканное золотыми нитями по шифону, улыбнулась, кивая. Продолжая ковырять ножницами прихваченный сильными пальцами шов.
Потная Танюшка, кантуя тяжелый утюг, что вскидывался, фыркая на нее возмущенно клубами белого пара, – блеснула зубами вполоборота.
Что-то ласковое – тезка Натуся, пытаясь перекричать мощный гул большой швейной машины, занимающей весь угол. Наташу всегда веселило, что тончайшие ткани девчонки суют в нутро огромным устойчивым монстрам, привинченным к полу и гудящим, как авиалайнеры.
Она, кивая в шуме, пробралась мимо просторной плоскости огромного стола с горами тканей и выкроек в угол, где на гладильной доске – кофейничек, россыпь немытых чашек и остатки тортика на картонке. Села на любимую свою табуретку и привалилась к стене, радостно чувствуя макушкой завернутые края вороха лекал, что висели на гвоздике.
Нинка стояла напротив, доброжелательно разглядывая Наткину блузочку. Сама когда-то придумала, нет, вместе придумали, сама и отшила, быстренько, с удовольствием.
– Хорошо у вас, девчонки!
– У нас всегда хорошо, – согласилась Нинка. Доковыряла шовчик и, повернувшись, закинула красоту на край рабочего стола.
– Мы сегодня на час раньше пришли. Три заказа надо отдать. В примерочной клиентка. Сейчас будет скандал.
Нинка вздохнула и покрутила головой в крупных завитках каштановых волос. Самое красивое в Нинке – волосы. И гордость ее. Сама невысокая, головастая, приземистая, на крепких недлинных ногах, очень страдала несоответствием внешности своей гламурным стандартам. Впадала периодически в хандру, злилась смешно, хмурила яркие брови, покрикивала на девчонок. Но, занявшись очередной премиленькой тряпочкой, все забывала, и снова выскакивало из темных глаз солнышко.
– Почему сразу скандал? – Ната потянулась, нашла чистую чашку и нацедила в нее остывшего кофе. Застукала по краешкам гнутой алюминиевой ложкой.
– Возьми нормальную, – поморщилась Нинка, отколупывая с торта оплывшую розочку, – все за старье хватаешься!
– Не-а. А почему скандал-то?
– А-а, – Нинка поблестела над краем чашки усталым глазом, – она платье заказала, маленькое, черное. Красивое. Скука… А я тут мастера нашла – вышивальщицу. Ну и сделала эскиз. Вышивка от выреза – до самого подола. Типа, орхидея. Красиво, до усрачки.
– Ну?
– Вот и ну. Сперва, вроде, соглашалась. Готовое увидела – недовольна. Не такой цветок, говорит. И, вообще, не цветок.
– Нина! Подите сюда! – голос из примерочной, на таких верхах, что даже и шум перекрыл.
– Вот, начинается, – Нинка отхлебнула кофе и встала:
– А ты сиди пока, счас я быстренько сдыхаюсь от нее и поболтаем.
Наташа сидела, ловила ложечкой крошки торта покрасивее, на них указывал солнечный луч, пролезший сквозь погнутую планку жалюзи, слушала.
– Нина!!! Мы же говорили! Бу-бу-бу… Вы же мне обещали, бу-бу-бу… Я понадеялась, что теперь, бу-бу… Через неделю уже…
И Нинкин монотонно успокаивающий голос. Привычно говорит привычные утешения.
– Безобразие! Черт знает что! – яснее донеслось, видно, вышла дама из примерочной:
– Конечно, я приду! Посмотрю, что вы мне сделаете! Но больше к вам – ни ногой! И Лоре скажу, чего она меня – сюда?
Хлопнула дверь. Прощальный взвизг, очевидно, в сторону консьержа, что задремал, перегородив ногами выход.
И Нинка с блаженным вздохом упала на узкую табуретку, снова схватилась за ложечку.
– Нинок, расскажи! – Наташа с удовольствием окунулась в рабочие будни девчонок.
– Да, чего рассказывать. Сейчас сама посмотришь. В общем, платье остается нам. Мне. Не орхидея, говорит, а черт знает что. Я взамен пообещала ей к выходным сочинить пиджак из лаке. Ткань показала, рассказала, из итальянского привоза, эксклюзив. Ты же знаешь – ва-а-алшебное слово «эксклюзив»…
– Знаю, сама такая. Не соврала?
– Не-ет. Мне братишка двоюродный адрес дал, там на складе у ребят действительно авторские ткани маленькими партиями. Через три проходных, с пропуском, просто Штирлиц, вот так хожу, выбираю. ПлачУ сама. Потом предлагаю самым грамотным. Эта мамзель не из них, но я же виновата сама. Вот и подарю ей кусок. Хороший такой кусок – себе берегла. Ну, зато платье буду носить. Если будет куда.
Вздохнула значительно. Ната развеселилась. Хорошая девочка Нинка, только один заворот в мозгах. Мечтается ей, что оценят, наконец, по достоинству ее талант и вознесут на вершины. И будут платить денег за уникальные, сумасшедшие, величественно профессионально исполненные одежды – платья, костюмы, пальто и шубки. И Нинка королевой будет блистать на столичных пати и презентациях. Милостиво сама выбирая себе заказчиков. Купаясь в славе, деньгах, любовниках, снова деньгах и опять славе.
В то же время Наткины приятельницы, каждая из которых имела в гардеробе по несколько авторских Нинкиных вещичек, поступали просто и обидно, нашивали вручную на них лейблы известных фирм – Дольче с Габаной и Версаче. И все – верили. А клиентки даже от Нинки этого не скрывали.
– Ну, попила? Пойдем, смотреть будешь, – поторопила Нинка.
Платье висело тоненько и немного жалко на фоне пластиковой стены. Красивая нежная одежда всегда немного жалка – без тела внутри.
Вдвоем стояли в дверях, смотрели.
– Где вышивка, Нин?
– Оно спиной висит. Знаешь, давай я надену. Это ж теперь мое платье, да? Буду привыкать.
Прошла в размытый сумрак кабинки. Стала раздеваться. У нее была красивая грудь и тонкая талия. Потому раздеваться Нинка любила и не стеснялась.
– Свет включить, Нин?
– Рано. Подожди, я все тебе покажу сейчас.
Она подняла руки, показав выскобленные до лунного блеска подмышки, запрокинула лицо и нырнула в поднятое над головой платье. Черная ткань скользнула по локтям, плавно упала на бедра. Расправляясь, засверкала темными узорами по груди и животу.
Нина провела руками по бокам, нагнулась, отвела подол, переступила босыми ногами. Выпрямилась. Темно взглянула и, вскинув белые, на глазах утончившиеся руки к волосам, забрала копну вьющихся волос в горсти, обнажая шею. Осталась так.
Наташа смотрела на силуэт. На красивые руки, чуть вывернутые запястья. На бережно подхваченную вырезом белую грудь, резко очерченные линии плеч.
На вышивку. Тусклый блеск бронзы, темная зелень и пурпурные просверки. Чашечка цветка странной формы, охватившая левую грудь, кажется, чуть сжимает нежное. Захлест стебля под грудью – к талии, рисуя бедро и, падая расслабленно вместе с тканью, вдоль правой ноги – к самому подолу. Но стебель длиннее, потому, изогнувшись, улегся еще по нижнему краю платья. Тонкая вытянутая Нина, почти улетая, только темный взгляд держится за Наташины глаза. Не спрашивая – хорошо ли смогла, просто зная – смогла.
– Ну, Нин…
– Нравится, – утвердила Нина.
– Еще бы! Цветок и, правда, странный. Ниночка, какая же ты красивая! Я влюбляюсь уже.
– Цыц. Я знаю. Сейчас еще смотри. Включи свет.
Наташа нехотя потянула руку к выключателю, – лампа скучная, тоскливая, мертвая.
Щелчок и жужжание. Краски вышивки похолодели, стали жесткими, стеклянными. И Нинка заледенела. Кажется, тронь завиток волос, и отломится. Ткань платья беззащитно в неожиданных местах проредилась, обнажая сквозь прозрачное, – округлость бедра справа, изгиб талии слева, складочку под грудью. Черный ледок, под которым, верно, статуя, самая прекрасная из виденных. Потому что намеками только.
– Господи, Нинка! Прелесть какая! Я тебя боюсь…
– А-а-а!!! Поняла, что я могу? Поняла?
– Да я это давно поняла. Можно выключу?
Каким-то чудом не разломившись на тысячи хрусталин, стеклянная Нина отпустила волосы, нагнулась к маленькой тумбочке, достала что-то:
– Выключай. Сейчас я тебя еще удивлю.
И чиркнула зажигалкой, затеплив в полумраке слабый огонек кривенькой свечки, прилепленной на консервную крышку.
Огонек, осмотрев маленькую кабинку, уверился в себе и засветил. Поползли по стенам прозрачные тени. Наташа притворила дверь, оставив снаружи железный гул, фырканье пара и болтовню. Подошла и встала рядом. Смотрели в зеркало. Два женских взгляда – на третью в отражении, что появилась, потому что Нина смогла так.
Цветок ожил, в такт дыханию покачивал головой-чашечкой, укладывая ее на груди, скользил по талии, пошевеливал тонким хвостом по краю ткани у самого пола.
– Наташ… А ты видишь, не цветок вовсе?
– Вижу. Нет, это цветок, но не совсем.
– Змея?
– Есть чуть-чуть…
– Знаешь, Натка, я смотрю, смотрю…
– И что?
– И знаю, что смогу еще лучше…
– Вижу… Бедная ты, Нинка…
Нина оторвала взгляд от своего отражения и перевела его в Наташины глаза. Не пошевелившись. Но рисунок от движения век и ресниц – ожил, заструился, показал цвета, которых уже не три, а сотни плавных оттенков, съедающих все остальное, берущих в плен не только глаза, но и то, что за глазами, в мозгу.
– Почему бедная? Я могу – лучше их всех!
– Ниночек, за «лучше всех» не дадут тебе денег. Кто увидит, у того их немного, обычно. А кто не увидит, испугается только. Заказчица твоя… Если на ней оно так же сидело, а эта квочка все равно испугалась!
Нинка чуть повернулась, следя за платьем. Желтовато блеснули зубы, в темноте глаз заскакали огоньки свечи:
– Шиш, не сидело оно на ней так! Хоть я и старалась. Но, видно, с самого начала – шилось на меня. Она еще и из-за этого расшумелась.
Девчонки рассмеялись. Наташа смотрела на отражение, на беззаботно смеющуюся Нинку, что работает без выходных по 20 часов в день, носит один и тот же свитер с залосненными рукавами и мешковатые джинсы.
Смотрела на стремительную шею, четкие косточки плеч, основания красивых грудей – хоть ваяй сейчас в мраморе. И влюблялась. Не по-женски, а, чувствуя себя мужчиной, смотря – мужчиной, до зуда в кончиках пальцев, стащить бы с груди ткань и…
– Ладно, Натусь, спасибо тебе, поддержала. Еще раз кофе и работать.
Выходя и уже прикрывая за собой дверь примерочной, Ната сунулась обратно. Сказала Нинке, надевающей беленький лифчик:
– У меня пригласительные на открытие клуба Софкиного. Хочешь?
– Да-а-а!!! Спасибо! А то Софка сто раз обещала, но не принесла, а просить ее не хочу. И платье надеть?
– Да я не из-за платья, не в платье, ну, короче…, – Ната запуталась и беспомощно посмотрела на Нинку. Та махнула рукой:
– Да поняла я, поняла! Вот приду в этих своих штанищах, посмотрим, что споешь!
– Хо, не придешь! Тебя фэйс-контроль дальше угла улицы не пропустит! Будто Софочку не знаешь нашу!
– О-о, да-а-а, наша Софка!!! Я тебе сейчас расскажу, как они с подругой новую диету на себе испытывали! Умрешь…
Через полтора часа Наташа, наболтавшись, насмотревшись на тряпки и вещи до мельтешения в глазах, напившись кофе до бульканья в животе и солидарно ругнувшись с консьержем, приуставшая и присмиревшая от хорошего настроения, побрела к машине, на ходу открывая дверцу. Откинулась на подголовник, слушая, как мурлычет мотор. И услышала постукивание в темное стекло.
Медленно опустила стекло вдоль маячившей за ним мужской куртки, хмурясь, зная уже, это из-за слишком хорошего настроения, вот сукины дети, кто там этим заведует, и полдня порадоваться не дадут всласть!
Смуглолицый красавчик, чуть наклонив лицо, приподнял дымчатые очки над темными, без блеска, глазами. ПахнУл хорошим коньяком и очень дорогим парфюмом:
– Наташенька? Помнишь меня? Сеницкий, фотограф. Больше часа жду. Поговорить надо.
Глава 16
Наташа помолчала. В открытое окошко засвистел кусачий ветерок, затеребил темные пряди Никиных волос. Сеницкий, утомившись стоять внаклонку, вздохнул:
– Ну, может, пустишь? Я много времени не отниму у тебя. Надеюсь.
– Садись.
Фотограф, обойдя машину, изящно поместился на переднее сиденье, хлопнул дверцей, отрезав сквознячок. Благожелательно рассматривал девушку. Потом заинтересовался газоном за углом гаражей.
Наташа молчала.
– Ну? Как живешь?
– Нормально.
– Молодец. Ну, да, ты девочка жилистая. Расчетливая и хитрая. Такие везде выживают.
– Слушай, чего тебе? Я тороплюсь.
– А помнишь…
Наташа газанула. Мотор взревел, затыкая Сеницкому рот.
– Как тебя? Коля? Или нет – Николя? Говори, да я поеду. Нечего нам с тобой вместе вспоминать!
– Не Коля. Сейчас – Ники. Ну да, ну да. Это же такая мелочь – погуляли разок, покутили. Поспали. Я думал, может, тебе интересно вспомнить, ностальгично. Думал, захочешь снова фотографии посмотреть.
– Ты же все мне отдал!
Сеницкий улыбнулся. Погладил лежащую на коленях глянцевую барсетку:
– За дурака меня держишь? Похож я на дурака, милая?
Наташа смотрела на черный глянец.
– Не похож, – сказала сипло.
Мысли разбегались. Когда же это было? Года два назад назад. Да, завеялись они тогда с подругой в гости. Два дня куролесили. Мало что запомнила. Через неделю Сеницкий вызвонил ее, назначил встречу. Попросил денег взаймы. Немного, впрочем. Показал снимки. Нельзя сказать, что чересчур откровенные, никакого порно. Но увидела Ната свое поплывшее лицо, платье со съехавшим плечом, грудь одна выпала, а на бедре, под задранным подолом, чья-то рука, и затошнило ее тогда посильнее, чем с похмелья. Услышала, вся перекрутившись от стыда, мысленно, визгливый хохот подружки, которая там, за краем кадра – с двумя. И они – приговаривают что-то, похохатывают одобрительно.
Испугалась очень тогда. Вспомнила, как Санюлька, вечерами, тычется носом в ее волосы, вздыхает мирно, будто добрался до земли обетованной, каждый раз, как вместе засыпали. От страха собралась внутренне, и все смогла нормально спустить на тормозах. Поулыбалась Ники юмористически. Мол, с кем не бывает! Сделала вид, что мужу-то будет только приятно, такие вкусы – у мужа, любит на жену смотреть в разном виде. Сам отпускает на выгул. Так натурально врала, да еще и глазки состроила и вечерком в клуб зазвала, что Сеницкий поверил. Даже губы у него от расстройства задрожали, от обиды. Думал, испугается Наташа и заплатит, а оно вот как повернулось. Но снимки выкупила, как бы из кокетства и жалости.
Потом думала, прикидывала все. Поняла, спасла ее никина чрезмерная осторожность. Побоялся много запросить, значит, и вообще – побоялся. Получил свою небольшую выгоду и отстал. Надолго.
Наташа тогда присмирела, без меры не пила, осторожничала. А на Никину долю, видимо, других дурочек хватало, судя по резкому его взлету. Больше они не пересекались. Тусовались в разных местах и с разными людьми. Насколько это возможно. Такой вот урок.
Она заглушила двигатель. Повернувшись к Ники, одарила беспечной улыбкой:
– Дружочек, ты на календарь смотрел давно? Есть еще такая штука, телевизор называется, там тоже иногда говорят, какой год на дворе. Ты до собственной пенсии будешь моими грешками размахивать? Мы с супругом давно уж все обсудили, посмотрели. И как фотограф ты ему не понравился, кстати.
Ники сел поудобнее, распахнул серую курточку, закинул ногу на ногу. Скромная куртка была подбита изнутри мехом серебристой норки. Наташа мысленно закатила глаза. Да уж, вкуса у мальчика хватило, чтобы ценнейший мех на подкладку поставить. Но вот, не хвастаться этим при каждом повороте и жесте, увы…
– Понимаешь, Наташа. Жизнь идет, люди живут, встречаются, влюбляются. И меня, как профессионала, очень радует это течение жизни. Я человек честный…
Он поморщился в ответ на Наташин смешок:
– Да, представь себе. Зачем мне старье, если ты живая такая девочка, неспокойная. То влюбишься в начинающего художника, и он скрипнул молнией барсетки, то бегаешь к нему в мастерскую, – сумочка раззявила квадратный рот, то в клинике для алкоголиков и наркоманов сутками пропадаешь. Эх, жизнь…
Наташа отвернулась и стала смотреть на черный провал под уголком крайнего гаража. Еще одна черная дырка. На бывшей зеленой траве.
– Мужу-то что сказала тогда? За границей, небось, была? В круиз отпросилась? Нет, оттуда же опять снимки надо везти… Не беда, можно сказать, что в Таганрог уехала, присмотреть за умирающей двоюродной бабушкой. Там не до фотографий, правда? А бабушке тридцати еще не было, и очень уж хороша была бабушка, как не влюбиться?
Наташа перевела дыхание. В черной дыре под гаражом что-то шевелилось. Ники зашуршал пакетом:
– Денег немало, наверное, ушло, да, Наташенька? Врачи дорогие, лекарства тоже…
– Крыса, – глухо сказала девушка.
Ники надул губу и повел плечом обиженно:
– Ну, сразу истерики. Будто я злодей какой. Был бы извергом, Александр Евгеньевич, кристальной души человек, на другой день после похорон тебя бы уже из дому выгнал. С моей подачи.
– Не понял ты, Ники, – устало сказала Ната, – вон, посмотри.
Из черной дыры, поводя носами, выбирались на сохлую травку две толстые крысы. Маленькая девочка лет пяти в белом с розовым комбинезончике остановилась, радостно зовя маму и показывая совочком на зверей. Подбежавшая мать дернула дочку за руку и потащила от газона, оглядываясь и передергивая плечами.
– А-а. Я уж думал.
«Правильно думал», Наташа не отводила глаз от ленивых тварей.
– Ну что? Смотреть будешь?
– Нет.
– Что будем делать?
Наташа вспомнила из юности: осенние мокрые улицы маленького городка, короткую юбку, в которой молния разъезжалась и ее приходилось пришпиливать булавкой. Вспомнила, что все улицы, по какой ни пойди, вели к свинцовому осеннему морю. Там она ходила одна. Слушала море и дождь, страдала по первому красавцу в классе. И сердце болело сладко-сладко. Высокий стройный Витяй. Как пахло от него на физкультуре, когда проносился мимо, задевая выставленную вперед ногу – ругнется с улыбкой и – дальше, сквозь гулкие вскрики спортзала. Вспомнила, как зазвал ее в лаборантскую на большой перемене, как ослепла она от исполненности желания, что думала и думала целый год-жизнь, ночами горячих подушек с сердцем у самого уха. Вспомнила, как закрыл дверь на задвижку, и ей пришлось отбиваться, обезумев от страха и неожиданности, от четверых – сопящих, с жесткими пальцами. Со звонком, гогоча, убежали, оставив ее в разорванном лифчике и с юбкой, стащенной до колен. А она потом больше всего рыдала над тем, что колготки были велики и подшиты на бедрах складочкой по кругу. Черными нитками. И весь девятый класс то один, то другой, скаля зубы, выставлял ногу в проход, когда она стояла у доски, и манерно изображал, как поддергивает спустившуюся колготину. Остальные трое – смеялись…
– Господи! Сколько же здесь крыс! Совсем обнаглели. Знаешь, Ники, мы с девчонками, когда я только приехала в Москву, квартиру неподалеку снимали. Вон в той девятиэтажке, за гаражами и спортплощадкой. Крыс уже тогда было больше, чем собак и кошек. По утрам рано-рано – скрип и визг – торговцы на рыночек тележки везли. А ночью сплошные пьяные базары, вон там общага какая-то, подъезды большие, у каждого по две лавки, так алкаши до утра куролесили. Дрались, орали, мирились.
– Да ты, никак, на жалость давишь?
– Нет, просто разговариваю.
– Дела у меня. Давай, все решим и разойдемся с миром.
– Давай, Ники, давай. Говори, чего тебе.
И снова в машине – тишина. Ники молчал. Наташа повернулась удивленно. Увидела за тонированным стеклом у подъезда оплывшую фигуру консьержа – бродит поодаль, пинает банку поближе к мусорному контейнеру. Вытягивает шею, косит жадно глазом на машину. Интересно ему, вышла барышня из ателье, но не уезжает.
А Ники, оттопырив губу, смотрел на раскрытую сумку и молчал.
– Ну, что?
– Э-э, короче, вот этот фотограф новый. С которым ты сейчас возишься. Виктор, или, как там его…
– И что?
Ники ссутулился.
– Ты на него можешь… повлиять, ну….
– В каком смысле?
– Пусть перестанет.
– Что перестанет? – удивилась Наташа, внимательно глядя на Ники. Тот вытер лоб, сверкнув дорогим кольцом. Похоже, волновался.
– Все перестанет! – крикнул вдруг. Губы его затряслись, – все, скотина, все, пусть он ослепнет, падла!
– Господи, Ники! Не впадай в истерику. Чего ты хочешь?
Сеницкий швырнул под ноги сумку и, горя на девушку черным взглядом, запричитал, сжимая колени побелевшими пальцами в такт словам:
– Ненавижу паскуду, ненавижу! Я не жрал, не пил, блядей не трахал, из грязи я… вылез, сам, поняла? Работа, контракты. А он, свалился на мою голову, все может, все-о-о может, только ручкой пошевелит и все – ему! Мои заказчики только о нем и говорят, ах, новая звезда столичная! Я два года! На одних плавленых сырках! А он – откуда? Только что! Нельзя так!
Консьерж замаячил совсем рядом, прислушиваясь. Наташа улыбнулась неловко. Смотреть на Ники было стыдно:
– Успокойся. Он тебе не соперник. Твои заказчики и твои, извиняй, бляди, при тебе и останутся. Не нужны ему, Коля, твои контракты.
– Да? – Сеницкий пнул ногой сумку, – так ты сделаешь?
– Что сделаю, что? – крикнула Наташа, – ты отупел от жадности совсем? Не слышишь? Что я могу? Убить, что ли? Ты, дурак, пойми, его только смертью остановить можно. Да и не соперник он тебе, – поймав себя на том, что повторяется, Наташа махнула рукой, – эх…
В окно постучали. Она рванула стекло вниз:
– Что вам?
– А ну, чего вы тут стоите, дамочка? Нам тут разврата не нужно, – задышал привратник, мешая зябкий ветерок с винным духом и чесноком.
– Мы разговариваем!
Наташа попыталась закрыть окно. Но мужчина держал клешневатыми пальцами край темного стекла:
– Ты что думаешь, пакостница, ежли вырядилась, так тебе везде? Не-ет! Я милицию сейчас! С-стоят они тута, знаем мы вас, чем займетеся! У-у, падлы раскрашенные… Пидараска!
Наташа, заплакав, дернула ручку, окно закрылось. Рядом что-то бубнил Ники, уставившись на свои колени.
– Слушай, псих несчастный, – вытирая слезы, распорядилась, – вали из моей машины. Мне еще не хватало в милицию с тобой попасть. И со снимками твоими.
Сеницкий деревянно нагнулся, подобрал сумку, лапая неуклюже, тащил из нее пакет, из пакета сыпались скользкие отпечатки:
– На, на, посмотришь. И подумай! – последнее слово взвизгнул угрожающе и выскочил из машины, топчась по ногам консьержа. Набрал воздуху в грудь и обложил пролетария высококачественным матом, длинно и с наслаждением.
Наташа снова завела машину. Дверца распахнулась:
– Мне Альехо звонил. Три дня назад. Спрашивал про твоего Витьку. Интересовался!
Сеницкий захлопнул дверцу и пошел, опустив голову, к своему автомобилю, рукой отталкивая наскакивающего консьержа.
Наташа ехала, смаргивая слезы, напряженно стараясь уследить за дорогой и за поворотниками идущих впереди машин. Уехать! Все бросить, уехать! К чертям!
«Кчер-тям-кчер-тям-кчер-тям», согласно пищал сигнал на поворотах, мигали в глазах зеленые и красные колючки светофоров.
На перекрестке ткнула пальцем в мобильник, прижала к виску:
– Алло, Витька? Ты можешь все бросить на пару недель? Ага, командировку я тебе выписываю. Нет, не реву. Нормальный голос. Давай! На рыб посмотришь. Где-где – в Красном море! Айда! Я тебе из парикмахерской еще перезвоню, целую, мастер!
Бросила телефончик на колени.
– К чертям, – сказала зеленому огоньку светофора, – а Коленька-Ники поуспокоится пока.
И подумала с тоской о том, что Ники может не только ее попросить, чтоб Витька – перестал…
Глава 17
– Ты заметила, Натка? Мы с тобой все время куда-то едем. Метро, машина…
Витька искоса посмотрел на девушку. Натка кивнула стриженой головой. Совсем другая. Девчонка совсем. Короткие прядки, высветленные в помощь чужому солнцу.
– А сейчас еще и полетим. Ты давно летал, Витька?
– Что?
– В самолете, говорю, давно летал?
– А, в самолете. Давно, – отвернулся и стал смотреть на мягкий серенький денек.
– Когда?
– Ну… Пацаном еще. С родителями к бабке летали. В Архангельск.
– Не злись, – Наташа толкнула его локтем, засмеялась звонко и быстро.
– Я и не злюсь. Это ж вы, чуть что, сразу в самолет. А мне – куда летать? Везде поездом доеду.
– Ох, Витька, через пять часов – море. Хочешь моря?
– Хочу.
Не нравилась Витьке ее веселость. Слишком быстро отвечает. Слишком звонко смеется. Но позже спросит, пока что просто едут. К воде, рыбам и безделью. Будет время спросить. Но – не нравилось.
Мокрый день ходил на мягких лапах. Спрятав коготки холода, грустил о прошедшем лете. Уж и забыл про то, что была жара, уставшие щуриться глаза, пыль – скрипом на зубах. Сейчас – теплая грусть, следом за которой придут первые злые морозцы. Но сначала будет маленькая злость ледяных длинных дождей. Потом большая злость рваных ветров. И только потом уж – белый смех снега. Придется перевернуть кладовку, достать старую дубленку (ценность, от отца, чем дольше носишь, тем уютнее) и спрятаться в ней до весны. А что еще остается делать?
Еще можно улететь в лето. Деньги равняются лету зимой…
В самолете болтали. Вот уж эти женские штучки – постриглась, покрасилась и стала другая, даже ведет себя по-другому.
Иллюминатор чернел большой матовой пуговицей. Витька удивлялся про себя – так рано еще, а там, похоже – ночь. Помалкивал над пластиковым подносом.
В конце-концов, Наташу рассердил:
– Ты, как засватанный! В туалет хочешь? Иди, там все по-русски! Че ты стремаешься? Ну, не летал, ну и что? Ты пойми, дурак, не мы для них, а они для нас! Им наплевать, что ты не знаешь, в какую сторону ручку на дверях вертеть. У них таких гавриков в каждом полете – сотня!
– Да я не из-за этого! – соврал, краснея.
– Да?
– Ты просто другая совсем. Будто сегодня познакомились.
Наташа плотней умяла маленькую шубку в пакет у джинсовой ноги:
– Хорошо. Считай, что я опять тебя сняла. Закадрила. Значит, нравишься. Значит, можешь выпендриваться. А я буду кивать, ахать и восхищаться.
А потом действительно было море. Неожиданно черная ночь, в которую упали они вместе с пакетами, сумками, глянцевым автобусом – водитель был еще чернее ночи, только зубы блестели.
Через гомон исполненных важности соотечественников и крики работников туристических агентств, через влажные сумерки темных деревьев и, кажется, пальм, никель и картинки на стенах фойе маленького отеля, через маленький гостиничный номер (простыни на кроватях свернуты лебедями и усыпаны красными лепестками цветов, мать моя, терялся Витька, еще же чаевые как-то надо будет…), боковушку бассейна с подсвеченной лазурной водой, мимо праздника света и запахов еды в павильоне-ресторане, по дорожке с фонариками в плитках – к морю, к морю!
Бродили по влажному песку, заходили в невидимую теплую воду.
– Дальше пустырь и ребята гоняют на кайтах. Красиво, тебе понравится. А так все побережье поделено и застроено. И каждый пляжик своему отелю принадлежит.
– Фигня, – высказался Витька, – вот в Крыму, на Азове, выйдешь на прибой и можно день идти. Нет заборов. Берег поворачивает и видно все аж до следующего поселка. Красота. Ну, отелей конечно, нет. Деревни рыбацкие. Как-нибудь тебя отвезу, в свои места.
– А ты меня не просвещай. Я там родилась, у пролива, знаю.
– Да? – Витька заелозил по теплому песку, повернулся – смотреть на профиль в свете далеких фонарей.
– Да.
– А где? Давно была-то?
– Отстань, потом. Камеру-то в номере оставил?
– Да. Пусть иногда она сама по себе, а я – сам по себе. Или задание есть?
Из маленького парка доносились вскрики, музыка и мерный сухой стук мяча.
– Ага. Задание одно – никаких заданий. Остановка во времени.
– Ага. Я тоже подумал, пора.
– Молодец, правильный ты, Витька.
– Ну уж.
– Нет, я о том, что ты сам еще не понял, какой ты мощный. Или – тобой что-то вертит мощное. Уже знаешь, что надо останавливаться.
Витька вспомнил возмущенные вопли Степана, узнавшего, что уезжает, а снимки пока пусть лежат в компе и «не сметь трогать без меня, понял? Никому и никуда, пока я не вернусь и все сам не решу!». Усмехнулся.
– Наташа, я по голосу понял, что тебе, ну, очень плохо, очень. При чем тут мои остановки? Если я тебе сейчас нужен, то… Ведь нужен?
– Очень нужен, Витечка.
В ресторане медленно и мало ели, глядя на маленький огонек свечи в подкопченом стакане из кусочков цветного стекла. Пили свежевыжатый сок из высоких бокалов. Менялись, пробуя, он – белый, нестерпимо пахнущий дыней, она – зеленоватый, с нежным ароматом киви.
И, вернувшись в номер, со вздохами повалились на простыни, сминая лепестки. Разговаривали.
Витька помучился немного, прикидывая, нужен ли секс. Пока думал, Наташа заснула. Постоял над постелью, глядел на раскинутые руки – темные в полумраке, по контрасту с белой хлопковой маечкой. На сомкнутые коленки и линию белых трусиков на выставленном бедре. Пионерлагерь какой-то!
Улыбнувшись, полез в сумку, откопал камеру. Погладил ее, приговаривая неуклюжие нежные слова о том, что соскучилась, бедная, ну, ничего, вот уже и вместе.
Тихо передвигаясь, снял Наташу с разных сторон. Вспышка. Лицо, запрокинутое к светлому потолку, отдельно – полураскрытая ладошка среди красных язычков лепестковых, отдельно – бедра, схваченные простыми трусиками, ноги – длинно, вдаль, в полумрак, где теряются две ступни, прижавшись друг к другу, светя ноготками. Отойдя, жалостно морщась, всю фигуру целиком, среди белого, на фоне разбросанных по стульям одежек. Вспышка-вспышка-вспышка… Ярко, но быстро, мгновенным уколом света.
Наташа заплакала во сне. Кинул камеру на столик.
Посидел рядом, боясь разбудить, трогал легонько светлые прядки, шептал что-то. Послушал, как сказала высоким шепотом «Сережа…». Скривился от беспомощности, видя внутри, под гладкой ухоженной кожей, темный комок горя. Ее личного горя, что напомнило ему сейчас Ладкины трусики – мертвой черной птичкой на других простынях.
Ушел на другую кровать и долго лежал, закинув руки за голову. Старался не думать, не вспоминать прошлого, не глядеть вперед. …Плавать в чашке ночи, где белые стены номера – краями над черным ее чаем. Нет – соком, выжатым из яркого дня. Еще не виденного им дня на кромке Красного моря.
Заснул, надеясь, что полетит.
Глава 18
Проснулся с чувством – муха… Открыл глаза. Наташа сидела напротив, подтащив стул к изножью кровати. Подобрав одну ногу, упиралась подбородком в колено, смотрела на него – спящего. Блестели дорожки от слез на щеках в полумраке задернутых светленьких штор.
Витька застеснялся задранных криво трусов, потащил край простыни на бедра. Увидев мокрый блеск ее глаз, встревожился жалостно. Вспомнил ночное имя. Сережа. Что за Сережа?
– Нат? Ты чего, ну?
– Витенька…, – Наташа всхлипнула, вытирая рукой глаза:
– Витька, оболтус, что это у тебя, что?
– Где? – сел на постели, уставился на ногу, куда показывала мокрым пальцем.
– А-а, это! Татуировка просто. Ты чего, Нат?
Наташа подобрала вторую ногу и, топыря на краю стула пальчики в розовом перламутре педикюра, расплакалась в голос, уткнув лицо в круглые коленки. Маленькие шортики разошлись кромками, показывая гладкие бедра и кружево трусиков в глубине.
Витька перекинулся телом ближе, схватил ее за руки:
– Ну, милая, девочка, ну, что такое, что?
– У-у, у Сережки-и-и, – тоненько, с подвывом, попыталась сказать, – у него так же-е!…
– Ну? Ну, что?
Наташа закрутила головой, зашмыгала. Отняла руку – провести под носом. Потянулась за спину, что-то тряпочное, неважно что, ухватила, прижала к лицу.
– Все уже, – сказала сердито и невнятно, – все, не буду больше.
И разревелась громко и горько. Витька в трусах суетился вокруг, принес водички, слушал, как, хлюпая и обливаясь, попила, отвела стакан ладонью. Ждал терпеливо, глядя, как трясутся плечи. Помирал от жалости, да что же это? Последний раз так жалел, когда кот любимый попал под машину, трясся в агонии несколько часов, и уколы анальгина не помогали нисколечко. Только стой рядом и жди, смотри, пока – само. Кот тогда умер. Наташа – успокоилась потихоньку.
– Расскажешь? – стоял на коленях у стула, глядя снизу на дрожащий подбородок и губы, что старательно кривила в улыбке.
– П-потом. Можно?
– Да Господи, можно! Когда угодно – можно!
Горестное настроение тихо-тихо, плавно сошло на нет. Наташа улыбнулась чуть, но уже по-настоящему. Поправила волосы. Заоглядывалась. Витька поспешно подал щетку. Гордясь собственной проницательностью, успокоенно следил, как расчесывается. С каждым взмахом щетки лицо становилось спокойнее, блестели глаза, промывшись слезами, что, верно, давно уж должны были пролиться.
– Пойдем плавать, – постановила она. И Витька закивал поспешно:
– Да-да, – но утвердил, заручаясь на будущее:
– Но – расскажешь, да?
– Да, Витенька, расскажу. Потом…
И начался первый морской день.
Завтрак в открытом ресторанчике, коричневые официанты, готовно сверкающие белыми зубами, тарелки, увенчанные мокрыми листьями салата поверх прозрачных ломтиков колбасы. Гомон постояльцев, половина которых принесли с собой пакеты и украдкой совали в них фрукты и булочки с общего стола.
– Другой Египет, – сказала Наташа, следя за шумным семейством за соседним столиком. Отпила из красивого стакана жиденького кофе:
– Ты можешь себе представить, что здесь, недалеко, те самые пирамиды? Которым пять тысяч лет?
– Мама-а-а! – заорал пятилетний карапуз, пиная прицельно кудрявую девочку на соседнем стуле:
– Она! Меня! Толк-ну-ла! Ду-ра!!!
– Са-а-ам! – завопила принцесса и кинула в обидчика чайной ложкой.
Витька подумал добросовестно.
– Не могу, – признался.
– Съездим. Хотя и там не лучше. Иногда мне кажется, Вить, мы, как плесень. Ну, люди.
Витька осмотрел зал. Толстые и тонкие, в привезенных из родной губернии нарядах – вон дама в черных кружевах с шелками и декольте… Крики радостные в сторону своих, косые взгляды на вновь прибывших… Наташа в малюсеньких шортах и красном топике с одним плечом. Он сам – в попугайных бермудах, что откопал второпях на антресолях, и в черной майке.
– Может и плесень, – сказал осторожно, – но пирамиды-то – строили.
Ната вздохнула.
– Да, прав. Наверное, прав. Хотя, вот – Большой каньон, например. И без нас обошлось, а так грандиозно!
– Не знаю, не был, – вредно сказал.
– Будешь! – рассмеялась Наташа, – если захочешь как следует, конечно! Хочешь?
– Купаться хочу! – умоляюще ответил Витька, следя за уходящими в солнце отзавтракавшими.
Они купили у официанта бутылку красного холодного вина.
Медленно-медленно поплыл день. Выворачивая из-под босых пяток горячий песок, обжигая спину и плечи неправильно летним ноябрьским солнцем, плеская в лицо водой, нестерпимо лазурной и до того соленой, что мгновенно свело и зачесало губы.
Витька наслаждался. Набрав в прокате растрепанного добра – ласты, маску с трубкой, нырял среди огромных плоских камней, морскими садами раскинувшихся на совсем небольшой глубине. Плавал к белым катеркам, болтавшимся на якорях рядом с близкими буйками. На ломаном английском заказывал в баре минералку и фрукты. Мазал Наташе спину кремом. И снова плавали вдвоем, к буйкам и обратно, и снова. Катался на белом, чистеньком, изукрашенном кружевами и помпонами не хуже грузинской волги, верблюде. Звали верблюда Вася. Хозяин, широко вышагивая в развевающейся на горячем ветру длинной рубахе-джалабие, улыбался, оглядываясь на Витькину улыбку, водил Васю в поводу среди полуголых туристов.
Неожиданно быстро закатывалось солнце медленного дня, но – не жалко, ведь только первый день.
В номере, с удовольствием шлепая по каменным плиткам прохладного пола, приняли душ и переоделись к ужину. Договорились поехать в город, побродить по магазинчикам.
Наташа иногда взглядывала на Витькину змею, ее узкую цветную голову, уложенную на середину бедра, на хвост, в полный изгиб захлестнувший щиколотку. Хмурилась, но ничего не говорила. Виктор, помня утро, не спрашивал. Захочет – сама и спросит, и расскажет.
В Хургаде, блестевшей фонарями и витринами – ожерельями по черному бархату ночи, толкались среди толпы. Пили воду из маленьких фонтанчиков в виде каменных рыб и собачек. Купили непонятных фруктов у сморщенного хоттабыча, клонившего голову на тонкой обугленной шее под тяжестью гигантской чалмы. Улыбчиво отказывали продавцам безделушек, сладко и жарко заманивавшим их в сверкающие внутренности магазинчиков.
Молча, устав, ехали обратно, глядя на яркие отельчики и черные куски пустыни между ними.
Витьку плавно кружило, перед глазами плыли яркие дневные рыбы, мелкая бирюза волн, солнечные блики, блеск начищенной меди, цепляющие глаз расписные ткани…
– Здесь остановите, пожалуйста, – услышал Наташин голос. И заоглядывался удивленно, выходя. До отеля не доехали. Справа – черный провал пустыни, днем похожей на разоренный карьер.
Слева – пустой тротуар вдоль распахнутых входов. Лавочки попроще, похожи на гаражи. Многие закрыты. У тех, что еще работали, на ковровых низеньких табуретах продавцы отдыхали от дневной суеты. Пили кровавый чай каркадэ, курили кальяны. Вскрикивая и смеясь, щелкали костяшками по изукрашенным доскам нард.
– Пройдемся, тут недалеко уже, – напряженным голосом сказала Наташа, – минут пятнадцать и наш отель.
Витька покивал. Попытался углядеть выражение лица спутницы. Но шла впереди, посматривая на раскрытые двери лавочек. Продавцы, скалясь, рассматривали маленькие шортики, беспорядок светлых коротких волос, восхищенно цокали вслед. Иногда зазывали, но вяло, больше для очистки совести.
Наташа улыбалась вежливо, не останавливаясь. Задержалась у закрытых ворот одной из лавок. Медленно-медленно прошла, внимательно глядя на металлическую двустворчатую дверь. Оглянулась на соседнюю, тоже запертую. Пошла дальше, рассматривая следующую.
– Наташ, ты ищешь чего?
– Подожди…
Опершись на Витькину руку, стала поправлять ремешки сандалии. Из-под локтя его, хмурясь, глядела на запертые двери.
– Здесь? – предположил Витька сверху.
– Н-не знаю, – машинально ответила. Постояли немного, пока она топала ногой, проверяя, удобно ли. Но подходить к дверям не стали.
– Пошли, – решительно сказала девушка, схватив за руку Витьку. И они быстро двинулись к отелю через темноту, разбавленную светом фонарей над шоссе.
Позади протяжно заскрипело железо.
Витька почувствовал, как задрожала Наташина рука.
– Эй? Сувенир? Mister? Miss? Папирус, плиз, красиво, бьюти? – мешая языки, не торопясь, перечислял торговец за спиной, – духи, полотенца? Красиво! Дешева!
Наташа повернулась. Из полутьмы меж двух кругов фонарного света, они смотрели на открытые двери лавки, откуда электричество, как выплеснутое ведром, растеклось по серым плиткам тротуара, обдав высокую фигуру на границе света и полумрака. Худые босые ноги из-под длинной рубахи, тонкая шея с завитками черных волос, голова чуть опущена – лица не разглядеть. На фоне светлых одежд – руки тонкими прочерками темного.
Девушка нерешительно пошла обратно, таща Витьку за собой.
– Хна? Роспись? Пэйнтинг? – продолжил мужчина и вытянул вперед руку, покрутил в сумраке, подкрепляя слова жестом, – тату?
Наташа выпустила руку Витьки. Подошла к торговцу и подняла голову, всматриваясь, обходя, заглядывая в лицо, пытаясь увидеть больше, подробнее.
– Амал? – спросила звонко. И Витьке не понравился ее голос, будто сейчас, после этого звона, порвется что-то. Чему уже некуда натягиваться.
– Но Амал, – равнодушно сказал темный, разглядывая тротуар перед собой.
Наташа горячо заговорила по-английски, взмахивая рукой. Спрашивала, почти кричала. Витька, приоткрыв рот, пытался поймать хоть что-то. Кроме настойчивых вопросов про Амала ничего путного не уловил. Торговец все качал головой отрицательно. Вставлял в паузы названия бесконечного своего товара.
Наташа снова заговорила, что-то рассказала долго, не позволяя перебивать. Подбежав, схватила Витьку за руку, рванула к свету. И задрав ему штанину длинных шортов, указала на татуировку.
Парень мрачно смотрел на ногу, потом перевел на Витьку темные глаза. Развел руки и закричал на обоих. Все больше распаляясь, тыкал в Витькину сторону черным пальцем. Наконец, выдохшись, рявкнул на девушку, и, ступив внутрь лавки, захлопнул железные двери, стерев с тротуара желтизну.
Повернулся в скважине ключ, запирая свет – один поворот, два, три.
Наташа подскочила и ударила ногой в дверь. Жалобно запело железо.
– Ты чего? Брось! Сейчас еще ментов местных вызовет!
– Не-вы-зо-вет… – повернувшись, крепко присаживала железо подошвой сандалии, – я-мо-жет ку-пить хочу, по-ло-тен-це!!!
Витька оттащил девушку от двери, обнял за плечи. Наташу трясло.
– Завтра, Наташ, видишь, не хочет. Что тебе он, купим в другом месте, а?
– Закрито, ночь! – донеслось из-за железа, что тонко допевало стуки.
– Видишь, не откроет. Пойдем.
Наташа постояла, успокаиваясь. Нервно рассмеялась.
– Да. Пойдем. Все равно это не он. Не Амал. Я думала, может, знает.
Витька обнял ее за плечи и повел осторожно, боясь, что вырвется, отбежит и снова – крики, стук…
– Может, я что придумаю, а?
– Ты-то? – Ната глянула горько, засмеялась, покачала головой, – да уж, ты особенно подскажешь.
И сунула руку Витьке под локоть:
– Не обижайся, хорошо? Это я так, нервы. Расскажу сегодня. Хотела потом, думала, отдохнем немножко, но, раз так вышло.
– Наташ, ты тут была с Сергеем своим, да?
– Да, – тени обгоняли их, становились длиннее, потом укорачивались и прятались под ногами. Чтобы снова начать расти со следующим шагом.
– В этом же отеле?
– Да, – из-за расписного забора доносились крики и плеск на водных горках бассейна. По дороге проносились машины. Маршрутные такси притормаживали, и висящий на ступеньках зазывала махал рукой, приглашая. Они отрицательно махали в ответ. Машинально, не прерывая разговора.
– Ага, а теперь плачешь, что не получится отдыха. Если б хотела отдыха, поехала бы в другой отель, город. Да в страну другую.
– Да. Прав.
– Так что, самое время рассказать, две головы – лучше, – Витька старался быть жизнерадостным. Чувствовал себя дурак дураком.
– Да, – снова сказала Наташа.
И, заходя в холл отеля, попросила, ткнув в руку смятые купюры:
– Водки возьми. Большую бутылку. Чтоб – на всю ночь.
Глава 19
– А-алег! – сердитый женский голос вырвался из салончика и, проскакав по трапу, разлетелся над палубой, раздерганный свежим ветром.
Витька покрепче ухватил камеру, оберегая объектив от брызг. Покосился на Олега. Тот, склонившись над аквалангом, недовольно повел плечом, затянутым в черный эластик. И нагнулся еще ниже, как бы пряча уши.
Трап зазвенел, сбиваясь звуками в такт прыжкам катера на волнах. Из люка показалась голова. Темные очки запутались дужкой в длинных черных прядях. Молодая женщина, высунувшись по плечи, ухватилась за края люка, огляделась. Убедилась, что волнение не стихает, а даже становится сильнее – катер вышел из-под защиты береговой полосы, и раздраженно закричала громче:
– Алег, еб твою мать! Не слышишь, Маське плохо! Нас всех уже обрыгал! Иди, блин, к этому козлу-капитану, возьми еще пакетов!
И ссыпалась вниз по трапу. Навстречу ей несся басовитый рев маленького мальчишки, замученного качкой. Олег повел круглыми плечами и, смущенно ухмыльнувшись, неуверенно пошел по белоснежным доскам.
Витька оглянулся на корму. Наташа сидела на пандусе над самой водой, свесив ноги в невыносимо лазурную кипень, крепко держалась за лохматый канат. Каждая третья волна обдавала ее с головой, и девушка вскрикивала, смеялась, нагибалась к воде, надежно перехваченная в талии брезентовым ремнем. Иногда катер зарывался носом в волну, и Наташа откидывалась на спину, вытягивая чуть загоревшие ноги.
Витька сделал еще несколько снимков. Наташа в пенящейся синеве, руки Наташи в белоснежной пене, голова Наташи среди беспорядка кипящей воды.
Наташа была весело пьяна, оттого смела и отчаянна. И не тошнило ее. Витька же все время пребывал на грани. Качало изрядно. Но ветер дул свежо, рвал рубаху из шортов и так чудно пах морской свежестью, что тошнота отступала, сворачивалась в желудке клубком и давала передышку, не успевая за радостной свежей качкой.
Витька, чуть напуганный небольшим штормом, когда катер только отвалил от причала, на всякий случай собрался отсидеться в салоне. Но, спустившись по узкому трапу, увидел, что малюсенькая каморка оккупирована двумя молодыми дамочками с крошечными детьми – лет трех-четырех. По диванам валялись пляжные сумки и детские вещи. Было душно и уже попахивало кислятиной. Под мрачными взглядами женщин пробормотал какие-то извинения и неловко полез наверх, больно стукаясь локтями о белый металл. Мужья плененных штормом дам обрадовались Витьке, как единомышленнику со стороны. Познакомились, крепко пожав руку, и стали увлеченно готовиться к подводному спуску.
На катер попали случайно. Пока он бегал в ресторан за большой водкой, Наташа в холле отеля записалась на рыбалку у худого, совершенно черного капитана с печальными круглыми глазами. Ему не хватало двух человек для утреннего выхода в море.
Витька ужаснулся было очередности – водка, морская рыбалка в пять утра, акваланги, которые до этого лишь в сериале про Кусто и видел. Но потом решил, что, может, на похмелье лучше это, чем жаркий пляж.
До похмелья дело не дошло. Наташа пила размеренно и понемногу. У Витьки отбирала лишний раз налитую рюмку:
– Я тебя научу, салага! – сказала наставительно, – до утра эту бутылку сделаем, потом еще прикупим. Валяться в отрубе не будем, ни-ни.
И руководила, следя за тем, чтоб успевали вовремя поесть прихваченного с ужина жареного мяса с перетертыми в серую острую пасту баклажанами. Резко останавливала питие, когда рюмка готова была махнуться внутрь, будто в ней вода, а не водка.
Не соврала. Всю ночь разговаривали. Витька находился в том неуловимом и быстро проходящем обычно состоянии, из-за которого и спиваются многие, когда хмель только пришел, тронул мягкой лапой с обманчивой ласковостью, раздал голову до размеров вселенского воздушного шара, сделал плавно легкими руки и ноги. Когда место, занимаемое телом в пространстве, становится сверкающе великолепным, по праву занимаемым. Да любое место в этом пространстве тогда – твое. Лежишь ли, стоишь, танцуешь. Или сидишь у ног не твоей девушки в полумраке гостиничного номера, а каменные плитки пола нежно холодят разогретую кожу.
Наташа рассказывала о Сергее. Пожимая плечами и заранее виноватясь за то, что рассказывать-то и нечего особо. Познакомились. Понравились. Легко и вдруг переспали. И отлипнуть друг от друга уже не смогли.
Отмеряя рассказ, как водку, прерывалась несколько раз. Один раз вышли и погуляли по тусклым дорожкам игрушечного парка, задевая головами распахнутые цветки огромного гибискуса.
В следующий раз перелезли через каменный забор на соседнюю стройку и, осторожно зайдя в черную воду, выкупались раздетые. Целовались.
– Хватит, – сказала Наташа, отстраняя его лицо ладонью, – успеется, потом, а то разревусь.
В номере, не включая света, закутавшись в огромное полотенце, села на этот раз на пол сама, прислонилась к мокрым Витькиным ногам, и попросила разрешения рассказать, каким Сергей был:
– Я кроме тебя никому этого сказать не могу. Девчонкам? Маме? Или – Кутенку? Давай уж тебе. Может, мне полегчает.
И рассказала меж трех рюмок водки.
– Он такой смуглый был, знаешь, не как настоящие смуглые, а будто кровь горит под темной кожей. Хотелось трогать губами его – везде. Когда была без него, вспомню и губы жжет. Будто там его кровь. Волос грива. Как вымоет голову – ругался, не мог справиться с ними. Все растаманы на улицах глазами провожали. И дреды плести не надо – башкой тряхнет, волосы прыгают пружинами. Я ему все заколки дарила. Выискивала на развалах художественных, чтоб стильные, погрубее. А запястья – тонкие-тонкие. Но на девушку не похож. К нему даже голубые не приставали никогда. Уж больно глаза мрачные. Исподлобья, как глянет – обожжет.
Ты, Витька, не представляешь себе, как это – быть женщиной и полюбить настолько красивого мужчину! Вы западаете на красивых девиц или хорошеньких. А мужчины по-другому красивы. И мужественный – красив, и квазимодо какой-нибудь – красив. Но по-настоящему красивых мужчин – мало. Мало-мало!!! А я вот вляпалась.
С открытого балкона внутрь комнаты сочился тусклый свет луны, присаживаясь по пути на белые пластиковые кресла. Издалека слышались крики аниматора, что на трех языках честно отрабатывал свои деньги. Поблескивал кружок водки в недопитой рюмке на краешке маленького стола. Наташа протянула руку, зацепила рюмку пальцами, махнула в себя, не закусив:
– Он рисовал все время, просто двинутый был на живописи. Иногда я к нему убегала на ночь, врала что-то дома, а он и в постель со мной не ложился – в углу, у мольберта, как сумасшедший. Нищий был совсем. Продавать не умел. Это же надо бегать, предлагаться, на виду быть все время. А ему некогда, рисовал. Я еду привозила. Как-то раз поругались сильно. Очень я его хотела, ну просто – хотела. А он – рисует. Пишет. Ну, я ушла, дверь вдрызг, замок сломала. И за два дня сделала загранпаспорт ему, билет взяла и уговорила со мной – сюда. На две недели. Это, Витенька, самые счастливые две недели в жизни моей были. Дай водки еще.
– Не дам, – мрачно сказал Витька. Отодвинул за себя почти пустую бутылку, – поешь лучше. Или поспи.
– Хорошо, – не стала спорить Наташа, – только спать некогда, через полтора часа рыбалка. Давай в бар спустимся. Кофе покрепче.
Пока Витька закрывал номер, Наташа стояла на терраске, опоясывавшей второй этаж отеля и, улыбаясь, смотрела на матовый кружок лампы в низком потолке. Вокруг лампы полупрозрачными иероглифами расположились гекконы. С лапками-растопырками, белесоватые, но с темными глазками-семечками.
Пришлось вернуться за камерой.
В баре было душно, надсадно покашливал слабенький кондиционер. Прихватив поднос, вышли на улицу и сидели на широких бамбуковых креслах. Гнутые бамбучины, которые днем хозяин застилал ковриками, больно давили под коленями. Маленькое пламя свечи осторожно выглядывало из пузатенького бокала.
Наташа, запивая черный кофе отвратительным коньяком, рассказывала дальше:
– За пару дней до отъезда домой мы решили татуировки сделать. Маленькие, со значением. Любовь, типа, до гроба. А ты, Витька, любил когда-нибудь? По-настоящему?
Витька подумал добросовестно. Вспомнил шестой класс и девочку с толстыми пушистыми косами, вспомнил Ирку, швырнувшую вазу, Ладу на серых простынях. Потом вдруг Степку, тихо едящего пельмени в кухне.
– Нет, – сказал честно. И вспомнил плакат на стене за шкафом, девушку, что приходила в его самые лучшие сны – с темными иголочками прямой челки через светящийся в темноте лоб. И добавил неуверенно:
– Думаю, нет. Еще.
– Тогда ты смеешься надо мной, наверное.
– Не смеюсь, Наташ.
– Неважно. В общем, нашли мы эту лавочку, случайно совсем. Амал, тату, пирсинг, хна – недорого, качественно. Посмеялись, альбомы посмотрели. Чаю красного обпились, пока Амал про своего брата рассказывал, что студентом женился и остался с женой в Питере. Я нашла для себя картинку. Маленький символ такой, красиво и буква С вплетена. А Сережка увидел другую…
Наташа повертела в руках закопченый пузатый бокальчик. Пламя испуганно заметалось, просвечивая пальцы. За стойкой тихо копошился толстый бармен, почти в полной темноте – лишь иногда сверкали белки глаз на поплывшем круглом лице.
Дорога, остывая от дневной жары, лениво пахла горячим асфальтом.
– Змею он увидел, Вить. Такую же, как у тебя.
– Ну да, ну да, – растерянно забормотал он, глядя, как текут из Наташиных глаз медленные слезы, – ты говорила, ну не плачь, Натка, ну что ты?
– Не стал искать другую, – пальцы на бокале сжимались и разжимались. Витька видел, как пульсирует кровь – темнее, светлее…
– И сделал ее. А я себе не стала делать ту, что выбрала. Амал, скотина, смотрел, как спорим, и улыбался сам себе тихонько, я видела.
– Вернулись в Москву. Помирились, конечно. И он снова стал рисовать. Уже ни на что не отвлекаясь, и на меня тоже. И стал очень модным художником. На целый столичный сезон. Деньги пришли. И Сережа как с цепи сорвался.
Наташа бережно поставила бокал. Огонек вытянулся в стрелку, задрожал мельче и мельче, успокаиваясь.
– Спился он, Витька. Вот быстро и просто сгорел. Никаких преступлений, никаких завистников. Сам. Сердце не выдержало. Умер в клинике.
Мимо, почти у самых колен, фырча и обдавая запахом нагретого бензина, проехали большие экскурсионные автобусы. Остановились у освещенного входа в отель. Шофера с бумагами, переговариваясь, пошли к ресепшн. Снова – тихо. Но утро почти. Черное утро без рассвета.
У столика возник грузный бармен. Поставил перед Наташей высокий стакан, оранжевый, пахнущий сильно и свежо. Витька полез за бумажником, но бармен отрицательно выставил перед собой толстый коричневый палец. А потом махнул ладонью, мол, сидите. И ушел.
Наташа улыбнулась криво вслед толстой спине. Отпила соку.
– Наташ, – начал Витька. Из дверей отеля стали вываливаться в темноту сонные и неуклюжие экскурсанты – с пластиковыми коробками завтраков. Перекликаясь недовольно, полезли, путая и ругаясь, по автобусам.
– Слушай, Витька, устала я болтать. И – пьяная. Хватит, а? Сама не знаю, чего меня именно сюда понесло, в этот же отель, в эту лавку. Что бы я у этого Амала спросила? Давай, еще по коньяку и пойдем собираться.
День наступил неожиданно, упав из темноты сверкающим утром и прихлопнув море широкой ветреной ладонью.
Натка обрадовалась. Мало народу, маленькие смерчи мелкого песка бродят по пляжу. И только попавшие в западню предоплаты удовольствия – мрачно тащат свой крест – морская прогулка, когда детей тошнит, а железобетонным мужьям нет никакого дела до того, что злобный капитан никак не может погоду изменить в лучшую сторону.
И сидит теперь Наташа на резиновом пандусе для аквалангистов, привязанная капитаном через живот, чтоб не выпала в море. Смеется отчаянно, мешая бродящий внутри хмель с кипящим морем.
А Витька бродит по палубе, хватаясь свободной рукой за что попало. Натыкается на круглоголовых парней в гидрокостюмах. Снимает. Жалеет Наташу, вспоминает рассказ ее, недоумевает, пытаясь как-то уложить все в голове, свести края. И, забыв обо всем, снова снимает…
Глава 20
Автобус качало и потряхивало. Плавно. Лента рыжей земли за окном плыла мимо глаз. Плыла, плыла, чтобы вдруг зацепить внимание будочкой, черным пальчиком торчавшей среди рыжего, белыми кубиками заправочной. И снова – лентой рыжее над белесым асфальтом. Над ветровым стеклом на экране телевизора – «Ирония судьбы». Наташа, откинув голову на высокую спинку, оплывала, съезжала вниз по неудобному жаркому сиденью. Витька сбоку глядел на закрытые глаза, четкие синие тени в пол лица. Жалел. И раздражался жалостно.
На рыбалке держалась. Очаровала капитана, что раскалывал в ее сторону спекшееся черное лицо сверканием улыбки. Он даже понырял вместе с Витькой, добыл неимоверной красоты раковину и приготовил ее – неожиданно не только съедобную, но и вкусную. Мясо съели за ланчем. Раковину Наташа получила в подарок. Капитан был крепко притянут Наташиной рукой и расцелован в худые щеки. Остался мрачно доволен. Сдвинутые в тень укачанные жены сотоварищей по рыбалке ели Наташу злыми глазами и к вечеру даже устали подчеркивать свою к паре неприязнь. Невостребованная, неприязнь падала за борт и тонула в сумасшедшей воде.
После рыбалки, прошлепав в номер разбитыми усталыми ступнями, роняя по дороге ласты, полотенце, свалились на кровати. И совсем было Витька заснул, уталкивая воспоминаниями и впечатлениями остатки долгого хмеля, но пришла на его постель Ната. Желание съело их, оставив на перекрученных простынях лишь два пылающих от солнца и соли тела. Не рукой махнули, – ногой отшвырнули с грохотом и звоном все осторожные мысли…
Кажется, кричали, будто требовали спасения. Цеплялись за плечи друг друга, как выбираясь из жадной воды – за рукава и багры, – выкатывая глаза и кусая губы до крови. Будто, если не раскрыться сейчас, не распахнуться, разбиваясь до синяков на коричневой уже коже, то – смерть. Будто надо успеть. Успели. Купаясь в поту, оставляя на простынях мокрые пятна, спаслись одновременно, утыкаясь в шеи, прикусывая распахнутыми ртами спутанные волосы. И, на самом краю, или – на песке, где кончается прибой, где уже – можно, убежав, спасшись, на первой границе безопасности – упали. Заснули на полкрике.
А потом день молчали. Наслаждались возможностью не говорить без обид и мыслей. Ходили куда-то. Витька завтракал один, нашел Наташу на пляже и, подтащив белоснежный топчан, улегся рядом. Разочаровав пышную даму в золотом купальнике и прозрачном парео с Клеопатрой на заднице. Дама зорко отслеживала в ресторане их появление порознь, но увидев, что снова вместе они на песке, увяла, сникла, накричала на тощего мужа – красногрудого, с белыми ногами и запретила купаться толстой девочке в полосатом купальнике.
Вечером Наташа сама сходила в ресторан. Витька ленился. Валялся, глядя в раскрытую балконную дверь. Считал удивленные цветы гибискуса на огромном кусте. Слушал анекдоты с нижнего этажа. И не раздражался даже. Только ныл в груди под самым сердцем вчерашний хмель. Натягивал струнку до почти нестерпимой глухой боли и – отпускал.
– Плохо? – спросила Ната, вернувшись. Сидела в кресле, вытянув ноги. Держала на коленках пакетик с орешками. Кидала ими в Витьку. Он послушно и лениво разевал рот. Хлопал по бокам, разыскивая потерявшиеся.
– Угу, – согласился. Плохо было так, что даже удивляться и жаловаться не хотелось.
– Зато два дня держались. Похмеляться не понадобилось. И голова не болит.
– Наташ. Я потерялся. Как тот орех, – он извернулся и зашарил вдоль спины.
– Ну да. Зато голова не болит.
– Замолчи, а? Душа болит.
– А ты думал. За все платим… – но замолчала надолго.
И только после душа, не вытираясь, когда прошла голая мимо и повалилась на простыни своей постели, сказала:
– Я нас записала на завтра. Поедем в Каир. Пирамиды смотреть.
– А если я не хочу?
– Не едь. Не езжай.
– Ты же заплатила!
– Чихать.
И Витька согласился. Чихать, конечно. Подумал, утром решит – ехать, не ехать. Полежали молча, слушали цвирканье сверчков. Один жил на балконе и пел так, что заглушал истеричные вопли аниматоров.
– Наташк?
– М-м?
– Хочешь, я – в гости к тебе?
– Спи давай.
– Ага, – и Витька обрадованно завозился, накручивая на горящее тело простыню. Память о последней их близости тревожила, почти пугала. Вспомнил, что, когда бились телами друг об друга, Наташа все поворачивалась к татуировке его. Прижималась – животом, грудью. И лицо у нее становилось такое… А потом, держа его за плечи, застонав, распахнула ноги. И будто поцеловала влажной середкой рисунок на колене. Обожгла. Смотрела прямо, а в глазах – дым серый клубами утягивается внутрь, внутрь. Хотелось отдернуть взгляд, как руку от огня. И – колено. Но другого хотелось сильнее. И махнул рукой, падая в этот дым, рванул ее на себя. А потом уж – все…
– Спокойной ночи, – поспешно сказал. И заснул быстро.
Конечно, в Каир поехали. Немного заботило Витьку, что не настроился он – те самые все-таки пирамиды. Те, что с детства – как вода, воздух, почистить зубы, и чай по утрам из чашки с облезлой золоченой ручкой. Но, когда уже полчаса ехали, обнаружил, что камеру забыл в номере, рассмеялся до слез и вдруг освободился. От всего. Как поехали, так и поехали. Попытался сонной Натке рассказать об ощущениях и мыслях. Выслушала серьезно, с усилием поднимая ресницы. Зевнула кошкой, во весь розовый рот. И посоветовала с сонной мудростью:
– Заткнись, философ, не трещи. Дай мозгам самим поработать. Ага?
– Ага, – согласился. И погладил осторожно по голове, мотавшейся по темному чехлу. Смотрел на спящую уже. Удивлялся. Пытался думать о том, что творилось внутри, но, вспоминая Наткин совет, гнал слова из головы. Потом, потом. Молчи, не тараторь. Пусть думается само.
И – думалось. Без слов, наматываясь на стержень, что вдруг рос внутри, вдоль всего тела – от паха, через солнечное сплетение, – сглотнув, чувствовал – через горло в мозг и упирался уже в темя. Думалось: наматываясь широкой невнятной лентой рыжей пустыни вдоль дороги и белесым асфальтом… Успел подумать, убаюканный дорогой, а ну как намотается слишком много? Пробьет ли голову? И будет торчать из темечка сверкающая стальная антенна? И спал-спал – до самых пирамид. Под приглушенный хруст сапог по снегу и знакомые наизусть реплики залюбленного до тошноты советского фильма.
Проснулся от шума и говора. Наташа смеялась, толкала в бок:
– Смотри, соня!
Увидел среди рыжего, чуть затемненного стеклами, вот они – пирамиды.
– Они. А чего – низкие какие-то? – еще толком не проснувшись, удивился.
– Вот такие.
Попутчики, поворачивая подсолнухи лиц, жадно цепляли глазами две приземистые макушки, что маячили слева, будто выглядывая из-под земли.
Витька отвернулся. Что-то отвечал девушке, медленно еще, приноравливаясь к бегущему мимо, пока спал, окружающей жизни. Привыкал к разочарованию. Низкие… А думал – гигантские. По телевизору сколько раз… Высоко-высоко. И столько про них. Пытался собрать в голове лоскуты сведений. Застыдился, что знает на самом деле мало.
И вдруг толкнуло. Здесь они! Даже, когда не глядит. Пирамиды давили на левый висок. Были. Снова глянул. Медленно поворачиваясь вслед за движением автобуса, смещались, уплывали за спину. Продолжая давить затылок. Отвернулся, посмотрел на наташину улыбку. И восхитился, осмысливая.
– Ну? Ну? – затормошила она его, щипля за бок через сбившуюся рубашку.
– Наташ… Они – есть. Так?
– Да, Витька. Пять тысяч лет есть. Мы умрем, а они – будут.
– Мы сегодня около них будем?
– Будем-будем.
Витька улыбнулся. Камера – ну ее. Пока что. Открыток с пирамидами и без него наделают.
После, набегавшись стадом вокруг ярко-солнечных огромных камней, насмотревшись на полицейские патрули, что разъезжали на грязных белых верблюдах, сто раз отказав фотографам, замотанным в раздерганные ветром тряпки, сидели в длинном ряду за фуршетным столом.
– Апельсинки берите, и лимончики, бананы не доедут, – громким шепотом учила Наташу роскошная дама в белых льняных брюках и стильной шляпе с лентой. И глядела сочувственно на непрактичную молодежь. Наташа готовно кивала, раскрывала беспомощно глаза и подставляла под столом пакет, куда опытная шефиня щедро скидывала еду покрепче. И рассказывала, что на выходе «еще сочку не забудьте прихватить, там – на столе отдельном, в маленьких таких баночках»…
Витька открыл рот, захваченный мыслью. Понял он, почему низкие пирамиды, но почему – все время они есть, понял! Сжав руку в кулак над тарелкой с остатками жареной рыбы, представил, как сыплется из горсти песок. И ложится на поверхность плотным низким конусом. Ссыпая с конуса лишнее, будто поводя во времени плечами. Восхитился мудрости египтян, что не стали спорить, и без всякой гордыни внутренней соблюли гордыню внешнюю. Но убрал руку, поняв, что увлеченной сбором фруктов даме не нужно это. А Натке потом расскажет. Она поймет. И еще та девчонка бы поняла, на каменной тропе мимо Сфинкса. Сидела на отдельно стоящем валуне, вцепившись руками в загорелые коленки. Смотрела вверх, на безносое лицо и глаза под каменными спокойными веками. Оглядывалась на массивную макушку за спиной, украшенную поверху остатками светлой штукатурки и начинала плакать, потряхивая длинными волосами. Люди шли мимо бесконечно, отерхивая согнутую спину коленями, убирая руки, чтоб не коснуться, отдергивая кричащих детей. Кто-то сказал вопросительно в горячее марево «напилась, что ли». Но Витька, проходя, заглянул в отчаянно-радостное лицо ее, понял – не пила. И дернул Наташу за руку из суетливой толпы. И остались рядом с ними только пирамиды и сфинкс. Такие, какими были всегда.
Выбираясь из-за стола, таща тяжелый пакет, Витька шел через жару, касаясь Натки плечом. Смотрел сверху на ее чуть облезший нос и потрескавшиеся губы. Смотрел на плоско-острые макушки пирамид – две рядом, одна чуть поодаль. С горячей благодарностью – и к ним, и к Натке. Думал, как хорошо, что он здесь – с ней, а ни с кем другим. Еще бы девчонку ту увидеть, помахать и улыбнуться. Чтоб знала, что не одна.
Глава 21
После еды, подгоняемые экскурсоводом, разбрелись по сувенирным лоткам и ларечкам. Горластый египтянин, всю дорогу до Каира гордо вещавший подопечным о том, сколь сильны и могучи были коренные жители и как не разрешали они детям своим мешать кровь с нечистыми арабами, – теперь озабочен был лишь тем, чтобы не упустить комиссионных. И неутомимо сгонял туристов в кучу, направляя к товарам подельщиков, расхваливая фаянсовые тарелки с мутным рисунком и лоскуты папируса с бесчисленными египетскими богами.
– Ты что-то купишь? – через жаркое марево Витька брел за Наташей, иногда отодвигая в сторону суетливых прохожих.
– Не зна-аю… – ветер пытался трепать подол бледного, будто выгоревшего Наташиного платьишка, но жесткая льняная ткань лишь складывалась японскими оригами. Квадратное какое-то платье – вдруг задумался Витька. И сказал:
– Натк, а ты одеваешься хорошо. Ну, не только дорого. Я что-то и не встречал таких вещей.
– Угу. Это называется вкус, Витенька. Он у меня есть.
Она вытянула в стороны загорелые руки, платьишко ерзнуло по фигуре и сделалась Наташка неимоверное трогательной – кукла, выпадающая из свертка. Подаренная…
– Я раньше не особо смотрел, это ж все как бы дамское считается.
– Как бы да. Но ведь все связано. Потому и таскаю тебя по жаре. Ищу. Чтоб не западал на ерунду.
– То есть, что попало не купишь? – Витька продлил взгляд по бесконечному ряду лотков, переполненных цветом, звоном, шуршанием, треском и снова цветом.
– Никогда, – Наташа шла вдоль ряда, уворачивалась от смуглых рук продавцов, что, встречая гортанным криком, продолжали кричать вслед. Жаркий ветер таскал под ногами обертки от только что купленного, сверкал в глаза полиэтиленовым золотом ленточек.
На ходу брала в руки лоскут папируса, пузырек с разноцветным песком, статуэтку черного камня.
– Неплохо рисовано, но тема избита… А это – на каминную доску или в спальню в деревенском стиле.
– В деревенском?
– Ну да, типа, дальний родственник, что не вылезает из дальних морей. На контрасте среди ситчика, знаешь, как ушибет глаз! Несмотря на то, что в каждой третьей семье такая египетская цацка есть. Ага, этого вообще ничто не спасет, сенкс, сорри. А вот здесь – можно выбрать! Ты знаешь, что если внутрь поставить свечу, камень светит, как через женскую ладонь? Нежно. Потому никаких круглых форм и завитушек – не пересластить.
И она сунула в руки спутнику высокий бокал на приземистой грубой ножке. Грязноватый мрамор поблескивал, будто кусок сахара, что уронили по дороге из магазина.
– Вот этот торгуй. В спальне поставишь, будешь моделек своих кадрить…
– Наташ, ну тебя.
– Не ломайся! – прикрикнула девушка, – пользуйся, пока советую. Или думаешь, такие советы на дороге валяются?
– Думаю, нет, – Витька проводил ее взглядом и остался воевать с радостным торговцем.
Истоптав огромную площадку, пыльные и счастливые барахлом туристы грузились в нагретый автобус. Хвастались, распихивали по сеткам обновки.
Когда автобус тронулся, из сеток выпали, покачиваясь, разноцветные кальянные трубки и повисли перед лицами пассажиров.
– А еще ювелирная фабрика, – шепнула Ната, – и благовония всякие.
Витька вертел в руках выторгованный мраморный бокал. А больше ничего и не купили.
Истомленные качкой и жарой, в ювелирный супермаркет они не пошли. Побродили по каменной улице, утыканной двумя бесконечными рядами пальм, заглянули в пару узких проулочков. Болтали с маленькими, совсем крошечными детьми, которые, сверкая зубами, легко переходили с английского на русский, с русского на немецкий. От горсти мелочи не отказались, конечно.
– Нат, ты, верно, по всему миру побывала.
– Есть немножко.
– Завидую…
– Нечему. Понимаешь, Вить, туристические зоны, они, как лагеря или больницы, везде примерно одинаковы. А местная экзотика – давно уже и не поймешь – что настоящее, а что подделка, чтоб легче глоталось. Куда ни поедешь, всюду одно – мягко поспать, симпатично выпить, пляж. Или – горы в снегу. И пара лакированных аттракционов туристических, чтоб не дай боже не переутомить. Знаешь, есть такие человечки, что обожают сфотографироваться на фоне указателей стран и городов. А то, вдруг не поверят, что вася тут был.
– А ты знаешь, что с тобой болтать интереснее, чем спать?
– Наверное, – девушка сунула монетку черненькому мальчику в когда-то белой рубашке и сандалиях с полуоторванными ремешками, – спать ведь и без мозгов можно.
Выходя из проулка, поморщилась, глядя на спутников – грузятся в автобус. Взблескивают медальоны, покачиваясь на зажатых в потных кулаках цепочках. Торчит из-под автобуса обширная задница в белых шортах – уронил таки неуклюжий покупочку, ногами зашаркали, поди найди теперь…
– Сейчас повезут фабрику духо-о-ов, – протянула, – весь автобус завоняют.
Витька, усаживаясь в духоте салона, переваривал услышанное. Всю жизнь привычно мечтал – дальние страны, все посмотреть. А после наташиных слов, будто кнопка в голове включилась и голова заработала. Даже стыдно стало, мысли-то простенькие, а он раньше их и не думал. Да думал ли вообще?
– Как же быть? – спросил растерянно. Про все, собираясь с мыслями. Наташа ответила лишь о путешествиях:
– Думать своей башкой. Ездить совсем по-богатому. Или – совсем по-нищему. Второе – опаснее, но вернее. Но это съедает время твоей жизни. Надо ли?
– Как это?
– Сообрази. Ведь надо пожить, привыкнуть, найти свое. А это нужно далеко не всем. Поверь, Вить, на десятой поездке все достопримечательности на одно лицо. И невозможно вспомнить – сам ли был, или – по телеку видел.
– Значит, можно и не ездить совсем? – медленно сказал Витька.
– Можно. Или – лишь туда, куда хочется. Не ставя галочек.
– Ох, Натка, и как тебя бомонд твой терпит!
– А никак. Отбываю пару вечеринок в месяц. Для Кутиной пользы. И – сама по себе.
Гомонящий автобус развернулся на асфальтовой площадке. Две обязательные пальмы осеняли помпезный вход, украшенный расписными деревянными колоннами. Встречающие арабы простирали навстречу руки в просторных рукавах джалабий – так энергично, что, казалось, и ждать не будут, когда группа выйдет, с автобусом внутрь и занесут.
– О, Господи, – простонала Наташа, – Вить, давай туда не пойдем, а?
– А что делать будем?
Ната завертела выгоревшей головой. Подбежала к шоферу. Что-то сказала ему, улыбаясь, показывая на спутника. Вернулась, потащила Витьку за угол здания:
– Тут в паре кварталов рынок есть небольшой. Лучше там глянем. Вдруг что найдем…
– Охотница!
– Есть немножко…
Рыночек, накрытый светлыми большими полотнищами, казалось, важно плыл куда-то, хлопая на жарком ветру парусами. Быстрые тени пробегали по жестким лицам торговцев, по развешанным полотенцам, парео, пирамидам ящиков с фруктами, толпам грубых бронзовых фигурок.
Бродили среди рядов, ни к чему не притрагиваясь – все яркое, одноразовое. На всем написано «купи, все увидят – был в Египте». Но ни на чем «возьми в руки, потому что не можешь пройти мимо». Ната помалкивала. Витька неловко ощущал, как елозят по спинам взгляды черных мужчин. Рыночек был не совсем туристический. И мужчины здесь были – на своей территории. Ему стало неуютно. Вспомнились рассказы о том, как в мусульманских странах крадут блондинок. Ему же придется за Нату воевать. Хотя, бедный гарем, куда она попадет… И бедный мусульманин.
– Все одно и то же, – бормотала девушка, не обращая внимания на взгляды. Но вдруг остановилась. Витька наткнулся на теплое плечо.
– Ну-ка, – сказала Наташа и устремилась в боковой проход. Почти подбежала к развешанным по алюминиевым стойкам папирусам. Напряженно рассматривая рисунки, остановилась.
Чуть желтоватая белизна толстых бумажных лоскутьев. Сочные неяркие краски. Звериные головы и изящные руки приевшихся изображений египетских богов. А на полотне, перед которым стояла Ната, – не боги. Просто женщина. Обнаженная египтянка, лежащая в змеиной позе – приподнятым лицом к зрителю, а дальше, через изгиб тонкой талии и округленность бедра, видны чуть согнутые ноги. Узкие ступни – где-то там, далеко уже. И прямо в глаза смотрящему – медленный, все знающий, взгляд из-под ровной глянцевой челки. Чуть приподняты плечи, будто, опираясь на грудь и ладони раскинутых рук, встает, сейчас встанет.
«Ага, и раздует капюшон», подумал Витька, глядя в немигающие нарисованные глаза. Вздрогнул от шепота:
– Ты видишь?
– Да. Хорошо нарисовано.
– Балда. Смотри. Ты видишь, кто она?
Витька вспотел, застыл, уставившись. Быстро перебрал в голове знакомые лица. Лада, девушка из снов, а и все! Не модельки же…
– Наташ, – сказал хрипло, – это же ты. Ты это, правда? Только глаза другие. Нет, такие, только цвет другой. Надо же, совпадение такое!
– Какое совпадение, – отчаянно сказала, – какое? Сережка меня так рисовал. В этой вот позе. С этим лицом. Кольцо, глянь, на пальце.
И вытянула палец к рисунку, сводя вместе два серебряных толстых обруча – настоящий и нарисованный.
– Ну-у, – неуверенно сказал Витька, – наверное, местный художник видел портрет и сфотографировал. И теперь делает копии. Талантливо делает, даже я вижу, хоть и дуб в живописи.
– Не было портрета, Вить. Был один эскиз. Я в постели валялась тогда, виноград ели. А потом поругались, он эскиз разорвал и сжег. Прямо на полу. Пришлось коврик купить, чтоб хозяйка дыру в линолеуме не нашла.
– Я не знаю… тогда…
Касаясь плечами, шли вдоль стоек, смотрели. Рисунки с черноволосой Наташей светили меж сувенирных поделок – звездами с неба среди комков фольги. Поясной портрет вполоборота – гибкая спина, талия, начало бедер, небрежно драпированных прозрачной тканью. И завеса темных волос по плечу, закрывая часть спины. Линия щеки, нос, концы ресниц. Вроде бы и лица не видно, но все равно понятно – она, та, что рядом.
Каждый раз Ната вздыхала стесненно и машинально поправляла короткие пепельные прядки – будто убедиться, что не поменяли цвет и длину…
Добрели до последнего рисунка и встали. Тонкая женщина Наташа, с прямыми плечами и согнутыми руками, танцевала, развевая вокруг напряженно вытянутых ног прозрачные полотнища египетского виссона. Широкий цветной шарф перехватывал шею, вился по плечу до локтя и упадал, изогнуто сходя на нет к смуглой ступне. Орнаментом по краям и одновременно частью рисунка – две танцующие змеи. И три пары глаз, не мигая, на зрителя. Змеиные и женские. Нет – четыре…
– У тебя на шее – змея, – шепнул Витька, не отводя глаз.
– Вижу, – Наташа смотрела. Подняла руку, тронула собственную шею. Сглотнула…
Постояли, как во сне. И очнулись медленно, просыпаясь.
– Мы это купим, – сказала, – всю меня купим, а потом уже будем разбираться, кто рисовал.
Она отошла от рисунка и заглянула за край ряда. Осмотрела мусорные переполненные баки, сараюшки с выбитыми дверями, лежащую на пороге облезлую суку с утыканным щенками провисшим боком. С покосившихся стоек свисал край полотна – замызганный, рваный, хлопал, надуваясь, стойка поскрипывала. Мутной головной болью наплывал запах гниющих фруктов.
– Эй, – Наташа вытянула шею, засматривая в узкий проход между рядами, – есть кто? Мы покупатели…
– Наташ, – Витька потянул ее за руку, – вон смотри. Мы, наверное, слишком быстро проскочили. Или он отходил.
– Она, – поправила девушка, идя вслед за ним к черной согнутой фигуре на раскладном табурете.
– Мы хотим купить, – начала Наташа на ходу и осеклась. Из-под низко надвинутого, плотно увязанного и подколотого по краям хеджаба, над краем легкой чадры, глянули на нее медленные черные глаза женщины с рисунков. Витька, ухватившись за Наташино плечо, стиснул пальцы на горячей коже. И отпустил, недоумевая, как могло показаться – такое.
Торговка закричала радушно, поводя толстой рукой, до ногтей укрытой в складках одежды. Маслила глаза, поднимая улыбчато валики щек под самые веки, густо черненые по всей длине. Кричала на своем, и на все попытки Наташи поговорить по-русски или английски – отмахивалась, не вставая. Показывала рукой в соседний ряд, внезапно высила голос, зовя кого-то.
– Она не может продать, – предположил Витька, глядя на растерянную Наташу с кошельком в руках, – видимо, присматривает просто. А торгуют-то мужчины. Погодь, сейчас придет хозяин.
Будто поняв, женщина развернулась тяжело, придерживая табурет и, кивая, снова указала рукой на высокого мужчину, что стоял поодаль спиной к ним. Из-под светлого квадратного платка, прихваченного вокруг головы скрученным жгутом, вились по джалабие концы черных волос. Закричала.
Одновременно с его движением на оклик толстухи, Наташа всхлипнула коротко, ухватилась за Витькин локоть, заскользила пальцами, будто неживыми. Отпустила, не заметив…
Сережа? – спросила негромко. И, не сводя глаз с поворачивающегося смуглого лица, рванулась, споткнувшись. Пошла быстро, быстрее-быстрее…
Мужчина, не закончив поворота, глянул искоса темным глазом, отвернулся резко и пошел от них, расталкивая покупателей. Мелькал пыльный край светлой широкой джалабии среди чужих ног и подолов. Наташа, вытягивая шею, не отводя глаз от уходящего, бежала, натыкаясь на гомонящих торговцев, сквозь возмущенные восклицания укутанных женщин, наступала на чьи-то ноги…
Витька дернулся следом беспомощно. В спину его толкался крик черной женщины. Кто-то проговорил на ломаном русском что-то о нехороших картинах. «Иди-иди!», – закричали сзади, прогоняя.
И он торопливо кинулся, держа глазами мелькавшую выгоревшую макушку ее, боясь потерять. Один раз оглянулся, в быстро текущих секундах пытаясь сообразить все сразу: хотели купить, а убегают, неужто тот самый Сергей? Но умер ведь? Бред. И, оглянувшись, побежал за Наташей, унося в памяти стоящую у папирусов черную фигуру женщины, что вдруг стала стройна по-змеиному, и жгла его темными немигающими глазами. Но не удивился переменам, просто сдвинул в дальний уголок сознания – потом, потом будет думать, удивляться, сопоставлять.
Глава 22
Догнал Наташу довольно быстро. Схватил за руку, пытаясь придержать. Но она тащила его за собой, из ворот рынка, мимо пирамид картонных коробок, мимо беленой будочки-кокона за углом – в узкий и длинный проход, что извивался глухими белеными стенами. Изредка в стене – маленькое оконце или запертая калитка.
Попытался что-то сказать, но пальцы девушки стали выскальзывать из руки, и он просто прибавил шагу, видя, что она, подав вперед подбородок, не отрывает взгляда от мелькающей далеко впереди светлой фигуры. Они проскакивали запах помоев, окунаясь в запах специй, вываливаясь из него в тонкую струю морского бриза, что вдруг прилетел и заплутал среди белых стен.
Переулок внезапно разлился небольшой площадью, полной народа. Важные мужчины, сопровождающие семенящих жен в паранджах, иногда – с детскими колясками, стайки девушек в обтягивающих джинсиках, но с лицами, обрамленными тщательной упаковкой цветных платков и в блузах с рукавами до самых кончиков пальцев.
Уворачиваясь, пробежали меж беспорядочно расставленных посреди тротуара облезлых столиков, за которыми – старики в узких змеях кальянов, постукивали костями по доскам с нардами. Бедром Ната уронила одну доску, заскакали по грязному асфальту потертые фишки, и Витька, тащась за ее рукой, прикладывал другую к сердцу и старательно скалил зубы – извинялся.
И снова узкие проходы, пересекаемые широкими проспектами и улицами: машины, газоны, высокие дома-дворцы в перспективе.
Впрочем, погоня продолжалась недолго, и Витька с изумлением увидел знакомые колонны на входе в магазин ароматов и даже, проскочив мимо, сворачивая за угол здания, успел разглядеть водителя их автобуса, дремлющего, откинув курчавую голову на спинку водительского сиденья. Теперь они быстро шли вдоль стены здания за мелькнувшим краем одежд и, вывернувшись к тыльной стороне дома, услышали, как захлопнулась небольшая некрашеная дверь.
Наташа, подбежав, крутила ржавую ручку. Дверь не открывалась. Витька наконец озлился, схватил ее за плечи, тряхнул, повернул к себе. Испугался полуобморочно закаченным глазам, мелко дрожащим плечам под своими руками. Прижал Наташу и, покачивая, стал шептать бессвязно в горячее ухо, касаясь его сухими губами. Поцеловал в макушку и гладил, гладил рукой, чувствуя, как стихает дрожь. Наташа всхлипнула, отняла руку, ладонью вытерла нос. Успокаивалась.
– Ну? Ну, подожди, милая, все хорошо, все. Успокойся. Сейчас мы постучим. Да? И спросим о нем. Ведь он вошел, его тут знают. А это просто магазин. Там наши внутри. Еще там. Так?
Наташа закивала, тыкаясь мокрым носом в его майку, вздохнула прерывисто.
– Я ведь не знаю английского. Ты и спросишь. Не кричи только, хорошо? Улыбнись и спроси. Объясни, хотим купить рисунки. Все сразу. Я стучу, да?
И он, подняв тяжелую петлю кнокера, стукнул о металлическую пластину – раз, другой. Металл глухо заныл. В звук его вплелся скрип открываемой двери. Маленький хмурый мужчина глянул на них из-под небрежно наверченного тюрбана. Выслушал сбивчивые Наташины вопросы. Покачав головой, сказал что-то по-арабски и стал закрывать дверь.
Наташа вцепилась в косяк, подтаскивая Витьку поближе и, одновременно крича на араба, приказала:
– Ногу ему покажи.
– Чего?
– Дурак, змею покажи, быстро!
Витька, улыбаясь криво, выставил ногу и задрал штанину длинных расписных шортов. Наташа, продолжая быстро говорить, присела и провела по рисунку рукой, умоляюще глядя на стража снизу вверх.
Тот замолчал. Отпустил дверь. И отступил в полумрак за ней.
– Сработало… – Витька отпихнул девушку за спину и медленно, ничего не видя после яркого света, вступил в душную темноту, состоящую из волн парфюмерных запахов, вони чеснока и подступающей от пола плесневой сырости. Наташа подталкивала его сзади, дыша в плечо.
Дверь захлопнулась. Полминуты постояли, привыкая глазами к слабому свету. Привратник щелкнул выключателем. Тусклая лампочка осветила маленькое помещение – кровать у стены, тумбочка, накрытая пожелтевшими газетами, и черно-белый древний телевизор на ней, по выпуклому замызганному экрану его ползали сонные мухи.
«Консьерж, как в нашем доме просто», – Витька подавил истерический смешок, углядев рядом с телевизором литровую банку с воткнутым кипятильником. «Если бы не запах»…
– Ну, будем ему объяснять? – тихо спросил, – на каком языке?
Но говорить не потребовалось. Араб, кряхтя, опустился на колени и вытащил из-под кровати старенький чемодан. Откидывая крышку, потянул светлую кисею. Встал и, пятясь, тащил и тащил ткань, от которой в комнатке будто стало светлее. Ухватив последний кончик, повернулся к Наташе, прижимая обеими руками мягкий сугроб к животу. Объяснял, кивая подбородком на кровать. Но увидев, – не понимает, возвел глаза, скинул ткань на потрепанное покрывало и, жестами, потянув осторожно за край платьишка, показал, мол, снимешь, оставишь на кровати. Зацепил черным пальцем прозрачный краешек, показал и на голову, как прикрыть. Наташа кивала, уже взявшись руками за пуговицу на плече – снимать. Но закричал грозно, нахмурился и, причитая скорбно, зазвенел ключами, схватил Витьку за майку и вытолкнул в другую дверь, ведущую вглубь здания.
Витька ошарашенно смотрел в большой, полный звуков и запахов зал. Вдоль широкого прохода, уставленного колоннами – такими же, как на входе, – просторные ниши со столами. Лавки усеяны нормальными, родными туристами. С радостным гомоном, осматриваясь по сторонам и перекрикиваясь, они держали в руках обязательные пиалы и стаканчики с пурпурным чаем. Нюхали подносимые мальчишками крошечные пузыречки, тыкали пальцами в полки, уставленные разноцветными стеклянными сосудами с белыми этикетками. Витька машинально помахал рукой соседу по автобусу, что крикнул невнятное, поднимая в знак приветствия страшноватый флакон с духами размером с винную бутылку. И поежился, представив Наташу, входящую в зал обмотанной десятком метров прозрачной кисеи.
В рассеянном гаме еле расслышал за спиной тихий стук. Видимо, уже завернулась и…
Привратник приоткрыл дверь, но, вместо того, чтобы выпустить девушку в зал, втолкнул Витьку обратно. Хлопнул створкой, звякнул ключами, запирая.
Витька стоял, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на маленькие босые ноги на грязном полу, кончики пальцев руки, держащие край ткани у подбородка, на потемневшие от волнения глаза. Все остальное скрыто, укутано светлым дышащим облаком нежной кисеи. Краем глаза увидел брошенное на постель платье, повернул голову. Покраснел, – из-под платья выглядывал комочек трусиков и лямочка скинутого бюстгальтера.
Страж забормотал одобрительно, потом укоризненно, дергая Витькины шорты и покачивая головой. Тот напрягся, но команды раздеться не получил, лишь нехотя разулся, после того, как араб прикрикнул на него дважды.
Оглядев их напоследок, привратник удовлетворенно кивнул и, повернувшись, отдернул грязную ситцевую занавеску у стены. Показал на дверь за ней. И, боязливо отступив на шаг, махнул – открывайте, идите. Витька взялся за холодный металл круглой ручки, помедлил. Открыл. И, глянув на спускающиеся вниз ступени, зашарил позади рукой – подать Наташе. Через пару ступеней услышали сверху щелчки ключа. И пошли вниз, осторожно ступая босыми ногами по холодному камню.
Спускались недолго, всего один пролет.
Наташа стояла перед высокими двустворчатыми дверями. Трогая пальцами резную завитушку, другой рукой придерживала у шеи мягкую ткань, и смотрела на Витьку отчаянными глазами. Боялась. Витьке тоже было неуютно. Он вспомнил скрежет ключа, вещи на кровати, сумочку, приткнувшуюся рядом с черноватой подушкой. Все их деньги – там. И документы. Как-то некогда было думать. Но паники из-за оставленных паспортов не было, так – мимолетная досада. Неуют.
– Хочешь, вернемся? – предложил. И оба посмотрели вверх, на потолок.
Прямо над из головами – полный зал обычных туристов, смакующих обычную экзотическую программу для середнячков – зал, переполненный поддельной восточной роскошью, тяжелые ароматы поддельных благовоний.
– Нет, – сказала Наташа. Толкнула высокую дверь.
Большой зал, несколько похожий на тот, что выше, над головами. Но вместо ниш за колоннами – широкие скамьи вдоль стен. Вместо люстр, увешанных водопадами фальшивого хрусталя – множество свечей, извивами по стенам и спиралями вокруг колонн.
Они топтались, боясь оторвать спины от резьбы дверей, оглядывались. От размеров зала глаза уставали в отчаянных попытках ухватить как можно больше деталей, вооружиться знаниями о месте, сделать какие-то выводы, распознать.
В какое-то мгновение Витька понял, что – неправильно это. Чего топтаться, если уж пришли. И потом – татуировка. Ведь она здесь что-то значила. Он, расправляя плечи, поднял голову. Величественно повернулся в Наташину сторону – объяснить и успокоить. И улыбнулся, качнув головой. Кто бы сомневался – умница его – все поняла раньше. Стояла пряменько, чуть касаясь пальцами руки краешка покрывала у шеи, другой рукой придерживала подол. Сверкала в непривычном свете тысяч свечей чудными глубокими глазами. Ждала.
…Из глубины зала, как бы из ниоткуда возникла высокая черная фигура. И, как отражение светлой Наташи, приблизилась женщина, закутанная по самые темные глаза в мягкие, дыщащие темнотой нежные складки.
Она ли привиделась им среди жаркого полдня и гортанных криков торговцев? Витька не знал. Глаза – такие, но, – и он искоса глянул на спутницу, может, это не глаза похожи, а взгляд? У Наты точно так же сверкают и становятся глубже, будто дым клубится в зрачке, утягиваясь в бесконечную глубину. На снимке, где Лада – был этот дым. И здесь он же, в глазах двух женщин.
Трогая уши, сначала мягко, кошачьей лапкой, а после – усиливая нажим, запуская коготки созвучий, покалывающих барабанные перепонки, – шумела по краям зала музыка. Что-то струнное, что-то ноюще-духовое. Наверное. Сказать точнее Витька не смог бы, настолько слитно звучали инструменты. Повторяя несколько простых музыкальных фраз, тянули извивы снова и снова. И, заметил, звуки следовали движениям женщины. Будто она шла, рождая музыку босыми ногами. Вот остановилась под замирающие звуки. Повела рукой, приветствуя… Вынимая из мерцающего воздуха живые нити созвучий.
Остро но доброжелательно глянула на закутанную Нату. Посмотрела на Витьку. В глаза, на выгоревшую майку, расписные дурацкие шорты. И подвела очи горе, покачивая головой. Раскинула руки в стороны, поворачивая кисти, и музыка отозвалась всплеском аккорда. Указала на шорты двум девушкам, возникшим из неровного красноватого света. Девушки одновременно подцепили резинку и совлекли с Витьки пляжные доспехи. Вместе с трусами. Витька зашарил руками в надежде прикрыться, мучительно представляя – майка-то осталась, бля, ничего героического, тоже мне – Конан. Но разозлившись, плюнул мысленно и остался стоять, свесив вдоль бедер сжатые кулаки. Смотрел на темноволосую с вызовом. И растерялся, услышав в чаше наступившей тишины – двойной смешок. Наташу сбоку не видел, но темноволосую ситуация явно забавляла. Вдвоем смеются, значит…
Витька схватил майку за мокрые бока, сдернул через голову. Скомкал и швырнул в одну из присевших девушек. Та немедля метнулась в полумрак, унося одежду. Вторую темноволосая снова подозвала жестом. Взяла поданную свечу. И, чуть наклонившись, провела светом от бедра по колену до щиколотки Витьки, разглядывая рисунок. Гладя татуировку теплом огонька, посветила обратно – снизу вверх. Подняла лицо и, трогая пальцем голову змеи, прижавшуюся к внутренней стороне бедра, улыбнулась одобрительно.
Витька улыбнулся в ответ, приосанился даже. Будто в том, что змея растет, всползая по колену все выше, есть его заслуга. Будто – кормит. Ну, уж гулять с собой берет, – подумал мельком.
Но женщина уже потеряла к нему интерес. Заботливо подворачивая, она ловко закрепила кисею Наташиного покрывала, освободив девушке руки, и потянула ее в центр зала. Витька потоптался растерянно, вызвав этим приступ звуков у поющих плавно в темноте инструментов и встал столбом, вглядываясь в мигающий полумрак зала.
Свет пульсировал, становясь ярче; сходил на нет, – погружая зал в темноту. Вернее, темнота росла по углам, дышала, оставляя свету маленький пятачок в центре среди колонн – багровое яйцо, в котором светлая и темная женщины подходили к самому центру. Витька вытянул шею. Вот оно что! С середины зала начинался спуск вниз, ступени. Почти скрытые темнотой, невидимые, они и не позволили увидеть, как поднялась по ним темноволосая хозяйка действа. На краю ступеней остановились, ожидая кого-то.
Того, за кем пришли, понял Витька, разглядывая поднимающиеся из темноты широкие плечи и темную гриву красавца-художника.
Свет трогал смуглую кожу, спускаясь все ниже, по мере того, как мужчина поднимался. Сверкнуло бронзой колено, другое – ступенькой выше. И Витька увидел змею, черной веной – в красном свете свечей. Обвивая ногу, татуировка добралась до бедра и, улегшись самой широкой частью чуть ниже талии, оперлась узкой головой о косточку на другом бедре. Глядела перед собой, сверкая выпуклыми глазами. Витьке показалось, он видит даже раздвоенный язычок, трогающий воздух перед хозяином.
Опустил руку, нерешительно положил на внутреннюю сторону бедра, где голова. Погладил.
– Ничего, – сказал шепотом, – ты у меня самая-самая. Красавица…
Почувствовал перед тем, как убрать руку – маленькое шевеление. И расцвел улыбкой, радуясь и гордясь.
Мужчина, поднявшись в полный рост, стоял перед Наташей. Она, вытянув руки вдоль бедер, не решаясь двинуться, подавала к нему лицо – вперед и вверх, так отчаянно, что Витьке стало нехорошо от замкнутого в неподвижном теле порыва, без выхода клубящегося внутри напряженной фигуры. Он стиснул зубы и напрягся сам, сжал кулаки, подталкивая девушку к движению внешнему. Ну, иди, протяни руки, схвати, возьми! Уткнись носом в бронзовое плечо, расплачься от нежданного облегчения – жив любимый. Но, перекрутившись, порыв сошел на нет. Даже издалека Витька ощущал, как остывает, разочарованно обмякая, Наташа. Всего лишь похож. Не тот.
Остро жалея, смотрел, как застыла, опустив лицо. Уже пустая, мягкая внутри, казалось, лишь светлый кокон из ткани поддерживает вялое тело. Мужчина, улыбаясь, прошел между женщин. Будя босыми ступнями нежные вскрики флейт, шел к Витьке. Высокий, очень гибкий. Но не такой уж восхитительно красивый, каким показался издалека – решил с облегчением Витька. Подошел, склонил голову, приветствуя. Витька церемонно наклонил свою в ответ. Чтоб убедиться – приветствие не ему. Мужчина не отводил глаз от татуировки. Поднес ладонь к своему бедру, накрыл голову змеи и коснулся пальцами рисунка на коже Витьки. «Поздоровал», – подумал тот. Помедлил, но, увидев, как блеснули в улыбке уже для него зубы художника, повторил жест. Погладил змейку, с удовольствием ощутив выпуклость подвижной головы, и коснулся рукой гладкой кожи чужого зверя.
Стояли рядом, касаясь обнаженными плечами. Смотрели на женщин.
Музыка смолкла. Стал слышен шепот из темных углов, где, видимо, сидели и полулежали на широких скамьях люди. Но, повинуясь тишине, смолк и шепот.
Темная вышла в центр багрового света. Раскинула руки, свела над головой пальцы в какой-то фигуре. Опустила. И снова медленно подняла, уже ведя за собой вновь возникающую музыку. Созвучия выползали из темноты за колоннами, змеились послушно, повторяя музыкой жесты, вплетая в длинноты короткие вскрики, когда, оставаясь неподвижной, женщина резко изгибала руки, а пальцы переменяли фигуры над запрокинутой головой, соединяясь и переплетаясь. Тело ее стало покачиваться вслед за руками, в мелодию, усиливая ее, вступали новые инструменты – отовсюду, из каждого клочка тьмы. И, наконец, соткав из темноты, сплетенных пальцев, мерцания света, – многозвучие, что остановить невозможно, женщина остановилась сама. Теперь музыка не стихала, повинуясь жестам и движениям. Она родилась. Была. И заставить ее смолкнуть сейчас значило – убить.
В тесных и жадных волнах созвучий темноволосая подошла к застывшей Наташе. Взяла за руку и вытолкнула в центр зала. Стояли теперь вместе, покачиваясь напротив друг друга – темным и светлым облаком. И, чуть отставая, чтобы уже через несколько мгновений идти наравне, Наташа вступила в танец. Танцевали четыре гибких руки, сплетая над головами пальцы, раскачивались тела. Все быстрее и быстрее. Поворачивались медленно головы, без намека на человеческую анатомию смещаясь то к одному плечу, то к другому.
Всплеснули аккордом из-за спин инструменты, требуя новых движений, кормясь ими. И женщины завертелись, подхваченные музыкой, зацепляя пальцами края покрывал друг друга. Вспархивали бабочками спадающие, но не падающие полотнища, плыли вокруг стройных вертящихся, вытянутых в струнку обнаженных тел – светло-золотистого и смугло-бронзового. Взметывались высоко над головами, сплетая черное с белым, скользя по волосам, задерживаясь на остро торчащих сосках, но лишь на мгновение, чтобы, закрутившись беспрерывным движением плеч, пасть на бедра. С них – под босые ноги, но оттуда снова взметнуться к выставленным локтям и плыть-плыть, разворачиваясь на теплых волнах нагретого огнями свечей воздуха. Будто сама темнота держала их.
Музыка пульсировала в такт свету. Из нижней темноты, взбираясь по ступеням, наплывал душный и резкий запах. Витьку затошнило. Он, мокрый, водя глазами и качаясь, схватился за горло, скользя рукой по горячей коже. Застонал. А женщины приближались, держа его потное лицо каменными глазами, неживыми среди жадного движения плоти. И, когда приступ рвоты почти сотряс его, Наташа, которую было не узнать сейчас, схватила его руки, рванула к себе, выгибаясь. Витька вскрикнул, ломаясь о женское скользкое тело, оказывается, эрекция, оказывается, не видя и не ощущая, стояли давно вдвоем – он и член его. И, зарычав открытым ртом, подхватил девушку под напряженные ягодицы, расталкивая бедром мокрые колени. Раздать, расклинить, насадить, чтоб вмялся ее живот, чтоб кости его оставили синяки. Заткнуть собой, жадно глядя, как раскрывается перед лицом ее рот – распахивается от невыносимости проникновения… Зацепить крюком взгляда глаза и – не давать им закрыться. Пусть видит, пусть. Его пасть, его зубы. Перед тем, как… Пусть – последнее, что увидит…
И на самом пронзительном вскрике тела опоясала шею тяжелая боль. Он захрипел, пытаясь вдохнуть или сглотнуть, слезы брызнули из глаз. Увидел краем глаза как движется вверх черная полоса по бедру и груди. Забился, выкатывая глаза, повис, подгибая ноги, держась лишь на этой черной с багровым отливом, струящейся плоти. Выпустил женщину из слабеющих пальцев. И хватка ослабла.
Он топтался на дрожащих ногах, хватаясь за горло. Слезы продолжали течь, будто ноющая музыка давила их из него, выжимала голову, как губку. Осторожно открыл глаза – поненавидеть Наташу. Но взгляд уперся в темные озера не ее глаз. Глаза смуглянки сострадали, жалели… Лишь багровая искорка в темной глубине настораживала. Тонкая смуглая рука гладила мокрые волосы. Скользнула по плечу, к животу. И ниже. Погладила. Женщина нежно взялась за корень у основания, скользя, складываясь, не отрывая глаз от его лица, глядя снизу с безмерной жалостью, почти материнской. Такие мягкие руки… и губы… Музыка почти стихла, и лишь нежное дыхание на коже – ближе, ближе. Приближаясь, губы ее раскрывались – медленно, распускаясь, готовясь… Витька закрыл глаза, позабыв о боли. Вот…
И время остановилось, все замерло, не продолжаясь и не заканчиваясь. Больно стукнуло сердце, требуя кислорода. Ну же!… Все в нем вытянулось навстречу прикосновению, требуя его. Н-н-ну!!!…
И, не выдержав, вцепился в затылок женщине, наматывая черные волосы на скрюченные пальцы, рванул на себя, рыча, другой рукой стискивая ее лицо – не дать закрыть рот, не позволить увернуться. Багровая волна наплыла, туманя мозг и глаза, топя…
Вот!!!
И отбросил со стоном, снова схваченный острой болью. Забился, поспешно отводя руки и показывая, неизвестно кому, раскрытые ладони, чистые, никого никуда не толкающие, только не надо снова так!
И боль, не набрав силы, отступила, оставив медленных червей нытья, что грызли напряженные мышцы. Замотал головой, заплакал, не замечая, весь утонув в несостоявшемся, не совершившемся. Ослеп, оглох, смялся.
Толчок в спину кинул его в красное пятно света. Жесткая рука вцепилась в плечо, крутанула. И, словно проткнули барабанные перепонки, в уши ворвалась музыка. Свет прыгнул в глаза. Оскал белых зубов на смуглом лице – частью света. Мужчина напротив, то отдаляясь, то приближаясь, вскидывал руки над головой, повторяя жесты женщин. Сплетал пальцы. Тени метались по стенам, рисуя черные письмена, переползая и перепрыгивая от свечи к свече. Музыка требовательно дернула руки. И Виктор отчаянно вскинул их над головой, задвигался, попадая в ритм. Боль сваливалась скорлупой, стряхивалась, стекала, уплывая вниз, в черную темноту ступеней.
Запах оттуда плыл, собрав все запахи, что возбуждают, чтобы потом, когда схлынет волна, превратиться в сводящее скулы отвращение. Но еще далеко до разрядки, и потому сейчас тяжесть запаха лишь усиливала возбуждение, выводя его на удивительную грань, неведомую раньше. В запахе этом хотелось утонуть. Нет, плыть. Двигаясь.
И Витька двигался. Выбирая в пространстве червоточины, что пропускали его движения, струили их. Как вода, что течет прихотливо, по-змеиному нащупывая прозрачным телом путь самый точный. Такой точный, что часть его, невидимо и неосознаваемо для наблюдателей, протекает сквозь чужие миры. А кажется – просто течет. Текли по красным вспышкам света его руки, пальцы, скручивался позвоночник. Нащупывая путь, единственно верный, без мыслей, не просчитывая, отдавшись телу, как той форме, что знает сама, только не мешать ей в знании, – мужчины танцевали. И танец их был един. Не надо запоминать и заучивать движения, повторяя. Лишь умереть сознанием и отдаться ветру, что свистит в червоточинах пространств, протыкая их извилистыми ходами. Сшивая движениями разные слои в одну ткань бытия.
Краем глаза Витька видел, как множатся его отражения среди леса колонн. Больше и больше. Понял – не отражения. Из пристенной темноты выдвигались в багровый свет, все новые и новые танцующие фигуры.
Гладкие хвосты касались потных рук, вились по телам быстрые тулова. Быстрые касания язычков – по векам, лбам, меж пальцев. Взгляды людей тонули в змеиных глазах, что отражали и множили огоньки свечей.
Увидел знакомую улыбку мастера, что сделал ему тату. Не ему улыбался, просто смотрел перед собой, в себя, – держа на плечах гигантского удава, что, выгнув петли, поддерживал его.
…Согнув чашкой пальцы, запоминал кожей быстрое струение своей отделяющейся змейки – от шеи до тонкого хвоста, хлестнувшего ладонь. Приготовился тосковать по упущенной части себя, но ощутил движение её по коже спины, бедра, шеи. Будто несколько человек одновременно протягивают по его телу нежные жгуты.
Кончилось время и место кончилось. Все делалось одновременно. Перепутались звуки и запахи, касания и видения. Свет беспрерывно менялся местами с темнотой. Не угасал, а просто превращался, качаясь в одну, в другую сторону.
И над массой вертящихся тел вились нежные слои женских покрывал. Разного цвета, на разной высоте, опускаясь, омахивали горячие тела и вновь, от одного лишь дыхания, плыли вверх, изгибаясь…
Женщины, смешиваясь с мужчинами, танцевали – желанные и неприкосновенные. Руки их касались, чего хотели, и убегали от ответных прикосновений. А потом сами сталкивали тела – женское к мужскому, почти до самого конца, раскрываясь жадно, предлагаясь. Но мужчины, запрокидывая головы и крича от яростного желания, не брали предложенного, каменея кожей и мышцами, костенея судорожно выгнутым позвоночником. И, оказавшись в танце на самом краю провала, пара вдруг замирала, балансируя на острой грани, слипшись втроем. Мужчина, женщина, змея…
Витька видел равнодушно, без осознания, – постояв, женщина откидывала голову и, как трещина по цельному, отделялась, оставаясь внизу, держась за пол босыми ступнями. А мужчина, выгнувшись луком, исказив лицо гримасой свирепого желания, уже не стоял – висел в темноте над провалом, свившись со своей змеей.
Комкая себя, напрягаясь, Витька двигался все быстрее. Тело его, жаждущее отдыха, бежало от боли, которую помнило. Движимое инстинктом самосохранения, вывернутым наизнанку, готово было умереть от усталости танца, лишь бы – не снова боль. Не подросшей достаточно Витькиной змейки хватало на смертельный захват его шеи, но не хватало, чтобы удержать его над провалом темноты. Оставалось – танцевать.
Из месива рук и ног, тяжелого дыхания, снова появилась Наташа. По коже ее бежали струйки пота вперемешку с кровью огней. Витька простонал. Вернее, горло его, сжавшись, стонало, а руки и бедра тянулись к плоскому животу, к распахивающимся коленям, вслед за светом, что проникал глубже и глубже.
Девушка, держа глаза его своим взглядом, подходила, подкачнувшись, и отступала. Увлекала ближе, на самый край. Сознание умирающей рыбой забилось где-то ниже затылка. Чтобы сообщить – хочет. Вожделеет. Как никогда. Умрет, если не врастет сейчас же. Потом, наверное, тоже умрет, но это – потом.
И Витька двигался, перемешиваясь в танце, все ближе и ближе к острой грани, через которую вниз стекал багровый свет, меняя себя на тошнотворный запах вожделения. Прекрасный, дивный, чудесный запах… Всползающий по ступеням невидимой толстой змеей.
Удерживаясь на краешке верхней ступени, девушка остановилась. Приняла к себе Витькину кожу, его мясо за тонким слоем, сжала бедрами член, сплющила горячую грудь о его ребра. Осталось – чуть, последнее, рывком, к счастью…
Витька вцепился взглядом в широкие ее глаза. Утонул. Растянул последнюю секунду в вечность, зная, – сейчас умрет, после того, как закончится секунда и он сделает.
И на дне ее глаз – нашел. Понял. Не думая. Знание накрыло его с головой. Он – может!
«Кадрррр дня!!!» – прогремело в голове шутовское Петькино. И знание того, что сможет он сделать, знание огромности Дара – накрыло мгновенно и сильно. Это было, как стоять и смотреть с обрыва на Большой Каньон. И знать, что весь этот Каньон – ты. Маленький ты, стоящий на краешке себя, неохватимого взглядом и мыслью.
Следом пришло видение жестких ладоней, плотно накрывших медленно текущую воду. Чтоб, из маленькой щели меж пальцев вырваться узко и грозно, лезвием в небеса.
Витька выпрямился, оттолкнул Наташу ладонями. И заорал, кинул крик в потолок, взметывая плывущие в смутной высоте кисейные полосы. Шагнул над ступенями, наступая на запах, перемешанный с багрянцем света. Шевельнул и выгнул в лук оба позвоночника – свой и змеи, что распласталась меж лопаток, прильнув головой к виску. И рванулся вверх, сквозь вихрь заметавшихся нежных полос. Прошиб потолок. Вырвался в ночное небо…
Оставшая на ступенях женщина, запрокинув лицо, смотрела на вырванную полетом неровную звезду в стеклянном потолке. И чуть не упала, схваченная чужими руками.
Огромный мужчина, притиснув ее к себе каменным локтем, сдирал с себя прильнувшую татуировку. Жесткие пальцы сжимали тонкую змеиную шею и уже белые тонкие косточки, прорвав расписную шкуру, топорщились в стороны. Наташа билась у твердого бедра, натыкаясь плечом на торчащий член, искала ногами опору, но ступени падали вниз, не давая опоры. Медленно, сильно подтягивая, рыча от боли, мужчина отрывал змею, оставляя на коже кровоточащую полосу. Полуоторванная голова татуировки вывернуто болталась над кусками студенистого мяса и тонкими спицами сломанных ребер. Вот оторвал, бросил на каменный пол изуродованное тело. Наступил ногой, растирая в дрожащие клочья. И вывернул девушку грудью вверх, подхватил под талию. Держа на руке, распахнул ей колени, протиснулся бедрами, не давая сомкнуться, заорал победно, ухватывая себя у корня, направляя…
Но, поскользнувшись на растоптанной змее, споткнулся, рухнул на вязкую плотную подушку запаха над спуском. Мгновение лежал на пустоте, не поднимаясь, но и не падая. Наташа, высвобождаясь из ослабевших пальцев, неловко взмахнув руками, утвердилась вновь на грани. И в ту же секунду мужчина рухнул в темноту. Запах, что держал его, сомкнулся над широко раскрытым ртом, закупоривая его. И потяжелел, давя на беспомощные глаза, на окровавленные изгибы по обнаженному телу.
Девушка, покачиваясь на верхней ступени, чертила, сплетая пальцы, фигуры-тени-письмена – для стен и людей. И смотрела, смотрела, как исчезают в глубине, размываясь, искаженные черты человека, что захотел расстаться с данным ему Даром…
Глава 23
Витька открыл глаза и стал смотреть сквозь решетку ресниц на солнечные знаки.
По светлой стене, скользила к потолку, размываясь, бледнея, становясь ярче, бесконечная золотая сетка. Солнце плело зыбкие письмена, они складывались и скрещивались, разбегались к самым краям рисунка, исчезая, растекаясь по светлой поверхности стен.
Немного болела голова. Не поворачиваясь, слушал – шаги, шорох, звяканье. Вздохнул. Позади изголовья скрипнуло, рука легла на лоб, взъерошила волосы. Мелькнуло прохладой по сонной коже лба толстое серебряное кольцо. Витька взялся пальцами, потащил прохладу к глазам. Прикрыл веки, наслаждаясь.
– Мне снился сон, такой сон, – сообщил, слушая кожу и серебро. Как отступает под кольцом ноющая далекая боль.
– Я в автобусе ехал. Знаешь, Нат, я часто вижу, как еду один и не знаю куда. Уезжаю из знакомых мест в чужие. Все за окнами меняется. И я боюсь. Неуютно так. Думаю, а как обратно?
Он поворочался. Подождал. Девушка молчала. Чуть шевельнула пальцами на его веках.
– Ага, так хорошо. Ну вот. И автобус привез меня в маленький городок. Я понял, он последний и обратно мне пешком. Или – оставаться. Но там хорошо. Я в такое место и хотел, и бывал уже, только… ну, оно то же самое, только все время разное, понимаешь? Маленькие домики стоят на желтом песке среди корявых деревьев. А за домиками – море. Тихое такое. В две полосы. Там вдоль пляжа идет узкая коса метрах в пяти от берега. Как… как меч, наверное. И получается такой лягушатник с мелкой прозрачной водой. Да, а под деревьями мне снились лягушки, представь! Большие и важные. Смотрели. Очень красивые глаза у них – желтые с черным зрачком. Как полированные камни на просвет. И – чайки. Везде. Белые с черным, стоят в воде по колено. По колено красных ног… Скажи, Наташк, звучит песней, да? По-ко-ле-но крас-ных ног…
Витька потянулся. Сморщился от боли в натруженных мыщцах, да что такое, ноги болят, плечи… Потащил прохладную руку к губам, поцеловал и стал говорить дальше, касаясь губами краешка серебряного кольца:
– Во-от… я стою, значит, осматриваюсь. А камеру прижимаю к груди, в автобусе давка была, я ее держал, смешно, у сердца прямо. И вижу вдруг, аж задохся, над лягушками этими и над чайками на песке, по стволам деревьев, по стенкам деревянным – бабочки! Огромные, в две ладони! Совсем цветные. Калейдоскоп. Ни одной одинаковой. Крылья широкие, форма одна, но рисунок и цвет! Если бы не складывали они их время от времени – с ума сойти от разного яркого. Но то одна покажет себя, то другая. Представляешь?
И за ними – море. Синее. Как надо, такое синее, режет глаз. Песок не желтый, а чуть светлее, песочного, короче, цвета. Ох, красиво! Просто по глазам – шелком.
Помолчал. Девушка молчала тоже. Гладила пальцем тихонько возле губ. Солнце трогало серебряный толстый обруч, вело вдоль выпуклости металла остренький блик.
– Я быстро камеру настраивать, а она сломана. Раздавили в автобусе. Все болтается, объектив набок, ее трясешь, а она погремушкой тарахтит. Жалко ужасно, и не могу от бабочек глаз отвести, боюсь – улетят. Я ведь там, Натка, был уже, в этих местах. В детстве был, но тогда никаких бабочек. Все проще было. А потом во снах был. И места вроде бы разные, но я-то знал – одно оно. То самое. Так снять хотел, блиннн! Кручу камеру, пытаюсь ее удержать – хоть пару снимков, хоть один. Улетят ведь!
– Не улетят… – низкий голос, с легким акцентом и, одновременно, издалека – Наташин смех.
С чувством, будто пол мгновенно плавно поменялся местами с потолком, Витька вскочил, зашатался, нащупывая равновесие внутреннее и внешнее. Ошалело смотрел на сидящую в изголовье улыбающуюся смуглую женщину. Тонкие темные пальцы на смятой подушке, на одном – знакомое кольцо.
Заныло бедро. Витька сильно потер кожу, потом, спохватившись, ослабил нажим, осторожно глянул вниз. Погладил змеиную голову, что смотрела в глаза уже с верхней части бедра. Припоминая одновременно вчерашний танец. И – полет.
– Я где? Наташа? – ответом снова смех, из распахнутой узкой дверцы, из круглого окошка, в котором солнце. И плеск.
Витьку снова качнуло. Но он уже вошел в реальность, выпадая из послесонного времени. Вода. Там вода – за иллюминатором. Она и рисует на потолке солнечную вязь. А думал – еще во сне, тянул, не хотел просыпаться.
Девушка встала, подошла к столику. Солнце, досадуя на помеху, тут же прошило иголочками лучей светлое парео, показало очертания фигуры.
Витька, пустив сознание в два потока, слушал с палубы разговоры, смех, и смотрел, не отрываясь, на изгибы смуглого под светлой пенкой ткани, руку над плоскостью стола – темным стеблем, пальцы вокруг высокого стакана, в котором плавает маленькое яркое солнце. И темные волосы облаком, темным контуром на ярком круге иллюминатора.
Повернулась, пошла к нему, подавая стакан – серией восхитительных снимков, каждый следующий со своим поворотом, деталями: распахнулась ткань, расколотая темнотой стройной ноги, чуть опустилось лицо, сверкнули зубы на смуглом, и белки глаз – исподлобья.
Принимая стакан, Витька застонал от беспомощности. Где камера! Идиот! Радовался вчера, что не взял, философ недоделанный! Когда еще так, вот это! Где еще так?
– Не улетят, – повторила девушка, – теперь они всегда с тобой. Везде.
Витька поднес стакан к губам, но остановился. Отвел, заглянув внутрь подозрительно.
– Ты вообще, кто?
Она рассмеялась. Почти как Наташа, но голос пониже, грудной, мягкий.
– Это не зелье. Это вода. Из бутылки. Потом кофе будет. Я вообще – человек. Ингрид.
– Ага… – Витька попытался придумать, что сказать. Не смог и стал пить воду, пряча себя за стаканом. Медленно глотал, собирая мысли, надеясь, что успеет к донцу стакана хоть как-то сориентироваться.
– Мы с Германом здесь на яхте. Уже месяц. Он художник, я его, как это… агент? И модель. Он делает картины. Потом продаем или… отдать в музей, да, галерея. Или – дарим. Живем так.
Витька слушал, глотая сведения с холодной водой.
– И что, продаются?
Ингрид пожала плечами:
– Нечасто, – сказала лениво, садясь на узкую койку и подбирая под парео босые ноги.
– То есть, на жизнь не хватает? Если рисовать все время?
– Нет.
– Тогда зачем?
– Ох! – она посмотрела без укоризны, с веселым интересом. Витька уткнулся в стакан.
– Плохой ты агент, да? – сказал вызывающе. Стукнул стаканом о полированное дерево столешницы.
– Самый хороший, Витька, – у нее получилось «Витка», – я не для этой жизни. Понимаешь? – она вытянула перед собой руки и сложила их горстью, ловя солнечный свет. Потом дунула, отпуская со светлых ладоней невидимое, – он очень художник. Он умрет, а они останутся. Тут. И дальше, дальше. Полетят…
Витька открыл рот, собираясь задать вопрос, другой, третий. Но на каждый тут же приходил в голову ответ – ясный и насмешливо простой. Спрашивать, кажется, не о чем. Простые ответы, что вчера не приходили даже в голову, были тут, будто лежали на раскрытых ладонях. Это вчера они были чем-то нереальным и необязательным, ненастоящим, как лягушки и бабочки снов. А сегодня стали реальностью. Полноправной. Какой стали его сны, все.
Под спокойной темнотой взгляда Витька почувствовал, как вода, покалывая десны свежестью, пьянит его не хуже хорошего вина. Будто из маленькой каморки распахнули дверь в огромные залы и сказали – твое, пользуйся, ходи, расставляй вещи, приглашай гостей, живи, короче.
Он сидел в изумлении, почему же вчера, месяц назад – не видел? Ютился в каморке, где не двинуть рукой, не поднять головы. И в голове лишь каморочные мысли. А рядом все время было – это?
Но все-таки уцепился за вопрос из прежней жизни. Логичный, хоть и выцветающий стремительно, не успевая прозвучать:
– А как жить, а? Надо ведь на жизнь чего-то еще? Вам хорошо – яхта. Деньги, похоже, есть.
– Иногда, есть, – согласилась Ингрид, – а иногда пусто. Если совсем будет плохо – будем без яхты. Понимаешь? Будем жить.
– Ну-у… не пропадете, значит?
– А ты?
– Что я?
– Пропадешь? Нет, скажи, ты пропадал? Чтоб совсем?
Витька добросовестно повспоминал.
– Н-нет, – сказал удивленно, – хотя, да! Один раз. В степи, ну, там история была. Махнул рукой на себя, да. Подумал, умру и ладно.
– Умер?
– Нет, как видишь. Повезло.
– Повезло!… – Ингрид рассмеялась. Указала рукой в сторону Наташиного смеха:
– Иди. Туда, на палубу. Я принесу кофе. Завтра целый день и вечером вы в отеле. вечеру придем к вашему отелю. Все взяли, что ваше – деньги, документы. Ваш гид знает. Никто не ищет.
Витька покивал и медленно двинулся в узкую дверь – к солнцу и смеху.
Наташа стояла у штурвала, смеялась, рукой придерживала короткие прядки, но без пользы – ветер отбирал и кидал в лицо горстями. Большая фигура Германа, изгибаясь вокруг, оберегала, направляла движения ее рук на полированных рукоятках. Яхта рыскнула, смех разлетелся над сверканием ряби.
Оба одновременно повернулись. Витька, уцепившись за что-то рукой, смотрел на двоих, ждал ревности. Как-то не шла. То ли повода не было – слишком по-братски смуглый красавец обращался с Наташей. То ли – не его ведь девушка, в конце-концов.
Отвлекся, во все глаза смотря на цветную татуировку Германа. Пошевеливаясь при каждом движении мышц, по ноге, бедру, вокруг поясницы, припала головой к груди, устремив взгляд наискосок чуть снизу в лицо хозяина, текла по смуглой коже. Вспомнил, как вчера, перед танцем, касался рукой этой змеи, передавая затем прикосновение своему зверю. Сейчас, надо ли так? Понял, не надо. Там – ритуал. Здесь – жизнь.
Художник оставил Наташу, подошел, улыбаясь, подал руку для рукопожатия. Витькиной змейке – улыбнулся. И стал говорить по-английски, быстро, весело, размахивая длинными руками, меняя выражение красивого темного лица.
– Наташ, – беспомощно воззвал Витька, – че он говорит? Не понимаю я ни хрена!
– Учиться надо было в школе, Витенька!, – отозвалась Ната, держась за штурвал, – вот Герман будет меня кадрить, а ты и не узнаешь…
– Я увижу, – мрачно пообещал тот, и уселся на крышку какого-то люка, поставив ноги на свернутый кольцами тугой канат.
Наташа сквозь ветер прокричала что-то, обращаясь к Герману. И, передав ему штурвал, облегчением повалилась рядом с Витькой. Толкнулась плечом, затеребила его руку. Чуть не кусалась, как щенок.
– Ну, чего радуемся? – сурово спросил тот, удерживая ее при толчках волн.
– А чего грустить? Смотри, как все вокруг!
– Вижу…
– Ну, и почему сердитый?
– Наташ, – беспомощно сказал Витька и повел плечами, на которые солнце давило жаркими ладонями, – я ничего не пойму. Где мы вчера были? Зачем? Теперь вот, вместо автобуса – яхта. Чужая, между прочим. Может, они террористы.
– Ага, и нас похитили, и – выкуп. За тебя, Витечка, кто будет платить?
– Ну…
– Вот то-то же. Кому мы нужны? Кроме них. Пойми, чудачина, они не чужие. Они – самые наши. Роднее некуда!
И она повалила Витьку на горячий металл, затормошила, толкая в нос мягкой грудью под тонким слоем яркого эластика:
– Ты хоть понял, что случилось, Витька? Понял? Мы нашли своих! Мы не одни теперь!
Витька примерился и цапнул зубами лямочку лифчика:
– Я и не страдал особо, – сообщил невнятно, скашивая глаза, чтоб увидеть чуть-чуть лица над головой.
– А я страдала. Ты везунчик, тебя одиночество не ело, похоже. Порадуйся. За меня хотя бы.
Выбравшись из-под Наташи, сел снова, поправляя плавки. Посмотрел на ее успевшую загореть фигуру. Вспомнил, что соски обрамлены маленькими треугольниками светлой кожи. А внизу живота – незагорелого нет. Плавочки такие маленькие, что прикрывают лишь темные волосы лобка. И – вдоль ягодиц – белая полоска от стрингов.
… Рвалась к нему, раскрываясь, показывая себя, мокрую, горячую. И до того любились, и – еще раньше…
– Ты будешь спать с ним… – спросил глухо, глядя на широкую смуглую спинуГермана, вздувшиеся мышцы, каменные кисти рук, охватившие рукоятки штурвала. Вокруг все поскрипывало, ветер сбрасывал с горячей кожи солнечный жар, гладил холодными перьями, дышал в шею.
– Думаю, нет, – ровно сказала Ната, – хотя… А тебе что?
– Как это? Ведь мы же с тобой…
– Что?
Витька помолчал. А что сказать? Правда, что они? Что?
– Мы ведь с тобой спим, – сказал все-таки. Прищурился на долгую фигуру Ингрид, что поднималась, изгибаясь, выравнивая качку, удерживала на руке поднос с кофейными чашечками.
– Ох, Витька. Витька-превитька… Ты вроде думать начал уже. Так думай же сам.
– Ну, думаю…
– Так и не повторяй чужого! Верь своим мыслям.
И она, сердито ткнув Витьку под ребра, вскочила и, перебирая руками по снастям, двинулась навстречу Ингрид – помочь с подносом.
Витька вздохнул. Попытался, как Наташа велела – думать. Думалось беспорядочно и вперемешку. «Видно, не дорос еще». А спрашивать, кого тут спросишь? Натка вся в художнике этом. Ингрид, как за стеклом. Из-за акцента, что ли, все говорит, будто с насмешкой, хоть и по-доброму. Странная. Имя северное, внешность – восточная, жаркая.
Герман издалека улыбнулся, поманил. И, удерживая штурвал за одну рукоять, отошел, давая гостю встать на свео место.
У белых бортов звучала вода, сотворяя пену на ярчайшей бирюзе, проносились хорошо видные под слоем ее темные купы водорослей на огромных подводных камнях и коралловые подводные же островки с цветными пятнами крупных рыб.
Ветер приносил запах свежего кофе, смешанный с женскими голосами и смехом.
Витька вдохнул морской воздух, просто – съел нутром, без всяких мыслей. Ощутил пальцами, как дрожит, наслаждаясь бегом, мощный корпус изящной и нежной с виду, яхточки. Подумал о камере, что лежит себе спокойно в полутемном номере отеля – не разбитая, ждет его.
И успокоился. Стал жить.
Глава 24
…Закрывая дверь, щелкнул ключом в замке. Глянул на плоский плафон над головой – вечером около него собирались гекконы. Снимков с ними он привезет предостаточно. На нескольких – пальцы Наташи распластались по низкому шершавому потолку рядом с ящерками. Кольцо белого серебра – бликом на толстенькие полупрозрачные тушки. На одном фото – Наташино запрокинутое лицо, внимательный глаз под козырьком густых ресниц с выгоревшими кончиками. Трогает пальцем маленького зверя.
Шел вниз по витой лесенке, отмечая взглядом – ветки гибискуса и цветы на нем сгустками запекшейся крови, ступеньки с мокрым отпечатком детской ноги, у распахнутых дверей номера – каталка со стопками чистого белья, а внутри чернокожий стюард нагнулся над постелью и держит за шею простынного лебедя. Извивы дорожки, стесненной лианами, свешиваются с них какие-то шишки елочными игрушками. Парочка в зарослях, мальчик, услыхав шаги, прикрыл спиной девчонку напряженной спиной… Тоже кадр…
«Снято-снято-снято», в такт шагам билось в виски. Ступал по неровным плиткам, слушал биение, сжимал-разжимал потные кулаки. И с каждым шагом будто заходил в вязкую воду, куда нельзя, но почему-то нужно, внутри выше поднималась тревога. Тоска пристроилась и пошла рядом, ступая в ногу. …Краски вокруг, сочные, жирные, жаркие. Лезут в глаза, будто сами приподнимают веки, тычут в зрачки яркими жесткими пальцами.
Витька остановился, ухватился рукой за металлическую стойку, смял листья чего-то ползучего. Зажмурив глаза, вдруг увидел море. Не это – синее и жесткое, как удар мокрого полотенца, а серое осеннее море. Холодный печальный свинец и бледный песок. Нет следов, ямочек, вмятинок, только ровный свей, повторяется и повторяется, запавшей в память строчкой из нескольких слов. Нет голосов, не тарахтят лодки и катера. Только совсем издалека, от четкой линии горизонта, вплывает в уши размытый и тоже бледный крик птицы…
Перевел дыхание. Тоска уже ползла по нему, разрасталась плющом… Клики морской птицы доставали и вытягивали из его нутра ростки тоски, укладывали, цепляя за окружающее, наверное, чтоб ей было удобнее.
Смех за поворотом разрезал видение, лоскуты отвалились кожурой. Но не исчезли, держа ноги, не давая идти.
– Ага, вот ты где! – Наташа из-за пышных кустов выпорхнула цветной бабочкой: вокруг коричневых бедер небрежно накручен синий кусок ткани, большие очки закрывают глаза. Но сняла тут же, бросив руку Ингрид, подошла стремительно, вгляделась в мокрое Витькино лицо:
– Что с тобой? Плохо тебе?
– Да, Наташа. Плохо, – сказал и оглянулся, ища, куда бы сесть.
Держа его руку, Наташа посмотрела на Ингрид, не зная, что делать. Та стояла спокойно. Глядела на них.
– Ну, сейчас, подожди, сейчас, – потащила его за куст, к скамейке. Витька зажмурил глаза, чтобы не видеть ядовитых полос и спиралей по сиденью и спинке. Завалился, запрокинул голову и задышал часто. Тошнота топталась в горле.
– Ингрид! – крикнула Наташа, – да пойди, принеси воды, что ли!..
Короткая тишина. Только частое хриплое дыхание. И – спокойный голос смуглой женщины:
– Ему не вода нужна… Но, сейчас. Принесу.
Витька глотал минералку из наклоненной бутылки. Струйки щекотали шею. Неприятно прилипал к плечу мокрый ворот футболки. Вода отдавала железом и солью. Еще глоток и Витьку вывернуло прозрачной струей на сандалии. Затрясло…
– Да что же это? – крикнула Наташа, – надо в больницу его! Где Герман?
– На яхте, – Ингрид села рядом с Витькой и забрала в ладони его руку. Покачивала и гладила. Вздохнула и сказала, глядя на капли пота по всему лицу:
– Это просто тоска. Так будет теперь.
– С блевотиной? – дрожащим голосом спросила Наташа. Хотела язвительно, но вышло жалко.
Ингрид пожала плечами.
– А что еще теперь? Будет? – без голоса прохрипел Витька. И Наташа, присев на корточки, заглянула ему в лицо, улыбаясь неуверенно.
– Много чего. Привыкнешь, – смуглые пальцы похлопали его руку. И стало полегче, тошнота свернулась в комок, упала ниже, поплавком закачалась под сводом ребер.
Ингрид приблизила свое лицо к его мокрому, смотрела в упор, но ласково:
– Ты чего хочешь?
– Что?
– Скажи мне. Нам. О том, чего хочешь.
Витька осторожно, – не потревожить тошноту, заворочался, сел удобнее, разгибая успевший сомлеть бок. И задумался. Наташа легонько гладила его по коленке. Прошли радом, наискось, сразу же уходя вдаль, воспоминания о том, как кричал в степи Ладе, а она никак не могла понять, чего же ему…
– Сразу, – поторопила Ингрид, – сразу скажи!
– Уехать.
– Уезжай, – согласилась она.
И Витьке сразу стало легко. Ватное и жаркое одеяло тоски проткнули во множестве мест детские крики, шум моторов, смех отдыхающих, музыка с пляжа.
– Так просто? – коснулся дрожащей рукой лба, вытер испарину. Ингрид пожала плечами.
– А как же – еще неделя у нас… Наташ?
И после небольшого молчания Ингрид сказала мягко:
– Мешать всегда будет… одно, другое…
– Нет! – крикнула Ната, – он не должен! Ты не понимаешь, ему нельзя. Вам хорошо – яхта и всякое такое. А ему сейчас – нельзя возвращаться!
– Ты не спрячешь его.
– Погодите, – Витька смотрел на дрожащие губы Наташи, расстроенное загорелое лицо, – Натка, в чем дело-то? Как это – нельзя?
Наташа заплакала. Сидела на крикливо раскрашенной лавочке, крутила рукой край синего парео. Смотрела перед собой сердито. Витька обнял ее за плечи, прижался губами к щеке:
– Ну, перестань, успокойся. Расскажи. Уж после того, что видели – чего нам бояться? Змей я теперь точно не боюсь.
– При чем тут зме-е-и-и, – размазав по лицу слезы, кривя губы и сердясь, – там – люди! Вот…
Из-за кустов выплыла толстуха в золотом купальнике и оранжевых шлепанцах. Остро взглядывая, прошаркала мимо размеренно и увесисто.
– Интересно, – протянул Витька. Покривился на теткину пестроту и поспешно отвернулся. Пот на лице высох, тяжесть и мороз растворились, ушли, как только принял решение уехать. Значит, правильное, – прикинул.
– Натушка, расскажи, а? Я ведь большой уже. Справлюсь.
Девушка прерывисто вздохнула. А Ингрид встала, поворачивая к ним ладонь в останавливающем жесте:
– Это уже ваши дела. Да. Вечером приходите. Будем ужин на прощание. И поспите на яхте.
Мелькнула краем легкой ткани и скрылась. Они посмотрели вслед. И повернулись друг к другу. Витька – с интересом выжидательным, Наташа – нахмурясь озабоченно.
– Я расскажу. Пойдем в номер. Там потише, и нет никого. Пойдем?
Всю дорогу до корпуса, и на лесенке, и у двери, пока Витька ковырял ключом в замке, – молчала. А он, совсем ожив, рассказывал, как это – в ноябре, позднем ноябре – ходить вдоль серого моря, тяжкой ртутью налитого в холодные руки песка.
В прохладном сумраке номера ждал их крахмальный лебедь, скрученный из простыни. Желтые, алые нежные лепестки на постели. Едва просохший пол холодил босые ступни. Витька повалился на лепестки, сбивая простынную птицу, вздохнул блаженно. Наташа забралась с ногами в кресло. Слушала, как рассказывает, сулит прогулки вдвоем…
– Я тебе покажу все-все! Там, конечно, кораллов нет и рыба не такая… расписная, – Витька передернулся, – но там так… так… Да что я? Ты же знаешь, как там. А ведь не ездишь, так?
– Витенька, – ровно сказала Наташа, – я не поеду с тобой. Я сейчас все расскажу, и сам решишь, куда тебе ехать отсюда.
И Витька, сидя на пахнущих свежестью простынях, выслушал рассказ о Сеницком.
– Да-а, дела… – помолчал, собирая мысли, – ну, если так, и ты, правда, боишься… за меня…
– Правда боюсь…
– Так в чем же дело, Нат? Поедем сразу отсюда – на Азов! А там посмотрим!
– Не все еще. Сеницкий сказал, тобой Альехо Алехандро интересовался. Очень.
Витька вскочил, подлетел к Наташе, схватил за плечо:
– Как? Сам Альехо? И ты знала и молчала? – оттолкнул и заходил по темноте, спотыкаясь о стулья:
– Блин, Наташа! Ну вы, бабы – квочки! Я же его, да он для меня – все! И вместо того, чтоб бежать и в рот ему смотреть, я, дурак – дураком, здесь! Турист! …Десять уже дней назад?
Пнул лежащие на полу ласты и закричал в белеющее в полумраке лицо:
– А если ему уже наплевать? На меня? Нянька! Распорядилась, увезла к чертям на рога!
– Вить…
– Что, Вить?
Наташа вскочила, и закричала тоже:
– Ты, сволочь, хоронил когда-нибудь близкого человека? А потом думать, если бы увезла вовремя, не пустила бы, не дать пропасть? Ты родной мне стал, понимаешь? Ведь не к тебе приперся этот козел Сеницкий! Со мной говорил, а значит, я должна… думать. А ты – щенок еще! И мне смотреть, как пропадешь? В подворотне тебе дадут железкой по затылку и все, фотограф хренов, чем будешь в объективы свои? Кому что докажешь? А даже и докажешь? Кто тебе голову твою вернет и зрение?
– Ну ты завернула… и, вообще, я сам!
– Знаю! Но если снова, я опять так же! Сделаю!
Стояли напротив, обжигаясь о взгляды друг друга. И, одновременно обмякли, остыли. Всхлипнула снова Наташа, Витька протянул руки, принял к груди ее растрепанную голову. Целовал в макушку, шептал ерунду. Отвел к постели и положил, гладил шею, грудь. Потянул шнурочки бикини. Девушка подавалась под руками, приподнималась, позволяя стянуть, швырнуть на пол.
И – поцелуи. Уже в беспорядке, куда придется. И…
Витька откатился, выругался шепотом. Сел на постели, отвернувшись.
– Ты прости, Натк. Не могу…
Она уняла хриплое дыхание. Подкатилась под бок, обвилась телом вокруг. Уткнула лицо ему в бедро.
– Понял теперь, почему я с тобой в осень к морю не поеду, – сказала невнятно, щекоча губами кожу.
– Нет.
– Дурак ты. Хоть и сам, сам… Я не твоя женщина, Витенька. А тебе надо только со своей. Или уж одному. Как Ингрид сказала – послушай себя.
– Я послушал, – тоскливо сказал Витька, – только, нет моей. В этом мире, похоже, уже нет. Лада, может быть. Но ушла она, не смогла тут.
Наташа вздохнула, провела пальцем по его согнутой спине:
– Значит, один.
– Н-да? И что – всегда теперь, что ли? А секс? Просто так – секс?
– Не знаю. Может быть, не сможешь теперь.
– Ну-у-у-у… – протянул Витька. Расстроился. Но вспомнил об Альехо и расстраиваться перестал. Потом-потом, успеет.
– Мы вечером на яхту. А я смогу спросить у ребят? Перед отъездом?
– О женщинах?
– Ну, тебя. О нас! И змеях наших.
– Конечно. Только особо не надейся, видишь, Ингрид сбежала сегодня, как только – наше. Все теперь сами, Витька. Все мы – сами. Справимся, как думаешь?
– А то!
Он поцеловал ее в раскрытую ладонь и, подумав, шлепнул звонко по коричневой ягодице. Наташа пискнула и укусила его за бок.
Глава 25
Волны снизу поплескивали в белые борта. Волны-дети, роста им не хватало. Только слышно было, как разбегаются, пробуют снова и снова запрыгнуть по гладкой краске. И скатываются. Не теряя надежды…
Темнота держала ковшом бархатные душные ладони, обняв свет лампы, что качалась и таскала решетчатую живую тень: по доскам палубы, по округлому боку мачты, взбегала на подбородок Ингрид и, не достав глаз, падала – на округлый бок мачты, на доски палубы… Но тоже, не теряя надежды, возвращалась и возвращалась.
Наташа сидела на крышке какого-то люка. Низенькая крышка, кто знает, что там внизу – Витька не разбирался. Но высоты как раз такой, чтоб можно было, сидя на теплой палубе, прижиматься к Наташиному боку. Чувствовать руку на своей голове, на шее, на плече, что перебирает пальцами волосы, пробегает щекотно и спокойно по коже, отдыхает, тяжелея расслабленно. И Витька, слушаясь маленьких волн, то становился легче, то прижимался сильнее. К родному, теплому. «Легко спутать с любовью» – выплыла мысль. Думать ее не стал, лень. Чего тут думать и так ясно. Многое в морской темноте становилось ясным, и улетали в нее приготовленные вопросы. Вот сидят они вчетвером, молчат и, будто все ясно. И понятно одновременно, что все-все никогда ясно не будет.
Ингрид сидела на маленьком раскладном стуле, чуть наклоняясь вперед, держала в пальцах тонкую сигаретку. Герман откинулся в шезлонге, прикрывая крепкий живот белым большим альбомом. Взглядывал поверх и проводил одну за другой линии, равномерно, тоже подчиняясь маленьким волнам.
Все подчинено маленьким волнам на яхте. Лишь иногда свет фонаря и бортовых огней, переглядываясь с проходящей мимо прогулочной лодкой, становился отдельным от волн, сам по себе. Выпутывался из мягкого ритма, и говорил тем, что плыли гирляндой, в смехе и восклицаниях – мы тут, не зацепите, осторожнее… Казалось, цветные фонарики лодок светили смехом и разговорами. И казалось, из-за того, что здесь, на белой палубе под темнотой, говорили мало, – свет тоже был невелик и спокоен.
– Ты ведь будешь осторожен? – напомнила Ната.
– А ты точно не поедешь? – спросил Витька.
– Останусь. Вернусь с ребятами в Каир. Домой я позвонила, все в порядке.
Она чуть дернула его за волосы:
– Ведь не только ты должен на что-то решиться…
Витьке стало стыдно. Весь в себе, в своем. И не думает нисколько, каково ей во всех этих событиях. Вспомнил, как отчаянно она смотрела на Германа, когда он поднимался по лестнице в багровом зале. Так все… быстро и странно… А завтра уже самолет.
– Наташ? А когда ты – домой?
– Не знаю, Витенька. У меня мысль одна появилась, надо бы ее проверить. В Каире. Герман поможет мне. И – Ингрид. Получится, прилечу в Москву через недельку-другую. А потом буду туда-сюда.
Маленькие волны. Витька прижался к теплой Наташиной коже, подышал. Скучать начал по ней, будто уже улетел, а она уже осталась и забыла его в своих новых делах. И захотелось, не отпуская и никуда не уезжая самому, вместе лечь и спать-спать. Но проснуться снова – в эту же ночь без солнца и ярких красок. Если бы она длилась и длилась, подумал сонно, то, возможно, он многое успел бы понять. Но сонные мысли, как на теплую руку снежинки, чуть схватишь взглядом узор – тают.
– Вам поспать надо, – голос Ингрид спокойный и ночной, немного душный, – идите в каюту. А мы посидим еще.
– Я с вами, совсем никогда уже? – сон уже пришел и стал главнее всего, но надо спросить, надо. Он ведь еще фотографировать их хотел…
Герман потянулся. Вырвал из альбома лист, подал Наташе. Проговорил что-то быстрое, сверкнув зубами.
– Обещает в Москву приехать. И тебя найти обязательно, – Ната рассмеялась и устроила лист перед витькиным носом, – смотри-ка, смотри!
– Вы всегда теперь – с нами, – Ингрид улыбнулась. Наклонилась и, обхватывая за шею, прижалась губами к черным волосам Германа, – отдав рисунко, он оставил шезлонг и пересел к ее ногам.
Витька отвел наташину руку с рисунком подальше, рассматривая. И рассмеялся. С белого листа на него смотрели два большеглазых существа, – чуть оформлены силуэты плавными линиями. Непонятно, люди ли, звери. Но перелиты один в другого, и похожи взглядами – пара глаз повыше, завитки волос по склоненной голове, и вторая пара, пониже, с контурами пальцев на макушке. Кусочек колена, выгнутая линия бока, плавно – бедро. Смотрел, уплывая в сон, но доходил взгляд до глаз, до темных печальных провалов в белизне бумаги, и появлялась сладкая печаль, уже без сна – о бесконечности… Потому что поверх двух силуэтов, связывая их, вилось длинное тулово, чуть намеченное повторящимся рисунком легкого узора. И пропадали за краем листа его конец и начало, голова и хвост.
– Как это? Ты вот это – сейчас? – Витька охрип. Кажущаяся простота рисунка вытекала из белой бумаги поднимающимся тестом. Становилась большой, огромной, больше моря и света звезд. И невозможно было перестать падать в печальную темноту двойного бесконечного взгляда…
Герман засмеялся. Запрокинул голову, сказал коротко. Ингрид водила пальцами по линиям смуглого лица. Трогала концы ресниц, пробегала по бровям, по тонкой горбинке носа. Вела по краешку полных губ и, когда приоткрыл улыбаясь, стукнула ногтем о зубы.
– Он – может, – перевела то, что и так понял Витька, – умеет.
Маленькие волны просились к ним. А четверо, передавая друг другу рисунок, смеялись от радости, что вот, только что не было, а сейчас – есть. Совершилось. На глазах. Радовались оттого, что один из них умеет, по-настоящему, без дураков.
Витька, глядя, как, улыбаясь, Наташа вытерла мокрые глаза, пожалел, что не умеет петь. Он бы спел сейчас. Пуская голос плоским камушком по спящей южной воде, спел о Германе и о его новом рисунке. О линиях, что можно пересчитать пальцами рук и пальцев хватит. Потому что выбраны самые верные линии, единственно настоящие.
Но – не умел. Потому прокашлялся и сказал. Радуясь, что краснея, не светится в темноте:
– Я как приеду, снимки свои все уничтожу. И – к Альехо. Сразу же.
– Не горячись, дурачок, – Наташа покачивалась с волнами, прижимала к себе его голову, – убить свое каждый может. Ты просто забудь о них, оставь. Потом, через время посмотришь. А к Альехо, конечно же, сразу! Только прошу тебя, будь там, в Москве, осторожнее…
– Теперь обязательно буду, – обещал Витька, – я теперь знаю, что мне идти долго. И буду беречь себя.
– Не только ты будешь беречь себя, – голос Ингрид качнулся к нему вместе с решетчатой тенью, – ты знай, теперь тебя есть кому защитить.
Она положила руку – тонкой змеей на мужскую грудь. Погладила чуть видную в качающемся свете фонаря татуировку Германа.
– От времени до времени и через время… – голос Ингрид звучал негромко и после кажой фразы она останавливалась, чтобы Наташа успела перевести для Витьки, – рождались люди, отмеченные Даром. У них не было ничего сверх того, что отпущено людям Богом, кроме одного – умения творить что-то, что проживет дольше их самих. И от времени до времени и через время, ищут и находят таких людей змеи Ноа, приходящие неизвестно откуда. Человек, отмеченный Ноа, защищен. Не от голода и не от болезней, но от опасности потерять свой Дар, утопив его в повседневности. Змеи Ноа приходят и живут на коже, переливаясь радугой, не уходя никуда, потому что некуда уйти с тела сделанной татуировке. Иногда она видима всем… – рука Ингрид шевельнулась на груди Германа, – но есть мастера, что селят на человеке невидимые знаки…
Ингрид остановилась, ожидая когда Наташа перескажет Витьке последнее, но та молчала, думая о чем-то. А Витька, еще не услышав перевода, вдруг вспомнил пламенеющую маску тигра, поразившую его.
– Ингрид, – Наташа медленно спросила что-то и Витька очнулся, прислушиваясь и пытаясь понять.
– Нинка, там в ателье. Она сама вышила змею, просто на платье. Хотела цветок, но получилась – змея…
– Она из тех, что ищут сами, – ответила Ингрид на вопрос, – наверное, так. Ее талант мал, он лежит в суетном мире быстроживущих вещей, и потому она будет искать вечно и вечно не находить.
– Бедная Нинка…
– Она счастлива, в поисках.
– Наташ, ну? – Витька слушал тихий разговор и хотел понимать.
– Да. Извини, – она спохватилась, – есть мастера, что селят на коже людей невидимые знаки. Ингрид сказала так. Может быть ты и увидишь когда-нибудь такое.
– Я видел! Там, где мне, я… Так что получается? Есть люди, что носят на себе невидимых змей?
– Дар бывает разным, Витька. Ты снимаешь, Герман пишет картины. Кто-то музыкант, а другой – знает, как делать политику.
– Вот оно что… А ты?
Он спрашивал Наташу, а смотрел на Ингрид. И обе посмотрели на него, улыбаясь.
– Кто-то должен жить для вас, отмеченных. И может быть, за вас умирать…
Он не понял, кто именно из женщин сказал последнюю фразу. Хотел спросить, а как же, ведь уже есть те, кто хранят их, есть татуировки Ноа… Но понял сам, подумав о холодном змеином и о теплом человеческом. И кивнув, ответил обеим:
– Должны быть такие люди. Да. Для людей – люди.
– Да, мастер.
– А… а откуда они? Наши змеи?
– Я рассказала тебе, что знаем мы. Ты будешь жить и узнаешь еще. Сам.
С берега то громче, то тише слышалась музыка и где-то далеко, в мягком зареве над игрушечными дворцами отелей, забухали и затрещали ракеты, рассыпавшись в черном небе веерами огней.
– Да, – медленно сказал Витька, – теперь у меня есть защита.
Тронул пальцами свой рисунок и чуть задержал руку, давая быстрому раздвоенному языку пройтись по ладони – раз, и еще, и – еще…
Глава 26
Сигарету на морозе курить неловко… Губы немеют, даже дымок вроде бы замерзает и вкус не тот. Пальцы ловят тонкое тело бумажной балеринки и страшно – переломить, не ощущая давления или – выронить, боясь сломать.
Витька стоял на тротуаре Нового Арбата, в нечаянной узкости широкой улицы, у стены ресторана «Прага» и смотрел на большой биллборд впереди. Прохожие методично и одинаково задевали его неуклюжими боками, куртка в ответ шоркала, тоже одинаково. Как дождь идет, подумал он, народ идет дождем, куда ни повернись, не спрячешься, только – отойти, сбежать в подъезд или залезть в машину.
Тина с огромной фотографии смотрела на него широкими глазами, требовала помощи, ресницы царапают низкие тучи, на щеках – красные пятна. И – тонкая жилка на шее.
Автомобили притормаживали перед ней. Витька держал сигарету бесчувственными пальцами. «Шорк-шорк» – говорила прохожим куртка. Взревывали по грязи моторы машин, бросался мокрой собакой из-под колес снег. Запах бензина и выхлопов лез в замороженные ноздри.
…Выбрала три снимка. Везде они – на больших рекламных щитах, узкой колонкой в газетах сбоку, на обложке глянцевого журнала… Того нет, где на волосах темных блестящих по немытому полу – кроссовок. Но Витька полагал – не от боязни. Приберегла. Усмехнулся, бросил недокуренную сигарету в урну и зачавкал по мешанине снега и химии к метро. Обошел огромную Тину, оглянулся. С обратной стороны – коньяк в пузатой бутылке. Самодовольный такой, с блеском по темному брюху, с ожерельем звезд по цветной этикетке. Пока отворачивался, коньяк мигнул и превратился в Тину, в профиль с веером раскинутых волос и прикушенной губой.
И пока ехал вниз на эскалаторе, считал уже машинально снимки. Через один – Тина. Слушал себя, то что внутри. Приятность была, грела, но беспокойство ело сильнее. Что теперь? Снимать красавиц для рекламы? Вспомнил, как веселились со Степкой, когда тот увлекся котами. Наснимал стадо – ухоженных и ободранных, одномастных и разноцветных. Завесил лабораторию на радость прибегающим со всего корпуса научным дамам, дарил. А когда Витька, утомившись от усов и хвостов, попенял другу, тот возразил резонно:
– И чо? Вон Ларри Флинт всю жизнь одних голых баб в журнале печатает, а чем коты хуже?
Мимо плыли желтушные фонарики, наклонялись с круглых стен глаза Тины, …огромные буквы, цветы размером с зонтики, ботинки – с корыто… Витька подумал, никто не глядит на встречных, все больше на рекламу. Неловко как бы. Люди ехали, провозя выражения лиц, распахнутые в духоте подземелья воротники пальто и курток. Лица не повторялись. Вот в глянце все подогнано под стандарты, а тут – даже алкаши разные, даже тетки с дерматиновыми сумками. Маленький был, все листал толстый художественный альбом с портретами. Любил больше, чем репродукции баталистики и пейзажей. На лица смотреть никогда не уставал. И куда все делось, подумал со стыдом. Ведь профессия. Должен был бы смотреть и сейчас, а как-то обходится без всего. Вдруг представился сам себе крошечной точкой, от которой стремятся в пространство гигантские плоскости – вперед, вдаль, в стороны. Точка-Витька по сравнению с ними – эх… Куда же надо? Не побежишь во все стороны сразу.
«Альехо подскажет», подумал, успокаивая себя, гоня всю тяжесть открывшегося. Блин, жил бы, как раньше, все ясно и понятно, и – спокойно. Поздновато скрутило его. У других – другие семьи, детство, потом институты. А он? Поступил, чтоб от армии откосить, два года просачковал и с радостью в сонную лабораторию устроился, как он тогда Степку упрекнул – что ничего ему не нужно, лишь бы сладко есть и девицы. А сам? …На Альехо одна надежда. Так и надо, так и должно быть! Ингрид говорила, что раз есть дар, то к нему все будет идти, – знаки будут, вехи. Вот и Альехо появился, как раз, когда надо. Он скажет, с чего начать, а уж Витька все-все сделает, послушается. И гордо ему, у него теперь будет настоящий учитель. Нет, Учитель! Значит – избран…
«Осторожно, двери закрываются, следующая остановка…». Поезд визжал, сквозь шум слышалась болтовня рядом стоящих девчонок – покачиваются в такт, вися на поручне. На плече одной качается сумка, качаются толстые косички другой и хвостик пояска на короткой дубленке. Из разговора в грохоте слышны только верхние ноты, кошачьим мяуканьем. А можно так снять девчонок, чтоб и мяв этот был слышен? Надо спросить Альехо об этом, надо. Эх, дурак, надо было список составить, с вопросами или, лучше – тетрадь завести. Все-все записывать, что мастер скажет…
В шаркающей и многодышащей змее длинной толпы Витька шел по переходам, почти летел. Отмечал кадры вокруг. Вот, ей-ей, сманит Степана, возьмет штатив, пару софитов переносных и пробегутся они по метрополитену! Все снимут – и черные стекла с кривыми лицами, и спящего в вагоне бомжа, ракурсы неожиданные. Чтоб все привычно и одновременно – жутко.
Толкнув, обогнали его барышни-попутчицы, оглянулась та, что с косичками, смерила взглядом Витькин пуховик, хихикнула, шепча подруге что-то. И та оглянулась. Убежали вперед, как раз под Тинкин портрет на сквозняке перехода, над головами.
«Ничего-ничего», думал Витька. «Шорк-шорк» – обминался чужими сумками и боками горячий из нутра пуховик. «Прославлюсь, посмотрим, вот – скоро уже…»
На длинной ветке заснул, неудобно съезжая с кожаного сиденья. Чуть не проспал. И выскочив с толпой, топчась под фонарем, стылыми руками вертел бумажку с нарисованным Наташей планчиком. Глянул на маршрутку, облепленную неповоротливыми людьми, решил три остановки пробежаться пешком, согреться на ехидном ветерке, что за день напас в кулаках иголочек мороза.
В темном дворе изогнутого дома бродил от подъезда к подъезду, ругался шепотом. Вдруг заскучал по Степану. Совсем отклеился друг, все время с Тинкой. У нее скоро гастроли, перед разлукой не отлипают друг от друга, не до кого им. А то бы вместе сейчас…
Но, стоя перед облезлой дверью в пахнущем кошками коридоре и нажимая проваленную кнопку звонка, понял, сюда надо одному.
– Пришел, – сказал Альехо, – проходи…
И зашаркал растоптанными тапками, не оглядываясь, вглубь квартиры. Витька потоптался у забитой старьем вешалки. Пристроил пуховик на табурет, думая – разуваться ли.
– Тапки там, – крикнул Альехо из комнаты. Витька корявыми пальцами стащил обувку, сунул ноги в разношенные войлочные шлепки. Бочком прошел в полуоткрытую дверь, слушая, как из кухни кто-то вздыхает…
С порога смотрел на обычную комнату, на китайскую розу в кадке во весь угол. Маленький журнальный столик со стопками книг и газет. Мельтешил у стены телевизор. Знаменитый фотограф махнул рукой на полукресло с деревянными подлокотниками:
– Прошу…
Витька сел, руки на коленях, уставился на стол. Иногда быстро взглядывал на хозяина и сразу глаза отводил. Тот, удобно усевшись спиной к телевизору, листал журнал. Молчали.
А чего ждал? Что кинется и за руки схватит с криками «так вот ты какой?». Витька покраснел, смялся, стиснул рукой колено. Заболела от неловкости спина.
Хозяин долистал журнал, сунул через стол открытым разворотом:
– На, смотри…
И гость уставился на портрет старой женщины, прижавшей к морщинам щеки мордатого кота. Лоснится кошачья шерсть, торчат роскошные усы. И рядом старухина кожа, прозрачные глаза, голубые, уже с мутноватой от возраста поволокой. А у кота – кристальные, яркие, будто полировкой кто прошелся. Как по неживому. И сразу понятно – кто живее и важнее. Старуха. Безжалостно снята, вон в уголке глаза белое накипело, так и хочется или платок подать или отвернуться, морщась. Тонкие волосы, пегие – из-за уха свисают прядкой, что выбилась из тугого пучка на затылке.
По локтям побежали мурашки. Стало так жалко старую женщину, до щекотки в носу.
– Спекуляция, – сказал хозяин, наблюдая за гостем, – стариков снимать легко. Особенно, если рядом что-то свежее, для контраста. Не кот, так внуки или цветок. В росе желательно.
– Нет! Это шедевр, зря вы так! – Витька поискал подпись под снимком. Нашел. Lyapikov Ilja. И много-много слов по-английски. Целая статья.
– Шедевр, – согласился Альехо. Из штампа сделать шедевр – суметь надо. Я умею.
– Я тоже хочу. Уметь, – если не отрывать взгляда от фотографии, то говорить, оказывается, можно. Все-все, не стесняясь.
И он заговорил. Вспоминал, как первый раз снимки Альехо увидел. Сбиваясь, спотыкался в словах, замолкал, перескакивал, путался. Говорил о планах… И все глядел в рыжую морду кота, в блеклую синеву старых глаз рядом с яркими камнями зеленых кошачьих. Дергал рукой край журнала, и, пугаясь, расправлял смятую страницу.
Хозяин сидел, вытянув под низкий столик ноги в спортивных латаных штанах.
Сложив короткие пальцы на вязаном жилете, пощипывал шерстяную нитку, слушал внимательно, молча.
– Вы, вы, и кот этот рыжий, глаза его… И – женщина… – Витька выдохся. Диктор в телевизоре чирикала радостно, заглядывая с опаской в раскрытый перед ней ноутбук.
– Рыжий, говоришь… – Альехо потянулся, дернул из Витькиных пальцев журнал, захлопнул. И посмотрел на гостя, улыбаясь. Повторил задумчиво:
– Рыжий, значит… А глаза какие?
– Зеленые, – Витька удивленно смотрел на закрытый журнал. Под ложечкой сосало – хотелось смотреть еще. И петь хотелось. Как на яхте, когда появился рисунок Германа в альбоме.
Альехо снова раскрыл журнал, двинул по столу к Витьке:
– Снимок – монохромный. Но – спасибо! Мама! Ма-ма!!
Витька вздрогнул. Глядел на черно-белую фотографию разворота.
– Мама, будь добра, сделай нам чаю.
Старая женщина, войдя в комнату, обогнула подробно и мелко стол, чтоб увидеть Витькино лицо и кивнула приветливо. Говорила что-то обыденное. Он кивал, улыбался и что-то обыденное отвечал. О морозе на улице, кажется.
Женщина вышла, унося блеклый свет глаз, синеву которых выпило время. …Поправляя на затылке тугой пучочек пегих волос.
Чай пили в маленькой кухне. Ольга Викторовна все вытирала у Витькиных рук клеенку.
– Не люблю, когда крошки, – извинялась. И гладила толстого рыжего кота, прижимая к ситцевому животу. Кот басом мурлыкал и щурил на гостя зеленые глаза.
Чай припахивал сыростью, но домашнее печенье нежно сыпалось в ладонь ванильными крошками. Витька сорить стеснялся, ел мало, подхватывая губами и языком кусочки сладкого и, думая, как выглядит, стеснялся еще больше. Вспотел. Хозяин не торопился, но вроде и не чуял, что пил-ел, задумавшись. Затилинькал в прихожей телефон и Ольга Викторовна ушла, тронув мимоходом плечо сына. Позвала из коридора:
– Илюша! По работе тебя…
Альехо отодвинул чашку. Закрыл сахарницу фарфоровой крышечкой с тусклыми розами веночком. Глянул на гостя, раздумывая. Витька напрягся, глядел умоляюще. Вместе поехать, смотреть, как работает, говорить, спрашивать.
Но хозяин развел руками:
– Пора мне. Ты допей и иди. За мной заедут, в студию надо. А еще приготовить все.
И пошел в комнату собираться. Витька держал в ладонях остывшую чашку, смотрел на фарфоровые розы, на вазочку с печеньем. У его бабушки, что на Азове, в поселке, такая же была. И тоже – с печеньем…
– Илюша… – мать мелко пошла за сыном, приговаривая об ужине, и что опять поздно, а у него – желудок.
Брошенный Виктор деревянно встал, побрел в прихожую. В животе бултыхался чай. Но вышедший из комнаты Альехо потеснил его на кухню снова. Положил на стол альбом, журналы:
– Возьми, – и, помолчав, добавил по имени, – Витя. Полистай. Вот визитка тебе. Позвонишь и приходи в студию.
Чай внутри плеснулся и расцвел медовым цветком. Витька взял потной рукой скользкие журналы с отсверкивающими обложками, подхватил снизу – не уронить.
– Там еще одна вещь, в журнале вложена, дома посмотришь. Это – подумать тебе. Про рыжего кота, понимаешь ли. Только не суетись, подумай сам, а потом уж кидайся спрашивать и прочее. Понял?
– Да.
– Ну и хорошо. В туалет не надо ли?
– Что? А. Нет, спасибо.
Пожал хозяину протянутую руку – большую, вялую. И затоптался в прихожей, обуваясь. Ольга Викторовна бережно сложив журналы в пакет, стояла, глядя сверху. Подала поспешно и толкаясь аккуратно в тесноте маленькой прихожей, отперла дверь.
– Вы, Витенька, теперь приходите, чай пить. И – звоните, там номер есть, – сказала в кошачьи запахи подъезда.
– Д-да, конечно. До свидания.
Увидев в круге света у подъезда длинную машину, Витька шагнул в сторону, за темные стриженые кусты. Встал тихо, вытягивая шею. Пакет спрятал под куртку и держался за живот, боясь что выскользнет.
Но интересного не было. Минут через десять вышел неповоротливый, в длинном пальто Альехо с большой сумкой через плечо. Буркнул шоферу, что кинулся открыть дверцу. И – уехали…
В метро Витька раза два заглядывал в пакет, читал сквозь жирный блеск обложек названия журналов на английском. Но открывать не стал, смотреть – что там, внутри. Больше хотелось подумать. Пока бежал, пряча в воротник нос, казалось и думать не о чем, такой жалкий и короткий визит, разочарование одно. Но оказалось, есть о чем.
Дома, не торопясь раздевшись, постоял в коридоре, вспомнив Ольгу Викторовну и портрет ее в журнале, пошел в кухню. Торжественно поставил на газ красный чайник, вытащил из буфета початую пачку печенья. Сбегал в комнату и принес из шкафа вазочку. Не такую, но все равно. Высыпал в нее горкой квадратики, припахивающие пылью и сахаром. Поставил чашку и приготовил заварочный чайничек. Протер половину стола чистым полотенцем, вынул альбом, положил сверху журналы. Номера из визитки записал в мобильник. И открыл журнал.
Скользя по хорошей плотной бумаге, прямо в руки порхнул глянцевый темно-красного цвета буклет. На обложке большими яркими буквами «НИКИ», чуть мельче «Сеницкий». А справа столбиком серо «снимает» и, перечеркивая серость эту, снизу по диагонали, рваным художественным шрифтом, черное слово «ТОСКУ».
Чайник свистел на плите, доставая столбом пара из носика черное стекло рядом с плохо задернутой шторой. На стекле плыло мутное пятно из капелек, превращая свет заоконного фонаря в горсть золотого мелкого песка.
А Витька держал в руке буклет, смотрел на фото в центре обложки, обрамленное словами. Старый кроссовок, утонувший в жухлой траве, раззявил нутро в тоскливом крике, разметал по краям грязные шнурки, когда-то белые, нарядные. И – мертвая бабочка с поломанным крылышком. Унесло бы ее ветром, что пригнул сохлую травку, да зацепилась соломинкой лапки за лохматый шнурок.
По нижнему краю – черные буквы, восклицательные знаки…
'Выставка-событие! Смотрите в Манеже! С 1 декабря по 1 февраля!'
Глава 27
– Мам? Ты как? У меня… Все нормально у меня. Я тут гением решил сделаться… Ага, чего – спокойно, я ведь, помнишь, в третьем классе лучше всех рисовал лошадок и собачек. Котят? Не собачек? Ну, пусть будет котят… Дед Никита говорил – далеко пойдет, ой далеко… Вот я и пошел. Через неделю выставка у меня, в Манеже. Помнишь, ты приезжала, мы с тобой ходили туда. Еще твой этот был тогда. Не Веня, а другой. Мам, я тебе денег скоро пришлю. Я их теперь больше зарабатываю, больше и пришлю. Что значит, не надо больше? Что твой Веня, наконец, научился их не тратить по дороге из своего зубного кабинета? Прости, конечно, стоматологического. Нет, приезжать не надо, ты же не любишь фотографию, а я как раз в ней и гением стал. Угу. Я тебе журнальчик потом привезу. Поеду к бабке через Киев, ага, ты приходи на вокзал, повидаемся. Не, не хочу к вам. Знаешь, почему. Ой, мам, живите, как вам хочется, меня только не надо, а? Придешь и посмотришь. Прости, чайник у меня взорвется щас. Ага, целую…
Витька замолчал, оторвал глаза от мертвого телефона, камушком лежащего на другой стороне стола, царапнул взглядом буклет, что кинул туда же, как таракана. Поднялся медленно, выключил газ. По мокрой дымке темного стекла – тонкие трещинки струек. Медленно ползли, и в них проталкивался, расплавляясь кривыми иглами, уличный свет. Постоял, разглядывая внимательно, как сверкает, пошевеливаясь, тонкая вода по стеклу. Была в чайнике, кипела, парила. Упала на холодное стекло капельной дымкой… Потяжелела, поползла. Вниз… Красиво…
«Снять», стукнуло в висок, и Витька скривился. Задвигал легкий чайник по решеткам, слушая плеск внутри. Ляпнул в чашку остатки кипятка, сыпнул сахару.
– Снять? – сказал вслух. И попробовал засмеяться. Но без чайника и телефона в кухне стояла тишина. Не мешаясь с ночным уличным шумом, стояла и ухмылялась. Все произнесенное передразнивала, эхом болтала в пустой голове. И смеха не получилось .
– Снять, бля! – сказал Витька погромче. Злость лучше этого больного смеха.
– Хер дождетесь! Гений, бля! Кому я нужен, гений? Какой я гений?
И размахнувшись, сбил со стола вазочку с горкой печенья. Не разбившись, она ускакала в угол. Квадратики улеглись по квадратам линолеума, светя желтеньким по бежевому.
«Снять», тенькнуло в голове снова. Витька застонал и наступил ногой на желтенький квадратик, вмял, сплющил. На второй, третий.
«Вот тебе снимочки, вот сними, вот это!»
За последним квадратиком пришлось идти к самой двери… Прошел обратно, давя ногами лужицы хрустких крошек. Сел и заболтал ложкой в белом сладком кипятке. Хлебал, обжигая губы. Смотрел на оживший телефон. Тот полз по столу, мигал, пел похабно-весело. Замолчал, не дождавшись, но тут же заползал снова.
После четвертой попытки Витька телефон взял.
– Витька!!! Ты че, шпана? Сам звонил-звонил и не берешь трубу! Я в клубе, там Тинка зажигает. Веришь, ну такую хрень поет! А народ скачет! Ты слушай!
И телефон запищал, закурлыкал, полезли из динамика лапшой мелкие звучки.
– Ну, как? Бред просто! А я смотрю, ты звонишь-звонишь, вот пошел бы со мной, размялся. Чего молчишь? Щас найду, где потише!
Витька молчал, прижимая трубку к уху. Молчал, пока Степка расписывал ему про клуб и концерт, про музыкантов, среди которых «блин, даже нормальные есть, такую лабуду играют, ох, деньги, брат»… Молчал, когда напарник забеспокоился и стал выкликать его по имени, уже не отвлекаясь. И, дождавшись паузы, сказал ласково:
– Степа, ключ, что я тебе давал, он у тебя?
– Ну, да!
– А ты заходил?
– Ну, да! Забегал два раза, проверил все! Я бы и третий, но ты ж вернулся…
– И ты его никому не давал?
– Чо ж я дурак? А что случилось-то? Блин, Витяй, пропало что? Я же, вроде бы…
– А ты приезжай, дружок, – пригласил Витька.
– Прям щас? Тут же еще…
И, споткнувшись о Витькино молчание, крикнул со злостью:
– Приеду. Жди сиди!
Ходя по теплой кухне, Степан старался стол обходить подальше. Косился на буклет, сто раз уже перелистанный. Пожимал плечами, взмахивал рукой, делал разные лица. Витька сидел на скамье, спиной к шершавой стенке. Следил за другом. Ждал.
– Не, ну я не понимаю… – напарник остановился, взглянул на вишневую обложечку, развел руками. Снова махнул рукой и заходил.
У Витьки устали глаза. Ждать надоело.
– Ключ давал кому?
– Да нет же!
– Степ, я не знаю, что говорить…
Рыжий с грохотом придвинул табуретку, плюхнулся. Постукал ботинком о ножку стола. Потянулся и снова взял буклет, открыл. Смотрел на два снимка разворота. Витька ждал.
– Но это же не твое, так? Похоже очень, но не твое…
– Степа…
– Ну да, ну да. Дай собраться с мыслями.
– Ага, видишь, мысли появились.
Напарник размахнулся и швырнул буклет на стол. Тот проскользил и порхнул на пол, прямо к Витькиной ноге. Степан облокотился толстыми локтями на стол, поморщился – мешает дубленка.
– Разделся бы, или не собираешься задерживаться? У тебя теперь новая жизнь…
– Слушай, заткнись, а?
– Да пошел ты…
Степка стащил полушубок и кинул к дверям.
– Я тебе щас все расскажу, хотя и расказывать-то нечего.
– Ага…
– В общем, я снимки твои списал на диск. Думал, вдруг с компом что-то или еще что. Ну и…
– И вместо того, чтоб положить здесь где-нибудь, забрал с собой?
Степан кивнул. Глаз от стола не отрывая. Было слышно, как над головой кто-то тяжело ходит, скрипит паркетом. Старый дом, подумал Витька, вот у кого-то паркет еще жив в кухне, а у меня – линолеум, мать стелила, когда еще не уехала к своему зубнику.
– Мы с Тинкой пришли…
– Ага…
– Что ты мне все агакаешь? Будто я хотел – плохо! Я волновался за тебя, очень! Ты же такие вещи снял!
Медленно закрутился привешенный к плафону картонный ангел. Качал засаленными крылышками. Заорали внезапно под окном молодые беззаботные голоса, стукнулся в жесть подоконника случайный снежок.
– Ну, хорошо, вы с Тинкой пришли… Степа, ну говори, я ж не следователь, не могу допросы. Тебе, к тому же! Блин, обрыдло все!
– Ну, вместе уходили, и я диск этот сунул Тинке в руки, пока дверь закрывал. А она его – в сумку.
– И где он?
– Наверное, там и лежит. Или дома у нее. Забыл я про него.
Витька потянулся и старательно додавил подошвой желтенькие крошки от печенья.
– Та-ак… Значит, позаботился сначала, чтоб снимки не пропали вдруг, а потом – забыл?
– Ну да…
Степан повесил голову. Крутил в толстых пальцах яркий журнал, сворачивал трубкой, распахивал. Мелькнули кошачьи глаза на развороте. Не посмотрел, захлопнул, бросил на стол.
– Вить, я правда, ну, кто знал. Дурак я, да. И не подумал…
– Да уж…
– И вообще, ты тоже виноват. Сам не подумал, а теперь вот – цепляешься.
– Не подумал?
После оба не могли вспомнить, кто что кричал. Дубленку Витька выпинал в коридор. И напарника думал – за ней же, но тот набычился и уходить из Витькиной жизни не захотел. Стук по батарее, отдаваясь в ушах, прервал ссору на полуслове. Стояли вплотную, запаленно дыша, ели друг друга глазами. Но кулаки потихоньку разжались, опустились напруженные плечи.
Стало слышно чириканье телефона. «К тебе и за тобой, с любовью и мечтой…», заливалась Тина, приглушенная меховым карманом. Витька закатил глаза, Степка скривился. И оба расхохотались, дыша друг на друга – ванильным печеньем, коктейлем, сигаретами…
Еще одна Тина кричала за дверями квартиры.
– Вить! Степка написал – к тебе поехал! Вы чего трубку не берете? Ви-тя!!!
Стук по батарее возобновился…
Ворвалась стремительно, как в первый раз, подняв холодные волны запаха духов полами роскошной шубки. Но мальчиков своих не пустила, хлопнула дверью перед носом, звонко про что-то распорядившись. Глянула подозрительно. Встала за спиной у сидящего уже за столом Степки, положила на плечо руку.
– Случилось что?
Витька заваривал чай, пока напарник, запинаясь и прижимая иногда подбородок к Тинкиным пальцам, рассказывал. Налил себе, сел, тряхнул пустую пачку из-под печенья. Втроем посмотрели на пол, на давленые квадратики. Тина приняла поднятый с пола Степаном вишневый буклет.
– Дела… Я, конечно, знала, что эта скотина везде свой нос сует, но – в сумке моей рыться…
– Так диск у тебя с собой?
– Да, – и она полезла в объемистый мешок на плече, – я в сумке месяцами вещи таскаю. Степушка сказал – спрятать, а я забыла. Так и лежит.
И выложила на стол диск в бумажном конвертике. Фломастером, размашисто по белому, надпись «Виктор Сай снимает тоску»…
– Мы все прикидывали, как выставку тебе. Радовались. Степка радовался, знаешь как?
Из-за плеча потянулась за его горячей чашкой, отпила. Отойдя к окну, присела на подоконник, натягивая штору.
– Вить, ты не волнуйся. Я все узнаю, что можно сделать. Адвокат у меня толковый, посоветуюсь. Плохо, что снимки не украл, похоже. Только идею. И в Манеж надо заглянуть, ведь открытие скоро, значит, залы уже готовят, развешивают картинки. Или что там делают? Я же по выставкам не особо, времени никакого нет.
Витька почувствовал, как толкнулась внутри надежда. Что там у Ники? Может, все не так страшно?
– Мои снимки настоящие, – сказал, – видно же! Даже по этим трем видно! – кивнул на буклет.
И расслабился, первый раз за вечер.
– Все же увидят! Да!
– Думаешь? – Тина грела в ладонях чашку, смотрела странно. Вытянула шею, еще глянуть на кроссовок в жухлой траве. Погасила взгляд, увела в сторону.
– Конечно! Да свои опубликую, расскажу всем! Ведь видно же, где настоящее! Степ, ты видишь?
– Я – да. Но Тинка верно говорит, надо сперва глянуть на выставку. Разведку устроить. А со Сволочицким будешь разговаривать?
– Морду набью.
– Помогу…
– Славные мальчики, – Тина улыбнулась грустно. По темным волосам плакали растаявшие мелкие снежинки. Парила горячим чашка в переплете тонких пальцев, покрасневших с мороза в тепле. И нос – красный.
– Стой, – сказал Витька. Споткнулся в коридоре о прикорнувшую в темноте дубленку, шепотом обругал. Вернулся с камерой, залез на скамью и поправил картонного ангела так, чтоб тень его падала в золотую дымку, напотевшую за Тинкиным плечом.
– Ты разговаривай, разговаривай. Не отвлекайся!
– Жить будет, – сказал Степан. И шумно захлюпал чаем.
Глава 28
Лифт уехал, увозя двоих, и Витька опять слушал, как в коридоре стихают женские восклицания и мужские невнятные речи. Почти как с Сеницким, но совсем по-другому.
Поморщился. Сеницкий… Будто ходят по коже жесткие пальцы, добираются до забытого синяка, и – больно. И нет настроения, улетело, сдуло сквознячком беспокойства.
Кухонная фотосъемка успокоила немного. Крепок, брат, жить буду, подумал о себе Витька, поняв, что острое возмущение ушло, он может думать о другом и лишь, натыкаясь снова и снова, – Сеницкий – морщится. Растерялся, конечно. Как на качелях огромных, что сначала, со свистом в ушах, мощно – вверх, до головокружения и радости близкого неба, а вслед за этим – вниз, так же мощно и безжалостно, с дрожью деревянной доски под ногами, – тащит, а куда сбросит?.. На качелях знал, куда, но и то всякий раз боялся. А здесь…
Лежал, пытаясь спать. Бил в раздражении ногой влажное одеяло, скидывал, зажимал между колен. И через десяток минут, зазябнув, тащил на себя остывшую ткань. «Вогкое», вспомнил, так бабушка говорила. Хорошее слово. Не мокро и не влажно до воды, а лишь цепляет кожу, не соскальзывая.
Глядел на узкие стрелки света, расколовшие в трех местах черным закрытое окно, слушал, как, нарезаясь тонко, лезет в эти щели уличный шум. Вздыхал. Почему думается о разных пустяках? У него проблема, серьезная, надо что-то придумать, решить, изобрести! Блин…
Вскочил, выпутал ногу из скрученного и противного от этого одеяла, пошлепал на кухню. Сидя за желтым столом, в розоватом свете плафона, смотрел на руки, лежащие на столе. Как на что-то чужое. Бывший уют кухни, теплый, желтоватый, такой любимый им, нагонял тоску, раздувался стеклянным шаром с черными стенками. И сам он – соринкой на гладком донце шара, без малейшей возможности выбраться, самому поменять место, что-то решить. Звуки, что обычно так нравились, потому что – из уюта кухни, под защитой неровной домотканой шторы, холодного оконного стекла, фонаря с длинной изогнутой шеей, который – всегда и привычен (может, из-за этого не лез Витька поправлять оборвавшуюся петельку?) – стали гулкими, опасными. Тоскливыми.
И голова таким же шаром, пусто, безмысленно. Встал, тяжело нагибаясь, подмел веником пол, собирая в совок растоптанные желтые крошки. Налил себе воды и опять сидел, замерзая локтями, крутил чашку. Пить не хотел.
Снова вспомнил о словах Альехо. Ведь первая мысль была – звонить ему, взахлеб рассказать все, услышать возмущенную поддержку, совет или хотя бы, сочувственный вздох. Но почему он сказал о коте рыжем, о зеленых глазах его? И надо ли сейчас думать – об этом? Звонить сразу Витька не стал. И теперь вопрос о коте занимал его все больше. Казалось, если найти ответ, – все встанет на свои места. Вот у Тинки – все ясно. Украли идею, адвокат скажет, что сделать. Может, так и надо, всегда?
Над головой заскрипел чужой старый паркет. Кто-то не спал, ходил наверху, а Витька даже и не знает, кто там живет. Хоть и старый дом, жильцы меняются часто. У кого-то бессонница… Или из-за них не спит? Ведь шумели. И по батарее кто стучал? Тот кто ходит? Наверное, этот кто-то живет один, сам себе. Вот и Витька – сам себе.
На волне жалости снова добрались пальцы до синяка. Сеницкий… Скотина, однако. Пришло омерзение, будто тот в карман залез за мелочью, или письма личные прочитал, да еще и всем, кто гогочет, слушая.
Витька припомнил, как лет в десять с другом был пойман в чужом дворе беспризорниками. Показывая половинки лезвий, особым ловким способом схваченные грязными пальцами, те отвели домашних мальчиков в подвал, отобрали куртки и новые джинсы, взамен кинули свое старье. И три часа дулись в карты, пока Витька и Сенька сидели в углу, на горячей трубе. Заскорузлые от чужой тельной грязи штаны терли промежность. Дремлющее на улице солнце рисовало на пыльном полу ленивые квадратики окошка. Было очень стыдно – самый старший беспризорник на полголовы ниже ребят, но еще больше страшно – от лезвиек в маленьких пальцах. Два раза Витька слышал высокий мамин голос, в панике бившийся в оконную решетку. И – все дальше, ведь не отзывался. Не столько от страха, сколько от стыда – прибежит, увидит, что пятеро восьмилеток уже столько времени держат здоровых, шекастых мальчишек постарше. И подраться они с Семеном были не дураки, но – со своими.
Когда отпустили, и побрел домой, мама набежала из-за кустов, схватила за плечи, прижимая. Ничего не сказала про вещи, лишь, когда скинул все, сложила в пакет – выбросить, увела в ванную, дала большое полотенце. После расспросов, целуя в мокрую щеку, тряхнула легонько, не отводя глаз от лица:
– Эх, вы, герои! Скрипачи, малышни испугались…
Он опустил голову, щеки заливал жар, щипало в носу. А мама вдруг сказала:
– Слушай внимательно. Они маленькие, но хорьки. Злости в них столько, что вам против них не устоять. Хищники бывают и мелкие, а ты не хищник и не трус. Просто ты с такими не умеешь. Это не плохо, Викчи. Это просто так есть. А то во дворе вы уже все поубивали бы друг друга. Но заявление в милицию напишем, потому что одежда – твоя.
…И забыл бы давно, но чувство омерзения от чужого, претендующего на твое, въелось. В степи с Карпатым и Жукой также было, только они уже не хорьки, – волки. Там с ними Лада справилась, если честно вспоминать. А сам Виться не смог. Несколько раз хотел, но оказался слабее. Потому что сам не хорек и не волк, если мама была права тогда, в детстве.
Сейчас вот, снова омерзение и беспомощность. Он что, слабее даже Сеницкого? Получается, с этим гадом драться надо его методами, нагадить исподтишка, укусить, подставить. Тинка поможет, наверняка знает как.
И при чем здесь, бляха-муха, этот засранец кот?
Совсем закоченев, Витька побрел в комнату, завернулся в холодное одеяло. Уставился на чуть белеющий в темноте компьютер. Сна ни в одном глазу. Мыслей – нет. И разозлился на Сеницкого так, что заскрипели зубы. Скотина гламурная! Подхваченный волной ненависти, понесся куда-то, чувствуя, как наливаются силой, расправляются мышцы, эй-го!, только попадись, сука, думаешь, на малыша напал? Я, паря, не хуй собачий, Карпатого за просто так не обидишь, жалеть не ты уже будешь, а родственнички твои, кто останется. Девки останутся, да, девки, они всегда за пидарасов своих расплатиться могут, пока молодые да видные. Я тя даже не убью, наволочь ты паскудная, хуесос в пиджачке, ты у меня ботинки вылизывать каждый день будешь, до блеска, когда я в этих ботинках девок твоих ебать буду, есть сестра у тебя, а, малышок? Хорошо бы есть…
Уже не понимая, кто он, Витька летел в черной пустоте тараном, замызганной шпалой, пахнущей креозотом. Сжимал пальцы клешней на появившемся ниоткуда гладком плече. Эх! Все, суки, все подо мной будете! Гладенькие, смирные, ласковые. Вспомнил, как мать отбирала у отца початую бутылку, уронила, и тот, вскулив, рванулся – за волосы ее, об стол, но отпустил тут же, пал на колени и, дрожа руками, поднимал с пола, ковшиком совал ладонь под горлышко и, торопясь, пока бегут быстрые капли сквозь пальцы, хлебал с руки… Мать выла, падая рядом, совала свой стакан, гнула в него, разбрызгивая, струю с острым запахом сивухи. Водки должно быть много. Много! И всего должно быть много, с запасом, но только себе.
– Поняла, тварь? – втиснул пальцы в гладкую мякоть плеча, развернул к себе лицом. Смотрел в пролетающих темных всполохах на удлиненные глаза, на высокие скулы… Тряхнул с наслаждением, видя, как дернулась голова, улетели за спину длинные гладкие волосы, забились шелком о его руку.
– Куда я захочу, туда и летишь!
– Захочешь, – губы не двинулись, лишь сверкнули глаза, и вслед за волосами унес черный ветер за спину:
– Ш-ш-ш…
Полет убыстрялся, ветер пролетал мимо ушей, не успевая. Запрокинул лицо и расхохотался, увлеченный пониманием. Смех рвался кусками, за спину, за спину…
– Я! Все! Могу!..
– Можешь… Ш-ш-ш…
– А с тобой – еще больше! Всех больше! Йэ-эххх!
– Больш-ше…
Протянул другую руку, мазнул по светлому в темноте лицу, нащупал шею, спустился к груди. Вот и еще одна сука. Даром, что змея. Все, все – одним миром мазаны, все они змеи. Сколько их было! Разных. И взрослые совсем, с душком, только искали – покрепче, с изворотом. И дурочки молоденькие, там легко – про режиссера модного скажешь, про книжку модную, и готово. Мордочку снизу, ах, Юрочка! И губки потом дрожат, глазки тоскливые, без понимания – как это меня, такую всю нежную, а главное, хорошую такую, влюбленную, и – на троих, «закуской» к дорогому коньяку, в ее богатой хате…
Эта вот только, последняя. С круглыми глазами. Что убила его, тварюга мелкая. Вроде никакая поблядушка, и не свежак давно, с пузом ходила, выкидыш какой-то, развелась. Что не так пошло? Почему она стала последняя? И – убила? Его? Карпатого?
Ветер уже не свистел, а трубил, впиваясь под манжеты куртки, протыкая одежду спицами скорости. И темные глаза рядом, волосы вверх над головой черным пламенем. Мерзли колени, от щиколоток к ним – холод, снизу.
Падаем?
– Ты! – вцепился в предплечья, затряс, закричал, открывая рот и плюя словами сквозь темный воздушный кляп:
– Я падаю? Не лечу? Сука, гадина, змея паршивая!
– Падаешшь… летишшь… – шея девушки растягивалась, руки и плечи ускользали из пальцев. Схватился за талию, сдавил. В голове мысли сдувало от одного края к другому. Ведь я – здесь! Живой! Почему тогда – убила? Меня?
Талия становилась все тоньше, пальцы рук соприкоснулись. Струясь по ладоням, скользила, скользила, оставаясь выше, оставляя одного в черной пустоте.
Но ему не страшно. Пусть один. Зато знает, помнит, еще, когда Витькой был, – вниз так же бесконечно можно, как и вверх. Он сильный, и ее удержит. Стиснул, хрипя, сильнее, продавливая сухую кожу длинного тулова. Поймал! Держу!
– Держу!
Уставился больно раскрытыми глазами в смутную белизну монитора на далеком столе. Плечи сводило от напряжения, локти закаменели, пальцы крючило перед собой в темноте.
Стихал звон батареи…
«Кричал, сон, кошмар», вскинуто подумал Витька, попытался облизать губы шершавым языком, скривился. И, расслабив руки, ахнул, когда отпущенное напряжением мышц нечто заструилось по сбитому одеялу, гладя горячую кожу, тяжело оттягивая плечи, тычась в лицо сухой гладкой мордой. Задвигал ногами, отпихивая, путаясь в одеяле. Пугаясь крепкого захлеста чужой плоти на щиколотке, попытался сесть.
– Тише, тишше… – около уха успокаивающе проговорило, потерлось легонько и улеглось на груди. Замерло…
Сидел с напряженной спиной, боялся пошевелиться. Только там, где чувствовал плоть, напрягал тихо-тихо мышцы, убедиться, что не ушло, не исчезло. Убеждался – есть, и расслаблялся, боясь, что почувствует тварь…
– Не тварь. С-сам захотел… – точками, точками прикосновение снизу к подбородку, к шее. Понял, языком раздвоенным трогает:
– И получишшь… Все, что хочешшь. Если желание сильно…
– Это не я, – голосом, мало отличавшимся от змеиного шипа. Вспомнил, что в кухне, на подоконнике за шторой – позабытая коробка сока. Глотнуть бы… Хочется нестерпимо.
– Ты, это, полежишь, может? Я – в кухню. И вернусь… – в голове сразу забились мысли, где ключи-то, и куртка там есть, в прихожке, а брюки, да хер с ними, с брюками…
– Не снимешшь, – мягкие касания по шее, – срослись… чассть тебя…
Посидел еще, думая потихоньку.
– Ну, если часть… – встал. Покачнулся, подхватил рукой тяжелые кольца. Нашел равновесие и пошел, шлепая босыми ногами. В прихожей протянув свободную руку, щелкнул выключателем. Стоя перед зеркалом, отодвинул наехавшую на отражение старую дубленку, примял торчащий рукав. Змея оторвала голову от его плеча, смотрела в зеркало тоже.
– Ты… большая…
– Выдержишшь…
Вздохнул, поднимая грудь, глядя, как пробегает по расписной коже блик от неяркой лампы.
– Да уж. Куда теперь. Сам захотел. Ты это… пить хочешь? Или – поесть?
– Сам. Я – не сейчас. С-с-с…
– Ну, как знаешь. Устал я.
– Попей и сспи. Не спрашивай, потом вопросы. И их тоже – сам…
Через десять минут Витька засыпал, поворачиваясь во сне, чтоб змее было удобнее устроиться на коже, врасти, спуститься ниже, по бедру, на колено и щиколотку. Уплывая, подумал мягкими сонными мыслями, что завтра начнется завтра, а тут еще Карпатый, паршиво, конечно, ведь Лада убила его, а он вдруг вернулся… Встрепенулся, уколотый в темя: убила – для себя? Не для всех? Или что? Но уронил голову, не додумав.
Узкий луч ночного света падал на горячую кожу, освещая продолговатую голову с неспящими темными глазами, прилегшую на косточке над бедром.
Глава 29
Солнце висело над линиями крыш мерзлым кружочком лимона. Несвежий снег пытался блестеть, посверкивал незатоптанными участками. От ларечка с шаурмой доносились осколки запахов. Казалось, мороз разбивал горячие ароматы жареного мяса и лука на длинные куски, как ломаное камнем стекло. Большая собака с комками ватной шерсти на спине и боках стояла у киоска, держала жаркую булку влажного дыхания в раскрытой пасти.
Витька ждал, машинально притопывая ногой – пока не мерз. Под брюками и свитером мягкое тепло опоясывало тело. До косточек над правым бедром.
Надо бы думать о том, что сейчас прибежит Степан, и они пойдут в просторные залы манежа, смотреть на украденные идеи. Бесплотные оцифрованные у Витьки, и воплощенные в картон и глянец, в крикливые рекламные буклеты – у Ники Сеницкого. Но думал о змеях. О жаркой влажности джунглей, где каждое дерево – живое тело. Где звери будто вырастают из этих деревьев и лиан, отрываются, с чавканьем и древесной зеленой кровью, – провести жизнь, поглощая живое и снова вернуться к корням, – влиться кровью гниения снова в древесные стволы и мясистые листья. Думал о шуме тропического леса, напоминающем ток крови.
А потом думал о рыжем коте и глазах его, снова и снова. Дышал залипающим на морозе носом, щурил слезящиеся от недосыпа глаза. Радовался, что Степка опаздывает.
Это началось утром, когда бежал к метро. Часто скрипя тяжелыми ботинками, обгоняя упакованных в серое и черное пешеходов, прятал руки в карманы. Одной сжимал перчатки в теплой глубине куртки. Люди торопились, толкали неподвижными локтями, поворачивались друг к другу всем корпусом, переговариваясь. Выдували из носов и ртов белые комки дыхания.
Слева за дорогой, среди длинных застывших домов, торчала черная щетка парка. От бегущей под ноги зализанной белизны подташнивало, и Витька отрывал взгляд, искал, куда смотреть. Никуда не хотелось. Серо-бело-черно-грязно…
И вдруг, плавно, сверху, тончайшей кисеей пришло что-то. Накрыло голову, без всякого труда преодолело косматую ушанку из жучки и закоченелую плащевку куртки. И пошло растворяться в крови, постукивая и покалывая изнутри кожу. Закружилась голова. Витька, на ходу, не замедляясь, слушал то, что внутри. Внутри был хмель, легкий и пузырчатый, скатывался в кончики пальцев, щипал в холодном носу.
Мир вокруг расслоился на тонкие прозрачные пластины, слюдяные чешуи, без цвета и особого смысла. Ждал кадров, вот увидит сейчас, как тогда, в первый раз осенью и после. Но не было. Уныло торчала щетка деревьев, совался под ноги скучный зализанный снег, проскакивали неопрятные машины, плюясь из-под колес грязью. Не аттрактивно, сказал бы Степан. Нет кадров. Не удивить никого, заключив в рамки любой кусок окружающего сейчас Витьку мира. Который продолжал расслаиваться, показывая, что – сложен, неоднороден. Пустые плоскости, не забирая с мест предметы, перестраивались, тасовались огромными картами, улетали в небо, ложились поверх старых сугробов, скатывались с них одним краем, и по их невидимым трамплинам к верхушкам деревьев ускальзывали толстые голуби. И казалось, крыльями хлопают лишь для того, чтоб не съехать обратно по слюдяному катку в снег.
Витька мерно бежал, напрягал мышцы бедер и плеч, думая мельком, что змея его спит, покачиваясь в такт ходьбы. А тонкое все приходило из пустого неба, раз за разом накрывая и впитываясь. Вспомнил о кисейных цветных покрывалах, что сбрасывали женщины в танце змей, – они держались в разгоряченном воздухе, не падая. Такие легкие, что для парения им хватало тепла человеческих тел и движения воздуха, вызванного танцем.
На бегу поднимал лицо и закрытыми веками чувствовал легчайшие прикосновения, подобные тихому солнечному теплу. Но солнце, лишь чуть поднявшись, висело за спиной на шоссе, уходящем за горизонт, и тыкало в спину замороженным взглядом. Затаивая дыхание, переставал выдыхать клубочки горячего пара. И, дождавшись очередного прикосновения к губам, втягивал ртом воздух с нитями тепла, вплетенными в стеклянные волокна мороза.
Думал о Сеницком, о неприятностях… Кисея падала, прикасалась, входила. Пузырьки бродили в голове, делая ее пустой и легкой, звенящей. Вдруг вспомнил о смерти бабушки. О горе своем, что так и не прошло никогда, потому старался вспоминать как можно реже. Тогда впервые мир для него полностью сместился и долго потом вставал обратно. С болью. А сейчас без всякой грусти, смерть вспомнилась хмелем наслаждения. Громадность бывшего несчастья пьянила. Он ведь тогда маму, занятую устройством личной жизни, видел редко и бабушка была за нее. И тогда, на похоронах, когда пришло настоящее горе, помнится, даже облегчение испытал. До этого боялся, что черств излишне, когда с пристойным выражением лица узнавал о смертях родственников дальних и довольно близких знакомых, почти и не чувствуя боли. Но облегчение после поцелуя бабушкиного мертвого лба обернулось болью длинной и настолько настоящей, что временами слеп и глох, не желая мириться с миром, продолжающим жить. А тут, отталкиваясь подошвами от мерзлого тротуара, рассматривал невидимое прежде строение мира и немного понимал о месте смерти в нем. Коснувшись его, эти мысли ушли, и Витька знал, что не навсегда. Вернутся.
В метро ехал со слухом и зрением столь обостренным, что казалось, ножом аккуратно снялась кожура с поверхности лица, отрезав ушные раковины. Наслаждался, пьянел от бившего в глаза, врывающегося в уши…
И сейчас, топая по жесткому снегу тяжелым ботинком, дыша спокойно, продолжал слушать внутренний хмель, что все слабее, слабее. Уходил, но, не выветриваясь, насыщал кровь еще чем-то, оставаясь внутри, располагаясь.
Степан спешил, расталкивая неповоротливых прохожих. Дыхание разбивалось на две струи и, подсвеченное солнцем, делало его похожим на рыбу сома в обледенелом аквариуме. За ним торопился квелый молодой человек в обширной куртке над тощими джинсовыми ногами и, приотстав, плыла роскошная девица в шубке-автоледи, не прикрывающей обтянутой черными лосинами кругленькой попы. Глядя на иней, обсевший темные пряди волос, на яркую эскимосскую сумку через плечо, Витька задался вопросом, как можно сохранять круглость попы при столь микроскопических размерах ее? Ну, чисто тростиночка, ей-ей, а попа – кругла. И щеки…
Мысленно плюнул, озлясь на незначительность мыслей.
– Так! Так-так! – заплясал вокруг Степан. Спутники его остановились поодаль, глядели с интересом.
– Шапку – нафиг, – сбил с Витькиной головы уютную жучку и шмякнул ее в стоящий колом пакет, – так и знал, вырядишься не по теме. На вот, обвяжи.
Достал из того же пакета черную, в надписях и пацификах бандану, сунул Витьке в руки. Следом извлек потрепанную бейсболку.
– Степ…
– Вяжи, давай! Мы же под прикрытием, е-мое! Это вот Пашик, он из молодежной газетки, патипа, редактор. Пашик, как дейлиньюс твоя называется?
– «Антикультура», – тонким голосом сказал Пашик и нервно добавил:
– Я не патипа, я – редактор.
– Ага-ага, не переживай. Главное, щас бейджи навесим и чудненько, молодежная газетка, интервью у мастера мэйнстрима и бла-бла… А это Лидочка наша, красавица Лидочка. На машинке нас подбросила. И обратно повезет. Если что…
– Если что что? – Витька негнущимися пальцами затягивал на затылке узел банданы. Лидочка старательно по-королевски улыбнулась, кивнула величественно и тут же, полуоткрыв вишневый ротик, жадно уставилась на Степана и Витьку. Витька радостно наблюдал, как, вспугнутая было стараниями красавицы, тишком вернулась на личико рязанская крепкая щекастость и даже нос как бы на глазах закурносился.
Степка нахлобучил поверх банданы бейсболку, покрутил, повернул козырьком назад и отступил, любуясь.
– Как это, если что? Думаешь, когда раскусят, церемониться с нами будут?
Витька слегка растерялся. В коротких мыслях о том, что им предстоит сделать, иногда мелькавшим среди непонятных новых ощущений, он видел устыдившегося красного Сеницкого под укоризненными взглядами окружающих, и себя – гордого, обиженного страдальца. А сейчас в голове заворочались слова Наташи, про железяку, которой могут в подворотне по затылку. Неужто может быть такое?
– Значит так, – Степан глянул на часы, замахал рукой на спутников, подзывая:
– Заходим вместе. Лидуша последняя. У Пашика фотокамера. Ты – ассистент.
– Из Джанкоя опять…
– Без разницы. Тебя еще для глянца не снимали, морда не замылена. В бейсболке и не узнают. Побегаем по залу, ах-ах, договаривались на три часа, время поджимает. Так и быть, пока глянем экспозицию, сделаем общие планы…
– Ага, особенно Сеницкий не узнает меня в этом козырьке.
– Плохо слушаешь. Сеницкого Тинка придерживает в офисе. Он и не знает, про интервью, это ж легенда, балда! Для тех, кого там встретим!
– Джеймс Бонд, однако, – Витька пошел за быстро шагающим Степаном. Пашик устремился следом, попадая под локоть. Лидуша, не отводя восхищенного взгляда от Степкиной спины, замыкала процессию.
В гулком вестибюле, ожидая, пока Степан разобъяснит все вахтеру, Витька стоял подавшись вперед, к внутренностям здания, как бегун на старте. Услышав шаги товарищей, сразу двинулся, в залы. Стараясь не бежать, поднялся по лестнице на второй уровень. И застыл в центре, медленно поворачиваясь, отшвыривая взглядом висящие в простенках меж снимками рекламные плакаты. Узнавал, перемешивая внутри брезгливость с удивлением, свои сюжеты, да почти все. Подошел медленно к большому снимку. Захламленный едой и стаканами стол, двое бандитов за ним, театрально свирепых, стоящая в центре кадра девушка с длинными волосами, заслонившими лицо, режет рыбу, сырую. Вспоротый живот, белесый комок плавательного пузыря, раскрытая пасть со щеточкой мелких зубов, кровавые кишки по столу среди глянцевых магазинных упаковочек. Услышал, как восхищенно ахнули сзади. Обернулся. Лидуша, прижав к высокой груди кулачки, ела глазами фото. Наткнувшись на его взгляд, смущенно захлопала приклеенными ресницами и отвернулась. Метнув напоследок взгляд на поразившую ее картинку. Под высоким потолком бился ласточкой голос Степана, – фальшиво и бодро что-то втирал двум мягким теткам в самовязанных шалях. Тетки внимали. Металась по пустоте зала, не наполняя его, фамилия – Сеницкий, Сеницкому, да, ах, Сеницкий, как, вы не…, о Сеницком…
Из дальних комнат выпадал и раскатывался по натертому полу стук молотков и шаги рабочих.
Не слушая тонкого голоса Пашика, который пытался играть начальника, звал, робко распоряжаясь, Витька пошел вдоль стены. Смотрел. Пока не думал, не мог собрать разбежавшиеся мысли. Вбирал, вбрасывал в себя растерянно.
– Слушай, – Степка подтолкнул его под локоть, задышал шумно, подстраиваясь под шаг, – блин, я думал, будет полная херня. А он ничего, паскудник. Ну, не обижайся, ты ж лучше все равно, но как сделал, а? На чужом-то? Скотина!
Последнее проговорил с восхищением и смялся, кашлянул. Шел дальше молча.
Так, в молчании, обошли зал, все рассмотрели. Пашика, что сунулся спросить, может, поснимать выставку-то, Степка отогнал шепотом. Редактор надулся и, помолчав, сообщил:
– Но я все-таки сниму. Для газеты.
И пошел кружить по залу, примериваясь, становясь сбоку, чтоб вспышка не бликовала по глянцу развешанных фото.
Рыжий кот с зелеными глазами снова пришел в голову Витьки. Запрыгнул, помял по мозгам лапами, плюхнулся и заурчал, сторожа одно ухо на дребезжание стекол, когда снаружи ехали машины, и взглядывая иногда щелочкой ленивого глаза.
Стояли снова у первого снимка. Молчали. Степан посматривал то на Витьку, то на Пашика с Лидушей. Оставшись без присмотра, они кружили по гладкому полу, подбегали к развешанным снимкам, хватая друг друга за рукава, тащили к понравившимся. Изредка взглядывали на стоящих друзей и отворачивались, не подходя близко.
Неслышно пришла мягкая тетка, встала у распахнутой двери, сложив на темном квадратном сарафане круглые руки в ажурных кружевах:
– Дальше будете смотреть? Там его же работы, только тема другая.
– Собачки и кошечки? – предположил Степка.
– Почему же? – тетка оскорбленно повела плечами, ерзнув по дверному косяку шалью с помпонами, – очень глубокие снимки, полные философского смысла. Заставляют думать о высоких материях.
И, посторонившись, пропуская, уколола спины входящих:
– Не каждый так умеет, знаете ли, не каждый. Сейчас только и снимают – барышень вот таких. Одежды только поменьше…
Дважды осмотрели коллекцию строгих храмов в чистом поле, смеющихся девочек на залитых солнцем верандах – с обязательным персиком-яблочком в маленьких пальчиках, согбенных бабулек и дедулек с мировой скорбью на морщинистых ликах, радостных невест на фоне бьющих в синее небо фонтанов, плачущих женщин горячих точек с искаженными страданием лицами…
Тетка все так же, прислонясь к косяку, сложив толстые руки, глядела с высокомерным презрением победителя. Радовалась – подавлены мастерством.
– Ну, скажешь что? – осторожно спросил Степан, – или потом? Подумаешь когда?
– Курить хочу, Степ.
– Вниз по лестнице курилка, – сообщила смотрительница, – только, пожалуйста, аккуратнее там.
– Ага, – бурчал Степка, спускаясь узенькой лестничкой к жестянке на подоконнике, – оргию устроим, как и положено репортерам андаграунда.
Дым пластался по холодному стеклу, невкусно першило в горле. Узкое окошко скучно показывало все тот же несвежий в наплывающих сумерках снег, тех же черных и серых прохожих.
– Степыч…
– М-м?
– Помнишь журнал, что я привез от Альехо?
– Полистал, да.
– На развороте, помнишь снимок? Старуха с котом большим?
– Рыжим таким? Помню, конечно. Хороший снимок. Простенький, но хороший, очень. И глазищи у кота – зеленые такие.
Витька вжал в кривую жестянку недокуренную сигарету. Давил пальцами, в такт словам убивая тонкий дымок:
– Фотка эта, мин херц. Черно-белая. Да. Кот на ней – серый. Да. И цвет глаз его ты не мог определить. Вот. Так. То.
Дымок завился почти невидимой ниточкой, коснулся стекла и умер на нем.
– Да ну? Врешь!
Степкин окурок полетел в банку.
– Но если так, то – да. Высшее мастерство… Умеет, чертяка старый…
– Так вот, Степ. Я умею тоже. Могу из этого зальчика, где Сеницкий свои шедевры выставил, не у меня украденные, а из журнальчиков надерганные, да из сети, – каждый снимок взять. Каждый, понимаешь? И из каждого сделать такой шедевр, что у тебя ноги будут подгибаться!
Из зала по ступенькам к ним скатывались чириканье Лидочки, ломкий писк Пашика, певучая воркотня теток.
– Н-ну…
– Не веришь?
– Витяй, я не то, что не верю. А как-то это странно. Про себя вот так говорить. Ты сделай сперва, может. Ну, не знаю.
Степка вздохнул и набычился, глядя в окно.
– Сделаю.
– Ну, хорошо. А что с козлом этим делать будем?
– А ничего.
Степан оторвал глаза от скользкого стекла. Раскинул в стороны коротковатые руки:
– Как ничего? Что же он, скотина, так и будет? Выедет – на твоем? А справедливость?
Витька засмеялся. Потер ладонью бедро, залез рукой под свитер и погладил теплую кожу. Задержал пальцы на выпуклости змеиной головы. Говорил мягко, выпевая слова в такт невидной снаружи ласке:
– Пу-усть пода-арком ему на новый год. Пу-усть. Он мной никогда не станет. А я еще буду снимать. Буду и буду. Лучше и лучше! Да!
– Ты че, брат, под кайфом сегодня? – рыжий смотрел на странное Витькино лицо, полузакрытые глаза, – когда успел, блин?
– Я теперь всегда под кайфом буду, Степ, – обхватил рукой голову друга, притиснул локтем к свитеру на груди, сказал в лохматую макушку:
– Несе-е-от меня лиса за дальние леса-а-а… Несет меня, Степка…
– Да пошел ты! – отбрыкавшись, Степка вывернулся из-под руки, пригладил вихры:
– Совсем свихнулся, бля! Так че? По домам, что ли?
– Ага! Хватит, наигрались в шпионов.
– Снова думать будешь?
– О, йессс…
Быстро входя в большой зал, Витька мельком глянул на свои-чужие снимки по стенам. Улыбнулся Лидочке. Та расцвела, заиграла темными глазками. Подошел к Пашику, встал рядом, всем видом показывая – ждет указаний. Редактор смутился, замямлил что-то отрепетированное и непригодившееся: о времени, общих планах съемки. Ублаготворенные тетки ворковали, кивая, гордились выставкой и, несомненно, очаровательным к ним мастером Ники Сеницким. Милостиво поглядывали на Лидушу и Пашика – неофитов-соратников.
А Витька уже топтался нетерпеливо, ожидая, когда можно будет, попрощавшись, уйти. Не зная еще куда, просто кружить по морозным улицам, ехать в подземке, выходить, где вздумается. Смотреть на углубленное в себя темно-синее небо со следочками желтых фонарей на подоле. Смотреть, смотреть, есть глазами, насыщаться, чтоб потом, дома, свернувшись клубком на смятой постели, все переварить. Лежать неподвижно, наплевав на дела и назначенные встречи. А от шефини Степка отмажет. Все одно – длинные праздники, суета, никто не работает и ничего про других не знает.
Переварить… Как змея…
Толкнул Степку плечом, потянул за рукав. Тот прервался на полуслове, скомкал цветистую тираду из комплиментов выставке, мастеру, удивительному уму и глазу поклонниц его. Тетки синхронно, в такт словам, качали согласно прическами, сверкая вычурными серьгами из недорогого камня.
Пошли к выходу, топча тяжелыми подошвами гулкие звуки. Лидуша, звеня автомобильными ключами, вырвалась вперед, расправила плечики. Играла обтянутой трикотажем попой. Иногда оглядывалась и, не зная, кого предпочесть, одаривала томным взглядом то Витьку, то рыжего Степана. Невостребованный Пашик грустно вздыхал в сторону.
Подходя к лестнице, увидели, – навстречу, вырастая головами, плечами, двигалась группа мужчин. Первым шел Ники Сеницкий. Обворожительно улыбаясь, зацепил быстрыми глазами камеру в руках Пашика, растаял дежурно в сторону Лидочки. И застыл на верхней ступеньке напротив Степана и Витьки.
Глава 30
В детстве, и позже, Витьку часто занимал вопрос, как это – увидеть в глазах? Злость или боль, разочарование, любовь… В книгах писано так. Но глаза, одни глаза без выражения лица, без складки на лбу, движения губ, поворота головы? Он раскладывал на коленках большой альбом с репродукциями портретов, пальцами прикрывал нарисованные лица, вглядывался в нарисованные взгляды. Был неуверен, пожимал плечами и вздыхал. Внимательно смотрел, как бабушка, гремя кастрюлей, хмурится после телефонного разговора с мамой, поджимает губы, смотрел на брови домиком, морщинку возле рта, когда подкладывала ему на тарелку еще кусочек тушеного мяса, отрезав от своей порции, и садилась напротив, глядела, как сначала отказываясь, ест. Пытался видеть только глаза… Став постарше, решил, что все это художественные преувеличения, махнул рукой, постановив стать проще и не заморачиваться.
Сейчас стоял, глядя в темноту Никиных глаз, как сидел в черном зале кинотеатра, даже увлекся. Блеск из них, размываясь, ушел в глубину. Вычеркнулась оттуда Лидочка. Расширились зрачки. И заметались через мгновение, настороженно прыгая с Витькиного лица на Степана. Поплыли, как бы меняя форму. Зачарованный, Витька думал, вот оно, то что лишь в глазах. А потом темнота затвердела, пыхнула ненавистью, да так и осталась – двумя матовыми агатами в перстнях-печатках, что носят короткошеие молодчики на толстых пальцах.
Смотря шире, отлипая от жесткой поверхности Никиных глаз, Витька увидел, – побелели тонкие пальцы на лаковой барсетке, вжали ее в изящный пиджачок. Плечо дернулось нервно в сторону стоящего позади крепкого молчуна, стриженого ежиком. Ноги в узких туфлях переступили раз, другой, маленький полушажочек назад на той же ступеньке, и нехотя подтащилась одна нога к другой, замерла.
Молчун придвинулся, сбоку перекрыл надувным плечом Сеницкого, застыл, как перед броском…
Секунды… И опять, как тогда в квартире у Витьки – кто начнет первым?
– Боже мой! Вы – Ники!
Начала Лидочка, сделав, наконец, выбор. Звякнули ключики, когда всплеснула руками. Разрывая невидимые связи, вклинилась между противниками, взмахивая перед лицом Витьки кольцами темных длинных волос.
– Я в восторге, знаете! Вы! Вы! Никогда не видела такого! Это, это…
Стала совать в руки Сеницкому вишневый буклет, раскрывала, тыкала красным ногтем в пустое место под снимком на развороте – подписать.
Ники, отскакивая глазами от лица Виктора и снова настороженно возвращаясь, буклетик подписал. Кривил губы в дежурной улыбке, дергал головой в такт Лидочкиным словам. Девушка продолжала по-лошадиному взмахивать гривкой, и все держала узкое плечико чуть назад, на Витьку, как бы защищая от него диалог. Витька через плечо смотрел на Сеницкого. Без эмоций. Просто смотрел.
Ники ежился, кивая и растягивая губы в улыбке. Пашик из-за Степиного локтя пискнул что-то про интервью.
Ситуация раздувалась нелепым воздушным шариком, на котором картинка веселая и привычная, от избытка задутых внутрь нерешенных длинных секунд перекосилась и поползла в сторону жути, закорявилась, истончилась угрожающе.
Первым не выдержал Ники. Отведя рукой Лидушу, подался вперед, глядя с ненавистью на выше стоящего Витьку:
– Чего? Что вам здесь?
– Интервью, – пискнул вновь не услышанный Пашик.
Витька вытянул руку вперед, уперся ладонью в невидимое стекло между ними:
– Посмотреть пришли. Уже уходим. С Новым годом, мастер Ники Сеницкий.
И повернулся к молчавшему настороженно Степану:
– Пойдем, времени мало. Опоздаю на поезд.
Подтолкнул друга под локоть и, обходя Сеницкого, ступил на его ступеньку. Рядом.
Ники развернулся к нему, держа в дрожащих лапках барсетку. И Витьку повело от головокружения, так несоответствовали друг другу сбитое в кисель страхом небольшое Никино тело в приталенном пиджачке, узких брюках с модными финтифлюшками и выжженные ненавистью твердые глаза. Спутники Сеницкого мгновенно перестроились, напряглись.
«Балет какой-то», мельком подумал Витька. Но стало интересно. Ненависть Ники завораживала внезапной силой. Будто из тощенького тела высосали все, что можно и собрали в смертельных пуговицах глаз.
– Поезд? – кликнул Ники и эхо от высоко потолка вернулось, стукнуло в уши, – поезд! Какой, бля, поезд у тебя! Если я…
– Ники, я уезжаю. Мать звонила. Буду у нее, потом поеду дальше. Ты не волнуйся, там даже интернета нет. Море и песок. Ветер.
Степан шумно вздохнул.
– Вернусь через месяц, не раньше. Пока.
Он шагнул ниже. Еще ступенька. Услышал за спиной шаги Степки. Еще одна ступенька…
– А я?
Обернулся и посмотрел на группу, оставшуюся наверху. Ники и трое молчащих, два – мускулистые, стриженые и один худощавый, похожий на Сеницкого пиджачком, но прическа кукольнее и глаза подведены. За ними – Лидочка. Снова зацепился за взгляд Сеницкого. И снова очень захотел домой, свернуться, пропустить через пальцы памяти все вновь увиденные картинки, детали, плавно, одну за другой, монетками складывая в голову, думать, поворачивать, смотреть, снова думать. Обогащаться. Переваривать… Улыбнулся. Почувствовал, как шевельнулась под свитером горячая голова, точками, точками касаясь чуткой кожи. Бешено веселясь где-то внутри, прикинул, а есть ли такие, что балуются со своими змеями – по-другому? Мастера эротических штучек, иссушающего порно… И это можно обдумать…
– Ты? А ты уж – сам. Как-нибудь. Справишься, Ники.
Быстро пошел вниз, стараясь идти ровно, чтоб не расплескать полученное сегодня, укладывая в голове цветные звенья цепи: серо-белые утренние картинки, звуки и запахи, и глаза, дыхание, выражения лиц, которые вот только что… Держал последнее звено разомкнутым, стремился на улицу, где жизнь вьет свою цепь дальше. То что внутри, казалось пустой бездной, ждущей этой еды – наполнить.
На самом выходе, обрезаясь о лезвия сквозняков из открываемой двери, немного потолкались, пытаясь то выйти вместе, а после, очевидно, чтоб не подумали – убегают, все пропускали друг друга… Пашик вывалился первым в холодную черноту, убежал под фонарь и, свесив голову, копался в сумке, укладывая камеру. За ним вышел Степан и ждал, придержав дверь рукой в толстой вязаной перчатке.
А Витьку нагнал Сеницкий, взвизгнув на топочущих следом спутников, чтоб отстали. Схватил за руку, потянул на себя. Скользнув плечом по ледяному стеклу, Витька всмотрелся в летящее без мыслей Никино лицо. «Не одного меня – за дальние леса», – подумал. Успокаивающе махнул Степану через стекло.
Ники, вцепившись в рукав куртки, тянул и тянул, будто хотел обнять. И пришлось двигаться, наступать, потому что куртка уже поползла с плеч, резал шею сбившийся воротник.
Так и шли по темному просторному вестибюлю – Ники спиной вперед, и Витька, будто с угрозой на него наступая.
– Чего тебе? – спросил тихо.
– Я… я… ты!…
Дернул резко рукав, подтаскивая Витьку к самому лицу. И заговорил бессвязно, изнемогая, ища слов и замолкая от ненайденности:
– Ненавижу тебя! Ты… Ненавижу… Я…
Огромность ненависти тяжко ворочалась в нем, причиняя боль, разламывая сознание, пыталась вырваться.
– Ники, успокойся, – Витька потащил из скрюченных пальцев рукав, оглянулся на маячившего за стеклом Степку, на спутников Сеницкого, что загораживали собой стеклянную дверь.
– И всегда буду… – руку не убирал, мял, выворачивал пальцами ткань, как в детстве дети щиплют друг другу нежную мякоть под локтем.
– И что? Я и так ухожу! Чего еще?
Ники всхлипнул сухо, задышал, заметался глазами. Не знает, чего еще – прикинул Витька. Шея болела, свитер задрался, обнажая поясницу, куртка вздулась нелепым пузырем. Злость поднималась снизу, от паха, заполняла все, и мышцы напрягались – удержать, не дать рвануться наружу, разрывая кожу в лоскутья. Не сверху падало, как утром другое, прозрачное и невесомое, обостряя чувства, но так же растворялось в крови, толкало из-под ребер, теряя по дороге способность рассуждать, превращалось в ярость.
Задрожало мелко колено. Витька уперся ногами покрепче в пол. Спасаясь от темной ярости, резко оторвал от себя Никины руки:
– Пошшел ты… Пусти!
Но не успел, не справился. Да и не хотел уже. Глотая темное, слепое – тут же сам протянул руки навстречу обезумевшему Сеницкому:
– Что? Снова потрогать? Ах ты… Ну, давай! Давай, кролик.
Смеясь, изогнул спину, подбоченясь, подмигнул, дернув подбородком в сторону окаменевшего вьюноши с подведенными глазками:
– Изменишь мальчику? Иди ко мне, лапа, не пожалеешь…
Что-то в лице Ники попыталось возмутиться, но сползло за ухо, под воротник рубашки, спряталось без сил. Оставив лишь слепую жадность лианы, тянущейся к опоре – захлестнуть и прижаться, срастись, замереть, высасывая из жесткого кровь поддержки.
Витька рванул тонкое тело на себя, обхватил талию, притиснул бедра к своим. И зашептал в откинутое лицо, целя рядом с ухом, чтоб не забить слова дыханием. Всякий раз, когда губы его касались щеки, Ники вздрагивал и прижимался крепче.
– Хочешь покоя? Да? Со мной? Прижаться. Да? Меня, да?
Рука его разыскала край пиджачка. Тенькнула и ускакала по полу оторванная пуговица. Распахнулась шелковая рубашка. Ерзнув ребрами по беспорядочным складкам ткани, Витька ощутил, как часто и мелко бьется под горячей кожей Никино сердце. И плавно, не прерывая касания там, где задрался свитер, стал поворачиваться, прижимаясь к голому мужскому боку. Мелькнула непонятная мысль, что, ах, черт, во впадине как раз… И завершив движение, резко вжал Сеницкого в голую кожу над поясом джинсов, почти переломив его в талии. Отвлекая, одновременно задышал жарко в лицо:
– Говори, говори, говори! Да? Меня хочешь?
– Дда-а-а… – шепотом истаял Сеницкий, тяжелея и съезжая ниже на подламывающихся ногах.
Но все уже кончилось. Все, что для окружающих заняло не более десяти секунд и воспринялось, как невнятное шевеление и бормотание двоих, все, что заставило спутников Ники, пооглядывавшись, броситься к ним, и Степка уже, распахнув наново дверь, вбежал – кончилось.
Витька встряхнул противника. Скрутил в кулаке полы рубахи, держал за них.
– Все? Отошел? – и буднично сообщил подбежавшим, – приступ у него был, вроде сердце схватило. А вы там копаетесь, е-мое…
Свалил на руки молчунам вялое тело и потащил Степана к выходу. Позади вскрикивал жеманно и негодующе мальчик-дизайнер, бормотали что-то через перила сверху тетки, не успели увидеть, а спускаться и не хотели.
Лидочки на улице не было. Они пожали руку Пашику и пошли к метро. На входе Степан остановился:
– Ты сумасшедший, похоже. Я там испугался.
– За меня?
– За Сеницкого.
Люди обходили их, толкали, разворачивая, сужались, уплотняясь, и черной змеей вливались в желтое стекло высоких дверей. Степан помолчал. Помялся…
– Ты, это, ехай. Я тут еще…
– Ага, – сказал Витька, пихнул серьезного друга в плечо и пошел в поток. Подумал, что не только ему думать и переваривать…
Змея людей рассыпАлась комками, глоталась полым червем связки вагонов. Лязг, шум, стук и черные стекла. Невнятный голос на остановках. Обязательный гость столицы перед картой метро, болтаясь на поручне, вытягивает шею, с отчаянием глядя на цветные кружочки и ухом ловя радиокваканье из динамика…
Через пару часов, нагулявшись, Витька ехал домой, думая о насущном: остались пельмени в холодильнике, или яичницу сделать. Пережитое лежало пока что на дне сознания. Только взболтать.
Тесный двор спал. Тараканами пробегали в подъезды замерзшие жильцы, возвращаясь с работы. Витька с удовольствием посмотрел на свои окна. Сейчас он войдет и узкое кухонное окно засветится, пришел хозяин – сердце пустой квартиры, оживил…
Двое у подъезда не стали тратить время на киношную лабуду насчет прикурить. Первый же удар свалил Витьку на жесткий снег, протащил ухом по окуркам. Не в силах оторвать от холода гудящую голову, заскреб ногами по льду. Встать… или хотя бы отползти от столбов черных ног в ботинках с тускло блестящими окованными носами. Спорхнул блик с оковки. И стало горячо почкам…
Свернулся калачиком под резкое «а-ах» сверху – будто дрова собрались колоть, с оттяжкой, на выдохе. Перекатившись от удара на живот, зацарапал ногтями заледеневший снег. «Хорошо, без перчаток», сказалось гулко в пустой голове…
Уперся коленями и рванулся в сторону, в промежуток между фигурами. Смешной со стороны, удар подошвой в зад, сотряс тело, вмял челюсть в мерзлую кашу. Витька понял, лицо его – мягче, нежнее льда. О зубах не успел понять, задохнулся, и закашлял, отплевывая кровь вперемешку со снежным грязным крошевом. Голова спала, мозг болтался без мыслей внутри чугунной пустоты.
Поддев носком ботинка, один из напавших перевернул не обмякающее, напряженное еще от растерянности тело, почти без усилия, будто картонную коробку поддал.
И с двух сторон, почти одновременно, наступили подошвами на раскинутые не вовремя руки. Витька забился, топыря локти, пытаясь свернуть тело вбок, отчаянно не хотя лежать вот так – животом вверх. Но стояли мертво, как вросли. Во вмятых в жесткий снег ладонях бУхала кровь. Маячили белесые луны голов, перечеркнутые по краю зрения съехавшей на один глаз банданой.
«Плохо, без перчаток», сказалось гулко в пустой голове…
Дома, сгрудившись вокруг тесного дворика, росли, вставали на цыпочки, тянули резиновые шеи с черточками водосточных труб, клонили верхние этажи через черные плечи двоих напавших, – заглянуть в лицо Витьке желтыми и красными квадратными глазами. Небо над чернотой низкого вечера было высоким, пронзительно темно-синим, углубленным в себя.
Мозг ворочался, искал неушибленное место, прилечь, заснуть, ну его все, пусть с телом делают, что хотят. Но болело везде: виски, ухо, лоб, потому закружилась голова и дома послушно завертелись, размахивая балконами и окошками. Как дядька не выпадет, – удивился Витька, глядя на тускнеющий вдалеке огонек папиросы. Но веки уже закрывались…
Новый блик прошел сквозь ресницы, резанул по глазу и за ним – по мозгу. Увидел – будто светлая ранка открылась на черном силуэте, вдоль, узко. Нож? Сон слетел, обморок остановился. Витька сцепил зубы, запрокинул лицо, рывком выгнулся, чувствуя, как мороз трогает коготками голый живот под сбившимся снова свитером и курткой и наваливается на него смертный ужас. Но вдруг расслабился, вытянувшись, свернул сознание внутрь, закрыл спокойно глаза. Вспомнил, как Ладе кричал, остановив ее, когда надо бы – бежать, спасаться, не рассуждать. Чтоб забыла все и подумала о другом, о том, что важнее. О самом важном. И чтоб поверила.. Сейчас некому кричать на него, валяющегося на заплеванной ледяной корке, некому командовать. Только сам. Бедная девочка. Сам вот теперь так же. А нелегко смести в угол сознания визги страха, распрямиться.
«Поверю – полечу!» – затрепетало радостно в голове. Ведь было уже! Он вытянулся внутри, напрягся, страстно желая – поверить!
И смялся, упал внутри, продолжая лежать… Не полетел…
Вот оно как… бывает. Бедная, значит, девочка? Помог, пожалел. Она, значит, смогла, а я, валяйся тут, и никто, ни одна падла… никто не поможет. Сучка паршивая…
Задвигалось горячее по голому животу, смещаясь, открывая кожу холоду. Проснулась и подняла голову, покачивая по-змеиному, растворившаяся в крови бешеная ярость.
– Ах вы, ссуки, – жесткие губы шевелились с трудом, царапались друг об друга, – Карпатого нахрапом взять? Да я вас! С-с-с-с…
И увидел, как поблескивающим бревном, неощутимо в общей боли отрываясь, замерцало черными, бронзовыми, зелеными бликами, двинулось плавно от него, захлестнуло стоящие ноги-колонны под коленями, рвануло, переламывая. Еле успел откатиться, оттолкнувшись освобожденной рукой, когда, хекнув, тяжело свалилось рядом большое тело. Сворачиваясь клубком, изо всех сил ударился плечами в другого, что все еще стоял на другой руке, выдернул ее, обоженную ссадинами и льдом. Вскочил, расставляя дрожащие ноги, подхватывая на локоть тяжелые кольца. И, качаясь, бросился на противника. Кинул вперед себя узкую голову с жаркой разинутой пастью. Целил в глаз. Попал. С коротким воем тот схватился за лицо, беспорядочно, не видя, замешал руками вокруг, отталкивая, сходя на всхлипы.
Выдохнул резко и, оттаскивая змею, сам, сам! с острым наслаждением ткнул в зажмуренные глаза растопыренной пятерней. Развернулся на звук позади, ударил ногой в бок лежащему, молнией порадовался, увидев – перевернулся, и прыгнул ногами на живот, слушая булькающий хрип выдоха. Чуть не упал, взмахнул резко руками, но кольца на правой напряглись, удерживая.
Стоя рядом, ощерился, покачиваясь. Похлопал змею по гладкой голове, поворачиваясь к топчущемуся рядом полуослепленному противнику:
– Стоишь еще? Зря, земеля, зря. Лучше бы лег, головку прикрыл ручками. Ну, сам захотел!
Подхватил ладонью узкую голову. Заглянув в темные, без выражения, глаз, коснулся змеиной головы разбитыми губами. И, подавшись вперед, плавно бросил к черному силуэту тяжелые кольца.
Стоял, взмахивая руками, удерживал равновесие – захлестнутый крепким хвостом вокруг талии, чувствовал, как мерно вминается змеиная плоть в мякоть его тела. Терпел боль, понимая, каждое судорожное движение хвоста связано с мощной хваткой остального тулова. Проговаривал хрипло, в такт хватке:
– Давай, родная, давай, золотко. Приласкай паскуду! Да-а-а-а!…
И удержал бережно длинное тело руками, когда соперник завсхлипывал, захрипел и, взмахнув руками, повалился мешком с картошкой.
Мерно мяукала в соседнем дворе сигнализация чьей-то машины. Порциями падала сверху приглушенная стеклами музыка. Кто-то рассмеялся за углом, совсем рядом, проскрипели быстрые шаги по нетоптанному снежку на маленькой клумбе, удаляясь. Пустой двор, замерев, смотрел.
Уложил змею на плечо, потерся щекой о гладкую кожу. Слушал, как затряслась где-то на животе мелкая мышца. Растрескал губы в ухмылке. Постоял, качаясь. И харкнул в откинутое к синему ночному небу лицо с неровно открытыми стеклянными глазами, целя в чернеющий рот. Полез было расстегнуть себе ширинку. Топтался, становясь поудобнее, поближе к застывшему лицу. Но передумал, оглянулся, неловко ворочая шеей. И пошел в подъезд, оберегая тяжело обвисшую тварь от углов и дверных пружин.
– Молодца, девочка, молодца. Спасла Карпатого. Ну, Карпатый хорошее помнит, по-омнит, не боись. Мы с тобой таких дел наворочаем теперь… Слушайся только. Мы – с тобой, да. И никто нас, никто, поняла?
– С-с-с… – коснулся окровавленного уха нежный двуострый язык…
Глава 31
… Шел за ней, не глядя под ноги. Не оступался, будто глаза на коленях и ступнях. Балансировал на скользкой глине, приминал босыми пятками горсточки маленьких круглых листьев, откидывал коленом острую осоку… Смотрел на смуглую спину, как движется мерно, изгибается в такт шагам змея позвоночника. Бедра охвачены куском выгоревшей ткани пальмового волокна. Темные волосы, подобранные высоко, перетянуты полосами коры, крашеными в коричневый и желтый цвета. Выпавшая из прически прядь, отростком лианы, пружиня, вверх-вниз ходит вдоль спины. Хотел ее так, что, казалось, восставшим членом раздвигает протянутые поперек тропы ветви и листья. Кромка ее набедренной повязки покачивалась ниже талии краем воды в прозрачном стакане. Выше-ниже, справа-влево. Мерно работали сильные ноги. Напрягалась мышца голени, отталкиваясь от красной скользкой глины, сверкала и пряталась пятка, и выше боковая поверхность бедра – выдается в сторону и опадает… При каждом шаге. Смотрел на песню идущего тела, на тени, скользящие по мерно работающим мышцам. Хотел…
Ускорял шаги, догонял, почти утыкаясь в мягкую плетенку ткани по ягодицам. Протягивал руку. Скругляя пальцы, охватывал шею. И – брал. Всякий раз, когда возникало желание. Разворачивал за плечо к себе, смотрел, как приоткрываются полные яркие губы. …Бросал на смятые простыни, наваливался всем телом, расклинивая, и чувствовал, как под его ребрами плющится небольшая грудь… Наташа…
… Снова шел, не сводя глаз, укачиваясь мерным движением, позволяя телу самому, без оглядок, выбирать путь. Догонял. Резким движением, будто укусив, хватал край ткани, …срывал и отбрасывал смятые черные трусики на серую затерханную постель. Нажав на лопатки, сгибал перед собой небольшое тело, не давая оглянуться – незачем, здесь все, что надо – и врывался, скрипя зубами, натягивая тесной перчаткой на себя, вдавив жесткие пальцы в мякоть покрытых мурашками светлых ягодиц… Лада…
Взорвавшись, отталкивал скомканную фигуру и шел, глядя, как в полудвижении к серой постели она превращается в смугло идущую, сильную. Вот напряглась спина, свет бликом по лопатке – подняла руку, отвести нависшую тяжелыми листьями ветку. Тянулся, оглаживал плечи, разворачивал и, прижав к шершавому стволу, держа одной рукой за шею, другой под колено, бил резко и жестко, телом оставляя за собой последнее слово… Ирка…
И еще кто-то… Еще… Имена вспоминал, если были у них имена, лишь в момент, когда влипал намертво. А, отрываясь, вываливаясь, отталкивая, имена забывал, – лишь добавлялись животные звуки в память и в шум растущего леса. Чавканье, всхлипы – к потрескиванию, уханью, плеску бегущей воды…
И даже имя той, в пятом классе, вспомнил. Когда-то смотрел на краешек щеки за толсто сплетенной косой, на ровный нос и маленькие воздушные прядки по шее, – сминая в потном кулаке очередную записочку, которую она не увидит. А здесь, на тропе, положив на плечи ладони, рывком разворачивал и, в повороте уже, давил, опуская, перехватывая пальцами к затылку. Глядел сверху на перечеркнутое мужским детское еще лицо, отчаянные глаза и рот, что сам приоткрывался, приближаясь… Зойка…
Не уставал. Шел, смотрел с ненавистью на идущую впереди смуглую женщину, его змею Ноа, данную навсегда. Жаждал развернуть и увидеть – только ее, не других. И ее – взять, насовсем, победить и подчинить. Но каждый раз она превращалась и превращалась в его собственные воспоминания. Одновременно превращая его. Он и не знал, кем будет в следующий раз, когда врывался, сжимал на коже горячие пальцы. Чувствовал закаменевшую Ладу и захлебывался наслаждением – порвать жестко, взять через боль, через ненависть. Зная, что следом Жука – по его мокрому, отброшенное. И, когда Зойка перед ним на коленях, пачкая простенькие колготки о пыльные полы, был не тот, что боялся передать записку, а тот, что приходил и ждал ее у школьного забора, поплевывая мокрым табаком сигаретки без фильтра. И она, выйдя, увидев, смолкала. Прощалась с подружками и шла в другую сторону, медленно. Знала – догонит. В школьном парке, у выбитых дверей бывшей станции юннатов. И он становился тогда среди хлама, специально близко к раскрытой двери, ощущая, как сжимается девочка, видел панику, затоплявшую глаза, когда за спиной ее, совсем рядом – разговоры, смех… И, наказанная однажды с нарочитой жестокостью, изо всех сил старается не сделать ему больно. Все два года так. Пока не…
Но тропа не место для мыслей о том, что дальше. Тропа лишь для того, чтоб идти вслед, все выше, туда, где в сером камне, помазанном беспорядочной зеленью кустарников и лиан – черная пасть пещеры. Высоко над глазами. Дышит, открытая, источая влажный туман с запахом крови и пота. Только – дойти. Попасть внутрь. Там он узнает себя. И ее, ту, кто ведет его все выше, мерно покачивая широкими бедрами…
Резкий и мощный гудок ревуна выдернул Витьку. Он задохнулся, носом в подушку, еще сжимая каменными пальцами гладкие смуглые плечи. Нет, уже мокрый край одеяла. Не успел развернуть женщину. А там, во сне, уже кончилась скользкая глина, и серый камень подножия скалы кусал босые ступни, продавливал так, что боль отзывалась в низу живота.
Перевалился на спину, протащил одеяло по груди, стирая пот. За белесым окошком пробежали маленькие голоса. И снова сверху, наполняя туман, пришел мощный зов сирены. Мерный, важный…
Не обращая внимания на тихий стук в дверь, сел, стирая концом простыни остатки зеленого сока с ладоней и локтей. Слушал, как влажный и пряный запах раздавленных листьев медленно уползает из полутемной спальни. Стук замер. Тихо под окошком прошлепали туда-сюда быстрые шаги. И снова постучали, сильнее.
– Виктор, вы спите? Просили разбудить к пяти. Уже пять.
– Спасибо, – сказал. Прокашлялся и погромче:
– Встаю уже, Дарья Вадимовна…
– Тогда я поужинать принесу.
Туман съел звуки быстрых шагов. И ревун снова сказал свое главное длинное слово.
Витька поднялся. Вяло накинул смятое одеяло на сбитые простыни. Прошел в крошечную столовую, где темный старый буфетик и пластиковый стол с выводком шатких стульев, но в углу сверкает полировкой новенький шкаф-купе для гостей. Вышитая скатерть съезжала с белого пластика, стул покачивался на некрепких ногах и холодил задницу. Витька натянул джинсы, нагнулся – заглянуть в мутное зеркало в глубине буфетной полки. Пригладил растрепанные волосы и смахнул со стола насыпавшиеся с головы чешуйки древесной коры. Сощелкнул в угол маленькую многоножку и та, сворачиваясь красной ниткой, потекла в щель плинтуса.
Хозяйка, ногой приоткрыв дверь, осторожно внесла поднос с тарелкой супа и нарезанным хлебом. Витька дернулся помочь, но улыбнулась:
– Сидите, сидите. Не проснулись еще, вижу. Кушайте, сейчас принесу второе.
И ушла, мелькнув в полуоткрытой двери линялым подолом из-под старого наброшенного на плечи пальто. А ноги – голые над стоптанными ботиками. Зима, туман прозрачной ватой кутает двор под длинной трубой маяка, блестит мокрая земля, клонят головы увядшие цветы в палисадничке. А что хозяйке зима – пробежать из жаркой кухни сюда, к Витьке – семь шагов по безветренному дворику. И еще раз, мешая парок над тарелкой размятой картошки с влажным холодным туманом.
Медленно ел. Запах лаврового листа смешивался с запахом джунглей, что становился слабее и тоньше. Хозяйка, поставив на стол чашку и пузатенький чайник, отразилась криво в блестящем боку. Длинно протерла вдоль квадратной скатерки кругляш белого пластика столешницы. Принюхиваясь, метнула в раскрытую дверь спальни внимательный взгляд карих глаз. И Витька, осторожно подобрав под стул босые ноги, поджал вымазанные красной глиной пальцы.
Ждала слова, фразы – незначащих, без смысла, лишь – приглашением к разговору. Но гость баловал ее нечасто. Потому, последний раз проведя тряпкой по столу, скомкала в руках и пошла, напрягая спину и ухо, сторожа – хоть что понять, услышать или разглядеть о молчаливом квартиранте.
…Уходить в лес Витька стал сразу, с первого дня на маяке. Как на тяжелую работу. Ложился на узкую койку, вздыхал, сжимал кулаки. Закрывал глаза и почти сразу, как ему казалось, утыкался взглядом в мерно покачивающуюся спину.
Сначала пробовал все: не спать ночами, ложиться днем, гулять по серому зимнему песку, наматывая километры вдоль моря до изнеможения. Не помогало. Закрывал глаза и – шел. Потому что в буфете, сложенная в маленький квадрат, лежала купленная в московском вокзальном киоске газета. А на развороте, в черной рамочке, – смеющийся правильными зубами темноликий Сеницкий. Николя, Ники, Коля, что задался целью стать в столице одним из самых-самых. Кажется, стал, но сам этого уже не увидел. «Вчера ночью от неизвестных причин скончался стремительно набирающий популярность талантливый фотограф Ники Сеницкий… Врачи предполагают приступ сильнейшей аллергии… Накануне открытия персональной выставки, что должна была стать и стала – открытием новой звезды столичного художественного бомонда…» И так далее, далее, далее…
… Уехать Витька решил наутро после нападения во дворе. Вернее, слова, что наспех были сказаны на выставке, осели в голове и всплыли ночью. А перед тем поднимался в лифте, держа тяжело обвисшую змею на руках, ухмыляясь разбитыми губами. Наплевал на то, что могут увидеть. И не увидел никто.
Бросился на постель, оглаживая ладонью гладкое тепло длинного тела, шептал ласковое, строил планы. Заходился наслаждением, представляя, что может теперь – он, со всеми. С этими паскудами, мудаками, уебками… И заснул, как умер.
Между волком и собакой, в самый глухой предутренний час, вскинулся от резкого приступа тошноты. И побежал, сгибаясь, в сортир, прижимая ко рту руку. Стоял над унитазом долго. Рвало так, что выпачкал и без того грязные джинсы. С подведенным под ребра животом, постанывая от боли, выворачивающей внутренности, стащил и бросил на пол одежду. Оскальзываясь, лез в ванну, и даже заплакал от злости, и на пятый раз не сумев перекинуть через бортик дрожащую ногу. А когда немного отошел, стоя на четвереньках под хлеставшей из крана тугой горячей струей, вылез и, не вытираясь, побрел в постель. Лишь мельком, равнодушно, увидел в зеркале, что татуировка уже добралась до верхних ребер, и голова ее тянется к груди. Отвернулся и разглядывать не стал.
Валясь, решил – уеду, утром же соберу рюкзак и гори оно все, не хочу. К маме заскочу, в Киев и оттуда к деду в поселок. Зима, холодная соль морского ветра, разболтанные непогодой дворы, собаки, десяток стариков и один дядя Митя, если не помер еще от водки.
Заснул крепко.
Не слышал, как рано утром, воя сиреной, во двор въезжала скорая. Как, препираясь с хмурыми утренними ментами, хмурые врачи развернулись и уехали, потому что трупы не берут, не их это работа. Не видел, как, собираясь в кучки, чернел по снегу народ, – одни подходили, другие медленно откалывались, и на работу, – и так задержались… Яркое, с теплым румянцем, раннее солнце трогало тонкими лучами ноздреватые пятна крови и, казалось, размазывало розовую жижу по снежным гребешкам…
Вышел во двор, таща на плече набитый рюкзак, вспоминал Наташу с благодарностью за когда-то сказанные слова. Думать о том, что было ночью, и кем был он сам, не хотелось. И не заставлял себя. Как она учила. Потому равнодушно миновал кучку, состоящую уже из одних старушек, и не стал ухом ловить обрывки о том, как нашли, кто увидел, куда увезли. Царапнул взглядом присыпанные серым песком кровавые пятна. Но шевельнулось в голове (и на груди, будто протекло горячими каплями) – что вот так снять, и будет лучше всякого сырого мяса. Снять мутную пленку, что легла поверх событий, уже происшедших. Песок – пленка, старушечья толпа – пленка, размятый рифлеными колесами утренних машин снег – пленка. Чтобы те, кто будет смотреть на снимки, жутко додумывали чуть заметные под пленкой ночные события.
Подъезжая к вокзалу, трогал в кармане телефон, решая, кому позвонить, сказать об отъезде. Нити, что казались такими прочными и обязательными – предупредить Степана, поговорить с Альехо, извиниться, пообещав обязательно вернуться и сразу к нему; вызвонить Наташу, вдруг приедет, пока он…
Эти связи, размокнув от ночной крови, ползли, сырели и рвались, обвисая жалко. Не хотел. Никому не хотел. А значит, не надо. Усмехнулся углом ноющего рта, поднимаясь по эскалатору. Какие-то уроки уже усвоил, только пока не понять, правильные ли. Споткнувшись о кривую улыбку, поспешно отвела взгляд встречная девушка, похожая на зимнего ангела в своей белой шубке и вязаной шапочке. И Витька сжал губы, мысленно ударил внутрь себя кулаком, не давая подняться вновь тому темному, что продлит его ухмылку, приклеит взгляд к светлым кудряшкам над шубкой. Или – не его взгляд? Но знал, если не остановить себя, ангел проснется ночью от слез.
Лицо ныло, стреляло в плече, плохо сгибалась в колене нога. Но внешне почти ничего и не видно. «Тварь постаралась», – подумал мельком и прогнал мысль, чтоб не вспоминать, как мягко скользило ночью по коже сухое длинное тело.
Телефон зазвонил сам, когда Витька шел по гулкому серому полу к хвосту очереди в кассу. Не торопился доставать. Сначала занял очередь, отошел чуть в сторону. И приготовился слушать Степана. Тот не сказал много:
– Ты на улице?
Витька тоже говорить особо не стремился:
– Да.
– Газету купи.
– Какую?
– Любую. Московскую… Перезвонишь мне.
И отключился.
Витька стоял, отражаясь в ярких обложечках детективов и дамских романов. Смотрел на портрет Сеницкого, забыв про очередь. За спиной в широкие двери втекали, таща сумки и чемоданы, серые и черные люди. Обошла его, изящно изогнувшись, почти Лидочка – в короткой шубке и с ключиками на пальце. Напротив, утопая в жесткой шинели, как в фанерном шкафу, топтался милиционер.
– Степ?…
– Не знаю, не пойму я ничего, – неохотно сказал игрушечный голос напарника в нагретую дыханием трубку, – Тинка утром разбудила, ревет, икает. Сказала, в постели умер, утром нашли.
– Написано – аллергия какая-то…
– Да не было у него аллергии, бля! Она б знала! Это они про пятна…
– Какие пятна, Степ? – в горле шуршало и что-то вспухло, мешая говорить.
– Хрен знает. Она сказала, вроде на животе все в пятнах и красные точки. Думали сперва укололся как-то странно, передоз. Но Тинка же знает, он здоровье берег, все время быть в форме хотел, типа. В общем, одни сплетни и ничего не ясно.
– Не ясно… – повторил Витька, смотря в упор, и не видя, как машет ему неуклюжая тетка, что уже перед окошком кассы.
– Ясно…
– Что тебе ясно? Я, брат, ничего не пойму!
– Степ, я перезвоню тебе.
Он отключился и долго жал на красную кнопочку, наблюдая, как гаснет экран. Сунул мертвую машинку в карман, и как раз успел – перед теткой.
Он не поехал через Киев. И к деду решил – не поедет.
Мама со своим зубником, красивая, сероглазая, всегда чуть встревоженная мама…
Немногословный дед, что все лето носил прореженные временем до ветхости семейные трусы и, напившись раз в месяц, обязательно уходил в море на старой рыбацкой лодке, просто так.
Нельзя к ним. Они – люди. А он…
В купе, проснувшись после трети пути, покачиваясь, вышел в коридор. Вагон почти пуст, кому это надо – в Крым зимой. После туалета прошел в тамбур и выбросил в подвижный рот металлической щели в полу меж вагонов сначала крышку телефона, потом сам телефон и, выждав минуту – уронил с пальцев сим-карту.
И все мысли, что вылуплялись и, еще медленно, но все быстрее и быстрее, ползали в голове, тоже сумел выбросить вслед. Встряхнул головой, накормил червями паники дорогу, мелькавшую серой лентой в просвете железного стучащего рта…
Ехал, как все. Ел и пил чай, слушал шумного толстячка напротив. Смотрел с верхней полки на скачущие сугробы с натыканными в них елками. Разговаривал с мягкой, с южным говором теткой, что беспрерывно кормила племянницу Олю двенадцати лет. Оля стеснялась, краснела широким личиком и шепотом сердито отказывалась. Взглядывала вверх, на Витьку и, натыкаясь на взгляд, краснела еще больше, крутила на пальце кончик блеклого русого хвоста.
Через пару часов тетку обаял, купив мороженого, рассказал что-то веселое. Оля ела аккуратно и, уже не краснея, улыбалась и даже рассказала о школе и о концерте в Москве. А тетка, Марь Степанна, не вспомнить, за что зацепившись, сказала о маяке. О дальней знакомой своей, что вышла замуж за маячного смотрителя (только это нехорошо, не принято так называть его, – капитан маяка, так то!), и живет теперь, людей не видит неделями.
– И не стара, в самом еще соку, а кроме Григорьича своего ничего не видит. А там – степь, море, до деревни двадцать килОметров. Летом-то получше, квартирантов берут. Три комнатки сделали, душ и туалет, спальня. Если кто на машине приехал, так милое дело, летом-то…
«Там» – стукнуло Витькино сердце. И он сразу поверил, так хотелось и, похоже, надо было именно так. Там, где лишь зимнее море, степь и два человека, занятые друг другом. «Скажу, книгу приехал писать, потому – молчу и думаю. И буду – молчать, думать»…
– Оленька, вот, перебила аппетит! Скажи Виктору спасибо за мороженое!
– Тетя Маша!..
«Сам» – продолжало стучать в висок, а серое небо летело и стояло, спускалось ниже, заворачиваясь в ночную темноту… «Сам смогу, ведь надо – смочь. Ведь если так все сложилось, то кто еще, кроме меня? А потом, когда справлюсь… Да, справлюсь. Тогда вернусь. К деду съезжу, побуду. Маме позвоню. Потом, когда сумею – сам…»
Завернулся в жаркую простыню и, слушая стуки, покачивания, заснул спокойно и мирно. Зная, что самая тяжелая работа его – впереди. Которую должен сам, изнутри. Совсем еще не зная, как. Но – сделает…
Елена Блонди
Апрель 2006г – Январь 2008г

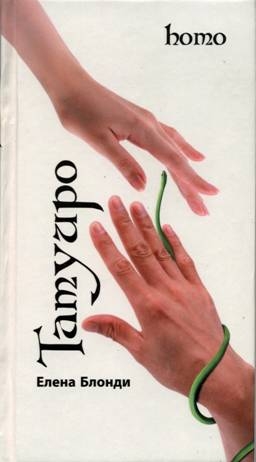

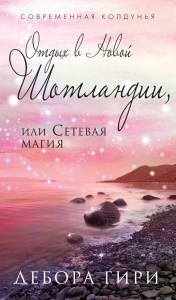



Комментарии к книге «ТАТУИРО (HOMO)», Елена Блонди
Всего 0 комментариев