Жорис Карл Гюисманс ТАМ, ВНИЗУ, ИЛИ БЕЗДНА (Роман)
I
– Ты так уверовал в эти мысли, мой друг, что ради истории Жиля де Рэ забросил супружеские измены, любовь, честолюбие – все эти излюбленные темы современного романа. – Помолчав, он прибавил: – Нелепо и несправедливо было бы упрекать натурализм за его язык черни, за словарь мусорных ям и больниц; во-первых, иногда этого требует содержание, затем не забудем, что разящая сила выражений или едких слов помогает созданию творений великих и могучих: доказательство этому – «L'Assomoir» Золя. Нет, вопрос в другом. Натурализм упрекаю я не за тяжелый цемент его грубого стиля, но за низменность мыслей. Я упрекаю его за то, что он ввел материализм в литературу, восславил искусство толпы!
Да, что ни говори, мой милый, но все же какое это примитивное учение, какая узкая система! Лишь откровения плоти, непонимание даже той истины, что искусство начинается там, где бессильны чувства! Ты пожимаешь плечами, но скажи мне – постиг ли твой натурализм хотя одну из тех грозных тайн, которые нас окружают? Ничуть. Когда речь идет об объяснении страстей, когда надо исследовать рану, залечить хотя бы самую малую царапину духа, он все сводит к животным стремлениям, к инстинктам. Похоть и безумие – таков единственный его ответ. Утопая в пустословии, он пытался постигнуть лишь телесность человека, в чувствах видел болезнь плоти, сделался как бы близоруким знахарем души!
Знаешь, Дюрталь, мало того, что он неискусен и туп, он еще и зловонен, когда, восхваляя современную жестокую жизнь, кичится новой американской моралью, воспевает грубую силу, прославляет денежный сундук. Отменно покорный, склонился он пред пошлыми вкусами толпы и пренебрег стилем, отверг всякую гордую мысль, всякий порыв души к возвышенному. Честное слово, он явил столь верное олицетворение мещанской мысли, что кажется мне рожденным Лизой, колбасницей «Брюха Парижа», сочетавшейся с Гомецем!
– Ты слишком увлекаешься, – ответил обиженно Дюрталь. Раскурив папиросу, он продолжал: – Я такой же противник натурализма, как и ты, но это еще не причина отрицать безусловные заслуги, оказанные натуралистами искусству. Разве не они в конце концов освободили нас от бесчеловечных идолов романтизма, не они разве устранили из литературы идеализм тупиц и худосочие изнуренных безбрачием старых дев!
В общем, они после Бальзака создали образы видимые и осязаемые, установили согласие между ними и средой, двинули начатое романтиками развитие языка, познали истинный смех, иногда владели даже даром слез и, наконец, не всегда вдохновлялись столь пламенно пошлостью, как ты говорил!
– Они любят свой век, и в этом их приговор!
– Ни Флобер, ни Гонкур не любили, черт возьми, своего века!
– Согласен, они художники истинные, мятежные, надменные. Я исключаю их. Я охотно допускаю даже, что Золя – великий пейзажист, удивительный знаток толпы и толмач народа. К тому же, благодарение Создателю, он не до конца следовал в своих романах теориям своих статей, в которых проповедует позитивизм в искусстве. Но у лучшего из его учеников, у Рони, единственного талантливого романиста, целиком усвоившего мысли учителя, они выродились в прилежно собранную выставку мнимой учености, в науку подмастерьев, изложенную пошлым школярским языком. Нет, бесспорно, вся натуралистическая школа, поскольку прозябает она еще до наших дней, отражает влечение времени воистину ужасного. Она привела нас к искусству такому пошлому, столь пресмыкающемуся, что мне хочется назвать его тиной. Ты сомневаешься? Перечитай их последние книги, что встретишь ты там? Смешные историйки, разную смесь, выхваченную из журналов, скучные сказки, червивые рассказцы – и все это изложено стилем, напоминающим безвкусное, дешевое цветное стекло, и даже не осмыслено каким-либо пониманием души, жизни. Прочитывая их книги, я сейчас же забываю эти убогие описания, эту пошлую болтовню. У меня остается только удивление, что человек пишет триста, четыреста страниц, и ему совсем нечего открыть нам, нечего сказать!
– Послушай, де Герми, если тебе все равно, поговорим о другом. Мы никогда не поймем друг друга в вопросе о натурализме, одно имя которого уже пугает тебя. Ну а что с твоей медициной Маттеи? В каком положении она? Помогают ли, по крайней мере страждущим, твои фиалы с электричеством, твои пилюли?
– Что же! Они все же целебнее средств официальной медицины, хотя, конечно, и они не обладают долгим, верным действием; не все ли равно в конце концов... Но мне пора уходить, мой милый, бьет десять часов, и твой привратник потушит газ на лестнице. Будь здоров! До скорого свидания!
Заперев дверь, Дюрталь подбросил коксу в камин и задумался.
Уже целые месяцы длилась в нем внутренняя борьба, и все сильнее волновал его спор с другом. Рушились теории, в неколебимости которых он был уверен.
Несмотря на всю ожесточенность мыслей де Герми, они смущали его. Конечно, натурализм, преподносимый в однообразных работах посредственностей, вращавшихся в неизменной обстановке гостиных, вел вернейшим путем к полному бесплодию, даже когда он был честным, проницательным. Лишенный этих качеств, он выявлялся в постыднейшем пустословии, в утомительнейших повторениях. Но вне натурализма Дюрталь не видел возможности романа и не хотел возврата к напыщенным бредням романтиков, к утомительным творениям Шербюлье и Фелье, к плаксивым рассказикам Терье и Занд.
Но что же тогда? И, поставленный в тупик, Дюрталь упорно преодолевал туманные учения, сомнительные посылки, замыслы трудновообразимые, не укладывавшиеся в рамки рассудка. Он лишь смутно ощущал, что в нем происходит, не решался войти в лабиринт, страшась, что будет скитаться в нем, не обретет исхода.
Он говорил себе, что нужно сохранить документальную достоверность, точную отделку подробностей, меткий, нервный язык реализма. Но наряду с этим следует зачерпнуть влагу тайников души и не пытаться таинственное объяснять болезнью чувств. Пусть сам собою распадется роман на две части, но пусть будут они спаяны, или, вернее, как в жизни, слиты. Одна посвятит себя душе, другая телу. Пусть роман отдастся изучению их противодействия, борьбы, согласия. Надо выйти вслед за Золя на проложенную им широкую дорогу и вместе с тем необходимо параллельно пройти душой высокий путь и, шествуя обоими путями, сближая их, создать одухотворенный натурализм, своеобразно горделивый, по-иному совершенный, могучий!
Задача, до сих пор никем не выполненная. Достоевский ближе других к этим замыслам. Но милосердный русский писатель воплощает скорее евангельский социализм, чем одухотворенный реализм! В современной Франции, утратившей веру в непогрешимость правдивого рассказа о человеческой натуре, господствуют сейчас два течения: либеральное и декадентское. Первое сближает натурализм с гостиными, лишает его всего смелого, всяких исканий нового языка. Декаденты более решительны: они отвергают телесность образов и, постигая якобы дух, в действительности утопают в каком-то непостижимом телеграфном шифре. На деле они под намеренным безумием своего стиля только скрывают безмерную скудость мысли. Что касается орлеанистов истины, то Дюрталь не мог без смеха вспомнить о болтливом, скучном хламе – порождении этих так называемых психологов. Никогда не погружались они в исследование неведомых долин души, не открыли ни малейшего забытого уголка страстей. В сахарную водицу Фелье они подбрасывали крупинки Стендалевой соли, стряпали полусоленые, полусладкие лепешки – истинную литературу Виши.
Они решали вопросы философии, пересыпали свои романы школьными философскими сочинениями, точно простой намек Бальзака – хотя бы, например, слова старого Гюло в «Кузине Бетти»: «Могу я взять малютку?» – не освещает несравненно глубже какого-либо малейшего движения души, чем все измышления школьного конкурса! Нет! Не от них ждать стремления ввысь, порыва к неземному. Дюрталь говорил себе, что истинный психолог века не Стендаль, ими превозносимый, но удивительный Гелло, непостижимая неудача которого граничит с чудом!
И он пришел к убеждению, что де Герми прав. Да! Нет ничего ценного в современном хаосе литературы. Ничего, кроме жажды сверхчувственного! Но, не найдя исхода более возвышенного, она, спотыкаясь, устремлялась к спиритизму и оккультному.
В стремлении приобщиться во что бы то ни стало к начертанному идеалу мысль его понеслась окольными путями, остановилась перед другим искусством, перед живописью. Там обрел он идеал свой в целостно воплощенных творениях первых мастеров!
В Италии, в Германии, прежде всего во Фландрии, законченно воссоздали они белоснежное покрывало святых душ. В правдивой красе, терпеливо сотворенные, в рамках жизни начертаны были образы покоряюще истинные и достоверные. Небесные радости, мучительные печали, мир духа, душевные бури исходили от образов этих, часто казавшихся обыденными, ликов иногда заурядных, но воссозданных могуче. Здесь как бы совершалось перевоплощение покорной, обузданной плоти, отторжение от чувств, устремление в бесконечную высь.
Дюрталь впервые познал откровения этого натурализма в прошлом году, тогда еще не столь сильно возмущенный бесстыдным зрелищем конца нашего века. Это было в Германии перед распятием Матеуса Грюнвальда.
Он задрожал в кресле и почти в муке закрыл глаза. Со странной отчетливостью предстала пред ним вызванная в этот миг памятью его картина. Внутренним стоном раздался в душе его сейчас тот вопль изумления, который испустил он, войдя в маленькую залу Кассельского музея. Как и тогда, встал перед ним Христос, терзаемый на кресте, к которому вместо перекладины прикреплен был плохо очищенный сук, подобно своду, выгнувшийся под тяжестью тела.
Казалось, что сук вот-вот выпрямится и милосердно отпустит от земного мира злодейств и преступлений измученное тело, снизу поддерживаемое огромными, вонзенными в ноги гвоздями.
Раскинутые, словно отторгнутые от плеч руки Христовы были До самого запястья скручены впившимися в мускулы ремнями. Хрустели перебитые ладони, напряженные пальцы разжались и как бы благословляли. Трепетали сосцы, омоченные потом. Глубокие борозды обозначились на стане между выступавшими ребрами. Потемнело и посинело усеянное красными пятнами вспухшее тело. Словно булавочные уколы пестрели вонзившиеся занозы отпавших от розог игл.
Появилась сукровица. Сочилась влажная рана бедра и, подобная выжатому спелому соку, заливала бедра кровь. Бледно-розовая, беловатая, водянистая, цвета светлого мозельвейна жидкость струилась по груди и стекала на живот, опоясанный куском полотна, образовавшим волнистые, закругленные складки. Смыкались чашечки судорожно сжатых колен, бессильно повисли скрученные ноги и ступни, одна поверх другой – растянутые, безмерно растерзанные, залитые кровью. Ужас вселяли обезображенные, истерзанные ноги. Вздулась и распухла кожа под головкой гвоздя, и противоречили благословляющему движению кистей судорожно искривленные пальцы ног. В них чувствовалось как бы возмущение, посиневшими ногтями они почти вонзались в алую землю, подобную пурпуром подернутым равнинам Тюрингии. Огромная, с печатью смятения высилась над этим растерзанным телом голова. Изнуренная, повисла она, беспорядочно увенчанная терниями. Один глаз на лике приоткрылся, и в нем еще трепетало выражение ужаса и муки, а искаженный лоб выделялся над изможденными щеками. Судорожно стенал весь искаженный облик, и лишь улыбался отверстый рот, сведенные челюсти которого застыли в жестоком содрогании.
Безмерны были мучения, и в бегство обратились веселившиеся палачи, устрашенные агонией.
Ему чудился крест, накренившийся почти в уровень с землей, оттененный глубоким, таинственным фоном ночного неба и хранимый двумя стоявшими по сторонам спутниками. То были Пресвятая Дева и святой Иоанн. Голова Богоматери была укрыта капюшоном цвета бледно-розовой крови, волнами ниспадавшим на Ее одежду, цвета померкнувшей лазури, ложившуюся длинными складками. Суровая и бледная, неподвижно стояла, роняя слезы, Пречистая Дева и рыдала, судорожно сжав пальцы. Святой Иоанн обликом своим напоминал смуглого швабского селянина грубого вида – высокий ростом, с бородой в мелких завитках, он был облачен в широкополое, как бы из древесной коры скроенное одеяние алого цвета, поверх которого накинут был плащ цвета желтой замши, с видневшейся из-под откинутых рукавов подкладкой лихорадочно-зеленого цвета незрелых лимонов. Изнуренный слезами, но более выносливый, чем сокрушенная, изнемогшая, но все еще державшаяся на ногах Дева Мария, в бурном порыве сложил он руки и простерся к Телу, в созерцании устремив на Него пламенные, затуманенные глаза, задыхаясь и оглашая безмолвие криком, вырвавшимся из его сильной груди.
Ах! Какой далекой казалась эта обагренная кровью и орошенная слезами Голгофа от той нежной Голгофы, которой со времен Ренессанса молится католическая церковь. Этот растерзанный Христос был не таким, каким почитают Его верующие уже четыреста лет, не Христом богатых, могучим красавцем, рыжеволосым юношей с расчесанной бородой, с чертами лица тонкими и изнеженными, то был Христос св. Иустина, св. Василия, св. Кирилла, Тертуллиана, Христос первых веков церкви, Христос горести народной, возложивший на себя бремя всех грехов мира и в унижении своем воплотившийся в формах наивысшего смирения.
То был Христос бедняков, Христос, общавшийся с несчастнейшими из тех, кого снизошел Он искупить, с обездоленными и нищими, со всеми, над бедностью или уродством которых издевается людская злоба. Христос, всегда доступный человеческому пониманию, Христос с телом слабым и бессильным, покинутый Отцом, который смягчился, лишь когда были исчерпаны все мыслимые муки. Христос, оставленный всеми, кроме Богоматери. К Ней, немощной и бессильной, воззвал Он криком дитяти и к окружавшим Его палачам.
В высшем уничижении, несомненно, претерпел Он страсти до наивысшего предела человеческого терпения и, следуя неисповедимыми путями, допустил, чтобы с часа заушений и бичевания, поношений и ругательств, с часа всех этих злобно измышленных страданий, вплоть до ужаснейших мук бесконечной агонии, прервалась Его Божественность. Так лучше было ему мучиться, хрипеть, издыхать, как разбойнику, как собаке, – грязно, униженно, доходя в своем падении до крайних ступеней, до позора разложения, до последнего поругания – гниения.
Конечно, никогда не изображал в таком натурализме Божественное Тело художник, не опускал своей кисти в такую глубину терзания, в такую гущу кровавых пыток. Это было чрезмерным, было ужасным. Грюнвальд выказал себя беспощаднейшим реалистом. Но если всмотреться в распростертого Искупителя, в Божественное Тело, то впечатление менялось. Сияние исходило от этой истерзанной главы, неземное светилось в измученном теле, в лике, искаженном страданием. Действительно было Телом Господним это тело и без сияния лучей; в терновом венце, усеянном каплями алой крови, являл Иисус свое небесное сверхсущество между Приснодевой, сокрушенной, в отчаянии рыдавшей, и св. Иоанном, воспаленные глаза которого утратили уже способность источать слезы.
Преображенные чрезмерной необычностью их душ, расцветали их простые лики. Бедность, крестьянская простота забывались при созерцании картины, неизгладимым оставалось лишь впечатление сверхземных существ, стоявших возле Бога.
Грюнвальд сочетал в себе высшую меру реализма с беспощаднейшим идеализмом.
Никогда не восходил художник к такому пламенному проникновению, не переносился так вдохновенно с вершин духа к бесконечному своду Небес. Он воплотил в образе две крайности и из плоти, поправшей смерть, извлек изысканнейшие ароматы любви, горчайшую муку слез. Несравненное произведение искусства раскрывалось в этой картине – искусства сурового, призванного возвестить тягчайшую печаль тела и явить утонченнейший образ бесконечной скорби души.
Равного этому не существовало ни на одном художественном языке. В литературе к идеалу сверхъестественного реализма, к этой обнаженности и истине, приближались до известной степени некоторые страницы Анны Эммерих о Страстях. Может быть, также отдельные излияния Рюисброка, как бы лучась двойным пламенем – белым и черным, – напоминали в некоторых чертах своих божественное уничижение Грюнвальда... Но нет, оно единственное: земное и одновременно неземное.
Но, значит, сказал себе, пробуждаясь от своих дум, Дюрталь, будучи последовательным, я должен прийти к католицизму средних веков, к мистическому натурализму. Ах, нет. Но однако! И он мысленно остановился перед закоулком, входа в который избегал ранее, не чувствуя опоры веры в себе. Он, несомненно, не был одним из избранников Провидения, лишен был той необходимой воли, которая влечет людей к безудержному погружению в тьму непреложных догм. Иногда, случалось, чтением он укреплял в себе отвращение к окружающей жизни и тосковал по медлительным часам в недрах монастыря, по сонным молитвам, льющимся в курениях ладана, рождающим туманную мысль, устремленную неведомо куда в пении псалмов. Но нужно иметь душу простую, очищенную от всякой скверны, чтобы отдаваться наслаждениям обители, душу обнаженную и непорочную; но его душа забрызгана была грязью, покрыта густым налетом нечистого тления. Он не скрывал от себя, что жажда веры, стремление покинуть суету века часто зарождались в нем на почве грубого своекорыстия. В нем говорили тогда утомление докучливыми мелочами обыденного, усталость души, перешедшей сорокалетний возраст, желание отдохнуть от пререканий с прачками и кухмистерами, от денежных счетов и платежей. Втайне он мечтал иногда спастись в монастыре, подобно тому, как девки поступают в притон, чтобы избавиться от опасностей облав, от забот о пропитании, жилище и белье.
Он остался холостяком, не имел состояния, уже слабо влекли его теперь наслаждения плоти, но бывали дни, когда он возмущался такой жизнью, созданною им самим. Уставая бороться со словами, он резко отбрасывал в такие часы в сторону перо и вперял взор в будущее, не видя в нем ничего, кроме огорчений и тревог. Искал тогда утешений и успокоения и приходил к выводу, что только религия владеет еще искусством проливать целительный бальзам на самые жгучие раны. Но в обмен за то требует такого забвения здравого смысла, такого умения ничему не удивляться, что, полный сомнений, он отступал. Но все же он непрестанно бродил вокруг нее, зная, к каким пышным осияниям способна она, хотя и не покоится на достоверных основах, что через нее лишь может достигнуть душа наиболее пламенных вершин, лишь с ней подняться и унестись в безмерность восхищения, за пределы пространства миров, в выси самые неслыханные. Помимо того, она влекла Дюрталя своим восторженным, интимным искусством, богатством своих легенд, лучезарной простотой жития своих святых.
Он не верил, но допускал в то же время сверхъестественное, ибо как отвергать тайну даже в пределах земли, тайну, которая творится в нас, возле нас, на улице, повсюду. Слишком легко отрицать невидимое, сверхчеловеческое, объяснять случаем, который сам есть нечто непостижимое, непредвиденные события, несчастье, удачу? Разве не решалась часто человеческая судьба какой-либо одной встречей? А любовь и влияния непонятные, но, однако, несомненные? И наконец, самая потрясающая из всех загадок – деньги?
В сущности денег мы лицом к лицу встречаемся с первозданным законом, жестоким и органическим, предначертанным и осуществляемым со дня сотворения мира.
Веления его цельны и всегда ясны. Деньги обладают силой самопритяжения, стремятся расти в одних руках, предпочтительно достаются злодеям и посредственностям. Но если неисповедимым исключением они попадут к богачу, душа которого не запятнана ни злодейством, ни гнусностью, то будут бесплодны и не способны претвориться в разумное благо и даже в руках человека милосердного не смогут достичь цели сколько-нибудь возвышенной. Они как бы мстят за свое ложное предназначение, добровольно цепенеют, когда ускользают от обладающих ими отъявленных плутов и отвратительнейших уродов. Еще загадочнее их действие, когда, заблудившись, они, в виде исключения, забредут в дом бедняка. Тогда они сейчас же развратят его, если он честен, превратят самого целомудренного человека в сластолюбца, одним взмахом подействуют на дух его и тело, вселят в своего владельца низменный эгоизм, бесчестную гордость, внушат ему желание расходовать деньги на одного себя, самого униженного превратят в наглого холопа и самого бескорыстного человека в скрягу. В один миг изменят все привычки, опрокинут все идеи, создадут упорнейшие страсти.
Деньги – лучшая пища наших смертных грехов и как бы являются бдительным стражем их нерушимости. Если они не отвращают своего владельца от милостыни, и он как бы в забвении благодетельствует бедняку, то в бедняке они сейчас же пробудят ненависть за оказанное добро, скупость заместят неблагодарностью и восстановят тем самым равновесие, так что в совокупности не уменьшится число содеянных грехов. Но деньги становятся воистину чудовищными, когда, скрыв звонкий блеск своего названия, они как бы окутываются черным покровом, именуясь капиталом. Их действие не ограничивается тогда единичными наущениями, нашептываниями убийств и краж, но простирается на все человечество. Единым мановением капитал установляет монополии, воздвигает банки, захватывает жизненные припасы, располагает жизнью, может, если захочет, обречь на голодную смерть тысячи человеческих существ!
В это время капитал питается, жиреет, нежится в полном одиночестве в казнохранилище, а мир чтит его, коленопреклоненный изнывает перед ним в молениях, как перед Богом!
Одно из двух! Или деньги, эти неограниченные властители душ, – от дьявола, или они необъяснимы. А сколько других тайн, столь же непостижимых, сколько событий, которые повергают в трепет мыслящего человека!
Но раз вы блуждаете, размышлял Дюрталь, в неведомом, то почему не верить в Святую Троицу, почему отвергать Божественность Христа? Разве не вправе допустить вы credo св.Августина и повторить вслед за Тертуллианом, что если бы сверхъестественное было постижимо, то оно не было бы сверхъестественным, и что божественное по самой природе своей должно превышать человеческое понимание.
Ах! Все тщетно в конце концов. Проще всего над этим не задумываться. И он еще раз отступил, душа его не решилась сделать шаг в пустоту.
Как далеко забрел он в сущности от исходной своей точки, от натурализма, столь презираемого де Герми. Он мысленно поспешил возвратиться к Грюнвальду, в картинах которого усматривал лихорадочный первообраз искусства. Бесполезно заходить так далеко, спотыкаться за пределами потустороннего, погружаться в пламеннейший католицизм. Достаточно спиритуализма, чтобы постигнуть сверхнатурализм – единственную формулу, которая удовлетворяла его. Он встал, прошелся по своей комнате. Его развеселили рукописи, наваленные на столе, его заметки о маршале де Рэ, прозванном Синей Бородой.
Почти радостно почувствовал он вдруг, какое счастье сидеть вне времени в своем углу. Ах, что за блаженный сон – утопать в прошлом, переживать далекое, не читать даже журналов, не знать, существуют ли театры! Синяя Борода, подумал он, занимает меня больше, чем бакалейщик на углу, чем все марионетки современности, лучший символ которой этот слуга из кофейной, насилующий ради обогащения в законном браке дочь своего хозяина – птичку, как он называет ее! Счастье в прошлом... и во сне, прибавил он усмехаясь. Заметил, что его кошка – животное, прекрасно чувствующее время, – смотрит на него с тревогой, напоминая о взаимно установленных привычках, упрекая, что он не приготовил еще своего ложа.
Он поправил подушки, откинул одеяло, и кошка вспрыгнула на нижний край постели. Но, вскочив, не легла, а села, завернув на передние лапы хвост, и ждала, пока уляжется хозяин, чтобы тогда вытоптать себе на ночь удобную ямку.
II
Почти уже два года Дюрталь не бывал в обществе писателей. Книги, повествования журналов, воспоминания, записки всеми средствами старались изобразить этот мир обителью ума, воплощением духовной доблести. Если поверить им, то дух спаивался как бы искусственными кольцами и с наибольшей силой проявлялся в этих сочетаниях. Дюрталь плохо понимал, почему возникло такое извращение истины – он знал по опыту, что современные писатели распадаются на два разряда: первый слагается из корыстолюбивых мещан и из отвратительных уродов – второй.
Одних отметила толпа, они пошли по ложному пути, преуспели. Алчно домогаясь признания, они слепо подражали денежной знати, посещали торжественные обеды, давали у себя вечера, не говорили ни о чем другом, кроме авторских прав и изданий, развлекались театральными представлениями и позванивали монетой.
Другие стадом бродили в общественных низах. Это отбросы, которые можно видеть в кофейнях, завсегдатаи пивных. Все проклиная, вопили они о своих произведениях, кричали о своем гении, предавались излияниям на бульварах и, упившись пивом, страдали от разлития желчи.
Другого общества не существовало. Так редко удавалось теперь найти интимный уголок, в котором бы могли непринужденно беседовать художники, не подражая ни гостиным, ни кабачкам, беседовать без затаенной мысли вероломства и коварства, не заботясь ни о чем ином, кроме искусства.
Ни намека на величие духа не было в литературном мире. Ни волнующих взглядов, ни быстрого и таинственного уклона мысли. Царили разговоры улицы Сентье или улицы Кюжа. По опыту зная, что никакая дружба немыслима с животными, которые, насторожившись, всегда готовы растерзать добычу, он порвал все связи, не желая делаться ни простаком, ни хищником.
В сущности не было больше ничего общего между ним и его товарищами. Раньше, когда он исповедовал ошибки натурализма, принимая его мертвящие новшества, его манеру писать романы без окон и дверей, он мог спорить с ними об эстетике.
Но теперь!
Де Герми как-то сказал: «Между тобой и реалистами всегда лежит такая глубокая пропасть мысли, что согласие ваше не может быть долгим и прочным. Ты проклинаешь современность, они боготворят ее. Этим сказано все. Неизбежно настанет день, когда ты покинешь американское направление искусства и устремишься в дали, в области более возвышенные, менее плоские.
Во всех книгах твоих ты всегда нападал изо всех сил на уродства нашего века; но, Бог мой, человеку надоест беспрестанно обрушиваться на пузырь, который опадает, чтобы сейчас же раздуться вновь! Тебе захочется передохнуть, сосредоточиться на другой эпохе, в надежде там отыскать достойный внимания предмет. Этим легко объясняются твое душевное угнетение за последние месяцы и то чувство довольства, которое вдруг опять охватило тебя, когда ты углубился в жизнеописание Жиля де Рэ».
Бесспорно, де Герми оказался прав. Дюрталь почувствовал себя возрожденным, погрузившись в мрачный и блаженный конец средневековья, умиротворенный, проникся презрением к окружающему, создал себе бытие, далекое от литературной суеты, мысленно как бы уединился в замке Тиффож Синей Бороды и жил в совершенном согласии с ним, а порой почти даже увлекался этим чудовищем.
История заменила ему роман, который всегда оскорблял его выдуманностью фабулы, разделением на главы, рыночной удобочитаемостью, оскорблял искусственной условностью и пошлостью. Но он не верил в историю как в науку, и она казалась лишь наименьшим злом. События, рассуждал он, дают человеку одаренному только канву для мыслей и стиля. В зависимости от потребности оправдания, от темперамента писателя, который обрабатывает их, они то сгущаются, то меркнут.
Еще хуже с документами, на которых покоятся события! Неопровержимых документов нет, они все требуют проверки. Если даже они подлинны, то за ними идут другие, противоречивые, но не менее достоверные, которые обесценят другие, извлеченные на свет архивными розысками.
Превращенная в спесивый ворох старых бумаг, современная история служит лишь утолению литературной жажды разных дворянчиков, изготовляющих книжечки, забрасываемые в дальний угол книжного шкафа, которым академия ретиво присуждает почетные медали и большие премии.
В истории Дюрталь видел самую торжественную ложь, самый ребяческий обман. По его мнению, древнюю Клио можно было изобразить с головой сфинкса, украшенной бакенбардами в виде плавников и увенчанную детским колпачком. Он вынес убеждение, что точность невозможна. Как разгадать события средних веков, когда никто еще не смог объяснить более недавнее, например недра Великой Революции или сваи Коммуны? Нет иного выхода, как сотворить образы в собственном воображении, мысленно приобщиться к существам того времени, воплотиться в них, переоблачиться, если можно, в их ветхие одежды, искусно подобрав подробности, воссоздать обманные картины. В общем, именно так делал Мишле. И хотя этот расслабленный старец причудливо блуждал в своих сооружениях, останавливался перед ничтожным, нежно млел, вплетая анекдоты и объявляя их безмерно значительными, хотя обуревавшие его приливы чувствительности и припадки шовинизма опрокидывали достоверность его посылок, искажали здравомыслие его суждений, он являлся единственным писателем во Франции, который парил над вечностью и с высоты погружался в загадочную глубь древних сказаний.
Его история Франции, истеричная и болтливая, бесстыдная и интимная, была до известной степени овеяна духом широты. Образы его были исшедшими из склепов, в которые их погребла надгробная болтовня его собратьев. Неважно, что из историков Мишле являлся наименее достоверным, будучи художником более других, больше, чем другие, оставаясь самим собой. Что касается остальных историков, то они, как кроты, рылись в архивах, ограничивались усилиями откопать как можно больше разных сведений. Вслед за Тэном они мастерили примечания, подбирали одну ссылку за другой, но оставляли лишь такие, которые подкрепляли бредни их сказок. Люди эти возводили в правило полнейшую скудость воображения, совершенное отсутствие энтузиазма, хвалились, что ничего не вымышляют, – что, впрочем, правда, – но, расчетливо подбирая документы, подделывали историю не в меньшей степени. Какой простотой отличалась их система! Открыв, что такое-то, допустим, событие произошло в нескольких общинах Франции, они делали отсюда вывод, что в такой-то части, такого-то дня, такого-то года, именно так, а не иначе жила и мыслила вся страна.
Не менее чем Мишле, являлись они храбрыми подделывателями, но не обладали ни даром его видений, ни его духовным подъемом. Мелкие коробейники истории, уличные торгаши, кропатели примечаний, они, не давая общей картины, описывали отдельные подробности, походя на современных художников, нагромождающих краски, или декадентов, изготовляющих стряпню из слов! Еще хуже обстоит дело с сочинителями жизнеописаний, думал Дюрталь. Они подлинные кликуши. Целые книги писались с целью доказать, что Теодора была целомудренной и ровно ничего не пил Жан Стэн. Другие ставили себе задачей обелить Виллона, доказывали, что на самом деле толстая Марго, героиня баллады, означала не женщину, но вывеску кабачка. Без долгих рассуждений биограф изображал поэта человеком простодушным, воздержанным, справедливым и честным. Сочиняя свои исследования, историки эти как бы боялись обесчестить себя прикосновением к писателям и художникам, жизнь которых изборождена была страстями. Они хотели, без сомнения, чтобы те были такими же мещанами, как они сами, и все это сооружалось с помощью прославленных документов, которые вошло в обычай подчищать, искажать, переиначивать.
Дюрталя в отчаяние приводила эта могущественная теперь школа обеления. Он был убежден, что в своей книге о Жиль де Рэ он не впадет в безумие фанатиков благопристойности, яростно жаждущих мещанской честности. Со своим взглядом на историю он менее, чем кто-либо, мог рассчитывать, что даст верный образ Синей Бороды, но зато, по крайней мере, был уверен, что не подсластит его, не утопит в потоках словоблудия. Крыльями его вдохновения как бы служили копия записки, поданной королю наследниками Жиль де Рэ, выписки из Нантского уголовного процесса, о котором имеется в Париже несколько отчетов, выдержки из «Истории Карла VII », написанной Балле де Виривиллем, наконец, заметка Армана Геро и жизнеописание аббата Боссара. Всего поименованного было довольно ему, чтобы воссоздать мрачный облик слуги сатаны, бывшего самым талантливым, самым замечательным, самым жестоким человеком XV века.
Одного только де Герми, с которым он виделся теперь почти каждодневно, посвятил он в замысел своей книги.
Познакомились они в одном из наиболее странных домов, у католического историка Шантелува, хвалившегося, что он принимает у себя весь мир. И действительно, причудливейшее общество собиралось раз в неделю в зимние сезоны в гостиной его, на улице Банье: ризничие и поэты кабачков, журналисты и актрисы, сторонники Реставрации и поклонники оккультных наук.
В общем, дом этот стоял на границе клерикального мира, и духовенство его посещало, но как место не совсем приличное. Шантелув был человек радушный, покладистый, приветливо-обходительный. Обеды его отличались некоторой необычностью и утонченностью. Пытливого наблюдателя мог насторожить взгляд каторжника, который он иногда метал из-под дымчатых стекол очков, но его чисто церковное добродушие разгоняло все опасения. Жена его была некрасива, но загадочна, и ее охотно окружали гости. Она обычно молчала, пребывала безучастной к жарким речам гостей и располагала к себе подобно мужу. Бесстрастная, почти надменная, выслушивала она без всякого смущения самые страшные парадоксы и рассеянно улыбалась, устремив взор свой куда-то вдаль.
На одном из таких вечеров, когда Дюрталь курил, а новообращенная Руссэль, временами завывая, пела стансы ко Христу, его вдруг поразили лицо и вся осанка де Герми, резко выделявшиеся на пестром фоне расстриг и поэтов, собравшихся в гостиной и библиотеке Шантелува.
Среди угрюмых и лицемерных лиц он бросался в глаза своей исключительной изысканностью и вместе с тем видом, исполненным презрительного недоверия. Высокий, худой, очень бледный, он прищуривал близко посаженные над коротким вздернутым носом глаза с темно-синим отливом. Волосы его были белокуры, щеки выбриты, заостренная бородка была почти пробкового цвета. Он производил смешанное впечатление болезненного норвежца и жесткого англичанина. Одетый в ткани лондонского производства, он, как в доспехи, облачен был в клетчатый костюм темного цвета, узко срезанный в талии, очень глухой, почти закрывавший шею и галстук. Весьма занятый собой, он как-то особенно снял и свернул перчатки, чуть слышно ими похлопывая. Потом уселся, скрестив в виде тирса длинные ноги, и, наклонившись вправо, из левого кармана достал плоский, узорчатый японский кисет, в котором у него хранились папиросная бумага и табак.
С незнакомыми он держал себя замкнуто, вежливо, обдавая их ледяной холодностью. Его высокомерное и принужденное обращение согласовалось с его деланным, бесцветным смехом и отрывистой речью. С первого взгляда он возбуждал серьезное чувство неприязни, которое потом крепло от его высокомерных слов, презрительного молчания, надменных или лукавых улыбок. У Шантелувов его уважали и, главным образом, боялись. Но, узнав ближе, можно было убедиться, что под этим внешним покровом таилась неподдельная доброта, склонность к дружбе, малообщительной, но способной к известному героизму и, во всяком случае, надежной.
Как жил он? Был ли богат или только не нуждался? Никто этого не знал. А сам он, весьма сдержанный, ни с кем не говорил о своих делах. Он был доктором Парижского факультета – Дюрталь видел случайно его диплом, – но о медицине отзывался с безмерным презрением, обратился к гомеопатии из отвращения к пустоте общепризнанного врачевания, но скоро и ее бросил и перешел к болонской медицине, над которой тоже стал издеваться.
Дюрталь по временам не сомневался, что у де Герми есть литературные труды, так как судил он о литературе с уверенностью писателя, раскрывал смысл ее сооружений, разбирал самый безумный стиль с умением знатока, постигшего сложнейшие ухищрения этого искусства. Однажды, когда Дюрталь упрекнул со смехом, что тот скрывает свои литературные работы, он ответил грустно: душа моя пуста в такое время, как наше, время презренного инстинкта к плагиату. Я мог бы подражать Флоберу ничуть не хуже, если не лучше, чем все эти торгаши, которые превозносят его. Но к чему? Я предпочитаю испытывать редкие составы таинственных лекарств, быть может, это бесполезно, но зато менее пошло!
Особенно поражал он объемом своих познаний. Он расточительно делился ими, знал все, был знаком с самыми древними фолиантами, с обычаями старины, с новейшими открытиями. Он вращался в кругу самых необычных бродяг Парижа, изучая различные, часто между собой враждующие науки. Его, такого выдержанного и холодного, можно было встретить в обществе астрологов и кабалистов, демонографов и алхимиков, богословов и изобретателей.
Дюрталь, которому надоели дешевые излияния и лицемерное добродушие художников, был очарован этим замкнутым человеком с такими суровыми и жесткими манерами.
Он достаточно выстрадал от невоздержанных проявлений дружеской назойливости, и этим объяснялось его чувство. Менее понятно, что вопреки своему пристрастию к необычным знакомствам де Герми ощутил влечение к Дюрталю, человеку с печальной душой, сухому и не склонному к крайностям. Очевидно, он испытывал по временам потребность освежиться в атмосфере менее удушливой, менее нагретой. К тому же литературные беседы, которые он так любил, были немыслимы с этими беспокойными людьми, полными неутомимых замыслов, поглощенными лишь своей гениальностью, не интересовавшимися ничем, кроме своих открытий, своих наук.
Де Герми, подобно Дюрталю, совершенно порвавший с собратьями, ничего не мог ждать ни от врачей, которых презирал, ни от всех посещаемых им маньяков.
Встретились, одним словом, два существа, находившиеся в положении почти одинаковом. Но главным образом Дюрталь выгадал от этой близости, сначала сдержанной, недоверчивой и наконец окрепшей в тесную, исполненную заботливости дружбу.
Семья его давно уже вымерла, друзья юности или поженились, или исчезли, и после своего разрыва с миром писателей он был обречен на совершенное одиночество. Де Герми оживил его жизнь, хиревшую в уединении без всякой поддержки извне. Он обновил приток его ощущений, облек новой дружбой и познакомил с одним из своих друзей, которого Дюрталь не мог не полюбить.
Де Герми, часто рассказывавший ему об этом друге, раз решительно сказал: однако надо тебя познакомить с ним. Он любит твои книги, которые я давал ему, и ждет тебя. Ты упрекал меня, что я охотно знаюсь лишь с шутами или людьми подозрительными. В лице Карэ ты встретишь редкостного человека: он разумный католик без ханжества, бедняк, чуждый зависти и злобы.
III
Дюрталь, подобно большинству холостяков, пользовался услугами привратника для нужд домашнего хозяйства. Лишь одни несчастливцы эти знают, сколько мерок масла поглощает слабая лампа, знают, как бледнеет и теряет крепость, не уменьшаясь, бутылка коньяку. Знают, как их скучно встречает гостеприимное ложе, у которого привратник пощадил все, даже малейшие складки. Из опыта познают они наконец, что не всегда можно рассчитывать утолить жажду из чистого стакана, растопить камин, чтобы согреться.
Привратник Дюрталя был усатый старик с горячим дыханием, пропитанным сильным запахом спирта. Человек ленивый и смирный, он на требования Дюрталя, чтобы уборка всегда кончалась утром к назначенному часу, отвечал неистощимым упрямством лени.
Не помогали ни угрозы, ни отказ платить на чай, ни упреки, ни мольбы. Отец Рато приподнимал кепи, проводил рукой по волосам, растроганным голосом обещал исправиться и на другой день приходил еще позже.
– Что за животное! – прошептал Дюрталь, слыша, как в скважине повертывается ключ. Он взглянул на часы и убедился, что привратник является в четвертом часу.
Предстояло претерпеть обычную сумятицу, человек этот, сонный и мирный в своей каморке, становился грозным с метлой в Руке. Воинственные ухватки, кровожадные инстинкты вдруг просыпались в домоседе, привыкшем с самой зари дремать в тепловатом, пряном запахе жаркого. Он превращался в мятежника, берущего приступом кровать, накидывался на стулья, налегал на рамы, опрокидывал столы, расправлялся с тазом и кувшином, как побежденных за волосы влачил за шнурки ботинки Дюрталя, разносил жилище, точно баррикаду, и воздвигал вместо знамени в облаках пыли свою тряпку над мебелью, поверженной во прах.
Дюрталь спасался тогда в ту из комнат, которую привратник оставлял в покое. Сегодня ему пришлось покинуть кабинет, в котором воевал Рато, и спастись в спальне. Оттуда из-за откинутой занавеси он созерцал спину врага, который с метлой над головой, как бы увенчанный короной могиканина, начал вокруг одного из столов свою пляску скальпа.
Знай я по крайней мере час, когда вторгнется этот сыч, я приготовился бы заранее к уходу, со скрежетом зубовным думал он, наблюдая, как, схватив свои полотерные орудия, Рато скреб паркет, подпрыгивал на одной ноге и размахивал с рычанием щеткой.
Победоносный, вспотевший, показался он в дверях, направляясь убирать комнату, в которой укрылся Дюрталь. Вместе с кошкой пришлось теперь вернуться Дюрталю в усмиренный кабинет. Встревоженное суетой животное ни на шаг не отставало от хозяина, терлось около его ног и последовало за ним в освободившуюся комнату.
Тем временем позвонил де Герми.
– Я надену башмаки и мы уйдем, – воскликнул Дюрталь. – Постой, – и, проведя рукой по столу, он как бы облек ее в перчатку серой пыли, – взгляни, эта скотина переворачивает все вверх дном, сражается сам не знаю с чем и в конце концов после его ухода пыли еще больше!
– Почему возмущает тебя так пыль, – ответил де Герми. – Помимо того, что у нее вкус застарелого бисквита и блеклый запах древней книги, она как бы набрасывает на вещи воздушно-бархатный покров, осыпает их мельчайшим сухим дождем, смягчает чрезмерные краски, грубые тона. Она – одеяние запустения, пелена забвения. Думал ты над горестной судьбой людей, которые действительно вправе проклинать ее?
Представь себе существование человека, обитающего в одном из парижских пассажей. Вообрази кашляющего кровью и задыхающегося чахоточного где-нибудь в комнате второго этажа под двускатной крышей пассажа, ну хотя бы пассажа Панорамы. Окно открыто, поднимается пыль, насыщенная табачными осадками и пряным потом. Несчастный задыхается, умоляет дать ему воздуха. Бросаются к окну, но... преградить доступ пыли, облегчить ему дыхание можно, лишь закрыв окно и уединив больного... и окно закрывают.
Менее благословенна, черт возьми, пыль, вызывающая кровавый кашель, чем та, на которую ты жалуешься.
Но готов ты, идем?
– По какой улице пойдем мы? – спросил Дюрталь.
Де Герми не отвечал. Пройдя улицу Регар, на которой жил Дюрталь, они спустились до Круа Руж по улице Шерш-Миди.
– Дойдем до площади св. Сюльпиция, – сказал де Герми и, помолчав, прибавил:
– Если взглянуть на пыль как на прообраз начала и напоминание о конце, то тебе будет, вероятно, ново узнать, что после смерти трупы наши поедаются разными червями, смотря по тому, жирны мы или худы. В трупах людей толстых находят червей, называемых ризофагами. В трупах людей худых наблюдается исключительно другой вид – форосы. Последние, очевидно, наивысшая порода червивого царства, аскетические черви, презирающие изобильную трапезу, пренебрегающие лакомиться жирными грудями, поедать отменные тучные животы. И подумать только, что совершенного равенства нет даже в том, как превратится каждый из нас в смертный прах! Кстати, мы не пойдем дальше, друг мой.
Они вышли на площадь и остановились на углу улицы Феру. Дюрталь поднял голову и прочел надпись над открытыми вратами придела церкви св. Сюльпиция: «Можно осматривать башни».
– Войдем! – пригласил де Герми.
– К чему? В такую погоду!
И Дюрталь показал пальцем на сумрачное небо, по которому, точно дым фабрик, плыли черные облака. Они стлались так низко, что в гущу их, казалось, врезались белые железные печные трубы и, выделяясь над крышами, как бы пробивали в них бойницы.
– Меня не прельщает подъем по лестнице из неровных ступе ней, и потом, чего надо тебе там, наверху – моросит, ночь опускается... Нет, уволь!
– Разве тебе не все равно, где гулять? Пойдем и, уверяю тебя, ты увидишь там нечто неожиданное.
– У тебя что-то на уме?
– Да.
– Почему же ты молчишь! – и вслед за де Герми он скрылся под вратами. Маленькая лампада, висевшая на гвозде, освещала дверь в глубине свода. Дверь вела на башню.
Долго карабкались они в сумерках по винтовой лестнице, и Дюрталь начал уже думать, что сторож куда-нибудь ушел, как вдруг свет замерцал из-за поворота, и, круто завернув, они остановились у двери, освещенной висевшей перед нею лампадой.
Де Герми дернул шнурок звонка. Дверь открылась. Они увидели над собою на ступеньках вровень со своими лицами освещенные ноги человека, тело которого окутывал мрак.
– Ах, это вы, господин де Герми, – и, дугообразно согнувшись, на свет выставилась женщина средних лет. – Как хорошо! Луи будет рад видеть вас.
– Где он? – спросил де Герми, пожимая руку женщины.
– На башне. Но вы пока отдохнете?
– Теперь нет. Если хотите, на обратном пути.
– Идите в таком случае наверх до решетчатой двери... Впрочем, какая я глупая, вы знаете все не хуже моего.
– Конечно... Сейчас же! Позвольте, кстати, представить друга моего Дюрталя.
Дюрталь во мраке поклонился изумленный.
– Ах, как я рада, сударь! Луи так желал с вами познакомиться!
«Куда ведет он меня?» – думал Дюрталь, снова карабкаясь во тьме вслед за своим другом по лестнице, освещенной лишь мимолетными отсветами, падавшими из бойниц. Теряясь во мраке, цеплялись они за мелькавшие нити дня. Восхождение казалось бесконечным. Наконец остановились перед решетчатой дверью и, толкнув ее от себя, ступили на деревянный помост, висевший над бездной, на дощатую кровлю двойного колодца, как бы вырытого под их ногами вглубь и одновременно уходившего над ними в высоту.
Де Герми, бывший, по-видимому, здесь как дома, жестом указал на обе пропасти.
Дюрталь осмотрелся.
Он стоял внутри башни, которую пересекали сверху донизу огромные, толстые доски, положенные в виде римской цифры X, балки, связанные брусьями, перехваченные болтами, скованные винтами величиной с кулак. Дюрталь не видел никого. Повернувшись на помосте, он пошел вдоль стены по направлению к свету, падавшему из-под сводчатых навесов над бойницами.
Свесившись над пропастью, он разглядел теперь у себя под ногами огромные колокола, подвешенные к дубовым брусьям, окованным железом. Колокола, подобные вазам из темного металла, колокола из тяжелой, точно маслом умащенной меди, в которой, не отражаясь, тонули лучи дня.
Новые ряды колоколов увидел он, отойдя назад, над головой, в пропасти, уходившей ввысь. На их стенках выступал литой выпуклый лик епископа. Золотистым отблеском мерцали внутри чаш отдельные полосы, образовавшиеся от долголетнего биения языком.
Царило безмолвие; лишь ветер шелестел в покатых навесах бойниц, крутился вокруг балок, громко бурлил на вьющейся лестнице, завывал, сдавливаемый чашами колоколов. Вдруг щеки Дюрталя овеяло трепетание воздуха, безмолвное дуновение кроткой воздушной струи. Он поднял глаза и увидел, что один из колоколов заколыхался, заволновал воздух, потом вдруг зазвонил, как бы вдохновившись, и его, подобный огромному песту, язык стал извлекать из бронзы грозные звуки. Башня сотрясалась, помост, на котором он стоял, дрожал, точно площадка железнодорожного вагона. Непрерывный величественный рокот разносился, отражая дробный гром ударов.
Старательно рассматривая потолок башни, он не заметил никого. Затем ему удалось увидеть ногу, висевшую в пустоте и раскачивавшую одну из двух деревянных педалей, прикрепленных к языку каждого колокола, и, наконец, когда он почти лег на доски, он увидел звонаря, который, держась руками за две железные скобы и устремив к небу глаза, сохранял равновесие над пропастью.
Дюрталь, не видевший никогда такой бледности, такого странного лица, поразился. Бледность этого человека не походила ни на восковой цвет выздоравливающих, ни на матовый оттенок кожи продавщиц духов, обесцвеченной ароматами. Его кожа не была серо-пепельной кожей растиралыциков нюхательного табака. Цветом своего лица, синеватым, бескровным, он напоминал средневековых узников, на целую жизнь замурованных в душном мраке сырых темниц.
Голубые, круглые, выпуклые глаза были подернуты мистическою влажностью, но им странным образом противоречили жесткие, колючие усы. Человек этот казался одновременно и кротким, и воинственным, почти неизъяснимым.
В последний раз нажав педаль колокола, он откинулся назад и твердо встал на ноги. Утерев потный лоб, улыбнулся, увидев де Герми.
– А, это вы, отлично!
Лицо его просияло, когда, сойдя, он услыхал имя Дюрталя. Пожимая ему руку, он сказал:
– Верьте, что вы желанный гость. Друг ваш, который беспрестанно говорит о вас, слишком долго скрывал вас.
– Пойдемте, – продолжал он радостно, – я покажу вам свое маленькое царство. Я читал ваши книги, уверен, что, как и мы, вы полюбите колокола. Но их надо рассматривать, поднявшись выше.
И он устремился на лестницу. Де Герми, пропустив Дюрталя вперед, замыкал шествие.
Снова началось восхождение в извивающейся полутьме.
– Это, конечно, друг твой Карэ? Почему не сказал ты мне, что он звонарь? – спросил Дюрталь.
Но в это мгновение они подходили к каменному своду на самой вершине колокольни. Карэ пропустил их вперед, и де Герми не успел ответить. Они вошли в круглый покой, посредине которого у ног их зияла большая скважина, обнесенная железным перилами, изъеденными оранжевой ржавчиной.
Глаз тонул в бездонной пропасти, если всмотреться приблизившись. Казалось, что на самом деле смотришь в отверстие камня над колодцем, и что колодец этот чинится. Казалось, что скелет перекрестных брусьев, на которых висели колокола, опущен в глубину сруба, чтобы подпереть стены.
– Подойдите, сударь, не бойтесь, – пригласил Карэ, – взгляните, что за очаровательные создания!
Но Дюрталь плохо слушал его. Его угнетала бездна, эта зияющая дыра, из которой несся далекий рокот, умирающий гул колокола, очевидно, все еще дрожавшего, прежде чем погрузиться в полную тишину, застыть в совершенном покое.
Он отступил.
– Хотите подняться на самый верх башни? – спросил Карэ, указывая на железную лестницу, вделанную в стену.
– Нет, в другой раз.
Они начали спускаться, и сделавшийся молчаливым Карэ открыл новую дверь. Они вошли в обширную кладовую, в которой стояли исполинские статуи святых и апостолов, побитые, запущенные, обезображенные. Они увидели св. Матфея с отрубленной ногой и перешибленной рукой, св. Луку с половиной быка, св. Марка с искривленными ногами и с отбитым клоком бороды, св. Петра с ключами на поясе, воздевавшего обрубки.
– Раньше здесь стояла качель, – сказал Карэ,— отбою не было от шалунов. Совершались, конечно, бесчинства... За несколько су здесь в сумерках допускались такие вещи! Настоятель приказал наконец убрать качель и запереть покой.
– А это? – спросил Дюрталь, заметив в углу огромный круглый осколок металла, нечто вроде исполинской полускуфьи, подернутой пылью и окутанной пеленой тонкой паутины, которая, точно невод свинцовыми шариками, усеяна была искривленными тельцами мертвых пауков.
– Это! Ах, сударь! – и тусклый взгляд Карэ оживился, засверкал. – Это мозг древнего колокола, издававшего несравненные звуки! Звон его подобен был небесному благовесту!
Вдруг он сделался угрюмым.
– Наверное, говорил вам де Герми, что песня колоколов спета или, вернее, нет больше звонарей, Теперь нанимают угольщиков, кровельщиков, каменщиков, бывших пожарных, платят им франк, и они звонят! Ах! Если б вы видели их! Но бывает и хуже. Вы не поверите, но есть настоятели, которые не постесняются сказать вам: наберите за десять су на улице солдат и пригласите их звонить. Дошло до того, что недавно в Соборе Богоматери был звонарь, который не умел отставить ноги. Колокол трезвонил пронзительно, резко, отрывисто, звенел, как бритва.
И эти господа способны истратить тридцать тысяч франков на балдахин. Они разоряются на музыку, хотят завести в церквах газ, устраивают какую-то потеху тру-ла-ла! А если заговорить с ними о колоколах, они пожимают плечами. Знаете вы, господин Дюрталь, что во всем Париже только два ученых звонаря: я и еще отец Мишель, человек холостой, разгульный, который не годится для постоянной должности при церкви. Как звонарь он не имеет себе равных, но даже он охладевает к делу, напивается, работает пьяный или полупьяный; отработав, пьет снова, пока не заснет.
Ах! Конечно! Колокольный звон умер! Представьте, сегодня утром его преосвященство удостоил церковь своим пастырским посещением. В восемь часов надо было звонить в честь его прибытия. Шесть колоколов, которые вы видели, зазвонили сначала. Шестнадцать верхних подзванивали. Что за позор! Звонари трезвонили, как истые бездельники; сбивались с такта, путались, звонили точно на смех!
Они начали спускаться. Карэ замолчал.
Потом обернулся и, пристально посмотрев на Дюрталя своими голубыми, влажными, вдруг вспыхнувшими глазами, заметил:
– Колокола – это единственная истинная музыка церкви!
Они дошли до обширной, расположенной над самой папертью, крытой галереи, на которой покоились башни. Карэ улыбнулся и показал набор крохотных колокольчиков, подвешенных на доске промеж двух колонн. Он потянул за нити, раздался нежный звук меди, и, очарованный, закатив глаза, прикусив усы, слушал он прозрачные созвучия, таявшие в тумане. Вдруг он выпустил нити.
– Я всегда мечтал, – начал он, – что здесь буду обучать и готовить своих учеников. Но никто не хочет учиться теперь ремеслу, которое дает все меньше дохода, свадебный звон вывелся, и мало кто осматривает башни! В сущности я не могу, – продолжал он, пока они спускались, – жаловаться на свою судьбу. Я не выношу улиц, и мне тяжело бывать там, внизу. С колокольней я расстаюсь лишь по утрам, когда выхожу на площадь запастись ведрами воды. Но жену утомляет жить так высоко, а по временам здесь творится что-то ужасное, когда нанесет снегу во все бойницы, и мы сидим точно осажденные, а ветер ревет и воет!
Они добрались до жилища Карэ.
Жена его ожидала на пороге и пригласила их войти.
– Зайдите, господа, вам следует передохнуть, – и указала на стаканы, которые она приготовила на столе.
Звонарь закурил маленькую трубку. Де Герми и Дюрталь свернули папиросы.
– Вы недурно устроились, – заметил Дюрталь, чтобы что-нибудь сказать. Он осматривался в обширном сводчатом покое из тесаного камня, освещенном полукруглым окном под потолком. Пол, вымощенный плитами, был почти весь закрыт старым ковром, меблировка покоя отличалась крайней простотой: круглый обеденный стол, старые кресла, обитые утрехтским бархатом грифельно-голубого цвета, маленький буфет лакированного ореха, заставленный бретонским фаянсом, блюдами и судками. Против буфета – небольшой библиотечный шкаф черного дерева, в котором было, наверное, около пяти десятков книг.
– Вы смотрите на книги, – сказал Карэ, не спускавший глаз с Дюрталя. – О! Не судите строго. Там ничего, кроме орудий моего ремесла!
Дюрталь подошел. По-видимому, библиотека главным образом состояла из произведений о колоколах. Он прочел заглавия.
На древнем тоненьком томике в пергаменте он разобрал рукописную надпись цвета ржавчины: «De Tintinnabul's» Джерома Магиуса (1664), затем наткнулся на «Занимательное и поучительное повествование о церковных колоколах» доминиканца Реми Каррэ. Нашел еще одно «Поучительное повествование» – анонимное. Увидел «Рассуждение о колоколах» Жана Баптиста Тьера, настоятеля в Шампроне и Вибрэ, тяжелый том, сочиненный неким архитектором по имени де Блавиньяк, другой поменьше, озаглавленный: «Опыт о символике колоколов», сочинение одного из приходских священников в Пуатье, «Заметку» аббата Барро. Наконец, несколько тонких книжек без переплетов и заглавия в обложках серой бумаги.
– Все это – пустяки, – заметил со вздохом Карэ. – Лучших у меня нет – нет «De campanis Commentarius» Анджело Рокки и «De Tintinnabulo» Персичеллиуса. Они редки и потом так дороги!
Дюрталь бегло осмотрел остальные книги, преимущественно благочестивые творения. Там были Библии, латинская и французская, «Подражание Иисусу Христу», мистика Герреса в пяти томах, «История и теория религиозного символизма», сочиненная аббатом Обером, «Описание ересей» Плюке и, наконец, «Жития святых».
– Как видите, здесь нет светской литературы, сударь, нокнигами, которые мне интересны, меня снабжает де Герми.
– Болтун, дай сперва нашему гостю сесть, – вставила жена,протягивая Дюрталю налитый стакан, и Дюрталь отведал искрометного, ароматного, подлинного сидра.
Когда он начал хвалить отменный вкус напитка, она рассказала ему, что они получают сидр из Бретани и что родные ее изготовляют его в Ландевенеке, откуда она родом.
Услышав от Дюрталя, что он провел один день в этой деревушке, она пришла в восторг. «Мы с вами близкие знакомые», – объявила она, пожимая ему руку.
Дюрталя убаюкало тепло железной печки, труба которой протянулась зигзагами и выходила в окно, примыкая к железному листу, вставленному вместо стекла; его разнежило умиротворяющее настроение, которое исходило от Карэ и его славной жены, женщины с лицом бледным, но бодрым, со взором смиренным, но открытым, и он отдался своим думам, мысленно унесся далеко от города. Созерцая приветливое жилище этих честных людей, он думал, что хорошо было бы стать хозяином этой комнаты и соорудить себе здесь над Парижем мирное убежище, благовонный, сладостный покой. Жить здесь, витая в облаках, живительной жизнью отшельничества и годами совершенствовать свою книгу. А потом, разве не сказочное счастье как бы вознестись над временем и в то время, как торжище людского безумия будет разбиваться о подножие башен, перелистывать древние книги при слабом свете зажженной лампы!
Он улыбнулся наивности своих мечтаний.
– Все равно, но у вас здесь хорошо, – сказал он, как бы подводя итог своим думам.
– О, не так-то хорошо! – начала жена. – Правда, жилище обширно, у нас две просторные спальни не меньше этой комнаты и еще антресоли, но все так неудобно, и потом здесь, знаете, такой холод! И нет кухни! – продолжала она, показывая на очаг, не уместившийся на узкой площадке и занимавший часть лестницы.— Но, помимо всего, я старею, мне уже не по силам подниматься на столько ступеней, когда я возвращаюсь домой с провизией.
– Представьте себе, в этом погребе нельзя даже вбить гвоздя в стену, – добавил муж. – Гвозди гнутся и ломаются о каменные, тесаные стены. Я, впрочем, прямо рожден для нашего жилища, ну а она – она мечтает уехать на склоне дней своих в Ландевенек!
Де Герми поднялся. Они пожали друг другу руки, и чета Карэ взяла с Дюрталя слово, что он придет опять.
– Что за славные люди! – воскликнул он, выйдя на площадь.
– Не забудь при этом, что Карэ ценный советник и сведущ во многом.
– Но объясни мне, черт возьми, почему он, человек образованный, не первый встречный, посвятил себя ремесленному труду... Труду простого рабочего?
– Если б он слышал тебя! Звонари средневековья не были, друг мой, презренными нищими, но бесспорно, что современные звонари пали очень низко. Я не доискивался, почему Карэ посвятил себя колоколам. О нем я знаю лишь, что учился он в Бретани в семинарии и, проверив свою совесть, не сочтя себя достойным священнического сана, приехал в Париж и поступил учеником к звонарю отцу Жильберу, человеку весьма одаренному и ученому, который хранил в своей келье при Соборе Парижской Богоматери редкостнейшие древние планы Парижа. Это был не столько ремесленник, сколько страстный собиратель документов, относившихся к парижской старине. Из Собора Богоматери Карэ перешел в церковь св. Сюльписия и служит при ней уже более пятнадцати лет!
– Как ты познакомился с ним?
– Сначала как врач. Потом мы сошлись ближе и подружились еще десять лет назад.
– Странно, что в нем нет следов угрюмости, которой веет отбывших семинаристов.
– Карэ проживет еще несколько лет, – продолжал де Герми, как бы размышляя, – а потом настанет его смертный час. Церковь, которая уже ввела газ в храм, кончит тем, что заменит колокольный звон громкими, однозвучными ударами. Это будет очаровательно: приборы, приводимые в действие электричеством. Они будут разносить истый протестантский благовест, краткие призывы, суровые веления.
– Жена Карэ вернется на родину.
– Для этого они слишком бедны. И притом Карэ погибнет, утратив свои колокола. Разве не любопытна эта привязанность человека к предмету, который он одухотворяет? Вспомни любовь механика к своему прибору. Люди способны полюбить как живое существо вещь, которая повинуется им, за которой они ухаживают. Конечно, колокол – орудие необычное. Его крестят как человека и освящают, умащая благодатной миррой. По правилам архиерейского требника, епископ святит колокол, семикратно помазуя его крестообразно внутри чаши елеем соборования. Так установлено, чтобы колокол нес умирающим утешительный голос подкрепления в часы предсмертных содроганий.
Колокол предназначен затем быть герольдом церкви – ее наружным голосом, подобно тому, как священник есть ее голос внутренний. Это не простой кусок бронзы, не опрокинутая ступка, в которую ударяют. Не забудь, наконец, что, подобно старым винам, колокола с годами утончаются. Песнь их становится гибче, прозрачнее. Они утрачивают резкость, незрелость звука. Это объясняет отчасти, почему колокола можно полюбить!
– Однако ты хорошо изучил, черт возьми, вопрос о колоколах!
– Я, – смеясь ответил де Герми, – сам я ничего не знаю... Я повторяю лишь, что слышал от Карэ. Спроси у него разъяснений, если это тебя занимает. Он преподаст тебе символизм колоколов. Он глубокий, несравненный знаток в этой области.
Дюрталь начал мечтательно:
– Я живу в квартале монастырей, на улице, воздух которой c самой зари насыщен волнами колокольного звона, и отлично помню, как, больной, я по ночам ждал как освобождения утреннего благовеста. На рассвете под звон колоколов чувствовал себя как бы убаюканным нежнейшей грезой, овеянным далекой, таинственной лаской. Точно живительный бальзам, изливался на мою скорбь! Во мне появлялась уверенность, что есть люди, которые стоят теперь и молятся за других, а следовательно, и за меня. Я не чувствовал себя больше одиноким. Бесспорно, что прежде всего звуки эти созданы для больных, одержимых бессонницей.
– Не только для больных. Колокола несут также умиротворение душам воинственным. Надпись «расо cruentes » – «смиряю злобствующих», которая была начертана на одном из них, удивительно в сущности верна!
Настроенный этой беседой, Дюрталь вечером, один лежа у себя дома в постели, отдался своим мечтам. Точно откровение овладели им слова звонаря, что колокола есть истинная музыка церкви. Его мечтания погрузились вдруг в глубь веков, пред ним предстали образы средневековья. Он видел медленно шествующих монахов и между ними коленопреклоненную паству мирян, благоговейно, как утеху освященного вина, впивающую чистые капли прозрачных звуков.
В памяти его воскресли все известные ему частности древнего богослужебного чина: благовест к утрене, благозвучные звоны, разносившиеся над тесными, извилистыми улицами, над стрельчатыми башенками, узкими высокими домами, зубчатыми стенами с вырезанными в них бойницами. Он вспомнил звоны, возвещавшие часы: час первый и третий, сексты и ноны, вечерни и повечерия, вспомнил ясный смех маленьких колоколов, славивший городские радости, и крупные слезы горестных басов, возвещавших городскую скорбь.
Искусные звонари, истые знатоки созвучий, отражали в те времена душу города в своих воздушных ликованиях и печалях! Как покорные сыны и преданные дьяконы служили они колоколам, которые по образу самой церкви предназначены были смиреннейше народу. Как священник слагает с себя ризу, так и колокол по временам извлекал из себя свои благочестивые звоны. В дни торга и ярмарок он держал речь к малым сим, в дождь приглашал их обсуждать свои нужды в преддверии храма. И святостью места сообщал неизбежным спорам и жестким сделкам ту честность, которая теперь утрачена навек!
Теперь язык колоколов мертв, их звоны пусты и бессмысленны. Карэ прав. Человек этот, живший вне человечества, в воздушной могиле, верил в свое искусство и потому влачил бесцельную жизнь. Излишний, ненужный, прозябал он в обществе, которое тешится песнями концертов. Он казался увядшим, чуждым современности созданием, обломком, выброшенным из глубины веков, обломком, безразличным для жалких рясоносцев конца этого века, не убоявшихся ради привлечения в гостиные своих церквей нарядной, толпы оглашать церкви вальсами и каватинами, разыгрываемыми на больших органах, которыми управляют – о, верх святотатства! – ростовщики музыки, торговцы балетов, производители опер-буф!
Бедный Карэ, подумал он, задувая свечу. Вот еще один, который любит современность не более, чем я или де Герми. Но он печется о своих колоколах, и среди питомцев у него есть, наверное, один излюбленный. Но, в общем, он не так уж несчастен. Подобно нам создал он себе любимую утеху, создал нечто такое, что дает ему возможность жить!
IV
– Как у тебя подвигается, Дюрталь?
– Я кончил первую часть жизнеописания Жиля де Рэ; старался как можно более кратко описать его заслуги и добродетели.
– Они неинтересны, – заметил де Герми.
– Без сомнения. Лишь как символ чудовищной порочности сохранилось на протяжении четырех веков имя Жиля. Теперь я подошел к преступлениям. Самое трудное, по-моему, объяснить, каким образом этот доблестный военачальник и набожный христианин становится вдруг святотатцем, садистом, мерзостным злодеем.
– Я не знаю другого столь же внезапного переворота души.
– Биографы его поражены этим колдовским превращением души, этим духовным перерождением, совершающимся, как в театре, по мановению жезла. Очевидно, в жизнь его вплетались пороки, следы которых утрачены, вторгались невидимые грехи, о которых умалчивают хроники. Сделав общую сводку документов, которые дошли до нас, мы находим следующее: Жиль де Рэ родился в 1404 году на границе Анжу и Бретани, в замке Машекуль. О его детстве мы не имеем никаких сведений. Отец его умер в конце октября 1415 года. Мать вскоре вступила во второй брак с неким сеньором д'Естувилем и покинула Жиля и его брата Рене де Рэ». Опекуном его делается дед Жан де Граон, сеньор Шанптосе и Ла Сюз, «человек дряхлый, древний, весьма престарелый», как гласят хроники. Тихий, беззаботный старик не пек ся о нем, не следил за его воспитанием, но поспешил от него отделаться, женив его 30 ноября 1420 года на Екатерине де Туар.
Пятью годами позже Жиль де Рэ показывается, как удостоверено, при дворе дофина. Современники изображают его человеком нервным и могучим, опьяняюще красивым, на редкость изысканным. Источники молчат о положении, которое он занял при дворе, но, представив себе приезд Жиля, богатейшего из сеньоров Франции, к бедному королю, мы можем легко восполнить их.
Как известно, Карл VII находился тогда в крайности. Денег у него не было, он лишился обаяния и утратил почти всю власть. Ему повиновались лишь города вдоль Луары, и положение Франции, истощенной насилиями, несколько лет назад опустошенной чумой, было ужасно. Англия терзала ее до крови, высасывала до самого мозга, подобно сказочному осьминогу восстав из моря и охватив Бретань, Нормандию, часть Пикардии, Иль де Франс, весь север и сердцевину страны вплоть до Орлеана своими раскинутыми от залива жадными щупальцами, не оставлявшими после себя ничего, кроме разоренных городов и вымерших деревень.
Тщетными оставались призывы Карла, требовавшего вспоможений, изобретавшего поборы, выжимавшего налоги. Истощенные, покинутые города, населенные волками поля не могут помочь королю, права которого на престол сомнительны. Он горюет, где можно попрошайничает, изливается в напрасных просьбах. Его маленький двор в Шиноне становится гнездом интриг, кончающихся иногда убийствами. Утомленные облавами» чувствуя ненадежность убежища по ту сторону Луары, Карл и его сторонники в конце концов ищут в чрезмерном разврате утешения от надвигающихся бедствий. Грабежом и займами добывает себе это королевство одного дня на изобильные яства и пьяный разгул, в которых находит забвение беспрестанных тревог и страхов. Осушая кубки и обнимая блудниц, презрительно отбрасывает он мысль о завтра.
Да и чего ждать, наконец, от короля ленивого, преждевременно поблекшего, рожденного бесстыдной матерью и безумным отцом?
– О! Все, что ты сказал о Карле VII, бледно в сравнении с его портретом, написанным Фукэ и находящимся в Лувре. Я часто останавливался перед этой презренной рожицей, перед этим свиным рыльцем с глазами сельского ростовщика, с губами жалостливыми и лицемерными, наводящими на мысль о певчем. Порою кажется, что Фукэ изобразил простуженного порочного священника, чувствующего приступ пьяной грусти! Угадываешь, что этот выродившийся мелкий облик, не столько похотливый, сколько расчетливо-жестокий, упрямый и хищный, даст такого сына и преемника, как король Людовик XI. Не забудем, что он приказал умертвить Иоанна Бесстрашного и покинул Жанну д'Арк – уже этого довольно, чтобы вынести ему приговор!
– Правда. Итак, Жиль де Рэ, снарядивший за свой счет полки, был, наверное, принят при этом дворе с распростертыми объятиями. Он, несомненно, оплачивал расходы на турниры и пиры, царедворцы ретиво опустошали его мошну, и он ссужал короля значительными деньгами. Но, несмотря на достигнутые успехи, он не уподобился Карлу VII и не погряз в обдуманно-похотливом сладострастии. Почти сейчас же после того мы находим его в Анжу и Мэне, которые он обороняет от англичан. Он выказал себя там «доблестным и отменным военачальником», как утверждают хроники, но, однако, вынужден был спастись бегством от подавляюще многочисленных врагов. Английские полчища соединялись, наводняли страну, растекались все дальше и дальше, проникали в самую сердцевину страны. Король думал спастись на юге, покинуть Францию, но как раз в этот миг выступила Жанна д'Арк.
Жиль возвращается к Карлу, и тот поручает ему охрану и защиту Девы. Он всюду следует за ней, охраняет ее в битвах, даже под стенами Парижа, он возле нее в Реймсе – в день коронования, когда во внимание к его доблестям, как выражается Монетреле, король назначает его – двадцатипятилетнего – маршалом Франции!
– Черт возьми, – прервал де Герми, – они быстро подвигались в те времена. Может быть, потому, что не были такими косными и тупыми, как раззолоченные сычи современности!
– О! Но не смешивай. Тогда титул маршала Франции не был еще тем, чем сделался он впоследствии в царствование Франциска I и особенно при императоре Наполеоне.
Как вел себя по отношению к Жанне д'Арк Жиль де Рэ? Источники об этом молчат. Балле де Виривиль, не приводя ни малейших доказательств, обвиняет его в предательстве. Аббат Боссар утверждает, наоборот, что Жиль был предан ей, ревностно охранял ее, и мнение это он подкрепляет достоверными соображениями.
Несомненно одно: пред нами человек, душа которого пропитана мистическими идеями, и доказательство тому – вся его жизнь. Он тесно соприкасается с необычной Девой, подвиги которой как бы доказывают, что возможно божественное вмешательство в земные судьбы.
Он созерцает чудо, как простая крестьянка укрощает двор негодяев и разбойников, как она вдохновляет трусливого короля, помышляющего о бегстве. Он свидетель невероятного события, как девушка, точно кротких овец, пасет диких ланей – Ла Гира и Ксэнтрэля, Бомануара и Шабання, Дюнуа и Гокура, как, повинуясь ее голосу, они сбрасывают с себя свой природный облик и обрастают руном. Сам он, подобно им, несомненно, насыщается непорочной проповедью, причащается святых тайн утром перед битвами, обожает Жанну как святую.
Он видит, наконец, что Дева исполняет свои обещания. Она добивается снятия осады с Орлеана, коронования короля в Реймсе и после того объявляет сама, что предназначение ее кончено, как о милости просит
отпустить ее домой.
Можно биться об заклад, что мистицизм Жиля воспламеняется в такой среде. Пред нами человек, в котором душа воина сочеталась с душой монаха: человек, который...
– Прости, что перебью тебя, но я не убежден в такой степени, как ты, что вмешательство Жанны д'Арк было благодетельно для Франции.
– Как?
– Да. Выслушай. Защитниками Карла VII главным образом, как тебе известно, были бандиты юга, пылкие, жестокие разбойники, проклинаемые даже тем народом, на защиту которого объявились. Столетняя война была в сущности войной юга с севром. Англия в те времена была едина с Нормандией, ранее покорившей ее, передавшей ей расу, обычаи, язык. Если бы Жанна д'Арк не покидала дом и продолжала бы жить под материнским кровом, то очевидно, что Карл VII был бы лишен престола и войне наступил бы конец. Плантагенеты царили бы над Англией и Францией – странами, которые в доисторические времена, когда еще не существовал Ла-Манш, были единою землей, единым материком. Образовалось бы единое, могучее королевство севера, которое, простираясь до провинций Лангедока, охватило бы в своих границах людей, близких по вкусам, страстям, нравам.
Коронование Валуа в Реймсе создало, наоборот, королевство без внутренней связи – Францию без смысла. Оно разъединило родственные связи и сплавило народности, наиболее трудноплавкие, расы, наиболее враждующие. Оно, увы! надолго наградило нас смуглолицыми людьми с блестящими глазами, потребляющими шоколад и жующими чеснок, людьми, которые скорее испанцы или итальянцы, но отнюдь не французы. Не будь Жанны д'Арк, Франция не принадлежала бы этому племени шумных хвастунов, ветреных и коварных, этой проклятой латинской расе, унеси ее дьявол!
Дюрталь пожал плечами.
– Каково! – заметил он, усмехаясь. – Ты рассуждаешь как человек, которому небезразличны судьбы отечества. Впрочем, я в этом не сомневался никогда.
– Ты прав, – отвечал де Герми, раскуривая потухшую папиросу. – Но я согласен с древним поэтом д'Естернадом: «Отечество мое там, где мне хорошо». А хорошо мне лишь с северянами! Но я перебил тебя. Вернемся к Жилю. На чем ты остановился?
– Не помню. Ах, да, я сказал, что Дева выполнила свою задачу. Теперь напрашивается один вопрос: что творится с Жилем, что предпринимает он после ее пленения и смерти? Никто не знает. Самое большее, что можно отметить, – присутствие его во время ее процесса в окрестностях Руана. Но отсюда еще слишком далеко до вывода некоторых его жизнеописателей, что он хотел попытаться спасти Жанну д'Арк!
Потеряв его после того из виду, мы находим его снова, когда двадцати шести лет от роду он уединяется в замке Тиффож. Теперь он уже не тот закоренелый воин и рубака, каким мы его знали. Вместе с зачатками порочных деяний в нем пробуждаются художник и писатель, и, сочетавшись с мистицизмом, которому он отдается, раскрывшиеся дарования Жиля подстрекают его к ученнейшим жестокостям, к преступлениям самым утонченным.
Каким исключительным и одиноким для своего времени кажется этот сеньор де Рэ. В то время как тогдашние люди его круга уподобляются простым животным, он жаждет воскресить погибшую изысканность искусства, грезит о литературе, разящей и далекой, сам сочиняет исследование, как вызывать демонов, обожает музыку церкви, стремится окружить себя редкостями, вещами, которых нельзя найти.
Он был ученым-латинистом, одаренным собеседником, благородным и верным другом. Владел библиотекой, исключительной для того времени, когда чтение ограничивалось теологией и житиями святых. До нас дошли и список, и описание некоторых его манускриптов: Светоний, Валерий Максим, Овидий на пергаменте, переплетенный в красную кожу, с серебряными вызолоченными застежками, запирающимися на ключ.
Он безумно любил эти книги, возил их повсюду с собой во время своих путешествий. Он пригласил к себе художника по имени Томас, украшавшего их литеры и оживлявшего текст миниатюрами. Сам он рисовал эмали, которые разысканный с большим трудом искусный мастер вставлял в серебряно-золотые доски переплетов. Ему нравились торжественные, причудливые предметы обихода. Он восторгался древними тканями, чувственными шелками, золотистыми сумерками старой парчи. Любил яства, изысканно приправленные пряностями, хмельные вина с утонченными ароматами. Грезил необычными драгоценностями, мятежными металлами, безумными камнями. Он был диссидент XV века!
Все это стоило дорого! Но еще дороже стоил ему пышный двор, окружавший его в Тиффоже, придававший этой крепости совершенно необычный вид.
Более двухсот человек составляли его свиту: рыцари, капитаны, конюшие, пажи, у всех были слуги, богато содержимые за счет Жиля. С безумием граничила роскошь его капеллы и ее духовенства. По степеням духовенства Тиффож мало чем отличался от столицы. Здесь были: декан, викарии, казначеи, каноники, клерки, дьяконы, наставники богословия, мальчики хора. Сохранилась перепись стихарей, епитрахилей, меховых облачений, головных уборов хора, сделанных из тонкого металла, опушенного дорогой белкой. Священной утвари было в изобилии. Мы встречаем: престольные покровы драгоценной золотой парчи, занавеси зеленого шелка, мантию малинового бархата, украшенную золотой узорчатой парчой, другую дамаского алого шелка, атласные дьяконские стихари, фигурные балдахины, расшитые кипрским золотом. Встречаем блюда, чаши, дароносицы, осыпанные, унизанные негранеными драгоценными камнями, украшенные геммами, встречаем реликвии и между ними серебряную голову святого Гонория – целую груду искрометных драгоценностей, которые чеканит по своему вкусу художник, властвующий в своем замке.
Не уступали и другие траты. Его трапезы были открыты для званых и незваных. Целые караваны стекались со всех концов Франции к этому замку, в котором художники, поэты, ученые встречали княжеское гостеприимство, приветливое, ласковое обращение, подарки в память желанного свидания и щедрые дары при расставании.
Состояние его, уже ослабленное тяжелыми затратами, понесенными на войну, поколебалось от таких издержек. Тогда он ступил на гибельный путь займов. Он занимал у презренных торгашей, закладывал замки, продавал свои земли. Бывал иногда вынужден брать деньги под залог священной утвари, драгоценностей, книг.
– Приятно убедиться, – заметил де Герми, – что в средние века люди разорялись немногим иначе, чем наши современники. Не было только Монако, биржи и нотариусов!
– Но зато были алхимия и колдовство! Из записки, которую подали королю наследники Жиля, видно, что его исполинское богатство растаяло менее чем в восемь лет!
Сегодня он за бесценок отчуждает некоему капитану конной службы свои сеньории Консоленс, Шабань, Шатоморан, Ломбер, завтра епископ Анжуйский покупает у него поместье Фонтень-Милон и земли в Гратенкюисе. Он за гроши продает Гильому де Ферон крепость Сен-Этьен де Мер-Морт, а некий Гильом де ла Жюмельер по низкой цене приобретает его замки Блезон и Шемилье и даже не платит ему денег. Взгляни, целый список кастелянств, лесов, соловарен, лугов, – пояснил Дюрталь, показывая длинный лист бумаги, на котором он составил перечень отчуждений и покупок.
– Семья маршала, устрашенная этими безумствами, умоляет короля вмешаться. И действительно, в 1436 году Карл VII, «убедившись, как он выражается, в дурном хозяйствовании сира до Рэ», подписанным в Амбуазе указом Великого Совета запрещает, ему продавать и отчуждать крепости, замки и земли.
Представь себе, что указ этот лишь ускорил разорение маршала. Герцог Бретанский Иоанн V, великий скряга и богатейший ростовщик того времени, отказался опубликовать указ в своих владениях, но тайно объявил его, однако, тем своим подданным, которые совершали сделки с Жилем. Из страха навлечь на себя ненависть герцога и опасаясь гнева короля, никто теперь больше не осмеливался покупать поместий у маршала.
Единственным покупателем остался Иоанн V, который устанавливал цену сам. Отсюда ты поймешь, как баснословно дешево продавалось имущество Жиля де Рэ! Этим объясняется также ярость Жиля на свою семью, испросившую королевский указ, объясняется, почему он навсегда отстранился от жены и дочери, которую отправил в отдаленный замок в Пузоже.
Итак! Возвращаясь к вопросу, который я только что затронул, к вопросу – как и почему Жиль покинул двор, я нахожу, что известный свет на это проливают события, мной изложенные.
Очевидно, что Карл VII был осаждаем жалобами жены и других родных Жиля еще задолго до того, как маршал отдался безрассудствам. Несомненно, что и царедворцы возненавидели этого юношу за его богатство и пышность. Король, который с таким легким сердцем покинул Жанну д'Арк, считая ее более для себя ненужной, нашел удобный случай отомстить и Жилю за оказанные ему маршалом услуги. Не упрекал же он Жиля в расточительности, когда нуждался в деньгах на свои попойки, на снаряжение полков. А теперь, видя его наполовину разоренным, он порицал его за щедрость, отстранился от него, не остановился перед поношениями и угрозами.
Понятно, что двор этот Жиль покинул без малейшего сожаления. Но, конечно, в нем говорили еще другие побуждения. Несомненно, он ощутил утомление от кочевой жизни, в нем пробудилось отвращение к походам войны. Он спешил, я уверен, удалиться в более мирную атмосферу, к своим книгам. Но главное, им целиком, по-видимому, завладела страсть к алхимии, ради которой он готов был бросить все. Наука эта ввергла его в демономанию, когда в предвидении надвигающейся бедности он надеялся делать золото, но не забудем, что он любил ее ради нее самой в те времена, когда был богат. Еще в 1426 году, когда сундуки его ломились от золота, пытался он впервые разрешить ее великие задачи.
Итак, мы находим его в замке Тиффож, склоненным над ретортами. Начинаются злодеяния. Я изучаю этот период его жизни и хочу теперь дать последовательную картину преступлений чернокнижника, его смертоносного садизма.
– Но все это не объясняет, – заметил де Герми, – почему человек благочестивый вдруг делается поклонником сатаны, почему человек ученый и мирный превращается в осквернителя детей, в губителя отроков и дев.
– Я говорил тебе, что нет источников, которые помогли бы нам спаять эту жизнь, столь причудливо пересеченную на две половины. Но из моего рассказа ты, вероятно, угадываешь связующие нити. Разберемся точнее. Я только что отметил неподдельный мистицизм этого человека. Он был свидетелем самых необычных событий, которые развертывала когда-либо история. Появление Жанны д'Арк окрылило, конечно, устремление его духа к Богу. Но от пламенного мистицизма всего лишь шаг до безумия сатанизма. Все соприкасается в потустороннем мире. Пламя его молитв излилось на почву сатаны. И на это его подтолкнула, направила толпа святотатственных священников, алхимиков, заклинателей демонов, которыми он был окружен в Тиффоже.
– Значит, по-твоему, Дева явилась причиной злодеяний Жиля?
– До известной степени – да. Предполагая, конечно, что она распалила душу, не знающую меры, готовую на все, одинаково способную и на самозабвенные подвиги святости, и на чудовищные преступления. Он не знал срединных влияний. Сейчас же после смерти Жанны он попал в руки волшебников, людей, бывших самыми отменными злодеями, но также и замечательнейшими учеными того времени. Посещавшие его в Тиффоже гости были ревностными латинистами, занимательными собеседниками, владели знанием сокровенных, чудодейственных составов, хранили тайны древности. С ними, а не с каким-нибудь Дюнуа или Ла Гиром должен был общаться такой человек, как Жиль. Маги эти, которых все биографы в полном согласии и несправедливо изображают пошлыми тунеядцами и презренными мошенниками, на мой взгляд, в общем они представляли собой интеллектуальную знать XV века. Не найдя себе почему-либо места в церкви, в иерархии которой они не согласились бы на меньшее, чем сан кардинала или даже папы, они вынуждены были в те времена невежества и смуты искать убежища у такого могущественного властелина, как Жиль, которого я считаю единственным сеньором того века, по уму своему и развитию способным их понять.
Подведем итог: естественный мистицизм, с одной стороны, ежедневное соприкосновение с учеными, проникнутыми сатанизмом, – с другой. Вероятность надежды, что воля дьявола рассеет грозный призрак надвигавшегося обнищания, пламенный, безумный интерес к запретным знаниям. Все это объясняет, что по мере того, как постепенно крепнут узы, связующие его с миром алхимиков и чародеев, он бросается в оккультизм, который ему внушает невероятнейшие злодеяния.
Переходя затем к умерщвлению детей, не забудем, что Жиль решается на них не сразу. Лишь изведав тщету алхимии, начинает он осквернять и убивать отроков и, в сущности, не слишком резко отличается в этом отношении от современных ему сеньоров.
Он превосходит их пышностью разврата, изобилием своих убийств, но и только. Да, правда! Прочти Мишле. Ты увидишь, какими грозными хищниками были знатные господа того времени. Ты узнаешь о некоем сире де Пак, который, отравив жену, привязывает ее к коню и волочит еле живою целых пять лье до тех пор, пока она не умирает. Другой, имя которого я забыл, схватив своего отца, ведет его босым по снегу, потом спокойно ввергает его в подземную темницу, где тот испускает дух. А сколько еще других! Тщетно искал я следа злодеяний маршала в битвах и набегах. Я не нашел ничего, кроме обозначившегося в нем влечения к виселице. Он любил вешать отставших французов, захваченных в рядах англичан или в городах, непокорных королю.
С тяготением к этой жестокости мы встретимся позже в замке Тиффож.
Присоедини, наконец, ко всем этим причинам еще безмерную гордость, вот слова, произнесенные им во время процесса: «Я рожден под столь исключительной звездой, что совершил дела, каких не совершал никто никогда в мире и совершить не сможет».
И правда! Маркиз де Сад в сравнении с ним лишь трусливый мещанин, жалкий мечтатель!
– Если недостижима святость, то остается сделаться слугоюсатаны, – заметил де Герми. – Одна из двух крайностей. Презрение бессилия, ненависть к посредственности – таково, по-моему, одно из наиболее снисходительных пониманий культа дьявола!
– Пожалуй. Я допускаю, что можно гордиться чудовищной греховностью, подобно тому, как святой гордится святостью. В этом весь Жиль де Рэ!
– И все-таки ты взялся за тяжелую задачу.
– Согласен. Сатана непроницаемо грозен в средние века. Но, по счастью, у нас такое изобилие документов.
– А в наше время? – спросил де Герми, вставая.
– В наше время?!
– Да, – в нашей современности, в которой сатанизм цепко держится, связанный отдельными нитями со средневековьем.
– Ах! Вот что! Ты думаешь, что в наше время еще вызывают дьявола и славословят черные мессы?
– Да.
– Ты уверен?
– Безусловно.
– Ты поражаешь меня. Но, черт возьми, знаешь, старина, если бы мне удалось видеть такие действа, это чрезвычайно облегчило бы мне мою работу. Нет, кроме шуток, убежден ты, что в современности есть ядро бесовствующих, имеешь ты доказательства?
– Да, но поговорим об этом после, сейчас я спешу. Кстати, если хочешь, то завтра вечером у Карэ, у которых мы обедаем. Не забыл ты? Я зайду за тобой. До свидания! А пока подумай над словами, сказанными тобой о магах: «Если бы они вступили в иерархию церкви, они не согласились бы на меньшее, чем сан кардинала или даже папы». И вспомни, как ужасно духовенство наших дней!
В этом если не все, то важнейшее объяснение современного культа дьявола. Нет зрелого сатанизма без священника-святотатца.
– Но чего же домогаются такие священники?
– Всего, – кратко ответил де Герми.
– Значит, они подобны Жиль де Рэ, просившему у демона знаний, могущества, богатства, всего, что жаждет человечество в начертанных собственной кровью письменах!
V
– Скорее входите и согрейтесь! Ах, господа, нам, наконец, совестно, – говорила госпожа Карэ, видя, как Дюрталь вынимает из кармана завернутые бутылки, а де Герми выкладывает на стол перевязанные пакетики. – Вы слишком много тратите.
– Нам это приятно, госпожа Карэ. А ваш муж?
– Он наверху и сердится с самого утра!
– Боже мой, неужели человека тянет на башню в такой адский холод! – заметил Дюрталь.
– О! Дело не в башне, ему досадно за колокола. Но раздевайтесь!
Они сняли пальто и подошли к печке.
– У нас не слишком жарко, – начала она снова. – Чтобы нагреть наше жилище, нужно бы, знаете ли, беспрерывно топить и днем, и ночью.
– Купите переносную печку.
– Ну нет, здесь, пожалуй, задохнешься от угара!
– Без каминов это вряд ли особенно удобно, – вставил де Герми. – Но если провести к окну приставные трубы так же, как проходит вытяжная труба печки... Кстати, по поводу этих приборов, обрати внимание, Дюрталь, как превосходно воплощают утилитаризм времени, в которое мы живем, эти отвратительные железные кастрюли. Подумай. Современный инженер, которого оскорбляет всякая вещь по виду неугрюмая и непошлая, весь отразился в этом изобретении. Он говорит нам: вы хотите тепла, я дам вам тепло, но ничего больше. Изгоняется все, что приятно глазу. Долой треск и песенки дров, долой мягкое, нежное тепло! Только полезное, и нет места прекрасным язычкам пламени, вспыхивающим в груде угля от прогоревших сухих, звонких дров!
– Но разве нет железных печей, в которых огонь виден? – спросила госпожа Карэ.
– Есть, что еще горше! Еще печальнее, когда огонь закрыт слюдяной заслонкой, пламя заточено в темницу! Ах! Как хороша деревенская связка хворосту, виноградных прутьев, приятно пахнущих, с золотистым отблеском! Современная жизнь положила этому конец. И роскошь, которой пользуется беднейший крестьянин, в Париже доступна теперь лишь людям, владеющим значительными доходами!
Вошел звонарь. Кончики его щетинистых усов заиндевели и, облеченный в суконную шапку с наушниками, баранью шубу, меховые рукавицы и калоши, он походил на самоеда, явившегося с Северного полюса.
– Я не подаю вам руки, – сказал он, – я весь в сале и масле. Что за погода! Представьте, я смазывал колокола сегодня с самого утра... И все-таки боюсь за них!
– Но почему?
– Как почему? Вы сами знаете, что металл от холода сжимается, трескается, ломается. Бывали жестокие зимы, творившие здесь много бед. Да, колокола, как и мы, терпят от такой погоды!
– Есть у тебя теплая вода, моя милая? – спросил он у жены, направляясь в смежную комнату, чтобы умыться.
– Хотите, мы поможем вам накрыть на стол? – предложил де Герми.
Но жена Карэ восстала.
– Нет, нет, сидите, обед готов.
– И пахнет недурно! – воскликнул Дюрталь, втягивая аромат кипевшего супа, от которого разносился острый запах сельдерея, мешаясь с запахом других душистых овощей.
– За стол! – пригласил Карэ, уже умытый и переодевшийся в блузу.
Они уселись. Трещала печь, в которую подкинули дров. Дюрталь почувствовал, как, овеянная теплом, отогрелась вдруг его тоскливая, пустынная душа. Он у Карэ! Так далеко от Парижа! Так далеко от действительности сегодняшнего дня!
Каким мирным, приветливым, нежным казалось ему это бедное, скудное жилище! Ему нравилось деревенское убранство стола, нравились и эти славные стаканы, и эта чистая тарелка с полусоленым маслом, и кувшин с сидром. Все вместе создавало семейную картину интимной трапезы, освещенной довольно ветхой лампой, которая бросала серебряно-золотистые лучи на грубую скатерть.
Кстати, к следующему же разу, когда мы придем сюда обедать, я куплю в каком-нибудь английском магазине банку апельсинового варенья, это восхитительный десерт, подумал Дюрталь. По уговору с де Герми они, приходя обедать к звонарю, всегда приносили сами часть блюд.
Карэ готовил суп, какой-нибудь простой салат и угощал сидром. Чтобы не вводить его в траты, они приносили с собой вино, кофе, водку, десерт и притом с таким расчетом, чтобы остатки их приношений покрыли расход на суп и жаркое, которых Карэ с женой хватило бы на несколько дней, если бы они обедали одни.
– Сегодня – вот что! – сказала жена Карэ, разливая сотрапезникам красноватый суп, сверху подернутый коричневым налетом и унизанный жирными пятнами топазового цвета.
Суп был крепкий, питательный, но вместе с тем и изысканный, от вареных куриных потрохов получивший особую тонкость вкуса. Все молчали, занятые едой, сидели с довольными лицами, втягивая запах душистого супа.
– Как раз время повторить любимую поговорку Флобера: так вкусно нельзя пообедать в ресторане, – заметил Дюрталь.
– Не будем нападать на рестораны, – ответил де Герми, – они дают совершенно особое наслаждение людям, умеющим наблюдать. Слушайте, что случилось со мной два дня тому назад: возвращаясь от больного, я зашел в одно из таких учреждений, где человек за три франка имеет право съесть суп, два блюда по выбору, салат и десерт.
В ресторане этом, в который я захожу приблизительно раз в месяц, бывают постоянные посетители, люди хорошо воспитанные и требовательные – зажиточные офицеры, члены парламента, чиновники.
Изнемогая над отвратительной камбалой под хлебным соусом, я рассматривал сидевших около меня завсегдатаев и нашел, что они удивительно изменились со времени моего последнего прихода. Одни похудели, другие сделались одутловатее. У некоторых глаза были очерчены синевой и ввалились, у других под глазами появились красноватые мешки. Люди тучные пожелтели, худые позеленели.
Очевидно, забытые яды Exili, страшные варева, изготовлявшиеся в этом доме, медленно отравляли его посетителей.
Вы, конечно, поймете, что я заинтересовался этим, восстановил в своей памяти учение о ядах и, старательно проверяя себя за едой, открыл следующее – отвратительные приправы, насыщенные толченым углем и дубильной кислотой, скрывали вкус гнилой, отравленной трупным ядом рыбы.
Говядина скрывалась подливками, пряталась под соусами грязного цвета, вина были подкрашены фуксином, благоухали жженой пробкой, были сдобрены патокой и гипсом!
Я обещал себе заходить туда каждый месяц, чтобы наблюдать гибель всех этих людей!..
– О! – вставила госпожа Карэ.
– Однако ты тоже не чужд сатанизма! – воскликнул Дюрталь.
– Знаете, Карэ, он теперь у цели, хочет беседовать о сатанизме, не давая нам даже передохнуть. Положим, я обещал ему, что мы поговорим у вас сегодня вечером об этом, – и, отвечая на удивленный взгляд звонаря, он пояснил: – Вчера Дюрталь, который, как вам известно, работает над историей Жиль де Рэ, объявил, что он всесторонне изучил культ дьявола в средние века. Я спросил его, знаком ли он с сатанизмом современности. Он засмеялся, усомнившись, что теперь совершаются такие действа.
– К сожалению, это чистейшая правда, – подтвердил угрюмо Карэ.
– Но сначала позвольте мне задать де Герми один вопрос, – сказал Дюрталь. – Ответь без шуток, спрячь на минуту твою всегдашнюю затаенную усмешку, отвечай откровенно: да или нет, веришь ты в католицизм?
– Он, – воскликнул звонарь, – он хуже неверующего! Он – еретик!
– Дело в том, – объяснил де Герми, – что меня влечет манихейство, и я склонился бы к нему, будь у меня хотя какая-либо ода. Манихейство – одна из древнейших и простейшая религия. Во всяком случае он лучше всего объясняет мерзостный смрад нашего века.
Начало зла и начало добра, Бог света и Бог мрака, оспаривающие друг у друга власть над нашею душой, – это по крайней мере ясно. Сейчас, очевидно, повергнут Бог добра, и Бог ада дарит над нашим миром. И бедному Карэ, которого приводит в отчаяние это учение, в сущности не в чем упрекнуть меня, так как сам я сторонник побежденного! Согласитесь, что подобная мысль благородна, такое убеждение достойно уважения!
– Но манихейство невозможно! – воскликнул звонарь. – Немыслимо одновременное бытие двух бесконечностей!
– Все немыслимо пред доводами разума. Начните исследовать католическую догму, и, будьте спокойны, вся она сейчас же рухнет! Доказательство возможности одновременного бытия двух бесконечностей я вижу в том, что идея эта недоступна человеческому разуму и относится к числу тех, о которых говорит Эклезиаст: «Не исследуй более Высокое, чем ты, ибо есть много вещей, относительно которых доказано, что они превосходят силы человеческого разумения».
Уже одно то, что манихеизм был утоплен в волнах крови, указывает на его достоинства. В конце XII века сожжены были тысячи альбигойцев, исповедовавших это вероучение. Я не решусь, впрочем, утверждать, что манихейцы не извращали никогда своей религии, что они не служили дьяволу! – Но в этом я не на их стороне, – мягко прибавил он после молчания, выждав, пока госпожа Карэ, вставшая, чтобы переменить тарелки, не вышла, чтобы достать жаркое. – Пока мы одни, – продолжал он, проследив, пока она не скрылась на лестнице, – я могу рассказать, что совершали они. Один замечательный человек по имени Пселл сообщает нам в своей книге, озаглавленной «De operatione Daemonum», что перед исполнением своих обрядов они вкушали…
– Какой ужас! – воскликнул Карэ.
– О! Так как они причащались под обоими видами, проделывали вещи и похуже, – продолжал Герми. – Они убивали детей, смешивали их кровь с золой и тесто это, разведенное в питье, представляло собой вино причастия.
– Ого! Но это подлинный сатанизм, – сказал Дюрталь.
– Как видишь, друг мой, я иду тебе навстречу.
– Я уверена, что де Герми опять угощал вас страшными рассказами, – пробормотала госпожа Карэ, внося блюдо с куском мяса, обложенного овощами.
– Вовсе нет! – защищался де Герми.
Они засмеялись; Карэ нарезал говядину, жена его разлила стаканам сидр, а Дюрталь откупорил банку с анчоусами.
– Боюсь, не переварилась ли она? – начала г-жа Карэ, которую говядина интересовала больше, чем действа того мира, и прибавила знаменитое изречение хозяек:
– Говядина плохо режется, когда хорош суп.
Мужчины возражали, утверждая, что мясо не жесткое и не переварилось.
– Возьмите анчоус и немного масла, господин Дюрталь.
– Послушай, жена, угости нас красной капустой, которую ты приготовила, – попросил Карэ. Бледное лицо просветлело, а большие собачьи глаза увлажнились. Очевидно, он чувствовал себя счастливым, наслаждался, сидя за столом в обществе своих друзей, в уютной теплой комнате своей колокольни.
– Опорожняйте же ваши стаканы, господа, вы ничего пьете, – угощал он, подняв кувшин с сидром.
– Итак, ты утверждал вчера, де Герми, что сатанизм никогда не прерывался со времен средневековья, – заговорил Дюрталь, желавший скорее навести беседу на мучивший его вопрос.
– Да! Об этом свидетельствуют неопровержимые документы. Если хочешь, можешь сам убедиться в их достоверности.
Ты знаешь, какие размеры принял сатанизм в начале XV века, – я не касаюсь более раннего времени, – века Жиля де Рэ. В XVI веке дело обстояло, пожалуй, еще хуже. Я не сомневаюсь, что ты знаешь о договорах с демонами, заключенных Екатериной Медичи и Валуа, о процессе монаха Иоанна де Во, расследованиях, произведенных Шпренгером и де Ланкром – учеными инквизиторами, которые сожгли на кострах тысячи колдунов и заклинателей мертвецов. Все это вещи общеизвестные. Я, пожалуй, назову еще священника Бенедикта как наименее извращенного. Он был в связи с дьяволицей Армелиной... Перейдем теперь к нитям, связующим те века с нашим. В XVII веке продолжаются процессы колдунов, появляются лудэнские одержимые и процветает черная месса, облеченная теперь большею таинственностью, совершаемая более скрытно! Если хочешь, я приведу тебе пример, один из многих других. Некий аббат Гибург посвятил себя этим действам. На стол, превращенный в жертвенник, ложилась совершенно обнаженная или закинувшая платье до подбородка женщина и, раскинув руки, держала в каждой зажженные свечи в течение всей службы.
Гибург отслужил такие мессы на животе госпожи де Монтеспан, госпожи д'Аргенсон, госпожи де Сен-Понт. Мессы эти в царствование великого короля бывали весьма многолюдными. Многие женщины стремились попасть на них так же, как в наше время они любопытно идут к прорицателю погадать о своем счастье.
Ритуал этих обрядов отличался изрядной жестокостью. Доставали обычно ребенка и сжигали его в печи, в деревне. Пепел хранили и, умертвив другого ребенка, смешивали пепел этот с кровью, подобно тому, как это делали манихейцы. Аббат Гибург совершал службу, освящал облатку, резал ее на кусочки, смешивал с потемневшей от примеси пепла кровью. Эта смесь служила материалом для таинств.
– Что за чудовище в образе священника! – негодующе воскликнула жена Карэ.
– Да. Аббат этот служил еще мессу другого рода. Она называлась... Однако я, черт возьми, затрудняюсь передать...
– Говорите, господин де Герми. Тем, кто, как мы, чувствует отвращение к подобным вещам, можно сказать все; будьте уверены, это не помешает мне молиться сегодня вечером.
– Мне также, – прибавил ее муж.
– Хорошо, итак – это жертвоприношение называлось мессой спермы.
– А!
– Гибург разоблачался, снимал ризу, епитрахиль, орарь ислужил названную мессу исключительно с целью получить составы для заклинаний.
Из архивов Бастилии мы знаем, что он совершил ее по просьбе некоей дамы по имени Дезэйлетт.
Недомогавшая женщина эта должна была дать частицу своей крови. Мужчина, сопровождавший ее, удалился в укромный закоулок комнаты, в которой происходило действо, и Гибург собрал в чашу его сперму. Потом он прибавил кровь и муку и, после кощунственной церемонии, Дезэйлетт ушла, унося с собой тесто.
– Боже, какая мерзость! – простонала жена звонаря.
– В средние века, – вставил Дюрталь, – мессу совершали иначе. Спина нагой женщины заменяла жертвенник, в XVII веке жертвенником был живот. А теперь?
– Теперь женщина редко служит жертвенником. Но не будем забегать вперед.
В XVIII веке мы снова встречаемся с аббатами, предавшими святость своего сана. Многочисленные последователи окружают их!
Один из них, каноник Дюре, посвятил себя занятиям черной магией. Заклинал мертвецов, вызывал дьявола. Его казнили за колдовство в лето по Рождестве Христовом 1718-е.
Другой – аббат Бекарелли, – веровавший в духа святого утешителя, вызвал сильное смятение умов в Ломбардии и учредил там двенадцать апостолов и двенадцать дьяконис, возложив на них проповедь своего учения. Подобно всем священникам этого толка, он погряз в разврате с обоими полами и служил мессу, не очищаясь предварительно исповедью от прегрешений своей похоти. Впал постепенно в грех кощунственного служения, за которым раздавал присутствующим сладострастные лепешки, имевшие ту особенность, что, проглотив их, мужчины считали себя женщинами, а женщины мужчинами.
Рецепт этого чудодейства утрачен, – продолжал де Герми, улыбнувшись с оттенком грусти. – Кончил аббат Бекарелли тоже печально. Привлеченный к суду за святотатство, он был присужден в 1708 году к семи годам галер.
– Вы так увлеклись этими страшными рассказами, что ничего не едите. Еще кусочек мяса, господин де Герми, – прервала его жена звонаря.
– Нет, благодарю. Но я вижу сыр и, по-моему, нам пора приняться за вино, – и он откупорил одну из принесенных Дюрталем бутылок.
– Оно превосходно! – воскликнул звонарь.
– Оно не слишком слабо, я достал его в одном из погребков возле набережной, – пояснил Дюрталь. – Я вижу теперь, – продолжал он помолчав, – что неслыханные преступления преемственно сохранились со времен Жиль де Рэ. Вижу, что во все века бывали павшие священники, дерзавшие совершать богохульные злодеяния, и все же в наше время это кажется неправдоподобным. Теперь не умерщвляют, по крайней мере детей, как во времена Синей Бороды и Гибурга!
– Скажите лучше, что правосудие не расследует этого и что теперь не умерщвляют открыто, но убивают намеченные жертвы средствами, которых не хочет знать официальная наука. Ах, если бы могли говорить исповедники! – воскликнул звонарь.
– Но объясните мне, к какому миру принадлежат люди, предающиеся теперь культу дьявола?
Де Герми ответил:
– Из духовенства – это высшие миссионеры, приходские исповедники, прелаты и игуменьи. Средоточие современной магии находится в Риме, ей предаются высшие сановники церкви. Что касается мирян, то они вербуются из богатых классов. Ничего нет удивительного, что такие скандалы обычно заглушаются, если случайно их откроет полиция!
Но допустим, что в известных случаях жертвенное служение дьяволу действительно не обагрено предварительным убийством, что они ограничиваются кровью зрелого зародыша, получаемого от выкидыша. Но дело не в этом. Кровавая жертва – лишь тонкое, изысканное блюдо, острая приправа. Главный вопрос в том, чтобы освятить облатку и над ней надругаться; в этом вся суть; остальное меняется, сейчас нет установленного ритуала черной мессы.
– Значит, для служения этих месс нужен настоящий священник?
– Разумеется. Только он сможет осуществить таинство перевоплощения. Я хорошо знаю, что некоторые оккультисты считают себя посвященными Господом Богом, как святой Павел, и воображают, что могут служить настоящие мессы как заправские священники. Это просто смешно. Но и без настоящих месс и отвратительных священников люди, одержимые манией кощунства, осуществляют все-таки поругание святыни, если к тому стремятся.
– Послушай-ка!
– В 1855 году в Париже существовало общество, состоявшее главным образом из женщин. Эти женщины причащались по нескольку раз в день, причем освященные частицы тела Христова сохраняли во рту, чтобы потом растоптать их или осквернить нечистыми прикосновениями.
– Ты в этом уверен?
– Вполне. Эти случаи были разобраны в духовном журнале «Анналы святости», и архиепископ парижский не мог их опровергнуть! Добавлю, что в 1874 году в Париже также нанимали женщин для совершения этих ужасных поступков. Им платили за каждый кусок, потому они ежедневно приходили к святой трапезе в различные церкви.
– Послушайте, – начал, в свою очередь, Карэ, поднявшись и достав из книжного шкафа тоненькую синюю брошюру. – Взгляните, что сообщает «Голос Седьмицы» от 1843 года. Вы прочтете здесь, что в Ажене в продолжение двадцати пяти лет существовало общество бесовствующих, не перестававшее служить черные мессы...
Заметьте, что его преосвященство, аженский епископ – прелат набожный и добродетельный – ни разу не решился выступить с отрицанием ужасов, содеянных в его епархии!
– Говоря между нами, – продолжил де Герми, – XIX век изобилует нечестивыми аббатами. К сожалению, трудно запастись достоверными документальными доказательствами. Ни одно духовное лицо не будет хвалиться подобными злодеяниями. Те, которые служат кощунственные мессы, облекают их тайной, выдают себя ревностными христианами. Некоторые объявляют себя даже защитниками веры Христовой, заклинающими одержимых.
Здесь – верх их коварства. Они сами же создают одержимых. В лице их приобретают себе – особенно в монастырях – покорных соучастников. Все смертоубийственные и садические безумства они укрывают тогда под древним и благочестивым покровом заклинания одержимых!
– Будем беспристрастны, – заметил Карэ, – чудовищное лицемерие вполне сочетается со всем их обликом.
– Самым мерзостным грехом порочных священников я считаю гордыню и лицемерие, – высказал Дюрталь, а де Герми продолжал:
– Несмотря на все предосторожности, все тайное делается в конце концов явным. До сих пор мы говорили о местных сообществах слуг сатаны. Но есть еще другие, более обширные, раскинувшие свою паутину в Старом и Новом Свете. Культ дьявола, так сказать, объединился – черта чисто современная, – воспринял более совершенные приемы управления. Он слагается из комитетов, подкомитетов, на вершине его курия, правящая Америкой и Европой, подобно курии св. Престола.
Самым распространенным из этих обществ является основанное в 1855 году общество возрожденных теургических оптиматов. Под личиной видимого единства оно распадается на две ветви: первая домогается разрушить мир, чтобы воцариться на развалинах, вторая лишь мечтает установить во всем мире культ сатаны и явиться первосвященником бесовства. Общество это управляется из Америки, где им руководил ранее Лонгфелло, именовавшийся первосвященником новой магии заклятия. Долгое время разветвления его существовали во Франции, Италии, Германии, России, Австрии, даже в Турции.
Сейчас оно или в полном упадке, или совсем исчезло, но нарождается другое, замыслившее избрать антипапу, в котором воплотился бы антихрист-разрушитель. Я назвал вам лишь два общества. Но сколько еще других, более или менее многолюдных, более или менее тайных, которые по взаимному согласию служат в десять часов утра черные мессы в Париже, Риме, Брюгге, Константинополе, Нанте, Лионе и столь изобилующей чернокнижниками Шотландии в день праздника св. Тела Господня!
Кроме этих всемирных сообществ или местных союзов, сколько еще единичных случаев, изредка озаряемых мерцанием света, который так трудно на них пролить. Несколько лет назад умер некий граф де Лотрек, уединившийся от мира и обуреваемый раскаянием. Он заколдовывал статуи святых и подносил их в дар церквам, чтобы они обращали верующих в бесовство. В Брюгге священник, лично мне известный, осквернял святую дароносицу, пользуясь ею для волхования и порчи. Наконец, я укажу в числе прочих на очевиднейший пример бесовства некоей Кантианиллы, который потряс не только город Оксерр, но и всю епархию Сенса.
Названная Кантианилла, помещенная в монастырь св. Сюльпиция, была осквернена одним священником, посвятившим ее дьяволу. Священник этот сам с детства был растлен неким духовным лицом, принадлежавшим к секте бесовствующих, основанной вечером того самого дня, в который отрубили голову Людовику XVI .
Некоторые монахини этого монастыря, очевидно, охваченные истерией, отдались вслед за Кантианиллой эротическому безумию и кощунственному беснованию, и действа, ими совершенные, удивительно напоминают разоблачения прошлогодних процессов магии, историю Гофреди и Мадлэны Палюд, Урбэна Грандье и Мадлэны Баван, иезуита Жирара и ла Кадьер, жизнь которых чрезвычайно поучительна как для освещения культа дьявола, так и для истории. Известно, что Кантианиллу удалили из монастыря и отдали под начало одному из священников той же епархии аббату Торэ. Но не смог тот устоять от соблазна. В Оксере разыгрались скоро такие скандальные события, такие ужасы бесовства, что потребовалось вмешательство епископа. Кантианилла была выслана из области, аббат Торэ подвергнут дисциплинарной каре и обо всем послано донесение в Рим.
Любопытно, что епископ подал в отставку, устрашенный увиденным им, и удалился в Фонтенбло, где умер два года спустя, до самой смерти не оправившись от потрясения.
– Друзья мои, – объявил Карэ, посмотрев на свои часы, – восемь без четверти. Мне пора идти на колокольню и звонить вечерний Angelus . He дожидайтесь меня, пейте кофе, я вернусь через десять минут.
Он облачился в свой гренландский костюм, зажег фонарь и открыл дверь. Ворвался леденящий порыв ветра.
Во тьме крутились белые снежинки.
– Ветер в бойницы наметает снег на лестницу, – сказала жена. – Я всегда боюсь, что Луи схватит в такую погоду воспаление легких. Кофе готов, господин де Герми, прошу вас, наливайте его сами. Мои бедные ноги не слушаются меня в такой поздний час. Пора на отдых!
Они пожелали ей доброй ночи и де Герми вздохнул:
– Дело в том, что мамаша Карэ преисправно стареет. Я старательно прописываю ей тоническое, но это ни капельки не помогает. Очевидно, иссякли силы ее. Слишком часто приходилось взбираться бедной женщине по лестницам!
– Ты рассказал мне много любопытного, значит, в общем, черная месса – символ современного бесовства!
– Да. Наряду с колдовством, инкубатом и суккубатом. Их я опишу тебе в другой раз или лучше сведу тебя с большим знатоком этого вопроса, чем я. Кощунственная месса, колдовство и суккубат – такова истинная сущность сатанизма!
– А что же делали с облатками, освященными при кощунственных мессах, если их не уничтожали?
– Но я же сказал тебе – их оскверняли. Вот, послушай, – и Герми взял из библиотеки звонаря и начал перелистовать пятый том «Мистики» Гёрреса. – Вот к чему это сводилось: «Эти священники доходят в своей гнусности до того, что совершают мессу над большими облатками, из которых потом вырезают середину и, наклеив на таким же образом прорезанный пергамент, пользуются ими отвратительным образом для удовлетворения своих страстей».
– Божественная содомия?
– Конечно!
В этот миг на башне раздался звон колокола, в который ударил звонарь. Комната, в которой сидел Дюрталь, задрожала, как бы затряслась. Казалось, что со стены винтообразно струятся волны звуков, что их источают каменные глыбы, в музыке звона переносишься на дно тех раковин, в которых, если приложить их к уху, шелестят отзвуками переливающегося рокотания волны. Привычный к этому оглушительному звону де Герми невозмутимо занялся кофе, подогревая его на печке.
Колокол зазвонил медленнее, удары его смягчились. Оконные стекла, витрины книжного шкафа, стоявшие на столе стаканы стихали, звеня тонким, прозрачным перезвоном, издавая почти умирающие тоны.
На лестнице послышались шаги. Вошел Карэ, засыпанный снегом.
– Боже, детки мои, что за ветер! – он отряхнулся, бросил на стул шубу, загасил фонарь. – Снег пробивается где только можно, рвется в бойницы, слуховые окна, между перекладин! Собачья зима! Хозяйка уже улеглась! Но вы не пили еще кофе? – продолжал он, видя, как Дюрталь разливает кофе по стаканам.
Подойдя к печке, он оживил огонь, вытер глаза, на которых от резкого холода выступили слезы, выпил глоток кофе.
– Так вот! Как ваши рассказы, де Герми?
– Я кончил краткое описание культа сатаны, но не сказал еще ни слова о подлинном чудовище, сатанинском апостоле, который действует в наши дни, об этом мерзостном аббате...
– О! Берегитесь. Самое имя этого человека приносит беду! – остановил его Карэ.
– Пустое! Каноник Докр – так зовут его – против нас бессилен. Признаюсь, я плохо понимаю ужас, который он вселяет. Но пока бросим это... По-моему, лучше всего Дюрталю сначала поговорить с вашим другом Гевенгэ, который, по-видимому, лучше и глубже, чем кто другой, знает каноника.
Беседа с Гевенгэ чрезвычайно облегчила бы мне дальнейшее ознакомление Дюрталя с бесовством, особенно с колдовством и суккубатом. Как думаете вы, если пригласить его сюда к обеду вместе с нами?
Карэ погладил в раздумье голову и вытряхнул на ноготь пепел трубки.
– Дело в том, что мы с ним сейчас немного в ссоре.
– Как? Из-за чего?
– О! Пустяки! Я помешал здесь однажды его опытам. Но налейте себе еще стаканчик, господин Дюрталь, и вы, де Герми, вы, господа, совсем не пьете! – Закурив папиросы, оба они нацедили себе из едва початой бутылки по нескольку капель коньяку. Звонарь продолжал:
– Гевенгэ – набожный христианин и честный человек, хотя и астролог, возобновить с ним знакомство было бы приятно мне... Так вот, представьте себе, он хотел гадать на моих колоколах... Вы удивляетесь, но это так. В старину колокола играли роль в запретных знаниях. Искусство прорицать будущее при помощи издаваемых ими звуков есть одна из наиболее неизведанных и заброшенных отраслей оккультизма. Гевенгэ разыскал древние документы и хотел проверить их на колокольне.
– Что же он делал?
– Я ничего не понял сам! Рискуя провалиться и сломать себе шею о перекладины, он – при его-то годах! – забирался под колокол. Влезал внутрь по пояс, покрывал себя, так сказать, до бедер чашей колокола. Говорил сам с собой и вслушивался в трепетание бронзы, отражавшей звуки его голоса. Он толковал мне также сны, имеющие касательство к колоколам. По его словам, угрожает беда человеку, которому приснится раскачивающийся колокол. Слышать во сне колокольный перезвон означает быть оклеветанным. Если колокол упадет, то это достоверное предвещание горячки, если лопнет – бедности и невзгод. Наконец, я еще припоминаю, как он рассказывал мне, что если ночные птицы кружатся около колокола, освещенного луной, то это несомненное указание, что в церкви совершается святотатство или же настоятелю грозит смертная опасность.
Подобное отношение к колоколам, предметам, на которых почиет благодать освящения, залезание внутрь чаши, пользование ими для прорицаний, для толкования снов, открыто запрещаемого Книгой Левит, не понравилось мне, и я довольно резко попросил его прекратить эту забаву.
– Но вы не сердиты на него?
– Нет. Говоря откровенно, я теперь раскаиваюсь даже в своей вспыльчивости!
– Хорошо. Я улажу это, навещу его, – сказал де Герми. – Итак, решено, правда?
– Согласен.
– А теперь пора дать вам спать. Вам завтра надо подниматься на рассвете.
– О, ничего! Я встану завтра в пять с половиной, чтобы в шесть прозвонить Angelus, а потом до восьми без четверти у меня нет звона, так что, если пожелаю, могу прилечь снова... Всего несколько перезвонов за обедней настоятеля – это, знаете, не тяжело...
– Гм! Если бы я должен был вставать так рано... – заметил Дюрталь.
– Дело привычки. Но выпейте еще по стаканчику перед уходом. Нет? Решительно нет? Тогда в путь. – Он засветил фонарь, и они пошли вниз, вздрагивая от холода, медленно преодолевая ледяные извивы лестницы.
VI
На другое утро Дюрталь проснулся позже обычного. Не успел он открыть глаза, как в мозгу его пронесся вдруг хоровод бесовских обществ, о которых рассказывал накануне де Герми. Вереница мистических шутих, думал он позевывая, вверх ногами кружатся они в кощунственной молитве! Потягиваясь, взглянул на окно, стекла которого мороз разрисовал кристальными лилиями и ледяными папоротниками, поспешно спрятал под одеяло руки и лениво продолжал нежиться в постели.
Сегодня погода будто создана, чтобы сидеть дома и работать; встану и затоплю камин, говорил он себе, вперед, смелее... И... вместо того, чтобы сбросить одеяло, еще плотнее натянул его до подбородка.
– Ах! Я прекрасно знаю, что ты не любишь, когда я долго лежу и нежусь в постели, – промолвил он, обращаясь к кошке, которая растянулась у него в ногах на стеганом одеяле и пристально его рассматривала своими как уголь черными глазами.
Кошка сочетала в себе вкрадчивую привязанность с педантизмом и лукавством. Она не терпела ни малейшей фантазии, никакой вольности, любила, чтобы он вставал и ложился в раз и навсегда положенный час; когда она сердилась, прозрачные оттенки гнева скользили в ее потемневшем взгляде, и хозяин понимал скрытый его смысл.
Если он возвращался домой до одиннадцати вечера, она поджидала его у дверей передней и радостно мяукала, царапала косяки, когда он входил. Глаза ее томно зажигались золотисто-зеленым светом, она терлась о его ноги, вставала на задние лапы и, похожая на упрямую лошадку, при приближении его, ласково заигрывая, отскакивала большими прыжками. После одиннадцати уже не встречала его, но лишь вставала, когда он подходил к ней, выгибала спину, но не ласкалась. Еще позже она совсем не двигалась с места, сердилась и ворчала, если он гладил ее по голове или щекотал под подбородком.
Обеспокоенная его утренней леностью, она повернулась, напыжилась, угрюмо приблизилась и уселась в двух шагах от его лица. Жесткое лукавство отражалось в ее взоре – напоминание, что пора ему освободить нагретое место, пустить туда ее. Дюрталя забавляли ее проделки и, неподвижно лежа, он в свою очередь рассматривал кошку. Огромная, серо-рыжеватая, она одновременно казалась и обычной, и причудливой.
Рыжая половина ее меха цветом своим напоминала пепел старого кокса, а серая, испещренная матовыми пятнышками, как веющие над потухшими углями струйки, походила на волос новых метел. Она была истой дочерью чердака, высоколапая, длинная, с рыжей головой. Правильно наложенные черные круги обвивали лапы ее черными браслетами и окаймляли двумя сильными извивами глаза.
– Хоть ты и брюзга, педантичная, одинокая, нетерпеливая старуха, – вкрадчивым, ласковым голосом заговорил с ней Дюрталь, – но ты все же мила. Уже давно рассказываю я тебе сокровеннейшие свои тайны. Ты – тайный кладезь, куда изливается моя душа. Ты – исповедник рассеянный и снисходительный. Тебе открываю дурные помышления, и мои признания ты выслушиваешь спокойно, терпеливо и бесстрастно! В этом в сущности твое предназначение, ты утешаешь тоску безбрачия и одиночества. За это я окружаю тебя вниманием и заботами, но, знаешь, порой, как, например, сегодня утром, ты становишься невыносима из-за своих причуд!
Кошка по-прежнему разглядывала его, стараясь в звуках голоса разгадать смысл раздававшихся слов. Наверное, она поняла, что Дюрталь не расположен покидать постели, и водворилась на прежнем месте, повернувшись на этот раз спиной к хозяину. Пора, решил наконец пристыженный Дюрталь, посмотрев на часы. Меня ждет Жиль де Рэ, и, вскочив, он мигом оделся, а кошка встрепенулась, стремглав запрыгала по одеялу и улеглась на теплой простыне.
Адский мороз! Дюрталь натянул суконный жилет и перешел в смежную комнату, чтобы затопить камин. Как холодно, шептал он. Хорошо еще, что квартиру его легко натопить. Она состояла из передней, маленькой гостиной, крохотной спальни и довольно просторной уборной. Окнами выходила на светлый двор. И за все – в пятом этаже – он платил 800 франков в год.
Обставлена она была без излишней роскоши. Гостиную Дюрталь превратил в рабочий кабинет, заставил стены шкафами черного дерева и наполнил их книгами. Рядом с окном стоял большой стол, кожаное кресло, несколько стульев. Вделанную над камином зеркальную раму он завесил старой тканью и поставил вместо зеркала старинную картину по дереву, изображавшую монаха, молитвенно склонившего колена под сенью шалаша возле кардинальской шляпы и пурпуровой мантии. Его окружал причудливый пейзаж, нарисованный в сочетаниях синего с серым, белого с красным, зеленого с черным.
Отдельные фрагменты картины тонули в темно-золотистых сумерках, и вся она была расписана непонятными сценами, вплетавшимися друг в друга, а по краям рамы черного дуба изображены люди-лилипуты в карликовых домах. Святой, имя которого тщетно пытался разгадать Дюрталь, переплывал в лодке блестящие гладкие волны реки. Далее он странствовал по селениям величиною с ноготок и исчезал в сумеречных тенях. Но выше он представал снова, теперь уже в пещере на Востоке, с верблюдами и поклажей.
Скрывшись после того из виду, он недолго играл в прятки, скоро показывался опять и, более крошечный, чем ранее, восходил с посохом в руке, с мешком за спиной на гору, устремляясь к недостроенному странному собору.
Картина эта принадлежала кисти неизвестного художника, голландца, усвоившего некоторые краски и приемы итальянских мастеров, быть может, даже путешествовавшего по Италии.
В спальне стояли большая кровать, пузатый комод, стулья. На камине старинные часы и медные подсвечники. На стене хорошая копия одной из картин Боттичелли Берлинского музея: Мадонна, скорбящая, печальная и вместе с тем земная, сильная, ее окружали томные юноши, изображавшие ангелов, они держали в руках восковые витые свечи – задорные отроки с длинными кудрями в уборе из цветов, опасные пажи, умиравшие от вожделения... И возле Девы благоухающий младенец Иисус.
Далее рисунок Брейгеля, гравированный Куком: «Девы разумные и девы безрассудные». Небольшая гравюра, посредине перерезанная винтообразным облаком, у краев которого два ангела с засученными рукавами трубили, надувшись, в трубы, а третий ангел, в беспечном одеянии, обнажавшем пупок, ангел необычный и священно важный, рея на самом облаке, развертывал свиток, на котором начертано было евангельское изречение: «Ессе sponsus venit , exite obviam ei» .
Под облаком по одну сторону сидели с зажженными светильниками девы разумные – добродетельные фламандки, – наматывая льняную пряжу, и, распевая духовные песнопения, вертели прялки. По другую – четыре девы безрассудные возле догоревших светилен плясали в общем веселье в хороводе на лугу, а пятая играла на свирели и отбивала такт ногой. Над облаком пять дев разумных поднимались преображенные, нагие и прекрасные, воздымая горящие светильники к готическому храму, куда открывал им доступ Христос, тогда как тщетно стучались в запертые врата девы безрассудные, также нагие, в прозрачных покровах и держали усталыми руками угасшие светильники.
Дюрталь любил эту старую гравюру, полную девственной наивности первых мастеров, благоухавшую интимной нежностью сцен над и под облаком. Ему казалось, что в ней до известной степени сочеталось в едином рисунке искусство очищенного Остада с творчеством Тьери Бу.
Поджидая, пока накалится печка, в которой уголь трещал и шипел, как жаркое на сковороде, он подсел к письменному столу и начал разбираться в своих бумагах.
Мы подошли теперь к той полосе жизни Жиль де Рэ, когда маршал принимается за разгадку великой задачи, думал Дюрталь, свертывая папиросу. Нетрудно вообразить, что мог он познать тогда о превращении металлов в золото, за век до его рождения достигло значительной высоты развитие алхимии. Алхимики изучали творения Альберта Великого, Арно де Вилленэва, Реймонда Луллия. Распространены были рукописи Никола Фламеля. Несомненно, что Жиль, бредивший необычными фолиантами и редкостями, приобрел эти сочинения. Не забудем, что в то время действовали еще эдикт Карла V, под страхом заточения и повешения запрещавший занятия магией, и булла, изданная папой Иоанном XXII против алхимиков, «Spondent pariter, quas non exhibent». Творения магов были под запретом и, следовательно, желанны. Жиль, наверное, долгое время изучал их, но, конечно, не понимал!
Книги эти в общем представляли собой невероятнейшую путаницу, туманнейший лабиринт. Изобиловали аллегориями, смешными, темными метафорами, бессвязными символами, запутанными параболами, загадками, испещрены были числами! С одной из своих библиотечных полок Дюрталь достал рукопись, казавшуюся ему образцом подобных произведений. Это было творение Аш-Мезарефа, книга Авраама-еврея и Никола Фламеля, восстановленная, переведенная и изъясненная Элифасом Леви.
Рукописью его ссудил де Герми, нашедший ее однажды среди бумажного хлама. Здесь внутри, размышлял он, сокрыт своего рода ключ философского камня, рецепт великого эликсира жизни и юности. Образы довольно загадочны, подумал он, перелистывая рисунки, сделанные пером, расцвеченные красками. Один из них изображал сосуд, внутри которого зеленый лев наклонился к полумесяцу. Под сосудом надпись «Химическая свадьба». В других фиалах нарисованы были голуби, то устремлявшиеся к горлышку, то клевавшие человеческую голову, толкая ее на дно в жидкость или черную, или вскипевшую золотисто-алыми завитками, или белую с черными крапинками. В глубине виднелась лягушка, иногда ее заменяла звезда, а жидкость казалась то туманно-молочной, то вспыхивала воздушно-огненными языками.
Объясняя по мере разумения смысл этих пернатых символов, Эли фас Леви пытался раскрыть славную формулу великого учителя и излагал рассуждения других его творений, в которых тот торжественно обещал посвятить в древние утраченные тайны и умолкал в решительный миг, важно объявляя, что погибнет, если разоблачит таинства столь грозные.
Бредни эти, усвоенные жалкими оккультистами современности, помогают всему этому люду скрывать свое полное невежество. Вопрос решается в сущности просто, подумал Дюрталь, закрыв рукопись Николая Фламеля.
Философы, алхимики открыли – и после долгих издевательств современная наука признала их правоту, – что металлы суть тела сложные и что составные их части тождественны. Они отличаются между собой лишь различными сочетаниями своих составов и, следовательно, можно, найдя ключ видоизменению этих сочетаний, перевоплощать одно тело в другое, превращать, например, меркурий в серебро или свинец в золото.
Этот чудодейственный ключ назывался философским камнем, меркурием. Речь шла не об общеизвестном меркурий – нет! В нем алхимики видели недозрелый зародыш металла, – но о меркурий философском, носившем также название зеленого льва, змия, млека Девы, воды жизни. Никогда никем не была раскрыта тайна этого меркурия, этого камня мудрых. Разгадки ее тщетно домогались средневековье и Ренессанс, все века, не исключая нашего.
В чем только не искали ее, думал Дюрталь, перебирая свои заметки: в мышьяке, в обычном меркурий, в олове. В осадках купороса, серы и селитры. В соках пролески, чистотела, портулака. В животе жабы, в человеческой моче, в месячных очищениях и молоке женщин!
Несомненно, что Жиль де Рэ устал от своих бесплодных поисков. Не по силам были эти исследования ему одному в Тиффоже без помощи посвященных. В то время средоточием алхимии был во Франции Париж, где алхимики собирались под сводами Собора Богоматери и изучали иероглифы склепа Невинных и портал храма святого Иакова, на котором начертал перед смертью Николай Фламель кабалистические символы, изъяснявшие тайну драгоценного камня.
Из страха попасть в руки англичан, войска которых тогда бродили по дорогам, маршал не поехал в Париж. Он избрал путь более простой. Пригласил к себе знаменитейших магов юга и с большими издержками перевез их в Тиффож.
Из дошедших до нас документов мы узнаем, что он сооружает горн для опытов – химическую печь, покупает пеликанов, реторты, колбы. В одном из крыльев замка устраивает лабораторию и затворяется в ней с Антонием Палернским, Франциском Ломбардом, Иоанном Малым – ювелиром из Парижа. Денно и нощно кипит работа по разрешению великой задачи.
Все безуспешно. После тщетных опытов названные алхимики исчезают, и в Тиффоже начинается невероятное столпотворение магов и посвященных. Они стекаются со всех концов Бретани, из Пуату, Мэна, появляются иногда одни, а иногда в сопровождении шарлатанов и кудесников. Кузены и друзья маршала Жиль де Силле и Роджер де Бриквиль рыщут за дичью по окрестностям, а один из его капелланов Эвстахий Бланше уезжает в Италию, которая кишит в то время магами.
В ожидании Жиль де Рэ, не падая духом, продолжает напрасные исследования и наконец убеждается, что маги, безусловно, правы, что никакое открытие невозможно без помощи сатаны.
Однажды ночью он с неким Иоанном де Ла Ривьером, волшебником, прибывшим из Пуатье, идет в лес, смежный с замком Тиффож.
Со своими слугами Анри и Пуату он остается на опушке леса, тогда как волшебник уходит вглубь. Ночь душна и темна. Напряженно вглядывается Жиль во тьму, вслушивается в давящий покой немых нив. Устрашенные спутники его прижимаются один к другому, дрожат, перешептываются при легчайшем дуновении ветра. Вдруг раздается вопль страха. Нерешительно, ощупью идут они во тьме и видят Ла Ривьера, озаренного мерцающим светом, изможденного, трепещущего, угрюмого, а возле него фонарь. Сдавленным голосом рассказывает он, что дьявол явился под видом леопарда, но прошел мимо него, ничего не сказав и даже на него не взглянув.
На следующее утро волшебник скрывается, и вместо него является другой посланец, от имени Дю Мениля он требует, чтобы Жиль скрепил собственной кровью грамоту, в которой должен обещать отдать дьяволу все, что тот пожелает, «кроме жизни своей и души!». Но сатана опять не появился, хотя, чтобы помочь колдовству, Жиль разрешил в праздник Всех Святых отслужить в своей капелле обедню Осужденных.
Маршал начинает сомневаться в могуществе своих магов, но после одного из новых опытов убеждается, что появление демона возможно. Заклинатель, имя которого утрачено, затворяется вместе с Жилем и де Силле в одном из покоев Тиффожского замка.
Очертив на полу большой круг, он приказывает своим спутникам стать внутри.
Силле отказывается. Охваченный необъяснимым страхом, он весь дрожит, шепотом бормочет мольбы и прижимается к открытому окну.
Более смелый Жиль стоит в середине круга, но при первых же заклинаниях он тоже повергнут в дрожь и хочет осенить себя крестным знамением. Волшебник приказывает ему не двигаться. Вдруг он чувствует, как кто-то сзади схватил его за шею. В ужасе трепещет он и умоляет Пречистую Деву о спасении. В ярости выталкивает его тогда из круга заклинатель, он спасается в дверь, а де Силле в окно. Столкнувшись внизу, они стоят оцепенелые, а из покоя, в котором колдовал маг, несутся вопли, слышится сначала как бы «шум частых, быстрых ударов мечей, падающих на металл», стоны, крики отчаяния, вопли человека, которого убивают.
Устрашенные, прислушиваются они и, выждав, когда утих шум, спешат на помощь, распахивают дверь, находят волшебника распростертым на полу, исполосованным ударами, с рассеченным лбом, обливающегося кровью.
Они поднимают его. Преисполненный жалости Жиль укладывает его в свою постель, обнимает, перевязывает раны и, боясь, что он испустит дух, зовет к нему исповедника. Несколько дней страждет заклинатель в борьбе со смертью, но наконец выздоравливает и покидает замок.
Жиль уже отчаивался воспринять от дьявола тайну высшей власти, когда Эвстахий Бланше прислал ему с дороги весть о своем возвращении из Италии. Приехал он не один, но привез с собой ученого флорентийского мага, могущественного заклинателя демонов и мертвецов Франциска Прелати. Человек этот ошеломил Жиля. Молодой, едва достигший двадцатитрехлетнего возраста, он был, однако, одним из одареннейших, образованнейших и изысканнейших умов того времени. Что делал он, прежде чем поселиться в Тиффоже и вкупе с маршалом совершить там ряд чудовищных, неслыханных злодеяний?
Допрос его во время уголовного процесса маршала не дает нам достаточно подробных сведений о его жизни. Родился он в Луккской епархии в Пистойе и был рукоположен в священство епископом Арецским. Недолго спустя после принятия духовного сана он сделался учеником некоего флорентийского чернокнижника Иоанна де Фонтенелла и подписал договор с демоном по имени Баррон. Вкрадчивый и красноречивый, ученый и обаятельный аббат предался после того мерзостнейшему святотатству и выполнял смертоубийственный ритуал черной магии.
Мы знаем, что Жиль был очарован этим человеком. Снова возгораются в горнах потухшие огни, и, заклиная ад, с пламенным усердием ищут они оба камень мудрых, тот камень, который, испуская запах пережженной морской соли, трепетно горел колеблющимся красным огоньком, когда его увидел раз Прелати.
По-прежнему тщетными оставались их заклинания. Все-таки Жиль продолжает опыты с удвоенною ревностью, но они кончаются бедой – один из них едва не стоил Прелати жизни.
Однажды после полудня Эвстахий Бланше встретил маршала в слезах в одной из галерей замка. Вопли терзаемого доносились из-за запертой двери комнаты, в которой Прелати вызывал дьявола.
«Там демон истязует моего бедного Франциска, умоляю тебя, войди», – воскликнул Жиль, но Бланше, устрашенный, отказался. Жиль преодолел тогда свой страх и бросился к двери, но в это время она открылась, и дрожащий, окровавленный Прелати упал к нему на грудь. Поддерживаемый обоими друзьями, он едва добрался до комнаты маршала, и его уложили там в постель. Он заболел от нанесенных ему жестоких ударов, и лихорадка усилилась. Жиль был в отчаянии, не отходил от него, ухаживал, за дам, плакал от счастья, когда миновала смертельная опасность.
Случай с неизвестным волшебником, повторившийся с Прелати, остановил на себе внимание Дюрталя. Разве не удивительно, что оба они при одинаковых обстоятельствах опасно ранены в пустой комнате?
Документы, поведавшие нам о происшествии, подлинны. О сем гласят акты процесса Жиля. С другой стороны, совпадают признания обвиняемых и показания свидетелей. Немыслимо, наконец, чтобы солгали Жиль и Прелати, так как, сознаваясь в заклинаниях сатаны, они обрекали себя сожжению заживо.
Иное дело, если бы они сознались, что им являлся злой дух, что их посещали суккубы. Если бы утверждали, что слышали голоса, ощущали запахи, прикасались к телам. Вполне допустима возможность болезненного бреда, подобного тому, которым одержимы некоторые обитатели Бисетра. Но в описанном случае немыслимы заблуждения чувств, обманные видения: налицо вещественные, видимые, осязаемые доказательства – раны и следы ударов. Можно себе представить, как глубоко должен был уверовать в бытие дьявола такой мистик, как Жиль де Рэ, будучи свидетелем подобных сцен!
Несмотря на неудачи, он не мог сомневаться, еще менее, конечно, сомневался уцелевший Прелати, что они откроют наконец, если угодно сатане, этот таинственный порошок, который осыплет их богатством, обеспечит им чуть не бессмертие. В те века в философском камне видели не только силу, способную превращать металлы низменные, как олово, свинец, медь, в металлы благородные, как золото и серебро, но также целительное средство от всех болезней, способное продлить безболезненную жизнь до возраста, когда-то дарованного патриархам.
Странная наука, раздумывал Дюрталь, подняв решетку камина и грея ноги. Вопреки насмешкам современности, не открывающей, а лишь откапывающей утраченные знания, философию алхимии нельзя считать совсем пустой и бесцельной.
Глава современной химии Дюма признал под именем изомерии правильность мнения алхимиков, а Вертело высказал, что «никто a priori не может утверждать, что невозможно создание так называемых простых тел».
Бывали, наконец, опыты удостоверенные, случаи несомненные. Не говоря уже о Никола Фламеле, успешно, по-видимому, разрешившем свою великую задачу, история алхимии свидетельствует: в XVII веке химику Ван Гельмонту неизвестный вручил четверть грана философского камня, при помощи которого названному ученому удалось превратить в золото восемь унций меркурия.
В те же времена Гельвеций , боровшийся с учением алхимиков, составом, также полученным от неизвестного, претворил в золото слиток свинца. Гельвеций ни в коем случае не был доверчивым простаком, а Спиноза, проверивший опыт и подтвердивший полную его истинность, отнюдь не принадлежал к людям простодушным, которых легко одурачить!
А Александр Сетон, таинственный муж, путешествовавший по Европе под именем Космополита и открыто перед государями превращавший все металлы в золото! Удостоверено, что алхимик этот презирал богатства, не хранил творимого им золота и жил бедняком, помышляя о Господе. Плененный Христианом II , электором Саксонским, он, подобно святому, претерпел мучения. Его бичевали розгами, кололи гвоздями, но наперекор всему он отказался открыть тайну, так же как Никола Фламель, гордо утверждая, что ему вручил ее сам Господь!
Подумать только, что исследования эти продолжаются в наше время! С тою разницей, что сейчас большинство алхимиков отвергает целебные и божественные свойства славного камня. Они скромно полагают, что таинственный камень есть лишь агент, способный создавать молекулярное перевоплощение расплавленных металлов, подобное тому, которое испытывает органическое вещество, приходя в брожение под влиянием дрожжей.
Знакомый с миром этим де Герми утверждал, что в современной Франции в действии более сорока алхимических горнов и что еще многочисленнее приверженцы алхимии в Ганновере и Баварии.
Обрело ли наше время утраченную, несравненную тайну древних веков? Несмотря на раздающиеся утверждения, это маловероятно. Никто искусственно не производит этого металла, происхождение которого столь странно, столь загадочно. И вспомнил, как в Париже, в ноябре 1886 года, во время процесса Поппа, строителя городских воздушных башенных часов, кредиторов инженеры-химики минной школы показали на суде, что золото можно извлекать даже из мельничных жерновов. Выходит, что стены, в которых мы живем, подобны неизведанным рудникам и в мансардах сокрыты золотые самородки!
Как пагубны, однако, эти науки, подумал он, усмехаясь. Ему вспомнился один старец, который соорудил в пятом этаже дома, на улице Св. Иакова, алхимическую лабораторию. Человек этот, по имени Огюст Редуте, работал всякий день после полудня в Национальной библиотеке над творениями Никола Фламеля. Утро и вечер он проводил над своим горном, «сгруженный в искание великой задачи.
16 марта прошлого года, выйдя из библиотеки вместе со своим соседом по столу, он объявил ему, что овладел наконец знаменитой тайной. Придя в лабораторию, он опустил в реторту несколько кусков железа, развел огонь, подбросил какого-то порошку и получил кристаллы цвета крови. Спутник его исследовал сплав и начал смеяться. Тогда алхимик, разъяренный, бросился на него с молотом и до такой степени безумствовал, что его пришлось связать и немедля отправить в госпиталь св. Анны.
В XVI веке в Люксембурге магов поджаривали на железных решетках, в следующем веке вешали в фольговых одеждах на вызолоченных столбах. Теперь их оставляют в покое, и они сходят с ума! Нет, бесспорно, решительно над ними висит злой рок, решил Дюрталь.
Прозвенел звонок, и он встал открыть дверь. Возвратился с письмом, которое принес ему привратник. Распечатав и прочтя первые строки, он удивился. В письме стояло следующее:
«Милостивый государь.
Я не авантюристка, не женщина, наслаждающаяся болтовнею подобно тому, как другие наслаждаются духами и ликерами, не искательница приключений. Еще менее движима я пошлым любопытством узнать, походит ли облик автора на его творения, и поверьте, что я вообще далека от подобных мыслей. Буду откровенна: я прочла ваш последний роман...»
– Долго же она читала его, он уже вышел в свет больше года, – пробормотал Дюрталь.
«... Печальный, как биения души, страждущей в плену...»
– Черт возьми! Пропустим комплименты, они, как всегда, лишь затемняют дело.
«... Я понимаю, что поступаю безрассудно и неосторожно, высказывая вам свое желание встретиться с вами вечером в назначенном вами месте. Я так же тоскую, как и вы, мы свидимся и разойдемся, возвратимся каждый в свое одиночество – в одиночество людей, которым предопределено падение, так как они не созданы, как все. Прощайте и верьте, что в моих глазах вы человек, который выше своего века – века тусклой посредственности.
Не зная, будет ли ответ на мое письмо, я пока не открываю своего имени. Сегодня вечером служанка зайдет к вашему привратнику и спросит: есть ли ответ на имя госпожи Мобель».
– Гм! – рассуждал Дюрталь, складывая письмо. – Я представляю себе ее: какая-нибудь престарелая дама, одна из тех, которые раздают свои заплесневелые ласки и щедро предлагают дары любви! Ей по меньшей мере сорок пять, а круг ее поклонников состоит из зеленых юношей, всегда довольных, лишь бы не платить, или писателей, на которых угодить в общем нетрудно, так как безобразие их любовниц вошло в пословицу!
А может быть, его мистифицируют? Но кто и зачем? Он давно уже порвал все знакомства!
Во всяком случае не надо отвечать.
Но невольно развернул опять письмо. Чем я рискую, думал он. Если дама эта хочет навязать мне свое престарелое сердце, то разве не волен я отвергнуть? Я приду на свидание и после того свободен.
Да, но где назначить ей свидание? Дома нельзя. Вопрос усложняется, если она будет у меня – легче расстаться с женщиной на углу улицы, чем указать ей на дверь. Если назначить ей перекресток улиц Севр и Ла Шез, возле стен аббатства – место пустынное и всего в двух шагах отсюда... Итак, я отвечу ей, но неопределенно, намеками, не указывая места, и окончательно решу вопрос потом, после ее ответа. И он написал письмо, в котором в свою очередь жаловался на душевную усталость, говорил, что считает свидание бесполезным, что он уже не ждет себе счастья на земле.
Нелишне прибавить, что здоровье мое слабо. Будет в запасе хороший повод оборвать знакомство, соображал он, скручивая папиросу.
Она прочтет немного утешительного... ну и еще... что же еще? Не худо предупредить ее, что по соображениям семейным я никогда не вступлю в прочную, длительную связь. Это обезопасит меня от ее навязчивости. Так, на этот раз довольно...
Он запечатал письмо и надписал адрес.
Потом, не кладя его на стол, стал размышлять. Он решительно поступает безрассудно. Кто знает, кто предугадает, куда, в какие дебри заведет его эта проделка. По глубокому его убеждению, всякая женщина, какова бы ни была она, порождает скорби и заботы. Добродетельная женщина или безобразна, или болезненна, или до того отчаянно плодовита, что к ней страшно прикоснуться. Если она порочна, то ждите самого горшего, будьте готовы ко всем тревогам, к худшему позору. С какой стороны ни взглянуть, близость с ними – погибель!
Он воскресил в памяти воспоминания о женщинах своей юности, вспомнил жестокость и лживость, коварство и обманы, закоренелую развращенность женской души, даже юной! Нет, я уже слишком стар для этого. О! И к чему вообще теперь мне женщина!
И, однако, наперекор всему его занимала незнакомка. Кто знает? Возможно, она красива? И при этом, в виде исключения, не слишком докучлива. Проверить ничего не стоит. Он перечел письмо. Написано оно без орфографических ошибок. Почерк не очень разборчивый. Мысли о моей книге довольно посредственны, но, Бог мой, разве можно от нее требовать подлинного изучения.
Понюхав конверт, он втянул легкий запах гелиотропа...
Ну что ж! Будь что будет! И, спускаясь завтракать, оставил у привратника ответ.
VII
– Я сойду с ума, если так пойдет дальше, – пробормотав Дюрталь, сидя за письменным столом. Он перечитывал полученные им от этой женщины за восемь дней письма. Судьба столкнула его с неисправимой графоманкой, с первых же шагов своих, к сближению не дававшей даже ему времени одуматься.
Черт возьми, думал он, пересмотрим все сначала. После унылого ответа, который я послал ей на первую записку, она без промедления награждает меня таким посланием:
«Милостивый государь!
Письмо это как бы прощание. Я знаю, что письма мои одно-, образны, что в них неизбежно отразится вечная скука, которая меня терзает. И разве не принесли мне лучшую часть вас самого те строки на листке неопределенного цвета, которые на миг вывели меня из летаргии? Увы! Не хуже вас знаю я, что ничему не бывать, что высшие радости в наслаждении мечтой. Я жажду уз-, нать вас и, однако, боюсь, подобно вам, что встреча создаст для нас обоих источник сожалений, что не следует добровольно подвергать себя их горести...»
Конец письма обнажал всю ненужность этих излияний:
«... Если вам придет в голову фантазия писать мне, то адресуйте письма ваши на имя госпожи Мобель, до востребования, улица Литтре. Я зайду на почту в понедельник.
Прошу вас, откровенно скажите мне, застынем ли мы в нашем знакомстве на этой точке? Меня сильно огорчит, если я услышу «да».
Я был так прост, что послал ей в ответ письмецо ни рыба ни мясо, напыщенное и жалобное, как первое мое послание. В моих отговорках, отражавших ее скрытые заигрывания, ей почудилось, что рыба клюнула.
Это видно из третьего ее письма:
«Не вздумайте пенять на себя, милостивый государь (слово более нежное просилось с моих губ), что вы бессильны утешить меня. Но, знаете, хорошо, если души наши – такие усталые, разочарованные, надломленные – будут иногда беседовать друг с другом, как источалась сегодня ночью перед вами моя душа, безудержно влекомая настроением моих мыслей...»
Все четыре страницы в том же роде. Но самое лучшее такие строки:
«Еще одно слово: обещаю вам в другой раз не говорить об этом. Я провела ужасный день, нервы мои страждут, я возмущаюсь из-за сотен обычных каждодневных пустяков, готова чуть не кричать от боли.
Меня раздражает захлопнутая дверь, громкий или неблагозвучный голос, донесшийся ко мне с улицы.
Заметьте, что в иное время я так невосприимчива, что не пошевелюсь, хотя бы загорелся дом. Посылать ли вам эти строки смехотворных жалоб? Ах, лучше молчать о страданиях, если не владеешь даром облекать их в пышные одежды, претворять в сверкающие слезы литературных или музыкальных страниц.
Посылая вам нежное прости, скажу, что влечение узнать вас трепещет во мне по-прежнему, но я отгоняю его из страха погубить мечту, которая рассеется от прикосновения. Ах, как верно писали вы раньше и как несчастны, как достойны сожаления наши робкие души, пугающиеся всякой действительности, неуверенные даже – устоит ли их зарождающееся чувство, когда они встретятся лицом к лицу. Но желание все же сильнее доводов, и я невольно откроюсь вам, что... нет, нет, ничего. Угадайте, если можете, и простите мне банальное письмо, попытайтесь читать между строк. Быть может, вы тогда найдете в нем частицу моего сердца, найдете многое, о чем я молчу.
Как наивно наполнила я собой все письмо. Но не сомневайтесь, думала только о вас, когда писала».
До сих пор ничего нет страшного, говорил себе Дюрталь. Во всяком случае, женщина эта занимательна. Какие странные чернила, подумал он, разглядывая светло-зеленые, очень бледные водянистые строки.
Проведя ногтем, он увидел на нем следа пудры, налет которой покрывал ряды букв, рисовой пудры, надушенной гелиотропом.
Наверное, она белокура, решил он, пристально рассматривая пудру. Пудра женщин смуглых, черноволосых оставляет темный отблеск.
Но после этого письма положение ухудшается. И он вспомнил, как безрассудно он ответил ей посланием более живым, более волнующим. Он распалял ее и бесцельно разжигал самого себя. Письмо, сейчас же полученное им в ответ, было таково:
«Что делать? Я не хочу видеть вас, но в то же время не хочу подавить в себе безумной жажды встретиться с вами, жажды, которая пугает меня – так она сильна. Меня жжет ваше имя, и, однако, вчера оно сорвалось случайно с моих губ. Кажется, мое волнение слегка удивило моего мужа, кстати сказать, он один из ваших поклонников. Я горела, чувствовала невольную дрожь. Один из наших общих друзей – к чему скрывать, мы знакомы с вами, если можно назвать знакомством, когда люди встречаются в свете, – так вот, вошел один из ваших друзей и объявил, что, нисколько не преувеличивая, он обожает вас. Положение мое было отчаянное, и я не знаю, что сталось бы со мной, если бы не пришел нечаянно мне на помощь один из присутствующих, упомянув имя человека столь забавного, что я никогда не могу слышать о нем без смеха. Прощайте, вы правы, странно, я даю себе слово, что больше не буду писать, и поступаю наоборот.
А может быть, в действительности я не могу уже перестать вам писать, не поранив нас обоих?»
Вслед за тем он послал ей пламенный ответ и получил последнее письмо, которое занесла ему служанка.
«Ах! Как устремилась бы я к вам, если б не преследовал меня страх, безумный страх; сознайтесь, что свидание пугает вас не меньше, чем меня! К чему утомлять вашу душу тысячью моих переживаний.
Слушайте, бывают часы в печальной моей жизни, когда овладевает мной безумие. Судите сами. Я целую ночь пламенно призывала вас, я плакала в отчаянии. Сегодня утром, когда муж вошел ко мне в комнату, глаза мои были красны. Я расхохоталась как безумная и, насилу справившись с собой, вдруг спрашиваю его: что думает он о человеке, который на вопрос о занятиях сказал – я домовой суккуб. Муж ответил мне, что я, наверное, больна. Больше, чем вы думаете, говорю я ему. Я знаю, что вы страдаете, знаю, как безрассудно посылать вам такое письмо, печальный друг. Письмо ваше потрясло меня. И тот осадок злобы, который чувствуется, когда вы описываете ваш недуг, радостно отразился на моем теле и успокоил немного мою душу. Ах, все равно... Если б сбылись наши мечты! Ах! Только одно слово! Одно слово с ваших губ. Будьте спокойны, что никто, кроме меня, не увидит никогда ваших писем».
Этого следовало ожидать... Ничего удивительного, решил Дюрталь, складывая письмо. Женщина эта замужем и, по-видимому, за человеком, который знает меня. Черт возьми! Как странно! Кто бы это мог быть?
Тщетно перебирал он в памяти званые вечера, которые посещал раньше. Он решительно не знал ни одной женщины, которая могла бы посылать ему такие письма. И этот общий друг... Но у меня нет теперь друзей, кроме де Герми. А что если спросить его, кого посещал он за последние дни... Но он врач, он видит множество народа! Потом, как объяснить ему?
Рассказать о приключении, но он высмеет меня, разрушит все очарование невидимого!
Дюрталь рассердился, чувствуя, как в нем совершается что-то воистину непостижимое. Незнакомка жгла его душу, поглотила его целиком. Уже несколько лет прожил он, совершенно отрекшись от плотских связей, и если овладевал им нечистый поток греха, если раскрывались чувственные тайники его души, он усилием воли подавлял вожделение, призывая на помощь отвращение. Но теперь он наперекор всякому опыту, наперекор здравому смыслу начал верить, что женщина пламенная, какой казалась ему эта незнакомка, способна дать ему ощущения чуть ли не сверхчеловеческие, погрузить в неизведанную остроту! И он воображал себе желанный облик: белокурую, с упругим телом, вкрадчивую, тонкую, пламенную и печальную. Она вставала перед ним как живая, и нервы его так напрягались, что он скрежетал зубами.
Восемь одиноких дней мечтал он о ней наяву, не способный работать, не будучи в состоянии даже читать, так как образ этой женщины вставал между страницами.
Он пытался рассеять презренные сны, вообразить это создание в минуты слабости ее бренной плоти, погружался в мерзостные видения – все было напрасно. Он вспоминал, как ему это удавалось раньше, когда он жаждал женщин, которыми не мог обладать. Но теперь он неспособен был представить себе незнакомку ищущей бисмут или меняющей белье. Она являлась ему печальная и гневная, горела вожделением, буравила его глазами, воздевала бледные руки!
Невероятной казалась эта жгучая бездеятельность, овладевшая вдруг его увядшим телом, его умиротворенною душой! Пресыщенный, обретя покой и чистоту, преодолев внутренние бури или, вернее, создав себе тишину забвения, он теперь вдруг опять почувствовал, как забилась в нем жизнь, мучительно трепетал в пустоте, терзаемый безумными письмами!
Пора положить этому конец! – решил он, ударив кулаком по столу.
Надел шляпу и захлопнул за собой дверь. Увидим! Я втопчу идеал в грязь! И он поспешил к знакомой публичной женщине, жившей в Латинском квартале. Слишком долго был я добродетелен, бормотал он на ходу, я сам накликал на себя бред!
Он застал женщину эту дома, и совершилось нечто мучительно жестокое. Красивая, смуглая, черноволосая, она обладала правильными чертами лица, блестящими глазами, зубами, как у волка.
Высокая, стройная, она сковывала мозг, дробила легкие, а поцелуи ее пронзали до спины.
Она упрекнула его, что он долго не приходил, ласкала, обнимала. Но он оставался печальным, подавленным, стесненным, чуждым искренней страсти. Наконец упал на ложе мучительно изможденный, спаляемый жестокой пыткой своего раздирающего падения.
Никогда не проклинал он так плоть, никогда не чувствовал себя более отвратительно и устало, чем выйдя из этой комнаты. Наугад побрел он по улице Суффло и еще упорнее, еще мятежнее овладел им образ незнакомки.
Я начинаю понимать посещения суккубов, думал он. Попытаюсь бороться заклинанием в виде брома. Приму сегодня вечером грамм бромистого калия, он утишит мои чувства. И, однако, сознавал, что тело здесь на втором плане, что крик тела есть лишь следствие неожиданного настроения души.
То, что совершалось в нем, не было бурей плоти, взрывом чувственности. Порыв к необычному, устремление вглубь, которые окрылили его перед тем в искусстве, теперь изливались на женщину. Но в сущности, в нем говорило все то же желание унестись от земной суеты. Меня расшатало, рассуждал он, это проклятое изучение потустороннего мира, направление моих мыслей, замкнувшихся в деяниях церкви и бесовства. И правда, всходы бессознательного мистицизма, до сих пор лежавшего втуне, пышно расцветали в его упорном труде, и беспорядочно отдавался он исканию новой обстановки, неизведанных наслаждений и мук!
Он мысленно восстановил все, что знал об этой женщине. Она замужем, белокура, у нее служанка и отдельная комната – значит, есть средства, она получает письма в почтовом отделении на улице Литтре – из этого следует, что она живет в этой части города. Если, наконец, допустить, что она верно подписывает начальную букву, то имя ее или Генриетта, или Гортензия, или Онорина, или Губертина, или Елена.
Что еще? Она встречала его в свете – значит, бывает в богемном мире, потому что он перестал посещать буржуазные гостиные уже несколько лет назад. Далее, она не чужда болезненных уклонений католицизма, а свидетельство тому слово суккуб, которым она пользуется и которое не употребляется непосвященными.
Вот и все! Остается еще муж. По ее собственному признанию, она плохо скрывает пленившее ее наваждение, и потому у мужа должны зародиться подозрения, если он человек хотя сколько-нибудь догадливый.
Я сам накликал на себя беду! Удовольствия ради, я писал сперва бледные письма, подернутые манящим, вызывающим оттенком, и под конец воспламенился сам. Оба мы поочередно раздували потухшие угли, пока они не накалились. Примерный урок обоим нам за то, что мы разжигали друг друга. Если судить по ее страстным посланиям, она испытывает то же, что и я.
Что делать? По-прежнему пребывать ли в непроницаемом тумане? Нет, лучше кончить, увидеть ее и, если она красива, овладеть ею. Я обрету по крайней мере душевный покой. Написать ей откровенно, в последний раз назначить свидание? Он огляделся. Незаметно забрел он в ботанический сад. Осмотревшись, вспомнил, что неподалеку от набережной есть кофейня, и направился туда.
Тщетно пытался он составить письмо пылкое и вместе с тем твердое, перо дрожало в его пальцах. Он сожалеет, сознался он, недолго думая, что сразу не согласился на свидание, которое она предлагала, и из-под пера его вылился взволнованный вопль: во что бы то ни стало нужно нам увидеться, подумайте, как мы страдаем, укрываясь во тьме; вспомните, что есть целительное средство, умоляю вас, бедный мой друг...
И он указал как на выход на свидание. Но тут запнулся. Как быть? – размышлял он. Я не хочу, чтобы она пришла ко мне – это слишком опасно. Лучше, если я предложу ей стакан вина и бисквит и пройду с ней в Лавеню, который одновременно и гостиница и ресторан. Я приготовлю номер, это приятнее, чем быть в отдельном кабинете или в пошлых меблированных комнатах свиданий. Но в таком случае вместо угла улицы Ла Шез удобнее назначить зал Монпарнасского вокзала – часто там бывает пусто. Он так и сделал. Он почувствовал как бы облегчение, вложив письмо в конверт. Ах да! Я забыл! Слуга, адресную книгу Парижа! Он начал искать имя Мобель в предположении, что оно случайно может оказаться верным. Правда, едва ли сообщила она для писем настоящее свое имя, но, с другой стороны, всего можно ждать от такой пылкой, неосторожной особы, как она! Ничего нет невероятного, что мы встречались с ней в свете, но я не знал к ее зовут.
Посмотрим: он нашел некоего Мобе и Мобек, но не Мобель. В сущности, это ничего не доказывает, решил он, закрывая указатель. Выйдя, бросил письмо в почтовый ящик. Самое возмутительное во всем этом, конечно, муж. Но черт возьми! Ненадолго отниму я у него жену!
Сперва он направился домой, потом подумал, что все равно не сможет теперь работать, что, оставшись один, погрузится в мир своих призрачных видений. Не зайти ли к де Герми, сегодня у него приемный день?
Удачная мысль!
Ускорив шаги, он вышел на улицу Мадам, позвонил у двери в антресоль. Отворила служанка: «Ах это вы, господин Дюрталь, его нет дома, но он сейчас вернется, не обождете ли?» «Вы, наверное, знаете, что он придет?» «Да. Ему следовало бы уже сейчас быть дома», – ответила она, разводя огонь. Она ушла, и Дюрталь присел. Потом соскучился и, подойдя к протянувшимся, как у него, вдоль стен полкам, начал просматривать громоздившиеся на них книги.
Однако де Герми собирает любопытные книги, пробормотал он, раскрывая древнюю книгу. Несколько веков назад она пригодилась бы для врачевания того состояния, которое я теперь переживаю: «Manuale Exorcismorum». Посмотрим, что сообщает этот справочник для одержимых. Каково! Причудливые заклинания! Вот заговоры для беснующихся и заколдованных. Дальше идут заговоры от приворотного зелья и чумы. Потом против порчи, напущенной на съестное. Однако! Есть даже заклинание, чтобы не скисалось масло и молоко! В чем не открывали только дьявола в то доброе, старое время. А это что такое? И он взял в руки два томика с алым обрезом, Переплетенные в рыжую кожу. Открыв, посмотрел на заглавие: «Анатомия мессы» Пьера дю Мулэна, издано в Женеве в 1624 году.
Пожалуй, это интересно. Прохаживаясь, чтобы согреться, он кончиками пальцев перелистывал один из томиков. Ага! Однако это любопытно! На странице, которую пробегал он, рассматривался вопрос о священнослужителях. Автор утверждал, что человек больной или лишенный какой-либо части тела не должен совершать священнослужения, и поднимал в связи с этим вопрос: допустимо ли, чтобы оскопленный был рукоположен в священники. Отвечал он следующее: нет, но в крайнем случае можно ограничиться требованием, чтобы человек этот носил на теле пепел недостающих у него членов тела. Он прибавлял, что такое толкование отвергалось кардиналом Толе, но что оно признается тем не менее всеми.
Чтение захватило Дюрталя. Далее дю Мулэн исследовал вопрос: «Надлежит ли воспрещать священнослужение аббатам, развращенным роскошью?» Вместо ответа он цитировал изъяснение canonis Maximiani, который в параграфе 81 грустно вздыхает: «Общепринято, что не подобает никого отрешать от должности за любодеяние, ибо немногие избегают заражения этим пороком».
– Вот как, ты здесь! – прервал его вошедший де Герми. – Что ты читаешь? «Анатомию мессы»? Плохая книга протестанта! Если б ты знал, как я измучен, – продолжал он, бросив на стол шляпу. – Что за животные все эти господа!
Очевидно, он чувствовал потребность излить раздражение, накипевшее у него на сердце.
– Да, представь себе, я только что с консилиума, на котором присутствовали врачи, которых журналы зовут «князьями науки». В течение четверти часа были высказаны взгляды самые различные. Однако все держались мнения, что больной мой безнадежен. Наконец они единогласно прописали мускус и обрекли тем страдальца на бесполезные мучения.
Робко замечаю я тогда, что проще послать за исповедником и усыпить страдания умирающего повторными вспрыскиваниями морфия. Если б видел ты их лица! Они чуть не растерзали меня!
Ах! Эта доблестная современная наука! Ученый муж открывает какую-нибудь болезнь – новую или забытую, – носится с каким-либо способом врачевания – новым или утраченным, – а в общем никто не знает ничего!
Допустим, наконец, что врачи не круглые невежды, но разве можно с пользой лечить, когда в фармации до такой степени царит теперь подделка, что ни один врач не в состоянии поручиться за точное выполнение своего предписания! Один из многих примеров: ты не найдешь сейчас в аптеках сока белого мака, полемакового сироп; старых врачеваний. Его изготовляют теперь, смешивая опий с сахарным сиропом, точно это одно и то же!
Мы дошли до того, что сами не прописываем лекарственных составов, а назначаем готовые лекарства, пользуемся для этого чрезвычайными средствами, наводнившими страницы газетных объявлений. Мы беззаботно отвернулись от изучения болезни, вводим медицину, равно врачующую всех. Какой позор! Какое неразумие!
Нет, я искренне убежден, что древнее врачевание, основывавшееся на опыте, стояло выше, оно знало по крайней мере, что пилюли, зерна, порошки ненадежны, и прописывало лекарства исключительно в жидком виде! Каждый врач отмежевал себе теперь узкую отрасль. Глазные врачи обращают внимание исключительно на глаза и, чтобы вылечить их, отравляют со спокойной совестью все тело. Здоровье больных навек разрушает их пилокорпин! Другие врачуют кожные заболевания, удаляют экземы у старцев, которые, вылечившись, впадают сейчас же в детство или безумие. Забывают о целом, разрушают организм, увлекаясь местным лечением... Какой-то дурман! Мои достопочтенные собратья путаются и блуждают, применяя иногда лекарства, значение которых непонятно им. Например, антипирин: это один из немногих воистину действенных составов, найденных химией за весьма долгое время. И кто из врачей, однако, знает, что компрессами антипирина, разведенного в йодистой холодной воде Бондоно, можно бороться с раком, который слывет недугом неизлечимым? Это невероятно, но я говорю чистейшую правду!
– Ты думаешь, – вставил Дюрталь, – что древние врачи лечили успешнее?
– Да. Они чудесно знали действие лекарств – неизменных, изготовлявшихся добросовестно. Я согласен, конечно, что старик Паре не мог достичь особенных успехов, когда превозносил врачевание ладанками, предписывал больным носить при себе сухие лекарственные порошки в мешочках, форма которых менялась в зависимости от болезни: мешочек делался в виде чепчика в случае болезни головы, волынки – при заболеваниях желудка и бычьего языка, когда болела селезенка! По меньшей мере пустословно его утверждение, что желудочные боли излечиваются присыпкой порошка из алых роз, кораллов, мастики, полыни, мяты, мускатного ореха и аниса. Но этим не исчерпывались его медицинские познания. Он владел тайнами науки мудрых, теперь утраченной, и часто вылечивал недужных!
Современная медицина пожимает презрительно плечами, когда ей говорят об Амвросии Паре. Вспомни, как издевалась она над учением схоластов, утверждавших, что золото врачует недуги, что не мешает, однако, ей пользоваться теперь пылью и солями этого металла в различных сочетаниях: наэлектризованную мышьяково-кислую соль применяют против бледной немочи, солекислую соль против сифилиса, синильную кислоту при расстройстве месячных и золотухе, хлористое соединение соды с золотом при застарелых язвах!
Нет, поверь мне, отвратительно быть врачом... Я доктор медицины, изучал болезни в госпиталях и сознаю себя неизмеримо ниже смиренных деревенских знахарей-отшельников, которые искусстве врачевания много сильнее меня!
– А гомеопатия?
– О! В ней есть и хорошее и дурное. Она тоже лечит, не излечивая, иногда справляется с болезнью, но бессильна в тяжелых случаях, как и лечение Маттеи, которое беспомощно отступает пред бурно протекающими кризисами!
Но оно полезно как успокаивающий, выжидательный способ врачевания, как нечто вспомогательное. Его составы очищают кровь и лимфы, его противозолотушные, ангиотические, противораковые средства иногда излечивают заболевания, не уступающие никакому другому лечению. Оно помогает, например, больному, изнуренному йодистым калием, передохнуть, перетерпеть, оправиться и безопасно приступить со свежими силами к йодистому лечению!
Добавлю, что действие зеленого электричества часто утишает острые, мучительные боли, которых не в силах укротить даже морфий или хлороформ. Ты спросишь, каков состав зеленого электричества, как изготовляется оно? На это я решительно ничего не могу тебе ответить. Маттеи утверждает, что в своих жидкостях и пилюлях ему удалось запечатлеть электрические свойства некоторых растений. Но он не раскрыл тайны своего состава: и вправе рассказывать все, что ему заблагорассудится. Любопытно но, во всяком случае, что врачевание, открытое католиком и римским графом, нашло себе последователей главным образов среди протестантских пасторов, торжественно воплощающих свою первородную тупость в невероятных разглагольствованиях; которыми сопровождают они свои опыты лечения. А в сущности, если хорошенько поразмыслить, то все эти системы – бредни! Истина та, что мы, врачи, действуем в потемках, наугад, что, впрочем, не мешает нам при условии известного опыта, а главное – вдохновения обезлюживать города. Так-то, милый мой, но бросим это, что поделываешь?
– Ничего особенного. Скорее мне следовало бы об этом спросить тебя. Ты не показывался целых восемь дней.
– Да, представь себе, я был занят – много больных. Кстати, я навестил Шантелува, у него приступ подагры. Он жалуется, что ты перестал бывать у них. А жена – я не знал до сих пор, что она такая поклонница твоих книг, – только и говорила о них да о тебе. Мне показалось, что она слишком захвачена тобой, ты знаешь, какая она обычно холодная! Что с тобой? – изумленно оборвал он, рассматривая покрасневшего Дюрталя.
– Ничего, прости, мне некогда, пора уходить, до свидания.
– Ты что-то скрываешь?
– Ничего, уверяю тебя, ничего.
– А! Взгляни! – и не настаивавший де Герми, провожая, подвел его к великолепному бараньему окороку, висевшему в кухне возле окна.
– Чтобы он провял до завтра, я вывесил его на воздух. Мы у Карэ съедим его вместе с астрологом Гевенгэ. Никто не умеет варить баранину по-английски лучше меня. Поэтому завтра я займусь стряпней и не зайду за тобой. Ты застанешь меня на колокольне в роли кухарки.
Дюрталь облегченно вздохнул, выйдя на улицу. Неужели правда, что незнакомка – жена Шантелува, мечтал он.
Нет! Не Может быть! Никогда не обращала она на меня ни малейшего внимания. Всегда была молчалива, леденяще холодна. Это невероятно! Но почему говорила она так с де Герми? Наконец, они знакомы, и если б она хотела меня видеть, она пригласила бы меня к себе, не затеяла бы этой переписки под вымышленным именем Мобель.
Он вспомнил, что инициал незнакомки – «Г». Но госпоже Шантелув так пристало ее отроческое имя: Гиацинта. Она живет на улице Банье, недалеко от почты на улице Литтре. Она блондинка, у нее есть прислуга, она ревностная католичка, это она!
И одно за другим мгновенно сменились в нем два совершенно различных ощущения.
Сперва разочарование, так как незнакомка влекла его сильнее. Никогда не воплощала госпожа Шантелув идеала, который он создал себе, призрачных, причудливых черт лица, которые рисовало его воображение, живого, трепетного облика, скорбного и пылкого стана, о которых мечтал он!
Наконец, самое знание незнакомки ослабляло силу ее чар, она становилась обыденнее. Легкость свидания убивала сказку. Вдруг он ощутил в себе внезапный прилив радости.
Он мог натолкнуться на женщину старую и безобразную, а Гиацинта – мысленно он уже называл ее по имени – была обольстительна. Самое большее тридцати трех лет, некрасива, но не обыденна. Хрупкая, гибкая блондинка с едва обозначенными бедрами, она казалась худощавой, тонкой. Лицо не отличалось особой красотой, и его портил слишком большой нос, но зато от губ веяло пламенем, зубы были великолепные, розовый оттенок кожи струился на молочном, чуть-чуть синеватом фоне, своим тусклым отливом напоминавшим рисовую водку.
Но истинное ее обаяние, ее туманящая загадочность таились в глазах. Они казались пепельными, ее обманные мерцающие близорукие глаза, в которых мелькало выражение покорной скуки. Иногда зрачки серели, и в них вспыхивали серебряные искорки. В глазах ее скорбь и тоска чередовались с надменной скукой. Он отчетливо помнил, как раньше в недоумении отступал пред их загадкой!
Но если взвесить, то страстные письма ее совсем не вытекали из характера женщины, так прекрасно владевшей собой, чуждой всякого жеманства, такой спокойной. Он вспоминал ее званые вечера. Любезная хозяйка, она мало вмешивалась в разговоры, с улыбкой, но не без чопорности встречала гостей.
В общем, если она, думал он, то, значит, это подлинное раздвоение. Видимая оболочка светской женщины, благоразумной, сдержанной хозяйки открытых вечеров, а под этим иной, неизвестный еще облик, безумно страстный, пылко-романтичный, истеричное тело, душа, жаждущая любовных приключений! Нет, это невероятно!
Решительно, я на ложном пути, задумался он снова. Разве не могло быть случайным совпадением, что она говорила с де Герми о моих книгах? Но отсюда еще далеко до вывода, что она тоскует по мне и писала такие письма. Нет, не она. Но кто же?
Он думал все о том же, не подвигаясь ни на шаг. Воссоздал вновь образ этой женщины, сознался, что она воистину обольстительна – гибкая, с отроческим телом, чуждым отвратительного груза плоти! Задумчивый вид, скорбные глаза, даже холодность, искренняя или деланная, – как облекало ее все это загадкой! Он перебрал в памяти все свои сведения о ней, а знал он лишь, что за Шантелувом она замужем во втором браке, что у нее нет детей и что первый муж ее – фабрикант церковных облачений – покончил самоубийством по неизвестным причинам, ничего больше. Неистощимы, наоборот, были россказни, ходившие о Шантелуве.
Он был автором истории Польши и Северных Союзов, исторического труда о Бонифации VIII и его веке, жизнеописания блаженной Жанны де Валуа, основавшей орден Благовещения, жизнеописания досточтимой Матери Анны де Ксентонж, учредившей общину святой Урсулы, и других книг в таком же роде, которых не вообразишь себе иначе, как в гладких или шагреневых переплетах из бараньей кожи, и которые выходят в издании Лекофра, или Пальмэ, или Пусьелга. Шантелув подготовлял свою кандидатуру в академию изящной литературы и рассчитывал на поддержку партии герцогов. Принимал у себя раз в неделю влиятельных ханжей, дворянчиков, духовенство. Но, без сомнения, смотрел на это, как на неизбежное зло, так как, несмотря на свои боязливые, смиренные манеры, он, в общем, был человек общительный, любил похохотать.
С другой стороны, он стремился кое-что значить в литературных кругах, влиятельных в Париже, и умудрялся устраивать у себя литературные дни, на которые приглашал писателей. Очевидно, рассчитывал обеспечить тем себе их поддержку или, по крайней мере, предотвратить нападки, когда будет выставлена его всецело клерикальная кандидатура.
Вероятно, чтобы привлечь своих противников, выдумал он эти причудливые вечера, на которые сходились любопытства ради люди самые разнообразные.
Возможно, что им двигали при этом еще другие побуждения. Про него ходила слава лицемера, человека беззастенчивого, плутоватого. Дюрталь сам замечал, что на всяком званом обеде Шантелувов бывал какой-нибудь незнакомец, изысканно одетый, ходили слухи, что такие сотрапезники – иностранцы, которым показывали писателей как восковые фигуры и у которых занимала рано или поздно значительные суммы.
Бесспорно, что чета эта живет широко, не владея никакими определенными доходами. С другой стороны, католическая книготорговля и журналы платят еще хуже, чем светские газеты и издатели. Хотя имя Шантелува пользуется широкой известностью в клерикальном мире, но немыслимо, чтобы на доходы с авторских прав можно было поставить дом на такую ногу!
Что ни говорите, а все это туманно, размышлял Дюрталь. Положим, что женщина эта страждет в глубине души, что она не любит мужа – подозрительного церковника. Но каково ее истинное положение в доме? Знает она о денежных проделках Шантелуьа? Во всяком случае я не вижу ничего, что влекло бы ее ко мне. Допустим, что муж потакает ей, но тогда простой здравый смысл подсказывает, что ей нужен любовник влиятельный или богатый, а она прекрасно знает, что я далек и от того, и от другого. Шантелув понимает, что я не могу оплачивать расходы на костюмы, поддерживать их шаткое хозяйство. У меня всего три тысячи годового дохода, и я сам едва свожу концы с концами!
Нет, это совсем не то. Во всяком случае связь с этой женщиной обещает мало утешительного, решил он, охлажденный своими думами. Но как я недогадлив! Разве не доказывает подноготная этой четы, что моя незнакомка не жена Шантелува, и, по зрелому рассуждению, я порадуюсь, если это так!
VIII
На другой день улеглись волны его дум. Незнакомка по-прежнему не исчезала из его души. Но по временам испарялась или уходила вдаль. Менее ярко восставал пред ним ее облик, окутанный туманом. Ослабели ее чары, она не владела уже им одна.
Лихорадку его до известной степени охладила осенившая его вдруг при словах де Герми мысль, что незнакомка не кто иная, как жена Шантелува. Теперь рассеялись вчерашние доводы обратного. По тщательному обсуждению, перебирая одно за другим звенья своих мыслей, он не мог больше сомневаться, что это именно она. А если так, то в основе этой связи ему мерещилось нечто безвестное, даже опасное и, насторожившись, он не уносился, как раньше, по течению.
И в то же время в нем совершалось что-то новое. Никогда не думал он о Гиацинте Шантелув, никогда не увлекался ею. Правда, он любопытно останавливался перед тайной облика ее и жизни, но, в общем, сейчас же забывал о ней за порогом ее дома. А теперь она занимала его мысли, влекла к себе. Дюрталь воскрешал в памяти, сливал воедино лицо ее с образом женщины, который создали его мечты, и она разукрасилась вдруг прелестями незнакомки, заимствовала некоторые черты ее. Его еще отталкивал муж – ханжа и лицемер, и вожделения его не устремлялись больше во всю скачь, но она не казалась ему менее желанной. Наперекор внушаемому ей недоверию она могла стать увлекательной любовницей, чрезмерную порочность могла смягчить своей радостною добротой. И его утешало сознание, что она уже не фантом, измышленный в часы смятения, что она сбросила с себя небытие.
С другой стороны, если он ошибается, если письма писала ему не жена Шантелува, то неизвестная потускнела потому уже, что могла воплотиться в знакомое ему создание. Она утратила частицу своей далекости, изменилась красота ее, в свою очередь уподобившись чертам жены Шантелува, и поскольку эта выигрывала от подобного сближения, постольку же теряла та в облике, воссоздаваемом Дюрталем.
Так или иначе, была ли то жена Шантелува или нет, но он чувствовал себя легче, спокойнее. Возвращаясь снова все к тем же мыслям, он, в сущности, не знал даже, кто влечет его сильнее: призрак ли, сотворенный им и меркнувший теперь, или Гиацинта, которая не разочарует его по крайней мере станом феи Карабосской, лицом Севинье, изборожденным летами.
Воспользовавшись этим роздыхом, он снова хотел приняться за работу. Но не выдержали натянутые нервы и, приступив к главе о преступлениях Жиль де Рэ, он не смог связать двух фраз. Он устремился за маршалом в погоню, обрел его, пытался запечатлеть на бумаге, но описание выходило вялым, немощным, усеянным пробелами.
Отбросив тогда перо, он откинулся в кресле и, предавшись мечтам, перенесся в Тиффож – в этот замок, куда нисходил сатана, столь упорно не показывавшийся маршалу, и где, без ведома Жиля вселившись в него, увлекал его в исступленные радости убиений.
В этом сущность силы сатаны, думал он, и если поразмыслить, то вопрос о внешних видимых воплощениях покажется второстепенным. Чтобы явить свое бытие, демону вовсе не нужно облекаться видом человека или животного. Для самоутверждения ему достаточно, если он изберет обиталищем своим душу и, изъявляя, подтолкнет ее к непостижимым преступлениям. Нашептывая, тешит он людей надеждой, что, освободив их от своего, часто им самим неведомого пребывания, он явится, повинуясь заклинаниям, и скрепит с ними торжественный договор, по которому наделит их дарами взамен требуемых злодеяний. Иногда одного желания заключить ним договор достаточно, чтобы он вселился в нашу душу.
Все современные учения Ломброзо и Модслея не способны объяснить нам необычные злодейства маршала. Нет ничего проще, как объявить его маньяком, так как он был таковым на самом деле, если под маньяком разуметь человека, одержимое всевластной, навязчивой идеей. Но таков, в большей или меньшей степени, каждый из нас, начиная с купца, все помышления которого сводятся к прибыли, и кончая художником, всецело поглощенным рождением своего творения. Но почему и как стал маньяком маршал? Вот чего не ведают все Ломброзо мира. Поражение головного мозга, строение мозговой оболочки не дают нам ровно никакого ответа на вопрос. Это лишь производные явления, следствия, порожденные неизвестной причиной, которую ни один материалист мира не сможет объяснить. Слишком легко утверждать, что убиения и святотатства порождаются расстройством мозговых тканей. Знаменитые психиатры нашего времени пытаются исследованием мозга безумных обнаружить поражение или изменение серого вещества. Хотя бы и так! Возьмем, к примеру, женщину, одержимую бесовством, допустим, что у нее действительно поражен мозг, но вопрос в том, явилось ли это поражение следствием ее бесовства или, наоборот, поражение вызвало бесовство! Развратители духа не прибегают еще к помощи хирургии, не отсекают частиц мозга, не пользуются искусством трепанации. Они ограничиваются воздействием на ученика, действуют более верными средствами – внушают ему низменные мысли, развивают в нем дурные инстинкты, исподволь толкают его на путь порока. И если серое вещество испытуемого меняется под влиянием беспрестанных внушений, то это явное доказательство, что поражение мозга не причина, а следствие душевных состояний.
А потом... потом, разве не безрассудны, как подумаешь, современные учения, смешивающие воедино преступников, одержимых, бесовствующих и безумных! Девять лет назад четырнадцатилетний ребенок Феликс Леметр убивает незнакомого маленького мальчика, обуреваемый жаждой видеть его страдания, слышать его вопли. Распоров ему ножом живот, он вертит, поворачивает лезвие в теплой ране и медленно потом перепиливает ему горло. Не обнаруживает никакого раскаяния, выказывает себя на следственном допросе разумным и жестоким, Доктор Легран дю Соль и другие специалисты терпеливо наблюдали его целые месяцы и не могли напасть ни на один признак безумия, не нашли в нем чего-либо похожего на манию. И при всем том он получил даже сносное воспитание, не был совращен другими!
Точь-в-точь, как бесовствующие, которые творят зло ради зла. Они не безумнее монаха, охваченного молитвенным восторгом в келье, не более безумны, чем человек, творящий добро ради добра. Здесь речи нет о патологии. Они являют два противоположных полюса души – этим сказано все!
В XV веке такие крайние устремления воплощались Жанной д'Арк и маршалом де Рэ. Нет оснований считать Жиля безумнее Девы, непостижимый успех которой не имеет ничего общего с помешательством и бредом. Как бы там ни было, страшные ночи бывали, должно быть, в этой крепости, подумал Дюрталь, мысленно переносясь в замок Тиффож. Он посетил его в прошлом году, желая пожить там, где вырос де Рэ, почувствовать дыхание древних развалин.
Он поселился в маленькой деревушке, расположенной у подножия древних башен, и убедился, как живуча легенда о Синей Бороде здесь, в этой глухой местности Вандеи, на берегах Бретани. Юноша, который кончил плохо, говорили о нем молодые женщины. А старухи пугливо крестились, проходя вечером у подножия стен. Хранилось до сих пор предание об убиенных детях. Все еще вселял ужас маршал, которого знали лишь по прозвищу.
Ежедневно ходил Дюрталь к замку, высившемуся над долинами Крюм и Севр против холмов, изборожденных глыбами гранита, поросших могучими дубами, корни которых вышли из земли и были подобны разоренным гнездам больших змей.
Казалось, что находишься в подлинной Бретани. Те же небо и земля: небо скорбное и угрюмое, солнце как бы постаревшее, тускло золотившее лишь опушки вековых лесов и седые мхи камней. Раскинулась необозримая даль бесплодных равнин, изрытых лужицами заржавленной воды, усеянных утесами, пестревших розовыми колокольчиками вереска, желтыми стручками рощиц и пушистых дроков.
Чувствовалось, что из века в век повторяет неизменно природа эту небесную твердь железистого цвета, эту скудную землю, местами едва подернутую кровавым цветением гречихи, эти дороги, окаймленные камнями, наваленными грудой без скрепления цементом, эти тропинки, отгороженные непроницаемыми плетнями, эти угрюмые равнины, беспризорные поля, нищие, изъеденные проказой и забрызганные грязью.
Не изменился даже этот скот, тощий и мелкий, коренастые коровы, черные бараны, голубые глаза которых смотрели холодно и ясно, подобно взору трибад или славян!
В полном соответствии с замком, устремлявшим ввысь свои развалины, расстилалась долина Тиффожа, хотя ее безобразила труба фабрики, немного поодаль на берегу Севры. Мощно громоздился замок цепью башен, от которых сохранились обломки, опоясывавших некогда целую долину, теперь превращенную в жалкий огород.
Голубоватые листья капусты, скудная морковь, чахлая брюква зеленели там, где всадники рубились когда-то в ярости схваток или торжественные шествия развертывались в курениях ладана с пением псалмов.
Сбоку пристроили хижину, и крестьянка, одичалая, как бы утратившая способность речи, лишь при виде монеты выходила из оцепенения и, схватив ее, протягивала ключи.
Тогда можно было часами бродить среди развалин, курить, мечтать в праздности...
К сожалению, отдельные части замка были недоступны. Главную башню до сих пор окружал со стороны Тиффожа глубокий ров, на дне которого росли могучие деревья. Их вершины служили опушкой края рва, и зыбкий покров листвы стлался до самой паперти, которую не защищал уже подъемный мост.
Но зато открывался легкий доступ с другой стороны – там, где бурлила Севра.
Уцелели крылья замка, увитые плющом и гордами, усеянными белыми хохолками. Высился кремнистый, точно пемза, сухой, посеребренный лишаями, позолоченный мхами камень башен, окаймленных зубчатыми воротниками, которые понемногу осыпались под напором ночных ветров.
Внутри тянулись залы из тесаного гранита, угрюмые и холодные, с крутыми сводами, подобными днищу челноков.
Витые лестницы вели вверх и вниз в покои, похожие друг на друга, связанные темными ходами, в которых неизвестно для чего высечены были закоулки и виднелись глубокие ниши.
Внизу коридоры так суживались, что вдвоем нельзя было пройти рядом, углублялись покатым уклоном вниз, ветвились, беспорядочно переплетались и выходили в мрачные темницы, источенные стены которых искрились стальным отблеском при свете фонаря, как бы усеянные кристальными крупинками сахара. В углах или посреди верхних келий и подвальных темниц ноги спотыкались о груды затвердевшей земли, расщеленной зияющим отверстием подземной темницы или колодца.
Крытая галерея обвивала вершину левой башни при входе. Она походила на скамью, высеченную вокруг скалы. Без сомнения, вооруженные воины стаивали некогда там и стреляли вниз в осаждающих сквозь широкие бойницы, причудливо прорезанные под их ногами. Звуки голоса, даже шепота летали в галерее вокруг стен и доносились с одного конца на другой.
Внешним видом своим замок, в общем, походил на крепость, способную выдержать долгие осады, а внутренность его, теперь оголенная, наводила на мысль о темнице, в которой в несколько месяцев истлеет плоть, губительно источенная водой. Выйдя на воздух, человек ощущал довольное облегчение, и снова овладевал им страх, когда, пересекая гряды капусты на огороде и дойдя до одиноких развалин капеллы, он решался подвальной дверь спуститься вниз, в глубь склепа.
Очевидно, его построили еще в XI веке. Он был тесный, сдавленный, с дугообразным сводом, покоившимся на тяжелых колоннах с лепными капителями, изображавшими ромбы прислоненные епископские посохи. Уцелел до сих пор каменный престол. Тусклый, как бы процеженный сквозь тонкую роговину, свет дня пробивался в отверстия, едва освещая сумрак стен окаменевшую сажу пола, все еще расщеленного дырой подземной темницы или круглым отверстием колодца. После обеда, по вечерам он часто поднимался на берег и шел вдоль развалин. Часть замка окутывалась в ясные ночи тенью, зато выступала другая, в серебристо-голубом сиянии, и, как бы источая серебряные отблески, высилась над Севрой, воды которой лучились искрами, роняемыми месяцем, подобными рыбной чешуе.
Давило молчание. Ни лая собак, ни голосов людей не раздавалось после девяти часов. Он возвращался в бедную комнату таверны, где его со светильником поджидала одетая в черное старуха в средневековом чепце, чтобы запереть за ним дверь.
Все это – как бы скелет мертвого замка, думал Дюрталь. Чтобы воскресить его, следует воссоздать пышную плоть, облекавшую каменные кости.
Свидетельство документов достоверно: каменный остов замка был облачен в роскошные одежды. И, чтобы воссоздать Жиля в его обстановке, нам нужно представить себе всю роскошь меблировки, мыслимую в XV веке.
Нужно одеть стены обшивкой из ирландского дерева или покрыть искусно вытканными обоями из золотых нитей, столь редкими в те времена. Вымостить черный гранит пола зелеными и желтыми изразцами или черными и белыми плитами; расписать своды, расцветить их по лазурному фону золотыми звездами или усеять самострелами, многократно повторяя герб маршала – черный крест, сверкающий золотыми монетами!
Нетрудно наполнить мысленно мебелью покои, в которых почивали Жиль и его друзья. Вообразить величественные седалища со спинками, скамьи и кресла. К стенам прислонить резные деревянные поставцы, доски которых украшала резьба, изображавшая Благовещение или Поклонение Волхвов, укрывавшие под сенью темных узорчатых карнизов раскрашенные золоченые статуи святой Анны, святой Маргариты, святой Екатерины, которых так часто воспроизводили резчики средневековья, расставить сундуки для свежего белья и туник, обтянутые свиной кожей, кованые железом и обитые гвоздями; баулы с металлическими петлями в кожаных или холстинных чехлах. Следует воздвигнуть, наконец, кровати на возвышениях, к которым ведут ступени, убранные коврами, одеть их льняною пеленой, волнистыми подушками в раздушенных наволочках и стегаными одеялами. Увенчать их балдахинами, укрепленными на рамах, и оттенить занавесями, украшенными гербами или усеянными звездами.
Нужно воспроизвести также обстановку других покоев, от которых уцелели лишь стены да большие очаги без таганов под высокими навесами, до сих пор сохранившие обжиг древнего огня. Вообразить себе залы трапез, этих зловещих трапез, которые оплакивал Жиль на суде в Нанте. Со слезами признавался он, что разжигал возбуждающими яствами пыл своих чувств, и нам легко представить себе его обильные пиршества. В высокой зале сиживал он за столом с верными друзьями: Эвстахием Бланше, Прелати, Жилем де Силле. Кувшины и тазы стояли на буфетных столах, полные ирговой, розовой, донниковой воды, приготовленной для омовения рук. Жиль и сотрапезники вкушали паштеты из филея, семгу, лещей, отведывали нежно-розовых кроликов, цыплят, перепелов под дымящимся соусом, паштет из потрохов; им подавались жареные цапли, аисты, журавли, павлины, выпи и лебеди, молодая дичь, нантская морская минога; салаты из кнотника, хмеля, душистого горошка, мальвы; острые кушанья, приправленные майораном, мускатом, кишнецом, шалфеем, пионом, розмарином, базиликом, иссопом, имбирем, райским семенем; их сменяли кушанья ароматные, едкие, докучающие желудку, как бы пришпоривающие жажду: тяжелые печенья, торты с начинкой из бузины и репы, рис в ореховом молоке, посыпанный корицей и пряностями. Яства чередовались с обильными возлияниями пива и настойки из тутовой ягоды, сотрапезники упивались винами сухими или темно-красными, старыми – винами пряными, крепкими, уснащенными корицей, миндалем, мускусом; золотистой жидкостью безумных ликероц пьянящими напитками, которые распаляли жар речей и под конец трапез уносили в хмельном чаду собутыльников, пировавших в этом замке, не знавшем госпожи!
Теперь остается только представить себе одежду, подумал л и воскресил мысленно облик Жиля и друзей его, окруженных роскошью замка и облаченных не в золоченые латы битв, но в домашние костюмы, в платье, носимое ими в часы отдохновения. Они предстали перед ним в ослепительных одеждах, гармонировавших с пышной обстановкой: в коротких камзола особого покроя складками, слегка переходившими в юбку, собранную на талии. Узкие темные панталоны обтягивали ноги, на голове шапочка, круглая, плоская или в виде артишокового листа, как у Карла VII на портрете, висящем в Лувре. Стан был стянут затканным золотыми ромбами или дамасским шелком сукном, расшитым серебряными нитями и опушенным куницей.
Он вспоминал наряды женщин, их драгоценные одежды в узорах из цветов; платья с узкими рукавами, тесно прилегавшие к стану, с отворотами, доходившими до плеч, юбки, стянутые на талии, сзади струившиеся длинным шлейфом, отороченным белыми мехами. Перебирая в памяти детали одеяния, как бы облекавшего воображаемый образ, он видел разрезы корсажа, сверкавшего тяжелыми камнями ожерелий, Осыпанного фиолетовыми или молочными кристаллами, мутными, негранеными алмазами, геммами, мерцавшими в робких переливах. Женщина змеилась под нарядом и оживала, и наполняла собой одежды, упруго волновала корсаж, склонялась под головным убором в виде двойного рога, обрамленного бахромой, и усмехалась, растворяясь в очертаниях незнакомки и жены Шантелува. А он не осознавал даже, что она снова перед ним, и всматривался, восхищенный, пока наконец поток его дум не прервала прыгнувшая к нему на колени кошка, вернувшая его к действительности.
– А... Каково! – его невольно смешили неотступные преследования незнакомки, отыскавшей его даже в Тиффоже.
Безумно уноситься так мечтою, подумал он, потягиваясь, и, однако, лишь это прекрасно, а все остальное пошло и пусто!
Средневековье – время, несомненно, замечательное, задумался он снова, закуривая папиросу. Одним оно кажется белым, как снег, другим – чернее черного. Нет срединных оттенков. Время невежества и мрака – твердят мещане и атеисты, время скорбное и изысканное – свидетельствуют ученые богословы и художники.
Верно одно: сословия тех веков – дворянство, буржуазия, духовенство, крестьяне обладали душой более возвышенной. Истинно, пожалуй, утверждение, что общество лишь упадало на протяжении четырех столетий, отделяющих нас от средневековья.
Правда, сеньор вел большей частью жизнь грозного зверя, был пьяным, грубым разбойником, кровожадным, заносчивым тираном. Но разумом он походил на ребенка, и его – слабого духом – обуздывала церковь. Ради освобождения Гроба Господня люди эти жертвовали своими богатствами, покидали дома, детей, жен, выносили безмерные лишения, страдания необыкновенные, подвергались опасностям неслыханным!
Благочестивым героизмом искупали они свои низменные нравы. Кровь их с тех пор переродилась. Видоизменились, а час тью совсем угасли инстинкты хищений и насилия, но замен их жажда наживы и страсть к роскоши. Случилось нечто худшее – они пали столь низко, что их привлекают занятия презреннейших бродяг. Аристократия перевоплощается в баядерку, облекается в кисею плясуньи, в трико клоуна. Всенародно раскачивается на трапеции, прыгает через обручи, поднимает жести на утоптанной арене цирка!
За исключением нескольких монастырей, опустошенных безмерной роскошью и исступлением бесовства, духовенство достойно было поклонения, устремлялось в область сверхчеловеческую и лицезрело Бога! Изобилуют святыми века, множатся чудеса, и церковь, не утрачивая своего все всемогущества, кротко осеняет униженных, утешает страждут защищает малых сих, общается с народом. Сегодня она не видит бедняков, а мистицизм умирает в рядах духовенства, которое обуздывает пламя мысли, проповедует воздержание ха, умеренность постижений, здравый смысл молит буржуазность души! Правда, вдали от обычных священников скорбят еще кое-где в недрах монастырей истинные святые монахи, которые до кончины своей молятся за всех нас. Наряду с бесовствующими, они – единственное звено, связующее наш век со средневековьем.
Еще во времена Карла VII можно подметить в буржуазии наставительное самодовольство. Но духовник укрощает жадность, и союзы держат равенство ремесленников и торговцев, преследуют недобросовестность и обман, уничтожают товары, объявленные недоброкачественными, установляют справедливые цены добротные изделия. От отца к сыну переходит ремесло у мастеров и буржуа. Союзы обеспечивают им работу и задельную плату. Им не грозят, как теперь, колебания рынка, их не терзают жернова капитала. Нет больших состояний, но все живут в достатке. Уверенные в будущем, работая без торопливости, творят они Чудеса того пышного искусства, тайна которого утрачена навеки!
Все искусные ремесленники проходят три степени: ученика, подмастерья, мастера, совершенствуют постепенно свой труд, вырастают в истинных художников. Они облагораживают простейшие железные изделия, самый грубый фаянс, самые обычные лари и сундуки. Союзы эти, избиравшие покровителями святых, которым часто молились, лики которых изображены были на их хоругвях, оберегали на протяжении веков честное существование смиренных и необычайно возвышали духовный уровень людей, которых охраняли.
Всему этому наступил конец. Буржуазия заместила дворянство, поглощенное забавами, забрызганное грязью. Ей обязаны мы бесстыдным распространением гимнастических обществ, пьяных игорных клубов, скачек. А современный промышленник думает лишь о том, чтобы утеснять рабочих, производить плохие товары, подделывать их качество, обвешивать при продаже.
Что касается народа, то у него похитили необходимый страх древнего ада и внушили, что тщетно надеяться ему обрести после смерти возмездие его горя и страданий. Лениво влачит он бремя плохо оплачиваемой работы и пьет. Временами, упившись слишком пламенными напитками, он восстает, превращаясь в дикого, жестокого зверя, и его убивают!
Что за дурман, о Всеблагой Боже! И подумать только, что этот XIX век так восхищен собой, так полон самообожания! Одно лишь у него на устах слово – прогресс. Прогресс чего? В чем? Ибо не достиг ничего великого этот презренный век!
Ничего не воздвигнув, он разрушил все. Сейчас он так кичится электричеством и воображает, что открыл его! Но еще в древнейшие времена знали о нем, пользовались им, и если древние не могли объяснить его природы, самой его сущности, то к современные ученые неспособны постичь причины этой силы, которая перебрасывает искру и, гнусавя, передает по проволоке голоса! Он думает еще, что открыл гипнотизм, но египетские и индийские жрецы и брамины издревле постигли и в совершенстве владели этой грозною наукой.
Нет! Век этот открыл лишь подделку припасов, обманные изделия. Здесь он непобедим, изощрился даже портить испражнения, вследствие чего палаты принуждены были в 1888 году принять закон, направленный против подделки удобрений... Это предел!
Кажется, звонят. Он открыл дверь и отступил.
Перед ним стояла госпожа Шантелув.
Он склонился пораженный, а она, не проронив ни слова, прямо прошла в его рабочий кабинет. Здесь повернулась, Дюрталь, шедший следом, стоял теперь с ней лицом к лицу!
– Садитесь, прошу вас, – он подвинул ей стул, поспешно расправил ногой ковер, смятый кошкой, извинился за беспорядок. Она ответила неопределенным жестом и продолжала стоять. Потом совершенно спокойно заговорила, слегка понизив голос:
– Это я посылала вам такие безумные письма... Я пришла сюда изгнать злую лихорадку, покончить с ней смелой откровенностью; вы писали мне сами, что связь между нами невозможна... забудем, что случилось... и прежде чем я удалюсь, признайтесь, что вас не влечет ко мне...
Он воскликнул:
– Ах, нет! Я против такого печального конца. Я не был безумцем, когда отвечал вам жгучими страницами. Я говорил правду, я люблю вас...
– Любите! Но разве знали вы, что письма писала я! Вы любили незнакомку, любили призрак. Допустим, что слова ваши – правда! Но я здесь перед вами, и призрак теперь исчез!
– Вы ошибаетесь, я прекрасно знал, что под вымышленным именем Мобель скрывается госпожа Шантелув, – и Дюрталь подробно объяснил ей, как он приподнял маску, но, конечно, не рассказал о своих сомнениях.
– А! – она задумалась. Трепетали ее ресницы над затуманившимися глазами. Потом продолжала, свободно смотря ему в лицо: – Несомненно, что вы не могли открыть меня по первым письмам, на которые вы отвечали стоном страсти! Нет, не ко мне устремлялся ваш порыв!
Он возражал ей, запутался в перечне чисел и записок. Сама она тоже потеряла нить своих возражений. Они почувствовали, что это становится смешным, и замолчали. Тогда она села и вдруг разразилась хохотом.
Его раздражил этот резкий, пронзительный смех, обнаживший ее ослепительные зубы, короткие и острые, вздернувший насмешливую губу. Она издевается надо мной, подумал он, и, раздосадованный оборотом, который приняла их беседа, разгневанный обликом этой женщины, такой спокойной, такой непохожей на ее пламенные письма, спросил обиженным голосом:
– Могу я узнать, чему вы смеетесь?
– Простите, это нервы, на меня это часто находит даже в омнибусах; но оставим это, будем благоразумны, обсудим все спокойно. Вы говорите, что любите меня...
– Да.
– Ну что ж! Допустим, что я тоже неравнодушна к вам, но куда это привело бы нас? Вспомните, как сначала вы отказали мне – и отказ ваш исходил из веских соображений – в свидании, о котором я просила вас в миг безумия!
– Но я отказал, не зная, что это вы! Несколько дней спустя де Герми, как я уже говорил вам, невольно раскрыл мне ваше имя. Узнав его, я перестал колебаться! Сейчас же стал умолять вас о свидании!
– Пусть так! Но согласитесь, что я права, утверждая, что вы писали первые ваши письма не мне, а другой!
Она задумалась на мгновение. Дюрталю успел надоесть спор, в который они погружались. Решив, что благоразумнее не отвечать, он молчал, измышляя выход из тупика, в который они зашли. Но она сама вывела его из затруднения.
– Прекратим спор, нам нет иного выхода, – заметила она, улыбаясь. – Разберемся в положении: я замужем за прекрасным человеком, он любит меня, и вся вина его, в общем, лишь та, что счастье, которое способен он дать, немного тускло. Я первая написала вам, виновна я, и, верьте, я страдаю за него. Но вы творец, вы создали замечательные книги. Не надо, чтобы безумная женщина вкрадывалась в вашу жизнь. Вы видите сами, что лучше остаться нам друзьями, истинными друзьями и не идти дальше.
– В словах ваших я слышу благоразумие, здравый смысл, не знаю что и не вижу пред собой женщины, которая писала мне так пылко!
– Но сознайтесь, что вы не любите меня!
– Я!.. – он нежно взял ее за руки. Она не сопротивлялась, пристально на него смотрела твердым взглядом.
– Послушайте, вы навестили бы меня, если б любили. Но вот уже целую вечность вы даже с места не двинулись узнать: жива я или нет...
– Но поймите, разве мог я надеяться, что вы примете меня после того, как мы зашли так далеко. У вас в доме всегда гости, наконец, ваш муж. Когда я бывал у вас, никогда не пытались вы хотя бы немного сблизиться со мной!
Сильнее сжимал он ее руки, придвигался к ней все ближе. Она рассматривала его своими пепельными глазами.
В них и теперь мерцало выражение печали, почти муки, так очаровавшее его. Его распалял этот облик, чувственный и скорбный, но она решительным движением высвободила руки.
– Успокойтесь, сядьте, поговорим о чем-нибудь другом! Знаете, у вас очаровательное жилище... Кто этот святой? – спросила она, внимательно рассматривая картину над камином, на которой монах молился коленопреклоненный возле кардинальской шляпы и кувшина.
– Не знаю.
– Я разузнаю вам. Дома у меня есть «Житие святых». Нетрудно найти кардинала, который покидает пурпур ради хижины. Постойте, так случилось, кажется, со святым Петром Амьенским, но я не вполне уверена. У меня такая бедная память, помогите мне немного.
– Но я не знаю!
Она приблизилась, положила ему руку на плечо.
– Вы обижены, досадуете на меня, признайтесь!
– О Бог мой! Я страстно жажду вас, целых восемь дней мечтаю о нашей встрече, а вы приходите сюда, чтобы поведать, что все между нами кончено, что вы не любите меня...
Ласка звучала в ее голосе:
– Разве пришла бы я, если б не любила вас. Поймите, что действительность убьет мечту, что лучше не накликать нам муки угрызений! Мы уже не дети. Нет, оставьте, не сжимайте меня так. – Сильно побледнев, вырывалась она из его объятий. – Пустите или, клянусь, я уйду, и вы никогда больше не увидите меня, – голос ее стал хриплым, сухим. Он выпустил ее.
– Сядьте там за столом, прошу вас, сделайте так для меня, – и, постукивая каблуком о паркет, она продолжала металлическим голосом: – Неужели нельзя быть другом мужчины, только другом. Как прекрасно было бы видеться с вами, не боясь дурных мыслей, – и, помолчав, добавила: – Да, как я хотела бы лишь таких свиданий, хотела бы молчать, если нечего сказать друг другу о возвышенном. Есть прелесть и в молчании! – Она вздохнула: – Час на исходе, пора домой!
– И вы уйдете, не дав мне никакой надежды?! – молил он, сжимая ее руки в перчатках.
– Скажите, вы вернетесь?
Не отвечая, она покачала нежно головой. Наконец смягчилась на его мольбы:
– Обещайте, что вы ничего не потребуете от меня, будете благоразумны, и послезавтра в девять вечера я приду сюда.
Он обещал все, что хотела она. Дыхание его струилось выше ее плеч, рот тянулся к шее, которую он видел перед собой, и, высвободив руки, она сама нервно схватила его за руки и, стиснув зубы, протянула для поцелуя шею.
Потом устремилась прочь.
– Уф! – вздохнул он, запирая дверь. Он был и доволен, и в то же время недоволен.
Доволен потому, что она показалась ему загадочной, многообразной, обольстительной. Оставшись один, он мысленно воскрешал ее, затянутую в черное платье, в меховом плаще, теплый воротник которого ласкал его, когда он припал к ее шее. Она не носила драгоценностей, и лишь в ушах сверкали синие искры сапфиров. Темно-зеленая, опушенная выдрой, немного странная шляпа сидела на ее белокурых волосах. Длинные рыжие шведские перчатки стягивали руки и, как и вуаль, источали причудливый запах, напоминавший запах корицы, тонувший в более сильных благовониях, аромат нежный и далекий, след которого хранили еще его пальцы, когда он подносил их к лицу. Пред ним мерцали ее туманные глаза, серые, загадочные, иногда метавшие вдруг искры, влажные, острые зубы, болезненный, страстный рот.
И он радовался, мечтая, как будет целовать все это послезавтра! Одновременно чувствовал недовольство как собой, так и ею. Упрекал себя за то, что был угрюм, печален, робок. Следовало встретить ее более страстно, менее сдержанно. Но это ее вина! Она сама расхолодила его. Слишком противоречил вид ее, полный самоуверенного кокетства, впечатлению писем, истерзанных вожделением и мукой!
Но как удивительно созданы женщины, задумался он. Прийти к мужчине, которому писала пламенные письма, по-видимому, ничего не может быть труднее! У меня растерянный вид, я смущен, не знаю, что сказать, а она через несколько мгновений чувствует себя как дома или где-нибудь в гостиной, никаких признаков неловкости, изысканные движения, несколько слов, дополненных взглядами! Она своенравна. Дюрталь вспомнил ее жесткий тон, когда она выскользнула из его объятий. А иногда от нее веет добротой, мечтал он, вспоминая неподдельную нежность, звеневшую в ее голосе, несколько взглядов, исполненных ласковой печали. Послезавтра будем осмотрительны, решил он, обращаясь к кошке, которую так поразило невиданное зрелище женщины, что она с приходом госпожи Шантелув сейчас же устремилась в бегство и забилась к нему под кровать. Теперь она подошла, скорее, подползла к нему и обнюхивала стул, на котором та сидела.
Если глубже вдуматься, то какой, в сущности, безмерно искусной покажется госпожа Гиацинта! Она не захотела свидания в кафе, на улице. Острым чутьем проведала мой умысел отдельного кабинета или гостиницы. По одному этому не сомневалась, что я не приглашу ее сюда, не имею ровно никакого желания вводить ее к себе, и смело явилась сама. Если хладнокровно обдумать, то вся вводная сцена – сущее притворство. Она не пришла бы, если бы не стремилась к связи. Нет, она хочет, чтобы я умолял ее, подобно всем женщинам хочет укрыться под личиною недоступности. Я был огорошен, приход ее перевернул весь мой распорядок. Ну что ж, разве от этого она менее обольстительна, блаженно отогнал он от себя докучные думы и погрузился в чары безумного видения, которое все еще хранило его воображение. Пошлым, пожалуй, оно не будет, наше послезавтра, рассуждал он, воссоздавая ее глаза, загадочные и скорбные, мысленно раздевая ее, рисуя себе, как освободится от мехов и узкого платья ее тело, белое и худощавое, гибкое и нежное. У нее нет детей, и, значит, тело ее сохранилось юным, хотя ей уже тридцать лет!
Его пьянило дуновение юности. Изумленно посмотрелся Дюрталь в зеркало. Горели его утомленные глаза. Лицо показалось ему моложе, менее тусклым, усы не в обычном небрежении, волосы чернее. Хорошо, что я сегодня выбрился, пришло ему в голову. Но, задумавшись и всматриваясь в зеркало, которое он вопрошал так редко, он заметил, как блекнет его лицо и угасают глаза. Снова согнулся его обычно сгорбленный стан, который выпрямился в час душевного подъема. Снова легла печаль на его сосредоточенное лицо. Нет, я не гожусь прельщать женщин, решил он. Но тогда чего же ей нужно от меня? Мужа она так же легко могла бы обманывать с другим! Ах! Опять! Снова завлекают меня мои мечтания! Пора кончить. Проверив себя, я убежден, что люблю ее не сердцем, а умом. Но это главное. При таком условии любовная связь наша не будет длительна, и я почти уверен, что всегда смогу от нее избавиться, не натворив особенных безумств.
IX
Заснув с мыслью о ней, он и на другой день проснулся все с той же думой. Опять начал перебирать этапы их знакомства, строить догадки, отыскивать причины. Задумался еще раз над вопросом, почему, когда он бывал у нее, она не подавала виду, что он нравится ей? Не бросила ни единого поощряющего взгляда, не обронила ни одного намека на сближение. К чему эта переписка? Ей ничего не стоило пригласить меня к обеду, воспользоваться первым удобным случаем и устроить у себя или на нейтральной почве свидание наше с глазу на глаз.
Так вышло бы более пошло, менее причудливо! Наверное, она искушена в подобных вещах! Понимает, что ум человека устремляется к неведомому, что душа распаляется в пустоте, и решила воспламенить мой дух и, смутив его, напасть под своим настоящим именем.
Если догадки его справедливы, то, значит, она удивительно прихотлива. А может быть, в сущности, она романтична и восторженна или просто комедиантка. Ее веселит создавать себе мелкие приключения, приправлять пошлые яства острыми приправами.
А ее муж, Шантелув? Дюрталь подумал о нем. Конечно, он следит за женой, и сама она облегчает это ему своими безрассудствами. Кстати, каким образом удастся ей прийти в девять вечера? Легче, казалось бы, устроить свидание после полудня или утром под предлогом распродажи или бань...
Но и на это не находил он ответа. Умолкли понемногу его воп росы, властно заслоненные образом этой женщины, и он затосковал по ней, охваченный жгучим чувством, которое раньше будил в нем облик незнакомки, слагавшийся при чтении писем.
Теперь незнакомка вовсе испарилась. В памяти его стерлось даже ее лицо. Целиком захватила его жена Шантелува, и, не сливаясь больше с незнакомкой, не заимствуя ее черт, она распаляла мысли его и чувства. Безумно жаждал он ее, мечтал об обещанном послезавтра. А вдруг не придет? – пришло ему в голову. Мороз пробежал у него по коже при мысли, что она не сможет выбраться из дому или захочет потешиться над ним, разжечь его влечение.
Пора кончать, подумал он, с тревогой убеждаясь, как расточаются в этой душевной пляске его силы. Его страшило, что, истомленный лихорадочным жаром своих ночей, он пробудится печальным рыцарем в желанный миг!
Выкину все это пока из головы, решил он на пути к Карэ, у которых условился сегодня обедать вместе с астрологом Гевенгэ и де Герми.
«Это рассеет меня», – пробормотал он, ощупью преодолевая сумрак башни. Де Герми, услыхав, как он карабкается, открыл дверь, и сноп света врезался в извивы ночи.
Подойдя к порогу, Дюрталь увидел, что друг без пиджака и опоясан большим фартуком, открывавшим только рукава рубашки.
– Ты застал меня в разгаре творчества!
Наблюдая за кастрюлей, стоявшей на топившемся очаге, он, точно с манометром, сверялся с висевшими на гвозде карманными часами, бросал быстрые, уверенные взгляды, подобно механику, надзирающему за своей машиной.
– Подожди! – остановил он Дюрталя. – Взгляни! – тот нагнулся и сквозь облако пара рассмотрел мокрую ткань в горшке с бульоном, закипавшим пузырьками.
– Это баранина?
– Да, друг мой! Как можно плотнее зашил я ее в полотно, чтобы не проникал воздух. Она варится в этом славном, легком, шумливом бульоне, который я приправил щепоткой зелени, чесноком, кружочками моркови, луком, лавровым листом и тмином! Ты не едал еще такой... если, впрочем, Гевенгэ не заставит себя ждать: баранину по-английски отнюдь нельзя переваривать.
Показалась жена Карэ.
– Входите, муж дома.
Дюрталь увидел, как тот стирает пыль с книг. Они пожали друг другу руки. Дюрталь наугад начал перелистывать томики, разбросанные по столу.
– Скажите, рассматриваются ли в этих произведениях технические вопросы о металле и литье колоколов или богослужебное значение их?
– О литье? Нет. Иногда в старых книгах поднимается вопрос о древних литейщиках, святоносцах, как называли их в те доблестные времена, местами вы здесь встретите кое-какие подробности о сплаве красной меди с отменным оловом. Мне думается, вы вынесете даже убеждение, что искусство святоносцев клонится к упадку за последние три века. Это объясняется, может быть, тем, что в средние века верующие обычно бросали в сплав драгоценности и благородные металлы и таким путем видоизменяли лигатуру. Или литейщики не молятся теперь святому Антонию Пустыннику, когда бронза плавится в горниле? Не знаю. Несомненно одно: колокола, выделываемые в наше время, похожи друг на друга. Голоса их не одухотворены, и звуки тождественны. Они теперь лишь прислужники, безразличные и послушные, тогда как встарь их можно было сравнивать с теми старинными служащими, которые входили в семью, делили ее радости и горе. Но разве задумываются над этим наше духовенство и их паства? Ревностные прислужники Богопочитания – колокола – не воплощают сейчас никакого символа!
Этим сказано все. Вы только что спрашивали меня, рассуждают ли старые книги о колоколах с богослужебной точки зрения? Да. Большинство подробно изъясняет смысл отдельных, слагающих колокола частей. В общем, объяснения просты и мало разнятся.
– И каковы они?
– Если хотите, я в нескольких словах вам передам их суть. В толковании Богослужебного чина, составленном Гильомом Дюраном, прочность металла знаменует силу проповедника. Биение языка о стенки чаши воплощает указание, что проповедник сначала сам должен покаяться и побороть свои грехи, прежде чем бичевать грехи других. Балки или деревянные перекладины, на которых подвешивают колокол, самым видом своим олицетворяют Крест Господень, а канат, на котором поднимали в Старину колокола, изображал мудрость Святого Писания, источаемую тайною Креста. Толкователи более древние Богослужебного чина раскрывают нам символы почти равнозначащие. Живший в 1200 году Иоанн Белефий также объявляет, что колокол есть образ проповедника, и присовокупляет, что в переливчатом звоне и раскачивании пестика скрыто указание на необходимость понижать и повышать попеременно голос свой проповеднику и облегчать тем усвоение речи его толпой. Гюгес де Сен-Виктор полагает, что пестик означает язык священнослужителя, а биением его о две стенки чаши указуется проповедь истин обоих Евангелий. Обращаясь, наконец, к одному из древнейших литургистов Фортунату Амалерию, мы просто встречаемся с кратким толкованием, что чаша колокола подобна устам проповедника, а пестик – языку.
Дюрталь был слегка разочарован.
– Это... как бы сказать... это не слишком глубоко.
Открылась дверь.
– Как поживаете? – встретил Карэ Гевенгэ, пожимая ему руку и знакомя его с Дюрталем.
Дюрталь пытливо рассматривал вновь пришедшего, пока жена звонаря кончала накрывать на стол.
Это был низенький человек в мягкой черной поярковой шляпе, закутанный в синий суконный плащ с капюшоном, придававший ему сходство с кондуктором омнибуса.
Яйцеобразная, высоко поднятая голова. Голый, точно навощенный череп держался, казалось, на волосах, росших на шее, жестких, похожих на сухие кокосовые нити. Приплюснутый нос заканчивался широкими ноздрями, раздутыми над беззубым ртом, который скрывался под густыми усами, колючими и жесткими, как и бородка, удлинявшая короткий подбородок. С первого взгляда он производил впечатление художественного ремесленника: резчика по дереву или иконописца, раскрашивающего святые лики и благочестивые статуи. Но если всмотреться в него пристальнее, обратить внимание на его близко посаженные, круглые, серые, раскосые глаза, вслушаться в его елейный голос, вглядеться в приторно-почтительные манеры, то невольно зарождался вопрос: да откуда же, собственно, вышел этот человек?
Раздевшись, он предстал в черном длиннополом узком в талии сюртуке. Длинная золотая цепь обвивала шею, змеилась и скрывалась в оттопыренном кармане старого жилета. Но все больше приковали внимание Дюрталя руки Гевенгэ, которые он вытянул на коленях, выставя милостиво напоказ, когда уселся. Огромные, усеянные веснушками, бугорчатые, обрамленные матовыми коротко срезанными ногтями, они унизаны были ог ромными перстнями, камни которых образовывали блестящую цепь.
Он заметил взгляд Дюрталя, устремленный на его пальцы, и усмехнулся:
– Вы, сударь, рассматриваете мои драгоценности. Они сработаны из трех металлов: золота, платины и серебра. Взгляните, этот перстень украшен скорпионом, под знаком которого я рожден. А этот, с двумя скрещенными треугольниками – один основанием вверх, а другой вниз – изображает символ макрокосма, печать Соломона, Великий Знак. И наконец, маленький перстень, – он указал на женское кольцо, в которое вставлен был между двумя алмазиками крошечный сапфир, – подарен мне особой, гороскоп которой я мечтал составить.
– А! – заметил Дюрталь, немного удивленный таким тщеславием.
– Обед готов, – объявила жена звонаря.
Де Герми, скинувший передник, снова облекся свой шевиотовый костюм и придвигал стулья, менее бледный, чем всегда, с румянцем на щеках от жара очага.
Карэ разлил суп, все смолкли, стараясь зачерпнуть по краям тарелок менее горячую влагу. Потом жена внесла знаменитую баранину и поставила перед де Герми, чтобы тот разрезал. Баранина пышно разрумянилась, сочные каши капли стекали из-под лезвия ножа. Отведав, все пришли в восторг от прекрасного мяса, сдобренного ароматным пюре из тертой репы и услащенного белым соусом, приправленным каперсами. Де Герми склонился под натиском похвал. Карэ наполнил стаканы. Немного смущенный присутствием Гевенгэ, он осыпал его знаками внимания, стараясь загладить прежнюю их распрю. Де Герми помогал ему и, желая услужить Дюрталю, навел разговор на гороскопы.
Астролог разливался важными речами. Говорил о своих огромных трудах, рассказал о гороскопе, потребовавшем шестимесячных вычислений, и о том, как удивлены были господа эти, когда он объявил, что назначенная им плата в пятьсот франков далеко не оплачивает затраченного им труда.
– Дело в том, что я не могу теперь раздавать свои изыскания бесплатно, – и, помолчав, продолжал: – Теперь сомневаются в астрологии, которой столь поклонялся древний мир. Равным образом она считалась священной в средние века. Вам хорошо известен, господа, портал Собора Парижской Богоматери. Археологи, неискушенные в христианском и оккультном символизме, называют первые врата портала вратами Страшного суда, вторые – вратами Девы и третьи – вратами святой Анны или святого Маркелла. Но в действительности врата эти олицетворяют три великие науки средневековья: мистику, астрологию, алхимию. Не редкость встретить теперь людей, которые спросят вас: уверены вы, что планеты влияют на человеческую судьбу? Но, господа, не касаясь подробностей, доступных лишь посвященным, я позволю себе задать вопрос: разве влияние на дух более невероятно, чем то бесспорное влияние, которое оказывают некоторые планеты, как, например, луна, на некоторые органы мужчин и женщин?
Вы, господин де Герми, врач и знаете сами, что влияние созвездий на человеческое здоровье засвидетельствовано на Ямайке докторами Жиль-Пином и Джаксоном и доктором Бальфуром в Восточной Индии. Увеличивается число больных при каждом превращении луны, и бурные приступы лихорадки совпадают с фазами нашего спутника. Общеизвестно существование лунатиков, а побывав в деревне, вы увидите, когда прорываются острые приливы безумия! Но тщетно стремиться разубеждать неверующих! – грустно прибавил он, созерцая свои перстни.
– Однако мне кажется, что астрология висит в воздухе, – заметил Дюрталь, – встречаются теперь астрологи – составители гороскопов, которых увидишь на четвертой странице газет возле объявлений о тайных снадобьях.
– Какой позор! Они не смыслят азбуки своей науки они просто обманщики, рассчитывающие на этом поживиться, не астрологи, а самозванцы. Впрочем, следует сознаться, что теперь лишь в Америке и Англии владеют искусством начертать астрологическую задачу и построить гороскоп.
– Я сильно боюсь, – начал де Герми, – что ровно ничего не смыслят не только так называемые астрологи, но и вообще все современные маги, теософы, оккультисты, кабалисты, по крайней мере те, которых я знаю, несомненные круглые невежды и бесспорные мошенники.
– Чистейшая правда! По большей части это фельетонисты-неудачники или пронырливые юноши, извлекающие выгоду из влечения общества, задыхающегося в тисках позитивизма. Они списывают символы Элифаса Леви, обкрадывают Фабра д'Оливе , пишут трактаты без начала и конца и неспособны объяснить их сами. Господа, достойные воистину презрения!
– Тем более что они поднимают на смех науки, которые, без сомнения, хранят утраченные истины под грудой хлама, – вставил Дюрталь.
– Худо также, – продолжал де Герми, – что среди простаков и глупцов в кружках этих приютились опасные обманщики и отвратительные лгуны.
– Например, Пеладан. Кто не слыхал об этом кудеснике подделки, об этом южном паяце! – воскликнул Дюрталь.
– О! Этот...
– В общем, все эти господа не в состоянии достигнуть чего-либо существенного, – заговорил снова Гевенгэ.
– Вильям Крукс – единственный человек нашего времени, который проник в тайну, не будучи ни святым, ни слугой дьявола.
Дюрталь усомнился в истинности сверхъестественных явлений, возвещенных английским медиумом, и высказал мысль, что им нельзя дать никакого объяснения. Гевенгэ настаивал:
– Позвольте, сударь, пред нами несколько различных объяснений, и, смею сказать, все они достаточно отчетливы. Возможно, что сверхъестественное явление слагается из тончайшей субстанции, источаемой медиумом в экстазе и сочетающейся с субстанцией, источаемой присутствующими. Или в воздухе есть бесплотные существа, простейшие, как называют их, которые выявляются при наличии условий познанных.
Или, наконец, чистое учение спиритов, утверждающее, что в явлениях этих мы соприкасаемся с душами умерших, вызванными медиумом.
– Учение это мне знакомо, и оно страшит меня, – ответил Дюрталь. – Известно мне также индийское вероучение о переселении душ, блуждающих после смерти. Бесприютные души бродят, покуда не воплотятся вновь, и достигают целостного совершенства, перевоплощаясь со ступени на ступень. Нет, с меня довольно и одной жизни. Всем этим перевоплощениям я предпочитаю уничтожение, бездну! Я почерпну в них больше утешения! Что касается до общения с мертвыми, то, знаете, если бы я верил в него, меня приводила бы в бешенство уже одна та мысль, что любой колбасник в состоянии принудить беседовать с собой дух Гюго, Бальзака, Флобера! Ах нет, как ни противен материализм, он все же менее пошл!
– Спиритизм не что иное, как возродившееся под другим именем древнее заклинание умерших, которое осудила и прокляла церковь, – сказал Карэ.
Гевенгэ посмотрел на свои кольца, осушил стакан с вином и продолжал:
– Согласитесь, однако, что утверждения эти вполне приемлемы, а учение об изначальных телах кажется мне самым правдоподобным и простым, если не сравнивать его, конечно, с сатанизмом. Вселенная насыщена микробами. Ничего удивительного нет, если она в равной мере изобилует духами и зародышами. Вода, виноград кишат бациллами, как нам показывает микроскоп. Почему же не допустить, что воздух, недостижимый человеческому зрению и инструментам, полон, подобно остальным стихиям, существ более или менее физических, более или менее зрелых зародышей?
– Уж не оттого ли кошки вдруг любопытно рассматривают пустоту, как бы провожая глазами нечто невидимое нам, – заметила жена Карэ.
– Нет, благодарствуйте, – ответил Гевенгэ угощавшему его де Герми и отказался положить себе еще щавелевого салата с яйцами.
– Друзья мои, вы забываете об одном, – начал звонарь, – об учении церкви, которая приписывает сатане все эти неизъяснимые явления. Католичество издревле знает их. Оно не поразилось современными чудодействами, если не ошибаюсь, впервые обнаружившимися в Соединенных Штатах в 1847 году, в некоей семье Фокс, и возвестило еще задолго до нашего времени, что стучащие духи происхождения дьявольского. Они встречаются во все времена. Доказательство этому вы найдете в творениях св. Августина, который вынужден был послать особого священника в Гиппонскую епархию, чтобы прекратить стуки, вращения утвари и мебели, сходные с теми, которыми широко известен современный спиритизм. Во времена Теодорика святой Сезэрий освободил дом от полонивших его злых духов. Поймите, что существует всего лишь два града: град Господень и град дьявола. И, так как Господь выше коварных проказ, чужд им, то очевидно, что вольно или невольно, но служат в большей или меньшей степени сатане оккультисты и спириты!
– Пусть так! – ответил Гевенгэ. – Но спиритизм исполнил неизмеримо большую работу. Он преступил порог неведомого, разбил врата святилища. В мире сверхъестественном он произвел переворот, подобный тому, который совершил в строе земном 1789 год во Франции! Он приблизил к народу заклинание умерших, открыл новые пути. Беда лишь в том, что у него не оказалось искушенных вождей, и, не владея мудростью, он впотьмах взволновал духов зла наряду с духами благими. Сейчас вы можете найти в нем все, я бы назвал его дурманной тайной!
– Печальнее всего, – усмехнулся де Герми, – что часто он ровно ничего. Я знаю, что были опыты удавшиеся, но я присутствовал лишь на таких, которые всегда кончались неудачей после долгих ожиданий.
– Это неудивительно, – ответил астролог, намазывая на ломтик хлеба густое апельсинное варенье. – Основное правило и спиритизма – удалять во время опытов неверующих. Источаемый ими эфир часто уничтожает эфир ясновидящей или медиума!
– Но тогда как же удостоверить подлинность явлений? – подумал Дюрталь.
Карэ встал.
– Простите, я вернусь через десять минут. Он облачился в свою кожанку, и скоро на лестнице затих шум его шагов.
– Уже без четверти восемь, – пробормотал Дюрталь, посмотрев на свои часы.
В покое воцарилось мгновенное молчание. Никто не хотел больше сладкого, и, собрав скатерть, жена Карэ разостлала на столе клеенку. Астролог вертел на пальцах перстни, Дюрталь скатывал хлебный шарик, а де Герми, свесившись набок, вынул из тесно прилегавшего к бедру кармана японский кисет и крутил папиросу.
Пожелав доброй ночи сотрапезникам, жена звонаря ушла к себе в комнату. Де Герми принес спиртовку и кофейник.
– Помочь тебе? – спросил Дюрталь.
– Да, будь добр, достань рюмки и откупорь бутылки с ликерами.
Отворяя буфет, Дюрталь вздрогнул, оглушенный колокольным звоном, сотрясавшим стены, гулко рокотавшим в комнате.
– Такой грохот раздавит даже духов, если только они витают в комнате, – заметил он, ставя рюмки на стол.
– Колокол рассеивает привидения и изгоняет демонов, наставительно произнес Гевенгэ, набивая свою трубку.
– Комната выстывает, у меня замерзли ноги. Не спеша процеди пока кипяток сквозь ситечко, а я растоплю печку, попросил Дюрталя де Герми.
Вернулся Карэ, загасил свой фонарь.
– Погода сегодня вечером сухая, колокол был в голосе, – он скинул шапку с наушниками и плащ.
– Нравится он тебе? – понизив голос, спросил Дюрталя де Герми, указывая на астролога, задумчиво курившего трубку.
– Он похож на старого филина, когда молчит, а когда говорит, напоминает речистого, печального наставника.
– Один! – ответил де Герми Карэ, вопросительно державшему над его стаканом кофе кусок сахара.
– Вы, сударь, кажется, работаете над историей Жиля де Рэ? – спросил у Дюрталя Гевенгэ.
– Да, вместе с этим человеком я временно погрузился в злодейства и исступления сатанизма.
– Ах да! – воскликнул де Герми, – в этом вопросе мы надеялись на ваши мудрые познания. Лишь вы можете разъяснить моему другу один из темнейших вопросов дьяволизма.
– Какой?
– Вопрос об инкубате и суккубате.
Гевенгэ ответил не сразу, наконец заговорил:
– Вы задали мне тяжелую задачу. Мы вступаем здесь в область, чреватую иными опасностями, чем спиритизм. Но скажите, ознакомились вы в общих чертах с этим вопросом, сударь?
– Господи! Он знает, главным образом, что мнения расходятся! Дель Рио и Бодэн считают, например, инкубов демонами мужеского рода, которые сочетаются с женщинами, а относительно суккубов утверждают, что они дьяволицы, вступающие в плотские сношения с мужчинами.
Согласно учению их, инкуб пользуется похищенным им семенем, теряемым мужчиною во сне. Возникают отсюда два вопроса. Первое – может ли родиться из связи этой ребенок? Замечу, что ученые церкви считали такое оплодотворение возможным и утверждали даже, что дети, зарожденные в этом любострастии, весят тяжелее других, что они в состоянии иссушить трех кормилиц и не растолстеть. Второе. Важно установить, кто отец ребенка. Демон ли, с которым сочеталась мать ребенка, или же мужчина, семя которого похищено. Путем доказательств более или менее искусных святой Фома Аквинский приходит к выводу, что истинный отец ребенка не инкуб, но мужчина.
Дюрталь заметил:
– Синистрарий Аменийский высказывает, что инкубы и суккубы не суть демоны в строгом смысле этого слова, но плотские духи, как бы срединное звено между ангелами и демонами. Таковы сатиры, фавны, которых боготворило язычество, домовые и лешие, которых заклинали средние века. Синистрарий присовокупляет, что единственное вожделение их – осквернять спящих своим семенем, конечно, если они наделены половыми органами и обладают свойством оплодотворения...
– Да, источники не сообщают ничего другого, – начал Гевенгэ. – Лишь мельком, небрежно задевает вопрос этот в своей мистике естества и дьяволизма столь мудрый и обстоятельный Гэррес. Церковь также не касается этого предмета, обходит его молчанием, неблагосклонно взирает на священников, которые исследуют его.
– Простите, – прервал его Карэ, всегда готовый ополчиться за церковь. – Никогда не колебалась она высказываться по поводу этих мерзостей. Святой Августин, святой Фома, святой Бонавентура, Денис Шартрэ, папа Иннокентий VIII и многие другие свидетельствуют о существовании суккубов и инкубов! Вопрос исчерпан бесповоротно, и верование это обязательно для каждого католика. Если не ошибаюсь, мы с вопросом этим встречаемся также в «Житиях святых». Жак де Воражин рассказывает в легенде о святом Ипполите, что некоего священника искушал нагой суккуб, но, набросив ему на голову свой орарь, священник увидел пред собой лишь труп женщины, которую оживил дьявол, чтобы она соблазнила его.
Глаза Гевенгэ сверкали:
– О! Я согласен, что церковь признает суккубат. Но сперва выслушайте меня, и вы скажете тогда, что я прав. Вы прекрасно осведомлены, господа, – продолжал он, обращаясь к де Герми и Дюрталю, – в указаниях, преподанных нам книгами. Но все изменилось за последний век, и если папской курии и небезызвестны явления, о которых я поведаю вам, то, во всяком случае, о них ничего не знает большинство духовенства, и вы не почерпнете их ни в одной книге. В настоящее время чаще, чем демоны, выступают вызванные заклятиями мертвецы в непреходящих действах суккубов и инкубов. Говоря иначе, живое существо, которое подвергалось встарь воздействию суккуба, было одержимо вместе с тем нечистым духом. Одержимость – в строгом смысле этого слова – устраняется теперь заклинанием умерших, сочетающим с демономанией кровавую телесность вампиризма. По-моему, положение от этого ухудшилось. Церковь, недоумевая, не знала, что предпринять, надлежало ли хранить молчание или открыто допустить возможность заклинания умерших, воспрещенного еще Моисеем. Очевидна опасность такого признания, ибо оно знаменует всенародное оповещение о деяниях, совершать которые теперь стало легче, с тех пор как спиритизм бессознательно проложил к ним пути!
Потому-то молчала церковь. И, однако, от Рима не могло укрыться, как страшно растет в наши дни инкубат в монастырях!
– Это доказывает, насколько тяжко воздержание в одиночестве, – вставил де Герми.
– Нет, отсюда следует главным образом, что души слабы и утратили дар молитвы, – возразил Карэ.
– Как бы там ни было, но чтобы вполне посвятить вас, господа, в сущность дела, я разделю людей, подверженных приступам инкубата и суккубата, на два разряда. В первый входят лица, непосредственно и по доброй воле посвятившие себя общению с демонами и бесовским действам. Такие встречаются нечасто. По большей части они кончают жизнь самоубийством или поражаются другими видами насильственной, мучительной смерти.
Второй разряд состоит из людей, на которых напускают бесов колдовством. Людей этих множество. Особенно часто встречаются они в монастырях, на которые, как известно, устремлены усиленные приступы дьявольских сообществ. Обычно жертвы эта кончают безумием. Ими кишат сумасшедшие дома. Врачи и даже большинство священников не подозревают причин их умопомешательства, которое в общем исцелимо. Один знакомый мне кудесник спас многих заколдованных, которые стенали бы без него под пыткой холодных душей! Он владеет тайной каких-то окуриваний, порошков и заклинаний, начертанных на листе древнего пергамента, трижды благословляемого и носимого в виде амулета. И, уверяю вас, этим он почти всегда исцеляет страждущих!
– Один вопрос, – обратился к нему де Герми. – Скажите, бодрствует женщина или спит, когда приемлет посещения инкуба?
– Здесь необходимо различать. Если женщина не заколдована, если она по доброй воле пожелала вступить в связь с духом нечистым и порочным, она всегда бодрствует, совершая действо любострастной плоти.
Если, наоборот, женщина стала жертвой колдовства, то грех овладевает ею или во сне, или же в полном сознании, наяву, но в последнем случае она погружается в оцепенение и не в состоянии обороняться. Могущественнейший из заклинателей нашего времени, человек, достигший глубоких дознаний в этой области, доктор теологии Иоганнес рассказывал мне, что ему удавалось спасать монахинь, которых непрерывно без роздыху насиловали инкубы в течение двух, трех, даже четырех дней!
– Я знаю этого священника, – отозвался де Герми.
– Так же ли совершаются любострастные акты, как в действительности? – спросил Дюрталь.
– И да, и нет. Бесстыдство подробностей налагает узду на мой рассказ. Но даже то, что я могу открыть вам, достаточно необычно. Итак, знаете ли, существенный орган инкуба раздваивается и в тот же момент проникает в два отверстия. Прежний, вытянувшийся и ставший похожим на ответвление вил, действует законной дорогой, а другой в то же время поражает жертву в рот... Представьте теперь, господа, как укорачивают подобные действа жизнь, охватывая все человеческие чувства!
– Вы уверены в подлинности этих явлений?
– Безусловно!
– Есть у вас какие-нибудь доказательства? – отважился наконец спросить Дюрталь.
Помолчав, Гевенгэ ответил:
– Вопрос слишком важен, и рассказал я уже достаточно много, чтобы не убояться договаривать до конца. Я не сумасшедший, не подвержен галлюцинациям. Но когда мне случилось однажды ночевать в комнате, которую раньше занимал самый страшный наставник современного сатанизма...
– Каноник Докр, – бросил де Герми.
– Да. Я не спал. Светало. И клянусь вам, что мне явился суккуб, осязаемый, телесный, упорный. По счастью, я вспомнил заклятия против наваждения, что не помешало впрочем... Еще в тот же день устремился я к доктору Иоганнесу, о котором я вам говорил. Он сейчас же – и, надеюсь, навсегда – рассеял опутывавшие меня чары колдовства.
– Не будет нескромностью спросить вас, каков был вид инкуба, натиски которого вы отразили?
– Обычный вид нагой женщины, – запинаясь, ответил астролог.
Любопытно было бы, если бы суккуб попросил подарка... на перчатки, подумал Дюрталь, кусая губы.
– Не знаете ли, что сталось с этим страшилищем Докром? – спросил де Герми.
– Нет, храни меня Господь. Говорят, что он теперь на юге, в окрестностях Нима, где он жительствовал раньше.
– Но объясните мне, наконец, каковы дела, совершаемые этим аббатом? – воскликнул Дюрталь.
– Каковы дела! Он вызывает дьявола, кормит белых мышей освященными облатками, его кощунственная ярость так сильна, что на подошвах ног он вытатуировал изображение распятия, чтобы всегда иметь возможность топтать Спасителя!
– Знаете что, – проворчал Карэ, большие глаза которого засверкали, а щетинистые усы оттопырились кверху. Знаете, будь сейчас здесь, в моей комнате, это чудовище в образе священника, клянусь, я пощадил бы его ноги, но он пересчитал бы у меня ступени лестницы своею головой!
– А черная месса? – допрашивал де Герми.
– Он служит ее вкупе с женщинами и презренными людьми. Наряду с этим его открыто обвиняют в обманном присвоении наследств, видят в нем виновника загадочных смертей. К сожалению, закон не карает святотатство, а правосудие бессильно против человека, который напускает болезни издали, убивает медленными ядами, которых не обнаружит никакое вскрытие!
– Современный Жиль де Рэ! – воскликнул Дюрталь.
– Да, менее дикий, менее прямодушный, более лицемерный жестокий. Он, конечно, не закалывает людей, нет, он только околдовывает или внушает им мысль о самоубийстве. Я уверен, он в совершенстве владеет причудливой силою внушения, – заметил де Герми.
– Можно ли внушением заставить жертву пить понемногу назначенный ей яд и скрыть его медленное действие под видом усиливающейся болезни? – спросил Дюрталь.
– Несомненно. Современные врачи, которые так любят стучаться в открытую дверь, вполне признают возможность таких явлений. Опыты Бонн, Лижу а, Либо и Бернгейма достаточно убедительны. Возможно совершить убийство, оставаясь в стороне, внушив преступление кому-либо другому, и исполнитель даже не почувствует, что творит чужую волю.
Его прервал Карэ, сидевший в раздумье, не слушая беседы о гипнозе:
– Я думаю об одном, думаю об инквизиции: в существовании ее скрывался неоспоримый смысл, лишь она могла бы покарать этого порочного священнослужителя, отлученного церковью.
Де Герми усмехнулся:
– Тем более что сильно преувеличена жестокость инквизиции. Правда, мы знаем, что благожелательный Бодэн предлагает пытать колдунов, запуская длинные иглы им под ногти, и считает такую пытку жесточайшей мукой. Восхваляет равным образом казнь огнем, усматривая в ней отменную смерть. Но не забудем, что он исходит единственно из желания отвратить чернокнижников от их греховной жизни и спасти их души. Дель Рио объявляет, что бесовствующих не следует допрашивать после того, как они поели, он опасается, что их стошнит. Доблестный муж заботился, очевидно, об их желудках. Если не ошибаюсь, он же установил правило не повторять пытку дважды в день, говоря, что нужно дать время стихнуть страху и боли... Согласитесь, что благосклонный иезуит был человеком обходительным!
Заговорил Гевенгэ, который сидел, не слушая речи де Герми:
– Докр – единственный человек, обретший древние тайны и добивающийся действительных успехов. Верьте мне, что он сильнее этих глупцов и обманщиков, о которых мы говорили. И они на себе испытали, как опасен страшный каноник, напустивший на них тяжелые глазные болезни, которых не могли излечить окулисты. Они трепещут, если произнести при них имя Докра!
– Скажите, как мог прийти к этому священник?
– Не знаю. Если хотите более обстоятельных сведений о нем, то расспросите вашего друга Шантелува, – ответил Гевенгэ, обращаясь к де Герми.
– Шантелува! – воскликнул Дюрталь.
– Да. Шантелув и жена были с ним прежде хорошо знакомы. Но я надеюсь, что они давно прервали с этим чудовищем всякие сношения.
Дюрталь более не слушал. Жена Шантелува знает каноника Докра! Неужели она одна из тех, которые поклоняются сатане? Не может быть, по внешнему виду она нисколько не похожа на одержимую. Нет, несомненно, астролог помешан, решил он мысленно. Она! И перед ним восстал ее облик, пронеслась волнующая мысль, что завтра она отдастся ему. Ах! Эти глаза, причудливые, подобные свинцовым тучам, мечущие искры!
Снова заполнила она его мысли, захватила целиком, оторвала от действительности. «Я не пришла бы, если б не любила вас!» Он еще слышал эту фразу, различал ласковые переливы ее голоса, видел перед собой лицо ее, нежное и обольстительное!
– Ты замечтался! – хлопнул его де Герми по плечу. – Пора уходить, бьет десять.
Выйдя на улицу, они пожали руку Гевенгэ, который жил на другом берегу Сены, и молча прошли несколько шагов.
– Нашел ты моего астролога занимательным? – спросил де Герми.
– Правда, он немного помешан?
– Помешан? Почему?
– Согласись, что все повествования его неправдоподобны!
– Нет ничего правдоподобного на свете, – спокойно ответил де Герми, поднимая воротник своего пальто. – Не скрою, продолжал он, – Гевенгэ изумляет меня, когда уверяет, что его посетил суккуб. Искренность его не подлежит сомнению, и мне он известен за человека, достойного доверия, несмотря на тщеславие и склонность к поучениям. Я отлично знаю, черт возьми, что в доме умалишенных подобные случаи наблюдаются нередко. Женщины, пораженные истерическими формами эпилепсии, видят возле себя средь бела дня призраки и отдаются им, погруженные в стояние каталепсии. Еженощно предаются они любострастию с привидениями, которые как две капли воды похожи на туманных духов инкубата. Но женщины эти – истерические эпилептички, а я лечу Гевенгэ и смело утверждаю, что он здоров!
Да укажи мне, наконец, предел, где кончается вера, где начинаются доказательства. Материалисты потратили немало труда, исследуя прошлогодние процессы магии. В одержимости лудэнских урсулинок и монахинь Пуатье, даже в чудесах святого Медарда они отыскали признаки повышенной истерии – общие судороги, мускульные сокращения, летаргию и, наконец, столь прославленный столбняк. Но что отсюда следует? Что демономаны болели истерической эпилепсией? Отлично, согласен. Это подтверждают наблюдения доктора Рише, ученого, весьма сведущего в данной области. Но опровергнута ли таким путем наличность одержимости? Ничуть. Из того, что некоторые истеричные больные дома умалишенных не одержимы бесом, не вытекает утверждение, что безусловно не одержимы все истерички. Затем надлежит доказать еще, что все бесовствующие женщины истерички. А последнее, по-моему, ложно. Встречаются женщины, несомненно одержимые демономанией и обладающие, однако, холодным чувством, крепким рассудком.
Допустим тем не менее, что опровергнуто последнее, но и тогда нам предстоит разрешить вопрос неразрешимый: одержима ли женщина потому, что она истеричка, или, наоборот, она истеричка потому, что одержима? Лишь церковь может на это дать ответ, наука же бессильна.
Нет, странной кажется, если вдуматься, самоуверенность позитивистов! Торжественно отвергают они бытие сатанизма. Все приписывают повышенной истерии и не знают даже, в чем сущность ужасов бесовства, каковы его причины! Да, без сомнения, Шарко превосходно распознает приступ, разбирается в постепенном чередовании неестественных и судорожных положений тела, стремительных движений. Он находит полосу истерической чувствительности и, искусно поглаживая яичник, может затормозить или ускорить бурное развитие припадков. Но он бессилен предотвратить их, не знает ни причин их, ни происхождения, не в силах излечить! Все разбивается об упорство болезни, необъяснимой, таинственной, допускающей, следовательно, много разных объяснений, из которых мы не можем признать истинным ни одного! Сущность ее в душе, душе, борющейся с телом, в душе, низвергнутой в безумие нервов!
Все это непроницаемая тьма, мой милый. Тайна царит всюду, и разум утопает во мраке, пытаясь двинуться вперед!
Они подходили в это время к подъезду Дюрталя, который ответил:
– Что ж! Все допустимо и ничто не достоверно. Признаем суккубат! По крайней мере так будет и художественнее и честнее!
Медленно тянулся день. Он проснулся на заре с мыслью о жене Шантелува и, не находя себе места дома, выискивал предлог, чтобы уйти подальше. Вспомнил, что у него нет хороших ликеров, пирожного, конфет, и решил, что в день свидания надо быть на всякий случай во всеоружии. Выбирая дорогу подлиннее, он направился к площади Оперы, намереваясь запастись там изысканным лимонным ликером и утонченным алькермесом, вкус которых напоминает прихотливые сладкие снадобья Востока.
«Важно, конечно, не угощение, – думал он, – я хочу, чтобы Гиацинта поразилась, смакуя необычное питье».
Нагруженный покупками, вернулся он домой, но вышел снова, и на улице его вдруг охватило чувство безмерной скуки. Бесцельно побродив по набережной, он зашел в какую-то таверну. Опустился на скамью и развернул газету.
О чем думал он, бессознательно пробегая одно за другим различные сообщения? Ни о чем. Даже не о ней. Дух его как бы омертвел, впал в оцепенение, обессиленный стремлением все к той же цели, приковавшей к себе все помыслы его, все чувства.
Дюрталя охватила усталая истома, и он застыл, как бы погруженный в теплую ванну после ночи, проведенной в пути.
Наконец поднялся и подумал, что ему надо вернуться вовремя домой: отец Рато не исполнил, конечно, его просьбы, не прибрал, как следует его жилища, а он не хотел видеть сегодня на своих вещах налета пыли.
Шесть часов. Где бы наскоро сносно пообедать? Он вспомнил, что поблизости есть ресторан, в котором ему случалось питаться без особых опасений. Нехотя съел там сухую рыбу и рыхлое холодное мясо. Выудил в соусе мертвых мух, без сомнения, убитых смертоносным порошком от насекомых. Отведал в заключенье залежавшегося чернослива, отзывавшегося плесенью, водянистого и затхлого.
Вернувшись к себе, он поспешил разжечь огонь в спальне рабочем кабинете и внимательно оглядел свои комнаты.
Да, он не ошибся. Привратник убрал квартиру как всегда бессмысленно и спешно, но пытался протереть оконные стекла, которых Дюрталь заметил следы пальцев.
Дюрталь провел по окнам мокрым полотенцем, расправил трубчатые складки ковра, задернул занавеси, вычистил тряпкой безделушки и расставил их в порядке. Повсюду натыкался на папиросный пепел, крошки табака, опилки после очинки карандашей, обломанные, ржавчиной изъеденные перья. В углах он ходил сор, очевидно, сметаемый туда метелкой, волосы кошки, разорванные черновики, разбросанные клочки бумаги.
Невольно задал себе вопрос, как мог он так долго терпеть столько грязи, засорявшей его мебель. И росло негодование против Рато по мере того, как продвигалась чистка. А это! Он заметил, что свечи пожелтели, походили цветом на подсвечники. Вставил новые. Кажется, так лучше. Устроил искусственный беспорядок на письменном столе. Разложил тетради с заметками, книги, прорезанные закладками, на стуле положил открытый древний фолиант. «Символ творчества!» – подумал он, смеясь. Перешел в спальню, освежил мрамор комода влажной губкой, расправил покрывало на кровати, выпрямил висевшие криво рамки фотографий и гравюр и направился в уборную. Там у него опустились руки. На бамбуковой этажерке над умывальным столиком беспорядочно были нагромождены пузырьки. Он смело принялся за флаконы с духами, вымыл горлышки и герметические пробки, протер хлебным мякишем и резиной ярлык, вымыл таз, окунул гребни и щетки в воду, насыщенную аммиаком, развеял по комнате при помощи пульверизатора аромат персидской сиреневой пудры, вычистил умывальник, вытер спинку и сиденье стула. Снедаемый жаждой чистоты, он изо всей силы скреб, чистил, тер, поливал, перетирал. Он не сердился уже на привратник a . Наоборот, кончив, пожалел, что нечего больше перечищать и освежать.
Потом выбрился, положил брильянтину на усы, тщательно занялся своим туалетом. Одеваясь, колебался, надеть ли ему ботинки на пуговицах или туфли, рассудил, что ботинки степеннее и пристойнее, отважился, однако, свободным узлом завязать галстук и облечься в блузу, полагая, что этой женщине скорее понравится небрежный костюм художника.
«Кажется, все в порядке!» – решил он, проведя последний ра з щеткой. Вернувшись в другие комнаты, он развел огонь в камине, накормил кошку, бродившую, изумленно обнюхивавшую вычищенные вещи, казавшиеся ей непохожими на те обычные предметы, мимо которых она изо дня в день проходила равнодушно. Ах! Да. Он чуть не забыл об угощении! Около камина Дюрталь поставил спиртовку, расставил на старинном лакированном подносе чашки, чайник, сахарницу, приготовил пирожное, конфеты, рюмки с узорчатой каймой. Он хотел, чтобы все это было сейчас же под рукой, как только настанет подходящий миг.
Теперь готово. Я беспощадно перетряхнул мое жилище, пусть приходит, думал он, выравнивая на полках выдвинувшиеся корешки книг. Все хорошо, только... только стекло лампы испещрено крапинками и в утолщении засалено маслом. Но я не могу убрать его и вовсе не намерен жечь пальцы. К тому же это незаметно, если спустить немного абажур.
– Как мне вести себя, когда она придет? – размышлял он, усевшись в кресло. – Она входит, отлично, я беру ее руки, жму. Потом приглашаю сюда в комнату, усаживаю здесь возле огня, раз в это кресло. Сам сажусь напротив, на табуретку, понемногу придвигаюсь, касаюсь ее колен, снова схватываю и сжимаю руки. Нежно притягиваю ее к себе, увлекаюсь, чувствую ее губы и... спасен!
О нет, это далеко не все! Песенка лишь начинается. Нечего и думать увлечь ее в спальню. Раздевание, постель – с этим можно примириться, только когда знаешь друг друга. В этом отношении невыносимы, отвратительны первые шаги любви, я не могу вообразить себе их иначе, как в обстановке ужина вдвоем, когда женщина распалится дурманом безумного вина. Я хотел бы овла деть ею в забытье, хотел бы, чтоб она пробудилась в сумерках, в чаду обманных поцелуев. Взамен ужина нам обоим необходимо избегать сегодня докучливых помех, постараться низменность плоти скрасить взмахом страсти, унестись в пламенном вихре души. Я овладею ею здесь, пускай она вообразит, что изнемогает, а я теряю голову.
Неудобно, что здесь, в комнате, нет ни канапе, ни дивана. При таких условиях всего лучше ее опрокинуть на ковер. Как всякая женщина, она прибегнет к уловке, закроет глаза руками. Я позабочусь, конечно, убавить свет, прежде чем она очнется.
Во всяком случае, надо приготовить для нее подушку. Он принес подушку, бросил на кресло. Не отстегнуть ли подтяжки, у меня с ними часто пресмешная возня. Снял подтяжки и поднянул панталоны. Да, но проклятые юбки! Удивляюсь на романистов, которые в книгах лишают невинности дев, разряженных, затянутых в корсеты, и, заметьте, у них это совершается в один миг, между поцелуями, точно по мановению руки! Что за тоска воевать с этими пустяками, возиться с накрахмаленными складками белья! Надеюсь, что она окажется предусмотрительной и в собственных интересах позаботится, чтобы не было смешных трудностей!
Он взглянул на часы – была половина девятого. Ее не ждать ранее, чем через час, гадал он; подобно всем женщинам она, конечно, опоздает. Любопытно, какую чертовщину преподнесет она бедному Шантелуву, как объяснит свое вечернее исчезновение?
Меня в сущности это не касается. Гм! Котелок около камина как бы приглашает к омовению. Пустяки! Я приготовил его, чтобы заварить чай, и этого довольно, чтобы рассеять всякую грубую мысль. А вдруг Гиацинта не придет?
Придет, решил он с чувством внезапного волнения. Она понимает, что нельзя раскалить меня дальше и ускользать ей теперь нет никакого смысла. Думая об одном и том же, он перескакивал с одной мысли на другую: я убежден, что это будет мукой. Может быть, первое же насыщение принесет разочарование. Тем лучше, я буду хоть свободен, а то из-за этого приключения я пе рестал работать. Как обрушилось это на меня! Я отброшен в юность, мне опять двадцать лет, только, увы, душою! Я, человек, уже долгие годы презирающий влюбленных и любовниц, я ожидаю женщину, смотрю на часы каждые пять минут, невольно вслушиваюсь, не скользят ли на лестнице ее шаги.
Нет, трудно, должно быть, вырвать нежный цветок из души, и его пряный корень дает отростки! Ничего нет целых двадцать лет, и вдруг показываются побеги, и сам не знаешь, почему и как, и чувствуешь, что зачарован безысходными сетями любви! Бог мой, какой я безумец!
Он ворочался в кресле. Прозвенел тихий звонок. «Нет еще девяти, это не она», – пробормотал он, отпирая.
Вошла она.
Он жал ей руки, благодарил за точность.
Она сообщила, что ей нездоровится.
– Я не хотела, чтобы вы прождали напрасно, а то не пришла бы!
Он встревожился.
– У меня адская мигрень, – объяснила она, проводя по лбу затянутыми кожей перчаток пальцами.
Он помог ей освободиться из мехов, упрашивал сесть в кресло, сам хотел, как задумал, сесть на табурет, придвинуться поближе, но она отказалась от кресла, села поодаль от камина, на низкий стул возле стола.
Стоя, он склонился перед ней, взял ее пальцы.
– Какая у вас горячая рука, – заметила она.
– Да, меня лихорадит, я плохо сплю. Если б вы знали, как много я думаю о вас! Всегда чувствую я вас здесь, около себя, – он рассказал ей, что перчатки ее источают далекое, угасающее благоухание корицы, сливающееся с другими, менее уловимыми ароматами. – Знаете, – и он понюхал ее пальцы, – когда сегодня вы покинете меня, после вас останется крошечная частица вac самой.
Она поднялась со вздохом:
– Вот как, у вас кошка... Как зовут ее?
– Муха.
Она позвала. Та поспешила скрыться.
– Муха! Муха! – кричал Дюрталь.
Но Муха забилась под кровать и не выходила.
– Она немного дикая... никогда не видала женщин.
– О... Не верится, чтоб вы никогда здесь не принимали женщин.
Он клялся, что нет... уверял, что она первая...
– Сознайтесь... вы не слишком, пожалуй, радуетесь... приходу этой первой?
Он покраснел: «Но почему?»
Она ответила неопределенным жестом.
– Мне хочется подразнить вас, – заговорила она, на этот раз усаживаясь в кресло. – В сущности я не знаю даже, почему позволяю себе предлагать вам такие нескромные вопросы.
Он сел перед нею; наконец возможна задуманная сцена – он начал приступ.
Касался ее колен своими.
– Вы прекрасно знаете, что вы не можете быть нескромны… Лишь вы одна сейчас здесь вправе...
– Нет... У меня нет и я не хочу иметь никаких прав!
– Почему?
– Потому что... Послушайте... – голос ее окреп, звучал твердо. – Послушайте, чем больше я думаю, тем сильнее хочется мне просить у вас как милостыни: не разрушайте нашей мечты. Хотите, я буду откровенна... Настолько откровенна, что, уверена, покажусь вам чудовищем себялюбия. Да, знайте... ж я не стремлюсь к зрелому, конечному счастью... нашей связи. Я пре красно понимаю, что чувства мои туманны, что я неясно выражаюсь... Поймите, что я уже обладаю вами целостно, могу наслаждаться вами, как и когда этого захочу... Подобно тому, как давно я обладаю Байроном, Бодлером, Жераром де Нервалем – всеми теми, кого люблю...
– Так значит?..
– Значит, что стоит лишь мне захотеть их, захотеть вас, прежде чем заснуть...
– И?
– И... Знайте, что вам не сравняться с моим призраком, с Дюрталем, которого я обожаю, чьи ласки безумно дурманят мои ночи!
Он разглядывал ее ошеломленный. Скорбно и туманно смотрели ее глаза, казалось, она уже не видит его и говорит в пространство. Его охватила нерешимость. В уме молнией проне слась вдруг мысль об инкубате, о котором рассказывал Гевенгэ. «Мы это выясним потом... а пока...» – он привлек нежно ее руки, склонился к ней и вдруг поцеловал ее в губы.
Она вскочила, словно по ней пробежала электрическая искра.
Он пылко сжал ее, начал обнимать. В нежном трепете, воркуя, как голубка, отстранила она его голову и стиснула ногу его в своих. Почувствовал, как задрожали ее бедра, и испустил яростный крик. Понял или показалось ему, что понимает! Она вожделела сладострастия скряги, немного наслаждения, хотела как бы одинокого греха...
Он оттолкнул ее. Она стояла, задыхаясь, бледная как полотно, закрыв глаза, простирая вперед руки, точно испуганный ребенок... Дюрталь скрежетал, ярость его ослабевала.
Опять бросился и увлек ее, но она сопротивлялась, кричала: «Нет, умоляю вас, оставьте!»
Он охватил, повернул ее вплотную к себе, пытался запрокинуть ее стан.
– О, умоляю вас, позвольте мне уйти!
Он выпустил – столько отчаяния было в ее голосе. Потом у него мелькнуло желание бросить ее на ковер, взять силой. Но его испугали ее широко раскрытые глаза.
Она шаталась, уронив руки, прислонилась к библиотечным полкам, побелела.
– А! Так вот что! – бросал он, расхаживая по комнате, отталкивая мебель. – Воистину нужно любить, как я, чтобы, несмотря на все ваши мольбы, отказы...
Как бы обороняясь, сжала она руки.
– Опять, – упрекал он ее вне себя, – не понимаю, что вы за создание?
Она очнулась и оскорблено ответила ему:
– Я слишком страдаю, прошу вас, пощадите... – и беспорядочно заговорила о муже, о своем духовнике; слова ее лились бессвязно, и ему стало страшно. Наконец она замолчала, потом вдруг уронила певучим голосом: – Скажите, завтра вы придете ко мне вечером?
– Я, думаете, не страдаю?
Казалось, она не слышала его. Искорки засветились в черной глуби ее туманных глаз. Все так же нараспев пролепетала:
– Скажите, друг мой, придете? Да? Придете!.. Правда?
Наконец он ответил:
– Приду.
Тогда, оправив платье, она, не говоря ни слова, поспешила к выходу. Молча проводил он ее до передней. Она открыла дверь, обернулась, взяла его руку и нежно поднесла ее к губам.
Изумленно стоял Дюрталь, ничего не понимая. Что это значит? – размышлял он, вернувшись в комнату, расставляя по местам мебель, оправляя смятые ковры. Надо собраться с мыслями. Подумаем. Чего домогается она? Не сомневаюсь, что у нее в конце концов есть цель. Она уклоняется от плотской связи; уверяет, боится разочарования. Избегает смешной изнанки любовных мук? Нет, мне кажется скорее, что она печальная, беспощадная искательница несбыточного, думающая только о себе. Она движима бесстыдным себялюбием, влекома одним из тех утонченных грехов, которые помянуты в руководстве исповедника, если так, то, следовательно... она способна жалить!
В связи с этим выдвигается еще другой вопрос – об инкубате. Спокойно сознается она, что вольна во сне творить любострастие с призраками живых и мертвых? Неужели она в числе других бесовствующих прошла чрез это вместе с каноником Докром, которого знавала?
Вопросы неразрешимые. Что означает, наконец, неожиданное приглашение на завтра? Или хочет она уступить лишь у себя? Считает, что так удобнее, или ее манит жгучее согрешение в одной из комнат возле мужа? Возможно, что она ненавидит Шантелува, что это обдуманная месть или она стремится страхом опасности разжечь свою чувственность?
А если это просто последнее изощрение кокетства или временная уступка совести, или своего рода возбуждающее перед ожидаемым вкушением... женщины так странны! Может быть, она, желая выиграть время, прибегла к такой уловке, чтобы резче показать, что она не блудница. Или, наконец, замешалась телесная причина, необходимая отсрочка на день, преграда плоти?
Он измышлял еще причины, но не придумал больше ни одной.
В сущности, я нелепо вел себя, продолжал он рассуждать, уязвленный неудачей. Следовало действовать смелее, не внимать мольбам, не поддаваться обманам. Прильнуть к ее губам, сдавить грудь. По крайней мере, все кончилось бы, а теперь мне предстоит начинать сызнова. И нет, черт возьми, иного выхода!
А вдруг она смеется сейчас надо мной! Надеялась найти во мне больше задора, смелости. Но нет, не может быть. Чувствовалось, что непритворным был раненый ее голос, неподдельный ужас сквозил в ее жалобном взоре и, наконец, поцелуй – в нем казалось чуть не преклонение... да, неуловимым оттенком уважения и благодарности дышал поцелуй ее, который овеял мою руку!
Здесь становишься в тупик. Кстати, за суетой я забыл о чае и ликерах. Хорошо бы снять сейчас ботинки, никого нет, а я до того нашагался по комнате, что у меня ноют ноги. А всего лучше – ложиться спать. Я все равно не в состоянии ни читать, ни работать. И он откинул покрывало. Да, действительно, ничто не совершается, как предполагаешь. Задумано, однако, было нехудо, решил он, потягиваясь под одеялом .
Вздохнув, загасил лампу, а успокоенная кошка легче пуха скользнула поверх него и бесшумно улеглась на свое место.
X
Вопреки ожиданию, он крепко спал ночью и проснулся утром успокоенный, бодрый, просветленный.
Вчерашняя сцена, которая должна бы, казалось, растревожить его чувства, подействовала на него как раз наоборот. Дело в том, что Дюрталь отнюдь не принадлежал к числу людей, завлекающихся преградами. Сделав попытку решительного натиска и потерпев неудачу, он склонен уже был отстраниться, не питал и малейшего желания возобновить борьбу. Жена Шантелува пошла по ложному пути, если думала притянуть его своими ухищрениями и отсрочками. Пыл его угасал, и сегодня утром он почувствовал, что ему противно это манерное притворство, что его утомляет ожидание.
Уколы гнева сплетались с цепью размышлений. Он досадовал на женщину, которая так водила его за нос, досадовал на самого себя за то, что позволил над собою издеваться. Он обиженно вспоминал слова, которые тогда не показались ему оскорбительными. Во-первых, небрежный ответ госпожи Шантелув, объяснившей свой нервный смех: «На меня это часто нападает даже в омнибусах». Но особенно ее признание, что она не нуждается ни в нем самом, ни в его позволении, чтобы обладать им. Теперь он находил, что, по меньшей мере, непристойно было высказывать это мужчине, который не ухаживал за ней, не подал ей в общем никакого повода.
Погоди, я обуздаю тебя, как только буду вправе, думал он.
Потускнел ее образ, охлажденный спокойствием утреннего пробуждения. Он мысленно решал: «Еще два свидания. Одно у нее, оно бесполезно и не идет в счет. Я не дам увлечь себя и остерегусь пойти на приступ. Мне вовсе не хочется быть застигнутым Шантелувом на месте преступления, навлечь на себя опасность исправительного суда или револьвера. Второе и последнее свидание – здесь. Если не сдастся, отлично, все кончено. Пусть мучает кого-нибудь другого!»
С аппетитом позавтракав, он сел за письменный стол и начал перебирать разбросанные листки своей книги.
Я дошел до той полосы, думал он, пробегая последнюю главу, когда терпят неудачу алхимические опыты и заклинания дьявола. Прелати, Бланше, все окружающие маршала колдуны и чернокнижники возвещают, что прельстить сатану Жиль может, лишь предав ему душу свою и тело или сотворяя преступления. Жиль отказывается отдать свое тело и погубить душу, но без ужаса помышляет о злодействах. Муж этот, столь храбрый на поле битвы, столь доблестный, когда сопутствует и обороняет Жанну д'Арк, трепещет перед демоном, страшится, помышляя о Христе, задумываясь над жизнью вечной. Его соучастники похожи на него. Чтобы быть уверенным, что они не разоблачат тайны позорных деяний, скрытых стенами замка, он заставляет их присягнуть в том на Святом Евангелии, не сомневаясь, что никто из них не нарушит клятвы. В средние века бесстрашнейший разбойник не смел обмануть Господа, считая это за неотпустимый грех.
И в то время как алхимики его покидают бессильные горны, Жиль предается чудовищным излишествам. Бушует и неукротимо прорывается его плоть, распаленная обильными яствами и напитками.
Мы не находим никаких следов присутствия в замке женщин. По-видимому, в Тиффоже пол их стал ненавистен Жилю. Очевидно, что, упившись бесстыдствами в походах, пресытившись вместе с Ксэнтрэллем и Ла Гиром придворными блудницами Карла VII , он стал презирать очертания женского тела. Подобно людям, вожделения которых извращаются, стремятся к иному идеалу, он ощутил, наверное, отвращение к нежным тканям женской кожи, к особому запаху женщины, которые так ненавистны всем содомитам. Он оскверняет отроков своей певческой капеллы. Заметим, что юные прислужники его богослужебного хора набирались им самим и «были прекрасны как ангелы». Их одних он любил и щадил в своей исступленной похоти убийств.
Но скоро ему приедается пряное лакомство отроческих тел. Еще лишний раз воплощается закон сатанинский, требующий, чтобы всю до последней ступени прошел витую лестницу греха, обреченный злому духу. Надлежало загноиться душе его, чтобы тем легче мог пребывать нечистый под ее изъязвленной, смердящей, кровавой сенью!
И творятся действа сладострастия, овеянные едким воздухом бойни. Первой жертвой Жиля был совсем юный ребенок, имя которого утрачено. Заколов его, он отрезал кисти рук, исторгнул сердце, вырвал глаза и отнес в комнату Прелати. Там обрекли это оба они со страстными заклинаниями дьяволу. Но тот безмолвствовал. Жиль скрылся, разъяренный. Прелати завернул несчастные останки в холст и, дрожа, похоронил их ночью в освященной земле, возле капеллы святого Викентия.
Кровь ребенка Жиль сохранил, чтобы писать ею формулы заклинания и колдовства. Рассыпались страшные семена их и, взойдя, вскоре разрослись неслыханно пышной жатвой преступлений, собранной маршалом.
С 1432 по 1440 год, то есть в течение восьми лет, протекших, между уединением маршала и его смертью, блуждают, рыдая по дорогам, обитатели Анжу, Пуату, Бретани.
Повсеместно исчезают дети. Похищают с пастбищ пастухов. Не возвращаются домой девочки, шедшие из школы, мальчики, игравшие в мяч на улице или резвившиеся у лесной опушки.
Писцы Жана Тушеронда, посланца, облеченного следственными полномочиями герцогом Бретонским, начертали бесконечный список оплакиваемых детей.
Исчез ребенок некой Перонн из Рошбернара, «посещавший, школу и учившийся отменно», по показанию матери.
В Сен-Этьене де Монлюк пропал ребенок Гильома Брис, «бедняка, собирающего милостыню».
Исчез сын Жорже ле Барбье в Машкуле – «ребенка видели рвущим яблоки за палатами Рондо, а после того он точно канул в воду».
Исчез ребенок Матлена Туара в Тонэ, «сетующего и горюющего о сыне, а было тому от роду близ двенадцати лет». В день Пятидесятницы в упомянутом Машкуле оставили дома своего восьмилетнего ребенка супруги Сержан и, вернувшись с полевых работ, не нашли его, «чем чрезвычайно поразились и весьма опечалились».
В Шантелу приходский торговец Пьер Бадье передает, что встретил около года назад во владениях де Рэ двух девятилетних бр атьев, сыновей Робена Паво, «и с той поры о них нет ни слуху ни духу, и никто не знает, что сталось с ними».
В Нанте Жанна Дарель показывает, «что в день праздника Святейшего Отца она потеряла в городе сына своего, именем Оливье, которому шел восьмой год, и после означенного праздника Святейшего Отца ничего не слыхала о дитяти и не видела его».
Развертываются листы следствия, разрастаясь, открывают нам сотни имен, повествуют о скорби матерей, вопрошающих прохожих по дорогам, о воплях семей, у которых, пока они уходили из дому возделывать поля и сеять коноплю, похищены были дети.
Настойчиво повторяются, подобно неутешному припеву, в конце каждого показания слова: «Они горько сетуют о детях» или «Они предаются великой скорби». Плачут женщины повсюду, где Жиль воздвигает свои склепы.
Сперва поднимается молва в устрашенном народе, что его чад губят злые феи, смертоносные гении. Но исподволь зарождаются наконец чудовищные подозрения. Повсюду, где пребывает маршал, переезжает ли он из крепости Тиффож в замок Шанптосе и оттуда в укрепление де Ла Суз или в Нант, струятся ручьи слез. Не досчитываются на утро детей в деревнях, через которые он проезжает. Трепеща, убеждаются крестьяне, что исчезают дети-отроки там, где показываются верные друзья маршала – Прелати, Роджер де Бриквиль, Жиль де Силле. В ужасе замечают, наконец, люди, что старуха именем Перрина Мартэн блуждает в серой одежде, закрыв, подобно Жилю де Силле, лицо черной вуалью. Она подзывает детей, и речь ее так обольстительна, а облик, когда откинет вуаль, так чарует, что дети следуют за ней до лесных опушек, а там их схватывают неизвестные мужчины и увозят, накинув на них мешки. И устрашенный народ прозывает эту вербовщицу плоти, эту людоедку кличкой Ла Меффрэ – по имени одной из хищных птиц.
Под началом великого ловчего Сьера де Бриквиля разъезжают, охотясь за детьми, посланцы его по селам и местечкам. Не удовлетворенный добычей их Жиль всматривался часто в окна замка и испытующе разглядывал юных нищих, которые подходили за милостыней, прельщенные славой о его щедрости. Он приказывал забирать в замок и ввергать в тюремное подземелье тех из них, наружность которых подстегивала его вожделения. И там оставались они, пока не чувствовал маршал влечения насладиться яствами плоти.
Скольких детей умертвил он, предварительно осквернив? Поглощенный насилиями, распаленный жаждою убийств, он не знал этого сам! Источники того времени исчисляют, что им загублено от семисот до восьмисот жертв, но число это, по-видимому, преуменьшено, неточно. Опустошены целые местности. Перевелись юноши в селении Тиффож. Нет больше в Сюзе детей мужского пола. Трупами завалено целое подземелье одной из башен Шанптосе! Гильом Гилере, один из свидетелей, показаний которого имеются в следственных актах, объявляет, будто «некий Дю Жарден рассказывал ему, что нашел в названном замке бочку, набитую телами мертвых детей».
До сих пор еще сохранились следы его злодеяний. Два года назад какой-то врач открыл в Тиффоже подземную темницу, в которой оказалось множество костей и черепов.
Мы знаем, что Жиль сознался в невероятнейших жертвоприношениях, знаем, что друзья его подтвердили ужасные подробности.
В сумерках, разгорячив свои чувства тяжелой, сочной дичью, распаленные, одурманенные жаром насыщенных пряностями напитков, удалялись в один из глухих покоев замка Жиль и его друзья. Туда приводили из подземной тюрьмы мальчиков. Их раздевали, затыкали им рот. Маршал щупал их, насиловал, затем закалывал их ударами кинжала, наслаждаясь, отсекал одну часть тела за другой. Иногда вскрывал грудь и устами припадал к трепещущим легким. Распоров живот, нюхал рану, руками раздирал ее зияющее отверстие и садился на растерзанное тело.
Обагрившись кровавой жидкой грязью теплых внутренностей, он слегка оборачивался и через плечо любострастно созерцал последние трепеты, предсмертные судороги. По собственным его словам, «сильнее всего наслаждался он муками, слезами, ужасом кровью, и не было для него больше радости, утехи выше».
Из неизданного еще отрывка отчетов о его процессе мы узнал и, что «вышеупомянутый возбуждался от маленьких мальчиков, иногда – от маленьких девочек, с которыми сожительствовал. Говорят, он брал их с большим удовольствием и меньше мучил, если они были красивы от природы». В конце концов он медленно перерезал им шею и рассекал труп на части. После чего белье, платье, трупы ввергали в печь – в пламя пылавших дров и сухих листьев, а пепел частью бросали в отхожие места, частью развеивали по ветру с башенных вершин, раскидывали в канавы и рвы.
Усиливается безумие его вожделений. До сих пор он изливал на живых и умирающих неистовую ярость своих чувств. Но вскоре ему наскучило осквернять плоть, задыхавшуюся в муках, и он совершал любовные действа с мертвецами. Страстный художник, он с криком восторга целовал красивое тело своих жертв. Устраивал как бы состязание мертвой красоты – поднимал за волосы ту из отсеченных голов, которая удостаивалась первенства, и пылко припадал к ее холодным устам.
Несколько месяцев его удовлетворяла извращенность вампиризма. Вслед за этой чрезмерностью он, обессилев, впал в тяжкий сон, в давящее забытье, подобное той летаргии, которая гнела сержанта Бертрана после совершенного им осквернения могил. Но если видеть в свинцовом сне один из симптомов вампиризма, который вообще изучен еще недостаточно, если считать Жиля де Рэ человеком извращенных чувств, неподражаемым изобретателем мук и умерщвлений, то все же следует признать, что одной своей особенностью он выделяется среди жесточайших злодеев, исступленнейших садистов – такой кажется она бесчеловечной, такой чудовищной!
Жиля не удовлетворяли больше все ужасы безумия, все его мрачные злодейства. Он окрасил их едким ядом необычного греха. Мало было ему смелой, расчетливой лютости зверя, который наслаждается телом своей жертвы. Жестокость его не ограничивается уже плотью. Она углубляется, перекидывается на душу. Он стремится терзать не только тело ребенка, но его душу, ухищрением воистину дьявольским обманывает благодарность, надругается над влечением, похищает предательски любовь. Стремительным порывом достигает он запредельности людского бесчестия, погружается в глубочайший сумрак зла.
Что же изобрел он?
В его покой приводили злосчастного ребенка, и Бриквиль, Прелати, Силле вешали жертву на вбитый в стену крюк. Ребенок задыхался, но Жиль в этот миг приказывал снять и высвободить его из петли. Заботливо сажал малютку на колени, отогревал, ласкал, лелеял, осушал слезы, успокаивал, показывая на соучастников: ты видишь, какие они злые, но они слушаются меня, не бойся, я спасу тебе жизнь, верну к матери. Вне себя от радости обнимало, любило его в это мгновение дитя, а он нежно надрезывал сзади ребенку шею, «истомлял его», как он выражался. И когда склонялась голова, обагренная ручьями крови, слегка отделенная от туловища, он с яростным воплем сжимал, стискивал, мял тело...
После этих свирепых утех он вправе был думать, что наивысших воплощений достигло под пальцами его искусство людоеда, назрело мерзостнейшим гноем, и в горделивом восклицании вырываются у него слова, обращенные к кучке приспешников: «Никого нет другого на планете, кто дерзнул бы это совершить!»
Но если избранные души достигают запредельности добра, безмерности любви, то недоступно человеку обрести сверхзло. До дна испивший чашу похоти и злодеяний дошел до предела своего пути маршал. Сколько бы ни уносился он в мечты о необычайных осквернениях, муках более обдуманных и медленных, должен был наступить этому когда-нибудь конец. Ограничена сила человеческого воображения, межи которого пытался переступить Жиль с чисто дьявольской изобретательностью. В ненасытной алчности, задыхаясь, остановился он перед пустотой. Еще раз подтвердилась истина слов исследователей демономании, утверждающих, что нечистый обманывает тех, кто отдается или хочет ему отдаться.
Опустившись на последнюю ступень, он хочет повернуть вспять, но тогда им овладевают муки совести, давят и терзают его без просветления. Осаждаемый призраками, подобно зверю издавая смертные вопли, переживал он искупительные ночи. Его видели убегающим в уединенные покои замка. Он плакал, бросался на колени, клялся пред Господом, что покается, давал обеты основать благочестивые установления. Учредил в Машекуле духовную общину в честь святого Иннокентия. Говорил, что затворится в монастырь, пойдет в Иерусалим, как нищий вымаливая себе пропитание.
Но мысли громоздятся в его стремительной, пламенной душе, проносятся, скользят одна за другой и, угасая, оставляют темные следы. В сокрушении и скорбном плаче он снова низвергается в сластолюбие, безумствует в похотливом исступлении, бросается на приведенного ребенка, вырывает у него зрачки, не выпускает из рук окровавленные белки глаз, схватывает шишковатую палку и до тех пор бьет ею по черепу, пока не обнажается мозг!
Скрежещет зубами и смеется, когда заструится кровь и обрызгает его гуща мозга. Затем, точно затравленный зверь, убегает в лес, а соучастники моют пол и осторожно спешат спрятать труп и платье.
Он блуждает в лесах, окружающих Тиффож, в лесах мрачных, далеких и дремучих, какие еще до сих пор тянутся близ Карноэ в Бретани.
Рыдая, бредет он, сам не ведая куда, потрясенный, мучимый слетающимися к нему призраками, смотрит, и вдруг ему мерещатся черты непристойности в вековых деревьях.
Как будто перевоплощается пред ним природа, и растлевает ее уже одно его присутствие. Впервые постигает он недвижное бесстыдство лесов, впервые раскрываются для него срамные образы деревьев.
Дерево представляется ему живым существом, которое, стоя вниз головой, прячет ее в волосяной покров корней и, раздвинув ноги, вытягивает их в воздухе. Он видит, как распадается оно множеством бедер, извивающих раскинутые ноги, видит, как они все уменьшаются по мере удаления от ствола. Между ногами обрисовывается другое изветвление и, мельчая от сучка к сучку, повторяется до самой вершины недвижимое любодейство. Иногда ствол кажется ему фаллосом, устремленным вверх и исчезающим под юбкою листвы, или фаллос обнажается, наоборот, из-под зеленого покрова и вонзается в бархатистое чрево земли.
Его страшат видения. В белеющей, гладкой коре высоких буков ему чудится белая кожа отроков, своей матовой белизной подобная пергаменту. В черной, шероховатой коре вековых дубов он узнает толстую, грубую кожу нищих. Впадины, зияющие между раздвоением ветвей, овальные трещины зарубок, дуплистые складки, чернеющие в древесном лыке, превращаются в срамные члены тел, в разверстое естество зверей. В извивающихся ветвях мерещатся ему лики под мышками и сереют лишаи завитками подмышечных волос. Ранами источены стволы деревьев, изборождены глубокими рубцами в пелене алого бархата, в уборе мхов!
Повсюду восстают из земли непристойные лики и бесчинно заполняют небесную твердь, вытворяя игры сатаны. Облака раздуваются, как груди, разрываются, образуя бедра, закругляются плодоносным чревом, рассыпаются млечными цепями. Они едины с мрачным шабашем деревьев, являющих беспрерывное сплетение исполинских или карликовых бедер, могучих знаков V – треугольников женской плоти – уст содомских, сочащихся расщелин! Но меняется вдруг мерзостный пейзаж. Жиль видит стволы, обезображенные отталкивающими полипами, изуродованные волчанкой. Замечает язвы и наросты, буравящие раны, гнойные нарывы, жестоких костоедов. Земля смердит болезнями, пред глазами его венерическая клиника деревьев, и на повороте аллея ярко вырисовывается кроваво-красный бук.
В падении пурпурных листьев он чувствует заливающий его дождь крови. Ему грезится, что в дуплистом стволе обитает лесная нимфа и, разъяренный, жаждет он приникнуть к телу богини под покровами коры, овладеть, надругаться, осквернить дриаду в еще не ведавшей людских безумий обстановке!
Маршал хотел бы быть дровосеком, чтобы умертвить и истерзать дерево, он неистовствует, рыкает, как зверь, угрюмо вслушивается в лес, отвечающий на его вопли воющими переливами ветров. Стихает, плачет, блуждает, пока не добредет наконец обессиленный до замка, не свалится, как подкошенный, на свое ложе.
Менее туманны теперь призраки, устрашающие его сон. Исчезают сладострастные сплетения ветвей, похотливые соединения лесной чащи, отверстые расщелины коры, зияющие разрывы кустов. Высыхают слезы листвы, бичуемой ветрами, растворяются в сером небе матовые клубки облаков... и в великом молчании слетают к нему суккубы и инкубы.
Бесы кружатся вокруг него в виде воскреснувших умерщвленных им жертв, пепел которых он приказал развеять по канавам, и осаждают его тело. Он обороняется, захлебывается в крови, мечется, скорчившись, ползет на четвереньках, точно волк, к Распятию и, стеная, припадает устами к его подножию.
Он сотрясается, охваченный внезапным превращением. Трепещет перед Христом, как бы созерцающим его своим изможденным ликом. Клянется, что раскается, умоляет пожалеть, рыдает, плачет и, ослабев, испуская тихие стоны, устрашенный, слышит вдруг в голосе своем плач отроков, призывавших матерей и вопивших о пощаде!
Преследуемый видением, которое он измыслил, закрыл Дюрталь тетрадь с заметками и подумал, пожимая плечами, что жалки в общем волнения его души, обращенной к этой женщине, и что и его и ее вожделения в сущности грех мещанский, грех трусливый.
XI
Легко будет объяснить мое появление, которое может показаться странным Шантелуву после того, как я не заходил к нему уже несколько месяцев, думал Дюрталь, направляясь на улицу Банье. Маловероятно, впрочем, что я застану его дома, иначе какой смысл сегодняшнего свидания? Но если он даже у себя, я всегда смогу сочинить, что слышал от Герми о его приступе подагры и пришел справиться о его здоровье.
Он поднялся по лестнице дома, в котором жили Шантелувы, по старой, очень широкой лестнице с железными перилами, со ступенями, обрамленными деревом, выстланными красными плитками. Освещалась она старинными с рефлекторами лампами, увенчанными абажурами в виде шишаков из листового железа, выкрашенных зеленой краской.
От старинного дома веяло прохладою могил, исходил своеобразный клерикальный аромат, в нем ощущался тот не чуждый торжественности оттенок интимности, которого не найти в скученных коробках современных зданий, под сенью которых бок о бок с содержанками ютятся семьи мирных, степенных мещан. Дом нравился Дюрталю, и Гиацинта казалась ему желаннее в этой строгой обстановке.
Дюрталь позвонил в бельэтаж. Длинным коридором служанка провела его в гостиную. Осмотревшись, он убедился, что ничто не изменилось со времени его последнего посещения.
Тот же покой, просторный и высокий, с окнами, уходящими ввысь, с камином, украшенным бронзовой статуэткой Жанны д'Арк, Фремье и двумя японскими фарфоровыми круглыми лампами. Он узнал рояль, заваленный альбомами стол, диван, кресла в стиле Людовика XV с узорчатой обивкой. Зеленели перед каждым окном чахлые пальмы в голубых китайских вазах на подставках поддельной слоновой кости. На стенах тусклые религиозные картины, нарисованный в три четверти портрет Шантелува в молодости, опустившего руку на стопку своих книг. Лишь древний русский складень черненого серебра да резной по дереву Христос XVII века работы Богар де Нанси на бархатном ложе в старинной деревянной золоченой раме одухотворяли немного пошлость обстановки, отзывавшейся мещанами, справляющими Пасху, принимающими у себя дам милосердия и духовенство.
Яркий огонь пылал в камине. Покой освещался очень высокой лампой под широким абажуром из розовых кружев.
«Как пахнет здесь ризницей», – подумал Дюрталь, и в этот миг открылась дверь.
Вошла госпожа Шантелув, закутанная в пеньюар из белой легкой ткани, благоухающая франшипаном. Пожав Дюрталю руку, она уселась напротив, и он заметил выглядывавшие из-под пеньюара ажурные шелковые синие чулки и лакированные туфли.
Они заговорили о погоде. Она сетовала на упорство зимы, жаловалась, что все время мерзнет и дрожит, невзирая на усиленную топку, и протянула ему свои холодные руки. Потом нашла, что он бледен, затревожилась о его здоровье.
– У вас слишком печальный вид, мой друг, – заметила она.
– О, еще бы, – возразил он с некоторой рисовкой.
Помолчав, она продолжала:
– Я убедилась вчера, как сильно вы жаждете меня! Но зачем, скажите, зачем стремиться к этому концу?
Он описал в воздухе неопределенный, раздосадованный жест.
– Какой вы странный. Сегодня я перечитывала одну из ваших книг и отметила такую фразу: «Прекрасны лишь женщины, которыми не обладаешь». Согласитесь, что, написав это, вы были правы!
– Не знаю. Я не чувствовал тогда любви!
Она покачала головой.
– Подождите, надо предупредить мужа, что вы здесь.
Дюрталь замолк, задумавшись над своей истинной ролью в этом доме.
Она вернулась вместе с Шантелувом. Он был в халате, и ручка торчала у него в зубах.
Положив ее на стол и заверив Дюрталя, что здоровье его вполне поправилось, пожаловался, что завален работой, изнывает под непосильным бременем трудов:
– Мне пришлось прекратить мои званые обеды и приемы, я даже не бываю больше в свете, с утра до вечера прикован к письменному столу.
На вопрос Дюрталя, осведомившегося о содержании его трудов, он сообщил, что составляет ряд томов, описующих жития святых. Общедоступная, анонимная работа, предназначенная! для заграницы и заказанная ему одной фирмой из Тура.
– Да, – со смехом заметила жена, – но знайте, у них ужасно запущенный вид, у святых, которыми он занят.
Видя недоумевающий взгляд Дюрталя, Шантелув объяснил, в свою очередь смеясь:
– Она права, выбор лиц зависит не от меня, и, право, можно подумать, что издатель намеренно хотел навязать мне восславление неопрятности! Я описываю блаженных, большинство которых утопало в отчаянной грязи: св. Лабрия, который своими гадами и смрадом способен был оттолкнуть даже конюхов; святую Кунигунду, униженно пренебрегшую своим телом; святую Опортунату, не употреблявшую никогда воды и лишь слезами омывавшую свое ложе; святую Сильвию, никогда не умывавшую лица; святую Радегунду, никогда не сменявшую власяницы и спавшую на куче пепла. И еще многих других, неприбранные главы которых мне предстоит опоясать золотым венцом!
Дюрталь заметил:
– Мы знаем примеры еще более внушительные: прочтите житие Марии Алакок и вы увидите, что, умерщвляя плоть свою, она языком слизывала извержения больной и высосала у недужной гнойный нарыв на пальце ноги!
– О да, я помню, но, по правде сказать, вовсе не умиляюсь этой грязью, она возбуждает во мне чувство отвращения!
– Я предпочитаю святого мученика Луку, – вставила госпожа Шантелув. – Он отличался телом столь прозрачным, что сквозь грудь узревал занозы своего сердца. С занозами его я, пожалуй, готова примириться.
– И, помолчав, продолжала: – В общем, монастыри противны мне своей неряшливостью, и я не перенесла бы вашего средневековья!
– Простите, дорогая, – возразил муж, – но вы впадаете сейчас в грубую ошибку: в средние века усердно посещались бани, и в те времена отнюдь не плавали в грязи, как вы полагаете. Банями изобиловал тогда хотя бы, например, Париж, и банщики обходили город, выкрикивая, что нагрелась вода. Грязь водворяется во Франции лишь с Ренессанса. Как подумаешь, что умащенное благовониями тело восхитительной королевы Марго было грязнее печной сажи! Или вспомните Генриха IV , который кичился потными испарениями своих ног и острым запахом подмышек!
– Друг мой, прошу вас, пощадите, избавьте нас от этих подробностей, – прервала его жена.
Пока говорил Шантелув, Дюрталь рассматривал его. Маленький, круглый, он отличался столь пухлым животом, что едва мог обхватить его руками. Румяные щеки, волосы, длинными прядями ниспадавшие с затылка, старательно прилизанные, криво зачесанные над висками. В ушах торчала розовая вата, и своим бритым лицом, всем обликом своим он походил на нотариуса, набожного, жизнерадостного, приветливого. Но этому елейному, благодушному лицу противоречили плутовские, бегающие глаза. Во взгляде его угадывался деловой человек, зложелательный и коварный, способный на предательский удар под видом ласковых ухваток.
«Он догадывается, конечно, о жениных проделках и, наверное, в душе жаждет выбросить меня за дверь!» – думалось Дюрталю.
Но если Шантелув и хотел от него освободиться, то он не обнаруживал этого ничем. Скрестив ноги, по-священнически сложив одна на другую руки, он, казалось, проникнут был живейшим любопытством к работе Дюрталя.
Он беседовал об этом немного наклонившись, вслушиваясь, точно в театре.
– Да, я знаком с вопросом о Жиле де Рэ. Я прочел когда-то книгу, показавшуюся мне весьма основательной, – исследование аббата Боссара. Даже больше – это ученейший и наиболее полный труд из всего написанного о маршале. Но не могу я понять лишь одного, – продолжал Шантелув. – Никогда не мог я объяснить, почему прозвали Жиль де Рэ Синей Бородой; нет ни малейшей связи между его жизнью и сказкой славного Перро.
– Дело в том, что прозвище Синяя Борода в действительности относилось не к Жилю де Рэ, а к одному из бретонских королей по имени Комор, обломки замка которого, выстроенного в VI веке, сохранились еще близ опушки леса Карноэ. Легенда о нем проста: король этот просил у Герока, графа де Ванн руки его дочери Трифины. До Герока донеслись слухи, что король вечный вдовец, так как убивает своих жен. Он отказал. Но святой Гильдий обещал графу, что дочь его по первому же требованию вернется домой здоровой и невредимой, и тогда отпраздновали свадьбу.
Спустя несколько месяцев Трифина узнала, что Комор умерщвляет своих супруг, когда они беременны. Ощутив в чреве своем ребенка, она пыталась бежать, но муж настиг ее и перерезал горло. Безутешный отец требовал от святого Гильдия сдержать слово, и святой воскресил Трифину.
Как видите, легенда эта гораздо ближе к древней сказке, обработанной талантливым Перро, чем повествование о Синей Бороде. Не смогу объяснить вам, почему и как перешло на маршала от короля Комора прозвище Синяя Борода. Рассказы о том теряются во тьме веков!
– Но скажите, – спросил после паузы Шантелув, – не пришлось вам с вашим Жилем де Рэ с головой погрузиться в сатанизм?
– Да, и, сознаюсь, не будь действа эти столь далеки от нас, это бы могло показаться даже занимательным. По-моему, гораздо заманчивее и жизненнее было бы описание дьяволизма наших дней!
– Несомненно, – простодушно согласился Шантелув.
– Знаете, – продолжал, наблюдая за ним, Дюрталь, – сейчас творятся вещи прямо неслыханные! Мне рассказывали о священниках-святотатцах, о некоем канонике, воскресившем шабаши средневековья.
Шантелув сидел невозмутимо. Спокойно расправил ноги и, воздев к потолку глаза, ответил:
– Бог мой, всегда могут закрасться в стадо нашего духовенства несколько паршивых овец. Но, право, они так редки, что не стоит о них и говорить.
И он оборвал разговор, перевел речь на книгу о фронде, которую думал прочесть. Дюрталь понял, что
Шантелув не намерен посвящать его в свое знакомство с каноником Докром. Он замолчал с чувством легкого смущения.
– Вы забыли убавить вашу лампу, она коптит, – обратилась к мужу госпожа Шантелув. – Я чувствую запах даже здесь, сквозь притворенную дверь.
Это был намек, что супругу пора уходить. Поднявшись, Шантелув с неопределенной улыбкой извинился, что должен снова приняться за свою работу. Пожав Дюрталю руку, он просил его заглядывать чаще и вышел из гостиной, запахивая на животе полы халата.
Проводив его глазами, она тоже встала, подошла к двери, убедилась, что та закрыта, вернулась к стоявшему прислонясь спиной к камину Дюрталю, молча охватила руками его голову, приникнув устами, разжала его рот.
Он задрожал от страсти.
Рассмотрела его скорбными, туманными глазами, и он увидел, как в них замерцали серебряные искорки.
Замерла, чутко вслушиваясь в его объятия, со вздохом нежно высвободилась, а он, смущенный, уселся немного поодаль от нее, стиснув руки.
Заговорили о пустяках. Она хвалилась своей служанкой, которая по ее приказу бросится в огонь и воду. Он отвечал жестами одобрения и удивления.
Потом провела вдруг пальцами по лбу.
– Ах, как отчаянно страдаю я при мысли, что он там, что он работает! Знаете, меня не мучила бы так совесть, если бы он – это, конечно, глупо – был другим человеком, бывал в свете, одерживал победы... Я чувствовала бы тогда себя иначе.
Он досадовал на пошлость ее сетований. Наконец подошел к ней, почувствовав, что улегся его пыл:
– Вы говорите об угрызениях, но, поверьте, грех не изменится – разве лишь оттенком, – поплывем ли мы или упрямо не будем отчаливать от берега.
– О да, то же самое мне внушает духовник, только суровее. Но нет, хорошо вам говорить, и, однако, это не так.
Он засмеялся, думая, что муки совести, может быть, лишь приправа, скрывающая скуку пресыщенных страстей. Потом продолжал шутливым тоном:
– Будь я духовником, старательно исследующим совесть, я стремился бы изобретать новые грехи. Вы знаете, как я далек от этого, но, поискав, я открыл, мне кажется, один.
– Вы! – засмеялась она в свою очередь. – Могу я испытать его?
Он оглядел ее. Она сидела с видом ребенка-лакомки.
– Это можете решить только вы сами. Я допускаю, что грех этот не совершенно новый – он составляет часть известных пороков любострастия. Но он в небрежении со времен язычества, и его природа плохо изучена.
С напряженным вниманием слушала она, глубоко утонув в, кресле.
– Не томите меня! Ближе к делу – какой это грех?
– Я попытаюсь объяснить вам, хотя в общем это нелегко. В царстве любострастия различаются, если не ошибаюсь, грех обычный, грех противоестественный, грех скотоложества, и мы не ошибемся, прибавив сюда же бесовство и святотатство. Так вот, сверх них существует еще грех, который я назову пигмалионизмом, и в котором сочетается умственный онанизм с кровосмешением.
Вообразите себе художника, воспылавшего любовью к своему детищу, к написанному или нарисованному им творению, допустим к Иродиаде, Юдифи, Елене или Жанне д'Арк! Заклиная любимый образ, он кончает тем, что обладает им во сне! Так любовь, по-моему, грешнее обычного кровосмешения. Виновный в последнем преступлении совершает всегда лишь половинное злодеяние, так как дочь его порождена не им одним, исходит от плоти еще другого человека.
В пигмалионизме отец оскверняет духовное свое детище, непорочное и драгоценное ему, единственное, которое могло родиться от него без сочетания с чужой кровью. Вы видите, как совершенно и целостно здесь преступление. Не усматриваете ли вы также в этом презрение к природе, то есть к творению божественному? Если скотоложец впадает в грех с бытием живым и осязаемым, то в пигмалионизме человек, наоборот, согрешает с существом призрачным, созданным устремлением таланта, существом почти божественным, которое часто искусством и гением возносится в бессмертие?
Хотите, пойдем еще дальше. Представьте себе художника, который пишет святого и в него влюбляется.
Тогда дело осложняется противоестественным грехом и кощунством.
– Какой чудовищный грех! И какая мне в нем чудится изысканность!
Он замолк, пораженный ее восклицанием. Встав, она открыла дверь и позвала мужа.
– Знаете, друг мой, Дюрталь открыл новый грех!
– Сомневаюсь, – заметил Шантелув, остановившись на пороге в проеме двери. – Издание добродетелей и грехов ne varietur. Люди бессильны изобрести новые грехи и не утрачивают старых. Но в чем дело?
Дюрталь рассказал ему свою мысль.
– Но это просто утонченное воплощение суккубата. Оживает не сотворенное детище, но суккуб, ночью облекающийся в его очертания!
– Согласитесь, однако, что грех умственного гермафродитизма, оплодотворяющегося самопроизвольно, без посторонней помощи, есть по меньшей мере грех изысканный. Он – привилегия художников, порок избранных, недостижимый для толпы!
– Вы выделяете знатных даже в похоти, – смеясь, ответил Шантелув. – Но я окунусь лучше в мои жития святых. Это воздух более благодатный и живительный. Я не прощаюсь с вами, Дюрталь, продолжайте с женой ваше причудливое расследование сатанизма!
Он сказал это как можно проще, благодушнее, но, однако, в словах его послышался укол иронии.
Дюрталь почувствовал ее. Должно быть, поздно, подумал он, когда закрылась дверь за Шантелувом.
Сверившись с часами, увидел, что скоро прозвонит одиннадцать, и встал, чтобы откланяться.
– Когда я увижу вас? – шепнул он.
– Завтра, у вас, в девять вечера.
Он смотрел на нее просящими глазами. Она поняла, но хотела подразнить.
По-матерински поцеловала его в лоб и снова взглянула вопрошающе ему в глаза.
Они хранили, наверное, выражение мольбы, и она ответ на их умоляющий вопрос, закрыв их долгим поцелуем, который приник потом к его устам, испив их взволнованную муку.
Затем, позвонив, приказала служанке посветить Дюрталю, он спустился удовлетворенный, что она, наконец, обещала завтра сдаться.
XII
Как в тот вечер, убирал он опять свое жилище, устраивал обдуманный беспорядок, бросил подушку на умышленно неприбранное кресло, затопил камины, желая согреть комнаты.
Но Дюрталь уже чужд был нетерпения. Его умеряло безмолвное обещание госпожи Шантелув утолить пыл его страсти сегодня вечером. Кончилась неуверенность, а с ней исчез острый, почти мучительный трепет, в который кидало его в ожидании этой женщины. Оцепенело мешал он пылающие ли в камине, и неясно наполняла дух его она – восставала неподвижная и безмолвная. Лениво текла мысль, и он думал одним только вопросом – как вести себя в решительный миг, чтобы не загрязниться пошлостью. Задача, так занимавшая позавчера, и сейчас стоял он пред ней в беспомощном смятении. Не пытался решить ее, отдавался на волю случая, рассуждал, что бесполезно строить замыслы, внушал себе, ненадежны расчеты наиболее продуманные.
Возмутился, наконец, самим собой, упрекал себя в вялости, начал ходить, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, приписывал его жаркому огню. Неужели иссушены, опустошены ожиданием его влечения? Ах нет, я оживу в тот миг, когда овладею этой женщиной! Ему казалось, что корень его уныния в неизбежной докуке первой встречи. Истинная прелесть вечера, думал он, настает лишь после того, как это будет пройдено; устранится опасность забавного, нежданного, достигается плотское познание. Я буду встречаться с Гиацинтой, не боясь разочароваться в формах ее тела, буду свободно держать себя, развяжутся мои движения. О, если бы сегодняшнее было пережито! – заключил он свою думу.
Кошка, сидевшая на столе, вдруг навострила уши, вперила в дверь черные глаза и убежала. Звякнул звонок.
Дюрталь открыл.
Ему понравился ее костюм. Скинув меха, она осталась в платье из мягкой толстой ткани цвета сливы, до того темного, что казалось черным. Платье обрисовывало ее всю, обтягивало руки, очерчивало стан и выпуклость бедер, охватывало стянутый корсет.
– Вы очаровательны... – и он страстно поцеловал запястья рук, наслаждаясь ощущением участившегося под его губами пульса. Сильно взволнованная, немного бледная, она не проронила ни слова. Он сел против нее, и она устремила на него загадочные, туманные глаза. Он чувствовал, что захвачен целиком. Забыл свои думы, свои страхи, жаждал погрузиться в глубину этих зрачков, разгадать странную улыбку этого страдальческого рта.
Сжав руками ее пальцы, впервые шепнул ее имя – Гиагцинта. Она вслушивалась, и волновалась ее грудь, а пальцы лихорадочно дрожали. Потом умоляюще сказала:
– Прошу вас, откажемся от этого. Прекрасно лишь желание. Поверьте, я вижу ясно, не переставала думать, пока шла. Сегодня вечером я оставила его печальным. Если бы знали вы только, что я чувствую... была сегодня в церкви, мне стало страшно, я испугалась и спряталась, увидя моего духовника...
Он знал эти жалобы и думал: говори, что хочешь, сегодня затанцуешь под мою музыку! Громко отвечал ей односложными: восклицаниями, ласкал по-прежнему.
Встал, соображая, что если она останется сидеть, то ему легче будет, нагнувшись, целовать ее губы.
– О, ваши губы! Ваш поцелуй вчера! – его лицо склонялось к ней, и она стоя протянула ему губы для поцелуя.
Он обнял ее, но она отпрянула, почувствовав его ищущие руки.
– Вспомните, как это смешно, – опять заговорила она тихо, – нужно раздеваться, в рубашке укладываться в постель, это пошло.
Он не отвечал, попытался вкрадчивым объятием дать ей понять, она может обойтись без докучных мелочей. Но по тому, как вздрагивал под его пальцами ее стан, он понял, что она решительно не согласна отдаться здесь, при свете, в его рабочем кабинете.
– Хорошо, – и она высвободилась из его объятий, – вы сами этого хотели!
Он отстранился, чтобы пропустить ее в спальню и, заметив, она хочет остаться одна, задернул дверной занавес, разделяющий обе комнаты. Снова сел с краю у камина и задумался. Пожалуй, мне следовало бы избавить ее от необходимости оправлять постель и сделать это самому. Нет, так было бы слишком грубо и прозрачно. Ах! Этот горшок! И, схватив его, он, не заходя в спальню, прошел в уборную, поставил его там на консоль. Потом мигом оправил на полках коробку с рисовой пудрой, духи, гребни и, вернувшись в кабинет, прислушался.
Она двигалась бесшумно, ходила на цыпочках, как в комнате, в которой лежит покойник, задула свечи, очевидно, желая, чтобы комната освещалась лишь багряными углями камина.
Он чувствовал себя совершенно уничтоженным. Исчезло манящее впечатление губ Гиацинты, ее глаз! Она превратилась в обычную женщину, раздевающуюся у мужчины. Его угнетали воспоминания об этих сценах, о девках, которые скользили так же неслышно по ковру, на миг стыдливо застывали, стукнув кувшином с водой или тазом. И наконец, к чему? Как раз теперь, когда она отдавалась, потухла в нем жажда обладания!
Разочарование овладело им прежде утоления, а не после, как обычно. И на душе у него стало так горько, что он чуть не плакал!
Испуганная кошка металась из комнаты в комнату, скользила под занавесью и устроилась наконец возле хозяина, прыгнув ему на колени. Лаская ее, Дюрталь раздумывал.
Решительно, она была права в своих отказах. Выйдет нечто забавное, жестокое! Я виноват в своей настойчивости. Нет, в сущности вина на ней. Если она пришла к этому, то, значит, хотела так сама! Но какая она неискусная! Когда я только что обнимал ее, кипел к ней страстью, я мог бы еще дать ей что-нибудь! Но теперь!.. В довершение всего у меня вид птенчика, юного новобрачного, который ждет! Бог мой, как глупо! Он вслушался. В спальне царила тишина. Она легла. Я должен к ней пойти.
Очевидно, все это раздевание из-за корсета. Но зачем тогда было его надевать! И, раздвинув занавес, он перешел в спальню. Госпожа Шантелув укрылась под пуховиком; рот ее был по лураскрыт, глаза сомкнуты.
Он, однако, заметил, что она смотрит на него сквозь белокурое кружево ресниц. Подсел на кровать. Она съежилась, натянула до подбородка одеяло.
– Вам холодно, дорогая?
– Нет!
И широко раскрылись при этом ее мерцающие глаза. Он раздевался, бросая быстрые взгляды на ее лицо. Оно то тонул в сумерках, то загоралось красным отблеском углей, истлевавших под пеплом. Проворно скользнул Дюрталь под одеяло.
Он обнял тело мертвенно холодное, леденившее его своим прикосновением. Но губы женщины горели и безмолвно жгли его лицо. Он застыл, словно скованный обвивавшим его телом, упругим и гибким как лиана.
Поцелуи градом сыпались ему лицо, он не мог ни пошевельнуться, ни заговорить. Наконец вырвался, и его освободившиеся руки сжали ее тело. Она впилась в его губы, но вдруг ослабели его нервы, и он отпрянул, истомленный напрасным усилием.
– Я ненавижу вас, – молвила она.
– Почему?
– Я ненавижу вас!
Его тянуло ответить: и я! В нем накипало раздражение, и отдал бы сейчас все, что имел, лишь бы она оделась и ушла.
Перестал светить угасавший огонь камина. Успокоившись, лежал он, всматриваясь в сумрак. Хотелось отыскать ночную рубашку. Которая была на нем, накрахмаленная, оттопыривалась и рвалась. Но на ней лежала Гиацинта. С ужасом убедился, что постель растерзана. Он любил зимой хорошо укутаться и, чувствуя себя неспособным оправить ложе, предвкушал зябкую ночь.
Вдруг он обратился к Гиацинте с большею уверенностью, и она покорилась его страстным ласкам.
Изменившимся, горловым сдавленным голосом произносила она бесстыдные слова, испускала животные крики, смущавшие Дюрталя, роняла словечки вроде «сокровище мое», «душа моя», «о, это слишком». В безотчетном пылу сжимал он хрустевшее, извивавшееся тело и упивался необычным ощущением ее судорожного, страстного огня под ледяною оболочкой.
Он задыхался, зарыв голову в подушки, пораженный, испуганный этим истомляющим, свирепым сладострастием. Наконец спрыгнул с постели и зажег свечи. Неподвижно сидела на комоде кошка, смотрела то на него, то на нее. В ее черных зрачках ему почудилась неуловимая насмешка. Он сердито прогнал животное из комнаты.
Подкинул свежих дров в камин, оделся, хотел освободить для Гиацинты спальню. Но она нежно окликнула его обычным голосом. В безумном объятии повисла у него на шее, потом уронила на покрывало руки.
– Гpex совершился. Любите ли вы теперь меня сильнее?
У него не достало смелости ответить: о, какое полное разочарование! Как противна действительность, когда наступает пресыщение. Он чувствовал отвращение к ней, был страшен сам себе. Неужели так может кончиться жажда обладания! Он возносил ее своей восторженною думой, грезил неведомо что обрести в ее глазах! В пламенном порыве хотел унестись с ней выше надоедливых вожделений плоти, погрузиться в надземность мира, отведать радостей сверхчеловеческих, неслыханных! Но разбилась иллюзия, и ноги его опять пригвождены к земной грязи. Неужели нельзя отрешиться от самого себя, вырваться из нечистот своего бытия, достигнуть бесконечных далей и погрузиться в них восхищенною душою!
Урок жестокий и окончательный! Какое падение, какая горечь сожалений за то, что поверил в свои сны! О нет, действительность не прощает презрения. Она мстит, разбивая мечту, рвет и крушит ее, втаптывая лохмотья в грязь!
– Потерпите, друг мой, – послышался из-за занавеси голос госпожи Шантелув. – Я такая мешкотная!
«Хоть бы убиралась ты!» – подумал он грубо и громким голосом вежливо спросил, не может ли он ей чем помочь.
Она так чаровала, казалась такой загадочной; глубокие дали мерцали в глазах ее, где сменялись отражения празднеств и могил! Но не прошло и часа, как она переродилась! Я видел новую Гиацинту, произносившую бесстыдства продажной женщины, пошлости модистки! В ней воплотилась вся скука женщин, и я взбешен!
Мысль на миг оборвалась, и после перерыва он решил: верно нужна юность, чтобы отдаваться бреду сладострастия.
Выступившая из-за занавеси госпожа Шантелув, отражая его мысль, пробормотала с нервным смехом:
– В мои годы не годится быть такой безумной!
Он силился улыбнуться, но она пытливо посмотрела и поняла.
– Вы уснете сегодня ночью, – сказала она печальным голосом, намекая на сетования Дюрталя, когда-то рассказывавшего, что он потерял из-за нее сон.
Он упрашивал ее сесть, согреться, но ей не было холодно.
– Однако в постели, несмотря на жару в комнате, вы были точно лед!
– Я всегда такая. И зимой и летом у меня холодное тело.
Он подумал, что это прохладное тело было бы, без сомнения, приятно в августе, но теперь!
Она отказалась от конфет, отведала немного алькермесу, который он нацедил в крохотный серебряный стаканчик. Еле пригубила, и они дружески пустились в обсуждение вкуса этой эссенции, в которой она ощущала аромат распускающей гвоздики, сливающийся с благовонием цвета корицы, пропитанного розовой водой.
Он замолчал.
– Бедный мой друг, как я любила бы вас, будь вы доверчивее, не всегда так настороже!
Он просил объяснить.
– Я хочу сказать, что вам недоступно забвение, что вы неспособны отдаться простой, безыскусной любви.
Увы! Рассуждаете даже в часы страсти!
– О нет!
Она обняла его нежно:
– Пусть так, но от этого не ослабеет моя любовь.
Его поразил ее жалобный, волнующийся взгляд. Он почувствовал в нем как бы испуг и благодарность.
Воистину она довольствуется малым.
– О чем вы думаете?
– О вас! – она вздохнула. – Который час?
– Половина одиннадцатого.
– Пора домой, он ждет. Нет, больше слов не надо.
Она провела руками по щекам. Он нежно охватил ее талию и, обнимая, проводил с поцелуями до двери.
– Вы скоро придете, правда?
– Да... Да...
Вернулся.
Уф! Свершилось, думал он, и в нем зашевелились туманные, смешаные чувства. Удовлетворилось тщеславие.
Не страдало больше самолюбие. Он обладал этой женщиной, достиг цели. Кончились, с другой стороны, его тревоги, он вновь обрел целостную свободу духа. Как знать, однако, в какие дебри заведет эта связь? Но потом невольно смягчился. В сущности, мне ее не в чем упрекнуть! Она любила, как могла, отдавалась жалобно страстно. Разве сама ее двойственность не восхитительная пряность любовницы, которая в постели обнажает душу девки, а одевшись, проникнута ухищрениями светского кокетства и умнее, конечно, женщин ее круга. Ее плотские ласки исполнены страсти и причудливы. Чего же больше?
Нет, конечно, виноват один он. Его вина, если все рассыплется. Он чужд вожделений. Его бури – лишь следствие душевного возбуждения. Он изношен телом, пресыщен душою, не способен любить, томится ласками, еще не успев их вкусить, и полон отвращения, когда насытится. Сердце его опустело, оно бесплодно.
Разве не болезнь отравлять себе наперед размышлением все радости, чернить всякий идеал еще перед достижением! Мешать с грязью все, к чему бы он ни прикоснулся.
При такой нищете души все, кроме искусства, превращается в более или менее тоскливую утеху, в развлечение более или менее тщетное. Ах! Я боюсь, что бедной женщине общение со мной принесет невыносимые, мучительные огорчения! Разве внушить ей, что лучше прекратить наши свидания! Нет, она не заслуживает такого отношения. И, проникшись жалостью, он дал себе клятву в первое же свидание приласкать, постараться убедить ее в призрачности того самого разочарования, которое он не сумел сегодня скрыть!
Попытавшись привести в порядок свое ложе, оправить растерзанные пуховики, взбить смятые подушки, он улегся спать.
Загасил лампу, и в темноте усилилась его тоска. Сердце мертво, думалось ему, да, прав я был, когда писал, прекрасны лишь женщины, которыми не обладаешь.
Узнать через два-три года, когда женщина недосягаема вас, связана ненарушаемым браком, когда нет ее в Париже, во Франции, когда она где-то далеко, может быть, уже мертва, узнать, что она любила вас, тогда как вы не смели возле нее об этом даже и помыслить! Какая блаженная мечта! Истинна неосязаемая любовь, сотканная из далекой грусти, драгоценных сожалений. Она бесплотна и не таит в себе срамного позора!
Любить друг друга издали и без надежды, целомудренно мечтать о бледных прелестях, о поцелуях невозможных, о ласках, запечатленных на забытом челе умерших! Ах! Что за блаженное и безвозвратное блуждание! Все остальное пошло или пусто. Но как ужасно тогда бытие, если лишь такое счастье – единое, надменное и непорочное – дарует Небо здесь, внизу, душам верующим, истомленным вечным гнетом жизни.
XIII
Вчерашняя сцена оставила в нем смятенное отвращение плоти, насиловавшей его душу, сопротивлявшейся попыткам ее освобождения. Тело решительно не мирилось с тем, что мысль отторгается от него вдаль, несмотря на умоляющие призывы, и что ему остается покорно замолчать. После пережитого срама впервые, может быть, ясно понял он смысл пустого для нас слова «целомудрие», вкушал изобилие его древнего, изысканного значения.
Подобно человеку, чрезмерно упившемуся накануне и помышляющему на другой день о воздержании от крепких напитков, мечтал сегодня Дюрталь об ощущениях очищенных, чуждых похоти постели.
Он сидел, погруженный в эти думы, когда вошел де Герми. Они заговорили об излишествах любви.
Изумленный суровой томностью Дюрталя, де Герми воскликнул:
– Должно быть, вы вчера, друг мой, предавались изрядному распутству!
Без малейшей тени замешательства Дюрталь в ответ покачал только головой.
– Значит, ты человек исключительный, необычайный! Любовь бесплотная, любовь без надежды была бы верхом совершенства, но надо считаться с бурями души! Нет смысла в целомудрии, неоправданном благочестивой целью, конечно, за исключением недугов плоти, но это вопрос уже телесный, худо или хорошо разрешаемый эмпириками. В общем, все на земле сводится к действию, которое ты отвергаешь. Сердце, почитаемое благородным органом человека, схоже по форме с фаллосом – воплощением так называемой плотской срамоты. И знаешь, по-моему это крайне знаменательно. Всякая любовь сердца досовершается органом с ним схожим. Человеческая изобретательность, создавав искусственно движущиеся механизмы, обречена воспроизводить движения оплодотворяющихся животных. Вспомни машины, посмотри, как двигаются в цилиндрах поршни. Разве не булатный это Ромео в литой Жюльетте! Человеческая выдумка слепо подражает действиям наших органов, когда не свят человек и не бессилен. На мой взгляд, ты ни то и ни другое. В крайнем случае, если, следуя непостижимому влечению, ты упорно не желаешь расставаться со своей мечтой, то послушайся совета одного древнего, XVI века, оккультиста – неаполитанца Пиперно: представь себе, он утверждает, что, если кто поест вербены, тот не подойдет к женщине в течение семи дней. Купи себе горшок вербены, ощипывай... тогда увидим.
Дюрталь расхохотался.
– Может быть, найдется средний выход: не совершать плотских действий с тою, кого любишь, и, если уж нельзя иначе, для успокоения посещать тех, кого не любишь. Не сомневаюсь, что так предупреждается до некоторой степени опасность отвращения.
– Нет. Кончается это худо. Человек невольно внушает себе, что плотские прелести женщины, по которой он тоскует, дадут наслаждения недостижимые ни с какими другими! Наконец, женщины, к которым ты неравнодушен, отнюдь не настолько милосердны и воздержанны, чтобы преклоняться перед таким мудрым эгоизмом... Согласись, что в сущности это эгоизм! Но почему не надеваешь ты ботинки? Скоро шесть, и жаркое мамаши Карэ не станет ждать.
Придя, они увидели, что жаркое рассталось уже с кастрюлей и разлеглось на блюде, в ложе из овощей. Карэ, устроившись в кресле, читал требник.
– Что нового? – спросил он, закрывая книгу.
– Ровно ничего... Политика не занимает нас, а американские рекламы генерала Буланже, думаю, надоели вам не менее, чем нам. Газетные россказни мутнее и ничтожнее обычного... Берегись, ты обожжешься, – предостерег де Герми Дюрталя, готовившегося проглотить ложку супа.
– Бульон наварист, в меру подернут золотистыми жиринками – питательная влага! Что же касается новостей, то почему жалуетесь вы, что ничего нет любопытного? Ну а процесс изумительного аббата Буде, который вскоре начнется разбирательством перед судом присяжных в Авейроне! Покусившись утопить своего настоятеля в жертвенном вине и провинившись во всевозможных преступлениях, как то: выкидышах, насилиях, осквернениях целомудрия, подлогах, вымогательствах, кражах, ростовщичестве, – он кончил тем, что присвоил кружку с лептою за упокой души и похитил дароносицу, чашу, все принадлежности богослужебного обряда! Правда, хорошо!?
Карэ молча воздел глаза.
– Если его не осудят, будет еще один лишний священник для Парижа, – заметил де Герми.
– Почему?
– Почему? Да потому, что сюда переводят всех священников, провинившихся в провинции или навлекших на себя нешуточный гнев епископа. В Париже они не так на виду, почти теряются в толпе. Обычно они входят здесь в состав того разряда аббатов, которых принято называть «викарными» священниками.
– Чем они отличаются? – спросил Дюрталь.
– Это священники, причисленные к какому-нибудь приходу. Ты знаешь, что в каждом храме, кроме настоятеля, заместителя его, викариев, штатного духовенства, есть еще священники вспомогательные, добавочные. Их называют «викарными». Они выполняют черную работу, служат ранние обедни, когда все спят, вечерние службы, когда весь мир погружен в пищеварение. Они встают ночью и несут беднякам дары святого причастия, бодрствуют у тел богатых сынов церкви. В притворах храмов их продувают сквозняки, жжет солнце на кладбищах, они мокнут под дождем и снегом на похоронах у могил. Они несут бремя барщины.
За плату в пять, десять франков они заменяют своих товарищей, богаче обеспеченных, желающих отдохнуть от службы. Большей частью это люди, впавшие в немилость, которых, чтобы отделаться от них, причисляют к какой-нибудь церкви и за которыми присматривают в ожидании, что с них снимут сан и воспретят священнослужение. Теперь ты знаешь, провинциальные приходы выбрасывают в город священников, которые по тем или иным причинам находятся в опале.
– Хорошо, но что же делают в таком случае викарии и другие титулярные аббаты, если они, по твоим словам, сваливают свою работу на чужие спины?
– Им остается труд легкий и изящный, не требующий ни малейшего самопожертвования и никаких усилий!
Они исповедуют овец в шелку, начиняют катехизисом пристойных птенчиков, произносят проповеди, играют первые роли в торжественных обрядах ради уловления верующих, исполняемых с театральной пышностью!
Оставляя в стороне викарных, парижское духовенство можно разделить на два разряда: в первом священники светские и обеспеченные. Им дают богатые приходы – святую Магдалину, святого Роха. За ними ухаживают, жизнь их протекает в гостиных, они обедают в городе, врачуют коленопреклоненные души, утопающие в кружевах. Второй разряд – в большинстве исправные чиновники. Но им не хватает ни образованности, ни состояния, чтобы спасать бездельников от прегрешений. Они живут в стороне, общаются лишь с мелкими мещанами. Утешаются в своей пошлости, играя друг с другом в карты, а за десертом охотно расточают грубые шутки.
– Вы слишком увлекаетесь, де Герми, – заговорил Карэ. – Я, смею сказать, тоже несколько знаю духовенство и утверждаю, что даже здесь, в Париже, оно состоит в общем из людей добропорядочных, с честью исполняющих свой долг. Их закидывают грязью и клеветой, их поносит сброд, увязший в пороках и нечестии. Но я замечу, однако, что такие священнослужители, как аббат Буде или каноник Докр, встречаются, благодарение Создателю, лишь в виде исключения. А вне Парижа, хотя бы в деревнях, вы найдете среди духовенства истинных святых!
– Может быть, и вправду сравнительно редки священники, поклоняющиеся сатане, и я не сомневаюсь, что распутство духовенства и пороки епископов раздуваются разнузданной печатью. Но я не в этом упрекаю их!
Беда не в том, что они игроки и сластолюбцы, нет, меня возмущает их тусклость, лень, тупость и посредственность. Они творят грех против Духа Святого – единственный грех, которого не простит Спаситель!
– Они отражают свое время, – сказал Дюрталь. – Как требовать, чтобы в теплой водице семинарий зарождался дух средневековья!
– Вы забываете, друг мой, – вступился Карэ, – «о неуязвимых монашеских орденах»... хотя бы, например, о Шартрезцах...
– Да, И францисканцы и траписты. Но это иноки, укрывшиеся под сень обители от своего позорного века. Возьмите, наоборот, святого Доминика – подлинное монашеское общество гостиных. Оно дало Монсабре и Дидонов, и этим сказано все!
– Они гусары религии, древние радостные копьеносцы, блестящие, нарядные папские полки, а простодушные капуцины – смиренные «ловцы душ», – заметил Дюрталь.
– Лишь бы любили они колокола! – воскликнул, качая головой, звонарь.
– Принеси нам сидр, – попросил он у жены, убиравшей со стола салатник и тарелки.
Де Герми разлил сидр в стаканы. Они молча ели сыр.
– Можешь ты объяснить мне, – обратился к де Герми Дюрталь, – должно ли непременно быть холодным тело женщины, которая приемлет посещения инкубов? Другими словами, такой же ли веский это довод заподозрить в инкубате, каким в старину являлась неспособность колдуний проливать слезы, служившая инквизиции доказательством, изобличающим их в магии и волхованиях?
– На это я отвечу тебе следующее: встарь женщины, одержимые инкубатом, действительно обладали прохладным телом даже в августе. Это удостоверяется сочинениями знатоков. Но в настоящее время большинство созданий, осаждаемых сладострастными бесами или вожделеющих по ним, отличаются горячей и сухой кожей. Превращение это нельзя считать всеобщим. Я ясно помню, что доктор Иоганнес, о котором сообщал тебе Гевенгэ, часто бывал вынужден, расколдовывая больную, бороться с повышенной температурой тела ваннами с раствором поташного гидриодата!
– А! – Дюрталь думал о госпоже Шантелув.
– Не знаете вы, что сталось с доктором Иоганнесом? – спросил Карэ.
– Он живет крайне замкнуто в Лионе, думаю, что по-прежнему врачует заколдованных и проповедует блаженное пришествие Утешителя.
– Расскажи мне, кто он собственно такой, – полюбопытствовал Дюрталь.
– Весьма разумный и в высокой степени ученый священник. Служил настоятелем прихода и руководил единственным в своем роде мистическим журналом в Париже. Считался знатоком теологии, был признанным истолкователем божественной премудрости. Потом испытал жестокое преследование папской курии и кардинала – парижского архиепископа. Иоганнеса погубили его заклинания, борьба, которую он вел с инкубами в женских монастырях.
Ах! Я точно вчера помню наше последнее свидание! Я встретился с ним на улице Гренелль, он выходил из архиепископского дома. Это было как раз в тот день, когда он выступил из церкви после бурной сцены, о которой он мне рассказал. Как сейчас вижу я перед собой этого священника идущим вместе со мной по пустынному бульвару Инвалидов. Он был бледен, и его слабый, но торжественный голос дрожал.
Его вызвали и предложили дать объяснения о случае с эпилептичкой, которую он исцелил, по его утверждению, при помощи реликвии – плата Христова, хранимого в Аржантейле. Кардинал в присутствии двух старших викариев слушал его стоя.
Когда он высказался и в заключение изложил затребованные от него сведения относительно врачевания им заколдованных, то архиепископ произнес: «Самое лучшее для вас – уйти в траписты!»
Слово в слово запомнил я его ответ: «Если я преступил законы церкви, я готов подвергнуться каре за мою вину. Если вы считаете меня виновным, произнесите канонический приговор, и, клянусь честью священнослужителя, я подчинюсь ему. Но пусть это будет приговор в установленном порядке. Согласно указаниям права, никто не обязан осудить себя сам – nemo se trahere tenetur, гласит Corpus Juris Canonici».
На столе лежал номер его журнала. Указывая на раскрытую страницу, кардинал спросил: «Вы написали это?»
– «Да, ваше преосвященство». – «Какое позорное учение!» И, закричав: «Уйдите», он удалился из кабинета в смежную гостиную. Иоганнес подошел тогда к дверям гостиной и, опустившись на колени у самого порога, произнес: «Ваше преосвященство, я не хотел вас оскорбить, простите, если я невольно сделал это!»
Кардинал закричал громче: «Уходите или я позову людей!» Иоганнес поднялся и вышел. «Порвались все мои исконные связи», – сказал он мне на прощание. Он был так мрачен, что у меня недостало смелости расспрашивать его!
Наступило молчание. Карэ отправился на башню прозвонить обычный перезвон, жена убрала со стола десерт и скатерть. Де Герми готовил кофе, а Дюрталь курил в раздумье папиросу.
Вернулся Карэ, как бы окутанный пеленой звонов, и воскликнул:
– Вы только что говорили о францисканцах, де Герми. А знаете вы, что по уставу им не позволено иметь ни одного колокола во исполнение предписываемой этим орденом нищеты? Правда, правило это, слишком суровое и трудно выполнимое, с течением времени несколько ослабело. Теперь им разрешается один колокол, но, заметьте, всего только один!
– Подобно большинству аббатств.
– Нет. Почти у всех по нескольку колоколов. Всего чаще три – во славу Пресвятой Триединой Ипостаси!
– Ограничено ли для монастырей и храмов число колоколов?
– В старину такое ограничение существовало. Признавалась благочестивая иерархия звонов. Когда звучали, сотрясаясь, колокола собора, не разрешалось звонить в монастырские колокола, они уподоблялись вассалам, в соответствии с саном своим благоговейно и покорно умолкавшим, когда сюзерен вел речь к народу. В 1590 году иерархия эта была освящена каноником Тулузского собора и подтверждена двумя указами конгрегации обрядов. Им ныне перестали следовать. Отменен уставный чин святого Шарля Борроме, предлагавшего, чтобы в соборах было от пяти до семи колоколов, в храмах благочиния по три и в приходских церквах по два колокола. Церкви заводят теперь число колоколов, в зависимости от своих достатков.
– Однако соловья баснями не кормят! Где рюмки?
Жена подала рюмки, пожала гостям руки и удалилась. Карэ налил всем коньяку, а де Герми сообщил, понизив голос:
– Эти вещи расстраивают и пугают ее... Мне не хотелось рассказывать при ней. Сегодня утром у меня был довольно необычный посетитель – Гевенгэ, лечащийся в Лионе у доктора Иоганнеса. Он утверждает, что на него напустил порчу каноник Докр, который недавно останавливался проездом в Париже. Не знаю, что вышло между ними, но состояние здоровья Гевенгэ самое плачевное!
– Что с ним такое? – спросил Дюрталь.
– Ровно ничего не понимаю. Я тщательно исследовал его, подробно доискивался причины его недомогания. Он жалуется на сверлящие боли в области сердца. Я нашел нервное сердцебиение и только. Сильнее пугает меня его истощение, совершенно необъяснимое у человека, который не болеет ни раком, ни сахарной болезнью.
– Думаю, что теперь не заколдовывают людей, прокалывая булавками их восковое изображение, как делали это в доброе старое время, – заметил Карэ.
– Да, это устарелые средства, и они не применяются ныне почти никем. Я расспросил сегодня утром Гевенгэ, и он поведал мне о тех необычных приемах, которыми пользуется страшный каноник. Очевидно, мы встречаемся здесь с нераскрытыми тайнами современной магии.
– Расскажи, это любопытно, – попросил его Дюрталь.
– Я передаю, естественно, лишь то, что слышал, – начал де Герми, закурив папиросу. – Так вот! Докр держит в клетках белых мышей, которых также возит с собой, когда путешествует. Он кормит их облатками и лепешками, искусно пропитанными составом ядов. Откормив несчастных зверьков, он берет их, держит над чашей и одного за другим пронзает особым, чрезвычайно острым орудием. Кровь их стекает в чашу, и он пользуется ею, как я вам объясню сейчас, чтобы разить смертью своих врагов. Иногда вместо мышей он употребляет для той же цели цыплят и морских свинок. С тою разницей, что отравой ему служит тогда сало их, а не кровь, которую он превращает в мерзостный очаг смертоносных ядов.
Случается, что он прибегает к средству, изобретенному сатаническим обществом возрожденных теургических оптиматов, о котором я уже рассказывал тебе. Изготовляется снадобье из муки, мяса, хлеба евхаристии, меркурия, семени животных, человеческой крови, уксусно-кислого морфия и лавандового масла. Наконец, всего опаснее, по словам Гевенгэ, следующее злодейство: он откармливает рыб святым причастием и ядами в искусной постепенности. Заметь, что он подбирает яды, или разрушающие мозг, или такие, которые, впитавшись в поры тела, убивают человека припадками столбняка. Затем, когда рыбы достаточно пропитаются этими составами, скрепленными печатью святотатства, Докр вынимает их из воды, гноит, перегоняет и извлекает маслянистую эссенцию, одной капли которой достаточно, чтобы человек сошел с ума!
Употребление этого сока, по-видимому, наружное. Подобно тому, как в «Истории тринадцати» Бальзака простым прикосновением к волосам людей сводят с ума или отравляют!
– Однако! – воскликнул Дюрталь. – Я сильно боюсь, что слеза этого масла капнула на мозг несчастного Гевенгэ!
– Соль этого рассказа не столько в загадочных дьявольских микстурах, сколько в душевном состоянии людей, которые изобретают и применяют их. Подумать только, что это совершается в наше время, в двух шагах от нас, что священники отрыли губительные снадобья, неведомые колдунам средневековья!
– Священники? Нет!.. Всего один лишь священник, и притом какой! – поправил Карэ.
– Не скажите. Гевенгэ заслуживает полного доверия, а он утверждает, что есть еще другие. Околдование отравленной кровью мышей учинялось в 1879 году в Шалоне на Марне бесовским кружком, в который каноник входил, правда, сочленом. В Савойе в 1883 году кучка порочных аббатов изготовляла масло, о котором я рассказывал. Как видите, Докр не единственный жрец этой чудовищной науки. Она известна монастырям. С ней соприкасаются миряне.
– Но если даже признать наличие таких средств и их действенность, то остается еще неясный вопрос: как пользуются ими, когда хотят издали или непосредственно напустить на человеку колдовскую порчу?
– Это вопрос особый. Есть два способа поразить намеченного врага. Первый, реже применяемый, таков: маг прибегает к услугам ясновидящей женщины, в этих кругах называемой «блуждающим духом». Если привести такую сомнамбулу в состояние гипноза, то можно духу ее внушить любой полет, куда угодно усыпителю. Можно повелеть ей за сотни лье перенести на намеченное лицо волшебный яд. Лица, загубленные таким способом, сходят с ума или умирают, даже не подозревая, что сделались жертвой колдовства. Но, не говоря уже о том, что ясновидящие редки, услуги их небезопасны. Возможно, что другие тоже приведут их в каталепсию и исторгнут тогда из них признание. Потому-то, господа вроде Докра и применяют второй, более надежный способ. Так же, как в спиритизме, вызывают они дух мертвеца и посылают его поразить колдовским составом жертву. Действие такое же, меняется лишь проводник.
– Я вполне точно, – заключил де Герми, – изложил вам тайны, которые сообщил мне сегодня друг наш Гевенгэ.
– И вы говорите, что доктор Иоганнес врачует людей, отравленных таким способом? – осведомился Карэ.
– Да. Я знаю случаи необъяснимых исцелений, которые творит доктор.
– Но как?
– Гевенгэ говорил о жертвенном обряде, который служит доктор во славу Мельхиседека. Что это за обряд, мне совершенно не известно. Подождем, может быть, Гевенгэ расскажет нам о нем, если излечится!
– И, однако, не худо бы хоть раз посмотреть на каноника Докра, – объявил Дюрталь.
– Не скажу этого! Каноник – истинное воплощение сатаны на земле! – воскликнул Карэ, помогая друзьям надеть пальто.
Он зажег фонарь, а когда Дюрталь, спускаясь по лестнице, начал жаловаться на холод, де Герми пошутил:
– Ты не стучал бы сейчас зубами, если б твои родные были знакомы с магическими тайнами растений. Да, представь себе, в XVI веке учили, что ребенок не будет страдать ни от жары, ни от холода, если до истечения двенадцатой недели его жизни натереть ему руки полынным соком. Средство, как видишь, ароматное, менее опасное, чем те, которыми злодействует каноник
Они спустились, Карэ запер за ними башенную дверь, и друзья ускорили шаги, спасаясь от крутившегося на площади северного ветра.
– Знаешь, – заговорил де Герми, – если исключить сатанизм, – нет, впрочем, сатанизм тоже питается религией, – то для двух неверующих, как мы, разговоры наши необычайно благочестивы. Надеюсь, что это зачтется нам там, наверху.
Дюрталь ответил:
– Заслуга наша в том невелика. О чем же говорить с другом? Знаешь, так пошлы и тщетны беседы, в которых не обсуждается религия или искусство!
XIV
На следующее утро Дюрталь задумался над этой мудростью порока и, выкуривая одну папиросу за другой, сидел возле камина, размышляя об единоборстве Докра и Иоганнеса, о священниках этих, колдующих и творящих заклинания в борьбе за жизнь и здоровье Гевенгэ. «В христианской символике, – говорил он себе, – рыба служит одним из образов Христа. Без сомнения, именно поэтому каноник, чтобы усилить кощунство, откармливает рыб святым причастием. Это перевернутая система средневековых колдуний, которые, наоборот, выбирали нечистое животное, посвященное дьяволу, например жабу, чтобы давать ему переваривать тело Спасителя».
Истинно ли мнение, наделяющее святотатственных химиков такой могучей силой? Верить ли этим заклинаниям мертвецов, покорно умерщвляющих смертоносным маслом и ядовитой кровью намеченную жертву?
Все это кажется весьма невероятным, но лишено даже некоторого оттенка безумия!
И однако! Разве не встречаются ныне, если поразмыслить, необъяснимые тайны, ожившие под другим именем, которые столько времени приписывались суеверию средневековья? Доктор Льюис переносит в госпитале Милосердия болезнь одной загипнотизированной женщины на другую. В сущности это не менее таинственно, чем изощрения чернокнижников, чем порча, напускаемая магами и колдунами. Демон, воздушный дух, в общем, ничуть не загадочнее принесшегося издали микроба, который отравляет вас и в котором вы отнюдь не сомневаетесь, разве нельзя допустить, что кишат в воздухе, подобно микробам, духи? Весьма вероятно, что атмосфера, которая заключает в себе истечения, телесные излияния, – таково электричество, – передает тончайший эфир магнетизера, внушающего, например, кому-нибудь издали прийти к нему с одного конца Парижа на другой. Наука не отрицает уже таких явлений. С другой стороны, вспрыскиваниями вытяжек кроликов и морских свинок доктор Броун-Секар возвращает юность немощным старцам, придает жизненную силу хилым. Как знать, может быть, эликсиры долгой жизни, любовные напитки, которые продавались волшебниками людям истощенным и расслабленным, были составлены из веществ похожих или однородных? Известно, что семя мужчины почти всегда употреблялось в средние века при изготовлении подобных снадобий. А разве не показал недавно после ряда опытов доктор Броун-Секар, каким могучим действием обладает это вещество, взятое у одного и введенное в тело другого?
Не прекращались, наконец, со времен древности привидения, раздвоения тел, «двуликость», говоря языком спиритизма, и древний мир страшился их. Несмотря ни на что, трудно допустить, что обманны опыты, производившиеся в течение трех лет перед свидетелями доктором Круксом. А если он действительно мог сфотографировать осязаемые, видимые отражения, то, значит, не лгали кудесники средневековья. Конечно, нам кажется это неправдоподобным, как казался всего десять лет назад невероятным гипнотизм, дающий власть одному человеку над душой другого, покоряющейся вплоть до преступления!
Верно одно: мы спотыкаемся во мраке. И справедливо заметил де Герми, что не столько важно установить могуче или бессильно действие святотатственных составов, изготовляемых бесовскими союзами, сколько убедиться в непреложном, безусловном существовании в наше время сатанинских течений, развиваемых греховными священнослужителями!
Ах! Если бы сойтись с каноником Докром, внушить ему доверие и тем хотя бы несколько приблизиться к вопросу. Сказать правду, только общение со святыми, злодеями и безумцами увлекательно, лишь беседа с ними представляет ценность.
Люди здравого смысла воплощают вечный припев томящей скуки жизни, ничтожны по самой своей природе. Они – толпа, более или менее разумная, но все же толпа, и они бесят меня! Да, но дойти к чудовищному священнику? И, мешая угли, Дюрталь мысленно ответил себе: через Шантелува, если бы захотел тот. Но, очевидно, он не хочет. Остается жена, она, наверное, посещала каноника. Расспрошу ее, узнаю, общается ли еще она с ним.
Его настроение омрачил образ госпожи Шантелув, вплетшийся в его думы. Вынул часы и пробормотал: «Что за тоска, однако! Она придет и опять предстоит... Если б только убедить ее в ненужности плотских отношений! Сомневаюсь, чтобы она была довольна – на неистовое письмо, в котором она домогалась свидания, я ответил три дня спустя несколькими сухими словами, пригласив ее сегодня вечером. Мало же проявил я лиризма, пожалуй, даже слишком мало!»
Он поднялся, посмотрел, топится ли камин в спальне, вернулся и снова уселся, не приведя на этот раз в порядок своей комнаты. Ни следа ухаживания, ни тени стеснения не замечалось в нем с тех пор, как его не влекла больше эта женщина. Он ожидал без нетерпения и не смущался тем, что на ногах у него туфли.
«В общем, единственно прекрасен был лишь тот поцелуй, которым мы обменялись с Гиацинтой у нее, возле мужа. Не встретить мне, конечно, больше такого пламени, такого аромата уст! Какой приторной стала сладость ее губ».
Госпожа Шантелув позвонила раньше обычного.
– Нечего сказать, – начала она, усевшись, – хорошенькое написали вы мне письмо!
– Как так?
– Друг мой, сознайтесь откровенно, что я надоела вам!
Он бурно отрицал, но она покачала головой.
– Подумайте, – защищался он, – в чем вы упрекаете меня? Что я послал вам короткое письмо? Но у меня сидел гость, я торопился, мне некогда было нанизывать слова! Что я не назначил вам свидания раньше? Но я не мог! Я предупреждал вас, что связь наша должна быть осмотрительной, что нельзя видеться часто. Мне кажется, я ясно изложил вам те основания...
– Очевидно, я такая глупая, что не поняла ваших оснований. Помнится, вы говорили что-то о вашем семейном положении...
– Да.
– Это немного туманно!
– Я не могу, однако, раскрыть вам всего, объяснить вам... Он остановился в раздумье, не порвать ли ему с ней под этим предлогом, не откладывая. Но вспомнил, что надеется получить через нее сведения о канонике Докре.
– Что же? Говорите.
Он покачал головой, соображая, как бы выдумка не вышла грубой или пошлой.
– Раз вы заставляете, и как это ни тяжело мне, сознаюсь вам, что у меня любовница, с которой я связан рядом лет. Прибавлю, что теперешние наши отношения – чисто дружеские...
– Согласна, – прервала она его, – что ваши семейные доводы более чем основательны.
– Подождите, – продолжал он, понизив голос, – этого мало – у меня от нее ребенок!
– У вас ребенок!.. Бедный друг мой! Она поднялась.
– Мне остается лишь уйти. Прощайте, вы больше не увидите меня.
Он сжал ее руки и, довольный выдумкой, совестясь вместе с тем за свою беззастенчивую ложь, умолял ее остаться.
Она отказалась. Он привлек ее к себе, ласкал, целовал ее волосы. Она погрузила в его глаза свои туманные зрачки.
– Пусти, – проговорила она, – дай мне раздеться!
– Нет, не надо!
– Пусти!
«Опять начинается сцена прошлого вечера», – пробормотал он, уныло опускаясь на стул. Он чувствовал, как пронизывает его неизъяснимая печаль, давящая тоска. Он разделся возле камина и сидел, греясь у огня, ожидая, пока она ляжет. В постели снова обвилось вокруг него гибкое и холодное тело.
– Так правда, значит, я здесь в последний раз?
Он не отвечал, понимая, что она вовсе не хочет разрыва, боясь сковать себя неосторожным словом.
– Скажи!
Чтобы не отвечать, он припал в поцелуе к ее шее, скрыл у нее на груди свое лицо.
– Шепни мне это в мои губы!
Он прильнул к ней, желая, чтобы она замолчала... и отпрянул разочарованный, усталый, в счастливом сознании, что исчерпалась страсть... Они лежали, и она обвила рукою его шею, терзала ему рот. Но его слабо волновали ее ласки, и не проходила печальная истома. Тогда, согнувшись, она как бы пронзила его тело... он ответил воплем страсти.
– Ах! Наконец-то слышу я твой крик! – промолвила она, вдруг выпрямляясь.
Бессильно откинулся он на спину, распростертый, истерзанный, неспособный связать двух мыслей в голове, мозги, казалось, трепещут, разрушаются в черепе. Пришел, однако, в себя, встал и, уступая ей спальню, направился одеваться в рабочий кабинет.
Полоска света, роняемая свечой, стоявшей напротив на камине, скользила между задернутыми занавесями, разделявшими оба покоя.
Проходя мимо, Гиацинта то заслоняла, то освобождала огонек свечи.
Она заговорила:
– Бедный друг мой, неужели у вас ребенок?»
Подействовало», – подумал он.
– Да, маленькая дочь.
– Сколько ей лет?
– Скоро шесть, – и он начал описывать: – Очень умная, белокурая, живая, только хрупкого здоровья. Она всегда нуждалась в усиленном попечении, требовала беспрестанных забот.
– Как печальны, должно быть, ваши вечера, – ответила она растроганным голосом из-за занавесей.
– Еще бы! Подумайте только, что станет с этими несчастными, когда я умру?
Он увлекся, кончил тем, что сам поверил в существование ребенка, проникся нежным чувством к девочке, к ее матери. Дрожал его голос, а на глазах чуть не выступили слезы.
«Да, друг мой несчастен», – подумала она, раздвигая занавеси и, одетая, входя в комнату. – Оттого-то, наверное, он даже смеется с таким печальным видом».
Он рассматривал ее. В этот миг он не сомневался в искренности ее влечения. Привязанность ее казалась неподдельной. И зачем стремится она к исступлениям плоти? Они могли бы остаться друзьями, обуздывать в себе неумеренность греха, отдаваться прелестям любви, не погружаясь в излишества тела.
Нет, это невозможно, решил он, вглядываясь в ее пепельные глаза, в хищный, истерзанный рот.
Сев за письменный стол, она играла ручкой.
– Вы работали, когда я пришла? Что ваш Жиль де Рэ?
– Подвигается, хотя я натолкнулся на препятствие. Чтобы успешно описать сатанизм средних веков, необходимо окунуться в эту среду, в крайнем случае воссоздать ее себе искусственно, узнать окружающих нас приверженцев дьявольского культа. Я думаю, что в общем душа все та же: изменились действа, цель осталась прежней. – Он пристально взглянул ей в лицо и, убедившись, что ее растрогала повесть о ребенке, откинул осторожность и объяснился:
– Ах, если бы ваш муж поделился со мной сведениями о канонике Докре!
Она сидела, не двигаясь, ничего не отвечая. Затуманились лишь ее глаза.
– Шантелув, правда, подозревает нашу связь...
Она прервала его:
– Мужу нет никакого дела до наших отношений, каковы бы ни были они. Я не сомневаюсь, что он страдает, когда я ухожу из дому. Страдал, конечно, и сегодня, догадываясь, куда я пошла. Но я не допускаю никакого права проверки ни сего стороны, ни с моей. Подобно мне, он свободен идти, куда ему заблагорассудится. Я обязана блюсти его дом, заботиться о нем, холить, любить его любовью преданной подруги, и я исполняю это от всего сердца. Но его не касаются мои поступки и, смею полагать, в равной степени и никого другого...
Голос ее звучал отчетливо, был исполнен решимости.
–Черт возьми! – воскликнул Дюрталь. – Однако вы несколько суживаете роль мужа в брачной жизни.
– Я знаю, что общество, в котором я живу, не разделяет этих мыслей, по-видимому, вы также относитесь к ним отрицательно. В первом моем браке они явились источником горя и раздоров. Но я обладаю железною волей, перед которой гнется тот, кто меня любит. Я ненавижу также ложь. Когда через несколько лет после замужества я отдалась другому, я откровенно объявила об этом мужу, созналась пред ним в своей вине.
– Смею спросить, как отнесся он к подобному признанию?
– Он так мучился, что в одну ночь его волосы поседели. Он не смог примириться с тем, что ошибочно, по-моему, называл изменой, и покончил самоубийством.
– А!.. – заметил Дюрталь, изумленный спокойным, решительным видом этой женщины. – Но если б он сначала задушил вас?
Она пожала плечами и сняла волосок кошки, приставший к и платью.
– Значит, – продолжал он, помолчав, – вы теперь почти свободны, ваш второй муж терпит...
– Оставьте, прошу вас, в покое моего второго мужа. Он прекрасный человек и заслуживает лучшей жены, чем я. Мне решительно не в чем упрекнуть Шантелува, и я люблю его как могу. И, знаете, поговорим лучше о чем-нибудь другом. Довольно, у меня из-за этого вопроса неприятностей с духовником, который воспретил мне причащаться святых тайн.
Он наблюдал ее, видел перед собой новую Гиацинту, женщину своевольную и жестокую, не известную ему с этой стороны. Когда она рассказывала о самоубийстве первого мужа, он не уловил в облике ее ни единой черточки волнения, ни малейшего намека на сознание своей вины, от нее веяло неумолимостью, а всего несколько мгновений перед тем, поверив выдумке Дюрталя, что он отец, она жалела его, он ощущал ее взволнованный трепет. А что если она только разыгрывала комедию, думал он, как я сам!
Его изумил неожиданный оборот их разговора. Он искал предлога снова свести беседу на занимавший его вопрос, от которого отдалилась Гиацинта, – о сатанизме каноника Докра.
– Выкинем это из головы... – оборвала она, приблизившись, и, улыбаясь, опять превратилась в женщину, которую он знал раньше.
– Но если из-за меня вы лишены причастия...
Она прервала его.
– Вы жалуетесь, что вас не любят? – и она закрыла поцелуями его глаза.
Он из учтивости сжимал ее в своих объятиях, но, почувствовав, как она дрожит, благоразумно отстранился.
– Так у вас суровый исповедник?
– Он человек непреклонный, старого закала. Я выбрала его намеренно.
– А мне кажется, что на месте женщины я избрал бы себе, наоборот, духовника ласкового и податливого, который не бередил бы грубыми пальцами сокровенные царапины моих грехов. Я хотел бы видеть его терпимым, смягчающим тяжесть покаяния, нежнейшими жестами выманивающим признания. Правда, при таких условиях подвергаешься опасности влюбиться в духовника, а так как и он в свою очередь не слишком тверд, то...
– Это кровосмешение, не забывайте, что исповедник – отец духовный! Мало того, на священнике почиет благодать. И, следовательно, это святотатство. О! Как безумствовала я! – в порыве внезапного волнения воскликнула она, отвечая своим мыслям.
Дюрталь наблюдал. Искорки зазмеились в ее странных близоруких глазах. Не подозревая, он, очевидно, обнажил самую сердцевину ее порока.
– Скажите, – он усмехнулся, – по-прежнему обманываете вы меня с моим призрачным двойником?
– Не понимаю вас.
– Посещает вас по ночам инкуб, который на меня похож?
– Нет, меня вовсе не тянет вызывать образ ваш с тех пор, как я обладаю вашим телом, вашей живой плотью.
– Вы восхитительное олицетворение сатанизма!
– Возможно... я близко знала стольких священников!
– Я одобряю вас! – ответил он с поклоном. – Но будьте ко мне благосклонны, дорогая Гиацинта, ответьте, прошу вас: знаете вы каноника Докра?
– Если хотите – да!
– Расскажите, каков человек этот, о котором я столько слышу!
– От кого?
– От Гевенгэ и де Герми.
– А! Вы знакомы с астрологом. Да, раньше он встречался с Докром у меня, но я не подозревала о сношениях каноника с де Герми, который в то время не бывал у нас.
– Они совершенно незнакомы. Де Герми ни разу не видел даже каноника. Знает его лишь по рассказам Гевенгэ.
Скажите, истинны ли все обвинения в святотатствах, возводимые на этого священника?
– Не знаю. Докр блестящий человек, высокоученый, хорошо воспитанный. Был даже духовником некоей особы королевской крови, и не выйди он из духовного звания, конечно, достиг бы епископского сана. Я слышала о нем много худого, но в клерикальном мире столько сплетен!
– Значит, вы знали его лично?
– Да, он был даже моим духовником!
– Но если так, немыслимо, наконец, чтобы вы не разгадали его!
– Допустим. Но у вас что-то на уме. Объясните откровенно, что хотите вы узнать?
– Все, что вы соблаговолите доверить мне. Молод ли он, красив или безобразен, беден или богат?
– Ему сорок лет, у него привлекательная наружность, он тратит много денег.
– Верите вы, что он предается колдовству, служит черную мессу?
– Весьма возможно.
– Простите, мои расспросы так настойчивы, что точно щипцами исторгаю я из вас слова. Не пеняйте, что я так нескромен... ваша способность к инкубату...
– Вы угадали. Я обязана этим ему. Надеюсь, вы теперь довольны?
– И да, и нет. Безмерно благодарю вас за ответы. Я чувствую, что злоупотребляю вашей добротой, но еще последний вопрос. Не укажете ли вы путь, который даст мне возможность лично видеть каноника Докра?
– Он в Ниме.
– Простите, он сейчас в Париже.
– Ах, вы знаете... но будьте покойны: если б даже такой путь был известен мне, я бы не навела вас на него.
Общение с этим священником не даст вам ничего хорошего!
– Вы считаете его опасным?
– Я не утверждаю этого и не отрицаю. Я просто говорю, что им совершенно ни к чему видеть каноника!
– Не думаю. Я намерен просить у него разъяснений для моей книги о сатанизме.
– Вы почерпнете их из другого источника. Притом же, – продолжала она, надевая перед зеркалом шляпу, – муж мой давно уже чувствует ужас перед этим человеком и прекратил с ним всякие сношения. Он не бывает у нас как раньше.
– Да, но это не довод, чтобы...
– Что?.. – спросила она, обернувшись.
– Что... нет ничего, – и он досказал мысленно: «Чтобы вы не встречались с ним».
Она не настаивала, оправляла под вуалью волосы: «Бог мой, на кого я похожа!» Он взял ее руки, поцеловал их.
– Когда я увижу вас?
– Я не приду больше.
– Нет, это невозможно. Вы прекрасно знаете, что я люблю вас, милый друг. Скажите, когда я увижу вас?
– Послезавтра, если вам удобно.
– Вполне.
– Итак, до свидания, – они поцеловались. – А главное, не мечтайте о канонике Докре. – И, уходя, она погрозила ему пальцем.
«Унеси тебя дьявол со всеми твоими недомолвками», – думал он, запирая дверь.
XV
Если пораздумать, размышлял на другой день Дюрталь, что в тот миг, когда ломается упорнейшая воля, я устоял, не поддался настояниям Гиацинты, ее стремлению обосноваться здесь, а после, когда утомилось тело, когда собирается обычно с силами расслабленная воля, я сам молил ее продолжать наши свидания. Как это странно! Неизменным, в сущности, оставалось мое твердое решение покончить нашу связь. Но не мог же я выбросить ее, как девку, мысленно оправдывал он свое непоследовательное колебание. Притом я надеялся получить от нее сведения о канонике. Этот вопрос, однако, еще не исчерпан. Нужно, чтобы она заговорила откровенно, не отделывалась, как вчера, словечками или скрытными фразами!
Во что могли вылиться отношения ее с этим аббатом, бывшим ее духовником и, по собственному же ее признанию, ввергнувшим ее в инкубат? Несомненно, что она была его любовницей. Любопытно, сколько пережила она других любовных связей с духовными, с которыми встречалась? У нее вырвалось признание, что ее влечет к священникам!
Ах! Сколько занятных подробностей можно было бы услышать о ней и ее муже, вращаясь в клерикальном мире.
Не совсем понятно, почему ходит такая дурная слава о Шантелуве, роль которого в их брачном союзе довольно загадочна, и молва совершенно не коснулась его жены. Никогда не слыхал я ни слова об ее приключениях. Впрочем, какой я недогадливый! Ничего нет удивительного. Муж не замкнулся в религиозных и светских кругах. Он трется около писателей, естественно, что на него изливается злословие, а она выбирает, наоборот, своих любовников в благочестивых кругах, недоступных никому из моих знакомых. Наконец, аббаты люди крайне осторожные... Но тогда чем объяснить ее появление у меня? Да просто тем, что ей, очевидно, надоели рясоносцы. Она выбрала меня, чтобы развлечься, наскучив однообразием черных чулок. Я для нее мирское утешение!
Пусть так, но она не менее от этого загадочна. Чем чаще вижу ее, тем меньше понимаю. В ней три разных человека. Во-первых, замкнутая, почти надменная женщина, какую привык я встречать в гостиной. В интимной обстановке она становится милою подругой, любящей и даже нежной. Затем страстная женщина. Лежа с любовником, она вся перевоплощается, у нее появляются голос и манеры девки, захлебывающейся в грязи, утратившей всякую стыдливость. И наконец, вчера я увидел у нее еще третье лицо – безжалостную хищницу, женщину демоническую и жестокосердную.
Как сочетается и уживается в ней это? Не знаю. Очевидно, она пропитана притворством... Впрочем, нет, иногда она способна обезоружить своей искренностью. Правда, может быть, это лишь мимолетные вспышки, мгновенное забвение. Но зачем мне ломать голову, разгадывая характер этой благочестивой сладострастницы! В общем, страхи мои не сбылись. Она не просит выезжать с ней и не заставляет меня обедать у них, не облагает данью, не проявила себя более или менее двусмысленной искательницей приключений, которая требует услуг. Лучшей любовницы мне не найти. Да, но, сказать правду, всего милее мне теперь одиночество, я был бы вполне доволен, предоставив уходу наемных рук вспышки моей плоти. За двадцать франков я откупался бы от самых жестоких бурь! Говоря откровенно, лишь девки умеют насытить нашу похоть!..
Мысль его оборвалась и вдруг устремилась к новому предмету: странно, что, несмотря на всю огромность расстояния, в Жиле де Рэ, как и в ней, также живли три разных существа.
Сначала он воин доблестный и набожный.
Потом художник, изысканный и жестокий.
И наконец, раскаивающийся грешник-мистик.
Когда созерцаешь панораму его жизни, находишь возле каждого порока противоречащую добродетель. И нет видимой, связующей последовательности их.
Он, отличаясь буйной гордыней, безмерным высокомерием, опустился на колени пред народом, смиренно плакал, обуреваемый раскаянием, проникшись уничижением святого.
Жестокость его превосходила пределы человеческого разумения, и одновременно он был милосердным, обожал своих друзей, ухаживал за ними точно брат, когда их поражал демон. Не знал удержу своим страстям и обладал терпением. Доблестный в битвах, он панически отступал перед неземным, самовластный и неукротимый, смягчался похвалой приспешников-льстецов. Он то парит на вершинах, то падает в пропасти, но ему чужда плоская равнина, однообразная обыденность души! Признания его ничуть не разрешают этого постоянного противоречия. На вопрос, кто внушил ему мысль о подобных злодеяниях, он отвечает: «Никто. Меня привело к ним лишь собственное мое воображение. Замыслы эти я почерпнул в себе, в моих мечтаниях, в моих обычных забавах, в моем влечении к распутству».
И он сетует на свою праздность, упорно твердит, что утонченные трапезы, обильные возлияния пробудили в нем склонность к преступлению.
Чуждый тусклых развлечений, он возгорается попеременно в добре и зле и погружается, склонив голову, в противоположные пучины духа. Умирает тридцати шести лет, иссушив приливы необузданного сладострастия, испытав отливы неисцелимых страданий. Он обожал смерть, любил как вампир, целовал запечатленное выражение несказанного ужаса и муки, и наряду с этим его гнела неумолимая совесть, терзали ненасытные страхи. Нечего было уже ему изведать здесь, на земле, не к чему стремиться.
Я расстался с ним, думал Дюрталь, просматривая свои заметки, в тот миг, когда начинается искупление. В одной из предшествующих глав я писал, что жители деревень, подвластных замкам маршала, раскрыли таинственное чудовище, похищающее и умерщвляющее их детей. Никто не осмеливается, однако, возвысить голос. И когда выплывают где-нибудь на повороте дороги мощные очертания хищника, все убегают, укрываются за плетни, запираются в хижинах.
Мрачный и надменный проходит Жиль по пустыне замерших, безлюдных деревень. Ничто не грозит, по-видимому, его безнаказанности. Не настолько безумны крестьяне, чтобы бороться с властелином, который может вздернуть на виселицу при малейшем слове возмущения.
Но если не посягнут напасть на него смиренные, то, с другой стороны, равные ему не намерены биться с ним из-за презренной черни. А сюзерен, герцог Бретонский Иоанн V, ласкает и жалует его в надежде получить за бесценок его земли.
Единственная сила, стоявшая над феодальными властями, над людской корыстью, – церковь – могла восстать и отомстить за слабых и угнетенных. И, действительно, мы знаем, что в лице Жана де Малеструа она поднялась на чудовище и одолела его.
Жан де Малеструа, епископ Нантский, происходил из славного рода. С Иоанном V его связывали узы близкого родства, а за свое несравненное благочестие, постоянную мудрость, ревностное милосердие, непогрешимую ученость он пользовался уважением самого герцога.
До него дошли рыдания опустошаемых Жилем селений. Молча приступил он к расследованию, следил за маршалом, замыслил начать борьбу, как только представится возможность.
Дерзнув вдруг на необъяснимое насилие, Жиль дал тем повод епископу открыто выступить против него, нанести решительный удар.
Чтобы поддержать свое пошатнувшееся состояние, Жиль продает сеньорию Сэн-Этьен де Мер Морт некоему подданному Иоанна V Гильому ле Феррону, и тот посылает брата своего Жана вступить во владение поместьем.
Несколько дней спустя маршал снаряжает из числа своих воинов отряд в двести человек и направляется во главе их к Сэн-Этьену. Там, в день Пятидесятницы, грозя оружием, врывается в храм, полный народа, сошедшегося к обедне, и по единому мановению его руки расступаются пред ним в смятении ряды верующих.
Пред лицом потрясенного священника угрожает он смертью стоявшему на молитве Жану ле Феррону, прерывает богослужение, и присутствующие спасаются бегством. Жиль волочит в замок ле Феррона, который молит о пощаде, приказывает опустить подъемный мост и силой завладевает укреплением. Пленника увозят между тем в Тиффож и ввергают в подземную темницу.
Этим он преступил обычное бретонское право, воспрещавшее сеньору выступать с войском без согласия герцога, и одновременно содеял двойное святотатство, надругавшись над святостью храма и учинив насилие над Жаном ле Ферроном – духовным клерком, входившим в состав иерархии церкви.
Узнав об учиненном преступлении, епископ склоняет наконец все еще колеблющегося Иоанна V двинуться против мятежника. Один отряд нападает тогда на Сэн-Этьен, и Жилк покидает замок, скрывшись вместе со своим малочисленным войском в укрепленное поместье Машекуль. Второй отряд осаждает Тиффож. Прелат собирает тем временем улики, ускоряет следственное производство. Развертывает деятельность чрезвычайную. Посылает комиссаров и уполномоченных во все селения, где исчезали дети. Покидает свой нантский дворец, сам объезжает деревни, собирает показания жертв. Решается, наконец, заговорить народ, на коленях он молит святителя о покровительстве, и, возмущенный обнаруженными им жестокими злодействами, клянется епископ, что свершится правосудие.
Месяца было довольно для окончания всех следственных допросов. Публично возвещает Жан де Малеструа грамотою «infamatio» Жиля и по соблюдению всех уставных требований канонического судопроизводства издает приказ об аресте.
В этом указе, составленном в виде пастырского послания и данном в Нанте 13 сентября в лето от рождения Спасителя 1440, он перечисляет приписываемые маршалу преступления, потом увещевает духовных чад своей епархии выступить против злодея, обезоружить его.
«А потому повелеваем мы вам настоящим нашим посланием, всем вам и каждому из вас в отдельности, не медля и без колебаний, не полагаясь друг на друга, не рассчитывая на старания других, призвать на суд наш, на установленный суд соборной вашей церкви в четверг, 19 сентября, в день праздника Воздвижения Святого Креста, Жиля, благородного барона де Рэ, подвластного нашему могуществу и подсудного нашим учреждениям, равно как призываем мы сами его в настоящем нашем указе предстать пред правосудие наше и ответствовать за тяготеющие над ним преступления. Исполните приказание наше, и да потщится исполнить его всякий из вас».
На следующий же день капитан конной стражи Жан Лобе, действующий именем герцога, и облеченный епископскими полномочиями Робэн Гильоме – нотариус – показываются под охраной небольшого отряда перед замком Машекуль.
Что творилось в это время в душе маршала? Имея слишком малочисленный отряд, чтобы устоять в открытом поле, Жиль мог тем не менее защищаться за укрывавшими его стенами, но он, однако, сдается. Бежали его всегдашние советчики Роджер де Бриквиль, Жиль де Силле. Он остался вдвоем с Прелати, тщетно пытавшимся спастись.
Обоих их заковывают в цепи. Робэн Гильоме обыскивает крепость сверху донизу, находит обгорелые кости, пепел, который Прелати не успел развеять в отхожие места и рвы.
Под градом проклятий и воплей ужаса ведут Жиля и слуг его в Нант и заточают в замок Новой Башни.
Все это, в общем, довольно туманно, размышлял Дюрталь. Если верны наши прежние сведения, изображающие маршала смелым храбрецом, то как примириться с тем, что он выдал свою голову, не оказав ни малейшего сопротивления?
Или изнежили, сломили его развратные ночи, подточили чудовищные утехи святотатства, подавили и растерзали муки совести? Утомился ли он такой жизнью и предался на волю судьбы, жаждя кары подобно многим злодеям? На это нет ответа. Или убежден был, что высокое положение его обеспечит ему неуязвимость? Или, наконец, рассчитывая на продажность герцога, надеялся обезоружить его подкупом в виде поместий и лугов?
Все допустимо. Ничего также нет невероятного в том, что он знал, как, страшась раздражить дворянство герцогства, колебался Иоанн V, прежде чем внять доводам епископа, двинув против маршала войска, окружить и схватить его.
Несомненно одно, что источники обходят вопросы эти молчанием. Худо ли, хорошо ли, но я, в общем, уложу их в свою книгу, думал Дюрталь. Но теперь предо мной встает сам процесс; по-своему, с точки зрения уголовного судопроизводства, не менее туманный и трудно объяснимый.
Два отдельных судилища образуются тотчас же, по заточении в тюрьму Жиля и его сообщников. Одно духовное, для суда над преступлениями, подлежащими ведению церкви, и другое светское, для суждения о злодеяниях, подсудных власти государства.
Светские судьи, в сущности, почти не участвуют в разрешении этого процесса. Ради соблюдения формы они назначают проверочное расследование и выносят смертный приговор, от которого церковь воздерживается.
Судопроизводство духовное продолжалось один месяц и восемь дней, а судилище светское исчерпало все свои действия в сорок восемь часов.
Желая, видимо, укрыться от нападок, за спиной епископа герцог Бретонский охотно преуменьшил значение правосудия светского, обычно более ретиво оборонявшегося от притязаний епископата.
Жан де Малеструа председательствовал на заседаниях. Асессорами он пригласил епископов Майского, Сен-Брие и Сен-Ло. Окружил себя многими юристами, которые сменяли друг друга в бесконечной волоките заседаний. Имена большинства их сохранились в актах судопроизводства: адвокат гражданского суда Гильом де Монтинье, бакалавр Жан Бланше, лиценциаты in utroque rare Гильом Гройге и Роберт де Ла Ривьер, Герве Леви, сенешаль Кинперский. Жану де Малеструа помогает Пьер де Гопиталь, канцлер бретонский, председательствовавший на судоговорении светском после суда канонического.
Духовным фискалом, несшим в те времена обязанности прокурора, был Гильом Шапейрон, настоятель храма св. Николая, муж красноречивый и начитанный. Чтобы облегчить оглашение документов, ему назначили помощников в лице Гоффтруа Пипрэра – декана св. Марии и Жака Пенткэтдика, духовного судью Нантской епархии.
Наконец, церковь образовала наряду с правосудием епископским чрезвычайный инквизиционный трибунал для суждения о преступлениях еретических, под которые подводились клятвопреступление, богохульство, святотатство, все злодеяния чернокнижия.
Он заседал рядом с Жаном де Малеструа в лице грозного и ученого Жана Блуэна из ордена святого Доминика, уполномоченного великим французским инквизитором Гильомом Мериси М отправление должности наместника инквизиции в городе Нанте и Нантской епархии.
В означенном составе открыло судилище свое первое заседание. Оно началось ранним утром, так как обычай того времени требовал, чтобы и судьи, и свидетели приступали к Судоговорению натощак. По заслушании показаний родителей жертв Робэн Гильоме, исправлявший обязанности судебного пристава, – тот самый, который схватил маршала в Машекуле, – огласил предписание, обращенное к Жилю де Рэ, предстать на суд. Ввели маршала, и он объявил презрительно, что не признает себя подсудным трибуналу. Но заявление о неподсудности немедленно опроверг фискал по установлениям канонического судопроизводства, – «чтобы не восторжествовало таким путем колдовство», – и, назвав его «вздорным», предложил судилищу продолжать рассмотрение дела. Получив согласие трибунала, он предъявил обвиняемому пункты тяготевшего над маршалом обвинения. Жиль закричал, что фискал – предатель и лжец. Простирая к Христу руки, поклялся тогда Гильом Шапейрон, что говорит правду, и пригласил маршала принести такую же клятву. Но человек этот, не отступавший ни перед какими святотатствами, смутился, не решаясь ложно поклясться перед Господом, и заседание прервали под исступленные крики маршала, осыпавшего фискала поношениями.
Через несколько дней после этого выступления начинается публичное разбирательство. Прочитываются громко пред обвиняемым и трепещущим народом статья за статьей обвинительного акта, и терпеливо перечисляет фискал одно за другим преступные деяния, предъявляет маршалу обвинения в осквернении и умерщвлении детей, в действах колдовства и чернокнижия, в нарушении неприкосновенности церкви, учиненном им в Сэн-Этьене де Мер Морт.
Затем продолжает после перерыва свою речь и, обходя содеянные маршалом убийства, останавливаясь лишь на преступлениях, которые призвана осудить согласно каноническому праву церковь, он требует, чтобы поразила Жиля кара двойного отлучения: во-первых, как заклинателя демонов, еретика, вероотступника и апостата и как содомита и святотатца, во-вторых.
Жиль неистовствует, выслушав обвинительный акт, прямой и жестокий, резкий и многоречивый. Поносит судей, называет их продажными развратниками, отказывается отвечать на предлагаемые ему вопросы. Фискал и асессоры этим, однако, не смущаются, приглашают его представить оправдания. Снова отвергай он подсудность, оскорбляет судей, но безмолвствует, когда у него требуют опровержений.
Епископ и наместник инквизиции объявляют тогда, что будут судить его как бы заочно и произносят кару отлучения, постановляя ее немедленное обнародование. Затем откладывают разбирательство до следующего дня...
Звонок прервал думы Дюрталя, погруженного в чтение своих заметок. Вошел де Герми.
– Я иду навестить Карэ, он болен.
– Что с ним?
– Ничего тяжелого, легкий бронхит, встанет через два дня, если согласится полежать спокойно.
– Я завтра зайду к нему, – сказал Дюрталь.
– Что поделываешь? – расспрашивал его де Герми. – Работаешь?
– Да, разбираюсь в процессе благородного сеньора де Рэ. Описывать это не менее утомительно, чем читать.
– Когда предполагаешь закончить книгу?
– Не знаю, – отвечал Дюрталь, потягиваясь. – Представь себе, мне не хотелось бы ее кончать. Что станется тогда со мной? Я буду обречен на поиски нового сюжета, буду томиться, раздумывая над завязкой, над несносным построением начальных глав. Переживу надоедливое бремя пустоты. Если поразмыслить, то у литературы единственный смысл: уводить творцов своих от скуки жизни!
– И милосердно облегчать скорбь немногих, все еще любящих искусство!
– Но их так мало!
– И, заметь, число их уменьшается. Юное поколение не влечет ни к чему, кроме азартных игр и спорта!
– Да, ты прав. В наши дни люди играют и перестали читать. Покупают книги, создают им провал или успех так называемые светские женщины. И значит, «госпоже», как выражался Шопенгауэр, – я скорее сказал бы маленькой гусыне, – обязаны мы тепловатыми, клейкими, жидкими романами, которые утопают сейчас в похвалах! Мало хорошего сулит это литературе будущего. Чтобы нравиться женщинам, естественно, надо воспроизводить пережеванные, пустые мысли обветшалым языком. – Помолчав, Дюрталь продолжал: – Быть может, это к лучшему: немногих истинных художников, которые еще уцелели, это избавляет от помыслов о публике. Они живут и работают вдали от гостиных, вдали от суеты закройщиков литературы. Им уготована лишь одна настоящая досада – видеть напечатанное творение выставленным напоказ пачкающему любопытству толпы!
– Я нахожу это, – заметил де Герми, – подлинной проституцией. Выпустить книгу для продажи – значит добровольно обесчестить ее грубостью первого встречного, осквернить, допустить насилие над лучшей частицей самого себя!
– Да. Нужда в презренных деньгах да наше закоренелое самолюбие мешают нам укрывать рукописи от грубой черни. Подобно любимой женщине, искусству следовало бы витать за пределами досягаемости, в далеком пространстве. Наряду с молитвой искусство – единственное достойное утешение души! И когда выходит в свет моя книга, я покидаю ее с ужасом. По возможности отдаляюсь от прохождений ее житейского пути. Меня начинает тянуть к ней лишь через годы, когда она исчезнет со всех витрин, как бы умрет. Вот почему не спешу я кончить повесть о Жиле, но на мое горе она подходит все-таки к концу. Судьба, предназначенная ей, мне безразлична, и я совершенно забуду о ней, как только она увидит свет!
– Слушай, ты не занят сегодня вечером?
– Нет, а что?
– Хочешь обедать вместе?
– Хорошо!
И пока Дюрталь одевался, де Герми продолжал:
– Всего больше поражают меня в современном так называемом литературном мире особенности его лицемерия и пошлости. Сколько бесстыдства, например, укрывается в слове «дилетант»!
– Конечно, оно пролагает путь самыми обильными проявлениями убожества. Но еще удивительнее, что ни один критик, с похвальбой объявляющий себя дилетантом, не подозревает, что тем самым он дает себе пощечину. Я рассуждая так: дилетант лишен личного влечения, он ничто не ненавидит, любит все. А у кого нет личного влечения, у того нет таланта.
– Значит, всякий писатель, – досказал, надевая шляпу, де Герми, – который кичится, что он дилетант, этим признает свое ничтожество!
– Нет, каково!
XVI
Вечерело. Дюрталь прервал свою работу и направился на башню св. Сюльписия.
Карэ он застал в комнате смежной с той, которая обычно служила им столовой. В обеих комнатах были одинаковые сводчатые потолки, те же каменные стены, лишенные обоев. Спальня казалась еще мрачнее.
Овальное окно выходило не на площадь св. Сюльписия, но к заднему фасаду храма, крыша которого давала тень. Мебель кельи состояла из железной кровати, снабженной пружинным матрацем и тюфяком, двух камышовых стульев, стола, покрытого старым ковром. На голой стене виднелось простое Распятие, украшенное сухим буксусом. Этим ограничивалось все убранство.
Карэ полулежал в кровати, просматривая книги и бумаги. Лицо звонаря было бледнее, чем всегда, глаза стали еще водянистее. Седеющая щетина на давно не бритых впалых щеках. Но ласковая улыбка придавала его изможденным чертам впечатление сердечности, скрашивала их своеобразной привлекательностью.
На расспросы Дюрталя он отвечал:
– Пустяки. Де Герми позволил мне завтра встать. Но что за отвратительное снадобье! – и он указал на питье, ложку которого принимал каждый час.
– Что вы принимаете? – осведомился Дюрталь.
Звонарь не знал. Очевидно, чтобы не вводить его в расходы, де Герми сам принес склянку с лекарством.
– Скучно вам лежать?
– Подумайте! Мне пришлось доверить мои колокола совершенно негодному попечению. Ах, если б слышали вы теперь их звон! Знаете, я весь дрожу, задыхаюсь.
– Не порть себе кровь, – заметила жена. – Через два дня ты опять сможешь звонить в твои колокола!
Но он не переставал сетовать.
– Вам не понять этого. Колокола тоже привыкают к хорошему уходу. Подобно животным, орудия звона послушны лишь хозяину. Теперь они трезвонят, бредят, голосят вразброд. Я едва могу различить отсюда их голоса!
– Что вы читаете? – спросил Дюрталь, желая переменить слишком волновавший Карэ разговор.
– Да все то же! Посвященные колоколам книги. Ах, послушайте, Дюрталь, я натолкнулся на надписи редкой красоты. Слушайте, – и он открыл книгу, перерезанную закладками,– какое изречение отлито на бронзовой одежде большого колокола в Шаффузе: «Я призываю живых, плачу по мертвым, укрощаю молнии». Или еще одно, красовавшееся на древнем набатном колоколе нантской колокольни: «Имя мое Роланд. Благовест мой знаменует пожар, звон означает бурю во Фландрии».
– Да, в этом чувствуется сила, – согласился Дюрталь.
– Еще бы! Зато в наше время богачи надписывают на жертвуемых ими церквам колоколах свои имена и звания. Но у них столько титулов и званий, что не остается места изречениям. Да, современность не может похвалиться своим смирением!
– Если бы ей не хватало только смирения! – вздохнул Дюрталь.
– Да, если б одно это, – продолжал Карэ, всецело унесшись в мир колоколов. – Но они страдают теперь от бездействия, ржавеют, металл не обогащается благозвучной ковкостью, не способен к тонким переливам. Встарь беспрерывно пели эти достойные приспешники богослужебного чина, звоном славили уставные часы: утреню и часы перед восходом солнца; час первый на рассвете, час третий в девять, сексты в полдень, ноны в три после полудня и, наконец, вечерню с повечерием. Теперь возвещают звоном обедню настоятеля, три ангелуса – утренний, полуденный, вечерний, иногда вечернюю молитву и, наконец, по известным дням несколько перезвонов сопровождают установленные обряды – и только. Колокола бодрствуют лишь в монастырях, только там сохранились ночные службы!
– Перестань, успокойся, – остановила жена, подкладывая ему за спину подушку. – К чему так волноваться, тебе это вредно!
– Ты права, – ответил он покорно. – Но что поделаешь с таким неисправимым бунтовщиком, с таким нераскаянным грешником, как я!
И звонарь улыбнулся жене, подававшей ему ложку микстуры.
Раздался звонок. Жена Карэ пошла отпереть и ввела благодушного, румяного священника, который зычным голосом кричал:
– Я задыхаюсь! что за лестница! точно восхождение в рай! – И, отдуваясь, он повалился в кресло. – Как ваше здоровье, друг мой? Я услышал от сторожа, что вы больны, и пришел навестить вас.
Дюрталь испытующе осмотрел его. Неуловимым весельем дышало жизнерадостное лицо и синевшие от бритья щеки. Карэ познакомил их. На недоверчивый поклон священника Дюрталь ответил холодным приветствием.
Он чувствовал себя стесненным излияниями звонаря и его жены, которые, воздев руки, благодарили аббата за приход. Очевидно, что, хотя для четы Карэ не были тайной святотатственные или обыкновенные, пошлые страсти духовенства, все же в глазах мужа и жены каждый духовный являлся человеком избранным, стоял на недосягаемой высоте по сравнению со всеми остальными.
Он распрощался и, спускаясь, подумал: этот торжествующий священнослужитель внушает мне ужас. Веселый священник, врач, писатель обладают, без сомнения, душой презренной, так как именно они подходят вплотную к человеческим страданиям, утешают, врачуют или описывают их! Что не мешает иногда, однако, невеждам сетовать, что истинный, выношенный, основанный на наблюдениях роман печален, как отраженная им жизнь. В своем низменном себялюбии они хотели , чтобы веселый, нарумяненный, шутливый, он приносил забвение от задевающей их житейской скорби!
Пусть так, и все же, какие необычные люди Карэ с женой!
Они преклоняются пред отеческим самовластием священников, благоговейно обожают их. Что ж, бывают мгновения, когда это не кажется забавным. Но их верующие души непорочны и смиренны! Я не знаю аббата, который сидел у них, но он толст и румян, чуть не лопается от жира, радостно настроен. Точно досадное пятно воспринимаю я веселье в облике святого Франциска Азисского и, невзирая на пример святителя, не в силах вообразить себе этого церковника возвышенным. Говоря правду, ему же лучше, что он посредственность. Как могла бы паства разуметь его, если бы он был иным? Его ненавидели бы, конечно, сотоварищи, преследовал бы епископ, если б судьба создала его человеком выдающимся!
Погруженный в беспорядочные думы спустился Дюрталь к подножию башни. На паперти он остановился: «Я пробыл наверху меньше, чем думал. Сейчас всего половина шестого. До обеда надо убить по крайней мере полчаса».
Погода стояла довольно мягкая, снег сошел, и, закурив папиросу, Дюрталь не спеша прогуливался по площади. Запрокинув голову, отыскал он окно звонаря. Своею занавесью выделялось оно среди других овалов, протянувшихся цепью над перроном. «Какое чудовищное сооружение! – размышлял он, рассматривая церковь.
– Как подумаешь, что четырехугольник этот, обрамленный двумя башнями, осмеливается воспроизводить фасад Собора Богоматери! Что за дурман!» – мысленно воскликнул он, углубившись в созерцание подробностей. Паперть связана со вторым этажом дорическими колоннами. Между вторым и третьим – ионические колонны с завитками. Наконец, башня от основания и до вершины украшена коринфскими колоннами с листьями аканта. Какое смешение языческих стилей во всем храме! Убором этим облекла одну лишь башню, ту, в которой висят колокола. Другая не докончена и менее безобразна, просто – старая труба! И пять ил и шесть архитекторов воздвигали эту жалкую груду камня! Правда, Сервандони и Оппенорды в те времена олицетворяли собой Иезекиилей зодчества, были подобны истинным пророкам. Своим творчеством они опередили XVIII век, угадали последующее. Пред нами здесь пророчество из камня, попытка олицетворения будущих железнодорожных станций, созданная во времена, не ведавшие железных дорог.
Св. Сюльписий не храм, нет, это – вокзал!
Внутри памятник также нисколько не религиозен и не художествен. Мне нравится только воздушный склеп славного Карэ! Дюрталь осмотрелся вокруг. Площадь довольно безобразна, но как веет от нее провинциальной задушевностью! Без сомнения, ничто не сравнится уродством с этой семинарией, источающей холодный, прогорклый запах госпиталя. Далек от совершенства и фонтан с многоугольной чашей бассейна, с вазами, напоминающими суповые миски, с увенчивающими желоб львами, с прелатами в нишах. А эта Мадонна, наводящая тоску своим казенным стилем! Но, в общем, площадь вместе с прилегающими к ней улицами Сервандони, Гарансьер, Феру дышет безмолвным благодушием, елейной важностью. Она напоминает забытую афишу, курится слабым ароматом ладана. Площадь превосходно согласуется с домами смежных старинных улиц, с благочестивыми ремеслами квартала, мастерскими икон и дароносиц, религиозными книжными лавками, торгующими книгами в обложках коричневого, сероватого, мускатного или сиреневого цветов!
Да, здесь ощущаешь ветхость и безмолвие. Площадь была почти пуста. Несколько женщин поднимались по ступеням паперти мимо нищих, которые бормотали «Отче наш», позванивая в чашечках грошами. Дамам с белесыми глазами кланялся духовный, держа под мышкой книгу, переплетенную в черное сукно. Скакали собаки. Бегали друг за другом и прыгали через веревочку дети. Проехали почти пустыми огромный шоколадного цвета омнибус де ла Виллет и маленький желто-медного цвета линии Отэйль. На тротуаре близ будки кучка извозчиков болтала около экипажей. Было бесшумно и безлюдно, и зеленели деревья, как на тихом пригородном гульбище.
«Когда потеплеет и станет яснее, я поднимусь как-нибудь на колокольню», – думал Дюрталь, снова углубившийся в созерцание церкви. Но сейчас же покачал головой. К чему? Париж хорош был с птичьего полета в средние века, но не теперь! Не лучше, чем с вершин других башен, развернется передо мной столпотворение серых улиц, прорезанных белеющими артериями бульваров, испещренных зелеными пятинами садов и скверов, а вдали протянутся цепи домов, похожих на выставленные рядами кости домино с чернеющими точками окон.
Тонут в груде жалких памятников позднейшего происхождения здания с резко очерченным силуэтом в этой трясине крыш: Собор Богоматери, св. Капелла, св. Северин, св. Етьен на горе, башня св. Иакова. И нисколько не хочется мне созерцать рядом с ними такой образец искусства галантерейных торговок, как Оперу или арку Победы, напоминающую дугу моста, или, наконец, полый подсвечник Эйфелевой башни!
Достаточно нагляделся я на них в отдельности на мостовой внизу, на поворотах улиц.
Не пора ли обедать? Сегодня свидание с Гиацинтой, и мне раньше восьми следует быть дома.
Он зашел в гастрономическую лавку неподалеку и в опустевшем к шести часам зальце спокойно мог вслушиваться в свои мысли, поедая старую, не испортившуюся говядину, запивая ее искусно подкрашенным вином. Размышлял о госпоже Шантелув, но главным образом о канонике Докре. Все чаще стал он задумываться над таинственным священником. Что творилось в мозгу этого человека, приказавшего вытатуировать на своих подошвах распятие, чтобы всегда попирать его? Какая раскрывалась в этом ненависть! Негодовал ли он, что не дарованы ему блаженные восторги святого, или питалась горечь его источником более низменным, и он досадовал, что не достиг верховных степеней священства? Безмерная гордыня и необузданная злоба владели, конечно; этим служителем церкви. В стремлении самоутверждения он не огорчался даже тем, что внушает людям отвращение и страх. Как захлебывается, наверное, в наслаждении душа, излюбившая злодейство, именно таким казался каноник, истомляя в муках врагов своих при помощи безнаказанного колдовства!
Наконец, вспомним, что распаляет к безумным утехам святотатство, соблазняет неслыханным порывом мерзостного сладострастия. Человеческое правосудие не преследует теперь его, и, творясь безнаказанно после средневековья, оно стало преступлением трусов. Но для верующего оно запредельность зла, а Докр верит в Христа, ибо ненавидит его!
Какое чудовище в образе священника! Дюрталь не сомневался, что отношения его к жене Шантелува были проникнуты мерзостным распутством. Да, но как заставить ее высказаться? Прошлый раз она наотрез отказалась от объяснений по этому вопросу. Кстати, у меня сегодня вечером нет никакого желания претерпевать причуды ее похоти, и я скажу, что нездоров и мне необходим полный покой.
Она пришла через час после его возвращения домой и, выслушав его выдумку, посоветовала выпить чашку чая. Он отказался. Приласкавшись и расцеловав его, она слегка отодвинулась и заговорила:
– Вы слишком много работаете. Знаете, вам надо развлечься. А пока, чтобы убить время, не поухаживать ли вам за мной, до сих пор роль эту без роздыха исполняла я одна! Нет? Такая мысль не улыбается вам? Поищем что-нибудь другое. Не поиграть ли нам в прятки с кошкой? Вы пожимаете плечами... Что ж, если ничто не в состоянии рассеять вашу скуку, поболтаем в таком случае о вашем друге де Герми... Что поделывает он?
– Ничего особенного.
– А как его опыты с медициной Маттеи?
– Не знаю, продолжает ли он их.
– Так... исчерпано и это. Признаюсь, друг мой, ответы ваши безотрадны.
– Не я один так отвечаю. Случается это и с другими. Я знаю особу, которая на некоторые вопросы дает иногда удивительно лаконичные ответы.
– Например, на вопрос о некоем канонике.
– Вы угадали.
Она спокойно скрестила ноги.
– Очевидно, у особы этой имелись основания молчать. Но, представьте себе, она так сильно заботится о человеке, который расспрашивал, что после беседы не убоялась тяжелых неприятностей, лишь бы удовлетворить его любопытство.
– Объясните, дорогая Гиацинта, – с повеселевшим лицом упрашивал он, сжимая ее руки.
– Сознайтесь, довольно некоего лакомства, и я развеселю ваше кислое лицо.
Он молчал, не зная, издевается она над ним или действительно согласна исполнить его просьбу.
– Слушайте, – продолжала она, – я остаюсь при своем прежнем решении, не допущу личных сношений ваших с каноником Докром, но что если я, не знакомя с ним, устрою вам возможность присутствовать в известный час на церемонии, которая занимает вас всего сильнее?
– На черной мессе?
– Да. Самое большее через восемь дней Докр уедет из Парижа. Вы на моих глазах встретитесь с ним и никогда его больше не увидите. Ждите меня в течение ближайших восьми вечеров. Я уведомлю вас, когда потребуется. Но знайте, что недешево стоит мне исполнение вашего желания. Я преступила запрет своего духовника, не смею показаться ему, проклинаю себя.
Он нежно обнял ее и, лаская, спросил:
– Неужели действительно человек этот воплощенное чудовище?
– Возможно. Я никому не пожелаю иметь его своим врагом!
– Еще бы! Если он заколдовывает людей вроде Гевенгэ!
– Несомненно. Будьте уверены, я не хотела бы быть на месте астролога.
– Вы верите! Чем же пользуется он – кровью мышей, гашишем, маслом?
– Ах, вы знаете! Да, он применяет эти снадобья. Даже больше – Докр один из немногих, которые постигли, как с ними обращаться, не подвергаясь опасности отравить самого себя. Этим они напоминают взрывчатые вещества, которые так часто губят своих изготовителей. Но, нападая на существа беззащитные, каноник употребляет часто составы более простые. Чтобы разжечь воспаление раны, он, добыв из яда эссенцию, смешивает ее с серной кислотой. Потом посылает беса или блуждающего духа уколоть жертву острием смоченного в этой смеси ланцета. Таков простой способ околдовывать, известный, между прочим, розенкрейцерам и другим колдунам, не ушедшим дальше начальной ступени сатанизма.
Дюрталь рассмеялся:
– По-вашему, выходит, что смерть можно посылать издалека, точно письмо?
– А разве не переносятся письмами такие болезни, как холера? Спросите санитаров, обеззараживающих почтовые отправления во время эпидемий!
– Не спорю, но это не совсем одно и то же.
– Почему? Одинаковая отдаленность, невидимость, передача на расстоянии!
– Всего больше дивлюсь я, что в эти действа замешались розенкрейцеры. Признаюсь, они всегда казались мне смирными простаками и могильными обманщиками!
– Все такие общества состоят из простаков, которыми пользуются главари-обманщики. Этой участи не избегли и розенкрейцеры. Вожди их втайне тяготеют к преступлению. Ни ума, ни учености не нужно, чтобы вытворять обряды колдовства. Я положительно утверждаю, что среди них есть некий старый писатель, лично известный мне, который в связи с замужней женщиной. И он, и она проводят время в попытках умертвить мужа колдовством.
– Однако способ гораздо более совершенный, чем развод!
Взглянув на него, она сделала обиженный вид.
– Я умолкаю, – заметила она. – Вы издеваетесь, очевидно, надо мной. Не верите ни во что...
– Нет, я не смеюсь. По этим вопросам у меня нет определенных убеждений. Сознаюсь, на первый взгляд все это кажется мне совсем неправдоподобным. Но я в недоумении отступаю, как подумаю, что все достижения современной науки лишь подтверждают открытия древней магии.
Помолчав, он продолжал.
– Да, это так, я для примера приведу вам хотя бы следующий случай: вспомните, как смеялись над средневековыми превращениями женщин в кошек? А знаете вы, что к Шарко привели недавно девочку, которая забегала вдруг на четвереньках, прыгала, мяукала, царапалась, ревела точно кошка! Значит, возможно такое превращение! Нет, я никогда не устану повторять ту истину, что мы ничего не знаем и ничего не вправе отрицать. Но, возвращаясь к вашим розенкрейцерам, я хотел бы знать: обходятся ли они чисто химическими сочетаниями или прибегают к святотатству?
– Легко одолеть их колдовство. Я сомневаюсь, что они умеют применять его с успехом, очевидно, к нему не примешивается святотатство. Но вполне допустимо, что кружок этот, в рядах которого состоит священник, пользуется в потребных случаях оскверненными святыми дарами.
– Хорош, нечего сказать, священник! Вы так осведомлены, что знаете, наверное, чем борются, снимая колдовство?
– И да и нет! Я знаю, что трудно найти противоядие, если яды запечатлены святотатством и действо совершено таким опытным чернокнижником, как Докр, или римскими князьями магии. Но мне передавали, что в Лионе живет некий аббат, который слывет чуть ли не единственным человеком современности, искусившимся во врачевании этой тяжкой порчи.
– Доктор Иоганнес?
– Вы знаете его?
– Нет, я слышал о докторе от Гевенгэ, уехавшего к нему лечиться.
– Как исцеляет Иоганнес, мне не известно, но от колдовства, не отягченного святотатством, всего чаще избавляются законом возвратного действия. Удар возвращают человеку, нанесшему его. До сих пор существуют две церкви, одна в Бельгии и другая во Франции, в которых молитва перед статуей Пречистой Девы относит беду, уготованную жертве, на колдуна.
– Каково!
– Одна из этих церквей находится в Тугре, в восемнадцати километрах от Льежа, и называется храмом Богоматери Возмездия. Вторая церковь в Епине, деревушке в окрестностях Шалон. Она сооружена была в старину для борьбы с колдовством, творимым с помощью игл обильно росшего в том краю шиповника, которыми прокалывали изображение врага, вырезанное в виде сердца.
– Возле Шалона... – припоминал Дюрталь. – Если не ошибаюсь, де Герми рассказывал мне в связи с колдовским отравлением кровью белых мышей о дьявольских союзах, укоренившихся в этом городе.
– Да. Местность эта всегда отличалась пышным цветом сатанизма.
– Как хорошо изучили вы эти вопросы. Этой премудростью вас напитал, конечно, Докр?
– Да, ему обязана я кусочком познаний, которыми поделилась с вами. Он увлекался мною, хотел даже сделать меня своей ученицей. Я отказалась и теперь довольна – сейчас я ощущаю мучительнее, чем тогда, тяжкое бремя беспрерывного смертного греха.
– Бывали вы на черной мессе?
– Да, и я говорю вам наперед – вы пожалеете, что решились смотреть такие ужасы, воспоминание об этом не изглаживается... и вы будете потом содрогаться, хотя бы... даже не принимали в обряде участия.
Дюрталь наблюдал ее. Она побледнела, искры мерцали в ее туманных глазах.
Он молчал, слегка придавленный угрюмой скорбью, звучавшей в ее голосе, потом попросил:
– Расскажите, откуда Докр родом, что делал он раньше, как вышел из него наставник сатанизма?
– Не знаю. Когда я впервые познакомилась с ним, он служил викарным священником в Париже, потом был духовником королевы в изгнании. Во времена империи канонику удалось с помощью связей затушить отвратительные приключения. Постриженный в траписты, он изгнан был потом из духовного сословия и повелением Рима отлучен от церкви. Мне передавали также, что он несколько раз обвинялся в отравлениях, но суды всегда оправдывали его за отсутствием улик. Теперь я знаю лишь, что он живет богато, хотя источник средств его мне неизвестен, и много путешествует с женщиной, которую пользует как ясновидящую. В глазах всего света каноник – злодей, но если бы вы знали, какой он умный, образованный, коварный, обольстительный!
– О! – удивился Дюрталь. – Как изменился голос ваш, ваши глаза! Сознайтесь, вы любите его!
– Нет, не люблю, но, к чему скрывать, был один миг, когда мы безумно увлеклись друг другом.
– А сейчас?
– Клянусь, что сейчас все кончено, мы остались друзьями, и больше ничего.
– Вы часто бывали у него. Любопытно ли его жилище? Окружает он себя необычной обстановкой?
– Нет. Он живет удобно и уютно. Устроил у себя химическую лабораторию, владеет огромной библиотекой. Я видела у него лишь одну необычную книгу: служебник черной мессы, на пергаменте с редкостнейшими рисунками в красках, переплетенный выделанной кожей некрещеного младенца. На одной из сторон переплета было в виде виньетки что-то вытиснено.
– Не помните вы содержания рукописи?
– Я не читала ее.
Они замолчали. Потом, взяв его за руки, она сказала:
– Вы повеселели. Я хорошо знала, что излечу вас от тоски. Посмотрите, какая я добрая, не сержусь даже...
– Сердиться? На что?
– Согласитесь, слишком безотрадно для женщины убедиться, что только беседой о мужчине могла она развеять вашу скуку!
– Нет, нет, откуда вы взяли, – разуверял он, покрывая нежными поцелуями ее глаза.
– Оставь, – шепнула она. – Я пьянею от этого... уже поздно... мне пора домой.
Вздохнув, удалилась, а он задумался над ее жизнью, утопавшей в глубокой тине.
XVII
На следующий день после того, как изрыгал Жиль де Рэ на судилище свои яростные проклятия, снова предстал он перед судьями.
Он предстал, понурив голову, сложив покорно руки. Еще раз кинуло Жиля из одной крайности в другую. Всего за несколько часов укротился его исступленный дух, и он просил прощения у судей за свои неистовства, смирился и признал их полномочия.
Они объявили, что прощают хулы его во имя любви Господа, нашего Спасителя, и, снисходя к мольбе Жиля, епископ и инквизитор отменили кару отлучения от церкви, которою они поразили маршала накануне. На том же заседании приведены были к суду Прелати с другими соучастниками и затем, основываясь на церковном постулате, указующем, что недостаточно сознания, которое «dubium», фискал потребовал удостоверить показания Жиля каноническим допросом, иными словами – пыткой.
Маршал молил епископа обождать до завтра, просил о разрешении ему исповедаться пред судьями, на которых падет выбор трибунала, клялся подтвердить вслед за сим свои признания всенародно перед судилищем.
Жан де Малеструа согласился на такой допрос, и епископ Сэн-Бриэский вместе с канцлером Бретонским Пьером де Гопиталь назначены были выслушать маршала в его темничной келье. Когда он исчерпал рассказ о своих распутствах и убийствах, они приказали привести Прелати.
Увидев его, Жиль залился слезами и, когда итальянца, после очной ставки, уводили обратно в келью, маршал обнял его со словами: «Прощайте, Франсуа, друг мой, мы никогда больше не увидимся на этом свете. Молю Господа даровать вам просветление и кроткое смирение, не сомневайтесь, что в великих радостях встретимся мы с вами в раю, если чистосердечно и долготерпеливо будете вы уповать на Господа. Молитесь Богу за меня, а я помолюсь за вас».
Его оставили одного, чтобы он помыслил о злодеяниях своих, которые завтра предстояло ему принести на всенародное сознание.
Наступил день покаяния, торжественный день процесса.
Переполнился зал заседаний, народ скучился на лестнице, захлестнул двор, запрудил прилегающие переулки, толпился на улицах. Крестьяне за двадцать лье шли посмотреть достопамятного хищника, при одном имени которого запирались еще недавно двери хижин, укрывавших трепещущих женщин, чуть слышно оплакивавших своих чад.
Собрался в полном составе трибунал. Присутствовали все асессоры, обычно сменявшие друг друга в течение долгих заседаний.
Обновился до пояса тяжелый мрачный зал, покоившийся на романских колоннах и, преломляясь стрельчатыми уклонами, воздымал ввысь, подобно собору, дуги свода, сходившиеся в одну точку, точно грани игуменской митры. Падал тусклый свет дня, процеженный сквозь узкие оконные стекла в сетчатых переплетах.
Расстилалась лазурь потолка, и не больше булавочных головок мерцали с высоты расписные звезды. Туманно рисовались в сумерках свода горностаи на герцогских гербах, походившие на большие белые игральные кости, пестревшие черными крапинками.
Прогремели вдруг трубные звуки, возвещая появление епископов, и свет полился по залу. Святители сияли митрами из золотой парчи и, словно огненные ожерелья, обвивали шеи их золотом затканные воротники мантий, осыпанных карбункулами. В безмолвном шествии выступали они, отягченные как бы литыми облачениями, ниспадавшими, расширяясь, с плеч, похожими на золотые колокола, расколотые спереди, опираясь на посохи.
Словно раздуваемые пылающие угли, искрилась их одежда при каждом шаге, озаряя блеском своим зал. Тусклый октябрьский дождливый день, напитавшись сиянием их драгоценных одежд, возгорался свежими отблесками, которые рассыпались по всему залу, изливаясь на безмолвный народ.
Облитые струями золота и драгоценных камней стушевались и потускнели одеяния других судей. Поблекли и стали скучными черные, казавшиеся суровыми одежды асессоров и официала, черно-белая ряса Жана Блуэна, шелковые мантии, красно-льняные епанчи, алые, отороченные мехом головные уборы светских судей.
Заняв первые места, застыли епископы вокруг Жана де Малеструа, который на высоком седалище царил над всем залом.
Вошел Жиль в сопровождении вооруженного конвоя.
В одну ночь он осунулся, казался изнуренным, постаревшим на двадцать лет. Дрожали щеки, горели глаза его под воспаленными веками.
Выслушав повеление суда, начал он рассказ о своих преступлениях. Глухим, сдавленным от слез голосом поведал о похищениях детей, о мерзостных действах, об адских вожделениях, о неукротимых убийствах, неумолимых осквернениях. Мучимый видениями своих злодейств, он описал медленную или быструю агонию, вопли и хрипения своих жертв. Не утаил купания в тепловатой слизи внутренностей. Покаялся, что, точно спелые плоды, вырывал сердца, терзая и раздирая раны.
Взглядом лунатика рассматривал он свои пальцы, встряхивал их, словно с них сочились капли крови...
Жуткие, внезапные вопли врезались иногда в мертвое молчание, царившее в устрашенном зале. Поспешно выносили падавших без чувств женщин, обезумевших от ужаса.
Сам он, казалось, не видел ничего, не слышал и продолжал развертывать чудовищный свиток злодеяний.
Хрипло звучал голос Жиля, каявшегося в могильной похоти, в терзании детей, которым он перерезал шею, лаская поцелуем.
Он не скрыл ни единой подробности, изложил их все. И столь потрясающим показалось это, столь свирепым, что побледнели даже епископы под золотыми митрами. Даже они – эти священнослужители, закаленные в огне исповедальни, эти судьи, выслушивавшие в те времена бесовства и убийств безмерно ужасающие признания, эти прелаты, которых не могли более удивить никакое растление чувств, никакой смрад души, – содрогнулись и осенили себя крестным знамением, а Жан де Малеструа встал и целомудренно завесил лик Христа.
Потом склонили все чело и, не обменявшись ни словом, по-прежнему слушали маршала, который с искаженным лицом, залитым потом, всматривался в скрытую покровом голову Распятия в уборе тернового венца.
Жиль кончил исповедь, и хлынули тогда потоком его чувства. Как в бреду, вел он речь признаний самому себе, вспоминал громким голосом повесть своих неизгладимых преступлений.
Силы его иссякли, когда он окончил свои показания. Упав на колени, терзаемый раздирающими рыданиями, воскликнул маршал: «Боже Искупитель, помилуй и прости меня!» Униженно смирился суровый и надменный сеньор, этот первый – без сомнения – среди гордых своего сословия. Плача, произнес он, повернувшись к народу: «Вы, родители тех, которых я столь жестоко предал смерти, помяните, ах, помяните меня в ваших набожных молитвах!» И ослепительно воссияла тогда в зале белоснежная душа средневековья!
Встал с седалища Жан де Малеструа и поднял обвиняемого, в отчаянии бившегося лбом о плиты пола. Не судья стоял теперь пред Жилем, но священник. Он обнял виновного, который, раскаиваясь, оплакивал свои грехи.
Трепет пронзил собравшихся, когда Жан де Малеструа сказал Жилю, который, поднявшись, приник головой к его груди: «Молись, чтобы утих справедливый и грозный гнев Всевышнего! Плачь, чтобы очистить слезами своими распаленную похоть твоего существа». И все, кто ни был в зале, преклонив колена, молились за злодея. Но вот смолкла молитва, и настал миг колебания и замешательства. Стенала толпа, подавленная ужасом, объятая исступленным порывом сожаления. Безмолвные и взволнованные оправлялись от потрясения судьи.
Мановением руки остановил фискал прения и осушил слезы, сказав, что преступления «ясны и несомненны», что доказательства бесспорны и что в убеждении правоты своей и добросовестности может теперь суд покарать виновного. Он испрашивал у судей определить день вынесения приговора. Трибунал назначил его на третий день.
В это именно заседание прочел последовательно два решения официал Нантской епархии Жак де Пенткэтдик.
Первое, постановленное епископом и инквизитором по предмету общей им подсудности, начиналось так:
«Воззвав ко Святому имени Христову, мы, Жан, епископ Нантский, и бакалавр Священного Писания брат Жан Блуэн, из ордена братьев-проповедников, пребывающих в Нанте, наместник инквизитора ересей над городом и епархией Нантской, в заседании трибунала, лицезрел единого лишь Госпо-...
Перечислив преступления, решение гласило:
«Мы объявляем, мы постановляем, мы возвещаем, что ты, призванный на суд наш, ты, Жиль де Рэ, бесстыдно виновен в ереси, вероотступничестве и заклинании демонов; и за сии преступления твои навлек ты на себя кару отлучения от церкви и все другие наказания, установленные правом».
Второе решение, вынесенное только епископом о преступлениях содомии, святотатства, посягательства на неприкосновенность церкви, как более тесно входивших в область исключительного его ведения, приходило к однородным выводам и в выражениях почти тождественных провозглашало ту же кару.
Склонив голову, выслушал Жиль чтение приговора. Епископ и инквизитор после этого сказали ему: «Хотите вы быть вновь воспринятым на лоно матери нашей церкви – теперь, после того, как омерзением прониклись вы к вашим заблуждениям, заклинаниям демонов и другим преступлениям?»
И, снисходя к горячим мольбам маршала, они сняли с него отлучение и допустили к причастию святых тайн. Удовлетворено было правосудие Господне, признано и покарано преступление, не искупленное в покаянном сокрушении. Оставалось соблюсти теперь правосудие человеческое.
Епископ и инквизитор передали виновного светскому суду, который, признав пленение и убиение детей, вынес кару – смерть и конфискацию имущества. Прелати и других соучастников он одновременно присудил к повешению и сожжению живыми.
«Возблагодарите Господа, – произнес председательствовавший на светском судоговорении Пьер де Гопиталь, – и постарайтесь умереть в мире и душевном благочинии, предаваясь глубокому раскаянию в содеянных вами столь ужасных злодействах!»
Но ненужным было это увещевание.
Без малейшего страха взирал Жиль в лицо надвигавшейся казни. Смиренно и страстно уповал он на милосердие Спасителя. И, чтобы освободиться после смерти от огня вечного, всем существом своим жаждал искупления на земном костре.
Вдали от замков, в одиночестве тюремной кельи погрузился он в себя, и открылось перед ним гноище, которое так долго питали растленные извержения боен Тиффожа и Машекуля. Рыдая, блуждал он у смрадной черты и в бессильном отчаяния задыхался в сплетении чудовищной грязи. Но, прощенная милостью, преобразилась вдруг душа его в вопле ужаса и ликования. Жиль омыл ее слезами, высушил самозабвенным пламенем молитв, огнем безумных устремлений. Отверг самого себя палач Содома, и воскрес в нем сподвижник Жанны д'Арк – мистик, душа которого в трепетном преклонении, омытая потоками слез, возносилась к Богу!
Вспомнил затем о своих друзьях и пожелал, чтобы они также умерли в мире и покаянии. Просил Нантского епископа, чтобы казнили их не прежде его и не после, но в одно с ним время. Указывал, что самый виновный – он и что на нем лежит долг поведать им о вечном спасении, поддержать в тот миг, когда они будут восходить на костер.
Жан де Малеструа удовлетворил эту просьбу.
«Но что любопытно, так это то... – думал Дюрталь, прерывая работу и закуривая папиросу, – это то...»
Звякнул тихий звонок. Вошла госпожа Шантелув. Предупредила, что она всего на несколько минут и внизу ее ожидает экипаж. «Сегодня вечером, – объявила она, – я заеду за вами в девять. Но сперва напишите мне письмо приблизительно в тех же самых выражениях», – и, развернув, протянула ему листок бумаги.
Он прочел в нем: «Сим сознаюсь, что все написанное мною о черной мессе, о священнике, который ее служил, о месте, в котором я на ней якобы присутствовал, о лицах, мною якобы там встреченных, есть чистейший вымысел. Утверждаю, что повествование мое об этом сочинено и что, следовательно, весь рассказ мой ложен».
– Это писал Докр? – спросил он, рассматривая острый, витой, почти стремительный, мелкий почерк.
– Да. Кроме того, он требует, чтобы объяснение ваше без пометки числом составлено было в виде письма на имя третьего лица, будто бы запросившего вас по этому поводу.
– Не слишком, однако, доверяет мне ваш каноник!
– Бог мой, вы сочиняете книги!
– Такое письмо мне бесконечно неприятно, – пробормотал Дюрталь. – А в случае моего отказа?
– Вы не увидите черной мессы.
Любопытство преодолело в нем отвращение. Он составил и подписал письмо, которое госпожа Шантелув спрятала в сумку.
– Где, на какой улице произойдет действо?
– На улице Оливье де Серр.
– Где это?
– Близ конца улицы Вожирар.
– Там живет Докр?
– Нет. Мы поедем в особый дом, который принадлежит одной из его подруг. Если хотите, любознательность вашу я могу удовлетворить в другой раз. Сейчас мне некогда, и я исчезаю. Значит, в девять, будьте готовы.
Он наскоро обнял ее, и она уехала.
Оставшись один, Дюрталь задумался:
«Я ознакомился с вопросами колдовства и инкубата, и, чтобы вполне постигнуть сатанизм, как творится он в наши дни, мне оставалось познать лишь черную мессу. А теперь я у ее порога! Никогда в жизни не подумал бы раньше, что в Париже скрыты такие подземелья! Как странно слагаются и текут события. Судьба хотела, чтобы я занялся Жиль де Рэ и дьяволизмом средневековья, а отсюда повела меня к дьяволизму современности!» Потом раздумался о Докре: священник этот олицетворение коварства и распутства! Но в сущности из всех оккультистов, которые кишат в разлагающемся интеллекте нашего времени, он – единственный человек, который любопытен мне!
Все остальные – маги, теософы, каббалисты, спириты, герметисты, розенкрейцеры – или мошенники, или напоминают детей, которые, спотыкаясь, играют и ссорятся в подвале. А если спуститься еще ниже, в лаборатории прорицательниц, ясновидящих и колдунов, то не найти там ничего, кроме продажного разврата и корыстного обмана! Глубоко бесчестны все эти своего рода торговцы будущим. Такова единственная, несомненная истина оккультного!
Звонок де Герми прервал его думы. Он зашел известить Дюрталя, что на днях вернулся Гевенгэ и что послезавтра они отобедают вместе у Карэ.
– Прошел его бронхит?
– Вполне.
Поглощенный мыслью о черной мессе, Дюрталь не смог промолчать и сознался, что сегодня вечером ему предстоит быть ее свидетелем. В ответ на изумленное лицо де Герми он прибавил, что обещал блюсти тайну и не может пока рассказать ему ничего подробнее.
– Черт возьми! Тебе везет, – заметил де Герми. – Не будет нескромностью спросить, как имя аббата, который руководит службой?
– Нет, почему же? Каноник Докр.
– А!.. – и он замолчал, очевидно, стараясь разгадать, катким образом удалось его другу завязать знакомство со священником.
– Ты раньше рассказывал мне, – заговорил Дюрталь, – что в средние века черную мессу совершали на крестце нагой женщины, в XVII веке – на животе. А теперь?
– Думаю, что в наше время она творится, как и в церкви перед алтарем. Между прочим в конце XV века так совершали ее иногда в Бискайе. Правда, дьявол тогда действовал самолично. Переодетый в епископские одежды, хуля и сквернословя, он причащал стелькой от ботинок, возглашая: «Се тело мое!» Он предлагал поклонникам своим вкусить этого отвратительного яства, причем сперва они целовали ему левую руку, член и задницу. Надеюсь, что тебе не предстоит воздавать столь позорное почитание твоему канонику.
Дюрталь расхохотался.
– Нет, не думаю, чтобы он требовал таких почестей. Но скажи, не считаешь ты до известной степени помешанными людей, которые творят действо сатаны, относясь к нему с мерзостным благоговением?
– Помешанными! Почему? Культ демона не менее здрав, чем культ Бога. Один погибает, другой преуспевает – вот и вся разница. Если так рассуждать, то все люди, молящиеся какому-либо божеству, душевнобольные.
Нет, слуги сатанизма – мистики. Но мистицизм их смердит. Весьма вероятно, что современные устремления к запредельности зла связаны со злосчастными безумиями чувств, и сладострастие есть сокровенный корень демонизма. Медицина с грехом пополам относит эту нечистую жажду похоти в темную область нервных недугов. Она права, так как никто не знает истинной природы этой болезни, от которой страждет весь мир. Несомненно одно: нервы легче, чем встарь, надрываются в наш век от малейшего толчка. Вспомни хотя бы подробности, описываемые газетами, о казни приговоренных к смерти. Они сообщают нам, что палачи, обезглавливая человека, работают несмело, чуть не лишаются чувств, не в состоянии справиться с нервами. Какое падение! Если сравнить их с неумолимыми мучителями старины! Те облекали ноги человека в намоченный пергамент, который сжимался под действием огня и медленно иссушал тело жертвы. Или вбивали колья в бедра и дробили кости. В тисках с винтами ломали большие пальцы рук. Вырезали ремни из кожи на спине или в виде фартука сдирали кожу с живота. Колесовали, вздергивали на дыбу, поджаривали, обливали пылающим спиртом и совершали все это с безучастным видом, с невозмутимыми нервами, недоступные никаким жалобам и воплям. Дело, естественно, нелегкое, и, отработав, они стремились хорошенько выпить и поесть. Они были уравновешенными сангвиниками... А в наши дни! Но, возвращаясь к соучастникам сегодняшнего святотатства, не думаю, чтоб это были сумасшедшие, но убежден, что ты встретишь там отвратительных распутников. Понаблюдай за ними. Не сомневаюсь, что, заклиная Вельзевула, они помышляют о плотских наслаждениях. Не бойся, иди; среди них не найдется, конечно, людей, подражающих тому мученику, о котором повествует Иоанн де Ворагин в своем житии святого пустынника Павла. Знаешь эту легенду?
– Нет.
– В таком случае я освежу ею твою душу. Юного мученика этого распростерли со связанными руками и ногами на ложе и послали к нему чарующее создание, которое хотело овладеть им силой. Распалившись и чувствуя, что впадает в грех, он откусил себе язык и выплюнул его в лицо женщине. «И боль прогнала искушение», как выражается доблестный Иоанн де Ворагин.
– Сознаюсь... Мой героизм так далеко не зашел бы! Но... разве ты уходишь?
– Да, меня ждут.
– Что за странное время! – говорил, провожая его, Дюрталь. – Мистицизм пробуждается, и начинаются безумства оккультизма как раз теперь, когда позитивизм торжествует полную победу.
– Всегда, так было. Концы веков похожи. Жизнь шатается и полна смятения. Вместе с увлечениями материализмом поднимает голову магия. Так повторяется из века в век. Не касаясь времен более далеких, вспомни хотя бы конец прошлого столетия. Наряду с рационалистами и атеистами ты встретишь Сен-Жермена, Калиостро, Сен-Мартина, Габалиса, Казотта, розенкрейцеров, адские общества, как в наши дни! Однако прощай... Приятного вечера и хороших развлечений.
«Да, – думал Дюрталь, затворяя дверь, – разница лишь та, что Калиостро не чужд был, по крайней мере, некоторого вдохновения и, несомненно, владел известными познаниями, тогда как маги современности – какие они ничтожные невежды!»
XVIII
В экипаже тряслись они вверх по улице Вожирар. Госпожа Шантелув забилась в угол и онемела. Они проезжали мимо фонаря, и ее осветила на миг скользнувшая полоска света, погасшая под ее вуалью. Безмолвная она показалась ему взволнованной, нервной, не отдернула руки, которую он взял, ощущая лед ее прикосновения даже под перчаткой, и ему показалось, что ее белокурые волосы сегодня в беспорядке, не такие нежные и сухие, как всегда. «Мы подъезжаем, дорогая». Но она тихим грустным голосом ответила: «Нет, молчите». Ему наскучило это безмолвие, почти враждебное наедине, и он в окно экипажа начал разглядывать дорогу, по которой они проезжали.
Улица развернулась бесконечная, пустынная и так плохо вымощенная, что трещали на каждом шагу оси экипажа. Скудно освещали ее газовые рожки, становившиеся все реже по мере приближения к окраинам.
Безрассудная причуда, подумал Дюрталь, встревоженный холодным, замкнутым видом женщины. Наконец экипаж свернул вдруг в темную улицу, описал дугу и остановился.
Сошла Гиацинта. Дожидаясь от кучера сдачу, Дюрталь мельком осмотрелся кругом. Он находился в глухом переулке. Низкие, мертвые дома тянулись по сторонам неровной, грубой мостовой без тротуаров. Уехал кучер, он повернулся и увидел перед собой длинную высокую стену, поверх которой шелестели в тени листья деревьев. Калитка с отверстием оконца врезалась в толщу мрачной стены, на которой, словно стрельчатые нити, белели полоски гипса, которым замазаны были трещины и заткнуты дыры. Свет неожиданно мелькнул на крыльце лавки, и человек, привлеченный, без сомнения, шумом ехавшего экипажа, опоясанный фартуком, который носят обычно торговцы вином, выставился из лавки и сплюнул на порог.
– Здесь, – объявила госпожа Шантелув.
Она позвонила, и открылось оконце. Откинула вуаль, и в лицо ей упал тревожный свет фонаря. Бесшумно распахнулась калитка, они вошли в сад.
– Здравствуйте, сударыня!
– Здравствуйте, Мари.
– В капелле?
– Да. Проводить вас?
– Нет, благодарю.
Женщина с фонарем пристально взглянула на Дюрталя. Он заметил седые заплетенные пряди волос под чепцом, старый, помятый облик. Но она сейчас же скрылась в павильоне возле стены, служившем ей привратной, и Дюрталь не успел рассмотреть ее подробнее.
Он следовал за Гиацинтой по темным аллеям, вдыхая запах буксуса, и они подошли к крыльцу каменной постройки. Она была, как дома, толкала двери, и гулко стучали каблуки ее по каменным плитам пола.
– Осторожнее, – предостерегла она, когда миновали вестибюль. – Здесь три ступеньки.
Отсюда вышли во двор, остановились у старого здания, и она позвонила. Показался тщедушный человечек, изогнулся, певучим жеманным голосом спросил, как она поживает. Поздоровавшись, госпожа Шантелув направилась дальше. Перед Дюрталем мелькнуло развратное лицо, влажные вкрадчивые глаза, нарумяненные щеки, накрашенные губы, и он подумал, что попал в вертеп содомитов.
– Вы не предупреждали меня, что я столкнусь здесь с такими господами, – сказал он Гиацинте, догнав ее на повороте освещенного лампой коридора.
– Неужели вы рассчитывали встретить здесь святых? – и, пожав плечами, она открыла дверь.
Они очутились в капелле с низким потолком на поперечных балках, испачканных смолой, с выцветшими, потрескавшимися стенами. Дюрталь отшатнулся после первых же шагов. Мощные струи тепла лились из отдушин печки. Противный запах сырости, плесени, свежего кокса, усиленный жгучими испарениями алькалина, смолы и горевших трав, сдавил ему горло, сжал виски.
Скользя на цыпочках, внимательно всматривался Дюрталь в капеллу, тускло освещенную лампадами из золоченой бронзы, украшенной розовым стеклом. Гиацинта знаком указала ему сесть и направилась к кучке людей, расположившихся на диванах во мраке одного из сводов. Несколько смущенный своим вынужденным одиночеством Дюрталь заметил, что среди присутствующих много женщин и мало мужчин. Но тщетно старался он различить их черты. Вспыхивавшая по временам лампада озарила перед ним пышную женщину, темноволосую, высокую, затем мужское лицо, бритое, печальное. Наблюдая, он убедился, что женщины не вели между собой бойкой болтовни. Беседа их была робкой и степенной. Не раздавалось смеха, не повышались голоса, и ни единым жестом не оживлялся быстрый, стесненный шепот.
Черт возьми, подумал он, не похоже, однако, чтобы сатана делал поклонников своих счастливыми!
Служка в красной одежде прошел в глубину капеллы и зажег ряд свечей. Тогда показался алтарь, обыкновенный церковный алтарь с жертвенником, над которым возвышалось издевательское, гнусное распятие. Христу задрали голову, вытянули шею и, нарисовав на щеках складки, превратили его страдальческий лик в гримасу, растянувшую рот подлым смехом. Он был обнажен и вместо полотна, опоясывавшего чресла, выставлялась напоказ нечистая человеческая нагота. Перед жертвенником поставлена была чаша, покрытая белой полотняной покрышкой. Мальчик-хорист расправлял руками скатерть на алтаре, покачивал бедрами, становился на цыпочки, как бы летел, изображая херувимов, когда доставал черные восковые свечи, которые примешали запах асфальта и битума к стоящей в комнате вони.
Дюрталь узнал под красной одеждой «Христосика», охранявшего дверь, когда он вошел. Ему стала понятна роль этого человека, кощунственная грязь которого заменяла собой детскую чистоту, требуемую церковью.
Потом появился еще более отвратительный служка. Изнуренный, измученный кашлем, подкрашенный кармином и жирными белилами, он прихрамывал, напевая. Подойдя к треножникам, стоявшим по сторонам алтаря, пошевелил угли, засыпанные золой, и бросил на них куски резины и листья.
Дюрталь начал уже скучать, когда снова подсела к нему Гиацинта. Извинившись, что так надолго оставила его одного, она предложила ему пересесть и проводила его на совершенно обособленное место, позади стоявших рядами стульев.
– Это настоящая капелла?
– Да. Весь дом этот, церковь, сад, которым мы проходили, – остатки древнего монастыря урсулинок, ныне уничтоженного. Капелла затем служила долгое время складом сена, когда дом принадлежал владельцу наемных экипажей. Он продал его той даме, видите?.. – она указала на высокую черноволосую женщину, которую заметил перед тем Дюрталь.
– Дама эта замужем?
– Она бывшая монахиня, которую растлил когда-то каноник Докр.
– А!.. А эти господа, избегающие, по-видимому, света?
– Они слуги сатаны... Один из них – бывший профессор медицинской школы. Дома у него алтарь, перед которым он поклоняется статуе Венеры Астарты, стоящей на жертвеннике.
– Однако!
– Да. Он стареет, и демонические моления подрывают его силы, расточаемые им с подобными созданиями, – и она жестом показала на церковных служек в хоре.
– Ручаетесь вы за достоверность вашего рассказа?
– Я не выдумываю ни слова. Вы найдете подробное сообщение об этом в религиозном журнале «Благочестивые известия», и, несмотря на совершенно прозрачные намеки, этот господин не посмел преследовать журнал! Что с вами? – оборвала она, изумленная его видом.
– Я задыхаюсь. Запах курений нестерпим!
– Вы привыкнете к ним в несколько секунд.
– Но скажите, почему так смердит, что они жгут?
– Руту, листья белены и дурмана, мирру и сухой паслен – ароматы, угодные сатане, нашему властителю!
Она сказала это горловым, изменившимся голосом, каким говорила иногда в постели.
Он всмотрелся. Она побледнела, губы плотно сжались, и трепетали туманные глаза.
– Он! – вдруг пробормотала она, и женщины устремились мимо них, спешили на скамейках преклонить колени.
Предшествуемый двумя служками, показался каноник в алой скуфье, увенчанной двумя красными рогами бизона.
Дюрталь внимательно рассмотрел священника, когда тот проходил в глубину капеллы.
Докр был высокого роста, но плохо сложен, с несоразмерно длинным туловищем. Открытый лоб переходил без изгиба в прямой нос. Губы и щеки усеяны были густой жесткой щетиной, которая от долговременного бритья появляется у бывших священников. Очертания лица казались угловатыми, грубыми, и сверкали маленькие, черные, близко посаженные глаза, как два яблочных семечка. Создавалось общее впечатление облика помятого и порочного, но вместе с тем энергичного, а глаза, жесткие и твердые, отнюдь не походили на тот бегающий, лукавый взор, который раньше рисовал себе Дюрталь.
Докр торжественно склонился перед алтарем, поднялся по уступам и начал мессу.
Дюрталь увидел тогда, что священнические одежды были надеты на голое тело. Над черными чулками, высоко подхваченными подвязками, нависали мясистые бедра. Нарамник был обычной формы, но темно-красный, цвета запекшейся крови, а посреди, в треугольнике, вокруг которого вились целые заросли можжевельника, барбариса и молочая, стоял, нацелив рога, черный козел.
Докр совершал коленопреклонения, поясные и глубокие поклоны, предписанные ритуалом; коленопреклоненные служки отвечали по-латыни хрустальными голосами, переходящими в пение на конце слов.
– А, да ведь это же обычная малая обедня, – сказал Дюрталь госпоже Шантелув.
Она сделала отрицательный знак. Действительно, в этот момент служки, пройдя позади алтаря, принесли: один – медные жаровни, другой – кадильницы, и раздали их присутствующим. Все женщины утонули в дыму. Некоторые, опустив голову к жаровне, вдыхали аромат полной грудью, а потом, лишаясь чувств, расстегивались и хрипло стонали.
Тогда служение прервалось. Священник спустился спине вперед по ступеням, встал на последней на колени и резким, дрожащим голосом воскликнул:
«Учитель безобразных дел, раздаватель преступных благ, заведующий великими грехами и пышными пороками, мы поклоняемся тебе, Сатана, Бог последовательный, Бог справедливый! Ты посылаешь ложный страх; ты принимаешь убожество наших слез; ты спасаешь честь семейств, вызывая выкидыш плода, зачатого в самозабвении и вспышке страсти; ты внушаешь матерям поспешить с преждевременными родами и твоя акушерская помощь избавляет умерших до рождения детей тоски зрелого возраста, от горечи падений!
Поддержка бедняка, потерявшего надежду, подкрепление побежденных, ты наделяешь их лицемерием, неблагодарностью, гордостью, чтобы они могли защищаться от нападения детей Бога, богатых!
Владетельный князь презрения, счетчик унижений, арендатор старинной ненависти, только ты оплодотворяешь мозг человека, раздавленного несправедливостью; ты подсказываешь ему мысль о подготовке мщения, о злодеяниях без промаха; ты внушаешь е убийства, ты даешь ему изысканную радость умелого насилия, славное опьянение выполненной казни, вызванных слез!
Надежда возмужалости, скорбь бесплодных, ты не требуешь, Сатана, бесполезных пыток целомудрия, ты не восхваляешь бессмыслие постов и неделания; ты один принимаешь прошения плоти и направляешь их в бедные и корыстолюбивые семьи. Под твоим влиянием решается мать продать дочь, уступить сына, ты помогаешь бесплодной и отвергнутой любви, покровитель острых неврозов, свинцового шара истерии, окровавленных насилием тел!
Господин, твои верные слуги на коленях молятся тебе. Они молят обеспечить им легкость восхитительных преступлений, неведомых правосудию; они молят помочь колдовству, непонятные следы которого сбивают с пути человеческий разум; они молят тебя услышать их, когда пожелают они муки тем, кто их любит и служит им; они просят у тебя также славы, богатства, могущества, у тебя, царь обездоленных, сын, изгнанный неумолимым Отцом!»
Потом Докр поднялся и стоя, с протянутыми руками завопил звучным, полным ненависти голосом:
«А ты, кого я, в моем сане священника, заставлю волей-неволей сойти в эту облатку, воплотиться в этом хлебе, ты, Иисус, защитник обманов, мошенничеством получающий почести, крадущий привязанности, слушай! С того дня, как ты явился через посредничество девы, ты не выполнял обязательств, ты лгал обещаниями; века, рыдая, ожидали тебя, Бог-беглец, немой Бог! Ты должен был искупить людей и ничего не выкупил. Ты должен был явиться во славе – а ты спишь! Иди, лги, говори призывающим тебя беднякам: «Надейтесь, терпите, страдайте, вы попадете в больницу душ, ангелы встретят вас, небо откроется». Лжец! Ты хорошо знаешь, что ангелы удаляются с отвращением от твоей бездеятельности! Ты должен был стать переводчиком наших жалоб, носителем наших слез, ты должен был передать их Отцу, но ты не сделал этого, потому что это посредничество, без сомнения, мешало твоему вечному сну сытого ханжества!
Ты забыл нищету, о которой проповедовал, влюбленный вассал банков! Ты видел, как пресс биржевой игры давил слабых, ты слышал хрипение робких, обессиленных голодом женщин, продающих себя за кусок хлеба, и ты отвечал через канцелярию погрязших в симонии, через своих торговых представителей, через наместников-пап, неопределенными извинениями, уклончивыми обещаниями, ты писарь из ризницы, Бог аферистов!
Чудовище, с непостижимой жестокостью создавшее жизнь и навязавшее ее невинным, которых ты же смеешь осуждать во имя неизвестно какого первородного греха, которых ты смеешь карать. В силу неизвестно каких условий мы все-таки хотели бы заставить тебя признаться, наконец, в твоей бесстыдной лжи, в твоих неискупимых преступлениях! Мы хотели бы забить твои гвозди, прижать тернии, вызвать жгучую кровь из твоих запекшихся ран!
Мы можем это сделать, и мы сделаем это, нарушив покой твоего тела, теоретик бессмысленной чистоты, проклятый назаретянин, призрачный царь, подлый Бог!»
– Аминь, – прозвучали хрустальные голоса служек.
Дюрталь слушал этот поток богохульств и оскорблений. Гнусность священника его ошеломляла. За криком последовала тишина. Капелла тонула в дыму кадильниц. Женщины, до той поры молчавшие, внезапно заволновались, когда каноник, поднявшись вновь на алтарь, повернулся к ним и благословил широким жестом левой руки.
Служки вдруг зазвенели колокольчиками.
Это было словно сигналом. Женщины забились, упав на ковер. Одна бросилась плашмя на землю и загребала ногами, словно ее приводила в движение пружина. Другая, страшно скосив глаза, вдруг закудахтала, потом, потеряв голос, оцепенела с открытым ртом, со втянутым язы ком, кончик которого уперся в нёбо. Еще одна, распухшая, свинцово-бледная, с расширенными зрачками, откинула голову на плечи, потом выпрямилась резким движением и начала, хрипя, рвать ногтями грудь. Еще одна, лежа навзничь, развязала юбки и выставила голое брюхо, раздутое, огромное. Потом с ужасными гримасами изогнулась и высунула из окровавленных уст белый надорванный по краям язык, искусанный покрасневшими зубами, не помещающийся более во рту.
Дюрталь поднялся, чтобы лучше видеть, и ясно услышал и рассмотрел каноника Докра.
Тот созерцал возвышавшегося над жертвенником Христа и с распростертыми руками изрыгал оскорбления. Так мерзко и громко не ругались даже пьяные извозчики. Один из служек преклонил перед Докром колени, повернувшись спиной к алтарю. По спине священника пробежала дрожь. Торжественным тоном, но с дрожью в голосе он произнес на латыни: «Hoc est enim corpus meum» ( To есть тело мое). Потом, вместо того чтобы преклонить колена перед драгоценным телом Христовым после освящения, повернулся к присутствующим и показал им вспухшее, дикое, залитое потом лицо.
Он шатался между двумя служками, которые поддерживали ею, приподняв нарамник, показывая его обнаженный живот и яйца. Облатка, которую он поместил перед собой, прыгала, оскверненная и замаранная, во время ходьбы.
Дюрталь содрогнулся: вихрь безумия прокатился по залу. Аура большого истерического припадка последовала за кощунством и изогнула женщин. Пока служки окуривали ладаном наготу жреца, женщины набросились на хлеб евхаристии и, кинувшись на землю у подножия алтаря, царапали его, отрывали влажные частицы, пили и ели божественную грязь.
Одна, усевшись на корточки над распятием, хохотала раздирающим смехом: «Отец мой, отец мой!» Старуха рвала на себе волосы, кричала, вертелась на одном месте, изгибалась, стояла н а одной ноге, затем, свалившись рядом с девушкой, которая, скорчившись у стены, билась в конвульсиях с пеной у рта, стала изрыгать сквозь слезы ужасные богохульства. Испуганный Дюрталь видел в дыму, как в тумане, красные рога Докра, который сидел теперь весь в пене от бешенства, жевал и выплевывал опресноки, раздавал их женщинам, а те с криками их прятали или опрокидывались одна на другую, чтобы осквернить их. Это была какая-то безнадежная больничная палата, отвратительное скопище проституток и безумных. Служки отдавались мужчинам, хозяйка дома, взойдя с поднятыми юбками на алтарь, схватила одной рукой древко Христова распятия, а другой рукой засунула под голые ноги святую чашу. В глубине церкви, в тени, девочка, неподвижная до сих пор, вдруг нагнулась вперед и завыла, как смертельно раненая собака.
Обуреваемый отвращением, чуть не задыхаясь, хотел Дюрталь бежать. Оглянувшись, он не нашел на прежнем месте Гиацинты. Наконец, заметил ее возле каноника. Перешагнул через сплетенные тела, распростертые на ковре, и подошел к ней. С трепещущими ноздрями впивала она испарения благовоний и блуда.
– Аромат шабаша! – вполголоса бросила она ему сквозь стиснутые зубы.
– Пойдемте!
Казалось, она пробудилась и после мгновенного колебания последовала за ним, ничего не отвечая.
Работая локтями, освободился он от женщин, скаливших зубы, чуть не кусавшихся. Рванув за собой госпожу Шантелув к двери, он прошел двор, вестибюль, миновал павильон привратницы, оказавшийся пустым и, потянув шнурок, вышел на улицу.
Здесь остановился, полной грудью вбирая в себя воздух. Гиацинта точно в забытье прислонилась к стене, не двигаясь; посмотрев на нее, он сказал голосом, в котором сквозило презрение:
– Сознайтесь, что вас тянет вернуться туда?
– Нет, – выговорила она с трудом, – но меня сломила эта сцена, я как в чаду, мне нужен стакан воды, чтобы прийти в себя.
И, опираясь на него, она поднялась по улице, направилась к таверне, дверь которой была открыта.
Они вошли в жалкий притон, маленькую залу с деревянными скамейками и столами, с цинковым прилавком и большими фиолетовыми жбанами. С потолка спускался газовый рожок виде латинского U. Два землекопа, игравшие в карты, обернулись и засмеялись. Хозяин вынул трубку изо рта и сплюнул в песочницу. Он, по-видимому, нисколько не поразился появлению этой изящной женщины в его лачуге. Дюрталю, наблюдавшему ним, даже показалось, что он обменялся взглядом с госпожой Шантелув. Он зажег свечу и шепнул:
– Слишком бросится в глаза, сударь, если вы останетесь вместе с этими людьми. Я провожу вас в комнату, где вы будете одни.
– Странно, – заметил Дюрталь Гиацинте, устремившейся вверх по витой лестнице, – странно, столько хождений и восхождений из-за стакана воды!
Но она успела уже проникнуть в комнату, заплесневелую изодранными обоями, с портретами из иллюстрированных журналов, приколотыми шпильками к стенам, с неуклюжим плиточным полом с выбоинами. В комнате была деревянная кров без полога, кувшин с отбитым носиком, таз, стол и два стула.
Хозяин принес графинчик с водкой, сахар, графин с водой и стаканы и удалился. Ее потемневшие, безумные глаза впились в Дюрталя.
– Ах! Нет! Поверьте, мне надоело это! – воскликнул он, разъяренный тем, что попал в западню. – Уж поздно, муж ждет вас, пора вам к нему, домой!
Она не слушала его.
– Я хочу тебя, – и она предательски овладела его волей.
Раздевшись, побросала на пол платье, юбки, открыла отвратительное ложе, легла на спину на грубую жесткую простыню и смеялась довольным смехом, а глаза ее восторженно горели. Она, схватила его и открыла ему нравы рабов, гнусности, в которых он даже не подозревал ее. Она приправила их безумством вампира и, когда он смог вырваться, то содрогнулся внезапно, заметив на ложе раскрошенную облатку.
– Я боюсь вас, – сказал он. – Пора, одевайтесь, поедем!
Пока она одевалась, безмолвная, с блуждающим взором, он сидел на стуле, и смрадная комната возбуждала в нем чувство отвращения. Сверх того, он не вполне был уверен перевоплощении. Он не верил твердо, что в этом оскверненном хлебе присутствовал Спаситель, но, несмотря ни на что, кощунство, в котором против воли принял участие, огорчило его.
А если это правда, думал он, если присутствие реально, как утверждает Гиацинта и этот низкий поп!
Нет, кончено! Я слишком упивался грязью, и теперь удобный предлог порвать с этим существом, которое я лишь терпел с первого же нашего свидания. Без долгих рассуждений!
Внизу в кабачке его встретили снисходительные улыбки землекопов, они поспешили бежать, заплатив и не дожидаясь сдачи. Они вышли на улицу Вожирар, и он позвал экипаж. Не глядя друг на друга, ехали они, погруженные в раздумье.
– До скорого свидания, – простилась с ним у своего подъезда госпожа Шантелув, и в ее голосе зазвучали боязливые ноты.
Он ответил:
– Нет. Нам никогда не понять друг друга. Вы хотите всего, я – ничего. Лучше порвать связь. Наши отношения лишь захиреют, принесут нам горечь и скуку повторений. О! После того, что произошло сегодня вечером, нет, никогда!
И, сказав свой адрес кучеру, он забился в глубину экипажа.
XIX
– Каноник любит развлекаться, – ответил де Герми на подробный рассказ Дюрталя о черной мессе. – Вокруг него настоящий сераль истерических эпилептиков и эротоманов. Но всему этому не хватает размаха.
Конечно, богохуления, святотатства, бесстыдства и плотские исступления его чудовищны, почти недосягаемы. Но в них нет кровавых и кровосмесительных преступлений древнего шабаша. В общем, Докр значительно слабее Жиля де Рэ. Деяния его половинчаты, тусклы, я бы сказал, нерешительны.
– Однако, чего же ты хотел? Трудно было бы теперь похищать и убивать безнаказанно детей. Завопят родители, и вмешается полиция!
– Без сомнения, этим следует объяснить бескровное служение черной мессы. Но, возвращаясь к описанным тобой женщинам, которые склоняются лицом к жаровням, впитывая в себя запах смолы и трав, я напомню тебе о факирах, головой бросающихся на уголья, когда почему-либо не наступает долго каталепсия, необходимая для совершения их действий. Другие же описанные тобой явления известны в госпиталях и, за исключением бесовских излияний, в них нет ничего нового. Кстати, ни слова об этом у Карэ, я убежден, что он способен прекратить с тобой знакомство, если узнает, что ты присутствовал на мессе во славу дьявола.
Выйдя на улицу, они направились к башням святого Сюльписия.
– Я надеялся на тебя и не приготовил ничего съестного. Но послал сегодня утром жене Карэ вместо десерта и вин настоящих голландских пряников и два довольно необычных ликера: эликсир долголетия, который мы разопьем для аппетита перед обедом, и графинчик травника. Я разыскал их у честного торговца.
– О!..
– Да, представь себе, друг мой, честного. Эликсир составлен по древнему рецепту Кодекса. В него входят алоэ, мелкий кардамон, шафран, мирра и множество других пряностей. Горечь невероятная, но это изысканно!
– Посмотрим. Во всяком случае, это очень кстати, чтобы отпраздновать избавление Гевенгэ!
– Видел ты его?
– Да, он поправляется. Мы заставим рассказать его о своем исцелении.
– Положительно не понимаю, чем он живет?
– Доходами со своей астрологической премудрости.
– Разве есть богачи, которые заказывают гороскопы?
– Почему нет! Откровенно говоря, я думаю, что дела его очень неблестящи. Во времена империи он был астрологом императрицы, женщины очень суеверной и верившей вместе с Наполеоном в предсказания и колдовство. После падения империи положение его сильно пошатнулось. Сейчас он слывет, однако, единственным во Франции человеком, владеющим тайнами Корнелия Агриппы и Кремона, Руджьери и Горика, Трифема и Синибальда Буйного.
В разговорах не заметили они, как поднялись по лестнице и очутились у двери звонаря.
Астролог уже сидел в столовой, и стол был накрыт.
Все слегка поморщились, отведав крепкого черного ликера, который налил им Дюрталь.
Радовалась мамаша Карэ, видя в сборе всех своих прежних сотрапезников и, довольная, внесла жирный суп.
Она разлила его по тарелкам, подала блюдо овощей, и де Герми засмеялся, видя как Дюрталь выбирает себе луковицу.
– Берегись. Порта, волшебник конца XVI века, учит, что растение это, столь долгое время считавшееся символом мужественности, способно смутить покой людей самых целомудренных!
– Не слушайте его, – сказала жена звонаря. – А вы, господин Гевенгэ, возьмете морковь?
Дюрталь рассматривал астролога. Та же конусообразная голова, те же странно черные, жирные волосы, цвета порошка гидрохинона и ипекуаны, те же робкие птичьи глаза, огромные руки, украшенные перстнями, наставительные торжественные манеры, речь жреца. Но со времени лионской поездки посвежело лицо, разгладилась морщинистая кожа, яснее смотрели глаза, лазурь их казалась чище.
Дюрталь поздравил его с благополучным исходом лечения.
– Я висел на волоске от гибели и своим выздоровлением всецело обязан стараниям доктора Иоганнеса. Я совершенно не обладаю даром ясновидения, не знаю ни одной двуликой каталептички, которая могла бы посвятить меня в тайные ковы каноника Докра. Естественно, я не в состоянии был защищаться, использовать закон предупреждающего сопротивления и обратного воздействия.
– Но скажите, – спросил де Герми, – допуская даже, что блуждающий дух осведомил бы вас о колдованиях этого священника, чем вы предотвратили бы их?
– Закон предупреждающего сопротивления, изволите видеть, требует, чтобы, проведав о дне и часе подстерегающего вас нападения, вы предупредили его, уйдя из дому, и тем обессилили колдовство. Или скажите за полчаса: рази меня, я здесь! Этим вы развеете эфир и ослабите могущество нападающего.
Магическое действие, ставшее известным и раскрытое, теряет силу. Закон обратного воздействия также предполагает, что вы не застигнуты врасплох и успеете отразить порчу, отбросив ее на колдуна.
Мне грозила смертельная опасность. Протек уже день со времени колдовства. Еще два дня, и я сложил бы кости мои в Париже.
– Почему так?
– Человек, ставший жертвой чернокнижия, должен захватить порчу не позже, как через три дня. По миновании этого срока беда часто делается непоправимой. И потому, когда Докр возвестил мне, что он собственной своей властью приговаривает меня к смертной казни, и я, два часа спустя придя домой, почувствовал себя хуже, то сейчас же без долгих размышлений уложил свой чемодан и немедля поехал в Лион.
– А там? – спросил Дюрталь.
– Там повидал доктора Иоганнеса и рассказал ему об угрозах Докра и о напавшей на меня болезни. Ответил он мне так: аббат этот умеет сильнейшие яды сплетать с чудовищными святотатствами. Борьба будет упорная, но я одолею его. И доктор тотчас же призвал живущую у него ясновидящую.
Усыпив ее, он приказал ей объяснить природу поразившего меня колдовства. Она воссоздала, отчетливо увидела пред своим взором всю сцену моей порчи; оказывается, я был отравлен месячными кровями женщины, питавшейся кушаньями и напитками с примесью искусно составленных ядов. Колдовство это обладает такой силой, что, кроме доктора Иоганнеса, ни один волшебник во Франции не решается с ним бороться.
После того доктор объявил мне: исцеление ваше достижимо лишь через вмешательство неодолимой силы; мешкать некогда, сейчас же сотворим жертвоприношение во славу Мельхиседека.
Он соорудил жертвенник: поставил стол, на нем деревянную скинию в виде хижины, увенчанную крестом, под которым, подобно циферблату, очерчивался на передней стенке круглый знак тетраграммы. Принес серебряную чашу, опресноки, вино. Облачился в священные одежды, надел на палец перстень и по особому требнику начал возглашать жертвенные молитвы.
Почти одновременно с этим ясновидящая воскликнула: «Я зрю духов, заклинанием вызванных для колдовства, которые перенесли яд, повинуясь чародею, канонику Докру!..»
Я сидел возле жертвенника. Иоганнес возложил на мою голову левую руку, а правую простирал к небу, умолял святого архангела Михаила помочь ему, заклинал полчища незримые и меченосные укротить и рассеять ковы духов зла.
Я чувствовал облегчение. Слабело мучившее меня в Париже ощущение укуса.
Доктор Иоганнес продолжал читать свои моления, и, наконец, взяв мою руку, положил ее на жертвенник и возгласил трижды: «Да уничтожатся замыслы и намерения напустившего на вас порчу слуги нечестия; да сокрушится всякое посягательство на вас, содеянное руками сатанинскими; да отразится и развеется без следа всякое нападение на вас; да превратится волхование вашего недруга в благословение горней вечности; да претворится в животворную влагу бытия ниспосланное на вас дыхание смерти... и наконец... да совершится суд, мудрый и карающий, и да поразит он мерзостного аббата, предавшегося тьме и злу!»
«Теперь вы освобождены, – объявил он мне, – небо исцелило вас. Да изольется благодарное сердце ваше в пламенной хвале».
Я был спасен. Вы врач, де Герми, мы можете засвидетельствовать, что человеческая наука бессильна была излечить меня, а теперь, видите, я здоров!
– Да, – ответил де Герми в недоумении, – я подтверждаю очевидный успех вашего лечения, не входя в оценку его способов, и сознаюсь, не впервые на моей памяти отличается оно таким могучим действием! Нет, благодарствуйте, – ответил он жене Карэ, угощавшей его гороховым пюре, на котором лежали сосиски под редькой.
– Позвольте предложить вам несколько вопросов, – полюбопытствовал Дюрталь. – Меня занимают некоторые подробности. Каковы были священные одежды Иоганнеса?
– Он облачился в алую кашемировую рясу, у стана стянутую витым красно-белым поясом. Поверх рясы на нем была белая мантия из такой же ткани с вырезом на груди, изображавшим крест вниз головою.
– Вниз головой! – воскликнул Карэ.
– Да. Опрокинутый крест знаменует кончину первосвященника Мельхиседека в глубокой старости и возрождение его, дабы властвовать силою божественного голоса.
Карэ, по-видимому, не мирился с этим. В своем пламенном, щепетильном католицизме он не допускал неустановленных церковью обрядов. Сидел молча, не вмешиваясь больше в разговор, приправлял салат, передавал тарелки.
– Скажите, каково кольцо, о котором вы упомянули? – спросил де Герми.
– Символический перстень червонного золота. Он имеет вид змеи, чеканное сердце которой пронзено рубином. Цепочкой скован с другим малым перстнем, изображающим печать, смыкающую пасть зверя.
– Хотел бы я знать, – вставил Дюрталь, – каково происхождение и цель этой жертвенной службы? Что значит во всем этом Мельхиседек?
– О!.. – произнес астролог. – Мельхиседек – один из наиболее таинственных ликов, о которых повествует Священное Писание. Царь Салима, он был первосвященником Бога сил. Он благословил Авраама, который поднес ему десятину богатств, захваченных у побежденных царей Содома и Гоморры. Так гласит Книга Бытия. О нем показует также святой Павел. Апостол говорит, что он не имел ни отца, ни матери, ни предков, дни его не зачинались и не истекала жизнь к концу, так что подобен он Сыну Божию и Жертвоносцу Вечному.
С другой стороны, Писание называет Иисуса Первосвященником вечным, а псалмопевец облекает его действами и степенями Мельхиседека.
Как видите, все это довольно туманно. Одни истолкователи признают в нем пророческий прообраз Спасителя, другие – святого Иосифа, и все согласны, что приношение Мельхиседеку Авраамом хлеба и вина, от которых он отделил сперва жертву Господу, прообразует, по выражению Исидора Далматского, таинство божественное, или, другими словами, святую Литургию.
– Прекрасно, но это не объясняет нам, почему доктор Иоганнес наделяет жертву эту свойствами чудодейственного противоядия? – заметил де Герми.
– Вы, господа, хотите от меня слишком многого! – воскликнул Гевенгэ. – Ответить на это мог бы лишь сам доктор. Скажу вам только следующее:
– Богословие учит нас, что служение творимой Литургии воссоздает жертву Голгофы. Но не единосуще ей жертвоприношение славы. Оно некоторым образом являет собой Литургию будущего, то достославное богослужение, которое познает мир, когда настанет царствие божественного Утешителя, когда вознесет жертву Господу человек перерожденный, искупленный пришествием Духа Святого, Бога любви. И недоступен одолению волшебством адовым человек, сердце которого очистится и освятится Утешителем и который совершит жертвенное моление это, чтобы рассеять духов зла. В этом объяснение могущества доктора Иоганнеса.
– Объяснение не слишком понятное, – спокойно возразил звонарь.
– В таком случае пришлось бы допустить, что Иоганнес – существо избранное, опередившее свой век, что он апостол, устами которого глаголет Дух Святой, – прибавил де Герми.
– Да, он таков и есть, – убежденно ответил астролог.
– Прошу вас, будьте добры передать мне пряник, – попросил Карэ.
– Я научу вас, как надо лакомиться ими, – сказал Дюрталь. – Отрежьте тоненький ломтик, возьмите кусочек простого хлеба, но не толще... Намажьте его маслом, положите пряник на хлеб и ешьте: я убежден, что вы почувствуете изысканный вкус ореха!
– Скажите, – осведомился де Герми, – помимо этого, я так долго не видел доктора Иоганнеса, как поживает он?
– Жизнь его протекает в неге и вместе с тем полна мучений. Живет он у друзей, благоговеющих перед ним, обожающих его. К несчастью, ему чуть не каждый день приходится отражать покушения, чинимые против него чернокнижниками Рима.
– Но почему?
– Это слишком долго объяснять. Иоганнес ниспослан небом, чтобы сокрушать смрадные ковы сатанизма и проповедовать блаженное пришествие Христа, божественного Утешителя. Естественно, что курия, приютившаяся на пороге Ватикана, стремится отделаться от человека, молитвы которого мешают ее заклинаниям и уничтожают силы ее волшебства.
– А, – воскликнул Дюрталь, – не будет нескромностью спросить вас, как предугадывает и отражает Иоганнес эти чудодейственные посягательства?
– Ничуть. Полетом и криками известных птиц доктор извещается об опасности. Самцы-ястребы служат ему как бы часовыми. Наблюдая, летят ли они к нему или улетают, направляются ли на восток или на запад, испускают ли один или несколько криков, черпает он знамения о часе борьбы и принимает меры. Раз как-то он объяснил мне, что ястребы легко доступны воздействию духов и что он пользуется ими подобно тому, как магнетизер пользует сомнамбулу или спирит столы и аспидные доски.
– Они – телеграфные провода колдовских депеш, – заметил де Герми.
– Да, в сущности опыты эти отнюдь не новы, происхождение их теряется во тьме времен. Следы этого учения вы найдете в Священном Писании, и Зогар свидетельствует, что многие прорицания даются человеку умудренному, умеющему понимать полет и крики птиц.
– Но почему такое предпочтение ястребам перед другими летунами? – спросил Дюрталь.
– Еще в глубокой древности ястреб считался посланцем тайных чар. В Египте бог с ястребиной головой владел божественной мудростью. Жрецы этой страны в старину глотали сердце и кровь ястреба, готовясь к магическим обрядам. Еще сейчас втыкают себе в волосы ястребиное перо волшебники африканских царей, а в Индии летун этот, как зовете вы его, почитается священным.
– Как только удается вашему другу, – спросила жена Карэ, – выращивать и приручать этих животных, по природе своей диких и хищных?
– Он не выращивает и не приручает их. Ястребы эти вьют себе гнезда на высоких береговых утесах возле Лиона. Когда нужно, они навещают его.
– Пусть так, – еще раз подумал Дюрталь, рассматривая столовую, такую уютную и своеобразную, вспоминая странные беседы, которые велись на башне, – но как далеко чувствуешь себя здесь от мыслей и речей современного Парижа!
– Все это уносит нас в средние века, – громко досказал он свою думу.
– К счастью! – воскликнул Карэ, уходя звонить в колокола.
– Да, но заметьте, какими необычными кажутся в наши дни грубого неверия и жестокой корысти эти битвы, которые разыгрываются в пространстве над городами, над житейской суетой, между лионским священником и римскими прелатами, – добавил де Герми.
– А во Франции между тем же священником и розенкрейцерами и каноником Докром.
Дюрталь вспомнил, как госпожа Шантелув рассказывала ему, что вожди розенкрейцеров стремятся завязать сношения с дьяволом и наводить порчу.
– По-вашему, господа эти также служат сатане? – спросил он Гевенгэ.
– Они хотели бы, но не владеют никакими знаниями. Они ограничиваются механическим воспроизведением некоторых спиритических и колдовских действий, в которые их посвятили трое браминов, приезжавших несколько лет назад в Париж.
– Как я довольна, – сказала жена Карэ, распрощавшись с гостями и удаляясь спать, – что стою в стороне от всех этих козней и страхов. Ничто не смущает моей молитвы, и на душе спокойно.
Де Герми занялся по обыкновению варкой кофе, Дюрталь достал рюмки, а Гевенгэ набил свою трубку. Стих, растаял, как бы растворился в порах стен гул колоколов, и астролог, глубоко затянувшись табаком, прервал молчание:
– Я провел несколько восхитительных дней в семье, в которой живет в Лионе доктор Иоганнес. После испытанного потрясения неоценимым благодеянием было мне довершить мое выздоровление в столь любовной, умиротворяющей обстановке. Иоганнес один из наиболее выдающихся знатоков теологии и наук оккультных, какого я только знаю. Никто, за исключением, быть может, противника его, чудовищного Докра, не проник столь глубоко в сокровенные тайны сатанизма. Скажу даже, что в наши дни оба они – единственные люди во Франции, преступившие земной предел и обретшие каждый в своей области тайны сверхъестественного. Но Иоганнес пленил меня не только беседой своей, искусной и содержательной, обнаружившей изумительные его познания даже в астрологии, в которой я, однако, превосхожу его, но также и своими возвышенными суждениями о грядущем перевоплощении народов. Клянусь вам, в лице его ниспослан Всевышним истинный пророк, предназначенный во славе и муках вещать здесь, на земле, волю пославшего.
– Все это прекрасно, – заметил, улыбаясь, Дюрталь. – Но, если не ошибаюсь, учение об Утешителе не что иное, как древняя ересь Монтана, открыто осужденная церковью.
– Да, но все зависит от того, как исповедовать пришествие Утешителя, – вмешался входивший звонарь. – Оно возвещается отцами церкви: святым Иринеем, святым Юстином, Скоттом Оригеном, Амори Шартрским, святым Дульсином и таким недосягаемым мистиком, как Иоахим де Флор! Верование это царило в средние века, и, сознаюсь, оно захватывает, пленяет меня, в нем слышу я отклик на заветнейшие свои желания...
Сев и скрестив руки, он продолжал:
– Согласитесь, что упование на третье царствие есть единственное утешение христиан пред зрелищем разлагающегося мира, который, следуя заповеди кротости, мы не смеем ненавидеть!
– Признаюсь, я лично чувствую себя искупленным в весьма слабой степени, – добавил де Герми.
– Дано три царствия, – продолжал астролог, пальцем сооружая холмик из пепла в своей трубке: – царствие страха, Бога Отца, Ветхого Завета. Царствие Нового Завета, Сына Божия и искупления. И наконец, третье, возвещенное Евангелием Иоанна, царствие Духа Святого, которому суждено стать царствием освобождения и любви. В них воплощены прошлое, настоящее и будущее. Они подобны зиме, весне, лету. Или, как выражается Иоахим Шартрский: первое принесло стебель, второе колосья, третье уготовит пшеницу. Открылись два лица святой триединой ипостаси, и логически вытекает пришествие третьего лица.
– Изобилует Библия ясными, убедительными, неопровержимо подтверждающими это текстами, – заговорил Карэ. – Об этом прорицали все пророки: Исайя, Иезекиил, Даниил, Захария и Малахия. Не оставляют места сомнениям свидетельства деяний апостольских: Откройте их и в первой же главе вы прочтете следующие строки: «Сей Иисус, вознесыйся от нас на небо, такожде приидет, имже образом видесте Его идуща на небо».
Святой Иоанн вещает об этом в Апокалипсисе, почитаемой Евангелием второго пришествия Христова: «Приидет Христос» и царствие Его пребудет тысячу лет». Неистощимы открою откровения, прорицаемые святым Павлом. В послании к Тимофею он свидетельствует пред Господом, «хотящим судити живым и мертвым в явлении Его и царствии Его». Во втором послания к солунянам апостол поучает, что после пришествия мессия «Иисус убиет антихриста духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего». Он указует, что антихрист еще не явился, и потому пришествие, о котором он пророчествует, надлежит отличать от совершившегося пришествия Спасителя чрез рождение Его в Вифлееме. В Евангелии святого Матфея Иисус так отвечает Каиафе, вопрошающему, действительно ли он Христос, Сын Божий: «Ты рече; обаче глаголю вам: отселе узрите Сына человеческого, седяща одесную силы и грядуща на облацех небесных». И в другом стихе апостол присовокупляет: «Бдите убо, яко не весте дне ни часа, в оньже Сын Человеческий приидет...» ...и много других текстов, которые я мог бы дословно привести, раскрыв Священное Писание. Нет, вне всякого сомнения, сторонники грядущего Царствия Славы опираются на непреложные откровения и могут, не опасаясь впасть в ересь, с известными оговорками исповедовать учение это, по свидетельству святого Иеронима, бывшее в IV веке общепризнанным догматом веры.
– А не пора ли нам испить сельдерейной эссенции, которую так превозносил Дюрталь?
Густой ликер был не слаще анисовой водки, только тоньше и нежнее. Лишь отпив глоток темного сиропа, ощущал человек на глубинных бугорках зева легкий букет сельдерея.
– Не худо, – объявил астролог. – Только слишком водянисто. – И он влил в свой стакан изрядную рюмку рома.
– Если вдуматься, – вернулся к прежнему Дюрталь, – то не возвещают ли третье царствие слова: «Да приидет Царствие Твое»?
– Совершенно верно, – подтвердил звонарь.
– Видите ли, – объяснил астролог, – ересь можно бы усмотреть здесь лишь тогда – и замечу, ересь бессмысленную и лживую, – если вкупе со многими исповедующими учение Утешителя признавать воплощение непосредственное и телесное. Вспомните фарейнизм, процветавший в XVIII веке в Фарейне – селении близ Дубса, где приютился янсенизм, изгнанный из Парижа после закрытия кладбища святого Медарда. Некий священник именем Франсуа Бонжур вновь чинил там распятие исцеленных, воспроизводил летаргические сцены, осквернявшие могилу дьякона Париса. Аббат этот вступил в любовную связь с женщиной, утверждавшей, что она зачала грядущего пророка Илию, который возвестит, согласно Апокалипсису, второе пришествие Христа. Ребенок родился, и вслед за ним другой, в котором признавали явленного миру Утешителя. Он торговал в Париже полотном, в царствование Луи Филиппа был произведен в полковники национальной гвардии и скончался в 1866 году человеком обеспеченным. Он – Утешитель в образе лавочника, Искупитель в эполетах и с султаном!
После него в 1886 году некая дама Брошар из Вуврэ объявила во всеуслышание, что в нее воплотился Иисус. В 1889 году какой-то почтенный безумец по имени Давид выпустил в Анжере брошюру, озаглавленную «Глас Божий», в которой он облекает себя скромным титулом «Единого Мессии Духа Святого Создателя» и сообщает, что он подрядчик общественных работ и носит бороду длиною в один метр и десять сантиметров. Не иссякли преемниками его наши дни. Инженер именем Пьер Жан объезжал недавно на коне провинции юга, возвещая, что он дух святой. Равным образом в Париже Берар, кондуктор омнибусов линии Пантеон – Курсель, свидетельствует, что в нем воплотился Утешитель, а статья журнала доказывает, наоборот, что в лице поэта Джунея осиян мир упованием на искупление. Наконец, в Америке время от времени появляются женщины, убежденные, что они единосущи с мессией, и вербующие своих приверженцев среди фанатиков-перерожденцев.
– Ересь эта, – вступил Карэ, – равносильна учению тех, которые отождествляют Господа с творением его. В Боге существуют твари Его, Он, по словам святого Павла, – высшее начало жизни их, источник движения, основа бытия. Но Он разнствует от существа их, движения, души. Лик Его особ. Он есть Тот, кто есть, как выражается Моисей.
Чрез Христа восславленного снизойдет на род людской Святой Дух. В нем обретут люди начало перевоплощения и возрождения. Но это не означает еще телесного воплощения Его. Дух Святой творит чрез Сына от Отца. Он ниспослан ради созидания, и немыслимо его олицетворение. Утверждать обратное есть чистейшее безумие, подобное падению в ереси гностиков и братчиков, заблуждениям Дульсина Наваррского и жены его Маргариты, нечестивым бредням аббата Беккарелли, мерзостным исступлениям Сегареллия Пармского, который, чтобы совершеннее воплотить собою чистую и невинную любовь Утешителя, как бы превращался в младенца и сосал, спеленатый, груди кормилицы, после чего погружался в бесстыдное распутство!
– Все это кажется мне, – заметил Дюрталь, – неясным, поскольку я понял – Дух Святой раскроется, сойдя на нас, перевоплотит нас, пересоздаст нашу душу чрез очищение страдательное, говоря языком теологии.
– Да. Он призван очистить душу нашу и тело.
– Как – тело?
– Предназначение Утешителя, – вмешался астролог, – простирается на начало зарождения. Божественная жизнь освятит органы оплодотворения, которые будут рождать тогда лишь существа избранные, свободные от прирожденного греха, существа, по самой природе избавленные от испытания в горниле – как гласит Библия – уничижения. Так поучал пророк Винтра, этот удивительный простец, написавший столь благоговейные и пламенные страницы. Учение это после его смерти продолжил и раскрыл его преемник доктор Иоганнес!
– Но вы проповедуете земной рай! – воскликнул де Герми.
– Да, настанет царство свободы, блаженства, любви!
– Я плохо понимаю, – заговорил Дюрталь. – С одной стороны, вы возвещаете явление Святого Духа и вместе с тем признаете второе пришествие грядущего со славою Христа.Совпадают ли оба царствия или же следуют одно за другим?
– Необходимо понимать разницу, – ответил Гевенгэ, – между пришествием Святого Духа и победным сошествием Христа. Одно предшествует другому. Надлежит возродить сперва человечество, воспламенить его третьей ипостасью – любовью, чтобы мог по обещанию своему сойти Иисус с облаков и воцариться над народами, созданными по Его подобию.
– Какое место отводите вы во всем этом папе?
– Ах, это одно из любопытнейших верований учения иоаннитов. Вы знаете, что в течение веков пришествие мессии распадается на два периода: жертвенное и искупительное время Спасителя, в котором мы живем, и время Христа, нами ожидаемое – Христа, совлекшего печать уничижения, сияющего в сверхобожаемом величии лика Своего. Так вот! Обе эры будут иметь различных пап. О двух верховных первосвященниках вещает Священное Писание. Замечу, что о том же свидетельствуют мои гороскопы.
Аксиома богословия учит, что с большей или меньшей силой дух Петра живет в его преемниках. И так пребудет до желанного сошествия Духа Святого, когда Иоанн, дотоле пребывавший в отдалении, начнет свое правление любви и жив будет в душах новых пап.
– Я не совсем понимаю надобность папы, когда покажется Христос, – заметил де Герми.
– Конечно, он утратит тогда свой смысл, и папы не переживут времени, определенного божественным Утешителем. Настанет конец установлению римского первосвященства в тот день, когда восславится в сияющем вихре Иисус.
– Не углубляясь в вопросы эти, о которых можно спорить годы, скажу одно, – воскликнул Дюрталь. – Изумляет меня благодушие вашей утопии, воображающей, что человек способен к совершенствованию! Вы забываете, что тварь, именуемая человеком, по природе своей себялюбива, порочна, низменна. Оглянитесь вокруг себя – что вы увидите беспрерывную борьбу, общество бесстыдное и жестокое. Разбогатевших буржуа, волков, которые гнетут бедняков униженных, затравленных! Везде торжество злодеев и посредственностей, повсюду апофеоз лжецов политики и банков! И вы верите, что можно повернуть этот поток? Нет, неизменен человек – смердела душа его на пороге бытия, и в наши дни она не менее порочна и зловонна. Меняется лишь облик человеческих грехов. Прогресс – лицемерная выдумка, которая придает изысканность порокам!
– Тем больше оснований, чтобы рухнуло общество, если оно таково, как вы его описываете, – возразил Карэ.
– Да, я не менее вашего убежден, что оно разъедено тлением и насквозь сгнило от сердцевины до покровов. Невозможно ни врачевать его, ни исцелить. Пусть исчезнет оно и возродится на его месте новое. Чудо, которое может сотворить лишь один Господь!
Де Герми заметил:
– Конечно, признавая преходящей позорную современность, неизбежно подойдешь к выводу, что лишь вмешательство Божие может смести ее с лица земли. Не социализму, не бредням невежественных, озлобленных рабочих пересоздать людей и усовершенствовать народы. Это выше человеческих сил!
– И близки, – возгласил Гевенгэ, – времена, прорицаемые Иоганнесом. Это подтверждают очевидные знамения. Раймонд Луллий свидетельствует, что кончина ветхого мира возвестится распространением учения антихристова, которое, по определению его, проявится двояко: в материализме и чудовищном чернокнижии. Пророчество, по-моему, приложимое к нашему времени. С другой стороны, весть благая осуществится, по словам святого Матфея, когда «узрите мерзость запустения, стоящую на месте святе».
И сие свершилось! Взгляните на этого папу, боязливого и сомневающегося, ласкового и лукавого, на епископов, продажных и трусливых, на духовенство, забавляющееся и изнеженное. Вспомните, как заражены они сатанизмом, и скажите, да, скажите, в состоянии ли пасть Церковь еще ниже!
– Непреложны пророчества, и не может она погибнуть! – и, облокотившись на стол, воздев глаза к небу, звонарь умоляющим голосом прошептал:
– Отче наш, да приидет царствие Твое!
– Уже поздно, пора уходить, – бросил де Герми. И когда они надевали пальто, Карэ спросил Дюрталя:
– На что же надеетесь вы, если не верите в пришествие Христа?
– Я? Ни на что.
– Мне жаль вас, неужели вы совсем не верите в лучшее будущее?
– Я верю, что – увы! – старое небо все так же будет расстилаться над запустелой, живущей бреднями землей!
Звонарь пожал плечами и грустно поник головой. Расставшись у подножия башни с Гевенгэ, они молча прошли несколько шагов. Потом де Герми заметил:
– Не удивляет тебя, что именно в Лионе произошли все события, о которых мы сегодня говорили? – и в ответ на недоумевающий взгляд Дюрталя продолжал: – Я знаю Лион и скажу тебе, что умы там дымятся, точно туманы Роны, заволакивающие по утрам улицы. По первому впечатлению это город, который восхищает путешественников, любящих его длинные проспекты, цветистые лужайки, обширные бульвары – всю елейную архитектуру современных городов. Но Лион вместе с тем убежище мистицизма, приют учений сверхъестественного, гавань сомнительных прав. Там умер Винтра, в котором воплотился, по-видимому, дух пророка Илии. Там сохранились последние сторонники Наундорфов, там процветает колдовство и в Гильотьере за золотой напускают порчу! Не забудь, что наряду с изобилием анархистов и радикалов там пышно сохранился воинствующий, твердый католицизм, что там произрастают янсенисты и лицемерная буржуазия.
Лион славится колбасой, каштанами, шелками. Но также и храмами! Все верхи его крутых улиц изборождены капеллами, монастырями, и над всеми ними царит собор Фурвьерской Богоматери. Издали это произведение зодчества похоже на опрокинутый ножками вверх комод XVIII века, но изумительна внутренность его, еще неоконченная. Как-нибудь съезди осмотреть. Ты увидишь необычайнейшее смешение ассирийского, римского, готического, не знаю, каких только стилей, измышленных, сплавленных, обновленных, согласованных Боссаном – единственным, в сущности, зодчим нашего столетия, который способен был создать внутреннее убранство собора! Корабль его сияет эмалями, мрамором, бронзой, золотом. Изваянные ангелы чередуются с колоннами, врезаясь в простую гармонию линий. Это сродни варварскому искусству Азии, напоминает здания, воздвигнутые Густавом Моро в творениях его вокруг Иродиад.
И тянутся бесконечные вереницы богомольцев. Молятся, чтобы Богоматерь дала успех в делах, открыла новые рынки шелку и сосискам. Приснодеву посвящают в торговые обманы. Испрашивают у нее указания, как продать залежавшиеся припасы или сбыть плис. В церкви св. Бонифация, посреди города, я прочел явление, в котором верующих просят из почтения к святости места не раздавать милостыню нищим. Выходит, что не пристало досадным сетованиям бедняков смущать торговые молитвы!
– Да, – продолжил Дюрталь, – но удивительно, что демократия выказала себя ожесточеннейшим противником бедных, казалось бы, что революции надлежало покровительствовать им и, однако, она обрушилась на них с наибольшей жестокостью. Как-нибудь я покажу тебе один из декретов года II. Он установляет кары не только против протягивающих руку, но и против подающих!
– А вот целительная панацея от всех бед! – засмеялся де Герми. И он указал пальцем на расклеенные по стенам исполинские афиши, в которых генерал Буланже увещевал парижан голосовать за него на предстоящих выборах.
Дюрталь пожал плечами.
– И все-таки народ этот совершенно больной. Карэ и Гевегэ, быть может, правы, утверждая, что никакое лечение не в силах его спасти!
XX
Дюрталь решил не отвечать на письма, которые посылала ему жена Шантелува. Со времени их разрыва она ежедневно писала ему пламенные послания. Но он вскоре заметил, как стихают ее вопли Менады, переходят в сетования, ропот, упреки и слезы. Она начала обвинять Дюрталя в неблагодарности, раскаивалась, что послушалась его и сделала соучастником святотатства, в котором ей предстоит дать отчет Всевышнему. Просила о последнем свидании. Потом молчала неделю и, наконец, утомленная его безмолвием, разразилась еще одним писанием, окончательно подтверждавшим их разлуку.
Признавая, что, в общем, он прав и что не сходятся они ни нравом, ни душой, она иронически заканчивала так:
«Благодарю за мимолетную любовную усладу, которой вы одарили меня, размеренную, точно нотная бумага. Но это не мой вкус, сердце мое жаждет большего...»
Ее сердце! – расхохотался он, потом продолжал читать: «Я прекрасно понимаю, что утомление его не входит ни в задачи ваши, ни в ваше призвание, но разве не могли вы оставить мне хотя бы искреннюю дружбу, которая позволила бы мне приходить иногда побеседовать с вами по вечерам, забывая о своем женском начале. Казалось бы, ничего нет легче подобных отношений, и вы, однако, сделали их невозможными. Прощайте навсегда. Мне лишь остается снова заключить с уединением, которому я пыталась изменить».
Уединение! А муж, этот степенный, лукавый плут! В сущности, у него сейчас больше всего оснований сетовать. Я обеспечивал ему спокойные вечера, жена возвращалась от меня примиренной, довольной, и пономарь этот преуспевал за счет моих стараний. Ах! Как подумаешь, что это слишком прозрачно сквозило в его лицемерных, пронырливых глазах, когда он на меня посматривал!
Наконец кончилось это подобие романа. Хорошо обладать пресыщенным сердцем! Не страдаешь, по крайней мере, ни от любовных докук, ни от разрыва!
Правда, у меня необузданный мозг, который по временам вспыхивает, но его всегда мигом загасят бдительные тушильщицы страстей.
Раньше женщины издевались надо мной, когда я был молод и пылок. Теперь я очерствел и издеваюсь над ними. Так и следует, старина, обратился он к кошке, которая, навострив уши, вслушивалась в этот монолог. В сущности, Жиль де Рэ меня занимает больше, чем госпожа Шантелув. К несчастью, мои отношения с ним тоже исчерпываются. Еще несколько страниц, и книга окончена. А вот опять идет смущать мой домашний покой этот противный Рато.
И действительно, вошел привратник, извинился за опоздание, сорвал с себя жилет и бросил подозрительный взгляд на мебель. Ринулся затем к кровати, устремился, точно борец, на матрацы, обхватил один из них обеими руками, приподнял, покачался с ним и, наконец, единым взмахом распростер его со вздохом на постели.
В сопровождении кошки Дюрталь прошел в смежную комнату, но Рато прервал вдруг свой кулачный бой и последовал за ними.
– Знаете, сударь, что со мной случилось? – пробормотал он жалобным голосом.
– Нет.
– Меня бросила жена.
– Она бросила вас! Но ей по меньшей мере шестьдесят!
Рато воздел глаза.
– И она уехала с другим?
Рато печально склонил метелку, которую держал в руке.
– Черт возьми! Неужели, несмотря на свой возраст, ваша жена предъявляла к вам требования, которых вы не могли удовлетворить?
Привратник покачал головой и сознался, что происходило раз наоборот.
– О! – удивился Дюрталь, рассматривая старого привратника, прокопченного воздухом каморки и багрового от спирта. – Но зачем бежала она с мужчиной, если хочет, чтобы оставили ее в покое?
Рато состроил гримасу презрения и сожаления:
– Представьте себе, он бессильный лежебока, ничего не стоящая тряпка – человек, которого она выбрала!
– А!
– Неприятно из-за моего места. Домовладелец не хочет привратника без жены!
«Бог мой! Какое открытие!» – подумал Дюрталь.
– А я собирался к тебе, – встретил он де Герми, который вошел, воспользовавшись ключом, оставленным Рато в двери.
– Отлично! Уборка у тебя не окончена. Как Бог снизойди с облака пыли и пойдем ко мне.
По дороге Дюрталь рассказал другу о супружеских невзгодах своего привратника.
– О! – ответил де Герми, – с каким наслаждением увенчали бы женщины череп такого пылающего старца!
Но что за гадость! – воскликнул он, указывая на стены домов, покрытые объявлениями.
Творилась истинная вакханалия афиш. Повсюду зияли большими буквами на яркой бумаге имена Буланже и Жака.
– Слава Богу, в воскресенье это кончится!
– Единственное средство вырваться из ужаса окружающей жизни, – продолжал де Герми, – это опускать глаза долу, всегда хранить вид скромный и стыдливый. На улицах ты будешь созерцать тогда лишь тротуары и рассматривать блики электрических фонарей компании Попп. На дисках этих ты увидишь сигналы, как бы литые символы алхимиков, зубчатые колеса, очертания талисманов, причудливые знаки звезд, молотков и якорей и тебе покажется, что живешь в средние века!
– Да, но тогда, чтобы не отвлекаться несносным зрелищем толпы, пришлось бы носить лошадиные наглазники и украсить голову во славу покорения Африки козырьком наподобие школьников и офицеров.
Де Герми вздохнул.
– Входи, – пригласил он, отпирая дверь. – Они устроились в креслах и закурили папиросы.
– Я все еще не опомнился от разговора с Гевенгэ у Карэ, – начал Дюрталь со смехом. – Этот доктор Иоганнес чрезвычайно любопытен! Я невольно задумываюсь над ним. Скажи, ты искренне веришь в его чудотворное лечение?
– Я вынужден верить. Я многого не рассказывал тебе потому что врач, передающий такие вещи, бесспорно, может показаться сумасшедшим. Теперь скажу откровенно, что священник этот творит исцеления невероятные.
Одно из таких чудесных спасений, и, сознаюсь, мне совершенно непонятное, привело меня к нему, когда он входил еще в состав парижского духовенства!
Взрослая дочь служанки моей матери страдала параличом рук и ног, невыносимыми болями груди и испускала вопли, когда до нее дотрагивались. Это приключилось с ней в ночь неизвестно почему, и с тех пор недуг ее без перемены длился около двух лет. Выписанная из лионских больниц как неизлечимая, она приехала в Париж и обратилась в Ла Сальпетрьер, но никто не мог определить, что с ней, и никакое лечение не в силах было ей помочь. Однажды она заговорю мной об аббате Иоганнесе, который излечивает боль страдающих такими же болезнями, как она. Я не поверил, конечно, ни единому слову, но так как известно было, что священник этот не берет совсем денег, то я ничуть не отговаривал больную посетить его. И, движимый любопытством, сопровождал ее, когда она отправилась к нему.
Ее усадили на стул, и священник этот, маленький, живой, подвижный, взял ее руку. Затем положил на нее сперва один драгоценный камень, потом поочередно другой, третий и, наконец, спокойно произнес: «Сударыня, вы жертва колдовства ваших родных».
Я едва удерживался от смеха.
«Припомните, – продолжал он, – не случилось ли у вас два года назад, незадолго до вашего паралича распри с кем-либо из ваших родственников или родственниц».
И правда, одна из теток несправедливо обвинила тогда бедную Марию в краже часов из общего наследства и поклялась, что отомстит.
«Ваша тетка живет в Лионе?»
Она сделала утвердительный знак.
«Ничего удивительного, – пояснил священник. – В Лионе среди народа много знахарей, знающих как напускать порчу и колдовство, которое применяют в деревнях. Но не тревожьтесь. Эти господа ушли недалеко, владеют лишь зачатками этого искусства. Итак, сударыня, вы хотите излечиться?» И на ее «да» он ласково сказал: «Что ж, этого довольно, пока ступайте».
Он не прикасался к ней, не прописал ей никакого лекарства. Я вышел в убеждении, что кудесник этот или шарлатан, или сумасшедший, но мне пришлось покориться очевидности, когда поднялись через три дня руки девушки, прекратились боли, а по истечении недели она начала ходить. Я поспешил тогда повидаться с этим волшебником, нашел способ оказать ему одну услугу, и с тех пор завязалось мое знакомство с ним.
– Но каковы, наконец, средства, которыми он действует?
– Подобно священнику Арскому он действует молитвой. Затем вызывает воинства небесные, разрывает магические круги, изгоняет, «распределяет», по выражению его, духов зла. Я хорошо знаю, что все это туманно, и когда я рассказываю о могуществе этого человека моим собратьям, то они или усмехаются улыбкой превосходства, или выдвигают мне драгоценное соображение, которое они изобрели, чтобы объяснить исцеления, содеянные Христом или Пречистой. Весь вопрос сводится, по их мнению, к тому, чтобы поразить воображение больного, внушить ему желание выздоровления, загипнотизировать его, так сказать, наяву. Через это якобы выпрямятся сведенные ноги, исчезнут раны, зарубцуются легкие чахоточных, рак превратится в детскую болячку и прозреют слепые!
Вот и все, что они смогли выдумать, отрицать сверхъестественную природу некоторых врачеваний! Невольно напрашивается вопрос: почему же сами они не пользуются этим способом, если он так прост!
– Разве не производили они подобных опытов?
– Да, с некоторыми болезнями. Я сам был свидетелем попыток, сделанных доктором Льюисон. Если б ты видел только! В госпитале Милосердия лечилась несчастная девушка, страдавшая параличом обеих ног. Усыпив, ей внушили встать, но тщетно силилась она подняться. Тогда двое учеников взяли ее под руки. Ее мертвые ноги подкосились, и она мучительно повисла. Нужно ли прибавлять, что она не могла переступить ногой, и, проволочив ее так несколько шагов, они уложили несчастную обратно, не добившись решительно никаких успехов?
– Скажи, доктор Иоганнес лечит без разбору всех больных?
– Нет. Он ограничивается врачеванием страданий, напущенных колдовством, и объявляет, что не способен лечить остальные болезни, которые пользуют врачи. Он посвятил себя исключительно сатаническим недугам и особое внимание уделяет бесноватым, которые, по словам его, большей частью являются жертвой колдовства, одержимы духами, следовательно, и недоступны воздействию души и ухода!
– А драгоценные камни, о которых ты мне говорил, как пользуется он ими?
– Прежде чем ответить, я объясню тебе значение и свойства этих камней. Ты узнаешь немного, если я расскажу тебе, что Аристотель, Плиний, все ученые язычества приписывали им качества целительные и божественные. Согласно учению их, агат и сердолик веселят, топаз утешает, яшма исцеляет болезни изнурительные, гиацинт разгоняет бессонницу, бирюза предотвращает падения или ослабляет их силу и, наконец, аметист рассеивает опьянение. Католический символизм в свою очередь устремляется на камни и рассматривает в них символы христианских добродетелей. Сапфир выражает возвышенные упования души, халцедон – милосердие; сердолик и оникс – чистосердечие; берилл олицетворяет мудрость богословия, гиацинт – смирение; рубин укрощает гнев, а изумруд знаменует несокрушимую твердость веры.
– Затем магия... – и де Герми встал и, отыскал в своей библиотеке крошечный томик, переплетенный наподобие требника, показал заглавие его Дюрталю.
На первой странице стояло: «Естественная магия, раскрывающая таинства и чудеса природы, составленная в четырех книгах Жаном Батистом Порта, неаполитанцем внизу: «Париж, у Николая Бонфу, Новая улица Богоматери, во имя св. Николая 1584».
Де Герми, перелистывая томик, продолжал:
– Естественная магия, или, иными словами, обычное врачевание того времени, придает драгоценным камням новый смысл. Послушай:
Восхвалив неизвестный камень «Алекторий», делаю владельца своего непобедимым при условии, что он извлечен из живота каплуна, которого откармливали четыре года, или из внутренностей курицы, Порта сообщает нам, халцедон помогает выигрывать тяжбы, а сердолик утишает кровообращение и «небесполезен женщинам, недужным нежнейшей своей телесностью», что гиацинт оберегает от молнии и одолевает моровую язву и отраву, что топаз смиряет страсти лунатические, а бирюза врачует меланхолию, четверодневную лихорадку и пороки сердца. Свидетельствует, наконец, что сапфир разгоняет страх и немощь тела и что изумруд, привешенный к шее, противоборствует болезни святого Иоанна и ломается, лицо, носящее его, преступает против целомудрия.
Как видишь, древность, христианство, мудрость XVI века совершенно расходятся в изображении особых свойств каждого камня. Разнятся почти все толкования, более или менее забавные. Доктор Иоганнес проверил эти изъяснения. Некоторые из них принял, другие отверг. По мнению его, аметист успешно врачует пьянство, но особенно – опьянение нравственное, гордыню. Рубин обуздывает половые излишества, берилл укрепляет волю, а сапфир возвышает мысли наши к Богу.
Он убежден, что каждый камень соответствует особой болезни и отдельному виду греха, и утверждает, что, когда удастся химически извлечь деятельное начало драгоценных камней, мы будем обладать не только целебными, но и предохранительными средствами против многих недугов. А пока в ожидании, что сбудется эта мечта, которая со стороны может показаться сумасбродным ребячеством, и что химия камней подведет основание под нашу медицину, он пользуется драгоценными камнями для определения особой природы напускаемой колдовством порчи.
– Но как?
– Он уверяет, что если приложить тот или иной камень к руке заколдованного или пораженной части его тела, то камень будет источать особый эфир, который он распознает, подержав камень в пальцах. Он рассказывал мне по этому поводу, как однажды пришла к нему незнакомая дама, с детских лет страдавшая неизлечимою болезнью. Нельзя было добиться от нее достаточно вразумительных ответов. И он не нашел в ней никаких следов околдования. Испытав поочередно почти весь свой запас драгоценных камней, он взял, наконец, ляпис-лазурь, соответствующий, по его мнению, греху кровосмешения. Приложил к руке ее и ощупал его.
«Болезнь ваша, – сказал он ей, – является последствием кровосмешения». «Но я пришла к вам не затем, чтоб исповедоваться», – ответила она и, однако, наконец, созналась, что ее осквернил отец, когда она еще была в незрелом возрасте. Все это туманно, противоречит всем общепринятым понятиям, чуть не безумно, но дела его налицо: священник этот излечивает больных, которых мы, врачи, признаем погибшими!
– И даже так успешно, что без его помощи умер бы единственный уцелевший в Париже астролог, наш неподряжаемый Гевенгэ. Но что за чудак! Каким образом, черт возьми, поручала ему составление гороскопов императрица Евгения?
– Я уже рассказывал тебе. Во времена империи в Тюльери усердно занимались магией. Боготворили американца Гома, который устраивал при дворе этом спиритические сеансы и, кроме того, вызывал духов ада; но кончилось это плохо. Некий маркиз умолял дать ему свидеться с покойною женой. Гом отвел его в комнату к постели и оставил одного. Что произошло там? Восстали ли грозные призраки, замогильные лигейи? Несомненно одно: несчастного нашли сраженным у подножия постели. Случай этот, о котором недавно сообщала «Фигаро», покоится на неопровержимых показаниях.
О! Не следует шутить с замогильным миром и отвергать духов зла. Я знавал одного богача, безумно увлекавшегося оккультными науками. Он был председателем теософского общества в Париже и даже написал книжку о сокровенных учениях, изданную в собрании Изиды. Не желая довольствоваться подобно Пеладану и Парюсу неведением, он уехал в Шотландию, где процветает дьяволизм. Там посетил человека, который за деньги посвящал в сатанинские чудодейства, и решился сделать опыт. Узрел ли он того, которого называет Бульвер Литтон в «Занони» «стражем порога тайны»? Мне не известно. Знаю лишь, что, разбитый ужасом, возвратился он во Францию изнуренным, полумертвым.
– Черт возьми! – заметил Дюрталь. – Тяжелое, однако, ремесло, но разве, ступив на этот путь, человек обречен вызывать лишь духов зла?
– Не воображаешь ли ты, что ангелы, которые здесь на земле повинуются только святым, последуют велениям первого встречного?
– Но, видишь ли, по-моему, есть полное основание предполагать, что между духами света и духами мрака существует звено посредствующее – духи срединные, ни небесные, ни демонические, хотя бы, например, те, которые обнаруживают такое смрадное тупоумие на спиритических сеансах!
Как-то вечером мне рассказывал один священник, что духи безразличные, средние обитают в особом пространстве, телесном, но невидимом, как бы на островке, который осаждают со всех сторон добрые и злые духи. Все больше оттесняемые, кончают слиянием с одной из противоборствующих сил. Заклиная духов этих, оккультисты, которые бессильны, разумеется, привлечь ангелов, неизбежно приводятся к общению с духами зла и волей-неволей, иногда даже бессознательно, погружаются в дьяволизм. Рано или поздно к этому неминуемо приходит спиритизм!
– Если правда, что какой-нибудь пошлый спирит может смущать покой мертвых, то тем явственнее покажется на действах их печать сатаны.
– Вне всякого сомнения, спиритизм – срам, с какой стороны на него ни взглянуть!
– Ты не веришь, значит, в теургию, в белую магию?
– Нет, это ложь! Она мишура, под которой прячут забавники, вроде розенкрейцеров, свои отвратительнейшие попытки черной магии. Никто не решится признаться, что он служит сатане. Белая магия!
Но позволительно спросить – несмотря на красивые речи, которыми приправляют ее лицемеры и глупцы, – какова природа ее? К чему может она привести? Заметь также, что церковь не обманули эти козни, и что она одинаково осуждает как ту, так и другую магию.
После молчания Дюрталь заговорил, закуривая папиросу:
– Да, это занимательнее, чем обсуждать политику и скачки. Но что за столпотворение! Чему верить? Половина учений этих безумна, другая влечет своей таинственностью. Признавать сатанизм? Я согласен, что он внушителен и кажется правдоподобным. Но тогда, оставаясь последовательным, неизбежно веровать в католицизм, а веруя, нет иного исхода молитвы. Не буддизму же или культам, ему подобным, сравниться с религией Христа!
– Что же, веруй!
– Не могу. В ней столько догматов, которые отвращают меня, которыми я возмущаюсь.
– Убежденность моя не крепче твоей, я также сомневаюсь, – говорил де Герми, – но, знаешь, бывают мгновения, как бы наитие, когда я почти верю. Для меня несомненно во всяком случае одно: существует сверхъестественное, пусть оно даже не будет христианским. Отвергать его – значит отвергать очевидность, барахтаться в корыте материализма, в тупоумии свободных мыслителей!
– Но тяжело блуждать так! Ах, как завидую я твердой вере Карэ!
– Однако ты требуешь немногого, – ответил де Герми, – это наша защита в бурях жизни, единственная преграда, за которой может укрыться с миром усталый человек!
XXI
– Понравится ли вам? – спрашивала мамаша Карэ. – Я приготовила суп и сегодня вечером подам вам бульон с вермишелью, холодный салат из говядины с селедками и сельдереем, отменное картофельное пюре с сыром и десерт. Вы полакомитесь также свежим сидром, который мы получили.
– О! О! – воскликнули де Герми и Дюрталь, в ожидании обеда проглотившие по рюмке эликсира долгой жизни.
– Знаете, госпожа Карэ, ваша кухня введет нас в грех чревоугодия; если пойдет так дальше, мы превратимся в обжор.
– Вы смеетесь! Но как досадно, что так долго нет Луи.
– Он идет, – сказал Дюрталь, прислушиваясь к скрипу подошв на каменных ступенях башни.
– Это не он, – ответила она, направляясь отпереть дверь. – Это шаги господина Гевенгэ.
И действительно показался астролог в своем синем плаще капюшоном и в мягкой шляпе. Прикоснувшись к пальцам присутствующих своими крупными перстнями, он осведомился о звонаре.
– Он у плотника; треснули дубовые брусья, на которых держатся большие колокола, и Луи боится, как бы они не рухнули.
– Черт возьми!
– Есть известия о выборах? – и Гевенгэ вынул и продул свою трубку.
– Нет, в этом квартале результаты голосования мы узнаем не раньше десяти вечера. Впрочем, исход выборов несомненен. Париж воинственно шумит, и можно поручиться, что генерал Буланже одержит блестящую победу.
– Средневековая пословица гласит, что появляются безумцы, когда цветут бобы. Но теперь, кажется, время не такое!
Вошел Карэ, извинился за опоздание и, пока жена ходила за супом, он надел калоши и отвечал на расспросы друзей:
– Да, сырость источила железные болты и разъела дерево. Балки лопаются и пора призвать плотника. Он обещал быть здесь с рабочими непременно завтра. Но я доволен, что вернулся. На улицах все сбивает меня, я тупею, теряю уверенность, хожу, как пьяный, я доволен лишь на колокольне или в этой комнате. Подожди, подай его сюда, жена, – и он взял блюдо с салатом, чтобы перемешать сeльдepeй, селедку и мясо.
– Каков аромат! – воскликнул Дюрталь, втягивая острый селедки. – Знаете, какие он мне внушает мысли? Он навевает на меня видение крытого камина, в котором потрескивают лозы можжевельника, где-нибудь в нижнем этаже, дверь которого обращена к большому порту. Мне чудится, будто струйки и соленых водорослей курятся вокруг тлеющего золота сухих головней. Как вкусно, – сказал он, отведав салата.
– Я приготовлю вам его еще раз, господин Дюрталь, на вас легко угодить, – ответила жена Карэ.
– Увы! – заговорил муж. – Телом он невзыскателен, но зато душой! Как только подумаю о его безотрадных мыслях прошлым вечером! Но мы молимся, чтобы Господь просветил его. Как, по-твоему, – неожиданно обратился он к жене, – что если воззвать к святому Ноласкию и святому Феодулию, которых изображают всегда с колоколами? Они не посторонние нам и, надеюсь, выступят предстателями за людей, поклоняющихся им и символам!
– Нужны чудеса необычайные, чтобы уверовал Дюрталь, – заметил де Герми.
– И колокола, случалось, творили их, – изрек астролог. – Помнится, я читал где-то, что ангелы звонили отходную в то время, как умирал святой Исидор Мадридский.
– А сколько еще других! – воскликнул звонарь. – Колокола сами собой трезвонили, когда святой Сигизбер пел «De Profundis» над телом мученика Пласида. И смертоубийцы бросили тело святого Еннемонда, епископа Лионского в лодку без гребцов и парусов и она плыла вниз по Сене, колокола отзывались в местах прохождения ее перезвонами решительно без чьего-либо постороннего вмешательства.
– Знаете вы, о чем я думаю? – сказал де Герми, смотревший на Карэ. – Я думаю, что вам следует заняться составлением сокращенного обзора житий святых или написать ученый фолиант о геральдике.
– Почему так?
– Бог мой, но вы так далеки от вашего времени, вас так влекут вещи, которых оно или не знает, или презирает, что это подняло бы вас еще выше! Вы, друг мой, человек, совершенно непостижимый современным поколениям. Звонить в колокола, обожая их, и посвятить себя вымершим творениям феодального искусства или монастырскому подвижничеству жития святых – как цельно было бы это, как далеко от Парижа, какая ощущалась бы в этом погруженность туда, вниз, в глубину седых веков!
– Увы! – ответил Карэ, – я ничтожный человек и ничего не знаю, но образец, о котором вы мечтаете, существует. Если не ошибаюсь, в Швейцарии есть звонарь, уже долгие годы работающий над геральдическим мемориалом. Правда, не мешало бы знать, – продолжал он со смехом, – не вредит ли одно занятие другому.
– А ремесло астролога, по-вашему, не обесславлено оно, не развенчано еще больше? – с горечью вставил Гевенгэ.
– Как вам понравился наш сидр? – спросила жена звонаря. – По-моему, он немножко не доспел?
– Нет, – ответил Дюрталь, – в нем заметна молодость и, однако, у него вкус превосходного вина.
– Жена, не жди меня, давай пюре. Я и без того задержал вас своими странствиями, а подошло время Angelus' a . He беспокойтесь обо мне, обедайте, я нагоню вас, когда вернусь.
И в то время, как муж зажег фонарь и ушел из комнаты, жена внесла блюдо, на котором покоилось нечто вроде пирога в корке, подернутой позолотой и испещренной румяными бугорками.
– О! О! – приветствовал ее Гевенгэ. – Но это же не картофельное пюре!
– Нет, пюре. Только верхушку я запекла в печке, отведайте. Думаю, что удалось, я положила туда все, что полагается.
Пюре оказалось подлинным лакомством, и они одобрили его. Потом замолчали, так как стало ничего не слышно. Колокол гудел сегодня вечером могуче и раскатистее обыкновенного. Дюрталь пытался разобраться в звоне, который, казаалось, раскачивал комнату. Звуки как бы приливали и отливали. Сначала мощный толчок языка о медную чашу, затем водоворот звуков, которые источались, рассыпаясь и закругляясь. Опять движение пестика, наносившего новый удар бронзовой ступке, извлекал другие волны звуков, которые он толок и выталкивал, наполняя ими башню. Улеглись вскоре гулкие волны, и слышалось лишь словно жужжание исполинской прялки. Медленно сочились, падая, последние капли. Вошел Карэ.
– Какое неудачное время! – задумчиво начал Гевен. – Люди ни во что не верят и с легким сердцем бросаются во все. Всякий день изобретается новая наука, сейчас, например, в науке воспитания царит так называемая Палиссада, и никто не читает больше изумительного Парацельса, который все постиг, который создал все! Попытайтесь объявить в наши дни на ваших ученых конгрессах, что по учению этого великого наставника жизнь есть капля эссенции небесных тел, что каждый член нашего тела соответствует особой планете и что мы, следовательно, являем собой преуменьшенное бытие божественных сфер, объявите им – как удостоверяет это опыт, – что всякий человек, рожденный под знаком Сатурна, непременно печален и нерешителен, молчалив и склонен к одиночеству, беден и тщеславен; что планета эта, тяжкая и в знамениях своих медлительная, предрасполагает к суевериям и обманам, что ей подвластны эпилепсии и вздутия вен, геморрои и язвы; что она – увы! – великий вербовщик острогов и больниц, и они рассмеются, они пожмут плечами – эти присяжные ослы, эти прославленные тупицы!
– Да, – продолжил де Герми, – Парацельс один из необычнейших врачевателей оккультной медицины. Он знал забытые теперь тайны крови, до сих пор не открытые целительные свойства света. Подобно каббалистам, исповедуя, что человек состоит из трех частей: видимой плоти, души и тончайшего эфира, называемого также астральным телом, он особым попечением окружал именно это последнее, а на внешнюю, телесную оболочку воздействовал способами или непостижимыми, или утраченными. Он лечил раны, не касаясь пораженных тканей, но врачуя источаемую ими кровь. Уверяют, что он успешно излечивал некоторые недуги!
– Благодаря глубоким познаниям своим в астрологии, – добавил Гевенгэ.
– Но если столь важно изучение звездных влияний, почему не имеете вы учеников? – спросил Дюрталь.
– Учеников! Но где отыскать людей, которые согласятся работать двадцать лет безвозмездно и бесславно? Прежде чем быть в состоянии составить гороскоп, надо сделаться первостепенным астрономом, основательно изучить математику и долго вянуть над темной латынью древних мастеров! Нужны еще призвание и вера, теперь погибшие!
– То же самое применимо к звонарям, – заметил Карэ.
– Нет, господа, – говорил Гевенгэ, – тот день, когда последовательное и враждебное равнодушие нечестивого народа затопило великие науки средневековья, знаменовал собою Франции конец духа! Нам остается скрестить теперь лишь руки слушать пошлые речи общества, которое то хрюкает, то предается необузданному веселью!
– Зачем так отчаиваться, будем уповать на лучшее, – тоном утешения сказала мамаша Карэ и на прощание наградила рукопожатием каждого из своих гостей.
– Века не улучшили народ, – сетовал, наливая воду в кофейник, де Герми, – но испортили, исказили его, омрачили его ум. Вспомните осаду, коммуну, бессмысленные увлечение, мятежную и беспричинную ненависть, все безумие черни, полуголодной, одурманенной, вооруженной! Не сравниться ей с наивными и милосердными простолюдинами средних веков. Расскажи, Дюрталь, что делал народ, когда Жиля де Рэ вели на костер.
– Да, расскажите это нам, – попросил Карэ, глаза которого утопали в табачном дыму трубки.
– Если хотите! Вы знаете, что за неслыханные злодеяния маршал де Рэ был приговорен к повешению и сожжению заживо. Отведенный после приговора в свою келью, он обратился с последней просьбой к епископу Жану де Малеструа. Он молил епископа предстательствовать за него у матерей и отцов, детей которых он столь свирепо осквернял и умерщвлял, чтобы благостно напутствовали те его в час казни. И народ, у которого Жиль исторгал и пожирал сердце, теперь стонал от жалости и видел в этом служителе дьявола лишь несчастного человека, оплакивавшего свои преступления, который предстанет вскоре пред грозным гневом Святой Ипостаси, и длинной процессией обходил город в девять часов утра в день казни. Он распевал псалмы, клятвенным обещанием в церквах наложил на трехдневный пост, стремясь этим обеспечить упокой души
– Как видите, мы далеки от американского закона Линча, – вставил де Герми.
– Затем, – продолжал Дюрталь, – в одиннадцать он нравился к темнице Жиля де Рэ и сопровождал его до Бьесского луга, где воздвигнуты были высокие костры, увенчанные виселицами. Маршал ободрял своих соучастников, обнимал их, умолял их «исполниться омерзением к содеянным ими злодействам и покаяться в них», молил Деву пощадить их, а духовенство, крестьяне, народ пели мрачные и молящие строфы заупокойных песнопений.
«Да здравствует Буланже!»
Словно рокот моря поднимался к башне с площади Св. Сюльпиция, и возносились протяжные крики: «Буланже! Ланже!» Чей-то осипший мощный голос – уличного торговца устрицами или разносчика – выделился из всех остальных, покрыл все хвалебные вопли и снова затянул: «Да здравствует Буланже!»
– Они чествуют исход выборов, завывают перед мэрией, – презрительно сказал Карэ.
Все взглянули друг на друга.
– Современный народ! – воскликнул де Герми.
– Ах, он не преклоняется так перед ученым, художником, даже перед существом сверхъестественным – перед святым, – пожаловался Гевенгэ.
– И, однако, делали это в средние века!
– Да, но тогда народ был бесхитростнее и возвышеннее, – ответил де Герми. – А потом, где они, эти святые, которые могли бы спасти его? Никогда не устану я повторять, что сердца современных рясоносцев потрескались, их души худосочны, умы пусты и боязливы! Или еще хуже. Они издают гнилостное тление и отравляют стадо, ими пасомое. Они каноники докры, они слуги сатаны!
– И подумать только, что этот век позитивистов и атеистов ниспроверг все, кроме сатанизма, которого он не вытеснил ни на шаг!
– Это понятно, – воскликнул Карэ, – сатанизма или не знают, или не замечают. Помнится, еще отец Равиньян доказал, что высшая сила дьявола в утверждении отрицания его!
– Бог мой! Какие отвратительные вихри застилают горизонт, – тоскливо пробормотал Дюрталь.
– Нет, – вырвалось у Карэ, – нет, не говорите так! Да, все разлагается здесь, внизу, все мертво! Но там, на небесах! Ах! Правда, долго ждем мы сошествия Духа Святого, пришествия божественного Утешителя! Но откровением вдохновлены тексты, возвещающие, будущее принадлежит вере, и займется ясная заря!
И, опустив глаза, сложив руки, он отдался пламенной молитве. Де Герми поднялся и сделал по комнате несколько шагов.
– Все это прекрасно, – брюзжал он. – Но век этот бесповоротно издевается над Христом во славе Его. Он презирает сверхъестественное, отвергает неземное. Чего ждать от будущего; как уповать, что чистые всходы произрастут от зловонных мещан нашего пошлого времени? Я спрашиваю, какую сотворят они жизнь, они, воспитанные современностью?
И Дюрталь ответил:
– Они будут жить, как отцы их и матери, будут набивать чрево свое и опустошать своей дух низменным сластолюбием!


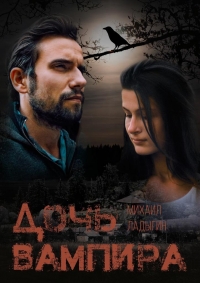

Комментарии к книге «Там внизу, или Бездна», Жорис-Карл Гюисманс
Всего 0 комментариев