Хью Уолпол Госпожа Лант
I
«Вы верите в привидения?» — спросил я Рансмана. Столь банальный вопрос мне пришлось задать скорее ради поддержания беседы, чем по какой-либо другой причине. Возможно, вам приходилось читать его книги, хотя, что более вероятно, вы не встречали их совсем — ни «Бегущего человека», ни «Вязов», ни «Хрусталя и свеч». Рансман принадлежит к целой армии писателей, чьи романы издаются незамеченными каждую осень и неизменно вызывают восторг у какой-то определенной части критиков. У этих людей небольшой круг верных почитателей, но этим и ограничивается их популярность. При встрече им нечего сказать, они часто бывают застенчивы и нервозны, мрачны и далеки от реальной жизни. Такие люди хорошо пишут, однако при жизни не находят признания. Спустя же лет пятьдесят после смерти они заново открываются каким-нибудь дотошным критиком и становятся своего рода культом для нового поколения.
Я задал Рансману этот вопрос, потому что по какой-то непонятной причине пригласил его к себе обедать, и теперь мне предстоял длинный вечер с бесконечно утомительной беседой, готовой окончательно угаснуть каждые две минуты и поддерживаемой ценой невероятных усилий. Застенчивость и нервозность Рансмана усиливались тем, что я был критиком и часто хвалил его работы; если бы я их ругал, может быть, у него нашлось бы гораздо больше слов — он относился к людям такого типа. Но мой вопрос оказался удачным: Рансман тотчас оживился, его костлявое тело наполнила новая энергия, глаза его загорелись от волнующих воспоминаний; он говорил, не останавливаясь, а я лишь старался не прерывать его. Бесспорно, он рассказал одну из самых поразительных историй, какие я когда-либо слышал. Конечно, я не могу сказать, правда то была или вымысел. Эти истории о привидениях почти всегда передаются в пересказе через вторых или третьих лиц. Но мне посчастливилось услышать такую историю от очевидца. Кроме того, Рансман не был лжецом, он был слишком серьезен для этого. Он сам, правда, признавал, что не был полностью уверен в достоверности всех подробностей по прошествии стольких лет. Так или иначе, вот его история.
— Это случилось около пятнадцати лет назад, — начал он, — я приехал в Корнуэлльс к Роберту Ланту. Вам знакомо это имя? Думаю, что нет. Он написал несколько романов, некоторые из них не относятся ни к прозе, ни к поэзии, однако им присущи мистическая аура, известная колоритность — то, что нужно для успеха. «Возвращение» Деламара — хороший пример такой вещи. Я опубликовал положительную рецензию на его последнюю книгу. И получил от него в ответ трогательное письмо, из которого понял, что этот человек жаждет признания и, как мне показалось, общения. Он жил в Корнуэлльсе, где-то на побережье. Жена его умерла около года назад, и он писал, что совершенно одинок и предлагал мне провести с ним Рождество. Он надеялся, что я не сочту приглашение неучтивым, и, хотя предполагал, что я уже буду куда-нибудь приглашен, все-таки не хотел упускать шанс. Однако ближе к Рождеству обо мне словно забыли. И я был так же одинок и неудачлив, как Лант. Как я уже сказал, я был тронут письмом и принял приглашение. По дороге в Пензанс я пытался представить его себе. Я никогда не видел его фотографий — он был не из тех писателей, чьи портреты публикуют газеты. Мне казалось, что он должен быть моего возраста, может, чуть старше. Я знаю, когда мы одиноки, то все время мечтаем, что где-нибудь отыщется друг, тот идеальный друг, который поймет все наши чувства, который будет любить без сентиментальности и интересоваться нашими делами, не становясь навязчивым, — словом, тот друг, которого мы никогда не находим. Итак, я еще не прибыл в Пензанс, а мое представление о Ланте уже было полно романтических фантазий. Вместе с ним мы могли бы обсудить все литературные проблемы, казавшиеся мне тогда такими важными. Мы могли бы часто проводить время вместе и даже съездили бы за границу в небольшое путешествие, которое быстро нагоняет тоску, если вы один, и так прекрасно, если у вас приятный спутник. Я уже мысленно видел его — слегка рассеянного, утонченного и изысканного, с налетом печали и детской игрой воображения. До сих пор нам обоим не удалась карьера, но, быть может, вдвоем мы еще совершим что-нибудь великое.
Я приехал в Пензанс уже в сумерках. Низкое небо весь день угрожало снегопадом, и теперь наконец мягко и робко пошел снег. У вокзала меня должен был встречать экипаж, и я нашел его — это была нелепая старая повозка с таким же нелепым, старым и потрепанным кучером. Память сохранила не все, и кое-какие детали я, наверное, домысливаю, но я точно помню, что, когда меня запихнули в эту повозку, на меня нахлынуло какое-то неясное опасение, предчувствие, почти страх. Я также помню свой порыв бросить все и вернуться в Лондон ночным поездом — однако подобные выходки не в моем стиле, мне более свойственна упрямая решимость доводить начатое дело до конца. В любом случае, мне было неудобно в повозке. Я помню, в ней противно пахло сырой соломой и протухшими яйцами. Это меня сковывало, и было чувство, что раз я сюда попал, то уже никогда не выберусь. Кроме того, было очень холодно. Не помню, чтобы я когда-нибудь так сильно мерз. Этот пронизывающий холод, казалось, проникал в мозг, и я мог думать только об одном: зачем меня сюда занесло? Я ничего не видел и угрюмо подсчитывал тряские ухабы темной разбитой дороги. Я слышал, как нависающие ветви деревьев стучали по бокам повозки, как будто хотели предупредить меня о чем-то. Но я не должен искажать факты и тем более стараться увидеть в них предзнаменование последующих событий. Я лишь говорю, что чем дальше я ехал, тем несчастнее становился, измученный холодом, разыгравшимся воображением и чувством одиночества.
Наконец экипаж остановился. Старое чучело сползло со своего насеста, с многочисленными причитаниями и вздохами приблизилось к дверце и с большим трудом и раздражающей медлительностью открыло ее. Я вышел и обнаружил, что снег идет уже густой пеленой и дорожка к дому освещена его мягким таинственным мерцанием. Передо мной лежала сгорбленная, невеселая тень дома, который должен был принять меня. В темноте все было лишено четкости, и я ожидал, содрогаясь, пока старик энергично жмет на кнопку звонка, как будто желая поскорее сбыть меня с рук и вернуться в свой дом. Казалось, прошла вечность; наконец дверь открылась, и в нее просунулась голова старика, который вполне мог бы оказаться братом кучера. Эти двое обменялись несколькими словами, в результате чего мои вещи были внесены, а мне было позволено войти внутрь с пронизывающего холода.
Это уже была не фантазия. Никогда в жизни ни одно жилище я не возненавидел так яростно с первого же взгляда, как этот дом. Холл не произвел на меня особенно отталкивающего впечатления. Он был большой и темный, освещен двумя тусклыми лампами, холодными и унылыми. Но после него у меня не осталось отчетливого впечатления, так как меня тут же провели по коридору в комнату, которая оказалась настолько же теплой и приятной, насколько темным и угрюмым был холл. Я был так рад большому пылающему камину, что сразу направился к нему, не заметив присутствия хозяина. А когда заметил, то не мог поверить, что это, в самом деле, он. Я описал вам человека, которого ожидал увидеть, но вместо рассеянного, чувствительного художника меня разглядывал здоровяк шести футов роста и, должен сказать, столь же широкий в плечах, как и высокий, с великолепной мускулатурой и лицом, нижнюю часть которого скрывала черная остроконечная борода. Но если меня поразил его вид, то не меньшее изумление вызвал его высокий, тонкий голос. Его нервные жесты были еще более женственными, чем голос. Впрочем, это можно отнести к признакам волнения, а он действительно был взволнован. Он подошел, взял обеими руками мою руку и держал ее так, будто не собирался отпускать уже никогда.
Вечером, за рюмкой портвейна, он извинился:
— Я так вам обрадовался, — сказал он, — я не мог поверить, что вы на самом деле приедете. Вы первый человек, который приехал ко мне сюда за все время. Мне было стыдно просить вас об этом, но я не мог упустить шанс — это так много для меня значит.
В его пылкости было что-то беспокойное и одновременно трогательное. Он не мог меня развлечь ничем особенным: провел по разрушающимся галереям со скрипящими при каждом шаге полами, по каким-то темным лестницам со стенами, увешанными, насколько я мог различить в тусклом свете, выцветшими, пожелтевшими фотографиями, и проводил в мою комнату с извинениями и с таким волнением, будто ожидал, что, увидев ее, я тотчас же сбегу. Комната понравилась мне не больше, чем иные помещения в доме, но хозяин в этом не был повинен. Он сделал для меня все возможное: в камине ярко горел огонь, большую кровать с пологом согревала горячая грелка, а старый слуга, открывавший дверь, уже распаковал чемодан. Волнение Ланта было скорее сентиментальным. Он положил обе руки мне на плечи и сказал, глядя на меня с признательностью:
— Если бы вы только знали, что для меня значит ваш приезд, наши будущие беседы… Я должен вас оставить, но вы присоединитесь ко мне, как только сможете, не правда ли?
Когда я остался один в своей комнате, у меня во второй раз возникло желание бежать. Четыре свечи в высоких старых серебряных подсвечниках вместе с мерцающим пламенем камина давали достаточно света, но все равно комната оставалась мрачной; казалось, что вся она заполнена легкой дымкой. Я помню, что подошел к одному из зарешеченных окон и распахнул его, как будто почувствовал удушье. Но мне пришлось тут же закрыть его по двум причинам. Первая — сильный холод, вместе со снегом заполнивший комнату, а вторая — совершенно оглушающий рев моря, бьющий в уши, словно стремящийся свалить с ног. Я быстро закрыл окно, повернулся и увидел пожилую женщину, прислонившуюся спиной к двери.
Тут следует заметить, что интерес к подобного рода историям зависит от их правдоподобия. Конечно, чтобы мой рассказ выглядел более убедительным, мне следовало бы привести доказательства того, что я действительно видел эту пожилую женщину, но у меня их нет. Может быть, здесь уместно напомнить о моей довольно тривиальной репутации правдивого человека. Вы знаете, что я никогда не увлекался спиртным, да к тому же доказательством может служить то, что я никак не ожидал увидеть эту женщину, и, тем не менее, у меня нет ни малейшего сомнения, что именно ее я увидел в тот вечер. Можно, конечно, рассуждать о тенях, об одежде, висящей на внутренней стороне двери, и тому подобном. Ну, не знаю. У меня нет никаких теорий, объясняющих эту историю. Я не экстрасенс, и мне кажется, что я не верю ни во что в этом мире, кроме красоты.
Если вам так больше нравится, давайте скажем, что я вообразил, что вижу некую пожилую женщину, но мое воображение и по сей день прочно хранит все подробности того, как она выглядела. На ней было черное шелковое платье, на груди блистала массивная золотая брошь; ее черные волосы были зачесаны со лба и посредине разделены пробором, шею облегал воротник из белой ткани. Лицо ее выражало неприязнь и вместе с тем такую порочность и хитрость, какие мне встречать не приходилось, к тому же оно было очень бледным. Несмотря на морщины, чувствовалось, что в молодости она была красива. Она стояла тихо, руки ее были опущены. Я решил, что она здесь служит кем-то вроде экономки.
— Мне ничего не нужно, благодарю вас, — сказал я. — Какой замечательный вид, — я на минуту устремил взгляд к окну, а когда обернулся, ее уже не было в комнате. Я, естественно, не придал этому никакого значения, придвинул к огню старый, покрытый поблекшим зеленым гобеленом стул, решив почитать захваченную с собой книгу, прежде чем присоединиться к хозяину. Честно говоря, я не слишком торопился продолжить общение с ним. Мне он не понравился. Я уже решил про себя найти какой-нибудь удобный предлог и вернуться в Лондон как можно скорее. Я не могу сказать определенно, почему он мне не понравился, исключая тот факт, что сам я, будучи человеком очень сдержанным, подобно многим другим англичанам, не любил открытого проявления чувств, особенно со стороны мужчин. Мне совсем не понравилась его манера класть руки мне на плечи, и я чувствовал, что не выдержу долго его экзальтированной суеты вокруг моей персоны.
Я сел на стул и взялся за книгу, но не прошло и двух минут, как я почувствовал крайне неприятный запах. На свете существует множество дурных запахов — от неисправной канализации или спертый воздух непроветриваемого помещения; иногда вы можете его почувствовать в маленьких деревенских харчевнях либо в ветхих городских гостиничках. Этот запах был настолько явственен, что я без труда мог определить, откуда он исходит, — он шел от двери. Я встал, подошел к двери, и у меня сразу же возникло ощущение, что я приближаюсь к кому-то, кто — прошу прощения за эвфемизм — не привык слишком часто принимать ванну. Я отпрянул, как если бы в действительности там кто-то был. Затем совершенно неожиданно запах исчез, воздух в комнате посвежел, и, к моему удивлению, я заметил, что одно из окон в комнате распахнулось и в него опять задувает снег. Я закрыл окно и спустился вниз.
Последовавший за этим вечер протекал довольно странно. В сущности, ничего отталкивающего в Ланте не было, и он делал все возможное, чтобы доставить мне удовольствие. Он обладал глубокой эрудицией, хорошо разбирался в книгах и во многих других предметах. Постепенно Лант пришел в хорошее расположение духа; он угостил меня недурным ужином в забавной старой маленькой гостиной, на стенах которой висело несколько прекрасных гравюр. За столом прислуживал старый слуга — ветхий старичок; как ни странно, именно благодаря ему ко мне вернулись прежние неприятные предчувствия. Он как раз подавал десерт и ставил передо мной тарелку, как вдруг вздрогнул и посмотрел на дверь. Я обратил на это внимание потому лишь, что его рука, державшая тарелку, дрогнула. Я проследил за его взглядом, но не увидел ничего необычного. Было совершенно очевидно, что он чем-то напуган, и тут же (это вполне могло быть результатом воображения) мне показалось, что я снова ощутил тот странный неприятный запах.
Я совершенно забыл об этом, когда мы вместе с Лантом расположились возле растопленного камина в библиотеке. У Ланта была прекрасная коллекция книг, и он был в восторге, как и любой коллекционер, от представившейся возможности продемонстрировать свои сокровища человеку, понимавшему в этом толк. Мы рассматривали книгу за книгой и оживленно обсуждали ранних английских романтиков, которые особенно меня привлекали, — Бейджа, Годвина, Генри Маккензи, госпожу Шелли, Мэта Льюиса и других, — когда он снова вызвал у меня раздражение, обняв меня за плечи. Я всю жизнь терпеть не мог прикосновений людей определенного типа. Мне кажется, это свойственно большинству людей. Это вещь совершенно необъяснимая; мне стало до того неприятно, что я резко отпрянул. И тотчас же он превратился в человека, охваченного неистовым, неуправляемым приступом ярости. Мне показалось, что он собирается ударить меня. Его била крупная дрожь, он выкрикивал какие-то бессвязные слова, словно сошел с ума и сам не понимал, что говорит. Он обвинял меня в том, что я оскорбляю его, пренебрегаю его гостеприимством и не способен оценить его доброту, и в прочей чепухе. Не могу передать вам, насколько странно было слышать его высокий пронзительный голос, словно кричала возбужденная женщина, и при этом видеть перед собой крупного мужчину, его широченные плечи и бородатое лицо.
Я ничего не сказал в ответ. Честно говоря, я трусоват. И больше всего на свете я не люблю ссор и скандалов. Наконец, выдавив из себя: «Мне очень жаль, я не хотел вас обидеть. Пожалуйста, извините меня», я торопливо повернулся, чтобы выйти из комнаты. Сразу же его поведение резко изменилось; он чуть не плакал. Он умолял меня не уходить, ссылался на свой отвратительный характер, жаловался на то, что он очень несчастен и так долго пребывает в одиночестве, что даже не понимает, что говорит. Он просил дать ему возможность рассказать свою историю, и тогда я, может быть, смогу отнестись к нему с большим снисхождением.
Так уж странно устроен человек, но мои чувства по отношению к Ланту резко изменились. Мне стало его очень жаль. Я понял, что нервы его напряжены до предела, и он действительно нуждается в помощи и участии: он просто сойдет с ума, если их не получит. Я положил ему руку на плечо, чтобы успокоить его, и почувствовал, что он весь дрожит. Мы снова сели в кресла, и Лант, запинаясь, поведал мне свою историю. Ничего необыкновенного в ней не было. Дело в том, что лет пятнадцать назад он женился на дочери соседского священника; не по большой страсти, а, скорее, чтобы в доме был живой человек. Они не были особенно счастливы вместе, и он мне признался, что в конце концов возненавидел свою жену. Она была скупой, властной и очень ограниченной. Он не испытал ничего, кроме облегчения, когда около года назад она неожиданно умерла от сердечного приступа. Он думал, что жизнь его станет легче, но ошибся, дела валились у него из рук с тех пор. Друзья перестали навещать его, с трудом ему удалось нанять слуг, чтобы следить за домом; он был абсолютно одинок, страдал от бессонницы — вот почему его нервная система была на пределе.
В доме Ланта не жил никто, кроме старика, который, к счастью, прекрасно готовил, и мальчика — его внука.
— Я думал, — заметил я, — что этот замечательный ужин приготовила ваша экономка.
— Моя экономка? — искренне удивился он. — Но в доме нет ни одной женщины.
— Нет же, она заходила ко мне в комнату сегодня вечером, — ответил я, — очень благообразная пожилая дама в черном шелковом платье.
— Вам показалось, — произнес он таким странным голосом, как будто изо всех сил старался сохранить самообладание.
— Я уверен, что видел ее, — настаивал я, — здесь не может быть никакой ошибки. — И я описал ее внешний вид.
— Вам показалось, — повторил он, — разве вы не понимаете этого, когда я говорю вам, что в доме нет ни одной женщины?
Я поспешил согласиться с ним, чтобы не вызвать очередного приступа ярости.
Затем последовала очень странная просьба.
С таким выражением, словно его жизнь зависела от этого, он умолял меня побыть с ним несколько дней. Он намекал, хотя и не сказал ничего определенного, что у него крупные неприятности, и если бы я только остался на несколько дней, то все проблемы были бы решены, и если у меня в жизни есть шанс совершить благой поступок, то это тот самый случай. Конечно, он не вправе принуждать меня оставаться в таком неприятном месте, но никогда этого не забудет, если я все же решусь остаться.
В его голосе было столько настойчивости, что я стал успокаивать его, как ребенка, обещая остаться, и в конце концов мы пожали друг другу руки, словно давая клятву верности.
II
Я понимаю, что вы ждете от меня последовательного изложения всех последующих событий, и, если происшедшее несчастье покажется вам случайностью, я могу сказать, что именно так все и было. С тех самых пор, как случилась эта история, я пытаюсь в ней разобраться, но концы с концами никак не хотят сходиться, и это общая беда всех происшествий, связанных с привидениями.
Честно говоря, после этого странного эпизода в библиотеке я очень хорошо провел ночь. Я спал крепким сном в уютной и теплой кровати под шум прибоя под окнами.
Наступившее утро было ярким и свежим, солнце сверкало на снегу, и снег отражал солнце, словно они радовались встрече друг с другом. Я приятно провел утро, рассматривая книги Ланта, беседуя с ним, и написал несколько писем.
Должен признаться, что в конце концов я проникся симпатией к этому человеку. Его просьба тронула меня. Видите ли, так мало людей когда-либо просили меня о помощи.
Нервозность его осталась прежней, как и постоянные дурные предчувствия, но он старался держать себя в руках, делая все возможное, чтобы я чувствовал себя спокойно и не покидал его, в чем он так остро нуждался.
Должен сказать, что, если бы я не был так увлечен книгами, я вряд ли бы благоденствовал. Стоило прислушаться, как вы тут же начинали ощущать зловещую тишину, царившую в доме. Помню, когда я сидел за старым бюро и писал письмо, подняв голову, я поймал взгляд Ланта, как будто раздумывавшего, не заметил ли я чего-нибудь. Я прислушался, и мне показалось, что кто-то стоит за дверью библиотеки; необычное впечатление, ничем не подтвержденное, но я мог бы поклясться, что, если бы я подошел к двери и распахнул ее, передо мной бы оказался загадочный некто.
Тем не менее, я был достаточно бодр, а после ленча почувствовал себя вполне довольным. Лант предложил мне прогуляться, и я с удовольствием согласился.
По хрустящему снегу мы спустились с пригорка, на котором стоял дом.
Я не помню, о чем мы говорили; нам было легко общаться в тот день.
Через поля мы дошли до места, откуда было видно море — гладкое, как шелк, — и повернули обратно. Помню, я воодушевился настолько, что будущее стало представляться мне в самых радужных тонах. Я начал понемногу делиться с Лантом своими планами, надеждами на издание книги, к работе над которой я только что приступил, и даже стал туманно намекать, что, может быть, мы могли бы опубликовать что-нибудь вместе; я полагал, что мы оба нуждались в друге, имеющем взгляды и вкусы, подобные нашим.
Помню, пока я говорил, мы пересекли маленькую деревенскую улицу и повернули на тропинку, ведущую к темной аллее, примыкающей к дому.
Именно в этот момент все неожиданно изменилось.
Сначала я заметил, что он меня не слушает, а смотрит мимо меня в самую гущу деревьев, окаймлявших серебристый ландшафт. Я тоже взглянул туда, и сердце мое забилось сильнее.
Там, как будто ожидая нас, прямо перед деревьями стояла та самая пожилая женщина, которую я видел у себя в комнате.
Я остановился.
— Вот же она! — воскликнул я. — Та самая женщина, о которой я говорил!
Он схватил меня за плечо.
— Там никого нет, — сказал он, — разве вы не видите? Это тень. Что с вами? Разве вы не видите — там никого нет!
Я шагнул вперед — действительно, там никого не было, и по сей день я не могу определенно сказать, была ли это галлюцинация или нет. Я знал лишь одно — все вокруг померкло с этой минуты.
Когда мы в молчании вошли в аллею, было уже так темно, что я с трудом различал дорогу. Запыхавшись, мы подошли к дому.
Лант поспешил в кабинет, словно забыв обо мне, но я пошел за ним. Закрыв за собой дверь кабинета, я собрал все силы и сказал:
— Что вас тревожит? Вы должны сказать мне! Иначе как я смогу вам помочь?
Он ответил странным голосом — голосом помешанного:
— Повторяю, меня ничего не тревожит. Можете вы мне поверить! Я в полном порядке… О Боже! Боже мой! Не уходите! Именно сегодня, этой ночью, она сказала… Но я ничего не сделал, говорю вам, ничего, все это только ужасная злоба…
Он умолк, но все еще не отпускал мою руку. Он делал какие-то непонятные знаки, вытирал взмокший лоб, просил моей защиты. Потом вдруг опять разозлился, но снова просил, умолял, хотя я ему ни в чем не отказывал.
Я понимал, что он был близок к сумасшествию, и меня самого стал одолевать страх от этого сырого и темного дома, от большого дрожащего человека и от чего-то, что было еще страшнее. Мне было жаль его, но что я мог сделать?
Что бы вы или кто другой сделали на моем месте?
Я усадил его в кресло перед камином, в котором теперь мерцали лишь несколько красных угольков. Он не отпускал меня ни на шаг, сжимая мою руку в своей.
Я повторил как только мог спокойно:
— Не бойтесь, расскажите мне, что вы сделали, чего вы боитесь, и тогда мы вместе встретим опасность.
— Боюсь! Боюсь! — повторил он, а потом, с огромным усилием взяв себя в руки, что не могло не вызвать моего уважения, сказал: — Я потерял голову от одиночества и уныния. Ровно год назад в эту самую ночь умерла моя жена. Мы ненавидели друг друга. Я нисколько не сожалел о ее смерти, и она это знала. Во время того последнего приступа, уже задыхаясь, она сказала, что вернется; я всегда страшился этой ночи. Отчасти поэтому я пригласил вас. Чтобы не быть одному, чтобы хоть кто-то был рядом со мной. И вы были так добры — более добры, чем я имел право ожидать. Вы, должно быть, считаете меня сумасшедшим, раз я говорю такие вещи, но сегодняшнюю ночь мы проведем вместе. Не бросайте меня!
Я пообещал, что не покину его, и изо всех сил старался его успокоить.
Не знаю, сколько времени прошло с наступления темноты. Ни один из нас не пошевелился, огонь погас, и лишь сквозь расшторенное окно в комнату проникали причудливые, бледные снежные блики.
Теперь все это кажется нелепым. Мы сидели: я на стуле, вплотную придвинутом к его креслу, рука в руке, словно влюбленные. Но на самом деле испуганные, полные ужаса перед надвигающейся неизвестностью, не в силах ничего предотвратить.
На меня нашло странное оцепенение, и я не мог преодолеть его. Что бы другой предпринял на моем месте? Позвал бы слугу, послал бы за доктором, отправился бы в деревенский кабак? Я же ничего не мог сделать, только следил за снежными бликами, дрожавшими на стенах. Напряженную тишину прерывал лишь доносящийся из леса крик совы.
Странно, но я, как ни стараюсь, не могу вспомнить, что было между тем странным бодрствованием и моментом, когда я очнулся от продолжительного сна, сел в своей постели и увидел Ланта, стоящего в комнате со свечой в руках.
Он был в ночной рубашке и казался настоящим гигантом при свете свечи, его черная борода резко выделялась на белом полотне рубашки. Очень тихо он подошел к кровати; свеча отбрасывала колеблющиеся тени.
Когда он заговорил, его голос был низким, приглушенным — почти шепот:
— Придите на полчаса, только на полчаса, — он смотрел на меня так, словно видел впервые, — я страдаю, когда остаюсь один, очень страдаю.
Он оглянулся, поднял свечу высоко над головой и пристально осмотрел все углы комнаты. Я видел, что с ним что-то произошло, и он сделал еще один шаг в царство страха — шаг, который разделил его со мной и с любым другим человеческим существом. Он прошептал:
— Когда пойдете, ступайте мягче; я не хочу, чтобы нас кто-нибудь услышал.
Я сделал все, что мог.
Я встал с кровати, надел халат и попытался убедить его отложить все до утра.
Огонь уже погас, но я предложил вновь развести его и дождаться рассвета.
Но он снова и снова повторял:
— В моей комнате лучше, там мы будем в безопасности.
— В безопасности? От чего? — спросил я.
Он дико посмотрел на меня.
— Лант, очнитесь! Вы словно спите. Бояться нечего. Здесь никого, кроме нас, нет.
Но он не отвечал и молча потащил меня вперед по темному коридору в свою комнату.
Он сел, сгорбившись, на кровати, обхватил руками колени и, вздрагивая, уставился на дверь. Комнату освещала только свеча, уже догоравшая, и единственным звуком был мурлыкающий шепот моря.
Для него, казалось, не имело значения мое присутствие. Он не смотрел на меня — только на дверь. Когда я что-то говорил, он не отвечал и, казалось, даже не слышал меня.
Я сел напротив кровати и, чтобы прервать молчание, начал говорить о чем попало, иногда погружаясь в легкую дремоту, как вдруг его голос прервал меня. Очень четко и ясно он произнес:
— Если я убил ее — она это заслуживала. Она с самого начала была плохой женой. Она специально изводила меня, зная мой темперамент. Впрочем, ее характер был еще хуже моего. Она ничего не сможет со мной сделать, я так же силен, как она.
Именно в тот момент, если я не ошибаюсь, его голос перешел в нежный шепот, словно он был доволен, что его опасения подтвердились. Он прошептал:
— Она здесь.
Я не могу выразить, настолько сильно этот шепот подействовал на меня. Страх охватил все мое существо. Я ничего не видел — свеча погасла, в комнате стало совершенно темно.
Неожиданно Лант пронзительно закричал, словно измученное животное в агонии:
— Не подпускайте ее ко мне, не пускайте ее ко мне, не пускайте!..
Он вцепился руками мне в плечи. Затем его охватило оцепенение. Пальцы разжались, и он рухнул на кровать, раскинув руки, как будто его кто-то толкнул. Все его тело содрогалось в конвульсиях, но наконец он затих. Я ничего не видел, только отчетливо ощутил знакомое зловоние. Я бросился к двери, открыл ее и начал громко кричать. Скоро прибежал старый слуга. Я послал его за доктором, а сам остался стоять в коридоре, не в силах вернуться в комнату.
Ничто не нарушало тишину, кроме шепота моря и тиканья часов.
Я распахнул окно в конце коридора, и в дом стремительно ворвался рев моря.
Часы пробили час ночи.
Наконец, набравшись храбрости, я вернулся в комнату…
— Ну же?.. — спросил я, видя, что Рансман молчит. — Он, конечно, был мертв?
— Да, он умер. Доктор сказал, что это был сердечный приступ.
— И? — снова спросил я.
— Все. — Рансман помедлил. — Не знаю, можно ли вообще назвать это историей о привидениях. Может быть, пожилая женщина мне померещилась. Я даже не знаю, как выглядела его жена при жизни. Она могла быть большой и толстой. А Лант умер от угрызений совести.
— Возможно. — Я покачал головой.
— Вот только одно странно, — добавил Рансман после длинной паузы, — на его шее были пятна, похожие на следы пальцев. Царапины и бледные, голубые пятна. Впрочем, он мог сам в страхе сжать себе горло.
— Возможно, — повторил я.
— Как бы то ни было, — признался Рансман, — с тех пор я не переношу Корнуэлльс. Отвратительное место. Там происходят странные вещи, словно сам воздух пропитан угрозой.
— Увы, мне многие говорят об этом, — ответил я. — А теперь нам обоим не мешало бы выпить.

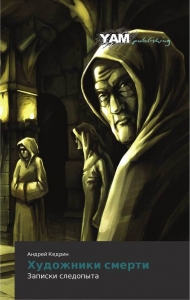

Комментарии к книге «Госпожа Лант», Хью Уолпол
Всего 0 комментариев