Клод Сеньоль Чупадор
I
Терзающая боль возвращается ночью; вот уже несколько недель кровь по капле покидает мое тело, уходит из корней жизни — артерий и вен… Превратившись в бледную обескровленную плоть, распростертую на постели, я вдруг замечаю светящийся призрак, высящийся в центре спальни: это я сам в виде сетки кровеносных сосудов — сверкающая вывеска человека, с которого живьем содрали кожу.
Мой истерзанный дух тщетно пытается вникнуть в непонятное искупление грехов, которому я подвергнут ужасным физическим раздвоением… Приводя меня в отчаяние, жизненные соки утекают вовне, чтобы преобразоваться перед моим взором в некое хитросплетение красных артерий, которые трепещут в ритме биения моего сердца и разрывают черноту ночи глухими монотонными ударами гонга… Метроном чудовищного пира…
Пройдет немного времени, и единственной влагой на моей иссохшей плоти останется липкий пот ужаса, ледяной и едкий. Эта тягучая влага страха и страдания сочится и наделяет подобием жизни ту личинку, в которую я превратился; во мне нарастает желание вновь захватить, отвоевать удивительную кровеносную систему, трепещущую между комодом и окном и напоминающую величественный коралл в глубинах лагуны, освещенный солнечными лучами, — так выглядит мое пурпурное Я.
Одновременно я ощущаю себя так, словно с меня заживо содрали шкуру. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем мгновением, когда мой неведомый палач просунет руки сквозь тяжелые шторы на окнах, протянет их к моей хрупкой жизненной сути, обнаженной и красной, лишенной какой-либо защиты; обратит ее в камень своим ледяным присутствием, нанесет ей внезапный удар огромными стальными кулаками; взорвет артерии и вены, и я почувствую, как внутри меня начнут вращаться стержни, обмотанные острой и раскаленной колючей проволокой.
…Опять этот вечер!.. Опять эти длинные пальцы!.. Эта рука, которая, как жирный оголодавший паук, хватает за края штор… раздвигает их… Эта кисть… эта волосатая черная рука, отсеченная у плеча, а дальше ничего… Тела нет… Потом появляется вторая кисть, которая тащит за собой руку… как чудовищный инструмент мук, утонченное орудие пытки — то крючья, то когти, плети, топоры, пилы, скальпели или молоты… Но я никогда не вижу хозяина этих рук.
Простыни вдруг обращаются в мрамор, их складки размалывают мне кости… я раздавлен между двумя тяжеленными плитами — спина и грудь прилипают к ним. Ледяные иглы боли пронзают меня. Я изнываю от холода и жестких объятий. Не могу шелохнуться, только глаза мои хранят жар жизни, следя за всеми подробностями нескончаемой и постоянно возобновляющейся казни.
…Теперь чудовищные руки-звери поднимаются вверх и подбираются к моему сердцу… Одна из них отступает, набирая силу для разгона. Вид ее исторгает из моей глотки нечеловеческий вопль, но тот натыкается на сомкнутый ужасом рот и не может вырваться наружу, чтобы позвать на помощь, которая — я это знаю — никогда не придет в нужное время. Вопль призыва застревает внутри, как вибрирующий стальной крюк.
Неумолимый кулак наносит удар по аорте, и та взрывается, словно граната… Ее осколки, тысячи затвердевших капель, коралловые жемчужины, с воем разлетаются и раскатываются по спальне, а мои глаза с отчаянием следят за бегом этих потерянных мною драгоценных капель жизни.
Внезапным поворотом та же рука разрывает грудную аорту, лопающуюся со звоном разбитого стекла, и темнота на мгновение взрывается фейерверком пунцовых огней.
Тело мое пронизано мириадами раскаленных звезд, я агонизирую, наблюдая за самим собой.
В дело вступает вторая рука… более нежная… Она осторожно берется за брюшную артерию и… резким движением вырывает ее вместе с всеми венами и капиллярами. И все это с такой легкостью, будто отламывает ветку орешника. Боль столь остра, что в моих зрачках вспыхивает пламя безумия… Затем хаос невероятных ощущений, и среди них вскоре наиболее невыносимым становится то, что все мои нервы обожжены трением наждачной бумаги, зерна которой состоят из размолотых алмазов с острыми гранями…
Наконец надо мной раскрываются иссиня-черные крылья и уносят мое сознание прочь…
Когда долгое время спустя я прихожу в себя, рук-палачей уже нет. Мой двойник из сосудов, разбитый, растоптанный, состоящий из мельчайших кусочков, валяется на полу… Но в центре, на обрывке аорты, трепещет пылающий алый подсолнечник — мое чудом сохранившееся сердце…
И тогда, благодаря Господней милости, я нахожу в себе новые силы, помогающие вырваться из мраморных тисков. Таща за собой свое тяжелое, как ядро, дыхание, я с трудом покидаю постель, падаю на дубовый паркет и на четвереньках ползу по полу, чтобы собрать воедино драгоценные остатки жизни.
Пройдя тяжелейший путь, который длится долгие часы, наконец добираюсь до обломков кровеносных сосудов, наполненных соками моей жизни, и до рассвета, плача от горя, но проникаясь надеждой, поспешно, почти с жадностью и стыдом, собираю в охапку свои артерии и малейшие кусочки рассеянных вен…
Каждый раз я вижу, что их меньше, чем накануне, и, словно опечаленное дитя, исторгающее стон, слышу, как мне вторит величественный реквием рыданий, доносящийся с небес и помогающий мне справиться с этой жуткой задачей.
Я прижимаю к себе осколки сухой и ломкой крови, и она сама занимает свое место в моей плоти, снова возобновляет свой бег, вновь становится жидкой, но с каждым разом ее все меньше.
Разбитое судно, выброшенное на берег мирного мира, я поднимаю уставшие от боли веки и вижу нежное лицо Жанны, моей жены, которое блестит от слез. Я не в силах произнести ответ, хотя вижу отчаянный немой вопрос: откуда эти непонятные муки?
II
Каждое утро по возвращении из ночного ада первым утешением становится горькая улыбка Жанны; легкое прикосновение ее ладони к моему влажному лбу и соединение наших взглядов, уставших от протекающих параллельно ночей мучений.
Так после завершения бреда я вновь встречаюсь с самим собой — с Пьером Ле Мартруа, о котором — если вы вхожи в мир искусства — вам скажут, что он приобретает, а потом по воле обстоятельств уступает… Иными словами, я — торговец картинами, открыватель талантов, создатель знаменитых имен…
Кроме Жанны, которая вместе со мной каждую ночь теряет силы, хотя я приказываю ей отдыхать, при моем пробуждении присутствует ученый свидетель, пытающийся поддержать во мне надежду. Это Гарраль, профессор Луи Гарраль, врач, получивший от меня по старой дружбе чудесную коллекцию абстрактных полотен и теперь изучающий таинственный казус — мою болезнь…
Не оставляя ни малейших следов на мне, вокруг меня, моя кровь утекает, потихоньку испаряется, и непрестанные вливания новой крови, которые производит Гарраль, не могут поддержать ее нормального уровня. Вскоре я буду сух, как пустыня Сахара.
Каждое утро ничего не понимающие врачи отступают перед неведомым. Никакого внутреннего или внешнего кровотечения, никаких повреждений капилляров, никакого кровотечения из носа, кровохарканья, никакой гематурии и даже пурпуры… Ни скрытой лейкемии, ни злокачественной экзотической болезни, ничего… Но кровь моя медленно исчезает. Нельзя же возложить вину на крохотный порез в уголке губ, который никак не затягивается — я постоянно ощущаю на языке вкус драгоценной влаги.
И поэтому, помимо известности, приписываемой мне кое-какими критиками — такими же ловцами славы, — я превратился в некую знаменитость во всех гематологических службах столицы.
* * *
Утро всегда приносит утешительные письма далеких и внимательных друзей. В них говорится о моем выздоровлении, но эти письма вызывают во мне горькие мысли о чуде. Увы, постоянство веры в них равно лишь тому постоянству, с которым утекает моя кровь, как из пронзенного насквозь человека.
У Жанны тяжелая роль, но она играет ее с совершенством — выражение ее лица успокаивает, она вся в делах: разрабатывает проекты моего выздоровления… настаивает, чтобы мы сначала посетили ее мать в Савойе… потом ее сестру в Бретани… Похоже, горят нетерпением и мои двоюродные братья на юге… По ее словам, я, не теряя ни минуты, должен поскорее встать на ноги, чтобы совершить это долгое паломничество, которое окончательно избавит меня от хвори, хотя одна только мысль о поездке отравляет мне жизнь, а выполнение этого замысла могло бы лишить сил даже самого закаленного атлета.
Жанна говорит слишком много.
Гарраль, который сотню раз на дню сдерживается, чтобы не пощупать мне пульс, уверяет, что наконец обнаружил причину моего недуга, но для подтверждения диагноза ждет последнего анализа. Он изображает огромное удовлетворение и старается походить на Пастера, который только что создал сыворотку против бешенства. Но почему его лоб постоянно нахмурен? Почему он озабоченно покачивает головой, когда медсестра с лицом и шевелюрой сфинкса то и дело наполняет свежей кровью мои жаждущие артерии?
Жанна, быть может, не знает, но нам с Гарралем ясно, что я неотвратимо иду к смерти.
* * *
После полудня я засыпаю, попросив, чтобы в спальню впустили дневной свет, а если он слишком слаб, то требую зажечь все лампы. К вечеру тоска проникает в самые отдаленные уголки моего существа, готовя меня к страданиям.
Но у меня еще есть время на короткий отдых, ибо это тот час, когда один за другим, тихими шагами, чрезмерно соблюдая тишину, желая показать, как они прониклись моим состоянием, ко мне приходят близкие, словно предвосхищая тот момент, когда я буду окончательно мертв, а они явятся созерцать мой труп при свете четырех свечей.
Из-за них и ради них я преодолеваю муку бесконечной чайной церемонии, которой руководит Жанна. Друзья потрясены моим постоянным молчанием, моим состоянием послушного лежачего пациента, восковой бледностью лица и безмерной усталостью взгляда. Я же пытаюсь справиться с их неодолимым молчанием, желанием воссоздать атмосферу таких близких прежних дней, когда мы растаптывали или возвышали ту или иную картину, того или иного художника, чье-то определенное имя… Почти незаметно мои посетители переходят к критике; голоса звучат громче, друзья принимают чью-то сторону, вопрошают, заставляя меня опускать веки в знак согласия или протеста, а то и просто спорят без зазрения совести.
Их мнение категорично, они доказывают мне, что моя болезнь ничто по сравнению с наглостью того-то или с избыточностью натуры такого-то.
Вскоре, благодаря им, я немного оживаю и забываю об ужасающем ночном погружении в бездну, которое мне вскоре предстоит испытать.
Хранительница моего спокойствия, Жанна переходит от одного к другому и возвращает их к мирным высказываниям. Она словно снимает нагар со свечей, чтобы пламя их было снова прямым и ровным.
* * *
Сегодня вечером все единодушны в восхвалениях и сожалеют, что болезнь не позволила мне первому открыть и ввести в храм славы некого Эль Чупадора, чье самое великое достоинство в том, что его имя объединяет их всех.
Галерея Ламбер, всегда закрытая для неизвестных художников, не только предоставила ему стены, но и издала роскошный каталог, первый тираж которого разошелся мгновенно, а второй уже подходит к концу.
Этот художник рисует пером, а его техника тщательной разработки темы роднит творца с демоническими сюрреалистами. Сила его искусства, его колдовская опора в том, что, создавая странные видения странного мира, он использует ярко-красную тушь с золотыми отблесками, которую еще никто никогда не использовал… Честно говоря, это шедевры внутреннего экспрессионизма.
— Единственный, кто ничем вам не обязан, — добродушно заявляет Барнхейм из галереи Барнхейм, прощаясь.
III
…Теперь, когда разделение моей крови и плоти состоялось, боль стала еще острее. Дрожа от холодного прикосновения мраморных простынь, я со страхом слежу за бархатными шторами, за первыми движениями ужасных рук, которые еженощно гонят меня к смерти, но никогда не загоняют в нее окончательно…
Пурпурные переплетения моих артерий, опутанные змеящимися венами и торчащими как иглы капиллярами, выглядят невероятным и ошеломительным произведением чистого искусства, которое иногда позволяет улучшить тоскливое настроение.
…НО!..
Да, шторы колыхнулись!.. Чудовища о пяти пальцах ищут проход… Вот первый палец… остальные… Взрываясь, словно рваные звуки фанфары, вступившей не в лад с оркестром, мои чувства взмывают в мертвящей симфонии… Гарпуны моих воплей впиваются в глотку… Мрамор моих простынь с силой сжимается, раздавливая меня едва ли не до смерти — в ушах стоит глухой треск ломающихся костей.
Однако в эту ночь руки не превращаются в клещи или насос. Ни единое ледяное дыхание не обращает мою кровь в хрупкое и ломкое стекло. Напротив, я ощущаю нежное тепло соков, которые поддерживают во мне жизнь… Я наслаждаюсь эйфорией, поскольку от привычной муки меня отделяют десятки вселенных.
… Простыни мои из шелка; лимфа моих страхов пахнет духами; легка моя обласканная плоть; ленивы мои мысли; сглажена моя горечь; жива моя надежда…
Какие нежданные мгновения!
Но вдруг я вижу светящуюся розу — свое сердце в оболочке света, которое ускоряет биение и сбивается с обычного ритма. Оно предупреждено раньше меня и знает, сколь утонченные ощущения ждут меня в эту ночь.
…Жадные пальцы становятся мягкими, осторожно ласкают друг друга. Так поступают хирурги перед началом опасной операции… И я уже испытываю муку от нездоровых намерений терпеливых рук, готовящихся к выполнению своей роли…
Если бы можно было вскочить, побежать, завладеть этими двумя отвратительными штуками. Вступить в борьбу с ними, найти окончательную смерть, дать себя задушить, если так суждено, но не угасать в ритме капельницы долгими ночами страданий и боли, настроенными на безжалостное движение часового механизма!
..Наконец руки осторожно хватаются за кончик одной из артерий… начинают вытягивать ее, как огромного червя, и сматывать в моток. Эластичные пальцы тянут артерию, отбрасывая ненужные вены и капилляры, как сорняки. Пальцы выполняют работу с тщательностью и получают ровный моток артерии без ее разветвлений…
Ощущая невыносимое движение вытягиваемой артерии, я даже не могу для облегчения страданий застонать, как человек, которого заживо лишают корней жизни.
… Когда все мои артерии смотаны в ровные мотки и уложены на подоконник, я понимаю, что сегодня навсегда лишусь своей крови… В отчаянном усилии мне удается пронзить собственную грудь душераздирающим воплем. Увы! Это лишь глухой стук куска мрамора, который падает на пол, не вызвав даже эха.
Закончив свой неторопливый труд, руки неспешно удаляются, унося с собой мотки моей крови…
Хватит ли ее у меня до утра, когда мой бессильный друг напоит меня пурпурной влагой!
* * *
Небесный дар — дневной луч падает на меня и укутывает теплом. Он со спины освещает Жанну, стоящую на коленях у моего изголовья, — ее окружает золотой ореол, такой же, что окружал, наверное, первую женщину.
В этом сиянии Жанна движется как истинный ангел, совсем не похожий на раскрашенные деревянные фигуры, которые перекрашивают в течение долгих веков, чтобы поддержать на их щеках розовые отсветы жизни, показывая тем самым, что без людей Время пожрало бы их лица, превратив в безымянных серых птиц.
Истинно преданное существо, Жанна до головокружения любит меня. Ее желание подбодрить так воздушно. Ее воля помочь мне исцелиться так энергична, что Жанне удается как бы воспарить в воздухе. Да, мне кажется, Жанна буквально летает по моей спальне. Она оказывается рядом с постелью, поддерживает меня словами, но стоит мне застонать, поворачиваясь на бок, как она оказывается с другой стороны, успокаивая волшебным прикосновением пальцев… всего-навсего подушечками пальцев… Ах, Жанна!..
Куда лучше, чем озабоченный Гарраль, Жанна умеет помочь мне преодолеть каждую ступеньку в хаотичном лабиринте иссушающей болезни.
Понемногу присутствие Жанны вливает в меня спокойствие, я ощущаю себя сытым и утешенным ее сдержанной улыбкой. Она говорит со мной, как с ребенком, которому надо разъяснить все о жизни, хотя я взрослый человек и давно все это знаю.
IV
Сегодня, чтобы не дожидаться молчания в прихожей тоски, я ощущаю нужду ответить Жанне, которая только что с гордостью сообщила:
— А ведь действительно… ты их всех открыл, все эти ныне великие имена…
— Ох! ох!
— … Кроме последнего… этого Чупадора.
Она шутит над поспешностью моих «ох! ох!», эти восклицания как бы противоречат ей.
Давным-давно забытая улыбка сама собой возвращается на мои уста и вызывает ответную улыбку на лице Жанны, освещая его внутренним светом.
— Да, кроме последнего, — настаивает она, как в игре, счастливая оттого, что я оживаю.
— Ты смеешься, — выдавливаю я, — ты смеешься, Жанна, но я должен сделать тебе признание… Похоже, я подметил этого пресловутого Чупадора тогда, когда еще никто не знал о нем… И было это не так давно…
— Решительно, — удивляется Жанна, больше радуясь, чем удивляясь моему воскресению и оценке моих слов, — ты открыл их всех!..
Ах, Жанна!.. Ты действительно та идеальная жена, о которой мечтают мужчины…
Медленно, спотыкаясь на слогах, с трудом воссоздаю в своих воспоминаниях, казалось, забытое путешествие.
* * *
Я перенесся на три месяца назад, в мартовский вечер, когда, покинув скучнейшую конференцию в Сорбонне, почти в полночь оказался на улице с ощущением, что вырвался на свободу после двух часов средневековой пытки на кресле, утыканном иглами.
Воздух был удивительно теплым для мартовской ночи, и я решил вернуться домой пешком, чтобы воспользоваться этим нежданным авансом весны. Я бодро прошел по бульвару Сен-Мишель, пересек бульвар Сен-Жермен и уже подходил к Сене, как вдруг, словно отвечая на условленный призыв, резко остановился и повернул голову в сторону улицы Юшетт, где электрическими жемчужинками сияли огоньки баров и других заведений.
Повинуясь сильнейшей тяге, я углубился в эту улочку, лишенную всех тайн, кроме тех, которые ты сам придумываешь для нее.
Затем столь же настойчиво меня привлекла улица Ксавье-Прива. Метрах в ста желтым светом сияло кафе, приют для пьяниц. А неподалеку от него умирал газовый фонарь, как бы показывая, что главное не свет, а предупреждение — не споткнись, мол, о мой вековой скелет.
Я двинулся вперед и вскоре различил под этим освещением прошлого века мужчину, сидящего на тротуаре, опустив ноги в канаву.
Решив, что речь идет о несчастной жертве, которую исторгло из себя соседнее кафе, я приготовился равнодушно миновать его. Но совершенно молчаливый человек с гордой головой слепца, вовсе не захмелевший от дрянного алкоголя, яростно рисовал на листках бумаги и тут же равнодушно бросал рисунки к ногам.
Я сделал еще несколько шагов и обратился к мужчине. Он, не ответив, поднял взгляд, и по тому, как он прищурился, заметив меня, я понял, что незнакомец вовсе не слеп. Наклонившись, я с удивлением увидел, что он гусиным пером рисовал дьявольских чудовищ с пугающим или ироничным обликом.
Его, похоже, нельзя было остановить, как ничто не могло и меня заставить двинуться дальше. Я стоял застыв, словно на пороге иного мира.
Наконец я извлек свою визитную карточку и сунул мужчине в руки, настаивая, чтобы он пришел ко мне. Потом живо нагнулся и подхватил пачку рисунков, валявшихся на дороге…
— Жанна, — сказал я, — открой секретер и отыщи зеленую папку. Да, там… Посмотри на эти странные и суровые наброски… Они подписаны именем Эль Чупадор.
Совсем обессилев, я поворачиваюсь в сторону окна… Ночь уже там она точна в свиданиях со мной. С внезапным страхом я перевожу взгляд на Жанну, и она с ужасом видит, как глаза мои пытаются убежать сами от себя… убежать от Своей трагедии.
V
Звеня вехами — призывами башенных часов, — новая ночь уже перевалила на вторую половину, а мои взгляды, буквально прилипшие к шторам, не замечают ни малейшего движения, предвестника жестоких мучений… Я так напряжен от ожидания, что готов способствовать болезненному бегству тех остатков крови, которые еще удерживаются сетью плоти, чтобы напитать еще раз эти неизвестные руки, беспощадный пресс чудовищного виноградаря…
Уже половина ночи свернулась в огромную штуку ткани, которую Время наматывает со дня Творения, дабы вручить неведомому Хозяину пространства, имеющему право на нее.
И поскольку шторы спальни все не раздвигаются перед пальцами, принадлежащими рукам, протянутым из-за таинственных кулис, я понемногу начинаю дрожать — надежда во мне обретает опору.
Не ощущая никаких удушающих объятий, не испытывая тоски, я слышу чудесную музыку… И хотя я очень слаб, но начинаю напевать мелодию детства, которая выплескивается из моей памяти с четкостью хрустального звона. Я напеваю, и мое пересохшее горло наслаждается чистым течением песни. Я улыбаюсь, и улыбка моя нежна и легка, как пудра. Я плачу, и глубокие морщины страданий на моих щеках впитывают влагу слез, как некий небесный бальзам…
Во мне осталось так мало крови, что Смерть, любезный гид, поддерживает меня под локоть. Разве важно, что, превратившись в гимн жизни, мои песенки притупляют клыки этой удивительно спокойной ночи, хотя они, похоже, наконец решились ускорить мою кончину.
Мелодия оставляет сладковатый привкус на губах, и я буквально вижу, как взлетают шелковистые ноты… Они светятся, эти языки мертвого пламени, медленно обвиваются вокруг моих конечностей, лаская кожу и согревая своим успокоительным теплом. Вскоре эйфория помогает мне подняться, и делать это мне легко, ведь я вешу не как взрослый человек, а как его горькая слезинка…
Музыкальная нить возвращается, проникая в мои уши, проскальзывая, словно теплое цветочное масло, сквозь барабанные перепонки. Последние дурные мысли, таящиеся в недоступных уголках моего существа, пропитываются добротой и облачаются в белый саван отпущения грехов.
Вдыхая аромат елея, ощущая зажатую губами розу, я пытаюсь привстать и бросить усталый взгляд к подножию постели. На мгновение замираю от неожиданности, а потом от ужаса… Нотки моей песни тут же превращаются в стальные гвозди, прокалывающие барабанные перепонки… Роза обрастает шипами, раздирающими в кровь мой рот.
Напротив меня, вцепившись в дерево кровати, две руки, затерянные за гранитной стеной, ждут… пальцы-крючья, готовящиеся взять на абордаж мое спокойствие.
Спущенные с цепей тоски, фальшивые ноты отчаяния пытаются погасить мою песню, но я удваиваю усилия, чтобы моя разверстая глотка не отведала острых шипов розового куста.
Я делаю вид, что не замечаю чудовищного присутствия, в надежде собрать остатки сил, протянуть свои руки к тем рукам, схватить их и вступить в борьбу с ними.
Но десяток глаз этих рук, десять сверкающих когтей, следят за моими мыслями, показывая тщету подобной затеи.
Однако я ощущаю, как шевелятся мои ноги. Мне помогают приподняться… Желая узнать, кто помогает мне, я с ужасом вижу, как по мне скользит громадная змея, враждебная, истекающая слизью…
Едва ужас на мгновение вдыхает в меня энергию и поднимает мое тело, как руки, волосатые обрубки, покидают свою опору. Эти отвратительные гигантские насекомые, рожденные адскими тропиками, бросаются на мое тело и топчут его с такой яростью, что мне кажется, будто по коже проносятся тысячи подкованных железом копыт при беспорядочной атаке кавалерии.
Я падаю побежденный, даже не коснувшись врага, но успеваю увидеть, как с гипсового неба спускается толстый шприц, похожий на отвратительного паука, висящего на своей паутинке. Быстрые и умелые, руки-вампиры хватают шприц и всаживают мне прямо в сердце острую, как жало, иглу.
Я падаю навзничь и проваливаюсь в бездну, я падаю… падаю… и уменьшаюсь в падении до размеров молекулы, затерявшейся в бездонной черноте.
* * *
Пронизывая мои веки, дневной свет возвращает человеческое достоинство презренной черной точке, в которую я превратился в жадном ничто.
Солнце заставило ночь отпустить добычу.
Сегодня утром я не узнаю обстановки, в которой мне еще суждено оставаться. Серая фигура, нависающая надо мной и уткнувшая лицо в ладони, походит на статую в райских кущах, куда меня, быть может, уже перенесли… Она склоняется надо мной… движется!.. Вот-вот раздавит меня!.. О нет! Не оставляйте меня здесь… Она падает… все больше клонится, падает… падает мне на грудь, слишком слабую, чтобы выдержать удар… Она разом убьет меня, тогда как ночные враги убивают уже долгие недели… Нет, я не должен умереть в мгновение своего Воскрешения.
В отчаянии, не желая уходить навеки, но держа в своих руках руки Жанны, я умоляю:
— Жанна… Жанна…
И статуя кивает. У нее голос Жанны.
— Если у тебя голос Жанны, — с нежностью произношу я, — тогда вытащи из меня иглу, проткнувшую сердце и причиняющую невыносимую муку.
И тут я узнаю нечто чудесное, о чем никогда не знал. Я узнаю, что камень иногда умеет плакать, как любящая женщина.
VI
Сегодня, кроме порции чужой крови, сочувствующий Гарраль предложил моим истощенным мышцам бесцветную жидкость, которая, похоже, должна подарить мне здоровье подростка. По его словам, завтра я встану на ноги, и мы отправимся в лес верхом на лошадях.
После укола я расслабленно засыпаю и до трех часов пополудни почти счастлив, играя в угасание.
Этого достаточно, чтобы я ощутил прилив жизненных сил, щеки мои розовеют, и я с кокетством рассматриваю себя в зеркальце. Но стоит Жанне отвернуться, как я, смочив слюной палец, тру кожу, чтобы вскрыть обман.
Цвет жизни держится и даже становится ярче. Быть может, Гарраль, отбросив самолюбие, наконец решил обратиться к магу?
Ощущая силу, чувствуя себя хозяином на поле битвы, я рассказываю Жанне продолжение моей встречи с бродячим художником…
* * *
…Я забыл и думать о нем, когда месяц спустя моя секретарша объявила, что меня хочет видеть какой-то грязный субъект, заросший бородой до глаз и плохо изъясняющийся на французском. Он назвался Эль Чупадором и сказал, что я жду его.
Не зная никого, кто бы носил такое имя, я приотворил дверь посмотреть, кто это, и, после недолгого колебания признав в посетителе рисовальщика с улицы Ксавье-Прива, забыл о сдержанности. С нетерпением, поразившим секретаршу, но вполне оправдывающим мою тягу к этому человеку, я поспешил провести гостя в кабинет, забыв об остальных визитерах.
Эль Чупадор уселся с крайней и неловкой сдержанностью, которая служит вместо вежливости простым людям, но в нем ощущалась скрытая гордость. Я напомнил художнику о нашей встрече и снова выразил восхищение его виртуозностью. Однако устоял перед желанием спросить, почему он рисовал по ночам на плохо освещенной улице — ведь это так неудобно. Понемногу из-за его молчания я почувствовал нужду говорить, словно задолжал ему кучу слов.
Чупадор согласно кивал головой, но его высокомерный взгляд был устремлен сквозь меня, в какую-то точку вне меня…
— В вас скрыты великие возможности, — говорил я. — Вам достаточно начать рисовать помедленнее… тщательно исследовать свое вдохновение, углубиться в него… Ваша техника еще не очень четка, мазки слишком тяжелы… в них не хватает цвета, ярости, жара… Их прямо хочется увидеть почти живыми… Уверен, вам это под силу… Используйте более тонкие перья, способные ухватить душу ваших персонажей; шелковистая тушь наполнит ваши рисунки соками, которые словно проступают сквозь поры образов… Многие до вас прислушивались к моим советам. И смотрите, кем они стали: Лашан, Милиоль, Риччиови и многие другие. Они следовали моим советам. И это было необходимо, иначе они так бы и остались лашанами, милиолями, риччиови без единой заглавной буквы в именах…
Посетитель по-прежнему смотрел сквозь меня. И, чтобы скрыть растущее смущение, я изошелся в речах и вскоре попросил его выполнить для меня заказ, мысль о котором только что пришла мне в голову. Я хотел узнать, как он видел нашу встречу, как видел самого себя; мои мысли о потустороннем мире… Короче говоря, меня интересовало все, входящее в рамки демонического жанра, с которым он так легко управлялся.
Чтобы убедить его принять заказ, я достал чековую книжку и спросил, какую сумму он хочет получить в качестве аванса.
«Нет», — живо замахал Чупадор головой и руками, окидывая взглядом предметы на моем письменном столе, словно оценивая их стоимость. Наконец, когда я убирал носовой платок, которым промокнул крохотный порез в уголке губ, он дал мне понять, опустив веки, что этот квадратик батиста подойдет ему в качестве оплаты.
— Обмен, — проворчал он с сильным испанским акцентом.
Это было единственное слово, которое я услышал за все время его визита.
Полагая, что художник беден — даже лишен знания элементарных французских слов, — и тонкий платок может удовлетворить его нужду в роскоши, я со смехом протянул ему квадратик батиста, проводил гостя до двери и поклялся, что в следующий раз награжу более щедро, даже если это придется сделать силой.
Но больше я никогда не видел его…
— Вот так, моя дорогая Жанна, я первым познакомился с Эль Чупадором.
— Круг твоих завистников, несомненно, расширится. — Ее слова звучали комплиментом.
Жанна нежно вытерла с моего лица холодный пот усталости.
Я глянул на часы — скоро шесть, а тоска еще не подступала ко мне. Я попытался воссоздать в голове утешительную фреску из лиц своих друзей. Как бы отвечая на призыв, раздался звонок, сообщающий об их приходе, — они не опаздывают ни на минуту, чтобы впрыснуть мне дозу утешения, и это волнует меня, как признательного ребенка.
— А теперь, — умоляет Жанна, выходя, чтобы встретить гостей, — обещай мне больше не говорить… Отдохни… только слушай.
И кокетливым жестом поправляет волосы.
Все счастливы видеть на моих щеках краски, которыми я обязан Гарралю.
— У вас прямо-таки девический румянец, — бросает Ришмон, он всегда без труда говорит комплименты.
Подыгрывая, я уже готов произнести «Ну ладно!», когда с показной сдержанностью ко мне подходит Барнхейм и вкладывает в мои руки, лежащие на натянутых простынях, роскошный альбом с пурпурно-золотой обложкой.
— Сюрприз, — шепчет он мне на ухо, — сюрприз, который я с трудом раздобыл… Это репродукции картин того иностранного художника, о котором мы говорили в прошлый вечер, помните? Посмотрите и скажите, ошибаются критики или нет, говоря о его истинной ценности… Я хотел бы перехватить его раньше Майорта, который вот уже две недели тщетно пытается подписать с ним контракт. Ваше мнение будет ценным для меня. Я в первый и последний раз воспользуюсь вашей оценкой. Кроме того, думаю, этот парень вас бы не заинтересовал…
Он хотел добавить «в вашем нынешнем состоянии», и, как ни странно, мне это было бы безразлично. Его поспешность узнать мое мнение немедленно, а не завтра до боли раздражает меня.
VII
Открыв альбом, я замираю в волнении, увидев первую же репродукцию, и Барнхейм, сочтя, что его настойчивость повергла меня в критическое состояние, пытается выхватить альбом из моих рук, чтобы не отвечать за новый приступ.
Но теперь, когда я увидел, ничто не заставит меня расстаться с тем, что, уверен, по ужасающему праву принадлежит только мне… Быстро оттолкнув Барнхейма, я даю ему понять взглядом, чтобы он не становился между Чупадором и мною.
И пока Барнхейм в недоумении присоединяется к остальным, сидящим вдалеке от моего изголовья, там, куда их с очаровательной твердостью усадила Жанна, я погружаюсь в рисунок, воссоздающий смутную атмосферу ночного облика улицы Ксавье-Прива.
С невероятной точностью и тонкостью штрихов, близких к совершенству, мой художник поместил себя в центр картины, и я вижу его таким, каким запомнил в ту ночь, — он глядит на меня с такой силой, что буквально распинает на ложе страданий.
Это первый рисунок из альбома, который вдруг обжигает мне пальцы. Почему он изобразил сцену нашей встречи? Как ему удалось увидеть все моими глазами: ухватить то мгновение, которое больше всего поразило меня? А эта демоническая кошка, стоящая на задних лапах, — была ли она там в момент нашей встречи? Я не помню ее… Меня начинают разрывать на части внезапные вопросы.
А этот рисунок!
Я поражен, ибо вижу в общих чертах ту встречу в моем кабинете. Он сидит напротив меня, бородатый и гордый… крылатый! А этот скрюченный гном? Я?.. Неужели я так выгляжу? Все как бы из иного мира: телефон в виде странного и терпеливого неведомого зверька, в равновесии застывшего на вытянутом в длину циферблате; бумаги на столе преобразились в свиток, напоминающий пакт с дьяволом…
Не решаясь вглядеться в детали, полные угроз, мои глаза то и дело возвращаются к гному, выражающему, быть может, мою суть…
Невозможно захлопнуть, отбросить в сторону этот новый инструмент пыток. Теперь я знаю, что должен вынести и такую пытку и что надо совершить страшное путешествие…
Странный художник бесстыдно раскрывается, как и должно его натуре, гордой и угрожающей. Он обнажен в мельчайших деталях. Из бездны, служащей ему фоном, выступает чудовищная голова змеи с лягушачьими лапами. Животное со страхом смотрит на него. Оно не осмеливается покинуть смутную материю, породившую ее и защищающую от гнева Хозяина с когтистыми крыльями…
«Изобразите с откровенностью; извлеките истину оттуда…» — сказал я ему. И он изображает себя, неиссякаемого создателя бесконечных форм. Он рисует и гордится тем, что отождествляет себя с самой ужасающей сверхреальностью.
Он с жестокой тщательностью рисует образ моего покойного друга детства, моего дорогого Курмена, при жизни бросившего вызов иному миру, тому миру, в котором Эль Чупадор передвигается с такой легкостью. Теперь изломанное деформированное тело принимает невероятную и жуткую пытку — одно из адских наказаний, о которых мы ничего не знаем. Курмен превратился в дерево. Его руки-ветви воздеты, а два служителя распиливают на куски его ноги-ствол. Глядя на рот Курмена, я слышу пронзительные вопли и вой пилы…
…«Отдаю свое тело стали», — любил повторять Курмен. И я со смехом урезонивал его: «Не слишком часто говори об этом… это действительно может случиться с тобой в твоем ином…»
Перевернув еще одну страницу, я узнаю Жаргаля, нашего шофера, умершего десять лет назад, о котором я всегда вспоминаю с сожалением. Выпивоха Жаргаль под безжалостным пером Чупадора стал… человеком-бочонком. У него брюхо с краником, но руки его связаны, а жестокие штопоры причиняют острые страдания.
…Жером!.. Я едва сдерживаю крик, так потрясает меня его изображение. Жером, мой кузен, умерший в юности, поскольку смухлевал в карты, играя с бандитами. Звезда посреди груди напоминает мне о том, что я был одним из немногих, кто знал, как он умер в действительности, ведь истинную причину тщательно и за большие деньги скрыли от родителей. Жером… играющий в кости, похожие на пасхальные яйца, которые всегда катятся, но никогда не указывают очков. Жером, вынужденный играть даже своим локтем. Кости вместо глаз; во рту игральная кость вместо языка… Жером весь в рогах и колючках… Жером!
И вдруг моему взору открывается нежное лицо и девичье тело Денизы, моего единственного прегрешения… И вновь потрясение. Кровь горячеет от воспоминания о моей юной любовнице. Она не состарилась. Осталась такой же прекрасной, как и последнее воспоминание о ней.
Но почему ей суждено испытывать эти укусы до крови, которыми терзают ее вампиры с птичьего двора? Разве не знал я всего о ее юной и страстной жизни живого человека?..
Мне следовало бы остановить этот невыносимый возврат в круг усопших друзей, переживающих свою драму проклятия в пламенном аду, известном Чупадору; но из неукротимого любопытства я переворачиваю еще одну страницу и вижу распростертого обнаженного человека, по лицу которого пролегли борозды от причиняющего боль плуга… И этот человек!. Этот человек… не кто иной, как я сам…
* * *
Приняв мое ошеломление за восхищение, ужас за экзальтацию, эмоции за согласие, посетители бесшумно покинули мою спальню. Они — а главное, Барнхейм — безусловно пытались прочесть «котировку», которую я присвоил тому, кого они считали неизвестным мне.
И словно загнанный в угол зверь, боясь, что они неправильно поймут истинную причину моего странного поведения, я чувствую, как лицо мое заливает пурпурная краска стыда.
* * *
Друзья уже у входа; через приоткрытую дверь я слышу их голоса. Только что пришел Гарраль. Его присутствие на мгновение успокаивает меня, ибо я знаю, что мягкая властность Гарраля поможет ему проводить посетителей до лифта и подарить мне одиночество, о котором я мечтаю больше, чем когда-либо.
Но кое-кто задерживается. Гарраль выпроваживает гостей, произнося жестокий вердикт:
— Господа, прошу вас, оставьте нашего друга. Он очень плох… Я не знаю, если…
Барнхейм настаивает — он по-настоящему огорчен:
— Мне так хотелось бы знать его оценку!..
Его поддерживают:
— Послушайте, профессор, не будьте прорицателем худшего. Если бы вы видели пламя в глазах Пьера, когда он рассматривал рисунки, которые принес Барнхейм!.. Он оживает! оживает!
Барнхейм жаждет облегчить горечь поражения.
— Кстати, — небрежно сообщает он Гарралю, — ходят слухи, что Эль Чупадор — имя его означает «кровосос» — работает престранным образом: рисуя, он макает перо в скомканный кусочек материи, как если бы это была полная чернильница… Говорят даже, будто материя представляет собой батистовый носовой платок… Уверяют, что именно оттуда Чупадор извлекает свою необыкновенную и неиссякаемую тушь и питает ею свои произведения…
Вдруг разум мой ослеплен внезапным прозрением, пониманием того, какой ужасающий обмен я невольно произвел с этим крылатым чудищем, пьющим мою кровь, как… И, не осмеливаясь произнести вслух то имя, которое напрашивается, я в растерянности повторяю:
— Неиссякаема моя кровь? Неиссякаема!..
И, давая ответ на этот страшный вопрос, я вначале шепчу, затем кричу, и крик мой срывается в вопль:
— Нет… нет… Нет… НЕТ… НЕЕЕТ!

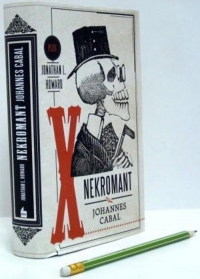




Комментарии к книге «Чупадор», Клод Сеньоль
Всего 0 комментариев