Чарльз Уильямс «Сошествие во Ад»
ГЛАВА ПЕРВАЯ КУДЕСНИК ЗОРОАСТР
— Конечно, пьесу надо бы еще почистить как следует, — говорил Питер Стенхоуп, — но до июля у меня все равно времени не будет, и раз уж вы хотите слушать ее вот так… ну, ладно… — он неопределенно повел рукой и тут же опустил глаза, словно не заметив торопливого ответного жеста признательности от миссис Парри, олицетворявшей в данный момент всю театральную общественность Баттл-Хилл. Освещенная майским солнышком общественность, числом около двух дюжин, расселась кружком вокруг миссис Парри и приготовилась внимать со всей серьезностью и почтительностью. На заднем плане тянулись сады и лужайки Мэнор-Хаус; а необъятное весеннее небо вполне готово было заменить купол импровизированного театра. Питер Стенхоуп начал читать.
Баттл-Хилл[1] был одним из новых поселков, выросших после войны. От Лондона его отделяло около тридцати миль. Названием здешняя местность была обязана обширной возвышенности, заметно приподнятой над прочими деталями ландшафта. Обитатели Баттл-Хилл постарались создать вокруг себя атмосферу комфорта и буржуазной культуры, старательно отгородившись от прочих слоев социальной лестницы. Плотники и каменщики, строившие поселок, больше не имели сюда доступа — разве что в качестве слуг по найму. Самые жестокие внутренние войны, бушевавшие здесь — и те велись с соблюдением буржуазных приличий. Политика, религия, искусство, наука неукоснительно собирали своих приверженцев и учтиво состязались в их многочисленности и респектабельности. Этим летом торжествовала драматургия. Стало известно, что Питер Стенхоуп намерен позволить неугомонным талантам Баттл-Хилл поставить его последнюю пьесу.
Стенхоуп был, несомненно, самым знаменитым из здешних жителей. Поместье Мэнор-Хаус принадлежало его семье; маститый драматург поселился здесь перед самой войной. Мало того, что семья обеспечила его знатным происхождением, так он еще унаследовал приличное состояние от английской поэзии. Стихи, достойные его великих предшественников, приносили ему доход. Сверстники произносили его имя с почтением, молодежь — с уважением. Он поставил несколько современных пьес в стихах в лондонских театрах — две высокие трагедии и парочку фарсов, а для разнообразия и удовольствия иногда из-под его пера выходили исторические пьесы.
Он являл собой тип человека искусства, более удобного окружающим мертвым, чем живым, поскольку после смерти ничто не помешало бы почитателям воздвигнуть алтарь его имени, а живой он не терпел поклонников. Местная молодежь научилась изящно превращать его частную жизнь в общественное достояние; имя Питера Стенхоупа произносилось с придыханием и в комментариях не нуждалось. Сам он не без юмора воспринимал это вторжение, равно как и то, что его поместье постепенно превращается в лондонский пригород. Подобный взгляд на вещи был для Стенхоупа вполне естественным. В его последних поэтических творениях даже жизнь и смерть не противостояли друг другу. Восполнить этот недостаток взялась «Санди таймс»: на ее страницах непримиримые критики долго выясняли — оптимист Стенхоуп или пессимист? Сам он в интервью как-то назвал себя оптимистом, но потом добавил, что оптимизм ему не близок.
Впрочем, Стенхоуп был далеко не единственной знаменитостью Баттл-Хилл. Здесь же проживал, например, мистер Лоуренс Уэнтворт — один из крупнейших авторитетов в области военной истории. На сегодняшнем собрании в саду он отсутствовал.
Категорию небезызвестных представляла миссис Кэтрин Парри. Именно ей предстояло ставить пьесу Стенхоупа, причем это была далеко не первая пьеса на ее режиссерском пути. Теперь она сидела подле Стенхоупа, почти не уступая автору ростом и явно превосходя живостью глаз. Надо заметить, что взгляд составлял немалую часть имиджа, необходимого для ее профессии. Если область самовыражения Кэтрин Парри целиком лежала в сфере активной деятельности, то Стенхоуп за долгие годы близости к искусству проникся исключительно созерцательным мироощущением. Решая свои частные дела, он стремился как можно меньше влиять на общий ход событий и поэтому многим казался человеком пассивным. Миссис Парри, наоборот, действовала всегда столь решительно и эффектно, что окружающие не раз морщились, воспринимая ее как назойливую помеху.
Среди мужчин и женщин, полукольцом расположившихся вокруг главных действующих лиц в шезлонгах и креслах, были подающие надежды юноши и удалившиеся на покой мужчины, честолюбивые молодые дамы, весьма недалекие молодые дамы, не в меру разговорчивые молодые дамы. Все они внимали и, можно было заметить, внимали с легким разочарованием.
Разнесся слушок, что мистер Стенхоуп написал комедию, и собрание очень рассчитывало на комедию современную. Но оказалось, что его занимала пастораль. В своих объяснениях он не оставил слушателям ни малейшей надежды: это не современная комедия, это пастораль — и ничего больше. Им придется удовлетвориться этим. Он согласился прочитать пьесу, и большего от него требовать нельзя. Он не будет давать советы по распределению ролей; он не склонен вмешиваться в постановку. Ну, может быть, зайдет как-нибудь на репетицию, но вмешиваться — нет уж, увольте.
Лучшего — за исключением неизбежности пасторали — и желать было нельзя. Постановка, не утрачивая преимуществ авторства живого классика, обретет еще и преимущества классика почившего, поскольку именно последние, как правило, не вмешиваются в сценическое воплощение своих творений.
Едва будущая труппа уяснила это обстоятельство, как напряжение тут же спало. Зрители разглядывали высокую, слегка сутулую фигуру в рабочем кресле и вслушивались в многообразие звучаний действительно очень хороших стихов. Стенхоуп не страдал от недостатка известности, но зачастую оказывался на вторых ролях. Однако на сей раз ему пришлось стать первым, и его аккуратно подстриженные седые волосы, быстрый взгляд, которым он время от времени окидывал аудиторию, отрываясь от рукописи, вольный взмах руки вскоре захватили общее внимание.
Миссис Парри тоже слушала и думала о том, что пьесу придется собирать заново. «Сплошной кавардак», — определила она про себя, вспомнив, как ее приятель однажды отозвался о постановке шекспировской «Бури» — да и о самой пьесе тоже. Чем-то пастораль Стенхоупа напоминала «Бурю». Конечно, Шекспир был величайшим английским поэтом, а мистер Стенхоуп таковым пока не был. И все же…
Начать с того, что пьеса прямо так и называлась: «Пастораль». Это никуда не годилось. Сюжет рыхлый, не привязан ни ко времени, ни к месту. Любому мало-мальски образованному слушателю сразу становилось понятно, что автор понадергал отовсюду кусочков и переиначил по-своему. Стихи — да, это самый настоящий Стенхоуп — в его новейшей, возвышенной и одновременно смахивающей на эпиграмму манере, но и в них то и дело проскальзывали какие-то полузнакомые тона. Во время чтения второго действия у миссис Парри мелькнуло даже словечко «стилизация», но исчезло, едва она задумалась, заслуживает ли стилизация хлопот, связанных со сценическим воплощением.
В пьесе обитали Герцог со своей прекрасной дочерью, которая то ли сбежала из дворца, то ли ее похитили, — в общем, каким-то образом она оказалась во власти многочисленных разбойников. Был там еще Сын Дровосека, который часто жег сучья, и у него с Принцессой приключилась любовь. Ни к селу ни к городу затесались два не ладящих между собой фермера. Герцог то и дело переодевался — сначала в деревне, а потом — в лесных дебрях, где к тому же бродил некий Медведь. Вот он-то и декламировал больше всех. Соперничать с ним в объеме текста мог разве что Хор. Поначалу миссис Парри подумала, что Хор составляют деревенские жители, потом, поскольку хор чаще всего появлялся в лесу, у нее мелькнула мысль, что со Стенхоупа станется призвать в Хор деревья, а то и лесных духов. От самого автора объяснений ждать не приходилось, он просто назвал Хор своим «экспериментом». К концу чтения миссис Парри было ясно, что с Хором придется разбираться в первую очередь.
Она решительно пресекла обсуждение пьесы, возникшее было между действиями, а едва автор закрыл рот, как позвали к чаю. Но если поэт поначалу счел чай поводом увильнуть от дискуссии, то здесь он просчитался. Несколько мгновений миссис Парри колебалась, подбирая подходящее слово: «фантастично» казалось слишком опасным, «поэтично» — и непопулярно, и чересчур; впрочем, оба годились как синонимы «идиллии», на чем миссис Парри в конце концов и остановилась.
— О, весьма идиллически, мистер Стенхоуп, и так значительно! — с чувством произнесла она.
— Вы очень любезны, — пробормотал Стенхоуп. — Но вы и сами видите, я был прав насчет переработки — сюжет, мне кажется, рассыпается.
Миссис Парри великодушно отмахнулась от сюжета.
— Есть несколько моментов, — продолжала она. — Скажем, этот Хор. Я так и не поняла, к чему он.
— Хор можно выбросить, — тут же согласился Стенхоуп. — Я за него не держусь.
Прежде чем миссис Парри нашлась с ответом, сидевшая рядом с ней молодая актриса Адела Хант успела вставить словечко. Адела возглавляла партию молодых актеров, недовольных засильем миссис Парри, и сама подумывала стать постановщиком, причем начать лучше бы сразу с пьесы самого Стенхоупа. Но ее последователи пока не решались открыто атаковать репутацию миссис Парри, и Адела, пользуясь начавшимся обсуждением, сколачивала оппозицию.
— Лучше ничего не выбрасывать, — возразила она. — Нельзя лишать произведение искусства его неотъемлемой части!
— Милочка, — нахмурилась миссис Парри, — подумай о зрителях. Как они воспримут этот Хор?
— Да пусть воспринимают, как хотят, — заявила Адела. — Мы даем им символ. Искусство всегда символично, разве нет?
Миссис Парри поджала губы.
— По-моему, «символично» — не вполне верное слово. Конечно, символ самоценен, и мы должны донести его до зрителя, но, так сказать, в переводе… — она вынуждена была отвлечься, поскольку поэт учтиво предложил ей на выбор два вида сэндвичей, и Адела не преминула этим воспользоваться.
— Но, миссис Парри, как же можно переводить символ? Его можно выразить. Он же не делится. Именно общий эффект и создает символическую значимость.
— Символическая значимость — это фикция! — отрезала миссис Парри. — Не следует опускаться до уровня публики, но и отрываться от нее тоже не стоит. Задача театра — взаимодействовать… — она щелкнула пальцами, подыскивая нужное слово, — гармонизировать. Надо постараться облегчить им постижение гармонии. В том-то и беда современного искусства, что оно не может или не хочет привести свои интересы в соответствие с интересами публики. А в пасторальной пьесе без равновесия не обойтись.
— Но равновесие в пьесе, в первую очередь, достигается соразмерностью отдельных частей, — снова возразила Адела. — Ведь несомненно, что любое драматургическое произведение — это символическое противопоставление.
— Что ж, — отозвалась миссис Парри, с трудом сдерживая клокотавшую в ней ярость, наверное, можно и так сказать. Но гораздо лучше считать драматургию ценностным равновесием, особенно для пасторали. Однако довольно теории. Вопрос был в том, что делать с Хором? Оставлять его или нет? Что бы вы предпочли, мистер Стенхоуп?
— Ну, я бы предпочел оставить, — вежливо сказал поэт. — Если это не будет слишком сложно при постановке.
— Он так часто появляется в лесу, — задумалась миссис Парри, отодвигая сэндвич. — Там дальняя песня в первом действии, когда Принцесса покидает дворец, и еще диалог Хора, когда… Они не дриады?
Приятель Аделы, дородный, ухоженный молодой человек лет двадцати пяти, подал реплику:
— Если будут дриады, то прости-прощай атмосфера восемнадцатого века.
— Ну и что? — тут же включилась в дискуссию молодая девушка рядом с Аделой. — Можно взять ту эпоху.
Миссис Парри одобрительно посмотрела на нее.
— Точно, милочка. И какая это будет очаровательная фантазия! Мы специально не будем привязываться к датам — только обозначим эпоху. Ну, мистер Стенхоуп, вы так и не сказали нам, дриады это или нет?
— На самом деле, я уже говорил вам, — смиренно напомнил Стенхоуп, — что это, скорее, эксперимент. Главное, что они — не люди.
— Духи? — с дрожью восторга в голосе проговорила соседка Аделы.
— Если вам так нравится, — кивнул Стенхоуп, — только бездуховные. Они живут иной жизнью, не такой, скажем, как Принцесса.
— Ирония? — воскликнула Адела. — Тщетность бытия? И лес, и Принцесса, и ее возлюбленный — все это преходящее!
Стенхоуп покачал головой. Когда-то он придумал историю о том, как некий журналист из «Таймс» просил объяснить смысл новой пьесы, и как Стенхоуп после четырех часов безуспешных попыток был вынужден прочесть всю пьесу вслух от начала до конца. «В чем и состоял, — обычно добавлял он, — единственный способ ее объяснения».
— Нет, — сказал он теперь, — ирония здесь ни при чем. Пожалуй, лучше его все же убрать.
На миг стало тихо.
— Может быть, все же оставим, мистер Стенхоуп? Мне показалось, что Хор очень важен для этой пьесы? — послышался еще один молодой голос, принадлежащий девушке по имени Паулина Анструзер. Она сидела позади Аделы и, в отличие от нее, предпочитала отмалчиваться. Но раз уж вопрос был задан, она торопливо добавила: — Я только хотела сказать, что Хор вступает, когда встречаются Принцесса и Дровосек, ведь так?
Стенхоуп посмотрел на нее, словно внезапно прозрев, потом медленно произнес:
— Отчасти так, но никакой необходимости в этом нет. Можно сказать, что это — случайность.
— Нет, Хор оставляем, — решила миссис Парри. — Я уже вижу, как это будет: деревья — или нет, лучше — листья, листья с деревьев, их много, они пригодятся молодым — что за прелесть!
— Отличная мысль, — прокомментировала Миртл Фокс. — И как правдиво!
— Правдиво? — вполголоса переспросила Паулина.
— А разве нет? — живо повернулась к ней Миртл. — Деревья очень расположены к людям. И цветы, и листья. Я всегда это чувствую. Может, ты и не замечаешь, а я отношусь к природе мистически, как Вордсворт.[2] Я бы тоже целыми днями бродила среди деревьев, слушала бы шорох листьев и ветер. Только почему-то никогда не хватает времени. Но я верю, что все они передают нам что-то своим дыханием, и это так хорошо! Ведь для того, чтобы обрести мир, мы должны погрузиться в себя, а деревья, облака и все прочее нам помогают. Человек никогда не должен быть несчастным. Природа так ужасно хороша… А вы как думаете, мистер Стенхоуп?
Стенхоуп молча ждал, пока миссис Парри живо обсуждала с ближайшими соседями особенности костюмов будущего Хора. Теперь он повернулся к Миртл и ответил:
— Насчет того, что природа ужасно хороша? О да, мисс Фокс. Вы действительно хотели сказать «ужасно»?
— Ну да, — сказала мисс Фокс. — Ужасно — страшно — очень.
— Да, — сказал Стенхоуп. — Очень. Только — простите мне эту привычку писателя, — но когда я говорю «ужасно», то имею в виду «полный ужаса». У вас получается — «страшное хорошее»?
— Не понимаю, как хорошее может быть страшным, — с негодованием отвергла его предположение мисс Фокс. — Если вещь хорошая, как же она может пугать?
— Это вы сказали «ужасно», я только не согласился с вами, — с улыбкой напомнил Стенхоуп.
— Если нас что-то пугает, — задумчиво проговорила Паулина, глядя вдаль из-под полуприкрытых век, — разве не может оно при этом быть благим?
Стенхоуп с интересом посмотрел на нее.
— Конечно, может. Разве не по внутреннему трепету узнаем мы о Всевышнем?
— Тогда они будут в зеленых тонах, — гнула свое миссис Парри. — От салатового до темно-зеленого, с золотыми поясами и вышивкой в виде переплетенных веток. И еще у каждого в руках по ветке, лучше разной длины. А чулки цвета темного золота.
— Вместо стволов? — уточнил приятель Аделы, Хью Прескотт.
— Именно, — подтвердила миссис Парри и вдруг засомневалась. — Может, все-таки оставить их листьями… Когда тихо, они могут стоять, скрестив ноги…
— Друг с другом? — уточнила Адела с деланным изумлением.
— Милочка, не глупи, — сказала миссис Парри. — Я имела в виду вот что, — и она четко воспроизвела третью балетную позицию.
— Мне ни за что так не устоять, — убежденно сказала Миртл.
— Будете держаться за плечи соседей, — с некоторым сомнением проговорила миссис Парри, — а если при этом немного покачиваться, так даже и неплохо. Нет, лучше с этим не связываться. Пусть чулки будут зеленые, тогда можно будет организовать такие живописные группы… Можно, мы назовем их «Хор Листьев-Духов», мистер Стенхоуп?
— Свежо, — заметила Миртл.
Адела, наклонившись к Хью Прескотту, проговорила вполголоса:
— Говорила я тебе, Хью, она загубит пьесу. Она же понятия не имеет о целостности. Вместо того чтобы зарубить этот Хор на корню, она возится с названием. Я бы прекрасно обошлась и без Хора. Он вряд ли уступит, но позиции у него довольно слабые.
Стенхоуп тут же опроверг ее предположения.
— Оставьте его Хором, — сказал он, — или, если хотите, я подберу имя для солиста, а остальные могут просто петь и танцевать. Но, боюсь, «Листья-Духи» заведут нас не туда.
— Тогда, может, «Хор Сил Природы»? — предложила Миртл, но Стенхоуп, улыбнувшись, ответил непонятно:
— Попробуйте лучше расположить к себе деревья, — и покачал головой.
— Между прочим, Хор-то какой — женский? — полюбопытствовал вдруг Прескотт.
— О да, мистер Прескотт, — отозвалась миссис Парри прежде, чем уразумела вопрос, а уразумев, добавила: — Я, по крайней мере, могу представить их только женщинами… Разве не так?
Видимо, жажда целостности заставила Аделу возразить:
— Мне они представляются недифференцированной сексуальной стихией.
Шепот Хью: «Не больно-то это интересно» девушка постаралась не услышать.
— Не могу сказать, что я подразумевал конкретно мужчин или женщин, — сказал Стенхоуп. — Я же говорил — это попытка представить иной способ существования. А вот что ему больше соответствует — мужчины или женщины — это действительно вопрос.
— Если они у нас будут листьями, — предложила мисс Фокс, — давайте и оденем их в огромные зеленые листья. Тогда никто не поймет, юбки они носят или брюки?
На миг стало тихо — присутствующие осмысливали неожиданное предложение — потом миссис Парри категорически заявила:
— Не думаю, что это пойдет.
А Хью Прескотт шепнул Аделе:
— Как тебе — Хор Фиговых Листьев?
— Почему бы не воспользоваться опытом старинных пантомим или музыкальных комедий и не одеть женский хор в изысканные мужские костюмы? — сказал Стенхоуп. — Шекспир так и делал при каждом удобном случае и, надо сказать, добивался удивительно глубокого воздействия. Вряд ли мы придумаем лучше. Мужские голоса вряд ли подойдут, разве что мальчишечьи, и женские платья тоже.
Миссис Парри вздохнула, и все опять задумались над этой нелегкой проблемой. Адела Хант и Хью Прескотт рассуждали о современных постановках. Паулина откинулась в кресле, как и Стенхоуп, и задумалась над словами об «ином способе существования» и «ужасном благе», гадая, нет ли между ними связи, а если есть, то, может быть, Хор — только попытка выразить в поэтической форме благо столь чуждое, что оно оборачивается ужасным. Она никогда не думала о благе как о чем-то страшном, и уж, конечно, не видела ничего благого в тайном ужасе ее собственной жизни. Но зато она отчетливо почувствовала нечто нечеловеческое в величавых, живых стихах Хора. Ее раздражало, что мало кого из собравшихся действительно привлекает поэзия как таковая и конкретно поэзия Стенхоупа. Он — великий поэт, один из немногих, но вот что бы он стал делать, если бы однажды вечером встретил на улице самого себя? Наука для такого случая обзавелась специальным термином — «doppelganger», раздвоение личности, и это как-то не обнадеживает.
Когда-то, еще в школе, в наказание за несделанное домашнее задание ей пришлось учить стихи:
Мой мудрый сын, кудесник Зороастр, В саду блуждая, встретил образ свой.[3]Она так и не справилась с этим заданием, потому что ночью ее стали мучить кошмары, она надолго слегла и с тех пор возненавидела Шелли, придавшего черному ужасу такое очарование. Похоже, Шелли никогда не думал, что благо может быть ужасным. А что бы стал делать Питер Стенхоуп, если бы встретил самого себя?
Слушатели начали расходиться. Все благодарили Стенхоупа за его лужайку, чай и стихи. Боясь остаться в одиночестве, Паулина подошла к Аделе, Хью и Миртл. Они как раз прощались с хозяином. Протягивая Паулине руку, Стенхоуп, словно продолжая их прерванный разговор, вдруг обронил:
— Вы тоже так думаете?
Она не нашлась с ответом, потому что думала не о Всевышнем и внутреннем трепете, а о Миртл, жившей по соседству с ней. По крайней мере, ей не придется идти одной, а та тварь, которой она боялась больше всего на свете, навещала ее — во всяком случае, до сих пор — лишь когда Паулина оставалась в одиночестве. Вот только Паулина терпеть не могла Миртл, поэтому мимолетная признательность к ней тут же сменилась ненавистью к себе. Шагая по улице и слушая Аделу, Паулина крепко держалась за локоть Миртл.
— Пустая трата времени, — говорил Адела. — Стенхоуп, конечно, жутко традиционен…
«Люди все время употребляют не те слова, — думала Паулина. — Знали бы они, что такое настоящая жуть!»
— …но определенная весомость в нем есть. Вот бы он еще ей не разбрасывался! Он сам подрывает свою целостность. Как тебе кажется, Паулина?
— Не знаю, — коротко ответила Паулина и добавила неискренне и сердито: — Не берусь судить о литературе.
— Ну, это, скорее, вопрос эмоционального восприятия. Хью, ты обратил внимание, как Парри толковала о значительности? Ну, разве человек с действительно взрослым сознанием мог бы… О, пока, Паулина, до завтра. — Голос Аделы растаял вдали, сопровождаемый недолгим ленивым молчанием Хью. Паулина осталась один на один со стрекотанием Миртл и спокойным дружелюбием заката.
Но даже и это ненадолго. Стоит только добраться до «норы», как Миртл частенько называла свое жилище в порыве необязательной набожности.[4] А вот и она. Девушки на ходу попрощались, и Паулину буквально пронзило окончание библейского стиха: «А Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову». Это был плач ее одиночества и страха и означал он для нее только вот эти пустые улицы и страх внутри. Она пошла дальше.
Надо думать о чем-нибудь другом. Ах, если бы она могла! Безнадежно. Она старалась не смотреть вперед из страха увидеть и заставляла себя смотреть из страха поддаться страху. Она шла по улице быстро и твердо, вспоминая те тысячи раз, когда оно не появлялось. Но чем дальше, тем встречи становились чаще. За первые двадцать четыре года жизни оно появлялось девять раз. Поначалу Паулина пыталась рассказывать о нем. Но пока она была маленькой, ей советовали не болтать глупости и не капризничать. Однажды ей удалось рассказать все матери. Обычно мать понимала самые разные вещи, но тут взаимопонимание исчезло. Глаза у нее стали такие же пронзительные, как в тот раз, когда муж сломал руку, сорвав давно намеченную матерью «ради семьи» поездку в Испанию. В тот день она вообще отказалась говорить с Паулиной на подобные темы, и с тех пор они так и не смогли простить друг друга.
Но тогда «дни пришествия», как называла их Паулина, были еще сравнительно редки. После смерти родителей ее отправили жить к бабушке в Баттл-Хилл, и пришествия участились, словно местечко это полюбилось не только людям, но и призракам. За последние два года оно встречалось девять раз, столько же, сколько за всю предшествующую жизнь. С бабушкой весьма преклонных лет она не могла говорить об этом, а больше было и не с кем. У Паулины не было ни близких друзей, ни подруг. Но что случится, если нечто, больше всего похожее на нее саму, заговорит с ней или коснется ее? До сих пор оно всегда сворачивало, скрывалось за каким-нибудь поворотом или в чьем-нибудь доме. А вдруг однажды оно не свернет…
Какая-то девушка вышла из дома впереди по дороге, подошла к почтовому ящику. У Паулины от одного ее вида все внутри оборвалось. До родного порога осталось всего двадцать три дома — принялась она уговаривать себя. Она прекрасно знает каждый из них; и этого опасного отрезка пути ей никак не избежать. Оно никогда не являлось в помещении. Временами ей так хотелось вообще не выходить из дома! Конечно, это было невозможно; да она и сама бы этого не вынесла. Ей приходилось выводить себя на улицу силком, но дверь дома всегда была заветным рубежом и защитой. Она невольно втягивала голову в плечи и внутренне сжималась перед тем, как выйти за порог, страстно желая того спокойствия, которым обладают все, кроме нее… двадцать один, двадцать… Она не будет то и дело срываться на бег; она не будет идти, не поднимая глаз от тротуара. Она будет идти твердо и уверенно, подняв голову, глядя прямо перед собой… семнадцать, шестнадцать… Она будет думать о чем-нибудь, хоть бы об этой «страшно хорошей» пьесе Питера Стенхоупа. Весь мир для него — холст, покрытый нереальными фигурами, занавес, способный в любой момент подняться в одной какой-нибудь реальности. Но сейчас, под впечатлением поэтического дара Стенхоупа, потрясенная его выразительной манерой чтения, она чувствовала себя слегка озадаченной: а была ли пьеса? И в ней, значит… десять, девять… кудесник Зороастр оставался спокоен. Конечно, может, Стенхоуп такого бы и не испугался. Все великие, наверное, такие. Вот если бы Цезарь встретил в Риме самого себя или, скажем, Шелли… что-то я не помню, чтобы с кем-нибудь из них приключалось такое… шесть, пять, четыре…
Сердце ухнуло вниз. Призрак возник ниоткуда, но — хвала милосердному Господу — далеко впереди. На любом расстоянии она безошибочно узнавала свою собственную фигуру, платье и шляпу. Фигура приближалась, росла… приближалась ее собственной походкой — doppelganger, дух, двойник. Самообладание начало изменять Паулине… два… она не будет бежать, нельзя бежать, иначе оно тоже побежит. Вот и калитка; она юркнула внутрь, пошла по дорожке к дому. А если оно сейчас мчится ей вдогонку? Она подавила едва не вырвавшийся крик и судорожно начала искать ключ. Спокойнее, спокойнее! «Страшно хорошая вещь». Ключ в замке; она не будет оглядываться… а калитку она заперла или нет? Дверь распахнулась; и вот она уже внутри, и замок позади щелкнул. Сейчас она постоит немного, прислонясь к этой замечательной двери… а если и двойник сейчас прислоняется к той же двери, только с другой стороны? Она двинулась вперед, рука — у горла, вверх по лестнице, к себе в комнату, страстно желая (и каждой клеточкой тела не желая знать, что ее желание ничего не изменит), чтобы у нее осталось хоть это убежище, единственное, в котором она может найти покой.
ГЛАВА ВТОРАЯ VIA MORTIS[5]
Пока Паулина предавалась своим невеселым размышлениям, миссис Парри и ее ближайшее окружение, куда непременно входила и Адела Хант, успели обсудить кое-какие вопросы будущей театральной постановки, в частности, решили попросить Лоуренса Уэнтворта помочь с костюмами двора Герцога и Стражи.
Адела немедленно вызвалась переговорить с Уэнтвортом, и миссис Парри с легким неудовольствием согласилась. В то же время, когда Паулина спасалась от призрака, Адела и Хью направлялись к дому Уэнтворта.
Идти было не далеко. Дом историка стоял чуть ниже, чем Мэнор-Хаус, но совсем рядом с вершиной холма. Занятия Лоуренса Уэнтворта вполне соответствовали месту его обитания, ибо сферой интересов ученого была военная история, а о склоны здешнего холма разбилось немало битв. Впрочем, битвы для Уэнтворта были едва ли реальнее диаграмм и схем, в которые он их с легкостью превращал. Черные стрелы и линии меняли очертания, двигались, множились; темно-красные кривые обозначали мелкие перемещения людских масс, грохот боя, стоны и крики раненых. Здешняя хроника страданий, с исторической точки зрения, определялась стратегическим положением Баттл-Хилл относительно Лондона, а оккультист сказал бы, что здешнему месту свойственно магнетическое воздействие, отклоняющее человеческую жизнь в сторону смерти. Доисторические легенды, повторенные в ранних хрониках, повествовали о свирепых сражениях непокорных бриттов и бродяг-саксов, о победах и поражениях в делах, едва ли достойных человека.
Позже, когда на островах укоренилась цивилизация, здесь поднялись крепостные стены, а земля вокруг холма стала принимать тела феодалов и верноподданных, исправно отдававших жизнь за королей, которые звались то Джон, то Стефан, но до них отсюда было так же далеко, как до Шанхая или Багдада. На склонах холма оказались неразлучны обе Розы, чьи корни вспоены кровью, пролитой их же шипами.[6]
Как-то ночью здешний замок сгорел, а новый Баттл-Хилл поднимался уже при другом социальном строе. Пришли другая культура, другое общество, и холм, выросший из черепов, то ли устал, то ли стал брезглив. При Марии Тюдор[7] в деревне у подножия Холма появился бродячий проповедник, и его речи пробудили в душе простого крестьянина спавшего дотоле метафизика. Огненный столб отрезал поместье от деревни, открыв избранному путь к вечной радости сквозь огненную муку.
Сорок лет спустя, при Елизавете, шерифы изловили разбойника — священника-иезуита, скрывавшегося в Мэнор-Хаус. Смерть с Холма переправила его Лондонской Смерти, чтобы та изъяла злодея из мира живых с надлежащими церемониями, словно стремясь придать прекращению жизни свойства религии и искусства. Поместье было конфисковано в пользу Короны, но затем снова пожаловано другой ветви семьи Стенхоупов; так что, несмотря на все человеческие перемены, порода владельцев оставалась на месте. Позже обедневшая семья продала поместье, и когда Питер Стенхоуп снова откупил его, сей поэтический приют обзавелся признаками комфорта, оплаченного трудом бедняков, отнюдь не принесшим им благосостояния.
Холм, словно мыс, выступал в океане смерти. Его владельцы кое-как сдерживали до поры натиск мрачных волн. Но если прошлое все еще живет в своем собственном настоящем, текущем по соседству с нашим, то нет ничего удивительного в том, что оттуда изредка выползают создания, казалось бы, навечно отданные миру смерти, и, оставаясь незримыми, пристально разглядывают строения и обитателей мира живых. Эти призраки прошлого всегда обретаются неподалеку и иногда появляются на склонах этого мира, ожидая часа, когда либо придется убираться в свой туманный край, либо удастся поглубже протиснуться в мир живых.
В ту пору, когда рабочие заново отстраивали поместье, произошел случай вполне в духе Баттл-Хилл, словно магнетизм смерти стремился коснуться в первую очередь самых несчастных из смертных.
Общий уровень безработицы пошел на спад благодаря новым рабочим местам, не требующим особой квалификации, однако, с точки зрения самих рабочих, это не всегда вело ко благу.
Некоего разнорабочего беспечно приняли на работу в поместье. Был он постоянно голоден, болен, неуклюж и нерасторопен. Никто не озаботился узнать, как его зовут. Он толкался вместе со всеми прочими — вечная мишень для насмешек. Он давно привык к подобному обращению; всю его жизнь недобрый мир только и делал, что издевался над ним. Снова и снова рука судьбы швыряла бедолагу в трущобы Нью-Йорка или Парижа. Снова и снова он пытался из них выбраться. Он давно не жаловался, а жена, наоборот, с жалобами не расстававшаяся, только усугубляла его убогое существование. Жена ходила на поденщину, кроме праздников вроде Рождества и дня св. Стефана, и умела держаться за место, так что с законным наслаждением пилила мужа, то и дело работу терявшего. Жизнь этого человека превратилась в бесконечное падение под аккомпанемент столь же бесконечных свар. И управляющий, и десятник сходились на том, что дела у бедняги плохи.
Случайная проверка одного из директоров стоила горемыке рабочего места. Не сказать, что к нему отнеслись несправедливо; с ним полностью рассчитались, и даже накинули шиллинг, чтобы он мог добраться до Лондона. Управляющий добавил шиллинг от себя, да еще десятник накинул шесть пенсов. После чего ему с облегчением велели убираться; настолько он, в общем-то, всем надоел. Он ушел, но той же ночью вернулся.
До остановки автобуса было около мили. Он шагал, не разбирая дороги, кашляя и сутулясь, и видел перед собой только один прямой путь — на самое дно лондонских трущоб. Там, в конце, его ждал жалкий угол и неумолчный пронзительный голос.
Как же ему хотелось избежать этого удела! Баттл-Хилл простился с ним по-доброму, и теперь на задворках его сознания тлела робкая мысль: ведь можно же просто отказаться от грязного закутка и нестерпимого голоса; можно прекратить этот беспросветный спуск на дно. Ему и прежде доводилось мечтать об этом; но тогда подобный выход казался почему-то невозможным. А вот теперь представился очевидным и совсем простым.
Он сидел у края дороги, машинально дожевывая поданный кем-то кусок хлеба, и озирался, пытаясь найти самый простой способ осуществить свое внезапное решение. Мягкая, но безжалостная земля раскинулась вокруг; она не одобряла его решения умереть. Бедняга поразмыслил. Он видел ручей; но понимал, что не сможет пролежать под водой так долго, чтобы захлебнуться. Еще были машины, грузовики, автобусы; но, во-первых, ему не хотелось доставлять неприятности другим, а во-вторых, риск остаться живым, но искалеченным был слишком велик. Нужен был совсем простой способ. Там, у него за спиной, остались недостроенные здания. Магический, призрачный палец коснулся его сознания; он припомнил, что в одном из строений видел веревку. Дожевывая хлеб, он подумал, что уж это-то точно последние неприятности, которые он доставит своим недавним товарищам. Они обойдутся с ним по обыкновению торопливо и небрежно, но больше он им хлопот не доставит. Может, веревки уже и нет, тогда придется искать что-то еще, но… надо надеяться на лучшее. Он всегда так делал.
Уже вечерело, когда он поднялся и двинулся в обратный путь. Идти было недалеко, а он был еще не стар. Каждый шаг приближал его к намеченной цели и возвращал молодость; он словно шел через пространство и время. Страна, о которой он мало что знал, предала его; она всю жизнь держала впроголодь его тело; не уделила ни дружеской поддержки, ни участия. Страна решила, что будет лучше, если погибнет один — или несколько, — чем весь народ в небезопасной попытке помочь многим. Страна, как всегда, не желала принимать в расчет высшую справедливость. Жалкий и отверженный, он шагал по дороге, а у него за спиной опускалось солнце.
При свете луны он добрался до места, которое походило сейчас скорее на разрушенный, чем на строящийся поселок. То ли здесь пронесся хаос революции, которую страна отказалась признать, то ли незримая буря небесного гнева, сродни той, которая снесла Фивы или погрязшие во грехе Содом и Гоморру. Неоконченные стены, котлованы, здания без крыш, зияющие оконные и дверные провалы встретили его. Не обращая внимания на крупную дрожь, сотрясавшую тщедушное тело, он брел вперед.
То здесь, то там торчали лестницы, возле стен догорали жаровни. Кто-то прошел мимо. Холодная луна освещала остовы домов, кое-где между ними пробивались красные отсветы пламени. Он задержался на краю поселка — не от сомнений, а просто прислушался, далеко ли сторож. От физического истощения и нервного напряжения он постанывал, но от своего намерения отказываться не собирался — да вселенная и не ожидала от него отказа.
Мир принял его выбор и теперь охранял его не больше, чем ребенка, играющего с огнем, или дурака, убивающего свою любовь. Миру неведомы наши доброта или порядочность; если он и добр, то доброта эта иная, не такая, как наша.
Она позволила ему, перебегая из одной тени в другую, то и дело затаивая дыхание, добраться до дома, в котором он видел веревку. Она так и маячила все время у него перед глазами. Он точно знал, где она должна быть; там она и оказалась. Он скользнул внутрь и схватил ее, трясясь и не чувствуя ничего, кроме того, что еще жив. Он вдохнул воздух этого зараженного места и не выдыхал, пока осторожно и бережно нес веревку к ближайшей лестнице.
В лунном свете перекладины лестницы белели, как кости. Пожалуй, лестница ему не нравилась. Мало того, что она могла оказаться заваленной всяким строительным хламом, но и после того как выяснилось, что путь наверх открыт, сам этот путь к небесам, который предстояло проделать еще живому телу, как-то не соответствовал его замыслу.
Скорчившись в углу гулкой раковины будущей комнаты, сжимая в руках вожделенную веревку, он ждал невесть чего. Вдали почудились торопливые шаги, но вскоре они растаяли в ночи, и все опять стихло. Лунный свет постепенно слабел; костяные ступени лестницы померкли — это на луну наползло облако. Луна проявила деликатность; ее вполне устраивала предстоящая человеческая жертва, и в предвкушении она не прочь была и зажмуриться.
Человек с трудом разогнулся, крадучись, подобрался к подножию лестницы и стал подниматься вверх. За много веков до него почти на том же месте так же неторопливо уходил от земли священник-иезуит, платя за каждую ступеньку неизбывной мукой. Теперь человек словно взбирался по костям его скелета, пробираясь к черепу. Он миновал первый этаж, затем второй. На третьем тянулись в небо строительные леса. Вид недостроенной крыши напомнил ему собственную жизнь, такую же неустроенную, с торчащими во все стороны стропилами. Пошатываясь, он буквально затащил себя на верхнюю площадку, накинул на плечо свернутую веревку и застыл. Облако сползло с луны; ему на смену подплывало другое. Тело, в котором живым оставался только дух, увидело свет. Кажется, оно все еще надеялось на лучшее.
Человек осмотрелся. Мир наконец-то предоставил ему свободу действий. Никто не видел его. Сточная канава, по которой он плыл так долго, оказывается, впадала в бухту веревки. Жалкая комнатушка и женщина с пронзительным голосом остались там, у истоков канавы. Он вздохнул, и по луне проплыл еще клочок облака. Больше ничего не происходило; все уже произошло, кроме одной малости, но и ей предстояло произойти совсем скоро.
Человек направился к лесам справа, на ходу разматывая веревку. Он подергал ее, потом встряхнул. Веревка была тонкая, но прочная. Он решил привязать конец к стойке, но вдруг засомневался. А если веревка слишком длинная? Вдруг ее хватит до самой земли? Он прыгнет и разобьется… Тогда все эти люди, которые загоняли его в канаву, снова явятся к нему — он и сейчас время от времени слышал их шаги внизу и замирал, дожидаясь, пока они уйдут, — они снова примутся поучать его, вертеть им, толкать по топкой тропке к этой неубывающей луне. Сейчас ему представился единственный шанс избавиться от них всех разом. Нельзя его упускать.
Он отмерил нужный кусок веревки — два размаха собственных рук, — и когда в развалинах под ним все стихло, опустил веревку вниз. Конец настолько не доставал до земли, что можно было не беспокоиться. Лишнюю веревку он несколько раз перехлестнул вокруг балки, подергал, убеждаясь, что она не ослабнет и не развяжется. Как только он закончил работу, снова проглянула луна. Человек в панике выбрал свободный конец и отшатнулся от края стены, чтобы никто с дороги не заметил его.
Вот так, лежа на шершавых досках, он начал предпоследнее дело в своей жизни. Как умел, затянул конец веревки вокруг шеи. Получился неуклюжий, но все-таки скользящий узел. Боясь неудачи, боясь предать самого себя и остаться в живых по собственной вине, он снова и снова проверял, как скользит узел, надежно ли закреплена веревка. Он хорошо понимал, что во второй раз не решится на столь отчаянный шаг. Если сейчас он будет повнимательнее, то, может быть, этот жестокий мир наконец проявит великодушие…
Работа окончательно вымотала его. Он лежал пластом на вздымающейся ввысь площадке, посреди балок и стен без крыш, и не видел для себя другого будущего, кроме несчастной случайности или счастливой смерти. Противостояние духа и плоти не пугало и не радовало его. Да и было ли оно на самом деле? Христианский Символ веры настаивал на их единстве — вопреки опыту, вопреки рассудку, он предрекал воскресение именно этого тела, а не какой-нибудь иной материи. Наверное, оно будет осияно святостью, изменено любовью, но это будет все то же земное тело. Шрамы и отметины разве что усилят его величие. Но человек на крыше не страшился даже такого будущего, он просто не думал о нем. Он хотел только, чтобы канава кончилась, чтобы смолк визгливый голос, чтобы не идти дальше, не слышать больше. Наконец он вспомнил, что время уходит; он должен спешить, иначе его могут поймать здесь, наверху, или когда он будет падать вниз. Если он упадет в безопасность их рук, то полностью утратит свою внутреннюю безопасность. Он неловко поднялся на четвереньки.
Однако спешить у него все равно не получалось. Какая-то часть его существа тащилась позади, и чем ближе он подползал к краю, тем отчаяннее эта часть цеплялась за него. Все это время он полагал, что хочет умереть, и только сейчас понял, что не умирать он тоже хочет. Неразумно и непреодолимо — он не хотел умирать. Но и жить не хотел. Два взаимоисключающих желания мутили рассудок и сотрясали тело. Борясь с самим собой, он привстал и наполовину свесился вниз, спиной к бездне; он вцепился в веревку, намереваясь отбросить ее в последний момент, качнулся, вскрикнул, понял, что погиб, и начал падать.
Он падал, и ему вдруг представилось шевеление огромной толпы внизу — а может, это было множество насекомых, заметивших летящее тело и пустившихся наутек. Движение — то ли людской толпы, то ли насекомых, то ли самой земли — устремлялось к неоконченным зданиям, к ямам и щелям полудостроенных стен, — и там исчезало. Наконец оцепеневшим рассудком он понял, что стоит на земле, целый и невредимый, в бледном свете, заливавшем недостроенный поселок, по-прежнему один.
На миг его охватил страх. Показалось, что сейчас кто-то бросится на него из темноты, но вокруг по-прежнему ничто не шевелилось. Страх отпустил. Теперь его одолела лень. Не было сил удивляться тому, что он делает здесь совсем один. Он узнал место: здесь он работал в последний день, отсюда его и выгнали, и сюда по понятной причине он вернулся. По какой такой причине?
Он огляделся; вокруг царила тишина. Не слышно было шагов, нигде не видно было огней, которые должны бы быть, если на стройплощадке оставалась охрана. Луны на небе тоже не было. А может быть, это и не ночь вовсе? Может быть, это рассвет — но ведь и солнца не видно.
Он начал думать о рассвете и следующем дне и понял, как оказался здесь. Он пришел сюда умереть, и на площадке вверху должна быть веревка. Как-то вдруг он оказался у подножия лестницы и вспомнил, что однажды уже поднимался по ней, а потом, кажется, спрыгнул и испугал кого-то внизу, но это было неважно. Важно то, что близится рассвет, и времени оставалось совсем мало. Ему надо действовать, иначе он потеряет и свой шанс, и самого себя. Несколько озадаченный, он принялся быстро карабкаться по лестнице. На самом верху он поднялся на площадку и торопливо принялся искать веревку. Она же была здесь; он не мог ее потерять. Но сколько он ни озирался по сторонам, веревки не было.
Поначалу он просто не поверил этому. Место, несомненно, было то же самое, хотя в предрассветных сумерках, более темных, чем лунная ночь, — он помнил, как ненавидел подсматривавшую за ним луну — края площадки между землей и небом терялись во мраке. Он бродил по дощатому настилу, вглядываясь во мрак. Бесполезно. Тогда он опустился на колени, решив, что так скорее разглядит злополучную веревку. Боль и усталость забылись, его снедало беспокойство. Он уже почти ползал, отчаянно напрягая глаза. Тщетно. Веревки не было.
Наконец он поднял голову и осмотрелся. Тишина и едва наметившийся рассвет начинали тревожить его. Хорошо, конечно, что еще не рассвело — но было в этом и что-то пугающее. Сколько прошло времени? Много? Мало? Он не думал о времени, поскольку был занят поисками. Может, некто из щедрого на врагов мира пришел сюда, пока он стоял внизу, незаметно влез по лестнице и украл веревку, как и сам он украл ее чуть раньше? Может, это тот человек, который выгнал его сегодня, или даже его жена — протянула худую руку и стащила веревку, она ведь и раньше таскала разные вещи. Не-ет, она бы обругала его или прикрикнула; она всегда так делала. Он забыл об осторожности. Он поднялся на ноги и начал кругами бегать по площадке. Снова неудача. Веревки нигде не было.
Он привалился к лестнице, признавая полное поражение. Такого отчаяния он никогда еще не испытывал. Раньше с ним всегда оставалась последняя возможность, дающая надежду и уверенность: возможность умереть. Лишившись возможности умереть, человек оказывается бесконечно одинок. Это с ним и случилось; теперь ему не на что надеяться. Веревка исчезла; он не сможет умереть.
Он еще не понял, что уже умер.
Мертвый человек стоял над поселком, безграничная мертвая тишина царила вокруг и внутри него. Он повернул голову направо, налево. Он больше не думал о том, что кто-то может прийти. Никто и не приходил. Он оглянулся через плечо на площадку, на края, все еще скрытые темнотой. Взгляд его надолго задержался на тени. Он просто смотрел, не испытывая никакого интереса, не отдавая себе отчета. Вот в тени что-то шевельнулось; вот все снова затихло. Он так и смотрел через плечо, привалившись к лестнице; а его тело, или то, что здесь казалось телом, его способ восприятия расстояний и форм постепенно трансформировались, настраиваясь на законы восприятия другого мира. Безмолвие смерти простиралось вокруг, свет смерти светил ему. Тени в углах и какое-то смутное шевеление там не нравились ему. Постепенно до него начало доходить, что от них можно избавиться. Он знал теперь, что уже не найдет веревку, что отныне ему недоступны прежние способы избавления от боли и страха, но теперь, в этой полнейшей тишине, сквозь привычное отчаяние начинало проступать удовлетворение. Он ступил на перекладину лестницы, испытывая неясное намерение убраться подальше с этой площадки. Без единого звука он спустился на землю, ощутил твердь под ногами, выпустил лестницу и вздохнул. Он сделал пару неуверенных шагов и вздохнул еще раз, теперь уже с облегчением. Он почувствовал, что во всем этом мире нет ни единого человека, и, стало быть, нет никакого зла. Мир в конце его жизни не смог предложить ему ничего лучшего, чем уйти от него. Справедливость наконец-то дала ему свободу; а то, что выше справедливости, еще не начало действовать. Он побрел прочь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЧЕГО ХОЧЕТ АД
Тело разнорабочего обнаружили утром, торопливо освидетельствовали и предали останки несчастного земле. С подобными телами поселок не желал иметь ничего общего. Реакцией на происшествие было молчание, и молчание вполне успешное. Лоуренс Уэнтворт, поселившись в доме, ничего не знал об этом трагическом случае, и, естественно, не подозревал, что его спальня — и есть та самая комната, конечно, вполне завершенная теперь, со стенами, крышей и полом, и что под окном у подножия лестницы время от времени появляется мертвый человек и лезет вверх, к стропилам. Вернее, оба они не догадывались о существовании друг друга.
Военный историк Уэнтворт по сравнению с коллегами имел одно неоспоримое преимущество: он знал, что такое война не понаслышке. Он безупречно отслужил при армейском штабе отчасти благодаря везению, отчасти — дисциплинированному уму. Хотя должность он занимал невысокую, но и ему случалось приводить в движение огромные массы людей, посылать вперед, возвращать обратно. Он не выигрывал сражений, но неизменно участвовал в разработке планов операций. Он всегда знал, куда следует двинуть силы, какую поставить перед ними задачу, и мог объяснить, почему они должны идти именно туда и делать именно то. Он научился воспринимать мир через диаграммы, и оказалось, что мир вполне описывается этими нехитрыми построениями. А поскольку такой взгляд присущ доброй половине всех военачальников, Уэнтворт научился понимать техническую сторону и великих военных кампаний прошлого. Для него не составляло секрета, что и как делали Цезарь или Наполеон, но, в отличие от них, он только видел, а не предвидел. У него никогда не было ни друзей, ни любимых женщин; он никогда не бывал «влюблен» — ни в кого и ни во что.
Однако — или, наоборот, благодаря этому — такая жизнь вполне его устраивала. Карьеру его можно было считать успешной отчасти благодаря Фортуне, которая возносит или губит благополучие генералов, отчасти благодаря собственной инстинктивной тактической осторожности. Правда, с тех пор, как он перебрался в Баттл-Хилл, спокойное течение его жизни несколько поколебалось. Уэнтворту недавно перевалило за пятьдесят, и его тело вдруг стало замечать, как стремительно сокращается отпущенное ему время жизни и как излишне осторожен он был в прошлом. В больших, темных, широко расставленных глазах военного историка поселилось беспокойство. А еще ему стали сниться сны. Незримая жизнь Баттл-Хилл давила на сознание здешних обитателей, делая любые зыбкие проявления иного резче и отчетливее.
Один сон был маленький и совсем незначимый, как сказала бы миссис Парри; вовсе не из породы вещих снов, скорее — предчувствие чего-то надвигающегося. Сон был довольно прост, но он повторялся. Уэнтворту снилось, что он спускается вниз по веревке; он ничего больше не делал, только спускался. Веревка была белая, такая белая, словно светилась в подземном мраке, и она уходила куда-то ввысь, бесконечно далеко. Невозможно было различить, где или к чему она прикреплена, однако по ее натяжению можно было понять, что закреплены оба ее конца. Он совсем не скользил; просто спускался по узлам, которые ощущал руками и ногами, но никогда не видел глазами. Спуск был каким-то странным, потому что движение никак не воспринималось, и вместе с тем он знал, что опускается ближе и ближе к концу веревки. Иногда он всматривался вниз, но видел только белую полосу, уходящую в черную пропасть. Он не чувствовал страха; спускался — если действительно спускался — уверенно, и бесконечное черное ничто вокруг не страшило его. Падения он тоже не боялся. Его не беспокоило и окончание пути — судя по ощущениям, никакое чудовище не поджидало его внизу. Однако каждый раз, проснувшись, он ощущал легкий неприятный привкус, словно побывал у дантиста. Он вспоминал, что хотел прекратить спуск, но почему-то не мог. Миллион ярдов или лет веревки тянулись над ним; и миллион лет или ярдов ждали его внизу. А может, не миллион, а сотня, или десяток, или всего-то два-три ярда. Может, это вообще не он спускался, а веревка поднималась — их окружало вечное безмолвие и чернота ночи, в которой видны были только он да тонкий белый шнур.
Люди склонны пренебрежительно относиться к снам днем, однако по ночам те же люди оказываются полностью во власти снов. Всю жизнь сны доставляли Уэнтворту удовольствие; он чувствовал себя в них художником, творцом. Он взял себе за правило думать перед сном о приятных вещах: иногда — о знакомых, чаще — об отзывах на свою последнюю книгу, или о своем устойчивом финансовом положении, или о том, как дальше строить новую книгу, или о том, как изменился бы мир, если бы Цезарь нанял балеарских пращников во время войны в Галлии. Иногда во снах эти фантазии приносили причудливые плоды — и вот уже Цезарь подписывает чек, чтобы оплатить занятия Уэнтворта в Лондонской библиотеке, а балеарские наемники учатся у него обращению с пращой. Как правило, кончалось все одинаково: в дверь стучала экономка или на смену одному сну приходил другой.
Для беспокойных снов были две причины, если не считать уже упоминавшейся сущности Баттл-Хилл и бродящего временами возле дома привидения. Одна из них носила профессиональный характер, а другую он скрывал даже от самого себя. Первая звалась Астон Моффатт; а вторая — Адела Хант. Астон Моффатт был его коллегой, военным историком, возможно, единственным в целом свете, достойным внимания Уэнтворта. Они вели долгую и сложную дискуссию по поводу последних столкновений в Войнах Роз, некогда гремевших как раз на месте нынешнего Баттл-Хилл. Сам по себе вопрос этот не имел особого значения ни для кого, кроме оппонентов, а суть его сводилась к тому, подошла ли кавалерия Эдуарда Плантагенета через реку на рассвете или через луга ближе к полудню. Астон Моффатт, успевший вплотную приблизиться к семидесятилетию, наслаждался игрой интеллекта, тщательно обосновывая собственную точку зрения. Он был чистым ученым — святая душа, готовая, если понадобится, пожертвовать репутацией, состоянием, самой жизнью ради того, чтобы уточнить один-единственный факт, касающийся конницы Плантагенета. Он давно определился в этой жизни.
Уэнтворт пребывал в том непростом возрасте, когда цена дел человека и его собственная цена начинают заметно расходиться. С тщательно скрываемой досадой он писал оппоненту пространные письма, подбирал доказательства, изо всех сил прикрываясь научной непредвзятостью. Он ни за что не признался бы даже самому себе, что тонкости конного рейда занимают его не больше, чем послеобеденная сигара.
Что касается Аделы — он вполне понимал, сколь важна для него Адела, равно как и хорошая сигара, — но пока не знал, чем он согласен поступиться ради нее, или, точнее, как включить ее в свою привычную жизнь. Если от итогов спора с Астоном Моффаттом зависела научная самооценка Уэнтворта, то с Аделой Хант был связан страх надвигающейся старости.
Сейчас он сидел в кабинете и размышлял над планом военных действий. Возражать последней публикации Моффатта, откровенно говоря, было непросто. Однако Уэнтворт давно решил, что Моффатт не прав потому, что просто не может быть прав. Приходилось искать скрытый смысл в первоисточниках, находить неоднозначности и неправильные грамматические конструкции, подгонять свидетельства, играть словами. Отстаивая свои взгляды, он готов был даже подправить кое-какие свидетельства — черта, свойственная скорее религиозным апологетам, чем историкам. Но аргументы оппонента все еще вызывали у него досаду, а значит, пал он не окончательно. Действительность представлялась Уэнтворту подобием грубой и шершавой веревки из его сна, того и гляди, появится еще какой-нибудь Моффатт.
Но мрачные ожидания не подтвердились, поскольку появилась Адела в сопровождении Хью. Такого сочетания — Адела и при ней молодой человек — Уэнтворт не ожидал. Он часто видел ее одну или с подругами, или в кругу молодых людей и девушек, но вот так — парой… Он поднялся им навстречу: румяная, кровь с молоком, толстушка Адела и при ней — Хью — воплощенная мужественность. Уэнтворт почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось — словно внезапно ослаб туго затянутый узел.
Совсем недавно, утром, он писал в статье по поводу возвращения Эдуарда IV: «…предательство графа Уорвика[8] разрушило баланс сил». Уорвик ухитрился разрушить этот несчастный баланс лет пятьсот назад, а вот поди ж ты — сегодняшний баланс разрушен точно так же! Гости присели, и Адела начала рассказывать.
Она очень мило объяснила, зачем они пришли. Хью, наблюдая за ней, решил, что даже чересчур мило. Хью не признавал неопределенности. Некоторое время назад он сказал себе, что Адела должна стать его женой, когда он будет к этому готов, и теперь выбирал момент, чтобы прояснить это обстоятельство и для нее. А она так и разливается перед этим Уэнтвортом. Ей бы следовало держаться, как принято в их кругу — раза два в месяц проводить у Уэнтворта вечерок за разговорами о военной истории, принципах искусства и природе богов. Летом такие сборища случались реже — им на смену приходили теннис, автомобильные прогулки, словом, природа брала свое. Правда, Хью тут же подумал, что для Аделы и двух раз в месяц, пожалуй, многовато. Пусть-ка она лучше прекратит эти визиты вообще. Заодно выясним, насколько она готова следовать его, Хью, советам. У него быстро созрел план действий. Адела меж тем закончила объяснения.
— Хорошо, — кивнул Уэнтворт. — Я помогу, чем могу. Что именно вам нужно? — Ему было неловко от собственной нелюбезности; он проклинал Астона Моффатта.
— Вообще-то, нам нужны костюмы, — ответила Адела. — Особенно костюмы Стражи. Понимаете, у Герцога есть Стража, хотя смысла в этом, похоже, особого нет. Но там есть сцена, где он сражается с разбойниками, и выглядеть должен, ну, на уровне… — Уточнять, что, по ее мнению, эта схватка должна происходить в совершенно сюрреалистичной манере, она не сочла нужным; она знала, что Уэнтворт не очень-то жалует нереалистическое искусство, и предпочитала не затевать споров о художественной интерпретации образов пьесы.
— Было бы здорово, если бы вы помогли мне с этим Герцогом, мистер Уэнтворт, — вставил Хью. Слово «мистер» явно носило оттенок почтительности, выказываемой возрасту, но, завершая реплику, Хью попробовал перевоплотиться в своего будущего персонажа, демонстрируя здоровый юмор молодости. Слушатели не анализировали ни интонацию, ни театральное мастерство; однако Адела чуть зарделась от нового удовольствия, а Уэнтворт чуть вспыхнул от нового огорчения и уточнил:
— Так, значит, Герцогом будете вы, Прескотт?
— Похоже, миссис Парри склоняется к этому, — ответил Хью и добавил, словно мысль только что пришла ему в голову: — А может, — Адела, как ты думаешь, — может, мистер Уэнтворт сам сыграл бы эту роль? А? Как тебе идея?
Но Уэнтворт отозвался раньше.
— Сущая чепуха. Я в жизни никогда не играл.
— Я совершенно уверен, — заговорил Хью, сплетя крепкие ладони, удобно опираясь локтями о колени и подаваясь вперед, — что вы будете лучшим отцом для Принцессы, чем я. А в том, что Адела будет Принцессой, по-моему, никто не сомневается.
— О, не думаю, — заговорила Адела, — хотя и правда, миссис Парри… но ведь есть и другие девушки. Мистер Уэнтворт, а может, действительно? Вы бы придали образу должный… — она хотела сказать «возраст», но вовремя успела заменить слово на «авторитет». — Я как раз говорила Хью, пока мы шли сюда, что нам не хватает солидности.
— Я не намерен отнимать роль у Прескотта, — сказал Уэнтворт. — Он в этих играх куда лучше меня. — Ему хотелось придать словам оттенок добросердечного и зрелого понимания, но получилась простая неприязнь; гости ее, конечно, заметили.
— Но все равно, — настаивал Хью, — вы ведь так много знаете о войнах и истории — о тех, древних войнах. Вы, правда, лучше подходите на роль отца Аделы… сэр.
— Я вполне обойдусь ролью консультанта по страже, — сказал Уэнтворт. — Так о каком периоде идет речь?
— Скорее всего, 1700-е годы, — сказала Адела. — Помнится, миссис Парри что-то говорила о форме восемнадцатого века. Она хотела вам написать.
Хью поднялся.
— Не смеем вас больше задерживать, — произнес он. — Да и нам с Аделой надо поговорить о роли. Идемте, герцогиня, или как там вас теперь величать?
Адела поднялась. Уэнтворт с внутренним раздражением отметил, что она подчинилась сразу и с удовольствием. Вот этого он никогда не понимал. Согласие, конечно, хорошая штука, но не такая же покорность! Хью протянул руку, помогая даме подняться, и в напряженной атмосфере комнаты это смотрелось как вызов. И вот она стоит рядом с Хью, и Хью говорит:
— Подумайте еще раз, сэр, и покажите нам всем, что значит быть отцом герцогини. Я попрошу миссис Парри оставить роль за вами.
— Вот уж не надо, — отозвался мистер Уэнтворт. — У меня нет времени быть отцом.
— Странная манера изъясняться, — заметил Хью, когда они вышли из дома. — Не понимаю, чего твой мистер Уэнтворт взбеленился? По мне, так хорошая идея.
Адела промолчала. Она прекрасно почувствовала призрак давней вражды, который Хью привнес в разговор. Несколькими фразами Уэнтворту указали его место в мрачном прошлом Баттл-Хилл и, слегка польстив, предупредили насчет Аделы. Встречаясь с Хью, она все чаще ощущала в себе этакий боевой дух; а нынешний рейд и вовсе обернулся настоящим поединком, о которых пишут: «Их атака смела врагов и обратила в бегство». Но ей не хотелось совсем терять Лоуренса Уэнтворта. Он давал ей книги, у него были друзья в Лондоне, он мог оказаться полезен, в конце концов. Ведь она мечтает о карьере. В четверг, если они увидятся, она будет оч-чень, оч-чень почтительна. Помнится, они договаривались о четверге с неделю назад. Но едва она утвердилась в своем намерении, как заговорил Хью.
— Кстати, я хотел тебя кое о чем попросить. Как ты насчет четверга?
— Четверга? — она даже вздрогнула.
— Хочешь, пойдем куда-нибудь вместе?
— Но… — Адела помедлила, и Хью поспешил продолжить:
— Я подумал, можно было бы поужинать в городе, а потом зайти в театр, если хочешь.
— Очень хочу, — сказала Адела. — Но это непременно должен быть четверг?
— Боюсь, что да, — ответил Хью. — В понедельник у Фоксов теннис, во вторник и в среду я допоздна работаю, а в пятницу мы собирались читать пьесу. Парри наверняка захочет собраться и в субботу тоже.
— Я бы с удовольствием, — повторила Адела, — только на четверг мы же с мистером Уэнтвортом договорились. Я обещала…
— Я знаю, — сказал Хью. — Я и сам обещал, ну и что такого?
— Может, на той неделе? — предложила Адела.
— Милая моя, с этой пьесой нам грозят ежевечерние читки и прослушивания, — Хью усмехнулся. — Конечно, можно и отказаться от этой затеи, раз ты не хочешь. Просто я вспомнил, что ты хотела посмотреть «Вторую опору», а в субботу спектакль идет в последний раз. Если честно, я по случаю добыл пару билетов на четверг. Как знал, что это наш единственный вечер.
— Ой, Хью! — только и могла сказать Адела. — Я действительно ужасно хочу посмотреть эту пьесу. Говорят, это чудо сюрреалистической пластики. Какой же ты молодец! Вот только…
— Но Паулина ведь все равно пойдет к Уэнтворту, правда? — дожимал Хью. — И остальные… Вот пусть им и проповедует.
И оба вдруг поняли, что, действительно, большой беды не будет, если они не пойдут на встречу. А еще они поняли, что так все и должно быть. Адела вдруг обнаружила, что ее колебания насчет будущего уже превратились в сожаления о прошлом: дело было сделано. Убежденная кальвинистка в ней не преминула добавить:
— Хочется только, чтобы он не счел это грубостью. Он был очень мил.
— А как же, — согласился Хью. — Но теперь твоя очередь. Герцогов ведь надо ублажать, правда?
— Ты же ему предлагал быть Герцогом, — напомнила Адела.
— Я просил его быть твоим отцом, — сказал Хью. — У меня и в мыслях не было делать его Герцогом. — Он лукаво взглянул на девушку. — Черкни ему записку в среду, а я позвоню в четверг вечером из Лондона и попрошу извиниться за меня перед тобой, Паулиной и остальными.
— Хью! — не выдержала Адела, — ну нельзя же так! — Потом, не в силах отказаться от иронического ключа, добавила: — Он был так добр ко мне. Я не прощу себе, если он расстроится.
— Я тоже, — торжественно заверил Хью. — Итак, это мы уладили.
К несчастью для этого изящного замысла, те два-три юных создания, которые вместе с Аделой, Паулиной и Хью изредка приобщались к кофе и культуре в доме Уэнтворта, в четверг тоже не добрались до почтенного ученого — кто из-за тенниса, кто по другим причинам. Воистину, к несчастью, поскольку после субботнего происшествия Уэнтворт еще отчетливее осознал, насколько ему нужна Адела и насколько ему необходима лесть. До конца он не признавался в этом даже самому себе; однако снова и снова выстраивал в уме линию обороны против наступления Хью. При этом Уэнтворт вовсе не считал себя вовлеченным в сражение. Ему хотелось одновременно и победы, и безопасности — манера, свойственная многим из тех великих полководцев, чьи военные кампании он изучал.
Он вспоминал прошлое — несколько доверительных разговоров с Аделой, медлящие расстаться руки, говорящие взгляды. Подобно Помпею, он отказывался принимать меры против угрозы со стороны Рубикона;[9] он согласен был признать, что существует Рубикон — но уж никак не Цезарь. Он предполагал, что Рим все еще принадлежит ему, и намеревался подтвердить свои права. Он готовился снять с Аделы вину за субботнюю встречу, если четверг вернет привычную близость в отношениях с ней; возможно даже, в порядке компенсации, близость немного большую, чем обычно. Тем обиднее было ему получить записку Аделы всего за час до того момента, когда обычно собирались гости.
Ей пришлось, писала она, отправиться в город подыскивать ткань на костюм; времени может не хватить, а ей не хочется создавать всем сложности. Она так переживает, но… Уэнтворт без особого интереса пробежал глазами еще одно послание с извинениями. Но восстановить равновесие к приходу Паулины он так и не успел. В результате Паулина широко открыла глаза в ответ на неожиданно резкое заявление, что, кроме нее и Прескотта, хозяин сегодня никого не ждет.
Через десять минут зазвонил телефон, и Прескотт сообщил о своем сожалении в связи с неожиданно свалившейся работой в офисе, от которой ну никак не отвертеться. Не мог бы мистер Уэнтворт извиниться за него перед Аделой? Уэнтворт сам не знал, радоваться или огорчаться этому звонку. С одной стороны, он избавлен от присутствия Прескотта, с другой стороны, остался один на один с бестолковой Паулиной. Сия девица отличалась склонностью терять нить военной стратегии, уводя разговор в совершенно ненужную сторону — к страданиям тех, кто эту стратегию реализовывал на практике. Уэнтворта вовсе не радовала перспектива общения с Паулиной, но избавиться от необходимости извиняться за Хью перед Аделой было приятно. Откуда ему было знать, что Адела пристроилась в той же телефонной будке, из которой говорил Хью. Она сначала и не думала подслушивать, но Хью так мило настаивал, да ей и самой было любопытно, что скажет Уэнтворт — просто чтобы знать. А потом, оказалось так забавно слушать, как на другом конце провода извиняются за ее отсутствие, а она стоит рядышком. В то время как холодок в голосе Уэнтворта касался ее ушей, глаза Аделы блестели, встречаясь с глазами Хью, прижимавшего к уху телефонную трубку. Он сказал — и Уэнтворт осознал это, только опустив трубку на рычаг — «Не могли бы вы извиниться за меня перед Аделой?». Она губами пыталась подсказать ему: «и остальными», но он только покачал головой.
Когда он повесил трубку, она сказала: «Но тебе следовало извиниться хотя бы перед Паулиной», на что он ответил: «Уэнтворт сам с ними разберется; а смешивать тебя с остальными я не собираюсь». Она засомневалась: «А если он этого не сделает? Будет неловко», ожидая услышать, что его это не волнует. Вместо этого, когда они вышли из будки, он еще раз повторил: «Уэнтворт проследит за этим; не может быть, чтобы не проследил». В результате за ужином она уже чувствовала себя сообщницей Хью куда сильнее, чем когда они встретились в этот вечер.
Его расчет оказался верен. Уэнтворт был слегка шокирован, когда услышал всего одно имя, но только по пути в кабинет осознал, что ему предложили помочь в сближении Прескотта и Аделы. Конечно, он мог бы и 50 сам распространить извинение на остальных, особенно теперь, когда Адела все равно не собиралась приходить. Однако пусть Прескотт сам разбирается со своими проблемами. Если он еще не знает… Новое подозрение заставило его замереть как раз у двери кабинета. Это было невозможно! Прескотт не стал бы так извиняться, если бы был вместе с Аделой. Но обоих не было, а это означало (доложили рассудку взбудораженные нервы), что они вместе. Сознание попыталось возразить, что это ровным счетом ничего не значит. Но возбужденная нервная система отказывалась внимать доводам рассудка. Никогда раньше он не испытывал такой внутренней неразберихи. Пятьдесят лет безопасности пошли прахом на первой же минуте вторжения; Цезарь перешел Рубикон, и Помпей бежал. Уэнтворт вошел в кабинет и поглядел на Паулину так, как Помпей смотрел, должно быть, на ненавистного римского консула.
— Прескотт тоже не сможет прийти, — с отвращением выговорил он, — и приносит вам свои извинения. — Надо было обязательно понаблюдать, как она воспримет это сообщение. Ведь она могла знать об этой истории, а если да, то много ли? Но она ответила только:
— Жаль. У него много работы?
Уэнтворт тоже хотел бы это знать. Он занял свое обычное место на углу огромного стола и закурил сигару.
— Он так говорит. И, по несчастной случайности, именно сегодня Адела тоже не смогла прийти. — Он обнаружил, что молчит, и добавил. — Но мы ведь и вдвоем можем поговорить? Только, боюсь, вам это будет скучновато.
Он, конечно, рассчитывал на протест с ее стороны, однако не возражал бы и против того, чтобы она убралась восвояси. Вот если бы ей очень хотелось остаться, но какие-нибудь непредвиденные обстоятельства вынудили бы ее уйти… тогда бы ее сожаление и разочарование хотя бы отчасти компенсировали ему явно добровольное отсутствие Аделы. Может, ее бабушке вдруг станет хуже? Но она не собиралась уходить, и живого участия к нему тоже не проявляла. С минуту она сидела, не поднимая глаз от пола, потом, видимо, решилась и сказала:
— Я думала кое о чем спросить вас.
— Да? — отозвался Уэнтворт. В конце концов, Прескотт мог действительно быть в офисе, а Адела в этом своем магазине или где там еще.
Решение говорить трудно далось Паулине. Но Лоуренс Уэнтворт был единственным из известных ей людей, кто мог что-то знать… о таких штуках и о том, чего они добиваются. А раз уж случилось так, что сегодня они вдвоем, она позволила себе задать вопрос, хотя и очень неуверенным голосом.
— Вам доводилось сталкиваться… — ей пришлось набрать в грудь воздуха; даже намекнуть на то, что ее мучило, оказалось трудно, — вам не попадались истории о людях, которые встречались сами с собой?
Уэнтворт, не ожидавший такого поворота, вынужден был переспросить:
— Встречались сами с собой? Где? Во сне?
— Нет, не во сне, — совсем смутилась Паулина, — прямо на улице… или еще где-нибудь.
Она уже жалела, что начала этот разговор, слова как будто оживляли призрак, он словно уже поджидал снаружи, а то и внутри этого дома; а ей еще предстоит сегодня вечером долгий путь обратно…
— Это рисунки Россетти[10] навели вас на такие мысли? — уточнил Уэнтворт.
— Нет, — едва слышно отозвалась Паулина. — Я хотела узнать, может быть, вы читали о таком? Шелли говорит, что так было с Зороастром.
— Верно, — сказал Уэнтворт. — А я и забыл. Конечно, я слышал о подобном предрассудке. А почему вы спрашиваете? Вы знаете кого-нибудь, кто встречал сам себя?
Вопрос прозвучал тяжеловато, потому что он снова думал об Аделе. Паулина почувствовала напряжение и умолкла. Наконец она проговорила:
— Я знаю одну девушку, которой так кажется. Но, пожалуй, мне не следует вам докучать.
— Нет, нет, ничего, — по многолетней привычке поспешил успокоить ее Уэнтворт. — Вы ничуть мне не докучаете. Не могу припомнить, чтобы читал о чем-то подобном, но, кажется, обычно считают, что такая встреча предвещает смерть. С другой стороны, практически любое необычное событие считается предвестником смерти для языческого — точнее, нецивилизованного, — сознания. Смерть, несомненно, самое необычное событие, так что, по принципу соответствия, меньшее считается предвестником большего. Антропология в этом отношении — очень содержательная вещь. Необразованное сознание характеризуется склонностью видеть подобие там, где никакого подобия нет и в помине. Такое сознание склонно придавать значение случайным обстоятельствам. Оно реализует свои тревоги с помощью воображения. Возможно, ваша подруга — весьма эгоцентричная особа.
— Не могу судить, так ли это, — холодно произнесла Паулина, а Уэнтворт тем временем гадал, успели уже поужинать Адела и Прескотт — разумеется, порознь. Ведь их совместное отсутствие было, конечно, вполне случайным совпадением. В данный момент он вовсю придавал значение случайным обстоятельствам и (как любой варвар) реализовывал свои тревоги с помощью воображения. Даже эта недалекая девица должна понять разницу между ним и Прескоттом. Впрочем, ему все равно; да, ему все равно. Он гарцевал на этом коньке, и до Паулины с ее томлениями ему не было никакого дела. Но тут повисшая вдруг тишина едва не сбросила его наземь. Он удержался и с высоты седла бросил:
— О, она ведь не такая, верно? — И тут же подумал о том, какой тощей и невзрачной по сравнению с Аделой выглядит Паулина. Ей явно недоставало полноты. Он не задавался вопросом, о какой, собственно, полноте идет речь — скорее, о внутреннем наполнении, чем о внешности: о взгляде, а не о глазах; о жестах, а не о руках. Живой, бойкий ум Аделы — вот что он так не хотел уступать Прескотту. А этот разговор о людях, которые видят сами себя — он в жизни не встречал ничего скучнее! Уэнтворт украдкой взглянул на каминные часы.
В этот же момент Паулина так же украдкой посмотрела на свои наручные часики. Какая же она дурочка, что заговорила об этом! Только и сделала, что открылась еще сильнее этому своему кошмару. Лучше бы, вообще-то, отправиться домой, а то еще какая-нибудь глупость случится.
— Благодарю вас, — проговорила она, не в силах придумать что-нибудь еще. Потом поднялась и сказала единственное, что ей оставалось: — Бабушка не очень хорошо себя чувствует сегодня. Вы простите меня, если и я вас покину? Мы так ужасно с вами обошлись…
Уэнтворт живо поднялся.
— Ничуть, — бодро проговорил он. — Ничуть. Весьма сожалею, что вам пора уходить. — Ему подумалось, что немного позже он мог бы прогуляться до станции. И если встретит их вдвоем, то, по крайней мере, удостоверится в своих подозрениях. Конечно, они могут случайно встретиться уже в Мэрилбоуне[11] или приехать следующим поездом. Ну, значит, придется и ему подождать следующего. Наверное, разумнее вообще не ходить — негоже в его положении слоняться вокруг станции. Разговоров будет!.. Но план можно обдумать и попозже, когда это докучливое создание наконец оставит его в покое.
Он проводил Паулину до двери, был в меру сердечен и весел, пожелал ей доброй ночи, фыркнул над тем, сколько времени ей понадобилось, чтобы добраться до калитки, и, наконец, получил свободу принимать решения.
Странно, но это оказалось не просто. Неутоленное желание тянуло его — так же, как притягивало к этому дому самоубийцу — и некоторое время он бесцельно бродил по комнатам, как и тот, другой, бродил по улицам, не находя покоя. Вскоре он обнаружил себя в спальне смотрящим из окна — точно так же смотрел через этот же оконный проем тот, другой, мертвый. Уэнтворт бездумно постоял несколько минут, набираясь решимости. Он даже вскрикнул едва слышно — скорее, от внутреннего хаоса, а не от внешнего. У мертвеца были основания считать, что, бросившись вниз, он освободится от тирании, но Уэнтворт не был настолько глуп. Он понимал, что, бросившись на поиски правды, едва ли обретет хоть какую-то свободу. Остатки рассудка вопили, что этот путь ведет к помешательству, и потакание собственным вздорным прихотям ведет туда же. Инстинкт самосохранения настоятельно советовал сидеть дома; предчувствие, если не любовь, советовали то же самое. Он стоял, смотрел и прислушивался. Точно так же и на том же месте до него стоял, смотрел и прислушивался мертвец.
Где-то на холме прошелестели легкие торопливые шаги; луну скрыло облако. Именно тень и спровоцировала его; может, как раз сейчас они идут мимо его дома. Надо действовать, пока не поздно. Он вовсе не собирается следить за ними; он просто пойдет гулять.
Уэнтворт покинул комнату, спустился по бесшумным, быстрым ступеням своего воображения и вышел на иллюзорные улицы разыскивать своих фантомов. Он жаждал ада.
Да о чем тут говорить?! Человек просто отправился на вечернюю прогулку. Он шел по улице; неважно, что она вела к станции, неважно, что она пересекала улицу, по которой Адела должна возвращаться домой. Он — взрослый человек, достойный член общества, решил погулять вечерком. Он же не ребенок, который потерял игрушку и плачет, и не ребенок, который потерял игрушку и боится вспоминать о ней, и не ребенок, который потерял игрушку и старается вернуть ее, делая вид, что она ему совершенно не нужна. Обычно требуется немалое душевное усилие, чтобы уподобиться детям и признать, что такие мы и есть на самом деле. Но он-то был другим — он был взрослым и просто вышел на прогулку.
На перекрестке дорог, в скрещении мыслей, он стоял и ждал — просто дышал ночным воздухом. С острым, извращенным наслаждением он вслушивался в ночные звуки — вполне конкретные звуки. Свежий ветер гулял между холмами. Вот в отдалении остановился поезд, вот свисток перед его отправлением. Двое пассажиров прошли мимо; женщина что-то пожелала ему — не то доброго утра, не то доброй ночи — в растущем внутреннем напряжении он не ощутил разницы.
Облако освободило луну, и Уэнтворт отступил в тень. Если он заметит их, то сможет свернуть в переулок или пойти назад, чтобы не выдать своей засады. Да и вообще, ни в какой он не в засаде, а просто гуляет!
Прошел еще час с лишним. Он дошел почти до дома, потом вернулся. Тело и его привычки, которые иногда требовали отдыха и тем самым обычно спасали его от более глубокого падения, на этот раз сплоховали. Вечернее бдение не так сильно утомило его, и видение сохраненной, хотя и лишенной надежды чести не застило его взор. Он снова и снова принимался ходить, а сердце жаждало крови. Настала ночь; часы на городской башне пробили один раз. Судя по звукам, к станции подошел последний поезд. Уэнтворт прошел чуть дальше по улице и остановился в тени. Он услышал легкий перестук каблуков; издали торопливо шла женщина. На миг ему показалось, что это Адела. Но нет, не она. Снова шаги — медленнее, и идут двое. Луна светила ярко, он стоял на самом краешке густой тени, желание ненавидеть и благородное стремление простить боролись в нем. Вот они идут, залитые ярким лунным светом, рука в руке, болтают, смеются. Он смотрел, как они проходят, в глазах потемнело. Наконец он повернулся и отправился домой.
Этой ночью, уснув, он как никогда ярко увидел бесконечно уходящую вниз, сияющую в лунном свете веревку.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ВИДЕНИЕ СМЕРТИ
Родители Паулины умерли несколько лет назад, и ей пришлось поселиться у бабушки по отцовской линии в Баттл-Хилл. У нее совсем не было денег. Мать Паулины никогда особенно не жаловала родственников со стороны мужа, так что с бабушкой Паулина почти не виделась, но дядя Паулины был убежден, что кровное родство подразумевает и близость отношений, а посему одним махом решил две проблемы: нашел занятие для племянницы и компаньонку для матери. Паулину возмущала эта навязанная доброта, буквально вломившаяся в ее жизнь, но к тому времени она так и не сумела найти работу, и ее чуть ли не силком увезли в Баттл-Хилл, где она в конце концов и обнаружила себя в роли сиделки и прислуги при очень старой женщине.
Страх, поселившийся в ней с некоторых пор, уже успел изрядно сковать волю девушки. Она вполне могла отвечать за какое-то порученное дело, а вот самостоятельные решения давались ей все хуже. В Баттл-Хилл таинственные встречи участились, а значит, развивался и паралич безволия. Паулине ничего не оставалось, как цепляться все отчаяннее хоть за какое-то общество, стараться почаще бывать среди людей. Конечно, она могла прекратить всякое общение вообще, похоронить себя в четырех стенах и продолжать день за днем терпеть ужас, который ее двойник будет сеять в прихожей или в коридоре за дверью ее собственной комнаты. Она терпеть не могла выходить на улицу, но еще больше не любила оставаться дома, да и рассудок подсказывал, что затворничество вряд ли ее спасет. Внутри нее словно что-то окаменело. Вот так она и жила, с высоко поднятой головой, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не бежать на очередную вечеринку или обратно домой. Почему-то ей казалось, что смерть бабушки может все это изменить.
Однако бабушка и не думала принимать во внимание забот молодости. Она жила себе и жила, завтракая по утрам у себя в комнате, спускаясь вниз к обеду и снова поднимаясь к себе после раннего легкого ужина. Она не досаждала внучке, а в обращении неизменно соблюдала мягкую учтивость. Паулина в свою очередь старалась удержаться на волне уважения и терпения, но получалось у нее, честно говоря, грубовато. Она и не заметила, что за все это время старая леди не дала ей ни единого повода проявить свое терпение. Так что терпела-то Паулина в основном сама себя и полагала, что делает достаточно, избавляя других от этого тяжкого груза.
Июньским полднем обе они сидели в саду за домом; для девушки стены вокруг садика были воплощением безопасности. Паулина учила роль, держа машинописный текст на коленях и беззвучно шевеля губами. Беда была в том, что в репликах получалось многовато пафоса. Причем пока она читала слова на бумаге, особого пафоса в них, вроде, и не было, но стоило ей попытаться произнести фразу, как она становилась плоской и безвкусной. Она выделяла голосом то одно слово, то другое, пыталась говорить то быстрее, то медленнее. Она попробовала добавить в голос страсти, но получилась полная нелепость. Вот у Стенхоупа слова звучали просто и естественно, а в ее исполнении — лживо и претенциозно.
Она поглядела на бабушку — глаза прикрыты, руки сложены на коленях. Маленькая, сухонькая, морщинистая — воплощенная старость. Несколько дней назад кто-то шепнул Паулине на ухо при расставании: «Она такая хрупкая, правда?» Паулине слово не понравилось. Умиротворенная — да, но уж никак не хрупкая. Даже сейчас, в тихий полдень, с полуприкрытыми глазами, она казалась воплощением незыблемого спокойствия. Она была не здесь — но это вовсе не означало, что дух ее блуждает среди неких тусклых воспоминаний, просто человек со вниманием отдается внутренней работе. Наверное, так выглядит Стенхоуп, когда пишет стихи. Паулина подумала, что так по-настоящему и не знает бабушку и поэтому не вполне представляет, чего от нее можно ждать.
За стеной сада послышался легкий звук. Миссис Анструзер открыла глаза, встретила взгляд Паулины и улыбнулась.
— Дорогая, — проговорила она, — я все собираюсь кое о чем спросить тебя.
Паулине подумалось, что бабушкин голос звучит как-то странно, словно издалека… наверное, это от жары. И еще — слова были наполнены как раз той нездешней любовью, которая никак не давалась ей в роли. «Она, наверное, говорит с Фебой», — подумала Паулина (Фебой звали служанку) и тут же поняла, что таким тоном миссис Анструзер говорит со всеми. Она просто лучится добросердечием. В круг этого сияния попали и внучка, и летний садик, словно все вокруг окуталось теплым солнечным светом общего благословения.
— Да, бабушка, — отозвалась Паулина.
— Если мне придется умереть в ближайшие несколько недель, — сказала миссис Анструзер, — не вздумай из-за этого отказываться от роли. В этом нет никакой необходимости.
Как и любой другой на ее месте, Паулина забормотала:
— Ох, но как же… — и осеклась, встретив ясный, пристальный взгляд, обращенный к ее рассудку. — Но ведь так не делают…
— Это совершенно ни к чему, — спокойно продолжала миссис Анструзер, — особенно если это событие придется на премьеру. Надеюсь, ты не будешь постоянно думать об этом, но все же лучше договориться заранее.
— Но это же будет странно, — сказала Паулина и обнаружила, что улыбается в ответ. — А что остальные подумают?
— Один разочаруется, остальные будут в шоке, но справятся, — ответила миссис Анструзер. — У тебя ведь нет подходящей замены?
— Да ни у кого нет, — сказала Паулина. — Кто-нибудь из хора мог бы подменить меня… Например, если я вдруг заболею.
— А кто-нибудь из них декламирует лучше тебя? — спросила миссис Анструзер с мягкой настойчивостью исследователя.
Паулина честно перебрала в уме весь хор.
— Нет, — сказала она искренне. — Вряд ли. Точно, нет. В том числе и Адела, — добавила она вдруг с легкой враждебностью.
Бабушка согласно кивнула.
— Тогда тебе лучше играть самой, — сказала она. — Обещаешь? Для меня это будет большим облегчением.
— Конечно, обещаю, — согласилась Паулина. — Но ты ведь не чувствуешь ухудшения? Я думала, тебе стало получше, когда началось лето.
— «Сэр, вскоре ждет меня долгий путь», — процитировала миссис Анструзер. — И начало пути обещает быть куда спокойнее, чем у нашего предка.
— У предка? — удивленно переспросила Паулина. — А-а, да, припоминаю. Он, кажется, был мученик?
Миссис Анструзер процитировала снова:
— «И тогда вышеупомянутый Струзер, по мере приближения к столбу, кричал весьма громко: „Ему вы готовите эту участь!“, а один из монахов ударил его и сказал: „Ничтожный еретик, а что здесь не Его?“, — а он расхохотался и, указывая на монаха, закричал: „Он потеряет все, что имеет“, а потом еще: „Господь наш отошлет прочь богачей несолоно хлебавши“. Тогда раздели его и, оставшись в одной рубашке, он поднял взгляд вверх и сказал: „Конец мира будет на мне“; но тут они привязали его к столбу и запалили костер, и когда пламя охватило его, он громко произнес: „Я радуюсь, ибо видел спасение Господа моего“, и твердил так много раз, пока не умер. Это доказывает, что Господь явил ему многое посреди пламени, и с времен правления королевы Елизаветы долгие годы место это называли Спасением Струзера».
Миссис Анструзер помолчала.
— Может, Господь и правда явил ему Себя, — минуту спустя произнесла она, — хоть я не очень-то доверяю этому летописцу.
Паулина вздрогнула.
— Какая ужасная смерть, — сказала она. — Как же он там мог кричать о радости!
— Спасение довольно часто выглядит ужасным, — проговорила миссис Анструзер. — Ужасным благом.
— А… — начала было Паулина, но замолчала. — Стенхоуп говорил что-то подобное.
— Питер Стенхоуп — большой поэт, — отвечала бабушка. — Мне кажется, вы не очень-то понимаете его пьесу. Разве что ты…
— Миссис Парри понимает в ней все, кроме Хора, — сказала Паулина. — А Адела и Миртл Фокс понимают даже это.
Взгляд миссис Анструзер изменился.
— Милая моя, я прекрасно знаю Кэтрин Парри. Никто не загубил своими «удачными» постановками больше пьес, чем она. Иногда я думаю, не сделала ли она то же самое с собственной жизнью. Нет, она — славное создание, и ее непредсказуемые эффекты тоже хороши, но, боюсь, она больше внимания обращает на декламацию, чем на поэзию.
Паулина поразмыслила.
— Но как же можно поставить пьесу без декламации?
— Ты и сама немного к этому склонна, милая моя, — ответила миссис Анструзер. — Ты декламируешь довольно точно и проникновенно, но живого дыхания и стиха не чувствуешь. Ты всегда была добра со мной. Мы прекрасно управлялись вдвоем: я — в роли пациента, а ты — сиделки. Вот примерно это я и имела в виду, когда говорила о декламации.
Паулина медленно залилась краской и отвела глаза.
— Тут нечего стыдиться, — успокоила ее старушка. — Повторяю, ты — молодец. Я же вижу, тебя давно что-то угнетает, а ты несмотря на это все-таки остаешься неизменно добра со мной. Мне бы хотелось помочь тебе.
— Ничего меня не угнетает, — Паулина раздраженно открестилась от своих проблем, — разве что сегодняшний разговор. Я вела себя глупо, да, бабушка?
— Мне кажется, ты ведешь себя неразумно сейчас. Почему ты не хочешь довериться мне?
— Хочу, — горько сказала Паулина, — вот только… — она чуть не проговорилась «что толку доверяться», но вовремя поправилась и сказала: — Не в чем особенно доверяться.
— Милое дитя, — мягко произнесла миссис Анструзер, — ты как в школе, право. Попроси Питера Стенхоупа научить тебя читать стихи.
Запутавшись в метафорах, вторых смыслах, неявных упреках и голосе, затопившем сад неизменным благодушием, Паулина собралась возразить снова, но тут появилась Феба и доложила хозяйке:
— К вам миссис Лили Сэммайл, сударыня. Желает узнать, достаточно ли хорошо вы себя чувствуете, чтобы принять ее.
— Конечно, — сказала миссис Анструзер. — Попроси миссис Сэммайл пройти сюда. Ты ее знаешь, Паулина? — спросила она, когда Феба вышла.
Паулина уже стояла, держа в руках рукопись.
— Ну, не так чтобы знаю, — отозвалась она. — С ней то и дело сталкиваешься на улице, она везде. Она ко всем заглядывает. Но я не знаю никого, кто заглянул бы к ней. По-моему, никому это и в голову не придет. Я даже не знаю, где она живет.
— На этом холме есть разные места, — сказала миссис Анструзер, и Паулина опять уловила двусмысленность в ее голосе. На миг страх вернулся к ней, она торопливо огляделась. Двойника нигде не было. — Самые разные вместилища жизни.
Миссис Сэммайл была на вид моложе миссис Анструзер, посвободней в движениях и намного беспокойней. Ее туфли бодро простучали по дорожке, глаза мгновенно обшарили сад; всем своим существом она показывала, что время не ждет, что времени осталось совсем мало — вот только для чего? Возможно, по контрасту со спокойной умиротворенностью миссис Анструзер она казалась очень возбужденной. Ростом пониже Паулины, она и на девушку смотрела снизу вверх с некоторым беспокойством.
— Заглянула вот на минутку, — сказала она. — Но как же давно я вас не видела!
— Мы вчера встречались, если припомните, — улыбнулась Паулина. — Но хорошо, что вы зашли.
— Надеюсь, я не слишком побеспокоила? — продолжала миссис Сэммайл, здороваясь за руку с миссис Анструзер. Та пробормотала нечто невнятное, а Паулина перевела:
— Конечно же, нет, миссис Сэммайл, мы вам рады.
— Какая роскошная погода! Но какая утомительная, вы не находите? — щебетала гостья. Паулина подумала, что она похожа на цыпленка, скачущего у стеклянных стенок террариума со змеей. — Мне любая погода кажется утомительной, что жара, что холод. А тут ведь всегда не одно, так другое, правда?
— В том и прелесть, — вежливо заметила миссис Анструзер. — Это как с полом: либо мужской, либо женский. Правда, бывает и то, и другое.
— Вот если бы мы сами могли делать себе погоду, — отважно начала Паулина, уже предчувствуя провал…
Лили Сэммайл живо повернулась к ней.
— Если бы! — воскликнула она. — Вчера мне показалось, что вид у тебя, милочка, немного усталый.
— Правда? — отозвалась Паулина. — Да, пожалуй, — и нерешительно добавила: — наверное, это из-за жары.
Собеседница по-птичьи наклонила голову и совсем тихо сказала:
— Я думаю, этот мир слишком утомительный. А ты?
— Я тоже, — сказала Паулина, чувствуя, как колотится сердце. — Очень утомительный.
Ей действительно было жарко. Три человека — слишком много для этого садика. Может, бабушка предпочтет перейти в дом? Если стоит такой июнь, то что же будет в июле?
Время остановилось; ниоткуда не долетало ни звука. Паулина вздрогнула. Жара — это предчувствие вторжения. Жара обволакивала ее, переваливалась через стены… или проходила сквозь них, жара была центром того непостижимого существа, которое — теперь она это знала — могло притянуть, заставить упасть в себя, как в пропасть. Покуда оно есть в ее жизни, Паулине останется роль слабого подобия, тени, отзвука ее двойника.
Ощущение схлынуло. Она пришла в себя и поняла, что смотрит в лицо миссис Сэммайл. Замечательное лицо! Только вот глаза-щелочки да запавшие щеки неожиданно напоминали о смерти. Паулина, взбудораженная воспоминанием о двойнике, подумала, что миссис Сэммайл напоминает смерть куда больше, чем бабушка; что она — просто живая смерть. А чего еще ждать на этом холме, где умер и ее предок, и множество других людей?
— Может, она заснула; не станем ее будить, — между тем говорила тихонько миссис Сэммайл. — А ты выглядишь усталой. Если я могу чем-нибудь помочь…
Паулина подумала, что была несправедлива к глазам миссис Сэммайл. Они вовсе не беспокойные, как ей поначалу представлялось. Они затягивающие. Они очаровывали и успокаивали одновременно.
— Я вижу плохие сны, — сказала Паулина.
— Я тоже иногда их вижу, — сказала миссис Сэммайл, и Паулина тут же поняла, что ее сны, если так их называть, — ничто по сравнению с кошмарами ее собеседницы. Но не успела она открыть рот, как гостья продолжила: — Но и с ними можно справиться.
Видимо, миссис Анструзер услышала последние слова и ответила в том же тоне:
— Сон. Или бодрствование. А разве бывает что-то еще?
Миссис Сэммайл обернулась, и напряжение в ее голосе стало еще отчетливее.
— Но сны все-таки лучше. А на нашем Холме у каждого должен быть выбор. Их здесь много.
— А вы умеете менять сны, миссис Сэммайл? — спросила Паулина.
— О, это каждый умеет, — ответила та и, наклонившись к Паулине, продолжила: — Есть много способов изменить сны. — Она накрыла ладонь Паулины своей птичьей лапкой. — Это все — сказки сознания. Почему бы тебе не рассказать себе приятную историю?
— Мне никак не удается счастливый конец, — вздохнула Паулина, — потому и история не кончается. Всегда в ней должно случиться что-то еще, и у меня такое впечатление, что это не только я ее рассказываю.
— Ладно. Тогда я буду рассказывать тебе твои истории, — сказала Лили Сэммайл. — Зайди ко мне как-нибудь.
— С удовольствием, только я не знаю, где вы живете, миссис Сэммайл, — смущенно сказала Паулина.
— О. мы как-нибудь встретимся, — махнула рукой миссис Сэммайл. — И если не найдем готовой истории, то сделаем новую. Позолоти ручку, и я не просто нагадаю тебе удачу — я ее создам для тебя. Как в Библии — вино из воды даром, ну, или за такую малость, что и говорить не о чем.
Паулина посмотрела на миссис Анструзер.
— Миссис Сэммайл предлагает нам все, что мы захотим, и без всяких хлопот, — сказала она. — Как ты думаешь, стоит согласиться?
— Да она просто болтает, — чуть слышно проворчала бабушка, и Паулина, кивнув, снова обратилась к гостье:
— Значит, человек должен всегда себя радовать?
— А почему бы и нет? — живо откликнулась миссис Сэммайл. — Если человеку с собой хорошо, то откуда взяться страху, стыду или разочарованию? Можно придумать такую историю, что мир никогда тебя больше не обидит и тебе не придется избегать его. У тебя будет все, что хочешь, если научиться смотреть и слушать.
У кресла миссис Анструзер снова возникла Феба.
— Мисс Фокс и мистер Стенхоуп, сударыня, — доложила она и удалилась.
Паулина, поднимаясь, проговорила:
— Это было бы заманчиво. Бабушка, ты не очень устала? Может, тебе лучше подняться наверх, а я приму их в доме?
— Дорогая моя, — сказала миссис Анструзер, — пока Питер Стенхоуп заходит навестить меня, я буду принимать его. Дай мне руку.
Она поднялась и успела сделать пару шагов, когда в саду появились Миртл Фокс и Стенхоуп.
— Дорогая миссис Анструзер, как я рада повидаться с вами, — заговорила Миртл. — Мы так давно не виделись, но я совсем забегалась! А вот сегодня просто не могла не зайти. Вы знакомы с мистером Стенхоупом? Мы встретились с ним на улице и вместе пришли к вам.
Миссис Анструзер позволила себя обнять и поцеловать, ограничившись со своей стороны улыбкой; а потом протянула руку.
— Это большая честь, мистер Стенхоуп, — произнесла она. — Я рада приветствовать вас здесь.
Он склонился над ее рукой.
— Вы так добры, миссис Анструзер.
— Я ваш давний должник, — сказала она, — но теперь могу только помнить об этом. Вы знакомы с миссис Сэммайл?
Стенхоуп снова поклонился; Миртл разразилась новым потоком приветствий; наконец все уселись.
— Я зашел, — сказал Стенхоуп после небольшого обмена любезностями, — чтобы узнать у мисс Анструзер, какие имена ей больше нравятся.
— Мне? — удивилась Паулина. — Какие имена?
— Вы же ведете Хор, — объяснил Стенхоуп, — а я обещал миссис Парри, что попытаюсь как-то выделить вас, — ради зрителей, — а значит, надо придумать имя. На мой взгляд, это мало чем поможет, но раз уж обещал… Мне представлялось что-нибудь французское, поскольку речь идет о восемнадцатом веке — Ла Люантен[12] или что-нибудь в этом духе. Но миссис Парри боится, что такое имя еще больше запутает зрителей. Никто не догадается (как она думает), почему листья — если это и вправду листья — называются люантен…
Миртл, подавшись вперед, перебила его:
— Ой, мистер Стенхоуп, вы мне напомнили. Я тоже на днях об этом думала. Было бы удобно и понятно дать хору названия деревьев. Как здорово было бы в программке: Вяз, Ясень, Дуб — три милых дерева, — Боярышник, Плакучая Ива, Бук, Береза, Каштан. Понимаете? Все стало бы понятно. И тогда Паулина была бы Дубом. Дуб ведь — главное дерево в Англии, ему — ей то есть — как раз подойдет.
— Позволь мистеру Стенхоупу договорить, Миртл, — сказала миссис Анструзер.
— Ты превратила Хор в обычную рощу, — одновременно с ней сказала Паулина.
— Но нам же это и нужно, — настаивала Миртл, не в силах расстаться со своей идеей. — Мы хотим осознать, что природа может утешать, как сама жизнь. И как искусство — взять хоть пьесу мистера Стенхоупа. По-моему, искусство так утешает, вы согласны, миссис Сэммайл?
Миссис Анструзер собралась было прервать Миртл, но решила дать гостье возможность ответить.
Миссис Сэммайл неожиданно елейным голосом произнесла:
— Уверена, мистер Стенхоуп не согласится с вами. Он будет говорить, что и в страшных снах есть смысл.
— Паулина, но мы же согласились, что имя, как и все остальное, должно быть важным или символичным? — воскликнула Миртл.
— Мне бы все же хотелось узнать, как меня зовут, — тихо сказала Паулина, и Стенхоуп, улыбнувшись, ответил:
— Мне думается, Периэль. Никакой смысловой нагрузки.
— Звучит странно, — поджала губы Миртл. — А остальных как будут звать?
— Никак, — отрезал Стенхоуп.
— О! — Миртл не могла скрыть разочарования. — Я думала, у нас будет песня или стихи, или что-нибудь в таком духе со всеми нашими именами. Звучало бы красиво. А искусство ведь должно быть прекрасным, разве нет? Прекрасные слова и прекрасные голоса. Я убеждена, дикция — это так важно!
— А вот бабушка так не считает, — сказала Паулина.
— Но, миссис Анстру… — начала было Миртл, но та, к кому она обращалась, не дала ей закончить.
— Что нужно, чтобы читать стихи, мистер Стенхоуп? — спросила миссис Анструзер.
Стенхоуп засмеялся.
— Четыре добродетели: чистота, ритм, смирение, мужество. Вы согласны со мной?
Старая дама поглядела на миссис Сэммайл.
— А вы?
Лили Сэммайл пожала плечами.
— Ну, если поэзию превращать в труд… — начала она. — Но не все ведь хотят читать стихи, большинству хватает радостей попроще.
— Стихи нужны всем, — возразил Стенхоуп. — Иначе поэзия, драматургия да и вообще искусство теряют ценность, становятся необязательными, чем-то таким, о чем неплохо помечтать после обеда.
Миссис Сэммайл снова пожала плечами.
— Вы превратили удовольствие в доходное дельце, — фыркнула она. — Теперь, приснись мне кошмар — я мигом превращу его во что-нибудь другое. — И она посмотрела на Паулину.
— У меня ни разу не было кошмаров с тех пор, как я начала каждую ночь говорить себе: «Сон прекрасен, вот он, сон. Сон прекрасен». И никаких снов, — сообщила Миртл. — И каждое утро я повторяю то же самое, только говорю не «сон», а «жизнь». «Жизнь прекрасна, вот она, жизнь. Жизнь прекрасна».
Стенхоуп бросил быстрый взгляд на Паулину.
— Страшно прекрасна, пожалуй, — сказал он. — Страшно прекрасна, — закивала Миртл. Миссис Сэммайл поднялась.
— Мне пора, — сказала она. — Не понимаю, что мешает вам радоваться самим себе.
— То, что рано или поздно радоваться в самом себе становится нечему, — пробормотал Стенхоуп ей вслед.
Паулина проводила старую даму до калитки и распрощалась.
— Нам надо встретиться, — настойчиво сказала миссис Сэммайл. — Я всегда здесь, неподалеку, и, по-моему, могу тебе пригодиться. Сейчас тебе придется вернуться, но однажды возвращаться не понадобится… — с этими загадочными словами она затрусила прочь, и только перестук каблуков нарушал тягостное безмолвие Баттл-Хилл.
Прежде чем вернуться в сад, девушка немного помедлила. Ощущение чего-то значительного висело в воздухе; что-то должно было произойти или уже начало происходить. Казалось, самый обычный полдень, один из тысячи сад, немного разговоров, гости, чай, но сквозь обыденность упорно проступало нечто иное. «Все дело в пьесе, — подумала она. — Я слишком серьезно отнеслась к этой постановке». Пальцы Паулины бездумно поглаживали перекладину калитки. «Просто слишком много всего. Как-то странно я пообещала бабушке, что смерть не должна мешать постановке. И к чему она вспомнила этого несчастного предка, обратившего смерть в победу? Спасение Струзера, спасение Анструзеров… ораторское искусство, декламация, поэзия, Питер Стенхоуп, Лили Сэммайл, какой-то сюрреалистический спор о погоде, и ее глупая фраза о „собственной погоде“; разговоры, разговоры, о стихах, о снах, о поэзии… „Чистота, ритм, смирение, мужество…“ А Лили Сэммайл говорит, что все это только мешает радости… Да уж, надо быть „страшно прекрасной“, чтобы сподобиться этой радости. И страшно осторожной со всеми этими разговорами».
Она поглядела на улицу и вдруг подумала, что если бы оно показалось сейчас, она подождала бы его. В конце концов, она принадлежит экспериментальному Хору, а не только себе.
Мой мудрый сын, кудесник Зороастр. В саду блуждая, встретил образ свой…Если даже для того, чтобы читать стихи, по словам Стенхоупа, нужны эти добродетели, то уж, наверное, Шелли обладал ими до того, как написал эти строки? Может быть, зря она их так невзлюбила? Может, они попались ей на глаза как испытание? Может, надо попробовать проникнуть в их тайный смысл, как сделал это сам Шелли? И что же откроется за ними?..
Пора было возвращаться. Она оторвалась от калитки. Миссис Сэммайл уже дошла до угла. Она оглянулась и помахала рукой каким-то странным манящим жестом. Паулина нехотя помахала в ответ. Прежде чем она начнет рассказывать себе истории, нужно понять, что кроется в стихах. Она должна услышать продолжение.
Гости уже собирались уходить. Миссис Анструзер явно устала. Она заставила себя подняться, чтобы попросить Стенхоупа заходить еще, если ему будет угодно. И больше ничего не произошло, разве что Стенхоуп, когда Паулина уже попрощалась с гостями, помедлил и, пропустив вперед мисс Фокс, тихонько сказал:
— Существительное управляет прилагательным, а вовсе не наоборот.
— Существительное? — не поняла Паулина.
— Прекрасное. Оно управляет страшным, а не страшное — прекрасным. Я не дам вас в обиду. Всего доброго, Периэль. — И он ушел.
К вечеру того же дня миссис Анструзер лежала в постели — без сна, но вполне довольная, — и тоже вспоминала дневные события. Она была рада повидать Питера Стенхоупа и не очень обрадовалась Лили Сэммайл, но раз Бог попустил ее существование, стало быть, она — тоже Его посланник и трудится ради некоего блага, непонятного пока Маргарет Анструзер. Интересно, понимает ли сама Лили, что предлагает? Что-то слишком похоже на Миртл Фокс, которая приладилась рассказывать себе сказки.
Она посмотрела в окно. У нее еще оставалось несколько вечеров, когда можно просто так смотреть как уходит день, а то, что вечеров этих осталось немного, только усиливает ощущение счастья. Впрочем, понимание обыденности происходящего его тоже усиливало. Неповторимость придает радости один вкус, обыденность — другой. Событие могло быть прекрасным уже потому, что ему не пришлось случиться; вообще, неслучившееся прекрасно. Пока человек принимает радость бытия — все хорошо. Но все кончается, как только он пытается привязать радость к конкретному событию или требует от бытия именно тех радостей, которых хочется Я ему. Вот скоро она умрет… Ну и что? Просто смерть откроет ей еще одну радость.
В последних пьесах Стенхоупа ей нравилось все возрастающее ощущение чистоты и простоты. Конечно, как свойственно всякой настоящей поэзии, смысл этих пьес глубже, чем способен уразуметь любой конкретный человек, да и она в том числе. Это видно по тому, как Стенхоуп пользуется словами. Она не знала, что именно из личного опыта поэта перешло в его стихи. Да это и не важно. Важно то, как замечательно удается ему не только уловить, но и передать великую силу жизни. Любому, кто знаком с ней, понравятся его стихи. Как замечательно зазвучала эта сила в его странном Хоре, который так горячо обсуждают местные эксперты по культуре, не понимая, насколько сами они обязаны этой силе всей своей жизнью. В ней мало человеческого, хотя она и прорывается время от времени, например, в песне Ариэля в «Буре», поднимаясь на волнах звуков, свободных от человеческих желаний, страхов, упований.
Сама она не смеет пока вторить Хору; пусть ему вторят те, у кого либо меньше знаний, либо больше отваги. Она осмеливается только вспоминать; декламация требует больше мужества, чем нужно даже для смерти. Вот когда она умрет, тогда сможет правильно читать стихи Стенхоупа. Но для этого надо умереть хорошо.
Здесь это будет легче, чем где-нибудь еще. Это место много веков насыщалось смертью, словно смертные потоки стремились сюда издалека, как в стоячий водоворот. Такие места, самим Провидением назначенные быть усыпальницами, рассеяны по всей земле. В них находят конец любые человеческие движения, и Баттл-Хилл — одно из таких мест. Здесь долго копилась энергия покоя, энергия знания.
Она верила: в смерти дух человека начинает видеть себя и мир в истинном свете. Это другое знание. Оно обладает силой, и здесь, в Баттл-Хилл, эта сила ощущается отчетливее, чем в остальном мире. Она почти видела, как незримое присутствие мертвых меняет пути живых. Вот почему в языческих странах дома усопших запретны для живых. Варвары понимают, что ради сохранения жизни надо строго разделять миры живых и мертвых. Мудрость многих религий создала священные обряды, связанные со смертью, и отправляет умерших навстречу их судьбе с молитвами и ритуалами, необходимыми не только мертвым. Скорее, они призваны охранять живых от вторжения призраков; а самим призракам они облегчают путь в их собственный мир, не позволяя останавливаться и возвращаться. Их подгоняют миропомазанием и реквиемами, молитвами и мессами; меч экзорцизма преграждает обратный путь тем из них, кому особенно трудно уходить. Но там, где вера терпит неудачу, где некрополи лишены налета мистического страха, где кремация поддерживает иллюзию быстрого и легкого ухода, где лукавый конформизм уверяет в дружелюбных отношениях между живыми и мертвыми — там эта новая близость часто оборачивается страшными узами.
Обычно полагают, что мертвые способны проявлять заботу о живых, но что, если на самом деле им самим нужна помощь? А если их жизненный опыт просочится из мелкой могилы и окажется заразным для живых? Тогда люди начнут обретать знание; людей начнут заставлять знать; в конце концов, мир живых будет наводнен мириадами духов, подпитывающих его постоянным откровением. Истерия самопознания, монотонность самоанализа, стремление к рефлексии — все, чем болен этот век — не что иное, как инфекция от контакта с миром духов, не получивших должного очищения.
«Даруй им вечный покой, о Владыка. Да осияет их свет невечерний. Пусть они покоятся в местах, посвященных им; далеко, как можно дальше от нас, их невольных учеников. Молитвы о заступничестве звенят не от сострадания к ушедшим, а от страха за живых. Даруй, даруй им, Господи, покой. Облегчи им путь. А нам позволь пока еще радоваться тому, что мы укрыты от их невыносимого знания».
Прикоснувшись мысленно к естественным страхам рода людского, Маргарет Анструзер и сама испытала приступ страха, но быстро справилась с собой. Принимать такое знание с радостью — высшая привилегия человека. Высшим воплощением этого знания нельзя было признать в полной мере и греческое «Знаю Тебя», и христианское «знание Любви», по сути — одно и то же. Человеку доступен только один из множества уровней единого знания. Только постижением искусства чистой любви может он приблизиться к океану знания.
Девушка и старая леди, не спавшие в доме под ночным небом, проходили разные этапы этого пути. Для юного сознания Паулины максима греков приобрела ужасающую актуальность; старой женщине почти открылся мир, отданный во владение мертвым. Паулина пока ничего не знала о значении этих ночных бдений и тем более не догадывалась, как выглядит обретенная истина. Маргарет всю свою долгую жизнь училась отделять не только один опыт от другого, но и внутри каждого отдельного опыта различать мечту и реальность. Опыт — это наркотик для духа; любой опыт, кроме последнего, должен быть отброшен ради истинного совершенства. Дух Маргарет все яснее видел то, что происходило на Холме.
В домах поселка давным-давно погасли огни. Холм напоминал огромную безмолвную могилу, в которой было вырыто огромное множество других могил. Единственный звук нарушал тишину: звук шагов. Маргарет хорошо знала эти шаги; она слышала их уже много ночей. Иногда она слышала их и днем — слабый монотонный топот ног, заставлявший совсем иначе звучать земную поверхность. Далеко ли, близко ли — не понять, расстояние зависело не от длины, а от какого-то другого измерения. Она не знала, кто бродит на Холме, но чувствовала — не к добру. Впрочем, ничего зловещего или опасного в этих нездешних звуках не было. Кто-то просто что-то искал или бежал от чего-то — а может, и то, и другое одновременно. Шаги словно стремились вперед и в то же время упирались, хотели обратно. Противоположность стремлений была единственным равновесием того, кто ходил в ночи. А еще в них чувствовалась боль. Топот напоминал торопливые шаги женщины на садовой дорожке сегодня днем. Она где-то слышала о Страже порога[13] и теперь гадала, а не заблудился ли этот страж на своем пороге? Впрочем, ее это не касалось. Их пути не пересекались.
В ней шевельнулись бесконечные заботы Баттл-Хилл. Холм предстал перед ее внутренним взором со всеми своими зданиями и обитателями. Она видела маленьких озабоченных людей, спешивших куда-то. Некоторых даже удавалось узнать. Она видела, как Паулина идет в магазин, как Питер Стенхоуп разговаривает с кем-то на улице. Сейчас она вдруг мимолетно вспомнила, что нигде не видит женщины, заходившей к ней сегодня, зато увидела Миртл Фокс, бежавшую по улице. Видение было отчетливым, но через миг исчезло.
Внутреннее зрение перестраивалось. Вот уже не видно людского муравейника, растворяются здания… Наконец ни одного существа, ни одного строения не осталось на Холме, да и сам холм затерялся в череде подобных ему. Только это были уже не холмы, пожалуй, они больше напоминали склоны гор, подножия которых скрывались из вида. Там угадывалось скопление людей, во всяком случае, присутствие жизни, но вершины оставались безжизненны. Стояли предрассветные сумерки. Из-за гор поднималось солнце.
Потом она перестала видеть горы, сама превратившись в одну из них и потеряв интерес к другим. Было очень тихо; но в тишине отчетливо слышались слабые звуки, словно кто-то поднимался по склону. Теперь Маргарет уже не воспринимала себя как старую женщину, скорее, она была вершиной горы. Это в ней звенели ручьи, падали камни, посвистывал ветер в ущельях, но звуки не покрывали слабых человеческих шагов. И еще один звук выделялся на общем фоне: колокол. Часы на площади — поняла она. Час пополуночи. Темнота вокруг редела — где-то занимался рассвет.
Чем сильнее становился свет, тем отчетливее прорисовывалась гора, тем лучше чувствовала она существ, населявших ее склоны. Оказывается, некоторые бродили возле самой вершины. Одни взбирались вверх; другие, вместо того чтобы радоваться солнцу, как должны бы радоваться заплутавшие на склонах, пытались укрыться от света. Они торопливо забивались в пещеры и расселины. Некоторые падали и пытались судорожно ползти. Они казались на редкость неуместными в этом царстве камня и льда, пронзительного воздуха и поднимающегося солнца. Ясно, что они оказались в чужом для них мире, но и для нее он не был полностью своим. Разделенное сознание ожило в ней ярче, чем когда бы то ни было.
Еще в пору своего ученичества она иногда ловила себя на том, что сознание и чувства действуют словно сами по себе, движутся по жизни, подобно этим существам на склонах, но главное происходит не здесь. Она могла испытывать радость или грусть — не имело значения. Важным оставалось одно: океан великого, безмерного счастья, неизбежно ожидающий ее впереди.
Не стоит внимания ее нынешнее состояние, хрупкое и готовое вот-вот прерваться. Теперь она знала, что на самом деле ее мир здесь, на большой высоте, среди горных пиков, частью которых была и она сама. Еще пугали немного, особенно сегодня на рассвете, минуты последней слабости. Но в ней крепла уверенность, что когда рассвет достигнет уголка, где она лежит, один-единственный последний, пронзительный удар света разом переменит все, а то могущественное знание, которое и есть ее настоящая сущность, станет наконец чистой радостью.
У той Маргарет, которая лежала, сейчас в постели в доме на Холме, оставалось совсем немного сил. И все же она заставила себя выползти из темного угла навстречу свету. Она просто отвернулась от всего, что было в этом углу — от дома, от воспоминаний, от пьес Стенхоупа, от Паулины, и с трудом, через силу начала свое последнее путешествие. Ей было все равно, сколько оно займет времени — часы или дни. Как только она тронулась, осторожно пробираясь по склону горы, свет хлынул ей навстречу. Этим первым движением она подтвердила свое согласие умереть, теперь оставалось лишь исполнить намерение.
Неожиданно обе Маргарет — и та, которая тронулась в путь, и та, что оставалась в постели, — задремали. В этом легком сне она снова шла по улицам Баттл-Хилл, словно стоило ей принять решение — и некто воссоздал поселок только для нее. На Холме все еще длилась ночь. На улицах горели фонари; шелест листвы незаметно вытеснил тишину гор. Но и вершины, расцвеченные первыми рассветными бликами, тоже присутствовали в этом сне со всеми своими обитателями. В предвкушении радости смерти Маргарет проходила между ними, но никто не замечал ее.
Она увидела, как Паулина выходит за калитку и обеспокоенно оглядывается по сторонам. Отсюда, с горного склона, Маргарет увидела другую Паулину, двинувшуюся навстречу первой. Та, которая спускалась с гор, шла с высоко поднятой головой, сияя на солнце, в глазах ее мерцал нездешний свет, движения были свободными и четкими, как у ветра, выметающего прошлогодний сор из ущелья. Поначалу шаги ее были бесшумны, но вдруг зазвучали на асфальте, когда вторая Паулина пересекла незримый рубеж. Вот первая Паулина увидела ее и бросилась бежать, а вторая своим летящим шагом легко нагоняла ее. Вот они затерялись на темных улицах, в горных расселинах и исчезли из вида.
А вот по улице, у самой вершины холма, торопливо идет кто-то незнакомый. За ним спешит целая толпа — в основном молодые люди и дети, и у всех — его лицо. Они преследовали его так же, как одно видение Паулины преследовало другое, но при этом оглашали улицу раздраженными воплями. Человек словно торопился найти что-то, его глаза беспокойно бегали по сторонам. Время от времени он заглядывал в водосток или поднимал глаза к темным окнам, пока вдруг резко не свернул к какой-то калитке. Его компания замешкалась, переглядываясь и перешептываясь.
Теперь Маргарет видела того же человека уже смотрящим из окна. Рядом с ним стоял еще кто-то, но они словно не замечали друг друга. Впрочем, она узнала второго — это был Лоуренс Уэнтворт. Он тоже смотрел вниз, а минуту спустя вышел из дверей дома. За ним тут же вышла молодая женщина, та самая, прихода которой он ждал.
Первый мужчина тоже вышел на улицу. Однако это была уже не улица поселка, а какие-то руины, напоминавшие не то строительные леса, не то камни, не то кости — торчащие вверх, угловатые, голые, как скелет, потерявший плоть. Незнакомец шагал уже по склону горы, хотя и не догадывался об этом. Ему не помог даже свет, разливавшийся по вершинам. Он шел, рассеянно поглядывая то вверх, то вокруг себя, пока не встретился глазами с Маргарет и не дернулся всем телом от изумления и, как ей показалось, от радости.
Они смотрели друг на друга, а сон меж тем становился все глубже. Маргарет услышала быстрый перестук шагов, который всегда означал для нее начало или конец погружений в сверхреальность. Она снова была в Баттл-Хилл, и ее окружали дома, стоявшие на костях и могилах. Смрад поднимался от них, из глубины рвались яростные крики, а звук шагов все убыстрялся.
И вот по улице бежит Лили Сэммайл, машет рукой, зовет и останавливается в нетерпеливом ожидании. Лили смотрит в сторону калитки. Там стоит Паулина. Две женщины долго смотрят друг на друга, а потом начинают разговаривать через забор. «Больше не будет боли, не будет мучений, будут только сны», — произнес чей-то голос. Маргарет протянула руку и коснулась выступа скалы, на который прилегла на пути к смерти. Она оперлась на скалу и подалась к Паулине. Сиделка в комнате услышала звук и повернула голову. Миссис Анструзер произнесла:
— Я хотела бы поговорить с Паулиной; не могли бы вы попросить ее…
На этом месте она проснулась.
ГЛАВА ПЯТАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ
В видении Маргарет Анструзер предстал одинокий дом и две тени в одном и том же окне. Время исчезло, и мертвец пребывал наравне с живым. Переживания обитателей Холма стали одновременными, будто единовременность окутала Холм; они более не зависели от последовательности событий.
Случай, столкнувший Уэнтворта с мертвецом на этом духовном плане бытия, был просто одним из его злосчастий. Обычный ход времени придал ему значимость. То, о чем Уэнтворт предпочитал не думать, неожиданно оказалось совсем рядом с ним. Словно сама суть Государства чуть приоткрылась его глазам. Вот человек, отверженный Государством, влез по заброшенной лестнице к своей смерти. Его смерть влилась в Государство и растворилась в жизни других граждан. Уэнтворт не признавал демократических свобод. Он не признавал ни жертв угнетения, ни существование произвола. Возможно, такой произвол неизбежен, и Государство так же двойственно относится к собственному благу, как большинство его подданных — к своим жизням. Но Уэнтворт никогда не признавал и не отрицал этой неизбежности, даже не подвергал ее сомнению, она не задевала его, он ее попросту игнорировал. Он не думал о социальной справедливости. Иная справедливость занимала его куда больше. Она проявлялась, прежде всего, в его ученых трудах — там игнорировать существование других людей не следовало ни в коем случае. И если рядом вдруг появились сверхъестественные соседи, значит, следовало учесть и их. А один такой точно был.
Мертвец стоял там, где теперь находилась спальня Уэнтворта, и боязливо прислушивался, не идет ли кто. То прошлое все еще существовало здесь, поскольку прошлое — лишь часть нашей жизни, которую мы перестали воспринимать чувственно. Теперь прошлое приближалось к настоящему; приближалось к чувствам настоящего. Но между ними все еще раздавались — топ-топ — торопливые шаги, которые Маргарет Анструзер услышала на первом круге Холма. Мертвец вряд ли их слышал; его чувства на этом круге привели к смерти. Но по эту сторону мира были и шаги, и эхо, и память шагов. Именно к ним и прислушивался Уэнтворт.
Он вернулся к себе после того, как услышал размеренные и насмешливые шаги Хью и Аделы, их голоса и приглушенный смех. Он расхаживал туда-сюда и наконец остановился у того же окна, откуда выглядывал мертвец. Уэнтворт тоже выглянул. Он прислушался, и его воображение воссоздало звук шагов. Тело содрогнулось, ощутив жаркую волну желания. Желание заставило вслушиваться в ложной надежде. Не может быть, чтобы он не услышал, как звук шагов раздвоится, а потом он просто должен услышать настоящие шаги на улице, возле калитки, на дорожке, ведущей к двери. Там должна возникнуть вполне реальная фигура…
Это должно случиться; его тело сказало ему, что это должно случиться. Он должен получить то, что хотел, потому что… но шагов все не было. Мертвец с веревкой в руках стоял рядом с ним, рука к руке, нога к ноге, и тоже прислушивался, но той ночью никто из них так ничего и не услышал.
Вечер и утро были первым днем или несколькими часами, или несколькими месяцами, или и тем и другим сразу. За ними последовали другие. Дела на Холме шли своим чередом; постановка пьесы подвигалась. Паулина держалась в стороне, а Маргарет уже почти умерла или жила, умирая. Хью ездил в Город и обратно. Адела бродила по Холму. Ее образ захватил Уэнтворта целиком, он каждый миг нуждался в ее присутствии. Но и ему приходилось заниматься своими делами. «Блажен, кто не соблазнится о Мне»;[14] эта максима применима ко многим камням преткновения, особенно к тем, которые приносят удовлетворение одним своим присутствием. Уэнтворт внутренне покрикивал на свое удовлетворение, но с каждым днем все чаще спотыкался о неподвижный камень.
Раз или два он встретил Аделу — один раз у миссис Парри, где им не удалось даже поговорить. Они улыбнулись друг другу странной улыбкой; с обеих сторон в ней сквозил тончайший налет ненасытности, проистекающий из ее незримой природы. Это их ненасытности улыбнулись друг другу. Еще раз он столкнулся с нею и Хью однажды вечером у почты, и улыбка Хью тут же придала характер враждебности и улыбке Аделы. Она приказывала и заставляла подчиняться улыбку Аделы; сковывала и отторгала улыбку Уэнтворта. Она заставила его понять, что он, старый неудачник, взялся тягаться с молодым соперником.
— Ну, как там ваша пьеса? — поинтересовался Уэнтворт.
— Учим роли, — ответила Адела. — Кажется, времени только на пьесу и хватает. Удастся ли нам еще раз провести с вами вечер, мистер Уэнтворт?
— Жаль, что никто из вас не смог прийти, — немного невпопад произнес он. Это покажет им, подумал он, что его не проведешь.
— Да, — сказал Хью; слово повисло двусмысленно. Рассерженный этим, Уэнтворт поспешно продолжил:
— Как провели время в городе? — Он и сам не понял, кому из них адресовал вопрос. А может, обоим?
Адела ответила:
— О, вы знаете, голова кругом. Подбирала расцветки для костюмов и тому подобное.
— Но, к счастью, потом мы встретились, — добавил Хью. — Знаете, мы чуть не налетели друг на друга, правда, Адела? Перекусили на ходу и сразу в театр. Могло быть гораздо хуже.
В голове Уэнтворта звучали шаги. Он видел, как Хью взял Аделу за руку; видел, как она взглянула на него; видел, как они обменялись какими-то недоступными ему воспоминаниями. Звук шагов отчетливо двоился. Шаги шли сквозь него; он хотел отдаться им: жизни и смерти, ненависти и вожделению, соперничающим между собой, и единственный результат их борьбы — топ-топ, шаги на Холме. Он знал, что эти двое просто смеются над ним. Он буркнул что-то относительно вежливое, резко откланялся и отправился домой.
В кабинете он машинально полистал бумаги, осознавая породившее их интеллектуальное напряжение, но не способный им заинтересоваться. Он обнаружил, что уставился на эскизы костюмов для пьесы, и ощутил острое желание порвать их в клочья, навсегда отказаться от этого фиглярства, а потом отказаться и от своего отказа. Но он сомневался, что ему удастся справиться с другой силой, более далекой, чем Адела, — с миссис Парри. Несмотря на то, что раздражителем она была куда меньшим, чем, например, Астон Моффатт или Адела, разум предупреждал, что миссис Парри — это одна из природных сил, подобная времени и пространству, и с ней так просто не справишься. Она хотела эскизы — она их получит. Аделе он мог отказать, но не отказаться от нее; отказаться от миссис Парри ничего не стоило, а вот отказать ей не получалось никак. Раздраженный осознанием своей псевдосилы, он отбросил спасенные эскизы. Под ними оказались какие-то наброски; вот их-то он и разорвал.
Вечер перешел в ночь. Уэнтворт не мог заставить себя лечь спать. Он походил по комнате; немного поработал и еще походил и опять поработал. Решил было, что спать все-таки пора, и тут же вспомнил о своем странном видении и противной гладкой веревке. Он не хотел ее видеть, он сопротивлялся изо всех сил, но точно знал: она здесь. Она могла валяться в каком-нибудь углу комнаты, если бы он не знал, что во сне болтается на ней. Измотанный душевно и физически, он продолжал бродить по комнате, и призрачные неясные образы окружали его со всех сторон. Тело его судорожно подрагивало; глаза болели так, будто он смотрел из петли в бездну позади себя. Наконец он просто застыл в неподвижности.
Тело не двигалось, но глаза продолжали свой бег. Вот они скользнули вниз и обнаружили непрочитанную утреннюю газету. Руки подняли ее и полистали страницы. С середины газетной полосы в глаза метнулся заголовок: «Награждения по случаю дня рождения» и ниже подзаголовок: «Историку присуждают дворянское звание». Сердце Уэнтворта замерло, глаза выкатились, зацепившись за имя, выделенное жирным шрифтом: «Астон Моффатт».
Уэнтворт мог бы впустить в себя радость, по крайней мере, родить намерение порадоваться. Ничего больше — всего лишь попытка порадоваться — и благодать снизошла бы на него. Он был совсем не глуп, он понимал, что это невероятное признание усладит и умилит невинную душу сэра Астона. Это признание не только и не столько его заслуг, сколько заслуг самой истории. Собственно, такое признание ничего особенно не значило, все это были бессмысленные пляски мира, но приносящие удовольствие. Уэнтворт вполне мог бы разделить это удовольствие. Он мог бы порадоваться; по крайней мере, не отказываться от радости. Взамен он мог бы отвергнуть проклятие.
Вместо этого с совершенно отчетливым, хотя и промелькнувшим стремглав осознанием того, что он делает, он отверг радость. Он предпочел гнев, и тот не замедлил явиться; гнев привел с собой зависть, и она затопила его с головой. Он яростно скомкал газету, затем расправил ее, просмотрел снова — заметка осталась на месте. Его соперник не только преуспел, но преуспел за его счет; ибо какова вероятность получить дворянское звание еще одному историку в ближайшие годы? Раньше он даже не задумывался об этом. И вот возможность явилась и тут же исчезла, предоставив событию посмеяться над ним. Другая возможность — порадоваться за коллегу — исчезла не родившись. В гневе он поклялся раз и навсегда, навсегда, навсегда возненавидеть это событие и всякие события вообще.
Он бездумно подошел к окну и выглянул наружу. Снаружи за стеклом обрисовалась грузная туша чудовищной алчности. Ненависть так раздулась, что начала душить Уэнтворта. Тогда он быстренько переадресовал ее своему сопернику. Пусть лучше он задыхается и дергается, это лучше, намного лучше! Он со жгучим интересом заглянул в дверь смерти и увидел перед собой тело, корчащееся в петле. Сэр Астон Моффатт… Сэр Астон Моффатт… Уэнтворт вперил взгляд в бледный призрак мертвеца в этом полупризрачном доме и… не увидел его. Мертвец бродил по своему собственному Холму, которому не суждено стать Холмом Уэнтворта. Ибо Уэнтворт предпочел другую смерть; и она была ему дарована.
Пока он стоял там, вплотную к миру первой смерти, отказавшись от всякой радости и вообще от всех событий, кроме тех, которые бередили раны его эгоизма, он наконец-то услышал долгожданные шаги. Только они и могли укротить его гнев; вот они и явились. В мгновенно нахлынувшем новом возбуждении он забыл об Астоне Моффатте; пропало куда-то видение болтающегося в петле тела. Он стоял и вслушивался, затаив дыхание.
Топ-топ… — шаги звучали на дороге. Топ-топ… — остановились у калитки. Он услышал тихое звяканье. Шаги приблизились. Наконец Уэнтворт разглядел поодаль женскую фигуру. Он понял: случилось то, что должно было случиться. Она пришла.
Он поднял окно — осторожно, даже слишком осторожно, чтобы не казалось, будто он торопится, чтобы не казалось, будто он хочет ее. Он перегнулся через подоконник и тихо окликнул женщину: «Это вы?» Ответ его озадачил, потому что это был голос Аделы, и все же больше, чем Аделы, полнее, богаче, приятнее. Она сказала: «Я здесь». Уэнтворт еле расслышал ответ, но она уже манила его рукой. Он тоже призывно махнул рукой, но она не шелохнулась, и в конце концов ему пришлось вылезти в окно — это оказалось достаточно легко даже для него — и подойти к ней. Теперь вблизи он опять удивился. Это была Адела, и все же не она. Ее рост и ее жесты. Сходство его успокоило, хотя он все же не понимал этой легкой несхожести. На мгновение он подумал, что это кто-то другой, какая-то женщина с Холма, кто-то, кого он видел, но не запомнил имени. Подойдя почти вплотную, он понял, что это никак не может быть Адела. Та Адела никогда так не походила на настоящую Аделу, как эта.
Романтическая любовь нередко превращает возлюбленную реальную женщину в обожаемый символ, наделяя ее существование славой и величием, а настоящая жизнь настоящей женщины отделяется от нее, становится чем-то искусственным и неважным. Это же существо поразило его, им нельзя было не восхищаться. Озадаченный, он заколебался.
— Как вы долго, — упрекнула женщина.
— Кто вы? Вы не Адела, — резко произнес он.
— Адела! — прозвучал спокойный уверенный ответ, и Уэнтворт понял, что настоящей Аделы мало, что эта Адела и должна отличаться от той Аделы, если хочет подойти ему. Если у той Аделы были какие-то отношения с Хью, то для его Аделы никакие отношения ни с каким Хью просто немыслимы. Почему-то раньше такая простая мысль не приходила ему в голову. Сейчас это стало вдруг так ясно! Он всмотрелся в женщину перед собой и почувствовал, как в нем шевельнулась свобода.
— Вы звали меня? — спросил он. И она ответила:
— По-моему, это вы помахали мне?
— Не думаю, что вы можете быть мне чем-то полезны, — сказал он, глядя ей в глаза.
Она рассмеялась: смех напоминал Аделу, только звучал намного лучше: богаче, довольнее. Адела так не смеялась. В ее смехе всегда проскальзывала этакая пренебрежительность.
— Вы мало о себе думаете, — сказала она.
Слова были нежные, заботливые, и он тут же понял, что это правда. Он никогда не думал о себе много. Он хотел быть добрым. Хотел быть добрым к Аделе; хотел отдать ей себя. Слова женщины принесли ему облегчение, словно он действительно отдал себя. И тогда, продолжая отдавать, он спросил:
— А если бы я больше думал о себе?
— Вы скоро поймете, — пообещала она. — Давайте пройдемся.
Он не понял первой фразы, но молча повернулся и пошел рядом с ней. Что он поймет? Что можно было бы понять, думай он больше о себе? То, что сказала настоящая Адела, а вовсе не та, что ходила рядом с каким-то Хью. Конечно, он понял бы настоящую Аделу, существующую отдельно и принадлежащую только ему. Именно в этом и заключалась трудность: она все время принадлежала по-настоящему только ему, но… почему-то не принадлежала. А вот если бы он больше думал о ее истинной сущности, а не о том, что она все время где-то болтается, где-то там, где ей совершенно нечего делать, тогда бы она шла сейчас рядом с ним; тогда Хью мог оказаться ненастоящим, а она — настоящей, тогда бы он обрел покой, и нес бы в себе ее запах, и всю ее, только ему предназначенную. Вот что было бы, думай он больше о себе.
Слабая дымка поднималась вокруг, пока они шли под густыми ветвями деревьев, поднимаясь по Холму к той Аделе, которую он таил глубоко в сердце. Его вела лукавая женщина, говорившая что-то без умолку. Уэнтворт все замедлял шаги и мучительно думал о том, как ускользнуть от той Аделы, которая с Хью; о том, что надо где-то и как-то найти настоящую Аделу, его Аделу, ибо то, чего он хотел, всегда и везде должно принадлежать ему; он всегда это знал, только почему-то так никогда не получалось. Только здесь, в странной дымке под деревьями, рядом с этой женщиной, все стало ясно. Дымка все прояснила.
— Сюда, — сказала она.
Он вошел; деревянная калитка распахнулась и захлопнулась за ним.
Было совсем темно. Рука скользнула в его руку и легонько ее сжала. Она потянула его вперед и немного вбок. Он спросил: «Где мы?» — но ответа не получил, только подумал, что слышит тихий звук текущей воды, журчанье и плеск. На фоне этого звука не стоило повторять вопрос. Тьма была наполнена тишиной; сердце его перестало гореть, хотя он слышал его биение в такт с журчаньем и плеском воды. Он не помнил, чтобы сердце его билось так громко; почти как если бы он находился внутри своего тела, прислушиваясь к нему там. Оно билось бы еще громче, подумал он, если бы чувства не были убаюканы и притуплены. Наверное, если бы он попал внутрь своего тела, его чувства тоже притупились бы, хотя как бы он туда попал и как выбрался… Если бы захотел выбраться. Зачем? Зачем покидать это убежище, самое надежное из всех? Но он не мог уйти туда полностью, ему мешала рука, ведущая его по какой-то извилистой тропке. Он знал, что тропа эта растянулась на сотни ярдов, или на миллионы труб, или трубочек, или тропок, или веревок, или еще чего-то, свернутых петлями, многими петлями, в его теле; он не хотел бы зацепиться за них ногой, но он не споткнется, потому что рука ведет его.
Он благодарно сжал ее; она ответила. Казалось, теперь они шли вниз, он и его провожатая, хотя он думал, что чувствует запах Аделы, а если и не Аделы, то кого-то очень похожего на Аделу, какой-то росток Аделы, и образ ростка в его сознании разросся в деревья с большими тяжелыми ветвями. А-а, так это было не журчанье, а шелест; он вышел из самого себя в лес, если только он не был собой и лесом одновременно. Мог ли он быть лесом? И при этом бродить по нему? Он долго обдумывал этот вопрос, пока шел, и вдруг обнаружил, что думает не об этом, а о чем-то еще; он скользил пальцами по руке — совсем чуть-чуть, ибо все еще хотел, чтобы его вели. Ему нравилось идти, все дальше, дальше, дальше, от чего-то позади или на самом деле снаружи, снаружи леса, снаружи тела, снаружи двери. Дверь не открылась бы кому угодно; то была его дверь, и хотя он не закрыл ее, она не откроется, потому что дверь знала его желание: навсегда отвязаться от этой противной парочки, беспокоившей его за дверью. Смешно было думать, что они над ним посмеиваются, пока его там нет; шастают под его окнами, пока он далеко, но они никогда не узнают, даже если он их когда-нибудь увидит снова, где, как и почему он был. Здесь ему хорошо и весело; когда-нибудь он даже засмеется, но не сейчас, здесь не стоит смеяться, здесь, под деревьями и листьями, листьями-листами и почками-очами и девами; вот двузначное слово, слово с двумя значениями, девы и Евы. Множество Ев на множество Адамов; одна Ева на одного Адама; одна Ева на каждого, одна Ева на всех. Ева…
Они остановились. В слабом зеленом свете леса, слабой дымке с реки, расползающейся среди деревьев, он видел только смутные очертания женщины подле себя. Он мог снова оказаться в Эдеме, а она вполне могла оказаться Евой; он — единственный мужчина, и все принадлежит только ему. Другие, чьи имена сейчас не стоило и вспоминать, потому что они были просто ходячими животными, — другие были не в счет, они не имели отношения к той великой жизни, которая бродила теперь по этой лужайке. Да и вообще они были не отсюда; они находились вовне, вне этого скрытого райского сада, через потайную калитку которого он вошел, возвращаясь к себе. Он был внутри и в покое. Он сказал вслух:
— Я не вернусь.
— А вам и не надо возвращаться, а если все-таки вернетесь, можете взять это с собой. Хотите? — ответила его спутница.
Он и эти слова понял не сразу. Наконец он сказал:
— Это? Вы имеете в виду все вот это?
Он слегка обеспокоился перспективой возвращения среди теней, что метались вокруг, — суровые, опасные. Поляна, сад, лес, дымка — все они готовы предать и напасть. Но все покрывало знание о том, что женщина, идущая рядом, полностью подвластна ему. Он дохнул на ее руку, и рука окаменела. Она потянула за собой все тело, и женщина медленно опустилась на землю, да так и осталась там, всхлипывая под тяжестью своей окаменелой руки. Он мог бы уйти на год или два, а когда вернулся, возможно, решил бы освободить ее, снова дохнув на эту окаменевшую руку.
Весь здешний воздух мог бы стать его дыханием. Стоит ему глубоко вдохнуть — и снаружи не останется ничего. Он стоял бы в вакууме, и ничто вокруг вообще не могло бы дышать до тех пор, пока он не соизволит выдохнуть. А он ведь может и не захотеть выдыхать, навсегда прекращая всеобщее существование. Допустим, он задержит дыхание на сотню лет или около того, и все звери и дикие твари, и высокий юный сатир, и пухлая юная нимфа, танцевавшие под музыку собственного смеха, немедленно упадут и умрут. Только женщина подле него не умрет, но лишь потому, что она может жить без воздуха, и это хорошо, потому что он хочет, чтобы она жила, а вот если бы ей нужен был воздух, она бы умерла. Он мог бы убить ее ненароком.
— Да, лучше Евы, ближе Евы. Мужчине хорошо быть единственным. Идемте же, дальше, вниз, вниз, — нетерпеливо позвала она.
Вниз — куда? Вниз под воздух, который был или его нет? Но он как раз собирался выдохнуть все, что было правильно. Почему он так долго терпел все, что было неправильно? Все пошло от этого глупого имени «Ева», мешавшего ему осознать, что только он один имеет значение. Ева никогда не говорила ему, что он ее создал, поэтому он не будет создавать ее снова, она останется лишь смятым лоскутком кожи в вакууме, а он будет жить в мире, где никто не будет ездить в Город, потому что не будет никакого Города, если только он… но нет, у него не будет никакого Города. Адела…
Он обнаружил, что затаил дыхание; вдохнул и почему-то лежит, а женщины рядом нет. Тогда он с силой выдохнул, разрешая Аделе существовать.
Теперь, приняв это важное решение, он спал. Луна светила прямо на него. Он больше не висел на веревке. Полная луна таращилась с неба; но луны больше не будет, останется только дыра в небе: вниз, вниз! Он почувствовал руки, скользящие по нему, это лунный свет превратился в руки, когда коснулся его, в лунные руки, прохладные и волнующие. Руки вызывали у него наслаждение; он возьмет их в свой мир, если вернется. Луна всегда будет принадлежать ему, хотя весь лунный свет уже излился, и в небе зияла темная дыра. Поначалу это немного обеспокоило, ведь если какие-то вещи могут исчезать, как вот луна, можно ли быть уверенным, что не исчезнет и его Адела? Можно. Потому что он бог и когда-нибудь создаст другую луну. Он сразу об этом забыл, всецело отдавшись рукам, ласкавшим его. Он впал в забытье; он умер для всего, кроме себя; он пробудился в себе.
Он лежал спокойно; уйдя в самую глубину Холма, он проник за сердце и легкие, весь собрался в самом низу своего тела. В исчезающем лунном свете он видел перед собой пруды и широкие водоемы, на поверхности которых все еще лежали лунные блики, и оттуда поднималась легкая дымка. Между ними, покрывая акры земли, лежала громадная фигура, чем-то напоминающая человеческую; лежала ничком. Ее плечи и ягодицы превратились в курганы, голова находилась где-то за ними; он не мог видеть ноги ниже бедер, ибо там лежал он сам, и ног не было видно, потому что они принадлежали ему самому. Он и Адам возникли из одного источника. Высоко над собой он чувствовал, как бьется его сердце и дышат его легкие. Его организм действовал словно в отдалении. Он так решил. Он лежал и ждал, когда будет полностью создан.
Адам спал; дымка поднималась от земли. Сын Адама ждал. Пробираясь по этой громадной оболочке, этому Холму мертвых и живых, а для него — лишь массе вещества, источнику его наслаждения, он чувствовал путь — путь, по которому теперь приближалась фигура, уже не громадная, а обычная фигура той, которой он перестал доверять еще прежде, чем разглядел ее. Она медленно надвигалась на тело Адама, бедного, оборванного, больного человека. Мертвец, идущий по своему собственному тихому миру, ничего не знал ни о глазах, которым был 100 показан его предсмертный путь, ни о гневе, с которым на него взирали. Уэнтворт увидел его, и разум его помрачился; что это за фигура и где? Он вскочил, чтобы отогнать ее, проклясть, пока она не втерлась между ним и его совершенством. Он не потерпит здесь никаких агентов, никаких разносчиков, никаких бродяг! Он сердито крикнул, размахивая руками; появление фигуры оскорбляло его; это все происки Города, а он не потерпит Города — никакого Города, никаких реклам, никаких попрошаек! Нет, нет, нет! Никаких людей, кроме него, никакой любви, кроме его собственной.
Фигура надвигалась. Медленно, тяжко, утомительно, но приближалась; там, по дороге, у подножья Эдема, брел Адам, брел так же, как в тот вечер, когда он тащился к своей смерти, неумолимо надвигаясь, как сияние истины, которое излилось из воздуха на терзающегося флорентийца в Раю Эдема: «ben sem, ben sera, Beatrice».[15] Это существо было чужим, чуждым; попрошайка на улицах Города. Нет, нет; никаких агентов, никаких попрошаек, никаких влюбленных; прочь, прочь от Города, в леса и дымку, по тропке, что бежит между прошлым и настоящим, между настоящим и настоящим, что скользит сквозь каждое мгновение всякого опыта, унося от Города, от земли, от Евы и всего остального, в зеленую дымку, поднимающуюся средь деревьев; по тропке, которой шла она, женщина из его желания, — топ-топ, та она, что спешила по Холму и по свету. О ней говорили, что тех, кого она настигала, поутру находили обескровленными и задушенными. Единственный волосок стягивал их горло, так слабо, так надежно, так смертельно, — обрывистая и петляющая тропка волоска-удавки. Она, чье начало было вместе с мужским, родная ему, как он своим тварям, отличная от него, как он от своих тварей; имя коей в мифе — Лилит.[16] Это она в одном из своих обличий шла по Холму, скрывавшему груду черепов, болтала без умолку на Холме, спешила, спешила в страхе, что время срастается и вытесняет ее из своих промежутков, где она жила, как кузнечик в янтаре. Время вот-вот срастется воедино и вытеснит ее из всеобщего настоящего в глубину, в вечность пустоты.
Теперь Уэнтворт бежал по тропинке, вьющейся по краю Эдема, и дымка тянулась ему навстречу. Он сошел с пути истины, бежал прочь, в покойную дымку, отчасти потому, что она больше ему нравилась, отчасти оттого, что больше было некуда. Он бежал прочь, он обрел чувства. Руки встретились и обнялись, губы поцеловали его, он испустил довольный вздох. Его держали, утешали, лелеяли, утоляли. Адела… Он… Сон.
Дверь захлопнулась за ним. Он стоял на Холме Битв неподалеку от своего дома, но выше, ближе к кладбищу, ближе к вершине. Там его ждала женщина. Она в точности напоминала Аделу. Она тихо подошла к нему, протянула руку, улыбнулась, подставила губы.
На Холме царила ночь. Они вместе повернулись и стали спускаться; после одиноких шагов опять зазвучали двойные, его собственные и волшебного создания, вытянутого из тайных глубин его существа; она в нем, он в себе. Он был доволен, они шли домой.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ТЕОРИЯ ОБМЕНА ЛЮБОВЬЮ
Паулина откинулась в кресле и вытянула руки вдоль подлокотников. Репетиция проходила на лужайке Мэнор-Хаус, и ее выход в первом действии был уже позади. Теперь можно было понаблюдать за игрой других и еще раз обдумать пьесу. После многих репетиций многие актеры вполне освоились с декламацией, а в начале голоса никак не хотели слушаться. Все-таки современникам елизаветинской эпохи стихотворная речь была куда привычнее. Паулина подумала о том, что елизаветинская публика, будь то знать или мелкая сошка, совершенно спокойно отнеслась бы к высокой пафосной ноте в начале пьесы. А вот современная публика нипочем не смирилась бы с тем, что на премьере новой пьесы занавес распахивается ради, например, столь бессмысленного и высокопарного призыва:
Померкни, день! Оденься в траур, небо! Кометы, вестницы судьбы народов…[17]…и так далее. С другой стороны, они ведь принимали и пьесы, начинавшиеся с самой заурядной прозы.
Даже высокопарность требует особой энергии, и если этой энергии не хватит, все вообще может рухнуть. Конечно, в пьесе Стенхоупа актеры избавлены от чрезмерной напыщенности, стихи часто звучат почти как разговорная речь, хотя, пока она слушала, читала, учила текст и училась его произносить, она убеждалась, что ритм этой речи гораздо быстрее и живее, чем в любой обычной беседе, в которой ей когда-либо доводилось принимать участие. Все попытки миссис Парри притащить торжественность манер ко двору Герцога, шутливый реализм в деревню и загадочную бессвязность рассуждений в Хор так и не могли сдержать живость стихов. Когда у Стенхоупа раз-другой спросили совета, он намекнул, что предпочел бы утрату смысла точному объяснению и что живость необходима. Все, конечно, согласились, но в игре мало что изменилось. Этим вечером Паулина сама смиренно выслушала выговор миссис Парри за спешку и, поскольку Стенхоуп не вмешался, изо всех сил старалась говорить помедленнее. Сейчас пришло время получать дивиденды — сидеть и слушать, как Адела и миссис Парри не то спорят, не то пытаются объясниться друг с другом. Адела, верная своим принципам никому не давать прохода, громоздила горы слов, невзирая на рифму и смысл; именно так она понимала эмоциональное усиление. Надо сказать, ее неожиданные паузы сильно сбивали с толку.
— Я, — говорила она своему Дровосеку и умолкала, будто взывала к самому Имени и ждала его Страшного суда, а затем проговаривала скороговоркой на одном дыхании: —… лишь искра в пламени любви.
Паулина мучилась от собственного удивления: найдется ли на свете дело еще менее подходящее Ад еле Хант, чем амплуа драматической актрисы? Из-за этого удивления она прослушала реплику Аделы и услышала лишь ответ Дровосека: «… всеохватное чудо любви». Немного угрюмо она подумала, что злоба гораздо удобнее любви, она может породить сколько хочешь всеохватных чудес для самой себя, одни только деревья Миртл Фокс чего стоят. Хорошо хоть сегодня не будет последнего действия, того самого, в котором Периэль — мужчина или женщина, не важно! — дух, но не духовный — и тем не менее она — начинает и ведет Хор, и тут под совершенно неподходящими предлогами вступают все: Принцесса, ее возлюбленный, Герцог, крестьяне, разбойники, Медведь, и по лесам катится шумная мешанина блуждающей красоты, воссоединенной любви, тонкого ума, деревенского гогота, кровожадных криков, звериного рыка в нарастающей сложности стихов, а надо всем этим — назойливый плач бестолковых деревьев.
Почему-то при первом чтении это ее совсем не беспокоило, да и других тоже. Наверное, она и сейчас не стала бы думать об этом, если бы не слышала, как Питер Стенхоуп беседует в саду с ее бабушкой. Это было недели две-три тому назад, после того, как он зашел в первый раз. Она не помнила, сказали они с тех пор что-нибудь примечательное, кроме нескольких суждений о поэзии, но все, что они говорили, было простым и нестрашным. Паулина представила их обоих — старушку и поэта, — если бы они сами играли на сцене. И чем бы тогда все это кончилось? Разве что в финале пара удалилась бы в лес, в те звуки, что слышали только они, в сумятицу, которую объединяла лишь великая поэзия, создавшая ее… Под влиянием одной из тех бесед в саду она отыскала в своем старом школьном томике Шелли строчки, преследовавшие ее, и наконец прочитала продолжение стихотворения:
Из всех людей один лишь он увидел видение такое…[18]Конечно, это относилось к Зороастру. Но, наблюдая за происходящим на сцене, она вдруг подумала, что слова относятся и к Стенхоупу. Из всех людей один лишь он — насколько она понимала — увидел видение такое, и она снова задумалась, — а не поддерживал ли ее Шелли этими строчками вместо того, чтобы пугать. Предположим — предположим, что в этом последнем действии Питер Стенхоуп увидел и вообразил нечто даже более жуткое, чем видение самого себя, предположим, ему открылась природа мира, в котором могут быть такие видения, и прелестное плетение его стихов — отражение этого мира.
Она посмотрела на крепкого и бодрого молодого человека, играющего Медведя, и задумалась, оказался бы настоящий медведь, если бы ей достало смелости встретиться с ним, так же дружелюбен. А что было бы, не узнай Сын Дровосека язык листьев, пока они горели в огне! В этих стихах у Стенхоупа не было и тени сомнения: они передавали самый настоящий запах и треск пламени и еще уверенность в том, что иная настойчивая песня пробивалась сквозь огонь. Наверное, так плачут фениксы, когда сгорают.
Кто-то уселся на соседний стул. Паулина оглянулась: это был Стенхоуп. Миссис Парри и Адела завершили свою дискуссию. Кажется, Адела согласилась поработать над своими словесными нагромождениями — придать им более благородную форму и только потом вываливать их на стройплощадку. Миссис Парри, наверное, надеялась, что на последующих репетициях из них удастся, если повезет, что-нибудь построить. Репетиция продолжалась.
Стенхоуп сказал:
— Разумеется, вы были совершенно правы.
Она осторожно повернулась к нему.
— Значит, вы так себе это и представляли? — спросила она.
— Ну, может, и не совсем так, но — более или менее, — уклончиво ответил он. — Конечно, когда пишешь, не думаешь, что каждой строфе придется сделать столько-то шагов вправо и при этом изображать задумчивость на каждом шаге. Но даже если бы я вмешался, это бы еще больше всех запутало. Лучше оставить все как есть.
— Но вы не против, если я буду говорить немножко быстрее других? — спросила она.
— С удовольствием послушаю, — ответил он. — Но нам все равно придется думать о труппе. Для них это не настоящая пьеса, а просто развлечение. Давайте и мы попробуем получить удовольствие.
— А как же поэзия? — спросила Паулина.
Он с улыбкой посмотрел на нее.
— Миссис Парри все равно все сделает по-своему. Так есть ли смысл спорить, раздражаться? Право, не стоит.
— А… Вы не могли бы как-нибудь прочитать это мне еще разок? — внезапно решившись, попросила она.
— Ну конечно, прочту. Почему нет? Если захотите. А теперь скажите-ка лучше, что вас беспокоит?
Застигнутая врасплох, Паулина уставилась на него и замешкалась с ответом.
— Ну-у… — начала она. Стенхоуп смотрел на сцену.
— Мисс Хант намерена превратить мою пьесу в прочную геометрическую конструкцию из эмоций, — констатировал он. — И все же, почему вы все время озираетесь?
— Разве? — спросила она с сомнением.
Он серьезно посмотрел на нее, но она успела отвести взгляд. Он сказал:
— Право, нет никакого повода для беспокойства. Наблюдательность — это одно, а страх — уже совсем другое. Если вы боитесь, значит, впускаете это другое в свою жизнь. Но чем бы оно ни было, ваша жизнь важнее.
— Вы говорите так, будто жизнь так уж хороша, — сказала она.
— Хороша она или плоха — этого не узнаешь, пересчитывая несчастья по пальцам. Эта проблема совсем другого сорта. Не будем ходить вокруг да около. Вы скажете мне, что вас беспокоит?
— Я… Нет, это звучит слишком глупо, — попыталась увильнуть от ответа Паулина.
Стенхоуп замолчал, и в тишине до них донесся голос миссис Парри, втолковывающей свое видение роли Герцога Хью Прескотту. Размеренные слоги по отдельности, как шары, падали к их ногам, и Стенхоуп слабо махнул рукой.
— Ну, — сказал он, — вряд ли ваше признание прозвучит глупее этого. Бог милостив. Если бы меня здесь не было, они бы устроили «Бурю». Скажем, «И жители его… всё, всё растает… рассеется бесследно… как туман».[19] Да, Бог определенно милостив. Так вы мне скажете?
— С некоторых пор, — неожиданно решилась Паулина, — я начала встречать на улице саму себя. — Она резко повернулась к нему. — Вот! Теперь вы знаете. И что скажете?
Он спокойно встретил ее горящий взгляд.
— Вы имеете в виду именно то, что сказали?
Паулина кивнула.
— Ну, это не новость. Гёте однажды встретил самого себя — по дороге на Веймар, кажется. Но у него это не перешло в привычку. Как давно это началось?
— Да всю жизнь! — ответила она. — С перерывами… долгими перерывами, насколько я помню. Иногда месяцы и годы ничего не происходило, только сейчас стало случаться все чаще. Бред какой-то… этому никто не верит, но это так.
— Это ваше точное подобие? — спросил он.
— Это я, — кивнула она. — Оно появляется издалека и приближается ко мне, и мне страшно… страшно, что однажды оно подойдет совсем близко. До сих пор этого не случалось: оно либо сворачивало, либо исчезало. Но так не может продолжаться все время, когда-нибудь оно подойдет прямо ко мне — и тогда я сойду с ума или умру.
— Почему? — быстро спросил он.
И она тут же ответила:
— Потому что боюсь. Ужасно боюсь.
— Но я не совсем понимаю, — сказал он. — У вас есть друзья, вы не пытались поделиться своим страхом с кем-нибудь из них?
— Поделиться своим страхом? — Паулина словно застыла в кресле, вцепившись пальцами в плетеное сидение так, словно хотела придушить собственное бешено стучащее сердце. — Как я могу поделиться с кем-то своим страхом? Разве кто-то другой сможет увидеть его, встретиться с ним?
Свободно откинувшись назад, будто они говорили о каких-то обыденных вещах, Стенхоуп мягко заметил:
— Вы путаете две вещи. Задумайтесь чуть-чуть и вы поймете. Встретить его — это одно, и давайте оставим это до тех пор, пока вы не избавитесь от другого. Мы сейчас говорим о страхе. Неужели никто не смог освободить вас от него? Неужели вы никогда никого не просили об этом?
— Наверное, вы не поняли… — вздохнула Паулина. — Как это глупо с моей стороны… Давайте оставим эту тему. Посмотрите, сколько сил вкладывает миссис Парри в постановку…
— Море, — ответил он. — И Бог ее вознаградит. Но по заслугам. Скажите, понимаете ли вы, о чем я говорю? А если нет, может, вы разрешите мне сделать это для вас?
На лице Паулины застыло такое выражение, словно она исполняла неприятную обязанность, словно была что-то должна Стенхоупу и теперь намеревалась вернуть долг. Она вежливо переспросила:
— Вы собираетесь сделать это для меня?
— Это можно сделать, вы знаете, — продолжал он. — И делается это на удивление просто. Если вам больше некого попросить, почему бы не воспользоваться мной? Я здесь, в вашем распоряжении, и мы можем легко это уладить. Тогда вы, по крайней мере, избавитесь от своего страха, а что до встречи — если вы перестанете бояться, это будет совсем другая встреча.
— Но как я могу не бояться? — беспомощно спросила она. — Глупость какая….
— Не большая, чем вся эта ваша история, — ответил он. — А поскольку она не глупость, то и это не глупость. Мы все знаем, что такое страх и беспокойство. Ну да ладно… когда вы уйдете отсюда, подумайте про себя, что я взял на себя ваши страхи. Вы бы тоже сделали это для меня, если бы мне это было нужно, да и для любого другого. Ну и я возьму это на себя. Я стану думать о том, что приходит к вам, и представлять его, и знать, и бояться. А вам тогда бояться станет нечего.
Она растерянно взглянула на него. Похоже, он верил в то, что говорил. В конце концов, это же Питер Стенхоуп! Великий поэт. Лгут ли великие поэты? Нет. Но они могут ошибаться. Да, но она тоже может. Совершенно потерявшись в своих сомнениях, она протянула:
— Но я не понимаю. Это же не ваше… вы этого не видели. Как вы можете…
— А вы расскажете мне, и я буду знать. Ваша гордость от этого не пострадает. Вы уйдете отсюда, останетесь одна, начнете думать, что вам страшно… Ну разрешите мне поставить себя на ваше место и бояться вместо вас. — Он наклонился к ней и продолжал с легким нажимом: — Это легко, легко для нас обоих. Нужно только решение. Что, так уж сложно подумать про себя о том, что раз я за вас беспокоюсь, вам можно не стараться? А мне совсем не трудно немного понести вашу ношу.
Все еще озадаченная его странными словами, она ответила:
— Но как же я смогу перестать беспокоиться? Разве оно перестанет появляться, если я притворюсь, что ему нужны вы? Разве это ваше подобие бродит по улицам?
— Нет, — сказал он, — и вам вовсе не надо притворяться. Не думайте о том, с чем вы однажды можете встретиться… не думайте об этом сейчас. Если вы переложите свое бремя на меня, вам станет легче. Неужели вы не слышали, что нам заповедано нести бремя друг друга?[20]
— Но это значит… — начала она и остановилась.
— Знаю, — сказал Стенхоуп. — Это значит слушать с участием и думать не о себе, и беспокоиться не о себе, и тому подобное. Я ничего не имею против, особенно если это помогает. Но я думаю, что когда Христос или святой Павел, или кто-то еще сказал «носите», или что он там сказал на арамейском вместо «носите», то он имел в виду именно помощь, то есть тащить какой-то груз вместо кого-то, то есть нести бремя. Если вы все еще тащите свое, значит, я тут ни при чем, какой бы я ни был участливый человек. Впрочем, может, и нет нужды вспоминать Христа. Это простой житейский опыт. Я называю это для себя теорией обмена любовью. Я буду любить вас, вы — кого-то еще, он — кого-то дальше… Понимаете? Если вы передаете бремя мне, то не можете нести его сами; все, о чем я вас прошу, — обдумать это простое утверждение. По-моему, ничего сложного.
— А если я смогу… — нерешительно сказала она. — Если я могу… что бы вы там ни имели в виду, стану ли я это делать? Ну, то есть сваливать свое бремя на кого-то еще?
— Нет, если вы настаиваете на персональной вселенной, — ответил он. — Если вы отрицаете законы, общие для всех нас, если хотите жить отдельно в гордости, в гневе и в страхе, — ради бога! Но если вы все-таки решите присоединиться к лучшим из нас и станете жить, и смеяться, и стыдиться вместе с нами, тогда вам придется смиренно принять помощь. Вы должны научиться отдавать свое бремя другим и самой принимать чье-то еще. Не я создал вселенную, и это не моя вина. Но я уверен, что это вселенский закон, и не отдать свой груз — то же самое, что отказаться нести чужой. Вы увидите, это совсем легко, стоит только осмелиться.
— А как же самоуважение? — спросила она.
— Ах вот в чем дело! — грустно улыбнулся Стенхоуп. — Значит, вам для самоуважения нужно непременно пойти наперекор природе вещей, и Всевышний вам при этом — не указ. Что ж, если вам это так важно, прошу меня простить, не стоило мне предлагать другой путь. Хотя что тут особенно уважать…
Он замолчал. Паулина некоторое время растерянно смотрела на него. Она чувствовала его силу, понимала, что уже не может без него.
Наконец он снова заговорил.
— Когда вы останетесь одна, вспомните, что я боюсь вместо вас и что я взял на себя ваши опасения. Думайте только об этом, скажите себе: «Это его проблемы» и живите дальше. Если вы не встретитесь с вашим страхом — хорошо, если встретитесь — то не будете бояться. А поскольку вы не боитесь…
Паулина встала.
— Я не могу представить, что не боюсь, — сказала она.
— Но вы не будете бояться, — ответил он с уверенностью в голосе и тоже встал, — потому что предоставите это мне. Доставьте мне удовольствие, просто запомните то, что я сказал.
— Значит, я должна просто запомнить, — проговорила она и чуть не подавилась нервным смешком, — что вы беспокоитесь и боитесь вместо меня?
— Что я все это взял на себя, — серьезно сказал он, — так что для вас ничего не осталось.
— А если я все-таки увижу это? — спросила она.
— Никаких «все-таки», — сказал он. — Факт — он и есть факт, а вот отношение к нему изменится, если его можно не бояться! Не бояться — вам. Ну что ж, пора идти. Позвоните мне сегодня вечером, где-нибудь около девяти, и скажите наконец, что вы решили принять мир таким, каков он есть.
— Позвоню, — кивнула она. — Но я… это звучит так глупо!
— Это глупое утешение, — ответил он. — Ступайте с Богом.
Паулина уходила медленно и, прежде чем исчезнуть за поворотом, только раз оглянулась.
Стенхоуп не смотрел ей вслед. Взгляд его был обращен к происходящему на сцене, тело расслабленно покоилось в кресле. Но его сознание выполняло напряженную работу, разделившись на несколько потоков. Он по-прежнему готов был проявить внимание к каждому, кто в нем нуждался, так же как его тело, например, готово было подобрать длинные вытянутые ноги, если бы кто-то захотел пройти мимо. Однако основная часть сознания уже начала выполнять данное обещание.
Мысленным взором он создал перед собой образ Паулины, представил ее идущей вдоль дороги, любой дороги, дороги вообще. Представил другую Паулину, идущую навстречу первой. Сосредоточился на этой второй, всеми своими чувствами призвав приближающийся страх. Открылся этому страху, отодвинув на время мысль, зачем он это делает, отстранив все законы и принципы, внимая лишь необычности и ужасу этой странной призрачной сущности. Для убедительности он представил себя входящим в собственный дом и видящим самого себя, но тут же отбросил этот образ. Ему нужны не его переживания, а переживания Паулины. Сначала понять ее, а потом уже можно будет добавить к этому и собственные ощущения.
Итак, в чем заключался ее внутренний конфликт? Он сидел, представляя себе длинную дорогу с ее бесчисленными зловещими возможностями, огромный мир вокруг, и саму атмосферу этой дороги, тлетворную для всего здравомыслящего. Постепенно его глаза начали беспокойно шарить по сторонам, ноги, в действительности спокойно лежащие на месте, ощутили усталость от необходимости двигаться по дороге, по которой шла сейчас девушка. Тело вздрогнуло, впитав ее страх перед призраком… Его разум взял на себя бремя мира Паулины. Для него оно оказалось явно легче, чем для нее, потому что эффект присутствия все-таки не был полным. Стенхоуп принял в себя только ее переживания, но не ее грехи; такое замещение принципиально невозможно в христианстве, и в этом — одна из главных тайн христианства, пусть даже само оно ее никогда не понимало, да и не могло понять. А поскольку Стенхоуп не мог ни понять, ни принять владевшие девушкой гнев и отрицание, ее переживания просто влились в его ясный дух. Произошло это практически безболезненно, ведь ощущения он получал не извне, а изнутри. В немалой степени помогла и готовность разделить с Паулиной ее бремя. Она сглаживала остроту переживаний. Стенхоуп осваивался в мироощущениях девушки и готов был приступить к анализу ее видения. Но его рассудок не принимал участия в этой работе. Не его область. Если бы у него сейчас спросили, что он думает о ее страхах, он бы ответил, что искренне верит, будто Паулина на самом деле верит в то, что видела, но вот реально видение или нет, он сказать не может. Он готов был допустить, что этот призрак — только наваждение, порождение ее разума. Но это ничего не меняло. Если человеку кажется, что он испытывает ужасы кораблекрушения, хотя на самом деле он ходит по твердой земле и дышит свежим воздухом, его друзьям, наверное, лучше принять этот ужас так, как он его чувствует, и нести его бремя, чем объяснять, что никакого бремени на самом деле не существует. Да и никакие разумные уговоры не заменят действия. Правда, наваждение может заставить человека покинуть сферу любви, и вот тогда уже никакое сострадание не поможет.
Будь на месте Стенхоупа даже кто-нибудь поопытнее его, и тогда он не смог бы помочь, например, Уэнтворту, создавшему и взлелеявшему свое наваждение, свою иллюзорную идеальную женщину, своего суккуба,[21] гладившего ему руки. Ведь Уэнтворту нужна была вовсе не женщина, а только собственная гордыня, не сдерживаемая ничем. Здесь помочь не мог никто.
Смех, несерьезные пререкания окружали погруженного в душевную работу Стенхоупа. Вот кто-то подошел посоветоваться по поводу какой-то ерунды. Стенхоуп ответил самым обстоятельным образом. Ничто не могло отвлечь его, поскольку та, другая работа измеряется не временем, а волей. Он вернется к ней потом, когда все уйдут и оставят его одного. Впрочем, и одиночество теперь уже не играло такой роли. Ему удалось войти в душевный мир Паулины, и если бы теперь пришлось отложить задуманное — да хотя бы и на годы, результат все равно был бы достигнут. В обители Всевышнего нет ни до, ни после, есть только действие.
Покинув Мэнор-Хаус, Паулина направилась домой. Когда она уходила, одна из девушек задержала ее пустячным вопросом о фасоне платья и возможными переделками. Паулина что-то посоветовала и теперь, идя по дороге, по инерции продолжала думать об этом — стоит ли, в самом деле, Мэри Фробишер, учитывая ее сложение, переместить левый шов на четверть дюйма назад. Платье будет сидеть совершенно иначе; так, наверное, будет лучше. Но Мэри… она остановилась понюхать гвоздики в саду, мимо которого проходила. Гвоздики — не очень броские цветы, но пахнут замечательно. Жаль, что у бабушки в саду мало гвоздик… Она подумала, не попросить ли бабушку увеличить гвоздичное поголовье… Но миссис Анструзер всегда была довольна тем, что есть, и казалось неловким озадачивать ее планами на будущее. Паулина вдруг подумала: а будет ли ее в девяносто семь лет так же мало заботить близость смерти? Наверное, все-таки жаль покидать этот удивительный мир, который при всех своих возможных несовершенствах все-таки был чудесным местом, и…
Она сбилась с шага, а потом медленно пошла дальше, щурясь на солнце. Она вдруг поймала себя на том, что шла совершенно беззаботно. Забавно. Она посмотрела на дорогу впереди. Никого не видно, кроме почтальона. Интересно, появится ли сегодня кто-нибудь? И с чего это она думает об этом так несерьезно? Она вспомнила слова Стенхоупа. Пришлось признать, что в последние десять минут она волновалась меньше, чем за все свои двадцать одиноких лет. Ну, предположим, оно появится? Ну и пусть появляется. Зачем предполагать, пока оно не появилось? Раз сам Питер Стенхоуп взял на себя ее заботу, с какой стати ей теперь беспокоиться? Она ведь обещала оставить это ему, вот и хорошо, она так и сделает. Пусть сам разбирается со всем этим. Она обещала, ну так она сдержит обещание.
В глубине сознания она понимала, что даже и думать об этом необязательно, это лишь повод для восхищения, повод повиноваться. А волнения… она просто не сможет волноваться, и это правда. Что бы потом ни произошло, здесь и сейчас она совершенно свободна. Мир вокруг прекрасен. А ведь Стенхоуп всего лишь принял на себя ее ношу. Бог его знает, как он это сделал, но он это сделал. Что-то случилось повсюду и сразу. В голове Паулины рушилась прежняя вселенная и воссоздавалась новая. И если в этой новой вселенной действуют такие законы, значит, она действительно другая. Паулина не очень отчетливо представляла себе, что именно сделал Стенхоуп, но она хотела понять, она просто должна понять! Краем сознания мелькнуло ощущение, что это принесет ей величайшую радость.
Знакомая дорога тем временем неторопливо ложилась под ноги. На глаза ей попался котенок на стене. Зверек с интересом смотрел вниз. Паулина протянула руку и приподнялась на цыпочки, чтобы его погладить, забыв в этот миг и вселенную, и Стенхоупа, и свои проблемы.
Репетиция давно закончилась, и Мэнор-Хаус вновь предоставили хозяину. Стенхоуп работал — часы в его кабинете как раз пробили девять — и в это время зазвонил телефон.
Он взял трубку.
— Стенхоуп. Слушаю, — сказал он.
— Это Паулина, — ответили в трубке. — Вы велели мне позвонить.
— Я ждал вашего звонка. Ну как?
— Ну… там был котенок, и гвоздики, и фасон платья, и почтальон, который сказал, что дожди еще продержатся, — сказал голос и нерешительно замер.
— Внимательный человек, — одобрил Стенхоуп почтальона и замолчал.
— Ну… вот и все, — добавили в трубке после паузы.
— В самом деле, все? — спросил Стенхоуп.
— В самом деле, — ответил голос. — Я просто пошла домой. Это правда, ну, то, что случилось?
— А как же! — воскликнул Стенхоуп, вложив в голос как можно больше уверенности. — У вас действительно все в порядке?
— Да, о да, — сказал голос. — Это… я… я хотела поблагодарить вас. Я не знаю, что вы сделали…
— Но я же вам объяснил… — начал он, но его прервали.
— …но я все-таки хочу поблагодарить вас. Только… что сейчас происходит? Я имею в виду… нужно ли мне… — голос оборвался.
— Обязательно, — серьезно сказал Стенхоуп. — Отличная идея.
— Вы действительно имеете это в виду? — усомнилась она. — У меня такое чувство, словно я незаслуженно пользуюсь каким-то преимуществом…
— При чем здесь преимущество? Не глупите! Вам нужно заниматься своим делом.
— Каким это? — спросила она.
— У вас сейчас одно дело — готовиться к встрече. Уверен, это будет просто, даже забавно, я бы сказал. Вот и поберегите себя для этого. Мы ведь часто говорим людям, что рады их видеть. Значит, и вы можете получить удовольствие от этой встречи.
— Я никогда так об этом не думала, — с сомнением сказали в трубке.
— А сейчас? — спросил он.
— Да… я… я думаю, что это возможно, — сказала она.
— Вот и я не знаю причины, почему бы этому не случиться. Мы же договорились, значит, у вас не будет шанса бояться, — добавил он.
— Интересно, — сказала она после очередной паузы, — мне кажется, я никогда до сих пор всерьез об этом не думала. Разве что совсем давно, когда была маленькой. Но мне никогда не давали сказать… Понимаете, оно приходило, когда я сама себе очень не нравилась…
— Расскажите, — коротко сказал Стенхоуп.
Он не видел, как вспыхнула Паулина, сидя у телефонного столика, но услышал, как ее голос стал тише и мягче, когда она заговорила:
— Ну, когда я не очень хорошо себя вела. Как-то раз дома не было денег, а у мамы пропал шиллинг, а потом появились конфеты. И сразу после того, как я купила конфеты, оно впервые и появилось. Мне кажется, это связано….
— Да, возможно, — сказал Стенхоуп. — Моральные аспекты воровства — проблема непростая. Почитайте Паскаля и иезуитов, особенно иезуитов, они попроще.
— Но я же знала, что это неправильно! — воскликнула Паулина.
— И все-таки вы могли ошибаться, — возразил Стенхоуп. — Ладно. Не будем спорить. Я понимаю, что вы имеете в виду. Самоуважение и тому подобное. Здесь для нас интересно только то, что оно вас знает. Это даже лучше.
— Д-да, — сказала Паулина. — Да… я в самом деле так думаю. И мне не надо волноваться?
— Вам надо крепко-накрепко запомнить, что волноваться буду я, — сказал Стенхоуп. — Звоните мне в любое время дня или ночи, но если никто не ответит ночью, помните, что, как нам правильно сказала мисс Фокс, сон хорош, и он обязательно придет. Но сон не спрячет нас от Всевышнего. Ступайте с миром и пожелайте мне того же во имя дружбы.
— Но как я могу? — озадаченно спросила она. — Как я могу пожелать вам мира? Вы и есть мир.
— М-м, — Стенхоуп смутился. — Тем более, если вы так это понимаете. Попытайтесь.
— Тогда спокойной ночи, — медленно ответила она. — Спокойной ночи. Спасибо вам. Ступайте… с миром.
Паулина едва смогла проговорить эти слова. Когда она поднялась со стула, то вся горела. Вина или стыд, священный страх, поклонение или страстное желание повиновения достигли силы физической боли. Кровь бросилась в лицо, и она задыхалась от жара. Если бы сейчас кто-нибудь с ней заговорил, она не смогла бы ответить, казалось, язык ее сказал последние слова на Земле. Немыслимо было нарушить тишину, наступившую вслед за ее отчаянным дерзким пожеланием. Ей казалось, что она говорила не с Питером Стенхоупом, а с самим Господом Богом. И даже это не она с Ним говорила, а что-то, укрытое в самых глубинах ее существа.
Она посмотрела на часы, — к бабушке идти было еще рано. Она огляделась: на столе лежала книга. Томик Фокса с описанием мук ее предка: миссис Анструзер опять его перечитывала. Паулина, прижав одну руку к медленно остывающей щеке, другой перелистнула страницы, чтобы найти то место. Что-то оттуда смутно ей припомнилось. «Его отправили на костер, и когда огонь охватил его, он громко крикнул: „Я видел спасение Господа своего…“»
«Это у Господа привычка такая, — подумала она, — совершать что-нибудь непременно в огне». Только что Он вынудил ее сказать «Ступайте с миром», и хотя огонь был у нее внутри, он все равно обжигал не хуже настоящего. Она опять вспыхнула, подумав об этом. Так… Она искала именно эту фразу: «Я видел спасение…». Когда она раньше читала или вспоминала о муках предка, ей никогда не приходило в голову, что Струзер был не только религиозным фанатиком; она испытала легкое неудовольствие оттого, что она с ним одной крови. Теперь она подумала, что, возможно, Струзер говорил грубую правду. Она отложила книгу и выглянула в окно. Это вдруг оказалось на удивление легко — взять да и выглянуть в окно. Сейчас она могла бы даже подойти к калитке и выглянуть на улицу. Бремя целиком лежало на ком-то другом, и нужно просто оставить все как есть. Она надеялась, что оно не станет беспокоить Питера Стенхоупа ни сейчас, ни потом. Стенхоуп и Тот, кого он имел в виду под Всевышним, прекрасно уладят это дело между собой. Ну а там и она поможет кому-нибудь с его бременем. Все несут чье-то чужое бремя, подобно тому, как жители островов Скилли стирают друг другу. Если стирать свою собственную одежду трудно и неприятно, а чужую — легко и в удовольствие, наверное, обитатели островов Скилли кое-что понимают.
— Бросить все и уехать отсюда на Скилли! — сказала она вслух, пока шла к калитке.
— Дорогая моя! — окликнул ее кто-то совсем рядом.
Паулина вздрогнула. Забор был довольно высокий, а она была занята своими мыслями, но все же должна была заметить женщину, стоявшую на улице слева от нее. На мгновение она запнулась, но тут же пришла в себя.
— Ой, добрый вечер, миссис Сэммайл. Я вас не заметила, — сказала она.
Женщина внимательно смотрела на нее.
— Как ваша бабушка? — спросила она.
— Боюсь, она слабеет, — сказала Паулина. — Спасибо вам за заботу.
— А вы как? — продолжала Лили Сэммайл. — Я была…
Паулина прервала ее.
— Замечательно! — воскликнула она, глубоко вздохнув. — Какой чудесный вечер, правда?
Женщина чуть наклонилась вперед, будто даже в светлый июньский вечер не могла отчетливо ее разглядеть.
— Последнее время мы с вами не встречались. Вы меня избегаете?
Паулина только улыбнулась в ответ. Внутри у нее царило удивительное затишье. Но старушка, похоже, хотела помочь, и хотя сейчас Паулине не нужна была никакая помощь, она ответила вполне доброжелательно:
— О, сейчас мне гораздо лучше.
— Ну, вот и хорошо, — сказала Лили Сэммайл. — Берегите себя. Думайте о себе, будьте внимательны к себе. Я могла бы сделать вашу жизнь совершенно безопасной и счастливой к тому же. Вы не представляете, насколько счастливы могли бы быть.
Сейчас ее голос звучал намного мягче, чем помнилось Паулине. При свете дня Лили Сэммайл показалась ей жестким человеком, даже в голосе ее слышался металл. Она же обычно такая суетливая… а сейчас она стояла совершенно неподвижно, и голос был мягок. Мягок, как прах, что несет по улице вечерний ветерок. Прах мертвых, прах Струзера, погибшего в огне. Был ли он счастлив? счастлив? счастлив? Паулина не знала, кто произнес это слово, но оно повисло в воздухе, парило над ними, а внизу кружилась пыль… У Паулины закружилась голова. Она медленно открыла калитку.
— Счастлива? Я… я счастлива? — произнесла она, будто хотела рассеять дымку.
— Счастлива, богата, — прошептали в ответ. — Как бы все могло быть чудесно! Я могла бы рассказывать вам сказки, и там были бы только вы. Разве вы не хотели бы стать счастливой? Если вас что-то беспокоит, я могу отогнать это от вас. Подумайте, от чего вы отказываетесь.
— Не понимаю, — пробормотала Паулина.
— Дорогая моя, это так просто, — продолжала та. — Идемте со мной. Я дам вашему телу любое наслаждение, какое захотите. Я сделаю так, что вы сможете почувствовать себя кем только захотите. Я подарю вам уверенность и радость в любой миг вашей жизни. Но — тайно, тайно, ни одна живая душа не должна знать об этом.
Ее слова повергли Паулину в трепет. По краю ее сознания прошла волна щекотливого восторга. Сегодняшнее освобождение вдруг показалось ей мелким и неинтересным. Конечно, она обрела покой, и всего десять минут назад ей казалось, что это так много! Ей и сейчас все еще так казалось, особенно если учесть, что тому, первому обретению она обязана обретением вторым. Там был покой, а здесь ей обещали блаженство. Пожалуй, она поспешила сменить свою беду всего лишь на прохладный дар, в то время как здесь ее ожидало палящее великолепие. В покое она обрела прекрасное чувство безопасности, и теперь, окрепнув и успокоившись, она почти готова была принять это новое обещание. И пока ее сердце билось быстрее, а ум работал над тем, чтобы одновременно осознавать и не осознавать свои желания, голос проскользнул в ухо, дразня, разгоняя кровь, будоража. Он сулил небывалые зрелища и дивные звуки, прикосновения и волнения, полное забвение бед; все, чего она хотела. Будь у нее все это, и ничего больше не надо. Мечта превратится в действительность. Сердце Паулины колотилось все быстрее. Она медлила на самом краю сладостного предвкушения.
— Но как? — пробормотала она. — Как все это может случиться? Откуда мне знать, чего я хочу? Я никогда не думала… я никого не знаю…
— Просто дай мне руку, — предложил голос, — а потом иди и мечтай, пока твоя мечта не созреет. — Искушающий голос помолчал и добавил вкрадчиво: — И тебе больше никогда не придется что-нибудь для кого-то делать.
Стоп! А как же обещание, данное ей Стенхоупу? Фонтан невероятной красоты взметнулся в последний раз и разбился о своды этого мира. Плеск рушащихся струй привел Паулину в чувство. Никогда ничего ни для кого не делать! Но она обещала, что возьмет чью-нибудь ношу так же, как взяли ее, что она будет тем, чем может быть, как сказал он. Нравится ей это или нет, но клятва дана, и совершенно неважно, насколько поспешно она дана.
«А клятва? Клятва? Я поклялся небу».[22] Она читала много стихов в последнее время, поскольку ей приходилось читать стихи Стенхоупа, и священные слова окутывали ее величественными звуками, перед которыми она была — ничто. «Клятва? Клятва?.. Клятвопреступником не стану я».[23]
Внезапно усилившийся ветер бросил последнее «не стану» в небо над Холмом и вернул правду: ложь, ложь! Она отреклась. Тут же ей на ум пришло: «коварный, лживый, вероломный Кларенс! О фурии, его предайте мукам!»[24] Слово зазвучало вокруг на сотни голосов. Клятвопреступница! Ведь ей преподнесли настоящий дар, не поступок, продиктованный тайной жадностью, не страстишку, а благородное добро, мудрый закон всеобщего обмена любовью, закон всей Вселенной. Только он, Стенхоуп, — не Паскаль, не иезуиты, не пожилая суетливая болтунья, а только он — не лунный свет, не дымка, не клубящийся прах, только он наделил ее смелостью просить у Небес! Клятва, открывшая ей Небеса, связала два любящих сердца, и теперь в них сиял тихий свет взаимной любви. Пусть она не понимает, как это может быть, но поступать как должно можно и без понимания.
Паулина захлопнула калитку так, что она громко клацнула. Тело ее выпрямилось, как напряженная струна, и встало на страже на границах души. Та, другая женщина стояла у калитки — сада, мира или души, — и говорила торопливо, страстно, а ветер подхватывал голос, рвал и уносил его: «Всё, ничего; ничего, всё; доброта ко мне… помощь мне… ничего не делать для других, ничего общего с другими… всё, всё…»
Позади Паулины открылась дверь и голос горничной нерешительно позвал:
— Мисс Паулина?
— Я тебе нужна? — отозвалась Паулина. Она только чуть повернула голову, но не тронулась с места.
— Ваша бабушка спрашивает, не могли бы вы зайти, мисс Паулина? — пробормотала Феба.
— Иду, — ответила Паулина. Она взглянула поверх калитки и добавила твердым от неожиданной враждебности голосом: — Спокойной ночи! — повернулась и побежала к дому.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ВСТРЕЧА СТРАННИКОВ
Мертвец бродил по своему собственному Холму. Поселок был неподвижен, спокоен и покинут, и мертвец тоже успокоился. Мучительное чувство голода оставило его. Он ощущал себя почти в раю и ничего большего не желал. Живой или мертвый, или ни живой ни мертвый, он освободился от тошнотворного страха, в который при жизни неизменно ввергало его Государство. Оковы угнетения исчезли. Усталым ногам было легко, измотанное тело стало сильным. Он не знал, да и не хотел знать, телесны или внетелесны его ощущения. Поначалу ему ничего не было нужно и ничто его не волновало. Он ходил, сидел, лежал, вытянувшись во весь рост. Совсем не спал, потому что больше не нуждался в сне. Временами он вспоминал о голоде или жажде и отстраненно удивлялся: почему не хочется есть? Он понимал, что оказался в странном месте, но оно ведь не утомляло его. То же относилось и к отсутствию желаний: не хочется пить — и хорошо. Что же до излишеств, — он не мог по ним скучать, потому что у него их никогда и не было. Там и тогда ему не разрешалось ничего хотеть.
Вокруг разливался все такой же слабый свет. Время ничем не измерялось, разве что медленным нарастанием внутреннего покоя призрака. Но он и хотел только покоя, только к нему и стремился. Монотонность существования не может тяготить там, где все стремится к покою. Он даже иногда начал поглядывать на луну в небе. С момента смерти только луна напоминала о его единственной комнате, жене, врагах и угнетателях. Но теперь он без страха ожидал ее появления, зная, что свободен. Если большой бледный воздушный шар, который унесет с собой всю тяжесть прежней жизни, вовсе улетит, он будет весьма доволен. Он знал, что этот шар навсегда оторван от него. Луна больше никого не сбросит вниз из-под стропил. Он был смиренной маленькой жертвой, но в прошлом остались несколько человек, которым стоило бы вскарабкаться на леса его дорогой. Нет, он вовсе не сожалел о том, что они сделали — десятник, напарник, брат, жена, — но, возможно, пока неизмеримое время все-таки текло себе потихоньку, их гибель сделала бы его свободу чуточку полнее. В прошлом они слишком много хотели от него. Но теперь — всё, теперь им до него не добраться.
Он сидел под лестницей и долго-долго нянчил свои фантазии. Тогда-то он впервые и заметил перемену. Свет усиливался. Наверное, прошло много времени, прежде чем он заметил это, и потом, между первыми признаками изменений и его слабым удивлением опять прошло время. В конце всех этих долгих промежутков он взглянул на небо и ничего не увидел. И опять время текло долго и неторопливо, прежде чем перемены стали действительно заметны. Он сидел, тупо наблюдая за ними. Затем поднялся, не спеша, но гораздо быстрее, чем раньше. Неколебимый внутренний покой подернулся рябью смутного беспокойства.
Казалось, свет мерно льется вниз откуда-то издалека с высоты. Тогда какой-то кусочек неба должен быть светлее других. Он принялся искать этот кусочек. Если свет усиливается, значит, у него есть источник, а источник должен где-то располагаться. Но на небе не было ни луны, ни солнца. Лишь иногда над его головой словно прокатывалась незримая волна, и становилось светлее. Это ему не нравилось.
А вот почему не нравилось — он не знал. Перемены не покушались на его покой. В его Городе по-прежнему не слышалось ни шагов, ни голосов. Но усиливавшийся свет слегка отвлекал от унылого удовольствия мечтать. Работу его воображения нельзя было оценить с обычных моральных позиций. Ему нравилось представлять гнев тех людей, и это плохо, но их гнев был злобой угнетателей, и воображаемая досада от бессилия их злобы была хороша. Подобное Иоанн Богослов узрел в раю, где назойливый ад раскинулся и курился перед Агнцем. Но ангелы и Агнец не думают, что победа над адом утолит их страсть; так могут думать только в аду. Победа Агнца — факт, но в этом факте заключена радость. Здесь, в этом покое, в этом раю для бродяг, мертвец просто немного вышел за рамки факта, попытался слегка приукрасить его.
А свет все нарастал. В беспокойстве мертвец принялся расхаживать взад-вперед. Он делал так и раньше, просто ради разнообразия. Он не понимал, как поступить. Хотелось убежать от света. Хотелось, чтобы ему вернули полный покой. Он сомневался, что свет оставит его в покое. А ему хотелось и дальше представлять разные сцены, придумывать то, чего не было. Он не верил, что свет позволит ему продолжать в том же духе. Он двигался неторопливо, здесь не было нужды бежать. Но он отметил мелькнувшее побуждение убежать. Раньше он часто бегал для удовольствия других, но сейчас чуть ли не впервые хотел убежать сам.
Свет продолжал медленно затапливать пространство. Похоже, его источник располагался на вершине Холма. Мертвец неторопливо зашагал от него вниз по склону.
Пока он бродил по округе, на Холме кое-что изменилось. Поначалу он не заметил перемен. До сих пор его окружали руины, однако теперь, спускаясь, он бы не стал пользоваться этим словом, здесь больше подходило — незавершенность. Дома были не закончены, их соединяли незаконченные дороги, но все же это были дома и дороги. Все дома стояли под крышами, леса убраны. Призрак бесшумно двигался сквозь густую поросль, и поскольку на голой вершине света было больше всего, здесь, на склоне, тени стали длиннее. Казалось, что чем гуще становятся тени, тем ярче становятся его переживания. Поскольку он не стал смотреть на этот новый свет, начал усиливаться старый. Еще какое-то время он шел, погруженный в свои смутные грезы, пока не остановился, озадаченный. Перед ним была стройка. А остановиться его заставила вспышка, вернее, не вспышка, а отблеск. Это свет отразился в каком-то стекле. Раньше призрак подумал бы о солнечном блике.
Страх приковал его к месту. Он постоял, мигая, а потом осторожно повернул голову. Позади тянулась длинная полоса теней и бледного света, но за ними, за домом, в котором он умер, находился широкий промежуток, пустое скалистое возвышение, залитое ярким светом, похожим на солнечный. А выше колыхался и перекатывался волнами густой золотистый свет, отражавшийся вовсе не от стекла, а от какой-то льдистой поверхности. Он стал пристально смотреть назад, так же, как перед этим смотрел вперед. Страх не позволял ему вернуться туда, но и вперед, в сторону непонятного блеска идти не хотелось. Идти туда — значило расстаться с умиротворенным покоем, к которому он успел привыкнуть. Ну почему ему нельзя и дальше бродить неспешно, представляя Луну и неприятных людей, падающих с нее в мир, который вдоволь поиздевается над ними? Не так уж много он просит.
Нет, наверное, все-таки много. Он не получит того, чего хочет. Пока он был жив, Государство всячески портило ему жизнь. Здесь ему на время представилась возможность хотя бы мысленно отплатить ему. На некоторое время справедливость восторжествовала, но его месть миру не могла длиться вечно. Теперь мелкие обиды и с той, и с другой стороны больше не принимались в расчет. Пришло время настоящей ответственности.
Он увидел движущийся навстречу сгусток света. Призрак стоял перед домом, в котором он принял смерть. Еще недавно за этим зданием тянулись остовы других, но теперь там простирался только голый камень или лед, как ему сначала показалось. Странная неровная поверхность уходила к вершине холма, и вся она была охвачена игрой света. Блики вспыхивали в самых неожиданных местах, и казалось, что камень откликался на эти всплески света. Возможно, именно это пугало его, потому что земля оставалась землей, но только теперь она стала живой.
Несколько минут он постоял, вглядываясь, и вошел. В тот же миг все строение пронизала вспышка света. Мертвец вскрикнул и побежал. Он бежал вниз, к подножию Холма, туда, где увидел первый отблеск. Впервые с тех пор как он вошел в этот мир, он видел других существ, обитателей страны, у которой, без сомнения, было много названий — научных, психологических, теологических. Он никогда не слышал этих названий, но теперь знал, что они есть.
Водоворот времени, свойственный смерти, захватил его.
Маргарет Анструзер в своем сонном видении решилась на смерть. Решение имело силу для обоих миров — там и здесь. Всем прошлым переживаниям и сомнениям оставалось лишь подчиниться. Но если ее решение было принято в полном согласии с самой собой, то этот человек умер только снаружи, телесно. Поскольку его вынудили это сделать, у него оставалась возможность возродиться. Возрождение давало ему шанс познать любовь. Но ему не приходилось встречаться с ней в прошлой жизни, поэтому он не думал о ней и сейчас. Однако в прошлой жизни у него никогда не было возможности избрать любовь, поэтому ему предложили ее опять, но теперь как спасение. Ненависти не было места в этом мире.
Он бежал по улице. Улица смыкалась за ним. В спешке он не замечал ее сходства с теми улицами, на которых прошла его жизнь. Вдали он увидел мужчину и женщину, и теперь мчался за ними все быстрее. По мере того как он спускался с Холма, стремление к одиночеству покидало его. Теперь одиночество воспринималось как запах бесплодного камня; призрак больше не хотел его. Вокруг царила тишина. Он не слышал шагов тех, впереди, но быстро нагонял их, стремительно проносясь для этого сквозь свою прежнюю жизнь. Когда между ними оставалось не более ста ярдов, женщина оглянулась через плечо. Призрак ощутил давно забытую усталость. Ноги отяжелели. Он ясно видел лицо женщины и понял, что это его жена. Ее губы шевелились, произнося слова, но по-прежнему не было слышно ни звука. Впрочем, он и так знал все, что она скажет. Она всегда говорила одно и то же. Мужчина, державший ее за руку, вдруг остановился и, как будто отталкиваемый этим каскадом слов, отступил на пару шагов. Затем он медленно, словно с трудом, начал поворачиваться. Призрак видел это движение. Ему вдруг стало ужасно важно ускользнуть, прежде чем они его поймают и потащат за собой, и заставят опять слушать этот ненавистный, отвратительный голос, сделают навсегда пленником этих рук, жертвой его прежних желаний. Он развернулся и кинулся по улице обратно.
Спустя некоторое время он осмелился оглянуться и не увидел их. Он еще немного потрусил вперед, опять оглянулся, увидел, что улица пуста, и перешел на шаг. Вправо идти было нельзя — оттуда лился нарастающий поток золотого света, словно там, невидимый отсюда, раскинулся океан. Он не думал об этом образе, потому что не видел моря с детства, а вспомнить об этой поре пока не получалось, ему еще предстояло добраться до нее. Но инстинкт не дремал, он предупредил его, и в ту сторону он не пошел. Там, в запутанном лабиринте улиц и времен ребенок из трущоб играл на берегу во время своей единственной поездки к морю и плакал, потому что мальчик постарше обижал его. Море или солнце — во всяком случае, он воспринимал это как солнце — было источником того света, которого он хотел избежать. Некоторое время он колебался, но потом все же свернул в ту сторону, где под навесами зданий еще оставалась темнота.
Образ окружающего становился все сложнее, в нем проявлялось все больше деталей, будто свет и живой, играющий бликами камень захватывали все большее пространство. Улицы стали короче и постепенно заполнялись людьми. Одним из них оказался знакомый прораб. Лицо его наполовину скрывала тень. Кто-то стоял на лестнице с веревкой в руках — то ли поднимался вверх, то ли спускался вниз. Он равнодушно отвернулся от незнакомого человека, подпиравшего плечом фонарь. У того на лице застыло странное выражение: словно он собирался спрятаться за фонарем, намереваясь сыграть с окружающими в какую-то нехорошую игру. Теперь мертвецу приходилось то и дело уворачиваться от других людей, но куда бы он ни повернул, везде его настигал свет или блики на льдистой поверхности. А еще он все отчетливее ощущал запах места, откуда нет возврата.
Он опять бежал, бежал быстро и чувствовал, что теперь они гонятся за ним. Преследователи становились смелее, свешивались из окон, толкались, толпились на улицах, тащились за ним. Он где-то читал о человеке, которого затоптали насмерть, и сейчас подумал об этом, только не мог представить смерть. Он мог думать только о том, что его затопчут. Тогда он побежал еще быстрее, потому что не понимал, как сможет подняться, если вся эта толпа его догонит. Впервые в этом мире он начал уставать. Улицы проносились мимо, ноги двигались все тяжелее, и наконец он остановился совсем, оглушенный круговертью времени и вещей вокруг. Он сдался.
И тут же все вокруг него замерло. Улицы затопила тишина, шагов не слышно. Он перевел дыхание. Он стоял перед домом, из окна на него смотрела очень старая леди, которую он никогда прежде не видел. Он хотел заговорить с ней, но не смог подобрать и произнести ни слова. Вместо слов из его груди вырвался крик, больше похожий на вой, но он не был уверен, что его услышат.
Старая леди взглянула на него, и он вздрогнул, увидев живое существо из мира живых. Так же вздрогнули бы живые, узрев лики мертвых. Но мертвец не испугался. Он почему-то сразу понял, что встретил первого человека по обе стороны, которого можно не бояться. Страх разделяет людей, разве что в любви смертные не испытывают страха. Страх заставляет одних враждебно относиться ко всем остальным, других делает мучителями, третьих может сделать даже дружелюбными, — и в мире мертвых действуют те же закономерности — так вот, страх покинул его. Но вместе с ним он лишился способности говорить и действовать. Он стоял и смотрел на окно со страстной надеждой. Он был уверен, что она сейчас исчезнет, и в то же время боялся, что этого не произойдет. И тут прозвучали первые слова старой женщины:
— Дорогой мой, ты выглядишь очень усталым!
Для самой Маргарет образы разных миров смешались. Она долго ничего не ощущала, углубившись в переживания, связанные со скалой из ее снов. В этот вечер она чувствовала во всем теле какую-то легкую ломоту, словно тело лежало на чем-то жестком. Дышалось с трудом, как во время нелегкой работы. Вдруг она решила, что лежит на скале, сжимая в руке каменный осколок. Мелькнула мысль о том, что этот камешек как-то связан с Паулиной… И тут же зазвонил великий колокол мертвых (или колокол живых на Холме, или ее собственный колокольчик, а может, и все они сразу). Звон еще висел в воздухе, а из трещины в темноте на нее уставилось странное лицо. Маргарет узнала его: то было лицо незнакомца из ее сна. По краю сознания прошла мысль о Паулине, входящей в арку из огромных камней, подобных Стоунхенджу, но Паулина пока оставалась далеко позади, а впереди, на границе горнего света, заливавшего ее комнату, стояла тень измученного, испуганного человека. В приливе истинной любви, как будто обращаясь к Паулине, Фебе или любому другому живому, она и сказала: «Дорогой мой, ты выглядишь очень усталым!»
Он попытался ответить, поблагодарить ее, сказать хоть что-нибудь. Он не помнил, чтобы женский голос звучал так мягко и заботливо. Он хотел объяснить. В выражении лица в окне ему явилась сама Любовь. Мертвец силился заговорить, и снова ему удалось выдавить из себя лишь бессловесный вой. Маргарет, умудренная близостью смерти, поняла его. И как Стенхоуп, умудренный близостью духа поэзии, говорил Паулине, что в мире нет причин для ее страха, потому что важно только одно — превращение всего на свете в тихую радость, Маргарет удалось почти без слов передать эту весть тени перед ней. Она лишь добавила:
— Ты только жди, жди этого.
Очень раздраженная Паулина быстро шла из сада к дверям дома. Она не поняла, что предложила ей женщина на улице. Поток слов оставил после себя какое-то неопределенное сладостное возбуждение. Поставив ногу на первую ступеньку, девушка решила, что предложенные перемены ей не нравятся. Она уже не хотела, чтобы Питер Стенхоуп во все это вмешивался. Она больно стукнулась рукой о перила и тут же в сердцах пожалела, что ударилась не головой — своей или чьей-нибудь еще (например, головой Стенхоупа), впрочем, тут подошел бы кто угодно. Появилось желание схватить кого-нибудь (да хоть бы и себя!), поколотить и бросить через перила на землю эту побитую дуру. Всю силу своих чувств она вложила в презрение к себе. (Иногда это полезно, особенно когда рядом мудрый наставник, а вот для одинокой души бывает опасно.) Переполненная этими беспорядочными чувствами, Паулина влетела в комнату бабушки и внезапно увидела, что справедливость вселенной успела побывать и здесь.
Лицо в окне! В первый момент Паулина решила, что это ее лицо. Сквозь двойную ограду презрения и раздражения ухитрилась пробиться ее навязчивая идея. Она идет, она пришла, она здесь. Дух Паулины мигом ослаб, ей даже пришлось присесть на удачно подвернувшийся стул. Тогда ее сознание метнулось к силе другого знания. Она вскочила, стыдясь своего предательства и не стыдясь раскаяния и зависимости. Она всей душой поверила, что Питер Стенхоуп взял ее страх на себя, теперь он был наедине с ним, но страх был ему подвластен. Он просто поместил его среди листьев своего вечного леса и превратил в прекрасные стихи. А она, какие бы чувства ее ни обуревали, была Периэлью, она была наименьшим из того, что он создал заново, ессе, omnia nova facio.[25] Она была строкой его стихов, и кроме этого — ибо мысль о нем требовала высокого романтического самоотречения, — она была самой собой, свободной и смелой. Она была собой, потому что встретилась с собой. Она ступила вперед — легко, почти с радостью. Но превращения еще не кончились.
Глядя в окно, она услышала, как бабушка заговорила. Слои реальности дрогнули и сместились. Теперь все трое находились у обрыва. Скала была в них, а они в ней. В Маргарет Анструзер она начала гасить силу умственной любви, обращая ее в Любовь Настоящую. По крайней мере, мертвец воспринимал это как любовь, которой он страстно и неосознанно желал. Эти святость и счастье были всем, что имел в виду Господь: любовь и сила. Впервые мертвец поверил, что чьи-то любовь и сила подчинили себя его нуждам, он может воспользоваться ими. Эти глаза и голос открыли ему близкий выбор: прежняя жизнь, Свет или новая смерть. Прежнего покоя больше не будет. И тут старая леди сказала:
— Выбор уже сделан. Ищи.
Паулина шагнула вперед, и лицо в окне исчезло. Она облегченно вздохнула: не было там никакого лица, просто игра света. Она повернулась к бабушке и увидела, что та лежит совсем неподвижно, глаза устремлены в окно, будто она все еще что-то видит там. Однако, несмотря на спокойную позу, она вовсе не бездействовала. В ее взгляде и голосе Паулина различала сильное чувство, но слов не могла разобрать. Она опустилась на колени у кресла, и впервые за всю ее юную рассеянную жизнь вся накопленная ею жизненная энергия выплеснулась в живую силу любви. Она стремительно преодолела путь, указанный ее наставником. Почти его же словами она воскликнула:
— Позволь мне что-нибудь сделать, позволь мне понести это. Родная, позволь мне помочь!
Маргарет тихонько сжала ее руку, но глаза ее все еще смотрели в окно.
Тишина плотным покровом накрыла это странное место на Холме. Три призрака были заперты в живом камне из видения Маргарет. В комнате резко похолодало. Паулина решила, что погода вдруг изменилась, и включила электрический камин. Она боялась, что бабушке может повредить этот неожиданный холод. Так она пыталась передать свои новые ощущения, и главное среди них — благодарность. Но Маргарет узнала дыхание ледяной горы, узнала разреженный воздух горних высот и поняла, что ее надежды сбываются. Она должна и может войти в этот преображающий холод. Мертвец тоже его ощутил и вновь сделал попытку заговорить, выразить благодарность, обожание, сказать, что он будет ждать и искать Свет. И снова у него получился только тихий стон, но это был стон благого намерения и первых слабых признаков смирения и любви. В нем прозвучали все его прошлые попытки стать лучше, добрее. Он думал, что от них давно и следа не осталось, но оказалось, что их опыт по-прежнему с ним.
Его тихий стон привел к неожиданным последствиям. Ему ответил другой, намного более мощный звук. Застонала сама тишина, окутавшая Холм. Призрачная гора, на которой стояли все трое, содрогнулась, содрогнулся весь Баттл-Хилл. Зазвенел фарфор в комнате, сдвинулись бумаги на столе, упала со стены маленькая репродукция. Паулина выпрямилась и застыла. Маргарет закрыла глаза и откинулась на подушку. Мертвец подался от окна, вернулся с границы миров в свой слой бытия, где тоже что-то страдало и вот-вот готово было обрести свободу. Стон, порожденный остатками сил, вызвал к жизни новые силы.
Где-то в глубинах миров какое-то древнее божество, казавшееся вечным, недолго посопротивлялось и умерло.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ
Среди самых разных существ, населявших Холм, живых или мертвых, имелось одно — ни живое ни мертвое. У него не было ни ума, ни воображения, оно не могло ни оценивать, ни созидать, ибо жизнь этого существа была лишь волшебным видением его творца. Старые сказки говорят, что дьявол постоянно жаждет воплотиться, дабы оспаривать Слово Божие в избранном им плотском обличий. И вот однажды он возжелал девушку. Но Божия благодать осенила ребенка, и дьявол был изгнан из своего отпрыска в самый момент зачатия. От этой подправленной связи с ангелом-отступником родился Мерлин, мудрейший из волшебников, который предсказал поход за Граалем и построил часовню, чтобы служить Круглому столу до тех пор, пока Логрису[26] не придет конец и благословенный Галахад[27] не займет свое место в сонме ангелов.
После такого разочаровывающего воплощения дьявол никогда больше не сближался со смертной женщиной. Его инкубы и суккубы, искушающие и испытывающие набожность отшельников, — только призраки, соткавшиеся из земного праха, телесного пота, пролитого человеческого семени или морской воды, чтобы смущать и обманывать ненасытные глаза и похотливые руки.
Лоуренс Уэнтворт и сам не заметил, как его желания породили странное существо. Вступив в Сад удовлетворенных мечтаний, он согласился и на общество призрака, созданного его волей. Теперь призрак потихоньку завладевал этой самой волей. Образ, родившийся в сознании Уэнтворта, нравился ему, ведь в нем не было ничего, что так раздражало в его реальном, живом прототипе. На нем он мог упражняться во всех искусствах, кроме одного: истинной любви. Человек не может любить себя, а вот превозносить — это пожалуйста. Правда, в таком превозношении нет смысла. Во взаимной любви всегда присутствует хотя бы частично совпадение интересов, а в самопревозношении есть только один интерес — свой собственный.
Они сошли по холму вместе, мужчина и плод его воображения, выросший внезапно, как цветок в восточной сказке. Женское порождение его мужского начала прижималось к нему плечом, поднимало на него обожающие глаза, гладило его руки. Призрак точно исполнял желания своего родителя, но мог и сам подогревать их словом или жестом. Уэнтворт не думал, кто или что управляет этой совершенной женщиной. Таким образом, их обручение состоялось еще до того, как они начали спускаться с холма. С этого момента часть разума Уэнтворта уснула, чтобы никогда больше не проснуться. Во время неспешной прогулки его дитя играло его чувствами и получило полное представление о его нуждах. Адела шла рядом с ним и смиренно упрашивала любить ее. Уэнтворт ощущал покой и умиротворение. От этого создания к нему струилось ощущение абсолютной власти над женщиной. Именно этого он тайно и страстно желал всегда — поступать только по своей воле, делая вид, что уступает желаниям другого. То было семя, которое взросло в его духе и из которого в свою очередь вырос его дух — суть плода и плод сути. Существо нашептывало ему нежные слова, оно окружило его преданностью и обожанием. От самого Уэнтворта теперь не требовалось ни уговаривать, ни прикладывать усилия к сближению. Суккуб взял на себя все, и ласковые упреки в непонимании, пренебрежении и обидах были бальзамом для ума Уэнтворта. Он обидел ее — значит, сам не был обижен. Его хотели — значит, ему не надо беспокоиться о том, чтобы хотеть или знать, чего он хочет. Его ласкали — в томной радости он согласился удовлетворить жуткую двусмысленность своих желаний.
У ворот его дома они остановились. Тут Уэнтворт ненадолго почти пришел в себя, обрел свою обычную осторожность. Он подумал: «А вдруг нас кто-нибудь видел?» — и нервно посмотрел на окна. Они были темны, слуги спали по своим комнатам в задней части дома. Он глянул на дорогу: никого. Но его осторожность уже обратилась к другому предмету: он посмотрел на существо напротив. Это была Адела в каждой частичке, в каждой черточке: ее волосы, ее округлые уши, ее полное лицо, ее пухлые руки, ее квадратные ногти, ее розовые ладони, жесты, взгляды. Только эта зазывная мягкость была новой, именно по ней он и понял: та, что стояла с ним рядом, Аделой не была.
Он пристально вгляделся, и его передернуло, он отступил на полшага и таким образом получил первый шанс к побегу. Мысли его отчаянно заметались. Мелькнула страстная надежда: вот сейчас она пожелает спокойной ночи и уйдет. Его рука лежала на щеколде калитки, однако он не решался уйти. Он осмотрел улицу — вдруг кто-то пройдет? Раньше он никогда не хотел видеть Хью Прескотта, а теперь вот хотел. Если бы только Хью Прескотт пришел, взял Аделу под руку и увел ее! Но даже Хью не помог бы ему, разве что Уэнтворт захотел бы ту, что принадлежала Хью, а не эту, другую. Мысль о Хью доконала его, напомнив о разнице между настоящей и ненастоящей Аделой. Если ему суждено спастись, он должен столкнуться с ревностью, лишениями, потерями. Мысль ему не понравилась и он сердито вцепился в руку своей спутницы. Она только теснее прижалась к нему, и все осталось по-прежнему. Она тянулась к нему, как будто боялась разочароваться так же, как в глубине души разочаровался он. Она положила ему руку на грудь около сердца и сказала беззвучным шепотом:
— Ты ведь не прогонишь меня?
Адела и его нежелание знать Аделу, связанную с Хью, росло в нем смесью сладострастия и ревности. Он распахнул калитку.
Она взмолилась:
— Пожалуйста, не обижай меня! Делай что хочешь, только не прогоняй меня.
Уэнтворт никогда и не мечтал услышать голос женщины, наполненный такой страстью, и именно к нему! Рука, смягчившая его сердце, была той же, что лежала в руке Хью, и все же не той, он стиснул ее в своей, выбросив из головы все сомнения и приготовившись к воображаемой мести. Голова его пошла кругом. Он вцепился в нее сильнее на тот случай, если Хью в самом деле вынырнет из ночной темноты, высоченный как дом, и протянет здоровенную лапищу, чтобы вырвать у него из рук это сокровище. Он двинулся к дверям, и там она, будто в полуобмороке, почти повисла на нем. Он глухо пробормотал: «Ну, пошли, пошли же», — но, казалось, упустил момент. Ее голос еще страстно и неразборчиво лепетал что-то, но в ногах совсем не осталось силы. Тогда он предложил: «Может, мне понести тебя?» — и ее голова откинулась, а голос в трансе забвения ответил: «Неси меня, неси». Он взял ее на руки. Она оказалась легкой как перышко.
Пока он шел к дому, его разум или то, что над ним, рассуждал. Холм всем своим видом назойливо зудел в уши: «Глупец, это не Адела, ты бы не смог нести Аделу, она же тяжелая! Что ты от нее получишь, если это не Адела?» Уэнтворт и сам понимал, что поднять настоящую Аделу было бы трудновато, да и не стал бы он ее поднимать, вот в чем беда. Создание в руках было легким, ноша тяготила сердце, а не руки, а голова кружилась от ее шепота. Оказалось, что у нее нет сил только войти в калитку, а по садовой дорожке она опять смогла идти сама и дальше зашагала вполне уверенно прямо навстречу мечтам Уэнтворта.
После той ночи она часто приходила к нему, ибо той ночью произошло все, что он мог пожелать. Но только была эта ночь в лучшем случае пародией на настоящую любовь. Призрак умело изображал любовь. Как и положено всякой опытной любовнице, она удовлетворяла любые капризы его сердца, она заискивала перед ним и возбуждала его. Можно было смело наплевать на всякие противозачаточные средства, с которыми у мужчин вечные проблемы, ведь их отношения заведомо бесплодны. Она объяснила это Уэнтворту сразу, и он, с одной стороны — успокоился, а с другой, с досадой вспомнил о ее истинной природе. Его возбуждала иллюзия, обман, он знал это, но предпочел бы обойтись без лишних напоминаний. Впрочем, досада быстро улетучилась, ибо ему воздали в полной мере. Суккуб демонстрировал завидную изобретательность, умел доставлять удовольствие, а обстоятельства его появления лежали где-то далеко, на склоне Холма, и Уэнтворт вовсе не собирался ворошить эту палую листву.
Дни шли, а он все еще пребывал в умиротворении. По утрам она исчезала; летом на рассвете, прощаясь, она шепотом будила его, и в сонном мороке он понимал, что она поступает так, как хотелось бы ему. Первое время его интересовал вопрос, почему и куда она уходит, но потом ему стало все равно, потому что склонявшаяся над ним обольстительная обнаженная женщина всегда обещала вернуться. Ему становилось все равно — особенно на утренней грани сна и яви — Адела она или нет. Она уходила, и он не волновался, потому что, когда она была ему нужна, она всегда возвращалась. Если это Адела, конечно, ей нужно уйти, потому что ее могут ждать, а если не Адела, ей все равно нужно уйти, потому что настает утро… И потом, это так удобно… Ему нравилось, как осторожно она собирает предметы своего туалета, а затем, полностью одетая, прокрадывается к дверям и обязательно оборачивается на пороге, одним этим движением обещая себя опять. В рассветном полумраке она вспыхивала перед ним последним отблеском погребальных свечей нематериального огня, затем уходила, оставляя его досыпать. Когда слуга приносил утренний чай, он, естественно, был уже один. Но вот в один из дней, как раз за утренним чаем, он поймал себя на том, что мысль об Аделе больше не приносит удовольствия, скорее наоборот, думать о ней даже слегка неприятно. Он тут же и перестал. Он лежал, пил чай и пребывал в покое.
Шли дни. Ни разу не случилось так, чтобы его женщина не сдержала обещания. Уэнтворт выбросил из головы опасения о том, что однажды она может и не прийти. Порождение его разума все больше походило на настоящую Аделу. Поначалу он осторожничал, стараясь не нарушать тайный характер этих встреч, но однажды она как бы между делом обмолвилась: «Меня все равно не запомнят, даже если увидят». Уэнтворт принял это к сведению, и они даже стали иногда гулять по темным улицам у подножия Холма. Если им и попадались прохожие, то никого знакомого среди не оказывалось, а потом они и вовсе никого не встречали. Но Адела Хант порой удивлялась, почему она совсем перестала встречать Лоуренса Уэнтворта на улицах Баттл-Хилл.
Время и место во вселенной взаимосвязаны. Иногда там, где изменяется время, неизменно место, а там, где смешиваются пространства, неизменно время. Иногда они пребывают в равновесии, но вся конструкция, существующая в представлении живых, смещается в мир мертвых. Иногда это замечают мертвые, а иногда живые. Одни и те же часы начинают отсчитывать время разных миров, одна и та же дверь распахивается в оба мира сразу.
Первым обитателем такого совместившегося мира был несчастный самоубийца. Уэнтворт и он шли разными путями — один шагал по пути гордыни и самолюбия, другой тащился по дорожке самоуничижения, но оба пути объединяло то, что они были ложными. Гордыня одного порождала жестокость, самоуничижение другого было следствием жестокости, а между этими двумя крайностями и лежат обычно все колебания человечества, питая одно и производя другое. Все бывшие, настоящие или будущие обитатели Холма Битв склонялись либо к одному, либо к другому, за исключением лишь тех, кого святая любовь освободила своим откровением от слишком пристального интереса к собственной персоне.
В прежнем сне Уэнтворт спускался по веревке спокойно и даже с некоторым удовольствием, примерно так, как наш просвещенный мир качается на веревке, на одном конце которой болтаются отбросы цивилизации. Однако с тех пор, как его стал навещать призрак Аделы, сон больше не приходил. Уэнтворт спал крепко. А о чем ему беспокоиться — ведь если он проснется, она будет рядом с ним, лаская или баюкая его. Однажды ночью он подумал, как хорошо было бы проснуться и посмотреть на нее спящую, и когда он проснулся в следующий раз, она и вправду спала, готовая ответить на любые его желания. Но тут возник новый источник беспокойства. Глядя на нее спящую, он начинал думать о другой Аделе, спящей у себя дома. Некоторое время он утешался мыслью, что обладает ею без ее ведома, но эта умственная конструкция оказалась тяжеловата для его уже ослабленного ума. Он понял, что ему не нравится сам факт существования настоящей Аделы. Счастье обладания этим милым существом было бы куда полнее, будь та, другая, мертва. Нет, явно удовольствию кое-что мешало: ведь он знает, что она не знает… и что, возможно, однажды Хью… Он поспешно разбудил существо, спавшее рядом, и прошептал очередной приказ: она никогда не должна спать, когда он просыпается. Так закрылась еще одна дверь между ним и истиной.
Но вот однажды его сон вернулся и принес с собой беспокойство. В темноте он спускался по сияющей серебристой веревке и чувствовал себя еще спокойнее, чем раньше. Он смутно припомнил: он спускается к спутнице, ждущей его далеко внизу, там, где веревка привязана к стене пещеры в невидимом с высоты склоне. Спутница с мягкими обнаженными руками всегда ждет его там, она никогда не устанет ни от него, ни от ожидания, она томно закрывает глаза в предвкушении его появления… Пока он спускался навстречу этим ожиданиям, на него обрушился ужасный звук. Стонала бездна. Снизу и сверху, со всех сторон, его охватила душераздирающая скорбь почти невыносимого страдания, он судорожно вцепился в веревку, и она тоже дрожала от звука. Вопль страдания огласил пустоту, отразился эхом от невидимых стен, вдали еще раз перекатился отголосок и медленно стих. За этим последовала глубочайшая тишина. Он прислушивался, затаив дыхание, но стон-крик не повторился. Звук мгновенно превратил его сон в кошмар, он затрясся на своей веревке, задрожал всем телом и проснулся. Тут же проснулось и существо рядом с ним, та самая спутница, к которой он стремился во сне. Он вцепился в нее, торопливо спрятал уши между ее грудей и ладоней, чтобы больше никогда не слышать ночного стона. Он так торопился спрятаться, что не заметил лица той, у которой искал спасения. Оно было измученным и бесконечно дряхлым, щеки ввалились, глаза помутнели. На него тупо смотрело лицо слабоумной. Существо явно было раздосадовано, хотя и пыталось это скрыть. Движения почти-Аделы стали механическими, в них сквозила неестественность автомата, у которого кончается завод.
В этот миг из глубин Холма изливалась боль Господа. Так же изливалась она из глубин горы с прикованным Прометеем, так же стекала от креста на холме, тоже сложенном из черепов.[28] От такого же крика-стона так же прятались некогда уши в постелях Гоморры.[29]
А здесь и сейчас мертвец смотрел на Маргарет. Паулина думала о Стенхоупе и успокоилась, когда замерло эхо. Призрак рядом с Уэнтвортом ощутил живительную силу желания своего творца и возлюбленного. Тут же суккуб вернул себе утраченную было привлекательность и гладкость кожи. Великий обман Уэнтворта запрещал ей умирать и призывал к продолжению фантомной жизни. Создание вновь стало юным, как настоящая Адела. Ее возлюбленный сладко спал.
Как обычно, Уэнтворт встретил утро один. Но обычное умиротворение покинуло его. Утром он редко вспоминал ночь и был доволен этим. Июльским утром ему нравилось думать о работе — книгах, которые он читал, о книге, которую он писал. Он вспомнил, что так и не написал Астону Моффатту, хотя несколько раз принимался за письмо. Он попробовал обдумать очередное предложение, но даже не смог записать его. Ему то и дело приходилось возвращаться в кабинет за нужными документами, хотя они должны были лежать возле его кровати. В сознании плавали какие-то осколки мыслей. Теперь по утрам он часто ощущал вялость и в теле, и в мыслях. Вряд ли он признался бы себе, что все дело в физиологии. Его разум явно слабел. Потом, когда наступал день и его мужская сила возвращалась, он успокаивался. Но этим утром он испытывал смутное беспокойство. Он садился, вставал, ходил взад-вперед, старался сосредоточиться на той или иной мысли и не мог. Он плюнул на дела в городе и остался дома. Чем дольше длился этот злосчастный день, тем отчетливее Уэнтворт понимал, что просто боится встретить Аделу Хант, настоящую Аделу Хант. Он бы не вынес этого. В самом деле, какое она имеет право делать его возлюбленную своим фальшивым подобием?!
Лишь после одинокого ленча и часа работы, не принесшей ничего, кроме раздражения, он наконец позволил себе вспомнить о суккубе днем, и тут же услышал стук в дверь. У него не возникло и тени сомнения в том, кто стучит. Уэнтворт поспешил открыть. Она пришла.
Они сидели и разговаривали. Немного покопавшись у него в сознании, почти совсем Адела свободно говорила о Цезаре и Наполеоне, о генералах и кампаниях — о вещах, которых не могла знать, об истории, которую не могла помнить, о человеческой сущности, которой не могла постичь. Ему стало полегче, и все же весь этот день был испорчен мыслями о настоящей Аделе. Наступил час заката. Рука Уэнтворта лежала на ее обнаженной руке, ее руки ласкали его, а смутное беспокойство все не уходило. Он хотел опустить шторы, запереть двери, изгнать то, что засело в мозгу, отгородиться от всего мира, оставшись с тем, что с этим миром никак не совмещалось. Да, именно так — либо отгородиться полностью, либо уничтожить этот проклятый мир. Ну ладно, мир, допустим, уничтожить не удастся, ну тогда хотя бы одно существо, одну настоящую личность, которая шлялась где-то тут неподалеку…
Его беспокойство усиливалось настойчивым вторжением этой так называемой настоящей Аделы. Некоторое время назад он послал миссис Парри эскизы и описание формы стражи Герцога. Потом она пару раз звонила и настойчиво приглашала к себе, чтобы он оценил и одобрил результат. Он не хотел идти. Скоро премьера, он и туда не хотел идти. Адела будет на сцене, а ему не хотелось видеть ее ни в костюме восемнадцатого века, да и вообще ни в каком другом. Придется говорить с ней, а он не хотел с ней говорить. Он хотел остаться наедине со своими мечтами. Весь этот суетный мир во главе с мерзкой настоящей Аделой мешал ему. Конечно, отгородиться от него можно, но если он собирается и дальше наслаждаться призраком Аделы, его слуги должны видеть ее, подавать ей чай. А что они подумают, если выяснится, что настоящую Аделу в это самое время видели где-то еще? Или если случайно настоящая Адела сама зайдет к нему?
Его Адела знала, что господин чем-то озабочен, но пока не придет ночь, ей не удастся исцелить его. Она бросала на него долгие влюбленные взгляды, она шептала: «Мне надо идти». Она ловила и целовала его руку, с голодным жаром повторяя: «Сегодня? Дорогой Лоуренс, сегодня?» Он отвечал: «Сегодня» и хотел назвать ее по имени, но не смог, как будто имя и в самом деле что-то значило.
Он повторил: «Сегодня», прижал к себе, поцеловал и быстро выпроводил за дверь, как всегда делал из непонятного чувства, будто, расставшись с ним, она никуда не пойдет. Ему не хотелось бы видеть, как она у него на глазах растворяется в невыносимо ярком свете летнего дня.
Этим летом многие замечали какую-то особенную яркость, разлитую в воздухе. То был не зной, для этого погода была слишком мягкой и ветреной. Что-то усиливало освещенность, очертания проступали резче, голоса звучали отчетливее. Репетиции проходили живее, люди и на сцене, и в жизни двигались энергичней. Кругом то и дело слышалось: «Какое чудесное лето!» Однажды Паулина услышала, как Стенхоуп с некоторым удивлением ответил на эту фразу «А-а, лето, вы правда так думаете?» Но его собеседник уже успел куда-то убежать.
С момента их памятного разговора прошло два дня. И разговор при встрече тоже начался с летней темы.
Стенхоуп пожал плечами.
— Разве оно похоже на лето? — спросил он.
— Не очень, — согласилась Паулина. — А вы что о нем думаете?
— Да, пожалуй, что-то носится в воздухе, — ответил он полушутя. — Настоящее выглядит более значительным, ненастоящее и вовсе сходит на нет.
— А я к чему отношусь? — полушутя спросила Паулина.
— Ну, вы-то, конечно, настоящая, хотя и существуете во многих образах. Ну как, вы больше никого не встречали?
Она собралась ответить, но тут вошла целая группа самодеятельных актеров. На этот день была назначена генеральная репетиция, и по этому поводу все пребывали в некотором нервическом возбуждении.
Приближался финал. Более молодые и менее опытные актеры млели от восторга, хотя и побаивались собственной неопытности. Те, что постарше, боялись неопытности других. Адела Хант, например, боялась, что Периэль и Хор — недостаточно яркий фон для нее. Еще она опасалась, что ее театральный возлюбленный не сможет в должной мере продемонстрировать ей свое обожание. Милый и застенчивый мальчик до сих пор запинался во время вызывания огня. Миссис Парри рассчитывала, что он привыкнет к горящим листьям, но в кульминационный момент голос у него продолжал предательски подрагивать.
Медведь разрывался между собственным желанием походить на медведя и требованием миссис Парри говорить цветисто. Однако оба важных эпизода с его участием требовали больше действий, чем слов. В первом из них ему предстояло преследовать Принцессу, а во втором он и Периэль начинали танец в толпе, постепенно вовлекая в него всех участников сцены. К счастью, от него никто не требовал становиться на четвереньки, а «медвежью» походку он придумал себе сам. Высокие меховые сапоги, шуба и рукавицы вкупе с медвежьей головой делали его образ довольно убедительным. Хотя он и Главный Дух танцевали вместе, между ними всегда оставались другие смертные, позволявшие каждому из них спокойно вести свою партию.
Конечно, львиная доля интереса к постановке обеспечивалась именем Питера Стенхоупа. Премьера была в центре внимания. Пресса в Нью-Йорке и в Париже не оставила событие без внимания, так что билетов на всех не хватило. Предвкушение славы сладкой отравой витало над труппой. Им казалось, что весь мир устремился в Баттл-Хилл. Никто не сомневался, что грядущая постановка — явление почти историческое. А тут еще пресса… Даже у артистов были входные билеты, а репетицию охранял полицейский.
Такой интерес со стороны внешнего мира сплотил постановщика, актеров и всех, кто имел отношение к пьесе. Сыгранность стала настолько необходимой, что ее действительно удалось достичь при содействии судьбы и доброй воли. Стенхоуп согласился сказать несколько слов в конце. К нему относились с небывалым пиететом. Адела ругала Паулину за то, что та, по ее мнению, слишком легкомысленно говорит о великом человеке.
— Вот уж не знала, что ты им так восхищаешься, — фыркнула Паулина.
— Да при чем тут я! Знаешь, как его уважают в Лондоне! А я просто не сразу поняла, насколько он важен для современной поэзии! Ты не смотри, что пьеса написана в духе романтизма, на самом деле она очень даже современная.
Когда Адела упоминала о романтизме, Паулина, как и многие другие, спешила поменять тему разговора. Иначе далее следовало длинное и страстное разоблачение всех романтиков как врагов истинного искусства. Известный критик недавно объявил истинное искусство «искажением фактов». Что уж тут было говорить о бедняге романтизме, который по своей несколько туманной природе соответствовать фактам никак не мог, а из-за отсутствия достаточной ловкости и искажать их толком не умел. Впрочем, как бы и кто бы ни искажал факты, ни один из них не мог объяснить, почему в присутствии Хью Адела начисто забывает о романтизме, а если о нем упоминают другие, сама стремится увести разговор в сторону. Так что Паулина просто последовала наработанной практике.
— А вон и мистер Уэнтворт, — сказала она. — Очень надеюсь, что ему понравится Стража.
— Надо бы ему раньше на нее посмотреть, — строго сказала Адела. — Он слишком редко появлялся на репетициях. Ты же не видела его в последнее время?
— Нет, мне хватало хлопот с бабушкой, — ответила Паулина. — И ты не видела?
Адела помотала головой. Уэнтворт, не поднимая глаз, медленно шел по лужайке в сторону девушек. Едва ли он видел их. Когда Паулина сказала: «Добрый вечер, мистер Уэнтворт», он поднял на нее глаза и заморгал. Наконец ему удалось сфокусировать взгляд, он улыбнулся и тихо ответил:
— А! Добрый день, мисс Анструзер.
— Мистер Уэнтворт! — выпалила Адела.
Уэнтворт подскочил. Он повернулся к Аделе и, казалось, только теперь заметил ее. На его лице появилось и исчезло неприятное удивление, когда он ответил:
— О да, мисс Хант! — Это прозвучало вовсе не как приветствие, а скорее как информация к размышлению.
Адела растерялась. Что его так удивило, и ведь неприятно удивило! Она-то чем виновата? Да ладно, эти ученые все немного того.
— Надеюсь, вам понравятся костюмы Стражи, — отрывисто сказала она.
Уэнтворт подался назад.
— Тише, не так громко, — попросил он. Казалось, самые обычные слова удивили его еще больше. Днем и ночью он считал, что ненавидит настоящую Аделу, в его воображении она прочно приняла образ врага. Нет, он переоценил ее. В действительности она не была тем, чем ему представлялась, и теперь, когда он ее встретил, то едва узнал. Просто девушка, разговаривавшая с… с… — имя опять ускользнуло от него — с другой девушкой. В лучшем случае, эта Адела отдаленно напоминала его ночную возлюбленную — так, кое-чем, вот этим поворотом головы, например; и все-таки это была, конечно, не она. Да и как могла эта чем-то раздраженная, даже немного враждебная женщина походить на его восхитительную, нежную и загадочную подругу? О, она говорила! И это было странно. Он ждал только любви, он не хотел слышать ее голоса, не ожидал услышать его, и сам вынужден теперь говорить что-то. Впрочем, он быстро понял, что этот голос никак не может принадлежать его возлюбленной. Резкий, грубый голос, он расстроил его. Голос походил на тот надоедливый мир, с которым он был вынужден иметь дело — ожесточенный, сокрушительный, ранящий резкими криками и такой далекий от его неслышной мелодии. Неспроста Китс изображал на вазе любителя неслышных мелодий, настоящие горластые греческие танцовщицы понравились бы ему куда меньше.[30]
Хотя Уэнтворт был потрясен неуклюжей походкой и громким голосом оригинала своего творения, они все же принесли ему облегчение. Еще недавно в нем жила ненависть, а теперь она ушла. Можно было не возмущаться больше огромностью мира, довольно одного мановения, чтобы отвергнуть его. Теперь у него есть собственное живое снадобье от всех забот, а для всего остального — неприязнь и забвение.
— У вас голова болит? Как досадно! Очень мило с вашей стороны прийти на репетицию, но мы все-таки хотим убедиться, что все нормально. Я имею в виду, если у нас должна быть форма… Лично я… — немного смягчив голос, тараторила Адела.
— О, пожалуйста! — с усилием сказал Уэнтворт. Пронзительный голос этой несносной девицы напомнил тот кошмарный крик-стон из его сна. Тупое, неповоротливое, некрасивое существо напротив угрожало крушением его мечтам. И куда от него скроешься? Он не мог, как ночью, кинуться под защиту этих успокоительных грудей с воплем: «Укройте меня!» Голос терзал его слух, вид подавлял его. Эти две схватили его и рвали на части, они копались в его внутренностях и чего-то хотели от него.
Пока Адела в изумлении таращилась на него, пытаясь понять, к чему относится это странное восклицание, Уэнтворт совсем ушел в себя и теперь категорически отказывался выйти наружу. Подобно мертвецу, когда тот бежал с горы, он больше не хотел говорить. Каким бы ни было его состояние, оно его не испугало, а значит, и страх не стал для него орудием спасения.
Сзади его окликнули. Опять голос, такой же громкий, но не такой ненавистный, как у Аделы, по крайней мере, не вызывающий никаких ассоциаций, скомандовал:
— Мистер Уэнтворт! Наконец-то! Мы все вас ждем. Паулина, Стража сидит под буками, проводи мистера Уэнтворта. Я приду через минуту. — Отдав распоряжение, миссис Парри и не подумала проследить, как его выполняют, а тут же умчалась дальше.
Паулина улыбнулась озадаченному Уэнтворту и раздраженной Аделе.
— Полагаю, нам лучше пойти. Идемте, мистер Уэнтворт?
Уэнтворт с облегчением повернулся к ней. Этот голос был спокойнее остальных.
— Да, да, пойдемте, — согласился он.
Паулина заметила, как по лицу Аделы скользнула недовольная гримаса. Это ее позабавило. Отойдя на несколько шагов, она тихо спросила:
— Надеюсь, вашей голове получше? Вас совсем задергали.
Освободившись от крикливого давления Аделы, Уэнтворт со вздохом ответил:
— Люди такие шумные. Конечно… я посмотрю костюмы… но у меня мало времени.
— Да тут и нужно-то всего несколько минут. Мы вас не задержим. Вы просто скажите: да или нет. — Паулина заметила тщеславное выражение знатока, проступившее на лице Уэнтворта. — Но, вы понимаете, сегодня уже генеральная, поздно что-то менять. Доставьте нам удовольствие, просто скажите «да».
К ним подбежал Хью Прескотт, по-герцогски великолепный и искусственно состаренный.
— Приветствую, мистер Уэнтворт! Надеюсь, с моей Стражей все в порядке?
Голос Паулины действовал на Уэнтворта успокаивающе. В отличие от голоса Аделы он даровал его разуму нечто такое, к чему он и сам стремился. Казалось, он поселился у него внутри, освоился там и незримой рукой ласково приобнял Уэнтворта. Ее голос был способен творить, но совсем не претендовал на авторство. Помраченный рассудок Уэнтворта наделил голос Паулины силой, которой в нем никогда не было. Фраза застряла в мозгу и теперь крутилась по кругу: «Доставьте нам удовольствие и скажите „да“, скажите „да“ или „нет“… мы… мы… скажите „да“», а другой голос вторил первому: «Со Стражей все в порядке? Надеюсь…» Голоса превратились в хор, звуки начали раскачиваться, как деревья на ветру: «Мы… мы… мы… Стража в порядке?.. Скажите, скажите, скажите же… Стража… в порядке…»
Конечно, она была не в порядке. Уэнтворт сразу заметил. Несмотря на его наброски и описания, аксельбанты сделали неправильно. В восемнадцатом веке не было ничего подобного. Внутри себя он неожиданно присоединился к этому безумному звону: «Нет, нет, нет, Стража не такая… О нет. Говорю… Я говорю…» Он смотрел и покачивался, словно на веревке, словно решая — качаться дальше или подниматься? Он медленно прошел перед строем, обошел его сзади, не обращая внимания на замечания и вопросы, а внутри продолжал раскачиваться на волнах хора. «Скажите „да“… или „нет“. Аксельбанты легко сменить, все двенадцать, это не займет много времени. Или ну их… доставьте нам удовольствие… скажите „да“… А можно и оставить. Такая же ерунда, как и стишки Стенхоупа…» Нет, не нравились они ему. Тут и портной не нужен. Его экономка вечером, под его руководством все переделает за час. «Стража… в порядке?»
К нему опять обращались. Голос Хью:
— Ведь мои подчиненные должны точно соответствовать, не так ли?
Он на самом деле сделал акцент на слове «подчиненные» или нет? Уэнтворт вопросительно посмотрел на него. Хью с победным видом вышагивал рядом.
— Конечно, мы могли бы что-то поменять, — снова вступила Паулина. Молчание Уэнтворта заставляло ее нервничать.
Он стоял поодаль, обозревая Стражу со спины. Да, он может настоять, чтобы они все переделали. Может забраковать эти мундиры. Но это же придется возиться с ними вечером? А значит, он не сможет… Он ощутил в воздухе запах вечернего сада.
— Ну, со Стражей все в порядке? — пророкотал над ним командирский голос миссис Парри.
— Да, — сказал он. Теперь — все. Теперь можно идти.
Он решился. В ушах больше не звенело. Все было совершенно спокойно. Даже оттенки были неподвижны. Затем вдалеке опять началось движение. Его будущее было надежным, окончательным и бесповоротным. Но его настоящее было у них в руках: его не отпустили. В этот вечер дьявол попросту надул его. Уэнтворт обманул, и его тут же обманули в ответ. Миссис Парри ожидала, что он останется на репетицию и посмотрит проход Стражи; по ходу пьесы она то ли наступала, то ли отступала. Миссис Парри ясно дала понять, что она на него рассчитывает. Уэнтворт попробовал протестовать; на его протест не обратили ни малейшего внимания. Она подвела его к стулу, усадила и ушла. У него не было сил ей сопротивляться. Да ни у кого не было. Надо всей толпой актеров и зрителей, над Стенхоупом и Паулиной, над Аделой и Хью, над поэзией, надо всем царила женщина. Это было ее время, она своим упорством заработала право повелевать.
Кэтрин Парри сотворила нечто и повелевала своим творением. Она взяла на себя труд, и теперь ее упорство диктовало стихам Стенхоупа, как им звучать, откладывало на потом действие снадобий Лилит, приковывало к месту Уэнтворта и совершало еще множество подвигов. Адела подчинялась с демонстративным неудовольствием. Питер Стенхоуп смеялся и соглашался со всем. Наверное, пьеса, кое-как рождавшаяся на сцене, была не лучшей иллюстрацией его искусства, но Стенхоуп не сделал даже попытки как-то оценить театральное действо. В конце концов, это его личное дело, а оно может и посторониться, чтобы дать дорогу делам других. Он поддерживал миссис Парри как только мог. Бегал по поручениям, принимал сообщения, репетировал непонятные места, застегивал крючки и держал оружие. Но он только поддерживал. Деятельность была ее главным качеством, и Царство Божие, которое воплощало себя в самых отдаленных уголках просторной вселенной Стенхоупа, точно так же воплощалось и в ее деятельном превосходстве.
Итак, миссис Парри занимала позицию в центре всего. Несколько зрителей уже сидели, актеры собирались. Стенхоуп стоял рядом с ней. Пролог со своей трубой торопливо бежал через сцену к деревьям, образующим задник декораций. Миссис Парри скомандовала: «Полагаю, мы готовы?» Стенхоуп согласился. Миссис Парри энергично кивнула Прологу. Репетиция началась.
Уэнтворт, посаженный рядом со Стенхоупом, слегка покачивался с закрытыми глазами в такт своим тайным мыслям. Паулина вместе с Хором ожидала монолога Сына Дровосека, за которым должна была последовать первая могучая песнь. Постепенно ее охватывал восторг сцены. Она по-своему приняла на себя авторское бремя Питера Стенхоупа. Ему легко было считать происходящее развлечением, а не пьесой, а поскольку он предпочитал, чтобы Паулина следовала наставлениям миссис Парри, она им и следовала ради всеобщего блага, включая и свое собственное. Но если Стенхоуп привык уноситься воображением к настоящим высотам, то для Паулины высочайшей вершиной было именно это действо. Других столь же высоких она пока не знала, а возможно, никогда и не узнает. Если бы сейчас ее ужасный двойник показался на лужайке, она бы только мельком взглянула на него и попросила посидеть спокойно в сторонке до конца репетиции. Мысль ее позабавила. Она порадовалась, что может шутить на эту тему.
Сын Дровосека с вязанкой хвороста выступил вперед. Его голос нарастал в великолепном блеске огня и славы, впечатанной в стихи бездумной щедростью поэта. Он договорил свои слова и смолк, а Паулина вместе с Хором начали ответную песнь.
Пока шла репетиция, она не чувствовала ничего, кроме восторга. Все участники пьесы, каждый по-своему, разделяли его. Постепенно и зрителей, и актеров, за исключением Лоуренса Уэнтворта, охватило общее радостное чувство причастности к высокому. Генеральная репетиция становилась чем-то большим. Паулина видела костюмы актеров, и они казались ей такими же естественными, как платье миссис Парри или легкий костюм Стенхоупа. На всех репетициях во все времена у людей на сцене не было задачи важнее, чем сделать свою игру совершенной. И эта репетиция не стала исключением, разве что она уже светилась совершенством изнутри. Неуклюжий Медведь танцевал, Герцог изрекал древнюю мудрость, Принцесса и Сын Дровосека купались в первой светлой любви, фермеры считали гроши, а разбойники переругивались.
Восторженное состояние Паулины дало сбой в перерыве перед последним действием. Она немного отошла от других, чтобы расслабиться, и огляделась. Возле возвышения, где недавно горел костер, Пролог разговаривал с кем-то из Стражи. Она видела, как он поднял трубу, форма стражника вспыхнула на солнце, и внезапно ей вспомнилась другая картина: гравюра в старом издании Книги Мучеников. Там тоже была и труба, и стража, и костер, и человек на нем. История утверждала, что это происходило где-то здесь, возможно, как раз на том самом месте, где теперь располагалась сцена.
Паулина все еще продолжала думать о последнем действии. Впереди ждали страдания, прощение, явление всемогущей любви в одном общем танце, но теперь на всем этом лежала тень смерти и людской жестокости. Солнце светило так же ярко, краски оставались живыми, смех — веселым, но все это накрыла тень. Ее природа разительно отличалась от природы праздника на лужайке. Паулина чувствовала, что даже если бы все мирские горести и беды были излечены и забыты, из пустоты все равно возникало бы знание о мертвых, не доживших до этой радости. Прошлое обвиняло; история ее семьи была частью мрачного прошлого. Ее предок добровольно пошел на смерть, он сам выбрал ее, настаивал на ней. Всего несколько слов раскаяния — и судьи могли бы пощадить его. Но они осудили человека на мучительную смерть. А мир, который взирал на все это и упивался его мучениями? Не слишком ли он походит на тот, в котором жила она, на Хью, на Аделу, на Кэтрин Парри и остальных? Паулина растерялась. Она понимала, что радость можно и нужно сохранить, несмотря на трагедию, только не знала как.
К ней подошел Стенхоуп.
— Ну, — сказал он, — кажется, все идет хорошо.
Голосом, охлажденным наползающей тенью, она ответила:
— Вы так думаете?.. Знаете, моего предка сожгли заживо как раз на этом месте?
— Знаю, — кивнул он. — Я читал, да и ваша бабушка рассказывала.
— Извините, — проговорила она с раскаянием. — Сегодня все так радуются. Пьеса, костер, наш костер, — это замечательно. Но как можно быть счастливым, если помнить?.. И как мы смеем забыть?
— Не надо ничего забывать, — ответил он. — Такому нет и не может быть оправдания. Но, может быть, вы забываете еще что-то?
Паулина с удивлением посмотрела на него. А Стенхоуп продолжал как ни в чем не бывало:
— Как вы думаете, нельзя ли принять и его бремя?
Паулина словно окаменела.
— Но ведь он умер!
— И что? — мягко спросил Стенхоуп, тоже останавливаясь.
— Вы имеете в виду… нет, вы же не хотите сказать… — Она озадаченно умолкла, и перед ней мелькнуло понимание смысла его слов. Он был так огромен, что она даже дыхание затаила от одного лишь намека. Голова кружилась. Паулина смогла только вымолвить беспомощное «Но…».
Стенхоуп взял ее за руку и осторожно потянул вперед.
— Но ведь он умер, — повторила она, хотя собиралась сказать совсем другое.
— Да, вы уже говорили, — мягко промолвил Стенхоуп. — И я спросил, что это меняет. С таким же успехом вы могли бы сказать, что у него рыжие волосы. Насколько я знаю, он вполне мог быть рыжим.
В это время их окликнули.
— Да, да, миссис Парри, идем, — отозвался Стенхоуп. — Идемте, мы всех задерживаем, — обратился он к Паулине. — Потом. Всему свое время.
— Вы советуете мне попробовать нести его страх? — все-таки спросила она, ускоряя шаг.
— Ну, — протянул он, — пока вы едва ли сможете установить связь. Смерть мешает, рыжие волосы или что там еще. Но, думаю, с помощью Всевышнего вы могли бы предложить ему ваше… что-нибудь, что у вас есть. Эй, только я собираюсь получить это первым.
— Что получить? — с замиранием спросила она.
— Да радость, конечно! Если вы почувствовали счастье вокруг, примите его, не отказывайтесь. Будьте счастливы. Ведь вы же не будете предлагать Господу какую-нибудь ерунду. У вас должен быть хоть маленький, но капитал, чтобы попытаться поддержать, например, мученика времен Марии Кровавой. Нет, нет, не сейчас. Нас ждут. В шатер, о Периэль!
Паулина еще услышала слова, сказанные ей вдогонку.
— Возможно, именно в этом разница между Израилем и Иудой! Они разошлись по своим шатрам и оставили Давида одного.[31] Отсюда Рассеяние… и Исчезновение.
— Кто у вас исчез, мистер Стенхоуп? — озабоченно спросила миссис Парри.
— Пустяки, миссис Парри. Спасителя вот ищем. Как удачно начинается это действие, правда?
Пока Паулина бежала через сцену к своему месту, рассудок ее словно заледенел. Снова над ее миром взметнулась волна нового смысла, снова все перестраивается иначе: невероятно сложная мысль, изложенная простейшими словами, вела за собой совершенно необычный порядок давно знакомых вещей. Ее вселенная разваливалась на части, а дух парил и не падал. Она остановилась, развернулась, заговорила. Она спешила на сцену, и вбежала в пьесу, где речь тоже шла о мученичестве. «Я видел спасение Господа моего…» Спасение реяло над ней в воздухе, дрожало в ярком свете. «Кто имеет, тому дано будет…» А кто не имеет? И вдруг она ясно услышала ответ: «А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет».[32]
Плакала труба. Оплакивала исполнение приговора ее Величества Королевы над осужденным и нераскаявшимся еретиком. И его кровь текла в ее жилах! Паулина отчаянно старалась осмыслить это наследство. Внезапно перед ее внутренним взором возникла толпа странно одетых людей. Его не было там, он умер много веков назад. А действительно, так ли важно, когда это было? Возможно ли, чтобы прошлое, настоящее и будущее существовали одновременно здесь и сейчас? Горит на костре нераскаянный еретик Струзер, она с друзьями танцует там, где он горит, бабушка умирает, а Стенхоуп говорит об этом стихами… Прошлое Холма пронизывает его настоящее. Выходит, теория обмена любовью действует и для живых, и для мертвых? Понимание взметнулось из глубин ее сознания и тут же пропало. Актеры расступились перед ней. Это были ее знакомые, друзья, преображенные в персонажей пьесы. А сама пьеса?.. Не отображает ли она эту сверхъестественную жизнь? Ессе, omnia nova facio.
Хор заканчивал свою партию. Паулина серьезно и радостно доиграла свою роль, изо всех сил стремясь стать органичной частью спектакля. Близился финал. Заканчивалась генеральная репетиция. Впереди ждала премьера.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ВСТРЕЧА МИРОВ
Когда долгий крик-стон наконец замер в воздухе, мертвец обнаружил себя стоящим среди домов. Тот звук, родившийся в глубине его новой сущности, что-то освободил в нем. Он хорошо помнил два прекрасных женских образа в окне. Впрочем, на молодую женщину он почти не обратил внимания. Слишком его поразила пожилая леди, и даже не столько она сама, сколько сильный мягкий свет, исходивший от ее лица и всей фигуры. А теперь он стоял на улице и прямо напротив, через дорогу, видел знакомые дом с лестницей. За ними разливался свет, почти такой же, какой он видел в окне. Сам дом был темным; на его фоне лестница белела, как старая кость; но свет ее словно не касался. Она просто стояла и ждала, когда он вернется.
Однако в нем действительно что-то необратимо изменилось. В той, предыдущей жизни он был на побегушках у многих людей, в этой бегал от них. От его бестолкового усердия было мало проку. Он долго пытался угодить другим и не навредить себе, но больше в этом не было необходимости. Решение принято. Путь выбран. Но вот пойдет ли он по нему? Он мог идти, а мог и не идти. Но где-то глубоко внутри он уже знал ответ. Свободы выбора больше не было. Выбор существовал до тех пор, пока не был сделан. Уэнтворт, отвернувшись от Стражи Герцога, не понял, что сделал свой выбор. Не понял и Макбет, решивший, будто цель оправдывает средства.
На самом деле выбирать мертвецу было практически не из чего. Он мог отправиться в путь сейчас, а мог подождать, пока обстоятельства вынудят его к этому. Можно торопиться к концу пути, можно не спешить, природы конца это не изменит. Бывает, что на каких-то отрезках пути скорость задана, все остальное зависит только от идущего. Он пошел. Пожалуй, он давно так не ходил. Откуда-то из глубин его существа забили фонтаны силы его упущенной юности и обманутой зрелости. А в силе он сейчас нуждался. Стоило ему сделать первые шаги, как воспоминание о женщине в окне потускнело, сделалось таким же слабым, как и ее голос. Место прежнего, ставшего уже привычным страха заняла неизвестность. Он совсем не представлял, что ждет его впереди.
Вокруг снова не было ни единого существа. Только белесая лестница продолжала маячить впереди. Мягкий свет за ней ничего не обещал. Мертвец беззвучно шагал и думал лишь о том, что должен сделать. А поверх мыслей лежало воспоминание о любви, изливавшейся на него из глаз старой леди в окне.
Он шел мимо достроенных домов, потом по сторонам потянулись те, которые в прошлом или будущем были пока не окончены. Теперь он различал слабый звук позади. Его снова окружало пространство мертвых. Легкий шорох напоминал шуршание сухих листьев, когда из них выползают змеи. Но мертвец не думал ни о листьях, ни о змеях. Совсем не думал о сухих листьях большого леса вечного небытия. Листья нападали с мертвых высохших деревьев, и теперь их шорох сопровождал его в пути. Для него это был только звук.
Он уже пришел. Когда он остановился у подножия белой лестницы, звук стал сильнее. Теперь он шел со всех сторон. Мертвец обернулся.
Позади собралась толпа теней. Все смотрели на него. У большинства были тела и лица, но было много и таких, которые лишь обозначали свое присутствие неопределенным контуром. Впереди, как и в любой толпе, стояли дети, поменьше, побольше и даже совсем маленькие. За ними кое-где различались знакомые лица людей, которые что-то значили для него в жизни. Мелькнуло лицо жены, молодое лицо человека, которого в юности он считал почти своим другом. Были и те, кого он недолюбливал. Но большинство составляли незнакомые.
Толпа не двигалась, разве только иногда новые фигуры выскальзывали из разрушенных домов и вливались в толпу точно так же, как это происходило бы на обычной лондонской улице. Мертвец обвел глазами толпу и отвернулся. Возвращаться бесполезно. Вот лестница. Он положил на нее руку. За спиной раздался слитный сухой хруст, это толпа подалась вперед. Они смыкались вокруг него; людские кольца змеями опоясывали дом. Его прежний смертный ум давно бы сдался и заставил его отпрянуть от лестницы, его новый бессмертный ум, питаемый верой, остался невозмутим. Он сделал выбор и начал взбираться по лестнице. В тот же миг сзади накатил шорох листьев, треск сучьев и хруст оболочек. Волна призраков прихлынула и теперь смотрела вверх. Живая смерть столпилась вокруг призрачно-бледной лестницы, по которой не могла подняться. Бледные лица без жизни, наполненные одним только существованием, с угрюмой тоской смотрели, как он поднимается. Сам он не смотрел вниз. Он уже поднялся над ними, он видел площадку в небе, кульминационную точку его последнего решающего деяния, перекресток жизни и смерти. Он ощущал силу, перетекавшую в его руки от перекладин лестницы. Он продолжал подниматься. Появился ветер. Он мельком подумал, что это листья переворошили воздух, а не воздух заставил листья шуршать. Небытие в слепом инстинкте стремилось догнать, схватить, не отпустить, похоронить его. Время от времени кто-нибудь из толпы даже поднимался за ним на две-три ступени, но тут же обрывался и падал.
Ничего этого он не видел, потому что смотрел только вверх. Он решительно вскарабкался на последнюю перекладину и ступил на площадку, откуда прыгнул тогда. Он вернулся из своего собственного времени ко времени всеобщего мира и обнаружил, что все изменилось. Теперь время определялось не по нему самому, а по его спасению, по расчету Творца, по времени Маргарет Анструзер. Поэтому он оказался в полностью достроенном доме, в комнате, где спал Уэнтворт. Открытая площадка сомкнулась за ним. Вокруг выросли стены, сверху возник потолок. Он знал, что стоит в комнате, хотя видел плохо. Комната казалась призрачной, подобной той, из окна которой смотрела на него старая леди. Трудно было определить центр помещения. Сначала он подумал, что это из-за того, что в прежней жизни ему не доводилось бывать в таких комнатах. Беспокоило легкое шуршание, такое же, как он раньше слышал позади себя на дороге, но только теперь оно было и внутри комнаты. Это ему не понравилось, и он решил уйти. Просто спокойно и осознанно принял решение; чуть ли не первое решение, принятое им в таком состоянии, на пороге умиротворения.
В мире духов свои законы. Так, существо, лежавшее сейчас рядом с Уэнтвортом, никогда не являлось без приказа. Вот и мертвец неведомо как понял, что ему здесь не место. У него свой путь. Он думал о Городе, думал о своей жене. Он не мог сказать, как и какой он найдет ее, да и найдет ли вообще. Но она была главным, что он знал и к чему стремился. О необходимости зарабатывать на жизнь он не думал. Жизнь, любил он ее или нет, была ему обеспечена. Он осторожно прошел через полутемную комнату, спустился по лестнице и подошел к парадной двери. Она открылась перед ним словно бы сама по себе, и он выглянул на дорогу. Там было очень темно, но пока он смотрел, темнота начала отступать. Он опять услышал ветер, но теперь он дул вдоль улицы. А еще где-то был свет. Ветер и свет прогоняли ночь. Он заметил, что темнота была живой, наполненной множеством едва различимых образов, возникающих и исчезающих по своей воле. Не свет изгонял их, они сами излучали свет, когда исчезали. За их мельтешением он увидел длинный переулок, а в его конце, уже на улице, — фигуру девушки.
Недалеко, в ярко освещенной комнате, у постели бабушки сидела Паулина. Для нее это был вечер после генеральной репетиции. Она пришла домой и обнаружила Маргарет бодрствующей. Паулина не могла сдержаться и начала пересказывать подробности этого дня, на этот раз уже ничего не упуская. Казалось, бабушка внимательно слушает ее, но выражение лица у нее оставалось несколько рассеянным. На самом деле все бренное для Маргарет постепенно расплывалось, четким оставался только склон горы, по которому она поднималась вверх. Правда, временами она чувствовала, что кого-то приподнимают и кормят, кто-то произносит слова. Лишь иногда к ней возвращалась определенность бытия, тогда она могла слышать и понимать происходящее. В остальное время она видела лишь смутные образы великой добродетели, да в редкие моменты ее пронзала резкая боль. Тогда она тихонько стонала, радуясь телу, его неизбежному сопротивлению силе, стекающей с вершины горы. Она со всем соглашалась. Соглашалась и с тем, что говорила сейчас взволнованная собственными словами Паулина. Снова видя перед собой события многовековой давности, Паулина воскликнула:
— Но как же это может быть?
Маргарет пока не могла объяснить ей метафизику этого явления. Она только проговорила чуть слышно:
— Но ведь это так, дорогая…
Паулина никак не могла успокоиться.
— Но он же сам принял это! Сегодня мне показалось, там, на репетиции, что я могла бы принять его бремя, а сейчас я что-то сомневаюсь…
Маргарет слабо улыбнулась.
— Ты думаешь, это твое?
— Но ведь четыреста лет прошло, — Паулина снова ухватилась за аргумент времени.
— Милая моя, — сказала бабушка, — я могу протянуть руку и коснуться Адама, а времена Марии Кровавой куда ближе.
— Но он же не может принять то, что я еще не отдала? — воскликнула Паулина.
— Ну при чем здесь еще или уже? — ответила Маргарет. — Ты ведь отдаешь Ему, а какое Ему дело до того, когда это происходит?
Паулина порывисто встала и подошла к окну. Близилась ночь, но бледно-зеленое небо было таким полупрозрачным, что день и ночь немыслимым образом перемешались. Вдалеке она услышала торопливые одинокие шаги: топ-топ.
— Знаешь, я боюсь перейти эту грань, — с трудом проговорила она.
— А сколько раз пугался Питер Стенхоуп? — сказала Маргарет.
— Так ведь это поэзия! — воскликнула Паулина. — Одно дело, когда это происходит в воображении, и совсем другое — когда на самом деле.
— В воображении? — повторила Маргарет. — Ну а как на самом деле, тебе придется понимать самой. Только имей в виду: он может нести твою ношу, но не тебя.
— Вот еще! — фыркнула Паулина. — Да мне это вовсе и не нужно!
— Иногда не нужно, а иногда… — голос Маргарет заметно слабел.
Паулина быстро вернулась к постели.
— Я тебя утомляю, — торопливо сказала она. — Извини, давай я уйду. Я не хотела столько говорить.
Маргарет посмотрела на нее и шепотом сказала:
— Но я бы предпочла умереть как раз за разговором. — Ей действительно доставляли удовольствие разговоры на высокие отвлеченные темы.
Паулина вгляделась в лицо бабушки. Кажется, в ее состоянии наметилась перемена. Веки опустились, но Паулине казалось, что и с закрытыми глазами бабушка внимательно смотрит на нее.
Между старой женщиной и окружающим миром выстраивалась новая система взаимоотношений. Но эту перемену окружающие едва ли могли заметить. А вот перемены внешние не заметить было трудно. Маргарет словно таяла. Перемены в духе отражались на теле. Тело уступало дорогу. Только когда дух уйдет, оно ненадолго вернет себе утраченные позиции, заняв конкретное место среди конкретных вещей. Паулине вдруг показалось, что и вещи стали меняться. Постель, на которой вытянулось маленькое тело, вдруг представилась ей курганом, на вершине которого покоилось тело жертвы. А сама бабушка превратилась в пришельца из другого мира, почти забывшего мир, которому она так долго принадлежала. Знакомое и неведомое, новое и старое смешались, обрели значительность смысла. В мягком свете комнаты курган представлялся Паулине короной и некой вершиной жизни; долгое путешествие заканчивалось на округлой вершине холма. Паулина долго приглядывалась к этой неожиданной метаморфозе, потом позвала сиделку и ушла к себе.
Она еще не спала, когда уже совсем поздно вечером ее позвали. Сиделка сказала, что бабушка просит ее зайти. Паулина накинула халат и пошла к ней. Миссис Анструзер полусидела в постели, обложенная подушками, глаза ее неотрывно смотрели вдаль. Когда Паулина подошла, она спросила:
— Это ты, дорогая?
— Я, — ответила девушка. — Ты меня звала?
— Сделаешь для меня кое-что? — спросила миссис Анструзер. — Нечто довольно необычное?
— Конечно, — сказала девушка. — Все, что угодно. А что?
— Тогда, будь любезна, выйди и взгляни, не нужна ли ты кому? — совершенно отчетливо произнесла миссис Анструзер. — Примерно возле дома мистера Уэнтворта…
— Она бредит, — прошептала сиделка.
Зная, что миссис Анструзер никогда раньше не бредила, Паулина не торопилась соглашаться. Конечно, просьба звучала несколько странно. С нежностью, чуть подточенной сомнением, она переспросила:
— Я? Кому-то нужна? Сейчас?
— Конечно, сейчас, — ответила бабушка. — В этом-то все и дело. Я думаю, ему нужно попасть обратно в Город. — Она вздохнула. — Сделаешь?
Паулина хотела предпринять обычную для здорового человека попытку убедить больного в том, что его просьбу… да, конечно, учтут, но потом… и не смогла. В этот момент она не думала ни о принципах, ни о любви к ближнему. Просто не могла. Она только переспросила:
— Возле дома мистера Уэнтворта? Хорошо, дорогая. — И, не удержавшись, добавила: — Ну кому я там нужна?
— Нужна. — Голос Маргарет был твердым.
— Ладно. Я пойду, — ответила Паулина и повернулась к двери.
— Как мило с вашей стороны, — сказала сиделка. — Возвращайтесь минут через десять. Она и не заметит.
— Нет уж. До дома мистера Уэнтворта я как-нибудь дойду, — ответила ей Паулина. — Вернусь, как только смогу. — Она заметила испуг на лице сиделки и добавила: — Я ненадолго.
Она быстро оделась. Несмотря на решительный ответ сиделке, сомнений было более чем достаточно. Два слова засели в голове: «Она бредит». Зачем же тогда, подчиняясь этому бреду, она собирается бродить по Холму? Зачем ей эта вполне возможная ужасная встреча под бледным сияющим небом? Напольные часы пробили час, приближалось самое глухое время ночи. Зачем идти? Куда? «Останься, дура, дома спокойнее», — чуть не сказала она себе вслух. Да разве это покой? Моли о покое там, где нет покоя; faciunt solitudinem et Pacem vocant.[33] Предать умирающую и называть это покоем? Бабушка умрет и никогда не узнает… или наоборот, умрет и тогда уж точно узнает, что ее внучка считала покоем.
Ветер крепчал, и палые листья шуршали под луной. Ей нечего было искать на темной улице. Но ничего не найти сейчас означало слишком многое потерять потом. Казалось, за порогом дома лежит совсем другой мир, мир, где каждый помимо своей несет и чью-то чужую ношу. Ну, просто Алиса в Стране чудес. Переступи порот — и ты в другой стране. Алиса сидела у огня… А кто сидел у огня, на котором горел человек? Там, на лужайке, возле дома поэта? Там все шло навыворот: правила против прав, права против правил, и призрак на костре становился призраком на улице, он приближался, ветер нес его к ней… Это же она сама приближается, то самое ужасное добро, ужас и ошибка; нет, это ужас был ошибкой, а ошибка — ужасом, и кто-то шел по улицам Баттл-Хилл, спрямляя их. Спрямляйте пути к Господу нашему… Только эти пути не Господу нужны, а нам самим. И проходят они во всех мирах, а не только в этом… Нет покоя, кроме покоя, нет радости, кроме радости, нет любви, кроме любви. Ей, гряду скоро. Аминь. Ей, гряди…[34]
Паулина схватила шляпу и бросилась к двери. В крови бушевал жар, словно весь дом горел. Воздух показался ей раскаленным, она словно вдыхала смесь пламени поэзии и пламени мученичества, и эта смесь сейчас меняла атмосферу, пронизывая воздух своей внутренней силой.
Она бежала вниз по лестнице, но возбуждение, в котором было так мало силы, уже оставляло ее, сменяясь болью в висках. Действие еще не настолько воссоединилось с противодействием, чтобы стать страстью. Сомнения в смысле предстоящих поисков принимали старую привычную форму. Ее прошлое снова собиралось взять верх над сознанием, а в прошлом был страх.
Над Холмом давно миновала полночь. На улицах никого нет. Быть может, это призрак ждет ее в своем, безжизненном царстве? Она стиснула зубы. Это надо сделать. Она обещала бабушке, а еще важнее то, что она обещала сиделке. В этот миг на глаза ей попался телефон.
Она не думала о Стенхоупе, но телефон тут же напомнил о его просьбе звонить в любое время. «Сейчас час ночи, он спит, не делай глупостей», — сказала она себе и тут же вспомнила его слова: «В любое время, днем или ночью». «Надо позвонить», — решила она. Наверное, она могла обойтись своими силами, как, собственно, и поступала всегда, но сейчас она поняла, что просто должна обратиться к нему за помощью. Она набрала номер, но перед последней цифрой немного помедлила — важность момента не стоило портить спешкой. Прижимая трубку к уху, она ждала и довольно быстро услышала его голос.
— Вы достаточно проснулись, чтобы меня выслушать? — спросила она, даже не поздоровавшись.
— Я весь внимание, — ответил он. — Что бы там ни стряслось, вы поступили правильно! Что там у вас происходит?
— Я собираюсь на улицу. Бабушка меня попросила. Но я немножко боюсь, боялась… а теперь нет.
— Ну и слава Богу! — облегченно вздохнул Стенхоуп. — Ступайте с миром. Хотите, я пойду с вами?
— Нет, конечно, нет, — поспешно отказалась она. — Это я сначала подумала, что хочу вам позвонить, а потом, когда позвонила, поняла, что уже не хочу. Простите.
— Да сколько угодно, — откликнулся он. — Я тут подумал, что прощение вам пригодится на тот случай, если у вас его не было. Не мое, конечно. Все прощения у Бога. Знаете, Периэль, и прощение, и любовь — они ведь не наши, мы только играем в них. А на самом деле мы еще не умеем любить, а значит, и прощать не можем. Но вы хотели идти… Вы запомните то, что я сказал?
— Обязательно! Спасибо.
Паулина решительно положила трубку, открыла дверь и вышла на улицу. Ночь мгновенно вобрала ее в себя. Дома прятались в густой тени, но на самой улице было посветлее. Необычность она почувствовала сразу, но только пару минут спустя поняла, в чем она заключается. Она привыкла к тому, что тени обычно лежат поперек тротуаров, но теперь на обеих сторонах улицы они сгущались и совершенно скрывали дома. Меж этими глыбами тьмы улица походила на широкое горное ущелье, по которому вполне могла пройти армия. Небо то и дело озарялось неяркими вспышками, будто там проносились какие-то серебристые механизмы. Да и сам воздух светился. Но луны не было. В какой-то момент ей показалось, что низко у горизонта блеснула звезда, нет, наверное, планета, — она была поярче звезды. Наверное, Венера. Один раз ей показалось, что далеко за собой она услышала торопливые шаги, но пока она прислушивалась, шаги стихли.
Паулина шла быстро. Звонок Стенхоупу изменил ее настроение, и теперь она на ходу обдумывала то новое, что услышала в трубке. Это не мешало ей внимательно оглядываться по сторонам. Ведь бабушка говорила о какой-то встрече. Вскоре она свернула на улицу недалеко от вершины Холма, где стоял дом Лоуренса Уэнтворта. Странно. Она не помнила, чтобы улица была такой длинной. Она замедлила шаг и, похлопывая по руке перчатками, двинулась к дому.
Возле дома она остановилась. Нигде поблизости не видно было ни единого живого существа. Зато кругом было сколько угодно теней, и вели они себя, словно живые. Ночной ветер раскачивал кроны деревьев, заставляя тени колотиться о стены дома. Паулина подумала, что после такой трепки тени должны быть все в синяках. Она скрутила перчатки и постучала костяшками пальцев друг о друга. Боль помогла убедиться, что сама она вполне материальна. Потом она подумала, что, постучав по самой себе, она словно сообщила о своем приходе кому-то, кого пока не видела. А-а, вот и он! В тени дома шел человек.
В неверном свете Паулина попыталась рассмотреть ночного прохожего. Сначала ей показалось, что она уже встречала его раньше. Нет, едва ли. Она вспомнила слова бабушки. Ну вот. Обещанная встреча состоялась. Пока неизвестный шел по тропинке от дома, Паулина рассмотрела его повнимательнее. Это был невысокий сутулый человек, по виду явно рабочий, и притом неудачник — об этом говорили потрепанная одежда и дырявые ботинки. Однако шел он хорошо: свободно и, можно даже сказать, гордо. А еще он улыбался! Подойдя, человек с достоинством притронулся к своей драной кепке и обратился к Паулине:
— Добрый вечер, мисс. Не могли бы вы подсказать мне дорогу на Лондон?
— Да, конечно, — немного растерянно отвечала Паулина, — но… вы же не собираетесь идти пешком?
— Вы мне только подскажите правильную дорогу, мисс, а там я уж как-нибудь доберусь.
— Но это же тридцать миль, — воскликнула она, — и… не лучше ли… — Она замолчала в затруднении. Ее собеседник вовсе не выглядел настолько несчастным, чтобы предлагать ему деньги. Да и вообще: нельзя предлагать деньги людям своего круга или тому, к кому относишься с уважением. Можно помочь чем угодно из того, что покупается за деньги, только не самими деньгами. А потом, понятно: даже предложи она ему деньги, он все равно пойдет в Лондон пешком.
— Я лучше пойду пешком, мисс. Это совсем рядом, — сказал он.
— Ну, не так чтобы рядом, — протянула Паулина, размышляя о бабушкином поручении. — Послушайте, а вам обязательно идти прямо сейчас? Лучше бы подождать до утра. Вы могли бы переночевать у нас… — Ей казалось, что бабушка именно это и имела в виду.
— Нет, хотя за предложение спасибо. Я бы отправился сейчас. Только подскажите, в какую сторону идти. — В его голосе не слышно было ни малейшего намека на просьбу.
Паулина оказалась в затруднении, она не знала, как поступить. Ясно же, что денег у него нет совсем. Наверное, надо все-таки попробовать… Она посмотрела в его ясные спокойные глаза и спросила:
— Вам не хватает на билет, дело в этом?
Продолжая улыбаться, он покачал головой.
— Дело в том, чтобы правильно начать путь, — ответил он.
Паулина испытала разочарование, словно кто-то отказался от чашки кофе или холодной воды, которую она собиралась принести. А деньги-то, оказывается, совсем и не трудно предложить, если постараться. Она улыбнулась в ответ:
— Ну, как хотите, — сказала она. — Смотрите, вот самая прямая дорога. — Она подвела его к углу дома Уэнтворта. — Вон там, — указывая, сказала она, — видите, дорога на Лондон пересекает эту улицу. Но вы уверены, что хотите идти сейчас? Может быть, вам все же лучше переночевать, а утром взять денег на билет? — Слова дались легко, словно она предлагала кому-то из друзей билет или книгу.
— Совершенно уверен, мисс, — сказал он и опять дотронулся до кепки. — Я думаю, что надо идти. Вдруг меня там ждать будут…
— Понимаю, — сказала она и с улыбкой добавила: — Никогда ведь не знаешь, не так ли?
— Ну, насчет никогда — я бы так не сказал, мисс, — ответил он. — Еще раз спасибо. Спокойной ночи, мисс.
— Спокойной ночи, — ответила она.
Последний раз приложившись к кепке, он быстро, легко и спокойно пошел вниз по дороге. Шагов не было слышно совсем. С минуту Паулина смотрела ему вслед, а затем взглянула на перекресток на другой стороне улицы. Эта дорога вела в сторону Мэнор-Хаус; она тут же вспомнила о недавнем телефонном звонке и о том, спит ли сейчас Стенхоуп. Потом снова посмотрела вслед уходящему человеку и вслух произнесла: «Ступай с миром!»
Эти простые и мирные слова словно пригвоздили идущего к месту. Человек стоял, раскачиваясь, жестикулируя, но не двигаясь ни назад, ни вперед. Вот он с мольбой простер руки к небесам, вот стиснул голову, вот руки безвольно упали вдоль тела. Похоже, он испытывал неподдельную муку.
Паулина тихонько вскрикнула и бросилась вперед. На бегу ей показалось, что где-то далеко позади коротко пропела труба, нет, скорее, затерявшееся эхо трубы сегодняшней репетиции… а может, заблудившееся эхо трубы премьеры завтрашней…
Негромкий звук, долетевший с той стороны холма, ударил по нервам Паулины с неожиданной силой. В памяти всплыли и заметались строки Шелли: «Кудесник… мудрый сын… образ свой…». Она бежала быстро; оказывается, за это время ее недавний собеседник успел уйти довольно далеко. Паулина вспомнила, как торопилась выбежать на улицу и остановилась на пороге… Правильно остановилась! Это была ловушка! Начиная с того момента все, все было частью этой замысловатой ловушки! Даже бабушкин дом, который она считала своим надежным убежищем, в конце концов был нужен только для того, чтобы поймать ее. Кудесник Зороастр устроил ловушку с самого начала, и бабушка тоже была частью бесконечно сложной мышеловки, которая срабатывала раз за разом, и теперь поймала ее. Звук, долетевший до ее слуха, раздался оттуда, где сидел и работал Стенхоуп, потому что Зороастр и Шелли работали где-то там, впереди, именно там затаились смерть и бред. Они все вместе сплели этот искусный заговор, вынудили ее поверить им, и вот теперь она уже не может остановиться… не может не слышать жужжание колеса, взводящего пружину, а когда пружина щелкнет, на дороге возникнет ее двойник. Ради этого момента безжалостный мучитель Стенхоуп притворялся, будто спасает ее, а древнее существо, притворявшееся ее бабушкой, все говорило о Боге, а потом взяло и выгнало ее в глухую ночь, а человек, не принявший от нее денег, довел ее до точки. И земля, и небо грозились проклясть ее, она чувствовала, как они сближаются и давят на ее ноги и плечи. Она бежала, а отзвук трубы все еще висел в воздухе. Тень впереди на дороге стояла, запрокинув голову и безвольно уронив руки вдоль тела.
Паулина из всех сил надеялась, что это все еще он, тот, с кем она разговаривала недавно. Каждое мгновение, на протяжении которого он все еще оставался тем самым ночным прохожим, приносило ей громадное облегчение. Но в любой миг его спина могла раскрыться, а ее двойник — стремительно выскочить из засады, устроенной среди его вен и внутренностей, или прямо из его пульсирующего сердца. Пока этого не происходило. Но спина человека впереди содрогалась. Даже своим воспаленным сознанием Паулина отметила, что это довольно большая спина, облаченная в какой-то холщовый балахон. Над спиной возносилась кудлатая рыжая голова. Внезапно руки человека снова возделись ввысь, и голос, пронизанный нестерпимой мукой, вскричал: «Господи! Господи Боже!»
Паулина остановилась как вкопанная. Крик разом, словно паутину, смахнул остатки ее бредового страха. Ловушка, если она и была, осталась где-то в стороне. А вот человек на дороге, похоже, угодил в нее. Он снова воззвал: «Господи Боже!»
Труба умолкла. Задыхаясь от бега, Паулина сделала еще шаг вперед и спросила: «Не могу ли я вам помочь?»
Человек пока не обращал на нее внимания. Продолжая свой монолог, он обреченно произнес: «Господи, я не вынесу страха костра».
— Какого костра? — спросила она.
Теперь, все еще стоя спиной к ней, человек явно ответил:
— Костра, на котором меня сегодня сожгут, если я не скажу того, что они велят. Господи Боже, избавь меня от страха, если это в Твоей власти. Господи, будь милосерден к грешнику. Господи, дай мне веру!
Ага, вот оно! Теперь Паулина знала, что делать. Теперь ей есть что предложить, и предложение может быть принято. На протяжении четырех веков ей предлагали совершить этот обмен. Неподдельное участие, с которым она направила мертвеца на путь в Город, открыло перед ней вневременную суть Города, место, где есть все времена. Перед ней на дороге стоял ее предок, тот самый, его мучил страх, и Паулина знала, что с ним делать. Она видела, что страх костра уже победил его. Он попал в ловушку, пойманный собственной вселенной. Решеткой ловушки были его учитель, рукописи, убеждения, судьи и палачи запирали ее, и сам Господь Бог в это отчаянный час становился поршнем, толкающим несчастного на пытку. Но Бог никогда не сводим к чему-то одному. «Дай мне веру, дай мне веру!» — страстно взывал узник. И вот теперь выбор был за ней. Всевышний ждал ее решения.
Да, Паулина знала, что должна сделать. Но точно так же знала, что и сама она никогда не могла вынести этого страха. Знать о том, что сгоришь заживо, о языках пламени, о лицах, вбирающих твою бесконечно длящуюся боль… Она открыла рот, но не смогла вымолвить ни слова. Перед ней стоял ее предок, одинокий узник грязной тюрьмы времен Марии Кровавой, стоял и не знал, какими тайными способами Господь борется за его покой. Истово верующий и готовый потерять веру, в духовном противостоянии он стоит века и предчувствует смертную муку… Сквозь время он не мог видеть своего отдаленного потомка, боровшегося с собой позади и впереди него. Наступало утро, сердце его было опустошено. Судорожная мысль билась в его сознании: он все еще мог отречься! Паулина не видела тюремных стен, она видела только узника. Она никак не могла решиться заговорить. И вдруг ее собственный голос произнес позади нее:
— Отдай это мне, Джон Струзер!
В тот же миг, когда над тюрьмой занялся последний рассвет его мученичества, узник услышал. Его опустошенное сердце воспряло и вновь погнало бунтарскую кровь по жилам.
— Отдай, отдай это мне, Джон Струзер.
Он снова воздел руки в оковах и снова воззвал: «Господи, Господи!» Но теперь в этом возгласе слились поклонение и обожание: он принимал и благодарил.
Паулина содрогнулась, потому что поняла, кто стоит за ней и говорит ее голосом.
Голос опять сказал: «Отдай».
И тогда узник пал на колени и вскричал: «Я видел спасение Господа моего!»
С великим облегчением Паулина перевела дух. Встреча состоялась и оказалась не только и не столько встречей, сколько примирением. Та, другая, сделала то, что должна была сделать она. Не другая… она сама это сделала. Она столько лет несла страх, не свой, а чей-то еще, и вот настал момент, когда он, в свою очередь, стал чьим-то еще. На сердце у нее стало тепло-тепло, как будто костер, которого боялся ее предок, согрел ее. Голос позади нее пел, вторя голосу перед ней: «Я видел спасение Господа моего!»
Паулина обернулась. Позже она думала, что не могла иначе, но это было не так. Да, движение было почти инстинктивным, так человек взмахивает рукой, пытаясь удержать равновесие, но движение было осознанным. Она обернулась к тому, чего так долго избегала, но великолепное создание, стоявшее позади, смотрело не на нее, а на мученика. У Паулины закружилась голова. Она закрыла глаза и пошатнулась, но ее поддержал сам воздух и не дал упасть. Глаза пришлось открыть. Она же тысячу раз видела это в зеркале — слегка вьющиеся каштановые волосы, длинноватый нос, твердо сжатый рот, худощавая фигура, длинные руки, ее платье, ее жесты. Не было никакого нимба, никакого сверхъестественного венца, но существо ослепительно сверкало и переливалось волнами света. Такой видят смертную плоть в ярчайшие моменты бытия все истинно любящие. Свет ошеломлял красотой чистых красок, голос был таким, каким Паулина мечтала произносить стихи Стенхоупа. Но никакие стихи, будь то даже Шекспир или Данте, не заменят оригинала, который силятся описать. Ведь стихи — всего лишь попытка перевода языка образов на язык слов. Слава поэзии не может затмить славу творения, ибо сколь ни богат поэтический язык, в нем нет стольких оттенков. Но и образ, и перевод порождены одной и той же стихией — радостью. Радость, наполнявшая ее сегодня днем, сделала возможным ее сходство с самой собой. До сих пор она просто не умела радоваться, только это не позволяло ей увидеть себя, питало ее иррациональный страх. Теперь она знала, что любовь обретает способность к действию, только когда радость превосходит определенную меру.
Она поделилась со своим предком радостью и теперь слышала шум его победного шествия. Невидимая толпа лилась мимо нее. Ее долг был уплачен, жертва принята. «Кто имеет, тому дано будет…»[35] Он имел: ему дали. Она жила без радости, чтобы он мог умереть в радости, но когда она жила, она не знала этого, а когда предложила, то не думала о том, что жертва умерла задолго до ее самопожертвования, так необходимого для воскресения.
Вокруг все еще звучали голоса людей, стекавшихся к костру. Кто-то выкрикнул: «А кто не имеет?..» Но кто мог не иметь? Великая слава самопожертвования, самоотречения доступна любому бедняку, и в необозримом времени не может не найтись тот, кто даст утешение его страданиям, кто подарит спасение.
Паулина слышала и вопрос, и голоса, и звон цепей. Она не видела ничего, кроме улиц Холма, и себя на Холме. Она не чувствовала скорби или страха, это еще должно было прийти или уже пришло — все зависит от того, какой взгляд на время выбрать. Ее другое «я» все еще стояло перед ней в немеркнущей славе, когда ее накрыла волна обретенной духовной силы.
Она не услышала ответа на вопрос, который выкрикнул голос в толпе. Вокруг звучали резкие чужие голоса, среди них знакомый голос вскричал: «Конец мира да будет на мне!» Звуки двоились, переплетались, как пути, на которых она могла теперь везде встретить Джона Струзера, везде, где мог понадобиться обмен безучастности на любовь. Она знала теперь, что обмен возможен между многими смертными сердцами, но никто не сможет измерить работу, совершаемую им в небесах. Наступила угрожающая пауза, напряженное ожидание тишины. Костер подожгли. Запахло горящим деревом.
Он стоял на костре и видел вокруг людей в форме Стражи Герцога, господ на лошадях, монахов, палачей, толпу из мужчин и женщин, пришедших из окрестных деревень. Жар опалял и душил его. Сквозь дым и пламя, охватившие его, он видел искаженные образы херувимов и серафимов, обменивающихся силой любви, и среди них — лицо своей дочери, осененное вечностью. Она единственная из всех его потомков смогла пожертвовать сердцем, чтобы облегчить его муку. Он благословил ее, приняв за ангела, и его благословение снизошло на нее ужасным благом. К ним обоим стремительно приближался конец света… одного, но далеко не единственного света. Покой объединил мертвого и живую. Ее путь больше не был мучением.
Небо над Паулиной покраснело отсветами огня или рассвета. Она все еще слышала запах горящей плоти, но вскоре исчез и он. Благодать окутала ее плотным непроницаемым покровом. В глубине разбитого и кающегося сердца родился глубокий вздох. На миг все ее существо полыхнуло великолепием, и все кончилось. Она стояла одна. В воздухе занимался рассвет; ессе omnia nova facio.
Некоторое время спустя, уже подходя к дому, она заметила Стенхоупа и подождала его перед своей калиткой. Он подошел и с улыбкой сказал:
— Проснитесь, лютни и арфы. Извините, я привык рано вставать.
Она протянула руку.
— Я вам обязана, — сказала она. — Навсегда.
Он внимательно взглянул на нее.
— Ну что, встретились?
— Да, — просто ответила она. — Я не смогу вам сейчас всего рассказать, но это случилось.
Он долго молча разглядывал ее, потом медленно и торжественно произнес:
— «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою».[36] — Затем добавил уже обыденным тоном: — У вас должно хорошо получаться, вы сможете красиво отдавать и красиво принимать. Ну, я тоже постараюсь. Господь с вами, Периэль.
— Ну, еще бы, у вас вон какое преимущество! — ответила она, отпуская его руку.
Он покачал головой.
— Нет, бежим-то мы одинаково, но препятствия у нас разные. И фарисей может спастись, если не будет цепляться за свою Гоморру.
Слово «Гоморра» окатило ее холодом. Она вспомнила вопрос из своего видения: «А те, кто не имеет?» Стенхоуп словно услышал его и ответил:
— Слава Господня падет на города равнины, Содом и другой. О Содоме мы многое знаем, но об этом другом, наверное, еще больше. Мужчины могут быть влюблены в мужчин, а женщины в женщин, могут говорить что-то, суетиться… Но знаете ли вы, как спокойны улицы Гоморры? Там водоемы вечно отражают лица тех, кто ходит со своими собственными призраками, но у призраков нет отражений. В Гоморре все всем довольны, Периэль, им не знакомы трудности. Там не бывает перемен, по крайней мере, до огненного дождя Славы Господней в конце. Они моногамны, у них нет детей — в их существование не вторгаются ни херувимы, ни младенцы, крикливые и утомительные, как у нас здесь, там нет рождения, а есть только вторая смерть. Они сосредоточены только на себе, и Творение, милость Господня, им незнакомо. Но мы почти не вспоминаем о Гоморре, уж не знаю, хорошо это или плохо.
— Но где о ней вспоминать? — воскликнула она.
— Где же, как не здесь? Когда все кончается, остаются только Сион[37] и Гоморра, — ответил он. — Но не думайте об этом сейчас, лучше идите, поспите, если сможете, а то будете нервничать днем.
— Ни за что, — сказала она. — Не буду.
— Всякое бывает, — ответил он. — Все же вам лучше поспать. Суббота и все такое… Будьте агнцем и поспите.
Она кивнула, послушно вошла в калитку и, задержавшись, спросила:
— Я вас скоро увижу?
— Да, мне придется выйти в конце, — сказал он. — Если Господь Сам не надумает явиться. До тех пор, Периэль — ступайте с Богом!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ТРУБНЫЙ ЗОВ
День миссис Парри начался с рассветом. Впереди ее ждали великие дела. «Режиссер и постановщик», как именовали ее журналисты, старалась не вспоминать каждую минуту о газетах, где фотокорреспондент запечатлел ее рука об руку со Стенхоупом. К завтраку пришла короткая сухая записка от Уэнтворта. Историк извещал, что подхватил простуду и не появится на премьере.
Несмотря на лаконичный стиль, сочинение отняло у Лоуренса Уэнтворта много сил. Но желание во что бы то ни стало оберечь свое одиночество заставило его с утра пораньше разделаться с этой работой и вернуться в кабинет с наглухо закрытыми шторами. Здесь ему было легче бороться с простудой.
«Хм, это же надо ухитриться подцепить простуду в такую погоду, — подумала миссис Парри, наблюдая в окно за игрой солнечных зайчиков на траве. — Между прочим, мог бы вернуть билет и хотя бы пожелать удачи». Она едва ли догадывалась, что удачи-то как раз Уэнтворт не стал бы желать никому даже под пыткой.
Она отправила в оргкомитет записку с сообщением, что одно место освободилось. Если больше никто не откажется, если никто из актеров не угодит под машину, не провалится в тартарары или еще каким-нибудь экзотическим способом не выйдет из строя, ну, значит, повезло. Днем раньше, после репетиции, миссис Парри разговаривала с Паулиной. До нее дошли слухи, что миссис Анструзер совсем плоха, и «режиссеру-постановщику» надо было точно знать, не повлияет ли это на премьерный прогон. Все-таки Периэль — одна из центральных фигур, не хотелось бы рисковать спектаклем из-за здоровья престарелой бабушки. Однако тревоги оказались напрасны. Паулина продемонстрировала редкую разумность и заверила миссис Парри, что будет играть в любом случае, дескать, они с бабушкой специально говорили на эту тему и все решили. Миссис Парри не очень-то доверяла господней пунктуальности, но ответом удовлетворилась и ничего менять не стала. Если случится такое несчастье… лучше бы уж тогда оно случилось со Стенхоупом, вот им-то сейчас пожертвовать совершенно не жалко. Миссис Парри с готовностью принесла бы автора в жертву на любой алтарь, окажись у нее хоть какой-нибудь, лишь бы обеспечить присутствие остальных и успех пьесы. Именно эта черта и восхищала в ней Стенхоупа. Естественно, она хотела громкого успеха, но процесс его достижения прельщал ее даже больше, чем результат. Она предпочла бы дать совершенное представление перед пустым залом, чем далекое от совершенства — перед полным.
Пока, вроде бы, все шло нормально. Даже фотограф не подвел. Сам же Стенхоуп об этом и позаботился. Он устроил так, что ее сфотографировали в разгар постановочного процесса, они со Стенхоупом живо обсуждают что-то на фоне сцены с декорациями. Подпись оказалась тоже вполне на уровне: «Мистер Стенхоуп обсуждает с постановщиком (миссис Кэтрин Парри) эпизод своей пьесы». Миссис Парри тогда же напомнила Стенхоупу его обещание сказать несколько слов после спектакля, «о-о, так, совершенно неформально». Он заверил ее, что готов: «высказаться совершенно неформально. Чтобы высказаться формально, — добавил он, — понадобился бы как минимум архангел с трубой».
— Вы сами просто ангел, мистер Стенхоуп, — сказала она, тронутая его вежливостью, но он только улыбнулся и покачал головой.
Перед началом спектакля газетчики опять снимали их, главных исполнителей и Хор. Стенхоуп руководил съемкой, а потом подошел к Паулине.
— Миссис Парри — просто молодец! — искренне сказал он. — Посмотрите, все спокойны, все на своих местах! Обычно премьерам свойственна куда более суматошная обстановка.
— Да, наверное, — задумчиво ответила Паулина, — но я думаю, дело не только в ней. Питер, разве вы не чувствуете, как вообще спокойно вокруг?
— Я рад, что вы это чувствуете, — улыбнулся он.
— Я сама удивляюсь. Бабушка умерла сегодня утром — через пять минут после моего возвращения. Хотелось бы знать, может ли смерть принести такое умиротворение?
— Смерть, конечно, приносит покой, — задумчиво ответил Стенхоуп, — но сейчас происходит что-то еще. Тишина как в раю — счастливая тишина. Но мне все равно хотелось бы, чтобы мы ставили «Бурю», а не мою чахлую пьесу!
Про все поведаю. И обещаю Безбурный путь домой и свежий ветер Попутный; он позволит нам догнать Флот королевский, далеко уплывший.[38]Его голос стал певучим, рука взлетела вверх, будто он взывал к стихиям, и рука эта показалась Паулине рукой волшебника. Слова свободно парили над лужайкой: в них отчетливо слышался и свежий ветер, и безбурный путь. Паулина даже оглянулась посмотреть, далеко ли они отстали от королевского флота. Все сказано, обо всем поведано, всему свой черед.
— Нет уж, вам, может, и хочется «Бурю», но я предпочитаю вашу пьесу, — ответила она.
— Между прочим, в «Буре» тоже есть роль для вас. Угадаете, какая? — мягко спросил он.
— Я получила неплохое образование, — ответила Паулина, выдержав точно рассчитанную паузу. — Два образования, Питер. Так что попробую угадать…
Весело, весело я заживу. Навек вернувшись в цветы и листву.[39]— Ладно, пожелайте мне удачи.
— Да пребудет с вами милость Господня, — сказал он и проводил ее взглядом, прежде чем отправиться на свое место.
Зал был почти полон, торопливо заходили опоздавшие. Ворота уже закрывали, когда пришел последний человек. Это оказалась миссис Сэммайл. Пробираясь на свое место мимо Стенхоупа, она тихо спросила:
— Как мило, правда? Вы получили все, чего хотели?
— Ну, так уж и все… — протянул он.
Но миссис Сэммайл продолжила:
— Но ведь это хорошо, не правда ли? Совершенство скучно, разве нет? К нему лучше стремиться, чем его достигать, разве не так? Кто же это сказал, что лучше все время идти, чем попасть, куда надо?
— Нет уж, благодарю покорно, — сказал он, откровенно посмеиваясь. — По мне, так совершенство все же лучше, чем размышления о нем. Только что мешает иметь и то, и другое? Ладно, не будем задерживаться, до начала полторы минуты. Где вы сидите? Сюда. — Он проводил ее на место в конце ряда, ближе к сцене, и по пути серьезно спросил: — Вы же не против попасть сюда сразу, правда? Чем бродить с надеждой вокруг да около весь вечер?
Она вздрогнула и посмотрела на поэта с такой горечью, что Стенхоуп отошел, озадаченный. Устраиваясь в кресле, он подумал: «Но если ненавидишь достигать? Если живешь одним недостижением? Если только и делаешь, что избегаешь, вместо того чтобы понять? Если тебе нравится только неслышная музыка именно потому, что ее вообще нет? Всё — ложь, сплошная ложь…» Он отбросил незаконченную мысль, потому что из-за деревьев выступил Пролог, а вслед за этим в мгновенно павшей на зал тишине раздался звук трубы.
Он возвещал о начале, взывал к миру, требовал объединить души и сознания и устремить их вперед. С последним звуком трубы актеры заняли свои места, и теперь публика и труппа были словно две армии, выстроившиеся друг перед другом в ожидании сигнала к атаке. Пролог медленно шел по траве. На генеральной репетиции его шаги означали начало роли Паулины, но теперь она вдруг решила подождать, так что Пролог невольно стал провозвестником тишины. Паулина остро почувствовала связь тишины и слов, которые должны будут ее нарушить.
Здесь обязательно нужна была пауза. Слова, которыми она так долго восхищалась, не утратили для нее ни красоты, ни силы, но теперь к ним прибавилось новое — гармония движения и речи просто не могла существовать без пауз, а дальше — вот так, нога к ноге, слово к слову, строка к строке… Она всегда читала стихи на фоне тишины внешней, и только теперь поняла, как необходима тишина внутренняя. Ей открылось пространство беззвучия, которое всякое великое искусство создает вокруг себя. В песне Сына Дровосека жила тишина леса. Еще сегодня утром Паулина услышала ее, глядя в лицо мертвой Маргарет, и теперь тишина снова пришла на призыв трубы и мягко обняла девушку. Тишина заполнила мир, объединив разные его грани, тишина открыла свое истинное лицо изначальной сущности, звучащей меж всеми словами, в каждом дыхании, ибо все исходит из нее и все к ней возвращается.
Повинуясь ритму тишины, Паулина вышла на подмостки, вошла в пространство пьесы и повела свою роль. Она сама стала ролью, теория обмена любовью обнаружилась и здесь. Слова принадлежали Стенхоупу, но жизнью своей они обязаны ей и остальным актерам. В священном миропорядке поэт и автор занимал более высокую иерархическую ступеньку, и все же сейчас они были равны. Спасение невозможно без отказа от себя, без жертвы. Паулина играла, но игра стала реальностью, потому что тишина взяла над ней верх.
Солнце над Холмом словно удвоило сияние, но воздух оставался свеж.
В перерыве Паулина удивилась, услышав как Миртл Фокс жалуется на жару.
— Это совершенно невыносимо, — говорила мисс Фокс, — и эти мерзкие деревья!.. Почему мистер Стенхоуп не приказал их спилить? Я все-таки думаю, что духу нужен воздух, а ты? Я бы умерла в джунглях, а это же джунгли и есть.
— Я думала, — сказала Паулина беззлобно, — что тебе в джунглях будет уютно.
— Знаешь, есть такое понятие, как чрезмерный уют, — встряла Адела. — Паулина, можно тебя на минуточку?
Паулина позволила себя увести.
— Слушай, ты ведь на дружеской ноге со Стенхоупом, не так ли? — начала Адела.
— Да, — сказала Паулина и сама себе удивилась. Она, вообще-то, собиралась сказать что-нибудь вроде: «О, не очень» или: «А ты разве нет?», или какую-нибудь другую подобную глупость: «Ну, не знаю, можно ли это назвать дружеской ногой». Но ее поразило само это странное словосочетание — «дружеская нога», поэтому она сказала «да» и стала ждать продолжения.
— О! — Аделу ответ тоже удивил. Она справилась с собой и продолжила: — Я думала об этой пьесе. Мы столько с ней возились — я, и миссис Парри, и другие… — Она запнулась.
— Миртл вчера сказала, — вспомнила Паулина, — что она воспринимает пьесу как свою собственную.
— Ну да, — скривилась Адела. Видимо, она не собиралась принимать Миртл в акционерную компанию собственников пьесы. Жара действовала и на нее, — обычно принцессам не свойственен такой интенсивно розовый цвет лица.
Разговор как-то провис, едва начавшись. Адела сглотнула и все-таки решилась продолжить его. У нее не шло из головы, с каким почтением некоторые гости раскланивались сегодня со Стенхоупом. Врожденный эгоизм требовал принять участие в этом празднике жизни. Она сказала:
— Ты не могла бы его кое о чем попросить?
— Ну, наверное… если это прилично, — ответила Паулина, раздумывая, где в этом новом мире, открывшемся ей сегодня, лежат границы приличия, если они там есть, конечно. Наверное, Питер нашел бы место для миллиона-другого вселенных и внутри этих границ.
— Дело вот в чем, — казалось, Адела обрела почву под ногами. — Я всегда думала, что это замечательная пьеса.
Сияющая Паулина с ночной дороги кивнула своему здешнему Я: «Еще бы она так не думала!»
— Ну вот, — голос Аделы набирал обороты, — а поскольку все мы были в ней заняты, я подумала, как было бы здорово оставить ее за собой — я имею в виду, если он нам позволит. — Ей очень не хотелось просить Паулину об одолжении, она терпеть не могла одалживаться. К тому же кожа у нее чесалась от жары, это отвлекало, но она продолжала стоять на своем. — Я же не ради себя прошу. Я же ради общего дела…
— Адела! — поторопила ее Паулина. — Ты можешь просто сказать, чего ты хочешь?
Адела была не слишком искушена в казуистике Гоморры. Она верила — с трудом, но верила, — что говорит правду, когда сказала:
— Я ничего не хочу, но думаю, что мистер Стенхоуп мог бы позволить нам участвовать в его лондонской постановке.
— Нам? — спросила Паулина.
— Ну, мне, — без колебаний ответила Адела. — Он же нам кое-чем обязан, так? Вот если бы, — заторопилась она, — удалось снять небольшой театрик… я думаю, что могла бы собрать денег…
— Наверное, — кивнула Паулина, — для пьесы Стенхоупа могла бы.
— Ну, в общем, я думаю, ты могла бы замолвить словечко — или, по крайней мере, поддержать меня, — продолжала Адела. — Ты ведь понимаешь, что в этом нет ничего личного? — Она выжидательно умолкла, и Паулина вновь дала возникнуть живой тишине.
Ничего личного в желании сделать карьеру? Ничего неестественного — это понятно; возможно, ничего неуместного, но вот «ничего личного»? Ничего общего — это вернее. Никаких гармоничных пауз, никаких деревьев, никаких ритмичных поэтических волн, никакого самопожертвования…
— Адела, скажи, что это нужно именно тебе, что это ради себя, и я постараюсь поговорить с ним, — сказала Паулина.
Адела с трудом сдержала удар.
— Нет, не так. Просто мы будем ему так же полезны, как и он нам.
— Предлагаешь взаимовыгодную сделку? — поинтересовалась Паулина. — Смотри, тебя уже ждут. Я поговорю… завтра.
Когда Адела, ковырявшая землю носком туфли, подняла глаза, Паулины уже не было рядом, и куда она делась — непонятно. «Это все жара», — решила Адела. То-то ей трудно было следить за зрителями со сцены… Они появлялись и исчезали, как будто раскрывались разные пространства. Она кого-то видела в глубине, затем пространство закрывалось и открывалось снова, но там оказывался кто-то другой. Она чувствовала раздражение. К счастью, оставалось всего одно действие, и на сцене сохранялся порядок, во всяком случае, актеры находились там, где им положено. Она поспешила на место и поняла, что рада там находиться. Рядом слонялся Герцог. Он пристально посмотрел на нее и глубокомысленно изрек:
— Неважно выглядишь…
— Это от жары, — машинально ответила Адела.
— Не такая уж и жара, — ответил Хью. — По-моему, прекрасный день. Возможно, где-то погромыхивает.
Адела едва не скрипнула зубами. Вот еще этой невозмутимости Хью ей не хватало! В нем было что-то от миссис Парри.
— Немножко чуткости тебе не помешало бы.
— Я всегда чуток к тебе, дорогая, — проникновенно сказал Хью. — Ты устала.
— Слушай, Хью, в Судный день ты мне тоже скажешь, что я устала? — воскликнула Адела. — Говорю тебе, это жара!
— Ну, хорошо, — сдался Хью, — ты устала из-за жары.
— Вовсе я не устала! — в ярости взорвалась Адела. — Мне жарко, меня тошнит от этой пьесы и у меня болит голова. Это так раздражает, когда тебя постоянно не понимают. В конце концов, пьеса во многом все-таки зависит от меня и всего того, что мне приходится делать, и когда я прошу о небольшом участии…
Хью взял ее за руку.
— Помолчи, — сказал он.
— Хью… — она в изумлении уставилась на него, но он не дал ей продолжить.
— Помолчи, — повторил он. — Ты лезешь из кожи вон, девочка моя, ты и твое участие. Мы поговорим, когда все закончится. Ты — лучшая актриса в пьесе, и совершенно сногсшибательна в этом платье, и можно много чего еще сказать, я потом это скажу обязательно. Но сейчас пора начинать, так что иди и делай то, что должна.
У Аделы осталось ощущение, что ее просто вытолкали вон. В их отношениях и раньше хватало пикировки и скрытой борьбы за лидерство, но сейчас в голосе Хью ей послышалось что-то новое. Эти властные интонации!.. Адела разозлилась еще больше, забыв и жару, и Паулину, и Стенхоупа. Нет, с этим надо разобраться, и лучше — в самое ближайшее время! Она никому не позволит командовать ею. В первый момент она просто растерялась, но потом в голове у нее словно что-то щелкнуло. «Я должна с ним справиться, — подумала она, — и я могу с ним справиться». Если она собирается замуж за Хью — а она думала, что собирается, — придется либо сдаться, либо сделать вид, что сдалась. Ладно. Она уступит, а там — поглядим! Адела и мысли не допускала, что на свете может быть такая сила, которой ей, Ад еле Хант, возможно, придется подчиниться. Даже миссис Парри не удавалось навязывать ей свое мнение. Адела всегда отличалась неуступчивым характером, она точно знала, что она права, а мир — нет. И она собиралась справиться с миром… со Стенхоупом, с миссис Парри, а уж с Хью и подавно. Они ждут от нее, что она либо заартачится, либо подчинится, либо начнет искать компромисс, а вот и нет! Они просто не поймут, как и что она будет делать. Ишь ты! «Скажи, что это ради тебя… Да не ради меня, а для блага других! Ну, и для моего тоже». Разве она виновата, что они сами не понимают собственного блага? Она же Принцесса, ну вот она с ними и справится: и с Сыном Дровосека, и с этим Хором… ладно, пусть он будет Хором Листьев, если им так хочется. А ее дело — проследить, чтобы эти самые листья правильно падали. Хитрость лучше истины, ибо хитрость и есть единственная истина. Вот… последнее действие… надо играть… От жары трескается земля, голова, сам воздух. Ладно. Вперед, на сцену! А завтра Паулина поговорит со Стенхоупом, никуда она не денется!
Паулина смотрела, как Принцесса идет по сцене. Теперь ход спектакля уже не зависел от нее. В какой-то момент ей было очень важно ощутить свое родство с сюжетом, полную включенность в него, но сейчас можно смотреть со стороны. Это ощущение вернется, когда в нем возникнет нужда. Теперь так будет всегда. Она испытала родство со своим дальним предком, потом с тем прохожим, что спрашивал у нее дорогу на Лондон, с бабушкой — все они жили в тишине, сгорающей на огне любви. Сама тишина была огнем. Тишина вырвалась из огня в танце, пламя метнулось вверх, и листья занялись пламенем. Теперь все актеры стремились к концу пьесы, а конец стремился к земле, а земля стремилась к нему навстречу. Слова стали жизнью тишины, и хотя они звучали в ней, они нарушали ее не больше, чем бесконечные частицы творения нарушают вечное созерцание Господа. Тишина царила в мире, она все подчинила своей воле: пламя и листья, живых и мертвых, актеров и зрителей. На сцене заканчивался последний танцевальный этюд: вот актеры разошлись, сошлись снова — на скольких же репетициях они это делали — и опять сошлись! «Ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди…»[40] Отзвучали слова Герцога, и огромная сцена опустела. Внезапно опять взревела труба, а затем зазвучал одинокий голос.
Паулина стояла в сторонке и слушала, как Поэт говорит с миром. Питер Стенхоуп, как и обещал, вышел к зрителям в эпилоге.
Случилась только одна небольшая накладка. При первых звуках голоса Стенхоупа миссис Сэммайл сползла с кресла и упала ничком. Весь вечер она была чрезвычайно оживлена, даже мешала немного своим ближайшим соседям, шепотом восхищаясь происходящим на сцене. Когда разразился гром аплодисментов, она сделала попытку присоединиться к ним. Но, казалось, руки ей не повинуются. Выход Стенхоупа был встречен еще более дружными аплодисментами, чем финал пьесы, и вот здесь-то миссис Сэммайл и упала в обморок.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ МОГИЛЫ ОТВЕРЗЛИСЬ
Какие бы значительные события ни потрясали чувства Паулины, казалось, в мире это ничего не меняет. Все шло своим чередом. Как раз во время спектакля из Лондона прибыл ее дядя. Сначала он выслушал объяснения горничной по поводу отсутствия племянницы, потом и саму племянницу. В результате Паулина вспомнила, что всегда недолюбливала дядю.
Маргарет Анструзер похоронили через день под звуки той самой апостольской трубы, которой суждено воззвать мертвых из могил и дать сигнал сотворению небесных тел на Земле.
«Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе».[41] «Будьте тверды, непоколебимы… труд ваш не тщетен пред Господом».[42] Для Паулины слова заупокойной службы наполнялись новым смыслом: это были уже не обещания, а факты. Она пока не осмеливалась примерять слова Писания на себя и лишь скромно надеялась, что, возможно, доведись ей узнать побольше о высших законах, когда-нибудь это будет относиться и к ней. Духовный опыт, хотя и небольшой пока, потихоньку делал свое дело. Больше других фрагментов службы ее поразили слова: «Для чего и крестятся для мертвых?»[43] Здесь укорененная в сердце Церкви при самом ее появлении содержалась та же самая идея самопожертвования. Несите за других, креститесь за других; но рядом с этим великим открытием в новом видении мира для Паулины высилась еще одна горная вершина — жгучая тайна второго рождения смотрела на нее со всех сторон, как глазастые и крылатые колеса пророка.[44] Главная тайна христианства, тайна преображения, на разгадку которой было потрачено столько сил, оказалась не чудом, а сутью вселенского закона… «говорю вам тайну»,[45] такой же сверхъестественной, как сама Жертва, такой же естественной, как взятие на себя бремени ближнего. Паулина безотчетно напрягла руки, словно собираясь поднять тяжесть.
Сразу после похорон дядя погнал события вскачь. Настал момент, которого он давно ждал: мать умерла. Пора приводить все в порядок. Дом — продать, большую часть мебели тоже. Паулина будет жить в Лондоне, в пансионе, который он для нее подыщет, и работать в лондонской конторе, которую он уже почти подыскал. Достойно сожаления, что последние годы она потратила практически впустую. Вместо того чтобы играть в разных пьесках, могла бы выучить, например, немецкий или испанский, пока сидела тут с Маргарет. Вообще, надо быть поживее, попроворнее, жизнь теперь такая… Паулина не стала напоминать ему, что в последние годы он требовал от нее как раз обратного — не живости и проворства, а покорности и заботливости. Вместо этого она пообещала прислушаться к его советам. Что же до пропитания, дядя считал, что ей нужно немного и на хлеб она заработать сможет. Он тут же выдал сентенцию: женщина не может жить на одном хлебе, в любом случае работа — это хорошее дело, он не хочет, чтобы его племянница тратила время и силы попусту. Паулина вспомнила, что Стенхоуп сказал то же самое совсем иначе, и согласилась. Дядя, раздав кучу поручений, умчался в Лондон, оставив Паулину с горничной сторожить дом до тех пор, пока не подыщется новый хозяин. Жена его на прощание заверила Паулину, что «…Бедная девочка! Ты как-нибудь все это переживешь!»
Паулина мысленно пожала плечами. Что, собственно, она должна переживать? Ее детские и юношеские кошмары кончились. То, что с ней происходило все эти годы, казалось теперь сном. Во снах мы часто ищем место или людей, еще не зная смысла этого поиска. Во снах она играла в прятки сама с собой в лабиринте дорог Холма Битв. Образы людей, населявших эти сны, часто были окрашены ненавистью — не к ней или кому-то определенному, они просто ненавидели. Их ненависть отличалась от обычной земной злобы, всегда направленной на что-то конкретное. То была ненависть мужчин и женщин, потерявших человечность из-за того, что любили они только самих себя. Паулина долго бродила среди них, боясь, как бы ее не заметили. Она искала саму себя, а предмет ее поисков все прятался среди домов, ускользал, ожидая, когда поиски наконец изменят ее. Сон был долгим. Тень Паулины бродила по высоким пустым комнатам, среди которых была одна, вся в зеркалах, в которых жили удивительно самостоятельные отражения. Они поджидали момент, когда тень Паулины войдет, выплывали из своих мерцающих убежищ и увлекали за собой, кружа в бессмысленном хороводе до полного растворения среди них.
Именно от них она хотела спасти несчастного беглеца в последнем таком сне после приключений на ночной дороге. Паулина помнила, как бежала и никак не могла догнать кого-то в бесконечных залах и коридорах, пока в последнем, самом длинном коридоре, не услышала звука трубы, а дальше… дальше она проснулась. Кажется, сон прервал чей-то голос… может быть, голос сиделки, позвавшей ее в то утро, когда умерла бабушка. Наверное…
В заботах этих дней, в постепенных приготовлениях к отъезду и упражнениях в науках, которые должны были сделать ее более пригодной для какой бы то ни было работы, обещанной дядей, она ждала. Ожидание было окрашено памятью о своем сияющем двойнике и о том, что они так и остались разделенными.
Этим летом на Холме многие чувствовали себя неважно. С тех пор как миссис Сэммайл во время спектакля упала в обморок, ее больше не видели. Тогда кто-то предложил подвезти ее домой на машине, но она отказалась.
Миртл Фокс, хотя и доиграла пьесу, ушла домой в слезах и с тех пор слегла. У нее началась бессонница, сменившаяся нервным расстройством. Вызвали врача, но он не смог помочь. Она перепробовала кучу лекарств, но ни одно не принесло пользы. Иногда она задремывала ненадолго, но тут же просыпалась и опять плакала. «Это все от возбуждения», — поставила диагноз ее мать, а соседи начали поговаривать, что виной всему пьеса Стенхоупа.
Лоуренс Уэнтворт отсиживался дома, даже слуги видели его нечасто. Шторы в его кабинете никогда не открывались. «Это не по-людски», — говорила его горничная соседской горничной.
Некоторые актеры и зрители подхватили то, что обычно называли местной эпидемией гриппа. Жаркое солнце, холодные ветра, нервы или инфекция были тому виной, но здоровье обитателей Холма расстроилось.
Впрочем, не у всех. Адела и Хью составляли исключение. Хью не изменяла всегдашняя энергичность. Адела, хотя и страдала от жары, летних гроз и подавленного настроения, стоически переносила свои недомогания на ногах. К ее сожалению, Паулина не смогла сдержать обещание и поговорить со Стенхоупом — тот куда-то уехал сразу после спектакля. Паулина без энтузиазма обещала Аделе поговорить с ним при первой возможности.
— Пойми, — говорила Паулина, — я ведь не могу выбить из него обещание палкой. Если, как ты говоришь, это важно для всех, ну и поговорила бы сама. Другое дело, если ты для себя стараешься, тогда, конечно, неудобно…
— Я же тебе сказала: я обо всех вас думаю! — раздраженно выкрикнула Адела и ушла.
Укрощение Хью тоже пришлось отложить. Этот увалень так и не сделал ей формального предложения, а без него вступать в бой было затруднительно. Чтобы не спугнуть добычу, Аделе приходилось держаться в более жестких рамках, чем она привыкла.
Однажды вечером, дня через два-три после похорон Маргарет Анструзер, они гуляли по Холму. Возвращаясь, они случайно выбрали дорогу, идущую мимо ворот кладбища. Покосившись на ворота, Хью лениво сказал:
— Паулина, наверное, уедет. Бабушка умерла, что ей здесь делать…
Адела как-то не думала об этом.
— Может, и останется. Переедет в дом поменьше или еще куда-нибудь. По-моему, она не собиралась уезжать.
— Ты не ходила на похороны, дорогая? — спросил Хью.
— Конечно, нет, — ответила Адела. — Терпеть не могу расстраиваться. — Как бы в доказательство она задержалась, заглядывая в ворота. — Их здесь так много, — добавила она.
— Да, как ни закрывай глаза, а не заметить их трудновато.
— Я вообще ни на что не закрываю глаза, — почти огрызнулась Адела. — Слава богу, мы теперь избавились от всех этих церковных обманов. Главное — правда, все остальное не так важно. Если человек умер, значит, он умер, вот и всё.
— А что всё-то? — неожиданно спросил Хью. — Я, например, не знаю. Смерть — это, конечно, факт, но непонятный же. А насчет загробной жизни… знаешь, это для тех, кто помечтать любит.
— Я тоже терпеть не могу этих разговоров, — сказала Адела. — Правда, иногда думаешь: хорошо бы что-нибудь случилось… ну, такое, необычное…
— Я, когда думаю, четко устанавливаю себе пределы, — сказал Хью, обнимая ее за плечи. — Допустим, отсюда и до твоего дома я буду думать, что хорошо бы случилось что-нибудь этакое необычное, похожее на пятьдесят тысяч фунтов в год. И так я думаю до твоего дома, а потом перестаю это делать.
— Что, совсем перестаешь? — недоверчиво спросила Адела.
— Ну, зачем же — совсем? Нет, дальше я сосредоточиваюсь на мысли, что хорошо бы к тем пятидесяти прибавить еще столько же. Заметь, никаких фантазий о несметных сокровищах! Люблю определенность.
Адела покачала головой.
— Я тоже мечтаю о вполне конкретных вещах, — сказала она. — Только мне кажется, что я эти вещи вижу в несколько ином свете. Они и настоящие, и не совсем. Ну, как искусство…
Едва прозвучало слово «искусство», как голос совсем рядом произнес:
— Позвольте мне вас переубедить, мисс Хант.
Адела подпрыгнула от неожиданности, оглянулась и увидела Лили Сэммайл.
Вплотную к этой части кладбищенской ограды стоял сарайчик высотой не более человеческого роста. Вход в него закрывала грубо сколоченная покосившаяся дверь. Постройка выглядела старой, если не сказать древней. Бессчетные зимы и ветра оставили на ее стенах многочисленные следы. В таких пристройках обычно хранят садовые инструменты.
Возле двери сарайчика стояла Лили Сэммайл. Она тронула Аделу за руку, и девушке показалось, что по коже провели наждаком. Голос был под стать рукам — такой же шершавый. Адела отдернула руку и прижалась к Хью.
Некоторое время все трое смотрели друг на друга. Молодые люди не сразу заметили удивительно неряшливую одежду, растрепанные пепельные волосы и почти такие же пепельные щеки.
— Все приходит и уходит. То, чего вы хотите — прах!
— Да ну, миссис Сэммайл! Зачем нам прах? Мы оба хотим гораздо большего, — непринужденно сказал Хью.
— Вы-то — может быть, а вот она — нет. Я могла бы помочь вам выучить свою роль…
Они не разобрали следующее слово, настолько глухим голосом оно было произнесено, но Адела отпрянула и тихонько пискнула: «Хью!»
Хью твердо, хотя уже и не столь непринужденно, как прежде, сказал:
— Вы нас извините, но нам пора идти. Пойдем, дорогая.
Неожиданно Лили Сэммайл заплакала. Слезы катились по ее лицу, оставляя бороздки на сером фоне, как будто текли поверх сажи. Она жалобно проговорила:
— О, вы захотите иметь, да, еще захотите…
Миссис Сэммайл неожиданно замолчала, прислушиваясь. Глаза ее широко раскрылись, щеки еще глубже запали словно от напряжения. Хотя напрягаться не было нужды. Теперь и Хью с Аделой слышали громкий шорох, сухой шелест. Он доносился из-за спины Лили Сэммайл, из-за кладбищенской ограды. Все трое посмотрели туда, откуда шел звук. Земля на могилах шевелилась!
Справедливости ради надо сказать, что большинство могил вели себя вполне пристойно. Их обитатели ушли далеко за грань любых призывов или желаний. Вообще кладбище было не особенно большим, ведь и сам поселок на Холме отстроился сравнительно недавно. Аккуратные ряды надгробий располагались в основном по бокам главной аллеи, самым дальним был холмик Маргарет Анструзер. Он тоже был спокоен: дух его обитательницы и не помышлял о возвращении.
Первыми пришли в движение могилы постарше. Земля на них начала вспучиваться, как будто искажалось само пространство. Холмики что-то распирало изнутри, они начинали раскачиваться, вздымались вверх и опадали фонтанами заплесневевшей почвы, осыпавшей зеленую траву. За оградой не ощущалось ни малейшей дрожи, и от этого происходящее выглядело еще более нереальным. Поначалу в земле образовались всего три-четыре темные щели, и позади каждой поднимался широкий шлейф пыли. Но этим события не ограничились. Земля толчками выпирала из отверстых могил, словно кровь из разорванной аорты. Иногда она зависала в воздухе небольшими облачками, которые должны были бы оседать обратно, но почему-то оставались висеть в воздухе, медленно дрейфуя в сторону соседних захоронений. Их поведение явно противоречило закону всемирного тяготения. Похоже, законы материального мира решили оставить на время это прибежище мертвых и уступили место иным законам. Земля продолжала выплескиваться фонтанами, бившими снизу вверх; на небольшой высоте верхушки фонтанов начинали сильно раскачиваться, теряя часть массы, опадавшей в разверстую щель, а вслед за тем из могилы выплескивался новый фонтан. Шуршание комьев земли было единственным звуком, нарушавшим тишину.
За оградой тишину вообще ничто не нарушало. Лили Сэммайл, забыв повернуть тщедушное тело, так и стояла с вывернутой шеей, держась за решетку ограды. Рядом недвижными изваяниями застыли Адела и Хью. То, что видели их глаза, было настолько невероятным, что они совсем не думали о мертвых. Если бы из земли полезли привидения или ожившие скелеты, это было бы ужасно, но все-таки кое-как понятно, а то, что разворачивалось сейчас перед ними, было форменным безумием. Наконец нервы людей не выдержали. Неизвестно, что помстилось Аделе, но она истошно завопила, тут же поддержанная тонким визгом другой женщины. В этих звуках было мало человеческого: словно пронзительно закричал ветер, испытавший безмерное горе.
Крик пронесся по Холму растущим предвестием надвигающейся беды. Миртл Фокс услышала его в своей долгой бессонной ночи, и ей опять стало нехорошо. Паулина услышала его и сильнее ощутила покой, с некоторых пор поселившийся в ее сердце. Стенхоуп услышал его и застыл в молитвенном сосредоточении. Прежде чем звук замер в воздухе Холма, Лили Сэммайл с воплем «Отверзлись!»[46] отпрянула от ворот, бросилась к темному сарайчику и исчезла внутри, а кривая дверь захлопнулась за ней.
Аделу словно подбросило в воздух. Еще раз коротко вскрикнув, она бросилась бежать вверх по дороге, да так быстро, что Хью, погнавшийся за ней, сразу безнадежно отстал. Он бежал и кричал ей вслед:
— Адела, подожди! Это пустяки. Земля рыхлая, ветер дует. Остановись! — но она и ухом не повела. Еще некоторое время он бежал, однако вскоре его посетила мысль о собственном недостойном поведении. В первый момент он, понятно, тоже был поражен увиденным, но стоило ему начать двигаться, на смену удивлению пришла злость от того, в какую нелепую ситуацию он угодил. Чертыхнувшись в адрес старой дуры Лили Сэммайл, он едва не выругался и вслед Аделе. Ну что она, как ребенок, в самом деле! А вдруг ее кто-нибудь увидит! Конечно, надо бы догнать ее, но вместо этого, свернув на очередную улицу, он и вовсе остановился. «Это же смешно! — сердито подумал он. — Земля была рыхлая, дул ветер». Сознание Хью было свободно от страха, так же как сознание Паулины освободилось от ужаса перед двойником, но разница между Хью и Паулиной была огромной: в ее сознании неразделимо слились любовь и радость, а его сознание оставалось прагматичным и сухим, как дорожная пыль.
Адела бежала. Вскоре она слишком запыхалась и уже не могла кричать. Она не знала, куда бежит, просто бежала и все. Она слышала за собой голос: «Земля рыхлая, дует ветер» и бежала еще быстрее. Она все еще чувствовала прикосновение шершавой руки, голос все звучал ей вслед: «Земля рыхлая, дует ветер». Она бежала в паническом бессмысленном ужасе, рот широко разинут, пухлые руки судорожно дергаются, в глазах застыл ужас. Больше всего она хотела сейчас оказаться в каком-нибудь безопасном месте и с тем, кого она знала. Хью куда-то исчез. Она бежала по Холму и сквозь пелену слез и страха лишь по наитию узнала дом Лоуренса Уэнтворта. Она ворвалась в калитку: здесь жил тот, кто поможет ей. Она хотела, чтобы ее утешили, успокоили, отогнали страх. В кабинете горел свет. Она ринулась к дому, добежала до окна и забарабанила по стеклу. Она стучала до тех пор, пока Уэнтворт наконец не услышал, с неохотой оторвался от своих занятий, медленно прошел по комнате и отодвинул штору.
Они уставились друг на друга сквозь стекло. Уэнтворту понадобилось не меньше минуты, чтобы узнать перекошенное и замурзанное лицо перед собой, а когда он его узнал, то попытался задвинуть штору и уйти. Она поняла и ударила по стеклу так яростно, что он испугался, как бы в доме не услышали, и медленно с неохотой поднял раму. Адела тут же навалилась на подоконник и прорыдала:
— Лоуренс, Лоуренс, там… там что-то такое…
Он продолжал стоять, глядя на нее с растущим недовольством. Адела попыталась поймать его руку, он ее отдернул. Она заглянула ему в глаза и поняла: здесь нет для нее спасения. Даже Гоморра была закрыта для нее.
Она стояла на открытой равнине, на ветру. Было холодно и страшно, она буквально билась о стену.
— Лоуренс, помогите мне, — всхлипнула она.
— Я вас не знаю, — холодно произнес он, и она поражение отшатнулась.
— Лоуренс, это я, я, Адела! Вы меня знаете, конечно же, знаете. Там творится что-то ужасное, и я пришла к вам.
— Я не желаю вас знать. Уходите, вы меня беспокоите, — вяло сказал он и взялся за раму, собираясь закрыть окно.
Адела подалась вперед, снова пытаясь заглянуть ему в глаза, но встретила лишь тупой равнодушный взгляд. Он просто ждал, когда его оставят в покое. Адела лихорадочно обшарила глазами комнату, она хотела понять, почему ее прогоняют. В глубине, за светом настольной лампы она заметила неясную фигуру. Там сидела женщина. Вот она слегка повернула голову, вот чуть наклонилась и оказалась в конусе яркого света. Немыслимо, но Адела увидела и узнала саму себя! Нет, не совсем. Женщина в комнате была лучше, совершеннее Аделы, даже легкое движение выдавало чувственную грацию, но на ее лице нельзя было разглядеть ни малейшего выражения. Пустое и абсолютно бездуховное, оно безучастно уставилось на нее. Но никакого сомнения не оставалось — это была еще одна она. От страха Аделу тошнило, голова кружилась, а двойник в комнате и слова Уэнтворта окончательно ее добили. Окно закрылось, штора скрыла от нее жуткое существо, и прямо возле стен Гоморры Адела упала в обморок.
Уэнтворт заметил, как Адела сползла по стене дома, и забеспокоился. Медленно повернув голову, он заметил тревожный блеск глаз своей возлюбленной — она разделяла его беспокойство. Надо было что-то предпринимать. Пришлось выйти, приподнять бесчувственное тело, вытащить за калитку и оставить чуть дальше по дороге. Он еще постоял над ней с минуту, пытаясь понять, не очнулась ли она, пока он возился, но девушка лежала неподвижно, как-то неестественно вытянувшись. Уэнтворт раздраженно пожал плечами и вернулся в дом.
Все дело заняло не больше двух-трех минут, но за это время он словно еще дальше соскользнул по веревке в своем сне; и в дом вернулся уже не совсем тот человек, который из него выходил. Он сел, тотчас к нему подобрались, взяли за руки и принялись ласкать. Снисходительно принимая ласки существа, он впервые осознал, что совершенно ее не хочет. Нет, он хотел ее не меньше, чем долгое время хотел настоящую Аделу. Он хотел желать ее, не хотел, чтобы она уходила, но сейчас что-то было не так. Даже она предала его, ее ласки доходили до него из внешнего мира. Вроде бы, все было как всегда — его малейшие желания не оставались без внимания. Существо сидело рядом, щурясь на огонь. В этом году в его комнате, плотно занавешенной от солнца, было холодно, последние несколько дней у него всегда горел огонь, что не могло не удивлять слуг.
Он не думал ни о чем, кроме своего желания, он боялся позволить ей уйти: если она уйдет, он сразу съедет по веревке к самому низу. Пока ее длины хватает, но ведь где-то у этой темной дыры есть и дно. Он смутно это понимал и не хотел опускаться ниже. Но и останавливаться не хотел. Остановиться — значит, остаться среди других предметов и образов, он не хотел и этого. Он растерянно огляделся. Подумал о девушке, лежащей на дороге, но не мог ради этого отпустить веревку, не стал бы отпускать, даже если бы захотел, а он и не хотел к тому же. Нет, что-то еще… что-то, связанное с его работой, со Стражей Герцога. Какого, к черту, Герцога?!
Ненастоящая Адела рядом с ним низким запинающимся голосом проговорила:
— К-какой Г-герцог, дорогой? К-какая р-работа? — Было такое ощущение, что смятение его ума передается и ей.
Стража Герцога — это такой белый квадратик — напечатанная бумага — да, приглашение… какая-то встреча. Теперь он вспомнил. Ежегодный обед небольшого исторического общества, в котором состоял он и немногие другие. Он вспомнил, что ждал этого с нетерпением, вспомнил, что это должно доставить ему удовольствие, хотя несколько минут не мог вспомнить, кто еще туда придет. Но дальше этого не пошло. Он слишком устал — таскание бесчувственных тел утомило его куда больше, чем можно было предположить. «Надо было завернуть ее в форму Стражи Герцога…» — это была последняя осознанная мысль, пока он раскачивался на своей веревке. Дальше все пошло по накатанному — оба зашевелились, поворчали привычно и пошли в постель.
Некоторое время спустя бесчувственную Аделу нашел молодой полицейский, обходивший свой участок. Конечно, никому и в голову не пришло, что мистер Уэнтворт может иметь к этому какое-либо отношение.
Из бумаг в сумочке, бывшей при теле, полицейский узнал имя, известил родных Аделы. Вскоре она была уже дома, но в сознание так и не пришла. Очнулась Адела только утром. Поначалу пульс и температура были нормальными, но только до тех пор, пока она не вспомнила о вчерашних событиях. Разверзающиеся могилы… Хью бежит за ней, гонит ее к дому… безучастное лицо… и еще что-то страшное в глубине комнаты… Адела закричала и ее стошнило.
Мать позвонила Хью. Состоялся весьма нервный разговор. Миссис Хант сказала, что доверила Аделу попечению Хью и доверяла ему. Хью ответил, что Аделе захотелось побыть одной. Принимая во внимание скорость, с которой она неслась вчера, это было почти правдой. Миссис Хант сказала, что Адела практически на смертном одре. Хью ответил, что ей наверняка хватит ума не поднимать шума. Миссис Хант сказала, что настаивает на встрече с ним: сама Адела не в состоянии никого принимать. Хью ответил, что будет иметь удовольствие как-нибудь занести цветы. Он понимал, что ведет себя жестоко, но не хотел показывать, что взволнован и обеспокоен. Да, он не побежал за ней, но, в конце концов, пришел к ее дому как раз вовремя, чтобы застать суматоху, сопровождавшую ее возвращение. Он бы, конечно, постарался что-нибудь объяснить сразу, но у них с миссис Хант сложились очень натянутые отношения. Хью терпеть не мог сцен, тем более, в два часа ночи, обычно в это время его ровная страсть к Аделе шла на убыль. Поэтому он пошел домой и дал волю раздражению.
И все же действовать надо по ситуации: сегодня вечером хорошо бы принести цветы и повидать Аделу. Хью не любил оставлять дела недоделанными, долгов тоже не терпел, по крайней мере, внешних. О внутренних долгах он как-то не задумывался.
В своих кошмарах Адела почему-то убегала именно от Хью. Она вновь и вновь стремительно бежала от него к Уэнтворту, к ужасному лицу в комнате, но как только она приближалась к дому, все обрывалось и начиналось сначала. На бегу она бормотала отрывки из своей роли, которую никак не могла выучить… там у Стенхоупа какая-то ерунда насчет любви и ее восприятия… все как-то запутано… Иногда рядом с ней бежала миссис Парри, а иногда миссис Сэммайл, по крайней мере, голова была миссис Сэммайл, а тело — Питера Стенхоупа, и на бегу оно говорило: «То, что ты хочешь, есть восприятие во вспышке любви, то, что ты любишь, есть вспышка в недостатке восприятия, то, что вспыхивает, есть недостаток в восприятии любви, то, что ты хочешь, есть то, что ты хочешь», и так все время. Иногда в беспорядочном сне возникали другие знакомые люди. Не менялось только одно: она бежала. Однажды рядом оказалась Паулина. Адела вцепилась в ее руку, и бег сразу замедлился, словно в кошмаре образовался островок стабильности. «Паулина!» — отчаянно пискнула Адела.
Паулина сидела у постели Аделы уже давно. Она пришла сразу же, как только услышала, что Адела больна. Когда Адела судорожно схватила ее за руку и шевельнула губами, Паулина наклонилась к ней и участливо спросила:
— Да, дорогая?
Ее голос придал ценность последнему слову: он зазвенел в воздухе кошмарного сна волной понятного звука.
Адела наконец остановилась. Едва слышно она прошептала:
— Ты мне поможешь?
— Конечно, — сказала Паулина, довольно уныло вспомнив о так и не выполненной просьбе Аделы поговорить со Стенхоупом. — Что я должна сделать?
— Я хочу остановиться. Хочу выучить свою роль, — прерывисто дыша, проговорила Адела.
— Но ты знаешь свою роль, — ответила Паулина. — Ты ее прекрасно знаешь и ты сыграла ее пре… ну, в общем, ты ее сыграла.
— Нет, нет, я должна найти ее, она обещала мне это дать, — сказала Адела.
— Кто «она»? — спросила Паулина.
— Лили, эта… Сэммайл или как ее там, — вскрикнула Адела. — Там, в сарайчике, у кладбища…
Паулина нахмурилась. Она очень хорошо помнила Лили Сэммайл и понимала, что это была не просто старушка у калитки или, если уж на то пошло, не просто древнее существо возле очень большой калитки, куда входят многие из тех, кто выбирает себя. И не калитка это вовсе, а врата Гоморры на Равнине, вход в мир иллюзий, за которым все иллюзии заканчивались, противоположность святому факту и антипод священной любви. Она наклонилась к несчастной и шепнула:
— Давай я побегу вместо тебя, Адела, а ты отдохни. Я бегаю быстрее тебя, — добавила она. — У меня ноги длиннее. А об этой… ты не думай. — Она не смогла выговорить имя. Не было никакого имени у демона, жившего в Гоморре, в сарайчике у кладбищенской стены, по крайней мере, до тех пор, пока не отверзлись могилы.
— Нет, нет, никто ничего не может сделать, — всхлипнула Адела. — Только она поможет мне вылечить голову. Она обещала дать мне… А ты ничего не сможешь сделать, ты не видела этого ужаса в доме.
— Но давай хотя бы попробуем, — попыталась уговорить ее Паулина. — Давай я пойду и выучу твою роль. — Она тут же поняла двусмысленность своего предложения. Имела-то она в виду роль в пьесе, а стоило сказать об этом, и слово «роль» наполнилось совсем другим смыслом. Прошлое Аделы, вся ее жизнь принадлежали только двоим — ей самой и Богу, если, конечно, Богу было место в жизни Аделы. Никто, кроме Бога, не смог бы сыграть ее роль. Только Он, ради Которого крестили мертвых, Тот, Кто Сам пожертвовал Собой и показал другим, как это сделать, только Он мог принять жертву за всех, упокоенных в склонах Холма, возрожденных жертвой. Звуки фанфар окружили Паулину — так звучали возрожденные души, но ближе всех сейчас звучала хриплая одинокая труба.
— Там… в сарайчике… — лихорадочно шептала Адела, — там я узнаю свою роль. Иди и спроси ее…
Она с горячечной надеждой схватила руку Паулины и тут же отбросила с отвращением. Паулина готова была устремиться к новой цели, но та же сила, которая породила эту готовность, тут же ее и уничтожила. Она вздрогнула, ее отбросило от ворот Гоморры, где престарелая Лилит искривляет дороги душ.
Адела, до сих пор лежавшая с закрытыми глазами, вдруг широко распахнула их и уставилась на Паулину. Мгновение они смотрели друг на друга, а потом Адела закричала:
— Уходи! Ты не сделаешь, а если сделаешь, будет только хуже. Ты — дьявол, ты не хочешь, чтобы я знала. Уходи, уходи!
— Адела, дорогая, — заговорила Паулина, не обращая внимания на отвращение в голосе больной, — это же я, Паулина. Ты поправляйся, пожалуйста, а я сделаю, что смогу.
— Не сделаешь, не сделаешь! — кричала Адела. — Ты только все испортишь. Ты мучаешь меня, ты из меня все кости выворачиваешь! Ненавижу тебя, ненавижу, уходи! — Она начала метаться.
Паулина услышала, как миссис Хант, привлеченная криками, торопливо спускается по лестнице. Она воскликнула, разрываясь от боли:
— Я уже иду, я тебе обещаю…
— Нет, — кричала Адела, закрывая глаза руками. — Ты о нас не думаешь, ты нас не любишь. Ты… ты и Хью хотите запихнуть меня в могилу с этим… с этой… которая там, в комнате, а это не я, не я!
Мать обняла ее за плечи, пытаясь успокоить. Глазами миссис Хант показала Паулине на дверь, и той ничего не оставалось, как выполнить этот безмолвный приказ.
Паулина вышла из дома и пошла по улице, пытаясь успокоиться. Нужно было понять, что теперь делать. С одной стороны, просьба Аделы. С другой стороны — хорошо ли это для Аделы? Но кто должен решать, что для Аделы хорошо, а что нет? Сама Адела? Или еще кто-то? Питер? Но она не станет просить Питера. А интересно, что он скажет, если она попросит? Тут же вспомнит Всевышнего…
Наткнувшись на это слово, она взвесила его и сразу почувствовала облегчение. Она сделает то, что хочет Адела, потому что это нужно Аделе; она сделает это во имя Всевышнего, в лесу, где поют листья. Кто бы там ни был, он тоже подвластен закону взаимопомощи.
Перед ней в солнечном свете высился Холм, а на его дальней стороне — место, откуда пришел ее двойник, теперь наконец ставший с ней одним целым. Там, откуда он пришел, вздымались горы безличности, и где-то там затерялась нужная ей точка. Она шла к тому, что должно быть сделано. Вверх и вверх, а потом опять немного вниз. Она смотрела в сторону Города, где ей предстояло вскоре оказаться.
Вдали над землей стелился дымок поезда, в нем ехали те, кто покидал Холм, убегал от него. Изменилось ли в мире что-нибудь с тех пор, как в душе Паулины поселилась непреходящая радость? Может, да, а может, нет. Для одних мир обновлялся ежеминутно, для других — нет, для одних он был спасен, для других — нет. И так всегда — да или нет. Ей тоже предстоит покинуть Холм, и это факт, а любой факт — это радость, никогда прежде в расставании не было такой радости. С этими мыслями Паулина и оказалась возле сарайчика у подножия Холма.
Она сотни раз видела его. Грубая дверь была, как всегда, притворена. Она посмотрела на нее. Значит, здесь жила Лили Сэммайл? «Я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства, если бы мне не снились дурные сны».[47] Не дурной ли сон — считать себя царем пространства, замкнувшимся в ореховой скорлупе? Неслышные мелодии — застывшие фигуры на греческой вазе? Наслаждаться скорлупой как скорлупой, вазой как вазой! Она постучала в дверь, изнутри не донеслось ни звука. Она постучала еще раз; стук ее словно сделал дерево тонким листом бумаги — с той стороны стало слышно учащенное дыхание. Больше она стучать не стала; положила руку на дверь и тихонько нажала.
Дверь распахнулась. Она заглянула внутрь. Открылся неожиданно темный, узкий, уходящий куда-то в бесконечность проход. Земляной пол наклонно уходил вниз. Посреди сарайчика прямо на земле сидела женщина. Она была не одна: вокруг нее собрались обитатели отверзшихся могил. Многие из них толпились возле двери — в узком проходе хватало места для многих. Они стояли там, глядя на свою няньку, и все они были голодны. Лица — те, что еще можно было назвать лицами — бледны от многолетнего голода. А еще на них отражалось бестолковое изумление, словно они не догадывались, что терзались от голода. Пища внезапно исчезла, Маргарет Анструзер ушла, и все они умерли. Когда горнее солнце ударило по бесконечным иллюзиям, по всем их прошлым жизням, к ним пришел голод. Религию или искусство, гражданское чувство или чувственное желание, все, что способно освободить дух от самообмана, у них отняли; и вот они голодными взорами пожирают иссохшую грудь древней ведьмы. Их выпустили из могил, и они тусклым потоком устремились на свой знакомый Холм, да только не смогли пройти дальше кладбищенского сарайчика. Их кормилица сидела здесь, лелея свою последнюю иллюзию: она готова была напитать их и не могла поверить, что ей больше нечего им дать. О, как бы ей хотелось выглядеть кормилицей, любящей, доброй, хорошей, ни от кого не зависящей! А вокруг стояли голодные тени, но она их не видела. Она была женой Адама до Евы. Ева пришла на померкшую землю Эдема, чтобы спасти мир от этого демона. И вот теперь она сидит здесь, окруженная незримой толпой, отрезанная от земли, которую так долго и искусно населяла, сидит и ждет: может, хоть кто-нибудь из живых постучится, придет, попросит забвения, возжелает иллюзий, — а в чем же еще, как не в иллюзиях, человек способен найти забвение? Никто не пришел, никто не захотел забвения. Ее мертвые вернулись к ней, ее живые отказались от нее. И тут дверь распахнулась.
Паулина видела только древнюю старуху, скорчившуюся на земле. Старуха зашевелилась и попыталась заговорить, с ее губ срывалось бессмысленное бормотание, которое вдохновенный Данте приписывал стражам всех кругов ада. Ангельская сила, заключенная во плоти Паулины, лучилась из глаз девушки. Ее разум и чувства еще не совсем освоились со своей ангельской сущностью, но именно она руководила ее мыслями и действиями. Сполохи великой силы озаряли ее изнутри, пронизывали кровь, творя новое единое тело, спасенное тело. А вот чувства безнадежно отставали. Им еще долго предстояло расти и крепнуть, достичь совершенства и только тогда наполнить все ее существо, да и всю вселенную великим восторгом любви. Пока же Паулина думала, чувствовала и действовала скорее в земных категориях, чем в небесных.
Лилит, чье монотонное бормотание прервало появление сияющего видения, впустившего в ее обиталище солнечный свет, старческими помаргивающими глазками уставилась на дверь. Она увидела оболочку женщины и не разглядела зарождающегося блаженства. С трудом произнося слова, она сразу закинула крючок:
— Я могу вам помочь.
— Очень мило с вашей стороны, — ответила Паулина, — но мне помощь не нужна. Я пришла не для себя.
— Я могу помочь кому угодно, — тут же соврала старуха.
— Вы нужны Аделе Хант, — сказала Паулина.
— Вот беда-то! — воскликнула старуха. — Конечно, я помогу… Но я же не выхожу… Ей придется прийти сюда.
— Она не может, — сказала Паулина, — она больна.
— Я могу вылечить кого угодно, — ответила старуха, — любого. И тебя тоже.
— Спасибо, но мне ничего не нужно, — сказала Паулина.
— А должно быть нужно. Все чего-то хотят. Вот ты, чего ты хочешь?
Паулина вздохнула.
— Вы даже не представляете, насколько я ничего не хочу. Как я могу хотеть чего-то, кроме того, что есть?
Старуха в полумраке зашевелилась, казалось, она хочет подползти к двери. Как бы глубоко ни погружались в иллюзорный мир ее жертвы, сама она погрязла в собственных иллюзиях куда глубже. Даже сейчас, на краю полного краха, она все еще пыталась соблазнить ангельского вестника, посланного к ней. Она опять принялась бормотать, и Паулина с трудом поняла, что ей сулят здоровье, деньги, красоту и удачу, в общем, удовлетворение всех мыслимых человеческих потребностей или хотя бы веры в то, что их можно удовлетворить. Она опять вздохнула. Жаль, что не получается хотя бы для вида захотеть чего-нибудь из предложенного набора, тогда ей легче было бы понять, как действует духовная некромантия Гоморры. Нет, никак не получается. В ней настолько укрепилось чувство вселенской гармонии, полноты и целостности бытия, что отказаться от этого чувства означало перестать существовать.
Старуха, извиваясь, как червяк, пыталась добраться до нее, схватить, уговорить… До Паулины доносился только лихорадочный шепот:
— Все, что хочешь, все, все, все…
— Да ничего я не хочу, — воскликнула Паулина и рассмеялась от невозможности объяснить свое новое знание о мире. — Ну как мне вам объяснить? Я хочу, чтобы все было так, как есть — я имею в виду, для меня.
— Все меняется, — проскрипел пыльный голос. — Только я не меняюсь.
— Конечно, меняется, — согласилась Паулина. — Но даже когда изменится все, пусть оно будет так, как станет. — Она опять рассмеялась от бесполезности своих объяснений.
Смех девушки заставил Лилит замереть, а все существа, набившиеся в хижину, разом повернули головы. Одинокий негромкий смех вихрем пронесся по пещере, вспорол и разбудил здешнюю бесплодную тишину. Воздух зазвенел от наполнившей его силы, стылая неподвижность потеплела; полумрак наполнился сиянием бесчисленных золотых искорок. Безрадостный дух холодного города на равнине пронзила радость сынов Божиих, способная проникать даже сюда. Лилит взмахнула руками и вскрикнула. Ей ответил тонкий слитный вой мертвецов, вой всех мертвых, которые не выносят радости. Сила чистого смысла ударила в основание Холма, и теперь уже взвыли еще живущие, мучимые болезнями духа, и здешние бессмертные, больные навсегда.
Стены сарайчика затрещали. Взвилось облако пыли. Паулина зажмурилась. Пыль ударила ей в нос и заставила чихнуть раз, другой. Когда она пришла в себя и открыла глаза, то увидела, что старый сарайчик лежит перед ней на земле грудой трухлявого, истлевшего дерева. Он не выдержал ее легкого стука в дверь и рухнул.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ ЗА ГОМОРРОЙ
— Значит, это последний визит? — спросил Стенхоуп.
— Да, — ответила Паулина. — Завтра утром я уезжаю в Лондон.
— Вы говорите, что работа вам понравится, — продолжал Стенхоуп. — Но вы же не представляете, какой она будет? Или представляете?
— Наверное, нет, — сказала она. — Завтра в двенадцать я должна встретиться с человеком дяди, и если он меня примет, сразу же начну работать. Дядя говорит, что пока я могу пожить у них, а потом найду какое-нибудь жилье.
— Вы пришлете мне адрес?
— Конечно. А вы пока останетесь здесь?
Он кивнул, и в разговоре образовалась пауза. Затем Паулина добавила:
— Кажется, сейчас многие хотят уехать.
— Многие, — кивнул он, — но некоторые не могут, а некоторым это и не нужно. Вам, конечно, лучше уехать. Мне — не обязательно. Могу остаться. Здесь есть цветы, книги, есть с кем поговорить, так что чуму можно и переждать.
— Вы не знаете, сколько это будет продолжаться? — глядя на него, спросила она.
Он слегка пожал плечами.
— Если это то, что моя бабушка называла печатями Апокалипсиса, то, может быть, и тысячу лет… Помните, там перед Страшным судом говорится о тысяче лет? С другой стороны, поскольку утверждается, что эта тысяча лет у Господа может стать одним днем, возможно, завтра утром все и кончится.[48] Мы, как в елизаветинской драме, живем, по крайней мере, в двух временных измерениях.
— Как это? — спросила она.
— Как тать в ночи, — ответил он. — По-моему, лучше не скажешь. Что-то крадет у нас наши сны, наши иллюзии, вообще все, кроме реальности.
— Они умрут? — спросила Паулина.
— Не думаю, — ответил Стенхоуп, — разве что — Боже, храни нас всех! — второй смертью. А пока эта чума будет только набирать силу. Мертвых здесь очень много, возможно, поэтому она и началась здесь.
— А Адела? — спросила она. — А Миртл?
— Ну, это им решать, — ответил он.
Паулина грустно улыбнулась и добавила:
— И вам.
— С мисс Фокс я буду говорить о Природе, — сказал он, — а с мисс Хант — об Искусстве. Если они пожелают. Конечно, Хью Прескотт лучше бы справился с мисс Хант. Он такой прагматик… а я даже в раю остаюсь немного августинцем.
— А я? — спросила она. — Я?
— Incipit vita nova,[49] — ответил он. — Кстати, когда завтра ваш поезд? Я хотел бы вас проводить.
— В половине одиннадцатого. Он кивнул.
— Вы найдете работу и останетесь в Городе Господа нашего… Впрочем, откуда мне знать, каков будет ваш Салем?[50]
Она встала и с удовольствием потянулась.
— Ну хоть поэты-то там будут?
— Мне и самому это интересно, — признался он. — Со временем узнаете. Но если спасенные поют, кто-то же должен писать им песни? Ладно, идите. Увидимся завтра на вокзале.
— Да, конечно, до завтра.
Они пошли к дверям, а затем, молча, по дорожке в мерцающей звездами ночи. У калитки она протянула ему руку.
— Дорога — это всегда волнение, а у меня его и в помине нет. Все становится проще на кругах… — она не закончила фразы.
Он улыбнулся ее нерешительности.
— Все еще боитесь назвать?
Паулина смутилась еще сильнее и решительно закончила:
— На кругах рая. Ну, спокойной ночи.
— До завтра, и спокойной ночи, — сказал он. — Ступайте с Богом.
Она сделала пару шагов, остановилась и оглянулась.
— Спасибо за рай. Спокойной ночи.
На следующее утро они вместе стояли на платформе, неторопливо обсуждая перспективы и возможности Паулины. Посмотрев в сторону, Паулина сказала:
— Смотрите, Питер, там мистер Уэнтворт. Он тоже едет в Лондон? По-моему, у него болезненный вид. Он нездоров?
— И даже очень, — мрачно сказал Стенхоуп. — Хотите поговорить с ним?
Уэнтворт заметил их приближение. Паулина улыбнулась и помахала ему. Он рассеянно посмотрел на нее, как-то вяло поднял руку и тут же уронил ее. Они подошли.
— Доброе утро, мистер Уэнтворт, — сказала Паулина. — Тоже едете в Лондон?
Уэнтворт с каким-то несоразмерным напряжением повернул голову и стал смотреть в другую сторону. Он глухо пробормотал:
— …должны меня извинить… сильная простуда… со Стражей все в порядке… кости ломит… не могу вспомнить кости… лица… костлявые лица, я хочу сказать.
— Уэнтворт! Прекратите! — голос Стенхоупа стал резким и властным.
Голова Уэнтворта стала медленно разворачиваться обратно. Глаза поползли по платформе к лицу Стенхоупа и остановились на его губах. Казалось, он пытался связать звук с его источником, но сомневался, откуда исходит голос.
— Не могу… прекратить… должен попасть… туда, — он замолчал так, словно выбился из сил.
Поезд уже останавливался у перрона.
— Можно я помогу вам в дороге, мистер Уэнтворт? — предложила Паулина.
При этих словах он очнулся, посмотрел на нее, затем опять отвел взгляд и забеспокоился.
— Нет, нет. Я же вам сказал, я еду с дамой. До свидания. — Он торопливо и неуклюже двинулся по платформе, вошел в едва остановившийся вагон и забился в самый дальний угол.
Паулина вошла в тамбур и повернулась к Стенхоупу.
— О Питер! — сказала она. — С ним что-то не так.
Он посмотрел вслед Уэнтворту и повернулся к ней.
— Я думаю, он увидел голову Горгоны, которую не удалось увидеть Данте в Дите,[51] — сказал он. — Ну что же… молитесь за него, и за меня, и за всех. Вы будете писать?
— Да, конечно. До свидания. Но, Питер, я должна что-то сделать?
— Вы ничего не сможете сделать, если он не передумает, — ответил Стенхоуп. — Молитесь. До свидания. Ступайте с миром.
По его глазам она поняла, что должна ответить, и ответила, не раздумывая:
— И вы ступайте с миром. И еще раз спасибо.
Поезд двинулся и стал быстро набирать ход. Стенхоуп махал рукой, пока концевой вагон не скрылся за поворотом, а затем отправился бродить по улицам Холма и навещать его занемогших обитателей.
Уэнтворт так и сидел, забившись в угол вагона. Его мучило ощущение чего-то забытого. Он медленно и с трудом перебрал про себя все, что должно сопровождать человека в дороге. Оказалось, он не может вспомнить, почему вообще покинул свой дом. Все его слуги уехали сегодня утром, вот почему ему тоже пришлось уехать. Он не мог нанять других, у него просто не хватало сил на это. Лучше он поедет в Лондон, поживет в отеле, там ему никто не будет мешать, никакие орущие призраки не будут ломиться в окна. Тот призрак свалился в обморок и вынудил его тащить тяжелое тело, чтобы другие призраки могли его найти. С тех пор он боялся их всех, и тех двоих, что сейчас разговаривали с ним, обращаясь к нему с каким-то странным словом. Он куда-то ехал. Собирался на обед. Вот у него с собой вечерний костюм. Нужно переодеться к обеду, обеду ученых, ученых-историков… Да, он — ученый-историк. Только вот как его зовут? Он опять сказал, что со Стражей Герцога все в порядке, хотя это было не так, но он был ученым-историком и собирался встретиться с людьми своего круга, да, с Астоном Моффаттом!
Стоило Уэнтворту вспомнить это имя, как ему полегчало. Он сел посвободнее и огляделся. Моффатт… Он ненавидел Астона Моффатта. Ненависть оставалась одним из немногих чувств, которые еще могли бы спасти Ш его, будь это просто ненависть к более удачливому коллеге по науке. Но у его ненависти были другие истоки, злобные и личные. И все-таки возбуждение помогло ему припомнить, что же он забыл. Часы! Он забыл свои часы. Несколько дней назад, когда он смотрел какую-то плохую пьесу, у часов сломался завод. Он убрал их, чтобы потом отдать в починку. Но с этим было слишком много хлопот, и теперь он забыл их в столе и не мог узнать время. В Лондоне будут часы, там их много, и все идут очень быстро, потому что время вообще пошло очень быстро. Это потому, что оно бесконечное и постоянно стремится к своему концу. В нем была только одна точка отсчета, к которой он проявлял интерес, — время последней вечери, ежегодного обеда с коллегами. Это будет последний обед, больше он не увидит Астона Моффатта. Но сегодня он пойдет, потому что принял приглашение, и у него с собой вечерний костюм, и… и надо же показать, что он не боится этого проклятого Моффатта. Вот это время он и хотел знать. А дальше все пойдет своим чередом. Уэнтворт задремал.
В Мэрилбоуне поезд остановился, и он проснулся. С помощью носильщика доплелся до привокзального отеля. Еще в вагоне он решил, что далеко не пойдет, побережет силы. Обычно он останавливался в другом отеле, но теперь забыл, в каком именно. Он машинально снял номер, немного поел, а затем прилег. В этот раз он не заснул: ему мешал шум Лондона, кроме того, он был один. Существо, которое пробыло с ним так долго, исчезло.
В последний раз оно было с ним два дня назад, и если бы он сохранил прежнее восприятие, то увидел бы, как разительно оно изменилось. После ухода мертвеца оно так и не обрело своей совершенной призрачной оболочки, в его лице смешались дряхлость и юность, и в этой смеси явственно проступили признаки распада.
В тот час, когда рухнул сарайчик Лилит, существо истончилось до состояния сумеречной тени. Сила покинула его. Такое существо мертвец мог встретить под своим бледным небом. В призрачной ночи, которая пала на развалины Гоморры, оно бестолково, с потускневшими глазами, толклось вокруг своего творца и возлюбленного. Ночью оно выглядело совсем подавленным, а когда Уэнтворт уснул, с существом стали происходить лихорадочные изменения, после каждого из которых упадок в его облике становился все заметнее, пока под утро оно не исчезло совсем.
И вот он остался один. Прежний сон пришел к нему. Путь завершался. Веревка, оказывается, уходила в какую-то стену. Верхний ее конец терялся в ярком лунном свете в сотнях тысяч миль от него. Это что же — он так долго спускался? Когда он встал, сон не исчез, а просто отступил в сторону. Пока он умывался, переодевался, выходил на улицу, ловил такси, он продолжал раскачиваться на веревке. Сунув руку в карман за часами, он вспомнил, что оставил их, и, оглянувшись по сторонам, заметил сияющую серебристую сферу. Наверное, это и есть его часы. Они показывали какое-то время, но он не мог разобрать, какое. Или это луна? Он подумал: «А-а, ладно, приду вовремя». И он действительно пришел вовремя, но еле успел; до конца времен оставалось совсем немного, как и до конца веревки.
Он сел в такси. Машина шла по Хай-стрит. На перекрестке регулировщик повернулся к ним спиной, и машина остановилась. Уэнтворт равнодушно смотрел в окно. Вдруг ему почудилось, что с соседнего сидения очень скрипучий голос совсем старой женщины произнес ему на ухо: «Музей мадам Тюссо». Уэнтворт даже головы не повернул, он и так знал, что один в машине. Напротив стояло огромное, ярко освещенное здание. Контуры его так резко обрисовывал свет, что казалось, будто за ним — бездонная пропасть, заполненная мраком, и вообще, здание стоит на краю мира. Уэнтворт никогда не был внутри, но однажды, будучи в хорошем настроении, думал сводить туда Аделу. Неожиданно он почувствовал, что зрение у него плывет: прямо на его глазах стена здания истаяла и открылись внутренние помещения, заставленные восковыми фигурами. Он отлично видел их — тщательно выполненные, очень натурально раскрашенные, безмолвные, бездумные… Но все они были сдвинуты со своих мест. Раскачиваясь на веревке, он вглядывался из темноты в ярко освещенный прямоугольник и видел их всех — Цезаря, Генриха, Кромвеля, Наполеона, маршала Фоша[52] — и самого себя, переносящего их из угла в угол, торопливо расставлявшего всех по местам. Пол был расчерчен квадратами, обозначавшими нужные места. Он хватал очередную фигуру, взваливал на плечо и бежал к нужному квадрату. Однако стоило ему установить фигуру на место, как общая схема расположения менялась, и приходилось опять всех переставлять. Ясно было, что одному ему не справиться, но он тут же заметил еще нескольких себя, зорко следивших за изменениями и старательно перемещавших восковых истуканов. Но и вшестером Уэнтворты не справлялись. Все время что-то оставалось не так, какие-то мелочи, но правильной законченной картины не получалось. Это было как с аксельбантами на форме Стражи Герцога.
Веревка дрогнула, когда такси снова тронулось и оставило позади последний след истории людей, исчезнувших навсегда. Чем ближе к концу, тем сильнее она раскачивалась. Теперь он и сам двигался, он спешил. Мимо проносилась тьма. Машина остановилась. Рука Уэнтворта потянулась в карман за мелочью, но сознание не последовало за ней. Ноги привычно ступили с веревки на твердую землю. Перед ним находился слабо освещенный высокий прямоугольный проем в темноте. В руке у него что-то было — он протянул руку, вещь серебристо блеснула и выскользнула. Задрав голову, Уэнтворт увидел всю свою веревку длиной в сотни тысяч миль, с невероятной скоростью исчезающую наверху, в направлении серебристой луны, которая должна была находиться в его жилетном кармане, потому что была часами, у которых он сломал завод. Наблюдая за этим ослепительным полетом в самый центр сияющего круга, он вновь подумал: «Я как раз вовремя».
Он стоял на самом дне бездны и оставался лишь шаг туда, где кончаются расстояния, где уже нет никакого дна. Он сделал этот шаг и начал свое последнее путешествие.
Скоро стало пошире и посветлее. Появились чьи-то руки и сняли с него пальто… Оказывается, он был в пальто! Он осмотрел себя в широком сияющем овале, напомнившем луну, и не узнал собственного лица. В остальном он был в порядке. Очень удачно надел все черное — этакий гость из тьмы. И нет никакой веревки. Она исчезла. И никаких часов, потому что он что-то с ними сделал, и они тоже исчезли. Он постарался вспомнить, что такое часы и как он узнавал по ним время. Кажется, на них были деления, которые имели какое-то отношение ко времени, но вот какое… До него донеслись голоса и потянули его в какое-то еще более открытое пространство. И внезапно перед ним возник сэр Астон Моффатт.
Шок почти привел его в чувство. Если бы он ненавидел сэра Астона за то, что тот погрешил против истины, он еще мог бы на что-то надеяться. Если бы он страстно верил в собственные выкладки, верил в их абсолютную ценность, он, возможно, смог бы ощутить дыхание пламени, отправлявшее к вечной славе мученика времен Марии Кровавой. И в этом случае у него оставался шанс на спасение. Если бы в мире духовных самоубийств он мог бы слышать чей-то иной голос, кроме своего собственного, и тогда у него оставался бы шанс. Но Уэнтворт смотрел на сэра Астона и думал не о правоте или ошибочности выводов ученого; он думал: «Меня надули». Это была его последняя связная мысль.
Сэр Астон был решительно глух и чрезвычайно разговорчив. Он-то как раз искренне восхищался своим соперником. Он подошел к Уэнтворту и начал говорить. Мир, который Уэнтворт упорно отвергал, хлынул на него, словно потоп с небес, и загнал на самое дно. Теперь отблеск костра на равнине осенил сэра Астона Моффатта. Его мягкая и нежная болтовня лилась на обреченного отовсюду, каждое предложение — укус пламени. Уэнтворт обреченно слушал, не понимая ни слова. В ушах отдавалось только «Уэнт-ворт, Уэнт-ворт». Кажется, эти звуки что-то значили, — он не мог вспомнить, что именно. Если бы все окружавшие его лица исчезли, он бы вспомнил, но они не исчезали. Они окружили его и тащили за собой в самую гущу, в дверь. Когда он в нее вошел, то увидел накрытые столы и с последним проблеском памяти понял, что пришел сюда есть и пить. В дальнем левом углу стоял его стул, его место в Государстве. Он нетерпеливо потрусил к нему. Он ждал его, ждал во веки веков; всю жизнь и от Сотворения мира он сидел там, он будет сидеть там и в конце, глядя в сторону… он не мог вспомнить, как зовут высокого человека на другом конце, который только что с ним разговаривал. Он посмотрел на него и попытался улыбнуться, но не смог, потому что в глазах высокого человека не было никакого выражения. Его улыбка погасла. Он наконец стоял у своего места, он всегда будет сидеть здесь, всегда, всегда. Он сел.
И тут же к нему пришло ощущение катастрофы. Он ничего не понимал вокруг. В памяти осталось лишь мгновение, когда он отпустил веревку, и она блестящей лентой умчалась к своему источнику. Он мог только вспомнить мгновение, когда внезапная яркая вспышка отделилась от него и унеслась в небо к своему источнику, и хотел вернуть это мгновение, отчаянно хотел удержаться на веревке. Он верил, что там, где кончается веревка, его будет ждать спутник, который навсегда бы его устроил, и вот — конец, но там ничего нет, кроме пустых голосов и образов. Нет и самой веревки. Есть только лица, и даже не лица, а какие-то белые, красные и желтые круги. Они двигались, кивали и кланялись, а вдалеке над ними нависло огромное белое пятно с черными делениями и двумя длинными черными линиями, идущими по кругу: одна очень быстро, другая очень медленно. Первая двигалась слишком быстро для его ума, вторая — слишком медленно для его сердца. Если бы он все еще держался за веревку, то, возможно, смог бы выбраться из этого бессмысленного ужаса, по крайней мере, смог бы найти какой-нибудь смысл во всем этом. Большое пятно заслонило серебристое сияние, проблеск в небе, и не было больше веревки, за которую можно держаться, по которой можно подняться, в конце концов, прочь из этой глубины, где все могло быть чем угодно и было чем угодно.
Он съежился внутри себя, пытаясь закрыть глаза и не видеть эту ужасную изнанку мира. Это оказалось довольно легко. Но он не мог зажать уши, потому что не владел больше своими плечами, руками и ладонями. Тихие бессмысленные потоки звуков жалили и мучили его потерянным знанием смысла; маленькие язычки пламени вспыхивали в его душе. В глубинах его существа родился тихий безнадежный звук: «А-а-а!» Затем всё, на что он смотрел, стремительно собралось в одну точку, и сам он тоже стал точкой. Обе точки рванулись навстречу друг другу. Но каким бы стремительным ни было их движение, они не столкнулись. Внешняя точка распалась на множество неясных образов и исчезла, растворилась в пустоте, не достигнув его. Образы превратились в чередующиеся черные и белые полосы. Он забыл, как они называются. Он даже не мог понять, хорошие они или плохие. Он уже не осознавал себя. Магические зеркала Гоморры разбились вдребезги, и сама его Гоморра была разрушена, вокруг — только пустота забвения. Неизвестные образы застыли вокруг, строгие и молчаливые. Языки пламени лизали его душу; сейчас только они и оставались единственной жизнью его души. В этой огромной пустоте подрагивал качающийся черно-белый образ. Ему показалось, что вот-вот что-то случится. Но тишина длилась и длилась. Ничего не происходило. Ожидание угасло. Постепенно исчез и сам образ, и его мерно повлекло вниз сквозь бесконечные круги пустоты.
Примечания
1
Battle Hill, букв. — Холм Битв. (Здесь и далее прим. переводчиков.)
(обратно)2
Вильям Вордсворт (1770–1850) — известный английский поэт, один из лучших мастеров английского сонета. Наиболее значительные произведения — поэмы «Тёрн», «Вина и скорбь», «Прелюдия».
(обратно)3
Шелли П. Б. Освобожденный Прометей (пер. К. Бальмонта).
(обратно)4
Мф 8:20: «И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову».
(обратно)5
Дорога смерти (лат.).
(обратно)6
Имеется в виду Война Алой и Белой розы — война за английский престол между двумя ветвями династии Плантагенетов — Ланкастеров (в гербе — алая роза) и Йорков (в гербе — белая роза). Война, продолжавшаяся тридцать лет (1455–1485), привела к власти Генриха VII, который, женившись на наследнице Йорков — Елизавете, объединил в своем гербе алую и белую розы и основал правящую династию Тюдоров.
(обратно)7
Мария Тюдор, Мария I (1516–1558), английская королева (1553–1558), дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Вступление Марии Тюдор на престол сопровождалось восстановлением католицизма и католической реакцией с жестокими репрессиями против сторонников Реформации (отсюда ее прозвище Мария Кровавая).
(обратно)8
Граф Уорвик (1428–1471) — известен как «Уорвик — делатель королей». Был ведущей фигурой в Войне Роз, во время которой помог низложить Генриха VI Ланкастера в пользу Эдуарда IV Йорка. Убит в битве при Барнете.
(обратно)9
Рубикон — река на Апеннинском полуострове; до 42 г. до н. э. граница между Италией и римской провинцией Цизальпинская Галлия. В 49 г. до н. э. Цезарь из Галлии перешел с войском Рубикон, тем самым нарушив закон и соглашение с двумя другими консулами — Марком Крассом и Гнеем Помпеем, и начал гражданскую войну. Отсюда выражение «перейти Рубикон», означающее принятие бесповоротного решения.
(обратно)10
Данте Габриэль Россетти (1828–1882), художник, поэт, книжный иллюстратор. Вместе с двумя другими художниками создал так называемое «Братство прерафаэлитов».
(обратно)11
Привокзальный район Лондона.
(обратно)12
Lointaine — фр. «Греза», «Прекрасная дама» (от «Принцесса Греза»).
(обратно)13
Страж порога — антропософское понятие, введенное Рудольфом Штейнером в работе «Как достигнуть познания высших миров». В общем смысле — то, что удерживает человека в тварном мире, не давая постичь истину.
(обратно)14
Мф 11:6.
(обратно)15
«Да, да, я, Беатриче» (итал.). — Данте. Чистилище. XXX, 73 (пер. М. Лозинского).
(обратно)16
Лилит — в Каббале первая жена Адама. Именно в этом смысле большинство исследователей рассматривают это слово в Книге пророка Исайи (Ис 34:14). Упоминается в Свитках Мертвого моря, Алфавите Бен-Сира, Книге Зогар. Имя Лилит встречается в эпосе о Гильгамеше во втором тысячелетии до н. э.
В Междуречье подобное имя носит ночная демоница, которая издевается над спящими мужчинами.
В семитских языках, в частности в иврите, это слово — прилагательное женского рода «ночная».
В шумерском языке корень «лиль» означает «воздух, ветер; дух, призрак», в древнем аккадском «лилу» — «ночь». Отсюда и смесь представлений: демонов этого рода считали ночными привидениями.
В Торе говорится, что вначале Бог сотворил «мужчину и женщину», а уже потом говорится о сотворении Хавы (Евы). Согласно некоторым источникам после Адама Лилит стала женой Самаэля (Сатаны), матерью демонов.
Согласно каббалистической книге «Зогар» жители долины Содом, предположительно оставшиеся в живых дети Адама и Лилит, поклонялись Лилит как Великой матери.
В Европе эпохи Возрождения Лилит обрела облик прекрасной, соблазнительной женщины, способной менять обличья. Английский художник и поэт Данте Габриэль Россетти (1828–1882) написал поэму «Райская обитель», в которой Лилит-змея стала первой женой Адама, а Еву Бог создал потом. Чтобы отомстить Еве, Лилит уговорила ее отведать запретный плод и зачать Каина, брата и убийцу Авеля.
В астрологической традиции название «Лилит», или «Черная Луна», носит точка перигея Луны. Лилит обозначает собой проявления зла через ложь, обольщение злом и неправильный выбор.
(обратно)17
Шекспир У. Генрих VI. 1,1 (пер. Е. Бируковой).
(обратно)18
Шелли П. Б. Освобожденный Прометей (пер. К. Бальмонта). Ввиду важности текста Шелли для смысловой канвы романа приводим фрагмент стихов, содержащих эти строки:
Мой мудрый сын, кудесник Зороастр, В саду блуждая, встретил образ свой. Из всех людей один лишь он увидел Видение такое. Знай, что есть Два мира: жизни мир и бледной смерти. Один из них ты видишь, созерцаешь. Другой сокрыт в глубинах преисподних, В туманном обиталище теней Всех форм, что дышат, чувствуют и мыслят. Покуда смерть их вместе не сведет Навек туда, откуда нет возврата. Там сны людей, их светлые мечтанья, И все, чему упорно сердце верит, Чего надежда ждет, любовь желает; Толпы видений, образов ужасных. Возвышенных, и странных, и таящих Гармонию спокойной красоты; В тех областях и ты висишь, как призрак, Страданьем искаженный, между гор, Где бурные гнездятся ураганы; Все боги там, все царственные силы Миров неизреченных, сонмы духов, Теней огромных, властью облеченных, Герои, люди, звери… (обратно)19
Шекспир У. Буря. IV, 1 (пер. О. Сороки).
(обратно)20
Гал 6:2: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
(обратно)21
Суккуб (от лат. succuba, наложница) — в средневековых легендах северо-западной метакультуры демоница, посещающая по ночам мужчин и вызывающая у них сладострастные сны. Часто описывается как молодая привлекательная женщина, однако имеющая когтистые стопы ног и, иногда, перепончатые крылья. В Японии аналог — кицунэ, лисица-оборотень, обладание которой доставляет неземное наслаждение.
(обратно)22
Шекспир У. Венецианский купец. IV, 1 (пер. О. Сороки).
(обратно)23
Шекспир У. Венецианский купец. IV, 1 (пер. О. Сороки).
(обратно)24
Шекспир У. Король Ричард III. 1,4 (пер. М. Донского).
(обратно)25
Се, творю все новое (лат., Откр. 21:5).
(обратно)26
Логрис — это лучшее, Божье в Британии, существующее как бы внутри (или наравне) с обычной Британией, мирской. Это духовная составляющая Британии, питающая духовность этой страны. Правит Логрисом династия королей Пендрагонов. Многие другие страны имеют подобные Логрису составляющие. См., например, «Мерзейшую мощь» К. С. Льюиса.
(обратно)27
Галахад — сын Ланселота, рыцарь Круглого стола короля Артура и один из искателей святого Грааля. Отличался аскетическим, праведным образом жизни. Галахад — единственный из рыцарей, которому Грааль дается в руки. После обретения Грааля Галахад возносится на небеса как святой.
(обратно)28
Голгофа по-арамейски означает «череп».
(обратно)29
Гоморра (погружение, потопление) — один из пяти городов в долине Сиддимской (ныне Мертвое море), разрушенных за нечестие серным огнем. Быт 19:24: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба…»
(обратно)30
Китс Дж. Ода греческой вазе.
(обратно)31
2Цар.20:2 «И отделились все Израильтяне от Давида ‹…›; Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима».
(обратно)32
Мф 13:12.
(обратно)33
Они создают пустыню и называют ее покоем (лат.).
(обратно)34
Откр 22:20.
(обратно)35
Мф 13:12.
(обратно)36
Ис 60:1.
(обратно)37
Пс 47:3: «Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне [ее] город великого Царя».
(обратно)38
Шекспир У. Буря. V, 1 (пер. О. Сороки).
(обратно)39
Шекспир У. Буря. V, 1 (пер. О. Сороки).
(обратно)40
Откр 22:19–20: «…и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни, и в святом граде и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!»
(обратно)41
1 Кор 15:42–43.
(обратно)42
1 Кор 15:58.
(обратно)43
1 Кор 15:29.
(обратно)44
Иез 10:12.
(обратно)45
1 Кор 15:51–52: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся».
(обратно)46
Мф 27:52: «…и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли».
(обратно)47
Шекспир У. Гамлет. II, 2 (пер. М. Лозинского).
(обратно)48
2 Пет 3:8: «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день».
Откр 20:5: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение».
(обратно)49
Начинаете новую жизнь (лат.).
(обратно)50
Стенхоуп имеет в виду упомянутое в Библии место Салим. По общему мнению, позже на этом месте возник город Иерусалим. См., напр., Евр 7:1–2: «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, ‹…› — во-первых, по знаменованию [имени] царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира…»
(обратно)51
См. Песнь девятую Дантова «Ада»: «Закрой глаза и отвернись; ужасно // Увидеть лик Горгоны; к свету дня // Тебя ничто вернуть не будет властно».
(обратно)52
Фердинанд Фош (1851–1929) — французский военный деятель, маршал Франции, британский фельдмаршал, маршал Польши, начальник Генштаба Франции, верховный главнокомандующий военными силами Антанты.
(обратно)

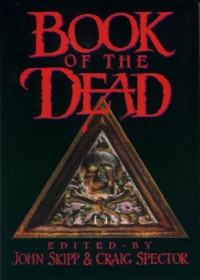




Комментарии к книге «Сошествие во Ад», Чарльз Уильямс
Всего 0 комментариев