Энн Райс История Похитителя Тел
Моим родителям, Говарду и Кэтрин О’Брайен. Ваша смелость и ваши мечты останутся со мной навсегда.
Вновь с вами Вампир Лестат. Я расскажу вам о том, что со мной произошло.
Все началось в Майами в 1990 году. С этого времени начну свое повествование и я. Но прежде необходимо упомянуть о снах, которые приходили ко мне чуть раньше, ибо им отведена немалая роль в моем рассказе. Это сны о маленькой девочке-вампире с умом зрелой женщины и лицом ангела и о моем смертном друге Дэвиде Тальботе.
Снилось мне и смертное детство во Франции – зимние снега, холодный полуразрушенный отцовский замок в Оверни, тот день, когда я отправился охотиться на волков, нападавших на нашу бедную деревню.
Сны могут быть так же реальны, как и жизнь, хотя, возможно, мне лишь впоследствии так казалось.
Когда начались эти сны, я пребывал в мрачном настроении: вампир-скиталец, бродяжничающий по всему свету, иногда покрытый таким слоем пыли, что никто не обращал на меня ни малейшего внимания. И что проку в том, что мои прекрасные светлые волосы оставались по-прежнему густыми, глаза – пронзительно синими, а улыбка – неотразимой, в том, что я великолепно одевался, а хорошо сложенное тело шести футов ростом невзирая на двухвековой возраст все еще выглядело двадцатилетним. Как истинное дитя восемнадцатого века – а именно в этом столетии я жил до Рождения во Тьму, – я всегда сохранял трезвость рассудка.
Но восьмидесятые годы двадцатого столетия близились к концу, и я был уже мало похож на того лихого отпрыска старого вампира, который хранил верность классическому черному плащу и брюссельским кружевам, на джентльмена в белых перчатках и с тростью, танцующего в свете газовой лампы.
Пережив немало страданий и испытав мгновения триумфа, а также благодаря немалому количеству крови древнейших вампиров, я превратился в своеобразного Темного бога. Обретенная сила смущала меня и даже пугала, а иногда мои невероятные возможности почему-то вызывали в душе печаль.
Например, я мог усилием воли подняться высоко в воздух и вместе с ветром совершать дальние путешествия так же легко, как дух. Усилием разума я мог двигать и уничтожать предметы. Достаточно было одного моего желания, чтобы в любой момент вспыхнул огонь. Сверхъестественный голос позволял мне обращаться к бессмертным из других стран и даже с иных континентов. Мне не составляло труда читать мысли вампиров и людей.
Вам кажется, что это совсем даже неплохо? Мне же было противно. Без сомнения, я оплакивал свои прежние ипостаси – смертного юношу, новорожденного призрака, намеренного стать как можно более плохим, коль скоро таково его предначертание.
Поймите, я не прагматик. У меня чуткая и беспощадная совесть. Я мог бы стать хорошим парнем. Может быть, иногда я такой и есть. Но я всегда оставался человеком действия. Скорбь – равно как и страх – пустая трата времени. И как только я завершу свое вступление, в книге начнется именно действие.
Помните, что начинать книгу всегда очень сложно, большинство вступлений отмечено налетом искусственности. То были самые счастливые времена и самые тяжелые – да ну? И когда же? Кстати, и все счастливые семьи не похожи одна на другую – даже Толстой, должно быть, это осознавал. Мне не удастся отделаться чем-нибудь вроде: «В начале…» или «В полдень я упал с телеги с сеном…» – иначе я бы так и написал. Поверьте, если есть хоть малейшая возможность, я всегда выхожу сухим из воды. Как сказал Набоков устами Гумберта Гумберта, «можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы». Может быть, «затейливая» в данном случае означает «экспериментальная»? О том, что мой стиль чувствен, цветист и сочен, я, конечно же, знаю – достаточно критиков сообщили мне об этом.
Увы, но я привык все делать по-своему. И обещаю вам, что мы доберемся до начала, если, конечно, в этих словах нет противоречия.
Прежде всего я должен признаться, что до того, как произошли описываемые ниже события, я горевал о других бессмертных, которых знал и любил и которые давным-давно покинули наше последнее общее пристанище конца двадцатого века. Безрассудно думать, что мы собирались создать новую общину. Все они один за другим исчезли во времени и пространстве – такова была неизбежность.
Вампиры не питают особенной любви к себе подобным, хотя и отчаянно нуждаются в бессмертных спутниках.
Именно из такой необходимости я создал своих отпрысков – Луи де Пон-дю-Лака, который в девятнадцатом веке стал моим терпеливым и зачастую любящим товарищем, а с его нечаянной помощью – прекрасную, но обреченную Клодию, вампира-дитя. И теперь, в конце двадцатого века, Луи остается единственным бессмертным, с которым я часто встречаюсь после своих одиноких ночных странствий. Он самый человечный из всех нас, наименее похожий на бога.
Его скромное убежище на заброшенной окраине Нового Орлеана я никогда не оставлял надолго. Вы сами сможете в этом убедиться, когда придет время. Луи также участник этой истории.
Но о других бессмертных здесь говорится очень мало. Практически ничего.
За исключением Клодии, которая снилась мне все чаще и чаще. Позвольте мне объяснить: Клодию уничтожили более ста лет назад, но я постоянно ощущал ее присутствие, как если бы она всегда находилась рядом.
В 1794 году я превратил умирающую сиротку в маленького пухленького вампира, и через шестьдесят лет она восстала против меня: «Я положу тебя в гроб, отец. Но ты уже никогда не встанешь».
Я тогда действительно спал в гробу. И все происходило в духе того времени: жуткая попытка убийства, приманка в виде отравленных смертных жертв, чтобы замутить мой рассудок, ножи, врезающиеся в мою белую плоть, и окончательное избавление от кажущегося безжизненным тела в зловонном болоте за пределами тускло освещенного Нового Орлеана.
Ничего не получилось. Существует очень мало верных способов разделаться с бессмертным: солнце, огонь… Необходимо стремиться к полному уничтожению. И в конце концов, ведь речь здесь идет о Вампире Лестате.
Клодия поплатилась за свое преступление: она была казнена злодеями из общины вампиров, прекрасно устроившихся в самом сердце Парижа, в печально известном Театре вампиров. Превратив в кровопийцу столь юное дитя, я нарушил законы, и уже по одной только этой причине парижские монстры стремились ее уничтожить. К тому же и она в свою очередь нарушила их закон, подняв руку на своего создателя, – ее проступок, если можно так выразиться, послужил логическим обоснованием приговора: Клодию оставили на солнце, безжалостные лучи которого превратили ее в пепел.
На мой взгляд, это чертовски неудобный способ казни, потому что палачи вынуждены спешно вернуться к своим гробам и даже не имеют возможности стать свидетелями того, как солнце исполняет их жестокую волю. Но они поступили именно так с изысканным, нежным существом, которое я создал из грязной, оборванной беспризорницы, найденной в лачуге испанской колонии Нового Света, наполнив ее вампирской кровью, чтобы сделать своим другом, ученицей, возлюбленной, музой и товарищем по охоте. И к тому же еще своей дочерью.
Если вы читали «Интервью с вампиром», то вам известны все подробности. Это история нашей совместной жизни в интерпретации Луи. Он повествует о своей любви к нашему общему ребенку и о мести тем, кто ее уничтожил.
Если же вы прочли и мои автобиографические книги, «Вампир Лестат» и «Царица Проклятых», то вы и обо мне все знаете. Вы узнали нашу историю, если она чего-то стоит – а любая история стоит не слишком много, – узнали о том, как мы появились тысячи лет назад, как мы размножаемся, аккуратно передавая Темную Кровь тем смертным, которых считаем достойными сопровождать нас на Пути Дьявола.
Но чтобы понять то, о чем пойдет речь в этом повествовании, вам нет необходимости читать предыдущие книги. Здесь вы не встретите и многочисленных персонажей «Царицы Проклятых». Ни на секунду западная цивилизация не окажется на краю пропасти. Никаких разоблачений из далекого прошлого, никаких древнейших, приоткрывающих свои тайны лишь наполовину, говорящих исключительно загадками и обещающих ответы, которых нет и никогда не существовало.
Нет, все это осталось в прошлом.
Это книга о нашем времени. Она, безусловно, является одной из частей «Вампирских хроник», и об этом забывать не следует. Но это первый по-настоящему современный роман, поскольку ужасающая абсурдность существования с самого начала принимается здесь как должное и исследованию подвергаются разум и душа героя – кто он, как вы думаете? – и те открытия и выводы, которые ему предстоит сделать.
Читайте эту повесть, и на ее страницах я поведаю вам обо всем, что вам необходимо знать о нас. Кстати, разного рода событий и приключений здесь будет немало! Я, как уже сказано, человек действия – вампирский Джеймс Бонд, если вам угодно, которого все без исключения остальные бессмертные называют не иначе как «принц-паршивец», «истинно дьявольское создание» и «ты, чудовище».
Другие бессмертные, конечно, живы до сих пор – Маарет и Мекаре, древнейшие из нашего рода, Хайман из Первого Поколения, Эрик, Сантино, Пандора и другие, которых мы называем Детьми Тысячелетий. Где-то бродит Арман, очаровательный пятисотлетний юноша, который когда-то возглавлял Театр вампиров, а до этого – сообщество вампиров-дьяволопоклонников, поселившихся в недрах кладбища Невинных мучеников. Надеюсь, Арман всегда будет неподалеку.
И Габриэль, моя смертная мать и бессмертное дитя, не пройдет и тысячи лет, непременно появится как-нибудь темной ночью – если повезет.
Что касается Мариуса, моего старого учителя и наставника, хранителя истории и тайн нашего племени, он до сих пор здесь и никогда не исчезнет. Время от времени он приходил ко мне то с просьбами, то с укорами, но суть и тех и других всегда оставалась одной и той же: неужели я никогда не прекращу свои неосторожные убийства, которые неизменно попадают на страницы газет? неужели я не перестану с упорством дьявола осаждать своего смертного друга Дэвида Тальбота, искушая его Темным Даром? разве я не знаю, что бессмертных в мире уже вполне достаточно?
Законы, законы, законы… В результате все сводится к законам. А я люблю преступать любые законы, так же как смертные любят разбить бокал о каминную доску, произнеся тост.
А теперь позвольте подробнее рассказать о снах, беспокоивших меня в моих странствиях.
Призрак Клодии преследовал меня постоянно. Каждый раз, закрывая глаза на рассвете, я видел ее лицо, слышал ее тихий, но настойчивый шепот. Иногда я ускользал в воспоминания: маленькая колониальная больница, ряды кроваток, на одной из которых умирает девочка-сирота.
А вот и печальный, чувствующий себя совершенно беспомощным старый доктор с брюшком, поднимающий тело ребенка. И откуда-то доносится плач. Кто же плачет? Клодия не плакала. Она спала, когда доктор передал ее мне, приняв за смертного отца этого несчастного ребенка. Во сне она такая хорошенькая. Была ли она действительно такой хорошенькой тогда? Конечно.
«Вы вырвали меня из смертных рук, как два чудовища из страшной сказки, – вы, бесполезные и ничего не понимающие родители!»
Дэвид Тальбот приснился мне только однажды.
Во сне он молод и пробирается через лес мангровых деревьев. Это не мой семидесятичетырехлетний друг, терпеливый смертный ученый, который регулярно отвергает мое предложение принять Темный Дар, но в знак доверия и привязанности, не дрогнув, касается моей холодной плоти теплой хрупкой рукой.
Нет. Это молодой Дэвид Тальбот, каким он был многие годы назад, когда сердце не билось в его груди столь быстро. Но он в опасности.
Тигр, тигр, жгучий страх, Ты горишь в ночных лесах[1].Чей голос шепчет эти слова – мой или его?
И вот он возникает из пятнистого полумрака – рыжие и черные полосы, словно свет и тень, он почти неразличим. Я вижу его огромную голову и удивительно мягкую морду, белую, с длинными тонкими усами. Но эти желтые глаза… узенькие щелочки, исполненные страшной, бессмысленной жестокости. Дэвид, а его клыки! Неужели ты их не видишь?
Но он с детским любопытством наблюдает, как большой розовый язык касается его горла, тонкой золотой цепи, охватывающей шею. Он что, пожирает цепь? Господи, Дэвид! Клыки!
Почему слова застревают у меня в груди? Неужели и я оказался в мангровом лесу? Я пытаюсь пошевелиться, и все тело мое сотрясается от бесплодных усилий, сомкнутые губы пропускают лишь глухие стоны, и каждый из них дается мне с величайшим трудом. Дэвид, осторожно!
А потом я вижу, как он опускается на одно колено и вскидывает к плечу длинное сверкающее ружье. Гигантская кошка близко, она устремляется к нему, но выстрел заставляет ее остановиться, а после второго она падает как подкошенная… желтые глаза горят яростью, лапы скребут мягкую землю, и зверь испускает последний вздох.
Я просыпаюсь.
Что означает этот сон? Мой смертный друг в опасности? Или кончился завод – его генетические часы готовы вот-вот остановиться? В семьдесят четыре года смерть может наступить в любой момент.
Стоит мне вспомнить Дэвида, и тут же возникает мысль о смерти.
Дэвид, где ты?
«Один, два, три, четыре, пять, англичанина чую опять».
«Вы хотите получить Темный Дар? – спросил я при нашей первой встрече. – Я не говорю, что когда-нибудь вы от меня его получите. Скорее всего, нет. Но вы хотите? Если бы я согласился, вы бы его приняли».
Мне так хотелось, чтобы он попросил. Он не сделал этого, и никогда не сделает. И теперь я его любил. Я встретился с ним вскоре после того, как мне приснился сон, – мне это было необходимо. Но сон я забыть не мог, и, возможно, он еще не раз приходил ко мне в часы глубочайшего дневного забытья, когда под покровом тьмы я был холоден, беспомощен и недвижим, как камень.
Ну что ж, теперь вам известно о моих снах.
А теперь вновь представьте себе Францию зимой, снежные сугробы вокруг крепостных стен, освещенного горящим в очаге огнем смертного молодого человека, который вместе со своими охотничьими собаками спит на соломе. Эта картина гораздо точнее символизирует мою смертную жизнь, чем любое воспоминание о парижском театре, где незадолго до революции я был счастливым юным актером.
Вот теперь можно начинать. Если вы не против, давайте перевернем страницу.
Часть 1 История Похитителя Тел
Путешествие в Византию
Тут старых нет. Здесь молодость живет В объятиях друг друга. Птичья трель — Песнь поколений, их в века исход. В протоках лосось и в морях макрель — Все славит лето: рыба, птица, скот, Зачатье, зарожденье, колыбель, — Всяк в любострастном гимне пренебрег Всем, что бессмертный интеллект сберег. Как ветошь, пережившая свой срок, Стареющий ничтожен. Свой же он, Душой рукоплеща, – свой каждый клок Уступит песне смертный балахон. Но нет уроков пенья – есть урок Наследия блистательных времен. А посему моря я переплыл И в Византию вещую вступил. Покинь, мудрец, божественный огонь, Как на златой мозаике стены, Покинь святой огонь и струны тронь, Душой моею сладив дрожь струны, В стареющем животном урезонь Боль сердца, в коем страсти вмещены. Оно тебя не знает. Посему Мне вечность подари – но не ему. Природой созданный – я не искал Себя в ее подобьях воплотить, — Пусть эллин бы искусный отковал, Из мысли в золото с эмалью слить, Дабы сонливый государь не спал, И с ветки золотой напевы длить Для византийских барынь и господ О том, что было, есть и что грядет. У. Б. ЙейтсПеревод А. ЭппеляГлава 1
Майами – город вампиров. Саут-Бич на закате, согретый ласкающим теплом совсем не зимней зимы, чистый, цветущий, утопающий в электрическом свете; умиротворенное море овевает нежным бризом темную береговую полосу кремового песка и остужает гладкие широкие мостовые, заполненные счастливыми смертными.
На фоне транспортного шума и гула людских голосов важно шествуют современные юнцы, с трогательной вульгарностью поигрывающие натренированными мускулами, и молоденькие женщины, исполненные гордости за свои гладкие бесполые модные бедра.
Старые гостиницы с оштукатуренными стенами, когда-то второсортные прибежища престарелых, теперь обрели новую жизнь, окрасились в модные пастельные цвета и сияют элегантными неоновыми вывесками. В ресторанах под открытым небом на столах с белыми скатертями мерцают свечи. По бульварам медленно ползут большие сверкающие американские машины, в то время как их водители и пассажиры любуются ослепительным людским потоком; иногда пешеходы полностью заполняют проезжую часть, не позволяя автомобилям двигаться дальше.
На далеком горизонте огромные белые облака под безграничным звездным небом похожи на вздымающиеся горы. При виде лениво, но неустанно изменяющегося южного неба, залитого лазурным светом, у меня всегда перехватывает дух.
На севере во всей своей красе возвышаются башни нового Майами-Бич. На юге и на западе – ослепительные стальные небоскребы центральных районов, ревущие шоссе и кипящие жизнью причалы для круизных теплоходов. Искрящиеся воды великого множества городских каналов рассекают маленькие катера.
В тихих, безупречно ухоженных садах Корал-Гейблз бесчисленные фонари озаряют ярким светом красивые просторные виллы, крытые красной черепицей, мерцающие и переливающиеся бирюзой бассейны. В величественных темных комнатах «Билтмора» бродят призраки. Массивные мангровые деревья раскидывают свои ветви над широкими чистыми улицами.
В Коконат-Гроув покупатели со всего мира наводняют шикарные отели и модные магазины. В вышине на балконах стеклянных кондоминиумов обнимаются парочки, они любуются красотой ночи, и их силуэты четко вырисовываются над спокойными водами залива. По шумным дорогам мимо танцующих пальм и нежных тропических деревьев, мимо приземистых бетонных особняков за узорчатыми железными воротами в обрамлении красных и фиолетовых бугенвиллей мчатся автомобили.
Все это Майами – город воды, скорости, тропических цветов, необъятных небес. Именно ради Майами я чаще всего покидаю свой дом в Новом Орлеане. В огромных плотнонаселенных районах Майами живут люди разных национальностей и разных цветов кожи. Здесь можно услышать идиш, иврит, языки Испании, Гаити, диалекты и наречия всей Латинской Америки. Однако за сверкающим фасадом Майами, за ровным биением сердца большого города скрываются угроза и отчаяние, пульсирует алчность, постоянно присутствует риск – он напоминает неслышно, но эффективно работающую молотилку.
В Майами никогда не бывает по-настоящему темно. Никогда не бывает по-настоящему тихо.
Для вампира это идеальный город: он всегда предоставляет мне смертного убийцу – зловещий образчик извращенной совести, который дарит мне дюжину собственных убийств, пока я опустошаю его вены и банк его памяти.
Но сегодня идет Большая Охота, внеочередная пасхальная трапеза после Великого поста – я надеюсь заполучить великолепный человеческий трофей, описание ужасного modus operandi которого занимает множество страниц в компьютерных файлах смертных блюстителей закона, безымянное существо, кого восхищенная пресса окрестила «Душителем с задворок».
Я вожделею таких убийц!
Как мне повезло, что подобная знаменитость всплыла на поверхность в моем любимом городе. Какое счастье, что он уже нанес шесть ударов на этих самых улицах – убийца стариков и калек, которые в огромных количествах съезжаются сюда, чтобы провести остаток дней в теплом климате. Ах, я бы пересек континент, чтобы перехватить его, а он ждет меня здесь. К его мрачной истории, во всех подробностях описанной по меньшей мере двадцатью криминологами – я без труда похитил ее через компьютер в своем новоорлеанском убежище, – я втайне добавил самые главные элементы: его имя и смертный адрес. Для Темного бога, способного читать мысли, это не составило труда. Я нашел его по пропитанным кровью снам. И сегодня я получу удовольствие, без проблеска угрызений совести окончив его блистательную карьеру в своих темных жестоких объятиях.
О Майами! Идеальное место для маленькой игры страстей.
Я всегда возвращаюсь в Майами, как возвращаюсь в Новый Орлеан. Сейчас я единственный из бессмертных, кто охотится в этом славном уголке Сада Зла, ибо, как вы уже поняли, местный дом общины давно опустел – ни я, ни остальные не в силах были и далее оставаться вместе.
Неизмеримо лучше получить Майами в полное свое распоряжение!
Стоя у окна в номере, который снимал в модном отельчике под названием «Сентрал-Парк» на Оушн-драйв, я время от времени пускал в ход свои сверхъестественные способности и прислушивался к тому, что происходило в соседних комнатах, где богатые туристы наслаждались уединением по высшему разряду – полным покоем всего в нескольких шагах от оживленной улицы, в данный момент заменявшей мне Елисейские Поля или виа Венето.
Мой Душитель был уже почти готов оставить царство судорожных и обрывочных видений и выйти в мир реальных смертей. Мужчине моей мечты пора одеваться.
Покопавшись в только что открытых картонных коробках, чемоданах и ящиках, где по обыкновению царил полнейший беспорядок, я выбрал серый бархатный костюм – такие костюмы всегда нравились мне больше других, особенно если ткань достаточно плотная и не слишком блестит. Не самый, надо признаться, подходящий наряд для летней ночи, но ведь я не ощущаю жару или холод так, как смертные. А пиджак был тонкий, с небольшими отворотами, точно подогнанный по фигуре и приталенный; он походил на костюм для верховой езды, а если быть еще точнее – на изящный сюртук прежних времен. Мы, бессмертные, всегда предпочитаем несколько старомодную одежду, напоминающую нам о том веке, когда мы Родились во Тьму. Иногда истинный возраст бессмертного можно определить просто по покрою платья.
Для меня важное значение имеет и ткань. Восемнадцатый век был таким сияющим! Я не могу обойтись хотя бы без легкого отлива. А этот красивый костюм с узкими бархатными брюками словно для меня создан. Что же до белой рубашки, то шелк на редкость мягкий и тонкий – если ее свернуть, она уместится в ладони. Но разве моей столь неуязвимой и в то же время удивительно чувствительной кожи достойно касаться что-либо иное? Теперь о ботинках. Они ничем не отличаются от всей остальной дорогой обуви, которую я ношу в последнее время. У них безупречные подошвы, так как им редко приходится ступать по матери-земле.
Слегка тряхнув волосами, я убедился, что они, как обычно, легли густыми сверкающими светлыми волнами до плеч. Каким меня видят смертные? Если честно, не знаю. Свои голубые глаза я по обыкновению прикрыл темными очками, иначе их сияние может случайно загипнотизировать кого-нибудь – это всегда очень досаждает, – а на изящные белые руки с предательски стеклообразными ногтями натянул ставшие уже привычными мягкие перчатки из серой кожи.
Еще один небольшой камуфляж: коричневатого тона крем – его я нанес на лицо, шею и на открытые участки груди.
Я обернулся к зеркалу и внимательно изучил полученный результат. По-прежнему неотразим! Ничего удивительного, что в ходе моей краткой карьеры рок-музыканта я произвел поистине фурор. Впрочем, с тех пор как я стал вампиром, бурный успех сопутствовал мне всегда. Благодарение Богу, в своих поднебесных странствиях я не стал невидимым. При воспоминании о том, как я скитался над облаками, легкий, как частичка пепла на ветру, мне захотелось плакать.
Большая Охота неизменно возвращала меня к действительности: выследить, дождаться и поймать его в тот момент, когда он будет готов лишить жизни свою очередную жертву, и тогда убить – медленно, мучительно, выпивая всю его злодейскую сущность и в грязном объективе души злодея воочию видя все его прежние жертвы.
Пожалуйста, поймите, в этом нет никакого благородства. Я не считаю, что вызволение одного бедного смертного из лап подобного дьявола способно хотя бы теоретически спасти мою душу – слишком уж часто я отнимал у людей жизни. Если, конечно, не верить в безграничную силу одного доброго дела. Не знаю, верю я в это или нет. Я верю вот во что: грех одного убийства бесконечен, а мой грех вечен, как и моя красота. Простить меня нельзя, ибо простить меня некому.
Тем не менее мне нравится спасать этих несчастных от уготованной им судьбы. И мне нравится призывать к себе убийц, потому что они – мои братья и место их рядом со мной; так почему бы им не умереть в моих объятиях вместо бедного милосердного смертного, который никогда по своей воле не причинил никому зла? Таковы правила моей игры, которые я строго соблюдаю, потому что сам их придумал. И я пообещал себе, что больше не стану оставлять у всех на виду тела, что приложу все усилия, чтобы выполнить требования остальных. Но все же… Мне нравилось оставлять опустошенную оболочку для официальных властей. Это было так здорово – вернуться в Новый Орлеан, включить компьютер и от начала до конца прочесть отчет об очередной смерти.
Неожиданно мое внимание привлекли звуки, доносившиеся из проезжавшей внизу полицейской машины: разговор шел о моем убийце, о том, что луна и звезды расположены соответствующим образом и вскоре он нанесет новый удар. Наиболее вероятно, что, как и прежде, это произойдет на одной из глухих улочек Саут-Бич. Но кто он? Как его остановить?
Семь часов. Ровно столько показывали крошечные зеленые цифры на моих электронных часах, хотя я и без них, естественно, это знал. Я закрыл глаза, чуть-чуть склонил голову набок, собираясь с силами, чтобы в полной мере воспользоваться той способностью, которую ненавидел больше всего. Сначала обострился слух, как будто я нажал на современный выключатель. Тихое мурлыканье окружающего мира превратилось в адский хор – резкий смех, жалобы, лживые речи и крики боли, разрозненные мольбы. Я заткнул уши, как будто от этого мог быть хоть какой-нибудь толк, но в конце концов мне удалось заглушить все звуки.
Мало-помалу передо мной появились неясные, перекрывающие друг друга образы их мыслей – словно миллион птиц, трепеща крыльями, взлетел в поднебесье. «Подайте-ка сюда моего убийцу, что он видит?»
Вот наконец и он – в маленькой грязной комнатушке, совсем не похожей на мою, хотя она всего-то в двух кварталах отсюда. Только встает с постели. Дешевая мятая одежда, пот на небритом лице, толстая рука нервно тянется в карман рубашки за сигаретами, но он тут же забывает о них и роняет. Грузное сложение, бесформенные черты лица и взгляд, выражающий смутное беспокойство или туманное раскаяние.
Ему не пришло в голову приодеться для этого вечера, для трапезы, которой он так жаждал. Его пробуждающийся ум изнемогал под тяжестью уродливых пульсирующих снов. Он встряхнулся, на покатый лоб упали нечесаные жирные волосы, глаза его походили на осколки черного стекла.
Застыв в своей тихой темной комнате, я следовал за ним по пятам: спустился через черный ход, вышел на залитую ослепительным светом Коллинз-авеню, миновал пыльные витрины и покосившиеся рекламные щиты и двинулся навстречу непременно ждущей впереди, но еще не избранной им вожделенной жертве.
Кто же эта счастливица, слепо бредущая в немногочисленной унылой вечерней толпе по тем же мрачным улицам, неуклонно приближаясь к своему кошмару? Может быть, она несет пакет молока и кочан салата в коричневом бумажном пакете? Ускорит ли она шаг, завидев головорезов на углу? Тоскует ли она по старому прибрежному району, где, возможно, жила когда-то вполне обеспеченно, до тех пор пока архитекторы и декораторы не выставили ее в гостиницу с потрескавшимися и облупившимися стенами?
И что придет в голову этому гнусному ангелу смерти, когда он заметит ее в людском потоке? Напомнит ли она ему о мифической сварливой бабе из детства, которая выбивала из него остатки сознания, пока он не поднимался к пантеону подсознательного? Или мы требуем от него слишком многого?
Я хочу сказать, что бывают такого рода убийцы, которые не проводят никакой параллели между символом и реальностью, а через несколько дней и вообще напрочь забывают о содеянном. Очевидно в данном случае лишь одно: их жертвы не заслужили такой участи, а они, убийцы, заслужили встречу со мной.
Ничего, прежде чем он получит возможность прикончить ее, я вырву его злобное сердце, и тогда он отдаст мне все, что имеет, включая себя самого.
Я медленно спустился по ступенькам и прошел по элегантному, сверкающему, отделанному в стиле арт-деко холлу, шикарному, как в рекламе. Как же приятно двигаться по-смертному, открывать двери, выходить на свежий воздух. Смешавшись с прогуливающимися по тротуару людьми, я направился на север, с вполне естественным любопытством скользя взглядом по перестроенным или заново отделанным отелям и маленьким кафе.
Возле перекрестка толпа сгустилась. Перед фешенебельным рестораном на открытом воздухе стояли гигантские телекамеры, объективы которых были направлены на небольшой участок тротуара, ярко, до рези в глазах, освещенный громадными белыми прожекторами. Проезжая часть была перекрыта грузовиками, машины замедляли ход и останавливались. Собравшуюся толпу зевак от мала до велика происходящее не слишком-то интересовало – теле– и кинокамеры на Саут-Бич давно стали привычным зрелищем.
Опасаясь излишнего сияния кожи, способного привлечь ко мне ненужное внимание, я старательно обходил любые источники света. Ах, если бы я был одним из этих загорелых людей, пахнущих дорогими пляжными маслами и лишь слегка прикрывающих тело полупрозрачными хлопчатобумажными лоскутками! Повернув за угол, я снова осмотрелся в поисках добычи. Он спешил, галлюцинации до такой степени помрачали его сознание, что он с трудом мог контролировать свою шаркающую, неуверенную поступь.
Времени не оставалось.
Чуть увеличив скорость, я взлетел на невысокие крыши. Ветер стал сильнее и свежее. Рокот возбужденных голосов, нудные привычные песни по радио да и шум самого ветра здесь не резали слух.
В тишине мне удалось поймать его отражение в равнодушно взиравших на него глазах встречных; в тишине я вновь увидел его фантазии об иссохших руках и ногах, о впалых щеках и обвислых грудях. Тонкая мембрана между фантазией и реальностью уже начала рваться.
Я спрыгнул на Коллинз-авеню так быстро, что, казалось, материализовался из воздуха. Но никто на меня не смотрел. Слона обычно никто не замечает.
Через несколько минут я шел легкой походкой всего в нескольких шагах позади него – угрожающего вида молодой человек, не задумываясь врезающийся в стоящие на его пути компании крутых ребят. Преследуя добычу, я вошел в стеклянные двери огромной аптеки, где царил ледяной холод. Вот уж зрелище так зрелище – пещера с низким потолком, битком набитая всевозможными фасованными и законсервированными продуктами, предметами туалета и средствами для ухода за волосами, девяноста процентов которых не было и в помине в ту эпоху, когда я появился на свет.
Я имею в виду гигиенические салфетки, глазные капли, пластмассовые заколки для волос, фломастеры, а также кремы и мази для всех мыслимых частей человеческого тела, жидкости для мытья посуды всех цветов радуги, составы для окраски волос доселе неведомых и пока что не имеющих названия оттенков. Представьте только, как Людовик XI с шумом открывает хрустящий пластиковый пакет с подобными чудесами внутри? Что бы он подумал о пластиковых кофейных чашках, о шоколадном печенье в целлофановой упаковке или о ручках, в которых не кончаются чернила?
Да, я и сам еще не до конца привык к этим вещам, хотя вот уже два века своими глазами наблюдаю за ходом промышленной революции. В таких аптеках я могу стоять часами. Иногда на меня словно столбняк находит в самом центре Уол-Март.
Но на этот раз нельзя выпускать добычу из вида. Придется забыть на время о «Тайм» и «Вог», о карманных компьютерных переводчиках и наручных часах, которые показывают время даже тогда, когда их владелец плавает в морской воде.
Зачем же он пришел в такое место? Обремененные детишками молодые кубинские семьи не в его стиле. Но он бесцельно бродил по узким проходам, покрасневшими глазами осматривая заставленные полки и не обращая ровным счетом никакого внимания ни на множество темных лиц вокруг, ни на быструю испанскую речь; да и его, кроме меня, никто не замечал.
Господи Боже, какой же он гнусный – во власти своей мании он утратил всякую благопристойность, лицо избороздили глубокие складки, шея покрыта слоем грязи. Он мне понравится? Черт, это же бурдюк с кровью. Зачем искушать судьбу? Ведь суть в том, что я не могу больше убивать маленьких детей. Или лакомиться шлюхами с пристани, убеждая себя, что поступаю справедливо, коль скоро они в свою очередь отравили не одного лодочника. Я же умираю от угрызений совести! А когда ты бессмертен, этот постыдный процесс может затянуться надолго. Нет, вы только посмотрите на него: грязный, вонючий, бестолковый убийца! Заключенные в тюрьме и то вкуснее.
И когда я еще раз проник в его мысли – как будто дыню разрезал, – до меня дошло: он сам не знает, кто он такой! Он никогда не читал о себе в газетах! Он действительно не в состоянии последовательно восстановить в памяти все события своей жизни и не сможет признаться в совершенных убийствах, потому что о них не помнит; он даже не знает, что сегодня вечером совершит убийство! Он не знает того, что знаю я!
О горе мне, горе, я вытянул самую паршивую карту, сомнений быть не может. Господи Боже! О чем я думал, выслеживая именно его, когда подзвездный мир полон куда более злобных и коварных тварей! Мне хотелось плакать.
Но в этот момент сработал возбуждающий фактор. Он увидел свою старушку, заметил ее голые морщинистые руки, сгорбленную спину, худые трясущиеся бедра в светлых шортах. Она бесцельно бродила по залитому флуоресцентным светом залу, наслаждаясь стоящим вокруг гулом, – лицо полускрыто зеленым пластмассовым козырьком, волосы скручены и закреплены черными шпильками на крохотном затылке.
В небольшой корзинке она несла пинту апельсинового сока в пластиковой бутылке и пару тапочек, таких мягких, что их свернули в аккуратный маленький рулончик. Теперь же она с заметной радостью взяла с полки и добавила к ним книжку в бумажной обложке; она ее уже читала, однако сейчас любовно поглаживала, мечтая о том, как будет ее перечитывать, – ведь это словно навестить старых знакомых. «Дерево растет в Бруклине». Да, мне она тоже понравилась.
Впав в транс, он следовал за ней по пятам, так близко, что женщина почувствовала его дыхание на своей шее. Пустыми, остекленевшими глазами следил он, как та дюйм за дюймом приближается к кассе, извлекая из-за обвисшего воротничка блузки несколько грязных долларовых банкнот.
Они вышли на улицу – он плелся равнодушно и целенаправленно, словно кобель, преследующий пустующую сучку, а она двигалась медленно, резко и неуклюже меняя направление, чтобы не сталкиваться с группами шумных и наглых подростков; серый пакет с вырезанными в пластике ручками уныло болтался в ее руке. Она что, разговаривает сама с собой? Похоже на то. Я не стал вникать в мысли старушки, постепенно ускорявшей шаг. Я изучал преследующего ее зверя, который был абсолютно не в состоянии видеть и воспринимать ее как единое целое.
Он трусил за ней, а в его мозгу мелькали болезненные, слабые образы. Он жаждал накрыть собой старую плоть, жаждал закрыть ладонью старческий рот.
Когда она добралась до небольшого многоквартирного дома, стоящего на отшибе в окружении чахлых карликовых пальм и выстроенного, похоже, из рассыпающегося известняка, такого же, как и все прочие здания в этой убогой части города, он внезапно покачнулся и остановился, безмолвно следя за тем, как она идет по узкому, вымощенному плиткой дворику и поднимается по грязно-зеленым цементным ступенькам. Он запомнил номер квартиры, когда она открывала дверь, затем, тяжело ступая, дошел до этого места и, привалившись к стене, начал во всех подробностях рисовать в воображении, как будет убивать ее в безликой пустой спальне, представлявшей собой не более чем смешение пятен света и тени.
Нет, вы посмотрите только, как он стоит там, у стены, свесив набок голову! Такое впечатление, будто его зарезали.
Да разве может он хоть кого-нибудь заинтересовать? Почему бы мне не убить его прямо сейчас?
Но секунды уходили, а ночь теряла свое сумеречное свечение. Звезды засияли ярче. Свежий ветерок налетал порывами.
Мы ждали.
Ее глазами я увидел гостиную, как будто действительно мог проникать взглядом сквозь стены: чистенькая, но забитая потрепанной старой мебелью из уродливой фанеры, с закругленными углами; судя по всему, мебель ее мало интересовала. Однако все было отполировано ее любимым ароматизированным маслом. Сквозь дакроновые занавески молочного оттенка, унылые, как и вид за окном, просачивался неоновый свет. Но маленькие, продуманно расставленные лампы обеспечивали уютное освещение. Вот это было для нее важно.
Она спокойно расположилась в кленовом кресле-качалке с чудовищной обивкой из шотландки – крошечная, но исполненная достоинства фигурка – и открыла роман в бумажной обложке. Какое счастье – вновь встретиться с Фрэнси Нолан! Хлопчатобумажный халат в цветочек, который она достала из стенного шкафа, едва прикрывал худые колени, на уродливой формы ступни она надела синие тапочки, похожие на носки, а длинные седые волосы заплела в толстую изящную косу.
Перед ней на маленьком черно-белом телеэкране беззвучно спорили теперь уже покойные кинозвезды. Джоан Фонтейн опасалась, что Кэри Грант хочет ее убить. И, судя по выражению его лица, ее опасения вполне оправданны. Как можно доверять Кэри Гранту, недоумевал я, человеку, который выглядит словно деревяшка?
Она могла обойтись и без звука – по ее подсчетам, она смотрела этот фильм уже раз тринадцать. Роман же, лежавший у нее на коленях, читала только дважды, так что очередное чтение еще не выученных наизусть абзацев доставит ей особенное удовольствие.
Наблюдая из глубины тенистого сада, я сумел определить основные качества ее личности, не склонной драматизировать происходящее и не подверженной влиянию встречающихся на каждом шагу проявлений дурного вкуса. Ее немногочисленные сокровища уместились бы в любом шкафу. Книга и светящийся экран значили для нее намного больше, чем все остальные вещи, и она прекрасно сознавала их духовную природу. Даже цвет ее практичной и безликой одежды она не считала заслуживающим внимания.
Мой убийца-скиталец пребывал в состоянии, близком к параличу, в его мозгу роились обрывки не поддающихся интерпретации образов.
Я скользнул за оштукатуренное здание и обнаружил лестницу, ведущую в кухню. По моей команде замок легко открылся. Дверь распахнулась, словно я толкнул ее, хотя я и пальцем не пошевелил.
Я беззвучно проскользнул в помещение с покрытым линолеумом полом. Запах газа, исходивший от маленькой белой плиты, вызывал у меня тошноту. Равно как и запах мыла, лежащего на липком керамическом блюдце. Но сама обстановка мгновенно завоевала мое сердце. Красивый, дорогой ее сердцу китайский фарфоровый сервиз, синий с белым, так аккуратно расставленный, с тарелками на переднем плане. Обращали на себя внимание загнутые уголки страниц в поваренной книге. А на столе – ни пятнышка, сияет ярко-желтая клеенка, в круглой чаше с прозрачной водой растет восковой плющ; вода отбрасывает на низкий потолок дрожащее пятно света.
Я неподвижно стоял в кухне, придерживая пальцами дверь, чтобы она не открылась, и думал только о том, что она читает сейчас свой любимый роман Бетти Смит, время от времени поглядывает на мерцающий экран и совершенно не боится смерти. Она не обладала внутренней антенной, которая позволила бы ей почувствовать присутствие совсем рядом на улице безумного призрака или монстра, словно дух проникшего в ее кухню.
Убийца так глубоко погрузился в созерцание своих видений, что не видел прохожих. Он не заметил ни патрулирующую полицейскую машину, ни подозрительные и угрожающие взгляды облаченных в униформу смертных, которые знали о нем все, включая и то, что он совершит нападение сегодня ночью; не знали только, кто он такой.
По небритому подбородку потекла тонкая струйка слюны. Ни его дневная жизнь, ни страх разоблачения не были для него реальностью – реальностью оставались лишь видения и вызванная ими неуемная дрожь, сотрясавшая все его грузное, нескладное тело. Правая рука внезапно дернулась. Левый уголок рта приоткрылся.
Я ненавидел этого мужика! Я не хотел пить его кровь. Он был убийцей низкого пошиба. Чьей крови я жаждал, так это ее.
Она одиноко сидела в тишине, сосредоточенно читая хорошо знакомые абзацы, и казалась такой маленькой, задумчивой и такой довольной. Назад, назад, к тем дням, когда она – элегантно одетая молодая секретарша в красной шерстяной юбке и белой блузке с оборками и жемчужными пуговками на манжетах – впервые читала эту книгу, сидя в окружении множества людей у пузырящегося фонтана на Лексингтон-авеню в Нью-Йорке. Она работала в каменном высотном бизнес-центре – поистине великолепном здании с узорчатыми латунными дверцами лифтов и выложенными темно-желтой мраморной плиткой полами в холлах.
Я хотел прижаться губами к ее воспоминаниям – о стуке высоких каблучков по мраморному полу, о ее гладких икрах, затянутых в шелковые чулки, которые она всегда надевала с величайшей аккуратностью, чтобы длинными накрашенными ногтями не зацепить петли. Передо мной на секунду мелькнули ее рыжие волосы. Я увидел ее экстравагантную, на самом деле, наверное, чудовищную, но тем не менее очаровательную желтую шляпку с полями.
Такую кровь стоит выпить. А я был голоден, такое чувство голода я редко испытывал в последние десятилетия. Выдержать внеочередной «великий пост» оказалось сложнее, чем я думал. О Господи, как же мне хотелось ее убить!
Внизу, на улице, убийца издал слабый булькающий звук, прорвавшийся сквозь бурлящий поток остальных звуков к моим чувствительным ушам вампира.
Наконец чудовище отделилось от стены, наклонилось, как будто собиралось продвигаться ползком, потом неторопливо побрело к нам – во дворик и наверх по ступенькам.
Позволить ему напугать ее? Какой смысл? Ведь я уже держу его на прицеле. Тем не менее я дал ему возможность вставить маленькую металлическую отмычку в круглую замочную скважину и взломать замок. Цепочка вылетела из прогнившего дерева.
Он шагнул в комнату и уставился на нее без всякого выражения. Она в ужасе вжалась в кресло, книга соскользнула с коленей.
И тут в проеме кухонной двери он увидел меня – слившуюся с полумраком тень молодого человека в сером бархатном костюме и темных очках, сдвинутых на лоб. Я смотрел на него тем же лишенным выражения взглядом. Успел ли он разглядеть мои сияющие глаза, похожую на отполированную слоновую кость кожу, безмолвный взрыв белого света от моих волос? Или же он увидел во мне всего лишь препятствие на пути к его зловещей цели, и вся красота пропала зря?
Через секунду он кинулся наутек. Он помчался вниз, старушка закричала и бросилась захлопывать деревянную дверь.
Я летел за ним, не касаясь земной тверди, и позволил ему на секунду заметить себя под уличным фонарем, когда он заворачивал за угол. Мы промчались еще полквартала, и тогда я по воздуху направился к нему; если бы смертные дали себе труд присмотреться, то увидели бы лишь неясное пятно. Я застыл перед ним, он взвыл и бросился бежать.
В такую игру мы играли на протяжении нескольких кварталов. Он бежал, останавливался – и видел меня за своей спиной. Его прошиб пот, и вскоре тонкая синтетическая ткань рубашки пропиталась им насквозь и прилипла к гладкой, безволосой груди.
Наконец он добежал до своей паршивой ночлежки и помчался вверх по лестнице. Когда он открыл дверь своей комнатушки на верхнем этаже, я уже был там. Он и вскрикнуть не успел, как оказался в моих объятиях. В ноздри мне ударила вонь грязных волос, смешанная со слабым химическим запахом синтетических нитей его рубашки. Но теперь это не имело значения. Он оказался сильным и теплым – какой сочный каплун! – грудь его вздымалась, запах крови заполнял мой мозг. Я ощущал ее биение в желудочках, клапанах и в болезненно сокращающихся сосудах. Я слизнул ее с мягкой красной плоти возле глаз.
Его сердце отчаянно билось, словно готовое вот-вот разорваться, – я старался быть осторожным, чтобы не раздавить свою добычу. Я сомкнул зубы на влажной коже шеи…
«М-м-м. Мой брат, мой бедный одурманенный брат. Густая кровь, хорошая…»
Пока он обмякал в моих объятиях, забил фонтан образов… Его жизнь была поистине сточной канавой: старушки и старики, их трупы, плывущие по течению, бессмысленно натыкающиеся один на другой… Никакого удовольствия. Слишком все просто. Ни коварства, ни злобы – ничего. Примитивный, как ящерица, глотающая муху за мухой. Господи Боже, это все равно что вернуться в то время, когда землей правили рептилии и целый миллион лет лишь их желтые глаза видели падающий дождь и восходящее солнце.
Неважно. Я отпустил его, и он беззвучно выскользнул из моих рук. Я наполнил свои вены кровью млекопитающего. Не так уж и плохо. Я закрыл глаза в ожидании, пока эта раскаленная спираль не проникнет в мои кишки, или что там находится внутри этого жесткого могущественного белого тела. Как в тумане я увидел, что он ползет по полу на коленях – на редкость неуклюже. Как просто – подобрать его из кучи мятых рваных газет, где на пыльный коврик льется холодный кофе из опрокинутой чашки.
Я резко дернул его за воротник. Большие пустые глаза закатились. Он вслепую пнул меня ногой, скользнув ботинком по коже, – бандит, убийца старых и немощных. Схватив его за волосы, я снова приник к нему голодным ртом и почувствовал, как он каменеет, словно мои клыки смочены ядом.
Кровь снова ударила мне в голову. Я ощущал, как она наполняет энергией крошечные сосуды лица, пульсирует даже в кончиках пальцев и колючим теплым потоком разливается по позвоночнику. Глоток за глотком. Какое сочное и грузное создание! Я снова выпустил его из рук и, когда он, чуть не падая, пополз прочь, последовал за ним, протащил его по всему полу, развернул к себе лицом, потом отшвырнул прочь и позволил еще немного побороться за свою жизнь.
Теперь он пытался заговорить, издавая какие-то звуки, весьма отдаленно напоминавшие человеческий язык. Ничего не видя перед собой, он бросился на меня. И впервые в его облике появилось нечто похожее на трагическое достоинство, в слепых глазах мелькнуло неясное выражение гнева. Казалось, меня окутали старые легенды, воспоминания о гипсовых статуях и безымянных святых. Он вцепился мне в подошву. Я поднял его и нанес новую рану, на этот раз она оказалась слишком большой. Все было кончено.
Наступившая смерть словно нанесла мне удар в живот. На мгновение я почувствовал тошноту, но потом остались только тепло, сытость и ослепительное сияние живой крови вместе с потрясшей все мое тело предсмертной дрожью жертвы.
Я упал в его грязную постель. Сколько я там пролежал, созерцая низкий потолок, не знаю.
Когда кислые, затхлые запахи комнаты и зловоние его тела стали нестерпимыми, я поднялся и поплелся прочь, двигаясь так же неуклюже, как и он. С ненавистью и злостью я молча отдался смертным движениям, ибо не желал больше быть невесомым крылатым ночным скитальцем. Я хотел быть человеком, испытывать человеческие чувства; его кровь наполнила каждую клеточку моего тела, но мне этого было недостаточно. Совершенно недостаточно!
Куда подевались все обещания? Полузасохшие чахлые карликовые пальмы стучали об оштукатуренные стены.
– О, ты вернулся, – сказала она мне.
Низкий сильный голос, без всякой дрожи. Она стояла перед уродливым плетеным креслом-качалкой с ободранными кленовыми ручками, сжимая в руке дешевый роман, и внимательно смотрела на меня сквозь очки в серебряной оправе. Маленький бесформенный рот, приоткрывающий желтые зубы, отвратительный контраст с темной личностью, проявившейся в голосе, которому неведома слабость.
Что, во имя Бога, думала она, улыбаясь мне? Почему она не молилась?
– Я знала, что ты придешь, – сказала она. Она сняла очки, и я увидел остекленевшие глаза. Что им предстает? Какие видения от меня исходят? Я, способный безупречно контролировать каждую мелочь, был так обескуражен, что чуть не заплакал. – Да, я знала.
– Правда? И откуда ты знала? – прошептал я, приближаясь к ней, наслаждаясь интимной теснотой заурядной комнатушки.
Я протянул свои чудовищные, слишком белые для человека пальцы, достаточно сильные, чтобы оторвать ей голову, и нащупал ее тонкое горло. Запах «Шантильи» – или какой-то другой аптечный запах.
– Да, – негромко, но уверенно повторила она. – Я всегда знала.
– Так поцелуй меня. Люби меня.
Какая она теплая, какие у нее крошечные плечи, как она великолепна в своем увядании – слегка пожелтевший, но еще полный аромата цветок: под утратившей свежесть жизни кожей танцуют бледно-голубые вены, веки плотно прилегают к закрытым глазам, кожа туго обтягивает кости черепа.
– Забери меня на Небеса, – попросила она. Казалось, что голос ее исходит из самого сердца.
– Не могу. Ах, если бы это было в моих силах! – мурлыкал я ей на ухо.
Я обнял ее и уткнулся лицом в мягкое гнездышко седых волос. Прикосновение к лицу ее сухих, как осенние листья, пальцев заставило меня вздрогнуть всем телом. Она тоже дрожала. Нежное, изможденное маленькое существо с бесплотным, словно хрупкий огонек, телом, существо, обладающее теперь лишь разумом и волей!
«Одну каплю, Лестат, не больше!»
Но было уже слишком поздно, я понял это, когда мне на язык брызнул первый фонтанчик крови. Я опустошал ее досуха. Конечно, ее встревожили мои стоны, но потом она уже ничего не слышала… Как только это начинается, они перестают слышать окружающие звуки.
«Прости меня».
«О, дорогой!»
Мы вместе опускались на ковер, любовники на шершавом лоскутке с поблекшими цветами. Я видел упавшую книгу и рисунок на обложке, но все казалось ненастоящим. Я осторожно обнял ее, чтобы не сломать. Но пустой скорлупой в данном случае был я, не она. Смерть наступала быстро, словно она сама шла мне навстречу по широкому коридору в каком-то совершенно определенном и чрезвычайно важном месте. Ну конечно, желтая мраморная плитка… Нью-Йорк, слышен даже доносящий снизу автомобильный шум и тихий удар хлопающей в другом конце холла двери.
– Спокойной ночи, дорогой, – прошептала она.
У меня слуховые галлюцинации? Как она до сих пор может произносить слова?
«Я люблю тебя».
– Да, дорогой. Я тоже тебя люблю.
Она стояла в холле и улыбалась. Густые рыжие волосы красиво завивались на уровне плеч; чуть раньше ее каблучки громко и соблазнительно стучали по мрамору, но сейчас ее окутывала тишина, хотя складки шерстяной юбки все еще колыхались; она смотрела на меня с очень странным хитрым выражением, а потом направила на меня маленький черный тупоносый пистолет.
«Какого черта ты делаешь?»
Она умерла. Раздавшийся выстрел был столь оглушительным, что какое-то время я не слышал ничего, кроме звона в ушах. Я лежал на полу и тупо смотрел в потолок, ощущая лишь запах кордита в нью-йоркском коридоре.
Но я был в Майами. На столе тикали ее часы. Из перегревшегося телевизора доносился сдавленный, еле слышный голос Кэри Гранта – он говорил Джоан Фонтейн, что любит ее. А Джоан Фонтейн была так счастлива. Ведь прежде она была уверена, что Кэри Грант собирается ее убить.
Я тоже.
Саут-Бич. Вернуться бы к Неон-Стрип. Но на этот раз я удалялся от шумных улиц, вышел к песку и направился к морю.
Я шел и шел, пока не остался совсем один – ни ночных купальщиков, ни любителей прогуливаться по пляжу. Только песок, с которого уже стерлись все дневные следы, и огромный серый ночной океан, без отдыха бьющийся о покорный берег. Какое высокое небо, полное быстрых облаков и далеких, едва различимых звезд.
Что я наделал! Убил ее, его жертву, выключил свет жизни той, кого обязан был спасти. Вернулся к ней, лег с ней и убил, а она слишком поздно выстрелила из невидимого пистолета.
Меня опять мучила жажда.
Потом я уложил ее на маленькую, аккуратно застеленную блеклым нейлоновым одеялом кровать, сложил ей руки и закрыл глаза.
Господи, помоги мне. Где мои безымянные святые? Где ангелы с крыльями, готовые отнести меня в ад? А когда они придут, станут ли они последним прекрасным зрелищем, которое мне суждено увидеть? Можно ли, падая в огненное озеро, проследить за их поднебесным полетом? Стоит ли надеяться в последний раз лицезреть их золотые трубы, их обращенные к Небесам лица, отражающие свет лика Господня?
Что я знаю о Небесах?
Я долго стоял и смотрел на далекие ночные облака, а потом повернулся назад, к мигающим огням новых отелей и сиянию уличных фонарей.
Вдалеке, на тротуаре, стоял одинокой смертный; он смотрел в мою сторону, но меня, скорее всего, даже не замечал – маленький силуэт на краю великого моря. Наверное, он, как и я, просто любовался океаном, словно тот мог сотворить чудо, словно океанская вода способна омыть и очистить наши души.
Когда-то мир представлял собой сплошное море; сто миллионов лет шел дождь. Но теперь космос буквально кишит чудовищами.
Он все не уходил, одинокий смертный с пристальным взглядом. И постепенно я осознал, что взгляд его сосредоточен именно на мне. Через пустынную гладь пляжа и прозрачную темноту наши глаза встретились! Да, он смотрит на меня.
Поначалу я едва обратил на это внимание и продолжал наблюдать за ним лишь потому, что не хотел отворачиваться. Потом меня охватило любопытное ощущение – ничего подобного я прежде не испытывал.
У меня слегка закружилась голова, затем последовала мягкая покалывающая вибрация, распространившаяся по всему телу. Мои ноги как будто напряглись, сжимая заполняющее их вещество. В самом деле, это чувство было настолько отчетливым, что мне показалось, будто меня вытесняют из собственного тела. Я изумился. В этом было нечто неуловимо восхитительное, особенно для такого твердого, холодного и невосприимчивого к различным ощущениям существа, как я. Необыкновенное чувство поглотило меня целиком, как кровь, хотя не имело никакого отношения к внутренним органам. И не успел я проанализировать это ощущение, как оно исчезло.
Я вздрогнул. Может быть, я все это выдумал? Я продолжал изучать странного смертного, в то время как он – бедная душа – в ответ смотрел на меня, не подозревая о моей истинной сущности.
На его молодом лице возникла робкая, полная безмерного удивления улыбка. И постепенно до меня дошло, что это лицо мне знакомо. Еще большее потрясение я испытал, увидев ясно читавшееся на нем выражение узнавания и непонятного ожидания. Вдруг он поднял правую руку и помахал мне.
Я был совершенно сбит с толку.
Но я знал этого смертного. Нет, вернее будет сказать, что я уже видел его, и не один раз. И тогда ко мне с полной силой вернулись некоторые ясные воспоминания.
В Венеции он болтался на углу площади Сан-Марко, а через несколько месяцев – в Гонконге, рядом с ночным рынком, и оба раза я обратил на него внимание только потому, что он обратил внимание на меня. Да, несомненно: то же самое крепкого сложения тело и те же густые волнистые коричневые волосы.
Невозможно. Или, лучше сказать, невероятно, ибо это действительно был он! Он повторил приветственный жест и поспешно, довольно-таки неловко побежал ко мне странными неуклюжими шагами; я наблюдал за ним с холодным неугасающим изумлением.
Я попытался прочесть его мысли. Ничего. Прочно заперты. Лишь по мере его приближения к более ярко освещенной прибрежной полосе все отчетливее видится улыбающееся лицо. В ноздри мне ударил запах его страха и крови. Да, он был напуган, однако при этом ужасно возбужден. Внезапно он показался мне очень соблазнительным – еще одна жертва кидается прямиком в мои объятия.
Ах, как блестят его большие карие глаза! И как сияют зубы!
С отчаянно колотящимся сердцем он остановился в трех футах от меня и влажной дрожащей рукой протянул мне пухлый мятый конверт.
Я не сводил с него глаз, не выдавая своих чувств – ни задетой гордости, ни уважения к столь потрясающему достижению: ведь он сумел найти меня и отважился подойти. Я был достаточно голоден, чтобы, не задумываясь, схватить его и выпить его кровь. Я смотрел на него и ни о чем не думал. Я видел только кровь.
Как будто осознав это, почувствовав в полной мере, он напрягся, бросил на меня яростный взгляд, швырнул к моим ногам толстый конверт и лихорадочно заплясал назад по рыхлому песку. Казалось, у него вот-вот подогнутся ноги. Он чуть не упал, когда повернулся и бросился бежать.
Жажда немного улеглась. Может быть, я действительно ни о чем не думал, но колебался, а это, видимо, требует каких-то мыслей. Кто он, этот нервный сукин сын?
Я предпринял еще одну попытку проникнуть в его разум. Ничего. Очень странно. Но встречаются смертные, обладающие врожденным даром закрывать мысли, даже если абсолютно не подозревают, что кто-то ими интересуется.
Он все бежал и бежал, отчаянно, неловко, и в конце концов, ни разу не остановившись, скрылся в темном переулке.
Прошло несколько минут.
Теперь я даже запаха его не улавливал, если не считать конверта, лежавшего там, куда он его бросил.
Бога ради, что это может значить? Без сомнения, он в точности знал, где я нахожусь. Венеция, Гонконг… Это не могло быть простым совпадением. Его внезапный испуг служит тому несомненным доказательством. Но его мужество не могло не вызвать у меня улыбку. Представьте только – следить за мной!
Может быть, это обезумевший поклонник, постучавшийся в двери храма в надежде, что я поделюсь с ним Темной Кровью просто из жалости или в награду за безрассудство? Внезапно я ощутил приступ бешенства, смешанного с горечью, но он длился недолго, а потом мне опять стало все равно.
Я поднял конверт и увидел, что он не запечатан и на нем нет никаких надписей. Внутри оказалось не что иное, как рассказ, по-видимому выдранный из какого-то дешевого издания книжки.
Толстая пачка мягких листков небольшого формата, скрепленных в левом верхнем углу. Никакой записки. Автором рассказа оказался знакомый мне писатель по имени Г. П. Лавкрафт, неплохой сочинитель историй о сверхъестественных происшествиях и разного рода ужасах. Я, собственно, знал и этот рассказ, его название запомнилось мне навсегда: «Тварь на пороге» – оно меня рассмешило.
«Тварь на пороге»… Я и сейчас улыбнулся. Да, я вспомнил этот рассказ, неглупый, забавный.
Но зачем мне передал его тот странный смертный? Нелепица какая-то. Внезапно я опять разозлился – настолько, насколько позволило мое грустное настроение.
Я рассеянно сунул пакет в карман и задумался. Да, он определенно ушел. Я даже не смог увидеть его чужими глазами.
О, если б он попытался ввести меня в искушение в какую-нибудь другую ночь, когда душа у меня не так болела бы и не так устала, когда я мог заинтересоваться им хотя бы настолько, чтобы выяснить, в чем здесь дело.
Но казалось, что с тех пор, как он появился и исчез, минули тысячелетия. Ночь опустела, если не брать в расчет вечную суету большого города и глухой рокот моря. Даже облака истончились и пропали. Небо выглядело бесконечным и душераздирающе неподвижным.
Не слыша ничего, кроме тихого шума прибоя, я поднял голову и всмотрелся в яркие звезды. Потом бросил последний горестный взгляд на огни Майами – города, который я так любил.
И наконец я взлетел – с необыкновенной легкостью, ибо достаточно было только подумать о подъеме, – взлетел так быстро, что ни один смертный не в состоянии был заметить возносящийся в поднебесье силуэт. Преодолевая оглушающий ветер, я поднимался все выше и выше, пока огромный, раскинувшийся внизу город не превратился в далекую галактику, медленно исчезающую из вида.
Ветер на такой высоте всегда леденящий – ему неведома смена времен года. Выпитая кровь была уже полностью поглощена моим телом, ее сладкого тепла как не бывало, и вскоре лицо и руки окутало холодом, он проник под одежду, и весь я словно превращался в ледяную глыбу.
Но боли я не чувствовал. Или, лучше сказать, мне было недостаточно больно.
Скорее, я ощущал дискомфорт. Отсутствие всего, ради чего хочется жить – пылающего тепла огня и объятий, поцелуев и споров, любви, страсти и крови, – вызывало уныние и тоску.
Да, боги ацтеков, должно быть, были жадными вампирами, раз смогли убедить бедных людей в том, что без кровопролития вселенная перестанет существовать. Представить только! Восседать на таком алтаре, щелчком пальцев указывая на этого, этого и этого, и выжимать в рот свежие окровавленные сердца, словно виноградные грозди.
Я крутился и поворачивался на ветру, опустился на несколько футов, снова поднялся, игриво раскинув руки, потом вытянул их по бокам. Я лег на спину, как умелый пловец, и снова уставился на слепые, равнодушные звезды.
Одним лишь усилием мысли я направил свое движение на восток. Над Лондоном еще простирается ночь, хотя часы показывают, что время близится к рассвету. Лондон…
Пора попрощаться с Дэвидом Тальботом, с моим смертным другом.
С момента нашей последней встречи в Амстердаме прошло несколько месяцев; тогда я расстался с ним грубо, и мне было стыдно как за это, так и за то, что я вообще к нему пристаю. С тех пор я шпионил за ним, но больше его не беспокоил. Теперь же я обязан был зайти к нему, невзирая на душевное состояние. Без сомнения, он не станет возражать против моего визита. А я поступлю благопристойно и порядочно, навестив его.
На секунду я подумал о моем любимом Луи. Он, несомненно, сидит в своем рассыпающемся на части домике в сыром тенистом саду Нового Орлеана и по обыкновению читает при лунном свете или же, если ночь выдалась темной и облачной, позволяет себе зажечь одну дрожащую свечку. Но слишком поздно прощаться с Луи… Если и есть среди мне подобных хоть кто-нибудь, способный меня понять, то это Луи. Во всяком случае, я так считал. Вероятно, обратное будет ближе к истине…
Я отправился в Лондон.
Глава 2
Обитель Таламаски в старинном, заросшем вековыми дубами парке в окрестностях Лондона была погружена в тишину, ее покатые крыши и широкие лужайки скрывались под густым чистым снегом.
Красивое четырехэтажное здание с множеством сводчатых окон со свинцовыми переплетами, увенчанное бесконечными рядами труб, непрерывно выбрасывающих в ночь извилистые клубы дыма.
Дом, где библиотеки и гостиные обиты темным деревом, где в спальнях потолки с кессонами и толстые красные ковры, где в столовых тихо, как в монастырских трапезных, где члены ордена усердны, словно монахи и монашенки, и способны прочесть ваши мысли, увидеть вашу ауру, предсказать будущее по линиям руки и построить не лишенное оснований предположение относительно того, кем вы были в прошлой жизни.
Ведьмы? Некоторые из них, наверное, ведьмы. Но в основном они просто ученые, посвятившие жизни изучению оккультизма во всех его проявлениях. Некоторые знают больше, чем другие. Некоторые верят сильнее, чем другие. Например, в этой Обители, равно как и в других – в Амстердаме, в Риме, в дебрях болотистой Луизианы, – есть люди, которые собственными глазами видели вампиров и оборотней, которые почувствовали на себе смертельно опасное физическое воздействие силы телекинеза смертных, которые могут вызывать огонь или приносить смерть, которые беседовали с призраками, которые боролись с невидимыми существами и выиграли… Или проиграли…
Орден существует более тысячи лет. Фактически он еще старше, но его происхождение окутано завесой тайны – а если быть более точным, Дэвид не желает посвящать меня в подробности.
Откуда Таламаска берет деньги? В подземельях ордена хранится невероятное количество золота и драгоценностей. Его вклады в крупнейших банках Европы вошли в легенду. Он владеет недвижимостью в каждом из городов, где имеет свои центры, – даже этого хватило бы на содержание ордена, не будь у него иных источников финансирования. Но у него есть еще многочисленные старинные сокровища: картины, статуи, гобелены, антикварная мебель и украшения – все эти приобретения связаны с различными случаями проявления оккультизма. В глазах ордена они не имеют денежной ценности, так как их историческое и научное значение намного превышает любые возможные оценки.
Одна только библиотека стоит королевской казны в какой угодно земной валюте. В ней можно обнаружить рукописи на всех языках и даже некоторые документы из прославленной древней библиотеки Александрии, которая сгорела много веков назад, а также из библиотек мучеников-катаров, чьей культуры больше не существует. Есть там и древнеегипетские тексты, и археологи с радостью пошли бы на убийство, лишь бы взглянуть на них одним глазком. Имеются и бумаги, написанные представителями нескольких типов сверхъестественных существ, включая вампиров. В этих архивах хранятся письма и документы, написанные мной самим.
Ни одно из этих сокровищ меня не интересует. Они меня никогда не интересовали. Бывало, конечно, что в более игривом настроении я тешил себя идеей вломиться в подземелья и забрать несколько старых реликвий, принадлежавших бессмертным, которых я любил. Я знаю, что эти ученые забрали брошенные мной когда-то вещи: содержимое парижских комнат конца прошлого века, книги и мебель из моего старого дома на тенистой улице Садового квартала, под которым я проспал несколько десятилетий, не имея ни малейшего представления о том, кто ходит по прогнившему полу над моей головой. Бог знает, что еще они спасли от прожорливого времени.
Но мне не было дела до этих вещей. Пусть оставляют себе все, что сумели вызволить.
Меня интересовал Дэвид, Верховный глава ордена, ставший моим другом с той давней ночи, когда я, действуя импульсивно, бесцеремонно проник через окно в его личные комнаты на четвертом этаже.
Как храбро и достойно повел он себя в ту ночь! И как же мне нравилось смотреть на него – на высокого мужчину с глубокими морщинами на лице и отливающей металлом сединой. Я подумал еще, может ли обладать подобной красотой человек молодой. Но самым главным было то, что он знал меня, знал, кто я такой.
«Вы хотите получить Темный Дар?.. Стать одним из нас… Если бы я согласился…»
«Я бы его не принял даже через миллион лет… Я никогда не передумаю…» – ответил тогда он.
Его убеждения остались непоколебимыми. Но его завораживало само мое присутствие, и этого он утаить не мог, хотя с того самого первого раза прекрасно закрывал все другие свои мысли.
Да, его голова стала настоящим сейфом, ключа к которому не существует. А мне досталось только просветленное, полное привязанности выражение лица и тихий интеллигентный голос, способный уговорить хорошо вести себя даже самого дьявола.
Добравшись в предрассветный час до укрытой зимним английским снегом Обители, я направился прежде всего к окнам Дэвида и обнаружил, что в его комнатах темно и пусто.
Я вспомнил нашу недавнюю встречу. Может быть, он опять уехал в Амстердам?
Последняя поездка была непредвиденной – это все, что я успел выяснить по прибытии сюда в поисках Дэвида, прежде чем компания весьма способных экстрасенсов почувствовала мое нежелательное телепатическое присутствие – а это они умеют делать на удивление хорошо, – и поспешно опустила завесу.
Похоже, что какое-то дело чрезвычайной важности требует присутствия Дэвида в Голландии.
Голландская Обитель старше, чем та, что под Лондоном, и ключ к ее подземельям имеет только Верховный глава. Дэвид тогда должен был отыскать один портрет кисти Рембрандта, одно из самых крупных сокровищ ордена, заказать копию и отослать эту копию своему близкому другу Эрону Лайтнеру, которому она требовалась в связи с важным паранормальным расследованием, проводимым в Штатах.
Я последовал за Дэвидом в Амстердам и тайно проследил за ним, сказав себе, что не стану его беспокоить, как нередко делал это в прошлом.
Если не возражаете, я расскажу о том, что тогда произошло.
Поздним вечером я следовал за ним на безопасном расстоянии, маскируя свои мысли так же мастерски, как он всегда маскировал свои. Что за поразительная личность, думал я, в то время как он энергично шагал под вязами Зингельграт, то и дело останавливаясь полюбоваться узкими старинными трех– и четырехэтажными голландскими домами с высокими фронтонами, ярко освещенные окна которых оставались не закрытыми шторами – видимо, для удовольствия прохожих.
Я сразу же почувствовал в нем перемену. При нем, как и всегда, была трость, хотя он по-прежнему явно в ней не нуждался и по обыкновению держал на плече. Однако он предавался мрачным размышлениям и, судя по всему, испытывал неудовольствие или неудовлетворенность чем-то. Час за часом бродил он по улицам, словно забыв о времени.
Скоро мне стало ясно, что Дэвид охвачен воспоминаниями, периодически мне удавалось уловить явственные образы, относящиеся к его проведенной в тропиках юности, и даже проблески зеленеющих джунглей, так не похожих на этот холодный северный город, где, без сомнения, никогда не бывает тепло. Тогда мне еще не снился тигр. Я не знал, что это значит.
Но все это были лишь дразнящие воображение обрывки. Дэвид слишком хорошо умел скрывать свои мысли.
Однако он все шел и шел, словно что-то влекло его вперед, а я не прекращал его преследовать, испытывая странное чувство спокойной радости от одной только возможности видеть его на расстоянии нескольких кварталов.
Если бы не без конца снующие мимо него велосипеды, Дэвида можно было бы принять за молодого человека. Но велосипеды пугали его. Ему был присущ инстинктивный страх старого человека перед тем, что его могут задеть и сбить с ног. Он с возмущением смотрел вслед молодым велосипедистам и вновь погружался в размышления.
Он возвращался в Обитель почти на рассвете. И, конечно, спал большую часть следующего дня.
Когда я как-то вечером нагнал его уже в пути, мне снова показалось, что он идет куда глаза глядят. Такое впечатление, что он просто так бродил по многочисленным узким мощеным улочкам Амстердама. Судя по всему, ему нравилось здесь не меньше, чем в Венеции, и не без причины: несмотря на заметные различия, эти города обладают сходным очарованием, и тот и другой кажутся тесными, и в том и в другом преобладают мрачные тона. В роскошной католической Венеции царит обворожительный упадок, а Амстердам – город протестантский и потому очень чистый и деловитый; такое сопоставление часто вызывало у меня улыбку.
На следующую ночь он снова был один и, насвистывая, быстрым шагом проходил милю за милей. Вскоре мне стало ясно, что он избегает Обители. Точнее, это выглядело так, словно он избегает всего на свете, а когда один из его старых друзей, тоже англичанин и член ордена, неожиданно наткнулся на него в книжном магазине на Лейдсестраат, из разговора стало понятно, что Дэвид в последнее время сам не свой.
Британцы становятся ужасно вежливыми, когда обсуждают и выясняют подобные вещи. Однако из их потрясающе дипломатичной беседы я кое-что выяснил: Дэвид пренебрегает своими обязанностями Верховного главы; Дэвид не появляется в Обители; как только Дэвид оказывается в Англии, он все чаще и чаще навещает дом своих предков в Котсуолде. В чем дело?
В ответ на все предположения Дэвид только пожимал плечами, словно разговор на эту тему не был ему интересен. Он сделал туманное замечание относительно того, что Таламаска может целый век обходиться без Верховного главы – такая там хорошая дисциплина, крепкие традиции и преданные члены. Потом он отправился рыться в книгах и купил дешевое издание «Фауста» Гёте в английском переводе. В одиночестве он пошел поужинать в маленький индонезийский ресторан, положил перед собой «Фауста» и принялся листать страницу за страницей, одновременно поглощая свою обильно приправленную специями трапезу.
Пока он работал ножом и вилкой, я вернулся в магазин и купил экземпляр той же самой книги. Ну и странное произведение!
Не могу сказать, что я его понял или что я понял, зачем Дэвид его читал. Мысль о том, что причина может лежать на поверхности, привела меня в смятение, и я сразу же ее отверг.
Тем не менее книга мне нравилась, особенно конец, где Фауст, естественно, отправляется на Небеса. Не думаю, что более старые легенды заканчивались так же. Фауст всегда отправлялся в ад. Я списал это на счет романтического оптимизма Гёте, а также того факта, что Гёте создавал финал своего творения уже в глубокой старости. Произведения стариков всегда очень сильны и интересны, они заслуживают глубокого анализа, тем более что очень многих творческая энергия оставляет еще до наступления старости.
Дэвид исчез за дверью Таламаски почти перед рассветом, и оставшееся время я бродил по городу в одиночестве. Мне хотелось лучше узнать и изучить Амстердам, потому что Дэвид его знал, потому что этот город был частью его жизни.
Я забрел в огромный Государственный музей, внимательно осмотрел картины Рембрандта, которого всегда любил. Словно вор, я прокрался в дом Рембрандта на Йоденбрестраат – в дневные часы он превращался в маленький храм, открытый для посещения. Я прогулялся по многочисленным узким переулкам, ощущая ауру старых времен. Амстердам – восхитительное место, куда стекается молодежь со всех концов новой, единой Европы, город, который никогда не спит.
Возможно, я бы никогда не появился здесь, если бы не Дэвид. Прежде этот город не воспламенял мое воображение. Теперь же я обнаружил, что жить здесь очень приятно, особенно для вампира, потому что по ночам на улице всегда полно народа. Но прежде всего я, конечно же, хотел увидеться с Дэвидом и понимал, что не смогу уехать, не обменявшись с ним хоть несколькими словами.
Наконец, через неделю после моего прибытия, сразу после захода солнца я обнаружил Дэвида в безлюдном Государственном музее – он сидел на скамейке перед великой работой Рембрандта – портретом старейшин суконного цеха.
Неужели Дэвид каким-то образом узнал, что я побывал здесь? Невероятно, но это был он.
Из разговора со сторожем, который только что отошел от Дэвида, выяснилось, что его почтенный орден замшелых мастеров лезть в чужие дела вносит огромный вклад в развитие искусства в тех городах, где имеет постоянные филиалы. Поэтому членам ордена несложно получить доступ в музеи и посмотреть их сокровища тогда, когда остальным вход сюда запрещен.
Подумать только, а я вынужден проникать в такие места словно мелкий воришка!
Когда я появился перед ним, в мраморных залах с высокими потолками царила полная тишина. Он сидел на длинной деревянной скамейке, равнодушно держа в правой руке свой теперь уже весьма потрепанный и полный закладок экземпляр «Фауста».
Он напряженно смотрел на картину, на которой были изображены несколько добропорядочных голландцев, собравшихся у стола, чтобы, без сомнения, обсудить торговые дела; однако они спокойно взирали на зрителя из-под широкополых черных шляп. Вряд ли мои слова способны в полной мере передать впечатление от этой картины. Их лица изысканно прекрасны, исполнены мудрости, мягкости и почти ангельского терпения. Откровенно говоря, эти персонажи картины больше похожи на ангелов, чем на обычных людей.
Казалось, они владеют некой великой тайной, и если бы все остальные узнали эту тайну, на свете не было бы больше ни войн, ни зла, ни порока. И как такие люди в семнадцатом веке стали членами амстердамского суконного цеха? Но я забегаю вперед…
Увидев, как я медленно и безмолвно выплываю из тени и приближаюсь к нему, Дэвид вздрогнул. Я сел рядом с ним на скамейку.
Я был одет как бродяга, потому что так и не обзавелся в Амстердаме настоящим жильем, а волосы мои растрепались от ветра.
Я долго сидел неподвижно, намеренно открывая ему свои мысли, давая знать, как меня волнует его благополучие и как я старался ради него самого оставить его в покое.
Сердце Дэвида билось быстро, а лицо, когда я повернулся к нему, искренне выражало безграничную теплоту.
Он протянул правую руку и сжал мое плечо.
– Я, как всегда, рад тебя видеть, очень рад.
– Да, но я причинил тебе вред. И знаю об этом. – Я не хотел говорить, что следил за ним, что подслушал его разговор со старым приятелем, или же обсуждать то, что видел теперь своими глазами.
Я поклялся, что не буду больше мучить его своим старым вопросом. Но, глядя на него, я видел смерть, особенно по контрасту с его оживленностью и энергичными глазами.
Он окинул меня долгим задумчивым взглядом, убрал руку и перевел глаза на картину.
– Есть ли в мире вампиры с такими лицами? – спросил он и показал на людей, взирающих на нас с картины. – Я говорю о знаниях и понимании, которые читаются на этих лицах. Я говорю о том, что имеет большее отношение к бессмертию, чем сверхъестественное тело, находящееся в физиологической зависимости от потребления человеческой крови.
– Вампиры с такими лицами? – ответил я. – Дэвид, это нечестно. Таких лиц и у людей-то не бывает. И никогда не было. Посмотри на любую картину Рембрандта. Это же абсурд – считать, что такие люди жили на свете, и тем более полагать, что во времена Рембрандта они наводняли Амстердам, что любой, кто переступал порог его дома, будь то мужчина или женщина, был ангелом. Нет, в этих лицах ты видишь Рембрандта, а Рембрандт, безусловно, бессмертен.
Он улыбнулся.
– Ты говоришь неправду. Какое же от тебя исходит беспросветное одиночество! Как ты не понимаешь, что я не могу принять твой дар? А если бы я все же согласился его принять, что бы ты обо мне подумал? Стал бы ты по-прежнему искать моего общества? А я – твоего?
Последние слова я едва расслышал. Я смотрел на картину, на людей, точь-в-точь похожих на ангелов. И меня охватила тихая злоба, я больше не желал здесь оставаться. Я отрекся от нападения, но он тем не менее продолжал от меня защищаться. Нет, мне не следовало приходить.
Шпионить за ним – да, но оставаться рядом – нет. И я хотел было поспешно уйти.
Он пришел в ярость. Его голос резко зазвенел в огромном пустом зале:
– Нечестно с твоей стороны – уходить вот так! Я бы даже сказал – непристойно! Разве у тебя нет чести? А если не осталось чести, то где твое воспитание?
Он резко замолчал, потому что меня там больше не было, я словно в воздухе растворился, а он остался один в огромном холодном музее и разговаривал сам с собой.
Мне было стыдно, но я не мог вернуться, ибо был слишком зол и обижен, хотя на что – сам не знаю. Что я сделал с этим человеком! Как бы меня отругал Мариус!
Я часами скитался по Амстердаму, украл плотную писчую бумагу, которая мне особенно нравилась, и автоматическую ручку с тонким пером и вечным запасом черных чернил, потом нашел шумный, подозрительного вида кабачок в старом районе красных фонарей, полном размалеванных женщин и молодых наркоманов; в таком заведении можно спокойно посидеть и написать письмо Дэвиду – никто тебя не потревожит, пока перед тобой стоит кружка пива.
Я не знал, что именно буду писать, знал только, что должен как-то извиниться за свое поведение и объяснить, что при виде людей на том портрете кисти Рембрандта в моей душе что-то дрогнуло; и я поспешно и устало написал следующую своего рода повесть.
«Ты прав. Я ушел от тебя возмутительным образом. Еще хуже – как трус. Обещаю, когда мы встретимся в следующий раз, я дам тебе возможность высказать мне все, что захочешь.
У меня возникла собственная теория насчет Рембрандта. Я много часов провел за изучением его картин по всему миру – в Амстердаме, в Чикаго, в Нью-Йорке, где бы я их ни находил, – и я действительно считаю, как уже сказал, что такого множества великих душ, какое изображено на картинах Рембрандта, существовать не могло.
Вот и вся моя теория, но, пожалуйста, имей в виду, что она вмещает в себя все необходимые элементы. И эта особенность всегда была мерилом ценности теорий… пока слово “наука” не начало означать то, что означает сейчас.
Я считаю, что Рембрандт еще молодым человеком продал душу дьяволу. Простая сделка. Дьявол пообещал сделать Рембрандта самым знаменитым художником своего времени. Дьявол посылал Рембрандту толпы смертных для написания их портретов. Он дал Рембрандту богатство. Он дал ему очаровательный домик в Амстердаме, жену, позднее – любовницу, ибо был уверен, что в конце концов получит душу Рембрандта.
Но встреча с дьяволом изменила Рембрандта. Увидев такое неоспоримое доказательство существования зла, он стал одержим вопросом: “Что такое добро?” В своих моделях он искал их внутреннее божественное начало, и, к своему изумлению, находил его искру даже в лицах самых недостойных людей.
Он был настолько одарен – однако дар свой он получил не от дьявола, а от природы, – что не только видел добро, но и умел написать его; своим знанием добра и верой в него он мог рисовать, как краской.
С каждым портретом Рембрандт все глубже проникал в красоту и добро человечества. Он понимал, что способность к состраданию и мудрости содержится в каждой душе. С течением времени его мастерство возрастало: налет неопределенности становился все неуловимее, индивидуальность каждого человека проявлялась все более ярко, а каждая работа, исполненная величия и покоя, приводила в восхищение.
В конце концов лица на портретах перестали быть лицами из плоти и крови. Они стали ликами души, отражением того, что скрыто внутри каждого мужчины и каждой женщины; визуальным воплощением того, чем был или мог бы стать тот или иной человек в свой славный час.
Поэтому купцы из цеха суконщиков похожи на старейших и мудрейших святых.
Но нигде эта духовная глубина и понимание не проявляются четче, чем в автопортретах Рембрандта, а он, как ты, безусловно, знаешь, оставил их сто двадцать два.
Почему так много, как ты думаешь? Они были его личной мольбой к Богу, попыткой обратить его внимание на себя – на человека, который, наблюдая за себе подобными, претерпел полную религиозную трансформацию.
“Вот как я вижу”, – говорил Рембрандт Богу.
Под конец жизни Рембрандта у дьявола зародились подозрения. Он не хотел, чтобы его слуга создавал такие великолепные картины, исполненные теплоты и добра. Он считал голландцев материалистичным и оттого светским народом. А здесь, на картинах, изобилующих богатой одеждой и дорогими вещами, блистало неоспоримое доказательство того, что люди отличаются от всех прочих животных, населяющих космос, – они представляют собой бесценную смесь плоти и бессмертного огня.
Вот почему дьявол обрушил на Рембрандта множество невзгод. Художник потерял свой красивый дом на Йоденбрестраат. Он потерял любовницу и даже сына. Но продолжал писать без тени горечи или порока, наполнять свои картины любовью.
И вот наконец Рембрандт оказался на смертном ложе. Дьявол радостно примчался к нему, готовый схватить и ущипнуть своими злыми пальчиками душу. Но ангелы и святые воззвали к Богу о вмешательстве.
“Кто во всем свете знает о добре больше, чем он? – вопрошали они, указывая на умирающего Рембрандта. – Кто показал больше, чем этот художник? Когда мы хотим увидеть божественное начало человека, мы обращаемся к его картинам”.
И Бог разорвал сделку Рембрандта с дьяволом. Он забрал душу Рембрандта себе, а дьявол, которого по тем же самым причинам не так давно обвел вокруг пальца Фауст, был вне себя от ярости.
И он захотел похоронить жизнь Рембрандта в безвестности. Он позаботился о том, чтобы все личные вещи и записи этого человека поглотил великий поток времени. И, естественно, поэтому нам так мало известно о настоящей жизни Рембрандта, о том, что он был за человек.
Но дьявол не смог распорядиться судьбой его картин. Как он ни старался, ему не удалось заставить людей жечь их, выбрасывать или отставлять в сторону ради новых, более модных художников. Фактически же произошла удивительная вещь, и непонятно, когда это началось. Рембрандт стал самым популярным художником на свете; Рембрандт стал величайшим художником всех времен.
Такова моя теория о Рембрандте и тех лицах на его полотне.
Так вот, именно на эту тему я бы написал роман о Рембрандте, будь я смертным. Но я не смертный. Мне не спасти душу искусством или добрыми делами. Я похож на дьявола, но с одним отличием: я люблю картины Рембрандта!
Но при взгляде на них сердце мое разрывается. И чуть не разорвалось, когда я увидел тебя в музее. И ты совершенно прав: не бывает у вампиров лиц, как у святых из цеха суконщиков.
Вот почему я так внезапно покинул тебя в музее. Это не ярость дьявола. Это просто грусть.
Я еще раз обещаю тебе, что во время нашей следующей встречи я дам тебе возможность высказать все, что ты захочешь».
Внизу я нацарапал телефон моего агента в Париже и почтовый адрес – я делал это в каждом письме к Дэвиду, но Дэвид никогда не отвечал.
После этого я отправился в своего рода паломничество, заново посетив все величайшие собрания мира, хранящие полотна Рембрандта. В своих странствиях я не увидел ничего, что могло бы поколебать мою веру в добродетель Рембрандта. Но я снова преисполнился решимости больше Дэвида не беспокоить.
Потом мне привиделся сон: тигр, тигр… Дэвид в опасности… Вздрогнув, я проснулся в своем кресле в старом доме Луи, как будто меня потрясла чья-то предупреждающая рука.
Ночь в Англии подходила к концу. Нужно было торопиться. Но когда я наконец отыскал Дэвида, он сидел в старинном деревенском кабачке в Котсуолде.
Эта деревня, куда вела лишь одна узкая и опасная дорога, располагалась неподалеку от усадьбы его предков. В ней была всего одна улица, застроенная еще в шестнадцатом веке, и единственная гостиница, благосостояние которой полностью зависело от непостоянных в своих вкусах туристов. Прочитав мысли жителей, я быстро выяснил, что Дэвид восстановил ее из своего кармана и все чаще и чаще находит здесь убежище от лондонской жизни.
Абсолютно сверхъестественное местечко!
Однако Дэвид всего лишь попивал свой любимый солодовый шотландский виски и рисовал на салфетках дьявола. Мефистофель со своей лютней? Рогатый Сатана, танцующий под луной? Должно быть, его уныние смогло коснуться меня за многие мили, а точнее, я ощутил озабоченность тех, кто находился рядом с ним, – ведь в их мыслях я уловил его образ.
Мне так хотелось с ним поговорить. Но я не осмелился. Я бы наделал слишком много шума в этом маленьком кабачке, где расстроенный старый владелец и два его неуклюжих молчаливых племянника, покуривая пахучие трубки, все еще бодрствовали исключительно по случаю царственного визита местного лорда – который и напивался, как лорд.
Целый час я простоял там, заглядывая в окошко. А потом ушел.
Теперь же – много-много месяцев спустя – на Лондон падал снег, большие снежинки тихо опускались на высокое здание Обители Таламаски, а я искал его, усталый и унылый, думая, что из всего мира я должен увидеться только с ним. Я исследовал мысли членов ордена – как спящих, так и бодрствующих. Я их взбудоражил и отчетливо услышал, как просыпается их бдительность, – так же ясно, как если бы они включили свет, вскакивая с постели.
Но я уже получил что хотел.
Дэвид уехал в свою усадьбу в Котсуолд, в ту, что находится поблизости от удивительной деревушки со старинным кабачком.
Ну что ж, я, несомненно, смогу ее найти. И я отправился на поиски.
Валил тяжелый снег. Замерзший и злой, я понесся низко над землей; от выпитой крови не осталось даже воспоминания.
Как всегда в разгар жестокой зимы, ко мне вернулись другие сны – о злых снегах моего смертного детства, о промерзших каменных залах в отцовском замке, о маленьком камине и об огромных мастиффах, храпящих рядом на сене, обеспечивая мне уют и тепло.
Эти собаки погибли во время моей последней охоты на волков.
Я терпеть не мог вспоминать об этом, и все-таки мне всегда было приятно мечтать, что я снова дома, где пахнет камином и могучими псами, свернувшимися возле меня, что я жив, по-настоящему жив, что охоты вообще не было; о том, что я не уехал в Париж и не ввел в соблазн могущественного помешанного вампира Магнуса. В комнатушке с каменными стенами приятно пахло собаками, и я в полной безопасности спал рядом с ними.
Наконец я добрался до небольшого поместья в стиле эпохи королевы Елизаветы и увидел очень красивое каменное здание с крутыми крышами и узкими фронтонами, с застекленными окнами в глубоких нишах – меньшего размера, чем в Обители, но для такого дома – просто огромными.
Только в одной комнате горел свет. Это оказалась библиотека. Возле большого камина, в котором громко трещали дрова, я увидел Дэвида.
В руках он держал знакомую кожаную записную книжку и что-то быстро писал в ней обычной перьевой ручкой, даже не чувствуя, что за ним наблюдают. Периодически он заглядывал в другую книгу в кожаном переплете, лежавшую на столе. Я с легкостью определил, что это христианская Библия: две колонки мелкого шрифта, золотой обрез и ленточка в качестве закладки.
Почти без усилий я рассмотрел, что Дэвид читает Книгу Бытия и, очевидно, делает заметки. Рядом лежал экземпляр «Фауста». Что же, черт возьми, так его заинтересовало?
Вся комната была заставлена книгами. За плечом у Дэвида горела маленькая лампа. В северных странах много таких библиотек – уютных, манящих, с низкими балками потолка и большими удобными кожаными креслами.
Но эта библиотека отличалась от остальных наличием в ней свидетельств жизни, проведенной совсем в других краях, – драгоценных напоминаний о прожитых годах.
Над пламенеющим камином подвешена пятнистая голова леопарда. На правой стене, в противоположном конце, – огромная черная бизонья голова. На полках и столах – многочисленные индийские бронзовые статуэтки. На коричневом ковре возле очага, у двери и под окнами – маленькие индийские коврики, словно разбросанные драгоценные камни.
В самом центре комнаты растянулась длинная огненная шкура бенгальского тигра; голова ее со вставленными стеклянными глазами прекрасно сохранилась, а эти огромные клыки я с ужасающей реальностью уже видел во сне.
Дэвид вдруг обернулся и долго смотрел пристальным взглядом на этот трофей, потом словно против воли отвел глаза и вернулся к прерванному занятию. Я попробовал заглянуть в его мысли. Ничего. Можно было не стараться. Ни единого намека на мангровый лес, в котором мог погибнуть подобный зверь. Но он опять взглянул на тигра и, забыв о ручке, глубоко погрузился в размышления.
Мне, как всегда, доставляло удовольствие просто наблюдать за ним. Я обратил внимание на множество фотографий в рамках – на них был запечатлен молодой Дэвид; многие явно были сделаны в Индии – перед красивым бунгало с просторным крыльцом и высокой крышей. Здесь же – фотографии его родителей, снимки его самого с убитыми животными. Объясняет ли это мой сон?
Я даже не заметил, как снег засыпал мои волосы, плечи, скрещенные руки… Наконец я сбросил с себя оцепенение. До рассвета оставался только час.
Я обошел дом, нашел черный ход, скомандовал щеколде отодвинуться и вошел в теплый маленький холл с низким потолком. Вокруг – старое дерево, насквозь пропитанное лаком или маслом. Я тронул руками косяки двери, и передо мной промелькнуло видение огромного дубового леса, залитого солнцем, а потом остались только тени. До меня донесся запах далекого костра.
И тогда я увидел, что в противоположном конце холла стоит Дэвид и приглашает меня войти. Мой внешний вид, однако, почему-то его встревожил. Ну да, конечно, я же весь в снегу и даже покрыт корочкой льда.
Мы вместе вошли в библиотеку, и я устроился прямо напротив его кресла. Дэвид ненадолго оставил меня. Я уставился в огонь и чувствовал, как тает на мне липкий снег, размышляя, зачем я пришел и как облечь это в слова. Мои руки были такими же белыми, как снег.
Появившись снова, Дэвид протянул мне большое теплое полотенце, я взял его и вытер лицо, волосы, а потом – руки. Как же это приятно.
– Спасибо, – поблагодарил я Дэвида.
– Ты был похож на статую, – ответил он.
– Да, я и вправду теперь похож на статую. Я ухожу.
– О чем ты? – Он сел напротив меня. – Объясни.
– Я собираюсь уединиться где-нибудь. Кажется, я придумал способ с этим покончить. Но все не так просто.
– Зачем тебе это нужно?
– Я больше не хочу жить. Эта часть как раз несложная. Я не стремлюсь к смерти так, как ты. Дело не в этом. Сегодня вечером я… – Я замолчал. Мне вспомнилась старушка в цветастом халате на аккуратно застеленной стеганым нейлоном кровати. А потом – странный молодой человек с коричневыми волосами, который следил за мной, а потом подошел на пляже и передал рассказ, до сих пор лежавший скомканным у меня в кармане.
Все это уже не имеет смысла. Кто бы он ни был, он пришел слишком поздно.
И незачем вдаваться в объяснения.
Внезапно я увидел Клодию, как будто она стояла на пороге другого измерения, смотрела на меня и ждала, пока я ее замечу. Как ловко наш разум умеет вызывать такие реальные видения! Она стояла возле письменного стола Дэвида, скрываясь в тени. Клодия, всадившая свой длинный нож мне в грудь: «Я положу тебя в гроб, отец…» Но ведь я теперь постоянно вижу Клодию. Она мне снится, снится, снится…
– Не нужно, – сказал Дэвид.
– Пора, Дэвид, – прошептал я со смутной, возникшей где-то в глубине сознания мыслью о том, как будет разочарован Мариус.
Услышал ли меня Дэвид? Наверное, я говорил слишком тихо. Из камина послышался негромкий треск – возможно, рассыпались сгоревшие дрова или огонь добрался до таившейся в сердцевине сочной влаги. Я снова увидел холодную спальню своего детства, и внезапно мне показалось, будто я обнимаю одну из своих ленивых, любящих, больших собак. Наблюдать, как волк убивает собаку… Чудовищное зрелище!
Лучше бы я в тот день умер. Даже самому лучшему охотнику не по силам уничтожить стаю волков. Возможно, в этом и состояла космическая ошибка. И если между всеми этими событиями на самом деле существует какая-то связь, то мне было суждено уйти, но я осмелился перехитрить судьбу и попался на глаза дьяволу. «Убийца Волков», – с какой любовью произносил эти слова вампир Магнус, пока нес меня в свое логово!
Дэвид откинулся в кресле, рассеянно поставил одну ногу на каминную решетку и смотрел в огонь. Он был глубоко расстроен, даже в панике, хотя очень хорошо это скрывал.
– Это не будет больно? – спросил он, обернувшись.
Сначала я даже не понял, о чем речь. Но потом вспомнил.
И усмехнулся.
– Я пришел проститься и узнать, уверен ли ты, что принял правильное решение. Мне почему-то казалось, что следует сообщить тебе о том, что я ухожу и что это твой последний шанс. Все происходящее показалось мне вдруг забавным. Ты пойдешь за мной? Или ты считаешь, что это просто новый предлог? Впрочем, какая теперь разница?
– Как Магнус в твоей книге, – сказал он. – Ты сделаешь себе наследника и уйдешь в огонь.
– Это была не просто книга, – ответил я, вовсе не собираясь спорить и недоумевая, почему мои слова звучат, как будто я пытаюсь что-то ему доказать. – Ну да, возможно, что-то в этом роде. Честно говоря, я не знаю.
– Зачем тебе убивать себя? – в голосе его слышалось отчаяние.
Как много зла принес я этому человеку!
Я посмотрел на распластанную тигровую шкуру с великолепными черными полосами на рыжем фоне густой шерсти.
– Это был людоед, да? – спросил я.
Он заколебался, словно не до конца понял вопрос, потом, очнувшись, кивнул.
– Да. – Бросив взгляд на тигра, он снова перевел его на меня. – Я не хочу, чтобы ты это делал. Бога ради, подожди. Не нужно. Почему сегодня, почему не в другую ночь?
Мне невольно стало смешно.
– Сегодня ночь подходящая. Нет, я ухожу. – Внезапно я осознал, что решился всерьез, и ужасно обрадовался. Будь это просто фантазией, я не смог бы ему рассказать. – Я придумал метод. Незадолго до восхода солнца я поднимусь как можно выше. В этом случае мне не удастся найти укрытие. Земля в той пустыне очень твердая.
И я умру в огне. Не от холода и в окружении волков, как на горе. От жара, как Клодия.
– Нет, не нужно. – Как серьезно, убедительно произнес он это. Но тщетно.
– Хочешь получить кровь? – спросил я. – Это не займет много времени. И почти не причинит тебе боли. Я убежден, что остальные тебя не тронут. Я сделаю тебя таким сильным, что любая их попытка будет обречена на провал.
И вновь я поступал совсем как Магнус, который оставил меня сиротой, даже не предупредив об опасности, грозящей со стороны Армана и его древней общины, – о том, что они станут меня преследовать, проклянут и попытаются положить конец моей юной жизни. Но Магнус-то знал, что выиграю я.
– Лестат, мне не нужна кровь. Но я хочу, чтобы ты остался. Послушай, подари мне еще несколько ночей. Всего только несколько. Во имя дружбы, Лестат, останься у меня. Разве ты не можешь уделить мне эти немногие часы. И тогда, если ты по-прежнему будешь настаивать на своем, я больше не стану спорить.
– Почему?
Пораженный, казалось, моим вопросом, он ответил:
– Дай мне возможность поговорить с тобой, убедить тебя изменить свое решение.
– Ты убил тигра совсем молодым, да? Это было в Индии? – Я осмотрел остальные трофеи. – Я видел этого тигра во сне.
Он не ответил. Вид у него был взволнованный и растерянный.
– Я причинил тебе много зла, – продолжал я. – Я заставил тебя углубиться в воспоминания молодости. Я дал тебе понять, что такое время, а раньше ты его практически не ощущал.
Он изменился в лице, но вновь покачал головой, хотя мои слова его явно ранили.
– Дэвид, возьми мою кровь, пока я еще здесь, – отчаянно прошептал я. – Тебе и года не осталось. Рядом с тобой я слышу это совершенно отчетливо! У тебя очень слабое сердце.
– Ты не можешь этого знать, друг мой, – терпеливо возразил он. – Останься здесь, со мной. Я расскажу тебе о тигре и о днях, проведенных в Индии. О том, как я охотился в Африке, а один раз – на Амазонке. Это были настоящие приключения. Тогда я еще не был затхлым ученым, как теперь…
– Знаю, – улыбнулся я. Никогда прежде он так со мной не разговаривал, никогда не предлагал так много. – Слишком поздно, Дэвид. – Я опять увидел сон. Увидел тонкую золотую цепочку на шее Дэвида. Тигр нацелился на цепочку? Ерунда какая-то. Важным остается только чувство опасности.
Я внимательно присмотрелся к лежавшей на полу шкуре – тигриная морда выражала беспредельную злобу.
– Весело было убивать тигра? – спросил я.
После минутного колебания он выдавил:
– Это был людоед. Он ел детей. Да, можно сказать – весело.
– Отлично, значит, у нас с тигром есть кое-что общее, – с тихим смешком откликнулся я. – Да и Клодия меня ждет.
– Ты же в это не веришь, правда?
– Нет. Думаю, если бы я верил, то боялся бы смерти. – Я живо представил себе Клодию… овальная миниатюра на фарфоре: золотые волосы, синие глаза. Несмотря на слащавые цвета и овальную рамку, в выражении лица – что-то неподдельно искреннее и неистовое. Разве у меня был когда-то такой медальон? А в том, что это именно медальон, я не сомневался. Медальон… Меня охватила дрожь. Я вспомнил, какие у нее волосы на ощупь. Опять она оказалась рядом. Стоит повернуться – и я увижу ее в тени, увижу ее руку на спинке моего кресла. Я действительно обернулся… Ничего. Еще немного, и я перестану владеть собой, если не уйду отсюда.
– Лестат! – настойчиво окликнул Дэвид, изучая меня внимательным взглядом и отчаянно пытаясь придумать, что бы еще сказать. Он указал на мой пиджак: – Что у тебя в кармане? Ты написал записку? Собираешься оставить ее мне? Позволь я прочитаю.
– Ах, это! Это один странный рассказик. Держи, я тебе его завещаю, запихни его куда-нибудь на полку – ему место в библиотеке.
Я вынул сложенный пакет и взглянул на него.
– Да, я его читал. Довольно забавно. – Я кинул пакет ему на колени. – Мне его дал какой-то ненормальный, какой-то несчастный, скитающийся по ночам смертный, который знал, кто я такой, и у которого хватило мужества швырнуть это к моим ногам.
– Объясни поподробнее, – сказал Дэвид. Он развернул листки бумаги. – Зачем ты это с собой носишь? О Господи, Лавкрафт! – Он покачал головой.
– Так я уже объяснил, – ответил я. – Бесполезно, Дэвид, тебе не удастся меня отговорить, заставить отойти от края утеса. Я ухожу. К тому же эта история – сплошная ерунда. Несчастный псих…
Его глаза так необычно блестели… И он как-то странно бежал ко мне по песку. А это неловкое паническое бегство? Все его поведение свидетельствовало о важности поступка. Глупости. Мне все равно, меня это совершенно не интересует! Я знал, что должен делать.
– Лестат, останься! – воскликнул Дэвид. – Ты обещал, что во время нашей следующей встречи ты дашь мне возможность высказаться до конца. Ты написал это в письме, Лестат, помнишь? Ведь не возьмешь же ты свои слова обратно?!
– Придется взять, Дэвид. Ты меня прости, ведь я ухожу. Возможно, нет ни ада, ни рая, и мы увидимся на той стороне.
– А что, если есть? Что тогда?
– Ты слишком много времени уделяешь Библии. Почитай рассказ Лавкрафта. – Я коротко рассмеялся и указал на листки в его руках: – Это полезнее для твоего душевного спокойствия. И, ради Бога, держись подальше от «Фауста». Ты серьезно думаешь, что в финале придут ангелы и заберут нас с собой? Ну, не меня, конечно, а тебя.
– Не уходи, – произнес он таким тихим, умоляющим голосом, что у меня перехватило дыхание.
Но я уже удалялся от него.
– Лестат, ты мне нужен! Ты мой единственный друг!
Я едва расслышал его исполненный трагизма зов. Мне хотелось извиниться, попросить прощения за все. Но было уже слишком поздно. Кроме того, думаю, он и так все понимал.
В холодном мраке я взлетел вверх, рассекая падающий снег. Любое проявление жизни казалось мне в тот момент невыносимым – как ее ужасы, так и ее великолепие. Крошечный дом внизу выглядел теплым – на белую землю лился свет, из трубы поднималось тонкое колечко голубого дыма.
Я вспомнил одинокие прогулки Дэвида по Амстердаму, а потом – лица на полотнах Рембрандта. И увидел лицо Дэвида в библиотеке у камина. Он походил на человека кисти Рембрандта. Сколько я его знал, он всегда казался именно таким. А как выглядим мы, навеки сохранившие облик, присущий нам в тот момент, когда в наши вены полилась Темная Кровь? Несколько десятков лет Клодия оставалась девочкой с фарфоровой миниатюры. А я подобен статуе Микеланджело – белый, как мрамор. И такой же холодный.
Я знал, что сдержу слово.
Но, понимаете ли, во всем этом крылась ужасная ложь. На самом деле я не верил, что солнце по-прежнему способно меня убить. Что ж, именно это я и собирался проверить.
Глава 3
Пустыня Гоби.
Много миллионов лет назад, в так называемую доисторическую эпоху, в этой странной части света вымерли тысячи гигантских ящеров. Никто не знает, откуда они взялись и почему погибли. Может быть, здесь располагалось царство тропических деревьев и необъятных болот, отравлявших все вокруг своими испарениями? Мы не знаем. Сегодня здесь только пустыня и миллионы миллионов ископаемых останков, свидетельствующих о существовании когда-то огромных рептилий, при каждом шаге которых содрогалась земля.
Вот почему пустыня Гоби представляет собой не что иное, как невероятных размеров кладбище и вполне подходит для того, чтобы здесь я посмотрел в глаза солнцу. Я долго лежал на песке, дожидаясь восхода солнца, в последний раз собираясь с мыслями.
Весь фокус заключался в том, чтобы подняться до самого крайнего слоя атмосферы, прямо до рассвета, так сказать. Потом я потеряю сознание и рухну вниз, окутанный страшным жаром, и от сильного удара о поверхность пустыни тело мое разобьется. Как же тогда оно сможет зарыться в землю, как сделало бы по собственной порочной воле, оставайся я целым и невредимым лежать на мягком грунте?
Кроме того, если взрыв света окажется достаточно сильным, чтобы сжечь мое обнаженное тело высоко над землей, я, возможно, умру еще до того, как мои останки падут на жесткое песчаное ложе.
В то время это представлялось мне хорошей идеей. Ничто не могло бы меня переубедить. Но интересно, знают ли о моих намерениях остальные бессмертные и до какой степени их беспокоит моя судьба, если, конечно, она вообще их заботит. Стоит ли говорить, что они не получили от меня ни прощальных посланий, ни даже отрывочных видений и образов относительно того, что я собирался предпринять.
Наконец по пустыне расползлось предрассветное тепло. Я встал на колени, сорвал с себя одежду и начал вознесение; первый слабый луч уже жег мне глаза.
Я поднимался выше и выше, далеко преодолев тот рубеж, на котором мое тело обычно останавливалось и начинало плыть по собственному усмотрению. Воздух стал настолько разреженным, что я уже не мог дышать и с трудом удерживался в пространстве.
Потом появился свет – такой необъятный, горячий и слепящий, что, казалось, я не только вижу его, но и слышу его оглушительный рев. Все вокруг было объято желто-оранжевым пламенем. И я смотрел прямо в это пламя, хотя ощущение было такое, будто мне в глаза льют кипяток. Кажется, я раскрыл рот, чтобы глотнуть божественного огня! Солнце принадлежало мне! Я увидел его, я потянулся к нему… И тогда свет облил меня расплавленным свинцом, парализуя движения, причиняя невыносимую боль, и я услышал собственный вопль. Однако я по-прежнему не отводил взгляд и все еще не падал!
Я бросаю вам вызов, Небеса! И внезапно не осталось ни слов, ни мыслей. Я вращался и плыл в пространстве. Мрак и холод окружили меня со всех сторон – я потерял сознание, и падение началось.
Слышен был лишь рев стремительно проносящегося мимо воздуха, но мне чудилось, что сквозь него долетают обращенные ко мне призывы остальных, и в жутком многозвучии я отчетливо разобрал голос ребенка.
А дальше – ничего…
Мне снится сон?
Мы находились в небольшом помещении, в больнице, пропахшей немощью и смертью, я указывал на кровать, на лежавшего там ребенка, бледного, маленького, полумертвого.
Послышался резкий всплеск смеха. Я ощутил запах масляной лампы в тот момент, когда затухает фитиль.
– Лестат, – произнесла она. Какой красивый голосок.
Я попытался рассказать о замке моего отца, о падающем с неба снеге, о собаках, которые меня ждут. Вот куда мне хотелось уйти. И вдруг я их услышал – гулкий рыкающий лай мастиффов, эхом разносящийся среди заснеженных холмов, – и я почти воочию увидел башни самого замка.
Но потом она сказала:
– Еще рано.
Когда я очнулся, снова стояла ночь. Я лежал в пустыне. Ветер, разметавший дюны, покрыл мое тело тонким песчаным туманом. Боль ощущалась везде – болели даже корни волос. Так сильно, что я не мог заставить себя пошевелиться.
Я неподвижно пролежал несколько часов, лишь иногда издавая тихие стоны. Однако мое состояние оставалось прежним. Но стоило мне пошевелиться, песок превращался в мельчайшие осколки стекла, врезающиеся мне в спину, в икры и в пятки.
Я вспоминал всех, кого мог бы позвать на помощь. Но никого не позвал. Лишь постепенно до меня дошло, что если я останусь здесь, то, естественно, опять взойдет солнце, которое вновь настигнет и опять обожжет меня. И тем не менее я, вполне вероятно, не умру.
Придется остаться, не так ли? Какой трус теперь станет искать укрытие?
Но хватило и одного взгляда на мои ладони, чтобы понять – смерть мне не грозит. Да, я обгорел, да, кожа стала коричневой, сморщилась и пылала от боли. Но о смерти и речи быть не могло.
Наконец я перевернулся и попробовал охладить лицо в песке, однако это не принесло облегчения.
Чуть позже я почувствовал, как восходит солнце. Оранжевый свет постепенно затопил весь мир, и я разрыдался. Сначала я ощутил боль в спине, потом словно вспыхнула голова, и казалось, она вот-вот взорвется, а глаза буквально пожирало пламя. К тому моменту, когда меня охватил мрак забвения, я был безумен, абсолютно безумен.
Проснувшись на следующий вечер, я почувствовал во рту песок; песок покрывал все мое агонизирующее тело. Судя по всему, в припадке безумия я похоронил себя заживо.
В таком положении я оставался несколько часов, и все это время в голове стучала только одна мысль: ни одно существо не в силах вынести такую боль.
В конце концов я, по-звериному поскуливая, выбрался на поверхность, кое-как поднялся на ноги – каждое движение неизмеримо усиливало боль – и приказал себе взлететь. Медленно взмыв в воздух, я поплыл на запад, в ночь.
Сила моя ничуть не уменьшилась – остались только серьезные, но поверхностные раны на теле.
Ветер оказался бесконечно нежнее песка. Тем не менее он принес с собой новую пытку, словно пальцами поглаживая мою обожженную кожу и дергая за обгорелые волосы; он щипал сожженные веки, царапал опаленные колени.
Несколько часов я осторожно плыл по воздуху, приказав себе вернуться в дом Дэвида. Холодный мокрый снег, сквозь который мне пришлось спускаться, на несколько секунд принес невыразимое облегчение.
В Англии вот-вот должно было наступить утро.
Я снова вошел через черный ход, каждый шаг был мучительным испытанием. Почти вслепую я отыскал библиотеку и, не обращая внимания на боль, опустился на колени и рухнул на тигровую шкуру.
Я положил голову рядом с головой тигра, прижался щекой к открытой пасти. Какой тонкий мех! Положив руки на его лапы, я ощутил запястьями прикосновение гладких твердых когтей. Боль стреляла волнами. Мех был шелковистым, в комнате царили полумрак и прохлада. И в слабых проблесках безмолвных видений возникли леса Индии, я разглядел темные лица и услышал далекие голоса. На какое-то мгновение передо мной возник молодой Дэвид, каким я видел его во сне.
Он казался настоящим чудом – живой молодой человек из плоти и крови, обладающий столь удивительными достоинствами, как глаза, бьющееся сердце и по пять пальцев на каждой длинной тонкой руке.
Я увидел себя в Париже, еще живым. В красном бархатном плаще, отороченном мехом убитых мною в родной Оверни волков, я шел куда-то, даже не подозревая о возможности присутствия совсем рядом неких существ, которые способны влюбиться в тебя просто потому, что ты молод, и которые способны отнять твою жизнь из любви к тебе и еще потому, что ты уничтожил целую стаю волков…
Дэвид, охотник! В перетянутом ремнем хаки, с великолепным ружьем.
Я чувствовал, как боль постепенно ослабевает. Добрый старый Лестат, бог, исцеляющийся со сверхъестественной скоростью. Все тело словно пылало. Казалось, вся комната освещена исходящим от меня теплым светом.
До меня донесся запах смертного. В комнату вошел слуга и тут же стремительно выскочил обратно. Бедняга. Даже в полудремотном состоянии я не мог удержаться от внутреннего смеха, представив себе ту картину, которую он увидел: в темной комнате на шкуре тигра валяется голый темнокожий мужчина с копной нечесаных светлых волос.
Внезапно я уловил запах Дэвида и опять услышал знакомый тихий рев крови в смертных венах. Кровь!.. Меня мучила нестерпимая жажда. Спаленная кожа и обожженные глаза требовали крови.
Меня накрыли мягким фланелевым одеялом, очень легким и прохладным на ощупь. Затем послышались негромкие звуки. Дэвид задергивал тяжелые бархатные шторы на окнах, чего никогда прежде не делал – даже зимой. Он старательно расправлял их, чтобы сквозь щели не проникал свет.
– Лестат, – прошептал он. – Давай, я отнесу тебя в подвал, там ты наверняка будешь в безопасности.
– Это не имеет значения, Дэвид. Можно, я останусь в этой комнате?
– Да, конечно, оставайся.
Ах, как он заботлив!
– Спасибо, Дэвид.
Я снова начал засыпать и вновь увидел снег, влетающий в окна моей комнаты в замке… Но вдруг картина разительно изменилась: передо мной оказалась маленькая больничная койка, на которой лежал ребенок; слава Богу, что сиделка ушла успокоить другого малыша – он плакал. О, какие ужасные, отвратительные звуки! Ненавижу! Мне хотелось оказаться… И где же? Конечно же дома, в разгар французской зимы.
На этот раз масляные лампы не тушили, а, наоборот, зажигали.
– Я же говорила, что еще рано. – Какое на ней белоснежное платье с крохотными жемчужными пуговками! А какой венок из роз на голове!
– Но почему?
– Что ты сказал? – спросил Дэвид.
– Это я Клодии, – объяснил я.
Она сидела в миниатюрном креслице, вытянув вверх ножки. Кажется, на ней были атласные туфельки. Схватив ее за лодыжку, я прижался к ней губами, а она смеялась, запрокинув голову, так что мне виден был только ее подбородок и кончики ресниц. Какой прелестный и заразительный смех!
– Там, снаружи, кто-то из ваших, – сказал Дэвид.
Превозмогая боль, я открыл глаза и с трудом разглядел нечеткие очертания комнаты. Вот-вот должно было взойти солнце. Пальцы мои коснулись тигриных когтей. Бесценный зверь. Дэвид стоял у окна и сквозь крошечную щелку между полотнищами штор выглядывал на улицу.
– Вон там, – продолжал он. – Они пришли убедиться, что с тобой все в порядке.
Подумать только!
– Кто там? – Я их не слышал, да и не хотел слышать. Интересно, кто это – Мариус? Конечно не древнейшие. С чего им обо мне волноваться?
– Не знаю, – ответил он. – Но они там.
– Тебе же все известно, – прошептал я. – Не обращай внимания, и они уйдут. В любом случае уже почти утро. Им придется уйти. Не беспокойся, они не причинят тебе вреда, Дэвид.
– Знаю.
– Не смей читать мои мысли, раз не позволяешь мне читать твои.
– Не злись. Никто не войдет в эту комнату, никто тебя не побеспокоит.
– Да, я опасен даже во сне… – Я хотел добавить еще что-то, предостеречь его, но потом осознал, что этому смертному меньше, чем кому-либо другому, требуются мои предостережения. Это же Таламаска. Исследователи паранормальных явлений. Он и без меня все знает.
– Теперь спи, – сказал он.
Нет, это просто смешно. Что мне еще делать, когда восходит солнце? Даже если оно светит прямо мне в лицо. Но его голос звучал твердо и убедительно.
Подумать только, в былые времена у меня всегда был гроб, иногда я медленно полировал его, пока дерево не начинало ярко блестеть; тогда я натирал маленькое распятие на крышке, улыбаясь про себя той заботе, с которой я надраивал перекошенное тельце мученика Христа, Сына Божьего. Мне нравилась атласная внутренняя обивка гробов. Мне нравилась их форма, и я любил с наступлением сумерек восставать из мертвых. Однако все это осталось в прошлом…
Солнце действительно всходило – холодное зимнее английское солнце. Я отчетливо ощущал его приближение и внезапно испугался. Я чувствовал, как свет крадется по земле и ударяет в окна. Но по эту сторону бархатных штор по-прежнему царила темнота.
Я увидел, как ярко вспыхнуло пламя в масляной лампе. Оно вызвало во мне страх только лишь потому, что это был огонь, а меня мучила нестерпимая боль. Я увидел ее пальчики, крепко сжимающие ключ, и кольцо – то, что я подарил ей, с крошечным бриллиантом в оправе из жемчуга. А как же медальон? Стоит ли спрашивать ее про медальон?
«Клодия, у нас когда-нибудь был золотой медальон?..»
Фитиль в лампе подкручивают все выше и выше. Опять тот же запах. Ее рука с ямочками. Вся квартира на Рю-Рояль пропахла маслом. Я вижу старые обои и красивую мебель ручной работы… Луи пишет за своим столом… резкий запах черных чернил, глухое царапанье пера…
Ее ручка гладила меня по щеке, восхитительно холодная, и меня охватил внутренний трепет – я испытывал его каждый раз, ощущая прикосновение кого-нибудь из себе подобных… прикосновение нашей кожи.
– Зачем кому-то нужно, чтобы я жил?.. – спросил я. Точнее, я хотел задать этот вопрос, но, едва начав, провалился в небытие…
Глава 4
Сумерки. Боль оставалась по-прежнему мучительной. Не было желания даже двигаться. Кожа на груди и ногах натягивалась и зудела, но это только добавляло разнообразия болевым ощущениям.
Даже яростная, неистовая жажда крови и запах смертных слуг не могли заставить меня двигаться. Я знал, что Дэвид рядом, но не заговорил с ним. Мне казалось, что стоит мне произнести хоть слово, и я заплачу от боли.
Я спал и знал, что вижу сны, но, открывая в очередной раз глаза, не мог ничего вспомнить. Я опять видел масляную лампу, и свет пугал меня. Как и ее голос.
Один раз я проснулся от того, что разговаривал с ней вслух.
– Почему именно ты? Почему ты мне снишься? Где твой чертов нож?
Я радовался наступлению рассвета. Иногда я вынужден был даже затыкать рот рукой, чтобы не закричать от боли.
Когда я проснулся на следующую ночь, боль немного утихла. Воспаленное тело горело – смертные, кажется, говорят в таких случаях: «как будто кожу содрали». Но самые страшные муки определенно остались позади. Я все еще лежал на шкуре тигра, и в комнате было прохладно, что уже не доставляло мне удовольствия.
У почерневших кирпичей задней стенки камина под полуразрушенной аркой были сложены дрова, а рядом – растопка и кусок смятой газеты. Все в полной готовности. М-м-м. Кто-то находился в критической близости от меня, пока я спал. Я надеялся, во имя всего святого, что не протянул руку, как с нами случается, когда мы находимся в трансе, и не подрезал крылья этому бедному созданию.
Я опустил веки и прислушался. Снег падал на крышу и попадал в трубу. Вновь открыв глаза, я увидел блеск влаги на поленьях.
Затем я сосредоточился и почувствовал, как исходящая от меня энергия тонким длинным языком коснулась растопки, по которой тут же во множестве заплясали крошечные огоньки. Толстый слой коры на поленьях начал нагреваться и потрескивать. Сейчас огонь разгорится вовсю.
Жар пламени заставил меня поморщиться от резкой боли в лице. Интересно. Я встал на колени, потом поднялся во весь рост. Кроме меня, в комнате никого не было. Бросив взгляд на латунную лампу возле кресла Дэвида, я беззвучным мысленным приказом повернул выключатель.
На кресле лежала одежда: новые брюки из толстой мягкой фланели темного тона, белая хлопчатобумажная рубашка и довольно бесформенный шерстяной пиджак. Все вещи были мне немного велики. Они принадлежали Дэвиду. Даже отороченные мехом тапочки оказались слишком большими. Но мне хотелось одеться. Там было и безликое белье, какое в двадцатом веке носят буквально все, и расческа для волос.
Я не спешил и, натягивая на себя одежду, испытывал лишь пульсирующее раздражение. Причесываться было больно. В конце концов я просто вытряс из волос пыль и песок, и они благополучно исчезли в густом ворсе ковра. Очень приятно было одеть тапочки. Но теперь мне требовалось зеркало.
Я нашел его в холле – старое темное зеркало в тяжелой позолоченной раме. Сквозь открытую дверь библиотеки сюда проникало достаточно света, чтобы я смог разглядеть себя как следует.
Сперва я не мог поверить своим глазам. Кожа полностью разгладилась и стала безупречной, как прежде. Но теперь она приобрела янтарный оттенок, совсем как у рамы этого зеркала, и лишь немного блестела, не больше, чем у смертного, который провел долгий роскошный отпуск в тропических морях.
Брови и ресницы отчетливо выделялись, как это обычно бывает у светловолосых и очень загорелых людей, а немногочисленные морщинки на моем лице, которые пощадил Темный Дар, стали немного глубже. Я имею в виду две маленькие запятые в уголках рта – результат того, что я, будучи живым, слишком много улыбался, несколько совсем тонких морщинок в уголках глаз и пару едва заметных черточек на лбу. Как приятно увидеть их вновь после столь долгого перерыва!
Руки пострадали больше. Они стали темнее, чем лицо, и благодаря обилию маленьких складок очень смахивали на человеческие. Сколько же крошечных линий на руках у смертных, подумалось вдруг мне.
Блеск ногтей все еще мог вызвать у людей подозрения, но его нетрудно замаскировать пеплом. Глаза, естественно, – другое дело: никогда еще они так ярко не светились. В этом случае помогут дымчатые очки. Большие черные очки, скрывающие сияние белой кожи, больше не потребуются.
«О боги, это же просто замечательно! – думал я, глядя на собственное отражение. – Ты выглядишь почти как человек! Почти как человек!»
Каждой клеточкой я ощущал тупую боль, но мне она даже нравилась, так как напоминала о форме моего тела и о его человеческих пределах.
Я готов был кричать от радости. Но вместо этого принялся молиться: «Пусть я останусь таким надолго, а если нет, то я сделаю все снова».
Но тут же пришедшая в голову мысль поразила меня: я же пытался убить себя, а не усовершенствовать внешность, чтобы легче было появляться на людях. Предполагалось, что я должен сейчас умирать. А если солнцу пустыни Гоби это не удалось… если целый день, что я пролежал на солнце… и следующий восход…
«Ну ты и трус, – подумал я, – можно было найти способ остаться на поверхности и во второй раз! Или нет?»
– Ну, слава Богу, ты решил вернуться.
Я оглянулся и увидел, что по холлу идет Дэвид. Он только что вошел в дом и даже не успел еще снять ботинки, темное тяжелое пальто промокло от снега.
Дэвид резко остановился и внимательно осмотрел меня с головы до ног, напрягая в темноте зрение.
– Одежда сойдет, – заметил он. – Господи Боже, ты похож на островитянина, на любителя серфинга, на одного из тех молодых людей, которые всю жизнь проводят на курорте.
Я улыбнулся.
Он взял меня за руку – довольно смело, подумал я, – и провел в библиотеку, где в камине уже весело пылал огонь.
– Уже не больно, – не слишком уверенно произнес он, окинув меня еще одним долгим взглядом.
– Остались кое-какие ощущения, но не из тех, что мы называем болью. Я ненадолго отлучусь. О, не волнуйся. Я вернусь. Я голоден. Мне нужно поохотиться.
Дэвид побледнел, но не настолько, чтобы я не видел крови под кожей его щек или в крошечных сосудах глаз.
– А ты что думал? – спросил я. – Что я бросил эту привычку?
– Нет, разумеется, нет…
– Хочешь пойти посмотреть?
Он не ответил, но был явно испуган.
– Ты должен всегда помнить, кто я. Помогая мне, ты помогаешь дьяволу. – Я сделал жест в сторону «Фауста», до сих пор раскрытого на столе. А рядом лежал рассказ Лавкрафта. М-м-м…
– Для этого тебе не обязательно убивать, да? – вполне серьезно спросил он.
Ну что за странный вопрос.
– Мне нравится убивать, – с коротким смешком заявил я, указывая на тигра. – Я охотник, как и ты когда-то. Мне кажется, это весело.
Он долго смотрел на меня с выражением какого-то тревожного удивления, а потом медленно кивнул – словно в знак согласия. Но он был далек от того, чтобы со мной согласиться.
– Поужинай, пока меня не будет, – продолжал я. – Не сомневаюсь, что ты голоден. В доме пахнет жареным мясом. И будь уверен, я намерен до возвращения поужинать по-своему.
– Ты твердо настроен позволить мне узнать тебя получше, да? – спросил он. – Чтобы не осталось ни сентиментальности, ни заблуждений?
– Вот именно. – Я на секунду показал ему свои клыки. На самом деле они очень маленькие, далеко не такие, как у леопарда или у тигра, с которыми ему приходилось иметь дело по собственной воле. Но эта гримаса всегда пугает смертных. И не просто пугает – шокирует. Думаю, что организм получает некий инстинктивный сигнал тревоги, имеющий мало общего с сознательным мужеством или жизненным опытом.
Он побледнел еще больше и долго смотрел на меня, застыв на месте. Постепенно на лицо его вернулись краски и выразительность.
– Хорошо, – сказал он. – Я буду здесь, когда ты вернешься. Но если этого не случится, я приду в бешенство! Клянусь, я больше не скажу тебе ни слова. Исчезни сегодня – и больше ни одного кивка от меня не дождешься. Это будет преступление против законов гостеприимства. Ты понял?
– Ладно, ладно! – ответил я, пожав плечами, хотя втайне был тронут его стремлением к моему обществу. Прежде я не был уверен в том, что оно ему необходимо, и так грубо себя вел. – Вернусь. Мне хочется кое-что еще выяснить.
– Что?
– Почему ты не боишься смерти.
– Ну, ведь ты же ее не боишься. Или я не прав?
Я не ответил. Я снова увидел солнце – огромный пламенный шар, сливающийся с землей и небом, – и вздрогнул. А потом передо мной возникла масляная лампа из недавнего сна.
– Что случилось? – спросил Дэвид.
– Я боюсь смерти, – ответил я, подчеркивая сказанное кивком. – Все мои иллюзии разбиты.
– А разве у тебя есть иллюзии? – совершенно искренне удивился он.
– Конечно есть. Одна из них заключается в том, что никто не может сознательно отказаться от Темного Дара…
– Лестат, возможно, стоит напомнить, что ты и сам от него отказался?
– Дэвид, я был слишком юн. Меня принудили. Я сопротивлялся инстинктивно. Но ничего сознательного здесь не было.
– Не стоит так себя недооценивать. Думаю, ты бы отказался, даже в полной мере понимая, о чем речь.
– А вот это уже твои иллюзии, – возразил я. – Я голоден. Прочь с дороги, или я убью тебя.
– Не верю. Лучше ты возвращайся.
– Вернусь. На этот раз я сдержу данное в письме обещание. Ты получишь возможность высказать все.
Я охотился в лондонских переулках. Я блуждал рядом с вокзалом Чаринг-Кросс в надежде на встречу с каким-нибудь отпетым головорезом, который насытит меня до отвала, даже если его мелочные амбиции и не прольют бальзам на мою душу. Но все вышло не совсем так.
Впереди шаркала старушка в грязном пальто, с обмотанными тряпками ногами. Сумасшедшая, умирающая от холода, она бы не протянула и до утра; она выбралась через черный ход из того дома, где ее пытались запирать, – во всяком случае, она сообщала всему миру, ни к кому не обращаясь конкретно, что твердо намерена никогда больше не позволить себя поймать.
Из нас вышли отличные любовники! Она подарила мне имя и огромную гроздь теплых воспоминаний, и вот мы с ней уже танцевали в канаве, и я долго держал ее в своих объятиях. Как и большинство нищих этого века, когда в западных странах пища водится в таком изобилии, она не страдала от недоедания, и я пил медленно, очень медленно, смакуя каждую каплю и чувствуя, как кровь растекается под моей обгоревшей кожей.
Когда все было кончено, я понял, что уже давно и сильно замерз. Я сильнее ощущал изменения температуры. Интересно.
Яростные порывы ветра отнюдь не доставляли мне удовольствия. Может быть, часть моей плоти действительно сгорела? Не знаю. Я почувствовал, что у меня промокли ноги, а руки болели так сильно, что пришлось спрятать их в карманы. Ко мне вновь вернулись воспоминания о зиме во Франции, о последних днях, проведенных дома, об отдыхающем на постели из сена молодом смертном деревенском господине, чьими единственными друзьями были собаки. Внезапно мне показалось, что всей крови мира будет мне мало. Пора искать новую жертву, а потом еще одну… и еще…
Все они отбросы общества и все обречены, убеждал я сам себя, выманивая их в ледяную тьму из лачуг, слепленных из мусора и картона, чтобы потом со стоном насладиться их кровью среди зловония прогорклого пота, мочи и мокроты. Но кровь есть кровь…
Когда часы пробили десять, меня все еще мучила жажда, и жертвы попадались на каждом шагу, но я уже устал, да и охота мне наскучила.
Я миновал много кварталов и перенесся в фешенебельный Вест-Энд, а там вошел в темный магазинчик, набитый элегантной, изящного покроя мужской одеждой – современной и очень дорогой. Я выбрал на свой вкус серые твидовые брюки, пальто с поясом, толстый шерстяной белый свитер и еще очки в тонкой золотой оправе с бледно-зелеными стеклами. Выйдя обратно в морозную ночь, навстречу кружащимся снежинкам, я напевал себе под нос и даже исполнил чечетку под фонарем, чем я, бывало, развлекал Клодию…
Ба-бах! Дыша винным перегаром, на меня яростно налетел молодой красавец, божественно омерзительный бандит. Он выхватил нож, намереваясь убить меня из-за денег, которых у меня не было, и тут до меня дошло, что и сам я – жалкий вор, укравший целый гардероб дорогой ирландской одежды. Ну и ситуация! Однако я уже погрузился в жаркие крепкие объятия, круша ублюдку ребра, высасывая его до последней капли, пока он не иссох, словно крыса на чердаке в летнюю жару. Так и не оправившись от изумления, он осел на землю, но до последнего мгновения продолжал цепляться за мои волосы.
У него в карманах оказалось немного денег. Вот повезло! Я оставил их в магазине, расплатившись таким образом за одежду, и сумма эта, по моим подсчетам, была вполне достаточной, хотя, несмотря на свои сверхъестественные возможности, в математике я никогда не был силен. К тому же я написал благодарственную записку, конечно же анонимную. С помощью нескольких телепатических приемов я тщательно запер двери магазина и отправился дальше.
Глава 5
Когда я добрался до Тальбот-мэнор, било полночь. Я словно впервые увидел это место. Но теперь у меня было время поблуждать по окрестностям в лабиринте кружащихся снежинок, изучить рисунок посадки подрезанного кустарника и представить себе, каким будет этот сад весной. Прекрасная старинная усадьба.
Потом очередь дошла до комнат – небольшие по размеру, с маленькими окнами со свинцовыми переплетами, они оставались теплыми и уютными даже в морозные английские зимы; сейчас многие окна освещены и манят к себе сквозь снежный мрак.
Дэвид, очевидно, закончил свой ужин, и прислуга – пожилые мужчина и женщина – еще трудилась в кухне, в то время как их господин переодевался в спальне на третьем этаже.
Я наблюдал, как он надевает пижаму, а поверх нее длинный черный халат с черными бархатными отворотами и поясом, отчего становится очень похож на духовное лицо, хотя для сутаны халат слишком изящно отделан, особенно если учесть белый шелковый шарф, повязанный у шеи.
Дэвид спустился вниз.
Я вошел в мою любимую дверь в конце коридора и оказался за спиной у Дэвида в библиотеке как раз в тот момент, когда он наклонился, чтобы поворошить дрова в камине.
– А, все-таки вернулся! – воскликнул он, пытаясь скрыть свою радость. – Господи, ты приходишь и уходишь совсем неслышно!
– Да, и это очень раздражает, правда? – Я посмотрел на лежащую на столе Библию, на «Фауста», на рассказ Лавкрафта, все еще скрепленный в уголке, но уже разглаженный. Рядом стояли графин шотландского виски и красивый хрустальный бокал с толстым дном.
При взгляде на листочки с рассказом я вспомнил вдруг взволнованного молодого человека. Как же все-таки странно он двигался! Мысль о том, что он выследил меня в трех различных местах, заставила слегка вздрогнуть. Наверное, я больше никогда его не увижу. С другой стороны… Ладно, еще будет время разобраться с этим назойливым смертным. Сейчас мои мысли были о Дэвиде, и сознание того, что впереди у нас целая ночь для беседы, приводило меня в восхищение.
– Где это ты так нарядно оделся? – спросил Дэвид, медленно скользя по мне взглядом и, казалось, не замечая, какое внимание я уделяю его книгам.
– О, в одном небольшом магазине. Я никогда не ворую одежду у жертв, если ты об этом. Кроме того, меня привлекают в основном люди из низов, а они не слишком хорошо одеты.
Я устроился в кресле и решил про себя, что отныне оно станет моим. Глубокое мягкое кожаное сиденье, пружины поскрипывают, но благодаря высокой изогнутой спинке и широким прочным подлокотникам отдыхать в нем очень удобно. Стоявшее напротив кресло Дэвида было совсем другого типа, но такое же удобное, только чуть более потрескавшееся и потертое.
Он стоял перед огнем и все еще рассматривал меня. Потом тоже сел, вынул пробку из хрустального графина, наполнил бокал и поднял его в знак приветствия.
Сделав большой глоток, он слегка вздрогнул, когда жидкость обожгла горло.
Внезапно я живо припомнил это ощущение. Вспомнил, как лежал на сеновале амбара в родной Франции и точно так же, с точно такой же гримасой, пил коньяк, а мой смертный друг и любовник Ники жадно выхватывал у меня из рук бутылку.
– Вижу, ты пришел в себя, – слегка понизив голос, с неожиданной теплотой произнес Дэвид. Он откинулся в кресле, поставив бокал на правый подлокотник. Он держался с большим достоинством, хотя и намного непринужденнее, чем обычно. Густые волнистые волосы приобрели благородный темно-серый оттенок.
– Я действительно похож на себя?
– У тебя озорные искорки в глазах, – едва слышно ответил он, не отводя от меня пристального взгляда. – А легкая улыбка на губах исчезает, только когда ты начинаешь говорить, да и то не больше чем на секунду. Но кожа удивительным образом изменилась. Надеюсь, ты не испытываешь боли. Скажи, тебе ведь не больно?
Я сделал пренебрежительный жест. Мне было слышно, как бьется его сердце. Чуть-чуть слабее, чем в Амстердаме, то и дело сбиваясь с ритма.
– Надолго ли твоя кожа останется такой темной? – спросил он.
– Наверное, на многие годы – кто-то из древних, кажется, так говорил. Разве я не писал об этом в «Царице Проклятых»? – Я подумал о Мариусе и о том, как он сердит на меня. Он явно не одобрит мой поступок.
– Это была рыжеволосая Маарет, одна из древнейших, – сказал Дэвид. – В твоей книге она утверждает, что сделала то же самое просто для того, чтобы у нее потемнела кожа.
– Удивительное мужество! – шепотом воскликнул я. – А ведь ты не веришь в ее существование! Хотя я сейчас сижу прямо перед тобой.
– О нет, верю. Конечно верю. Я верю каждому написанному тобой слову. Но тебя я знаю! Расскажи мне – что конкретно произошло в пустыне? Ты действительно думал, что умрешь?
– Тебе непременно нужно спросить об этом с места в карьер, – вздохнул я. – Хорошо, не могу утверждать, что я действительно так думал. Наверное, я играл в свои обычные игры. Клянусь Богом, я не лгу остальным. Но себе я лгу. Я не думаю, что вообще могу умереть, – во всяком случае, не представляю себе, каким образом это сделать.
Он издал долгий вздох.
– А вот почему не боишься умереть ты, Дэвид? Нет, я не собираюсь мучить тебя своим обычным предложением. Однако для меня это поистине непостижимая загадка. Ты действительно искренне не боишься смерти, и я этого не понимаю. Потому что угроза смерти для тебя вполне реальна.
Были ли у него сомнения? Он ответил не сразу. Но я видел, что он получил богатую пищу для размышлений. Я почти слышал, как работает его мозг, хотя, конечно же, не слышал его мыслей.
– Почему «Фауст», Дэвид? Неужели я Мефистофель? А ты – Фауст?
Он покачал головой.
– Может быть, я и Фауст, – сказал он наконец, сделав еще один глоток виски, – но ты уж точно не дьявол. – Он вздохнул.
– Но я все тебе испортил, да? Я понял это в Амстердаме. Ты бываешь в Обители только по необходимости. Я не свожу тебя с ума, но очень плохо на тебя влияю, правда?
И снова он не ответил. Он смотрел на меня большими выпуклыми черными глазами и, видимо, тщательно обдумывал вопрос. Глубокие морщины на лбу, в уголках глаз и рта только подчеркивали сердечное и открытое выражение лица. В нем не было ни тени угрюмости, но таившаяся в глубине души неудовлетворенность и размышления над прожитой долгой жизнью оставили свой след.
– Так или иначе, это должно было произойти, Лестат, – в конце концов заговорил он. – По целому ряду причин я больше не могу с прежним успехом исполнять обязанности Верховного главы ордена. Уверен, такой исход дела был практически неизбежен.
– Объясни. Я считал, что ты составляешь часть самого ядра ордена и что в нем вся твоя жизнь.
Он покачал головой.
– Я никогда не был типичным кандидатом в Таламаску. Тебе известно, какой была моя молодость в Индии, и я мог бы прожить так до конца своих дней. Я не ученый в обычном смысле этого слова, и никогда им не был. Тем не менее я действительно в чем-то сродни Фаусту: я стар, и мне не удалось разгадать тайны мироздания. Ни в коей мере! А в молодости мне казалось, что удалось. В первый раз, когда мне было… видение. В первый раз, когда я познакомился с ведьмой, в первый раз, когда я услышал голос духа, в первый раз, когда я вызвал духа и заставил его исполнить мой приказ… Я думал, что познал все! Но это ерунда. Это все земные реалии… земные тайны… Или тайны, которых мне никогда не постичь, ни за что.
Он сделал паузу, словно хотел добавить что-то еще, нечто конкретное и важное. Но вместо этого поднял бокал и почти рассеянно осушил его, на сей раз без гримасы, которая, очевидно, сопровождала лишь самый первый глоток вечера. Он непонимающе взглянул на бокал и вновь наполнил его из графина.
Невозможность прочесть его мысли выводила меня из равновесия, равно как и тот факт, что его слова не давали мне ни малейшего намека на то, что происходило у него в голове.
– Знаешь, почему я стал членом Таламаски? Исследования здесь абсолютно ни при чем. Я никогда не мечтал о том, чтобы заточить себя в стенах Обители, одолевать горы бумаг, заносить сведения в компьютер и рассылать факсы по всему миру. Вовсе нет. Все началось с очередной охотничьей экспедиции, с новых рубежей, как говорится, с путешествия в далекую Бразилию. Именно там, на узких извилистых улочках старого Рио, я столкнулся с проявлениями оккультизма, и встреча с ними оказалась ничуть не менее захватывающей и опасной, чем охота на тигра. Вот что влекло меня – опасность. И даже не представляю себе, как я оказался настолько далеко от нее.
Я не ответил, но кое-что для меня прояснилось: знакомство со мной таило очевидную опасность. Должно быть, именно она в первую очередь его и привлекала. Я всегда считал, что он наивен, как и все ученые, но дело, как выяснилось, вовсе не в этом.
– Да, – тут же откликнулся он, с улыбкой сверкнув глазами. – Все именно так. Однако я не могу поверить, что ты способен причинить мне вред.
– Не обольщайся, – быстро возразил я. – Ты занимаешься самообманом. И совершаешь старую ошибку: веришь глазам своим. Я не то, что ты видишь.
– Как это?
– А вот так. Внешне я похож на ангела, но я не ангел. Многие из нас подчиняются старым законам природы. Мы прекрасны, как змеи со сверкающими спинами, как полосатые тигры, но мы – безжалостные убийцы. Это не что иное, как обман зрения. Но я не хочу сейчас вступать с тобой в спор. Рассказывай. Что произошло в Рио? Мне не терпится узнать.
На самом деле я хотел сказать: «Раз уж я не могу сделать тебя своим спутником-вампиром, то позволь хотя бы поближе узнать тебя как смертного». Наша беседа, возможность сидеть с ним рядом вызывали во мне волнение и в то же время легкую грусть.
– Хорошо, – сказал он, – ты высказал свою точку зрения, и я ее принимаю. Возможность приблизиться к тебе несколько лет назад, во время твоего выступления на сцене, твой первый приход ко мне – да, и в том и в другом случае присутствовал соблазн опасности. И твое искушение, твое предложение – это тоже опасно, ибо мы оба хорошо знаем, что я всего лишь человек.
Несколько приободрившись, я откинулся на спинку кресла и поставил ногу на кожаное сиденье.
– Мне нравится, когда люди меня немного боятся, – пожал я плечами. – Но что случилось в Рио?
– Я столкнулся лицом к лицу с религией духов, – сказал он. – Кандомбле. Тебе знакомо это слово?
Я еще раз пожал плечами.
– Слышал пару раз. Когда-нибудь непременно там побываю. Может быть, даже скоро. – Я вдруг подумал о больших городах Южной Америки, о ее тропических лесах, об Амазонке. Да, у меня была страсть к такого рода приключениям, и отчаяние, что занесло меня в пустыню Гоби, оказалось где-то совсем далеко. Я был рад, что остался жив, и не испытывал ни тени стыда по этому поводу.
– О, если бы я мог вновь увидеть Рио, – тихо продолжил он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. – Конечно, там уже не так, как было в те дни. Теперь это мир небоскребов и больших шикарных отелей. Но я бы хотел еще раз взглянуть на извилистый морской берег, на гору Сахарная Голова и на статую Христа, венчающую Корковаду. Уверен, в мире не найдется другого столь же великолепного места. И почему за столько лет я не собрался в Рио?
– А почему ты не ездишь куда и когда захочешь? – спросил я, испытывая непреодолимое желание его защитить. – Едва ли кучка монахов в Лондоне сможет тебе запретить. И вообще, руководишь-то всем ты.
Он засмеялся совсем по-джентльменски.
– Нет, они бы меня не остановили. Дело в том, хватит ли у меня энергии, как умственной, так и физической. Но это к делу не относится – я хотел рассказать тебе, что там произошло. А может, как раз и относится – не знаю.
– У тебя есть средства, чтобы поехать в Бразилию, если тебе захочется?
– О да, это не проблема. В том, что касалось денег, мой отец был человеком сообразительным. А потому мне никогда не приходилось о них задумываться.
– Не будь у тебя денег, я дал бы их тебе сколько угодно.
Дэвид одарил меня одной из своих самых теплых, самых доброжелательных улыбок.
– Я стар, – сказал он, – одинок и иногда глуп, как неизбежно случается с каждым, кто обладает хоть каплей мудрости. Но я, благодарение Небу, не беден.
– Так что произошло в Бразилии? С чего все началось?
Он уже хотел было начать рассказ, но вдруг запнулся.
– Ты действительно намерен остаться? И выслушать меня до конца?
– Да, – не задумываясь ответил я. – Пожалуйста.
Я осознал, что хочу этого больше всего на свете. В моем сердце не осталось ни единой мысли, ни единой амбиции – только быть здесь, с ним. Меня даже потрясла простота собственных желаний.
Но он по-прежнему медлил, словно опасаясь довериться мне. Потом в нем произошла едва уловимая перемена – он несколько расслабился, как будто сдался.
И наконец приступил к повествованию.
– Это случилось после Второй мировой, – сказал он. – Индии моего детства больше не было – она просто перестала существовать. К тому же я жаждал побывать в других местах. Мы с друзьями снарядили экспедицию в джунгли Амазонки – я отчаянно мечтал их увидеть. Мы охотились на огромного южноамериканского ягуара… – Он указал на пятнистую кошачью шкуру на подставке в углу, которой я прежде не замечал. – Как же мне хотелось выследить эту кошку!..
– Похоже, это тебе удалось.
– Не сразу, – ответил он с коротким ироничным смешком. – В преддверии экспедиции мы решили устроить себе роскошные каникулы в Рио, провести пару недель на пляже Копакабаны и осмотреть старые колониальные достопримечательности – монастыри, церкви и тому подобное. Надо отметить, что в то время центр города был другим – тесное скопление узких улочек с прекрасной старинной архитектурой. Я сгорал от нетерпения, ведь все это в корне отличалось от того, к чему мы привыкли. Вот что влечет в тропики нас, англичан. Нам необходимо подальше уйти от всех этих приличий, от традиций – и погрузиться в дикую на первый взгляд культуру, которую мы не в состоянии ни укротить, ни постичь.
В ходе рассказа манеры Дэвида разительно изменились – он казался более энергичным, глаза загорелись и речь, окрашенная твердым британским произношением, которое так мне нравилось, потекла быстрее.
– Итак, город, естественно, превзошел все наши ожидания. Но больше всего меня завораживали люди. Кроме Бразилии, я нигде таких не встречал. Прежде всего, они удивительно красивы, и, хотя с этим соглашаются все, никто не знает, в чем причина. Нет, я вполне серьезно, – сказал он, заметив мою улыбку. – Возможно, дело в смешении португальской, африканской и индейской крови. Честно говоря, я не знаю. Но они бесспорно чрезвычайно привлекательны и обладают необыкновенно чувственными голосами. Да, в их голоса можно влюбиться, их хочется целовать; а музыка, bossa nova, это их подлинный язык.
– Тебе нужно было там остаться.
– О нет! – Дэвид торопливо глотнул еще виски. – Продолжим. С первой недели я, скажем так, проникся страстью к одному мальчику, Карлосу. Я абсолютно потерял голову, и мы дни и ночи напролет пили и занимались любовью в моих апартаментах в «Палас-отеле». В общем, совсем стыд потеряли.
– Твои друзья тебя ждали?
– Нет, они поставили мне условие: либо я отправляюсь с ними немедленно, либо они уезжают без меня. Но они совершенно не возражали против того, чтобы Карлос присоединился к нам. – Он слегка взмахнул правой рукой. – Они ведь все, разумеется, были искушенными джентльменами.
– Разумеется.
– Но решение взять с собой Карлоса оказалось ужасной ошибкой. Ведь я и понятия не имел, что его мать была жрицей кандомбле. Она не желала отпускать своего мальчика в джунгли Амазонки. Она хотела, чтобы он ходил в школу. Она послала мне вслед духов.
Он замолчал и взглянул на меня, пытаясь определить мою реакцию.
– Должно быть, это оказалось весьма забавным, – сказал я.
– Они колотили меня в темноте. Они поднимали с пола постель и вытряхивали меня из нее. Они поворачивали краны в душе, так что я едва не ошпарился. Они наполняли мои чашки мочой. Через неделю я едва не сходил с ума. Раздражение и недоверие сменились безнадежным отчаянием. Прямо перед моим носом слетали со стола тарелки. В ушах звенели колокольчики. Бутылки падали с полок и разбивались. Куда бы я ни пошел, повсюду меня преследовали темнолицые существа.
– Ты знал, что все это было делом рук той женщины?
– Поначалу не знал. Но в конце концов Карлос не выдержал и признался во всем. Его мать обещала снять проклятье только после моего отъезда. И я уехал в ту же ночь.
Изможденный, близкий к безумию, я вернулся в Лондон. Но и здесь не избавился от кошмара – они последовали за мной. Все началось заново, теперь уже в Тальбот-мэнор. Хлопали двери, двигалась мебель, в помещении для слуг постоянно звонили звонки. Все сходили с ума. А моя мать… Моя мать, надо сказать, увлекалась спиритизмом и частенько посещала сеансы лондонских медиумов. Она и пригласила агентов из Таламаски. Я все им рассказал, и они принялись объяснять мне, что такое спиритизм и кандомбле.
– Они изгнали демонов?
– Нет. Но после недели напряженных исследований в библиотеке Обители и долгих бесед с теми несколькими агентами ордена, которые побывали в Рио, я смог сам справиться с демонами. Все были очень удивлены. Потом я объявил о своем решении вернуться в Бразилию, и они изумились еще больше. Меня предупредили, что эта жрица достаточно могущественна, чтобы убить меня.
– Именно в этом и дело, – ответил я. – Мне самому нужна такая власть. Я собираюсь пройти у нее обучение. Она станет моей наставницей. Меня умоляли не ездить. Я сказал, что по возвращении представлю им письменный отчет. Ты понимаешь мои чувства. Я стал свидетелем работы невидимых сил. Я чувствовал их прикосновения. Я видел, как они швыряют в воздух предметы. Я полагал, что передо мной открывается мир невидимого. Я не мог не поехать. Нет, никто не в силах был меня отговорить. Никто и ничто.
– Да, понимаю, – сказал я. – Это казалось тебе не менее увлекательным, чем большая охота.
– Совершенно верно. – Он покачал головой. – Вот это были времена! Наверное, я думал, что раз война не убила меня, то ничто не убьет. – Внезапно он углубился в воспоминания и, казалось, начисто забыл обо мне.
– Ты встретился с той женщиной?
Он кивнул.
– Да, и при личной встрече произвел на нее впечатление. К тому же я выложил ей такую сумму, о какой она и мечтать не смела. Я заявил о своем желании стать ее учеником. Я на коленях клялся, что хочу учиться, что не уеду, пока не проникну в эту тайну и не узнаю всего, что только возможно. – Он усмехнулся. – Думаю, до тех пор эта женщина никогда не сталкивалась с антропологами, даже с любителями, а я, полагаю, был из этой породы. Так или иначе, я провел в Рио целый год. Поверишь ли, то был самый замечательный период в моей жизни. Уехал я только потому, что понимал: если не уеду немедленно, то не уеду никогда. Англичанин Дэвид Тальбот перестанет существовать.
– Ты научился вызывать духов?
Он кивнул. Он снова углубился в воспоминания, но возникавшие перед его мысленым взором образы оставались мне недоступными. Он выглядел взволнованным и немного расстроенным.
– Я все изложил на бумаге, – наконец сказал он. – Это есть в архивах Таламаски. За прошедшие годы многие, очень многие прочли мои записки.
– И у тебя не было искушения их опубликовать?
– Это невозможно. Таковы законы Таламаски. Мы никогда ничего не публикуем для широкой аудитории.
– Ты боишься, что зря потратил свою жизнь, да?
– Нет, поверь мне, нет. Хотя то, что я говорил раньше, правда. Я так и не сумел постичь тайны мироздания. Я даже не сумел превзойти тот уровень, которого достиг в Бразилии. О, потом было множество шокирующих открытий. Помню ночь, когда я впервые прочел документы, касающиеся вампиров, – я отнесся к ним с недоверием. А чуть позже я спустился в подземелья и нашел доказательства… Но в конечном счете это ничем не отличалось от кандомбле. Мне удалось проникнуть в тайну лишь до определенных пределов.
– Понимаю, Дэвид, не сомневайся, – миру суждено оставаться загадкой. Если и существует какое-то объяснение, нам не удастся на него наткнуться, в этом я абсолютно уверен.
– Думаю, ты прав, – грустно ответил он.
– А я думаю, ты больше боишься смерти, чем готов признать. Со мной ты гнешь линию упрямства и морали, и я тебя не виню. Может быть, ты действительно достаточно стар и мудр, чтобы знать, что не хочешь становиться таким, как мы. Но не воображай, что смерть готова предоставить тебе все ответы. Подозреваю, что сама по себе она ужасна. Ты просто перестаешь существовать, и нет больше жизни, нет возможности вообще что-нибудь выяснить.
– Нет, Лестат, в этом я не могу с тобой согласиться, – сказал он. – Никак не могу. – Он вновь бросил взгляд на тигра и добавил: – Кто-то придумал эту страшную симметрию, Лестат. Должен был придумать. Тигр и агнец… само по себе так получиться не могло.
Я покачал головой.
– Сочинение этого старинного стиха, Дэвид, потребовало больше разума, чем сотворение мира. Ты говоришь как приверженец епископальной церкви. Но я понимаю твою мысль. Во всем этом что-то есть! Не может не быть! Столько утраченных фрагментов. Чем больше об этом думаешь, тем большее число атеистов начинают казаться религиозными фанатиками. Но я считаю, что это заблуждение. Это всего лишь процесс – и ничего больше.
– Утраченные фрагменты! Ну конечно! Представь себе на минуту, что я создал робота, точную копию самого себя. Представь себе, что я дам ему все энциклопедии, полные информации, – запрограммирую его мозг. И что же? Наступит момент, когда он придет ко мне и скажет: «Дэвид, а где остальное? Где объяснение?! Как все началось? Почему же все-таки грянул гром? Что именно произошло, когда минералы и прочие инертные вещества внезапно слились в органические клетки? А как же огромный провал в истории ископаемых?» Это не более чем вопрос времени.
Я восхищенно рассмеялся.
– И мне придется признаться бедняге, – закончил он, – что никакого объяснения не существует. Что у меня нет утраченных фрагментов.
– Дэвид, их ни у кого нет. И не будет.
– Ты уверен?
– Так вот на что ты надеешься? Вот почему ты читаешь Библию? Ты не смог раскрыть оккультные секреты вселенной и поэтому вернулся к Богу?
– Бог и есть оккультная тайна вселенной, – задумчиво произнес Дэвид; его лицо утратило напряженное выражение, разгладилось и стало почти молодым. Он пристально разглядывал бокал в своей руке – быть может, наслаждался игрой света в гранях хрусталя. Не знаю… Я ждал, что он скажет.
– Мне кажется, ответ можно найти в Книге Бытия, – откликнулся он наконец. – Да, думаю, там.
– Дэвид, ты меня поражаешь. Вот и говори об утраченных фрагментах! Книга Бытия и есть скопище фрагментов.
– Да, но толковать фрагменты должны мы сами, Лестат. Бог создал человека по своему образу и подобию. Подозреваю, что ключ именно в этом. Ведь никто не знает, что это значит на самом деле. Евреи не считали Бога человеком.
– И где же здесь ключ?
– Бог – созидательная сила, Лестат. Мы тоже. Он сказал Адаму: «Плодитесь и размножайтесь». Этим и занимались первые органические клетки, Лестат, – плодились и размножались. Не просто меняли форму, но воспроизводили сами себя. Бог – созидательная сила. Посредством деления клеток он создал из самого себя вселенную. Вот почему дьяволов переполняет зависть – я говорю о злых ангелах. Они лишены созидательной способности, у них нет тел, нет клеток – только дух. И подозреваю, что это не столько зависть, сколько своего рода подозрение – что Бог совершил ошибку, настолько уподобив Адама самому себе и тем самым допустив возникновение еще одной созидательной силы. Я имею в виду, что ангелы, возможно, чувствовали, что физическая вселенная с воспроизводящимися клетками – это уже плохо, но мыслящие, говорящие существа, способные плодиться и размножаться… Вероятно, их привел в ярость эксперимент в целом. Вот в чем их грех.
– Значит, ты утверждаешь, что Бог не есть чистый дух?
– Верно. У Бога есть тело. И было всегда. Тайна делящейся на клетки жизни содержится в самом Боге. И все живые клетки несут в себе крошечную частицу Бога, Лестат, – вот он, утраченный фрагмент, вот что породило жизнь как таковую, вот что отделяет ее от небытия. Весьма походит на происхождение вампиров. По твоим словам, дух Амель – некая злая сущность – присутствует в телах всех вампиров… Вот и люди точно так же носят в себе Бога.
– Господи, Дэвид, да ты с ума сошел! Мы представляем собой мутацию.
– Согласен. Но вы существуете в одной с нами вселенной, и ваша мутация отражает нашу. Кроме того, не только я придерживаюсь этой теории. Бог есть пламя, и все мы – огоньки; и с нашей смертью эти огоньки возвращаются в костер Бога. Но важно осознать, что Бог суть и Тело, и Душа! Это бесспорно.
Западная цивилизация основана на инверсии. Но я искренне верю, что в своих ежедневных деяниях мы познаем и почитаем истину. Лишь в разговорах о религии мы говорим, что Бог есть чистый дух, всегда таким был и всегда будет, и что плоть порочна. Истина содержится в Книге Бытия. Я тебе скажу, когда грянул гром, Лестат. Когда началось деление Божественных клеток.
– Чрезвычайно милая теория, Дэвид. И Бог удивился?
– Нет, но ангелы удивились. Я не шучу. Я скажу тебе, в чем заключается суеверная часть – в вере в совершенство Бога. Однако Бог отнюдь не совершенен.
– Большое облегчение, – сказал я. – Это многое объясняет.
– Ты смеешься надо мной. Я тебя не виню. Но ты абсолютно прав. Это все объясняет. Бог сделал много ошибок. Очень много ошибок. И сам он об этом знает! И я подозреваю, что ангелы пытались его предостеречь. Дьявол стал дьяволом, потому что он пытался предостеречь Бога. Бог есть любовь. Но я не уверен, что Бог абсолютно безупречен.
Я безуспешно старался подавить смех.
– Дэвид, если ты будешь продолжать в таком духе, тебя поразит молния.
– Чепуха! Бог хочет, чтобы мы это поняли.
– Нет. Этого я не допускаю.
– То есть остальное ты допускаешь? – спросил он с очередной усмешкой. – Нет, я вполне серьезен. Религия примитивна в своих лишенных логики заключениях. Можно ли представить совершенного во всех отношениях Бога, который позволяет появиться дьяволу? Это же полнейшая бессмыслица.
Главнейшим изъяном Библии является утверждение, что Бог есть совершенство. Оно свидетельствует о недостатке воображения у ранних исследователей. Оно послужило основанием для возникновения всевозможных теологических вопросов, касающихся добра и зла, на которые мы вот уже много веков пытаемся дать ответы. Однако же Бог есть добро, удивительное добро. Да, Бог есть любовь. Но всякая творческая сила несовершенна. Это очевидно.
– А дьявол? О нем выяснилось что-нибудь новенькое?
Дэвид бросил на меня слегка раздраженный взгляд.
– Какой же ты циничный, – прошептал он.
– Нет, я не циничный, – сказал я. – Я действительно хочу понять. Естественно, дьявол меня особенно интересует. Я говорю о нем гораздо чаще, чем о Боге. Уму непостижимо, почему смертные так сильно его любят, то есть саму идею его существования. И тем не менее это так.
– Потому что они в него не верят, – сказал Дэвид. – Потому что идеально злой дьявол гораздо менее логичен, чем идеальный Бог. Представь себе дьявола, который за все это время так ничему и не научился, так и не передумал быть дьяволом. Такая мысль оскорбляет наш интеллект.
– И какая же истина скрывается за этой ложью?
– Он может найти искупление. Он не более чем часть замысла Бога. Это дух, которому позволено искушать и испытывать людей. Он не одобряет людей, не одобряет весь этот эксперимент. Видишь ли, насколько я понимаю, в этом и состоит суть падения дьявола. Дьявол думал, будто ничего не выйдет. Но ключ лежит в осознании материальности Бога! Бог есть Материя, Бог есть Господь деления клеток, а дьявол питает отвращение к чрезмерно активному, вырвавшемуся из-под контроля делению.
Он снова погрузился в размышления, глаза изумленно раскрылись… Такие паузы в нашей беседе буквально сводили меня с ума. Наконец Дэвид заговорил:
– У меня есть другая теория касательно дьявола.
– И в чем же она состоит?
– Он не один, их несколько. И никто из назначенных на эту должность от нее не в восторге. – Он произнес эти слова очень тихо, почти про себя. И словно хотел добавить что-то еще, но… передумал.
Я громко расхохотался.
– Вот это я могу понять! Кому понравится быть дьяволом? Да еще и сознавать, что рассчитывать на выигрыш не приходится. А если принять во внимание, что дьявол изначально был ангелом и, судя по всему, весьма неглупым…
– Вот именно. – Он наставил на меня палец. – Твой рассказ о Рембрандте. Дьявол, обладай он мозгами, должен был признать, что Рембрандт – гений.
– И что Фауст добродетелен.
– Ах да, ты видел, как я читал «Фауста» в Амстердаме, не так ли? И приобрел экземпляр для себя.
– Откуда ты знаешь?
– Владелец магазина рассказал мне об этом на следующий день. Через несколько минут после моего ухода к нему зашел странного вида молодой светловолосый француз, купил ту же книгу и затем полчаса неподвижно простоял на улице, читая ее. Более светлой кожи он в жизни не видел. Кто еще это мог быть?
Я с улыбкой покачал головой.
– Иногда я веду себя крайне неосторожно. Чудо, что какой-нибудь ученый до сих пор не поймал меня в свои сети.
– Это не шутки, друг мой. Несколько ночей назад в Майами ты поступил весьма неосмотрительно. Две жертвы, в которых не осталось ни капли крови…
Его замечание привело меня в такое смятение, что поначалу я даже не нашелся с ответом. А потом смог лишь выразить удивление по поводу того, как новости долетают до него из-за океана. Я почувствовал, что былое отчаяние вновь коснулось меня черным крылом.
– Необычные убийства попадают на первые полосы газет во всем мире, – объяснил он. – К тому же Таламаска получает отчеты о подобных вещах. В каждом крупном городе у нас есть люди, которые делают для нас вырезки и собирают разного рода предметы, связанные с паранормальными явлениями. «Убийца-вампир: две жертвы в Майами». Мы получили это из нескольких источников.
– Но никто же не верит, что это действительно был вампир. И тебе прекрасно известно, что не верят.
– Пока нет, но продолжай в том же духе, и поверят все. Ведь именно этого ты добивался во время своей короткой карьеры в рок-музыке. Ты хотел, чтобы они напали на след. И в этом нет ничего невероятного. А твоя охота на серийных убийц! Ты оставляешь за собой целый хвост.
Его последние слова меня поразили. Я охотился на убийц то на одном, то на другом континенте. И никогда не думал, что кто-то способен связать воедино эти разрозненные, разделенные большими расстояниями смерти, – кроме, конечно, Мариуса.
– И как ты обо всем догадался?
– Я же сказал. Подобные истории непременно становятся нам известны. Сатанизм, вампиризм, вуду, колдовство, появление оборотней – все сведения о них ложатся ко мне на стол. Большая часть, разумеется, отправляется в мусорную корзину. Но я умею отличить зерно истины. А твои убийства заметить несложно.
Ты уже давно гоняешься за серийными убийцами. И не удосуживаешься прятать их трупы. Последнего ты бросил прямо в отеле, где его нашли всего через час после наступления смерти. Со старухой ты обошелся не менее небрежно – сын обнаружил ее на следующий день. Коронер не увидел ран ни на одном из этих тел. В Майами ты теперь безымянная знаменитость, чья слава далеко превзошла печальную известность бедняги из отеля.
– Мне наплевать, – сердито откликнулся я, хотя, конечно, в данном случае покривил душой. Я ненавидел собственную беспечность, но даже не пытался что-либо исправить. Пора действовать по-другому. Ведь и сегодня вечером я поступил не лучше. Но поиск оправданий казался мне трусостью.
Дэвид внимательно наблюдал за мной. Если в его характере и была какая-то доминирующая черта, то это, конечно же, осторожность.
– Теоретически вполне можно допустить, – в конце концов заметил он, – что тебя поймают.
Я презрительно усмехнулся.
– Тебя могут запереть в стеклянную клетку и изучать, как подопытное животное в лаборатории.
– Это невозможно. Однако мысль интересная.
– Так я и знал! Ты сам на это напрашиваешься!
Я пожал плечами.
– Хоть какое-то развлечение для разнообразия. Однако это абсолютно невозможно. В ночь моего выступления в качестве рок-певца произошли самые невероятные вещи. Но смертные просто убрали следы беспорядков и закрыли все дела. Что касается старушки в Майами – это ужасное несчастье. Такого нельзя допускать… – Я замолчал, вспомнив о тех, кто этой ночью умер в Лондоне.
– Но убийство доставляет тебе удовольствие, – возразил он. – Ты утверждаешь, что это весело.
Внезапно мне стало так больно, что захотелось уйти. Но я обещал остаться. Я сидел, глядя в огонь и думая о пустыне Гоби, о костях гигантских ящеров; я вспоминал, как весь мир наполнился светом. Я подумал о Клодии… И ощутил запах фитиля лампы.
– Извини, я не хотел быть с тобой жестоким, – сказал он.
– Черт возьми, почему бы и нет? Более подходящий объект для жестокости трудно себе представить. Кстати, я ведь тоже не всегда к тебе добр.
– Что тебе нужно на самом деле? Какая тебя снедает страсть?
Я подумал о Мариусе и о Луи, которые много раз задавали мне тот же самый вопрос.
– Как искупить вину за содеянное? – спросил я. – Я собирался покончить с убийцей. Он был тигром-людоедом, моим братом. Я лежал в засаде и ждал его. А та пожилая женщина – всего лишь ребенок в лесу. Но какое это имеет значение? – Я вспомнил о жалких созданиях, которых убил сегодня вечером, устроив в лонодонских переулках настоящую бойню. – Жаль, но мне никак не удается усвоить, что это не имеет значения. Я собирался спасти ее. Но что такое один милосердный поступок по сравнению с тем, что я совершил? Если Бог или дьявол существуют, значит, я проклят. Может быть, ты продолжишь свою религиозную проповедь? Странно, но такие беседы удивительно успокаивают. Расскажи еще про дьявола. Да, конечно, он подвержен изменениям. Умен. У него, должно быть, есть чувства. Так с какой же стати ему всегда быть одинаковым?
– Вот именно. Ты же знаешь, что говорится в Книге Иова.
– Напомни.
– Ну, Сатана сидит у Бога на Небесах. Бог спрашивает, где Сатана был. И тот отвечает, что бродил по свету. Обычный разговор. И начинается спор об Иове. Сатана считает, что добродетель Иова целиком проистекает из его благополучия. И Бог позволяет Сатане испытать Иова. Эта сцена отображает максимально близкую к нашей ситуацию. Богу известно не все. Дьявол – его хороший друг. Все в целом – эксперимент. И этот Сатана весьма далек от того дьявола, каким его представляет себе современный мир.
– Ты говоришь об этих понятиях как о реально существующих…
– Я думаю, они вполне реальны, – ответил Дэвид. Голос его постепенно затих, и он погрузился в размышления. Однако вскоре стряхнул с себя задумчивость. – Хочу тебе кое в чем признаться. Давно пора это сделать. В определенном смысле я не менее суеверен и религиозен, чем самый заурядный человек. Понимаешь, во многом это основано на своеобразном видении – на некоем откровении, которое накладывает свой отпечаток на человеческий рассудок.
– Нет, не понимаю. Мне снятся сны, но без откровений. Пожалуйста, объясни.
Он снова уставился в камин и задумался.
– Не отгораживайся от меня, – тихо попросил я.
– М-м-м-м. Да, конечно. Я думал, как это описать. Понимаешь, я до сих пор жрец кандомбле. А значит, могу вызывать невидимые силы: злых духов, астральных скитальцев… Назвать можно как угодно – полтергейстами, призраками… следовательно, я всегда обладал скрытой способностью видеть духов.
– Да. Полагаю…
– И однажды я кое-что видел, кое-что необъяснимое, еще до поездки в Бразилию.
– Да?
– До Бразилии я не придавал этому никакого значения. Видишь ли, все случившееся было столь необъяснимым и так меня тревожило, что еще до поездки в Рио я постарался выбросить это из головы. Но теперь я думаю об этом постоянно и ничего не могу с собой поделать. Поэтому я и обратился к Библии – в надежде обрести в ней мудрость.
– Рассказывай.
– Дело было перед самой войной. Мы ездили в Париж с матерью. Я сидел в кафе – даже не помню, в каком именно, – на левом берегу. Стоял прелестный весенний день, и, как поется в песнях, это самое лучшее время в Париже. Я пил пиво, читал английские газеты и вдруг осознал, что непроизвольно подслушиваю чей-то разговор. – Дэвид опять словно бы ушел в себя. – Жаль, что я не знаю, как все было на самом деле, – еле слышно пробормотал он.
Он наклонился вперед, взял в правую руку кочергу и поворошил поленья, отчего на фоне темных кирпичей в трубу поднялся шлейф пламенеющих искорок.
Мне отчаянно хотелось вернуть его к действительности, но я терпеливо ждал. Наконец он продолжил:
– Я говорил, что сидел в том кафе…
– Да.
– И понял, что слышу странный разговор… Говорили не по-английски, не по-французски… И постепенно до меня дошло, что это вообще не язык, но смысл беседы мне полностью понятен. Я отложил газету и сосредоточился. Разговор продолжался – похоже, собеседники спорили. Внезапно я понял, что не уверен, слышу ли их голоса в обычном смысле слова. Не было уверенности и в том, что их слышат другие посетители кафе! Я поднял глаза и медленно обернулся.
И увидел их… Двое сидели за столиком и разговаривали; на первый взгляд в этом не было ничего необычного: люди увлечены беседой. Я вновь обратил взгляд на газету, и тут у меня появилось это чувство – я словно плыл куда-то. Необходимо было за что-то зацепиться, сосредоточить внимание на газете, на столешнице – и остановиться. Шум кафе обрушился на меня внезапно – как будто грянул во всю мощь оркестр. Но я знал, что те двое, которых я только что видел, не были людьми.
Я еще раз обернулся, стараясь максимально сосредоточиться и полностью отдавать себе отчет в происходящем. Они все еще сидели за столиком, и стало до боли очевидно, что это не более чем иллюзия. Они состояли из иной материи. Ты понимаешь, о чем я? Попробую пояснить на некоторых деталях. Например, их освещал другой свет, они существовали в таком измерении, где свет исходит из другого источника.
– Как свет Рембрандта.
– Да, примерно так. Одежда и лица казались более гладкими, чем у людей. Их материя обладала совершенно иным строением и абсолютно однородной структурой.
– А они тебя видели?
– Нет. Точнее, они на меня не смотрели и не подавали вида, что заметили мое присутствие. Они смотрели друг на друга и продолжали разговор, суть которого была мне совершенно ясна. Бог говорил дьяволу, что тот должен продолжать выполнять свою работу. А дьявол возражал, объясняя свой отказ тем, что срок его службы и без того чрезмерно затянулся, что с ним происходит то же самое, что происходило со всеми остальными. Бог сказал, что все понимает, но дьявол должен сознавать свое великое предназначение и не имеет права уклоняться от выполнения обязанностей – все не так просто. Бог нуждается в нем и в том, чтобы он был сильным. Причем все это было сказано самым добродушным тоном.
– И как они выглядели?
– В том-то и состоит самая главная проблема. Я не знаю. В тот момент я видел два смутных силуэта, крупных, определенно мужских – или, скажем так, принявших форму мужчин, – приятных на вид. В них не было ничего ужасного, ничего необычного. Мне не бросилось в глаза отсутствие каких-то деталей – цвета волос, например, или определенности черт лица… Образы их казались вполне завершенными. Но когда я впоследствии пытался воссоздать их в памяти, ничего не вышло! Думаю, что на самом деле эти призрачные видения отнюдь не обладали завершенностью форм. Скорее всего, удовлетворившее меня ощущение ее присутствия имело иные истоки.
– Какие же?
– Оно, конечно, происходило от содержания, от смысла.
– Они так тебя и не увидели, так и не узнали, что ты был рядом.
– Дорогой мой мальчик, они не могли не знать, что я рядом. Они должны были знать. Должно быть, они сделали это ради моего же блага! Иначе разве они позволили бы себя увидеть?
– Не знаю, Дэвид. Возможно, они и не хотели, чтобы ты их увидел. Может быть, все дело лишь в том, что одни обладают способностью видеть, а другие – нет. Нельзя исключить вероятность того, что в реальной материи – в той, из которой состоит весь окружающий мир, – образовалась небольшая прореха.
– Возможно, ты прав. Но боюсь, что это не так. Боюсь, что мне было предначертано это увидеть и это должно было оставить свой отпечаток. Вот в чем весь ужас, Лестат. Никакого особенного отпечатка это не оставило.
– Ты не изменил свою жизнь?
– О нет, отнюдь. Ведь уже через два дня я не был уверен, что вообще их видел. И чем больше я рассказывал об этом, чем чаще слышал в ответ: «Дэвид, ты спятил», тем больше я терял уверенность. Нет, я так ничего и не сделал.
– Но что ты мог сделать? Как иначе можно отреагировать на явившееся тебе откровение, кроме как прожить хорошую жизнь? Ты, несомненно, поведал своей братии из Таламаски об этом видении.
– Да, да, я им все рассказал. Но намного позже, после Бразилии, когда составлял свои мемуары, как и подобает добропорядочному члену ордена. Естественно, я откровенно описал все от начала до конца.
– И что они сказали?
– Лестат, Таламаска никогда не дает подробных комментариев, и с этим нужно смириться: «Мы бдим. И мы всегда рядом». По правде говоря, о таких видениях с другими членами особенно не поговоришь. Начни говорить о бразильских духах, и в слушателях недостатка не будет. Но христианский Бог и его дьявол?.. Нет, боюсь, что и в Таламаске не обходится без предрассудков и прочих причуд. Кроме нескольких удивленно поднятых бровей, никакой иной реакции на мое повествование припомнить не могу. Но чего же еще ждать от джентльменов, которые видели оборотней, боролись с ведьмами, беседовали с призраками и подвергались соблазнам со стороны вампиров?
– Но ведь речь шла о Боге и дьяволе, – рассмеялся я. – Дэвид, это же потрясающе! А что, если братья завидовали тебе больше, чем ты мог предположить?
– Нет, они мне просто не поверили. – На мою шутку Дэвид ответил легкой усмешкой. – Откровенно говоря, твое серьезное отношение к этому рассказу меня удивляет.
Он неожиданно взволнованно поднялся, подошел к окну и отдернул шторы, вглядываясь в снежную ночь.
– Дэвид, а чего могли ожидать от тебя эти призраки?
– В том-то и беда, что не знаю. – В голосе Дэвида слышались растерянность и горечь. – Мне семьдесят четыре года, и я до сих пор ничего не понял. Так и умру, не узнав. И если просветления не наступит, да будет так. Ответ на самом деле заключается и в том, сумею ли я понять.
– Вернись, пожалуйста, в кресло, – попросил я. – Мне приятнее видеть твое лицо во время разговора.
Он почти автоматически выполнил просьбу, сел и потянулся к пустому стакану, устремив взгляд на огонь.
– А ты, Лестат, как думаешь на самом деле? В глубине души? Бог или дьявол существуют? Скажи откровенно, во что ты веришь?
– Я думаю, что Бог существует, – ответил я после минутного раздумья. – Мне неприятно это говорить, но именно так я считаю. И, вероятно, существует какая-то форма дьявола. Допускаю, что дело здесь в тех утраченных фрагментах, о которых мы говорили. И в том парижском кафе ты вполне мог увидеть Высшее существо и его Оппонента. Но это часть их игры, которая способна довести до безумия и которую нам не дано постичь до конца. Тебе нужно логичное объяснение их поведения? Почему они позволили себя заметить? Они хотели спровоцировать некую религиозную реакцию! Так они играют с нами. Они подбрасывают нам видения и чудеса, куски и крошки божественных откровений. Мы преисполняемся рвения и обращаемся к Церкви. Все это – часть игры, часть бесконечно продолжающегося разговора. И знаешь что? Твой взгляд на вещи – несовершенный Бог и обучающийся дьявол – не хуже любой другой интерпретации. Полагаю, ты попал в точку.
Он пристально смотрел на меня, но не произнес ни слова.
– Нет, – продолжал я, – нам не суждено получить ответы. Нам не суждено узнать, переселяются ли наши души из тела в тело путем реинкарнации. Нам не суждено узнать, Бог ли создал Землю. Кто он – Аллах, Шива, Яхве или Христос? Он не только дарует откровения, но и сеет сомнения. Он всех нас дурачит.
Он по-прежнему молчал.
– Уйди из Таламаски, Дэвид, – сказал я. – Уезжай в Бразилию, пока еще позволяют годы. Возвращайся в Индию. Побывай всюду, где хочется.
– Да, думаю, так и следует поступить, – тихо сказал он. – Наверное, они обо всем позаботятся за меня. Старшины уже устраивали совещание, чтобы обсудить проблему «Дэвида и его недавних отлучек из Таламаски». Я уйду в отставку – с неплохой пенсией, разумеется.
– Они знают, что ты со мной встречался?
– О да. Это тоже часть проблемы. Старшины запрещают любые контакты. Это в высшей степени забавно, так как сами они сгорают от желания увидеть тебя собственными глазами. Конечно, они чувствуют, когда ты появляешься возле Обители.
– Не сомневаюсь, – сказал я. – А что значит – запрещают контакты?
– О, стандартное предупреждение, – сказал он, не сводя глаз с горящего полена. – Сплошное средневековье. В основе лежит старая директива: «Не следует поощрять это существо, вступать с ним в разговор или продолжать таковой; если оно не прекращает посещения, надлежит любым способом выманить его в многолюдное место. Известно, что эти существа не любят нападать при большом скоплении смертных. Никогда, ни при каких обстоятельствах недопустимо пытаться выведать у такого существа тайны или хоть на миг поверить в искренность выражаемых им чувств, ибо эти существа обладают непревзойденным даром притворства и необъяснимой способностью доводить смертных до безумия. Подобные случаи наблюдались как среди искушенных исследователей, так и среди незадачливых новичков, с которыми вампиры вступали в контакт. Вы предупреждаетесь о необходимости немедленного предоставления старшинам ордена отчетов о любых встречах, появлениях…» – и далее в том же духе…
– Ты действительно знаешь все это наизусть?
– Я сам писал эту директиву. – На губах Дэвида промелькнула легкая улыбка. – За прошедшие годы я инструктировал многих агентов ордена.
– А они знают, что я сейчас у тебя?
– Нет, конечно, нет. Я давно уже перестал сообщать им о наших встречах. – Он опять задумался и вдруг спросил: – А ты ищешь Бога?
– Естественно, нет, – ответил я. – Не представляю себе, на что можно более бесплодно потратить время, даже если в твоем распоряжении целые столетия. Я навсегда покончил с такого рода поисками. Теперь я жажду найти в мире истину – истину, скрытую в материальном и эстетическом, истину, доступную моему пониманию. Твое видение интересует меня потому, что оно явилось тебе и ты рассказал мне о нем, а я тебя люблю. Но только поэтому.
Он откинулся в кресле, устремив глаза в темноту.
– Разве это имеет значение, Дэвид? Придет время, и ты умрешь. И я, наверное, тоже.
Его улыбка опять потеплела, как будто он мог воспринимать мои слова только в шутку.
Наступила долгая пауза, во время которой он подлил себе виски и выпил его – медленнее, чем обычно. Он был весьма далек от опьянения. Но он и не стремился к этому. Будучи смертным, я всегда пил, чтобы напиваться. Но ведь я тогда был очень молод и очень беден – наличие замка значения не имело, – а зелье по большей части было просто дрянным.
– Ты ищешь Бога, – сказал он, кивая.
– Черта с два. Ты злоупотребляешь своим авторитетом. Ты знаешь, что я не тот мальчик, которого ты видишь перед собой.
– Да, ты прав, мне нужно напоминать об этом. Но ты по-прежнему не приемлешь зло. Если в твоих книгах написана хотя бы половина правды, то любые проявления зла всегда вызывали у тебя отвращение. Ты бы отдал все на свете, чтобы узнать, чего от тебя хочет Бог, и исполнить его волю.
– У тебя старческий маразм. Пиши завещание.
– О, как жестоко, – широко улыбнулся он.
Я собирался сказать кое-что еще, но отвлекся. Что-то дернуло за ниточки моего сознания. Звуки. Вдали, в деревне, по узкой дороге сквозь ослепительный снег очень медленно ехала машина.
Обратив туда все свое внимание, я прислушался, но ничего не уловил – только шелест падающего снега и рокот продвигающейся вперед машины. Бедный, несчастный смертный – в такой час за рулем машины. Четыре утра.
– Уже очень поздно, – сказал я. – Мне пора. Я не хочу оставаться здесь еще на одну ночь, хотя ты был чрезвычайно любезен. Дело не в том, что кто-то что-то узнает. Просто я предпочитаю…
– Понимаю. Когда мы снова увидимся?
– Может быть, раньше, чем ты думаешь. Скажи, Дэвид, почему в ту ночь, когда я ушел отсюда в Гоби, твердо намереваясь сгореть там дотла, ты назвал меня своим единственным другом?
– Потому что это правда.
С минуту мы сидели молча.
– Ты тоже мой единственный друг, Дэвид, – произнес я наконец.
– Куда ты идешь?
– Не знаю. Возможно, вернусь в Лондон. Я сообщу тебе, когда соберусь пересечь Атлантику. Договорились?
– Да, обязательно сообщи. И не думай… никогда не думай, что я не хочу тебя видеть. Никогда больше не оставляй меня.
– Будь я уверен, что приношу тебе пользу, будь я уверен, что для тебя будет лучше, если ты откажешься от службы ордену и отправишься в путешествие…
– Но это действительно так. Мне больше нет места в Таламаске. Я даже не знаю, испытываю ли прежнее доверие к ордену и его целям.
Мне хотелось добавить, что я его очень люблю, что под его крышей я искал и обрел убежище и никогда этого не забуду, что я готов исполнить любое его желание… абсолютно любое…
Но говорить все это было бессмысленно. Не знаю, мог ли он мне поверить, да и чего стоили мои слова. По моему глубокому убеждению, наши встречи не приносили ему пользы. А ему не так уж много осталось в жизни.
– Все это я знаю, – тихо произнес он, одарив меня еще одной улыбкой.
– Дэвид, а этот твой отчет о приключениях в Бразилии… У тебя здесь найдется экземпляр? Можно почитать?
Он встал и подошел к ближайшему от стола книжному шкафу со стеклянными дверцами. Перебрав множество бумаг, он вытащил две большие кожаные папки.
– Здесь вся моя жизнь в Бразилии – это я написал в джунглях на раздолбанной портативной пишущей машинке, сидя за столом в лагере, перед возвращением в Англию. Конечно же, я принял участие в охоте на ягуара. Пришлось. Но охота не идет ни в какое сравнение с тем, что я пережил в Рио. Понимаешь, это был переломный момент. Мне кажется, что сам процесс создания этих записок был отчаянной попыткой снова стать англичанином, отдалиться от людей, общавшихся с духами, от жизни, которую я вел рядом с ними. Мой отчет для Таламаски основывался на этом материале.
Я с благодарностью взял папку.
– А здесь, – продолжал он, передавая мне вторую папку, – краткое описание дней, проведенных в Африке и в Индии.
– Я бы и это с удовольствием почитал.
– По большей части – старые охотничьи истории. Я писал это в молодости. Только и речи, что о стрельбе и оружии. Все это было до войны.
Я забрал и вторую папку. И медленно, как подобает истинному джентльмену, поднялся.
– Я проговорил всю ночь, – сокрушенно произнес вдруг он. – Как неприлично с моей стороны. Возможно, у тебя тоже было что сказать.
– Нет, совсем нет. Все получилось именно так, как я хотел. – Я протянул руку, и он пожал ее. Удивительное ощущение – его прикосновение к моей обгоревшей плоти.
– Лестат, – добавил он, – этот рассказ… рассказ Лавкрафта. Ты заберешь его сейчас или мне пока хранить его у себя?
– А, вот еще довольно забавная история – то, как он у меня оказался.
Я забрал у него рассказ и сунул его в карман. Может быть, я его перечитаю. Вернулось прежнее любопытство, а вместе с ним – опасения и подозрения. Венеция, Гонконг, Майами… Как этот странный смертный умудрился выследить меня во всех трех местах и к тому же догадаться, что я тоже его заметил?
– Хочешь рассказать? – мягко спросил Дэвид.
– Непременно. Когда будет достаточно времени. – «Особенно если встречу его еще раз, – подумал я. – Как же ему это удалось?»
Я ушел как благовоспитанный джентльмен и даже намеренно немного пошумел, закрывая боковую дверь.
Когда я добрался до Лондона, уже близился рассвет. Впервые за много ночей меня искренне радовало собственное могущество, обеспечивавшее сознание полной безопасности. Я не нуждался ни в гробах, ни в темных убежищах – только в комнате, абсолютно изолированной от солнечного света. Любой фешенебельный отель мог предоставить мне необходимый покой и комфорт.
У меня оставалось немного времени, чтобы устроиться под теплым светом лампы и приступить к чтению записок Дэвида о его приключениях в Бразилии, – мечтая об этом, я испытывал ни с чем не сравнимый восторг.
По причине свойственной мне беспечности и помрачения рассудка оказалось, что у меня с собой почти нет денег. А потому пришлось применить незаурядные способности, чтобы убедить клерков почтенного старого «Клэриджа» принять на веру номер моего кредитного счета, ибо у меня не было карточки, чтобы его подтвердить. Я подписался именем Себастьян Мельмот – одним из любимых своих псевдонимов – и был препровожден в очаровательные апартаменты с прелестной мебелью эпохи королевы Анны, а также со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами.
Повесив на дверь маленькую табличку с вежливой просьбой не беспокоить, я оставил распоряжение портье не тревожить меня до наступления темноты и заперся в номере.
Времени для чтения практически не оставалось. Скрываясь за тяжелыми серыми тучами и медленно падавшими крупными мягкими снежинками, надвигалось утро. Я задернул все шторы, кроме одной, чтобы иметь возможность видеть небо, и встал возле окна, ожидая буйства света при восходе солнца и все еще опасаясь его гнева. От этого страха у меня еще сильнее заныла кожа.
Я много думал о Дэвиде. С момента нашего расставания я ни на секунду я не забывал о состоявшейся беседе. Я все еще слышал его голос и пытался мысленно воссоздать фрагменты посетившего его в кафе видения – представить себе Бога и дьявола. Но мой взгляд на проблему был прост и предсказуем. Я считал, что Дэвид пребывает во власти утешительных заблуждений. А скоро он уйдет от меня. Его заберет смерть. И останутся мне только рукописи, повествующие о его жизни. Я не мог заставить себя поверить, что в смерти он познает хоть что-нибудь новое.
Тем не менее все казалось мне удивительным – и сама тема нашего разговора, и восторженность Дэвида, и его странные слова.
Таким раздумьям я и предавался, наблюдая за свинцовым небом и снегом, падавшим на видневшиеся далеко внизу тротуары… И вдруг меня охватил приступ головокружения – я полностью утратил ориентацию, как будто внезапно заснул. Это ощущение едва заметной вибрации оказалось довольно-таки приятным, оно сопровождалось невесомостью, словно я действительно переносился из материального мира в царство снов. Потом появилось то же давление, которое я мимолетно испытал в Майами, – мои ноги и руки напряглись, все тело внутри сжималось, и внезапно мне почудилось, будто меня вытесняют из него прямо через голову!
Отчего это происходит? Я вздрогнул, как и тогда, на пустынном темном пляже во Флориде. Ощущение мгновенно рассеялось. Я пришел в себя, испытывая легкое раздражение.
Неужели с моим прекрасным, божественным телом происходит что-то нехорошее? Быть того не может! Для подтверждения этой истины не требовались уверения старейших. Я так и не решил, стоит ли беспокоиться по этому поводу, или лучше выбросить все из головы, или имеет смысл попытаться самостоятельно вызывать это ощущение… Мои размышления прервал стук в дверь.
Ужасно раздражает.
– Вам письмо, сэр. Какой-то жентльмен попросил передать его вам лично в руки.
Должно быть, какая-то ошибка. Тем не менее я открыл дверь.
Совсем еще юный парнишка протянул мне конверт. Большой и пухлый. На какое-то мгновение я просто застыл на месте, не в силах отвести взгляд от конверта. В кармане у меня завалялась бумажка в один фунт – память о воришке, которого я прикончил; я отдал ее мальчику и снова запер дверь.
Точно такой же конверт мне передал в Майами тот безумный смертный, который подбежал ко мне на пляже. И это ощущение! Те же необычные чувства я испытывал как раз в тот самый момент, когда увидел странную личность. Да, но это решительно невозможно…
Трясущимися неизвестно отчего руками я разорвал конверт. В нем лежал еще один рассказ, тоже вырезанный из книги и так же скрепленный в левом верхнем углу!
Я остолбенел. Черт возьми, как он меня выследил? Никто не знает, что я здесь! Даже Дэвид! О да, здесь известен номер моей кредитной карточки. Но любому смертному понадобился бы не один час, чтобы найти меня таким способом, даже если допустить, что это вообще возможно. А я был уверен как раз в обратном.
И при чем здесь эти странные ощущения – вибрация, давление, которое, кажется, исходит откуда-то изнутри?
Времени на раздумья уже не оставалось – близилось утро.
Я моментально понял, насколько опасна для меня сложившаяся ситуация. Черт побери, как же я раньше этого не увидел? Странное существо определенно располагает возможностью каким-то образом узнавать, где я нахожусь и даже где собираюсь скрываться от дневного света! Пора выметаться из этих комнат. Нет, это просто возмутительно!
Дрожа от ярости, я заставил себя просмотреть рассказ, занимавший всего несколько страниц. Он назывался «Глаза мумии», автор – Роберт Блох. Весьма занятно, но какое отношение все это может иметь ко мне? Я вспомнил рассказ Лавкрафта: он был намного длиннее и на первый взгляд речь в нем шла совсем о другом. Что все это значит? Этот очевидный идиотизм буквально выводил меня из себя.
Но думать об этом было слишком поздно. Собрав рукописи Дэвида, я выскочил из комнаты и через пожарный выход поднялся на крышу. Я исследовал ночную тьму во всех направлениях, но так и не смог найти мерзавца. Что ж, ему повезло. Попадись он мне в тот момент на глаза, ему бы несдобровать. Когда дело доходит до защиты дневного убежища, я не отличаюсь терпеливостью и не признаю никаких сдерживающих факторов.
Я поднялся в воздух и, набрав самую высокую скорость, на какую только был способен, помчался прочь, преодолевая милю за милей. Наконец я опустился в заснеженном лесу намного севернее Лондона и, как много раз в прошлом, выкопал себе могилу в замерзшей земле.
Необходимость заниматься этим привела меня в неописуемое бешенство. «Я убью сукиного сына, – думал я, – кто бы он ни был. Как смеет он преследовать меня и швырять мне в лицо свои рассказы! Да, я непременно так и сделаю – убью его, как только поймаю».
Но вскоре меня охватила вялость, затем сонное оцепенение, и все вокруг утратило какое-либо значение.
Мне опять снился сон… Она зажигала масляную лампу, и я услышал ее голос:
– Ах, огонь тебя больше не пугает…
– Ты надо мной издеваешься, – несчастным голосом произнес я. И заплакал.
– Но, Лестат, ты же действительно с легкостью находишь способ быстро прийти в себя после поистине космических приступов отчаяния. Нет, правда! Вспомни, разве не ты танцевал под фонарем в Лондоне?
Я хотел возразить, но рыдания не позволяли мне вымолвить хоть слово.
В последнем проблеске сознания перед глазами возникли арки собора Сан-Марко в Венеции, где я впервые приметил того смертного, и вновь я увидел его карие глаза и гладкий молодой рот…
«Что вам нужно?» – спросил я.
«О нет, это нужно вам», – казалось, ответил он.
Глава 6
Проснувшись, я уже не так злился на маленького дьявола. На самом деле я был ужасно заинтригован. Но ведь солнце село, и теперь преимущество на моей стороне.
Я решился на небольшой эксперимент. И отправился в Париж, совершив перелет очень быстро и в полном одиночестве.
Позвольте мне немного отклониться от темы и сообщить, что в последние годы я решительно избегал Парижа и, таким образом, не имел ни малейшего представления о том, каким стал этот город в двадцатом веке. Думаю, причины в данном случае очевидны. Слишком много страданий выпало здесь на мою долю в прошлом, и к тому же я не желал видеть современные здания вокруг кладбища Пер-Лашез или залитые электрическим светом карусели в садах Тюильри. Но втайне я всегда, естественно, мечтал вернуться в Париж. А разве могло быть иначе?
Этот небольшой эксперимент придал мне мужества и послужил отличным предлогом. Благодаря ему утихла неизбежная боль воспоминаний, ибо у меня появилась цель. Но уже через несколько секунд после прибытия я осознал, что действительно оказался в Париже – другого такого места на свете не существовало, – и, охваченный счастьем, прошелся по широким бульварам и, конечно же, мимо того места, где когда-то стоял Театр вампиров.
Несколько театров той эпохи все же дожили до современности – импозантные, богато украшенные, они стояли в окружении более современных зданий и по-прежнему пользовались популярностью у публики.
Бродя по ярко освещенным Елисейским Полям, запруженным легковыми автомобилями и тысячами пешеходов, я осознал, что в отличие от Венеции это не город-музей. Париж – живой город и всегда оставался таковым на протяжении последних двух столетий. Столица. Город не чуждый нововведений и радикальных перемен.
Я подивился яркому великолепию центра Жоржа Помпиду, так смело поднявшегося по соседству со старинными воздушными контрфорсами собора Нотр-Дам. О, как я радовался своему возвращению!
Но ведь у меня было дело.
Ни одной душе, ни смертной, ни бессмертной, я не говорил, где я. Я не позвонил даже своему парижскому поверенному, хотя это доставило мне массу неудобств. Однако я предпочел воспользоваться старым, испытанным способом и в темных переулках раздобыл немалую сумму денег у своих жертв – пары крайне непривлекательных, но не стесненных в средствах преступников.
Потом я направился к заснеженной Вандомской площади, где все еще стояли дворцы моей юности, и под именем барона фон Киндергартена уютно устроился в шикарных апартаментах отеля «Риц».
Там в течение двух ночей я наслаждался роскошью, достойной Версаля времен Марии Антуанетты, и не выходил в город. При виде такого изобилия парижских виньеток, великолепных стульев в стиле Людовика Шестнадцатого и очаровательных рельефных панелей на стенах у меня просто слезы выступали на глазах. Ах, Париж! Где еще может столь великолепно смотреться обыкновенное позолоченное дерево?
Развалившись на покрытом гобеленом ложе времен Директории, я немедленно принялся за рукописи Дэвида, лишь изредка отрываясь от чтения, чтобы пройтись по безмолвной гостиной и спальне или открыть настоящее французское окно с инкрустированной овальной ручкой и выглянуть во внутренний дворик отеля, такой официальный, тихий и горделивый.
Записки Дэвида захватили меня целиком. Вскоре я почувствовал, что он мне близок как никогда.
Выяснилось, что в юности Дэвид был человеком на удивление деятельным, и из всех книг его привлекали только те, в которых рассказывалось об активных действиях; величайшее удовольствие он находил в охоте. Первую дичь он подстрелил, когда ему было всего десять лет. Его описания охоты на больших бенгальских тигров были проникнуты восторгом преследования и завораживающим ощущением риска, которому он подвергался. Прежде чем спустить курок, он всегда подходил к зверю как можно ближе и не раз оказывался на краю смерти.
Он любил не только Индию, но и Африку, где охотился на слонов, – в те дни никому и не снилось, что эти прекрасные животные окажутся на грани полного уничтожения. Огромные самцы не раз успевали броситься на него в атаку, опережая готовый прозвучать выстрел. Охота на львов в долине Серенгети была не менее рискованным приключением.
Он получал удовольствие, покоряя труднопроходимые горные тропы, плавая по опасным рекам, гладя жесткий хребет крокодила, преодолевая свое врожденное отвращение к змеям. Ему нравилось спать под открытым небом, царапать записи в дневнике при свете фонаря или свечи, питаться только мясом собственноручно убитых животных, даже когда его было очень мало, самостоятельно свежевать добычу.
Дэвиду не слишком удавались описания. Ему не хватало для этого терпения, особенно в молодости. Однако в его воспоминаниях явственно ощущалась тропическая жара, слышалось гудение мошкары. Трудно было представить, что такой человек способен наслаждаться комфортом Тальбот-мэнор или роскошью Обители Таламаски, а он теперь, похоже, к ним пристрастился.
Однако многим британским джентльменам приходилось стоять перед подобным выбором, и они поступали так, как требовали того их положение и возраст.
Что касается приключений в Бразилии, то о них, казалось, рассказывал кто-то совсем другой. Тот же строгий и точный подбор слов, та же жажда опасности… Однако обращение к сверхъестественному сыграло свою роль, и перед читателем представал гораздо более умный и мыслящий человек. Изменился даже его лексикон: в записках встречались трудные португальские и африканские слова, обозначающие концепции и физические чувства, которые Дэвид затруднялся описать по-другому.
Но суть заключалась в том, что после нескольких примитивных и устрашающих столкновений с бразильскими жрицами и духами глубокие телепатические способности мозга Дэвида получили свое развитие. И тело Дэвида превратилось всего лишь в орудие его экстрасенсорной силы, позволив ему тем самым впоследствии стать незаурядным ученым и исследователем.
В бразильских мемуарах содержалось множество бытовых описаний. Речь шла о маленьких деревянных сельских молельнях, где собирались приверженцы кандомбле и зажигали свечи перед гипсовыми статуями католических святых и богов кандомбле. Рассказывалось о барабанном бое и танцах, о непременно случавшихся состояниях транса, когда те или иные участники церемонии, сами того не сознавая, становились носителями духов и на длительные промежутки времени обретали свойства того или иного бога, а после ничего не могли вспомнить.
Но теперь все внимание уделялось невидимому – восприятию внутренней силы и борьбе с силами внешними. Юный искатель приключений, пытавшийся обрести истину в чисто материальных вещах – в запахе зверя, на тропах джунглей, в щелчке курка, в падении жертвы, – бесследно исчез.
Дэвид покидал Рио-де-Жанейро другим человеком. Хотя его повествование впоследствии было сжато, отшлифовано и, несомненно, отредактировано, значительную его часть составляли записи дневника, сделанные по горячим следам события. Вне всякого сомнения, он тогда оказался на грани безумия. Куда бы он ни взглянул, повсюду видел не улицы, не дома и не людей, а лишь духов и богов, он ощущал исходящие от окружающих невидимые силы и внутреннее сопротивление им со стороны людей – как сознательное, так и подсознательное. Да, если бы он не отправился в джунгли Амазонки, не заставил бы себя вновь стать британским охотником, он мог навеки утратить связь со своим прежним миром.
Долгие месяцы он, загорелый, похудевший, бродил по улицам Рио в одной рубашке и грязных штанах в поисках высшего духовного опыта, отказываясь от любых контактов с соотечественниками, несмотря на все их настойчивые попытки наладить с ним отношения. И в конце концов он вновь надел свое хаки, взял длинные ружья, обзавелся лучшим британским снаряжением и провиантом и отправился в поход за исцелением. Он подстрелил пятнистого ягуара и собственным ножом освежевал и выпотрошил зверя.
Тело и душа!
Меня уже не удивляло, что за все прошедшие годы он ни разу не вернулся в Рио-де-Жанейро. Соверши он это путешествие вновь, и, возможно, он остался бы там навсегда.
Однако жизнь адепта кандомбле едва ли могла его удовлетворить. Герои ищут приключений, но сами по себе приключения не способны поглотить их целиком.
Когда я узнал об этих событиях, моя любовь к нему возросла поистине неизмеримо, и как же мне было грустно сознавать, что вся его жизнь с тех пор была отдана Таламаске. Орден того не стоил, точнее, он не в силах был сделать Дэвида счастливым, хотя сам Дэвид упорно настаивал на том, что нуждается в нем. Это утверждение представлялось мне величайшей ошибкой.
И, конечно, чем лучше я его узнавал, тем больше мне его не хватало. Я вновь вспомнил о своей темной сверхъестественной юности, когда одного за другим создавал себе спутников, которые спутниками мне быть не могли: Габриэль никогда не нуждалась во мне, Николя сошел с ума, Луи так и не смог простить меня за то, что я заманил его в царство бессмертных, хотя он сам этого хотел.
Исключение составляла только Клодия – моя отважная маленькая Клодия, охотница за случайными жертвами, – вампир, совершенный во всех отношениях. Именно пленительная сила Клодии заставила ее в конце концов восстать против своего создателя. Да, только она одна, как теперь говорят, пошла в меня. Может быть, по этой причине и преследует меня ее призрак.
Конечно, между тем, что произошло тогда, и моей нынешней любовью к Дэвиду существует какая-то связь! Только я раньше ее не видел. Как я любил его – и какую пустоту ощущал после предательства Клодии и расставания с ней.
Эти рукописи позволили мне ясно понять и кое-что еще: Дэвид был именно тем человеком, который способен отказаться от Темного Дара.
Он действительно не ведал страха. Смерть ему не нравилась, но он ее не боялся. Никогда не боялся.
Однако я прибыл в Париж не только для того, чтобы прочесть его мемуары. Передо мной стояла другая цель. Я отказался от благословенного и безвременного уединения в отеле и начал бродить по городу – никуда не торопясь и ни от кого не скрываясь.
На Рю-Мадлен я купил себе великолепную одежду, включая темно-синее двубортное кашемировое пальто. Затем отправился на левый берег Сены, где провел несколько часов в нарядных и приветливых кафе, вспоминая рассказ Дэвида о Боге и дьяволе и гадая, что же, черт возьми, он видел на самом деле. Конечно, Париж вполне подходящее место для Бога и дьявола, но…
Некоторое время я провел в метро, внимательно разглядывая его пассажиров и пытаясь определить, чем же все-таки парижане отличаются от всех остальных людей в мире. Настороженностью? Энергичностью? Или тем, что они избегают встречаться взглядом с окружающими? Я никак не мог определить. Но они в корне отличались от американцев – доказательства этого я видел повсюду, – и я пришел к выводу, что понимаю их. И что они мне нравятся.
Тот факт, что Париж превратился в необыкновенно богатый город, где дорогие шубы, драгоценности и бесчисленные бутики встречались на каждом шагу, привел меня в изумление. Он выглядел богаче даже американских городов. В мое время он, наверное, тоже казался богатым: застекленные дверцы экипажей, дамы и господа в напудренных париках… Но бедняков можно было встретить повсюду, некоторые из них даже умирали прямо на улице… А теперь я видел вокруг себя только богатство и роскошь, и бывали моменты, когда разум мой отказывался верить в реальность существования этого города с его миллионами автомобилей и неисчислимым количеством каменных домов, отелей и шикарных особняков.
Конечно, я охотился. Я пил кровь.
На следующую ночь, едва опустились сумерки, я стоял на верхнем этаже центра Помпиду под таким же фиолетовым, как и в моем любимом Новом Орлеане, небом и наблюдал, как загораются огни большого города. Вдалеке я видел остроконечную Эйфелеву башню, пронзающую пространство над божественным мраком.
Ах, Париж, я знал, что непременно вернусь сюда, да, и очень скоро. Как-нибудь ночью я устрою себе убежище на Иль-Сен-Луи, который всегда любил. Пусть большие дома на авеню Фош идут к черту. Я найду дом, где когда-то мы с Габриэль совершили Обряд Тьмы, где мать вдохновила сына сделать ее своей дочерью, и смертная жизнь выпустила ее из своих рук, словно я схватил ее за запястье.
Я привезу с собой Луи – ведь он так любил этот город, пока не потерял Клодию. И теперь ему необходим стимул, чтобы снова полюбить Париж.
А пока я заглянул в Кафе де ла Пэ в большом отеле, где в тот трагический год правления Наполеона Третьего останавливались Луи и Клодия. Я долго сидел в одиночестве за нетронутым бокалом вина, вспоминая обо всем, что произошло, и заставляя себя относиться к этому спокойно: что сделано, то сделано и прошлого не вернуть.
Да, испытание в пустыне явно прибавило мне сил. И я был готов к любым неожиданностям…
…И наконец, незадолго до рассвета, когда меня охватила легкая меланхолия и грусть по разрушающимся зданиям конца восемнадцатого века, когда над полузамерзшей рекой навис туман, а я стоял, опершись о высокий каменный парапет почти у самого моста, ведущего на Иль-де-ля-Сите, я увидел того, кого ждал.
Сначала пришло уже знакомое ощущение, на этот раз я узнал его сразу и постарался изучить более внимательно: легкая потеря ориентации, при которой я, однако, полностью сохранял контроль над собой; мягкая восхитительная вибрация; наконец, жесточайшее напряжение во всем теле, до самых кончиков пальцев. Все повторилось. Да, как будто мое тело, сохраняя пропорции, уменьшалось в размерах, и меня вытесняли из этой сократившейся оболочки! И в тот самый момент, когда, казалось, оставаться внутри ее практически невозможно, черт побери, в голове прояснилось и ощущение исчезло.
В точности то же самое происходило со мной уже дважды. Я остался стоять возле моста, воскрешая в памяти и обдумывая детали.
Потом я увидел, как на противоположном берегу реки резко затормозил видавший виды автомобиль, и из него все так же неуклюже выбрался молодой человек с коричневыми волосами. Он выпрямился в полный рост и настороженно уставился на меня блестящими от возбуждения глазами.
Мотор он оставил включенным. Я снова, как и тогда, почувствовал исходящий от него запах страха. Конечно, он знал, что я его видел, здесь ошибки быть не могло. Думаю, ему было известно и то, что я проторчал здесь добрых два часа в ожидании этой встречи.
Наконец он набрался мужества и пересек мост; из тумана передо мной возникла впечатляющая фигура в длиннополом пальто, с намотанным вокруг шеи белым шарфом. Он наполовину шел, наполовину бежал, но в нескольких шагах от меня остановился, а я стоял, облокотившись о парапет, и холодно смотрел на него. Он бросил мне еще один конвертик. И тут я схватил его за руку.
– Не спешите, месье де Лионкур! – отчаянно прошептал он. Британский акцент, свидетельствующий о принадлежности к высшим слоям общества, почти как у Дэвида, французское произношение можно назвать едва ли не идеальным. Он умирал от страха.
– Черт побери, кто вы такой? – спросил я.
– У меня к вам предложение! С вашей стороны глупо будет его не выслушать. Речь пойдет о том, в чем вы очень нуждаетесь. И будьте уверены, никто во всем мире, кроме меня, вам этого не даст!
Я выпустил его, и он отпрянул, едва не свалившись на спину, но в последний момент успел ухватиться рукой за каменный парапет. Что за странные движения! Человек крепкого сложения, он двигался как тощее и не уверенное в себе создание. Я никак не мог понять, в чем же дело.
– Немедленно объясните, в чем состоит ваше предложение! – потребовал я и услышал, как его сердце замерло в широкой груди.
– Нет, не сейчас, – ответил он. – Но очень скоро мы поговорим.
Какой интеллигентный, хорошо поставленный голос. Слишком утонченная и правильная речь для обладателя этих больших блестящих карих глаз и гладкого, пышущего здоровьем, молодого лица. Может быть, это тепличное растение, выросшее среди пожилых людей и никогда не встречавшееся со своими ровесниками?
– Не спешите! – прокричал он снова и помчался прочь, время от времени спотыкаясь и с трудом восстанавливая равновесие.
Наконец он запихнул свое длинное неуклюжее тело в маленький автомобиль и понесся по обледенелому снегу.
Он ехал так быстро, что, когда машина свернула на Сен-Жермен, я решил, что он непременно угодит в аварию и погибнет.
Я взглянул на конверт. Ну конечно, очередной чертов рассказ.
Я сердито вскрыл пакет, сомневаясь, следовало ли отпускать этого парня, и в то же время непонятно почему наслаждаясь нашей игрой; мне доставляло наслаждение даже собственное негодование, вызванное его сообразительностью и способностью выслеживать меня.
На этот раз он принес мне видеокассету с одним из последних фильмов. Он назывался «Наоборот». Какого черта… Я перевернул кассету и просмотрел аннотацию. Комедия!
В отеле меня ждала еще одна посылка. И вновь – видеокассета. «Весь я». Текст на обороте пластиковой коробки давал представление о содержании фильма.
Я поднялся к себе. В номере не было видеоплейера! Даже в «Рице»! Несмотря на то что время еще только близилось к рассвету, позвонил Дэвиду.
– Ты не мог бы приехать в Париж? Я все устрою. Увидимся за обедом, завтра, в восемь вечера, в ресторане на первом этаже.
Потом я все-таки позвонил своему смертному агенту, поднял его с постели и дал указания заказать Дэвиду билет, лимузин, апартаменты и все, что ему может понадобиться. Пусть Дэвида обеспечат наличными; в номере должны быть цветы и охлажденное шампанское. Покончив со всем этим, я отправился искать подходящее для сна место.
Но час спустя, стоя в темном сыром подвале старого заброшенного дома, я вдруг подумал, а не может ли смертный дьявол даже сейчас увидеть меня. Что, если он узнает, где я сплю в течение дня, придет и впустит сюда солнечный свет – как дешевый охотник за вампирами в плохом фильме, не испытывающий ни тени уважения к загадочным явлениям природы?
Я зарылся глубоко в землю. Ни один смертный меня здесь не найдет. А если и найдет, то даже во сне я могу непроизвольно задушить его.
– Как ты думаешь, что все это значит? – спросил я Дэвида.
Изысканно отделаннный зал ресторана был наполовину пуст. Горели свечи. В черном смокинге и накрахмаленной рубашке я сидел, сложив перед собой руки, и наслаждался сознанием того, что теперь мне достаточно прятать глаза всего лишь за бледно-фиолетовыми стеклами очков. Благодаря этому я мог отчетливо видеть рисунок расшитых вручную портьер и сумрачный сад за окном.
Дэвид с удовольствием ужинал. Он был в полном восторге от того, что приехал в Париж, от своего номера с окнами на Вандомскую площадь, с бархатными коврами и позолоченной мебелью, и он провел весь день в Лувре.
– Ты ведь улавливаешь связь? – вместо ответа спросил он.
– Не уверен. Я действительно вижу общие элементы, но сюжеты совсем разные.
– Разве?
– Смотри: у Лавкрафта Асенат, та дьявольская женщина, меняется телами со своим мужем. Она бегает по городу в мужском обличье, а тот, униженный и смущенный, заперт дома в ее телесной оболочке. Умора, да и только! На редкость хитроумно. Причем Асенат, естественно, не Асенат, насколько я помню, а ее отец, обменявшийся телами с ней. А дальше все в духе Лавкрафта – какие-то отвратительные не то полудемоны, не то полулюди и так далее и тому подобное…
– Это, может быть, не имеет отношения к делу. А египетский рассказ?
– Совершенно другое. Гниющий труп, в котором еще теплится жизнь, и все такое…
– Да, но сюжет?
– Итак, душе мумии удается завладеть телом археолога, а он, бедняга, остается в разлагающемся теле мумии…
– Ну?
– Господи, я вижу, к чему ты клонишь. И фильм «Наоборот»… Он о душах мальчика и мужчины, обменявшихся телами! И пока они не возвращаются в собственные оболочки, происходят сплошные неприятности. А тот фильм, «Весь я», он тоже об обмене телами. Ты совершенно прав. Во всех четырех рассказах речь идет об одном и том же.
– Вот именно.
– Боже мой, Дэвид. Все проясняется. Не знаю, как я сам не додумался. Но…
– Этот человек пытается заставить тебя поверить, что ему кое-что известно об обмене телами. Он стремится соблазнить тебя предположением, что это реально.
– Господи! Конечно! Так вот чем объясняется его странная манера передвигаться!
– Ты о чем?
Я сидел потрясенный и пытался во всех деталях восстановить в памяти образ паршивца. Да, даже в Венеции было заметно, как неловко он держится.
– Дэвид, он это умеет!
– Лестат, не делай столь поспешных и абсурдных выводов! Возможно, он только полагает, что умеет. Возможно, он хочет попытаться. Возможно, он всецело находится во власти иллюзий…
– Нет. Это и есть его предложение, Дэвид, предложение, которое, по его словам, мне понравится. Он умеет меняться телами!
– Лестат, ты не можешь верить…
– Дэвид, теперь я понял, что именно в нем не так! Я пытаюсь разгадать эту загадку с того момента, как увидел его в Майами. Он не в своем теле! Вот почему он так неумело пользуется имеющимися у него физическими возможностями! Вот почему он едва не падает на бегу! Он не в состоянии управлять своими длинными сильными ногами. Господи, этот человек в чужом теле! И голос, Дэвид, я же рассказывал тебе про голос! Он разговаривает не как молодой человек. Ох, это все объясняет. И знаешь, что я думаю? Он выбрал именно это тело, потому что я обратил на него внимание. Скажу больше: он уже и со мной пытался проделать фокус с обменом, но безуспешно…
Я не мог продолжать. Такая возможность потрясла меня до глубины души.
– Что значит – пытался?
Я описал странные ощущения: вибрацию, сжатие, чувство, будто меня физически вытесняют из собственной телесной оболочки.
Он не ответил, но я видел, какое впечатление произвели на него мои слова. Он прищурился и словно застыл, положив полусжатый кулак правой руки на стол.
– Пойми, он нанес мне оскорбление! Пытался выгнать меня из моего собственного тела! Быть может, для того, чтобы завладеть им самому. Конечно, у него ничего не вышло. Но почему он пошел на такой риск, почему не побоялся нанести мне смертельную обиду?
– Ты смертельно обиделся? – спросил Дэвид.
– Нет, мне просто стало еще любопытнее, вот и все. Он пробудил во мне безумное любопытство!
– Вот и ответ. Думаю, он слишком хорошо тебя знает.
– Что? – Я прекрасно расслышал его слова, но не в силах был сразу ответить. Мне вновь вспомнились пережитые ощущения. – Это было такое сильное чувство. Ну как же ты не понимаешь, что именно он делал? Он пытался продемонстрировать свое умение меняться телами! Он предлагал мне эту молодую и красивую телесную оболочку!
– Да, – холодно ответил Дэвид. – Думаю, ты прав.
– Иначе зачем ему торчать в том теле? Ему явно в нем очень неудобно. Он хочет поменяться. Он утверждает, что сумеет это сделать. Поэтому и рискует. Ведь он не может не знать, что я запросто могу убить его, раздавить, как букашку. Он мне даже не нравится – я имею в виду его манеры. Но тело отличное. Нет, это правда. Он умеет, Дэвид, он знает, как это делается.
– Прекрати. Ты не сможешь это проверить.
– Что? Почему? Ты хочешь сказать, что ничего не получится? Во всех ваших архивах нет записей о… Дэвид, я знаю, что он это умеет. Ему просто не удается меня заставить. Но он поменялся с другим смертным, это точно.
– Лестат, такие случаи мы называем одержимостью. Это одно из случайных проявлений экстрасенсорики. Душа мертвого человека проникает в живое тело – дух вселяется в человека, и необходимо убедить его уйти. Живые люди не совершают ничего подобного по доброй воле и обоюдному согласию. Нет, уверен, это невозможно. Насколько мне известно, мы не наблюдали подобных случаев! Я… – Дэвид замолчал, и я понял, что его одолевают сомнения.
– Ты знаешь, что такие случаи были. Не можешь не знать.
– Лестат, это очень опасно, слишком опасно, чтобы пробовать.
– Послушай, если это может произойти случайно, то это может произойти и иным образом. Если это удается мертвым душам, то почему не удается живым? Я знаю, что значит покидать свое тело. И ты знаешь. Ты научился этому в Бразилии и очень подробно все описал. Об этом известно и множеству других смертных. Это же часть древних религий! Теоретически можно вернуться в другое тело и оставаться в нем, в то время как другая душа тщетно пытается его вернуть.
– Что за жуткая мысль!
Я еще раз описал свои ощущения и их необычайную силу.
– Дэвид, вполне возможно, что он похитил то тело.
– Ах, как это мило!
Я снова вспомнил, как судорожно сокращались мои мышцы, – ужасающее и в то же время удивительно приятное ощущение, что меня выжимают через голову. Оно было таким сильным! Ведь если ему удалось заставить меня пережить подобное, то, безусловно, он мог изгнать смертного человека из его телесной оболочки, особенно если этот смертный понятия не имел, что с ним происходит.
– Успокойся, Лестат! – В голосе Дэвида слышалось отвращение. Он положил на полупустую тарелку тяжелую вилку. – Обдумай все как следует. Допускаю, что можно осуществить подобный обмен, но лишь на несколько минут. Однако зацепиться за новое тело, остаться внутри и существовать в нем изо дня в день? Нет. Это значит, что тело должно нормально функционировать не только во время бодрствования, но и во время сна. Ты говоришь о чем-то совершенно невероятном и к тому же крайне опасном. С этим нельзя экспериментировать. А что, если опыт окажется удачным?
– Вот в этом-то все и дело! Если опыт удастся, я смогу проникнуть в это тело. – Я помолчал, не решаясь озвучить свои тайные мысли, но в конце концов продолжил: – Дэвид, я смогу стать смертным человеком.
Я затаил дыхание. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. Выражение смутного ужаса в его глазах ничуть не уменьшило моего возбуждения.
– Уж я бы знал, как пользоваться этим телом, – полушепотом произнес я. – Сумел бы найти применение и этим мускулам, и длинным ногам. Уверен, он выбрал это тело, потому что знал: оно покажется мне вполне приемлемым, я восприму его как реальную возможность…
– Лестат, перестань! Здесь речь идет о торговле, об обмене! Нельзя давать этой подозрительной личности свое тело! Чудовищная мысль. Хватит в твоем теле и тебя!
Я буквально онемел от потрясения.
– Послушай, – сказал он, пытаясь вернуть меня к реальности, – прости, если я говорю как Верховный глава религиозного ордена, но есть вещи совершенно недопустимые. Прежде всего, откуда он взял это тело? Что, если он действительно его похитил? Сомневаюсь, что такой красивый молодой человек отдал его с радостью и без колебаний! Следовательно, мы имеем дело с порочным существом, и относиться к нему должны соответственно. Нельзя доверять ему такую могущественную оболочку, как твоя.
Я слышал его слова, я понимал их смысл, но не мог осознать до конца.
– Только подумай, Дэвид… – я говорил бессвязно, как сумасшедший. – Дэвид, я могу стать смертным человеком.
– Будь добр приди наконец в себя и выслушай! Это не комиксы и не готическая романтика Лавкрафта. – Он вытер губы салфеткой, резко глотнул вина, потом потянулся через стол и взял меня за запястье.
Чтобы сомкнуть пальцы, ему нужно было приподнять мою руку. Но я не поддался, и через секунду он понял, что легче сдвинуть с места гранитную статую, чем заставить меня шевельнуть хоть мизинцем.
– О чем я и говорю! – заявил он. – Это не игрушки. Нельзя рисковать – вдруг это получится и тот демон, кем бы он ни был, получит в свое распоряжение твою силу!
Я покачал головой.
– Я все понимаю, Дэвид, но ты только подумай! Мне нужно с ним поговорить! Нужно найти его и выяснить, реально это или нет. Сам он меня не волнует. Важен процесс. Это может получиться?
– Лестат, умоляю, оставь эту затею! Ты совершаешь очередную чудовищную ошибку!
– О чем ты?
Я с трудом заставлял себя прислушиваться к тому, что он говорил. Где сейчас этот коварный дьявол? Я вспомнил его глаза – какими они будут красивыми, если смотреть ими будет не он! Да, нельзя не признать: отличное тело для эксперимента! И правда, где он его взял? Нужно разузнать.
– Дэвид, я ухожу.
– Нет, ты не уходишь! Оставайся на месте, или с Божьей помощью я пошлю тебе вслед легион проказливых бесов и всех паршивых духов, с которыми я имел дело в Рио-де-Жанейро! Слушай меня.
– Тише, тише, – успокаивал я его со смехом. – Иначе нас вышвырнут из «Рица».
– Что ж, хорошо, давай заключим сделку. Я возвращаюсь в Лондон, сажусь за компьютер и вытаскиваю из него все файлы, касающиеся обмена телами. Кто знает, что мы обнаружим? Лестат, а что, если он действительно каким-то образом оказался в этом теле, но теперь оно разлагается, а он не может ни выбраться, ни остановить процесс? Ты об этом подумал?
Я покачал головой.
– Оно не разлагается. Я бы уловил запах. С этим телом все в порядке.
– За исключением того, что он, вероятно, украл его у законного владельца, а та бедная душа бродит где-то в его теле, и мы понятия не имеем, как оно выглядит.
– Успокойся, Дэвид, прошу тебя. Поезжай в Лондон, покопайся в файлах, как и собирался. А я отыщу мерзавца и выслушаю все, что он скажет. Не беспокойся! Я ничего не сделаю, не посоветовавшись с тобой. И если я все-таки решу…
– Ты не примешь никакого решения, не посоветовавшись сначала со мной!
– Ладно, согласен.
– Клянешься?
– Клянусь честью кровожадного убийцы!
– Мне нужен номер телефона в Новом Орлеане.
Я пристально посмотрел на него.
– Хорошо. Я никому его не давал. Но тебе можно. – Я продиктовал ему номер телефона моей квартиры во Французском квартале. – Почему ты не записываешь?
– Я запомнил.
– Тогда прощай!
Я поднялся из-за стола, пытаясь, несмотря на возбуждение, двигаться как человек. Двигаться как человек… Подумать только, оказаться в человеческом теле! Увидеть солнце, увидеть его крошечный пламенеющий шар в синем небе!
– Да, Дэвид, чуть не забыл – здесь за все заплачено. Позвони моему человеку. Он все устроит – билеты на самолет и прочее…
– Меня это не волнует, Лестат. Послушай, давай немедленно договоримся, где и когда мы встретимся, чтобы все обсудить. Только посмей исчезнуть, я никогда…
Я с улыбкой смотрел на него сверху вниз. Стоял над ним и улыбался. Видно было, что я его очаровал. Конечно, он так и не смог произнести вслух свою абсурдную угрозу никогда впредь не разговаривать со мной. Уверен, мое обаяние подействовало на него в полной мере.
– Чудовищные ошибки… – Я по-прежнему не мог сдержать улыбку. – Да, иногда я их совершаю.
– И что с тобой сделают остальные? Что на это скажет твой драгоценный Мариус, старейшие вампиры?
– О, они способны тебя несказанно удивить, Дэвид. Быть может, их единственное желание – снова стать людьми. Быть может, все мы этого хотим. Еще один шанс. Я вспомнил Луи в его новоорлеанском доме. О Господи, что будет с Луи, когда я ему все расскажу?
Дэвид сердито пробормотал что-то неразборчивое, но лицо его светилось любовью и тревогой.
Я послал ему воздушный поцелуй и удалился.
И часа не прошло, а я понял, что не могу отыскать хитрого демона. Если он и был в Париже, то скрывал свое присутствие так хорошо, что я не улавливал ни единого отблеска. И ни в чьих глазах не смог я увидеть его отражения.
Это не обязательно означало, что его нет в Париже. Телепатия либо бьет в цель, либо промахивается; а Париж – огромный город, в нем кишмя кишат жители всех стран мира.
В конце концов я вернулся в отель и обнаружил, что Дэвид уже уехал, оставив мне все номера для связи – факса, электронной почты и обычного телефона.
«Пожалуйста, свяжись со мной завтра вечером, – просил он в записке. – К этому времени у меня будет для тебя информация».
Я поднялся наверх, чтобы подготовиться к путешествию домой. Я не мог торчать здесь в ожидании встречи с этим сумасшедшим смертным. И Луи – я должен обо всем рассказать Луи. Конечно, он не поверит, что такое возможно, и тут же выскажет свое мнение. Но он поймет, насколько заманчива эта идея. Уверен, он поймет.
Я оглядывал комнату, пытаясь определить, что еще нужно взять с собой, – ах да, рукописи Дэвида… Но не прошло и минуты, как на столике у кровати я увидел самый обычный конверт. Его прислонили к огромной вазе с цветами.
«Графу фон Киндергартену» – твердым мужским почерком было написано на нем.
Едва увидев конверт, я понял, что это послание от него. Текст написан от руки – тот же твердый характер письма, буквы глубоко врезаются в бумагу:
«Не спешите. И не слушайте своего глупого приятеля из Таламаски. Увидимся завтра вечером в Новом Орлеане. Не подведите меня. Джексон-сквер. Там мы договоримся о нашем личном эксперименте. Думаю, вы понимаете, что поставлено на карту.
Искренне ваш,
Раглан Джеймс».– Раглан Джеймс… – я прошептал это имя вслух. – Раглан Джеймс. – Имя мне не нравилось. Как и его обладатель.
Я набрал номер портье.
– Эта система факсовой связи, которую недавно изобрели, – спросил я по-французски, – она у вас есть? Пожалуйста, объясните, как ей пользуются.
Как я и надеялся, точное факсимиле записки можно было отправить по телефону из офиса отеля на лондонский аппарат Дэвида. Теперь Дэвид получит не только информацию, но и образец почерка – может быть, это окажется полезным.
Прихватив с собой рукописи и записку Раглана Джеймса, я спустился вниз, остановился у стойки администрации и подождал, пока текст отправят по факсу, взял записку обратно и отправился в Нотр-Дам, чтобы немного помолиться и таким образом попрощаться с Парижем.
Я обезумел. Совершенно обезумел. Никогда прежде я не чувствовал себя столь безмерно счастливым! Я стоял посреди запертого в поздний час темного собора и вспоминал, как много десятилетий назад впервые переступил его порог. Перед церковными дверями тогда еще не было большой площади – только маленькая Пляс-де-Грев, втиснутая между покосившихся зданий; не было тогда и современных огромных бульваров, на их месте тянулись широкие грязные улицы, которые казались нам великолепными.
Я вспомнил синее небо и постоянное ощущение голода, настоящего голода – по хлебу и мясу, и чувство опьянения хорошим вином. Я подумал о Николя, моем смертном друге, которого очень любил, – как же холодно было в нашей мансарде! Мы с Ники спорили, совсем как сейчас с Дэвидом! Как давно все это было!
Казалось, мое долгое существование с тех пор было непрекращающимся страшным сном, захватывающим кошмаром с великанами, чудовищами, жуткими отвратительными масками, скрывающими лица тех, кто угрожал мне из вечного мрака. Я дрожал. Я плакал. «Стать человеком, – думал я. – Снова стать человеком!» Возможно, я произнес это вслух.
Меня испугал неожиданный приглушенный смешок. Где-то в темноте прятался ребенок, маленькая девочка.
Я обернулся и был почти уверен, что увидел ее: серая фигурка метнулась по дальнему проходу к боковому алтарю и исчезла. Едва слышные шаги. Но это, конечно, какая-то ошибка. Никакого запаха. Никого нет. Просто иллюзия.
– Клодия! – тем не менее крикнул я.
И ко мне резким эхом вернулся собственный голос. Разумеется, собор пуст.
Я вспомнил слова Дэвида: «Ты совершаешь очередную чудовищную ошибку!»
Да, я уже совершил не одну чудовищную ошибку. К чему отрицать? Множество страшных, ужасных ошибок. Меня окутала атмосфера недавних снов, но не захватила меня целиком, а лишь оставила легкое ощущение ее присутствия. Что-то связанное с масляной лампой и ее смехом…
Я опять подумал о ее казни – вентиляционный колодец с кирпичными стенами, надвигающееся солнце… Какая же она была маленькая! К этой мысли примешивалось воспоминание о боли, пережитой в пустыне Гоби, и я больше не мог этого выносить. Я вдруг обнаружил, что застыл со скрещенными на груди руками, но при этом дрожу с ног до головы, как будто меня ударило током. Но она, конечно, не страдала. Конечно, для такого хрупкого маленького существа все произошло мгновенно. Прах к праху…
Как мучительно думать об этом! Нет, не эти времена мне хотелось вспоминать, как бы долго я ни сидел в Кафе де ла Пэ и каким бы сильным себя ни воображал. Мне хотелось вспомнить тот Париж, который я знал еще до Театра вампиров, когда был живым и невинным.
Я еще постоял в темноте, устремив взгляд на высокие и широкие арки. Как прекрасен этот поистине божественный собор – даже сейчас, когда за стеной ворчат автомобили. Он подобен лесу, созданному из камня.
Я послал ему воздушный поцелуй, совсем как до этого Дэвиду. И отправился в далекий путь – домой.
Глава 7
Новый Орлеан.
Я прибыл сюда ранним вечером, поскольку двигался в противоположном вращению Земли направлении и вернулся назад во времени. Начался сезон сильных ветров с севера, было холодно и морозно, но пока еще не слишком. На небе – ни облачка, только маленькие и очень яркие звезды.
Я немедленно отправился в свою квартирку во Французском квартале, которая, несмотря на весь свой блеск, расположена отнюдь не высоко, на самом верху четырехэтажного здания, выстроенного задолго до Гражданской войны. Из нее открывается очень приятный вид на реку и на два моста-близнеца, а в открытые окна доносится шум из вечно набитого веселыми людьми Кафе дю Монд и оживленных магазинчиков на прилегающих к Джексон-сквер улицах.
Мистер Раглан Джеймс собирался встретиться со мной лишь следующим вечером. И несмотря на снедавшее меня нетерпение, я пришел к выводу, что обстоятельства складываются весьма удачно, ибо хотел немедленно повидаться с Луи.
Но сначала я насладился вполне смертным комфортом – принял горячий душ и облачился в свежий костюм из черного бархата – очень нарядный и одновременно простой, похожий на тот, что я носил в Майами, – и пару черных ботинок. Не обращая внимания на усталость – в Европе в это время я бы уже спал под землей, – я отправился на прогулку по городу, совсем как обыкновенный смертный.
Сам не знаю почему, я специально сделал крюк, чтобы пройти мимо старого дома на Рю-Рояль, где мы жили с Клодией и Луи. На самом деле я поступал так довольно часто, но не позволял себе задумываться об этом, пока не проходил половину пути.
Здесь, в очаровательной квартирке наверху, наша маленькая община просуществовала более пятидесяти лет. Этот фактор непременно следует принимать в расчет всякий раз, когда меня корят за совершенные ошибки, – неважно, упрекаю ли я себя сам или это делает кто-то другой. Признаюсь, я действительно создал Луи и Клодию и сделал это для себя и ради себя. Тем не менее наше сосуществование приносило удивительную радость и удовлетворение, пока Клодия не решила, что за свои деяния я должен поплатиться жизнью.
Комнаты были забиты всевозможными украшениями и предметами роскоши, какие только можно было раздобыть в те времена. Мы держали карету, нескольких лошадей в конюшне по соседству; за домом, в противоположном конце дворика, жили слуги. Но старые кирпичные постройки давно утратили былой блеск, никто ими не занимался, в квартире в последнее время никто не жил, за исключением, возможно, призраков – кто знает? – и магазин на первом этаже сдали в аренду книготорговцу, который не удосуживался даже стереть пыль с книг в витринах и на полках. Изредка он доставал мне необходимую литературу – исследования историка Джеффри Бертона Рассела, посвященнные природе зла, или чудесные философские труды Мирчи Элиаде, а также коллекционные издания моих любимых романов.
Старик был у себя, он читал, и я несколько минут наблюдал за ним через стекло. Как отличаются жители Нового Орлеана от остальных представителей американского мира! Для этого седовласого человека прибыли не имели значения.
Я отступил на пару шагов и поднял глаза к чугунным перилам. Я вспомнил о беспокойных снах – масляная лампа, ее голос… Почему Клодия неустанно преследует меня – раньше ведь такого не было?
Закрыв глаза, я вновь услышал, как она обращается ко мне, но слов не понимал. Уже в который раз я принялся размышлять о ее жизни и смерти.
Исчезла навсегда маленькая лачуга, где я впервые увидел ее на руках у Луи. То был зачумленный дом. И войти в него мог только вампир. Никакой вор не посмел бы украсть даже золотую цепочку с шеи ее матери. Как стыдился Луи, что выбрал в качестве жертвы крохотную девочку! Но я его понял. Не осталось и следа от старой больницы, куда ее впоследствии поместили. По какой узкой улице нес я этот теплый смертный сверток, когда Луи бежал за мной, умоляя сказать, что я собираюсь делать?
Я вздрогнул от неожиданно резкого порыва ветра.
Примерно в квартале от меня, в барах на Рю-Бурбон, хрипло звучала музыка. Перед собором прогуливались люди. Поблизости смеялась женщина. Темноту пронзил звук автомобильного рожка. Раздался едва слышный звонок современного телефона.
В книжной лавке старик слушал радио, время от времени переключая каналы: диксиленд сменила классическая музыка, а чуть позже скорбный голос запел какие-то стихи под музыку английского композитора.
Зачем я пришел к этому старому зданию, заброшенному и безразличному, как могильный камень, с которого стерлись все даты и надписи?
Я больше не хотел медлить.
Охваченный безумным волнением, я снова и снова вспоминал все то, что произошло в Париже, и теперь направился в центр, чтобы найти Луи и все ему выложить.
Я по-прежнему передвигался пешком. Мне хотелось чувствовать под ногами землю, измерить ее шагами.
В наше время – в конце восемнадцатого века – этих жилых кварталов города практически не существовало. Здесь, вверх по реке, располагались деревушки и плантации, а вымощенные дробленым ракушечником дороги были узкими и почти непроезжими.
Позже, в девятнадцатом веке, уже после распада нашей маленькой общины, когда я, израненный и разбитый, отправился в Париж искать Клодию и Луи, мелкие поселения этого района слились с большим городом и здесь построили множество красивых деревянных домов в викторианском стиле.
Некоторые из этих богато украшенных деревянных строений просторны и в своем роде не менее величественны, чем построенные в псевдогреческом стиле еще до Гражданской войны дома в Садовом квартале, которые больше походят на храмы и во многом сродни импозантным особнякам Французского квартала.
Но эти жилые кварталы, застроенные не только большими домами, но и маленькими щитовыми коттеджами, по большей части все равно воспринимаются как провинция – повсюду над невысокими крышами нависают громадные дубы и магнолии, многие улицы по-прежнему лишены тротуаров, а канавы вдоль них зарастают полевыми цветами, распускающимися невзирая на зимние холода.
Даже маленькие торговые улочки – неожиданно встречающиеся ряды соединенных друг с другом зданий – напоминают не столько Французский квартал с его каменными фасадами и утонченностью Старого Света, сколько «главные улицы» отдаленных американских поселений.
Это отличное место для вечерней прогулки: такого чудесного птичьего хора, как здесь, вы никогда не услышите во Вье-Карре; над крышами складов, расположенных вдоль едва видной сквозь густую листву извилистой реки, простираются бесконечные сумерки. Здесь можно встретить потрясающие особняки с произвольно расположенными галереями и пряничными орнаментами, дома с башенками и фронтонами. Просторные деревянные балконы ограждены свежевыкрашенными перилами. За белыми частоколами простираются травяные лужайки, чистые и аккуратно подстриженные.
Разнообразие коттеджей бесконечно: одни аккуратно выкрашены в яркие цвета, согласно велению моды; другие, заброшенные, но не менее красивые, приобрели очаровательный серый оттенок выброшенного рекой на берег леса – именно так нередко выглядят дома в тропических широтах.
Иногда улицы зарастают настолько, что с трудом верится, будто ты все еще в городе. Границы частных владений скрыты белоснежной дикой ялапой и синей свинчаткой, ветви дубов растут так низко, что прохожим приходится наклонять головы. Даже в самую холодную зиму Новый Орлеан остается зеленым. Мороз иногда жестоко ранит камелии, но они все же не гибнут. Изгороди и стены зарастают диким желтым каролинским жасмином и пурпурной бугенвиллеей.
В одном из таких сумрачных и зеленых уголков Луи и устроил себе тайное убежище, спрятав его за высокой стеной гигантских магнолий.
Желтая краска необитаемого старого викторианского особняка за ржавыми воротами практически облупилась. Луи бродил по нему лишь изредка, освещая себе путь свечой. Настоящим жилищем ему служил коттедж на заднем дворе, окутанный огромной бесформенной массой сплетенного розового вьюнка. Именно там хранил он свои книги и дорогие сердцу предметы, скопившиеся за многие годы. С улицы окна коттеджа оставались совершенно незаметными. Скорее всего, о существовании этого дома вообще никто не знал. Благодаря высоким кирпичным стенам, тесно посаженным старым деревьям и диким зарослям олеандра его не видели даже ближайшие соседи. А в высокой траве отсутствовала ведущая к нему тропинка.
Когда я пришел к нему, все двери и окна нескольких скромно обставленных комнат были открыты. Он сидел за своим письменным столом и читал при свете одной-единственной свечки.
Я долго наблюдал за ним – мне всегда нравилось это занятие. Частенько я отправлялся следом за ним на охоту просто для того, чтобы посмотреть, как он пьет кровь. Луи словно не обращает внимания на современный мир. Он неслышно, как призрак, бродит по улицам, медленно приближаясь к тем, кто ищет смерти – или, во всяком случае, производит такое впечатление. (Я не уверен, что люди способны на самом деле жаждать смерти.) И кровь он пьет безболезненно, аккуратно и быстро. При этом ему необходимо убивать. Он не умеет щадить свою жертву. У него никогда не хватало сил на «один глоток», которым я способен удовлетворяться много ночей кряду; или был способен – до того, как превратился в алчного бога.
Он всегда одевается старомодно. Как и многие из нас, он предпочитает одежду, близкую по стилю той, что он носил, будучи смертным. Ему нравятся большие свободные рубашки с присборенными рукавами и высокими манжетами, а также узкие брюки. Если он и надевает пиджак, что случается довольно редко, то очень похожий на те, которые ношу я, – длинный и приталенный.
Иногда я приношу ему такого рода вещи в подарок, чтобы он не превратил в лохмотья свои немногочисленные приобретения. Не раз я испытывал искушение отремонтировать его дом, повесить картины, украсить комнаты и, как часто бывало в прошлом, окунуть его с головой в пьянящую роскошь.
Думаю, он ждет этого от меня, хотя никогда и не признается. Он живет без электричества, без современного освещения, бродит среди царящего в доме беспорядка и притворяется, что всем и полностью доволен.
В нескольких окнах нет стекол, но он очень редко опускает старомодные жалюзи. Дождь заливает его вещи, но ему, похоже, все равно – ведь их с трудом можно назвать вещами. Просто разбросанный по дому хлам.
Опять-таки, думаю, он был бы не прочь, если бы я как-то помог ему все это исправить. Он на удивление часто приходит в мою теплую, ярко освещенную квартиру и часами сидит перед гигантским телевизором. Иногда он приносит фильмы с собой – на дисках или кассетах. Снова и снова он пересматривает фильм «Среди волков». Нравится ему «Красавица и чудовище» Жана Кокто. Потом еще «Мертвецы», картина Джона Хьюстона на сюжет Джеймса Джойса. Пожалуйста, обратите внимание, что фильм этот не имеет ровным счетом никакого отношения к нашему роду – в нем рассказывается о довольно заурядной компании смертных, собравшихся на праздничный рождественский ужин; действие происходит в Ирландии начала века. Многие другие фильмы тоже приводят его в восторг. Но он обходится без моего приглашения и никогда не задерживается надолго. Он часто осуждает «отъявленный материализм», в котором я «погряз», и, повернувшись спиной к моим бархатным подушкам, толстому ковру и шикарной мраморной ванной, удаляется в свою заброшенную, заросшую лачугу.
Сегодня вечером он сидит там во всем своем пыльном великолепии, с размазанным по щеке чернильным пятном, склонившись над громоздким томом биографии Диккенса, недавно написанной одним английским романистом, и изредка медленно переворачивает страницы – читает он не быстрее, чем большинство смертных. Из всех, кто выжил, он больше всего похож на человека. И остается таким сознательно.
Много раз предлагал я ему свою более могущественную кровь. Он всегда отказывался. Солнце пустыни Гоби сожгло бы его дотла. Все его чувства были обострены и вполне соответствовали его вампирской сущности, но до Детей Тысячелетий ему было еще очень далеко. Он так и не научился хорошо читать чужие мысли. Если он и вводит смертного в транс, то исключительно по ошибке.
Конечно, я не могу читать его мысли, потому что я его создал, а мысли вампира и его создателя – никто не знает почему – всегда закрыты друг для друга. Подозреваю, что нам известно весьма немало о чувствах и страстях друг друга, однако образы чрезмерно сильны и потому не поддаются четкому определению. Но это лишь теория. Когда-нибудь нас, наверное, действительно будут изучать в лабораториях. Сквозь толстые стеклянные тюремные стены мы станем молить принести нам живую жертву, пока нас будут забрасывать вопросами и брать образцы крови из вены. Да, но как, интересно, им удастся проделать такое с Лестатом, который одним лишь усилием мысли способен сжечь дотла кого угодно.
Луи не услышал моих шагов по высокой траве у его дома.
Я длинной тенью проскользнул в комнату и успел устроиться напротив него в своем любимом красном бархатном кресле – я давным-давно притащил его сюда специально для себя, – когда он наконец оторвался от книги.
– А, это ты! – С этими словами он резко захлопнул книгу.
Его лицо, тонкое и изящное от природы, удивительно нежное, несмотря на явно читающуюся в нем силу, сияло великолепным румянцем. Он рано поохотился, а я пропустил это приключение. На секунду я испытал сокрушительное разочарование.
Тем не менее оживленное тихой пульсацией человеческой крови лицо выглядело невероятно соблазнительным. Я чувствовал запах смертной крови, что придавало близости к Луи новое, любопытное ощущение. Его красота всегда сводила меня с ума. Наверное, я идеализирую Луи в его отсутствие, но при каждой встрече он покоряет меня снова и снова.
Конечно, именно его красота и привлекла меня в те первые ночи в Луизиане, когда здесь царили колониальная дикость и беззаконие, а он был не более чем безрассудным пьяным дураком, который играл в карты, нарывался на драки в тавернах и делал все возможное, чтобы поскорее лишиться жизни. Что ж, он своего добился – более или менее.
Я не сразу понял причину ужаса, отразившегося на его лице, не понял, с чего это он вдруг так уставился на меня, а потом рывком поднялся, подошел и, склонившись, потрогал мое лицо. И тут я вспомнил! Моя потемневшая от солнца кожа!
– Что ты наделал? – прошептал он. Встав на колени и легко положив руку мне на плечо, он застыл в таком положении и смотрел на меня снизу вверх. Приятная близость, однако я не подал виду и хладнокровно оставался сидеть в кресле.
– Ничего, – сказал я, – все уже позади. Я пошел в пустыню, мне хотелось посмотреть, что получится…
– Хотелось посмотреть, что получится? – Он поднялся, отступил на шаг и впился в меня глазами. – Ты хотел убить себя, ведь так?
– Да нет, – ответил я. – Я пролежал на солнце весь день. А на второе утро, должно быть, каким-то образом зарылся в песок.
Он долго смотрел на меня, готовый вот-вот взорваться от возмущения, потом вернулся к своему столу, сел – немного шумновато для такого грациозного существа, – положил руки на закрытую книгу и вновь обратил на меня яростный взгляд.
– Зачем ты это сделал?
– Луи, у меня есть новости поважнее, – ответил я. – Забудь об этом. – Я показал на свое лицо. – Я должен рассказать тебе об удивительном происшествии. – Не в силах больше сдерживаться, я вскочил и принялся ходить по комнате, стараясь не наступать на горы омерзительного мусора; меня раздражало тусклое освещение – не потому, что я плохо видел окружающую обстановку, – просто я люблю свет.
Я рассказал все – как я увидел этого Раглана Джеймса в Венеции и Гонконге, а потом в Майами, как он прислал мне сообщение в Лондоне, а потом, конечно же, последовал за мной в Париж. Завтра вечером мы должны встретиться возле площади. Я изложил Луи содержание рассказов и объяснил, что все это значит. Упомянул о странном облике самого молодого человека, о своей уверенности в том, что он находится в чужом теле и что он способен осуществлять такой обмен.
– Ты не в своем уме, – ответил Луи.
– Не спеши с выводами, – отозвался я.
– Ты цитируешь мне слова этого идиота? Убей его. Покончи с ним. Найди его сегодня, если получится, и разделайся с ним.
– Луи, Бога ради…
– Лестат, это существо при желании может найти тебя? Это означает, что он знает, где ты спишь. Ты привел его сюда. Он знает, где сплю я! Хуже врага и представить невозможно! Mon Dieu, ну почему ты вечно ищешь неприятностей? Тебя уже ничто не сможет уничтожить – ни все Дети Тысячелетий, вместе взятые, ни даже полуденное солнце в пустыне Гоби, и вот ты заигрываешь с единственным врагом, который имеет над тобой преимущество. Смертный, которому не страшен солнечный свет! Человек, способный обрести над тобой полную власть в те часы, когда сам ты абсолютно лишен сознания и воли. Нет, уничтожь его – он слишком опасен! Если я его увижу, то убью!
– Луи, этот человек может дать мне человеческое тело. Ты хоть слышал, о чем я говорил?
– Человеческое тело! Лестат, нельзя стать человеком, просто перейдя в человеческое тело! Ты и при жизни-то не был человеком! Ты родился чудовищем, сам знаешь. Черт возьми, нельзя так заблуждаться на собственный счет.
– Замолчи, а то я заплачу.
– Плачь! Хотелось бы на это посмотреть. Сколько раз в твоих книгах я читал о том, как ты плачешь, но ни разу не видел этого своими глазами.
– А, вот видишь, какой ты лжец! – в бешенстве воскликнул я. – В своих жалких мемуарах ты описывал, как я плачу, в эпизоде, которого, как нам обоим известно, никогда не было!
– Лестат, убей его! Ты сумасшедший, если позволишь ему приблизиться к себе!
Потрясенный, совершенно сбитый с толку, я буквально рухнул в кресло и уставился в пустоту. Дыхание ночи за окном казалось нежным и ритмичным, во влажном прохладном воздухе едва заметно ощущалось благоухание цветущего вьюнка. Казалось, от лица Луи, от его сложенных на столе рук исходит слабое свечение. Он погрузился в молчание и, видимо, ждал моей реакции, какой – понятия не имею.
– Такого я от тебя не ожидал, – уныло сказал я. – Я думал, что услышу длинную обличительную речь, вроде той белиберды, что ты записал в своих мемуарах. Но это?!
Он молчал и напряженно буравил меня взглядом, на мгновение в его задумчивых зеленых глазах сверкнули искры. Казалось, в глубине души он мучительно переживает, словно мои слова причинили ему боль. Конечно, дело не в том, что я высмеял его книгу. Я постоянно ее высмеивал. В шутку, конечно. Ну, или почти в шутку.
Я не представлял, что следует сказать или сделать. Он действовал мне на нервы. Когда он заговорил, его голос звучал очень тихо.
– Ты же не хочешь на самом деле стать человеком, – сказал он. – Ты же в это не веришь, правда?
– Нет, верю! – ответил я, уязвленный излишней эмоциональностью собственного тона. – Как можешь не верить мне ты?! – Я встал и опять зашагал по комнате. Потом, покружив по дому, вышел в похожий на джунгли сад, раздвигая по пути толстые упругие ползучие ветки. Я был в таком смятении, что больше не мог с ним разговаривать.
Я вспоминал свою смертную жизнь, пытаясь не приукрашивать события, но не мог отогнать от себя мысли о последней охоте на волков, об умирающих в лесу собаках. Париж. Театр на бульваре. Незавершенность! «Ты же не хочешь на самом деле стать человеком». Как он может так говорить?!
Казалось, я пробыл в саду целую вечность, но в конце концов все-таки забрел обратно в дом. Он все еще сидел за столом и выглядел ужасно жалким и несчастным, а обращенный на меня взгляд был поистине душераздирающим.
– Послушай, – проговорил я, – я верю всего в две вещи. Первое. Ни один смертный не в силах отказаться от Темного Дара, если он знает, что это такое. И не надо напоминать, что Дэвид Тальбот мне отказывает. Дэвид – человек незаурядный. Второе. Убежден, что каждый из нас стал бы смертным, имей он такую возможность. Вот и вся моя доктрина – ничего больше.
Он устало отмахнулся, как будто соглашаясь, и откинулся в кресле. Под его весом дерево тихо заскрипело. Медлительно подняв правую руку, – совершенно не сознавая, насколько соблазнителен этот простой жест, – он провел пальцами по распущенным черным волосам.
Меня внезапно пронзило воспоминание о той ночи, когда я дал ему кровь, как в последний момент он начал спорить, уговаривать меня не делать этого, но потом уступил. Я все объяснил ему заранее – пока он еще оставался пьяным, мечущимся в лихорадке молодым плантатором; он был болен, лежал в постели, со спинки которой свисали четки. Но разве можно такое объяснить?! А он был так уверен, что хочет пойти за мной, так уверен, что в смертной жизни для него ничего не осталось… такой очаявшийся, опаленный судьбой – и такой молодой!
Что он тогда знал? Читал ли он поэму Мильтона, слышал ли сонату Моцарта? Было ли ему знакомо имя Марка Аврелия? По всей вероятности, он решил бы, что это имя отлично подойдет для черного раба. Ах, эти дикие плантаторы-щеголи с рапирами и отделанными жемчугом пистолетами! Все же они ценили излишества. Сейчас, по прошествии многих лет, я это признаю.
Но ведь все это давно осталось для него в прошлом. Автор «Интервью с вампиром» – что за нелепое название! Я пытался успокоиться, я слишком любил его, чтобы не проявить терпение, не подождать, пока он заговорит снова. Ведь я создал его из человеческой плоти и крови, чтобы он стал моим сверхъестественным мучителем!
– Нельзя вот так, запросто, все исправить, – сказал он, оторвав меня от воспоминаний и возвратив обратно в пыльную комнату. Он намеренно смягчил голос, говорил почти умиротворяюще – или умоляюще. – Все гораздо сложнее. Нельзя поменяться телами со смертным человеком. Откровенно говоря, я даже не считаю, что это вообще возможно, но даже если я не прав…
Я не ответил. Но вопрсы буквально вертелись у меня на языке: «А вдруг все-таки возможно? Что, если я снова смогу почувствовать, каково это – жить?»
– И что будет с твоим телом? – просительным тоном продолжал он, умело сдерживая гнев и ярость. – Ты ни в коем случае не должен отдавать свое могущество в распоряжение этого существа – колдуна, или кто там он на самом деле. Все вампиры утверждают, что не в состоянии определить истинные масштабы твоей силы. О нет! Это отвратительная идея. Скажи мне, откуда он знает, где тебя искать? Это самое важное.
– Как раз это имеет наименьшее значение. Но, разумеется, коль скоро этот человек умеет меняться телами, то может покидать и свое тело. Он способен передвигаться как дух, пока не нападет на мой след. Принимая во внимание мою сущность, он в таком состоянии, должно быть, видит меня отлично. Пойми, никакого чуда здесь нет.
– Знаю. Я об этом и читал, и слышал. Думаю, ты столкнулся с очень опасным существом. Он еще хуже, чем мы сами.
– И чем же он хуже?
– Обмен телами подразумевает отчаянную попытку обрести бессмертие! Ты думаешь, этот человек, кто бы он ни был, планирует состариться в каком-то определенном теле и умереть?
Я не мог не признать, что уловил его мысль. Потом я рассказал ему о голосе того человека, о резком британском акценте, об интеллигентной манере говорить, о том, что его речь не похожа на речь молодого мужчины.
Он пожал плечами.
– Вероятно, он из Таламаски, – сказал он. – Наверное, там он о тебе и узнал.
– Чтобы все обо мне узнать, достаточно купить роман в бумажной обложке.
– Да, но поверить, Лестат, поверить, что это правда…
Я рассказал о беседе с Дэвидом. Дэвид выяснит, не из его ли ордена этот человек, но лично мне в это не верилось. Ученые на такое не способны. И в том человеке было что-то зловещее. Члены Таламаски почти утомительны в своей добродетели. К тому же это уже не имеет значения. Я сам поговорю с ним и все выясню.
Луи снова задумался и заметно погрустнел. Мне было почти больно смотреть на него. Хотелось схватить его за плечи и потрясти, но такое обращение лишь разозлило бы его.
– Я люблю тебя, – тихо сказал он.
Я был потрясен.
– Ты всегда стремишься найти путь к победе, – продолжал он. – И никогда не сдаешься. Но победить невозможно. Мы с тобой находимся в чистилище. И остается только радоваться, что не в аду.
– Нет, не верю! – воскликнул я. – Послушай, мне все равно, что говорите вы с Дэвидом. Я встречусь с Рагланом Джеймсом. И непременно выясню, о чем идет речь! Ничто меня не остановит.
– Вот как? Значит, Дэвид Тальбот тоже предостерег тебя?
– Не ищи себе союзников среди моих друзей!
– Лестат, если этот человек приблизится ко мне, если я почувствую, что от него исходит опасность, я его убью. Ты должен меня понять.
– Конечно, я все понимаю. Он к тебе не подойдет. Он выбрал меня, и не без причины.
– Он выбрал тебя, потому что ты легкомысленный, тщеславный позер. О, я не хотел тебя обидеть. Правда, не хотел. Ты мечтаешь, чтобы тебя заметили, чтобы к тебе подошли, тебя поняли, – мечтаешь влезть в очередную авантюру. Ты жаждешь все переворошить и посмотреть, что будет, не сойдет ли на землю Бог, чтобы оттаскать тебя за волосы. Так вот, Бога нет. Ты сам себе Бог.
– Вы с Дэвидом… одна и та же песня, одни и те же предостережения… Правда он утверждает, что видел Бога, а ты не веришь, что Бог существует.
– Дэвид видел Бога? – В голосе Луи послышались почтительные нотки.
– Да нет, – пробормотал я с презрительным жестом. – Но вы оба браните меня одинаково. Как и Мариус.
– Ну конечно, ты слышишь только те голоса, которые тебя бранят. Так было всегда. Точно так же ты вечно наталкиваешься на тех, кто потом нападает на тебя и вонзает нож тебе в сердце.
Он имел в виду Клодию, но не мог заставить себя произнести ее имя. Я знал, что причиню ему боль, если назову ее по имени, как если бы я бросил ему в лицо оскорбление. «Ты тоже приложил к этому руку! – хотелось мне сказать. – Ты был рядом, когда я создал ее, ты был рядом, когда она поднимала нож!»
– Не желаю больше ничего слышать! – вместо этого заявил я. – Ты собираешься петь свою песнь о границах и пределах все предстоящие тебе на земле долгие и мрачные годы? Нет, я не Бог. И не дьявол из ада, пусть иногда им и притворяюсь. Я не хитрый, коварный Яго. Я не строю жутких, зловещих планов. Но не могу ни подавить свое любопытство, ни изменить характер. Да, я хочу узнать, действительно ли он это умеет. Хочу узнать, что из этого выйдет. И не отступлю!
– И будешь петь вечную песнь победы, хотя победы здесь быть не может.
– Нет, может. Не может ее не быть.
– Брось. Чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, что победить невозможно. Разве мы не можем положиться на природу и делать лишь то, без чего не выживем?
– В жизни не слышал более жалкого определения природы! Присмотрись к ней получше – не к книгам, но к окружающему миру. И что ты увидишь? Что породило пауков, ползающих под сырыми досками? Что породило мотыльков с разноцветными крыльями, в темноте походящих на огромные зловещие цветы? Зачем существует акула в море? – Я подошел к Луи, оперся руками о стол и заглянул ему в лицо. – А я-то был уверен, что ты меня поймешь! И кстати, я родился не чудовищем, а, как и ты, смертным ребенком. Но сильнее! С большей волей к жизни! – Жестоко было так говорить.
– Я знаю. Я был не прав. Иногда ты так меня обижаешь, что я готов швырнуть в тебя чем попало. Глупо с моей стороны. Я рад тебя видеть, хотя и боюсь в этом признаться. При одной только мысли о том, что ты действительно мог покончить с собой в пустыне, меня бросает в дрожь! Я не представляю, как жить без тебя! Ты приводишь меня в бешенство! Что же ты надо мной не смеешься, как раньше?
Я выпрямился и отвернулся, обратив взгляд на траву, мягко стелящуюся на речном ветру, и на побеги вьюнка, тянущиеся к открытой двери.
– Я не смеюсь, – ответил я. – Но я не отступлю – какой смысл тебя обманывать? Господи, как ты не понимаешь? Если я хоть на пять минут окажусь в смертном теле, как много я смогу узнать!
– Ладно. – Луи был в отчаянии. – Надеюсь, ты убедишься, что этот человек соблазнял тебя сплошной ложью, что он жаждет лишь получить Темную Кровь, и отправишь его прямиком в ад. Позволь предупредить тебя в последний раз: если я его встречу, если он будет мне угрожать, я его убью. У меня нет твоего могущества, и моя безопасность напрямую зависит от тайны моего существования, ибо мои небольшие мемуары, как ты их называешь, настолько далеки от представлений этого века, что никто не счел их правдой.
– Я не позволю ему причинить тебе вред, Луи. – Я повернулся и окинул его исполненным злости взглядом. – Я никогда, никогда не позволю кому бы то ни было причинить тебе вред.
И с этими словами я ушел.
Конечно, это было обвинение, и, к своему удовлетворению, прежде чем развернуться и выйти, я успел увидеть, что стрела попала в цель.
В ту ночь, когда Клодия восстала против меня, он стоял рядом, беспомощный свидетель, противясь происходящему, но и не помышляя о вмешательстве, несмотря на то что я его звал.
Он забрал мое, как он считал, безжизненное тело и утопил его в болоте. Ах, наивные детки, вы думали, что так легко от меня избавитесь?
Но стоит ли сейчас вспоминать прошлое? Он любил меня, может быть сам того не сознавая. А уж в своей любви к нему и к несчастному озлобленному ребенку я никогда и секунды не сомневался.
Признаю, он обо мне горевал. Но ведь он такой мастер горевать! Он облачается в скорбь, как другие облачаются в бархат; печаль украшает его, как свет свечей; слезы идут ему, как драгоценные камни.
Что же, на меня подобная ерунда не действует.
Я вернулся в свое жилище под крышей, включил все чудесные светильники и улегся на мягкую кушетку, чтобы вновь погрязнуть в вопиющем материализме, наблюдая за бесконечным шествием видеокадров на гигантском экране. Прежде чем отправиться на охоту, я даже подремал немного.
Я устал и из-за всех этих странствий выбился из расписания. И к тому же меня мучила жажда.
За пределами ярко освещенного квартала и ослепительно сияющей огнями небоскребов деловой части города царила тишина. Новый Орлеан очень быстро погружается во мрак, будь то нарядные зеленые улицы, которые я уже описывал, или же более скромные, с кирпичными домами районы в центре.
Через эти опустевшие торговые районы, мимо закрытых фабрик и холодных старых коттеджей забрел я в чудесное местечко рядом с рекой, до которого, наверное, никому, кроме меня, нет дела.
Свободное пространство неподалеку от пристани, раскинувшееся за огромными пилонами эстакады, ведущей к высоким, похожим друг на друга как две капли воды мостам через реку, которые я с первого же момента, как их увидел, прозвал «Воротами в Дикси».
Должен признаться, что официально эти мосты носят другое, менее симпатичное название. Но на официальный мир я особенного внимания не обращаю. Для меня они всегда оставались «Воротами в Дикси», и, вернувшись домой, я обычно спешу туда, чтобы прогуляться поблизости и полюбоваться их конструкцией и тысячами крошечных мигающих огоньков.
Поймите, что это не какие-нибудь изящные эстетичные творения вроде Бруклинского моста, который привел в восхищение поэта Харта Крейна. Не обладают они и торжественным величием «Золотых Ворот» в Сан-Франциско.
Тем не менее это мосты, а все мосты прекрасны и наводят на размышления. А при полном освещении их многочисленные перекладины и фермы выглядят на редкость таинственно.
Позвольте добавить, что такое же великое световое чудо можно наблюдать черной южной ночью в провинции, где стоят огромные нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, во всем своем поразительном великолепии вырастающие из плоской невидимой земли. Блеска им добавляют дымящие трубы и вечно пылающие газовые факелы. А Эйфелева башня ныне не просто металлический скелет, но скульптура из ослепительного электрического света.
Но мы говорим о Новом Орлеане, и вот я направился к этому прибрежному пустырю, с одной стороны огражденному стеной темных, обшарпанных коттеджей, с другой – опустевшими складами, а с севера – великолепными свалками брошенных машин и сетчатыми заборами, обильно увитыми растущими здесь повсюду прекрасными цветущими лианами.
О, поля мысли и поля отчаяния. Я любил прогуляться здесь по мягкой неплодородной земле, среди островков высоких сорняков и разбросанных повсюду осколков стекла, прислушаться к тихому течению невидимой реки, вглядеться в далекое розовое зарево над деловой частью города.
Это ужасное, всеми забытое место казалось мне воплощением сущности современного мира – огромная дыра среди живописных старых зданий, мимо которых по пустынным и, видимо, опасным улицам лишь изредка проползала машина.
Надо отметить, что тьма царит только на ведущих к берегу тропах, но не на самом берегу. Потоки яркого света с шоссе и огни немногочисленных уличных фонарей создавали здесь ровный, непонятно отчего возникающий полумрак.
Признайтесь, вам хочется побежать туда прямо сейчас. Разве вы уже не сгораете от желания пройтись по грязи?
Если серьезно, то это место навевает божественную печаль. Чувствуешь себя затерянной в космосе крошечной фигуркой, которая содрогается от оглушительного городского шума и испытывает благоговейный трепет, слыша рокот механизмов в цехах промышленных предприятий или грохот изредка проносящихся наверху грузовиков.
Буквально в двух шагах от пустыря в заваленных хламом комнатах многоквартирного дома я нашел парочку убийц, чей горячечный мозг был затуманен наркотиками. Я медленно и без шума насытился, оставив их без сознания, но живыми.
Держа руки в карманах и поддавая ногами валявшиеся на пути пустые консервные банки, я вернулся на пустырь, долго кружил под эстакадой, потом подпрыгнул и оказался на ближайшем мосту «Ворот в Дикси».
Как глубока и темна моя река. Воздух над ней всегда прохладный; несмотря на окутавший все вокруг унылый туман, я видел над головой яркую россыпь крошечных звезд.
Я задержался там надолго, обдумывая слова Луи и все, что сказал мне Дэвид, испытывая невероятное возбуждение в предвкушении встречи с Рагланом Джеймсом.
В конце концов мне наскучила даже великая река. Я поискал в городе чокнутого смертного шпиона, но не нашел. Не обнаружил его и на окраинах. Однако полной уверенности в его отсутствии я не испытывал.
На исходе ночи я вернулся к дому Луи – теперь уже пустому и темному – и прошелся по узким улочкам, время от времени оглядываясь вокруг, нет ли где этого шпиона поблизости. Ну что ж, тайное святилище Луи, несомненно, в безопасности, равно как и гроб, к которому он всегда возвращается задолго до рассвета.
Потом, напевая про себя, я пошел обратно на берег и вдруг подумал, что огни «Ворот в Дикси» напоминают мне очаровательные пароходики девятнадцатого века, похожие на скользящие по воде свадебные торты, украшенные свечами. Слишком запутанная метафора? Не важно. В голове моей звучала музыка старинных пароходов.
Я попытался представить себе следующий век. Какие формы он нам подарит, как с новым неистовством он перетасует уродливое и прекрасное, – нечто подобное происходит в каждом столетии. Я всматривался в пилоны эстакады, в грациозные, парящие в воздухе арки из стали и бетона, гладкие, как скульптура, простые и чудовищные, мягко гнущиеся к земле стебли бесцветной травы…
По путям, тянувшимся перед складами, загрохотал поезд, скучная цепь закоптелых товарных вагонов, рваная, отвратительная на вид; резкий свисток вызвал в моей чересчур человеческой душе глубокую тревогу.
Когда последний стук заглох вдали, ночь нахлынула на меня с прежней пустотой. Машин на мосту не было видно, и на широкую реку опустился тяжелый туман, скрывая угасающие звезды.
Я опять плакал. Я думал о Луи, о его предостережениях. Но что я мог поделать? Я не знал, что такое отступление. И никогда не узнаю. Если завтра этот ничтожный Раглан Джеймс не появится, я обыщу весь мир. Я больше не хотел говорить с Дэвидом, не желал слушать его предупреждения, не мог. Я знал, что пойду до конца.
Я не сводил глаз с «Ворот в Дикси». Я не мог забыть красоту мигающих огней. Мне захотелось увидеть церковь со свечами – с множеством мерцающих свечек, как в Нотр-Дам. От их фитилей, словно молитва, поднимался дымок.
До восхода солнца еще час. Времени хватит. Я медленно направился в центр.
Собор Сен-Луи запирали на ночь, но замки для меня не преграда.
Войдя в собор, я остановился в темноте у самых дверей и устремил взгляд на ряд свечей, горящих у подножия статуи девы Марии. Прежде чем зажечь свечу, верующие опускают монетки в латунную коробку. Всенощные свечи – так, кажется, они их называют.
Часто, едва наступали сумерки, я торопился на площадь и наблюдал, как приходят и уходят люди. Мне нравился запах воска; нравилось маленькое, смутно вырисовывающееся в полутьме церковное здание, которое, кажется, за целый век не изменилось ни на йоту. Я со свистом вздохнул, сунул руку в карман, вытянул пару смятых долларов и опустил их в латунную щель.
Взяв длинный восковой фитиль, я окунул его в старый огонек, поднес пламя к свежей свече и завороженно смотрел, как разгорается яркий оранжевый язычок.
«Что за чудо, – думал я. – Один крошечный огонек способен создать столько других огоньков; одна крошечная искра способна поджечь целый мир. Надо же, одним простым жестом я увеличил суммарное освещение вселенной!»
Это поистине чудо, и ему никогда не будет объяснений, и нет ни Бога, ни дьявола, беседующих в парижском кафе. И все-таки, когда в своих грезах я вспоминал безумные теории Дэвида, они приносили мне успокоение. «Плодитесь и размножайтесь», – сказал Господь, великий Господь, Яхве. И из плоти двоих возникло множество детей, как будто из двух крошечных огоньков разгорелся пожар…
Внезапно в церкви раздался шум, резкий, отчетливый, словно кто-то шагал намеренно тяжелой поступью. Я изумленно застыл, не понимая, как мог не почувствовать чьего-то присутствия. И вдруг мне вспомнился Нотр-Дам… звук детских шагов на каменном полу… Меня охватил страх. Она здесь? Если заглянуть за угол, на сей раз я ее увижу – может быть, на ней будет шляпка, кудри растрепались от ветра, руки в шерстяных митенках, и она воззрится на меня своими громадными глазами. Золотые волосы, прекрасные глаза…
Опять послышался какой-то звук. Как же я ненавидел свой страх!
Я очень медленно повернулся и увидел возникающий из тени легко узнаваемый силуэт. Луи. Всего лишь Луи. Свечи постепенно высветили его спокойное, слегка мрачное лицо.
На нем был пыльный пиджак тускло-серого цвета, воротник поношенной рубашки расстегнут; казалось, Луи даже слегка замерз. Он медленно подошел и твердой рукой сжал мое плечо.
– С тобой опять случится что-то ужасное, – сказал он, и в его темно-зеленых глазах заиграло пламя свечей. – Вот увидишь.
– Я выиграю, – ответил я с неловким смешком. Голова кружилась от счастья, что он рядом. – Ты еще не понял? Я всегда выигрываю.
Но меня потрясло, что он нашел меня, что он пришел перед самым рассветом. Я все еще не мог прийти в себя от безумных видений, от ощущения ее присутствия, как во сне, и мне нужно было узнать, зачем она пришла.
Луи тревожил меня: бледная кожа, длинные тонкие руки – он казался таким хрупким! Но от него, как и всегда, исходила холодная сила, сила того, кто привык поступать обдуманно, кто не поддается импульсам и рассматривает проблему со всех сторон, кто осторожен в выборе слов. И никогда не играет с восходящим солнцем.
Не сказав больше ни слова, он бросился прочь и выскользнул на улицу. Я последовал за ним, даже не заперев двери, – что, полагаю, было непростительно, ибо нельзя нарушать покой церквей, – и наблюдал, как он идет в холодной темноте по тротуару мимо Понталба-апартментс.
Он торопился, но даже в спешке все движения его были грациозными, он шел легкими широкими шагами. Приближался рассвет, серый, смертоносный, витрины под нависшей крышей уже тускло заблестели. Я, наверное, выдержал бы еще полчаса. Он – нет.
Мне вдруг пришло в голову, что я даже понятия не имею, где спрятан его гроб, и далеко ли ему до него добираться.
Прежде чем скрыться за ближайшим к реке углом, Луи обернулся и помахал мне рукой – и в этом жесте было больше любви, чем во всех сказанных им словах.
Я вернулся, чтобы запереть церковь.
Глава 8
Следующей ночью я сразу же направился на Джексон-сквер.
Холодный воздух с севера в конце концов добрался до Нового Орлеана и принес с собой леденящий ветер. Зимой этого можно ожидать в любой момент, хотя бывали годы, когда ничего подобного не случалось. Я заглянул в свою квартиру на верхнем этаже, чтобы надеть плотное шерстяное пальто. Тот факт, что моя потемневшая кожа способна испытывать подобные ощущения, приводил меня в небывалый восторг.
Несколько туристов, невзирая на погоду, отважились посетить все еще открытые кафе, расположенные рядом с собором. Машины с шумом проносились мимо. Старое, обшарпанное Кафе дю Монд было битком набито посетителями.
Его я увидел сразу же. Вот удача!
Ворота на площадь заперли на цепь, как с некоторых пор всегда делали на закате, – жуткое неудобство, – и он ждал снаружи, у собора, беспокойно оглядываясь по сторонам.
Прежде чем он меня заметил, я успел рассмотреть его: немного выше меня, что-то около шести футов двух дюймов, прекрасно сложен, как я и запомнил. Насчет возраста я оказался прав: телу было не больше двадцати четырех лет. Он облачился в очень дорогую одежду – отличного покроя плащ на меху и плотный алый кашемировый шарф.
Увидев меня, он вздрогнул и весь напрягся от волнения и безумного восторга. Лицо исказилось в отвратительной сияющей улыбке. Бесплодно стараясь скрыть панический страх, он уставился на меня, пристально следя за тем, как я приближаюсь к нему медленным человеческим шагом.
– Ах, да вы и вправду вылитый ангел, месье де Лионкур, – переводя дух, прошептал он, – и как вам идет загар! Что за приятная перемена! Простите, что не упомянул об этом раньше.
– Итак, вы здесь, мистер Джеймс, – сказал я, поднимая брови. – Так в чем состоит ваше предложение? Вы мне не нравитесь, поэтому говорите быстрее.
– Не грубите так, месье де Лионкур, – ответил он. – Поверьте, оскорбляя меня, вы совершаете чудовищную ошибку. Да, голос совсем как у Дэвида. Скорее всего, одно и то же поколение. И, без сомнения, что-то индийское.
– В этом вы абсолютно правы, – сказал он. – Я тоже много лет провел в Индии. Плюс какое-то время в Африке и Австралии.
– Значит, вы с легкостью читаете мои мысли?
– Не так легко, как кажется, а теперь, возможно, не смогу вовсе.
– Я убью вас, если вы немедленно не скажете, как вам удавалось выслеживать меня и что вам нужно.
– Вы знаете, что мне нужно. – Он едва слышно хохотнул – мрачно и настороженно. Потом взглянул на меня и тут же отвел глаза. – Вы все поняли по рассказам, но здесь, на морозе, я разговаривать не могу. Здесь еще хуже, чем в Джорджтауне, – кстати, там я и живу. Я надеялся сбежать от холодов. И зачем вы потащили меня в Лондон и Париж в такое время года? – Новый приступ сухого, беспокойного смеха. Видимо, он не мог смотреть на меня долее минуты, словно на ослепительный свет. – В Лондоне стояли жесточайшие морозы. Я ненавижу холода. Но ведь здесь же тропики? А вот вам все снятся сентиментальные сны про зимний снег!
От последнего замечания я чуть не лишился дара речи и даже не успел скрыть свои чувства. На мгновение меня охватила ярость, но я сумел совладать с собой.
– Идемте в кафе. – Я указал на старый Французский рынок по другую сторону площади и поспешил вперед по мостовой. Я был слишком взволнован и сбит с толку, чтобы рисковать, продолжая разговор.
В кафе было чрезвычайно шумно, но тепло. Я прошел в самый дальний от двери угол, заказал нам обоим по чашке кофе с молоком и замер в напряженном молчании, разглядывая липкую поверхность маленького столика и краем глаза мрачно следя за тем, как он, дрожа с ног до головы, взволнованно размотал красный шарф, потом надел его снова, стянул тонкие кожаные перчатки, засунул их в карманы, затем вытащил, надел одну из них, другую положил на стол, снова схватил ее и натянул на вторую руку.
В нем определенно было что-то жуткое – неискренний, нервный, цинично хихикающий дух внутри пленительного молодого тела. Но я не мог отвести от него глаз. Зрелище доставляло мне поистине дьявольское наслаждение. И, думаю, он это знал.
За безупречно красивым лицом скрывался провокационный ум. Он заставил меня осознать, как нетерпим я стал к любому, кто действительно молод.
На столике перед нами появился кофе, и я взял в руки теплую чашку, направив струю пара себе в лицо. Он смотрел на меня большими чистыми карими глазами, словно это я его загипнотизировал, и пытался спокойно выдерживать мой взгляд, что давалось ему с большим трудом. Восхитительный рот, красивые ресницы, отличные зубы.
– Черт возьми, да что с вами такое? – спросил я.
– Вы прекрасно знаете. Вы обо всем догадались. Я не в восторге от этого тела, месье де Лионкур. Понимаете, у похитителя тел встречаются свои маленькие трудности.
– Так вот чем вы занимаетесь?
– Да, похититель тел высшего класса. Но разве вы не знали этого, когда согласились встретиться со мной? Простите мне мою неловкость. Большую часть жизнь я был худым, если не сказать тощим. Никогда не отличался хорошим здоровьем. – Он вздохнул, и на секунду молодое лицо подернулось печалью. – Но эту страницу я перевернул, – с неожиданным стеснением добавил он. – Из уважения к вашему высочайшему сверхъестественному интеллекту и обширному опыту позвольте побыстрее перейти к делу…
– Ты надо мной не издевайся, гаденыш, – едва слышно произнес я. – Будешь играть со мной в свои игры, я медленно разорву тебя на куски. Я же сказал, ты мне не нравишься. И титул, который ты себе присвоил, мне тоже не нравится.
Он заткнулся и совершенно успокоился. Может быть, он потерял присутствие духа или же застыл от ужаса. Мне показалось, что его страх внезапно сменился холодной яростью.
– Ладно, – тихо ответил он ровным, без тени безумия голосом. – Я хочу обменяться с вами телами. Хочу получить ваше тело на неделю. Заботу о том, чтобы вам досталось вот это тело, беру на себя. Оно молодое, совершенно здоровое, да и внешне вам, насколько могу судить, понравилось. Если желаете, я покажу вам медицинские справки. Непосредственно перед тем, как я получил его в свое распоряжение – или же украл его, – оно прошло тщательное обследование. Оно довольно сильное – это видно. Да, сильное, удивительно сильное…
– Как вы это делаете?
– Мы сделаем это вместе, месье де Лионкур, – очень вежливо ответил он, с каждой фразой его голос становился все любезнее и любезнее. – В случае с таким созданием, как вы, о краже тела и речи быть не может.
– Но вы пытались, да?
Он посматривал на меня, не зная наверняка, как лучше ответить.
– Но меня нельзя в этом винить, не так ли? – сказал он умоляющим тоном. – Я же не обвиняю вас в том, что вы пьете кровь. – Произнося слово «кровь», он улыбнулся. – На самом деле я просто старался привлечь ваше внимание, что оказалось нелегкой задачей. – Он казался задумчивым, очень искренним. – К тому же на определенном уровне – вне зависимости от того, насколько глубоко он скрыт, – всегда необходимо сотрудничество.
– Хорошо, – ответил я, – но какова механика этого дела, если я не слишком грубо выражаюсь. В чем заключается сотрудничество? Объясните подробнее. Я не верю, что это получится.
– Да ладно вам, конечно верите, – он произнес эти слова мягко, как терпеливый учитель. И казался мне едва ли не воплощением Дэвида, но без его энергии. – Как же иначе я раздобыл бы это тело? – Он сопроводил свои слова соответствующим жестом. – Мы встретимся в подходящем месте. Потом поднимемся над нашими телами, что вы прекрасно умеете и так красноречиво описали в ваших книгах, а затем вступим во владение телами друг друга. Ничего сложного здесь нет – только мужество и сила воли. – Он поднял чашку – рука сильно дрожала – и выпил большой глоток горячего кофе. – Для вас это проверка мужества, больше ничего.
– И как я зацеплюсь в новом теле?
– Некому будет вас вытолкнуть, месье де Лионкур. Это совсем не то, что одержимость. Нет, одержимость – настоящая битва. Входя в это тело, вы не встретите ни малейшего сопротивления. Вы можете оставаться там, пока не пожелаете уйти.
– Это чересчур загадочно! – воскликнул я с заметным раздражением. – Я знаю, на эту тему написаны тома, но что-то здесь не…
– Позвольте мне изложить вам все по порядку, – предложил он, понизив голос. – Это научный вопрос, но ученые умы пока что не до конца его сформулировали. Мы располагаем лишь мемуарами поэтов и искателей оккультных приключений, которые не в состоянии отчетливо проанализировать все, что с ними произошло.
– Вот именно. Как вы сказали, я покидал свое тело, но я не знаю, что конкретно со мной происходит. Почему тело не умирает, если его покинуть? Непонятно.
– Душа, как и мозг, состоит из множества частей. Вы, безусловно, знаете, что ребенок может родиться без мозга, но тело не умрет, если у него есть так называемый ствол головного мозга.
– Жуткая мысль.
– Уверяю вас, это случается сплошь и рядом. Жертвы несчастных случаев, получив тяжелейшие мозговые травмы, продолжают дышать и даже зевают во сне, поскольку нижний мозг не задет.
– И вы можете вселиться в такое тело?
– О нет, чтобы окончательно вселиться, мне нужен здоровый мозг, все клетки должны нормально функционировать, чтобы иметь возможность удержать вторгающийся разум. Обратите внимание, месье де Лионкур. Мозг не есть разум. Но мы опять-таки говорим не об одержимости, но о бесконечно более тонкой работе. Позвольте я продолжу.
– Давайте.
– Я говорил, что душа, как и мозг, состоит из нескольких частей. Самая крупная часть – личность, индивидуальность, сознание, если хотите, – может высвобождаться и путешествовать; но в теле остается небольшая остаточная душа. Она поддерживает жизнь освободившегося тела, так сказать, ибо в противном случае освобождение, естественно, означало бы смерть.
– Понимаю. Остаточная душа поддерживает ствол мозга – это вы хотите сказать?
– Да. Покидая собственное тело, вы оставляете там часть своей души. Оказавшись в другом теле, вы обнаружите в нем маленькую остаточную душу. Именно ее я нашел и в этом теле, когда овладел им. Эта душа охотно и автоматически сольется с любой душой более высокого порядка. Без нее она чувствует себя неполноценной.
– А когда наступает смерть, уходят обе души?
– Точно. Обе души уходят вместе, остаточная душа и более крупная душа, тогда тело становится безжизненной оболочкой и начинается процесс разложения. – Он сделал паузу, наблюдая за мной с прежним искренним, как казалось, терпением, а потом добавил: – Поверьте, реальная смерть обладает намного большей силой. В том, что мы собираемся сделать, нет абсолютно ничего опасного.
– Но раз эта остаточная душа, черт возьми, так восприимчива, почему я, при моей-то силе, не могу вытеснить из кожи какую-нибудь смертную душонку и завладеть телом?
– Потому что крупная душа, сама того не сознавая, потребует свое тело назад, месье де Лионкур. Она не прекратит попыток вернуть тело. Души не любят существовать вне тела. Даже если остаточная душа примет чужака, она всегда узнает ту душу, частью которой когда-то была. И если разразится битва, то она выберет именно ее. И даже смятенная душа способна отчаянно бороться за возвращение своей смертной оболочки.
Я не ответил, но, несмотря на свои подозрения и твердое намерение не терять бдительности, находил, что его слова не лишены логики.
– Одержимость – это кровавая схватка, – продолжал он. – Смотрите, что бывает со злыми духами, призраками и так далее. Их всегда изгоняют, даже если победитель так и не понял, что произошло. Когда священнослужитель приносит ладан, святую воду и прочую ерунду, он призывает остаточную душу вытолкнуть чужака и вернуть внутрь старую душу.
– Но при наличии сотрудничества обе души получают новые тела.
– Именно так. Поверьте, если вы считаете, что сможете без моей помощи перепрыгнуть в чужое тело, то попробуйте – и вам станет ясно, что я имею в виду. Пока внутри идет битва, вы не сможете овладеть всеми пятью чувствами человека.
Его поведение становилось все более осторожным и доверительным.
– Взгляните на тело еще раз, месье де Лионкур, – сказал он с вкрадчивой мягкостью. – Оно может стать вашим, целиком и полностью вашим, на самом деле вашим. – Повисшая пауза была не менее выразительной, чем его слова. – С тех пор как вы увидели его в Венеции, прошел уже год. Все это время оно было носителем чужака. С таким же успехом оно послужит и вам.
– Где вы его взяли?
– Говорю же, украл, – ответил он. – Бывший владелец мертв.
– Давайте поконкретнее.
– А стоит ли? Терпеть не могу пятнать свою репутацию.
– Я ведь не смертный блюститель порядка, мистер Джеймс. Я – вампир. Выражайтесь ясно и понятно.
Тихий, несколько ироничный смешок.
– Тело было отобрано аккуратнейшим образом. Бывший владелец лишился разума. О, с органической точки зрения с ним все было в порядке, в полном порядке. Я уже говорил, его тщательно обследовали. Он был своего рода огромным бессловесным подопытным животным. Он не двигался. Не говорил. У него был безнадежно поврежден рассудок, пусть даже здоровые клетки мозга и продолжали функционировать как положено. Я совершал переход постепенно. Вытолкнуть его из тела оказалось несложно. Мастерство потребовалось для того, чтобы заманить его в мое старое тело и оставить его в нем.
– И где старое тело сейчас?
– Месье де Лионкур, старая душа никогда не постучится в вашу дверь – это я гарантирую.
– Я хочу увидеть фотографию вашего старого тела.
– Зачем?
– Потому что она расскажет мне о вас больше, чем вы. Я требую. Без нее я продолжать не буду.
– Не будете? – Он подавил вежливую улыбку. – Что, если я встану и уйду?
– Только попробуйте – и я убью ваше прекрасное новое тело. Никто даже не заметит. Все решат, что вы пьяны и упали мне на руки. Я все время так делаю.
Он умолк, но я видел, что он лихорадочно просчитывает ситуацию; и тогда я осознал, как же он смакует все происходящее, наслаждается им с самого начала. Он был похож на великого актера, с упоением играющего лучшую роль в своей жизни.
Внезапно лицо его озарила на удивление соблазнительная улыбка, и, аккуратно стащив с правой руки перчатку, он извлек из кармана маленький предмет и вложил его мне в руку. Старая фотография худощавого мужчины с густыми седыми волнистыми волосами. Я решил, что ему лет пятьдесят. На нем была какая-то форма и черный галстук-бабочка.
Он оказался очень приятным на вид человеком, гораздо более хрупкого сложения, чем Дэвид, но типично по-британски элегантным, с отнюдь не неприятной улыбкой. Он опирался на перила – возможно, на палубе корабля. Да, точно, корабль.
– Вы знали, что я попрошу фотографию, да?
– Рано или поздно, – ответил он.
– Когда она сделана?
– Не имеет значения. Зачем вам понадобилось это знать? – В голосе его послышалось легкое раздражение, но он тут же его подавил. – Десять лет назад. Сойдет?
– Значит, вам… сколько же? Наверное, за шестьдесят?
– Не буду спорить. – Он широко и обаятельно улыбнулся.
– И как вы этому научились? Почему другие не пользуются тем же фокусом?
Взгляд, которым он окинул меня в ответ, был таким холодным, что мне показалось, ему вот-вот изменит выдержка. Однако он быстро вернулся к прежним вежливым манерам.
– Это многие делают, – особенно доверительным тоном произнес он. – Ваш друг Дэвид Тальбот мог бы рассказать вам об этом. Но не захотел. Он лгун, как все эти колдуны из Таламаски. Они религиозны. Они считают, что могут управлять людьми, и используют свои знания для обретения этой власти.
– Откуда вам о них известно?
– Я был членом их ордена, – сказал он и снова улыбнулся, в глазах промелькнули игривые искорки. – Меня выгнали. Обвинили в использовании своих способностей для получения личной выгоды. А зачем же еще, месье де Лионкур? Ради чего использовать свои способности, если не ради выгоды?
Значит, Луи был прав. Я молчал. Я попытался прочесть его мысли – бесполезно. Вместо этого я с новой силой почувствовал его физическое присутствие, исходящее от него тепло, горячий поток его крови. «Сочное» – вот самое подходящее определение для его тела, какой бы при этом ни была душа. Мне не понравилось это чувство, потому что оно порождало во мне желание убить Джеймса.
– В Таламаске я все про вас выяснил, – сказал он все тем же доверительным тоном. – Конечно, я знаком с вашими произведениями. Я постоянно читаю такую литературу. Поэтому я и воспользовался рассказами как средством общения. Но именно в архивах Таламаски я узнал, что сюжеты ваших романов отнюдь не вымышлены.
Я сгорал от безмолвной ярости – ведь Луи все угадал правильно!
– Хорошо, – ответил я. – Я понял все, что касается разделенного мозга и разделенной души, но что будет, если вы не захотите отдать мне мое тело после обмена, а у меня не хватит сил отобрать его? Что удержит вас от соблазна скрыться с ним навсегда?
Он помолчал, а потом размеренно произнес:
– Очень большая взятка.
– Вот как?
– Десять миллионов долларов на банковском счету, ожидающие меня после того, как я снова вступлю во владение этим телом. – Он снова сунул руку в карман плаща и достал маленькую пластиковую карточку с крошечной фотографией его нового лица, отчетливым отпечатком пальца, именем – «Раглан Джеймс» – и вашингтонским адресом.
– Конечно, вы можете это устроить. Сумма, которая может быть передана только человеку с этим лицом и отпечатком пальца? Вы же не думаете, что я пожертвую таким состоянием? К тому же я не нуждаюсь в вечном обладании вашим телом. Равно как и вы – не так ли? Слишком уж вы красноречиво описывали свою агонию, душевные муки, продолжительное и трудное «сошествие в ад» и так далее. Нет. Мне ваше тело нужно совсем ненадолго. На свете великое множество тел, которые только и ждут, когда я в них вселюсь, – впереди меня ждет еще много интересного.
Я разглядывал карточку.
– Десять миллионов. Сумма немалая.
– Сами знаете, для вас это пустяки. Вы же разместили миллиарды в международных банках под разными красивыми псевдонимами. Существо с вашей невообразимой силой может приобрести все богатства мира. Мы-то с вами знаем, что только дешевые вампиры из второсортных фильмов скитаются по вечности, не имея ни гроша в кармане.
Он изящно промокнул губы льняным носовым платком и отпил глоточек кофе.
– Я был весьма заинтригован вашим повествованием о вампире Армане в книге «Царица Проклятых» – о том, как он использовал свои бесценные силы для накопления богатств и выстроил свое великое предприятие на острове Ночи. Прелестное название. У меня просто дух захватило. – Он улыбнулся и продолжал тем же любезным елейным голосом: – Мне не составило труда документально подтвердить и проанализировать все вами написанное, хотя, как нам обоим известно, ваш таинственный товарищ давным-давно покинул остров Ночи и исчез со всех компьютерных сайтов. Во всяком случае, таковы мои сведения.
Я молчал.
– К тому же, – продолжал он, – учитывая суть моего предложения, десять миллионов – это весьма дешево. Кто еще предлагал вам что-либо подобное? На свете нет никого – по крайней мере, в настоящий момент, – готового пойти на это.
– А предположим, что я не захочу поменяться с вами в конце недели? – спросил я. – Предположим, я захочу навсегда остаться человеком?
– Меня это вполне устроит, – вежливо ответил он. – Я могу освободиться от вашего тела в любой момент. Найдется немало желающих забрать его у меня. Он одарил меня почтительной и восхищенной улыбкой.
– Что вы собираетесь делать с моим телом?
– Получать удовольствие. Наслаждаться силой и могуществом! Я уже познал все, что может предложить человеческое тело, – молодость, красоту, жизненную энергию. Я даже побывал в теле женщины. Кстати, не рекомендую. Теперь я жажду познать то, что можете предложить мне вы. – Он прищурился и склонил голову набок. – Если бы мне посчастливилось встретить ангелов во плоти, я бы сделал предложение кому-нибудь из них.
– В Таламаске нет записей об ангелах?
Он заколебался, потом коротко, сдержанно усмехнулся.
– Ангелы – это чистый дух, месье де Лионкур. А мы говорим о телах. Я пристрастился к плотским удовольствиям. Вампиры – плотские монстры, не правда ли? Они живут кровью. И снова при слове «кровь» его глаза засветились.
– Что за игру вы ведете? – спросил я. – На самом деле? Дело не в деньгах. Зачем вам деньги? Что они вам дадут? Новые ощущения?
– Да, скорее всего. Новые ощущения. Я, очевидно, сенсуалист, не могу подобрать слова получше, но если вы хотите знать правду – а я не вижу, почему бы вам не узнать правду, – я во всех отношениях вор. Я испытываю наслаждение, только если поторгуюсь, обведу кого-то вокруг пальца или украду. Я делаю из ничего нечто и, таким образом, уподобляюсь Богу!
Он замолчал, словно его потрясли собственные слова и от них захватило дух. Взгляд его стал бегающим, и в конце концов он опустил глаза к полупустой чашке кофе, и на губах его заиграла едва заметная улыбка.
– Вы следите за моей мыслью? – вновь заговорил он. – Я украл вот эту одежду. Вся моя собственность в Джорджтауне – краденая: мебель, картины, все до последнего предметы искусства. Даже дом, и тот краденый, то есть его передали мне в собственность, находясь во власти ложных впечатлений и ложных надежд. Кажется, это называется надувательством? Все равно. – Он снова гордо улыбнулся, с таким глубоким чувством, что я был просто потрясен. – Все мои деньги – краденые. Как и машина в Джорджтауне. И авиабилеты, которые позволяли мне гоняться за вами по всему миру.
Я не отвечал. Заинтригованный его необычностью, я в то же время испытывал к нему отвращение, невзирая на любезные манеры и кажущуюся честность. Это была игра, но игра, близкая к совершенству. А колдовское лицо – с каждым откровением оно становилось более подвижным и выразительным. Я встряхнулся. Нужно было еще многое выяснить.
– Как вам удавалось следить за мной? Как вы узнавали, где я?
– Откровенно говоря, двумя способами. Первый очевиден. Я могу ненадолго покидать тело и в это время искать вас, перемещаясь на большие расстояния. Но мне совсем не нравятся бестелесные путешествия. Конечно, найти вас непросто. Вы держите свой разум закрытым, но вдруг допускаете небрежность и сверкаете вдалеке яркой вспышкой. Однако траектория ваших странствий непредсказуема. Зачастую, установив ваше местонахождение, я перемещал туда свое тело, но вас уже и след простыл.
Еще один способ, почти столь же фантастический, – компьютерные системы. Вы пользуетесь многими псевдонимами. Я смог установить четыре. Мне не всегда удавалось поспевать за вами с помощью компьютера. Но я получал возможность обнаружить ваши следы. И когда вы возвращались, я знал, где искать.
Изумленный тем наслаждением, которое он явно испытывал от всего этого, я не в силах был произнести ни слова.
– Мне нравится ваш выбор городов, – продолжал он. – Я одобряю ваш выбор отелей – «Хасслер» в Риме, «Риц» в Париже, «Стэнхоуп» в Нью-Йорке. И, конечно, «Сентрал-Парк» в Майами – прекрасный отельчик. О, не надо подозрений. Нет ничего проще, чем слежка с помощью компьютера. Нет ничего проще, чем уговорить клерка за определенную сумму показать вам номера предъявленных кредитных карточек или купить у банковских служащих информацию, не подлежащую разглашению. Обычные штучки. Для этого не обязательно быть сверхъестественным убийцей. Нет, отнюдь.
– Вы воруете через компьютерные системы?
– Как придется, – скривился он. – Я по-всякому ворую. Ничто не оскорбляет моего достоинства. Но десять миллионов долларов украсть никак не получится. Иначе меня бы здесь не было. Я не так умен. Я дважды попадался. Я сидел в тюрьме. Вот где я отточил мастерство передвижения вне тела, поскольку других возможностей вырваться на свободу не было. – Он устало улыбнулся – горько и саркастически.
– Зачем вы мне все это рассказываете?
– Потому что ваш друг Дэвид Тальбот все равно вам расскажет. И я думаю, что мы понимаем друг друга. Мне надоело рисковать. Неплохая ставка – ваше тело плюс десять миллионов долларов, когда я его верну.
– Да что с вами такое? – спросил я. – Это так мелочно, так приземленно!
– Десять миллионов долларов – приземленно?
– Да. Вы сменили старое тело на новое. Вы обрели молодость! А следующим шагом, если я соглашусь, будет мое тело, моя сила. Но вас волнуют деньги. Просто деньги, больше ничего.
– И то, и другое! – с вызовом ответил он. – Здесь много общего. – Усилием воли он восстановил самообладание. – Вам не понять, ведь вы одновременно приобрели силу и деньги. Бессмертие и огромный сундук, полный золота и драгоценностей. Разве нет? Вы вышли из башни Магнуса бессмертным и с королевским состоянием. Или это ложь? Вы вполне реальны. Но как насчет того, что написано в ваших книгах? И все-таки вы должны понять, о чем я говорю. Ведь вы и сами – вор.
Я почувствовал непреодолимый прилив ярости. Внезапно он показался мне еще омерзительнее, чем в первые минуты нашей встречи, когда его трясло от волнения.
– Я не вор, – тихо сказал я.
– Нет, вор, – ответил он с удивительной симпатией. – Вы всегда обворовываете свои жертвы. Разве нет?
– Нет, никогда, если только… необходимость не вынуждает.
– Как вам угодно. Я же считаю вас вором. – Он наклонился вперед, глаза его заблестели, и снова полилась успокаивающая, размеренная речь: – Вы воруете кровь, которую пьете, с этим не поспоришь.
– Что на самом деле произошло между вами и Таламаской? – спросил я.
– Я же сказал, – ответил он. – Меня вышвырнули. Обвинили в том, что я применяю свои таланты для приобретения информации с целью личного использования. Меня обвинили в обмане. И, естественно, в воровстве. Недальновидные они глупцы, ваши друзья из Таламаски. Они меня недооценили. А стоило бы. Им следовало досконально исследовать меня и умолять поделиться с ними всем, что я знаю.
Но вместо этого меня выгнали. Выходное пособие за полгода. Жалкие гроши. Они отказали мне даже в последней просьбе… билет первого класса на теплоход «Королева Елизавета II» – в Америку. Им не составляло труда выполнить мое желание. Они задолжали мне эту малость – ведь я открыл им столько нового. Они обязаны были это сделать. – Он вздохнул, взглянул на меня, потом на свой кофе. – В этом мире такие мелочи имеют большое значение. Огромное значение.
Я не ответил. Я еще раз взглянул на фотографию, на фигуру, стоящую на палубе, но не был уверен, что он это заметил. Он смотрел мимо меня на шумную яркую толпу, невидящим взглядом скользя по стенам, потолку, по лицам людей.
– Я пытался торговаться с ними, – сказал он по-прежнему мягким, размеренным голосом. – Вернуть несколько вещей, ответить на несколько вопросов – ну, вы понимаете… Но они и слышать ничего не желали! Деньги для них – ерунда, совсем как для вас. У них недостало ума хотя бы обсудить подобные вещи. Мне выдали билет на самолет туристического класса и чек на сумму, равную шестимесячному жалованью. Шестимесячное жалованье! Ох, как же я устал от мелких превратностей судьбы!
– С чего вы взяли, что сможете их перехитрить?
– Я и перехитрил, – ответил он, блеснув глазами. – Они не очень-то аккуратно следят за своими вещами. Они и понятия не имеют, сколько я позаимствовал у них сокровищ. Им в жизни не догадаться. Конечно, настоящей кражей были вы – тайна вашего существования. Настоящая светлая полоса наступила, когда я наткнулся на подвал, полный реликвий. Поймите, я не стал брать ничего из ваших вещей – ни прогнившую одежду из ваших шкафов в Новом Орлеане, ни рукописи, написанные вашим замысловатым почерком, – надо же, там был даже медальон с миниатюрой этого проклятого ребенка…
– Попридержи язык, – прошептал я.
Он замолчал.
– Простите. Я не хотел вас обидеть, правда.
– Что за медальон? – спросил я. Слышал ли он, как сильно забилось мое сердце? Я пытался успокоить его, не дать теплу подступить к моему лицу.
Он ответил со смиренным видом:
– Золотой медальон на цепочке, внутри – маленькая овальная миниатюра. О, я его не крал. Клянусь. Я оставил его на месте. Спросите своего друга Дэвида Тальбота. Медальон по-прежнему в подземелье.
Я ждал, приказав сердцу утихомириться и запретив голове думать об этом медальоне.
– Суть в том, что Таламаска поймала вас с поличным, и вас выставили.
– Не обязательно продолжать оскорбления, – кротко ответил он. – У нас есть все основания и возможности для заключения сделки без лишнего обмена колкостями. Мне очень жаль, что я заговорил об этом медальоне, я не…
– Мне нужно обдумать ваше предложение, – резко прервал я его излияния.
– Возможно, вы допускаете ошибку.
– Почему?
– Рискните! Действуйте быстро. Решайтесь без промедления. И пожалуйста, не забывайте, что, причинив мне вред, вы навсегда распрощаетесь с подобной возможностью. Я – ваш единственный ключ к таким ощущениям; либо вы им воспользуетесь, либо никогда больше не узнаете, каково это – быть человеком. – Он наклонился ко мне, так близко, что я щекой чувствовал его дыхание. – Вы никогда не узнаете, что значит – выходить на солнце, насладиться настоящим обедом, заниматься любовью с женщиной или мужчиной.
– Я требую, чтобы вы немедленно уехали. Убирайтесь из этого города и больше не возвращайтесь. Я приеду в Джорджтаун, по этому адресу, когда буду готов. Да, еще – о неделе и речи быть не может. Во всяком случае, с первого раза. Пусть будет…
– Как насчет двух дней?
Я не ответил.
– Что, если начать с одного дня? – спросил он. – Если вам понравится, мы договоримся о более длительном сроке.
– Один день, – сказал я незнакомым голосом. – Двадцать четыре часа… на первый раз.
– Один день и две ночи, – тихо сказал он. – Я бы предложил в среду, после заката солнца, когда вам будет удобно. Второй обмен состоится в ночь на пятницу, перед рассветом.
Я молчал.
– На приготовления у вас остается сегодняшний вечер и завтрашний, – льстиво добавил он. – После обмена у вас будет вся ночь в среду, полный четверг. Конечно, вам достанется и ночь четверга до того момента, как… Скажем, за два часа до рассвета в пятницу? Это должно быть приемлемо. – Он напряженно смотрел на меня, а потом разволновался. – Да, и захватите какой-нибудь паспорт. Все равно какой. Но мне понадобятся паспорт, кредитная карточка и наличные деньги – это сверх десяти миллионов. Понятно?
Я ничего не сказал.
– Вы же понимаете, что все получится.
Я не отвечал.
– Поверьте, я рассказал вам чистую правду. Спросите Тальбота. Я не с самого рождения такой красавчик. И тело это вас ждет не дождется прямо сию минуту.
Я молчал.
– Приходите ко мне в среду. Вы не пожалеете. – Он сделал паузу и заговорил еще более вкрадчиво: – Послушайте, у меня такое ощущение… будто я вас знаю. Он перешел на шепот. – Я знаю, что вам нужно! Как же ужасно – хотеть чего-то и не получить! Да… Но знайте: вы все получите, стоит только руку протянуть.
Я медленно заглянул в его глаза. Красивое лицо хранило спокойствие, в нем не было ни тени выразительности, но пристально смотревшие глаза казались удивительно хрупкими. Кожа мягкая, наверное, атласная на ощупь. И тут раздался голос, обольстительный полушепот, тронутый грустью.
– Это можем сделать только мы с вами, – произнес он. – В своем роде это чудо, недоступное никому, кроме нас.
Внезапно спокойная красота его лица показалась мне ужасающей; чудовищным был и приятный тембр голоса, и его слова, исполненные симпатии, привязанности и даже любви.
У меня появилось желание схватить его за горло и трясти, пока не вытрясу всю сдержанность и подобие глубоких чувств, но на самом деле я и мечтать об этом не мог. Его глаза и голос завораживали меня. Я поддался их гипнотическому воздействию точно так же, как прежде поддавался физическим ощущениям, вызванным его вторжением. И мне пришло в голову, что я позволил этому случиться только потому, что он выглядел таким хрупким и глупым, а я был уверен в собственной силе.
Но это была ложь. То, что он предложил, было мне нужно! Я хотел совершить обмен!
Лишь через какое-то время он отвел глаза и огляделся. Ждал ли он благоприятного момента? Что происходило в его хитрой и тщательно скрытой от окружающих душе? Душе того, кто умел воровать тела! Того, кто способен существовать в чужой плоти.
Он медленно достал из кармана ручку, оторвал клочок от бумажной салфетки и записал на нем имя и адрес банка. Потом передал клочок мне. Я молча взял его и сунул в карман.
– Непосредственно перед обменом я отдам вам свой паспорт, – сказал он, постоянно следя за моей реакцией. – С нужным лицом, естественно. В своем доме я обеспечу вам все удобства. Полагаю, у вас будут при себе деньги. Как всегда. Вы будете чувствовать себя вполне уютно. Вам понравится Джорджтаун. – Каждым своим словом он как будто похлопывал меня по руке мягкими подушечками пальцев – ощущение было противным, но в то же время вызывало смутное волнение. – Вполне цивилизованный, старый город. Там, конечно, сейчас полно снега. Вы же понимаете. И очень холодно. Если у вас есть серьезные возражения против холодного климата…
– Пусть будет снег, – сквозь зубы сказал я.
– Да, конечно. Что ж, я позабочусь о том, чтобы вам хватило теплой одежды, – умиротворяюще заключил он.
– Все эти детали не имеют значения, – проговорил я. Неужели этот идиот придает значение подобным вещам?! Я чувствовал, как бешено колотится мое сердце.
– А вот в этом я совсем не уверен, – ответил он. – Обретя человеческое тело, вы, может быть, многое сочтете важным.
«Для тебя, – подумал я. – Мне же важно оказаться в этом теле, стать живым». Я мысленно увидел снег той последней зимы в Оверни. Увидел залитые солнцем горы… Увидел маленького священника из деревенской церкви, дрожащего в большом зале, – он пришел с жалобой на ночные набеги волков. Конечно, я должен был выследить волков. Это была моя обязанность.
Мне было наплевать, читает он мои мысли или нет.
– Да, но разве вам не хочется отведать вкусной пищи? Выпить хорошего вина? А как же женщина – или мужчина, если на то пошло? Конечно, вам понадобятся деньги и все удобства.
Я не ответил. Я увидел отблеск солнца на снегу. Я медленно перевел глаза на его лицо. Я подумал, каким на удивление любезным он стал, пытаясь убедить меня окончательно, – совсем как Дэвид.
Он было собрался продолжить свои разглагольствования о тех прелестях жизни, которые ждут меня впереди, но я знаком приказал ему замолчать.
– Ладно, – сказал я. – Думаю, мы увидимся в среду. Скажем, через час после наступления темноты. Да, должен вас предупредить. Что касается десяти миллионов долларов… Вы сможете получить их только в течение двух часов утром в пятницу. Вам придется прийти за ними лично. – Я легко коснулся его плеча. – Вот в этом теле, естественно.
– Естественно. Буду ждать с нетерпением.
– Для завершения сделки вам потребуется кодовое слово. А узнаете вы его только тогда, когда вернете мое тело, как договаривались.
– Нет. Никаких кодовых слов. Передача денежных средств должна быть завершена без права отзыва сделки до закрытия банка в среду. В пятницу мне придется всего лишь появиться перед представителем, позволить ему снять отпечаток пальца, и тогда он передаст мне деньги.
Я молчал, обдумывая его требование.
– Кто знает, мой прекрасный друг, – добавил он, – а вдруг вам не понравится день, проведенный в человеческом теле? Вдруг вам покажется, что он не стоил этих денег?
– Не покажется, – прошептал я скорее себе, чем ему.
– Нет, – ответил он терпеливо, но настойчиво. – Никаких кодовых слов.
Он улыбнулся и в тот момент показался мне почти невинным и истинно молодым. Господи, не может он не ценить эту энергию молодости. Неужели она не ослепила его – хотя бы ненадолго? Должно быть, поначалу он считал, что добился всего, о чем мог мечтать.
– Отнюдь! – словно не удержавшись, внезапно воскликнул он.
Я невольно рассмеялся.
– Рассказать вам один секрет про молодость? – с неожиданной холодностью в голосе спросил он. – Помните, Бернард Шоу остроумно сказал, что она растрачена на молодых?
– Да.
– Так вот, это неправда. Молодые знают, как сложна и ужасна бывает молодость. Они растрачивают ее на других – вот в чем весь ужас. Молодые не пользуются ни авторитетом, ни уважением.
– Сумасшедший, – сказал я. – Мне кажется, вы не слишком умело пользуетесь награбленным добром. Неужели вас не волнует сама жизненная сила? Вы не купаетесь в красоте, отражение которой видите в глазах окружающих?
Он покачал головой.
– Это развлечение для вас. Тело, которое я вам предлагаю, молодо, и вы всегда были молоды. Пусть его жизненная сила, как вы выразились, приводит в волнение вас. Купайтесь в любящих взглядах. – Он умолк, сделал последний глоток и уставился на дно чашки.
– Никаких кодовых слов, – вежливо повторил он.
– Хорошо.
– Ну и отлично! – Лицо его озарилось теплой, потрясающе светлой улыбкой. – Помните, я предложил вам за эти деньги целую неделю. Вы сами решили взять один день. Может быть, попробовав, вы захотите еще.
– Может быть, – сказал я. Меня снова взбесил его вид, его большая теплая рука, на которую он надел перчатку.
– Второй обмен выльется вам в еще одну кругленькую сумму, – весело добавил он, источая улыбки и поправляя шарф.
– Да, конечно.
– Деньги действительно для вас ничего не значат? – задумчиво спросил он.
– Абсолютно ничего. «Твоя трагедия в том, – подумал я, – что для тебя они значат слишком много».
– Ну, тогда, наверное, мне лучше уйти и дать вам возможность заняться приготовлениями. Увидимся в среду, как договорились.
– И не пытайтесь от меня сбежать, – тихо произнес я, слегка наклоняясь вперед и дотрагиваясь рукой до его лица.
Этот жест испугал его – он застыл, словно дикий зверь, внезапно почувствовавший приближение опасности. Но лицо его по-прежнему сохраняло невозмутимое выражение, и я крепче прижал пальцы к его гладко выбритой щеке.
Я медленно провел рукой по твердой скуле и положил ладонь ему на шею. Здесь тоже поработала бритва, оставив после себя едва заметную тень; кожа оказалась плотной, на удивление мускулистой, и я уловил чистый запах молодости, увидел капельки пота на лбу и губы, тронутые удивительно приятной улыбкой.
– Признайтесь, вам все-таки понравилось быть молодым, ну хоть немного? – едва слышно произнес я.
Он улыбнулся, словно знал, какой светлой и соблазнительной бывает его улыбка.
– Мне снятся сны молодых, – сказал он. – А молодым всегда снятся сны о том, как они станут старше, богаче, мудрее, сильнее. Вы не согласны?
Я усмехнулся.
– Я буду ждать вас вечером в среду, – заверил он меня с прежней медоточивой искренностью. – Не сомневайтесь. Приходите. Все получится, обещаю вам. – Он наклонился и уже шепотом добавил: – Вы попадете в это тело! – Он еще раз очаровательно улыбнулся. – Вот увидите.
– Я хочу, чтобы вы немедленно уехали из Нового Орлеана.
– О да, непременно, – ответил он. И без лишних слов встал, отодвинулся от меня и попытался скрыть внезапный приступ страха. – У меня уже есть билет. Не нравится мне ваша мерзкая карибская заводь. – Легкий самообвиняющий смешок, почти красивый смех. Потом он продолжил, как мудрый учитель, выговаривающий студенту: – Поговорим, когда вы приедете в Джорджтаун. А пока что не пытайтесь за мной шпионить. Я все равно узнаю. Я прекрасно чувствую такие вещи. Даже Таламаска изумлялась моим способностям. Им следовало меня оставить! Им стоило изучить меня! – Он замолчал.
– Я все равно буду шпионить, – ответил я так же тихо и рассудительно. – Мне все равно, узнаете вы или нет.
Он опять засмеялся, негромко и сдержанно, слегка кивнул и поспешил к выходу, вновь превратившись в неловкое, нескладное существо, исполненное безумного возбуждения. Какая трагедия – с другой душой это тело могло бы двигаться с грациозностью пантеры.
Я догнал его на тротуаре, внезапностью своего появления перепугав его до самой глубины этой могущественной экстрасенсорной душонки. Мы стояли лицом к лицу.
– Что вы собираетесь делать с моим телом? – спросил я. – Я имею в виду, кроме того, чтобы каждое утро прятаться от солнца, словно ночное насекомое или гигантский слизняк?
– А вы как думали? – спросил он, снова превращаясь в обаятельного и искреннего английского джентльмена. – Я хочу пить кровь. – Его глаза расширились, он приблизился ко мне вплотную. – Я хочу убивать при этом. Ведь в этом суть, не правда ли? Вы крадете не только кровь, вы крадете жизни. Я еще никогда ни у кого не крал подобных ценностей. – Он улыбнулся знающей улыбкой. – Тело – да, но не кровь… и не жизнь.
Я отпустил его, попятившись так же резко, как он только что отпрянул от меня, и уставился на его молодое красивое лицо. Сердце мое застучало, по телу пробежала дрожь.
Он продолжал улыбаться.
– Из вас вышел превосходный вор. Каждый глоток воздуха – краденый! О да, я непременно должен хоть недолго побыть в вашем теле. Неповторимые ощущения. Заглянуть в документы о вампирах в Таламаске – уже настоящий триумф. Но завладеть вашим телом и пить кровь!.. Ах, такого успеха я еще никогда не добивался! Вы – непревзойденный вор.
– Убирайся, – прошептал я.
– Ох, да ладно вам, хватит привередничать. Вы терпеть не можете, когда другие себя так ведут. Вам очень повезло, месье де Лионкур. Вы нашли того, кого искал Диоген. Честного человека! – Еще одна широкая улыбка, как будто он не в силах был ее сдержать. – Увидимся в среду. Только приходите пораньше. Я хочу максимально использовать ожидающую меня ночь.
Он повернулся и бросился от меня по улице, лихорадочно подзывая рукой такси, пробиваясь через транспортный поток, чтобы добраться до машины, явно остановившейся по чужому сигналу. Последовал небольшой спор, но он быстро его выиграл, хлопнув дверью перед самым носом у какого-то парня. Машина умчалась прочь. Я увидел, как он подмигнул мне через грязное стекло и помахал. И исчез.
Мне было дурно от замешательства. Я не мог сдвинуться с места. Несмотря на холод, ночная жизнь вокруг кипела: отовсюду доносились голоса прогуливающихся туристов, рокот машин, замедляющих ход при подъезде к площади. Сам того не желая, я пытался представить, как выглядит все это при солнечном свете, пытался вообразить, что небо над площадью стало вдруг поразительно голубого цвета.
Потом я медленно поднял воротник пальто.
Я долго бродил по городу, и в ушах у меня постоянно звучал красивый интеллигентный голос:
«Вы крадете не только кровь, вы крадете жизни. Я еще никогда ни у кого не крал подобных ценностей. Тело – да, но не кровь… и не жизнь».
Я не осмелился бы посмотреть сейчас в глаза Луи. Я и помыслить не мог о том, чтобы поговорить с Дэвидом. А если Мариус узнает об этом, все кончится, еще не начавшись. Кто знает, что сделает со мной Мариус просто за то, что мне пришла в голову такая идея? И все-таки Мариус, с его-то богатым опытом, знает, правда это или фантазия! О боги, неужели Мариусу самому никогда этого не хотелось?
В конце концов я вернулся в свою квартиру, выключил свет и повалился на мягкий бархат софы. За стеклянной стеной царила тьма, а далеко внизу мерцали огни города.
«И пожалуйста, не забывайте, что, причинив мне вред, вы навсегда распрощаетесь с подобной возможностью. Я – ваш единственный ключ… либо вы им воспользуетесь, либо никогда больше не узнаете, каково это – быть человеком. Вы никогда не узнаете, что значит – выходить на солнце, насладиться настоящим обедом, заниматься любовью с женщиной или мужчиной».
Я подумал о силе, позволяющей возноситься над собственной материальной оболочкой. Мне это не нравилось; полет духа, так называемая астральная проекция, никогда не начинался у меня добровольно. На самом деле я так редко пользовался этой способностью, что мог бы по пальцам пересчитать все случаи.
За все время моих мучений в пустыне Гоби я ни разу не попытался покинуть материальную оболочку, более того – я даже не подумал о такой возможности.
Сама мысль о том, чтобы расстаться со своим телом – летать в воздухе, над землей, не в состоянии найти дверь ни в ад, ни в рай, – казалась мне полным кошмаром. И в ходе самого первого эксперимента мне стало ясно, что такая блуждающая бестелесная душа не сможет войти во врата смерти. Но попасть в тело смертного! Закрепиться там, ходить, чувствовать, видеть как смертный. Да, возбуждению моему не было предела. Оно превращалось в настоящую пытку.
«После обмена у вас будет вся ночь в среду, полный четверг…» Полный четверг… целый день…
Незадолго до рассвета я позвонил своему агенту в Нью-Йорке. Этот человек и не подозревал о существовании моего парижского поверенного. Он знал меня всего под двумя именами. Ни одно из них я не использовал уже много месяцев. Вряд ли Раглану Джеймсу были известны эти личности, равно как и те средства, которыми они располагают. Казалось, это самый простой путь.
– У меня к вам дело, очень непростое дело. Безотлагательное.
– Да, сэр, к вашим услугам, сэр.
– Хорошо, вот вам имя и адрес банка в округе Колумбия. Записывайте…
Глава 9
На следующей вечер я заполнил все бумаги, необходимые для банковского перевода десяти миллионов американских долларов, и отослал эти бумаги с курьером в Вашингтон, приложив к ним удостоверение личности мистера Раглана Джеймса и полное повторение инструкций в письменном виде, снабженное подписью Лестана Грегора, – это имя по различным причинам казалось наиболее подходящим в данной ситуации.
Мой агент в Нью-Йорке, как я уже говорил, знал меня и под другим псевдонимом, и мы договорились, что второе имя ни в коем случае не будет фигурировать в сделке, а в случае, если мне вдруг понадобится с ним связаться, это второе имя плюс пара новых кодовых слов предоставят ему полномочия действовать согласно устным указаниям.
Что касается имени Лестана Грегора, оно должно было окончательно исчезнуть после передачи десяти миллионов мистеру Джеймсу. Все оставшиеся активы мистера Грегора переводились на мое второе имя – кстати, если интересно, имя это было Стэнфорд Уайльд.
Все мои агенты привыкли к необычным инструкциям – передача фондов, исчезновение отдельных лиц и полномочия, позволяющие им пересылать мне деньги в любую точку мира на основании телефонного звонка. Но я ужесточил систему. Я использовал странные, трудно произносимые кодовые слова. Короче говоря, сделал все, что мог, чтобы упрочить систему безопасности, окружавшую мои имена, и как можно точнее определить условия сделки.
С двенадцати часов дня в среду деньги окажутся на трастовом счете в одном из банков Вашингтона, откуда снять их сможет только мистер Раглан Джеймс, причем исключительно между десятью и двенадцатью часами дня в пятницу. Подлинность личности мистера Джеймса должна быть доказана физическим соответствием фотографии, отпечатком пальца и подписью, после чего деньги переведут на его счет. В одну минуту первого вся сделка аннулируется, и деньги уйдут обратно в Нью-Йорк. Мистера Джеймса ознакомят с этими условиями самое позднее в среду днем и заверят, что никакие обстоятельства не помешают завершению сделки, если все условия будут выполнены в точности.
На мой взгляд, все возможные меры безопасности были соблюдены, и в то же время становилось ясно, что я, вопреки мнению мистера Джеймса, не вор. Зная, что он как раз таковым и является, я всесторонне и досконально изучил все аспекты сделки, чтобы случайно не предоставить ему преимущество.
«Но к чему обманывать себя, – подумал я, – что я не пойду на этот эксперимент? Ведь именно это я и намеревался сделать».
Тем временем в моей квартире все звонил и звонил телефон – это Дэвид тщетно пытался связаться со мной. Я продолжал сидеть в темноте, обдумывая ситуацию и не желая отвечать на звонок. В конце концов, взбешенный его бесконечной трелью, я вырвал шнур из розетки.
Я собирался совершить недостойный поступок. Этот паразит, вне всякого сомнения, воспользуется моим телом для совершения самых жестоких и зловещих преступлений. А я не воспротивлюсь им только потому, что хочу побыть человеком! Никто из моих знакомых не одобрил бы этого ни при каких обстоятельствах.
Каждый раз, думая о том, что остальные могут открыть правду – любой из них, – я вздрагивал и выбрасывал эту мысль из головы, молясь, чтобы в этом огромном враждебном мире каждый из них был занят собственными делами.
Насколько приятнее волноваться и с трепетом думать об этом предложении! Конечно, мистер Джеймс был прав в том, что касается денег. Десять миллионов для меня абсолютно ничего не значили. Сквозь века я пронес с собой огромное состояние, постоянно умножая его самыми разными и не всегда благопристойными способами, и теперь сам не знал точных размеров своего богатства.
Но даже осознавая, насколько мир смертных отличен от моего мира, я все же не мог постичь, почему деньги так важны для Джеймса. Мы все-таки занимались вопросами могущественной магии, сверхъестественной силы, потенциально опустошительного духовного испытания и демонических, если не героических, деяний. Но этот подонок мечтал только о деньгах. Несмотря на все его оскорбления, мерзавец ничего, кроме денег, не видел. Может быть, это и к лучшему.
Подумать только, как бы опасен он стал, имей он действительно большие амбиции. Но они были ему чужды.
Мне нужно было попасть в это смертное тело. И точка.
Все остальные доводы могли служить не более чем оправданиями. Именно их поиском я и занимался в течение последующих часов.
Например, действительно ли так уж постыдно отдать свое тело? Змееныш даже человеческим телом пользоваться как следует не умеет. На полчаса за столиком в кафе он превратился в настоящего джентльмена, но стоило ему подняться – и все его движения вновь стали неловкими, неуклюжими. Он никогда не сможет воспользоваться моей физической силой. Да и мои телекинетические способности он не сумеет направить в цель, каким бы великим экстрасенсом он себя ни называл. Телепатией он владеет, но что касается гипноза или наложения чар, то, как я подозревал, он ими вообще не занимался. Я сомневался в его способности достаточно быстро передвигаться. В самом деле, он станет неуклюжим, медлительным, неумелым. Наверное, он не сможет по-настоящему летать. А если попытается, рискует попасть в серьезную переделку.
Да, все будет отлично, он всего лишь жалкий человечек с мелкой душонкой. А это гораздо лучше, чем буйствующий бог. Но я? Что буду делать я?
Дом в Джорджтауне, машина – какая ерунда! Я говорил правду. Я хотел стать живым! Конечно, мне понадобятся деньги на еду и выпивку. Но солнечный свет бесценен. Это ощущение не требует особенного материального комфорта или роскоши. Я хотел испытать физические и духовные ощущения смертного. Я считал себя абсолютной противоположностью жалкому Похитителю Тел!
Но у меня оставались последние сомнения. Что, если десяти миллионов не хватит, чтобы вернуть этого человека вместе с моим телом? Наверное, лучше удвоить сумму. Столь узко мыслящий человек никогда не устоит перед состоянием в двадцать миллионов. Ведь в прошлом способ удвоения суммы, которую люди берут за свои услуги, всегда оказывался эффективным – он требовал от них такой верности, о какой они даже не помышляли.
Я еще раз позвонил в Нью-Йорк: «Удвойте сумму». Естественно, мой агент решил, что я спятил. Для подтверждения сделки мы воспользовались новыми кодовыми словами. Я повесил трубку.
Теперь пора либо поговорить с Дэвидом, либо отправляться в Джорджтаун. Я дал Дэвиду обещание. Я застыл у телефона в ожидании звонка и, как только он раздался, снял трубку.
– Слава Богу, ты здесь.
– Что случилось? – спросил я.
– Я сразу же вспомнил Раглана Джеймса, и ты оказался абсолютно прав. Этот человек находится в чужом теле. Человеку, с которым ты имеешь дело, шестьдесят семь лет. Он родился в Индии, вырос в Лондоне, пять раз сидел в тюрьме. Это знаменитый вор, в Европе он известен каждому блюстителю закона и, как говорят в Америке, осведомителю. При этом он весьма умелый экстрасенс и черный маг – мы редко сталкивались с таким мастерством.
– Так он и говорил. Он сумел попасть в орден.
– Да, сумел. Одна из наших самых больших ошибок. Поверь, Лестат, этот человек соблазнит Святую Деву и украдет карманные часы у Бога во плоти. Но через несколько месяцев он сам все испортил. Это самое главное. Теперь послушай, пожалуйста. Подобные черные маги и колдуны всегда навлекают на себя зло! Обладая такими способностями, он мог бы обманывать нас целую вечность; вместо этого он использовал свой дар, чтобы обкрадывать членов ордена и воровать реликвии из подвалов.
– Он мне рассказывал. Меня интересует вопрос обмена телами. Это возможно?
– Опиши внешность этого человека.
Я описал, подчеркнув высокий рост и здоровый вид его физической оболочки. Густые блестящие волосы, необычайно гладкая, атласная кожа. Потрясающая красота.
– Передо мной лежит фотография этого самого человека.
– Я жду объяснений.
– Его ненадолго поместили в лондонскую больницу для невменяемых преступников. Мать – смешанного англо-индийского происхождения, что, вероятно, объясняет его выдающуюся красоту, о которой ты говоришь и которую я сам вижу. Отец – лондонский водитель такси, умер в тюрьме. Сам же он работал в одном из лондонских гаражей и специализировался на очень дорогих машинах. Параллельно торговал наркотиками, чтобы самому иметь возможность покупать такие машины. Как-то ночью он убил всю свою семью – жену, двоих детей, брата жены и мать, – после чего сдался полиции. В его крови была найдена чудовищная смесь наркотиков-галлюциногенов, а также большое количество алкоголя. Те самые наркотики, которые он продавал соседским подросткам.
– Расстройство органов чувств, но с мозгом все в порядке.
– Точно, припадок бешенства, повлекший за собой убийства, был спровоцирован наркотиками – так, во всяком случае, сочли власти. Сам он после случившегося не произнес ни слова. Никакие стимуляторы на него не действовали, однако через три недели после того, как его поместили в больницу, он таинственным образом сбежал, оставив в комнате тело убитого санитара. Угадай, кем оказался этот санитар.
– Джеймсом.
– Да. Посмертное опознание через отпечатки пальцев, подтвержденное Интерполом и Скотланд-Ярдом. Джеймс приступил к работе под вымышленным именем за месяц до убийства и, вне всякого сомнения, ждал, когда прибудет подходящее тело!
– А потом он радостно убил свое собственное. Сукин сын, да он холоден и тверд, как сталь.
– Ну, это было очень больное тело – умирающее от рака, если быть точным. Вскрытие показало, что он не прожил бы и полугода. Лестат, насколько нам известно, ради получения в свое распоряжение приглянувшегося ему молодого тела этот человек мог приложить руку к совершению преступлений. Не укради он это тело, присмотрел бы другое, находящееся в подобном состоянии. Он нанес смертельный удар своему собственному телу, и оно отправилось в могилу, унеся с собой весь список преступлений Джеймса.
– Почему же он назвал мне свое настоящее имя, Дэвид? Почему он рассказал мне, что был в Таламаске?
– Чтобы я подтвердил его историю, Лестат. Он все просчитывает. Ты не представляешь себе, насколько он умен. Он хочет, чтобы ты знал: он умеет все, о чем говорит! И что бывший владелец молодого тела не способен вмешаться.
– Дэвид, кое-что меня все-таки смущает. Душа второго человека. Она что, умерла в старом теле? Почему она не… не выбралась наружу?
– Лестат, бедняга, наверное, вообще не подозревал, что такое возможно. Джеймс сам манипулировал обменом. Послушай, у меня здесь целая папка с показаниями разных членов ордена, утверждающих, что этот тип выталкивал их из физической оболочки и ненадолго заимствовал их тела.
Эти люди описали те же ощущения, о которых говорил ты: вибрация, напряжение… Но в данном случае речь идет об образованных членах ордена Таламаска. Механик из гаража не учился таким вещам.
Все его столкновение с миром сверхъестественного ограничивалось наркотиками. Бог знает, какие мысли у него возникли. И все это время Джеймс имел дело с человеком, находящимся в состоянии тяжелого шока.
– А что, если это какая-то хитрая уловка? – засомневался я. – Опиши мне того Джеймса, которого ты знал.
– Худой, почти тощий, очень живые глаза и густые седые волосы. Довольно симпатичная внешность. Красивый голос, насколько я припоминаю.
– Это он и есть.
– Лестат, записка, присланная тобой из Парижа, не оставляет никаких сомнений. Это почерк Джеймса. Это его подпись. Как ты не понимаешь? Он получил информацию о тебе именно в ордене! Больше всего меня беспокоит то, что он нашел наши записи.
– Он рассказывал.
– Он присоединился к ордену, чтобы получить доступ к подобным тайнам. Он взломал компьютерную систему. Неизвестно, что еще ему удалось выяснить. Однако он не мог устоять перед серебряными часами одного из агентов и бриллиантовым ожерельем из сокровищницы. Он вел себя глупо. Он грабил чужие комнаты. Тебе ни в коем случае нельзя вступать в какие бы то ни было контакты с такой личностью! Об этом и речи быть не может!
– Прекрати, Дэвид, ты рассуждаешь сейчас как Верховный глава ордена.
– Лестат, речь идет об обмене телами! Это означает, что ты предоставишь свое тело и его могущество в распоряжение этого человека.
– Знаю.
– Ты этого не сделаешь! Позволь сделать тебе предложение, которое тебя, возможно, шокирует. Если тебе так нравится убивать, как ты мне говорил, почему бы тебе не убить эту омерзительную личность на месте?
– Дэвид, в тебе говорит задетая гордость. И я действительно шокирован.
– Это не игрушки. У нас нет времени. Ты понимаешь, что у этого человека хватит ума сделать ставку на твой переменчивый характер? Он выбрал тебя точно так же, как выбрал бедного лондонского механика. Он убедился в твоей импульсивности, природном любопытстве и бесстрашии твоего характера. И он может не без оснований предположить, что ты не прислушаешься ни к одному моему слову.
– Очень интересно.
– Говори громче – тебя плохо слышно.
– Что еще ты можешь мне сообщить?
– А что еще тебе нужно?
– Я хочу понять.
– Зачем?
– Дэвид, я понимаю, что речь идет о несчастном одурманенном механике; однако почему его душа не вырвалась из разрушенного раком тела, когда Джеймс нанес ему удар по голове?
– Лестат, ты сам все сказал. Удар по голове. Душа уже сплелась с новым мозгом. Он не оставил ей времени на просветление и проявление собственной воли. Серьезное и неожиданное повреждение тканей мозга даже столь сильного колдуна, как Джеймс, не оставляет душе возможности вырваться, в результате чего следует физическая смерть, отправляющая душу в мир иной. Если ты все же решишь расправиться с этим жалким чудовищем, обязательно застань его врасплох и убедись, что расплющил его черепную коробку, как сырое яйцо.
Я засмеялся.
– Дэвид, я никогда еще не слышал, чтобы ты так злился.
– Потому что я тебя знаю и уверен, что ты совершишь этот обмен, чего делать нельзя!
– Ответь мне еще на несколько вопросов. Я хочу все продумать.
– Нет.
– Околосмертные ощущения, Дэвид. Несчастные души, с которыми случается сердечный приступ, – они проходят сквозь туннель, видят свет, а потом возвращаются к жизни. Что с ними происходит?
– Можно только догадываться.
– Я тебе не верю. – Я постарался воспроизвести рассуждения Джеймса о стволе головного мозга и остаточной душе. – Может быть, в момент пребывания на грани жизни и смерти частица души еще остается в теле?
– Может быть. Или же люди все же умирают и действительно переходят границу, но душа в целости и сохранности отправляется назад. Я не знаю.
– Как бы то ни было, нельзя же умереть просто от того, что покидаешь свое тело. Если в пустыне Гоби я все же поднялся бы над своим телом, то все равно не смог бы найти выход. Его просто не было. Он открывается только для цельной души.
– Да. Насколько мне известно, да. – Он помолчал. – Зачем ты все это спрашиваешь? Все еще мечтаешь умереть? Я в это не верю. Слишком уж отчаянно ты любишь жизнь.
– Я уже двести лет как мертв, Дэвид. А как же призраки? Земные духи?
– Они не смогли найти выход, хотя он был открыт. Или отказались уходить. Послушай, мы можем поговорить об этом в другой раз – бродя по улицам Рио, или в любом другом месте. Самое главное – поклянись мне, что не станешь больше связываться с этим колдуном, если, конечно, не захочешь последовать моему совету и покончить с ним раз и навсегда.
– Что ты так его боишься?
– Лестат, ты должен понять, до какой степени он порочен, какие разрушения за собой оставляет. Нельзя отдавать ему твое тело! А ты именно это и собираешься сделать. Послушай, если бы ты захотел ненадолго завладеть каким-нибудь смертным телом, я всеми силами воспротивился бы этому, потому что это противоестественно, это дьявольские игры. Но отдать твое тело этому безумцу! О боги! Прошу тебя, приезжай в Лондон! Дай мне возможность тебя отговорить. Неужели ты не можешь сделать это ради меня?
– Дэвид, ты провел расследование относительно этого человека до того, как он стал членом ордена, не так ли? Что он за личность? Как он стал колдуном?
– Он ввел нас в заблуждение, предоставив сфабрикованные документы и невероятное число поддельных свидетельств. Он любит такие надувательства. При этом он едва ли не компьютерный гений. Наше настоящее расследование состоялось после его изгнания.
– Ну? С чего все началось?
– Он из богатой семьи, из торговцев. Перед войной они полностью разорились. Мать была известным медиумом, все вполне законно и честно, за свои услуги она брала сущие гроши. Она прославилась на весь Лондон. Я слышал о ней еще до того, как заинтересовался оккультизмом. Таламаска несколько раз объявляла ее настоящим медиумом, но она отказывалась становиться объектом изучения. Она была женщиной хрупкой, горячо любящей своего единственного сына.
– Раглана.
– Да. Она умерла от рака. В ужасных мучениях. Ее единственная дочь стала швеей и до сих пор работает в лондонском магазине для новобрачных. Она глубоко оплакивала своего беспокойного брата, но после его смерти испытала некоторое облегчение. Сегодня утром я с ней беседовал. Она сказала, что смерть матери очень сильно подействовала на брата – он тогда был еще совсем мальчиком.
– Это можно понять.
– Отец всю жизнь проработал для транспортной компании «Канард» и последние годы жизни был стюардом в каютах первого класса на пароходе «Королева Елизавета II». Он очень гордился своим послужным списком. Несколько лет назад благодаря влиянию отца компания наняла и самого Джеймса, но разразился большой скандал, и опозоренный отец остался без работы. Едва приступив к своим обязанностям, Джеймс украл у одного из пассажиров четыреста фунтов наличными. Отец от него отрекся и незадолго до смерти был восстановлен в должности. После той истории он не разговаривал с сыном.
– А, фотография на палубе, – сказал я.
– Что?
– И когда вы его выгнали, он захотел поплыть в Америку на том же самом судне… естественно, первым классом.
– Он так сказал? Возможно. Я не занимался деталями лично.
– Неважно, давай дальше. Как он занялся оккультизмом?
– Он получил прекрасное образование, учился в Оксфорде, хотя иногда чуть ли не нищенствовал. Еще до смерти матери он стал медиумом-любителем. Собственную практику открыл только в пятидесятых годах, в Париже, где вскоре обрел огромное количество последователей, потом начал обдирать своих клиентов всевозможными грубейшими способами и вскоре попал в тюрьму.
Позже примерно то же самое повторилось в Осло. Какое-то время он перебивался случайными заработками, не гнушался и черного, неквалифицированного труда, а потом основал своего рода церковь спиритуализма, лишил одну вдову сбережений всей жизни и был депортирован. Потом – Вена, где он работал официантом в первоклассном отеле, пока через несколько недель не устроился консультантом-эсктрасенсом для богатых клиентов. Вскоре поспешно уехал. С трудом избежал ареста. В Милане, перед тем как его разоблачили, он выманил крупную сумму у представителя старинной аристократии, пришлось среди ночи бежать из города. Следующая остановка – Берлин, где он был арестован, но уговорил отпустить его на поруки, затем вернулся в Лондон и там снова сел в тюрьму.
– Превратности судьбы, – припомнил я его слова.
– У него всегда повторяется одна и та же схема. Поднимается от выполнения самой черной работы до экстравагантной роскоши, оплачивает невероятные счета за дорогую одежду, автомобили, авиаперелеты, а потом все рушится из-за его мелких преступлений, вероломства и предательства. Ему этот цикл не разорвать. Он всегда оказывается на дне.
– Похоже на то.
– Лестат, в этом человеке живет какая-то непреодолимая глупость. Он говорит на восьми языках, может вторгнуться в любую компьютерную систему и завладеть чужим телом, чтобы получить доступ к сейфу его владельца – он почти эротически одержим стенными сейфами! – и при этом он проделывает глупейшие фокусы и в результате все заканчивается наручниками! Предметы, которые он выкрал из наших подвалов, было практически невозможно продать. В конце концов он сбыл их на черном рынке за ничтожные гроши. По-своему он архиглуп.
Я тихо рассмеялся.
– Кражи – вещь символическая, Дэвид. Это мания. Это игра. Поэтому он не может сохранить то, что наворовал. Больше всего его волнует сам процесс.
– Но, Лестат, эта игра ведет к бесконечным разрушениям.
– Понятно, Дэвид. Спасибо за информацию. Я скоро позвоню.
– Подожди минуту, не смей вешать трубку, я тебе не разрешаю, разве ты не сознаешь…
– Разумеется, сознаю, Дэвид.
– Лестат, в мире оккультизма в ходу одна поговорка: «Что посеешь, то и пожнешь». Знаешь, что она означает?
– Что я знаю об оккультизме, Дэвид? Это твоя территория, не моя.
– Сейчас не время для сарказма.
– Прости. Что она означает?
– Если маг использует свою силу для достижения мелких эгоистичных целей, магия оборачивается против него.
– Сплошные предрассудки!
– Это принцип не менее древний, чем сама магия.
– Он не волшебник, Дэвид, он просто человек с определенными экстрасенсорными способностями, которые имеют пределы и поддаются измерению. Он умеет вселяться в других людей. В одном известном нам случае он совершил настоящую замену.
– Это одно и то же! Используй свои силы во вред другим, и причинишь вред самому себе.
– Дэвид, я – прекрасное доказательство того, что твоя концепция неверна. Сейчас ты примешься объяснять мне, что такое карма, и я постепенно засну.
– Джеймс – это воплощение образа злого колдуна! Он уже один раз победил смерть за счет другого человека; его нужно остановить.
– Почему же ты не пытался остановить меня, Дэвид? Ведь у тебя была такая возможность. В Тальбот-мэнор я был в твоих руках. Можно было найти способ.
– Не отталкивай меня своими обвинениями!
– Дэвид, я тебя люблю. Я скоро с тобой свяжусь. – Я чуть было не положил трубку, но спохватился: – Дэвид! Я хочу знать еще кое-что.
– Да, что? – Какое облегчение в голосе от того, что я не прервал связь!
– У вас в подвалах есть разные реликвии – наши старые вещи.
– Да. – Беспокойство. Кажется, он почувствовал себя неловко.
– Медальон. Медальон с изображением Клодии. Он тебе не попадался на глаза?
– Кажется, попадался. Когда ты впервые пришел ко мне, я произвел инвентаризацию. По-моему, медальон там был. На самом деле я почти уверен, что видел его. Нужно было сказать раньше, да?
– Нет. Неважно. Это был медальон на цепочке, какие носят женщины?
– Да. Хочешь, я поищу его? Если найду, то, конечно, отдам тебе.
– Нет, пока не стоит. Может быть, потом. До свидания, Дэвид. Я скоро к тебе зайду.
Я повесил трубку и вынул телефонную вилку из розетки. Значит, медальон все-таки был, женский медальон. Но для кого его сделали? И почему он мне снится? Клодия не стала бы носить в медальоне свой собственный портрет. Иначе я бы вспомнил. Пытаясь визуально представить его себе, вспомнить, как он выглядел, я медленно исполнялся печалью и ужасом – необычное сочетание. Казалось, я нахожусь неподалеку от какого-то темного места – места, где царит настоящая смерть. Как часто случается в моих воспоминаниях, я услышал смех. Только на сей раз смеялась не Клодия. Смеялся я. У меня появилось ощущение сверхъестественной юности и бесконечных возможностей. Другими словами, я вспоминал молодого вампира, каким был в старину, в восемнадцатом веке, пока время еще не нанесло свои удары.
Так какого черта мне беспокоиться из-за проклятого медальона? Может быть, я позаимствовал этот образ из мыслей Джеймса, когда он меня преследовал? Очередная приманка. Дело в том, что медальона этого я никогда не видел. Лучше бы он нашел какую-нибудь другую безделушку – из вещей, принадлежавших мне.
Нет, последнее объяснение никуда не годится. Слишком уж живым был образ. И я видел его в снах еще до того, как Джеймс начал меня преследовать. Внезапно я разозлился. Мне нужно подумать и о другом! «Изыди, Клодия. Забирай свой медальон, прошу тебя, ma chéri, – и уходи».
Я долго просидел среди теней, прислушиваясь к тиканью часов на каминной доске и к шуму машин, то и дело доносившемуся с улицы.
Я пытался проанализировать все, что сказал мне Дэвид. Пытался. Но мог думать только об одном… Значит, Джеймс это умеет, действительно умеет! Он и есть седовласый человек на фотографии, и он поменялся телами с механиком в лондонской больнице. Это реально!
Иногда я мысленно видел медальон – искусно написанную маслом миниатюру Клодии. Никаких эмоций – ни грусти, ни злости, ни скорби.
Только мысли о Джеймсе заставляли бешено биться мое сердце. Джеймс умеет! Джеймс не лжет. Я смогу жить и дышать, находясь в том теле! И когда утром над Джорджтауном взойдет солнце, я увижу его своими глазами.
Я был в Джорджтауне в час ночи. Весь вечер валил густой снег, покрывая улицы глубокими белыми сугробами, чистыми и прекрасными; он собирался в кучи у дверей, на витиеватых чугунных перилах и глубоких подоконниках.
Сам городок оказался безупречно чистым и просто очаровательным: изящные здания, в основном деревянные; их архитектура сохраняла стиль восемнадцатого века с его пристрастием к порядку и симметрии, хотя многие дома относились к началу девятнадцатого столетия. Я побродил по пустынной Эм-стрит среди разнообразных торговых заведений, прошелся по тихому кампусу близлежащего университета, а потом по весело освещенным улицам на холме.
Дом Раглана Джеймса – весьма красивое здание из красного кирпича – фасадом выходил прямо на улицу. Очень симпатичный центральный вход, а возле него – огромный латунный дверной молоток, освещенный двумя газовыми фонарями. Окна украшали старомодные тяжелые ставни, а над дверью располагалось небольшое веерообразное окно.
Несмотря на снегопад, окна оказались чистыми, и я смог разглядеть ярко освещенные, аккуратно убранные комнаты. Элегантный интерьер – опрятная белая кожаная мебель, по-современному строгая и явно дорогая. На стенах – многочисленные картины: Пикассо, де Кунинг, Джаспер Джонс, Энди Уорхол; а среди этих полотен, каждое из которых тянуло на несколько миллионов долларов, – несколько больших фотографий современных пароходов в дорогих рамах. В холле первого этажа в стеклянных витринах стояли модели больших океанских лайнеров. Покрытый лаком пол блестел. Повсюду разбросаны восточные коврики с геометрическими узорами, расставлены симпатичные стеклянные столики с орнаментом и инкрустированные тиковые шкафчики – почти все китайское.
Претенциозный, модный, дорогой и в высшей степени своеобразный дом. Для меня он был, как все жилища смертных, – ряд необитаемых сценических декораций. Невозможно поверить, что я смогу стать смертным и принадлежать к тому же миру, что и этот дом, – хотя бы на час.
Эти небольшие комнаты и в самом деле были так вылизаны, что казалось невероятным, будто здесь вообще живут люди. В кухне сияли медные горшки и черные бытовые приборы, шкафчики, на дверцах которых не было ручек, и ярко-красные керамические тарелки.
Несмотря на поздний час, Джеймса нигде не видно.
Я вошел в дом.
На втором этаже располагалась спальня с низкой современной кроватью – простая деревянная рама с матрасом, а поверх – стеганое покрывало с ярким геометрическим рисунком и несколько белых подушек, строгих и элегантных, как и все остальное. Шкаф был набит дорогой одеждой, равно как и ящики китайского бюро и маленький резной сундук у кровати.
В остальных комнатах пусто, но везде чистота и порядок. Компьютеров я тоже не увидел. Несомненно, он держал их в другом месте.
В одной из этих комнат я спрятал приличную сумму денег, чтобы воспользоваться ими попозже, – засунул их в трубу незажженного камина.
Обычные меры предосторожности. Я действительно не представлял себе, что значит быть человеком. Может, я окажусь совершенно беспомощным. Я просто не знал.
Завершив приготовления, я поднялся на крышу. И у подножия холма увидел Джеймса – он сворачивал с Эм-стрит с кучей пакетов в руках. Он явно украл все это, потому что в столь глухие предрассветные часы за покупками не ходят. Он начал подниматься на гору, и я потерял его из виду.
Но тут появился еще один странный гость, и ни одно смертное ухо не услышало бы его шагов. Это была огромная собака, словно материализовавшаяся из воздуха, – она прошла по переулку и направилась на задний двор.
По запаху я чувствовал ее приближение, однако саму собаку не видел, пока не перешел на ту сторону крыши, что выходила на задний двор. Я ожидал вот-вот услышать ее рычание и лай, потому что она, естественно, меня почует, инстинктивно поймет, что я не человек, и поднимет тревогу.
За двести лет меня облаяло достаточно собак, но это бывает не всегда. Иногда мне удается ввести их в транс и заставить слушаться. Но я побаивался этого инстинктивного отторжения, всегда вызывавшего боль в сердце.
Собака не загавкала и ничем не дала понять, что вообще меня заметила. Она напряженно смотрела на черный ход дома и на масляно-желтые квадраты света, падавшие из окошка в двери на глубокий снег.
У меня появилась хорошая возможность внимательно ее рассмотреть, и, должен признаться, я очень редко встречал таких красивых собак.
Густая блестящая шерсть прекрасного золотистого цвета, местами – серая, на спине смешавшаяся с черной и более длинной. Внешне она походила на волка, но для волка была слишком велика и лишена свойственных этому хищнику хитрости и лицемерия. Напротив, она сидела и смотрела на дверь с истинно королевским видом.
При ближайшем рассмотрении я сделал вывод, что больше всего она похожа на гигантскую немецкую овчарку – особенно характерной для этой породы черной мордой и настороженным поведением.
Когда я приблизился к краю крыши, она наконец взглянула на меня, и острый ум, светившийся в темных миндалевидных глазах, вызвал в моей душе смутное волнение.
Но она не залаяла, не зарычала. Казалось, она все понимает, почти как человек. Но чем объяснить ее молчание? Я ничего не делал – не вводил ее в транс, не приманивал, не воздействовал на мозг. И тем не менее никакой инстинктивной неприязни с ее стороны я не ощущал.
Я спрыгнул в снег рядом с собакой, но она просто продолжала смотреть на меня своими сверхъестественно выразительными глазами. И была такой огромной, спокойной и уверенной в себе, что я засмеялся в душе от восхищения. Я не смог удержаться от искушения протянуть руку и потрогать мягкую шерсть между ушами.
Она склонила голову набок, не сводя с меня глаз, что я нашел очень обаятельным, а потом, к моему вящему изумлению, подняла громадную лапу и погладила мое пальто. У нее была тяжелая кость, и я вспомнил о моих старых мастиффах. Все ее движения были исполнены медленной, тяжеловесной грации. Восхищенный ее силой и размерами, я протянул руки, чтобы обнять собаку, а она встала на задние лапы, положила огромные передние лапы мне на плечи и лизнула в лицо длинным ветчинно-розовым языком.
Это привело меня в состояние удивительного счастья, я был близок к тому, чтобы расплакаться или легкомысленно расхохотаться. Я уткнулся в нее носом, обнял ее, погладил, наслаждаясь чистым мохнатым запахом, расцеловал черную морду и посмотрел прямо в глаза.
Так вот что увидела Красная Шапочка, подумал я, когда смотрела на волка в бабушкином чепце и халате. Ужасно смешная проницательная темная морда.
– Ну что, разве ты не понимаешь, кто я такой? – спросил я. И когда она, опустившись на снег, уселась в прежней величественной позе и посмотрела на меня почти покорным взглядом, меня осенило: эта собака – знамение.
Нет, «знамение» – не то слово. Этот дар мне никто не дарил. Появление собаки просто вселило в меня уверенность относительно моих намерений и их причины, дало понять, насколько мало меня волнуют сопутствующие риски.
Время шло, а я продлжал стоять рядом с собакой, похлопывая ее, поглаживая… Сад был маленький, опять повалил густой снег, и холодная боль в моей коже усилилась. Голые черные деревья, безмолвная метель. Если здесь и росли цветы или трава, то их, конечно, не было видно; однако несколько потемневших цементных садовых статуй и острые прутья густых кустов, запорошенные снегом, образовывали отчетливый прямоугольник.
Должно быть, мы с собакой пробыли там минуты три, когда я нащупал круглый серебряный диск, болтавшийся на ошейнике-цепочке, поднял его и вынес на свет.
Моджо. А, я знал это слово. Моджо. Он имело отношение к вуду и амулетам. Моджо – это амулет, приносящий счастье, амулет для защиты. Я решил, что это хорошее имя для собаки, действительно отличное; и когда я назвал ее «Моджо», она слегка взволновалась и еще раз энергично погладила меня огромной лапой.
– Моджо, верно? – спросил я. – Очень красивое имя. Я поцеловал ее и почувствовал прикосновение кожаного черного носа. Однако на диске было кое-что еще. Адрес этого дома.
Неожиданно собака напряглась; она медленно и грациозно поднялась и встала в стойку. Это пришел Джеймс. Я услышал, как снег захрустел у него под ногами. Я услышал, как в замочной скважине повернулся ключ. Я почувствовал, как он вдруг осознал, что я рядом.
Собака громко и яростно зарычала и медленно двинулась к черному ходу. Внутри под тяжелыми шагами Джеймса скрипели половицы.
Собака злобно гавкнула. Джеймс открыл дверь, устремил на меня взгляд своих безумных глаз, улыбнулся и швырнул в собаку какой-то тяжелый предмет, но она с легкостью увернулась.
– Рад вас видеть! Что-то вы рано, – сказал он.
Я не ответил. Собака все так же угрожающе рычала, и он бросил на нее раздраженный взгляд.
– Избавьтесь от нее! – с неподдельной яростью воскликнул он. – Убейте!
– Это вы мне? – прохладно спросил я.
Я снова погладил собаку по голове и шепотом велел успокоиться. Она потянулась ко мне, потерлась и села рядом.
Джеймс наблюдал за этим с дрожью. Внезапно он поднял воротник, защищаясь от ветра, и скрестил руки. Снег засыпал его с ног до головы и лип к коричневым бровям и волосам.
– Она из этого дома, не так ли? – холодно спросил я. – Из дома, который вы украли?
Он ответил мне ненавидящим взглядом и изобразил одну из своих жутких порочных улыбочек. Как жаль, что он вышел из образа английского джентльмена. Мне было бы намного проще. Мне вдруг подумалось, насколько же недостойное это общение. Быть может, Эндорская ведьма показалась Саулу не менее мерзкой? Но тело – ах, это тело, как же оно великолепно!
Даже отвращение, читающееся в обращенных на собаку глазах, не могло окончательно испортить красоту этого тела.
– Да, похоже, вы и собаку тоже украли, – сказал я.
– Я от нее избавлюсь, – прошептал он с презрением и злобой. – А вы как, решились? Я не собираюсь целую вечность дожидаться вашего решения. Вы так и не дали мне определенного ответа. Мне нужен ответ немедленно.
– Идите завтра утром в свой банк, – ответил я. – Увидимся после захода солнца. Да, одно условие.
– Какое еще условие? – спросил он, скрежеща зубами.
– Покормите собаку. Дайте ей мяса.
Я удалился так быстро, что он и не заметил, как я исчез, и, оглянувшись напоследок, я увидел, что Моджо следит за мной сквозь снежный мрак; я улыбнулся при мысли, что собака все-таки заметила мое движение. Последними звуками, которые я услышал, были непристойная ругань Джеймса и громкий хлопок входной двери.
Через час я уже лежал в темноте в ожидании солнца и опять вспоминал свою юность во Франции, лежавших рядом собак и то, как в последний раз поехал на охоту с двумя огромными мастиффами, осторожно пробиравшимися сквозь глубокий снег.
И лицо вампира, уставившегося на меня во тьме парижской ночи, который с таким благоговением – с безумным благоговением – назвал меня Убийцей Волков и… вонзил клыки мне в шею.
Моджо… знамение…
Мы тянемся к бушующему хаосу, хватаем какую-то блестящую мелкую вещицу и держимся за нее, уверяя себя в том, что в ней полно смысла, что мир совсем не так плох, что мы не самое страшное зло и что все мы в конце концов вернемся домой.
Завтра ночью, думал я, если выяснится, что мерзавец врал, я разорву его грудь, вытащу бьющееся сердце и скормлю той красивой собаке.
Что бы ни случилось, собаку я оставлю себе.
Так и вышло.
И прежде чем я продолжу свой рассказ, позвольте поведать вам кое-что еще о собаке. Она, а точнее, он – Моджо – в этой книге ничем не отличится.
Он не спасет утопающего ребенка, не ворвется в горящий дом, чтобы прервать роковой сон его обитателей. Он не одержим злым духом; это не собака-вампир. Он появился в этой истории просто потому, что я нашел его в снегу за тем домом в Джорджтауне и полюбил, а он с того самого момента почему-то полюбил меня. По безжалостным и слепым законам, в которые я верю, по законам природы, как говорят люди, по законам Сада Зла, как сам я их называю, это совершенно справедливо. Моджо полюбил меня за силу; я полюбил его за красоту. А что еще имеет значение в этом мире?
Глава 10
– Я хочу подробно знать, как вы вытолкнули его из этого тела и заставили войти в ваше.
Наконец-то наступила среда. И получаса не прошло с тех пор, как село солнце. Появившись у черного хода, я застал его врасплох.
Теперь же мы сидели в безупречно белой кухне, на удивление лишенной всякой загадочности для столь эзотерической встречи. Лампочка на красивой медной подставке озаряла разделявший нас стол мягким розовым светом, создавая обманчивый уют.
Снегопад не стихал, и где-то внизу непрерывно рычала печь. Я привел с собой собаку, к неудовольствию хозяина дома, и после некоторых увещеваний пес молча улегся, словно египетский сфинкс, подняв к нам глаза, растянув передние лапы на вощеном полу. Джеймс то и дело беспокойно поглядывал на него, и не без причины. Пес выглядел так, словно внутри его прячется дьявол, которому обо всем известно.
Джеймс вел себя гораздо непринужденнее, чем в Новом Орлеане. Он полностью перевоплотился в английского джентльмена, что только красило его высокое молодое тело. На нем были темные брюки и серый свитер, плотно облегающий широкую грудь.
На пальцах – серебряные кольца. На запястье – дешевые часы. Я не мог вспомнить эти вещи. Он рассматривал меня с искоркой в глазах, что было гораздо легче снести, чем жуткие внезапные улыбочки. Я не мог отвести от него взгляд – от тела, которое вскоре станет моим.
Конечно, от него пахло кровью, что возбудило во мне глухую, тлеющую страсть. Чем больше я смотрел на него, тем больше думал: а что, если выпить его кровь и покончить со всем прямо сейчас? Может быть, он попытается сбежать из тела и оставит у меня в руках только дышащую оболочку?
Я посмотрел ему в глаза, вспомнил, что передо мной сидит колдун, и непривычное, незнакомое возбуждение заставило напрочь забыть о голоде. Я по-прежнему не был уверен в его способности совершить обмен. Думал, что вечер, скорее всего, закончится просто вкусной трапезой.
– Как вы нашли это тело? Как вы заманили в свое тело его душу? – постарался я прояснить свой вопрос.
– Я искал такой экземпляр – человека, пострадавшего от психологического шока и в результате лишенного воли и способности рассуждать, однако обладавшего здоровым телом и неповрежденным мозгом. В таких делах очень помогает телепатия, поскольку только телепат может добраться до скрытых остатков разума. Мне пришлось убеждать его на, так сказать, глубоком подсознательном уровне в том, что я пришел помочь ему, что я знаю – он хороший человек, что я на его стороне. И как только я добрался до рудиментарного ядра, похитить его воспоминания и добиться повиновения уже не составляло труда. – Он пожал плечами. – Бедняга. Сплошные суеверия в голове. Подозреваю, что в конце он принимал меня за своего ангела-хранителя.
– И вы выманили его из тела?
– Да, именно так, с помощью целой серии необычных и довольно заманчивых предложений. Телепатия – сильный союзник. Так манипулировать людьми может только экстрасенс. В первый раз он поднялся на фут-два, но тут же шлепнулся обратно в свою плоть. Скорее рефлекс, чем сознательное решение. Но я был терпелив – о, как я был терпелив! И когда я наконец выманил его на несколько секунд, мне хватило времени перебраться в его тело и сосредоточить весь поток энергии на том, чтобы запихнуть его в то, что оставалось от моего прежнего «я».
– Как вы мило выражаетесь.
– Что ж, вы ведь знаете, мы – тело и дух, – ответил он с умиротворенной улыбкой. – Но зачем нам все эти подробности? Вы же умеете подниматься над телом. У вас сложностей не возникнет.
– Будьте готовы к неожиданностям. Что с ним стало, когда он попал в ваше тело? Он понял, что произошло?
– Нисколько. Поймите же, этот человек был психологическим калекой. И, конечно, невежей и глупцом.
– И вы не оставили ему ни секунды времени, да? Вы его убили.
– Месье де Лионкур, для него это был акт милосердия! Ужасная мысль – оставить его в том теле, в таком состоянии! Он никогда бы не оправился, поймите, в каком бы теле он ни находился! Он убил всю свою семью. Даже младенца в колыбели.
– Вы принимали в этом участие!
– Что же вы такого низкого обо мне мнения?! Нет, ни в коем случае. Я наблюдал за больницами в ожидании подобного экземпляра. Я знал, что кто-нибудь да подвернется. Но к чему эти последние вопросы? Разве Дэвид Тальбот не говорил вам, что в архивах Таламаски полным-полно свидетельств об обмене телами?
В разговоре со мной Дэвид ни словом не обмолвился об этом, но я его не виню.
– И везде фигурирует убийство? – спросил я.
– Нет. В некоторых случаях заключались сделки, как у нас с вами.
– Удивительно. Мы – необычная пара.
– Да, но признайтесь, мы подходим друг другу. У меня для вас отличное тело, – сказал он и положил ладонь на широкую грудь. – Не такое красивое, как ваше собственное, естественно. Но очень хорошее! Именно то, что вам нужно. Что касается вашего тела, то у меня нет слов. Надеюсь, вы не стали слушать, что про меня скажет Дэвид Тальбот? Он совершил множество трагических ошибок.
– В каком смысле?
– Он – раб этой никчемной организации. Они полностью подчинили его себе. Будь у меня возможность побеседовать с ним под конец, он бы понял, сколь важные вещи я могу предложить, как многому научить. Он рассказывал вам про свои эскапады в Рио? Да, выдающийся человек, хотел бы я познакомиться с ним поближе. Но с ним, я вам скажу, шутки плохи.
– Что остановит вас, если вы захотите убить меня, как только мы поменяемся телами? Как вы убили того, кого заманили в свое старое тело, одним быстрым ударом по голове.
– А, все-таки поговорили с Тальботом, – спокойно отреагировал он. – Или просто провели собственное расследование? Меня остановят двадцать миллионов долларов. Чтобы пойти в банк, мне понадобится тело, помните? Как чудесно с вашей стороны удвоить сумму! Но я бы и на десять миллионов согласился. Ах, вы дали мне свободу, месье де Лионкур. С этой пятницы, с того самого часа, когда Христа пригвоздили к кресту, мне больше никогда не придется воровать.
Он глотнул теплого чая. Несмотря на внешнее спокойствие, он волновался все больше и больше. Меня охватывало сходное, но еще более сильное чувство. Что, если ничего не выйдет?
– Да нет, выйдет, – тепло произнес он. – Есть и другие веские причины, по которым я не причиню вам вреда. Давайте обсудим их.
– С удовольствием.
– Во-первых, вы сможете выбраться из смертного тела, если я совершу нападение. Я уже объяснил, что вы должны со мной сотрудничать.
– А если вы нападете слишком быстро?
– Вопрос чисто академический. Я не стану стараться навредить вам. Иначе обо всем узнают ваши друзья. Пока вы, Лестат, находитесь в здоровом человеческом теле, ваши спутники и не подумают уничтожить вашу сверхъестественную оболочку, даже если ей управляю я. Они же не поступят с вами так плохо? Но если я убью вас – расквашу вам лицо прежде, чем вы сумеете выпутаться… видит Бог, это возможно, я сам прекрасно это сознаю, уверяю вас! – ваши спутники рано или поздно разоблачат во мне самозванца и быстренько со мной разделаются. А вдруг они почувствуют вашу смерть! Как думаете?
– Не знаю. Но в конце концов они все выяснят.
– Конечно!
– Вы непременно должны держаться подальше от них, пока находитесь в моем теле, не вздумайте приближаться к Новому Орлеану, не подходите ни к одному вампиру, даже к очень слабому. Вы мастерски скрываете свои мысли – воспользуйтесь своим умением…
– Разумеется. Будьте уверены, все продумано. Сожги я вашего красавчика Луи де Пон-дю-Лака – об этом сразу узнают, правда? И следующим костром, разгоревшимся в ночной тиши, буду я сам.
Я не ответил. По моему телу разливался холодный гнев, вытесняя всякое мужество и радость предвкушения. Но мне хотелось! Мне так хотелось, а оно было рядом, только руку протянуть!
– Прекратите вы беспокоиться из-за такой чепухи, – взмолился он. Его манеры ужасно напоминали Дэвида Тальбота. Возможно, он подражал им намеренно – сознательно копировал Дэвида. Но я решил, что дело здесь все-таки в сходстве воспитания и врожденном инстинкте убеждения, которым не обладал даже Дэвид. – Поймите, я в душе не убийца, – напряженно сказал он. – Мне важно приобретение ценностей. Я хочу, чтобы меня окружали комфорт и красота, всякая мыслимая и немыслимая роскошь, свобода идти куда хочется, жить как понравится.
– Вам нужны инструкции?
– По какому вопросу?
– Что делать, когда вы окажетесь в моем теле.
– Вы уже дали мне все инструкции, дорогой мой мальчик. Я ваши книги прочел. – Он расплылся в широкой улыбке, чуть-чуть наклонил голову и взглянул на меня исподлобья, словно хотел заманить меня в постель. – Я также прочел все документы в архивах Таламаски.
– Какого рода документы?
– Ну, подробные описания анатомии вампира – пределы ваших возможностей и так далее. Вам самому стоит в них заглянуть. Может быть, посмеетесь. Самые ранние главы относятся к средним векам, в них полно цветистого вздора, от которого заплакал бы даже Аристотель. Но последние документы имеют научную основу и вполне точны.
Такой поворот разговора меня не устраивал. Мне вообще не нравилось то, что происходило. Я чуть не поддался искушению покончить с этим немедленно. И неожиданно понял, что дойду до конца. Понял.
На меня снизошло удивительное спокойствие. Да, все это случится через несколько минут. Все получится. Я почувствовал, как у меня от лица отхлынула краска – почти неощутимое охлаждение кожи, которая все еще болела после невыносимой пытки на солнце.
Вряд ли он заметил эту перемену, равно как и ожесточение моего лица, поскольку продолжал в том же духе:
– Наиболее интересны наблюдения, записанные в семидесятых годах после публикации «Интервью с вампиром». И самые последние документы, вдохновленные вашими отрывочными и изощренными заметками об особенностях вампиров, – это что-то! Нет, мне о вашем теле все известно. Может быть, даже больше, чем вам. Знаете, что на самом деле нужно Таламаске? Образец вашей ткани, образец клеток вампира! Уж постарайтесь, чтобы им эти образцы не достались. Право же, вы с Тальботом слишком уж на вольной ноге. Может, он подрезал вам ногти или позаимствовал прядь волос, пока вы спали под его крышей?
Прядь волос. Разве в том медальоне не было светлого локона? Ведь это и есть волосы вампира! Волосы Клодии. Я вздрогнул, замыкаясь в себе и углубляясь в воспоминания. Несколько веков назад Габриэль, моя смертная мать и созданная мною дочь, обрезала свои вампирские волосы. За долгие дневные часы, пока она лежала в гробу, они отросли снова. Я не хотел вспоминать, как она кричала, сделав это открытие – великолепные роскошные локоны опять падали на ее плечи. Я не хотел думать о ней и о том, что она сказала бы, узнав, что я собираюсь сделать. Я уже несколько лет с ней не встречался. Может быть, не увижу еще много веков.
Я снова взглянул на Джеймса, который весь светился от ожидания, прилагая при этом все усилия, чтобы выглядеть терпеливым; теплый свет падал на его лицо.
– К черту Таламаску, – еле слышно проговорил я. – Почему вам так сложно управляться с этим телом? Вы так неловки. Вам удобно только сидеть в кресле, оперируя лишь голосом и лицом.
– Удивительная наблюдательность, – сказал он с непоколебимым спокойствием.
– Вряд ли. Это всем заметно.
– Просто тело мне великовато, – хладнокровно ответил он. – Слишком мускулистое, слишком… так сказать, атлетическое. Но вам оно в самый раз.
Он помолчал, задумчиво заглянул в чашку и перевел глаза на меня. Глаза – такие круглые, такие невинные.
– Лестат, да хватит вам. – сказал он. – Чего ради мы теряем время на разговоры? Я же не собираюсь танцевать в вашем теле с Королевским балетом. Я просто хочу насладиться совершенно новыми ощущениями, поэкспериментировать, увидеть мир вашими глазами. – Он посмотрел на часы. – Я бы предложил вам немного выпить, чтобы приободриться, но в конечном счете это обернется против вас же, правда? Да, кстати, паспорт. Вам удалось раздобыть паспорт? Помните, я просил вас об этом? Очень надеюсь, что помните, и, конечно, я принес паспорт для вас. Боюсь, правда, что в такую метель вы никуда не поедете…
Я положил документ перед ним на стол. Он сунул руку под свитер, извлек из кармана рубашки свой паспорт и передал мне.
Американский паспорт, фальшивка. Даже дата двухлетней давности – и та фальшивка. Раглан Джеймс. Двадцать шесть лет. Нужная фотография. Хорошая фотография. Джорджтаунский адрес, этот самый дом.
Он рассматривал американский паспорт – тоже поддельный, – который я отдал ему.
– О, ваша загорелая кожа! Вы специально его подготовили… Должно быть, прошлой ночью.
Я не стал утруждать себя ответом.
– Какой же вы дальновидный, – продолжал он, – а фотография какая хорошая! Кларенс Оддбоди. С чего это вам такое имя в голову пришло?
– Небольшая шутка личного характера. А вам-то что? Он вам понадобится только сегодня и завтра ночью, – пожал я плечами.
– Правда. Истинная правда.
– Жду вас здесь рано утром в пятницу, между тремя и четырьмя.
– Отлично. – Он начал было засовывать паспорт в карман, но спохватился и разразился резким смехом. Потом остановил на мне взгляд и засиял неподдельным восторгом. – Вы готовы?
– Не совсем. Я вынул из кармана бумажник, открыл его, вытащил примерно половину купюр и передал ему.
– Ах да, мелочь наличными, как любезно с вашей стороны не забыть о этом! – воскликнул он. – От возбуждения я забываю все важные детали. Непростительно, но вы такой джентльмен!
Он собрал банкноты и опять спохватился, когда попытался набить ими карман. Он выложил их на стол и улыбнулся.
Я прикрыл рукой бумажник.
– Остальное забираю я, как только мы совершим обмен. Думаю, вам достаточно выданной суммы? Ваша воровская душа не уступит искушению позаимствовать остальное?
– Приложу все усилия, чтобы вести себя прилично, – добродушно ответил он. – Так вам угодно, чтобы я переоделся? Я лично для вас украл эту одежду.
– Она меня устраивает.
– Следует ли мне опорожнить мочевой пузырь? Или оставить эту привилегию вам?
– Мне.
Он кивнул.
– Я голоден. Я решил, что так вам будет интереснее. Дальше по улице – превосходный ресторан. «Паоло». Неплохие итальянские спагетти. Можно дойти пешком, даже по снегу.
– Чудесно. Я не голоден. Я решил, что так вам будет проще. Вы упомянули машину. Где эта машина?
– Ах да, машина. Во дворе, слева от крыльца. Красный родстер, «порше», я подумал, что он вам понравится. Держите ключи. Но будьте осторожны…
– Почему?
– Ну, из-за снега, разумеется, – может быть, она вообще не сдвинется с места.
– Спасибо за предупреждение.
– Я не хотел вас обидеть. Если вы не вернетесь сюда в пятницу, это мне обойдется в двадцать миллионов. Как бы то ни было, на столе в гостиной лежат водительские права с нужной фотографией. В чем дело?
– Одежда для вас, – сказал я. – Я забыл ее приготовить.
– О, я давно уже об этом подумал, пока шнырял в вашем гостиничном номере в Нью-Йорке. Не беспокойтесь, у меня есть собственный гардероб, и мне нравится ваш черный бархатный костюм. Вы все-таки прекрасно одеваетесь. И так было всегда, правда? Но ведь в ваше время принято было ходить в таких роскошных костюмах! Современная эпоха, должно быть, кажется вам ужасно мрачной. Это антикварные пуговицы? Ну ладно, у меня хватит времени их разглядеть.
– Куда вы пойдете?
– Куда захочу, естественно. Теряете уверенность в себе?
– Нет.
– Умеете водить машину?
– Да. Если бы и не умел, то сообразил бы.
– Вы так думаете? По-вашему, в этом теле с вами останется ваш сверхъестественный интеллект? Ну, не знаю. Я не уверен. Возможно, мелкие синапсы в смертном мозгу так быстро не воспламеняются.
– Я в синапсах не разбираюсь.
– Хорошо. Приступим к делу.
– Да, думаю, пора. – Мое сердце сжалось в крепкий маленький узелок, но его поведение внезапно стало властным и авторитарным.
– Слушайте внимательно, – начал он. – Я хочу, чтобы вы поднялись над своим телом, но не раньше чем я закончу говорить. Вы направитесь вверх. Вы и раньше так делали. Приблизившись к потолку, вы посмотрите вниз, на наши тела, сидящие за столом, и сделаете сознательное усилие устремиться в это тело. Больше ни о чем не думайте. Не позволяйте страху отвлекать вас. Не думайте о том, как все это происходит. Вам нужно опуститься в это тело, вам нужно полностью и мгновенно слиться к каждой его клеткой и тканью. Представляйте себе это визуально! Представляйте, будто вы уже внутри.
– Да, понимаю.
– Я уже говорил, что в теле есть нечто невидимое, что осталось от того, кто занимал его изначально, и это нечто жаждет обрести целостность – с помощью вашей души.
Я кивнул.
– Возможно, вы подвергнетесь разнообразным неприятным ощущениям, – продолжил он наставления. – Пока вы будете скользить вниз, тело покажется вам слишком тесным и узким. Не дергайтесь. Представляйте себе, как ваш дух проникает в пальцы каждой руки, каждой ноги. Смотрите его глазами. Это самое главное. Ведь глаза – это часть мозга. Когда смотришь через них, закрепляешься в мозгу. Теперь вас уже ничто не вытеснит, будьте уверены. Как только оказываешься внутри, выбраться не так просто.
– Я увижу ваш дух, пока мы будем меняться?
– Нет, не увидите. Увидеть можно, но потребуется большое количество энергии, а вам нельзя отвлекаться от непосредственной цели. Не смотрите ни на что, кроме этого тела; вам нужно попасть в него, начать им двигать, смотреть его глазами, как я сказал.
– Да.
– И еще. Возможно, вас испугает вид собственного тела – либо безжизненного, либо уже заселенного мной. Не позволяйте страху возобладать над вами. Здесь должны сыграть свою роль определенное доверие и смирение. Верьте, что мне удастся вселиться в ваше тело, не причинив ему вреда, а затем я сразу же исчезну, чтобы избавить вас от постоянного напоминания о том, что мы сделали. Вы увидите меня только в пятницу утром, как и договаривались. Я не буду разговаривать с вами, потому что звук моего голоса, исходящий из вашего рта, может вас расстроить. Это понятно?
– И как будет звучать ваш голос? Как будет звучать мой?
Он еще раз глянул на часы, потом повернулся ко мне.
– По-другому, – сказал он. – Объем голосовых связок у всех разный. Этот человек, например, придал моему голосу глубину, которой я ранее не обладал. Но у вас, разумеется, сохранится ритмика, произношение, речевые модели. Изменится только тембр. Да, это подходящее слово.
Я посмотрел на него – долго, внимательно.
– Имеет значение, верю я в успех или нет?
– Нет, – отозвался он с широкой улыбкой. – Это же не спиритический сеанс. Вам нет необходимости воспламенять способности медиума своей верой. Через секунду увидите. Что еще сказать? – Он напрягся и наклонился вперед.
Собака внезапно громко зарычала.
Я успокоил ее, протянув руку.
– Вперед! – резко сказал Джеймс, переходя на шепот. – Выходите из своего тела, быстро!
Я откинулся назад, снова сделав собаке знак успокоиться. Потом приказал себе подняться и почувствовал, как внезапно все мое тело завибрировало. Тут наступило чудесное осознание того, что я и в самом деле поднимаюсь – как дух, невесомый и свободный; в поле моего зрения все еще оставалось мое мужское тело, руки и ноги, распростертые прямо под белым потолком, а когда я глянул вниз, моим глазам предстало поразительное зрелище: мое собственное тело неподвижно сидело в кресле. О, что за чудесное чувство – словно я мгновенно могу попасть туда, куда захочу! Как будто тело мне было вообще не нужно, как будто моя с ним связь с самого рождения была большим заблуждением.
Физическое тело Джеймса чуть-чуть качнулось вперед, его пальцы принялись шарить по белой столешнице. Только не отвлекаться! Главное – обмен.
– Вниз, вниз, вот в то тело! – произнес я вслух, но никаких звуков не было слышно, и тогда я без слов заставил себя устремиться вниз и влиться в новую плоть, в физическую оболочку.
В ушах зашумело, началось сжатие, словно меня всего пропихивали в узкую скользкую трубку. Вот мучение! Мне захотелось на свободу. Но я чувствовал, как заполняю пустые руки и ноги, как тяжелеет и натягивается, смыкаясь вокруг меня, плоть, как на лицо, словно маска, опускаются те же ощущения.
Еще не понимая, что делаю, я попытался открыть глаза – но я управлял веками этого тела, по-настоящему моргал, уставился смертными глазами на тускло освещенную комнату, на собственное тело, сидевшее напротив, на мои собственные синие глаза, впивающиеся в меня сквозь фиолетовые очки, на мою прежнюю загорелую кожу.
Я почувствовал, что задыхаюсь, – необходимо с этим кончать, но тут меня осенило: я внутри! Я попал в тело! Обмен завершен. Я не смог не сделать грубого глубокого вдоха, благодаря чему задвигалась эта броня плоти, потом я хлопнул рукой по груди, придя в ужас от ее толщины, и услышал тяжелый влажный плеск крови в сердце.
– Господи Боже, получилось! – вскрикнул я, пытаясь вырваться из окружившей меня темноты, из тенистой завесы, застилавшей сияющее тело напротив, которое теперь возвращалось к жизни.
Мое бывшее тело конвульсивно дернулось вверх, воздев руки, словно от ужаса, попав одной рукой в люстру, отчего лампочка в ней разорвалась; стул с грохотом рухнул на пол. Собака подпрыгнула и разразилась громким угрожающим лаем.
– Нет, Моджо, сидеть, собака! – услышал я собственный голос, исходящий из этого плотного, тесного смертного горла, тщетно пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь, и осознал, что это моя рука ухватила пса за ошейник и отшвырнула его назад прежде, чем он успел атаковать мое бывшее вампирское тело, которое глазело на собаку в полном изумлении, яростно поблескивая голубыми глазами, расширившимися и пустыми.
– Давай, убей его, – раздался голос Джеймса, оглушительный рев, вырвавшийся из моего прежнего сверхъестественного рта.
Мои руки поднялись к ушам, чтобы отгородиться от этого звука. Собака снова рванулась вперед, и я снова схватил ее за ошейник, до боли сжав пальцами цепочку, устрашенный ее силой, насколько превышавшей силу моих рук. О боги, придется заставить это тело работать! Это всего лишь собака, а я – сильный смертный мужчина!
– Прекрати, Моджо! – взмолился я, когда он сдернул меня со стула и повалил на колени, что оказалось весьма болезненно. – А ты убирайся отсюда! – взревел я. Колени ужасно болели. Голос был слабым и глухим. – Убирайся!
Существо, что раньше было мной, проплясало мимо, взмахивая руками, и врезалось в дверь черного хода, разбив окно и впустив в комнату порыв холодного ветра. Собака обезумела и не желала слушаться.
– Вон отсюда! – снова выкрикнул я и, оцепенев от ужаса, увидел, как это существо попятилось и вывалилось прямиком в открытую дверь, круша дерево и оставшееся стекло, а потом поднялось с крыльца в заснеженную ночь.
В последний момент я увидел, как в вихре кружащегося снега он отвратительным видением застыл в воздухе над ступеньками. Потом его конечности задвигались более слаженно, словно он плыл по невидимому морю. Он все еще таращил бессмысленные голубые глаза, словно не мог придать выражение их сверхъестественной плоти, и они сверкали, словно два пламенеющих драгоценных камня. Его рот – бывший мой рот – растянулся в бессмысленной улыбке.
И он исчез.
Я перевел дух. Комната заледенела, зимний ветер пробрался в каждый уголок, свалив медные горшки с витиеватой подставки и отметя их к входу в столовую. Внезапно пес затих.
Я осознал, что сижу рядом с ним на полу, обнимая его правой рукой за шею и положив левую на мохнатую грудь. Каждый вдох причинял мне боль, я щурился, потому что снег мело прямо мне в глаза; я был загнан в это тело, набитое изнутри свинцовыми гирями и клопами, а холодный воздух щипал мне лицо и руки…
– Господи, Моджо! – прошептал я в мягкое розовое ухо. – Господи Боже, получилось. Я – смертный человек.
Глава 11
– Ладно, – тупо сказал я и снова изумился слабому и глухому звучанию этого тихого голоса, – началось, теперь возьми себя в руки. – При этой мысли мне стало смешно.
Хуже всего был холодный ветер. У меня стучали зубы. Кусачая боль, распространяющаяся по коже, не имела ничего общего с болью, которую я ощущал вампиром. Надо починить дверь, но я понятия не имел, как это делается.
От двери вообще хоть что-нибудь осталось? Непонятно. Я словно пытался разглядеть ее через облако ядовитого дыма. Я медленно поднялся на ноги, мгновенно отметив увеличение роста, и почувствовал себя ужасно грузным и неустойчивым.
В комнате не осталось и воспоминания о тепле. Я слышал, как ворвавшийся ветер воет во всем доме. Медленно и осторожно я шагнул на крыльцо. Лед. Нога моя поехала вправо, отбросив меня назад, к косяку двери. Меня охватила паника, но я ухитрился вцепиться крупными дрожащими пальцами во влажное дерево и не свалиться со ступенек. Я снова попытался увидеть хоть что-нибудь в темноте, но не разобрал никаких отчетливых очертаний.
– Да успокойся ты, – вслух сказал я себе, понимая, что пальцы у меня одновременно потеют и немеют, да и ноги тоже охватывает болезненное онемение. – Здесь нет искусственного освещения, вот и все, а ты смотришь глазами смертного! Теперь сделай же хоть что-нибудь умное! – И осторожными шагами, едва не поскользнувшись еще раз, я вернулся в дом.
Я видел смутный силуэт сидящего Моджо, который наблюдал за мной с громким сопением, и в одном из его больших глаз заискрился огонек. Я ласково обратился к нему:
– Это же я, Моджо, собака, понятно? Это я! – И я нежно погладил мягкую шерсть между ушами. Я направился к столу, очень неуклюже уселся в кресло, снова поразившись толщине и тяжести своей новой плоти, и зажал рукой рот.
«Получилось, правда, получилось, дурачина, – подумал я. – Никаких сомнений. Удивительное чудо, вот что это такое. Ты освободился от своего сверхъестественного тела! Ты – человек. Ты – мужчина. Кончай паниковать. Рассуждай как герой, ведь ты так гордишься тем, какой ты герой! Пора стать практичным. Тебя завалит снегом. Это смертное тело замерзает, Бога ради, принимайся за дело как положено!»
Но вместо этого я лишь еще шире раскрыл глаза и уставился на снег – кажется, это снег, – собирающийся в кучки маленьких сверкающих кристаллов на белой столешнице. Я ожидал, что мое зрение вот-вот станет более четким, и, разумеется, зря.
«Это, наверное, разлитый чай? И разбитое стекло. Не порежься осколками – рана не заживет».
Подошел Моджо, и я обрадовался, когда к моей дрожащей ноге прижался большой, мягкий, мохнатый бок. Но почему это ощущение кажется таким далеким, словно меня завернули в несколько слоев фланели? Почему я не ощущаю его чудесный чистый шерстяной запах? Ясно, органы чувств менее восприимчивы. Чего и следовало ожидать.
«Теперь иди, посмотрись в зеркало: узри чудо своими глазами. Да, и заодно закрой эту комнату».
– Идем, пес, – сказал я собаке, и мы вышли из кухни в столовую. С каждым шагом я чувствовал себя все более неловким, медлительным и громоздким; неумелыми, негнущимися пальцами я закрыл дверь. В нее ударил порыв ветра, в щели просочился сквозняк, но дверь выдержала.
Я развернулся, на секунду качнулся, потом выпрямился. Господи Боже, разве так уж трудно со всем этим управляться? Я покрепче уперся ногами в пол и взглянул вниз, поразившись, какие у меня огромные ноги, потом перевел глаза на руки, тоже не маленькие. Но не уродливые, нет, отнюдь. Без паники! Часы доставляли мне неудобство, но они еще понадобятся. Ладно, часы оставим. Но кольца? Определенно они мне на пальцах не нужны. Зудят. Я хотел стянуть их с пальцев. Не вышло! Боже мой!
«Прекрати! Ты сейчас сойдешь с ума, потому что не можешь снять кольца. Это глупости. Не торопись. Ты что, не знаешь про такую вещь, как мыло? Намылишь руки, вот эти большие смуглые заледеневшие руки, и кольца соскользнут».
Я обхватил себя руками, испытывая отвращение к липкому человеческому поту под рубашкой – ничего общего с кровавым потом, – затем сделал глубокий вдох, игнорируя тяжелое биение в груди и саднящее чувство, вызванное самим актом вдоха и выдоха, и заставил себя оглядеть комнату.
«Сейчас не время кричать от ужаса. Давай, осмотрись в комнате».
Все виделось очень нечетко. В дальнем углу горел один торшер, а на камине – крошечная лампа, но все равно было ужасно темно. Мне показалось, что я – под водой, под мутной водой, может быть даже окрашенной чернилами.
Это нормально. Смертные. Так они видят. Но какое же все унылое, неполное! Никакого ощущения открытости и пространственности, присущего взгляду вампира.
Что за гнусный мрак – темные блестящие кресла, едва различимый стол, расползающийся по углам тускло-золотой свет, лепнина на потолке, исчезающая в тени, в непроницаемой тени, – а как пугающе выглядит пустой черный холл!
В такой темноте может прятаться кто или что угодно. Даже другой человек. Я посмотрел на Моджо и поразился, какой он нечеткий, какой таинственный – но совершенно по-другому. Вот оно что! В таком полумраке силуэты выглядят расплывчатыми. Абсолютно невозможно определить истинные размеры или материал.
Да, но над камином же было зеркало!
Я подошел к нему, разочарованный тяжестью рук и ног, а также внезапной боязнью споткнуться и необходимостью постоянно смотреть под ноги. Я придвинул маленькую лампу к зеркалу и взглянул на свое лицо.
О да. За ним скрывался я сам, и как же оно изменилось! Исчезли напряженность и жуткий нервный блеск глаз. Меня разглядывал молодой человек, причем изрядно напуганный.
Я поднял руку и потрогал рот и брови, потом лоб, который оказался выше моего, а затем – мягкие волосы. Лицо было приятным, бесконечно приятнее, чем я думал, открытое, без глубоких морщин, пропорциональное и с выразительными глазами. Но мне не понравился таящийся в глазах страх. Нет, очень даже не понравился. Я попытался придать лицу новое выражение, научиться управлять чертами лица изнутри и заставить их выразить мое удивление. Это оказалось нелегко. И я не был уверен, что испытывал удивление. Да-а-а… В этом лице я не видел ничего, что шло бы изнутри.
Я медленно открыл рот и заговорил. По-французски сказал, что в этом теле нахожусь я, Лестат де Лионкур, что все в порядке. Эксперимент сработал! Пошел первый час, этот дьявол Джеймс исчез, и все получилось! Теперь в глазах показалось кое-что от моей былой свирепости; а улыбнувшись, я по меньшей мере несколько секунд наблюдал свою собственную озорную натуру, пока улыбка не угасла, уступив место озадаченному, удивленному выражению.
Я повернулся и посмотрел на собаку – она сидела рядом, подняв ко мне голову, и всем своим видом демонстрировала полное довольство.
– Откуда ты знаешь, что это я? – спросил я. – А не Джеймс?
Он наклонил голову набок и чуть-чуть шевельнул ухом.
– Ладно, – сказал я. – Пора кончать со слабостью и безумием. Пошли!
Я направился к темному холлу, когда правая нога неожиданно подогнулась и я тяжело сполз на пол, шаря по нему левой рукой, чтобы задержать падение, голова ударилась о мраморный камин, а локоть стукнулся о мраморную плиту, отчего взорвался резкой вспышкой жестокой боли. На меня с грохотом посыпались каминные приспособления. Но это было еще не все – я задел нерв в локте, и по руке разливалась огненная боль.
Я перевернулся на живот и ненадолго застыл в ожидании, что боль пройдет. Только тогда обратил я внимание на пульсирующую боль в голове. Я потрогал ее и почувствовал, что волосы намокли от крови. Кровь!
Великолепно! Как повеселился бы Луи! Я вскарабкался на ноги, боль шевельнулась и двинулась вправо, за лоб, как гиря, попавшая мне в голову; я ухватился за каминную доску и выпрямился.
На полу передо мной лежал один из многочисленных замысловатых ковриков. Убийца. Я оттолкнул его ногой прочь с дороги, развернулся и очень медленно и осторожно вышел в холл.
Но куда я иду? И что собираюсь делать? Внезапно меня осенило. У меня переполнен мочевой пузырь, и после падения он начал причинять мне новые неудобства. Необходимо сходить в туалет.
Разве где-то поблизости не было ванной? Я нашел выключатель на стене холла и включил люстру. Я долго разглядывал маленькие лампочки – их было штук двадцать, – сознавая, что они дают вполне достаточно света, что бы я по этому поводу ни думал; но ведь мне никто не запрещал зажечь весь свет в доме.
Этим я и занялся. Я прошелся по гостиной, по небольшой библиотеке и по холлу, расположенному в задней части дома. Свет не переставал меня разочаровывать, ощущение мрачности не исчезало. Не в состоянии отчетливо видеть предметы, я чувствовал себя обескураженным и встревоженным.
Наконец я осторожно и медленно двинулся вверх по лестнице, с каждой секундой опасаясь потерять равновесие или споткнуться, к тому же меня смутно раздражала легкая боль в ногах. Ну что за длинные ноги!
Оглянувшись на холл, я онемел. Если отсюда упасть, разобьешься насмерть!
Я повернулся и вошел в небольшую тесную ванную, где быстро нашел выключатель. Мне нужно было в туалет, просто необходимо, а я не делал этого вот уже двести лет.
Я расстегнул молнию на современных брюках и извлек оттуда член, поразивший меня своей вялостью и размером. Размер, естественно, меня устраивал. Кто же не хочет, чтобы этот орган был побольше? Что приятно, здесь было совершено обрезание. Но вялость его вызвала во мне особенное отвращение, и не хотелось даже дотрагиваться до него. Пришлось напомнить себе, что по стечению обстоятельств этот орган принадлежит мне. Весело!
А что это за запах от него исходит, и чем пахнут волосы вокруг него? Да, это тоже твое, детка! Давай, работай.
Я закрыл глаза, очень неточно и, наверное, слишком сильно надавил, и вырвавшаяся из него большая вонючая дуга мочи опустилась мимо унитаза на белое сиденье.
Вот мерзость. Я попятился, прицелился получше и с тошнотворным увлечением пронаблюдал за тем, как моча наполняет унитаз, как на поверхности образуются пузырьки, как запах усиливается, усиливается и наконец становится таким тошнотворным, что я больше не в силах его выносить. Наконец пузырь опустел. Я засунул эту вялую мерзость обратно в штаны, застегнул молнию и захлопнул крышку унитаза. Я дернул за рычаг. Моча исчезла, за исключением брызг, расплескавшихся по сиденью и по полу.
Я попробовал вдохнуть поглубже, но от мерзкого запаха было не скрыться. Сообразив, что руки пахнут столь же отвратительно, я поспешил открыть кран, схватил мыло и принялся за работу. Снова и снова намыливал я руки, но никак не мог увериться, что они действительно чистые. Кожа была куда более пористой, нежели моя сверхъестественная плоть, она показалась мне грязной; я принялся стаскивать уродливые серебряные кольца.
Даже мыльная пена не заставила их слезть. Я призадумался. Да, ублюдок носил их еще в Новом Орлеане. Наверное, он сам не мог их снять, а теперь они достались мне! Никакого терпения не хватает, но ничего не поделаешь, придется искать ювелира, который сумеет их снять при помощи пилки, напильника или еще какого-нибудь инструмента. От одной этой мысли я так разволновался, что все мускулы напряглись в болезненном спазме, а затем расслабились. Я мысленно приказал себе успокоиться.
Я прополоскал руки, причем несколько раз, потом схватил полотенце и вытер, содрогаясь от вида их пористой текстуры и следов грязи вокруг ногтей. Господи Боже, ну почему этот дурак не мыл руки как следует?
Потом я взглянул в зеркальную стену в другом конце ванной и увидел по-настоящему мерзостное зрелище. Большое влажное пятно на штанах спереди. Этот тупой орган еще не высох, когда я запихивал его внутрь!
Что ж, в былые дни меня не беспокоили такие вещи, правда? Но, с другой стороны, я был грязным деревенским дворянином, который принимал ванну только летом или же когда ему взбредало в голову прыгнуть в горный родник.
И речи быть не может о пятне мочи на брюках! Я вышел из ванной, обошел терпеливого Моджо, лишь бегло потрепав его по голове, и направился в хозяйскую спальню; распахнув дверцы платяного шкафа, я нашел новую пару брюк, кстати сказать, получше, из серой шерсти, скинул ботинки и переоделся.
Так, что теперь? Нужно найти что-нибудь поесть, решил я. И осознал, что голоден! Да, точно, вот в чем еще одна причина того ощущения неудобства, которое я испытывал с начала моей недолгой саги, – дело не только в переполненном мочевом пузыре и общем ощущении тяжести.
Поесть. Но если поесть, знаешь, что будет? Придется вернуться в эту ванную – или в какую-нибудь другую ванную – и освободиться от переваренной пищи. При этой мысли меня чуть не вывернуло наизнанку.
Меня действительно так затошнило, когда я представил себе вид человеческих экскрементов, выходящих из моего тела, что сначала я думал, меня вырвет по-настоящему. Я тихо сел в ногах низкой современной кровати и постарался обуздать эмоции.
Я сказал себе, что речь идет о самых обычных аспектах человеческого существования, а потому никак нельзя позволить им затмить вещи поважнее. И больше того, я веду себя как настоящий трус, а не герой мрака, на роль которого претендую. Поймите, на самом деле я не верю, будто я для всего мира – герой. Но я давно решил, что должен жить как герой – что должен пройти через все трудности, с какими столкнусь, ибо они – всего лишь мои неизбежные огненные круги.
Хорошо, это позорный огненный кружочек. И с трусостью пора кончать. Имя этому испытанию – ешь, пробуй, чувствуй, смотри! Да, трудностей предстоит немало.
Наконец я встал на ноги, решил шагать пошире, чтобы приспособиться к новым ногам, вернулся к шкафу и, к своему изумлению, обнаружил, что там не так уж много одежды. Две пары шерстяных брюк, две довольно легкие шерстяных куртки, обе новые, и стопка из трех рубашек на полке.
Да-а-а. Куда же подевалось все остальное? Я выдвинул верхний ящик бюро. Пусто. В остальных ящиках – тоже пустота. Как и в сундучке у кровати.
Что это может значить? Он забрал одежду с собой или отослал ее туда, куда ушел? Но зачем? Его новому телу она не подойдет, к тому же он утверждал, что позаботился об этом. Я забеспокоился. Может ли это означать, что он не планировал возвращаться?
Абсурд. Он не упустит сумму в двадцать миллионов. А я не должен тратить свое драгоценное смертное время на беспокойство о подобных вещах!
Я проследовал по коварной лестнице, Моджо шел рядом, и это доставляло мне удовольствие. Теперь я почти без усилий справлялся с новым телом, несмотря на его громоздкость и неудобство. Я открыл шкаф в холле. На вешалке – старое пальто. Пара галош. И все.
Я пошел к письменному столу в гостиной. Он говорил, что там я найду водительские права. Я медленно открыл верхний ящик. Пусто. Везде пусто. Да, но в одном из ящиков лежат какие-то бумаги. Что-то насчет дома, но никакого упоминания имени Раглана Джеймса. Я попытался понять, о чем же эти бумаги. Но меня сбила с толку официальная тарабарщина. Я не получил мгновенного представлении о содержании бумаг, как бывает, если смотреть на них глазами вампира.
Я припомнил слова Джеймса о синапсах. Да, я стал соображать медленнее. Непросто это – читать каждое слово.
Ладно, какая разница? Водительских прав здесь нет. Что мне нужно, так это деньги. Ах да, деньги. Деньги я оставил на столе. Боже мой, их, должно быть, сдуло во двор.
Я сразу вернулся в кухню. Она промерзла насквозь, стол, плита и висящие над ней медные горшки покрылись тонким белым слоем инея. Бумажника с деньгами на столе не было. Не было и ключей от машины. И лампа, конечно, разбилась вдребезги.
В темноте я опустился на колени и принялся шарить по полу. Паспорт я нашел. Но не нашел ни ключей, ни бумажника. Только осколки разбитой лампочки в двух местах впились мне в руки и пронзили кожу. На ладонях выступили капельки крови. Ни запаха, ни настоящего вкуса. Я попробовал искать глазами. Никакого бумажника. Я опять вышел на ступеньки, на сей раз стараясь не поскользнуться. Бумажника нет. В глубоком снегу во дворе ничего не видно.
Но ведь все это бесполезно, да? Ветер не сдул бы бумажник и ключи – они слишком тяжелые. Это он их забрал! Возможно, даже специально вернулся! Мелочное чудовище! И, осознав, что проделал это он, находясь в моем теле, в моем великолепном сверхъестественном теле, я буквально остолбенел от ярости.
«Хорошо, но ты ведь предполагал, что такое может случиться, не так ли? – успокаивал я себя. – Такая уж у него натура. И ты опять замерзаешь, весь дрожишь. Иди назад в столовую и закрой дверь».
Что я и сделал, но сперва пришлось подождать Моджо, который не торопился, словно его совершенно не беспокоили ни снег, ни ветер. Теперь и в столовой воцарился лютый холод – ведь я оставил дверь открытой. Поспешно поднимаясь назад, в дом, я осознал, что из-за моего небольшого путешествия на кухню упала температура во всем доме. Необходимо запомнить, что двери следует плотно закрывать.
Я прошел в первую из неиспользуемых комнат, где еще раньше спрятал деньги в трубу, но, просунув туда руку, я нащупал не конверт, а одинокий листок бумаги. Я извлек его, уже взбешенный, хотя еще даже не включил свет, чтобы разобрать слова:
«Вы и вправду недоумок, раз считаете, будто человек моих способностей не найдет вашу заначку. Не нужно быть вампиром, чтобы обнаружить влагу на полу и стенах, которая говорит сама за себя. Приятных вам приключений. Увидимся в пятницу. Будьте осторожнее! Раглан Джеймс».
На секунду я не мог пошевелиться от злости. Я положительно закипал. Руки сжались в кулаки.
– Мелочный, ничтожный негодяй, – выкрикнул я жалким, хрипловатым и ломким голосом.
Я пошел в ванную. Конечно, никакой второй пачки денег за зеркалом не было. Была лишь вторая записка:
«Какая же человеческая жизнь без трудностей? Вы должны понимать, что я не мог устоять перед такими открытиями. Все равно что расставить бутылки вина перед алкоголиком. Увидимся в пятницу. Прошу вас, осторожнее на обледенелых тротуарах. Не хотелось бы, чтобы вы сломали ногу».
Не успел я опомниться, как вмазал кулаком по зеркалу. Молодец! Это тебе благословение. Не огромная зияющая дыра, как было бы после удара Вампира Лестата, а кучка битого стекла. Не везет так не везет!
Я развернулся, спустился вниз, прошел обратно в кухню, закрыв при этом за собой дверь, и нашел холодильник. Внутри – ничего! Ничего!
Ах, дьяволенок! Что же я с ним сделаю! Как он мог надеяться, что это сойдет ему с рук? Он что, воображает, я не могу отдать ему двадцать миллионов долларов и свернуть ему шею? О чем он вообще думал…
А разве так сложно догадаться? Он и не собирался возвращаться, не так ли? Даже и не думал!
Я вернулся в столовую. В шкафчике со стеклянными дверцами не осталось ни серебра, ни фарфора. Но вчера вечером они, безусловно, здесь были. Я вышел в холл. Никаких картин на стенах. Я проверил гостиную. Ни Пикассо, ни Джаспера Джонса, ни де Кунинга, ни Уорхола. Все исчезло. Даже фотографии пароходов.
Пропали китайские скульптуры. Книжные полки – полупустые. А коврики? Их осталось совсем немного, один из них – в столовой, из-за него я чуть не разбился насмерть! А второй – под лестницей.
Из дома исчезло все более или менее ценное. Да что там, пропала половина мебели! Ублюдок и не собирался возвращаться! В его планы это изначально не входило.
Я сел в ближайшее к двери кресло. Моджо, который все это время преданно следовал за мной, воспользовался этой возможностью, чтобы растянуться у моих ног. Я зарылся рукой в его шерсть, потрепал его, погладил и вдруг подумал – он остался единственным моим утешением.
Конечно, Джеймс совершил невероятную глупость. Он что, думал, я не позову остальных?
Да-а-а… Позвать на помощь остальных… Что за отвратительная идея?! Не требуется богатого воображения, чтобы догадаться, каков будет ответ Мариуса, если я расскажу ему о своем поступке. По всей вероятности, он уже все знает и кипит от возмущения. Что до старейших, то я содрогался при одной мысли об этом. Как бы то ни было, самое большее, на что я мог надеяться, это что обмен телами останется незамеченным. Это я сознавал с самого начала.
Важно то, что Джеймс не знает, насколько остальные разозлятся на меня из-за этого эксперимента. И не может знать. Кроме того, он даже не представляет, до каких пределов может дойти его новая сила.
Да, но это преждевременно. Кража моих денег, разграбление этого дома – в представлении Джеймса это злая шутка, не более. Он просто не мог оставить мне здесь ни одежду, ни деньги. Не позволила его мелочная воровская натура. Он не мог не схитрить немного, вот и все. Естественно, он планирует вернуться и потребовать свои двадцать миллионов. И он рассчитывает на то, что я его не трону, потому что, если я захочу повторить эксперимент, он будет единственным, кто может успешно его осуществить.
Да, вот она, его карта в рукаве – я не причиню вреда единственному смертному, который сможет осуществить обмен, когда я захочу его повторить.
Повторить! Просто смешно. Я и засмеялся – что за чужой, странный звук! Я покрепче зажмурился и застыл, сгорая от ненависти к поту, липнувшему к ребрам, к боли в животе и в голове, к тяжелому ватному ощущению в руках и ногах. Я открыл глаза, но все, что я увидел, – это прежний блеклый мир нечетких углов и тусклых красок…
Повторить? О! Лестат, возьми себя в руки! Ты так плотно сжал зубы, что поранился! Ты прокусил язык! У тебя во рту кровь! И кровь по вкусу похожа на соленую воду – и все. На соленую воду! Соленую воду! Ради дьявола, возьми себя в руки! Прекрати!
Посидев еще пару секунд спокойно, я встал и принялся методично искать телефон.
В доме его не нашлось.
Красота!
Как глупо с моей стороны было не спланировать этот эксперимент получше. Я так увлекся великими духовными идеями, что не сделал для себя вообще никаких благоразумных приготовлений! Нужно было снять апартаменты в «Уилларде» и оставить деньги в сейфе отеля! Нужно было нанять машину.
Машина. Что с машиной?
Я подошел к шкафу в холле, достал пальто, заметил дыру в подкладке – возможно, по этой причине он его и не продал, – надел его, пришел в отчаяние, так как в кармане не было перчаток, и вышел через черный ход, предварительно плотно закрыв дверь в столовую. Я спросил Моджо, хочет ли он пойти со мной или останется здесь. Он, естественно, захотел ко мне присоединиться.
Глубина снега на тропинке была около фута. Пришлось прокладывать себе путь через него, но, дойдя до улицы, я осознал, что здесь он еще глубже.
Разумеется, никакого красного «порше». Ни налево от крыльца, ни в любом другом углу квартала. Просто для проверки я дошел до угла, потом повернулся и пошел обратно. У меня мерзли руки, мерзли ноги, а кожа лица отчаянно болела.
Хорошо, придется идти пешком, пока я хотя бы не найду телефон-автомат. Снег мело в спину, что я расценил как своего рода благословение, но, с другой стороны, я ведь не знал, куда мне идти.
Что касается Моджо, то ему явно нравилась такая погода, он неуклонно прокладывал себе путь вперед, и с его длинной серой блестящей шерсти падали сверкающие крошечные снежинки. У меня начался обычный припадок. Я смеялся, смеялся, смеялся, кружась вокруг собственной оси, но потом замолчал, потому что в буквальном смысле до смерти замерз.
Но ситуация все-таки была ужасно забавной. Вот он я, человек, – бесценное событие, о котором я мечтал с момента собственной смерти, – и я ненавижу его до мозга этих человеческих костей! Мой шумно бурлящий желудок скрутил спазм голода. За ним последовал еще один, которому лучше подойдет название «судорога».
«Паоло», нужно найти «Паоло»… Но как мне получить там пищу? Ведь есть же необходимо. Без пищи я просто идти не смогу. Если не поесть, у меня иссякнут силы.
Дойдя до угла Висконсин-авеню, я увидел у подножия холма огни и людей. Улицу очистили от снега, она определенно была открыта для транспорта. Я видел, как под фонарями туда-сюда снуют люди, но картина выглядела раздражающе мутной.
Я поспешил дальше, у меня болезненно немели ноги, причем одно не противоречит другому, как прекрасно известно тем, кто хоть раз ходил по снегу, и наконец увидел освещенные окна кафе. «Мартини». Прекрасно. Забудем о «Паоло». Сойдет и «Мартини». Перед входом остановилась машина, из нее вышла красивая молодая пара, поспешившая зайти внутрь. Я медленно подобрался к двери и увидел, как довольно хорошенькая молодая женщина за высокой деревянной стойкой берет два меню для новых посетителей, которых она провела в затемненный зал. Я мельком отметил свечи и скатерти с шахматным узором. И внезапно осознал, что противный, тошнотворный запах, который бьет мне в ноздри, – это запах горелого сыра.
Мне бы и вампиром не понравился этот запах, нет, во всех отношениях не понравился бы; но подобной тошноты бы не вызвал. Он был бы где-то вне меня. Но теперь он как бы соединился с моим голодом; он, казалось, натягивает мышцы в моем горле. Запах этот фактически оказался чуть ли не у меня во внутренностях, и меня тошнило уже не столько от запаха, сколько от давления.
Любопытно. Да, нужно запомнить все эти мелочи. Это и есть жизнь.
Хорошенькая молодая женщина уже вернулась. Она стояла в профиль ко мне и смотрела на бумагу, лежавшую на деревянном столике перед ней, а потом подняла ручку, чтобы сделать пометку. У нее были длинные волнистые темные волосы и очень бледная кожа. Я пожалел, что так плохо ее вижу. Я попробовал уловить ее запах, но безрезультатно. Пахло горелым сыром.
Я открыл дверь, игнорируя окатившую меня тяжелую вонь, и двинулся вперед, пока не очутился перед молодой женщиной; меня окутало благословенное тепло, запахи… Она оказалась мучительно юной особой с довольно мелкими чертами лица и длинными узкими глазами. Тщательно накрашенный большой рот, прекрасной формы шея. Тело двадцатого века – сплошные кости под черным платьем.
– Мадемуазель, – сказал я, намеренно сгущая свой французский акцент, – я очень хочу есть, а на улице очень холодно. Как я могу заработать тарелку еды? Я помою полы, если пожелаете, отскребу горшки и сковородки, сделаю все, что прикажут.
Она озадаченно уставилась на меня, потом выпрямилась, встряхнула длинными черными волосами, закатила глаза, снова глянула на меня и ответила:
– Убирайся.
Ее голос казался вялым и глухим. Дело, конечно, было не в голосе, а в моих смертных ушах. Я не мог воспринять звучность, доступную вампиру.
– Могу я взять кусок хлеба? – спросил я. – Один кусок хлеба. – Меня изводили запахи пищи, какими бы они ни были дурными. Я не мог вспомнить, какова пища на вкус. Я не мог вспомнить ни текстуру пищи, ни процесс питания, но надо мной брало верх нечто чисто человеческое. Я отчаянно хотел есть.
– Если ты не уберешься немедленно, я вызову полицию, – сказала она слегка дрогнувшим голосом.
Я попробовал прочесть ее мысли. Ничего. Я искоса осмотрелся в темноте. Попытался прочесть мысли остальных. Ничего. У этого тела не было такой силы. О, но этого быть не может! Я еще раз взглянул на нее. Ничего. Ни проблеска мыслей. Никакой инстинктивной догадки, что она за человек.
– Ах так, отлично, – ответил я, одарив ее самой нежной улыбкой, какую мне удалось выдавить, понятия не имея, что из этого вышло и какое она произведет впечатление, – надеюсь, вы сгорите в аду из-за отсутствия милосердия. Но Бог знает, я другого и не заслужил. – Я повернулся и собрался уходить, когда она взяла меня за рукав.
– Послушайте, – сказала она, слегка дрожа от злости и неловкости, – нельзя же вот так приходить и ожидать, что вас накормят! – К белым щекам прилила кровь. Ее запаха я не почувствовал. Но я уловил своеобразный мускусный аромат, наполовину естественный, наполовину смешанный с духами. И внезапно заметил два крошечных бугорка у нее под платьем. Вот удивительно! Я опять попытался прочесть ее мысли. Я сказал себе, что это врожденный дар, я умею им пользоваться. Но ничего не вышло.
– Я же сказал, что отработаю пищу, – ответил я, стараясь не смотреть на ее грудь. – Я сделаю все, что вы скажете. Послушайте, мне очень жаль. Я не хочу, чтобы вы сгорели в аду. Ужасные слова. Дело в том, что мне просто очень не повезло. У меня неприятности. Смотрите, вот моя собака. Как мне ее накормить?
– Эта собака? – Она посмотрела сквозь стекло на Моджо, который царственно восседал на снегу. – Вы, наверное, шутите. – Какой пронзительный голос. Никакой индивидуальности. Почти все звуки теперь так воспринимались. Металлическими и тонкими.
– Нет, это моя собака, – произнес я со слабым негодованием. – Я ее очень люблю.
Она засмеялась.
– Да этот пес каждый вечер кормится у нас с черного хода!
– Отлично, превосходно. Хоть один из нас поест. Счастлив это слышать, мадемуазель. Может быть, стоит пойти к черному ходу. Возможно, собака и мне что-нибудь оставит.
Она издала сухой фальшивый смешок. Она явно разглядывала меня, с интересом изучая мое лицо и одежду. За кого она меня принимала? Я не знал. Черное пальто было не из дешевых, но и не принадлежало к разряду шикарной одежды. Коричневые волосы мокры от растаявшего снега.
Сама она обладала некой утонченной чувственностью. Очень узкий нос, изящной формы глаза. Потрясающе красивая фигура.
– Ладно, – сказала она, – садитесь там, за стойкой. Я скажу, чтобы вам что-нибудь принесли. Что вы хотите?
– Все, что угодно, мне все равно. Благодарю вас за доброту.
– Хорошо, садитесь. – Она открыла дверь и, быстро махнув рукой, крикнула собаке: – Иди с другой стороны!
Моджо никак не отреагировал – терпеливая гора шерсти. Я вышел на улицу, на морозный ветер и велел ему идти к двери кухни. Я указал на боковую дорожку. Он смерил меня долгим взглядом, поднялся, медленно прошел по дорожке и исчез.
Я вернулся в помещение, снова обрадовавшись возможности попасть в теплое место, хотя чувствовал, как в ботинках тает снег. Я прошел внутрь ресторана, где было темно, не заметил деревянную табуретку и споткнулся о нее, чуть не упал, но в конце концов сел. На деревянной стойке уже лежала полотняная синяя салфетка, а на ней – прибор с тяжелым стальным ножом и вилкой. Я задыхался от сырной вони. Присутствовали и другие запахи – жареного лука, чеснока, горелого жира. Мерзость.
Табуретка оказалась в высшей степени неудобной. Жесткий круглый край деревянного сиденья врезался мне в ноги, и я снова забеспокоился из-за того, что в темноте ничего не видно. Ресторан уходил далеко вглубь, впереди было еще несколько смежных залов. Но где они кончаются, я не видел. До меня доносились звуки ударяющихся о металл огромных кастрюль – грохот пугал меня, резал слух, я всеми силами старался не замечать его.
Снова появилась молодая женщина и с милой улыбкой поставила передо мной большой бокал красного вина. От него исходил кислый, тошнотворный запах.
Я поблагодарил ее. А потом поднял бокал, набрал полный рот вина, подержал его во рту и проглотил. И сразу же поперхнулся. Непонятно было, что случилось – то ли я неправильно глотал, то ли оно почему-то раздражало мое горло, то ли что-то еще. Но я яростно кашлял, потом схватил тряпичную салфетку, лежавшую рядом с вилкой, и прижал ко рту. Частично вино попало мне в нос. На вкус оно было кислым и слабым. Меня охватило чувство страшного разочарования.
Я закрыл глаза и опустил голову на руку, непроизвольно сжимавшую салфетку.
– Вот, попробуйте еще, – сказала она.
Открыв глаза, я увидел, что она снова наполнила бокал из большого графина.
– Хорошо, – ответил я, – спасибо.
Я хотел пить, ужасно хотел пить. Фактически вкус вина лишь усилил жажду. Но на сей раз просто не стоит глотать его так резко. Я поднял бокал, отхлебнул небольшой глоток и попытался посмаковать его, но смаковать оказалось практически нечего, и тогда я медленно проглотил жидкость – она потекла в нужном направлении. Жидкая, очень жидкая, ничего общего с ароматным сытным глотком крови. Необходимо научиться. Я допил содержимое бокала. Потом налил себе еще бокал из графина и выпил до дна.
Поначалу я чувствовал одно только разочарование. Потом меня мало-помалу начало подташнивать. Сейчас принесут еду, подумал я. А, здесь же есть еда – жестянка, полная, по моему мнению, хлебных палочек.
Я вынул одну из них, тщательно ее обнюхал, убедился, что это хлеб, и с дикой скоростью принялся грызть, пока палочка не исчезла. На вкус она была – настоящий песок. Как песок в пустыне Гоби, что попал мне в рот. Песок…
– Как только смертные это едят? – спросил я.
– Не так быстро, – ответила молодая женщина и издала короткий смешок. – А вы что, не смертный? С какой вы планеты?
– С Венеры, – сказал я, улыбаясь в ответ. – С планеты любви.
Она неприкрыто разглядывала меня, и к ее белым щечкам снова прилила краска.
– Ладно, побудьте здесь, пока я не освобожусь, хорошо? Можете проводить меня до дома.
– Именно так я и сделаю, – ответил я. Тут меня осенило, что это может означать, причем эффект оказался в высшей степени примечательным. Наверное, я смогу лечь с этой женщиной в постель. Да-да, что касается ее, то она определенно рассматривает такую возможность. Мои глаза скользнули по двум крошечным соскам, так соблазнительно пробивающимся через черный шелк. Да, в постель, подумал я, и какая у нее гладкая шея!
Между ног шевельнулся орган. Значит, что-то происходит, решил я. Но интересно, насколько локализовано это чувство – набухание, затвердение, и каким необычным образом оно поглощает мои мысли! Потребность в крови никогда не была локальной. Я озадаченно уставился в пространство, не опустив глаз и тогда, когда передо мной поставили тарелку спагетти в мясном соусе. В ноздри пополз горячий аромат – расплавленный сыр, горелое мясо и жир.
«Уймись, – велел я органу. – Еще не время».
Наконец я посмотрел в тарелку. Внутри бесновался голод, словно кто-то обеими руками выворачивал мне кишки наизнанку. Помнил ли я это чувство? Видит Бог, в смертной жизни я достаточно голодал. Жизнь без голода мне и не мыслилась. Но это давно стало полузабытым и ужасно далеким воспоминанием. Я медленно поднял вилку, которой раньше никогда не пользовался, так как у нас их не было – в нашем примитивном мире существовали только ложки и ножи, просунул зубцы под массу мокрых спагетти и поднес их к губам.
Что они слишком горячие, я понял еще до того, как они попали мне на язык, но остановиться я не успел. Я сильно обжегся и уронил вилку. Вот это уже обычная глупость, подумал я, причем, наверное, пятнадцатая за вечер. Что мне делать, чтобы действовать с бoльшим умом, терпением и спокойствием?
Я откинулся назад на неудобной табуретке – насколько это возможно сделать, не свалившись на пол? – и попытался рассуждать здраво.
Я старался управлять новым телом, испытывающим нестандартные ощущения и слабость – до боли промерзшие мокрые ноги, например, а внизу дует сквозняк, – и совершал вполне понятные, но глупые ошибки. Надо было взять галоши. Перед тем как прийти сюда, надо было найти телефон и позвонить моему агенту в Париж. «Не думаешь, ведешь себя упрямо, как вампир, но ты не вампир».
Никакая температура дымящейся пищи явно не обожгла бы меня, находись я в шкуре вампира. Но я не в шкуре вампира. Поэтому надо было взять галоши. «Думай!»
Но как же это далеко от моих ожиданий. О боги! Я вынужден заставлять себя думать, в то время как рассчитывал лишь получать удовольствие! О, я-то рассчитывал, что погружусь в ощущения, погружусь в воспоминания, погружусь в открытия; а на самом деле вынужден заботиться только о том, чтобы продержаться!
По правде говоря, я воображал наслаждения, целую вереницу удовольствий – поесть, выпить, получить в постель женщину, потом – мужчину. Но ни одно из моих приключений пока что не принесло мне хотя бы намека на удовольствие.
Что ж, в этой постыдной ситуации я мог винить только себя, и от меня зависело, смогу я ее изменить или нет. Я вытер рот салфеткой – грубым куском искусственной ткани, способной впитывать влагу не более, чем клеенка, потом взял бокал вина и опять выпил его до дна. Меня захлестнула волна тошноты. Горло сдавило, и даже голова немного закружилась. Господи Боже! Три бокала – и я уже пьян?
Я снова поднял вилку. Липкая масса уже остыла, и я загреб в рот целую горку. И опять чуть не подавился! Горло конвульсивно сжалось, как будто стремясь спасти меня от удушения кучкой помоев. Пришлось остановиться, медленно вдохнуть воздух через нос, сказать себе, что это не яд, а я не вампир, и аккуратно прожевать массу, следя, как бы не прокусить язык.
Но я прокусил его еще раньше, и теперь этот кусок саднящей плоти давал о себе знать. Рот переполнился болью, гораздо более ощутимой, чем пища. Тем не менее я продолжал жевать спагетти и начал размышлять о том, какие они безвкусные, кислые, соленые и вообще состоят из чего-то жуткого, и наконец проглотил их, снова почувствовав болезненное сжатие, а потом в груди начал опускаться жесткий комок.
«Так вот, если бы это досталось Луи, а ты оставался бы собой, прежним самодовольным вампиром, сидел напротив и наблюдал, то ты не преминул бы осудить его за все, что он делает и думает, тебе бы претила его застенчивость, то, что он впустую тратит время на этот эксперимент, не умея его прочувствовать».
Я еще раз поднял вилку. Прожевал очередную порцию и проглотил. Нет, какой-то вкус все-таки был. Конечно, не тот пикантный, восхитительный вкус, что свойствен крови. Он гораздо более банальный, а спагетти волокнистые и липкие. Ладно, еще вилку. Может быть, еще понравится. Кроме того, наверное, здесь просто не очень хорошо готовят. Еще порцию.
– Эй, притормозите, – сказала симпатичная женщина. Она прислонилась ко мне, но через пальто я не чувствовал ее сочной мягкости. Я повернулся, снова посмотрел ей в глаза, полюбовался длинными черными изогнутыми ресницами и приятно улыбающимся ртом. – Вы же вообще еду не жуете.
– Я знаю. Я очень голоден, – ответил я. – Послушайте, я знаю, что говорю ужасно неблагодарные вещи. Но не найдется у вас чего-нибудь помимо этой свернувшейся массы? Понимаете, чего-нибудь пожестче – мяса, может быть?
Она засмеялась.
– Такого странного мужчину я еще не встречала. Нет, правда, вы откуда?
– Из Франции, из деревни, – ответил я.
– Хорошо, пойду принесу что-нибудь другое.
Стоило ей уйти, как я выпил новый бокал вина. У меня определенно кружилась голова, но при этом мне становилось тепло и в своем роде приятно. К тому же мне внезапно захотелось смеяться, и я понял, что уже начал пьянеть.
Я решил присмотреться к другим смертным. Как необычно – не улавливать их запах, не уметь прочесть их мысли! Я и голоса плохо слышал – только неясный гвалт и шум. И какое новое чувство – мне одновременно и жарко, и холодно: голова плывет в перегретом воздухе, а ноги замерзают на тянущемся по полу сквозняке.
Молодая женщина поставила передо мной тарелку мяса, назвав его говядиной. Я оторвал одно волокно, что ее, видимо, изумило – нужно было воспользоваться ножом и вилкой, – впился в него зубами и выяснил, что оно такое же безвкусное, как спагетти, но все же получше – почище, что ли? Я довольно жадно прожевал его.
– Благодарю вас, вы были так добры ко мне, – сказал я. – Вы настоящая прелесть, и я сожалею о своих резких словах, правда.
Мои слова ее заворожили, а я, конечно, просто играл роль. Я притворялся личностью мягкой, а это не так.
Она оставила меня, чтобы получить деньги с пары, которая собиралась уходить, а я вернулся к своей еде – к своей первой еде, состоявшей из песка, клея и кусочков кожи, наполненных солью. Я засмеялся про себя. Надо выпить еще вина – вроде бы ничего не пьешь, но производит впечатление.
Убрав тарелку, она дала мне еще один графин. Я остался сидеть в мокрых ботинках и носках, замерзший, на неудобной табуретке, напрягая в темноте зрение и все больше напиваясь; прошел час, и она была готова идти домой.
На этой стадии я чувствовал себя не лучше, чем вначале. Едва поднявшись с табуретки, я осознал, что с трудом могу идти. Ног я не ощущал, и пришлось даже посмотреть вниз, чтобы убедиться, что они еще при мне.
Симпатичная женщина сочла все это очень забавным. Я бы так не сказал. Она помогла мне пройти по заснеженному тротуару, позвала Моджо, назвав его просто «собакой», но с оттенком большого уважения, и заверила меня, что живет «всего в нескольких шагах дальше по улице». Единственным приятным моментом было то, что холод действительно уже не так меня беспокоил.
Я практически не стоял на ногах. Конечности у меня словно свинцом налились. Даже предметы, залитые блестящим светом, уплывали из фокуса. Болела голова. Я подумал, что наверняка упаду. Страх перед падением перерастал в настоящую панику.
Но мы добрались до ее спасительной двери, и она провела меня по узкому лестничному пролету, покрытому ковром, – подъем этот до того истощил мои силы, что мое сердце заколотилось, а лицо пеленой заливал пот. Я почти ничего не видел! Настоящее безумие. Я услышал, как она вставляет ключ в замочную скважину.
На мой нос набросился новый чудовищный запах. Мрачная квартирка оказалась кроличьим садком из штукатурки и фанеры, стены были увешаны неотличимыми друг от друга плакатами. Но от чего исходит этот запах? Вдруг я осознал, что источником его являются жившие у нее кошки, туалетом которым служил обыкновенный ящик с землей. Я увидел этот ящик, полный кошачьих экскрементов, на полу маленькой незапертой ванной и подумал: «Все, конец, сейчас я умру». Я стоял и не двигался, сдерживаясь, чтобы меня не вырвало. В желудке снова закружилась боль, на этот раз не от голода, и ремень показался мне невероятно тугим.
Боль обострилась. Я понял, что придется совершить то, чем до меня занимались здесь кошки. Либо сделать это сейчас же, либо опозориться. И сделать это нужно будет в той же самой комнате. Сердце подпрыгнуло и застряло у меня в горле.
– Что с вами? – сказала она. – Тошнит?
– Могу я воспользоваться этой комнатой? – спросил я, указывая на открытую дверь.
– Конечно, – ответила она. – Проходите.
Я появился не раньше чем через десять минут, а то и позже. Несложный процесс удаления отходов вызвал во мне столь сильное отвращение – запах, ощущение и сам вид, что я не мог произнести ни слова. Но теперь все закончилось. Осталось только опьянение и позорная попытка потянуться к выключателю, потерпевшая полный крах: я хотел нажать на кнопку, но ощутил в своей руке, в этой большой смуглой руке, лишь пустоту.
Я нашел спальню – очень теплую, заставленную посредственной современной мебелью из дешевого пластика, лишенной какой-либо дизайнерской индивидуальности.
Молодая женщина к тому моменту уже полностью разделась и сидела на краю кровати. Я попытался рассмотреть ее получше, невзирая на искажения, вызванные стоящей рядом лампой. Но ее лицо представляло собой массу противных теней, а кожа казалась болезненно-желтой. Вокруг нее витал спертый запах постели.
Я смог прийти к единственному заключению: по-идиотски стремясь следовать современной моде, она ужасно худа, сквозь молочную кожу выпирают ребра, грудь с крошечными мягкими розовыми сосками совершенно плоская, а бедер вообще нет. Она была похожа на призрак. Но при этом она сидела и улыбалась, как будто это было в порядке вещей, откинув на спину красивые черные волосы и прикрыв тонкой ладошкой темный пушок.
Что ж, можно было не сомневаться в том, что за потрясающие человеческие ощущения мне предстоит испытать. Но я к ней ничего не чувствовал. Ничего. Я улыбнулся и начал снимать одежду. Первым делом стащил плащ – и сразу замерз. Почему же ей не холодно? Потом я снял свитер и немедленно пришел в ужас от запаха собственного пота. Господи Боже, неужели так было и раньше? А тело было таким чистым на вид.
Она вроде бы не обратила внимания, за что я был ей благодарен. Тогда я снял рубашку, ботинки, носки и брюки. Ногам все еще было холодно. Я стоял голый, совершенно голый. Я не мог понять, нравится мне это хоть сколько-нибудь или нет. Вдруг я увидел свое отражение в зеркале над туалетным столиком и осознал, что главный орган, разумеется, был совершенно пьян и заснул.
Она опять-таки не удивилась.
– Иди сюда, – сказала она. – Садись.
Я повиновался. Меня всего трясло. Я закашлялся. Кашель начался со спазма, застав меня врасплох. Потом последовала целая серия приступов, с которыми я не мог совладать, причем последний был настолько силен, что ребра мне сдавило кольцо боли.
– Извини, – сказал я.
– Мне нравится твой французский акцент, – прошептала она, гладя меня по голове, и слегка царапнула ногтями щеку.
Вот это ощущение мне понравилось. Я наклонил голову и поцеловал ее в шею. Да, это тоже приятно. Далеко не так возбуждающе, как склониться над жертвой, но приятно. Я попробовал вспомнить, как это было двести лет назад, когда я слыл грозой деревенских девушек. Кажется, у ворот замка постоянно торчал чей-нибудь отец, проклиная меня, потрясая кулаками и крича, что если у его дочери будет от меня ребенок, то мне придется о нем позаботиться! В то время это было замечательно весело. А девушки… Что за прелестные были девушки!
– В чем дело? – спросила она.
– Ни в чем, – ответил я и еще раз поцеловал ее в шею. От ее тела тоже пахло потом. Мне это не понравилось. Но почему? Ни один из этих запахов не был таким резким, каким я воспринимал бы его в своем другом теле. Но к этому телу они имели непосредственное отношение – вот что противно. Я не имел защиты от этих запахов; из артефактов они превратились в то, что может вторгнуться в мое тело и осквернить его. Например, пот с ее шеи перешел на мои губы. Я знал, что это так, я чувствовал его вкус, и мне вдруг захотелось оказаться от нее как можно дальше.
Но это же безумие. Она – человек, а я – тоже человек. Слава Богу, в пятницу все закончится. Но какое право я имею благодарить Бога?
Ее соски терлись о мою грудь – горячие, острые, а плоть вокруг них оказалась податливой и мягкой. Я обхватил рукой ее худенькое тело.
– Тебе жарко; я думаю, у тебя температура, – сказала она мне на ухо. Она поцеловала мою шею так же, как я целовал ее.
– Нет, со мной все в порядке, – ответил я. Но не имел ни малейшего понятия, правда это или нет. Ну и сложная работа!
Неожиданно ее рука дотронулась до моего члена, застав меня врасплох и немедленно приведя меня в возбуждение. Я почувствовал, как он вытягивается и затвердевает. Всепоглощающее ощущение, оно вернуло меня к жизни. Когда я взглянул на ее грудь и маленький треугольник волос между ног, орган мой стал еще тверже. Да, этот момент я превосходно вспомнил; смотри во все глаза, а остальное неважно… Ах, как хорошо… Только бы положить ее на кровать.
– Ого! – прошептала она. – Ну и орудие у тебя!
– Да? – Я опустил глаза. Чудовищная вещь вдвое увеличилась в объеме. По сравнению со всем остальным она действительно выглядела ужасно непропорциональной. – Думаю, ты права. Можно было догадаться, что Джеймс не забудет проверить.
– Кто такой Джеймс?
– Какая разница? – промямлил я. Я повернул к себе ее лицо и поцеловал мокрые маленькие губы, ощущая сквозь тонкую кожу твердость ее зубов. Она приоткрыла рот навстречу моему языку. Это было приятно, хотя привкус на ее губах не доставлял мне удовольствия. Неважно. Но мои мысли перескочили на кровь. Выпить ее кровь…
Где же нарастающее напряжение, вызванное приближением жертвы, напряжение той секунды, когда я вот-вот прокушу кожу и на язык прольется кровь?
Нет, все будет не так просто, да и не так самозабвенно. Все состоится между ног и будет больше похоже на дрожь, хотя и на, я бы сказал, яростную дрожь.
Сама мысль о крови усилила мою страсть, и я грубо толкнул ее на кровать. Я хотел побыстрее закончить, а все остальное меня не интересовало.
– Подожди минутку, – сказала она.
– Чего ждать? – Я взобрался на нее, еще раз поцеловал, протолкнув язык поглубже. Крови не было. Какая бледность! Никакой крови. Мой орган скользнул между ее жарких бедер и чуть не взорвался. Но время еще не пришло.
– Я сказала, подожди! – закричала она, покраснев. – Без презерватива нельзя!
– Черт возьми, что ты такое говоришь? – бормотал я. Я знал значение этих слов, но они не особенно укладывались у меня в голове. Я опустил руку, нащупал окруженное волосами лоно, а потом – сочную влажную щель, которая показалась мне восхитительно маленькой.
Она закричала, чтобы я слезал с нее, и толкнула меня руками. От жара и ярости она раскраснелась и внезапно показалась мне очень красивой, а когда она отпихнула меня коленом, я хлопнулся на нее, потом приподнялся, чтобы засунуть в нее свой орган, и чуть не вскрикнул, почувствовав, как на нем плотно сомкнулась горячая плоть.
– Не надо! Прекрати! Я сказала, прекрати! – кричала она.
Но ждать я не мог. Черт возьми, с чего она взяла, что сейчас подходящее время для дискуссии, в смутном бреду поинтересовался я про себя. Потом, в миг ослепительного спазматического возбуждения, все было кончено. Из меня изверглась сперма.
В первый момент мне казалось, так будет целую вечность; но через секунду все кончилось, словно ничего и не произошло. Я лежал на ней без сил, утопал, разумеется, в поту, и меня бесили липкость всего этого процесса и ее панические вопли.
Наконец я перевернулся на спину. У меня болела голова, все гнусные запахи резко усилились – грязный запах кровати с продавленным бугорчатым матрасом, тошнотворная вонь кошек.
Она выскочила из постели. И, похоже, сошла с ума. Она дрожала и плакала, схватила со стула одеяло, прикрылась им и начала кричать, чтобы я убирался, убирался, убирался вон.
– Да что с тобой такое? – спросил я.
Она обрушила на меня град современных проклятий:
– Ах ты задница, мерзкая тупая задница, идиот, козел!.. – И все в том же духе. Я мог заразить ее, говорила она с ходу назвав несколько болезней. К тому же она может забеременеть. Я – одуревший ублюдок! Мне следовало немедленно выметаться. Как я посмел? Я должен убраться, пока она не вызвала полицию. И так далее…
Меня окатила волна сонливости. Я старался сосредоточиться на ней, несмотря на темноту. За этим последовал приступ тошноты, равного которому еще не было, и лишь огромным усилием воли я сумел удержаться от рвоты.
Наконец я сел, затем поднялся на ноги. Я посмотрел, как она стоит, плачет и кричит на меня, и внезапно понял, какая она несчастная, понял, что и в самом деле ее обидел и что по лицу ее разливается уродливый синяк.
Очень постепенно до меня дошло, что случилось. Она хотела, чтобы я использовал какое-то профилактическое средство, а я взял ее буквально силой. Она не получила никакого удовольствия, а только испугалась. Я вспомнил, как она вырывалась в момент моей кульминации, и понял, что она и помыслить не могла, чтобы я мог наслаждаться борьбой, ее злостью и протестами, наслаждаться своей победой. Полагаю, однако, что в презренном, обыденном смысле я получил удовольствие.
Эта история показалась мне невероятно гнусной. Меня охватило отчаяние. Даже удовольствие – сплошная ерунда. Я думал, что не выдержу больше ни секунды. Если бы можно было связаться с Джеймсом, я бы предложил ему еще одно состояние, лишь бы он немедленно вернулся. Связаться с Джеймсом… Я совершенно забыл, что надо найти телефон.
– Послушай меня, ma chére, – попытался я ее успокоить. – Мне очень жаль. Все вышло неправильно. Я понимаю. Прости меня.
Она шевельнулась, чтобы дать мне пощечину, но я с легкостью схватил ее за запястье и дернул руку вниз, причинив ей легкую боль.
– Убирайся! – повторила она. – Убирайся, или я позову полицию!
– Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не занимался этим целую вечность. Получилось неловко. Тебе не понравилось.
– Не то слово – не понравилось! – взвизгнула она.
И на этот раз она действительно меня ударила. Я не успел среагировать, и меня изумила ее сила. Лицо горело, и эта боль взбесила меня. То была оскорбительная боль.
– Вон! – опять заорала она.
Я начал одеваться, но с тем же успехом я мог поднимать мешки с кирпичами. Меня охватил тупой стыд, в каждом моем жесте, в каждом слове ощущалась такая неуклюжесть, что мне захотелось попросту провалиться сквозь землю.
Наконец я застегнул все пуговицы и все молнии, надел грязные мокрые носки и тонкие ботинки и собрался уходить.
Она сидела на кровати и плакала, у нее были ужасно худые плечи, а под бледной кожей выпирали нежные кости позвоночника, волосы густыми волнистыми прядями упали на одеяло, которое она прижимала к груди. Какой она казалась хрупкой – и какой, к сожалению, некрасивой и отталкивающей!
Я попробовал посмотреть на нее глазами настоящего Лестата. Но не получилось. Она выглядела совершенно заурядной, абсолютно не имеющей ценности и не представляющей никакого интереса. Я пришел в ужас. Неужели в деревне моего детства было то же самое? Я попытался вспомнить тех девушек – девушек, уже два века как мертвых, – но не мог увидеть их лица. Я помнил только ощущение счастья, азарт приключений и великую радость, которые на определенные промежутки времени заставляли меня забыть о лишениях и безнадежности моей жизни.
А что теперь? Как мог этот акт показаться столь неприятным, столь бессмысленным? Будь я самим собой, я бы нашел ее привлекательной – как может быть привлекательно насекомое; даже ее комнатушка показались бы мне странной, но занятной! Помню, какую привязанность я испытывал к жалкой среде обитания смертных. Но почему?
А она, бедняжка, казалась бы мне красавицей просто потому, что была живой! Она бы не запятнала меня, пей я ее кровь хоть час напролет. Сейчас же я испытывал мерзкое чувство из-за того, что был с ней, и из-за того, что поступил с ней так жестоко. Я понимал, что она боится заболеть! Я тоже чувствовал себя оскверненным! Но где крылась перспектива истины?
– Мне очень жаль, – повторил я. – Ты должна мне верить. Не этого я хотел. Я и сам не знаю, чего я хотел.
– Ты спятил, – горько прошептала она, не поднимая глаз.
– Однажды ночью, очень скоро, я приду к тебе и принесу тебе подарок, красивую вещь, которая тебе понравится. Я подарю ее тебе, и ты, может быть, простишь меня.
Она не отвечала.
– Скажи мне, что ты действительно хочешь? Деньги не имеют значения. Что бы ты хотела получить, но не можешь?
Она подняла угрюмый взгляд, лицо ее покрылось красными пятнами и вытянулось, а потом она утерла нос ладонью.
– Ты знаешь, чего я хотела, – ответила она хриплым, неприятным голосом, до того тихим, что он казался почти бесполым.
– Нет, не знаю. Скажи мне – что?
У нее так исказилось лицо и изменился голос, что я даже испугался. Я все еще пошатывался от выпитого вина, но рассудок от опьянения не пострадал. Приятная ситуация. Тело пьяно, а разум – нет.
– Кто ты такой? – Теперь выражение ее лица стало ожесточенным и горьким. – Ты же не просто… да?.. ты не простой… Ее слова повисли в воздухе.
– Если я расскажу, ты не поверишь.
Она еще резче повернула голову вбок, рассматривая меня с таким видом, словно на нее вот-вот снизойдет озарение. И все прояснится. Не представляю, что происходило у нее в голове. Я знал только, что мне ее жаль и она мне не нравится. Мне не нравились эта грязная замусоренная комната с низким оштукатуренным потолком, мерзкая постель, уродливый порыжевший ковер, тусклое освещение и вонючий кошачий ящик в соседней комнате.
– Я тебя запомню, – сказал я несчастным, но ласковым тоном. – Я сделаю тебе сюрприз. Я вернусь и принесу тебе что-нибудь очень хорошее, то, что ты сама никогда достать не сможешь. Как бы подарок из другого мира. Но пока что я должен тебя оставить.
– Да, – ответила она, – лучше уходи.
Я повернулся именно с таким намерением. Я подумал о том, что на улице холодно, что в холле ждет Моджо, вспомнил дом, дверь которого с черного хода слетела с петель, дом, где нет ни денег, ни телефона.
Ах да, телефон.
У нее есть телефон, я подсмотрел – на туалетном столике.
Когда я развернулся и пошел назад, она закричала и кинула в меня каким-то предметом. Кажется, туфлей. Она попала мне в плечо, но не больно. Я снял трубку, дважды нажал на «ноль», чтобы выйти на междугородную связь, и набрал номер моего агента в Нью-Йорке.
Я звонил и звонил. Никого. Даже автоответчик не работает. В высшей степени странно и чертовски некстати.
В зеркало я видел, что она уставилась на меня в немом и гневном напряжении, обернув вокруг себя одеяло, словно облегающее современное платье. Как все это патетично, все до йоты.
Я набрал номер в Париже. Дозванивался, пока не услышал знакомый голос – я поднял своего агента с постели. Я быстро объяснил ему по-французски, что нахожусь в Джорджтауне и что мне нужны двадцать тысяч долларов, нет, лучше тридцать, причем немедленно.
Он ответил, что в Париже еще только встает солнце. Ему придется подождать открытия банка, но при первой возможности он отправит нужную сумму. Я запомнил название агентства, где буду получать деньги, и взмолился, чтобы он действовал безотлагательно и убедился, что все исполнено безупречно. Это экстренная ситуация – я без гроша в кармане. Он уверил меня, что сейчас же отдаст распоряжения. Я повесил трубку.
Она не сводила с меня глаз. Скорее всего, она не поняла, о чем я разговаривал по телефону. Французского она не знала.
– Я тебя не забуду, – сказал я. – Пожалуйста, прости меня. Я ухожу. Я уже причинил тебе достаточно неприятностей.
Она не ответила. Я всмотрелся в нее, в последний раз пытаясь разгадать, почему же она производит такое заурядное впечатление. С какого же ракурса рассматривал я жизнь, что вся она представлялась мне такой прекрасной, что все создания мнились мне вариациями одной и той же великолепной темы? Даже Джеймсу была присуща жутковатая сверкающая красота, как у пальмового жука или мухи.
– Прощай, ma chére, – проговорил я. – Мне очень жаль, правда.
Я обнаружил, что Моджо терпеливо сидит за дверью квартиры, и торопливо прошел мимо, щелкнув пальцами, таким образом призывая его следовать за мной. Что он и сделал. Мы спустились по лестнице и вышли в холодную ночь.
Несмотря на то что в кухне выл ветер, пытающийся прокрасться через дверную щель в столовую, в других комнатах было довольно тепло. Из встроенных в пол латунных обогревателей исходил поток горячего воздуха. Как мило со стороны Джеймса оставить включенной обогревательную систему, подумал я. Но ведь он планирует по получении двадцати миллионов немедленно покинуть этот дом. Ему не придется платить по счету.
Я пошел наверх и через хозяйскую спальню попал в главную ванную. Приятная комната, выложенная новенькой белой плиткой, с чистым зеркалом и глубокой душевой кабинкой с сияющими стеклянными дверями. Я попробовал воду. Сильный горячий поток. Восхитительно горячий. Я сорвал с себя влажную вонючую одежду, положил носки на батарею и аккуратно сложил свитер, так как другого у меня не было, и встал под горячий душ.
Прислонившись головой к стене, я вполне мог бы заснуть стоя. Но я вдруг заплакал, а потом так же неожиданно закашлялся. В груди и глубоко в горле у меня пылал настоящий костер.
Наконец я выбрался из душа, вытерся полотенцем и вновь принялся рассматривать в зеркале доставшееся мне тело. Ни единого шрама, ни единого недостатка. Руки и грудь мощные, но с гладкими мускулами. Ноги хорошей формы. Лицо по-настоящему красивое, почти идеальная смуглая кожа. Хотя в отличие от моего прежнего лица в этом не осталось ничего юношеского. Это было типичное лицо мужчины – угловатое, немного жесткое, но симпатичное, очень симпатичное, – возможно, благодаря большим глазам. При этом чуть-чуть грубоватое. На нем уже пробивалась щетина. Надо побриться. Ну вот, еще одна забота.
– Ну разве это не замечательно? – сказал я вслух. – Ты находишься в теле двадцатишестилетнего мужчины, оно в великолепном состоянии. Но это страшный сон. Ты делаешь одну глупую ошибку за другой. Почему тебе не удается взять это препятствие? Где твоя воля, твоя сила?
Я весь покрылся мурашками. Моджо заснул в ногах кровати. Вот оно, подумал я, нужно поспать. Погрузиться в смертный сон, а в момент пробуждения увидеть, как в комнату проникает солнечный свет. Пусть даже небо будет серым, все равно это чудесно. «Наступит день, – думал я. – Ты увидишь мир при свете дня, ведь все эти годы ты мечтал об этом. Отставь в сторону свою отчаянную борьбу, мелочи и страхи».
Но у меня зарождалось ужасное подозрение. Разве в моей смертной жизни было что-то помимо отчаянной борьбы, мелочей и страха? Разве у большинства смертных по-другому? Разве не об этом твердит целое скопище современных писателей и поэтов: человек вынужден тратить жизнь на дурацкие хлопоты. Разве это не жалкое клише?
Я был горько потрясен. По привычке я попытался еще раз поспорить с самим собой. Но какой смысл?
В этом медлительном человеческом теле мне было ужасно! Ужасно лишиться сверхъестественной силы. А мир – вы только взгляните на него: грязный, изношенный, истрепанный на краях и полный несчастий. Да я даже и разглядеть его толком не могу. Какой еще мир?
Да, но завтра!.. О Боже, еще одно жалкое клише! Я было засмеялся, но тут на меня напал новый приступ кашля. На этот раз боль, причем весьма значительная, перешла в горло, и заслезились глаза. Нужно поспать, отдохнуть, подготовиться получше к моему драгоценному единственному дню.
Я щелкнул выключателем и сдернул с кровати покрывало. Постель оказалась чистой, и на том спасибо. Я положил голову на подушку, подтянул колени к груди, натянул до подбородка одеяло и заснул. Я смутно сознавал, что если дом загорится, то я умру. Если произойдет утечка газа, то я умру. Кто-нибудь может зайти с черного хода и меня убить. В самом деле, возможна любая катастрофа. Но со мной Моджо, не так ли? А я устал, так устал!
Несколько часов спустя я проснулся.
Я ужасно кашлял и напрочь замерз. Мне потребовался носовой платок, я нашел коробку с бумажными салфетками, решил, что они сойдут, и высморкался раз, наверное, сто. Затем, получив возможность дышать, я в состоянии странного лихорадочного измождения упал на постель, и у меня возникло обманчивое ощущение, что я плыву, в то время как я по-прежнему лежал на кровати.
Обычная смертная простуда, решил я. Дал себе так сильно промерзнуть – и вот результат. Эксперимент будет подпорчен, но это тоже опыт, и я должен его исследовать.
Когда я проснулся в следующий раз, у кровати стояла собака и лизала меня в лицо. Я протянул руку, потрогал его мохнатый нос, посмеялся над ним, снова закашлялся, горло саднило, и я понял, что кашляю уже давно.
Освещение стало чудовищно ярким. Чудесно ярким. Слава Богу, хоть одна яркая лампа в этом тусклом мире. Я сел в постели. Сперва я был так ошеломлен, что не смог разумно определить, что я вижу.
Небо за окном стало идеально голубым, трепетно голубым, на натертый до блеска паркет падал солнечный свет, и мир оказался великолепно светлым – и голые ветви деревьев с белой оторочкой из снега, и заснеженная крыша соседнего дома, и сама глянцево-белая комната; свет играл на зеркале, на хрустале туалетного столика, на латунной ручке двери, ведущей в ванную.
– Mon Dieu, Моджо, ты только посмотри, – прошептал я, откинув одеяло, подбежал к окну и распахнул его настежь. В лицо ударил холодный воздух, но что с того? Посмотри, какого сочного оттенка небо, посмотри, как на западе высоко летят белые облака, посмотри на сосну в соседском дворе – какой густой и прекрасный зеленый цвет!
Внезапно я безудержно расплакался и снова закашлялся.
– Настоящее чудо, – шептал я. Моджо ткнулся в меня и слегка заскулил. Смертные неприятности и болячки не имели никакого значения. Вот оно, библейское обещание, которое на протяжении двухсот лет оставалось невыполненным.
Глава 12
Не успев ступить за порог дома навстречу великолепному дневному свету, я уже знал, что это ощущение стоит любых испытаний или болезней. И никакая смертная простуда, как бы она меня ни ослабила, не удержит меня от прогулки на утреннем солнце.
И пусть моя общая физическая слабость сводила меня с ума, пусть, тащась рядом с Моджо, я чувствовал себя сделанным из камня, пусть я не смог подпрыгнуть вверх и на два фута, пусть от меня потребовалось колоссальное усилие, чтобы открыть дверь мясной лавки, пусть с каждой минутой моя простуда все больше и больше давала о себе знать – все это не имело ровным счетом никакого значения!
Как только Моджо сожрал свой завтрак, состоявший из выпрошенных у мясника обрезков, мы вдвоем направились упиваться солнышком – меня пьянил вид солнечных лучей, падающих на окна и мокрые тротуары, на сверкающие крыши ярко блестевших автомобилей, на стеклянные лужицы талого снега, на прозрачные витрины и на людей – на тысячи, тысячи людей, спешащих по своим дневным делам.
Как же они отличались от людей ночи – при свете дня они явно чувствовали себя в безопасности, они ходили и разговаривали без малейшей настороженности, занимаясь многочисленными дневными хлопотами, за которые очень редко с подобной энергией берутся после наступления темноты.
Наконец увидеть оживленных матерей с сияющими детишками, наполняющих фруктами корзины, посмотреть, как на слякотных улицах останавливаются большие шумные грузовики для доставки, а могучего сложения мужчины разгружают возле черного хода огромные ящики и картонные коробки с товарами! Увидеть, как люди сгребают лопатами снег и расчищают окна, увидеть, как милые рассеянные люди стекаются в кафе, где поглощают в огромных количествах кофе и благоухающие горячие завтраки, просматривая утренние газеты, волнуясь из-за погоды или обсуждая дневную работу. Как завороженный, смотрел я на группы одетых в форму школьников, бросивших вызов ледяному ветру, чтобы устроить игры на утопающей в солнце асфальтированной площадке.
Всех их связывала великая оптимистическая энергия; она исходила от студентов, которые сновали между зданиями университетского общежития или собирались в тесных и теплых кафе, чтобы пообедать.
На солнце эти смертные распускались, как цветы, дневной свет ускорял их речь и темп жизни. А когда я почувствовал, как солнце греет мои руки и лицо, то и сам раскрылся, как цветок. Я чувствовал, как буквально химически реагирует на солнце мое смертное тело, невзирая на тяжесть в голове и утомительную боль в замерзших руках и ногах.
Не обращая внимания на кашель, усиливающийся с каждым часом, и на легкую пелену перед глазами, которая меня по-настоящему раздражала, я повел Моджо по шумной Эм-стрит в Вашингтон, настоящую столицу страны, чтобы побродить среди мраморных мемориалов и памятников, больших впечатляющих административных зданий и жилых домов и дальше, мимо тихой и печальной красоты Арлингтонского кладбища с тысячами крошечных одинаковых надгробий, к пыльному красивому особнячку великого генерала Конфедерации Роберта Эдварда Ли.
К этому моменту я был как в бреду. Вполне возможно, что от физических неудобств мое счастье только возрастало – я воспринимал окружающее не как пьяный или одурманенный человек, но словно в дремоте или в лихорадке. Не знаю. Знаю только, что я был счастлив, очень счастлив, и что мир при свете совсем не то, что мир в темноте.
Не только я, но и великое множество туристов отважились выйти на холод, чтобы посмотреть прославленные достопримечательности. Я молча упивался их энтузиазмом, сознавая, что открытые широкие просторы производят на всех них такое же впечатление, как и на меня, – они приносят им радость и трансформируют сознание так, что люди рассматривают огромное голубое небо над головой и многочисленные каменные памятники как достижение человечества.
Я такой же, как они! Не Каин, навеки обреченный искать крови брата своего. Я огляделся по сторонам, как в тумане. Я такой же, как все!
Я долго смотрел с Арлингтонских высот вниз, на город, дрожа от холода, и даже прослезился от этого изумительного зрелища – такого аккуратного, такого типичного для великого Века Разума, – жалея, что рядом нет Луи или Дэвида, и в душе переживая из-за того, что они уж точно не одобрят то, что я сделал.
Но нет, передо мной лежала настоящая планета, живая земля, рожденная теплом и солнцем, хотя сейчас ее и прикрывала мерцающая снежная мантия.
Наконец я спустился с холма. Моджо то и дело забегал вперед, а потом кружным путем возвращался, чтобы пройтись рядом со мной, а я шагал по берегу замерзшего Потомака, удивляясь тому, как солнце отражается во льду и в тающем снеге.
Где-то днем я снова задержался у великого мраморного Мемориала Джефферсона, у элегантного и просторного греческого павильона, на стенах которого вырезаны торжественные и трогательные слова. Сознание того, что в течение нескольких драгоценных часов я тоже имею отношение к выраженным здесь эмоциям, едва не разорвало мне сердце. В самом деле, на этот срок я смог смешаться с человеческой толпой и совершенно из нее не выделяться.
Но ведь это неправда, да? Я нес с собой груз своей вины – в своих нерушимых воспоминаниях, в своей неисправимой душе: Лестат-убийца, Лестат – ночной охотник. Я вспомнил предупреждение Луи: «Лестат, нельзя стать человеком, просто перейдя в человеческое тело!» Я снова увидел его потрясенное, трагическое лицо.
Но Господи Боже! Что, если Вампира Лестата никогда и не было? Что, если он всего лишь литературный персонаж, изобретенный человеком, в чьем теле я сейчас живу и дышу? Какая прекрасная мысль!
Я долго стоял на лестнице мемориала, склонив голову, и ветер рвал на мне одежду. Одна добрая женщина сказала мне, что я болен и должен застегнуть пальто. Я уставился ей прямо в глаза, осознав, что она видит перед собой обычного молодого человека. Я не слепил ее, не пугал. Во мне не затаилось непреодолимое желание положить конец ее жизни, чтобы более полно насладиться своей. Бедное прелестное создание с выцветшими глазами и седеющими волосами! Я неожиданно схватил ее морщинистую ручку и поцеловал, сказав по-французски, что люблю ее, и тогда увидел, как по ее худому увядшему лицу разлилась улыбка. Она казалась мне не менее прелестной, чем люди, на которых мне доводилось смотреть глазами вампира.
При свете дня мрачная запущенность вчерашней ночи совершенно стерлась. Похоже, сбылись мои самые большие надежды, связанные с этим приключением.
Однако зима была суровой. Даже приободрившись от вида голубого неба, люди обсуждали приближение еще более сильного снегопада. Магазины закроются раньше, по улицам опять будет невозможно пройти, аэропорт уже закрыли. Прохожие предупреждали, чтобы я запасся свечами, так как в городе могут отключить электричество. Один пожилой джентльмен, натянувший толстую шерстяную кепку по самые уши, пожурил меня за то, что я хожу без шапки. Какая-то молодая женщина сказала, что у меня больной вид и нужно поспешить домой.
Простая простуда, ответил я. Хорошая микстура от кашля – или как ее теперь называют? – и я приду в форму. Раглан Джеймс-то будет знать, что делать, когда получит тело назад. Он будет не слишком доволен, но сможет утешиться двадцатью миллионами. К тому же у меня еще остается несколько часов, чтобы напичкать тело купленными в аптеке лекарствами и отдохнуть.
А пока что меня неустанно преследовало слишком много неудобств, чтобы об этом беспокоиться. Чересчур много времени потрачено на преодоление мелких неприятностей. И, разумеется, спасение от незначительных жизненных неурядиц – о, настоящая жизнь! – лежало совсем рядом.
Да, я совершенно забыл о времени, не так ли? Должно быть, деньги уже ждут меня в агентстве. Я заметил часы в витрине. Половина третьего. Большие дешевые часы на моей руке показывали то же самое время. Надо же, мне осталось всего около тринадцати часов.
Тринадцать часов в этом ужасном теле, с больной головой и ломотой в костях! Внезапный холодный приступ страха стер мое счастье. Нет, это слишком хороший день, чтобы портить его из трусости. Я попросту выбросил это из головы.
Мне вспоминались отрывки стихов… то и дело мне смутно мерещилась последняя смертная зима, когда я склонялся над очагом в большом зале отцовского замка и тщетно пытался согреть руки у затухающего огня. Но в общем я слился с настоящим, что было нехарактерно для моего лихорадочного, расчетливого и авантюрного склада ума. Я так увлекся происходящим, что несколько часов кряду ни о чем не беспокоился и ни на что не отвлекался.
Это было невероятно, абсолютно невероятно. В своей эйфории я проникся уверенностью, что навеки сохраню воспоминание об этом на первый взгляд ничем не примечательном дне.
Обратный путь в Джорджтаун подчас казался мне невыполнимым подвигом. Не успел я покинуть Мемориал Джефферсона, а небо уже заволокли тучи, и оно быстро окрасилось в уныло-жестяной цвет. Свет засыхал, словно жидкость.
Но мне нравились и более меланхоличные проявления жизни. Меня гипнотизировал вид смертных, суетливо запирающих магазины и спешащих навстречу ветру с полными сумками продуктов, вид загорающихся фонарей, ярких и почти веселых на фоне сгущающегося мрака.
Сумерек не будет, понял я. Как грустно! Но вампиром я часто созерцал сумерки. Что же мне жаловаться? Тем не менее на одну секунду я пожалел, что провожу это бесценное время в пасти свирепой зимы. Но по непонятным мне самому причинам я хотел именно этого. Зима, суровая, как зимы моего детства. Как зима в Париже, когда Магнус понес меня в свое логово. Я был удовлетворен. Я был доволен.
Добравшись до агентства, даже я уже понимал, что жар и простуда меня доконали и придется искать жилье и пищу. К своей большой радости, я обнаружил, что деньги прибыли. Для меня отпечатали новую кредитную карточку на имя Лайонела Поттера – один из моих парижских псевдонимов – и подготовили полный бумажник дорожных чеков. Я рассовал все это по карманам и на глазах потрясенного клерка сунул туда же и тридцать тысяч долларов.
– Вас непременно кто-нибудь ограбит! – прошептал он, перегибаясь через стойку.
Я с трудом воспринимал его слова о том, что нужно побыстрее отнести деньги в банк, пока он не закрылся. А потом пойти в больницу, успеть до метели. Сейчас у многих грипп, такое впечатление, что каждую зиму чуть ли не эпидемия начинается.
Чтобы облегчить себе жизнь, я со всем согласился, но не имел ни малейшего намерения провести оставшиеся часы смертной жизни в лапах врачей. К тому же этот шаг был излишним. Все, что мне нужно, решил я, – это горячая пища, горячее питье, мягкая гостиничная постель и покой. Тогда я смогу вернуть Джеймсу тело в сносном состоянии и благополучно перескочить в собственную оболочку.
Но прежде всего надо переодеться. Было только четверть четвертого, у меня оставалось еще почти двенадцать часов, и я ни минутой дольше не собирался терпеть эти грязные, жалкие тряпки!
Я оказался у большого изысканного торгового центра Джорджтауна как раз в момент закрытия – люди спешили домой, чтобы не попасть в метель, но мне удалось уговорить служащих пропустить меня в отдел дорогой одежды, где я на глазах нетерпеливого клерка набрал целую кучу всевозможных вещей, которые могли мне понадобиться. Когда я передавал ему пластиковую карточку, на меня нахлынула волна головокружения. Меня позабавило то, что он внезапно забыл о своем нетерпении и принялся предлагать мне разнообразные шарфы и галстуки. Я с трудом понимал, о чем он говорит. Ладно, заверните. Все это мы отдадим мистеру Джеймсу завтра, в три часа пополуночи. Мистер Джеймс любит получать вещи даром. Конечно, еще один свитер, да, и шарф – почему бы и нет?
Ухитрившись сбежать от него с тяжелым грузом блестящих коробок и мешков, я испытал новый приступ головокружения. Вокруг меня разверзлась чернота, я вполне мог упасть и потерять сознание. Мне на помощь пришла приятная молодая женщина:
– У вас такой вид, точно вы сейчас упадете в обморок!
Теперь я чрезмерно вспотел, и даже в теплом торговом центре мне было холодно.
– Мне нужно только такси, – объяснил я ей.
Но найти его было невозможно. Толпа на Эм-стрит изрядно поредела, и снова начался снегопад.
В нескольких кварталах отсюда я приметил красивый кирпичный отель, носящий очаровательное романтическое название «Четыре времени года». К этой цели я и направился, помахав на прощанье прекрасному доброму юному созданию и нагнув голову, чтобы защититься от злобного ветра. «В “Четырех временах года” мне будет тепло и покойно, – весело думал я, с удовольствием произнося про себя это исполненное смысла название. – Я смогу там пообедать, и мне не придется возвращаться в жуткий дом, пока не подойдет час обмена».
Дойдя до вестибюля гостиницы, я нашел ее более чем удовлетворительной и выложил круглую сумму в залог того, что в течение моего проживания Моджо будет вести себя столь же аккуратно и воспитанно, как и я сам. Апартаменты оказались роскошными, окна выходили на Потомак, бледный ковер простирался до горизонта, ванная подошла бы и для римского императора, в красивых деревянных шкафчиках прятались телевизоры, холодильники и великое множество прочих приспособлений для удобства клиентов.
Я немедленно заказал для нас с Моджо настоящий пир, потом открыл маленький бар, набитый сластями, разного рода вкусностями и спиртными напитками, и налил себе лучшего шотландского виски. Ну и гадость. Черт, как только Дэвид его пьет? Шоколадка оказалась получше. Черт возьми, настоящая фантастика! Я проглотил ее целиком, потом перезвонил в ресторан и добавил к своему заказу все шоколадные десерты, которые значились в меню.
Дэвид, нужно позвонить Дэвиду, подумал я. Но выбраться из кресла и дойти до телефона, стоящего на столе, представлялось мне абсолютно невозможным. И мне столько нужно было обдумать. К черту неудобства, это был неплохой эксперимент! Я уже почти привык к этим огромным рукам, болтающимся на дюйм ниже положенного, к пористой смуглой коже. Только не засыпать! Не терять вре…
Я очнулся от звонка! Я заснул! Прошло добрых полчаса смертного времени. Я с трудом поднялся на ноги, словно с каждым движением поднимал кирпичи, и каким-то образом умудрился открыть дверь горничной – привлекательной немолодой женщине со светло-золотистыми волосами, которая вкатила в гостиную моего номера покрытый скатертью столик, уставленный яствами.
Стейк я отдал Моджо, предварительно расстелив перед ним в качестве скатерти полотенце из ванной, и он принялся жадно жевать, опустившись для этого на пол, как делают только очень большие собаки, и из-за этого стал выглядеть настоящим чудовищем, похожим на льва, лениво обгладывающего христианина, беспомощно пригвожденного к земле могучими лапами.
Я сразу же выпил горячий суп, не особенно прочувствовав его вкус, однако при такой кошмарной простуде ничего другого не следовало и ожидать. Вино оказалось чудесным, намного вкуснее, чем заурядное пойло, что я пил вчера ночью, хотя в сравнении с кровью вкус его был весьма ненасыщенным. Я осушил два бокала и готовился проглотить «пасту», как они выражались, когда поднял глаза и осознал, что капризная горничная еще не ушла.
– Вы больны, – сказала она, – совсем больны.
– Чепуха, ma chére, – ответил я, – у меня простуда, смертная простуда, ни больше, ни меньше. – Я сунул руку в карман рубашки в поисках пачки денег, протянул ей несколько двадцаток и велел уходить. Она медлила.
– Вы сильно кашляете, – сказала она. – Похоже, вы совсем заболели. Вы долго пробыли на улице, да?
Я уставился на нее, сраженный ее заботливостью, и понял, что мне угрожает серьезная опасность залиться глупыми слезами. Я хотел предупредить ее, что я – чудовище, что это тело ворованное. Какая же она ласковая, она явно привыкла проявлять доброту.
– Все мы связаны друг с другом, – сказал я, – все человечество. Мы должны заботиться друг о друге, правда? – Я рассчитывал, что мои слезливые сантименты, выраженные с пьяной эмоциональностью, приведут ее в ужас и тогда она уйдет. Но она не ушла.
– Да, правда, – ответила она. – Давайте я вызову врача, пока погода вконец не испортилась.
– Нет, драгоценная моя, идите, – сказал я.
Бросив на меня еще один озабоченный взгляд, она все-таки вышла.
Съев целую тарелку извилистой лапши в сырном соусе и не почувствовав никакого вкуса, кроме соли, я начал подумывать, что она была права. Я пошел в ванную и включил свет. Человек в зеркале выглядел воистину паршиво – глаза налиты кровью, все тело дрожит, обычно смуглая кожа пожелтела, если не сказать – мертвецки бледна.
Я пощупал лоб, но что толку? Естественно, я от этого не умру, решил я. Но полной уверенности не было. Я вспомнил выражение лица горничной и озабоченность людей, которые заговаривали со мной на улицах. Меня сотряс новый приступ кашля.
Нужно что-то предпринять, думал я. Но что? Вдруг врачи дадут мне сильное успокоительное, которое вызовет такое онемение, что я не смогу вернуться в дом? И вдруг лекарства помешают мне концентрировать внимание, и мы не сможем совершить обмен? Господи, я ведь даже не пробовал подняться из этого человеческого тела – трюк, которым я прекрасно владел в прежней оболочке.
Я и не хотел пробовать. Вдруг я не смогу вернуться?! Нет, для такого эксперимента лучше подождать Джеймса и держаться подальше от докторов со шприцами!
Зазвенел звонок. Это пришла добросердечная горничная, на сей раз она принесла полный мешок лекарств – пузырьки с яркими красными и зелеными жидкостями и пластиковые коробочки с таблетками.
– Лучше бы вы вызвали врача, – сказала она, выставляя их на мраморный туалетный столик. – Хотите мы вызовем?
– Ни в коем случае, – решительно возразил я, вручая ей еще несколько купюр и выводя ее за порог.
– Но подождите! – воскликнула она. – Пожалуйста, позвольте хотя бы вывести собаку – она же только что поела!
О да, великолепная идея. Я сунул ей в руку новые банкноты. Я велел Моджо идти с ней и делать все, что она скажет. Похоже, Моджо заворожил ее. Она пробормотала несколько слов о том, что у него голова больше, чем у нее.
Я вернулся в ванную и посмотрел на принесенные пузырьки. Я относился к этим лекарствам с подозрением. Но с моей стороны будет не очень любезно возвращать Джеймсу больное тело. А вдруг Джеймс его не примет? Нет, вряд ли. Он заберет свои двадцать миллионов, а в придачу – кашель и простуду.
Я глотнул отвратительной зеленой микстуры, поборов приступ тошноты, а потом заставил себя пройти в столовую, где и рухнул у письменного стола.
Там лежала писчая бумага, а также шариковая ручка, которая неплохо писала – скользко, игриво, как и все шариковые ручки. Я принялся писать, обнаружив, что этими большими пальцами двигать не так уж легко, но не останавливался, во всех подробностях рассказывая обо всем, что видел и чувствовал.
Я все писал и писал, хотя с трудом удерживал голову в вертикальном положении и едва мог дышать – настолько мне было плохо. Наконец, когда кончилась бумага и я уже сам не разбирал свой почерк, я затолкал заметки в конверт, облизнул его, запечатал и указал на нем адрес своей квартиры в Новом Орлеане, а потом положил в карман рубашки, под свитер, чтобы оно не потерялось.
Потом я растянулся на полу. Теперь наступит сон. Он займет большую часть моих оставшихся смертных часов, но ни на что другое у меня не остается сил.
Но заснул я не особенно крепко. У меня поднялась температура, и мне было слишком страшно.
Я помню, как ласковая горничная привела Моджо и повторила, что я заболел. Я помню, как забрела ночная горничная, которая провозилась там несколько часов. Помню, как рядом лег Моджо, какой он был теплый, как я прижался к нему, наслаждаясь его запахом, приятным, чудесным запахом шерсти, пусть он и не казался мне таким сильным, как в старом теле, и в какой-то момент мне почудилось, будто я снова во Франции, в замке своего детства.
Но воспоминания детства в какой-то мере стерлись новыми ощущениями. Иногда я открывал глаза, видел ореол вокруг зажженной лампы, черные окна, в которых отражалась мебель, и воображал, будто слышу, как на улице падает снег.
В какой-то момент я встал на ноги и направился в ванную, сильно ударился головой о косяк двери и упал на колени. Mon Dieu, что за пытки! Как только смертные их переносят? Как их переносил я? Ну и боль! Как будто под кожей разливается жидкость.
Но впереди меня ждали еще более тяжкие испытания. Острое отчаяние заставило меня воспользоваться туалетом, как от меня и требовалось, после чего я аккуратно почистился – ну и гадость! И вымыл руки. Снова и снова, содрогаясь от отвращения, намыливал я руки! Обнаружив, что лицо этого тела уже покрылось густой тенью грубой щетины, я засмеялся. Настоящая корка на верхней губе, на подбородке, она спускается даже за воротник моей рубашки. На кого я похож? На безумца, на отщепенца. Но все эти волосы мне не сбрить. У меня нет бритвы, а если бы и была, я бы точно перерезал себе горло.
Какая грязная рубашка! Я забыл надеть купленную одежду, но сейчас, наверное, уже слишком поздно. С тупым удивлением я увидел, что на часах – два часа ночи. Господи Боже, час превращения уже совсем близко.
– Пошли, Моджо, – сказал я, и мы предпочли воспользоваться не лифтом, а лестницей, что оказалось не особенным подвигом, так как от земли нас отделял всего один этаж; потом проскользнули через тихий, пустынный вестибюль и вышли на ночную улицу.
Повсюду намело сугробы снега. На машине по дорогам было не проехать, и изредка я опять падал на колени, зарываясь руками глубоко в снег, а Моджо лизал меня в лицо, как будто пытался согреть. Но я продолжал нелегкое восхождение на холм, невзирая на состояние души и тела, пока наконец не завернул за угол и не увидел впереди огни знакомого дома.
Темную кухню уже завалило глубоким мягким снегом. Мне казалось, что пробраться через него будет несложно, пока не выяснилось, что вчерашнее ненастье покрыло его коркой весьма скользкого наста.
Тем не менее мне удалось благополучно добраться до гостиной, и я, дрожа, улегся на пол. Только тогда я понял, что забыл забрать пальто, а в его карманах – все деньги. В рубашке осталось лишь несколько банкнот. Но это ерунда. Скоро появится Похититель Тел. Я получу назад свое тело, свою силу! И уж тогда я предамся воспоминаниям, благополучно укрывшись в своем новоорлеанском гнездышке, где меня не коснутся ни болезни, ни холод, где исчезнут боль и мучения, где я снова стану Вампиром Лестатом и смогу парить высоко над крышами, простирая руки к далеким звездам.
По сравнению с отелем в доме было морозно. Я перевернулся, пристально посмотрел в камин и попытался мысленно зажечь дрова. Тут я рассмеялся, вспомнив, что я еще не Лестат, но скоро прибудет Джеймс.
– Моджо, я больше ни секунды не могу находиться в этом теле, – прошептал я.
Пес уселся перед выходящим на улицу окном и тяжело задышал, выглядывая в ночную темень; на тусклом стекле осели капельки пара.
Я пытался не засыпать, но не получалось. Чем больше я мерз, тем больше мне хотелось спать. И тогда мной овладела ужасная, страшная мысль. Вдруг я в нужный момент не смогу подняться над этим телом? Если я не могу зажечь огонь, если я не умею читать мысли, если я не…
Впав в состояние полудремы, я попробовал проделать со своим сознанием этот маленький трюк. Я довел свой рассудок до грани, отделяющей сон от бодрствования. Я ощутил восхитительную вибрацию, которая часто предшествует подъему духа над телом. Но ничего из ряда вон выходящего не случилось. Я попробовал еще раз. «Наверх!» – скомандовал я. Я попытался представить, как моя неземная форма вырывается на свободу и взлетает под потолок. Не вышло. С тем же успехом я мог попробовать расправить крылышки. А я так устал, мне было так плохо. Я накрепко прицепился к этим безнадежным конечностям, приклеился к больной груди и едва мог свободно вздохнуть.
Но скоро придет Джеймс. Колдун, кому хорошо знаком этот трюк. Да, Джеймс, жаждущий получить двадцать миллионов, несомненно возьмет на себя руководство процессом.
Когда я открыл глаза, светило солнце.
Я резко сел и уставился прямо перед собой. Ошибки быть не могло. Солнце уже стояло высоко и через передние окна разливало поток света на покрытый лаком пол. На улице послышался шум транспорта.
– Господи, – прошептал я по-английски, так как Mon Dieu имеет несколько иной оттенок. – Господи! Господи!! Господи!!!
Я снова лег, грудь моя высоко вздымалась, и поначалу я был до того потрясен, что не мог ни связно мыслить, ни связно воспринимать события, ни решать, впадаю ли я в ярость или поддаюсь слепому страху. Потом я медленно поднял руку, чтобы посмотреть на часы. Одиннадцать сорок семь утра.
Меньше чем через пятнадцать минут состояние в двадцать миллионов долларов, переданных на хранение в банк, находящийся в центре города, перейдет к прежнему владельцу, Лестану Грегору, моей очередной ипостаси, а я брошен здесь, в этом теле, Рагланом Джеймсом, который, очевидно, не вернулся в этот дом до рассвета, чтобы осуществить обмен телами, что являлось частью нашей сделки, и теперь, отказавшись от огромного состояния, скорее всего, возвращаться не собирался вовсе.
– О Боже, помоги мне! – проговорил я вслух, в горле тут же поднялась мокрота, и кашель ножом ударил мне в грудь. – Так я и знал, – прошептал я. – Так и знал. – Что же я за дурак, что за невероятный дурак!
«Ах ты жалкий негодяй, – думал я, – презренный Похититель Тел, тебе это так просто не пройдет, будь ты проклят! Как ты посмел мне такое устроить? Как ты посмел?! И это тело! Тело, в котором ты меня бросил, – это единственное, что поможет мне тебя выследить, а оно по-настоящему, серьезно заболело.
Когда я, спотыкаясь, выбрел на тротуар, было ровно двенадцать дня. Но какая разница? Я не помнил ни названия банка, ни адреса. В любом случае я не видел смысла в том, чтобы туда идти. К чему требовать двадцать миллионов, которые через сорок пять секунд и так ко мне вернутся? И куда мне тащить эту дрожащую массу плоти?
В отель – забрать деньги и одежду?
В больницу за лекарством, в котором я отчаянно нуждался?
Или в Новый Орлеан, к Луи, к Луи, который должен мне помочь, к Луи, который, возможно, единственный, кто сможет помочь. И как мне найти этого жалкого саморазрушителя, Похитителя Тел, если Луи не придет мне на помощь? Да, но что сделает Луи, когда я обращусь к нему? Какое суждение он вынесет, узнав, что я натворил?
Я падал. Я терял равновесие. Я потянулся к железным перилам, но слишком поздно. Ко мне бежал какой-то мужчина. Я ударился головой о ступеньку, и затылок взорвался болью. Я закрыл глаза и стиснул зубы, чтобы не закричать. Потом снова открыл глаза и увидел над собой удивительно спокойное голубое небо.
– Вызовите «скорую», – сказал кому-то мужчина. Темные безликие силуэты на фоне сияющего неба, яркого безопасного неба.
– Нет! – пытался кричать я, но изо рта вырывался только хриплый шепот. – Мне нужно попасть в Новый Орлеан! – Я сбивчиво пытался рассказать об отеле, деньгах, одежде, пусть мне кто-нибудь поможет, пусть вызовет такси, мне безотлагательно нужно уезжать из Джорджтауна в Новый Орлеан.
А дальше я очень тихо лежал в снегу. И думал – какое прелестное небо, и бегущие по нему тонкие белые облака, и даже смутные тени, что окружили меня, – люди, которые так тихо, украдкой перешептывались между собой, что я их не слышал. А Моджо лаял, Моджо все лаял и лаял. Я пытался заговорить, но не смог, не смог даже сказать ему, что все будет в порядке, в полном порядке.
Подошла маленькая девочка. Я различил ее длинные волосы, ее взбитые рукава и развевающуюся по ветру ленту. Она смотрела на меня сверху вниз, как и все остальные, ее лицо оставалось в тени, но небо над ней вспыхнуло опасным пугающим светом.
– Боже мой, Клодия, это же солнце, уходи с солнца! – крикнул я.
– Лежите спокойно, мистер, сейчас за вами приедут.
– Полежи молча, приятель.
Где она? Куда она делась? Я закрыл глаза и прислушался к цоканью каблучков на мостовой. Неужели я услышал смех?
«Скорая помощь». Кислородная маска. Игла. И я все понял.
Все очень просто: я умру в этом теле! Умру, как миллиард других смертных. Да, вот в чем причина, вот почему ко мне обратился Похититель Тел, Ангел Смерти, который дал мне тот способ, что я искал во лжи, гордыне и самообмане. Я умру.
Но я не хотел умирать!
– Господи, прошу тебя, только не так, только не в этом теле, – шептал я, закрыв глаза. – Не сейчас, подожди. О, прошу тебя, я не хочу! Я не хочу умирать. Не дай мне умереть. – Я плакал. Я был разбит, перепуган – и рыдал. Но это же высшая ступень, не так ли? Господи Боже, никогда еще мне не открывалась более совершенная модель – малодушный монстр, который ушел в пустыню Гоби не в поисках божественного огня, но из гордыни, гордыни и еще раз гордыни.
Я зажмурился. Я чувствовал, как по лицу текут слезы.
– Не дай мне умереть, пожалуйста! – продолжал шептать я. – Пожалуйста, не дай мне умереть! Только не сейчас, только не так, не в этом теле! Помоги мне!
До меня дотронулась маленькая ладошка, пытаясь взять меня за руку, и готово – она крепко прижалась ко мне, нежная и теплая. Какая теплая! Какая маленькая!
«И ты знаешь, чья это рука, знаешь, но слишком напуган, чтобы открыть глаза. Если она рядом, значит, ты действительно умираешь».
Я не могу открыть глаза. Мне страшно, как же мне страшно! Дрожа и всхлипывая, я так крепко сжал ее ручку, что наверняка раздавил ее, но глаз не открывал.
«Луи, она здесь! Она пришла за мной! Помоги мне, Луи, пожалуйста! Я не могу смотреть на нее! И не буду! Я не могу высвободить руку! Но где ты? Спишь, зарывшись в землю глубоко под своим диким, запущенным садом, где на цветы светит зимнее солнце, спишь, пока не наступит ночь».
«Мариус, помоги мне! Пандора, где бы ты ни была, помоги мне! Хайман, приди, помоги мне! Арман, мы больше не ненавидим друг друга! Ты нужен мне! Джесс, ты этого не допустишь!»
О, тихая жалобная молитва демона под аккомпанемент сирены! Не открывай глаза! Не смотри на нее! Если посмотришь, все будет кончено!
Звала ли ты на помощь в последние минуты, Клодия? Было ли тебе страшно? Видела ли ты, как солнце, словно адское пламя, заливает воздух, – или же великий и прекрасный свет наполнил мир любовью?
Теплым ароматным вечером мы вместе стояли на кладбище, по небу, сочившемуся мягким фиолетовым светом, рассыпались далекие звезды. Да, все цвета тьмы. Взгляни на ее сияющую кожу, на темный кровавый шрам ее губ, на сочный цвет ее глаз. В руках она держала желто-белый букет хризантем. Никогда мне не забыть тот аромат.
«Здесь похоронена моя мама?»
«Не знаю, petite chérie. Я даже не знал, как ее зовут. Когда я увидел ее, она разлагалась, по глазам ползали муравьи, забиравшиеся в открытый рот».
«Ты должен был выяснить, как ее звали. Должен, ради меня. Я хотела бы знать, где ее похоронили».
«Это было полвека назад, chérie. Ненавидь меня за что-нибудь поважнее. Ненавидь меня, если хочешь, за то, что не лежишь сейчас рядом с ней. Думаешь, она бы тебя согрела? А кровь греет, chérie. Пойдем со мной, пей кровь, как умеем только мы с тобой. Мы можем пить кровь до конца света».
«Ах, у тебя на все ответ найдется». – Какая холодная улыбка. В тени в ней почти видна была женщина, бросающая вызов вечной печати детской прелести, неизбежно манящей целовать ее, обнимать, любить.
«Мы есть смерть, ma chérie, смерть есть конечный ответ. – Я подхватил ее на руки, почувствовал, как она прижалась ко мне, и целовал, целовал ее вампирскую кожу. – После смерти вопросов нет».
Ее рука легла мне на лоб. «Скорая помощь» неслась на полной скорости, как будто за ней по пятам гналась сирена, как будто сирена гнала ее вперед. Она положила руку мне на веки. Я не буду на нее смотреть!
«О, пожалуйста, помоги мне…» – произносит жуткую молитву своим сторонникам дьявол, падающий все глубже и глубже в ад.
Глава 13
«Да, я знаю, куда мы попали. Ты с самого начала старалась привести меня обратно в маленькую больницу. Какая она теперь заброшенная, какая примитивная – глиняные стены, окна с деревянными ставнями, выстроившиеся в ряд кроватки из необработанной древесины. Но ты там, в кровати, не так ли? Да, мне знакомы и сиделка, и старый круглоплечий доктор, я вижу и тебя – вон там, в постели, это ты, малышка с выбившимися поверх одеяла кудрями, а там – Луи…
Ну хорошо, я-то здесь зачем? Я знаю, это сон. Это не смерть. Смерти вообще-то люди безразличны».
«Ты уверен?» – спросила она.
Она сидела на стуле с прямой спинкой, золотые волосы повязаны голубой лентой, на ногах – синие атласные туфельки. Так, значит, это она лежала там, в кроватке, а теперь сидела на стуле, моя французская куколка, моя красавица с красиво изогнутыми в подъеме ступнями и идеальной формы ручками.
«А ты – ты здесь, с нами, ты лежишь в кровати в приемном покое, в Вашингтоне, округ Колумбия. Ты же понимаешь, что умираешь, не так ли?»
– Тяжелая форма гипотермии, отнюдь не исключена возможность пневмонии. Но откуда нам знать, чем он мог заразиться? Вколите ему антибиотики. Пока что мы никоим образом не можем поставить его на кислород. Если отправить его в университет, он может умереть и там.
– Не дайте мне умереть. Пожалуйста… Мне так страшно.
– Мы здесь, рядом с вами, мы о вас позаботимся. Скажите, как вас зовут? Есть ли у вас родственники, мы бы им сообщили…
«Давай, расскажи им, кто ты такой на самом деле», – посоветовала она с серебристым смешком; у нее всегда был такой нежный, такой красивый голос. Я помню, какие мягкие на ощупь ее крошечные губки. Мне нравилось игриво прижимать палец к ее нижней губе, когда я целовал ее веки и гладкий лоб.
«Не умничай, крошка! – сквозь зубы ответил я. – Кстати, кто я такой?»
«Не человек, если ты об этом. Ничто на свете не превратило бы тебя в человека».
«Ладно, даю тебе пять минут. Зачем ты привела меня сюда? Чего ты добиваешься – чтобы я сказал, будто мне очень жаль, что я вынул тебя из кровати и сделал вампиром? Хорошо, хочешь услышать правду, правду того, кто находится на смертном одре? Не знаю, жаль мне или нет. Мне жаль, что ты страдала. Мне вообще жаль, когда другие страдают. Но я не уверен, что сожалею о содеянном».
«Неужели ты ничуть не боишься стоять на своем?»
«Если меня не спасет правда, то и ничто не спасет».
Как же мне был противен этот запах болезни, запах маленьких тел, лежащих в жару под рваными покрывалами, вся эта обшарпанная нищенская больница, где я побывал несколько веков назад.
«В аду пребудет отец мой, и имя ему – Лестат».
«А ты? Когда солнце сожгло тебя дотла в вентиляционном колодце Театра вампиров, ты попала в ад?»
Смех, высокий чистый смех, словно золотые монеты посыпались из кошелька.
«Не скажу!»
«Теперь я понимаю, что это сон. От начала до конца. Кому захочется восставать из мертвых, чтобы наговорить кучу тривиальной чепухи?»
«Так всегда бывает, Лестат. Не нервничай. Я не хочу, чтобы ты отвлекался. Взгляни на эти кроватки, взгляни на больных, несчастных детей».
«Я забрал тебя от них».
«Ах да, как Магнус забрал тебя от твоей жизни, а взамен оставил кое-что чудовищное и порочное. Ты сделал меня убийцей моих братьев и сестер. Мое грехопадение началось в тот момент, когда ты протянул ко мне руки и вынул меня из кроватки».
«Нет, нельзя винить во всем одного меня. Я не согласен. Разве отец в ответе за преступления своего ребенка? Пусть так, что с того? Кто будет вести счет? Вот в чем проблема, как ты не понимаешь? Счет вести некому».
«Значит, мы убиваем по справедливости?»
«Я дал тебе жизнь, Клодия. Нет, не навсегда, но то была жизнь, и даже наша жизнь лучше, чем смерть».
«Какой же ты лжец, Лестат! Даже наша жизнь, говоришь? Ведь на самом деле ты считаешь, что наша проклятая жизнь лучше, чем настоящая жизнь. Признайся. Посмотри на себя в этом человеческом теле. Помнишь, как ты его ненавидел?»
«Ты права. Признаюсь. Ну а теперь поговорим начистоту, моя красавица, моя чаровница. Ты действительно предпочла бы умереть в своей постельке, чем жить той жизнью, что я дал тебе? Давай, говори! Или мы в смертном суде, где лжет и судья, и адвокат, а правду обязаны говорить только те, кто находится на месте свидетеля?»
Она бросила на меня задумчивый взгляд, перебирая пухлой ручкой расшитую оборку своего платья. Когда она опустила глаза, на ее щеках и темном ротике заиграл свет. Что за создание! Вампирская куколка.
«А разве у меня был выбор? – спросила она, неподвижно уставившись в пустоту огромными лучащимися глазами. – Когда ты сделал свое грязное дело, я еще не дожила до сознательного возраста; да, кстати, отец, мне всегда было интересно – ты получил удовольствие, когда дал мне высосать кровь из твоей руки?»
«Какая разница, – прошептал я и перевел взгляд с нее на умирающего беспризорника под одеялом. Я увидел, как от кровати к кровати апатично переходит сиделка в порванном платье, с собранными на затылке волосами. – Смертных детей зачинают в удовольствии, – сказал я, но уже не был уверен, что она слушает. Я не хотел смотреть на нее. – Я не умею врать. Мне все равно, есть ли на свете суд или присяжные. Я…»
– Не пытайтесь разговаривать. Я дала вам несколько препаратов, они вам помогут. У вас уже спадает жар. Мы стараемся ликвидитровать закупорку в легких.
– Не дайте мне умереть, прошу вас. Я еще не закончил, это чудовищно. Если ад есть, я попаду в ад, но я думаю, что его нет. Но если и есть, то это такая же больница, только в ней полно больных детей, умирающих детей. Но мне кажется, что будет только смерть.
– Больница, полная детей?
«Ты только посмотри, как она улыбается тебе, как кладет руку на лоб. Женщины тебя любят, Лестат. Она любит тебя даже в этом теле, только посмотри на нее. Какая любовь!»
«Почему бы ей обо мне не заботиться? Ведь она сиделка. А я – умирающий пациент».
«Умирающий пациент, да какой красивый! Можно было не сомневаться, что ты не пойдешь на этот обмен, если тебе не предложат красивое тело. Какой же ты тщеславный, поверхностный! Только посмотри на это лицо. Еще красивее, чем твое собственное!»
«Так далеко я не зашел бы!»
Она одарила меня саркастической улыбкой, и лицо ее засветилось на фоне тусклой, мрачной комнаты.
– Не волнуйтесь, я здесь. Я посижу с вами, пока вам не станет лучше.
– Я видел смерть стольких людей. Я сам был причиной их смерти. Как прост и обманчив тот момент, когда жизнь покидает тело. Она просто ускользает».
– Вы говорите безумные вещи.
– Нет, вы же понимаете, что я говорю правду. Не стану утверждать, будто исправлюсь, если выживу. Наверное, это невозможно. Но я до смерти боюсь смерти. Не отпускайте мою руку.
«Лестат, зачем мы здесь?»
Луи?
Я поднял глаза. Он стоял у двери палаты, озадаченный, слегка растрепанный – его обычный вид начиная с той ночи, когда я создал его, – уже не ослепленный гневом молодой смертный, но джентльмен Тьмы, со спокойными глазами, с душой, обладающей бесконечным терпением святого.
«Помоги мне встать, – сказал я, – мне нужно вынуть ее из кроватки».
Он протянул руку, но видно было, что он совершенно запутался. Разве он частично не повинен в том грехе? Нет, конечно нет, потому что он вечно брел вслепую, страдая, искупая тем самым каждый свой поступок. Дьяволом был я. Только я мог забрать ее из кроватки.
Теперь пора солгать доктору.
«Тот ребенок, вон там – это мой ребенок».
Ох, как же он обрадовался, что одним бременем стало меньше.
«Забирайте ее, месье, и благодарю вас. – Он с благодарностью глядел на золотые монеты, что я высыпал на кровать. Конечно, я это сделал. Конечно, я не упустил случая помочь им. – Да, спасибо вам. И да благословит вас Господь».
Благословит, а как же. Всегда благословлял. Я тоже его благословляю.
– Поспите. Как только освободится палата, мы перенесем вас, там вам будет удобнее.
– Почему их так много? Пожалуйста, не уходите.
– Нет, я побуду с вами. Я посижу рядом.
Восемь часов. Я лежал на каталке, из моего локтя торчала игла, в пластиковом мешке, наполненном какой-то жидкостью, удивительно красиво отражался свет, и мне прекрасно видны были часы. Я медленно повернул голову.
Рядом сидела женщина. На ней было пальто, очень черное на фоне белых чулок и толстых мягких белых туфель. Волосы ее были стянуты в тугой узел на затылке, она читала. У нее было широкое лицо – очень твердые кости, чистая кожа и большие, орехового цвета глаза. Брови – темные и прекрасной формы; когда она подняла на меня глаза, выражение ее лица мне понравилось. Она бесшумно захлопнула книгу и улыбнулась.
– Вам лучше, – сказала она. Выразительный мягкий голос. Под глазами – легкие голубые тени.
– Правда? – Шум резал мне уши. Сколько людей! Дверь то распахивалась, то захлопывалась.
Она встала, пересекла коридор и взяла меня за руку.
– О да, намного лучше.
– Значит, я не умру?
– Нет, – ответила она, но несколько неуверенно. Она намеренно демонстрировала мне свою неуверенность?
– Не дайте мне умереть в этом теле, – попросил я, облизывая губы. Какие сухие! Господи Боже, как я ненавижу это тело, ненавижу то, как поднимается грудь, ненавижу исходящий из меня голос и не могу выносить боль вокруг глаз.
– Ну вот, опять начинаете, – светло улыбнулась она.
– Посидите со мной.
– Я и сижу. Я же сказала, что не уйду. Я останусь с вами.
– Помогая мне, вы помогаете дьяволу, – прошептал я.
– Вы уже говорили.
– Хотите послушать всю историю?
– Только если при этом вы не будете волноваться и спешить.
– Какое у вас приятное лицо. Как вас зовут?
– Гретхен.
– Гретхен, вы ведь монахиня, да?
– Откуда вы узнали?
– Я вижу. Например, ваши руки, серебристая ленточка; потом ваше лицо – оно светится, как светятся только лица тех, кто верует. И тот факт, что вы остались со мной, Гретхен, в то время как они велели вам уйти. Я могу отличить монахиню. Я – дьявол и понимаю, когда передо мной добро.
Неужели у нее в глазах заблестели слезы?
– Вы надо мной смеетесь, – ласково сказала она. – У меня на кармане табличка. Здесь написано, что я монахиня, не так ли? Сестра Маргарита.
– Я ее не видел, Гретхен. Я не хотел, чтобы вы плакали.
– Вам лучше. Намного лучше. Думаю, с вами все будет в порядке.
– Я – дьявол, Гретхен. О нет, не сам Сатана, сын утра, бен Шарар. Но я плохой, очень плохой. Безусловно, демон первого разряда.
– Это вам кажется. У вас температура.
– Это было бы потрясающе! Вчера я стоял в снегу и пытался представить себе именно такую ситуацию: вся моя порочная жизнь не больше чем видение смертного человека. Нет, не выйдет, Гретхен. Вы нужны дьяволу. Дьявол плачет. Он хочет, чтобы вы взяли его за руку. Вы же не испугаетесь дьявола?
– Нет, если он нуждается в милосердии. Поспите. Сейчас вам принесут еще лекарство. Я не уйду. Ну вот, я поставлю стул рядом с кроватью, чтобы вы могли держать меня за руку.
«Лестат, что ты делаешь?»
Мы уже вернулись в номер гостиницы, намного более приятное помещение, чем зловонная больница, – я в любой момент предпочту хороший номер в гостинице зловонной больнице, – а Луи пил ее кровь, бедный беспомощный Луи.
«Клодия, Клодия, послушай меня, проснись, Клодия! Ты больна, слышишь, ты должна сделать как я скажу, чтобы поправиться. – Я разрезал свое запястье и, едва полилась кровь, поднес его к ее губам. – Так, дорогая, еще…»
– Вот, постарайтесь выпить немного. – Она просунула руку мне под шею. Ох, как больно поднимать голову.
– Такой водянистый вкус. Совсем не как у крови.
Веки ее опущенных глаз оказались тяжелыми и гладкими. Как гречанка кисти Пикассо – бесхитростная, ширококостная, изящная и сильная. Интересно, кто-нибудь целовал ее монашеский рот?
– Здесь умирают, правда? Поэтому в коридорах полно народа. Я слышу, как плачут люди. Эпидемия, да?
– Плохие времена, – ответила она, едва шевеля девственными губами. – Но вы поправитесь. Я с вами.
Как же разозлился Луи!
«Ну зачем, Лестат?»
«Потому что она была красавицей, потому что она умирала, потому что мне хотелось посмотреть, что получится. Потому что она была никому не нужна, потому что она лежала там, а я поднял ее на руки и прижал к себе. Потому что это было в моих силах – словно зажечь новую свечку в церкви, не загасив предыдущую, – это мой единственный способ созидания, как ты не понимаешь? Только что нас было двое, а теперь – уже трое».
Он стоял в длинном черном плаще, такой несчастный, но не мог отвести от нее глаз – от гладких щечек из слоновой кости, от крошечных ручек.
«Представь себе, ребенок-вампир! Такой, как мы».
«Я понимаю».
Кто это? Я удивился, но это был не Луи, это был Дэвид, он стоял рядом и держал в руках свою Библию. Луи медленно поднял глаза. Он не знал, кто такой Дэвид.
«Приближаемся ли мы к Богу, когда создаем из ничего нечто? Когда мы притворяемся огоньками и зажигаем новые огоньки?»
Дэвид покачал головой.
«Ужасная ошибка».
«Как и весь мир. Это наша дочка…»
«Я не ваша дочка. Я мамина дочка».
«Нет, дорогая, уже нет. – Я посмотрел на Дэвида: – Ну, отвечай».
«Зачем ты утверждаешь, что совершаешь свои поступки из высоких побуждений?» – спросил он, но так сочувственно, так мягко!
Луи все еще в ужасе смотрел на нее, на ее белые ножки. Соблазнительные ножки.
– И тогда я решился, мне было все равно, что он сделает с моим телом, если на двадцать четыре часа он предоставит мне эту человеческую оболочку, чтобы я мог увидеть солнце, почувствовать то же, что и смертные, познать их слабости и страдания… – Я сильнее сжал ее руку.
Она кивнула, еще раз вытерла мне лоб и пощупала пульс теплыми твердыми пальцами.
– …И я решился, будь что будет. О, я знаю, это было неправильно, нельзя было давать ему уйти с моей силой, но теперь вы видите, вы понимаете, что я не могу умереть в этом теле. Остальные даже не узнают, что со мной случилось. Если бы они знали, то пришли бы…
– Остальные вампиры, – прошептала она.
– Да.
И я принялся рассказывать ей о других вампирах, о том, как когда-то я искал их, думая, что стоит узнать историю, и все встанет на свои места… Я говорил и говорил, объяснял, кто мы такие, описывал свое путешествие сквозь века, рассказал, как потом меня манила рок-музыка – прекрасный театр для меня, то, к чему я стремился, и про Дэвида тоже, про Бога и дьявола в парижском кафе, про Дэвида, сидевшего у огня с Библией в руках, и как он сказал, что Бог несовершенен. Иногда я закрывал глаза, иногда открывал. И все это время она держала меня за руку.
Входили и выходили какие-то люди. Спорили врачи. Плакала женщина. На улице снова стало светло. Я понял это, когда отворилась дверь и по коридору пронеслась струя холодного воздуха.
– Как же мы выкупаем столько пациентов? – спросила медсестра. – Эту женщину необходимо изолировать. Позовите врача. Скажите – у нас на этаже случай менингита.
– Опять утро, да? Вы, должно быть, так устали, просидели со мной весь день и всю ночь. Мне страшно, но я понимаю, что вам пора идти.
Вносили новых больных. К ней подошел врач и сказал, что придется развернуть все каталки и поставить их головой к стене.
Врач сказал, что ей нужно идти домой. Только что заступила новая смена медсестер. Ей нужно отдохнуть.
Я что, плакал? Мне в руку вонзилась иголка, у меня пересохло в горле, потрескались губы.
– Мы официально даже не можем принять столько пациентов.
– Вы слышите меня, Гретхен? – спросил я. – Вы понимаете, что я говорю?
– Вы меня уже много раз спрашивали, – ответила она, – и каждый раз я отвечала, что слышу, понимаю, что я вас слушаю. Я вас не брошу.
– Милая Гретхен. Сестра Гретхен.
– Я хочу забрать вас с собой.
– Что вы сказали?
– К себе домой. Вам уже намного лучше, температура упала. Но если вы останетесь здесь… – На ее лице отразилось замешательство. Она поднесла чашку к моим губам, и я сделал несколько глотков.
– Понятно. Да, пожалуйста, заберите меня отсюда, прошу вас. – Я попытался сесть. – Мне страшно оставаться.
– Чуть позже, – сказала она, укладывая меня обратно на каталку. Она сняла повязку с моего локтя и вытащила зловещую иглу.
Господи, мне нужно в туалет! Неужели не будет конца этим омерзительным физическим потребностям? Черт, что же это за жизнь такая? Облегчиться, помочиться, поесть – и опять тот же цикл! Стоит ли это возможности видеть солнце? Мало того что я умираю, – мне еще и в туалет нужно. Но я бы не пережил необходимость еще раз воспользоваться судном, пусть даже почти его не помнил.
– Почему вы меня не боитесь? – спросил я. – Разве вы не считаете, что я – сумасшедший?
– Вы причиняете людям вред, только когда вы – вампир, – просто ответила она, – когда вы находитесь в своем законном теле. Так?
– Так, – сказал я, – это правда. Но вы совсем как Клодия. Ничего не боитесь.
«Что ты дурочку из нее делаешь, – послышался опять голос Клодии. – Ты и ей причинишь вред».
«Чепуха, она в это не верит», – ответил я.
Я сел на кушетку в гостиной нашего номера, изучая изысканно обставленную комнату, чувствуя себя среди хрупкой позолоченной старой мебели совсем как дома. Восемнадцатый век, мой век. Век жуликов и рациональных личностей. Cамый подходящий для меня век. Маленькие цветочки. Парча. Золоченые мечи и пьяный смех внизу, на улице.
У окна стоял Дэвид и смотрел на крыши колониального города. Бывал ли он прежде в этом веке?
«Нет, никогда! – с благоговением ответил он. – Каждая вещь отшлифована вручную, каждая неповторима. Как цепко творения человека держатся за природу, словно она с легкостью может ускользнуть назад, под землю».
«Уходите, Дэвид, – сказал Луи. – Вам здесь не место. Нам придется остаться. Ничего не поделаешь».
«Вот это уже отдает мелодрамой, – сказала Клодия. – Правда».
На ней все еще была грязная больничная рубашка. Ничего, это я скоро исправлю. Я принесу ей целые магазины кружев и лент. Я накуплю ей шелков, серебряных браслетиков и усеянных жемчугом колечек. Я обнял ее.
«Ах, как приятно, когда кто-то наконец говорит правду, – сказал я. – Какие прекрасные, нежные волосы, и теперь они останутся такими навсегда».
Я еще раз попробовал сесть, но бесполезно. По коридору мчались носилки, сопровождаемые с обеих сторон медсестрами, кто-то толкнул мою каталку, и вибрация отдалась во всем теле. Потом все стихло, и на больших часах с легким щелчком сдвинулись вперед стрелки. Мой сосед застонал и повернул голову. Его глаза скрывал широкий белый бинт, а рот выглядел странно обнаженным.
– Необходимо их всех изолировать, – произнес чей-то голос.
– Ну, пойдемте, я отвезу вас домой.
А Моджо, что стало с Моджо? А вдруг за ним пришли и увели его? В этот век собак уничтожали просто за то, что они – собаки. Нужно объяснить ей. Она уже поднимала меня – или пыталась поднять, просунув руку мне под плечи. Моджо, лающий в доме. Может быть, он не может выбраться?
Луи был печален.
«В городе чума».
«Но тебя она не коснется, Дэвид», – сказал я.
«Ты прав, – ответил он. – Но это еще не все…»
Клодия рассмеялась.
«Знаешь, она в тебя влюбилась».
«Ты могла умереть от чумы», – сказал я.
«А может, мой срок еще не пришел?»
«Ты веришь в то, что у каждого – свой срок?»
«Да нет, на самом деле, – ответила она. – Может быть, мне было проще обвинить во всем тебя. Видишь ли, я никогда не знала, что хорошо, а что – плохо».
«У тебя было время научиться», – сказал я.
«И у тебя тоже, намного больше времени, чем у меня».
– Слава Богу, вы меня забираете, – прошептал я. Я стоял на ногах. – Мне так страшно. Просто страшно, по-человечески страшно.
«Одним бременем для больницы меньше», – звонко смеялась Клодия, стуча ножкой по краю стула. На ней снова было красивое платье, с вышивкой. Так лучше, пожалуй.
– Красавица Гретхен, – произнес я. – Когда я так говорю, у вас загораются щеки.
Она улыбнулась, кладя мою левую руку себе на плечо и крепко обхватывая меня за талию.
– Я о вас позабочусь, – прошептала она мне в ухо. – Это не очень далеко.
Стоя на злом ветру рядом с ее машиной, я держал вонючий орган и смотрел, как желтая струя мочи врезается в тающий снег и оттуда поднимается пар.
– Боже мой! – сказал я. – Это почти приятно. Что же они за люди такие, что получают удовольствие от столь мерзких вещей?!
Глава 14
В определенный момент меня начало клонить в сон, я то дремал, то приходил в себя, сознавая, что мы находимся в маленьком автомобиле, что с нами Моджо, тяжело пыхтящий мне в ухо, что мы едем по заснеженным холмам. Меня укутали в одеяло, и движение машины вызывало у меня противную тошноту. К тому же меня трясло. Я плохо помнил, как мы вернулись в дом и нашли там терпеливо ожидавшего меня Моджо. Я смутно понимал, что могу умереть в этом автомобиле, работающем на бензине, если с ним столкнется другая машина. Такая вероятность казалась до боли реальной, не менее реальной, чем боль в груди. А Похититель Тел меня одурачил.
Гретхен не сводила спокойного взгляда с дороги, солнце освещало волоски, выбившиеся из густой, скрученной в узел косы, и гладкие красивые волны волос на висках, образуя мягкий, ласковый ореол вокруг ее головы. Монахиня, прекрасная монахиня, думал я, а глаза мои словно по собственной воле то закрывались, то открывались.
Но почему эта монахиня так добра ко мне? Потому что она – монахиня?
Вокруг царила тишина. На буграх за деревьями стояли дома, дома были и в долинах, совсем рядом друг с другом. Возможно, богатый пригород, небольшие деревянные особняки, которые состоятельные смертные подчас предпочитают популярным в прошлом веке дворцам.
Наконец мы въехали в переулок рядом с одним из этих строений, пробрались сквозь рощицу голых деревьев и плавно затормозили у маленького серого коттеджа – видимо, помещения для слуг или домика для гостей, расположенного в некотором отдалении от основного здания.
В комнатах оказалось тепло и уютно. Я хотел рухнуть в чистую постель, но был для этого слишком грязным и настоял, чтобы мне позволили вымыть это неприятное тело. Гретхен горячо запротестовала. Я болен, говорила она. Мне нельзя мыться. Но я не желал этого слушать. Я нашел ванную комнату и отказался выходить.
Я снова заснул, прислонившись к выложенной плиткой стене, пока Гретхен наполняла ванну. Пар мне понравился. Я видел, как у постели улегся Моджо, сфинкс, похожий на волка, и смотрел на меня сквозь открытую дверь. Считала ли она, что он похож на дьявола?
Я нетвердо стоял на ногах и невероятно ослаб, но все-таки разговаривал с Гретхен, пытаясь объяснить, как я оказался в таком затруднительном положении и что мне необходимо добраться до Луи в Новом Орлеане, чтобы он дал мне могущественную кровь.
Я тихо рассказывал ей о всякой всячине по-английски, переходя на французский лишь тогда, когда не мог подобрать подходящее слово, перескакивая из Франции моего времени в колонию в Новом Орлеане, где жил впоследствии, говорил о том, что за чудесный сейчас стоит век, о том, как я ненадолго превратился в рок-звезду, потому что считал, будто, став символом зла, принесу людям добро.
По человечески ли это – искать ее понимания, бояться, что умру у нее на руках и никто никогда не узнает, кем я был и что произошло?
Но ведь остальные все знали и не пришли мне на помощь.
Я и об этом ей рассказал. Я описал древнейших и их неодобрение. Что я еще упустил? Но она, как настоящая монахиня, должна понимать, до какой степени я стремился, став рок-музыкантом, творить добро.
– Настоящий дьявол может сделать что-то хорошее только одним способом, – сказал я. – Играть роль самого себя, чтобы выставить зло напоказ. Если только не считать, что он творит добро, когда сеет зло. Но в таком случае Бог получается чудовищем, правда? А дьявол – просто частью Божественного замысла.
Она выслушала эти слова внимательно, но не согласилась с ними. Однако меня не удивило, когда она ответила, что дьявол не был частью Божественного замысла. Она говорила тихим, полным смирения голосом. При этом она убирала мою грязную одежду, и мне казалось, что ей вообще не хочется разговаривать, но она старается меня успокоить. Дьявол был самым могущественным из ангелов, сказала она, и из гордыни отверг Бога. Зло не могло быть частью Божественного замысла.
Когда я спросил, знала ли она, сколько существует аргументов против христианства и насколько вся христианская религия противоречит логике, она спокойно ответила, что это не имеет значения. Значение имеет только добро. Вот и все. Все просто.
– О да, значит, вы поняли.
– Прекрасно поняла, – ответила она.
Но я-то знал, что она не понимает.
– Вы добры ко мне, – сказал я и ласково поцеловал ее в щеку; она помогла мне опуститься в теплую воду.
Я улегся в ванну и стал наблюдать, как она меня моет; я отметил, что мне приятно, как плещется теплая вода у меня на груди, как мягко трет кожу губка, – наверное, ничего лучше я пока не испытал. Но каким долговязым казалось мне это человеческое тело! Необычно длинные руки. Мне вспомнилась сцена из старого фильма – в ней неуклюже бродило, раскачивая ладонями, словно им не место на концах рук, чудовище Франкенштейна. Я чувствовал себя таким же чудовищем. Фактически не будет преувеличением сказать, что, став человеком, я ощущал себя настоящим чудищем.
Видимо, я сказал об этом вслух. Она велела мне помолчать. Она ответила, что у меня красивое сильное тело, в нем нет ничего неестественного. У нее был озабоченный вид. Я немного застеснялся, давая ей вымыть мне волосы и лицо. Она объяснила, что сиделки постоянно выполняют такую работу.
Она сказала, что провела всю жизнь за границей, в миссиях, выхаживая больных в таких грязных, лишенных всякого оборудования местах, что по сравнению с ними переполненная вашингтонская больница покажется райским сном.
Я следил, как ее глаза скользят по моему телу, и заметил, как к ее щекам прилила кровь, как она посмотрела на меня, охваченная стыдом и смущением. Она была на удивление невинна.
Я улыбнулся про себя, но боялся, что ее заденут собственные плотские чувства. Она находила мое тело соблазнительным – злая шутка и надо мной, и над ней. Но это, несомненно, была правда, и у меня заиграла кровь, несмотря на температуру и слабость. Да, это тело вечно к чему-то стремилось.
Я едва стоял, пока она вытирала меня полотенцем, но твердо решил не падать. Я поцеловал ее в макушку, и она медленно, неуверенно подняла на меня заинтригованные глаза. Я хотел поцеловать ее снова, но сил больше не было. Она очень аккуратно просушила мне волосы и мягко вытерла лицо. Уже очень долго никто ко мне так не прикасался. Я сказал, что люблю ее просто за ее добрые прикосновения.
– Как же я ненавижу это тело; в нем я как в аду.
– Что, так плохо? – спросила она. – Быть человеком?
– Не нужно надо мной подшучивать. Я знаю, вы не верите в то, что я рассказал.
– Да, но наши фантазии – то же самое, что и сны, – сказала она серьезно, чуть нахмурившись. – В них есть свой смысл.
Вдруг я увидел свое отражение в шкафчике для лекарств: высокий мужчина с карамельного оттенка кожей, с густыми коричневыми волосами, а рядом с ним – широкая в кости женщина с мягкой кожей. От потрясения у меня чуть не остановилось сердце.
– Господи, помоги мне, – прошептал я. – Я хочу свое тело. – Я чуть не плакал.
Она заставила меня лечь в постель, на подушки. По комнате разливалось приятное тепло. Она начала брить меня, слава Богу! Я терпеть не мог волосы на лице. Я сказал ей, что когда умер, то был чисто выбрит по моде того времени, а став вампиром, уже не меняешься. Мы, правда, постоянно белеем и набираемся сил; и лица у нас разглаживаются. Но волосы у нас остаются прежней длины, как и ногти, и борода, если она есть; а у меня ее, в принципе, еще и не было.
– И эта трансформация прошла болезненно? – спросила она.
– Болезненно, потому что я сопротивлялся. Я этого не хотел. Я толком не понимал, что со мной делают. Мне казалось, что некий монстр из средневековья похитил меня и утащил из цивилизованного города. Вы, должно быть, помните, что в те времена Париж был чудесным цивилизованным городом. О, если бы вы перенеслись туда сейчас, вам бы показалось, что это неописуемо варварское место, но для деревенского дворянина из замшелого замка это был потрясающий город: театры, опера, придворные балы. Вы и представить себе не можете. А потом – трагедия, появившийся из мрака демон, который уволок меня к себе в башню. Но сам процесс, Обряд Тьмы? Это не больно, это экстаз. А потом открываешь глаза, и все человечество представляется тебе прекрасным, ты смотришь на него новыми глазами.
Я надел чистую нижнюю рубашку, которую она мне протянула, забрался под одеяла и позволил ей укутать меня до подбородка. Мне казалось, что я куда-то плыву. Одно из самых приятных ощущений, что я испытал, став смертным человеком, – это граничащее с опьянением чувство. Она измерила мне пульс и пощупала лоб. Я видел, что ей страшно, но не хотел этому верить.
Я объяснил ей, что настоящую боль мне как злой силе причиняет то, что я понимаю добро и уважаю себя. У меня всегда была совесть. Но всю жизнь – даже когда я был смертным мальчиком – мне приходилось идти против совести ради обладания яркими ощущениями или ценностями.
– Но почему? О чем вы? – спросила она.
Я рассказал ей, что еще мальчиком сбежал из дома с труппой бродячих актеров, совершив таким образом грех непослушания. Я впал в грех прелюбодеяния с одной из актрис труппы. И при этом те дни, когда я играл на деревенской сцене и занимался любовью, по моему мнению, обладали огромной ценностью!
– Понимаете, тогда я еще был живым, просто живым. Заурядные мальчишеские грехи! А когда я умер, то грешил на каждом шагу и при этом на каждом углу обращал внимание на чувственность и красоту. Как же так? – спросил я. – Когда я превращал Клодию в ребенка-вампира, а Габриэль – в вампирскую красавицу, меня снова влекли яркие ощущения! Я считал их неотразимыми. И в те моменты любая концепция греха казалась бессмыслицей.
Больше того, я опять заговорил о Дэвиде, о его видении Бога и дьявола в кафе, о том, что Дэвид считает Бога несовершенным, что, по его мнению, Бог постоянно учится и что дьявол уже столькому научился, что ненавидит свою работу и умоляет освободить его. Но я понимал, что уже рассказал ей обо всем в больнице, когда она держала меня за руку.
В определенные моменты она прекращала взбивать подушки или замирала со стаканом воды и таблетками в руках и просто смотрела на меня. У нее было удивительно неподвижное лицо, выразительные глаза в обрамлении темных густых ресниц, а большой мягкий рот красноречиво свидетельствовал о доброте.
– Я знаю, вы хорошая, – сказал я. – За это я вас и люблю. Но я бы отдал вам Темную Кровь, лишь бы вы разделили со мной вечность, потому что вы очень сильная и кажетесь мне загадочной.
Меня окутал плотный слой тишины, в ушах раздавалось тупое гудение, на глаза опустилась пелена. Я не двигался и смотрел, как она поднимает шприц, как проверяет его, выпустив в воздух немножко серебристой жидкости, а потом пронзает иглой мою плоть. Слабое жжение, но очень далекое, совсем незначительное.
Когда она дала мне стакан апельсинового сока, я выпил его с жадностью. Его стоило попробовать – густой, как кровь, но очень сладкий; у меня было чувство, будто я поглощаю свет.
– Я совершенно позабыл о таких вещах, – сказал я. – Какой вкусный, правда, лучше, чем вино. Нужно было раньше попробовать. Подумать только – я мог вернуться назад, так его и не узнав.
Я упал на подушку и посмотрел вверх, на голые балки низкого покатого потолка. Приятная чистая комнатка, очень белая. Очень простая. Монашеская келья. За окошком падал мягкий снег. Всего я насчитал двенадцать окон.
Я то засыпал, то просыпался. Смутно припоминаю, что она пыталась заставить меня выпить суп, но у меня не вышло. Меня трясло, я в ужасе думал, что мне могут присниться старые сны. Я не хотел, чтобы приходила Клодия. Свет жег мне глаза. Я рассказал ей, что меня преследует призрак Клодии, рассказал о детской больнице.
– Полная детей, – вспомнила она. Она ведь уже упоминала об этом. На ее лице появилось озадаченное выражение. Она тихо заговорила о своей работе в миссиях… с детьми. В джунглях Венесуэлы и Перу. – Не надо больше разговаривать, – сказала она.
Я понимал, что пугаю ее. Я снова погружался в темноту и выплывал на свет, сознавая, что на лбу у меня лежит холодное полотенце, и опять смеялся над чувством невесомости. Я сказал ей, что в своем обычном теле я умею летать по воздуху. Я описал, как поднялся навстречу солнцу в пустыне Гоби.
Иногда я вздрагивал, открывая глаза и обнаруживая, где нахожусь. В ее белой комнатке.
В бликах света я разглядел на стене распятие с окровавленным Христом, а на маленьком книжном шкафу – статуэтку девы Марии, давно знакомый образ со склоненной головой и простертыми руками. А там кто, святая Рита с красной раной на лбу? Ах, эти старые поверья! И подумать только, они живут в сердце этой женщины.
Я прищурился, пытаясь разобрать самые крупные названия книг на полках: Фома Аквинский, Маритайн, Тейар де Шарден. Напряжение, потребовавшееся от меня, чтобы связать эти слова с именами католических философов, оставило меня без сил. Но мой мозг лихорадило, он никак не мог успокоиться, и я прочел остальные названия. Книги по тропическим заболеваниям, по детской психологии. Я разглядел на стене, рядом с распятием, фотографию в рамке – монахини в покрывалах и форме – наверное, какая-то церемония. Я не мог рассмотреть, присутствует ли среди них она, – только не этими смертными глазами, тем более что они болели. На монахинях были синие платья и синие с белым покрывала.
Она держала меня за руку. Я повторил, что мне нужно поехать в Новый Орлеан. Мне нужно выжить, чтобы добраться до моего друга Луи, который поможет вернуть мое тело. Я описал ей Луи – рассказал, как он живет, отрезанный от современного мира, в крошечном темном домике в глубине заросшего сада. Я объяснил, что он слаб, но сможет дать мне вампирскую кровь, тогда я снова стану вампиром, выслежу Похитителя Тел и верну себе прежнюю оболочку. Я сказал ей, что Луи очень человечен, что особенной вампирской силы он мне не передаст, но я не смогу найти Похитителя, пока не получу сверхъестественное тело.
– Значит, это тело умрет, – заключил я, – когда он даст мне кровь. Вы спасаете его ради смерти. – Я плакал. Я понял, что говорю по-французски, но она вроде бы понимала, потому что по-французски же она сказала, что мне надо отдохнуть, что у меня бред.
– Я с вами, – очень медленно и осторожно произнесла она по-французски. – Я вас защищу. – На моей руке лежала ее теплая мягкая рука. С необычайной заботой она отвела мои волосы со лба.
Дом погрузился во тьму.
В камине горел огонь, а Гретхен лежала рядом со мной. Она надела длинную фланелевую рубашку, белую и очень плотную; она распустила волосы и обнимала меня, когда я дрожал. Мне нравилось ощущать на руке ее волосы. Я прижимался к ней и боялся, что сделаю ей больно. Она снова и снова вытирала мое лицо прохладной тканью. Ночь сгущалась, а с ней и мой панический ужас.
– Я не дам тебе умереть, – прошептала она мне на ухо. Но я услышал страх, который она замаскировать не смогла. Я погрузился в неглубокий сон, и сквозь него видел очертания комнаты, ее цвета и свет. Я снова воззвал к остальным, умоляя Мариуса прийти мне на помощь. Мне чудились ужасные вещи – что они наблюдают за мной, словно белые статуэтки Святой Девы и святой Риты, и отказываются помочь.
Уже перед рассветом я услышал голоса. Пришел врач – усталый молодой человек с желтоватой кожей и красными кругами вокруг глаз. Мне в руку снова вонзилась игла. Я жадно пил ледяную воду, которую мне дали. Я не разбирал ни слова из тихого бормотания доктора, да оно для меня и не предназначалось. Но переходы интонации голоса были спокойными и уверенными. Я уловил слова «эпидемия», «метель» и «невозможные условия».
Когда закрылась дверь, я взмолился, чтобы она вернулась.
– Рядом с твоим бьющимся сердцем, – прошептал я ей в ухо, когда она вновь легла возле меня. Как приятно – ее нежные тяжелые руки, большая бесформенная грудь, гладкая нога. Может быть, я слишком болен, чтобы бояться.
– Спи, – сказала она. – Постарайся ни о чем не волноваться. – Наконец-то я провалился в глубокий сон, глубокий, как снег за окном, как темнота.
«Как думаешь, не пора ли тебе исповедаться? – спросила Клодия. – Знаешь, ты действительно, как говорится, висишь на волоске».
Она сидела у меня на коленях и смотрела снизу вверх, положив руки мне на плечи, а ее лицо находилось ближе чем в дюйме от моего.
У меня сжалось и взорвалось болью сердце, но нож был ни при чем – только вцепившиеся в меня ручки и аромат раздавленных роз, исходивший от ее мерцающих волос.
«Нет. Я не могу исповедаться, – ответил я дрожащим голосом. – О Господи, что тебе от меня нужно?»
«Ты не жалеешь! И никогда не жалел! Ну скажи. Скажи правду. Ты заслужил, чтобы я вонзила нож в твое сердце, сам знаешь – и всегда знал!»
«Нет!»
Я посмотрел на нее, на тонкую пряжу волос, и что-то во мне сломалось. Я поднял ее, встал, усадил ее в кресло напротив и упал на колени у ее ног.
«Клодия, послушай. Не я это начал. Не я сотворил мир! Это зло существовало всегда. Оно притаилось в тени, поймало меня, взяло меня к себе, а я делал то, что считал нужным. Не смейся надо мной, прошу тебя, не отворачивайся. Не я создал зло! Не я сам себя создал!»
Она задумчиво и пристально следила за мной, и ее пухлый ротик растянулся в красивой улыбке.
«У тебя были не только мучения, – сказал я, вцепляясь пальцами в ее плечики. – Не только ад. Ну скажи, что не только. Скажи, что было и счастье. Дьяволы бывают счастливы? Господи, я ничего не понимаю!»
«Ничего не понимаешь, но вечно что-нибудь делаешь, да?»
«Да, и не жалею об этом. Не жалею. Я прокричал бы это с крыши самим Небесам. Клодия, я все совершил бы заново! – Я глубоко вздохнул. И еще громче повторил: – Я все совершил бы заново!»
В комнате повисла тишина.
Она оставалась невозмутимой. Разозлилась ли она? Удивилась? Глядя в ее лишенные выражения глаза, я не мог понять.
«О, да, ты действительно порочен, отец мой, – тихим голоском произнесла она. – И как ты с этим живешь?»
Дэвид отвернулся от окна. Он возвышался над ее плечом и смотрел на меня сверху вниз – я стоял перед ней на коленях.
«Я – идеал своего племени, – сказал я. – Я – идеальный вампир. Глядя на меня, вы видите Вампира Лестата. Никто не затмит фигуру, которую вы видите перед собой. Никто! – Я медленно встал. – Я не раб времени и не закаленный тысячелетиями бог; я не фокусник в черном плаще и не унылый скиталец. У меня есть совесть. Я знаю, что хорошо, а что – плохо. Я знаю, что делаю, и продолжаю в том же духе. Я – Вампир Лестат. Вот твой ответ. Делай с ним что хочешь».
Светало. Бесцветное, но яркое вставало над снегом солнце. Гретхен спала, обхватив меня руками.
Она не проснулась, когда я сел и потянулся к стакану воды. Безвкусной, но прохладной.
Чуть позже она открыла глаза и резко села, ее светлые волосы упали на щеки, обрамляя сухое, чистое, полное неуловимого света лицо.
Я поцеловал ее в теплую щеку и почувствовал, как ее пальцы дотронулись до моей шеи, а потом до моего лба.
– Ты вынесла меня оттуда, – сказал я хриплым дрожащим голосом. Откинувшись на подушки, опять ощутил слезы на щеках и, закрывая глаза, прошептал: «Прощай, Клодия», надеясь, что Гретхен меня не слышит.
Когда я проснулся, она приготовила мне большую чашку бульона, который я выпил и нашел почти вкусным. На тарелке поблескивали разрезанные яблоки и апельсины. Я жадно съел и их, поразившись хрусту яблок и сочности волокон апельсинов. За этим последовала горячая смесь крепкого ликера, меда и кислого лимона, которая мне так понравилась, что она не замедлила приготовить мне еще.
Я опять подумал, как она похожа на гречанку с картины Пикассо, крупная и светлая. У нее были темно-коричневые брови и светлые глаза – почти бледно-зеленые, – что придавало ее лицу убежденное и невинное выражение. Она была немолода, эта женщина, благодаря чему в моих глазах становилась намного красивее.
В ответ на мой вопрос она с рассеянным, немного не от мира сего видом кивнула и сказала, что мне лучше.
Она явно погрузилась в собственные мысли. Долго стояла и смотрела на меня, словно я представлял для нее загадку, а потом очень медленно наклонилась и приложила свои губы к моим. По моему телу пробежала резкая дрожь волнения.
Я снова заснул.
Никакие сны мне не снились.
Такое впечатление, что я всегда был человеком, всегда жил в этом теле, – и какую же я испытывал благодарность за мягкую чистую постель!
День. Голубые заплатки за кронами деревьев.
Словно в трансе следил я, как она разводит огонь. Я смотрел на отблески пламени на ее голых ногах. Серая шерсть Моджо, тихо поедавшего обед с тарелки, зажатой между лапами, припудрена легким снегом; то и дело он поднимал ко мне глаза.
Мое тяжелое человеческое тело все еще горело от температуры, но мне стало прохладнее, лучше, боль уже не была такой резкой, а озноб совсем прошел. «Да, но зачем она все это для меня делает? Зачем? И что я могу для нее сделать?» – подумал я. Однако, представив себе, что меня ждет впереди – погоня за Похитителем Тел, – я почувствовал приступ паники. Я слишком болен, чтобы уходить, мне предстоит провести здесь еще одну ночь.
Мы опять лежали обнявшись, дремали, пока на улице сгущались сумерки, и в тишине раздавалось только тяжелое посапывание Моджо. Пылал огонь в камине. В комнате было тепло и тихо. Казалось, во всем мире стало тепло и тихо. Начался снегопад, и вскоре на землю опустилась мягкая, беспощадная ночная тьма.
Глядя на ее спящее лицо, вспоминая ее мягкий рассеянный взгляд, я почувствовал себя ее защитником. Даже в ее голосе слышалась глубокая грусть. Что-то в ней указывало на внутреннее смирение. Что бы ни случилось, решил я, я не оставлю ее, пока не пойму, чем можно отплатить ей. К тому же она мне нравилась. Мне нравился ее внутренний мрак, ее скрытая сторона, а также простота ее речи и движений, искренность ее глаз.
Когда я в очередной раз проснулся, рядом опять был врач – вчерашний молодой парень с желтоватой кожей и усталым лицом, хотя теперь у него был более отдохнувший вид, а светлый халат сверкал чистотой и свежестью. Он приложил к моей груди кусочек холодного металла и, видимо, слушал мое сердце, легкие или еще какой-то внутренний орган в поисках необходимой информации. На руках его были некрасивые скользкие резиновые перчатки. И он тихо разговаривал с Гретхен, как будто меня там не было, о нескончаемых проблемах в больнице.
Гретхен оделась в простое синее платье, похожее, на мой взгляд, на платье монашки, только оно было короче, а под ним – черные чулки. Волосы ее, прямые и чистые, красиво спутались и напомнили мне сено, из которого принцесса пряла золото в сказке про Румпельштильцхена.
Из глубин памяти всплыл образ Габриэль, моей матери. В то жуткое, словно страшный сон, время, когда я превратил ее в вампира, она обрезала свои золотые волосы, но за день, пока она спала сном смерти в склепе, волосы отрасли снова, и она чуть не лишилась рассудка, когда их увидела. Я помню, как не мог успокоить ее, она все кричала и кричала. Не знаю, почему я об этом вспомнил, глядя на так понравившиеся мне волосы этой женщины. У нее с Габриэль не было ничего общего. Ничего.
Наконец доктор закончил тыкать в меня прибором и слушать и вышел с Гретхен совещаться. Проклятые смертные уши! Но я знал, что почти здоров. И когда он возник передо мной и сказал, что теперь я «в порядке», нужно только несколько дней отдохнуть, я тихо ответил, что всем этим обязан заботам Гретхен.
На что он выразительно кивнул, издал несколько невнятных звуков и потом вышел навстречу снегу; его машина с тихим ворчанием проехала по переулку.
У меня прояснилось в голове и стало так хорошо, что захотелось плакать. Вместо этого я выпил еще восхитительного апельсинового сока и начал думать… вспоминать…
– Придется ненадолго тебя оставить, – сказала Гретхен. – Мне надо купить продуктов.
– Да, и за продукты заплачу я. – Я положил руку ей на запястье. Все еще слабым, охрипшим голосом я сказал ей об отеле, о том, что в моем пальто остались деньги. Их хватит, чтобы оплатить не только уход за мной, но и продукты; она должна взять их себе. Ключи где-то в моей одежде, объяснил я.
Она повесила мою одежду на вешалки, и ключ действительно оказался в кармане рубашки.
– Вот видишь? – усмехнувшись, сказал я. – Я говорил тебе истинную правду.
Она улыбнулась, и ее лицо засветилось теплотой. Сказала, что заедет в отель и привезет мои деньги, если я соглашусь полежать спокойно. Не самая лучшая мысль – оставлять деньги валяться без присмотра, пусть даже в хорошем отеле.
Я хотел ответить ей, но меня клонило в сон. Потом в окошко я увидел, как она идет по снегу к машине. Увидел, как она забирается внутрь. Что за сильная личность, очень крепкие руки и ноги, но светлая кожа, и есть в ней какая-то мягкость, из-за которой на нее приятно смотреть и хочется заключить ее в объятия. Однако я испугался, потому что она ушла от меня.
Когда я открыл глаза, она стояла надо мной, перекинув мое пальто через руку. Как много денег, сказала она. Она привезла все. Она никогда еще не видела столько пачек денег. Я очень странный человек. Здесь около двадцати восьми тысяч долларов. Она закрыла мой счет в отеле. Они за меня волновались. Они видели, как я бежал сквозь снег. Они заставили ее подписать квитанцию. Она передала мне этот клочок бумаги, словно он имел какое-то значение. Она принесла и остальные вещи – одежду, которую я купил и до сих пор не вынул из пакетов и коробок.
Я хотел поблагодарить ее. Но где мне найти подходящие слова? Я поблагодарю ее, когда вернусь к ней в своем собственном теле.
Убрав весь мой гардероб, она снова накрыла для нас простой ужин – бульон и хлеб с маслом. Мы вместе поели, она достала и бутылку вина, из которой я, по ее мнению, выпил больше допустимого. Должен отметить, что до сих пор я не пробовал человеческой пищи вкуснее, чем тот хлеб с маслом и вино. Так я ей и сказал. И мне хотелось еще вина, пожалуйста, так как опьянение мое было исключительно возвышенным.
– Почему ты привезла меня сюда? – спросил я.
Она села на край кровати, глядя в огонь, перебирая волосы; на меня она не смотрела. И вновь пустилась в объяснения насчет эпидемии, насчет того, что больница переполнена.
– Нет, почему? Там были и другие.
– Потому что такого, как ты, я еще не встречала, – ответила она. – Ты напомнил мне историю, которую я когда-то читала… об ангеле, вынужденном спуститься на землю в человеческом теле.
Вспыхнув от досады, я вспомнил, как Раглан Джеймс говорил, что я похож на ангела. Я подумал о своем втором теле, блуждающем по миру, могущественном, но находящемся в его гнусных руках.
Она посмотрела на меня и вздохнула. Я ее озадачил.
– Когда все кончится, я приду к тебе в моем настоящем теле, – сказал я. – Я откроюсь тебе. Может быть, тебе важно будет знать, что тебя не ввели в заблуждение; к тому же ты такая сильная, и я уверен, что правда тебе не навредит.
– Правда?
Я объяснил, что, открываясь смертным, мы зачастую сводим их с ума, ибо мы – существа противоестественные, но ничего не знаем ни о существовании Бога, ни о существовании дьявола. То есть мы – религиозное видение без откровения. Мистические персонажи, но без единой крупицы истины.
Она явно увлеклась. В ее глазах заиграл неуловимый свет. Она попросила описать, как выглядит мое настоящее тело.
Я рассказал, что меня сделали вампиром в возрасте двадцати лет. Я был высоким по тем временам блондином со светлыми глазами. Я повторил историю о том, как сжег свою кожу в пустыне Гоби. Я опасался, что Похититель Тел намерен оставить себе мое тело навсегда, что он, наверное, где-то скрывается от остальных вампиров и совершенствуется в использовании моих способностей.
Она попросила описать ей полет.
– Он больше похож на полет облака – усилием воли поднимаешься и мысленно направляешь себя в ту или иную сторону. Преодоление силы земного притяжения совершенно не похоже на полет нормальных существ. Это страшно. Это самая страшная наша сила; думаю, она для нас вреднее, чем остальные способности; она вселяет в нас отчаяние. Это последнее доказательство того, что мы больше не люди. Возможно, мы боимся, что однажды взлетим и больше не вернемся на землю.
Я подумал, что Похититель Тел пользуется этой силой. Я сам видел.
– Не знаю, как у меня хватило ума дать ему захватить такое сильное тело, как у меня, – сказал я. – Меня ослепило желание стать человеком.
Она спокойно смотрела на меня. Она сложила перед собой руки и невозмутимо изучала меня большими оленьими глазами.
– Ты веришь в Бога? – спросил я и указал на висевшее на стене распятие. – Ты веришь тем философам-католикам, чьи книги стоят у тебя на полке?
Она задумалась.
– Не так, как ты предполагаешь, задавая мне этот вопрос, – ответила она.
Я улыбнулся.
– Тогда как?
– Сколько я себя помню, моя жизнь была постоянным самопожертвованием. Вот во что я верю. Я верю, что должна делать все от меня зависящее, чтобы уменьшить несчастья.
Это все, на что я способна, и это – нечто грандиозное. Это великая сила, как твоя способность летать.
Я был заинтригован. Я осознал, что прежде вообще не связывал работу сиделки с силой. Но я прекрасно понял, о чем она говорит.
– Попытку познать Бога, – продолжала она, – можно толковать как грех гордыни или как недостаток воображения. Но каждый из нас знает, что такое несчастье. Нам знакомы болезни, голод, лишения. Их число я и пытаюсь уменьшить. Вот оплот моей веры. Но сказать по правде – да, я верю в Бога, в Христа. Как и ты.
– Я не верю, – отозвался я.
– Верил, когда лежал в бреду. Ты говорил о Боге и о дьяволе такие вещи, которых я прежде не слышала.
– Я говорил о нудных теологических доказательствах.
– Нет, ты говорил об их неуместности.
– Думаешь?
– Да. Ты знаешь, что такое добро. Ты сам сказал. Я тоже. Я посвящаю свою жизнь тому, чтобы его творить.
Я вздохнул.
– Да, понимаю. Я бы умер, если бы ты оставила меня в больнице?
– Может быть, – ответила она. – Честно, я не знаю.
Смотреть на нее было очень приятно. У нее было крупное простоватое лицо – ничего общего с элегантной красавицей-аристократкой. Но красотой она обладала в избытке. И годы были добры к ней. Заботы не заставили ее поблекнуть.
Я чувствовал в ней нежную мрачную чувственность, чувственность, в которую она сама не верила, которую не взращивала.
– Объясни мне еще раз, – сказала она. – Ты говорил, что стал рок-музыкантом, потому что хотел творить добро? Ты хотел стать хорошим, превратившись в символ зла? Расскажи мне об этом подробнее.
Я подтвердил, что все действительно обстояло именно так. Рассказал о том, как этого добился, как подобрал маленькую группу под названием «Бал Сатаны» и сделал из них профессионалов. Я сказал, что у меня ничего не вышло, что среди вампиров разразилась война, что самого меня насильно похитили, но весь этот разгром не оставил ни единой пробоины в рациональной ткани смертного мира. Меня изгнали, я невидим и никому не нужен.
– В мире нам нет места, – сказал я. – Может, и было когда-то, не знаю. Сам факт нашего существования не оправдание. Волков изгнали из мира охотники. Я думал, стоит разоблачить нас – охотники изгонят из мира и нас. Но так не случилось. Моя краткая карьера оказалась цепочкой иллюзий. Никто в нас не верит. Так и должно быть. Возможно, нам суждено вымереть от отчаяния, постепенно и беззвучно исчезнуть с лица земли.
Но я так не могу. Я не могу молчать и бездействовать, радоваться жизни, видеть вокруг себя порождения и достижения смертных – и быть оторванным от них, быть Каином. Одиноким Каином. Понимаешь, творения смертных – это и есть мой мир. Совсем не великий мир природы. Если бы я жил миром природы, то я, наверное, получил бы от бессмертия больше удовольствия. Но я живу достижениями смертных. Картинами Рембрандта, памятниками заснеженной столицы, великими соборами. Но мы навеки отрезаны от них, и по праву, а при этом видим их глазами вампира.
– Зачем ты поменялся телами со смертным мужчиной?
– Чтобы на один день выйти на солнце. Думать, чувствовать, дышать, как смертные. Может быть, чтобы проверить одно свое убеждение.
– Что за убеждение?
– Будто бы все, чего мы хотим, – это снова стать смертными, что сожалеем о своем отказе от жизни, что бессмертие не стоит потери человеческой души. Но теперь я знаю, что ошибался.
Я внезапно вспомнил Клодию. И свои горячечные сны. Меня охватила свинцовая неподвижность. Однако, сделав над собой усилие, я заговорил снова:
– Я предпочитаю оставаться вампиром. Мне не нравится быть смертным. Мне не нравится быть слабым, больным, хрупким, чувствовать боль. Это настоящий кошмар. Я хочу вернуть свое тело, как только поймаю вора.
Она, похоже, была несколько шокирована.
– Несмотря на то что в том теле ты убиваешь, несмотря на то что ты пьешь человеческую кровь, что тебе это противно, что ты себя ненавидишь?
– Мне это не противно. И я себя не ненавижу. Как ты не понимаешь? В этом-то и кроется противоречие. Я себя никогда не ненавидел.
– Ты говорил, что порочен, ты сказал, что, помогая тебе, я помогаю дьяволу. Ты бы не говорил так, если бы не испытывал отвращения.
Я ответил не сразу:
– Мой самый большой грех заключается в том, что я прекрасно провожу время, оставаясь самим собой. Да, есть и чувство вины, и моральное неприятие самого себя, но мне хорошо. Я сильный, я – создание с сильной волей и сильными страстями. Пойми, вот в чем суть дилеммы: почему мне так нравится быть вампиром, почему я получаю такое удовольствие, если это порочно? Да это старая история. Ее придумывают люди, собирающиеся на войну. Они говорят себе, что для войны есть причина. А потом начинают испытывать возбуждение от убийства – как дикие звери. А звери знакомы с этим чувством, знакомы не понаслышке. Волки, например. Они знают, что значит трепетать, разрывая добычу на клочки. И я знаю.
Она надолго погрузилась в раздумья. Я потянулся и дотронулся до ее руки.
– Давай, ложись и поспи, – сказал я. – Полежи со мной еще. Я тебя не трону. Не получится. Я слишком болен. – Я тихо усмехнулся. – Ты очень красивая. Мне бы и в голову не пришло тебя обидеть. Я только хочу, чтобы ты была рядом. Уже ночь, поздно, и мне тебя не хватает.
– Ты все говоришь всерьез, да?
– Конечно.
– Ты понимаешь, что ты совсем как ребенок, правда? Ты обладаешь великой простотой. Простотой святого.
Я засмеялся.
– Дорогая моя Гретхен, в самом главном ты меня и не понимаешь. Хотя, может быть, как раз и понимаешь. Если бы я поверил в Бога, поверил бы в спасение, то, полагаю, мне пришлось бы стать святым.
Она призадумалась, а потом тихо сообщила мне, что взяла отпуск в своей иностранной миссии всего лишь месяц назад. Она приехала в Джорджтаун из Французской Гвианы, чтобы учиться в университете, а в больнице работала на добровольных началах.
– Знаешь, по какой причине я на самом деле взяла отпуск? – спросила она.
– Нет. Расскажи мне.
– Я хотела познать мужчину. Теплоту его присутствия рядом – всего на один раз. Мне сорок лет, а я так и не узнала, каково это – быть с мужчиной. Ты говоришь о моральном неприятии. Это твое выражение. У меня возникло неприятие собственной девственности – самого совершенства моего целомудрия. Мне показалось, несмотря на веру, что это проявление трусости.
– Понимаю, – ответил я. – Естественно, добрые дела в миссии в конечном счете не имеют ничего общего с целомудрием.
– Нет, имеют, – возразила она. – Но лишь потому, что тяжелый труд возможен только тогда, когда человек имеет одну-единственную цель и не принадлежит никому, кроме Бога.
Я не мог не признать, что понимаю ее мысль.
– Но если самопожертвование становится препятствием для работы, то лучше познать любовь мужчины, да?
– Так я и подумала, – сказала она. – Да. Познать и потом вернуться к труду во имя Бога.
– Вот именно.
Медленным, мечтательным голосом она произнесла:
– Я подыскивала себе мужчину. На этот случай.
– Вот и ответ – зачем ты привезла меня сюда.
– Может быть. Бог знает, как я всех боялась. Но тебя я не боюсь. – Она посмотрела на меня так, будто ее удивили собственные слова.
– Давай, ложись и спи. У меня еще есть время выздороветь, а у тебя – проверить, чего ты на самом деле хочешь. Мне бы и в голову не пришло взять тебя силой и вообще поступить с тобой жестоко.
– Но если ты дьявол, почему ты говоришь так по-доброму?
– Я же сказал, в этом-то и загадка… или отгадка – одно из двух. Ладно, хватит, ложись ко мне.
Я закрыл глаза. Я чувствовал, как она забирается под одеяло, как ее теплое тело прижимается ко мне, как ее рука ложится мне на грудь.
– Знаешь, – сказал я, – это почти хорошо, этот аспект смертной жизни.
Я уже засыпал, когда услышал ее шепот:
– Кажется, я знаю, почему и ты тоже взял отпуск. А сам ты, может быть, этого не знаешь.
– Разумеется, ты мне не веришь, – вяло прошептал я, и слова мои слились в неразборчивое пробормотание. Как восхитительно – обхватить ее рукой, уткнуть ее лицом в свою шею. Я целовал ее волосы и наслаждался их мягкой упругостью на своих губах.
– Существует тайная причина, почему ты спустился на землю, – говорила она, – почему ты принял тело человека. Та же причина, что и у Христа.
– И что же это за причина?
– Искупление, – сказала она.
– Ах да, спасение. Как мило.
Я хотел добавить, что об этом даже и помыслить невозможно, но уже ускользал в сон. И знал, что Клодии в нем не будет.
Возможно, это вообще был не сон, а всего лишь воспоминание. Я стоял в амстердамском музее вместе с Дэвидом, и мы смотрели на великую картину Рембрандта.
Спасение. Что за мысль, что за милая, экстравагантная, недостижимая мечта… Как хорошо найти единственную на свете смертную женщину, кому такое может прийти в голову всерьез.
А Клодия больше не смеялась. Потому что Клодия была мертва.
Глава 15
Раннее утро, почти рассвет. Час, когда прежде я, усталый, полувлюбленный в изменчивое небо, часто погружался в размышления.
Я медленно и тщательно вымылся; маленькая, тускло освещенная ванная заполнилась паром. Голова была ясной, и я был счастлив, словно передышка от болезни сама по себе уже являлась причиной для радости. Я медленно выбрил лицо, пока кожа не стала идеально гладкой, а потом, порывшись в шкафчике за зеркалом, нашел то, что искал: маленькие резиновые презервативы, которые сохранят ее в безопасности, предотвратят появление ребенка и не дадут этому телу посеять в ней какое-нибудь темное семя, способное нанести ей непредсказуемый вред.
Забавные вещицы – перчатки для органа. Я бы с удовольствием выбросил их в помойку, но твердо вознамерился не повторять прежних ошибок.
Я тихо закрыл зеркальную дверцу. И только тогда заметил прикрепленную к ней телеграмму – пожелтевший бумажный прямоугольник с бледными нечеткими буквами:
«ГРЕТХЕН, ВЕРНИСЬ, ТЫ НУЖНА НАМ. НИКАКИХ ВОПРОСОВ. МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ».
Дата отправки совсем свежая – несколько дней назад. Послано из Каракаса, Венесуэла.
Я подошел в кровати, стараясь не производить ни звука, приготовил на столе орудие предосторожности, снова лег рядом с ней и начал целовать ее нежный спящий рот.
Я медленно поцеловал ее щеки и кожу под глазами. Мне хотелось почувствовать губами ее ресницы. Плоть ее горла. Не для того, чтобы убивать, но для того, чтобы целовать; не ради обладания, но ради краткого физического слияния, которое ничего у нас обоих не отберет, зато сольет нас в наслаждении до того остром, что оно будет похоже на боль.
От моих прикосновений она постепенно проснулась.
– Доверься мне, – прошептал я. – Тебе не будет больно.
– О, но я хочу, чтобы ты сделал мне больно, – едва слышно ответила она.
Я ласково стянул с нее рубашку. Она откинулась на подушки, подняв ко мне глаза; ее грудь оказалась такой же светлой, как и остальное тело, ареолы вокруг сосков – очень маленькими и розовыми, а сами они – твердыми. У нее был гладкий живот и широкие бедра. Между ног лежала симпатичная тень коричневых волос, поблескивающих в восходящем солнце. Я наклонился и поцеловал эти волосы. Я поцеловал ее бедра, раздвигая пальцами ноги, пока мне не открылась теплая внутренняя плоть; мой орган застыл в готовности. Я взглянул на потайное место, застенчиво-складчатое, темно-розовое в своей мягкой вуали. Я ощутил резкое теплое возбуждение. Я мог бы взять ее силой, столь настойчивым стало мое чувство.
Но нет, только не сейчас.
Я подтянулся наверх, к ней, повернул ее к себе лицом и принял ее поцелуи, медленные, неловкие и неумелые. Я почувствовал, как ко мне прижалась ее нога, как по моему телу двинулись ее руки, дотрагиваясь до теплых подмышек и влажных нижних волос этого мужского тела, густых и теплых. Это мое тело, оно готово и ждет ее. Вот она прикоснулась к моей груди, ей, кажется, понравилась ее твердость. Она поцеловала мои руки, словно оценивая их силу.
Моя страсть слегка угасла, но мгновенно воспламенилась снова, потом опять выжидательно стихла, но вскоре вернулась опять.
Я совершенно не вспоминал о крови; совсем не думал о биении жизни, которую в другое время мог бы выпить, как темный источник. Скорее, этот момент был пропитан ароматом неяркого жара ее живой плоти. Казалось отвратительным, что ее могли обидеть, запятнать ее тайну – тайну ее доверчивости, тоски, глубокого и такого естественного страха.
Моя рука скользнула ко входу; как печально, как грустно, что наш союз будет таким неполным, таким кратким.
Когда мои пальцы мягко коснулись девственного лона, тело ее загорелась. Грудь поднялась, и я увидел, как она раскрывается, словно цветок – лепесток за лепестком, как напрягается ее рот, прижимаясь к моему.
Но как же опасности, разве они ее не волнуют? Видимо, в незнакомом доселе порыве страсти она потеряла всякую осмотрительность и полностью положилась на меня. Я заставил себя остановиться, извлек из пакета презерватив и надел его; она покорно наблюдала за мной, словно собственной воли у нее уже не осталось.
Вот чему ей требовалась отдаться, вот что она требовала от себя самой. Я снова принялся целовать ее. Она стала совсем влажной и уже ждала меня. Я больше не мог сдерживаться. Проход оказался удобным и, когда из него потекли соки, невыносимо жарким. Ускоряя темп, я увидел, как к ее лицу прилила кровь; я наклонился, чтобы поцеловать ее грудь и прижаться к ее рту. Ее последний стон был похож на стон боли. Старая загадка: как что-то может быть настолько законченным и полным и длиться при этом всего несколько секунд? Несколько драгоценных секунд.
Было ли это слияние? Стали ли мы в этой шумной тишине единым целым?
На мой взгляд, это слиянием не было; напротив, походило на самое отчаянное расставание: две противоположные личности горячо и неуклюже, доверчиво и злобно набросились друг на друга, не зная и не понимая чувств друг друга, – и наслаждение оказалось не менее ужасным, чем его мимолетность, а одиночество не менее болезненным, чем безусловная страсть.
И никогда еще не казалась мне она такой хрупкой, как сейчас, когда, закрыв глаза, она уткнулась в подушку, когда грудь ее больше не вздымалась, а дыхание стало ровным. Этот образ так и провоцировал на насилие – взывал к самой беспричинной жестокости мужского сердца.
Но почему?
Я не хотел, чтобы к ней прикасался какой-то другой смертный!
Я не хотел, чтобы ее мучило чувство вины. Я не хотел, чтобы ее терзало раскаяние, не хотел, чтобы к ней приближалось зло человеческого разума.
И только тогда я вспомнил о Темном Даре, но не о Клодии, а о сладостном животрепещущем великолепии сотворения Габриэль. С той далекой ночи Габриэль так и не оглянулась назад. Вооружившись силой и уверенностью, начала она свои странствия, и, когда на нее обрушились бесконечные сложности огромного мира, не пережила ни часа смертных мучений.
Но кто знает, что принесет Темный Дар конкретной человеческой душе? А она – добродетельная женщина, верующая в старых безжалостных богов, опьяненных кровью мучеников и… страданиями тысяч святых. Естественно, она никогда не попросит о Темном Даре и не примет его – совсем как Дэвид.
Но разве эти вопросы имеют значение, пока я не доказал ей, что каждое мое слово – правда? А вдруг я никогда не смогу это сделать? Вдруг у меня самого больше не будет Темной Крови, которую я смогу передать другим, и я навсегда останусь в этой смертной плоти? Я молча лежал и смотрел, как комната заполняется светом. Я видел, как солнечный луч упал на крошечное тело распятого Христа, как осветил Святую Деву со склоненной головой.
Мы свернулись рядом и снова заснули.
Глава 16
Полдень. Я надел новые чистые вещи, купленные в тот последний судьбоносный день моих странствий, – мягкий белый свитер, рубашку с длинными рукавами, вытертые по последнему писку моды джинсы.
Мы устроили своеобразный пикник перед теплым потрескивающим камином – разложили на полу белое одеяло и уселись на него, чтобы съесть наш запоздалый завтрак, пока Моджо жадно и неряшливо обедал по-своему на кухонном полу. Снова французский хлеб с маслом, апельсиновый сок, вареные яйца и крупно нарезанные фрукты. Я ел с аппетитом, не слушая ее предупреждений, что я еще не совсем в форме. Я был в прекрасной форме. Что и подтвердил ее маленький цифровой термометр.
Пора отправляться в Новый Орлеан. Если аэропорт не закрыли, то я, может быть, попаду туда до наступления темноты. Но я не желал уходить от нее вот так, сразу. Я попросил вина. Мне хотелось поговорить. Я хотел понять ее и при этом боялся остаться один, без нее. Мысль об авиаперелете вызвала в моей душе трусливый страх. К тому же мне нравилось быть рядом с ней…
Она непринужденно рассказывала о своей жизни в миссиях, о том, как с самого начала полюбила свою работу. Первые годы она провела в Перу, потом переехала на Юкатан. Последним ее заданием стала работа во Французской Гвиане, где живут примитивные индейские племена. Миссия Святой Маргариты-Марии располагалась в шести часах езды на каноэ с мотором от города Сен-Лоран вверх по реке Марони. Они с другими сестрами восстановили цементную часовню, маленькую с белеными стенами школу и больницу. Но им часто приходилось покидать территорию миссии и отправляться непосредственно в деревни. Она сказала, что любит такую работу.
Она разложила передо мной гору фотографий – маленькие прямоугольные цветные снимки примитивных строений в миссии, ее и сестер, а также священника, который приезжал на мессу. Эти сестры не носили покрывал; они одевались в хаки или белую хлопчатобумажную одежду и распускали волосы – сестры за работой, объяснила она. На снимках мелькало и ее лицо, светящееся от счастья, ни тени мрачной меланхолии. На одной фотографии она стояла в окружении темнолицых индейцев перед необычным домиком с красивой резьбой на стенах. На другой она делала укол похожему на призрак старику, который сидел на выкрашенном в яркий цвет стуле с прямой спинкой.
Жизнь в этих деревнях не менялась веками, сказала она. Эти люди существовали задолго до того, как нога французов или испанцев впервые ступила на южноамериканскую землю. Им было непросто довериться сестрам, врачам и священникам. Самой ей было все равно, знают они молитвы или нет. Ее волновали прививки и надлежащая обработка загноившихся ран. Ее заботило, как выправить сломанные кости, чтобы человек не остался калекой на всю жизнь.
Естественно, они хотели, чтобы она вернулась. Они терпеливо ждали ее возвращения из отпуска. Она им нужна. Впереди много работы. Она показала мне телеграмму, которую я уже видел за зеркалом в ванной, у стены.
– Тебе не хватает работы, это видно, – сказал я.
Я искал в ней признаки раскаяния в том, что мы с ней сделали. Но не находил. Такое впечатление, что и телеграмма в ней особенного раскаяния не вызвала.
– Конечно, я вернусь, – просто ответила она. – Может быть, это звучит абсурдно, но мне было непросто уехать. Однако вопрос целомудрия превратился в навязчивую идею и грозил все испортить.
Разумеется, я ее понимал. Она взглянула на меня большими спокойными глазами.
– И теперь ты поняла, – сказал я, – что в конечном счете не так уж важно, спала ты с мужчиной или нет. Разве не так?
– Возможно, – ответила она с легкой бесхитростной улыбкой. Она сидела на одеяле, такая сильная, застенчиво отведя ноги в сторону, так и не собрав волосы, которые в этой комнате больше напоминали монашеское покрывало, чем на любой фотографии.
– С чего все началось? – спросил я.
– Думаешь, это важно? Мне кажется, ты не одобришь мою историю, если я расскажу.
– Мне нужно знать, – ответил я.
Она родилась в Бриджпортском районе Чикаго в семье школьной учительницы-католички и бухгалтера, и с раннего детства в ней открылся большой талант пианистки. Вся семья принесла себя в жертву, чтобы она могла заниматься с известным учителем.
– Видишь, уже самопожертвование, – сказала она с улыбкой, – с самого начала. Но тогда была музыка, а не медицина.
Однако уже в то время она была глубоко религиозна, читала жития святых и мечтала тоже стать святой – работать, когда вырастет, в иностранных миссиях. Особенно ее привлекала святая Роза де Лима, мистик. И святой Мартин де Поррес, который больше работал в миру. И святая Рита. Ей хотелось когда-нибудь работать с прокаженными, вести жизнь, полную всепоглощающего героического труда. Еще девочкой она построила за домом маленькую молельню, где часами стояла на коленях перед распятием в надежде, что у нее на руках и ногах откроются раны Христовы.
– Я очень серьезно воспринимала эти рассказы, – сказала она. – Святые для меня – реальные люди. И возможность героизма тоже реальна.
– Героизм, – повторил я. Мое слово. Но я давал ему абсолютно другое определение. Я не стал ее перебивать.
– Такое впечатление, что моя игра на пианино вела войну с моим духовным началом. Я хотела от всего отказаться ради других, а это значило отказаться от пианино, прежде всего – от пианино.
От этих слов мне стало грустно. У меня было чувство, что она не часто рассказывала эту историю, ее голос звучал очень подавленно.
– А как же счастье, которое приносила людям твоя игра? – спросил я. – Разве в ней не было подлинной ценности?
– Теперь я могу сказать, что была. – Ее голос стал еще тише, она выговаривала слова до боли медленно. – Но тогда? Я не могла быть уверена. Я не подходила для обладания таким талантом. Я не возражала, когда меня слушали; но мне не нравилось, когда на меня смотрели. – Она взглянула на меня и чуть-чуть покраснела. – Возможно, если бы я играла на церковных хорах или за занавесом, все было бы по-другому.
– Ясно, – сказал я. – Конечно, такое испытывают многие люди.
– Но не ты, правда?
Я покачал головой.
Она описала, какой пыткой для нее было наряжаться в белые кружева и играть перед аудиторией. Таким образом она хотела сделать приятное своим родным и учителям. Участие в конкурсах было для нее кошмаром. Но она практически неизменно выигрывала. Когда ей исполнилось шестнадцать, ее карьера уже превратилась в семейное предприятие.
– А как же сама музыка? Она тебе нравилась?
Она задумалась.
– Это был неповторимый экстаз. Когда я играла в одиночестве… когда на меня никто не смотрел… я полностью растворялась в музыке. Все равно что находиться под действием наркотика. Почти… почти эротика. Иногда я становилась одержима какой-то мелодией. Она постоянно звучала у меня в голове. Играя, я теряла счет времени. Я до сих пор не могу слушать музыку без того, чтобы она захватывала меня целиком. Здесь ты не увидишь ни радио, ни магнитофона. Я до сих пор не могу находиться рядом с ними.
– Но зачем ты себе в этом отказываешь?
Я огляделся. Пианино в комнате тоже не было.
Она отрицательно покачала головой.
– Видишь ли, эффект слишком захватывающий. Я легко забываю обо всем остальном. Так ничего не добьешься. Жизнь, так сказать, замирает.
– Но, Гретхен, так ли это? – спросил я. – Для некоторых людей такие острые ощущения и есть жизнь! Мы стремимся к экстазу. В эти моменты мы… мы поднимаемся над болью, над мелочностью, над борьбой. У меня так было при жизни. И сейчас то же самое.
Она обдумывала мои слова со спокойным расслабленным лицом. И заговорила с тихой убежденностью.
– Мне нужно нечто большее, – сказала она. – Более ощутимо конструктивное. Но можно сказать и по-другому: я не могу получать такое удовольствие, пока другие голодны, больны или просто страдают.
– Но несчастья в мире будут существовать всегда. А музыка нужна людям, Гретхен, нужна не меньше, чем удобства и пища.
– Не думаю, что могу с тобой согласиться. Даже уверена, что не могу. Конечно же, работа сиделки полезна. Поверь мне, я уже много раз вступала в подобные споры.
– Да, но выбрать работу сиделки вместо музыки! Для меня это немыслимо. Ну конечно, сиделки приносят большую пользу… – Я слишком расстроился и запутался, чтобы продолжать. – Так как ты все-таки сделала выбор? Разве семья не пыталась тебя остановить?
Она продолжила свой рассказ. Когда ей было шестнадцать лет, ее мать заболела, и несколько месяцев никто не мог определить причину болезни. Ее мать страдала от анемии; у нее не падала температура; наконец стало ясно, что она угасает. Врачи не могли дать никакого объяснения. Атмосфера в доме была отравлена горечью.
– Я попросила у Бога чуда, – сказала она. – Я пообещала, что, пока жива, никогда больше не прикоснусь к пианино, если только Господь спасет мою маму. Я обещала, что уйду в монастырь, как только будет дозволено, и посвящу жизнь заботам о больных и умирающих.
– И твоя мать исцелилась.
– Да. Через месяц она полностью выздоровела. Она до сих пор жива. Она ушла на пенсию и теперь сидит с детьми после школы – в черном районе Чикаго. Больше она никогда ничем не болела.
– И ты сдержала слово.
Она кивнула.
– Я ушла к сестрам-миссионеркам, как только мне исполнилось семнадцать, и они послали меня в колледж.
– И ты сдержала обещание никогда больше не прикасаться к пианино?
Она кивнула. В ней не было ни тени сожаления, а также ни тени стремления к моему пониманию или одобрению. Я чувствовал, что она видит мою грусть и немного волнуется за меня.
– И ты была счастлива в монастыре?
– О да, – ответила она, пожав плечами. – Ты еще не понял? Для такого человека, как я, заурядная жизнь невозможна. Мне необходимы трудности. Мне нужно рисковать. Я выбрала этот религиозный орден, потому что его миссии находятся в самых отдаленных и опасных областях Южной Америки. Передать не могу, как я люблю эти джунгли! – Она говорила тихо, но уверенно. – Мне всегда мало жары и опасности. Бывает, мы ужасно загружены работой, устаем, а больница до того переполнена, что больных детей приходится класть снаружи, на носилки под навесом, и вот тогда я чувствую себя живой! Не могу передать. Я останавливаюсь только для того, чтобы стереть с лица пот, вымыть руки, может быть, выпить стакан воды. И думаю: я жива, я здесь, я делаю важное дело.
Она опять улыбнулась.
– Это тоже острые ощущения, но иного рода, – сказал я, – они совсем не такие, как музыка. Я понимаю, в чем заключается принципиальная разница.
Я вспомнил, что говорил Дэвид о раннем периоде своей жизни – о поисках живых ощущений в опасности. Она искала эти ощущения в полном самопожертвовании. Он стремился навстречу опасностям бразильского оккультизма. Она стремилась навстречу нелегкой задаче – лечить тысячи безымянных и вечно бедных людей. Все это меня глубоко беспокоило.
– Конечно, здесь присутствует и тщеславие, – добавила она. – Тщеславие – мой вечный враг. Вот что больше всего волновало меня в вопросе моего… моего целомудрия – гордыня, которой я из-за этого прониклась. Но, понимаешь ли, даже возвращение в Штаты было в своем роде риском. Я была в ужасе, когда сошла с самолета, когда поняла, что нахожусь здесь, в Джорджтауне, и ничто не мешает мне быть с мужчиной, если захочется. Наверное, я пошла работать в больницу из страха. Видит Бог, свобода не так уж проста.
– Эту часть я понял, – сказал я. – Но семья, как она отреагировала на твое обещание бросить музыку?
– Они не сразу узнали. Я им не сказала. Я объявила о своем призвании. Я твердо стояла на своем. Последовало немало взаимных упреков. Ведь моим братьям и сестрам приходилось покупать поношенную одежду, чтобы я занималась музыкой. Но так часто бывает. Даже в семье добрых католиков новость о том, что дочь хочет стать монахиней, не всегда приветствуется восхищенными возгласами и акколадами.
– Они оплакивали твой талант, – тихо заметил я.
– Да, оплакивали, – она слегка подняла брови. Она казалась такой честной и умиротворенной! Ни одного жесткого или холодного слова! – Но я представляла себе куда более значительную картину, нежели молодая женщина на сцене, которая встает с табурета у пианино, чтобы поднять букет роз. Только много позже сказала я им о своем обете.
– Несколько лет спустя?
Она кивнула.
– Они поняли. Они увидели, что произошло чудо. Что они могли поделать? Я объяснила им, что оказалась намного счастливее моих знакомых, которые тоже ушли в монастырь. Я получила от Бога совершенно ясный знак. Он разрешил за нас все конфликты.
– Ты веришь в это.
– Да, верю, – ответила она. – Но в каком-то смысле не имеет значения, правда это или нет. Если кто-то и сможет меня понять, то только ты.
– Почему же?
– Потому что ты говоришь о религиозных истинах и религиозных идеях, понимая, что пусть они всего лишь метафоры, все равно они важны.
Я вздохнул.
– И что, тебе никогда не хочется поиграть на пианино? Никогда не хочется найти, например, пустой зал с пианино на сцене, просто сесть и…
– Конечно хочется. Но я не могу и не буду. Теперь на ее лице появилась поистине прекрасная улыбка.
– Гретхен, в своем роде это жуткая история. Почему, как добрая католичка, ты не считала, что твой талант – это Божий дар и им нельзя пренебрегать?
– Божий дар, я знала. Но как ты не понимаешь? Это все равно что грабли на дороге. Бог дал мне возможность принести пианино в жертву, чтобы служить ему совершенно особенным образом. Лестат, что такое музыка в сравнении с актом помощи людям, тысячам людей?
Я покачал головой.
– Я считаю, что музыка бывает не менее важной.
Она задумалась.
– Не знаю, может быть, я использовала кризис, вызванный болезнью моей матери, – наконец заговорила она. – Я не могла не стать медсестрой. У меня не было другого выбора. Вот в чем простая истина: я не могу жить, видя, как страдает мир. Я не могу найти оправдание комфорту или удовольствиям, когда страдают люди. И не знаю, как могут делать это другие.
– Ты, конечно, не думаешь, что сможешь все изменить, Гретхен.
– Нет, но я могу потратить свою жизнь на помощь множеству конкретных людей. Только это и имеет значение.
Этот рассказ так меня расстроил, что я не мог усидеть на месте. Я встал, расправил затекшие ноги, подошел к окну и взглянул на заснеженное поле.
Мне было бы проще с этим смириться, будь она убитым горем или умственно неполноценным человеком, или же внутренне конфликтующей, нестабильной личностью. Но оба варианта были далеки от истины. Я находил ее практически непостижимой.
Она оказалась такой же чужой мне, как и мой смертный друг Николя много десятков лет тому назад. Не то чтобы они были похожи. Но за его цинизмом, усмешками и вечным бунтарством крылось отречение от самого себя, чего я понять не мог. Мой Ники, внешне такой эксцентричный и буйный, мог получить удовлетворение только тогда, когда уязвлял окружающих.
Отречение от самого себя – вот он, корень всего.
Я повернулся. Она наблюдала за мной. У меня опять появилось отчетливое чувство, что мои слова для нее не так уж важны. Ей не требовалось мое понимание. В своем роде она была одной из самых сильных личностей, что мне довелось встретить за всю мою долгую жизнь.
Неудивительно, что она забрала меня из больницы; другая сиделка вообще вряд ли бы взвалила на себя такую обузу.
– Гретхен, – спросил я, – ты никогда не боишься, что зря прожила жизнь – что на земле все равно останутся болезни и страдания, когда тебя уже давно не будет, что все твои деяния во всемирном масштабе ничего не значат?
– Лестат, – ответила она, широко открыв свои чистые глаза, – как раз всемирный масштаб ничего и не значит. В отличие от одного простого поступка. Ну конечно, когда меня не будет, болезни и страдания все равно останутся. Но важно то, что я сделала все, что могла. Вот мой триумф и мое тщеславие. Вот мое призвание и мой грех гордыни. Вот мое понимание героизма.
– Но chéri, это важно только в том случае, если кто-то ведет счет – если некая Высшая сущность утвердит твое решение, если ты получишь награду за свои поступки – или хотя бы поддержку.
– Нет, – ответила она, тщательно подбирая слова. – Это более чем далеко от истины. Подумай о моих словах. Я говорю тебе то, чего ты явно еще не слышал. Может быть, в этом и тайна религии.
– В каком смысле?
– Бывает, я лежу ночью без сна и прекрасно понимаю, что, возможно, никакого конкретного Бога нет и что за мучения детей, которые я каждый день вижу в больнице, никогда не будет искупления. Я перебираю старые аргументы: как Бог может оправдать страдания ребенка? Этот вопрос задавал Достоевский. И французский писатель Альбер Камю. Мы сами его постоянно задаем. Но в конечном счете ответ не имеет значения.
Может быть, Бог существует, может быть – нет. Но несчастья вполне реальны. Абсолютно реальны, абсолютно неоспоримы. В этой-то реальности и лежит моя убежденность, ядро моей веры. Я не могу бездействовать!
– А если в час своей смерти никакого Бога не…
– И пусть. Я буду знать, что сделала все возможное. Я могла бы умереть прямо сейчас. – Она пожала плечами. – Чувства мои не изменились бы.
– И поэтому ты не испытываешь вины за то, что мы были с тобой в постели?
Она задумалась.
– Вины? Вспоминая об этом, я чувствую себя счастливой. – Она сделала паузу, и ее глаза медленно наполнились слезами. – Я приехала, чтобы встретить тебя, чтобы быть с тобой. И теперь я могу вернуться в миссию.
Она наклонила голову и в наступившей тишине постепенно успокоилась, ее глаза просветлели. Она посмотрела на меня и продолжила:
– Когда ты рассказывал, как создал этого ребенка, Клодию… как привел свою мать, Габриэль, в твой мир… ты говорил, что при этом к чему-то стремился. Может быть, к тому, чтобы выйти за пределы бытия? Работая до упаду в больнице, в миссии, я как раз и выхожу за пределы бытия. Я возношусь над сомнениями и неким… неким безнадежным и черным пятном в моей душе. Не знаю.
– Безнадежное и черное – в этом-то все дело, да? Музыка не помогала.
– Нет, помогала, но то была ложь.
– Почему ложь? Почему та разновидность добра – игра на пианино – ложь?
– Потому что она недостаточно много давала людям, вот почему.
– Да нет, давала. Она давала им удовольствие.
– Удовольствие?
– Прости меня, я выбрал неправильную линию. В своем призвании ты себя потеряла. Неужели ты не понимаешь, что, играя на пианино, ты была самой собой? Ты была единственной Гретхен! Вот что означает быть виртуозом. Но ты решила себя потерять.
– Думаю, ты прав. Музыка просто не для меня.
– О, Гретхен, ты меня пугаешь!
– Но здесь нечего пугаться. Я не говорю, что другой путь хуже. Если ты своей музыкой, своем пением, своей недолгой карьерой рок-певца, как ты говорил, приносил пользу, значит, это и был твой вариант. Я приношу пользу по-своему, только и всего.
– Нет, в тебе живет какое-то яростное самоотречение. Ты испытываешь жажду любви, как я ночь за ночью испытываю жажду крови. Своей работой ты наказываешь себя, отрекаешься от плотских желаний, от любви к музыке, от всего, что похоже на музыку. Ты действительно виртуоз – виртуоз собственной боли.
– Ты ошибаешься, Лестат, – сказала она с новой улыбкой и покачала головой. – Ты и сам знаешь, что не прав. Это ты хочешь так думать о подобных мне людях. Лестат, послушай меня. Если все, о чем ты говорил, правда, то разве в этом свете не становится очевидным, что тебе суждено было со мной встретиться?
– То есть?
– Иди сюда, посиди со мной, давай поговорим.
Не знаю, почему я заколебался, почему испугался. В результате я вернулся к одеялу и сел, скрестив ноги, напротив нее, прислонившись к стенке книжного шкафа.
– Понимаешь? – спросила она. – Я – представитель противоположной стороны, о которой ты никогда не задумывался, и я могу принести тебе именно то утешение, к которому ты стремишься.
– Гретхен, ты же ни на секунду не поверила в то, что я о себе рассказал. И не можешь поверить. Я и не жду, что ты поверишь.
– Да нет же, я верю тебе! Каждому твоему слову. Буквальный смысл ничего не значит. Ты ищешь того, что искали святые, отрекаясь от нормальной жизни, попадая на службу к Христу. Не имеет значения, что ты не веришь в Христа. Это не важно. Важно то, что в существовании, которое ты влачил до сих пор, ты чувствовал себя несчастным, несчастным до безумия, а мой путь предлагает тебе альтернативу.
– Ты говоришь все это обо мне? – спросил я.
– Ну конечно. Смотри, что произошло. Ты спустился на землю в этом теле, ты попал в мои руки, ты подарил мне необходимые минуты любви. Но что дала тебе я? Что я для тебя значу?
Она подняла руку, призывая меня к спокойствию.
– Нет, не надо больше говорить о всемирном масштабе. Не спрашивай, существует ли Бог в буквальном смысле. Подумай о моих словах. Я говорила о себе, но к тебе это тоже относится. Сколько жизней ты отнял в своем потустороннем существовании? Сколько жизней я спасла – спасла в прямом смысле слова – в миссиях?
Я уже собрался было отрицать такую возможность, но внезапно мне пришло в голову, что лучше подождать, помолчать и просто подумать.
Меня опять посетила неприятная мысль о том, что я, может быть, никогда не отберу назад свое сверхъестественное тело, что я, может быть, попал в эту плоть на всю жизнь. Если я не смогу поймать Похитителя Тел, если я не соберу остальных мне на помощь, то смерть, к которой я, по собственным моим словам, стремился, меня таки настигнет. Я совершил скачок во времени.
А что, если в этом заключается некий план? Что, если судьба существует? И я проведу эту смертную жизнь, работая так же, как и Гретхен, посвящу остальным свое физическое и духовное начала? Что, если просто вернуться с ней в ее аванпост в джунглях? О нет, естественно, не в качестве ее любовника. Такие вещи, понятно, не для нее. Но если я поеду как ее ассистент, ее помощник? Что, если я брошу свою смертную жизнь на алтарь самопожертвования?
Я снова заставил себя молчать, представляя эту картину.
Конечно, здесь было еще одно преимущество, о котором она ничего не знала, – богатство, которое я мог бы даровать ее миссиям и другим похожим организациям. И пусть это богатство другим покажется неисчислимым, я его сосчитать мог. В этом грандиозном загорающемся видении мне были ясны его ограниченность и произведенный эффект. Накормить и одеть целые деревни, набить больницы лекарствами, обеспечить школы книгами, досками, радио и пианино. Да, пианино. О, старая, старая сказка! Старая, старая мечта…
Я молча все обдумывал. Я видел, как день за днем трачу свою смертную жизнь – потенциальную смертную жизнь – и свое состояние на осуществление этой мечты. Она медленно скользила перед глазами, как песчинки в песочных часах.
Почему же в эту самую минуту, пока мы сидим в чистой комнатке, в бескрайних трущобах Востока голодают люди? Они голодают и в Африке. По всему миру гибнут они от болезней и катастроф. Их жилища смывают наводнения; их пища и надежды умирают от засухи. Разум человеческий не выдержал бы всех страданий одной отдельно взятой страны, будь они описаны даже без особенных подробностей.
Но даже если я отдам этому начинанию все, что у меня есть, чего я добьюсь в конечном итоге?
Откуда мне знать, что современная медицина в затерянной в джунглях деревне работает лучше, чем старые обычаи? Откуда мне знать, будет ли ребенок из джунглей счастливее, если получит образование? Откуда мне знать, стоит ли все это потери самого себя? Как мне заставить себя хотя бы интересоваться ответом на эти вопросы? Вот в чем весь ужас.
Мне было все равно. Да, я мог оплакивать конкретную страдающую душу, но меня не волновала возможность принести себя в жертву безымянным миллионам! В действительности она вселяла в меня ужас, жуткий, темный ужас. Грустнее некуда. Это, на мой взгляд, вообще не жизнь. Прямая противоположность выхода за пределы бытия.
Я покачал головой. Тихо, запинаясь, я объяснил ей, почему это видение казалось мне таким страшным.
– Два века назад, когда я впервые вышел на сцену бульварного парижского театра – когда увидел радостные лица, услышал аплодисменты, – я почувствовал, что мое тело и душа нашли свою судьбу; я почувствовал, что все надежды моего детства наконец-то начали сбываться.
О, были и другие актеры, хуже и лучше; с того момента их появился миллион, и придет еще миллион. Но в каждом из нас сияет неповторимая сила; каждый из нас оживает по-своему в свой единственный ослепительный миг; каждый из нас имеет шанс навеки затмить другого в глазах зрителя, и это – единственное достижение, доступное моему пониманию: достижение, когда торжествует цельная личность – моя личность, если хочешь.
Да, ты права, я мог бы стать святым, но для этого мне пришлось бы основать орден или повести армию на битву; мне пришлось бы совершать чудеса такого масштаба, что весь мир пал бы на колени. Я из тех, кто должен бросать вызов, даже если я жестоко ошибаюсь. Гретхен, Бог дал мне мою душу, и я не могу ее похоронить.
К своему изумлению, я увидел, что она продолжает улыбаться мне, ласково, не задавая вопросов; что на ее лице читается спокойное любопытство.
– Лучше царить в аду, – осторожно спросила она, – чем служить Небесам?
– О нет. Если бы я мог, то выстроил бы рай на земле. Но я не могу оставаться незаметным, я должен блистать и должен тянуться с тому экстазу, от которого ты отреклась, – к тем самым острым ощущениям, от которых ты бежала! Вот что для меня значит выйти за пределы бытия! Пусть создание Клодии и было жестокой ошибкой – но я вышел за пределы бытия! Когда я создал Габриэль, пусть это покажется порочным – но я тоже вышел за пределы бытия. Это был конкретный, решительный и ужасный поступок, который потребовал от меня всей моей личной силы и мужества. Они не должны умереть, сказал я, и, возможно, именно эти слова ты говоришь о деревенских детях.
Но я использовал это выражение, чтобы затянуть их в свой противоестественный мир. Целью было не просто спасение, но создание из них подобных мне существ – уникальных, ужасных существ. Я наслаждался именно тем, что даровал им индивидуальность. Мы будем жить, даже в том состоянии, что называют живой смертью, мы будем любить, будем чувствовать и бросим вызов тем, кто посмеет осуждать нас и уничтожать. Вот как я выхожу за пределы бытия. И самопожертвование с искуплением здесь ни при чем.
Как же я расстраивался, что не могу донести до нее свои слова, не могу заставить ее поверить в их буквальный смысл.
– Пойми, я пережил все, что со мной случилось, только потому, что я – тот, кто я есть. Моя сила, воля, отказ сдаваться – это единственные составляющие моего сердца, которые я в состоянии выделить. Мое эго, если хочешь так его называть, заключается в моей силе. Я – Вампир Лестат, и ничто… даже это смертное тело… не нанесет мне поражения.
Меня потрясло, что она кивнула в ответ с понимающим выражением лица.
– А если бы ты пошел со мной, – ласково сказала она, – Вампир Лестат погиб бы, правда? В своем искуплении.
– Да, погиб бы. Он бы умер медленной, ужасной смертью, погрязнув в мелкой неблагодарной работе, ухаживая за бесчисленными армиями безымянных, безликих, вечно нуждающихся людей.
Мне вдруг стало так грустно, что я не мог продолжать. Я устал противной смертной усталостью. Я вспомнил свой сон и обращенную к Клодии речь, которую я теперь пересказал Гретхен, и я узнал себя лучше, чем когда-либо прежде.
Я подтянул колени, обхватил их руками и уткнулся в них головой.
– Я не могу, – едва слышно произнес я. – Я не могу захоронить себя заживо, как ты. И не хочу, как это ни ужасно. Не хочу! И я не верю, что это спасет мою душу. Я не верю, что это важно.
Я почувствовал, как она положила ладони мне на руки. Она гладила меня по голове, отведя со лба волосы.
– Я понимаю тебя, – сказала она, – хотя ты и заблуждаешься.
Я взглянул на нее и коротко засмеялся. Потом поднял оставшуюся от пикника салфетку и вытер нос и глаза.
– Но я не поколебал твою веру, да?
– Нет, – ответила она. На этот раз ее улыбка была другой, более теплой и по-настоящему светящейся. – Ты подтвердил ее, – шепотом проговорила она. – Какой же ты странный, и какое чудо, что ты пришел ко мне. Я почти верю, что твой путь для тебя вернее. Кем еще ты мог стать? Никем.
Я сел поудобнее и отпил вина. Оно уже согрелось от огня, но сохранило приятный вкус, и по моему сонному телу разлилось удовольствие. Я выпил еще. Я поставил бокал и посмотрел на нее.
– Хочу задать тебе один вопрос, – сказал я. – Ответь мне от чистого сердца. Если я выиграю мою битву – если получу назад свое тело, – ты хочешь, чтобы я пришел к тебе? Ты хочешь, чтобы я доказал, что говорил правду? Подумай, прежде чем отвечать. Я хочу прийти к тебе. Правда хочу. Но не уверен, что для тебя так будет лучше. У тебя почти идеальная жизнь. Наш небольшой плотский эпизод не мог отвратить тебя от нее. Я был прав, не так ли, в том, что говорил раньше? Теперь ты знаешь, что для тебя эротические наслаждения не так уж важны, и в ближайшем будущем вернешься на работу в джунгли.
– Ты прав, – ответила она. – Но тебе следует кое-что знать. Сегодня утром был момент, когда я подумала, что могу от всего отказаться – лишь бы остаться с тобой.
– Нет, только не ты, Гретхен.
– Да, я. Я чувствовала, как меня уносит, как раньше уносила музыка. И если бы ты сказал: «Пойдем со мной», – даже сейчас я могла бы это сделать. Если бы твой мир существовал на самом деле… – Она замолчала, пожав плечами, слегка встряхнула волосами и снова разгладила их. – Смысл целомудрия заключается в том, чтобы не влюбляться. А в тебя я могла бы влюбиться. Я это знаю.
Она на миг умолкла и добавила тихим взволнованным голосом:
– Ты мог бы стать моим Богом. Это правда.
Ее слова испугали меня, но я немедленно почувствовал бесстыдное удовольствие и удовлетворение, грустную гордость. Я старался не поддаваться чувству постепенного физического возбуждения. В конце концов, она не понимает, что говорит. Не может понять. Но в ее голосе и поведении присутствовало что-то очень убедительное.
– Я уезжаю, – сказала она прежним голосом, полным уверенности и смирения. – Наверное, я уеду через несколько дней. Но да, если ты заберешь назад свое старое тело – ради Бога, приходи ко мне. Я хочу… Я хочу знать!
Я не ответил. Я слишком запутался. Потом я выразил это вслух.
– Знаешь, в некотором ужасном смысле, когда я приду к тебе и открою свою истинную сущность, ты, может быть, разочаруешься.
– Как это может быть?
– Ты считаешь, что я – возвышенный человек, а все, что я говорил, – моя духовная сущность. Ты рассматриваешь меня как безумца, который смешивает истину с заблуждением, словно мистик. Но я – не человек. И, поняв это, ты можешь меня возненавидеть.
– Нет, я не смогла бы тебя ненавидеть. А узнать, что ты говорил правду? Это было бы… чудом.
– Может быть, Гретхен. Может быть. Но запомни, что я говорил. Мы – видения без откровения. Тебе действительно нужен еще и этот крест?
Она не ответила. Она взвешивала мои слова. Я не мог себе представить, что они для нее значат. Я потянулся к ее руке, она позволила мне взять ее, ласково сжала мои пальцы и по-прежнему пристально посмотрела на меня.
– Бога нет, Гретхен, не так ли?
– Да, его нет, – прошептала она.
Мне хотелось плакать и смеяться. Я тихо смеялся про себя, глядя на нее, на ее величественную, похожую на статую фигуру, на свет, мерцавший в ее оленьих глазах.
– Ты не знаешь, что ты для меня сделал, – сказала она. – Ты не знаешь, что это для меня значит. Теперь я готова – готова вернуться.
Я кивнул.
– Значит, моя красавица, ничего не изменится, если мы снова пойдем в постель. Потому что это, без сомнения, стоит того.
– Да, думаю, так мы и поступим, – ответила она.
Уже почти стемнело, когда я тихо оставил ее, чтобы отнести телефон на длинном проводе в ванную и позвонить моему агенту в Нью-Йорк. Телефон опять звонил до бесконечности. Я уже собирался сдаться и снова обратиться к моему человеку в Париже, когда в трубке послышался голос, который медленно, в неловких выражениях дал мне понять, что моего нью-йоркского представителя действительно нет в живых. Он умер насильственной смертью несколько ночей назад в своем офисе на Мэдисон-авеню. Мотивом для нападения послужило ограбление – украли компьютер и все записи.
Я до того остолбенел, что не мог ответить услужливому телефонному голосу. Наконец я собрался с силами и задал несколько вопросов.
Преступление свершилось вечером в среду, около восьми. Нет, никто не знает степень ущерба, нанесенного кражей документов. Да, к сожалению, беднягу постигла мучительная смерть.
– Ужасное, ужасное положение, – сказал голос. – Будь вы в Нью-Йорке, вы не могли бы этого не знать. Об этом писали все газеты. Они назвали это преступление вампирским убийством. В его теле не осталось ни единой капли крови.
Я повесил трубку и долго сидел в тупом молчании. Потом я позвонил в Париж. После незначительного промедления ответил мой человек.
Слава Богу, что я позвонил, сказал мой человек. Но пожалуйста, я должен доказать свою личность. Нет, кодовых слов недостаточно. Помню ли я разговоры, состоявшиеся между нами в прошлом? О да, да, именно. Говорите, говорите, сказал он. Я не замедлил обрушить на него шквал секретов, известных лишь нам двоим, и понял, что у него буквально гора с плеч упала.
Происходят очень странные вещи, сказал он. Дважды с ним вступал в контакт человек, утверждавший, будто он – это я, но очевидно мной не являлся. Этот человек даже знал два-три наших старых кодовых слова и выдал искусное объяснение того, почему он не знает новые. Тем временем поступило несколько электронных поручений на перевод денежных средств, но коды во всех случаях были неверными. Но не совсем неверными. Имеются все указания на то, что этот человек занимается взломом нашей системы.
– Но, месье, позвольте рассказать вам самое главное. Этот человек говорит по-французски не так, как вы! Не хотелось бы обижать вас, месье, но ваш французский язык довольно… – как бы сказать? – Необычен. Вы употребляете старомодные слова. И ставите их в нестандартном порядке. Я могу вас отличить.
– Я прекрасно вас понял, – сказал я. – А теперь поверьте в то, что я скажу. Вы больше не должны разговаривать с этим человеком. Он способен читать ваши мысли. Он пытается извлечь слова из вашей головы при помощи телепатии. Мы с вами установим другую систему. Сейчас вы сделаете мне перевод… в мой новоорлеанский банк. Но после этого все должно быть заморожено. И когда я снова позвоню вам, то назову три старомодных слова. Мы не будем уславливаться, какие конкретно… но эти слова вы от меня уже слышали и узнаете их.
Конечно, здесь присутствовал риск. Но суть в том, что этот человек меня знал! Я рассказал ему, что вышеупомянутый вор опасен, что он совершил насилие над моим агентом в Нью-Йорке, что необходимо принять все мыслимые и немыслимые меры для личной охраны. Я за все заплачу – за любое количество охранников, круглосуточно. Здесь можно ошибиться только в сторону избытка.
– Очень скоро я снова свяжусь с вами. Помните, старомодные слова. В процессе разговора вы поймете, что это я.
Я положил трубку. Меня трясло от бешенства, непреодолимого бешенства. Вот чудовище! Ему мало было получить тело бога, ему нужно разграбить и казну бога! Демон, дьявол! А я-то, дурак, этого не предвидел!
– Да, ты – настоящий человек, – сказал я самому себе. – Человек-идиот! – И подумать только, какие обвинения предъявит мне Луи, прежде чем снизойдет до помощи!
А что, если все узнает Мариус?! Ох, немыслимо, слишком ужасно. Нужно по возможности скорее попасть к Луи.
Надо раздобыть чемодан и ехать в аэропорт. Моджо, без сомнения, придется путешествовать в ящике, об этом тоже надо позаботиться. Не выйдет красивого, медленного прощания с Гретхен, которое я себе представлял. Но она, конечно, поймет.
В сложном иллюзорном мире ее таинственного любовника происходили важные события. Настал момент расставания.
Глава 17
Переезд на юг сам по себе оказался небольшим кошмаром. Аэропорт едва успел открыться после многочисленных буранов, и его до отказа наводнили взволнованные смертные, ожидающие вылета своего давно отложенного рейса или прибытия близких.
Гретхен дала волю слезам. Я тоже. Ее охватил внезапный страх, что мы никогда больше не увидимся, и я заверил ее, что приду в миссию святой Маргариты-Марии, расположенную во Французской Гвиане, вверх по реке Марони от Сен-Лорана. В мой карман заботливо вложили бумагу с адресом и всеми номерами, имеющими отношение к Обители в Каракасе, откуда сестры укажут мне путь, если я вдруг сам не смогу найти дорогу. Она уже заказала билеты на полночный рейс – первый отрезок ее путешествия назад.
– Так или иначе, я должна увидеть тебя еще раз! – сказала она мне голосом, от которого у меня разрывалось сердце.
– Увидишь, ma chére, – ответил я, – это я тебе обещаю. Я найду миссию. Я найду тебя.
Сам полет прошел как в аду. Я практически не двигался, все время пролежал в ступоре, ожидая, пока взорвется самолет и мое смертное тело разлетится на куски. Обильные порции джина с тоником не рассеяли моего страха, и отвлечься хоть на несколько секунд мне помогало лишь осознание трудностей, с которыми мне предстояло столкнуться. К примеру, моя квартира набита одеждой, которая мне не подходит. И я привык проникать в нее через дверь на крыше. У меня не осталось ключа от двери с улицы. Ключ же находился в моем ночном убежище под кладбищем Лафайетт, в тайном помещении, до которого мне в жизни не добраться, раз в моем распоряжении только сила простого смертного, – на ряде этапов его блокируют двери, открыть которые не под силу и нескольким смертным мужчинам.
А вдруг Похититель Тел успел побывать в Новом Орлеане до меня? Вдруг он ограбил мои комнаты, украл все спрятанные там деньги? Вряд ли. Да, но он же украл все файлы моего бедного, несчастного нью-йоркского агента… Ах, лучше уж думать, как взорвется самолет. А ведь еще есть Луи. Вдруг Луи не будет? Вдруг… И так далее… на протяжении доброй половины двухчасового полета.
Наконец мы совершили дребезжащую, громыхающую, нескладную, вселяющую ужас посадку – прямо в поистине библейских масштабов ливень. Я забрал Моджо, выбросил его клетку и нагло усадил его на заднее сиденье такси. И мы устремились прямиком в нестихающую грозу, смертный водитель воспользовался всеми доступными ему возможностями риска, и нас с Моджо постоянно швыряло в объятия друг друга.
Около полуночи мы в конце концов добрались до узких окраинных улочек, обрамленных деревьями, за сплошной стеной дождя практически невозможно было рассмотреть дома за железными заборами. Завидев унылый заброшенный дом Луи в заросшем темными деревьями парке, я расплатился с шофером, схватил чемодан и вывел Моджо под ливень.
Было холодно, да, очень холодно, но все же не так, как в густом, морозном воздухе Джорджтауна. В самом деле, даже под ледяным дождем мир выглядел более веселым и сносным благодаря темной густой листве гигантских магнолий и вечнозеленых дубов. С другой стороны, никогда еще моим смертным глазам не представало зрелища жилища столь уединенного, как огромный, массивный заброшенный дом, возвышавшийся перед тайным убежищем Луи.
Сперва, заслонив глаза от дождя и взглянув на черные пустые окна, я испытал жуткий, ничем не оправданный страх – мне показалось, будто здесь никто не живет, а я сошел с ума и обречен навсегда оставаться в этом слабом человеческом теле.
Моджо одновременно со мной перепрыгнул через низкий железный забор. Вдвоем мы рассекли высокую траву, обошли развалины старого крыльца и попали в мокрый заросший сад. Шум ночного дождя барабанил по моим смертным ушам, и я чуть не заплакал, увидев перед собой маленький дом, увитый блестящими лианами.
Громким шепотом произнес я имя Луи. Подождал. Изнутри не доносилось ни звука. Казалось, дом вообще вот-вот развалится. Я медленно приблизился к двери.
– Луи, – повторил я. – Луи, это я, Лестат!
Я осторожно шагнул внутрь среди куч и стопок пыльных предметов. Совершенно ничего не видно! Но я все-таки разглядел письменный стол, белеющую бумагу, а рядом – свечу и книжечку спичек.
Дрожащими пальцами я попытался чиркнуть спичкой, но преуспел лишь после нескольких попыток. Наконец я поднес ее к фитилю, и комната осветилась ярким светом, выхватившим из темноты красное бархатное кресло – мое – и прочие вещи – потрепанные и в запущенном состоянии.
Меня охватила волна сильнейшего облегчения. Я здесь! Я почти спасен! И я не спятил. Вот мой мир – жуткий, захламленный, невыносимый домишко! Луи придет. Луи придет, и, должно быть, скоро; Луи почти уже здесь. Я буквально рухнул в кресло, полностью опустошенный. Я положил руки на Моджо, почесал ему голову и погладил уши.
– Пришли, собака, – сказал я. – И скоро мы погонимся за дьяволом. Мы уж найдем способ с ним справиться. Я понял, что меня опять знобит, а в груди образуется знакомый симптоматичный застой. – Господи, только не это, – произнес я. – Луи, иди сюда, ради всего святого, приходи! Где бы ты ни был, возвращайся скорее. Ты мне нужен.
Я уже было сунул руку в карман в поисках одного из многочисленных бумажных носовых платков, которые навязала мне Гретхен, когда осознал, что слева от меня, всего в дюйме от подлокотника, стоит некая фигура, а ко мне тянется очень гладкая белая рука. В ту же секунду Моджо вскочил на ноги, испустил свой самый злобный, самый грозный рык и, видимо, атаковал фигуру.
Я попытался крикнуть, представиться, но не успел я открыть рот, как меня кинули на пол под оглушительный лай Моджо, и я почувствовал, что на горло мне наступает подошва кожаного ботинка, она нажимает почти до костей, причем с такой силой, что они вот-вот сломаются.
Я не мог ни говорить, ни высвободиться. Из глотки собаки вырвался громкий, пронзительный вопль, потом она тоже умолкла, и я услышал, как ее тело с приглушенным звуком опустилось на пол. Я почувствовал его вес на собственных ногах и беспомощно, отчаянно, в диком ужасе принялся сопротивляться. Рассудок окончательно покинул меня, когда я вцепился в пригвоздившую меня к полу подошву, когда я замолотил кулаками по мощной ноге, когда хватал ртом воздух, испуская хриплые нечленораздельные звуки.
– Луи, это я, Лестат! Я в человеческом теле!
Нога нажимала все сильнее и сильнее. Я задыхался, кости уже были почти раздавлены, но при этом мне не удавалось произнести хотя бы слово, чтобы спастись. Надо мной в полумраке вырисовалось его лицо – едва уловимое сияние белой плоти, которая и на плоть-то не была похожа, изящные симметричные кости, тонкая полусжатая ладонь, парящая в воздухе, что явно означало нерешительность, и глубоко посаженные глаза, горящие легким зеленым свечением, взирали на меня без малейшего ощутимого признака эмоций.
Вся моя душа криком повторяла эти слова, но разве он хоть когда-нибудь мог проникнуть в мысли своей жертвы? Я – да, но не он! О Господи, помоги мне, Гретхен, помоги мне, кричала моя душа.
Когда нога, наверное, в последний раз увеличила давление, я, отбросив всякую нерешительность в сторону, вывернул голову вправо, отчаянно сделал неглубокий вдох и выжал из сдавленного горла единственное хриплое слово: «Лестат!», – все это время безнадежно показывая на себя большим пальцем правой руки.
На большее я не был способен. Я задыхался, и на меня накатила тьма. В добавление к этому я испытал приступ абсолютной удушающей тошноты, и в тот момент, когда мне уже стало все равно, так как в голове образовалась в высшей степени приятная пустота, давление прекратилось, я перекатился на живот и оперся на руки, не в состоянии сдержать бешеный кашель.
– Ради Бога! – вскричал я, выплевывая слова между хриплыми болезненными вдохами. – Я – Лестат. Я – Лестат. Я в этом теле. Ты что, не мог дать мне возможность поговорить? Неужели ты убиваешь всякого злосчастного смертного, который забредет к тебе домой? Где же древние законы гостеприимства, чертов дурак? Какого дьявола ты тогда не поставишь железные решетки на дверь?
Я с трудом встал на колени, и тут тошнота победила. Меня вырвало мерзким ручьем испорченной пищи прямо в грязь и пыль, я отшатнулся от рвоты, окоченевший, несчастный, и уставился на него.
– Ты что, убил собаку? Чудовище! – Я бросился на безжизненное тело Моджо. Но он не умер, просто потерял сознание, и я сразу ощутил медленное биение его сердца. – Ох, слава Богу, если бы ты убил его, я бы никогда, никогда, никогда тебя не простил.
Моджо издал слабый стон, потом пошевелил одной лапой, а затем и другой. Я положил руку между его ушей. Да, он возвращается. Он невредим. Но что за гнусное испытание! Не где-нибудь, а здесь дойти до самого порога смертной смерти! Взбешенный, я метнул взгляд на Луи.
Он стоял очень спокойно, скрывая свое изумление. Грохот дождя, мрачные живые звуки зимней ночи – все внезапно как будто испарилось, стоило мне посмотреть на него. Никогда не видел я его смертными глазами. Никогда еще мне не открывалась такая болезненная, призрачная красота. Как смертные могли принимать его за человека, когда он попадался им на глаза? Его руки – словно руки оживших гипсовых святых в тенистых гротах. А лицо – совершенно лишенное чувства, глаза – никакие не зеркала души, но красивые, похожие на драгоценные камни светильники.
– Луи, – сказал я. – Случилось самое худшее. Самое-самое худшее. Похититель Тел совершил обмен. Но он украл мое тело и не намерен его возвращать.
Внешне в нем не произошло никаких перемен. Больше того, он выглядел таким безжизненным и недобрым, что я внезапно ударился в поток французских слов, выплескивая на него каждый образ, каждую подробность, какую только мог припомнить, в надежде пробудить в нем хоть какие-то эмоции. Я описывал наш последний разговор в этом самом доме, краткую встречу в соборе. Я напомнил его предостережение – не разговаривать с Похитителем Тел. И признался, что не смог устоять перед предложением последнего, что отправился на север, чтобы встретиться с ним и принять его предложение.
Тем не менее в его безжалостном лице не мелькнуло ни искры жизни, и я неожиданно замолчал. Моджо пытался устоять на ногах, иногда из пасти его вырывался стон, и я медленно обнял его правой рукой за шею, прижался к нему, стараясь перевести дух и успокоительным тоном объясняя ему, что теперь все в порядке, что мы спасены, что ему больше ничто не угрожает.
Луи медленно перевел глаза на животное, потом снова на меня. Постепенно его застывший рот смягчился – чуть-чуть. Потом он потянулся и поднял меня на ноги без помощи или согласия с моей стороны.
– Это действительно ты, – сказал он глубоким хриплым шепотом.
– Черт побери, ты прав, это я. Ты понимаешь, что чуть было меня не убил? Сколько еще раз ты собираешься проделать со мной этот фокус, пока не остановятся все часы на земле? Будь ты проклят, мне нужна твоя помощь. А ты опять пытаешься меня убить! Может быть, теперь ты закроешь свои чертовы окна, если на них еще остались хоть какие-то ставни, и разведешь огонь в этом паршивом очаге?
Я снова плюхнулся в свое красное бархатное кресло, все еще тяжело дыша, и тут меня отвлек какой-то странный хлюпающий звук. Я поднял глаза. Луи не шевелился. Он смотрел на меня так, словно я был неведомым чудищем. Но Моджо терпеливо и упорно поглощал всю рвоту, которую я изверг на пол.
Я издал короткий восхищенный смешок, который угрожал перерасти в настоящий истерический припадок.
– Прошу тебя, Луи, огонь. Разведи огонь, – сказал я. – Это смертное тело замерзает. Шевелись!
– Боже мой! – прошептал он. – Что ты еще наделал?
Глава 18
Мои наручные часы показывали два часа. Дождь за сломанными ставнями, закрывавшими как двери, так и окна, ослаб, я свернулся в красном бархатном кресле, радуясь пламени в кирпичном камине, но опять дрожал и страдал от знакомых приступов изнуряющего кашля. Но, естественно, вот-вот наступит момент, когда о подобных вещах беспокоиться будет нечего.
Я выложил Луи всю историю.
В припадке смертной искренности я описал все свои ужасные, загнавшие меня в тупик ощущения, начиная с разговоров с Рагланом Джеймсом и кончая самым последним печальным прощанием с Гретхен. Я даже рассказал ему свои сны, сны о нас с Клодией в той самой больнице, о нашем разговоре в воображаемой гостиной в номере отеля восемнадцатого века, о грустном, ужасном одиночестве моей любви к Гретхен, потому что я знал, что в сердце своем она считает меня сумасшедшим и любит меня только по этой причине. Она рассматривала меня как своего рода блаженного идиота, не более того.
Все завершилось, все уже кончено. Я понятия не имею, где искать Похитителя Тел. Но я должен его найти. А поиски эти начнутся только тогда, когда я снова стану вампиром, когда это высокое сильное тело накачается сверхъестественной кровью.
Как бы слаб я ни был, если во мне будет течь кровь одного лишь Луи, я все равно стану в двадцать раз сильнее и смогу позвать на помощь остальных – ведь никто не знает, что за молодой вампир из меня выйдет. Как только это тело изменится, у меня, естественно, появится телепатический голос. Я смогу умолять о помощи Мариуса, или вызвать Армана, или даже Габриэль – да, мою возлюбленную Габриэль, так как она больше не будет моей дочерью и сможет меня услышать, что при нормальном порядке вещей – если такое слово уместно – невозможно.
Он сел за письменный стол, не вспоминая, разумеется, о сквозняках и о дожде, плещущемся за ставнями, и, не перебивая, слушал меня, с выражением боли и удивления наблюдая, как я в возбуждении вскакиваю на ноги и бегаю по комнате, продолжая свой рассказ.
– Не суди меня за мою глупость, – взмолился я. Я еще раз напомнил ему о моей пытке в пустыне Гоби, о странных разговорах с Дэвидом, о видении Дэвида в парижском кафе. – Я пошел на это, находясь в состоянии отчаяния. Ты же понимаешь, почему я так поступил. Тебе не нужно объяснять. Но теперь необходимо все исправить.
Теперь мой кашель почти не прекращался, и я лихорадочно сморкался в жалкие бумажные платочки.
– Ты себе не представляешь, до чего омерзительно находиться в этом теле, – сказал я. – Теперь, прошу тебя, приступай, да побыстрее, и постарайся как следует. В последний раз ты это делал сто лет назад. И, слава Богу, твоя сила не исчезла. Я уже готов. Приготовлений не требуется. Когда я получу свою оболочку, я загоню его в это тело и сожгу дотла.
Он ничего не ответил.
Я встал и еще раз прошелся по комнате – на сей раз, чтобы согреться и еще потому, что меня охватывало ужасное предчувствие. В конце концов, я же сейчас умру, чтобы возродиться снова, как было двести лет назад. Да, но больно не будет. Нет, никакой боли… только определенные неудобства, которые не сравнятся с моей теперешней болью в груди, с ознобом во всем теле.
– Луи, ради Бога, поскорее, – умолял я. Я остановился и посмотрел на него. – В чем дело? Что с тобой?
Очень тихим и неуверенным голосом он ответил:
– Я не могу.
– Что?
Я уставился на него, пытаясь разгадать, что он имеет в виду, какие у него могут зародиться сомнения, от какого препятствия нам придется избавиться. И я осознал, что за жуткая перемена наползла на его узкое лицо: вся его гладкость исчезла, оно выражало неподдельную печаль. Я снова осознал, что вижу его глазами смертного. Его зеленые глаза подернулись красной пеленой. Все его тело, на вид такое твердое и сильное, затряслось.
– Я не могу, Лестат, – повторил он, вкладывая в эти слова всю душу. – Я не могу тебе помочь!
– Во имя Бога, что ты несешь? – спросил я. – Я тебя создал. Сегодня ночью ты жив только благодаря мне! Ты меня любишь, ты сам это говорил, именно такими словами. Конечно, ты мне поможешь.
Я помчался к нему, хлопнул руками по столу и заглянул ему в лицо.
– Луи, отвечай! Что значит – не можешь?
– О, я не виню тебя за то, что ты сделал. Не виню. Но как ты не понимаешь, что произошло? Лестат, у тебя получилось! Ты переродился, стал смертным человеком.
– Луи, сейчас не время впадать в сантименты по поводу этого превращения. Не бросай мне мои же собственные слова! Я ошибался.
– Нет. Ты не ошибался.
– Что ты пытаешься мне сказать? Луи, мы зря теряем время. Мне нужно идти искать это чудовище! Он забрал мое тело.
– Лестат, с ним разберутся остальные. Может быть, уже разобрались.
– Уже разобрались! В каком смысле – уже разобрались?
– Ты думаешь, они не знают, что произошло? – Он был глубоко потрясен и в то же время сердит. По мере того как он говорил, в его лице то проступали, то исчезали человеческие черты. – Как могло произойти подобное событие, чтобы они не узнали? – спросил он, словно моля меня о понимании. – Ты говоришь об этом Раглане Джеймсе как о каком-то колдуне. Но ни один колдун не сможет полностью скрыться от могущественных созданий, подобных Маарет и ее сестре, подобных Хайману, Мариусу или даже Арману. И что за неловкий колдун – он убивает твоего смертного агента таким кровавым, жестоким способом. – Он покачал головой и неожиданно прижал руки к губам. – Лестат, они все знают! Не могут не знать. Вполне возможно, что тело твое уже уничтожено.
– Они бы так не поступили.
– Почему нет? Ты отдал этому демону разрушительную машину…
– Но он не умел ею пользоваться! Всего тридцать шесть часов по смертным меркам! Луи, как бы то ни было, ты должен дать мне кровь. Оставь свои лекции на потом. Соверши Обряд Тьмы, а я уж найду ответы на все эти вопросы. Мы зря теряем драгоценные минуты и часы.
– Нет, Лестат. Не зря. Вот что я пытаюсь донести до тебя! Вопрос о Похитителе Тел и том теле, что он у тебя украл, не должен нас сейчас волновать. Важно то, что происходит с тобой – с твоей душой – вот в этом теле.
– Отлично. Как скажешь. А теперь преврати это тело в вампира, и побыстрее.
– Не могу. Или, говоря честнее, не буду.
Я бросился на него. Ничего не мог с собой поделать. И через мгновение вцепился обеими руками в отвороты его жалкого, запыленного черного пиджака. Я потянул на себя ткань, готовый вырвать его из кресла, но он остался совершенно недвижим и тихо смотрел на меня с потрясенным и грустным лицом. В бессильной ярости я отпустил его и остался стоять, пытаясь побороть растерянность в своем сердце.
– Не может быть, что ты говоришь это всерьез! – взмолился я, снова ударяя кулаками по столу. – Как ты можешь отказать мне в этом?
– Может быть, теперь ты разрешишь мне побыть тем, кто тебя любит? – спросил он, и в его голосе опять зазвучали эмоции, а с лица не сходило печальное и трагическое выражение. – Я не сделал бы этого, как бы ни было велико твое несчастье, как бы сильно ты меня ни умолял, какую бы ты ни изложил мне ужасную последовательность событий. Не сделал бы, потому что нет под Богом такой причины, по которой я создал бы нового представителя нашего рода. Но ты не рассказал мне ни о каком великом несчастье! Тебя не окружила ужасная последовательность событий! – Он покачал головой, словно был слишком взволнован, чтобы продолжать, но добавил: – Ты восторжествовал, как умеешь восторжествовать только ты.
– Нет же, нет, ты не понимаешь…
– О нет, я понимаю. Следует ли мне подтолкнуть тебя к зеркалу? – Он медленно поднялся из-за стола и встал со мной лицом к лицу. – Должен ли я усадить тебя и заставить тебя выучить уроки, преподнесенные тебе историей, которую я услышал из твоих уст? Лестат, ты осуществил нашу мечту! Неужели ты не понял? Ты своего добился. Ты переродился в смертного человека. Сильного и красивого смертного человека!
– Нет, – сказал я. Я попятился от него, покачал головой и воздел руки в знак мольбы. – Ты не в своем уме. Ты сам не понимаешь, что говоришь. Я ненавижу это тело! Мне противно быть человеком. Луи, если в тебе есть хоть унция сострадания, ты отбросишь свои иллюзии и выслушаешь, что я говорю!
– Я уже выслушал. Каждое слово. Почему бы тебе самому к себе не прислушаться? Лестат, ты победил. Ты вырвался из кошмара. Ты вернул себе жизнь.
– Мне плохо! – крикнул я ему. – Плохо! Господи Боже, как мне тебя убедить?
– Никак. Это я должен тебя убедить. Сколько ты прожил в этом теле? Три? Четыре дня? Ты говоришь о неудобствах словно о смертельных недугах; ты говоришь о физических ограничениях словно об умышленно посланных тебе в качестве кары препятствиях.
И тем не менее на протяжении всех своих нескончаемых жалоб ты сам говорил мне, что я должен тебе отказать! Ты сам молил меня отвергнуть тебя! Лестат, к чему ты описал мне историю Дэвида Тальбота и его одержимости Богом и дьяволом? К чему было пересказывать мне слова монахини Гретхен? К чему говорить о больнице, которая привиделась тебе в горячечных снах? О, я знаю, не Клодия приходила к тебе. Я не говорю, что сам Бог столкнул тебя с этой женщиной, Гретхен. Но ты ее любишь. Ты сам признаешься, что любишь ее. Она ждет твоего возвращения. Она сможет провести тебя сквозь тернии и неурядицы смертного мира…
– Нет же, Луи, ты все неправильно понял. Я не хочу, чтобы она меня вела. Мне не нужна эта смертная жизнь!
– Лестат, неужели ты не видишь, какой у тебя появился шанс? Разве ты не видишь перед собой предначертанный путь к свету?
– Я с ума сойду, если ты не прекратишь говорить такое…
– Лестат, что можем мы сделать ради искупления? И кого этот самый вопрос мучил больше, чем тебя?
– Нет же, нет! – Я поднял руки и несколько раз помахал ими крест-накрест, пытаясь остановить этот грузовик, захламленный безумной философией, который мчался прямо на меня. – Говорю тебе, это ложь! Хуже лжи и быть не может.
Он отвернулся, я опять набросился на него, так как не мог остановиться, и схватил бы его за плечи и потряс, не отбрось от меня назад, к креслу, жестом, слишком быстрым для моих глаз.
Пораженный, с болезненно подвернувшейся ногой, я упал на подушки, сжал правую руку в кулак и ударил им по левой ладони.
– Ох, нет, давай без проповедей, только не сейчас. – Я чуть не плакал. – Давай без банальностей и без благочестивых советов.
– Возвращайся к ней, – сказал он.
– Ты спятил!
– Только представь себе, – продолжал он очень тихим голосом, словно не слыша меня, стоя ко мне спиной, возможно, уставившись в окно, и на фоне серебристых струй дождя обрисовался его темный силуэт. – Столько лет нечеловеческого вожделения, порочных, беспощадных убийств. И ты перерожден. И там – в маленькой больнице в джунглях – ты, вероятно, сможешь спасти по одной человеческой жизни за каждую отнятую жизнь. О, что за ангелы-хранители за тобой присматривают? Откуда в них столько милосердия? Но ты приходишь ко мне и умоляешь вернуть тебе этот кошмар, однако каждым своим словом подтверждаешь великолепие всего, что выстрадал и успел увидеть.
– Я обнажаю перед тобой душу, а ты используешь ее против меня же!
– О нет, Лестат. Я стремлюсь заставить тебя заглянуть внутрь твоей души. Ты умоляешь меня подтолкнуть тебя к Гретхен. Может быть, я – твой единственный ангел-хранитель? Может быть, я – единственный, кто способен указать твою судьбу?
– Ты – жалкий подонок, сукин сын! Если ты не дашь мне кровь…
Он развернулся, широко раскрыв чудовищно неестественные в своей красоте глаза, и походил сейчас на призрак.
– Я этого не сделаю. Ни сейчас, ни завтра – никогда. Возвращайся к ней, Лестат. Живи своей смертной жизнью.
– Как ты смеешь делать за меня выбор? – Я снова поднялся, покончив с нытьем и просьбами.
– Больше не бросайся на меня, – терпеливо произнес он. – В противном случае мне придется причинить тебе боль. А этого мне бы не хотелось.
– Да ты убил меня! Вот что ты сделал. Думаешь, я поверю твоему вранью? Ты приговорил меня к этому гниющему, вонючему, больному телу, вот что ты сделал! Думаешь, я не знаю, насколько глубока твоя ненависть, думаешь, я не узнаю возмездие в лицо? Ради Бога, скажи правду.
– Правда в том, что я тебя люблю. Но сейчас нетерпение слепит тебе глаза, тебя утомляют обычные болезни. И ты никогда не простишь мне, если я лишу тебя твоей судьбы. Только со временем ты осознаешь подлинное значение моего поступка.
– Нет, нет, прошу тебя. – Я снова подошел к нему, на сей раз без злости. Я медленно приближался, пока не положил руки ему на плечи и не уловил аромат пыли и земли, приставший к его одежде. Боже мой, из чего же сделана наша кожа, что она так красиво притягивает к себе свет? И наши глаза. Стоит только посмотреть ему в глаза…
– Луи, – сказал я. – Возьми меня, я этого хочу. Пожалуйста, выполни мою просьбу. Предоставь мне самому интерпретировать мои рассказы. Возьми меня, Луи, посмотри на меня. – Я схватил его холодную безжизенную руку и приложил ее к своему лицу. – Потрогай, какая у меня кровь, какая она горячая. Ты хочешь меня, Луи, знаешь, что хочешь. Ты хочешь меня, хочешь, чтобы я оказался в твоей власти, как ты оказался в моей много-много лет назад. Я стану твоим сыном, Луи. Пожалуйста, сделай это. Не заставляй меня умолять тебя на коленях.
Я почувствовал, как что-то в нем изменилось, как внезапно хищно заблестели его глаза. Но что оказалось сильнее его жажды? Его воля.
– Нет, Лестат, – прошептал он. – Я не могу. Пусть даже я ошибаюсь, а ты прав. И все твои уговоры бессмысленны – я все равно не могу.
Я обнял его, такого холодного, неподатливого – чудовище, созданное мной из человеческой плоти. Я, содрогаясь, прижался губами к его щеке и провел пальцами по его шее.
Он не отстранился. Не мог себя заставить. Я ощутил, как медленно, беззвучно вздымается его грудь.
– Ну пожалуйста, начинай, красавчик, – прошептал я ему в ухо. – Прими этот жар в свои вены и отдай мне всю силу, которую я когда-то передал тебе. – Я приложил губы к его холодному бесцветному рту. – Дай мне будущее, Луи. Дай мне вечность. Сними меня с креста.
Боковым зрением я увидел, как он поднял руку, и почувствовал прикосновение атласных пальцев к щеке. Он погладил мою шею.
– Не могу, Лестат.
– Можешь, ты же знаешь, что можешь, – прошептал я, целуя его в ухо, сглатывая слезы и обнимая его левой рукой за пояс. – Ох, только не оставляй меня в беде, не надо.
– Не надо, не проси меня, – скорбно ответил он. – Я ухожу. Больше ты меня не увидишь.
– Луи! – Я прижался к нему покрепче. – Ты не можешь отказать мне.
– Нет, могу, я уже отказал.
Я почувствовал, как он напрягся, стараясь высвободиться, не причинив мне вреда. Я сжал его еще крепче, отказываясь идти на попятный.
– Больше ты меня здесь не найдешь. Но где ее искать, ты знаешь. Она тебя ждет. Пойми же, ты победил. Снова смертный и молодой, совсем молодой. Снова смертный и красивый, очень красивый. Снова смертный плюс все твои знания и прежняя непоколебимая воля.
Он легко и решительно убрал мои руки и оттолкнул меня, сжимая мои ладони в своих.
– Прощай, Лестат, – сказал он. – Возможно, к тебе придут остальные. Со временем, когда они почувствуют, что ты уже достаточно расплатился.
Я вскрикнул напоследок, пытаясь высвободить руки, сосредоточить на нем всю свою волю, так как прекрасно знал, что он намеревается сделать.
Мелькнула темная тень – и его уже нет, а я лежу на полу.
Свеча на столе упала и потухла. Комнату освещал только угасающий камин. Дверь осталась открытой нараспашку, шел дождь, мелкий и тихий, но ровный. И я понял, что остался совершенно один.
Я упал на бок, вытянув перед собой руки, чтобы задержать падение. И теперь, поднимаясь, я кричал ему вслед, моля Бога, чтобы он как-нибудь услышал меня, как бы далеко он ни ушел:
– Луи, помоги мне! Я не хочу жить! Я не хочу быть смертным! Луи, не оставляй меня так! Я этого не вынесу! Я не хочу! Я не хочу спасать свою душу!
Не знаю, сколько я повторял этот мотив. В результате я выдохся и уже не мог продолжать; мне резали уши звуки моего смертного голоса и звучавшего в нем отчаяния.
Я сел на полу, поджав под себя одну ногу, опершись локтем о колено и вцепившись пальцами в шерсть Моджо, который боязливо вышел вперед и лег рядом со мной. Я наклонился и прижался лбом к его шерсти.
Огонь почти угас. Дождь свистел, вздыхал и удвоил свою силу, но падал прямо с Небес, не тревожимый злобными ветрами.
Наконец я поднял голову и оглядел темное запущенное помещение, кучи книг и старых статуй, вездесущую пыль и грязь, кучку тлеющих углей в очаге. Как же я устал; как же меня вымотал собственный гнев; я почти отчаялся.
Чувствовал ли я хоть раз подобную безнадежность?
Я лениво перевел взгляд на дверь, на стену дождя, за которой лежала грозная темнота. Да, придется выходить под дождь вместе с Моджо – ему, конечно, дождь понравится не меньше, чем снег. Придется выйти. Нужно убираться из этого мерзкого домишки и найти уютный кров, чтобы отдохнуть.
Моя квартира под крышей. Конечно, найдется способ в нее пробиться. Естественно… какой-нибудь способ. И солнце через несколько часов встанет, правда? Ах, мой прелестный город под теплыми солнечными лучами.
«Ради Бога, не начинай опять плакать. Тебе нужно отдохнуть и подумать», – приказал я себе.
Но почему бы для начала перед уходом не сжечь этот дом? Оставь большой викторианский особняк в покое. Он его не любит. Но лачугу – спалить!
Я чувствовал, как расплываюсь в злобной неудержимой улыбке, несмотря на то что слезы еще застилали мне глаза.
Да, сжечь! Он это заслужил. Ну конечно, он забрал с собой все рукописи, да, и правда, забрал, но книги превратятся в дым! Именно этого он и заслуживает.
Я немедленно собрал картины – великолепного Моне, парочку маленьких Пикассо и рубиново-красное средневековое панно, написанное яичной темперой (все они, конечно, были в ужасном состоянии) – и помчался в старый пустой викторианский особняк, где и сложил их в темном углу, показавшемся мне сухим и надежным.
Потом я вернулся в маленький дом, схватил свечу и сунул ее в остатки огня. Мягкие угли сразу же разорвались на крошечные оранжевые искры; и искры остались на фитиле.
– О да, ты это заслужил, предатель, неблагодарный ублюдок! – шипел я, поднося пламя к кипе книг у стены и заботливо перелистывая их страницы, чтобы они загорелись. Теперь – к старому пиджаку, накинутому на деревянный стул, – он загорелся, как солома, и дальше – к красным бархатным подушкам кресла, которое когда-то было моим. О да, жги, жги все!
Я пнул ногой кучу заплесневелых журналов под столом и зажег их. Я подносил огонь к одной книге за другой и расшвыривал их, словно горящие угли, по всем углам дома.
Моджо обходил стороной эти маленькие фейерверки и в результате вышел на дождь и издали смотрел на меня в открытую дверь.
Да, но все идет слишком медленно. Но у Луи полный ящик свечей; как я мог о них забыть – чертов смертный мозг! Я вытащил свечи – их оказалось штук двадцать – и начал зажигать уже воск, а не фитиль и тыкать ими в красное бархатное кресло. Я швырял их в кипы оставшегося мусора, кидал горящие книги в мокрые ставни и поджигал обрывки старых штор, которые свисали со старых карнизов. Я пробивал ногой дыры в прогнившей штукатурке и бросал в них свечи поверх дранки, а затем наклонился и поджег рваные потертые ковры, наморщив их, чтобы обеспечить под ними поток воздуха.
Через несколько минут во всем доме полыхало пламя, но главными кострами стали красное кресло и письменный стол. Я выбежал под дождь и увидел, как за темными сломанными перекладинами разгорается огонь.
В воздух поднялся мерзкий влажный дым – огонь лизал мокрые ставни, вырывался из окон, где наталкивался на мокрую массу вьюнка. Чертов дождь! Но тут кресло и стол разгорелись еще сильнее, и весь дом взорвался рыжим пламенем!
– Да, да, гори! – орал я, пока дождь заливал мне лицо и веки. Я буквально подпрыгивал от радости. Моджо попятился к темному особняку, опустив голову. – Гори, гори, – вопил я. – Луи, жаль, что я не могу сжечь тебя! Я бы сжег! О, если бы я знал, куда ты прячешься днем!
Но несмотря на ликование, я осознал, что плачу. Я вытирал рот тыльной стороной ладони и плакал: «Как ты мог меня бросить?! Как ты мог?! Я тебя проклинаю!..» И, залившись слезами, я опустился на колени на мокрую от дождя землю.
Я откинулся назад, сложив перед собой руки, поверженный, несчастный, и смотрел на огромный костер. В соседних домах защелкали выключатели. Я услышал тонкий вопль приближающейся сирены. Я понял, что нужно уходить.
Но я продолжал стоять на коленях и впал в ступор, когда внезапно меня пробудило гортанное грозное рычание Моджо. Я осознал, что он стоит рядом со мной и прижимается мокрой шерстью к самому моему лицу, всматриваясь в горящий дом.
Я пошевелился, чтобы взять его за ошейник, и уже собрался уходить, когда обнаружил источник его тревоги. То не был беспомощный смертный. Скорее, неземная тускло-белая фигура, неподвижная, словно видение, у полыхающего здания, зловеще освещенная пламенем.
Даже слабым смертным зрением я разглядел, что это Мариус! И на его лице лежала печать гнева. Никогда не видел я такого отчетливого выражения ярости, и не оставалось ни малейшего сомнения в том, что это выражение предназначено для моих глаз.
Я приоткрыл рот, но слова застряли у меня в горле. Я только и мог, что протянуть к нему руки и от всего сердца послать к нему безмолвную мольбу о милосердии и помощи.
Собака сделала последнее яростное предупреждение и готова была прыгнуть.
Я безудержно дрожал и беспомощно смотрел на происходящее, а фигура медленно повернулась спиной и, окинув меня последним сердитым, презрительным взглядом, исчезла.
Только тогда я вернулся к жизни и выкрикнул его имя.
– Мариус! – Я поднялся на ноги, крича все громче и громче: – Мариус, не оставляй меня здесь! Помоги мне! Я воздел руки к небу. – Мариус! – взревел я.
Но я знал, что это бесполезно.
Дождь промочил мне пиджак. И ботинки. От дождя у меня намокли и сосульками повисли волосы, и теперь уже было не важно, плакал я или нет, потому что дождь смыл все слезы.
– Ты считаешь, я потерпел поражение, – прошептал я. Какой смысл кричать ему вслед? – Ты думаешь, что вынес свое суждение, и точка. Да, тебе кажется, что все так просто. Так вот, ты ошибаешься. Я никогда не отомщу за эти минуты. Но ты меня еще увидишь. Ты меня еще увидишь.
Я наклонил голову.
В ночи звучали смертные голоса и топот бегущих ног. На дальнем углу остановилась огромная шумная машина. Мне пришлось силой заставить шевелиться свои злополучные смертные конечности.
Я сделал Моджо знак следовать за собой, и мы исчезли, прокравшись мимо продолжающих весело гореть развалин дома, миновав низкую изгородь в саду и заросшую тропинку.
Только потом мне пришло в голову, насколько близка была опасность оказаться пойманными – смертный поджигатель и его злющая собака.
Но разве мне было до этого? Луи отверг меня, как и Мариус – Мариус, который сможет найти мое сверхъестественное тело до того, как до него доберусь я, и уничтожить его на месте. Мариус, который, возможно, уже его уничтожил, чтобы навеки оставить меня в смертной оболочке.
О, если мне и были в мою смертную юность ведомы такие несчастья, то я об этом не помнил. А если бы и вспомнил, то сейчас они были бы весьма слабым утешением. Что до моего страха, то его было словами не описать. Рассудком его не побороть. Я снова и снова перебирал в уме свои надежды и неисполнимые планы.
– Я должен найти Похитителя Тел, я должен его найти, а ты должен дать мне время, Мариус. Раз уж ты мне не поможешь, то даруй мне хотя бы такую малость.
Я повторял это без конца, словно перебирал четки и возносил молитву Деве Марии, бредя под горьким дождем.
Раз или два я даже прокричал свою молитву в темноту, остановившись под высоким, вымокшим насквозь дубом и стараясь разглядеть надвигающийся с мокрого неба свет.
Если ли в мире хоть кто-нибудь, кто мне поможет?
Моей единственной надеждой оставался Дэвид, хотя что он может сделать, я себе не представлял. Дэвид! А вдруг он тоже повернется ко мне спиной?
Глава 19
Всходило солнце, а я сидел в Кафе дю Монд и думал, как же попасть в мою квартиру под крышей. Благодаря этой проблеме я не терял головы. Не в этом ли ключ к смертному выживанию? Да-а-а… Как же вломиться в мою роскошную квартирку? Я сам заблокировал вход непреодолимой преградой в виде железных ворот. Я собственноручно снабдил двери в пентхаус многочисленными сложными замками. Даже на окнах были решетки, призванные защищать дом от вторжения смертных, хотя мне раньше не приходилось обдумывать всерьез, как бы они могли добраться до окон.
Ну ладно, мне нужно будет прорваться через ворота. Нужно будет совершить чудеса красноречия в разговорах с остальными жильцами здания, каждый из которых снимает квартиру у светловолосого француза Лестата де Лионкура, а он, должен добавить, прекрасно с ними обращается. Нужно будет убедить их, что я – французский кузен их домовладельца, приехавший в его отсутствие присмотреть за пентхаусом, и мне любой ценой необходимо попасть внутрь. Пусть придется воспользоваться отмычкой! Или топором! Или даже пилой. Дело техники, как говорится в этом веке. Я должен попасть внутрь.
И что потом? Взять кухонный нож – так как в доме имеются подобные вещи, хотя, видит Бог, в кухне я никогда не испытывал потребности – и перерезать свое смертное горло?
«Нет. Позвони Дэвиду. В мире больше не осталось никого, к кому ты мог бы обратиться. И только подумай, какие жуткие вещи скажет тебе Дэвид!»
Едва перестав размышлять об этом, я сразу же погрузился в гнетущее состояние отчаяния.
Меня изгнали. Мариус. Луи. Из-за моего безрассудства они отказали мне в помощи. О, это правда, я дразнил Мариуса. Я отверг его мудрость, его общество, его законы.
О да, я сам на это напросился, как зачастую выражаются смертные. И я совершил отвратительный поступок, выпустив в мир Похитителя Тел, наделенного моей силой. Это правда. Снова признан виновным в колоссальных ошибках и экспериментаторстве! Но разве мне приходило в голову, что это значит – полностью лишиться своей силы и смотреть на все глазами чужака? Остальные все знали; должны знать. И они позволили Мариусу прийти и вынести приговор, дать мне понять, что за свой поступок я становлюсь изгоем!
Но Луи, мой прекрасный Луи, как он мог от меня отречься? Если бы Луи требовалась помощь, я бросил бы вызов самим Небесам! Я так рассчитывал на Луи, так рассчитывал, что, когда проснусь сегодня ночью, в моих жилах будет течь прежняя кровь, могущественная, настоящая.
О Господи, я больше не из их числа. Я – ничто, всего лишь смертный мужчина, сижу в душном теплом кафе, пью кофе – о да, конечно, приятный на вкус – и жую сахарные пончики без малейшей надежды на то, чтобы вновь обрести свое славное место в сумеречном Элохиме.
Как же я их ненавидел. Как же я мечтал сделать им гадость! Но кого в этом винить? Лестата ростом в шесть футов два дюйма? Лестата с карими глазами, довольно смуглой кожей и копной темных волос? Лестата с мускулистыми руками и сильными ногами, ослабленными жестоким смертным ознобом? Лестата с его верной собакой Моджо – Лестата, предающегося мыслям о том, как же ему все-таки изловить демона, сбежавшего не с его душой, как чаще всего бывает, но с его телом, телом, которое уже, быть может – нет, даже не думай об этом! – уничтожено?
Разум подсказывал мне, что пока еще рано строить заговор. Кроме того, месть меня никогда особенно не интересовала. Месть волнует тех, кто в тот или иной момент терпит поражение. Я же еще поражения не потерпел, уговаривал я самого себя. Нет, пока нет. И куда более интересно представлять себе победу, чем месть.
Лучше подумать о мелочах, о том, что еще можно изменить. Дэвид должен меня выслушать. По меньшей мере, он должен дать мне совет! Но ведь больше он ничего предложить мне не сможет? Как два смертных человека смогут угнаться за этим мерзавцем?
А Моджо проголодался. Он смотрел на меня большими умными карими глазами. С каким видом его разглядывали люди в кафе, как далеко обходили они зловещее мохнатое существо с темной шерстью, мягкими розоватыми ушами и громадными лапами. Пора, пора кормить Моджо. В конце концов, старое клише оказалось не таким уж избитым. Огромный кусок собачьей плоти остался моим единственным другом.
Была ли собака у Сатаны, когда его бросили в ад? Что ж, собака, должно быть, последовала бы за ним – в этом-то я был уверен.
– Как же мне быть, Моджо? – спросил я. – Как простому смертному поймать Вампира Лестата? Или старейшие уже сожгли мое прекрасное тело дотла? Может быть, визит Мариуса означал именно это – дать мне знать, что все кончено? О Боже! Что говорила ведьма в том жутком фильме? Как могли вы так поступить с моей прекрасной порочностью? Моджо, у меня опять поднимается температура. Все само собой образуется. Я умру!
Но, Отец Небесный, узри, как обрушивается солнце на грязные тротуары, взгляни, как под действием великолепного карибского света просыпается мой обшарпанный, очаровательный Новый Орлеан.
– Пошли, Моджо. Пора взламывать дверь. Тогда мы сможем погреться и отдохнуть.
Остановившись у ресторана напротив старого Французского рынка, я купил ему месиво из костей и мяса. Конечно, это подойдет. Добрая официанточка наполнила целый мешок вчерашними объедками и охотно заверила меня, что собаке они очень понравятся. А как же я? Разве я не позавтракаю? Разве в такое прекрасное зимнее утро у меня нет аппетита?
– Попозже, милая, – ответил я, вкладывая ей в руку крупную купюру. Единственное утешение – я все еще богат. По крайней мере, мне так кажется. Но нельзя знать наверняка, пока не доберусь до компьютера и сам не прослежу действия поганого мошенника.
Моджо проглотил свою еду в канаве без единой жалобы. Вот это собака! И почему я не родился собакой?
Ладно, где, черт возьми, мой пентхаус? Мне пришлось остановиться, подумать, прогуляться пару кварталов не в ту сторону и вернуться, прежде чем я наконец нашел его, с каждой минутой замерзая все больше и больше, хотя небо поголубело и солнце теперь светило очень ярко, – ведь я никогда не входил в это здание с улицы.
Попасть в него оказалось очень просто. Дверь с Дюмейн-стрит легко поддалась, и я захлопнул ее за собой. Да, но ворота… Это будет сложнее всего, подумал я, волоча свои тяжелые ноги по лестнице, пролет за пролетом, пока Моджо любезно ожидал меня на лестничных площадках.
Наконец я увидел прутья решетки, приятный солнечный свет, сочившийся на лестницу из садика на крыше, и большие зеленые шелестящие листья, чуть-чуть подмерзшие по краям.
Но замок, как же мне удастся сломать замок? Я занимался оценкой ситуации и мысленно подбирал необходимый инструмент – может быть, маленькая бомба? – когда до меня дошло, что в каких-то пятидесяти футах от меня находится дверь в мою квартиру и что она не заперта.
– О Боже, мерзавец и здесь побывал! – прошептал я. – Черт возьми, Моджо, он ограбил мое логово.
Конечно, это можно было рассматривать и как хороший признак. Мерзавец еще жив; с ним пока что не разделались. И я все еще могу его поймать! Но как? Я пнул ногой ворота, и ногу пронзила острая боль.
Тогда я схватил их руками и безжалостно затряс, но старые железные стержни оставались такими же надежными, как и прежде. Их не сломать даже слабому призраку, такому как Луи, не говоря уже о смертном. Без сомнения, дьявол даже до них не дотрагивался, а вошел, как и я, с неба.
«Хорошо, остановись. Раздобудь инструмент, да побыстрее, и выясни степень нанесенного им ущерба».
Я повернулся, чтобы уйти, но в этот самый момент Моджо встал в стойку и зарычал в знак предупреждения. В квартире кто-то двигался. Я увидел, как на стене вестибюля затанцевала чья-то тень.
Не Похитителя Тел – такое, слава Богу, невозможно. Но чья?
Через мгновение я получил ответ на этот вопрос. В дверях появился Дэвид! Мой прекрасный Дэвид, одетый в темный твидовый костюм и пальто; он смотрел на меня с другого конца садовой дорожки с характерным выражением любопытства и настороженности. Наверное, за всю свою проклятую жизнь я никогда так не радовался ни одному смертному.
Я сразу же позвал его по имени. А потом по-французски объявил, что это я, Лестат, и попросил открыть ворота.
Он ответил не сразу. Никогда еще он не был так исполнен достоинства и самообладания, настоящий элегантный британский джентльмен; он стоял и пристально рассматривал меня, и на его узком лице с глубокими морщинами не проступало ничего, кроме немого шока. Он перевел внимательный взгляд на собаку. Потом на меня. И опять на собаку.
– Дэвид, клянусь тебе, это Лестат, – закричал я по-английски. – Это же тело того механика! Вспомни фотографию! Джеймс все сделал, Дэвид. Я попался в это тело. Что мне сказать, чтобы ты мне поверил? Дэвид, впусти меня.
Он оставался на месте. Потом, совершенно внезапно, он направился ко мне быстрым уверенным шагом и остановился перед воротами с абсолютно непроницаемым видом.
Я чуть в обморок не упал от счастья. Я все еще цеплялся обеими руками за прутья решетки, как в тюрьме, и потом понял, что смотрю прямо ему в глаза – впервые мы стали одного роста.
– Дэвид, ты себе не представляешь, как я рад тебя видеть, – сказал я, снова перескакивая на французский. – Как тебе удалось сюда попасть? Дэвид, это Лестат. Это я. Конечно, ты мне веришь. Ты же узнаешь мой голос. Дэвид, Бог и дьявол в парижском кафе! Кому об этом знать, кроме меня?
Но он отреагировал не на мой голос; он смотрел мне в глаза и прислушивался к каким-то далеким звукам. Внезапно его поведение изменилось, и я уловил в его лице признаки узнавания.
– О, слава Богу, – произнес он с легким, очень вежливым британским вздохом.
Он достал из кармана маленький футляр, быстро извлек из него тонкую металлическую полоску и вставил ее в замок. Я достаточно соображал в жизни, чтобы понять – это какой-то воровской инструмент. Он распахнул ворота и протянул ко мне руки.
Мы молча обнялись, долго и тепло, и я яростно боролся с подступавшими слезами. За все это время я очень-очень редко дотрагивался до него. И этот момент был наэлектризован эмоциями, которые застали меня врасплох. Мне вспомнилась дремотная теплота наших с Гретхен объятий. Я чувствовал себя в безопасности. И на какую-то секунду я перестал ощущать себя абсолютно одиноким.
Но долго наслаждаться таким утешением сейчас времени не было.
Я неохотно отстранился и опять подумал, какая у Дэвида потрясающая внешность. Он производил на меня такое впечатление, что я почти был готов поверить, будто мне столько же лет, сколько и телу, в которое я вселился. Он был ужасно мне нужен.
Все небольшие недостатки, свойственные возрасту, открытые моим вампирским глазам, сейчас оставались невидимыми. Глубокие морщины на его лице казались частью его грандиозной экспрессивной личности, как и спокойный свет в глазах. Стоя передо мной в безупречном костюме, с золотой цепочкой от часов, поблескивавшей на твидовом жилете, он производил впечатление человека, полного негасимой жизненной энергии, ужасно солидного, изобретательного и серьезного.
– Тебе известно, что натворил этот подонок, – сказал я. – Он одурачил меня и бросил. Остальные тоже меня бросили. Луи, Мариус. Они от меня отвернулись. Друг мой, меня оставили в этом теле, как будто на необитаемый остров высадили. Пойдем, мне нужно проверить, не обокрал ли он мою квартиру.
Я поспешил к входной двери, едва расслышав его немногословное замечание о том, что, на его взгляд, в квартиру никто не проникал.
Он оказался прав. Демон не ограбил квартиру! Она была точно в том же виде, в каком я ее оставил, вплоть до моей старой бархатной куртки, висевшей на открытой дверце шкафа. Желтый блокнот, в котором я делал заметки перед уходом. И компьютер. Немедленно надо залезть в компьютер и проверить, до какой степени он доворовался. А мой парижский агент – бедняге, может быть, до сих пор угрожает опасность. Нужно быстрее с ним связаться.
Но я отвлекся, увидев свет, льющийся сквозь стеклянные стены, мягкое теплое великолепие солнца, осветившего темные диваны, кресла и роскошный персидский ковер с бледным медальоном и венками из роз, осветившего даже немногочисленные большие современные картины – сплошь неистовая абстракция, – которые я давным-давно подобрал к этим стенам. Я вздрогнул при виде этого зрелища, в который раз подивившись, почему электрическое освещение никогда не оставляет такого чувства благополучия, какое сейчас у меня появилось.
Я также отметил, что в большом камине, выложенном белой плиткой, пылает огонь – вне всякого сомнения, дело рук Дэвида – и что из кухни пахнет кофе; за все годы, что я жил в этом доме, я едва ли в нее заходил.
Дэвид сразу пробормотал извинения. Он даже еще не зарегистрировался в гостинице – так стремился меня найти. Он приехал сюда прямо из аэропорта и выходил только для того, чтобы купить самое необходимое; он собирался с удобствами провести здесь ночь в ожидании, что я, может быть, приеду или решу позвонить.
– Прекрасно, я очень рад, – ответил я, и меня немного позабавила его британская вежливость. Я так ему обрадовался, а он извиняется за то, что устроился у меня как дома.
Я сорвал с себя мокрое пальто и уселся за компьютер.
– Это на минуту, – сказал я, набивая различные команды, – а потом я все тебе расскажу. Но что заставило тебя приехать? Ты догадывался о том, что произошло?
– Конечно догадывался, – ответил он. – Разве ты не слышал о вампирском убийстве в Нью-Йорке? Только чудовище могло разгромить тот офис. Лестат, ну почему ты мне не позвонил? Почему ты не попросил меня помочь?
– Секундочку, – сказал я. На экране уже загорались буковки и цифры. Мои счета были в порядке. Если бы демон проник в систему, повсюду появились бы запрограммированные сигналы о вторжении. Конечно, я никак не мог узнать, не напал ли он на мои счета в европейских банках, пока я не зайду в их файлы. Черт, я не мог вспомнить кодовые слова, и, откровенно говоря, мне было сложно управляться даже с самыми простыми командами.
– Он был прав, – пробормотал я. – Он предупреждал, что мои мыслительные процессы изменятся. Я перешел из финансовой программы в «Уордстар», чтобы набрать текст, и быстро напечатал сообщение для парижского агента, которое затем отослал по модему, – с просьбой немедленно сообщить мне о текущем состоянии счетов и напоминанием о том, чтобы он принял величайшие меры предосторожности относительно личной охраны. Все, сделано.
Я откинулся на спинку стула, глубоко вздохнул, что вызвало небольшой приступ кашля, и осознал, что Дэвид смотрит на меня так, словно он до такой степени шокирован моим видом, что не может нормально воспринимать. В самом деле, он рассматривал меня почти с комическим выражением. Потом он опять взглянул на Моджо, который тихо и несколько медлительно исследовал квартиру, то и дело поднимая на меня глаза в ожидании указаний.
Я щелкнул пальцами, подзывая к себе Моджо, и крепко обнял его. Дэвид смотрел на эту сцену, словно ничего более странного в жизни не видел.
– Господи Боже, ты действительно вселился в это тело, – прошептал он. – Не просто болтаешься внутри, но закрепился в его клетках.
– Ты это мне рассказываешь? – с отвращением сказал я. – Как омерзительна вся эта кутерьма. А остальные мне помогать не будут, Дэвид. Меня изгнали. – Я сжал зубы от ярости. – Изгнали! – Я перешел на шипящее рычание, чем непреднамеренно так развеселил Моджо, что он лизнул меня в лицо.
– Конечно, я это заслужил, – продолжил я, гладя Моджо. – Видимо, так со мной проще всего разобраться. Я всегда заслуживаю самого худшего! Самую гнусную измену, самое подлое предательство, самое низкое отречение! Лестат-подлец. Вот они и оставили этого подлеца в полном одиночестве.
– Я с ума сходил, пытаясь тебя разыскать, – сказал Дэвид уже вполне сдержанным и собранным тоном. – Твой агент в Париже клялся, что не может мне помочь. Я собирался воспользоваться этим адресом в Джорджтауне. – Он указал на желтый блокнот, лежавший на столе. – Слава Богу, что ты здесь.
– Дэвид, больше всего я боюсь, что другие уничтожили Джеймса, а с ним – и мое тело. Может быть, теперь я располагаю только этой оболочкой.
– Нет, не думаю, – с убедительной невозмутимостью ответил он. – Тот, кто занял твое тело, оставил за собой приличный хвост. Но сними же с себя мокрую одежду. Ты простудишься.
– В каком смысле – хвост?
– Ты же знаешь, что мы ведем учет таких преступлений. Теперь, пожалуйста, переоденься.
– Другие убийства, после Нью-Йорка? – возбужденно спросил я. Я дал ему уговорить себя пойти к камину и сразу обрадовался тому, что оказался в тепле. Я стащил влажный свитер и рубашку. Конечно, ни в одном из шкафов не найдется одежды моего размера. И я понял, что вчера ночью где-то во владениях Луи забыл свой чемодан. – Нью-Йорк был ночью в среду, да?
– Моя одежда тебе подойдет, – сказал Дэвид, мгновенно выхватывая мысли из моей головы. Он направился к гигантскому чемодану, стоящему в углу.
– Что случилось? Почему ты решил, что это Джеймс?
– Получается, что так, – ответил он, с шумом открывая чемодан и вынимая оттуда несколько сложенных вещей, а за ними – твидовый костюм, все еще на вешалке, очень похожий на тот, что был на нем самом, и положил его в ближайшее кресло. – Вот, переодевайся. Ты загонишь себя в гроб.
– Ох, Дэвид, – сказал я, продолжая раздеваться, – я уже несколько раз чуть не вогнал себя в гроб. Фактически я провел всю свою краткую смертную жизнь в предсмертном состоянии. Забота об этом теле – сплошные отвратительные хлопоты; как живые люди только выносят этот бесконечный цикл – поесть, пописать, похныкать, испражниться, а потом опять есть! Прибавь сюда температуру, головную боль, приступы кашля и насморк – настоящая каторга! А профилактика, Господи! Снимать эти гнусные штучки еще хуже, чем надевать! С чего я взял, что мне это нужно? Остальные преступления – когда они произошли? «Когда» важнее, чем «где».
Он опять уставился на меня, слишком потрясенный, чтобы отвечать. Моджо приглядывался к Дэвиду, словно оценивая, и дружелюбно лизнул ему руку розовым языком. Дэвид любовно потрепал его, но по-прежнему не сводил с меня глаз.
– Дэвид, – сказал я, снимая мокрые носки. – Поговори со мной. Другие преступления! Ты сказал, что Джеймс оставил хвост.
– Сверхъестественно, просто дикость какая-то, – потрясенно отозвался он. – У меня есть десяток фотографий этого лица. Но видеть внутри его тебя! О, такого я просто не мог себе представить. Абсолютно не мог.
– Когда этот демон совершил последнее нападение?
– А… Последний отчет поступил из Доминиканской Республики. Это было… дай-ка подумать… две ночи назад.
– Доминиканская Республика! Зачем бы его туда понесло?
– Именно это я и хотел бы выяснить. Перед этим он совершил нападение рядом с Бол-Харбор во Флориде. Оба раза – в кондоминиуме на одном из верхних этажей, и проник внутрь он, как и в Нью-Йорке, через стеклянную стену. На всех местах преступления переломана мебель; стенные сейфы вскрыты: пропали облигации, золото, драгоценности. В Нью-Йорке погиб один человек – разумеется, в трупе не осталось ни капли крови. Во Флориде – две обескровленные женщины, а в Сан-Доминго убита целая семья, но только отец обескровлен в классическом вампирском стиле.
– Он не контролирует свою силу. Он действует вслепую, как робот!
– Именно так я и подумал. Сначала меня насторожило сочетание тяги к разрушению и слепой силы. Он действует крайне неумело! И сами операции ужасно глупы. Но я никак не могу вычислить, почему для краж он выбрал именно эти места. – Он внезапно замолчал и почти застенчиво отвернулся.
Я осознал, что полностью разделся и стою перед ним голый, и это вызвало в нем странное стеснение, он едва ли не покраснел.
– Держи, сухие носки, – сказал он. – Ты ничего лучше не придумал, чем ходить в мокрой одежде? – Он, не глядя, бросил мне носки.
– Я вообще ни в чем особенно не разбираюсь, – ответил я. – Вот что я выяснил. Я понимаю, почему тебя интересует выбор места. Зачем ему совершать путешествие на Карибы, когда он мог навороваться досыта на окраинах Бостона или Нью-Йорка?
– Да. Если только холод не причиняет ему слишком большого неудобства. Но не знаю – так бывает?
– Нет. Он чувствует его не так остро. Совсем по-другому.
Мне было приятно натягивать сухую рубашку и брюки.
Они мне подошли, хотя были по-старомодному широковаты – не та облегающая дорогая одежда, которую предпочитает молодежь. Рубашка оказалась из плотной ткани, а твидовые брюки – со складкой, но в жилете было тепло и уютно.
– Ну вот, я не могу завязать галстук смертными пальцами, – заявил я. – Но зачем мне так наряжаться, Дэвид? Ты что, никогда не носишь ничего, как говорится, неформального? Боже мой, у нас такой вид, словно мы на похороны собрались. Зачем мне эта удавка на шее?
– Потому что без нее в твидовом костюме ты будешь похож на дурака, – рассеянно ответил он. – Давай помогу.
И опять, когда он приблизился ко мне, у него появился этот скованный взгляд. Я осознал, что он испытывает сильное влечение к этому телу. В старом теле я его удивлял; но это тело воспламеняло в нем страсть. И, изучив его поближе, почувствовав, как быстро его пальцы возятся с узлом галстука – настойчивые нажимы, – я понял, что и меня сильно влечет к нему.
Я вспомнил, сколько раз мне хотелось заключить его в объятия, медленно, ласково вонзить зубы ему в шею и выпить его кровь. А теперь я могу в своем роде получить его, не лишая жизни, – в простом сплетении человеческих конечностей, в любом сочетании интимных жестов и сладостных прикосновений, которые ему понравятся. И понравятся мне.
Эта мысль меня парализовала. По моей человеческой коже побежали мягкие мурашки. Я чувствовал с ним связь, связь, которую ощущал с бедной, злосчастной девушкой, которую я изнасиловал, с прогуливавшимися туристами в заснеженной столице, с моими братьями и сестрами, – связь, как с моей любимой Гретхен.
Это осознание оказалось настолько сильным – я был человеком, я был рядом с человеком, – что я внезапно испугался его, несмотря на всю его красоту. И понял, что страх был частью этой красоты.
О да, теперь я смертный, как и он. Я размял пальцы и медленно распрямил спину, давая мурашкам перерасти в глубокое эротическое ощущение.
Он резко отошел от меня, встревожившись, взял с кресла пиджак и помог мне его надеть.
– Ты должен рассказать мне все, что с тобой случилось, – сказал он. – А примерно через час мы получим известия из Лондона, в случае если этот подонок нападет снова.
Я потянулся к нему и положил свою слабую смертную руку ему на плечо, привлек его к себе и ласково поцеловал в щеку. Он опять отстранился.
– Прекрати эту ерунду, – сказал он, словно делал выговор ребенку. – Я хочу узнать обо всем. Да, ты позавтракал? Тебе нужен носовой платок. Держи.
– И как мы получим новости из Лондона?
– В гостиницу пришлют факс. А теперь пойдем, перекусим. Нам предстоит работать весь день, чтобы понять, что к чему.
– Если он еще жив, – вздохнул я. – Две ночи назад, в Сан-Доминго. Меня опять охватило черное, давящее отчаяние. Восхитительный и безнадежный эротический импульс грозил угаснуть.
Дэвид вынул из чемодана длинный шерстяной шарф и обернул его вокруг моей шеи.
– А разве сейчас нельзя позвонить в Лондон? – спросил я.
– Немного рановато, но я попробую.
Рядом с диваном он нашел телефон и минут пять оживленно разговаривал с человеком, находившимся по ту сторону океана. Пока никаких новостей.
Полицейские Нью-Йорка, Флориды и Сан-Доминго явно друг с другом не связывались, так как до сих пор между убийствами параллелей не проводилось.
Наконец он повесил трубку.
– Как только они получат информацию, ее перешлют по факсу в гостиницу. Может быть, пойдем туда? Я умираю от голода. Я прождал здесь всю ночь. Да, и собака. Что ты собираешься делать с этой потрясающей собакой?
– Он уже позавтракал. Ему понравится в саду на крыше. Ты очень стремишься уйти из квартиры, да? Почему бы нам просто вместе не пойти в постель? Я не понимаю.
– Ты серьезно?
Я пожал плечами.
– Конечно серьезно! – Эта простая возможность превращалась в мою навязчивую идею. Заняться любовью, пока больше ничего не произошло. На мой взгляд, великолепная, чудесная идея!
Он опять уставился на меня в похожем на транс молчании, которое сводило меня с ума.
– Ты же сознаешь, – сказал он, – что у тебя, безусловно, великолепное тело, не так ли? То есть ты не остаешься бесчувственным к тому, что тебя вложили в… в высшей степени привлекательный кусок молодой мужской плоти?
– Ты же помнишь, я внимательно осмотрел ее перед обменом. Почему же ты не хочешь…
– Ты уже был с женщиной, не так ли?
– Прекрати читать мои мысли. Это невежливо. К тому же какое это имеет значение?
– С женщиной, которую ты любил.
– Я всегда любил как мужчин, так и женщин.
– Это несколько иное определение слова «любовь». Послушай, сейчас это просто невозможно. Так что веди себя прилично. Я должен выслушать все, что касается этого Джеймса. Нам потребуется время, чтобы составить план.
– План? Ты правда думаешь, что мы можем его остановить?
– Конечно! – Он пригласил меня следовать за ним.
– Но как? – спросил я. Мы уже были в дверях.
– Нам необходимо изучить его поведение. Мы должны оценить его слабые и сильные стороны. И помни, нас против него двое. И мы располагаем важным преимуществом.
– Каким преимуществом?
– Лестат, очисти свой смертный мозг от безудержных эротических картин, нам пора идти. Я не могу думать на пустой желудок, а ты, очевидно, вообще плохо соображаешь.
Моджо побрел за нами к воротам, но я велел ему оставаться.
Я нежно поцеловал его в длинный черный нос, и он улегся на мокрый бетон, провожая меня разочарованным взглядом, пока мы спускались по лестнице.
До отеля было всего несколько кварталов, и прогулка под голубым небом оказалась даже сносной, несмотря на злой ветер. Однако я слишком замерз, чтобы начать свой рассказ, к тому же вид освещенного солнцем города отвлекал меня от грустных мыслей.
На меня снова произвел впечатление беззаботный настрой людей, выходивших на улицу днем. На солнце весь мир казался благословенным вне зависимости от температуры. И от этого зрелища во мне нарастала печаль, потому что мне вовсе не хотелось оставаться в этом солнечном мире, как бы он ни был прекрасен.
«Нет, верните мне мое сверхъестественное зрение, – думал я. – Отдайте мне мрачную красоту ночи. Верните мне мою неестественную силу и выносливость, и я с радостью принесу им в жертву это зрелище навсегда. Я – Вампир Лестат!»
Задержавшись у стойки в гостинице, Дэвид сообщил, что мы находимся в кафе, и оставил указание передать нам немедленно любые материалы, которые придут по факсу.
Потом мы устроились за тихим, покрытым белой скатертью столиком в углу просторной старомодной комнаты с расписным потолком и белыми шелковыми гардинами и приступили к поглощению обильного новоорлеанского завтрака, состоящего из яиц, бисквитов, жареного мяса, подливки и густой маслянистой овсянки.
Я не мог не признать, что ситуация с пищей улучшалась по мере продвижения на юг. Я также научился лучше есть, уже не так давился и не царапал язык о зубы. Густой, похожий на сироп кофе моего родного города был близок к совершенству. А за десерт в виде жареных в сахаре бананов любой разумный смертный встал бы на колени.
Но несмотря на эти дразнящие радости и мою отчаянную надежду на скорое прибытие отчета из Лондона, основной моей заботой оставалось изложение Дэвиду всей моей горестной повести. Он снова и снова заставлял меня вспоминать подробности, прерывал меня вопросами, так что рассказ получился куда более пространным, чем это было с Луи, и он вызвал во мне значительно больше боли.
Как в агонии переживал я заново свой наивный разговор с Джеймсом, признавался, что оказался недостаточно предусмотрительным, что был слишком самодоволен, считая, что простому смертному в жизни меня не провести.
За этим последовало позорное изнасилование, мучительное описание времени, проведенного с Гретхен, жуткие ночные кошмары про Клодию и расставание с Гретхен, чтобы вернуться домой, к Луи, который не понял ничего из того, что я ему наговорил, настаивал на собственной интерпретации моих слов, отказываясь дать мне то, что я искал.
К моим переживаниям примешивался и тот факт, что вся злость меня оставила, и я чувствовал только всепоглощающую скорбь. Мысленно я снова видел Луи, и теперь он уже не был моим ласковым, манящим любовником, теперь он стал бесчувственным ангелом, прогнавшим меня со Двора Тьмы.
– Я понимаю, почему он отказал, – монотонно сказал я, едва находя в себе силы вообще говорить об этом. – Наверное, я мог бы раньше догадаться. И в глубине души я не верю, что он сможет продержаться против меня до конца. Его просто увлекла возвышенная мысль о том, что я должен отправляться спасать свою душу. Понимаешь, сам он так бы и поступил. И все-таки он никогда бы не сделал ничего подобного. И он никогда меня не понимал. Никогда. Вот почему он описывал меня в своей книге одновременно так ярко и так убого. Если я останусь в этом теле, если ему станет предельно ясно, что я не планирую уходить в джунгли Французской Гвианы с Гретхен, то в конце концов, думаю, он мне уступит. Пусть даже я сжег его дом. Конечно, потребуются годы! Годы в этом несчастном…
– Ты опять впадаешь в бешенство, – сказал Дэвид. – Успокойся. И о чем ты вообще говоришь – сжег его дом?
– Я разозлился! – напряженно прошептал я. – Господи! Не то слово – разозлился!
Я считал, что был слишком несчастен, чтобы злиться. Теперь же я обнаружил, что это не так. Но я был слишком несчастен, чтобы продолжать эту тему. Я сделал еще один глоток бодрящего густого черного кофе и как можно лучше описал, как я увидел Мариуса при свете горящей лачуги. Это Мариус захотел, чтобы я его увидел. Мариус вынес приговор, а я не очень понял, в чем этот приговор заключался.
Теперь на меня все-таки наползло холодное отчаяние, стирая последние следы злости, и я бессмысленно уставился в свою тарелку, на полупустой ресторан, на блестящее серебро и салфетки, сложенные на свободных местах, словно шапочки. Я посмотрел дальше, в приглушенно освещенный холл, где все заволакивал жуткий полумрак, а потом взглянул на Дэвида, который, несмотря на свой характер, свое сочувствие и свое обаяние, был не тем чудесным существом, каким он представлялся моим вампирским глазам, но всего лишь очередным смертным, хрупким, живущим на грани жизни и смерти, как и я сам.
Мне было тоскливо и плохо. Говорить я больше не мог.
– Послушай меня, – сказал Дэвид. – Я не верю, что твой Мариус его уничтожил. Он не открылся бы тебе, если бы сделал такое. Я не могу представить себе, что думает и чувствует подобное создание. Я даже не могу представить себе, что думаешь и чувствуешь ты, а тебя я знаю не хуже, чем самых дорогих и старых друзей. Но я не верю, что он бы это сделал. Он пришел, чтобы выразить свой гнев, и это был приговор, да. Но держу пари, что он дает тебе время, чтобы вернуть свое тело. А ты должен запомнить: как бы ты ни воспринял выражение его лица, ты видел его глазами смертного.
– Я уже думал об этом, – тупо ответил я. – По правде говоря, что мне остается делать, если не верить, будто мое тело еще существует и я смогу его отобрать? – Я пожал плечами. – Я не умею сдаваться.
Он улыбнулся мне приятной, искренней, теплой улыбкой.
– Ты пережил потрясающее приключение, – сказал он. – Теперь, пока мы еще не спланировали, как поймать этого прославленного карманника, позволь задать тебе один вопрос. И пожалуйста, не выходи из себя. Я вижу, ты и в этом теле, как и в том, не понимаешь своей собственной силы.
– Силы? Какой еще силы? Это слабая, хлипкая, вялая, мерзкая смесь нервов и нервных узлов. Даже и слово «сила» не произноси.
– Чушь. Ты – крупный, сильный, здоровый мужчина весом около ста девяноста фунтов, без унции лишнего жира! У тебя впереди пятьдесят лет смертной жизни. Бога ради, пойми же, какие у тебя есть преимущества.
– Ладно, ладно. Я радуюсь. Как приятно – радоваться жизни, – прошептал я, так как если бы я не шептал, то завыл бы. – И сегодня в половине первого на улице меня может сбить грузовик! Господи, Дэвид, неужели ты думаешь, что я не презираю себя за то, что не могу вынести простейшие испытания? Мне противно. Мне противно быть этим слабым, трусливым существом!
Я сел поудобнее, обводя глазами потолок, стараясь не чихать, не кашлять, не плакать, не сжимать правую руку в кулак, чтобы стукнуть им прямо по столу или по стене.
– Мне претит трусость! – прошептал я.
– Знаю, – доброжелательно сказал он. Несколько секунд он изучал меня, потом промокнул губы салфеткой, взялся за свой кофе и продолжил: – Предположим, что Джеймс все еще бегает в твоем теле, ты абсолютно уверен, что хочешь еще раз совершить обмен, что ты действительно хочешь стать Лестатом в твоем прежнем теле?
Я грустно посмеялся про себя.
– Как мне объяснить еще доступнее? – устало спросил я. – Как, черт возьми, мне еще совершить обмен? Вот от какого вопроса зависит здравость моего рассудка.
– Тогда в первую очередь мы должны определить местонахождение Джеймса. Всю нашу энергию следует направить на эти поиски. Мы не будем сдаваться, пока не убедимся, что Джеймса больше нет.
– У тебя все получается так просто! Как же нам это сделать?
– Ш-ш-ш, ты привлекаешь ненужное внимание, – тихо, но авторитетно сказал он. – Выпей апельсиновый сок. Тебе полезно. Я закажу еще.
– Мне не нужен апельсиновый сок, и сиделки мне тоже больше не нужны, – сказал я. – Ты всерьез полагаешь, что у нас есть шанс поймать этого демона?
– Лестат, как я уже говорил, подумай о самом очевидном и неизменном недостатке твоего предыдущего воплощения, – ответил он. – Вампир не может передвигаться днем. При дневном свете вампир практически полностью беспомощен. Да, существует определенный рефлекс – протянуть руку и нанести удар тому, кто побеспокоит его покой. Но в остальных отношениях он беспомощен. И ему приходится оставаться на одном и том же месте от восьми до двенадцати часов. Это дает нам традиционное преимущество, тем более что о вышеупомянутом индивидууме мы знаем очень много. Все, что нам нужно, – это возможность встретиться с ним и вывести его из равновесия, чтобы совершить обмен.
– Мы сможем сделать это силой?
– Да, уверен, что сможем. Его можно вытолкнуть из того тела на достаточный срок, чтобы ты попал внутрь.
– Дэвид, я должен кое-что тебе сказать. В этом теле у меня нет вообще никаких экстрасенсорных способностей. В молодости, когда я был смертным, у меня их тоже не было. Наверное, я не смогу… подняться над этим телом. Я уже попробовал, в Джорджтауне. И не смогу сдвинуться с места в этой плоти.
– Лестат, этот фокус может проделать кто угодно; ты просто боишься. И часть опыта, полученного тобой в вампирском теле, остается с тобой до сих пор. Разумеется, сверхъестественные клетки давали тебе преимущество, но мозг ничего не забывает. Ты же видишь, Джеймс переносит свои умственные способности из тела в тело. Ты тоже должен был забрать с собой часть своих знаний.
– Ну да, я испугался. С тех пор я боялся пробовать, боялся, что выйти смогу, а вернуться – нет.
– Я научу тебя, как подниматься над своим телом. Я научу тебя, как сосредоточить атаку на Джеймсе. И помни, Лестат, нас двое. Мы с тобой нападем вместе. И я тоже обладаю значительными экстрасенсорными способностями, если воспользоваться простейшим описанием этого явления. Я многое умею.
– Дэвид, за это я навеки стану твоим рабом. Я достану тебе все, что ты пожелаешь. Я пойду за тобой на край света. Только бы получилось.
Он заколебался, как будто хотел отпустить шутливый комментарий, но передумал. И сразу продолжил.
– Как только будет возможность, мы начнем урок. Но чем больше я думаю, тем больше я уверен, что вытолкнуть его из тела лучше всего мне. Я сделаю это так, что он не успеет и понять, что ты рядом. Да, нам подойдет такая схема игры. Когда он меня увидит, у него не возникнет подозрений. Я легко могу скрывать от него свои мысли. Это второе, чему ты должен научиться – закрывать свои мысли.
– А вдруг он тебя узнает? Дэвид, он знает, кто ты такой. Он тебя помнит. Он говорил о тебе. Что помешает ему сжечь тебя заживо, как только он тебя увидит?
– Место, где состоится встреча. Он не станет рисковать, устраивая рядом с собой пожар. Нам необходимо будет устроить ему ловушку в таком месте, где он наверняка не осмелится показать свою силу. Может быть, придется выманить его куда-нибудь. Здесь нужно подумать. А пока мы не знаем, где его искать, эта часть подождет.
– Мы приблизимся к нему в толпе.
– Или же непосредственно перед восходом солнца, когда он не рискнет разжигать пожар рядом со своим логовом.
– Точно.
– Теперь давай проведем беспристрастную оценку его возможностей исходя из той информации, которой располагаем.
Он замолчал, когда официант спикировал к столику с одним из красивых тяжелых посеребренных кофейников, которыми всегда пользуются в хороших отелях. На них такая патина, какой на другом серебре не встретишь, и всегда есть несколько крошечных выбоинок. Я следил, как из носика льется черное варево.
Я поймал себя на том, что, несмотря на свои волнения и несчастья, рассматриваю множество всяких мелочей. Общество Дэвида само по себе вселяло в меня надежду.
Официант отошел, и Дэвид поспешно выпил глоток свежего кофе. Он вложил мне в руку сверток тонких листов бумаги.
– Это газетные статьи об убийствах. Прочти их повнимательнее. Говори мне все, что приходит тебе в голову.
Первая статья, «Вампирское убийство в Мидтауне», взбесила меня неописуемо. Я обратил внимание на бессмысленные разрушения, описанные Дэвидом. Должно быть, по неловкости он так глупо и разгромил мебель. А кража – глупа до невероятности. Что касается моего агента, то, выпив кровь, он сломал ему шею. Очередное проявление неповоротливости.
– Чудо, что он вообще может пользоваться способностью летать, – злобно сказал я. – Но ведь он прошел через стену тринадцатого этажа.
– Это не означает, что он может летать на действительно большие расстояния, – ответил Дэвид.
– Тогда как он попал из Нью-Йорка в Бол-Харбор за одну ночь и, что более важно, зачем? Если он пользуется коммерческими авиалиниями, зачем лететь в Бол-Харбор, а не в Бостон? Не в Лос-Анджелес, не в Париж, Бога ради. Подумай о высоких ставках – ограбить великий музей или огромный банк! Сан-Доминго – не понимаю. Пусть даже он освоил умение летать, все равно это для него непросто. Так какого черта ему понадобилось туда лететь? Или он просто старается убивать вразброс, чтобы никто не связал одно преступление с другим?
– Нет, – сказал Дэвид. – Если бы он действительно хотел скрываться, он не стал бы действовать в таком примечательном стиле. Он совершает ошибки. Он ведет себя как пьяный!
– Да. Сначала действительно появляется такое ощущение, это правда. Обострение органов чувств лишает самообладания.
– Возможно ли, что он путешествует по воздуху и нападает там, куда его несет ветер? – спросил Дэвид. – Без всякой модели?
Я размышлял над этим вопросом, пока читал остальные статьи, разочарованный тем, что не могу просто просмотреть их, как сделал бы глазами вампира. Да, новая неповоротливость, новые глупости. Человеческие тела, раздавленные «тяжелым инструментом», проще говоря – его собственным кулаком.
– Ему нравится бить стекло, не так ли? – спросил я. – Ему нравится заставать жертву врасплох. Ему необходимо наслаждаться чужим страхом. Он не оставляет свидетелей. Он крадет все, что на первый взгляд обладает ценностью. Но ничего особенно ценного. Как же я его ненавижу. И при этом… я и сам делал не менее чудовищные вещи.
Я вспомнил наши со злодеем беседы. Как же я не раскусил, что стоит за его манерами джентльмена? Но мне припомнились и первоначальные описания, данные Дэвидом, его глупость, его тяга к саморазрушению. И его неловкость – как я мог забыть о ней?
– Нет, – наконец сказал я. – Я не верю, что он способен преодолевать такие расстояния. Ты себе не представляешь, как иногда пугает способность летать. В двадцать раз страшнее, чем внетелесные путешествия. Никто из нас этого терпеть не может. Даже рев ветра вселяет чувство беспомощности, опасной, так сказать, оторванности.
Я умолк. Такой полет знаком нам по снам, возможно, из-за того, что мы знали его в некоем небесном измерении, еще прежде, чем родились на свет. Но, будучи земными существами, мы не можем вообразить, что это значит, и только я один знал, как он повлиял на мое сердце и душу, разорвав их в клочья.
– Продолжай, Лестат. Я слушаю. Я понимаю.
Я слегка вздохнул.
– Я научился этому только потому, что оказался во власти бесстрашного создания, для которого полет был сущей безделицей. Некоторые из нас никогда не пользуются этой силой. Нет. Не могу поверить, что он ее освоил. Он путешествует другим способом, а в воздух поднимается лишь тогда, когда добыча уже близка.
– Да, это, похоже, сходится с уликами, только бы знать…
Он неожиданно отвлекся. Вдалеке, в дверях, только что появился пожилой клерк. Он направился к нам раздражающе медленно, добродушный любезный человек с большим конвертом в руках.
Дэвид немедленно извлек из кармана купюру и держал ее наготове.
– Факс, сэр, только что пришел.
– А, большое спасибо.
Он разорвал конверт.
– Ну вот, пожалуйста. Телеграмма с новостным сообщением через Майами. Вилла на вершине холма, остров Кюрасао. Предположительное время – вчера, ранним вечером, обнаружено только в четыре утра. Пять трупов.
– Кюрасао! Черт, это еще где?
– Ничего не понимаю! Кюрасао – голландский остров, на самом юге Карибского моря. Это уже совсем бессмысленно.
Мы изучили сообщение вместе. Очевидным мотивом опять являлось ограбление. Вор явился прямо с неба и разгромил две комнаты. Погибла вся семья. Сама жестокость преступления оставила в ужасе весь остров. Два обескровленных трупа, один из них – детский.
– Безусловно, дьявол не просто движется на юг!
– Даже на Карибах есть куда более интересные места, – заметил Дэвид. – Смотри, он пренебрег всем побережьем Центральной Америки. Пойдем, я хочу достать карту. Рассмотрим его маршрут наглядно. В холле я заметил представителя турагенства. У него непременно найдутся для нас карты. Мы все заберем к тебе в квартиру.
Агент оказался в высшей степени услужливым пожилым лысым человеком с тихим интеллигентным голосом, который нашарил для нас в ящике стола несколько карт. Кюрасао? Да, у него найдется одна-две брошюры об этих местах. Не самый интересный из Карибских островов.
– Зачем же туда ездят? – спросил я.
– Ну, туда вообще-то никто и не ездит, – признался он, потирая лысину. – За исключением, разумеется, круизных пароходов. В последние годы они опять там останавливаются. Да, вот, например. Он вложил мне в руку небольшую папку с материалами о кораблике «Корона Морей», очень симпатичном на картинке, который блуждал среди островов и перед тем, как направиться домой, делал последнюю остановку на Кюрасао.
– Круизные пароходы! – прошептал я, уставившись на фотографию. Мой взгляд упал на огромные плакаты с изображениями кораблей, которыми были увешаны стены конторы. – Надо же, у него весь дом в Джорджтауне был в фотографиях пароходов. Дэвид, вот оно. Он на каком-то судне. Ты что, не помнишь, что он мне рассказывал? Его отец работал в какой-то транспортной компании. Он сам говорил, что хотел плыть в Америку на огромном пароходе.
– Боже мой, – сказал Дэвид, – возможно, ты прав. Нью-Йорк, Бол-Харбор… – Он взглянул на агента. – Круизные суда заходят в Бол-Харбор?
– В Порт-Эверглейдс, – ответил агент. – Это совсем рядом. Но мало какие суда отправляются из Нью-Йорка.
– А как насчет Сан-Доминго? – спросил я. – Там они бывают?
– Да, это вполне обычный порт. Все пароходы меняют расписание. Какой вас интересует?
Дэвид быстро набросал различные моменты, упомянул о ночах, когда свершились преступления, не давая, естественно, разъяснений.
Но потом он упал духом.
– Нет, – сказал он, – вижу, что это невозможно. Какой круизный пароход в принципе смог бы преодолеть расстояние от Флориды до Кюрасао за три ночи?
– Что ж, такой пароход есть, – ответил агент, – и, кстати, он отплыл из Нью-Йорка в прошлую среду, ночью. Это флагман компании «Канард», «Королева Елизавета II».
– Правильно, – сказал я, – «Королева Елизавета II». Дэвид, это именно тот корабль, о котором он мне говорил. Ты сказал, его отец…
– Но я думал, «Королева Елизавета II» занимается трансатлантическими перевозками, – возразил Дэвид.
– Только не зимой, – любезно сказал агент. – Она пробудет на Карибах до марта. Вероятно, это самое быстроходное морское судно в мире. Оно способно делать двадцать восемь узлов. Но смотрите, мы можем проверить расписание прямо сейчас.
Он опять стал что-то искать среди бумаг на своем столе – занятие на первый взгляд безнадежное – и в конце концов извлек большую, красиво оформленную брошюру, открыл ее и разгладил правой рукой.
– Да, он вышел из Нью-Йорка в среду. Побывал в доках Порт-Эверглейдса утром в пятницу, отплыл до полуночи, потом направился на Кюрасао, куда прибыл вчера в пять утра. Но в Доминиканской Республике он не останавливался – боюсь, здесь я ничем помочь не могу.
– Не важно, он прошел мимо! – воскликнул Дэвид. – Прошел мимо Доминиканской Республики на следующую ночь! Посмотри на карту. Конечно, это то, что нужно. Ах, дурак. Он практически сам все тебе рассказал своей безумной, одержимой болтовней! Он находится на борту «Королевы Елизаветы II», парохода, который столько значил для его отца, парохода, на котором старик провел всю свою жизнь.
Мы красноречиво поблагодарили агента за карты и брошюры и направились к такси, стоявшим у входа.
– О, для него это чертовски типично, – говорил Дэвид, пока машина везла нас ко мне домой. – У этого сумасшедшего все символично. А его самого уволили с «Королевы Елизаветы II» со скандалом и позором. Помнишь, я ведь тебе рассказывал! Как ты был прав! Все дело в навязчивой идее, и демон собственноручно дал тебе ключ.
– Да. Определенно, да. И Таламаска отказалась отправлять его в Америку на «Королеве Елизавете II». За это он тебя так и не простил.
– Я его ненавижу, – прошептал Дэвид с горячностью, изумившей меня даже при обстоятельствах, в которых мы оказались.
– Но на самом деле это не так уж глупо, Дэвид, – сказал я. – Смотри, это же дьявольски хитро. Да, он… в ту ночь в Джорджтауне проболтался, и это можно приписать его тяге к саморазрушению, но, я думаю, он не ждал, что я это вычислю. И, откровенно говоря, если бы ты не положил передо мной статьи о других убийствах, может быть, сам по себе я бы в жизни не догадался.
– Может быть. Я думаю, он хочет, чтобы его поймали.
– Нет, Дэвид. Он скрывается. От тебя, от меня, от остальных. О, он очень умен. Вот перед нами колдун-чудовище, способный полностью скрывать свое присутствие, и где же он прячется – среди мирка, кишащего смертными, в самом чреве быстроходного судна. Взгляни на расписание! Надо же, корабль плывет каждую ночь! А днем стоит в порту.
– Думай как хочешь, – ответил Дэвид, – я же предпочитаю считать его идиотом! И мы скоро его поймаем! Так, ты сказал мне, что дал ему паспорт, не правда ли?
– На имя Кларенса Оддбоди. Но я уверен, что он им не пользовался.
– Скоро выясним. Подозреваю, что он взошел на борт в Нью-Йорке обычным путем. Для него жизненно важно, чтобы его приняли с надлежащей помпой и уважением, – забронировать самую шикарную каюту, выходить на парад на верхней палубе, чтобы все стюарды ему кланялись. Каюта-люкс на сигнальной палубе огромна. Он мог разместить там большой сундук, чтобы скрываться в нем без всяких проблем. Ни один стюард не тронет такую вещь.
Мы опять подъехали к моему дому. Он вытащил несколько купюр, уплатил шоферу, и мы поднялись по лестнице.
Едва добравшись до квартиры, мы уселись за отпечатанное расписание и газетные вырезки и проследили схему совершения убийств.
Было очевидно, что зверь напал на моего агента в Нью-Йорке всего за несколько часов до отплытия парохода. У него было полно времени, чтобы успеть на борт до одиннадцати. Убийство рядом с Бол-Харбор произошло за несколько часов до того, как судно вошло в док. Он явно преодолевал небольшие расстояния, используя способность летать, а перед восходом солнца возвращался в свою каюту или другое убежище.
Для убийства в Сан-Доминго он покинул корабль, вероятно, на час, а потом догнал его на пути на юг. Опять-таки это расстояние было ерундой. Ему даже не требовалось обладать сверхъестественным зрением, чтобы заметить гигантскую «Королеву Елизавету II», пускавшую пар в открытом море. Убийства на Кюрасао состоялись вскоре после отплытия парохода. Меньше чем через час он, нагрузившись краденым добром, должно быть, догнал судно.
Пароход теперь опять направлялся на север. Всего два часа назад он бросил якорь в Ла-Гуайра на побережье Венесуэлы. Если сегодня ночью произойдет нападение в Каракасе или его окрестностях, мы будем наверняка знать, что нашли его. Но мы отнюдь не намеревались ждать новых доказательств.
– Ладно, давай все обдумаем, – сказал я. – Осмелимся ли мы сесть на корабль сами?
– Конечно, это необходимо.
– Тогда нам понадобятся фальшивые паспорта. Мы, может быть, оставим после себя переполох. Дэвида Тальбота в это впутывать нельзя. А я не могу воспользоваться тем паспортом, что он дал мне. Да я даже не знаю, где он, тот паспорт. Наверное, до сих пор в том доме, в Джорджтауне. Одному Богу известно, почему он использовал в нем свое собственное имя, – вероятно, для того, чтобы я попал в неприятности на первой же таможне.
– Совершенно верно. Перед отъездом из Нового Орлеана я смогу заняться документами. Но мы не успеем попасть в Каракас до отплытия судна, до пяти часов. Придется сесть на него завтра в Гренаде. У нас есть время до пяти часов вечера. Весьма вероятно, что у них найдутся свободные каюты. Всегда кто-нибудь в последний момент снимает бронь, случаются и смерти. Фактически на таком дорогом пароходе, как «Королева Елизавета II», всегда кто-нибудь умирает. Не сомневаюсь, Джеймсу об этом известно. Если он примет меры предосторожности, то сможет охотиться когда пожелает.
– Но почему? Почему люди умирают?
– Пожилые пассажиры, – ответил Дэвид. – Это реалия круизной жизни. На «Королеве Елизавете II» есть большая больница для экстренных случаев. Корабль такого размера – это настоящий плавучий мир. Неважно. Наши исследователи все выяснят. Я немедленно направлю их на это задание. Из Нового Орлеана мы можем легко попасть в Гренаду, и у нас останется время на необходимые приготовления.
Теперь, Лестат, давай продумаем все подробнее. Предположим, мы встретимся с демоном прямо на рассвете. И предположим, мы выгоним его прямиком в это смертное тело, после чего не сможем его контролировать. Нам необходимо обеспечить тебе убежище… третью каюту, забронированную под именем, никаким образом не связанным ни с тобой, ни со мной.
– Да, где-нибудь поглубже, в центре корабля, на одной из нижних палуб. Не на самой нижней. Это было бы слишком очевидно. Я бы предложил где-нибудь посередине.
– Но насколько быстро ты сможешь передвигаться? Ты сможешь попасть на нижнюю палубу за несколько секунд?
– Без вопросов. Об этом даже не беспокойся. Важно, чтобы каюта была внутренняя и достаточно большая, чтобы в нее поместился сундук. Ну, без сундука, впрочем, можно и обойтись, если я предварительно запру дверь, но сундук тоже не помешает.
– Да, я понял. Теперь я вижу, что мы должны делать. Ты отдохни, выпей кофе, прими душ, займись чем хочешь. Я пойду в соседнюю комнату и позвоню всем, кому нужно. Это Таламаска, и ты должен оставить меня одного.
– Ты шутишь, – сказал я. – Я хочу послушать, что ты…
– Делай что я говорю. Да, и найди человека, который присмотрит за твоим прекрасным псом. Мы же не сможем взять его с собой! А собакой с таким характером пренебрегать нельзя.
Он поспешил прочь, вытеснив меня из спальни, чтобы иметь возможность сделать все эти восхитительные звонки в одиночестве.
– Именно в тот момент, когда я уже начал получать удовольствие, – сказал я.
Я помчался искать Моджо, который спал в холодном мокром саду на крыше, словно это было самой заурядной вещью в мире. Я повел его к одной пожилой женщине, проживавшей на первом этаже. Из всех моих жильцов она была самой приятной, и ей, безусловно, не помешала бы пара сотен долларов за уход за ласковой собакой.
Стоило мне просто сделать ей предложение, и она пришла в восторг. Моджо сможет воспользоваться двориком за домом, ей нужны как деньги, так и общество – ну разве я не милый молодой человек? Совсем такой же милый, как мой кузен, месье де Лионкур, который для нее как ангел-хранитель, еще ни разу не обналичил чеки, которыми она платила ему за квартиру.
Я поднялся назад, в квартиру, и обнаружил, что Дэвид все еще занят и отказывается разрешить мне послушать. Мне было велено приготовить кофе, который я, естественно, готовить не умел. Я допил старый кофе и позвонил в Париж.
К телефону подошел мой агент и сообщил, что по моему запросу как раз высылает отчет о текущем положении. Все идет хорошо. Таинственный вор прекратил свои атаки. Последняя состоялась вечером в пятницу. Возможно, парень сдался. В данный момент меня ожидает огромная сумма денег в моем новоорлеанском банке.
Я повторил ему все свои предостережения и сказал, что скоро опять позвоню.
В пятницу вечером. Это означало, что Джеймс совершил последнюю попытку до того, как «Королева Елизавета II» покинула Штаты. Находясь в море, он не имеет возможности замышлять ограбление с помощью компьютера. И он явно не намерен причинить вред моему агенту в Париже. Если, конечно, Джеймс до сих пор доволен своим небольшим отпуском на «Королеве Елизавете II». Ведь ничто не помешает ему в любое время покинуть корабль, если ему взбредет в голову.
Я вновь залез в компьютер и попробовал получить доступ к счетам Лестана Грегора, псевдонима, под которым я направил двадцать миллионов в джорджтаунский банк. Мои подозрения оправдались: Лестан Грегор до сих пор существует, но фактически он без гроша. Банковский баланс равен нулю. Двадцать миллионов, переведенные в Джорджтаун в пользование Раглана Джеймса, действительно вернулись к мистеру Грегору в пятницу ровно в полдень и были немедленно сняты со счета. Из хода сделки следовало, что перевод денег был организован предыдущей ночью. К часу дня в пятницу деньги ушли своим путем, проследить который было невозможно. Вот и вся история, зашифрованная разнообразными цифровыми кодами и обычной банковской белибердой, и понять ее мог любой дурак.
А в данный момент именно такой дурак сидел, уставившись в компьютерный экран.
Поганец предупреждал меня, что умеет воровать по компьютеру. Несомненно, он получил информацию от работников джорджтаунского банка с помощью лести или изнасиловал их ничего не подозревающие мозги своими телепатическими способностями, чтобы получить требуемые коды и цифры.
В любом случае в его распоряжении оказалось целое состояние, которое когда-то было моим. Я возненавидел его еще больше. Я ненавидел его за то, что он убил моего человека в Нью-Йорке. Я ненавидел его за то, что он громил мебель и украл из офиса все остальное. Я ненавидел его за его мелочность и его интеллект, за его примитивность и его наглость.
Я сидел, пил старый кофе и думал о том, что ждет меня впереди.
Конечно, я понимал действия Джеймса, как бы глупо это ни выглядело. С самого начала я знал, что в его душе живет некий глубинный голод. А эта «Королева Елизавета II» была миром его отца, миром, из которого его, пойманного на месте преступления, изгнали.
Ну да, изгнали, как изгнали и меня. И как, должно быть, он жаждет вернуться туда со своей новой силой и новым богатством! Возможно, он спланировал это по часам, как только мы договорились об обмене. Не сомневаюсь, если бы я его отложил, он нагнал бы пароход позже, в другой гавани. Но при текущем ходе событий он смог начать свой путь на небольшом расстоянии от Джорджтауна и напасть на моего смертного агента до отплытия судна.
Да, я помню, как он сидел на уныло освещенной джорджтаунской кухне и то и дело поглядывал на свои часы. То есть на эти часы.
Наконец из спальни появился Дэвид с блокнотом в руках. Все улажено.
– На «Королеве Елизавете II» никакого Кларенса Оддбоди нет, но есть таинственный молодой англичанин по имени Джейсон Гамильтон, забронировавший каюту-люкс Королевы Виктории всего за два дня до отплытия из Нью-Йорка. Пока что предположим, что это он и есть. К моменту прибытия в Гренаду мы получим о нем дополнительную информацию. Наши детективы уже работают.
Нам с тобой заказаны две каюты-люкс из Гренады на той же палубе, где живет наш загадочный друг. Мы должны сесть на корабль завтра, в любое время до пяти часов вечера, когда корабль отплывает.
Наш рейс улетает из Нового Орлеана через три часа. По меньшей мере один из этих часов понадобится нам для того, чтобы приобрести пару фальшивых паспортов у джентльмена, которого очень рекомендуют для такого рода сделок, и он нас уже ожидает. У меня записан его адрес.
– Отлично. У меня с собой полно наличных.
– Очень хорошо. Так, в Гренаде нас встретит один из наших детективов. Очень хитроумная личность, я работал с ним много лет. Он уже заказал третью каюту – внутреннюю, пятая палуба. И он сумеет контрабандой пронести в эту каюту пару небольших, но эффективных образцов огнестрельного оружия, как и сундук, который понадобится нам позже.
– Человеку, находящемуся в моем теле, оружие ничего не сделает. Но, конечно, впоследствии…
– Вот именно, – сказал Дэвид. – После обмена мне потребуется оружие, чтобы защититься от вот этого красивого молодого тела. – Он указал на меня. – Теперь продолжим. Мой детектив официально зарегистрируется на пароходе, но после этого ускользнет, оставив нам каюту и оружие. Мы сами пройдем стандартную процедуру посадки с новыми удостоверениями личности. Да, кстати, я уже выбрал для нас имена. Очень надеюсь, что ты не станешь возражать. Ты – американец по имени Шеридан Блэквуд. А я – английский хирург на пенсии Александр Стокер. Всегда удобнее всего на подобных заданиях выступать в роли врача. Увидишь, что я имею в виду.
– Спасибо, что не выбрал имя Г. П. Лавкрафт, – преувеличенно вздохнул я. – Мы должны ехать немедленно?
– Да. Я уже вызвал такси. Перед отъездом мы должны купить какую-нибудь одежду для тропиков, иначе будем выглядеть в высшей степени нелепо. Нельзя терять ни минуты. Теперь, если ты воспользуешься своими сильными руками и поможешь мне с чемоданом, я буду вечно тебе благодарен.
– Я разочарован.
– Чем? – Он остановился, пристально посмотрел на меня и, как раньше, чуть не покраснел. – Лестат, на такие вещи у нас нет времени.
– Если предположить, что у нас все получится, это наш последний шанс.
– Хорошо, – ответил он, – сегодня вечером в отеле на пляже Гренады у нас будет достаточно времени, чтобы это обсудить. В зависимости, конечно, от того, насколько быстро ты будешь воспринимать уроки астральных путешествий. А теперь, пожалуйста, продемонстрируй свою молодую силу и энергию поконструктивнее, помоги мне с чемоданом. Мне семьдесят четыре года.
– Великолепно. Но перед уходом я хочу кое-что выяснить.
– Что?
– Почему ты мне помогаешь?
– О, ради Бога, ты знаешь почему.
– Нет, не знаю.
Он окинул меня трезвым взглядом:
– Ты мне небезразличен! Мне все равно, в каком ты теле. Это правда. Но, если быть предельно честным, этот гнусный Похититель Тел, как ты его называешь, меня пугает. Да, пугает до мозга костей.
Он глупец и всегда сам становится причиной своего падения, это так. Но на этот раз ты, наверное, прав. Он совершенно не стремится быть задержанным, если вообще когда-то стремился. Он планирует долгое успешное приключение, и ему может очень скоро надоесть «Королева Елизавета II». Поэтому надо действовать. Теперь бери чемодан. Я чуть не умер, тащась вверх по лестнице.
Я подчинился.
Но меня смягчили и опечалили его проникнутые чувством слова, и я ринулся в мысленный просмотр фрагментарных картин, живописующих всякие мелочи, какими мы могли бы заняться на большой мягкой кровати в соседней комнате.
А вдруг Похититель Тел уже сбежал с корабля? Или именно сегодня утром его уничтожили – после того как Мариус окатил меня таким презрением?
– Тогда мы поедем в Рио, – сказал Дэвид, направлявшийся впереди меня к воротам. – Мы как раз успеем на карнавал. Устроим себе отличный отпуск.
– Я умру, если придется прожить так долго! – сказал я, обгоняя его на лестнице. – Твоя проблема в том, что ты привык быть человеком, так как занимаешься этим чертовски долго.
– Я привык к этому уже в два года, – сухо возразил он.
– Я тебе не верю. Я уже несколько веков с интересом наблюдаю за двухлетними людьми. Они несчастны. Они практически постоянно суетятся, падают и плачут. Им противно быть людьми! Они уже понимают, что это своеобразная злая шутка.
Он засмеялся про себя, но не ответил. И не смотрел на меня.
Когда мы вышли к парадному входу, нас уже поджидало такси.
Глава 20
Перелет стал бы для меня очередным кошмаром, не устань я настолько, что сразу заснул. С момента моего последнего отдыха – сна в объятиях Гретхен – прошло полных двадцать четыре часа, и я заснул так крепко, что, когда Дэвид разбудил меня для пересадки в Пуэрто-Рико, я плохо соображал, кто мы такие и чем занимаемся, и на один странный момент мне показалось вполне нормальным болтаться в этом огромном тяжелом теле в состоянии растерянности и бездумного подчинения командам Дэвида.
Это был транзитный рейс, и мы не выходили из терминала. А когда наконец приземлились в маленьком аэропорту Гренады, меня удивило густое и восхитительное карибское тепло и блестящее сумеречное небо.
Казалось, мягкий, ароматный, обвевающий ветерок, приветствовавший нас, изменил весь мир. Я порадовался, что мы совершили набег на новоорлеанский магазин на Кэнал-стрит, потому что плотная твидовая одежда здесь никуда не годилась. Пока наше такси тряслось по узкой неровной дороге, доставляя нас к отелю на пляже, я зачарованно рассматривал роскошный лес вокруг, большие красные гибискусы, цветущие за каждой изгородью, грациозные кокосовые пальмы, склоняющиеся над крошечными полуразрушенными домишками на холме, и мечтал увидеть их не безнадежно мутным ночным смертным взглядом, но в лучах волшебного утреннего солнца.
Вне всякого сомнения, в том, что мое превращение состоялось на злобном джорджтаунском холоде, присутствовал элемент наказания. Но, вспоминая обо всем – о красивом белом снеге и о тепле домика Гретхен, я не мог жаловаться искренне. Однако только этот карибский остров представлялся мне реальным миром, созданным для настоящей жизни; и я, как всегда со мной бывало на этих островах, подивился, как они, такие прекрасные, такие теплые, могут быть такими бедными.
Бедность видна повсюду: бессистемно разбросанные деревянные дома на сваях, пешеходы на обочинах дорог, старые ржавые автомобили и полное отсутствие каких бы то ни было признаков благополучия… Для приезжего все это могло сойти за экзотику, но для коренных жителей, так и не скопивших денег, чтобы покинуть остров хотя бы даже на один день, это были свидетельства тяжелой жизни.
Вечернее небо приобрело густой блестяще-синий отлив, как часто бывает в этих краях, светящийся, как в Майами, а мягкие белые облака на дальнем краю моря создавали привычную для этих мест чистую и прекрасную панораму. А ведь это лишь маленькая часть Карибского моря. И зачем я вообще забредаю в места с каким-либо иным климатом?
Отель оказался пыльным, запущенным домиком для гостей, покрытым белой штукатуркой, одним из множества подобных строений под ржавыми жестяными крышами. Весьма немногие англичане знали о нем; здесь, в беспорядочно пристроенном крыле старомодных комнат, выходящих на пески пляжа Гранд-Ансе, было очень тихо. С многословными извинениями за сломанные кондиционеры и переполненные номера – нам придется занять двухместный номер, и я чуть не расхохотался, когда Дэвид поднял глаза к небу, словно беззвучно говорил, что его испытания не кончатся никогда, – владелец продемонстрировал нам, что вентилятор под потолком может создать достаточно сильный ветер. Окна закрыты старыми белыми жалюзи. Мебель сплетена из белых прутьев, а пол выложен старой плиткой.
Мне это показалось очаровательным, но в основном из-за сладкого теплого воздуха и кусочка джунглей – спускавшихся по стенам здания зарослей банановых листьев и лиан. Ах, вьюнок! Можно установить отличное основное правило: никогда не селись в той части света, где не растут лианы.
Мы сразу же принялись переодеваться. Я сорвал с себя твид и надел тонкие хлопчатобумажные брюки, рубашку и теннисные туфли, купленные перед отъездом из Нового Орлеана, и, приняв решение не предпринимать физической атаки на Дэвида, который переодевался ко мне спиной, вышел на улицу, под грациозно изогнутые кокосовые пальмы, и направился к песку.
Ночь была спокойной и тихой. Ко мне вернулась вся моя любовь к Карибам, а также болезненные и благословенные воспоминания. Но я мечтал увидеть эту ночь моими прежними глазами. Я жаждал видеть, что происходит в сгущающейся тьме и в тенях, окруживших раскинувшиеся вокруг холмы. Я желал настроить свои сверхъестественные уши и поймать тихие песни джунглей, на вампирской скорости побродить по горам с другой стороны, отыскивая тайные ущелья и водопады, – но это было доступно лишь Вампиру Лестату.
Мои открытия вызвали во мне ужасную грусть. И, возможно, впервые до меня полностью дошло, что все мои мечты о смертной жизни оказались ложными. Дело не в том, что жизнь отнюдь не волшебство, что сотворение – не чудо, что в основе мира лежит не добро. Дело в том, что я настолько воспринимал как должное те способности, которые даровала мне Тьма, что не сознавал, какое преимущество они мне давали. Я недооценил свой дар. И хотел его вернуть.
Да, ничего не вышло, правда? Смертной жизни с меня хватит.
Я поднял глаза к бессердечным звездам, злобным хранителям, и взмолился о понимании к Темным богам, которых не существует.
Я подумал о Гретхен. Добралась ли она до своих тропиков, до больных, ожидающих ее целительного прикосновения. Хотелось бы мне знать, где она сейчас.
Может быть, она уже принялась за работу в амбулатории, где поблескивают флаконы с лекарствами, или путешествует в соседние деревни с рюкзаком чудес за спиной. Я вспомнил тихое счастье, с которым она описывала миссию. Я вспомнил тепло ее рук, приятную дремоту и уют ее комнатки. Я увидел, как за окнами падает снег. Я почувствовал на себе взгляд ее больших оленьих глаз, услышал ее медленную, размеренную речь.
А потом я опять увидел над собой ярко-синее небо; почувствовал, как меня обвевает гладкий, как вода, ветерок, и подумал о Дэвиде, о Дэвиде, который был здесь, со мной.
Я плакал, когда Дэвид прикоснулся к моей руке.
Сперва я не мог различить черты его лица. На пляже было темно, а прибой так шумел, что нервы мои расшатались окончательно. Потом я осознал, что это, конечно, Дэвид, что он стоит и смотрит на меня, Дэвид в хрустящей хлопчатобумажной рубашке и однотонных брюках и сандалиях, умудряющийся даже в таком наряде выглядеть элегантно, – Дэвид, ласково приглашающий меня – ну пожалуйста! – пройти с ним в комнату.
– Пришел Джейк, – сказал он, – наш человек из Мехико. Думаю, тебе нужно зайти.
Когда мы вошли в обшарпанную комнатку, под потолком шумно работал вентилятор и сквозь жалюзи прорывался поток прохладного воздуха. От кокосовых пальм доносился слабый треск, который мне даже нравился, – на ветру он то приближался, то удалялся.
На одной из узких провисших кроватей сидел, попыхивая пахучей коричневой сигарой, Джейк – высокий худощавый человек в шортах цвета хаки и белой рубашке для поло. Его кожу покрывал темный загар, а голову венчал бесформенный стог седеющих светлых волос. Он выглядел так, словно полностью расслабился, но за этим фасадом скрывались настороженность и подозрительность, а рот был сжат в идеально прямую линию.
Мы пожали друг другу руки, и он принялся практически в открытую рассматривать меня с ног до головы. Живые глаза, в которых нельзя было ничего прочитать, – чем-то похожие на глаза Дэвида, только меньше. Одному Богу известно, что он увидел.
– Итак, с оружием проблем не будет, – произнес он с явным австралийским акцентом. – В таких портах не бывает детекторов металла. Я сяду на пароход примерно в десять утра, помещу сундук и оружие в вашу каюту на пятой палубе, а потом мы встретимся в кафе «Кентавр» на Сент-Джордж. Очень надеюсь, Дэвид, вы знаете, что делаете – проносить оружие на «Королеву Елизавету II»…
– Конечно, я знаю, что делаю, – очень вежливо ответил Дэвид с легкой игривой улыбкой. – Что еще у вас есть на нашего человека?
– Ах да. Джейсон Гамильтон. Шесть футов ростом, темный загар, довольно длинные светлые волосы, пронзительные голубые глаза. Таинственный приятель. Типичный британец, очень учтивый. Повсюду роятся слухи о его истинной личности. Он дает огромные чаевые, любит поспать днем и, видимо, не задается трудом покидать корабль, когда тот стоит в порту. Он только каждое утро, причем довольно рано, передает стюарду, обслуживающему его каюту, небольшие пакеты для отправки по почте, а потом на целый день исчезает. Я пока не выяснил номер почтового отделения, но это вопрос времени. До сих пор он ни разу не появлялся в «Королевском Гриле», чтобы поесть. Ходят слухи, что он серьезно болен. Но чем – никто не знает. Он пышет здоровьем, что только усиливает ореол тайны. Все так говорят. Крепкого сложения, грациозный, с великолепным гардеробом. Он много ставит в рулетку и часами танцует с дамами. Причем создается впечатление, что ему нравятся самые старые. Одного этого бы хватило, чтобы вызвать подозрения, не будь он сам чертовски богат. Много времени проводит, просто прогуливаясь по пароходу.
– Отлично. Именно то, что я и хотел узнать, – сказал Дэвид. – Наши билеты у вас?
Человек указал на черную кожаную папку, лежавшую на плетеном туалетном столике. Дэвид проверил содержимое и одобрительно кивнул.
– На «Королеве Елизавете II» уже кто-нибудь умер?
– А, это интересный момент. С момента отплытия из Нью-Йорка – шесть смертей, что несколько больше, чем обычно. Все – очень пожилые женщины, у всех – сердечная недостаточность. Такого рода информация вас интересует?
– Конечно, интересует, – сказал Дэвид.
«Небольшой глоток», – подумал я.
– Теперь вам стоит взглянуть на эти револьверы, – сказал Джейк, – и научиться ими пользоваться. Он потянулся к лежащей на полу потертой сумке – именно в таком видавшем виды холщовом мешке и прячут дорогое оружие, предположил я. Оттуда он и достал это дорогое оружие – большой «смит-и-вессон» и маленький черный автоматический пистолет размером с мою ладонь.
– Да, с этим я неплохо знаком, – сказал Дэвид, беря в руку большой серебристый револьвер и устремляя дуло в пол. – Сложностей не будет. – Он вынул обойму, потом вставил на место. – Однако молю Бога, чтобы не пришлось им воспользоваться, от него чертовски много шума.
Он передал его мне.
– Лестат, пусть твоя рука к нему привыкнет, – сказал он. – Конечно, практиковаться некогда. Я просил легкий курок.
– И получили его, – ответил Джейк, окидывая меня холодным взглядом. – Так что прошу вас, осторожнее.
– Варварская вещица, – сказал я. Он оказался очень тяжелым. И, судя по всему, крайне смертоносным. Я крутанул цилиндр. Шесть пуль. Запах от него был любопытным.
– Оба тридцать восьмого калибра, – с легкой ноткой презрения добавил Джейк. – Человека свалят. – Он показал мне картонную коробочку. – У вас хватит амуниции, что бы вы ни задумали совершить на этом корабле.
– Не волнуйтесь, Джейк, – твердо сказал Дэвид. – Возможно, все пройдет гладко. И благодарю вас – вы, как обычно, весьма полезны. Желаю вам приятно провести вечер на острове. Увидимся с вами в кафе «Кентавр» ближе к полудню.
Посетитель окинул меня подозрительным взглядом, кивнул, забрал оружие и коробочку с пулями, положил их в холщовый мешок, протянул руку мне, потом – Дэвиду и вышел.
Я подождал, пока закроется дверь.
– Кажется, я ему не понравился, – сказал я. – Он винит меня в том, что я вовлек тебя в какое-то преступление.
Дэвид коротко рассмеялся.
– Я бывал в куда более компрометирующих ситуациях. И если бы меня волновало, что о нас подумают наши детективы, я был давным-давно ушел на пенсию. Что нам дает эта информация?
– Ну, он питается старыми женщинами. Наверное, заодно у них ворует. И отсылает краденое домой маленькими пакетами, чтобы не вызвать подозрений. Что делает с крупной добычей, мы никогда не узнаем. Может быть, бросает в океан. Подозреваю, что почтовых ящиков у него не один, а несколько. Но нам это безразлично.
– Верно. Теперь запри дверь. Пора уделить время и внимание колдовским аспектам. Позже мы закажем вкусный ужин. Я должен научить тебя закрывать мысли. Джейк без труда смог их прочесть. Как и я. Похититель Тел учует твое присутствие за двести миль.
– Будучи Лестатом, я делал это простым усилием воли, – сказал я. – Сейчас я понятия не имею, как это делается.
– Точно так же. Мы потренируемся. Пока я не смогу выхватить их твоей головы ни единого слова или образа. Потом перейдем к внетелесным путешествиям. – Он посмотрел на часы, внезапно напомнив мне Джеймса в той кухне. – Задвинь щеколду. Я не хочу, чтобы сюда забрела горничная.
Я подчинился. Потом сел на кровать напротив Дэвида, который имел вид неформальный, но начальственный, – он закатал жесткие манжеты рубашки, обнажив темные волосы на руках. На груди у него тоже было немало темных волос, выбивавшихся из-под расстегнутого воротника. Среди них почти не заметно было седины, которая то там, то здесь проблескивала на его выбритом подбородке. Невозможно было поверить, что этому человеку семьдесят четыре года.
– Ну, это я уловил, – сказал он, поднимая брови. – Я вообще слишком много улавливаю. Итак. Слушай, что я скажу. Ты должен убедить себя в том, что твои мысли остаются при тебе, что ты не пытаешься общаться с другими людьми – ни выражением лица, ни языком тела; что ты буквально непроницаем. Вызови образ своих запечатанных мыслей, если потребуется. Вот так, хорошо. Теперь за этим красивым молодым лицом – пустота. Даже глаза чуть-чуть изменились. Отлично. А сейчас я попробую прочесть твои мысли. Держи их при себе.
К концу сорока пяти минут я довольно безболезненно изучил этот фокус, но не мог разобрать ни одной мысли Дэвида, как бы упорно он их ни проецировал. В этом теле у меня попросту не было экстрасенсорных способностей, которыми обладал он. Но скрывать мысли я научился, а это самое главное. Мы могли продолжать работать над этим всю ночь напролет.
– Мы готовы перейти к внетелесным путешествиям, – сказал он.
– Это будет кошмар, – ответил я. – Думаю, я не смогу выбраться из этого тела. Ты же видишь, у меня просто нет твоих талантов.
– Чепуха, – сказал он. Он немного расслабился, скрестил ноги и слегка сполз вниз в кресле. Но почему-то, что бы он ни делал, он ни на миг не переставал производить впечатление учителя, начальника, священника. Это сквозило в каждом его мелком жесте и прежде всего – в его голосе.
– Ложись на кровать и закрой глаза. И слушай каждое мое слово.
Я сделал так, как он велел. И сразу же захотел спать. Его мягкий голос зазвучал еще настойчивее, как у гипнотизера; он приказывал мне полностью расслабиться и представить себе духовного двойника этого тела.
– Обязательно представлять себя в этом теле?
– Нет. Это не важно. Важно то, что ты – твой разум, твоя душа, твое самоощущение – соединен с телом, которое ты себе представляешь. Теперь вообрази, что они гармонируют с твоим телом, а потом представь себе, что хочешь поднять их и вынести из тела – что именно ты хочешь выйти!
Около получаса Дэвид продолжал свои неспешные указания, вновь и вновь повторяя уроки, которым священники обучали новопосвященных на протяжении тысячи лет. Старую формулу я знал. Но при этом я знал, что значат полная смертная уязвимость, гнетущее чувство собственной ограниченности и сковывающий, ослабляющий страх.
Мы провели так минут сорок пять, пока я наконец не погрузился в требуемое приятное вибрирующее состояние на грани сна и бодрствования. Мое тело, казалось, растворилось в восхитительном вибрирующем ощущении, и ничего другого я не чувствовал! И в тот самый момент, когда я это осознал и чуть было не прокомментировал, я внезапно вырвался на свободу и начал подниматься.
Я открыл глаза; так мне показалось. Я увидел, что парю прямо над своим телом; в действительности я даже не мог разглядеть настоящее тело, из плоти и крови.
– Наверх! – приказал я. И мгновенно подлетел к потолку с восхитительной легкостью и скоростью воздушного шара! Полностью перевернуться и посмотреть на комнату внизу оказалось очень просто.
Надо же, я пролетел прямо через лопасти вентилятора! Более того, он находился в самой середине моего тела, но я ничего не чувствовал. А там, внизу, подо мной, лежало спящее смертное тело, в котором я провел все эти жалкие странные дни. Глаза закрыты, как и рот.
Я увидел, как в плетеном кресле сидит Дэвид, положив правую ногу на левое колено, расслабленные руки – на бедрах. Знает ли он, что у меня получилось? Я не слышал ни одного его слова. Казалось, я нахожусь в совершенно иной сфере, чем эти две материальные фигуры, хотя я чувствовал себя идеально цельным, самим собой.
Как же мне было приятно! Это было настолько похоже на мою вампирскую свободу, что я чуть было опять не заплакал. Мне было так жаль две одинокие материальные фигуры внизу. Мне захотелось пройти через потолок и выйти в ночь.
Я медленно поднялся и проник через крышу отеля, пока не воспарил над белым песком.
Но этого достаточно, не так ли? Меня обуял страх, страх, знакомый по предыдущим опытам. Во имя Бога, что не дает мне умереть в таком состоянии? Мне нужно тело! И я тут же слепо ринулся обратно в плоть. Я очнулся, чувствуя, как напряглось мое тело, и уставился на Дэвида, который в свою очередь уставился на меня.
– Получилось, – проговорил я. Я испытывал потрясение, почувствовав, как меня окружают трубки из кожи и костей, увидев, как двигаются пальцы, выполняя мой приказ, ощутив, как в ботинках оживают ступни. Боже мой, вот это эксперимент! Сколько смертных пыталось его описать! А намного больше смертных в своем невежестве считали, что так не бывает.
– Не забывай скрывать свои мысли, – внезапно сказал Дэвид. – Как бы ты ни был взбудоражен. Крепче запирай свой мозг!
– Есть, сэр!
– Теперь повторим все сначала.
К полуночи – примерно через два часа – я научился подниматься по собственной воле. Я чуть не пристрастился к чувству невесомости, к прекрасному головокружительному вознесению! К приятной легкости проникновения через стены и потолок и к внезапному, шокирующему возвращению. Здесь присутствовало и глубокое трепетное удовольствие, чистое и светлое, словно эротика ума.
– Почему люди так не умирают, Дэвид? То есть почему бы им просто не подняться в небеса и не покинуть землю?
– Ты видел открытую дверь, Лестат? – спросил он.
– Нет, – грустно сказал я. – Я видел наш мир. Очень ясный, очень красивый. Но это был наш мир.
– Давай, тебе нужно научиться нападать.
– Но я думал, это сделаешь ты, Дэвид. Ты толкнешь его, выпихнешь его из тела, а…
– Да, и предположим, он заметит меня прежде, чем я успею это сделать, и превратит меня в красивый пылающий факел. Что тогда? Нет, ты тоже должен научиться.
Это оказалось куда сложнее. Здесь требовалась полная противоположность расслабленной пассивности, которой мы добивались раньше. Теперь мне приходилось направлять всю энергию на Дэвида с целью вытолкнуть его из тела – явление, которое я и надеяться не мог увидеть – и самому войти в его тело. От меня требовалась высшая степень сосредоточенности. Самое главное – правильно выбрать момент. От многократных попыток во мне развилась напряженная, утомительная нервозность, как у правши, пытающегося идеально писать левой рукой.
Не раз я оказывался на грани слез от злости и разочарования. Но Дэвид был непоколебим: мы должны продолжать, это возможно. Нет, хороший глоток шотландского виски не поможет. Нет, поесть мы сможем только позднее. Нет, мы не сделаем перерыв, чтобы прогуляться по пляжу или поплавать.
Когда у меня получилось в первый раз, я был абсолютно ошеломлен. Я на высокой скорости направился к Дэвиду и почувствовал коллизию разумом, так же, как я почувствовал свободу полета. Потом я оказался внутри Дэвида и на долю секунды увидел себя – с отвисшей челюстью и мутным взглядом – через затуманенные линзы глаз Дэвида.
Вдруг я потерял ориентацию, погрузился во мрак и ощутил невидимый удар, как будто меня ударили огромной рукой в грудь. Я осознал, что он вернулся и вытолкнул меня. Я запорхал в воздухе и вернулся в собственное вспотевшее тело, полуистерически смеясь от безумного возбуждения и усталости.
– Это все, что нужно, – сказал он. – Теперь я вижу, что мы своего добьемся. Давай еще раз! Если придется, мы повторим двадцать раз, пока не удостоверимся, что все проходит безупречно.
В ходе пятой успешной атаки я оставался в его теле целых тридцать секунд, совершенно загипнотизированный разницей в сопутствующих ощущениях: более легкие руки и ноги, более слабое зрение, необычный звук моего голоса, исходящего из его рта. Я посмотрел на его руки – худые, с выделяющимися сосудами, и потрогал внешнюю сторону пальцев с темными волосами – это были мои руки! Как сложно ими управлять! Надо же, одна из них явственно дрожит, хотя прежде я такого не замечал.
Далее последовал очередной толчок, я вылетел вверх и опять устремился в двадцатишестилетнее тело.
Должно быть, мы проделали это раз двенадцать, пока раб жрицы кандомбле не сказал, что ему пора начать сопротивляться моему нападению.
– Теперь ты должен наброситься на меня с гораздо большей уверенностью. Твоя цель – завладеть телом! И ты предвкушаешь схватку.
Мы боролись целый час. Наконец, когда я смог его вытолкнуть и не впускать назад на протяжении десяти секунд, он объявил, что этого достаточно.
– О твоих клетках он говорил тебе правду. Они тебя узнают. Они примут тебя и постараются удержать. Любой взрослый человек умеет пользоваться своим телом намного лучше, чем чужак. А ты, конечно, умеешь использовать свои сверхъестественные таланты, как ему и не снилось. Думаю, у нас все получится. Я даже уверен.
– Но скажи мне кое-что, – сказал я. – Прежде чем мы закончим, разве тебе не хочется вытеснить меня из этого тела и зайти внутрь? То есть посмотреть, что получится?
– Нет, – тихо ответил он. – Я не хочу.
– Но разве тебе не любопытно? – спросил я. – Разве тебе не хочется узнать…
Я видел, что испытываю его терпение.
– Послушай, честно говоря, на такой опыт у нас просто нет времени. И, может быть, мне не хочется узнавать. Я хорошо помню свою молодость. Даже слишком хорошо. Мы здесь не в игрушки играем. Теперь ты сможешь напасть на него. И это самое главное. – Он взглянул на часы. – Почти три. Поужинаем и пойдем спать. Нам предстоит длинный день, нужно будет обследовать корабль и утвердить наши планы. Необходимо отдохнуть, чтобы идеально управлять своими способностями. Пойдем, посмотрим, что мы сможем раздобыть в плане еды и питья.
Мы вышли из номера и следовали по проходу, пока не попали в маленькую кухню – странную, сырую, захламленную комнату. Владелец любезно оставил нам в ржавом стонущем холодильнике две тарелки и бутылку белого вина. Мы сели за стол и приступили к поглощению риса, ямса и приправленного мяса, уничтожив все, до последнего кусочка, не обращая внимания на то, что они ужасно холодные.
– Ты можешь прочесть мои мысли? – спросил я, проглотив два бокала вина.
– Ни одной, ты усвоил урок.
– А как же мне быть во сне? До «Королевы Елизаветы II» уже не больше двухсот миль. Через два часа она войдет в док.
– Точно так же, как и наяву. Выключаешь мысли. Запираешься. Потому что, видишь ли, никто никогда не засыпает полностью. Даже в коме. Воля работает в любое время. А дело здесь только в воле.
Пока мы так сидели, я рассматривал его. Он явно устал, но не выглядел ни изможденным, ни ослабевшим. Впечатление жизненной энергии усиливалось благодаря густым темным волосам; а большие темные глаза горели прежним ярким огнем.
Я быстро доел, затолкнул посуду в раковину и вышел на пляж, но не стал сообщать, что собираюсь делать. Я знал, сейчас он скажет, что нам пора отдохнуть, а я не хотел лишаться этой последней человеческой ночи под звездами.
Спустившись к прибрежной гряде, я сорвал с себя хлопчатобумажную одежду и вошел в волны. Они оказались прохладными, но соблазнительными, и тогда я протянул вперед руки и поплыл. Конечно, это было нелегко. Но и не трудно, как только я примирился с фактом, что смертные плавают таким вот образом – удар за ударом по сильной воде, позволяя ей поддерживать неуклюжее тело на поверхности, словно бакен, на что она охотно соглашалась.
Я заплыл довольно далеко, потом перекатился на спину и посмотрел в небо. В нем все еще было полно кудрявых белых облаков. Меня охватило спокойствие, несмотря на то что вокруг было плохо видно, голая кожа покрылась мурашками, а я, плывя по темному опасному морю, чувствовал себя очень уязвимым. Думая о том, что вернусь в свое тело, я не мог не испытывать счастье, и опять понял, что мое человеческое приключение не увенчалось успехом.
Я не стал героем собственных грез. Человеческую жизнь я находил слишком сложной.
Наконец я поплыл назад, на мелководье, а потом вышел на берег. Я забрал одежду, стряхнул песок, перекинул вещи через плечо и вернулся в нашу комнатку.
На туалетном столике горела всего одна лампа. Дэвид сидел на ближайшей к двери кровати, одетый только в длинную белую рубашку от пижамы, и курил небольшую сигару. Мне понравился ее запах – густой и сладкий.
У него, как всегда, был исполненный достоинства вид, а в глазах, наблюдавших за тем, как я принес из ванной полотенце и вытер волосы и тело, сквозило привычное любопытство.
– Только что звонил в Лондон, – сказал он.
– Какие новости? – Я вытер полотенцем лицо, потом кинул его на спинку стула. Теперь, когда кожа высохла, прикосновения ветерка были особенно приятны.
– Ограбление в горах над Каракасом. Очень похоже на преступление на Кюрасао. Большая вилла, полная артефактов, драгоценных камней, картин. Многие вещи разбиты; украдены только мелкие ценности; три трупа. Мы должны благодарить богов за бедность человеческого воображения – за саму подлость амбиций этого человека – и за то, что возможность остановить его подвернулась так скоро. Со временем в нем бы проснулся чудовищный потенциал. В данный момент он – предсказуемый дурак.
– А кто использует все, чем обладает? – спросил я. – Наверное, нескольким храбрым гениям известны их истинные пределы. А что делать всем остальным, если не жаловаться?
– Не знаю, – сказал он, и по его лицу пробежала легкая грустная улыбка. Он отвел взгляд. – Как-нибудь ночью, когда все кончится, расскажи мне еще раз, как все было. Как ты смог, находясь в прекрасном молодом теле, так возненавидеть этот мир.
– Расскажу, но ты никогда не поймешь. Ты – по ту сторону зеркала. Только мертвые понимают, как ужасно быть живым.
Я вытащил из чемоданчика свободную хлопчатобумажную футболку, но не стал ее надевать. Я сел рядом с ним на кровать. Потом наклонился и еще раз ласково поцеловал его лицо, как в Новом Орлеане, и мне понравилось прикосновение его небритой кожи так же, как мне, настоящему Лестату, нравились подобные вещи, когда вскоре я должен был получить сильную мужскую кровь.
Я придвинулся к нему поближе, когда он внезапно схватил меня за руку, и я почувствовал, что он мягко меня оттолкнул.
– Почему, Дэвид? – спросил я его.
Он не ответил. Он поднял правую руку и отвел мои волосы с глаз.
– Не знаю, – прошептал он. – Я не могу. Просто не могу.
Он изящно поднялся и вышел из комнаты в ночь. Сначала меня слишком разозлила оборвавшаяся страсть, чтобы что-то предпринимать. Потом я последовал за ним. Он спустился к песку и стоял там в одиночестве, как перед этим стоял я.
Я подошел к нему сзади.
– Скажи мне, пожалуйста, почему нет?
– Не знаю, – повторил он. – Знаю только, что я не могу. Я хочу, поверь мне. Но не могу. Мое прошлое… оно так близко. – Он глубоко вздохнул и ненадолго замолчал. Потом продолжил: – Я так отчетливо помню те дни. Я как будто снова в Индии, в Рио. Как будто вернулась моя юность.
Я знал, что сам во всем виноват. Я знал, и бесполезно было приносить извинения. Но это не все. Я был существом порочным, и даже в этом теле Дэвид ощущал присутствие зла. Он чувствовал сильнейшую вампирскую жадность. Гретхен ее не почувствовала. Я обманул ее с помощью тепла и улыбок. Но когда на меня смотрел Дэвид, он видел перед собой хорошо знакомого ему голубоглазого демона.
Я ничего не сказал. Я просто посмотрел вдаль, в море. Отдайте мне мое тело, подумал я. Пусть я стану прежним дьяволом. Забирайте жалкую смесь желаний и слабости. Возьмите меня назад, в темный рай, где мне и место. И вдруг мне показалось, что мое одиночество и мое горе ничуть не менее ужасны, чем были до эксперимента, до краткого пребывания в человеческой плоти. Да, выпустите меня из нее. Пускай я буду наблюдателем. Как я мог быть таким глупцом?
Я слышал, что Дэвид что-то говорит, но слов не разбирал. Я медленно поднял глаза, вырываясь из мыслей, увидел, что он повернулся ко мне лицом, и понял, что его рука мягко лежит на моей шее. Я хотел сказать что-нибудь злое: «Убери свою руку, не мучай меня», – но не сказал.
– Нет, ты не порочен, дело не в этом, – прошептал он. – Дело во мне, как ты не понимаешь. Дело в моем страхе! Ты не представляешь, что значит для меня это приключение! Вновь оказаться в этой части великого мира – и вместе с тобой! Я люблю тебя. Я люблю тебя безнадежно и безумно, я люблю твою душу. Как ты не понимаешь, она не порочная. И не жадная. Но она огромна. Она возобладала даже над этим молодым телом, потому что это твоя душа, неистовая, неукротимая, вневременная, – душа настоящего Лестата. Я не могу тебе уступить. Я просто… не могу. Если я это сделаю, то потеряю себя навсегда, как если бы… если бы…
Он замолчал, слишком взволнованный, чтобы продолжать. Я не мог не слышать в его голосе боль, слабую дрожь, подрывающую его глубинную твердость. Как я смогу себя простить? Я молча стоял и смотрел мимо него в темноту. Слышались только приятное биение волн и тихое потрескивание пальм. Какое огромное небо; как красивы, глубоки и спокойны предрассветные часы.
Я увидел лицо Гретхен. И услышал ее голос:
«Сегодня утром был момент, когда я подумала, что могу от всего отказаться – лишь бы остаться с тобой… Я чувствовала, как меня уносит, как раньше уносила музыка. И если бы ты сказал: “Пойдем со мной”, – даже сейчас я могла бы это сделать. Если бы твой мир существовал на самом деле… Смысл целомудрия заключается в том, чтобы не влюбляться. А в тебя я могла бы влюбиться. Я это знаю».
А за этой пылающей картиной, смутной, но неоспоримой, возникло лицо Луи, и я услышал, как его голос произносит слова, которые мне хотелось забыть.
Где же Дэвид? Я должен очнуться от этих воспоминаний. Они мне не нужны. Я поднял глаза и снова увидел его, а в нем – знакомое достоинство, сдержанность, нерушимую силу. Но и боль тоже.
– Прости меня, – прошептал он все еще неровным голосом, стараясь не терять внешней красоты и элегантности. – Выпив кровь Магнуса, ты испил из источника юности. На самом деле. Ты никогда не узнаешь, каково быть таким стариком, как я. Да поможет мне Бог, я ненавижу это слово, но это правда. Я стар.
– Понимаю, – сказал я. – Не беспокойся. – Я наклонился и еще раз поцеловал его. – Я оставлю тебя в покое. Пойдем, нам нужно выспаться. Обещаю: я оставлю тебя в покое.
Глава 21
– Господи, Дэвид, ты только посмотри!
Я только что вышел из такси на забитую народом набережную. Огромные размеры не позволяли «Королеве Елизавете II» войти в маленькую гавань. Она покоилась на якоре в одной-двух милях отсюда – точнее я не мог определить – и выглядела такой огромной, как корабль в ночном кошмаре, застывший над недвижимой бухтой. Только ряды мириадов крошечных окон не давали ей полностью превратиться в корабль великана.
Живописный островок с зелеными холмами и изогнутым берегом тянулся к ней, словно пытался сжать ее и привлечь к себе, но тщетно.
При виде этого зрелища меня охватил спазм возбуждения. Я никогда еще не бывал на борту современного судна. Эта часть будет интересной.
Маленький деревянный катер с отчетливо выписанным на борту названием судна, определенно нагруженный всего лишь частью его многочисленных пассажиров, пробирался к нему на наших глазах.
– Вон Джейк, на носу катера, – сказал Дэвид. – Зайдем в кафе.
Мы медленно прошлись на жарком солнце, чувствуя себя вполне комфортабельно в рубашках с короткими рукавами и холщовых штанах, минуя темнокожих продавцов морских раковин, соломенных кукол, крохотных стальных барабанчиков и прочих сувениров. Остров выглядел таким очаровательным! Поросшие лесами холмы были усеяны точками маленьких домиков, а более солидные городские здания сгрудились на крутом утесе вдалеке, слева от поворота набережной. Вся панорама обладала каким-то итальянским колоритом – множество темных и пятнистых красноватых стен, ржавые крыши из рифленой жести, под палящим солнцем производящие обманчивое впечатление крыш из обожженной черепицы. Приятное местечко для исследований – как-нибудь в другой раз.
Внутри темного кафе с несколькими столиками, выкрашенными в яркие цвета, и стульями с прямыми спинками, было прохладно. Дэвид заказал холодное пиво в бутылках, и через несколько минут, фланируя, вошел Джейк – все в той же белой рубашке для поло и шортах цвета хаки; он внимательно огляделся и выбрал стул, с которого можно наблюдать за открытой дверью. Окружающий мир, казалось, был создан из сверкающей воды. Пиво на вкус отдавало солодом и оказалось вполне неплохим.
– Ну, дело сделано, – тихим голосом сказал Джейк, сохраняя на лице застывшее, отстраненное выражение, словно нас не было рядом, а он погрузился в собственные мысли. Он отпил глоток пива из коричневой бутылки и сунул Дэвиду через стол пару ключей. – На пароходе более тысячи пассажиров. Никто и не заметит, что мистер Эрик Сэмпсон во второй раз не сядет на судно. Каюта совсем крошечная, внутренняя, как вы и просили, справа по коридору, в центре парохода, на пятой палубе.
– Отлично. И вы раздобыли два комплекта ключей. Очень хорошо.
– Сундук открыт, половина содержимого разбросана по кровати. Револьверы ваши спрятаны в двух книгах, в сундуке. Я сам вырезал страницы. Там еще и замки. Вам не составит труда установить на дверь тот, что побольше, но не знаю, как отреагирует персонал, если его заметят. Опять-таки желаю вам удачи. Да, вы слышали новость об ограблении на холме сегодня утром? Похоже, у нас на Гренаде завелся вампир. Может быть, вам стоит подумать о том, чтобы остаться здесь, Дэвид. На первый взгляд дело в вашем вкусе.
– Сегодня утром?
– В три часа ночи. Прямо там, на утесе. Большой дом одной богатой австрийки. Убиты все. Кошмар! Об этом говорит весь остров. Ладно, я пошел.
Дэвид заговорил только тогда, когда Джейк оставил нас:
– Это плохо, Лестат. Сегодня в три часа ночи мы стояли на пляже. Если он хотя бы мельком почувствовал, что мы неподалеку, его может не быть на корабле. Или с закатом солнца он будет готовиться к встрече с нами.
– Сегодня утром он был чересчур занят, Дэвид. К тому же, почувствуй он наше присутствие, наша комната превратилась бы в симпатичный фейерверк. Разве что только он этого не умеет, но здесь уж мы не угадаем. Пойдем же садиться на чертов пароход. Я устал от ожидания. Смотри, дождь начинается.
Мы собрали наш багаж, включая чудовищных размеров кожаный чемодан, привезенный Дэвидом из Нового Орлеана, и поспешили к катеру. Отовсюду собиралась толпа хрупких пожилых смертных – из такси, из-под навесов, из магазинчиков, так как теперь дождь пошел всерьез, и нам понадобилось несколько минут, чтобы забраться в неустойчивый деревянный катер и занять место на мокрой пластиковой скамье.
Как только мы повернули к «Королеве Елизавете II», у меня голова закружилась от возбуждения – забавно плыть по теплому морю на таком маленьком судне. Мы набирали скорость, и я наслаждался ритмом движения.
Дэвид был довольно напряжен. Он открыл паспорт, перечитал в двадцать седьмой раз информацию и убрал его. Мы изучили свои псевдонимы сегодня утром, после завтрака, но надеялись, что нам не придется использовать различные детали.
Хотите верьте, хотите – нет, но доктор Стокер вышел на пенсию и отдыхал на Карибах, однако его очень волновал его близкий друг Джейсон Гамильтон, путешествующий в каюте-люкс Королевы Виктории. Ему не терпелось увидеть мистера Гамильтона, что он и расскажет стюардам, обслуживающим каюты на сигнальной палубе, хотя и предупредит их, что мистер Гамильтон не должен узнать о его беспокойстве.
Я же – просто друг, которого он встретил в гостях и с которым завязал знакомство по причине нашего совместного отплытия на «Королеве Елизавете II». Другой связи между нами не было, так как после обмена в этом теле окажется Джеймс, и если его не удастся контролировать, Дэвиду придется каким-то образом его очернить.
Это еще не все, были и другие детали, на случай если нас допросят по поводу какой-нибудь ссоры. Но в общем-то мы не думали, что наш план в принципе может привести к подобному исходу.
Наконец катер подошел к пароходу и пришвартовался у широкого прохода в самой середине огромного корпуса. С этого угла судно выглядело до нелепости громадным! У меня даже дух захватило.
Я едва заметил, как мы передали билеты ожидающему персоналу. Багаж нам принесут. Получив весьма туманные указания, как добраться до сигнальной палубы, мы побрели по бесконечному коридору с очень низким потолком и многочисленными дверями по обе стороны от нас. Через несколько минут мы осознали, что совершенно заблудились.
Мы все шли и шли, пока внезапно не достигли большого открытого помещения с осевшим полом и, представьте себе, огромным белым роялем на трех ножках, словно готовым к концерту, – и это в самом чреве парохода, без единого окна!
– Это центральное фойе, – сказал Дэвид, указывая на большой разноцветный план судна, висевший в рамке на стене. – Теперь я знаю, где мы находимся. Иди за мной.
– Полный абсурд, – заметил я, уставившись на яркий цветной ковер и на вездесущий пластик и хром. – Уродство, сплошная синтетика.
– Ш-ш-ш, британцы этим кораблем очень гордятся, кто-нибудь может обидеться. Дерево использовать больше нельзя – из-за противопожарных постановлений. – Он остановился у лифта и нажал на кнопку. – Так мы попадем на корабельную палубу. Он вроде бы сказал, что там мы найдем «Королевский Гриль»?
– Понятия не имею, – ответил я и зашел в лифт как зомби. – Невообразимо!
– Лестат, такие гигантские лайнеры существуют с начала века. Ты живешь в прошлом.
На корабельной палубе обнаружилась целая серия чудес. На пароходе был большой театр, а также целый балкон, занятый элегантными магазинчиками. Под ним располагалась танцевальная площадка с маленькой сценой для группы, а рядом раскинулось большое фойе, полное маленьких коктейльных столиков и приземистых удобных кожаных кресел. Магазины были закрыты, так как судно стояло в порту, но через отгораживающие их вентиляционные решетки несложно было разглядеть их разнообразное содержимое. В неглубоких нишах была выставлена дорогая одежда, изысканные драгоценности, фарфор, черные смокинги и накрахмаленные рубашки и различные сувениры.
Повсюду бродили пассажиры – в основном довольно старые мужчины и женщины в скупой пляжной одежде, многие из них собирались внизу, в тихом, освещенном дневным светом фойе.
– Идем в каюту, – сказал Дэвид и потянул меня за собой.
Такое впечатление, что каюты-люкс, куда мы направлялись, были отрезаны от основной части корпуса. Нам пришлось проскользнуть в фойе «Королевского Гриля» – длинный, узкий, приятно обставленный бар, зарезервированный специально для пассажиров верхней палубы, после чего мы нашли скрытый от посторонних глаз лифт, который и доставил нас в номера. В баре были очень большие окна, открывавшие вид на чудесную голубую воду и чистое небо над головой.
Все это епархия первого класса в ходе трансатлантического рейса. Но здесь, на Карибах, такие ограничения отсутствовали, хотя фойе и ресторан преграждали путь к оставшейся части плавучего мирка.
В конце концов мы выбрались на самую верхнюю палубу парохода и попали в гораздо более изысканно отделанный коридор, чем внизу. Пластиковые лампы и красивая обивка дверей носили отпечаток арт-деко. Освещение также было куда щедрее и веселее. Из небольшого занавешенного камбуза возник дружелюбный стюард – джентльмен лет шестидесяти, который и направил нас к нашим апартаментам у дальнего конца холла.
– А где апартаменты Королевы Виктории? – спросил Дэвид.
Стюард немедленно ответил с очень похожим британским акцентом, что апартаменты Виктории расположены всего лишь через две каюты. Он указал на нужную дверь.
Взглянув на нее, я почувствовал, что у меня волосы встают дыбом. Я знал, точно знал, что демон находится внутри. Зачем ему утруждаться поисками убежища посложнее? Мне об этом можно было не рассказывать. В этой каюте, у стены, мы найдем большой сундук. Я смутно сознавал, что Дэвид использует весь свой авторитет и обаяние, объясняя стюарду, что он – врач и собирается взглянуть на своего близкого друга Джейсона Гамильтона по возможности поскорее. Но беспокоить мистера Гамильтона ему не хотелось бы.
Ну конечно нет, отвечал веселый стюард, от себя добавив, что мистер Гамильтон целыми днями спит. Да он и сейчас спит. Смотрите, на ручке двери висит табличка: «Не беспокоить». Но разве нам не хочется устроиться в своих каютах? А вот и наш багаж.
Каюты меня удивили. Сквозь открытые двери я увидел оба номера, прежде чем удалиться к себе.
Опять сплошные синтетические материалы, пластик, лишенный теплоты дерева. Но комнаты оказались довольно большими и на вид роскошными; между ними была дверь, объединяющая их в великолепные апартаменты. В настоящий момент дверь эта была закрыта.
Меблировка комнат была идентична, за исключением небольших различий в цвете; все напоминало стандартные гостиничные номера – низкие широкие кровати, задрапированные мягкими, пастельных оттенков покрывалами, узкие туалетные столики, встроенные в зеркальную стену. Модный большой телевизор, ловко спрятанный холодильник и даже небольшое пространство, где можно посидеть, – бледный, красивой формы диванчик, кофейный столик и обитое драпировкой кресло.
Что меня, однако, действительно удивило, так это веранда. Огромная стеклянная стена со скользящей дверью, за которой находились частные балкончики, достаточно широкие, чтобы вместить стол и стулья. Что за роскошь – выйти на воздух, опереться на перила и посмотреть на очаровательный остров и сверкающую бухту. И это, конечно же, означает, что в каюте Королевы Виктории тоже есть веранда, сквозь которую ярко светит утреннее солнце!
Я не мог не рассмеяться про себя при воспоминании о старых кораблях девятнадцатого века и их крошечных иллюминаторах. И хотя бледные бездушные краски оформления вызывали у меня антипатию, равно как и полное отсутствие каких-либо качественных отделочных материалов, я начинал понимать, почему Джеймс до сих пор оставался очарованным этим своеобразным маленьким царством.
Тем временем я явственно слышал, как Дэвид вовсю болтает со стюардом, и их живой британский акцент с каждой репликой обостряется еще больше, а речь становится такой быстрой, что я уже не всегда понимаю, о чем идет речь.
Похоже, речь шла о бедном снедаемом недугом мистере Гамильтоне и о том, что доктору Стокеру не терпится проскользнуть к нему и взглянуть на него спящего, но стюард ужасно боялся допустить подобную вещь. Доктор Стокер хотел получить и оставить у себя запасной ключ к каюте, чтобы на всякий случай вести личное наблюдение над пациентом…
Только постепенно, пока я разбирал чемодан, до меня дошло, что эта беседа и вся ее лирическая вежливость сводится к вопросу взятки. Наконец Дэвид самым любезным и заботливым тоном сказал стюарду, что понимает, как тому неудобно, и будет чрезвычайно рад, если приятель в первом же порту поужинает за его счет. А если все пойдет не так и мистер Гамильтон расстроится, то Дэвид возьмет всю вину на себя. Он скажет, что взял ключ из камбуза. Стюард скомпрометирован не будет.
Кажется, битва выиграна. Дэвид явно использовал свой почти гипнотический дар убеждения. Но тут последовала вежливая и очень убедительная чепуха о том, как болен мистер Гамильтон, как семья послала доктора Стокера присмотреть за ним, как ему важно взглянуть на его кожу. Ну да, кожу. Без сомнения, стюард сделал вывод, что речь идет об опасной для жизни болезни. И в конце концов он признался, что остальные стюарды обедают, он сейчас на сигнальной палубе один, да, он отвернется, если доктор Стокер абсолютно уверен…
– Дорогой мой, я беру всю ответственность на себя. Вот, вы должны взять это себе за причиненное беспокойство. Поужинайте в каком-нибудь приятном… Нет-нет, не спорьте. Теперь предоставьте дело мне.
Через несколько секунд узкий яркий коридор опустел. С едва заметной торжествующей улыбкой Дэвид позвал меня следовать за ним. В руке он держал ключ от каюты Королевы Виктории. Мы пересекли проход, и он вложил его в замок.
Каюта была огромной и разделялась на два уровня с помощью четырех-пяти покрытых ковром ступенек. Кровать стояла на нижнем уровне и была в беспорядке, под покрывалами лежали взбитые подушки, чтобы создавалось впечатление, будто в ней кто-то крепко спит, беззаботно натянув на голову одеяло.
Верхний уровень вмещал в себя мини-гостиную и двери на веранду, задернутые плотными шторами, почти не пропускавшими свет. Мы проскользнули в апартаменты, включили верхний свет и закрыли дверь.
Кипа подушек на кровати ввела бы в заблуждение любого, кто заглянул бы внутрь из холла, но при ближайшем рассмотрении верхом изобретательности не являлась. Просто неубранная кровать.
Так где же наш дьявол? Где сундук?
– А, вот он, – прошептал я. – По ту сторону кровати.
Я было принял его за какой-то столик, потому что его полностью скрывала декоративная ткань. Теперь же я рассмотрел, что это большой металлический рундук, обитый латунью, очень блестящий и достаточного размера, чтобы в нем без труда поместился человек, лежащий на боку с поджатыми коленями. Плотная декоративная ткань, несомненно, держалась на месте с помощью клея. В прежние века я и сам пользовался этой уловкой.
Остальное было в безупречном порядке, хотя шкафы буквально раздувались от дорогой одежды. Быстрый обыск ящиков стола не дал нам никаких важных документов. Очевидно, все требуемые бумаги он носил при себе, а сам скрывался в сундуке. Насколько мы могли определить, в комнате не было спрятано ни драгоценностей, ни золота. Но мы обнаружили стопку проштампованных почтовых конвертов, с помощью которых дьявол избавлялся от награбленных сокровищ – все довольно толстые и большие.
– Пять абонентских ящиков, – сказал я, перебирая конверты. Дэвид записал все номера в кожаную записную книжку, сунул ее обратно в карман и взглянул на сундук.
Я шепотом попросил его вести себя осторожнее. Демон может чувствовать приближение опасности даже во сне. Не вздумай трогать замок.
Дэвид кивнул. Он молча встал на колени рядом с сундуком и осторожно приложил ухо к крышке, поспешно отпрянул и уставился на нее с неистовым, взволнованным выражением лица.
– Все в порядке, он там, – сказал он, не сводя глаз с сундука.
– Что ты услышал?
– Биение сердца. Пойди, послушай сам, если хочешь. Это твое сердце.
– Я хочу посмотреть на него. Встань вон там, подальше.
– Думаю, тебе лучше этого не делать.
– Но мне хочется. К тому же мне нужно оценить замок – на всякий случай.
Я подошел к сундуку и, увидев его вблизи, понял, что он даже не заперт. Либо он не умеет делать это телепатически, либо не утруждает себя. Стоя сбоку, я опустил правую руку и резко толкнул латунный край крышки. И отбросил ее к стене. Она с глухим стуком ударилась о панель, но не закрылась, и я понял, что вижу перед собой массу мягкой черной ткани, сложенной свободными складками и полностью скрывавшей содержимое. Под тканью ничто не дрогнуло.
Никакая сильная белая рука к моему горлу не потянулась!
Стоя по возможности дальше, я протянул руку, схватил ткань и мгновенно отдернул черный шелк. Мое смертное сердце безнадежно грохотало, а я, отстраняясь на несколько футов от сундука, чуть не потерял равновесие. Но тело, лежавшее теперь на виду, поджав колени, как я и предполагал, и обхватив их руками, не двигалось.
Загорелое лицо оставалось неподвижным, как у манекена, глаза закрыты, а на похоронной обивке из белого шелка горел знакомый профиль. Мой профиль. Мое тело, облаченное в официальный черный вечерний костюм – по-вампирски черный костюм, если хотите, – с жесткой белой манишкой и глянцево-черным галстуком вокруг шеи. Мои волосы, распущенные, густые, золотистые при тусклом освещении.
Мое тело!
А я трясусь в смертной оболочке с черным шелковым покрывалом, свисающим с моей дрожащей руки, словно плащ матадора!
– Быстрее! – прошептал Дэвид.
Когда слово это слетело с его губ, я увидел, что согнутая рука в сундуке зашевелилась. Локоть напрягся. Ладонь на подогнутом колене расслабилась. Я немедленно швырнул ткань обратно и увидел, что она скользнула на место тем же бесформенным покрывалом. И быстрым взмахом пальцев левой руки я оттолкнул крышку от стены, так что она с глухим стуком захлопнулась.
Слава Богу, она не зажала декоративную наружную ткань, – та упала как раньше, прикрывая незапертый замок. Я отодвинулся от рундука, меня почти тошнило от страха и изумления, и я почувствовал, что Дэвид ободряюще пожал мою руку.
Мы вместе долго стояли молча, пока не удостоверились, что сверхъестественное тело вернулось в состояние полного покоя.
Наконец я собрался с силами, чтобы еще раз спокойно осмотреться. Меня до сих пор трясло, но при этом задачи, лежащие впереди, волновали меня не меньше.
Несмотря на толстый слой синтетических материалов, эти апартаменты по любым меркам могли считаться шикарными. Они представляли собой тот вид роскоши и привилегий, который доступен лишь очень немногим смертным. Как он, должно быть, ею упивался! Да, только посмотри на эти изысканные вечерние костюмы! Черные бархатные смокинги, плюс одежда более знакомого стиля, даже оперный плащ, в этом он себе не отказывал. На полу шкафа – выставка блестящих ботинок, в баре – великое разнообразие дорогих напитков.
Он что, заманивал сюда жертвы на коктейль, чтобы сделать свой глоток?
Я взглянул на длинную стеклянную стену, вполне различимую благодаря полоскам света, пробивавшегося наверху и по сторонам штор. Только теперь я понял, что комната выходит на юго-восток.
Дэвид сжал мою руку. Разве не благоразумнее пока что уйти?
Мы сразу же ушли с сигнальной палубы, так больше и не повстречав стюарда. Дэвид держал ключ во внутреннем кармане.
Теперь мы спустились на пятую палубу – самую последнюю палубу с каютами, хотя и не самую нижнюю на корабле, где нашли маленькую внутреннюю каюту мистера Эрика Сэмпсона, которого на самом деле не существовало, а в ней – еще один сундук, ожидавший, когда в него попадет тело, лежащее наверху, после того как оно снова будет принадлежать мне.
Приятная комнатка без окон. Конечно, дверь закрывалась на обычный замок, но где же остальные, которые Джейк по нашей просьбе принес на борт?
Для наших целей они оказались чересчур неуклюжими. Но я заметил, что дверь практически нельзя будет открыть, если я задвину ее сундуком. Он преградит путь надоедливым стюардам или же Джеймсу, если он сумеет после обмена выйти на охоту. Сдвинуть дверь с места у него не получится. Да, если вставить сундук как клин между дверью и концом койки, то ее никто не откроет. Отлично. Итак, эта часть плана осуществилась.
Теперь надо продумать маршрут от каюты Королевы Виктории до этой палубы. Поскольку схемы корабля висели в каждом холле и фойе, с осложнениями мы не встретились.
Я быстро осознал, что самый выгодный маршрут проходит по лестнице А. Возможно, это единственная лестница, ведущая напрямую, без разрывов, с той палубы, что была под нами, на пятую палубу. Едва мы добрались до подножия лестницы, как я понял, что мне будет легче легкого спрыгнуть с самого верха по шахте, образуемой перекрестами перил, на это самое место. Теперь пора подняться по ней до спортивной палубы и посмотреть, как на нее попасть с нашей верхней палубы.
– Да, дорогой мой юноша, вам это по плечу, – сказал Дэвид. – Я же проеду восемь пролетов на лифте.
Когда мы встретились в тихом солнечном фойе «Королевского Гриля», я уже продумал каждый шаг. Мы заказали пару джинов с тоником – напиток, который я нашел довольно сносным – и повторили весь план до мельчайшей детали.
Всю ночь мы будем ждать в укрытии, пока Джеймс не решит удалиться от приближающегося дня. Если он появится рано, мы подождем критического момента, пока не нападем на него, откинув крышку сундука.
Дэвид наставит на него «смит-и-вессон», мы вдвоем постараемся вытолкнуть его дух из тела, и в этот момент я ринусь внутрь. Время решает все. Он будет чувствовать опасность приближения солнца и понимать, что в вампирском теле оставаться не получится; но нельзя дать ему ни малейшей возможности причинить кому-нибудь из нас вред.
Если первая атака потерпит поражение и возникнет спор, мы должны прояснить для него всю уязвимость его положения. Если он попробует уничтожить кого-то из нас, на наши неизбежные возгласы и крики сразу же придет помощь. А труп останется в комнате Джеймса. И куда деваться самому Джеймсу? Весьма сомнительно, что он знает, как долго после восхода солнца он сможет оставаться в сознании. Я был полностью уверен, что он никогда не дожидался предела, как часто делал я.
Учитывая его растерянность, второе нападение наверняка окажется успешным. И когда Дэвид будет держать смертное тело Джеймса на мушке, я со сверхъестественной скоростью метнусь по коридору сигнальной палубы, по внутренней лестнице попаду на нижнюю палубу, пробегу по узкому коридору в более широкий, за рестораном «Королевский Гриль», где окажусь наверху лестницы А и спрыгну на восемь этажей вниз. Потом задвину сундук между кроватью и дверью, заберусь в него и опущу крышку.
Пусть даже я встречу на пути стайку медлительных смертных, на это понадобится не более нескольких секунд, и почти на протяжении всего времени я буду в безопасности, внутри парохода, в изоляции от солнечного света.
Джеймс – уже в смертном теле, – естественно, разъярится, но не будет и понятия иметь, куда я делся. Даже если он возьмет верх над Дэвидом, он в принципе не сможет обнаружить мою каюту без исчерпывающих поисков, предпринять которые выше его способностей. А Дэвид поднимет против него службу безопасности, обвиняя его в разнообразных злодеяниях.
Конечно, Дэвид не намеревался позволить взять над собой верх. Он не будет спускать с Джеймса дула мощного «смит-и-вессона», пока корабль не остановится у Барбадоса, и тогда сопроводит его к сходням и пригласит на берег. Там Дэвид будет следить, чтобы Джеймс не вернулся. На закате я встану из сундука и встречусь с Дэвидом, после чего мы предпримем ночное путешествие до следующего порта.
Дэвид откинулся на спинку бледно-зеленого кресла, допивая остатки джина с тоником и определенно размышляя над планом.
– Ты, конечно, понимаешь, что я не смогу казнить этого дьявола, – сказал он. – С оружием или без такового.
– Да, на борту не сможешь, это точно, – подтвердил я. – Иначе все услышат выстрел.
– А что, если он это поймет? И потянется за оружием?
– Тогда он окажется в том же самом затруднении. Естественно, у него хватит ума, чтобы это понять.
– Я пристрелю его, если придется. И эту мысль он прочтет с помощью своих экстрасенсорных способностей. Если будет нужно, я выстрелю. И тогда выступлю с подобающими случаю обвинениями. Он пытался ограбить твою каюту. Я ждал тебя, когда он вошел.
– Послушай, а что, если мы совершим обмен, оставив достаточно времени, чтобы скинуть его в воду?
– Не подходит. Повсюду служащие и пассажиры. Его наверняка кто-то увидит, закричат: «Человек за бортом!» – и поднимется суматоха.
– Я, конечно, могу размозжить ему череп.
– Тогда мне придется прятать труп. Нет, давай лучше надеяться, что мерзавец поймет, как ему повезло, и с радостью сойдет на берег. Не хотелось бы, чтобы мне пришлось… Мне неприятна сама мысль…
– Знаю, знаю, но ты можешь просто затолкнуть его в сундук. Никто его не найдет.
– Лестат, не хочу тебя пугать, но существуют веские причины, по которым мы не должны стараться его убить! И причины эти он объяснил тебе сам. Разве ты не помнишь? Пригрози этому телу – и он поднимется над ним, чтобы совершить новое нападение. Мы фактически не оставим ему выбора. И продлим духовную битву в самый неподходящий момент. Можно предположить, что он проследит за тобой до пятой палубы и попробует вытеснить тебя снова. Конечно, это глупо, раз у него нет укрытия. Но предположим, что у него есть альтернативное убежище. Подумай об этом.
– Здесь ты, наверное, прав.
– И мы не знаем пределов его духовной силы, – сказал он. – Нельзя забывать, что его специализация – переход и захват тел! Нет. Не пытайся топить его или убивать. Пусть заберется назад, в смертное тело. Я буду держать его на прицеле, пока ты не успеешь полностью исчезнуть с места событий, а потом мы с ним вдвоем поговорим о том, что нас ждет впереди.
– Я понял, о чем ты говоришь.
– Тогда, если придется стрелять, отлично. Я выстрелю. Я уложу его в сундук и буду надеяться, что выстрел не заметят. Кто знает? Может быть, повезет.
– Господи, ты понимаешь, что я оставляю тебя наедине с этим чудовищем? Дэвид, почему нам не напасть на него, как только сядет солнце?
– Нет. Категорически нет. Это означает битву не на жизнь, а на смерть. И он сможет достаточно удержаться в этом теле, чтобы взлететь в воздух и просто оставить нас на борту судна, которое пробудет в море всю ночь. Лестат, я все продумал. Каждая часть нашего плана имеет критическое значение. Он нам нужен в самом слабом состоянии, прямо перед рассветом, когда пароход вот-вот войдет в док, чтобы, попав в смертное тело, он мог радостно и с благодарностью сойти на берег. Ты должен доверять мне – с этим типом я справлюсь. Ты себе не представляешь, до какой степени я его ненавижу! Иначе ты вряд ли бы волновался.
– Уверяю тебя, я убью его, как только найду.
– Тем больше у него причин по своей воле сойти на берег. Он захочет получить фору, и я посоветую ему действовать побыстрее.
– Охота на крупную дичь. Это мне по душе. Я найду его, пусть даже он спрячется в другом теле. Чудесная игра!
Дэвид ненадолго замолчал.
– Лестат, конечно, существует другая возможность…
– Что? Я тебя не понимаю.
Он отвел взгляд, как будто подбирал нужные слова. Потом посмотрел мне в глаза.
– Понимаешь, мы можем уничтожить это существо.
– Дэвид, ты в своем уме, чтобы даже…
– Лестат, вдвоем у нас получится. Есть разные способы. К закату мы могли бы его уничтожить, и ты стал бы…
– Ни слова больше! – Я разозлился. Но увидев в его лице печаль, заботу, нескрываемую смертную растерянность, я вздохнул, сел поудобнее и перешел на более мягкий тон: – Дэвид, я – Вампир Лестат. Это мое тело. Мы вернем его мне.
Сперва он не отвечал, но потом довольно выразительно кивнул головой и полушепотом произнес:
– Да. Верно.
Наступила пауза, в течение которой я начал перебирать в уме каждый элемент нашего плана.
Когда я снова посмотрел на него, он тоже казался задумчивым, погруженным глубоко в мысли.
– Знаешь, я думаю, что все пройдет гладко, – сказал он. – Особенно если вспомнить, как ты описывал его в этом теле. Неуклюжий, неловкий. И конечно, нельзя забывать, что он за человек – его возраст, его прежний modus operandi, так сказать. Он не заберет у меня револьвер. Да, думаю, что все пройдет по плану.
– Я тоже, – сказал я.
– И, учитывая все остальное, – добавил он, – это наш единственный шанс!
Глава 22
На протяжении следующих двух часов мы обследовали пароход. Главное, чтобы мы смогли спрятаться в течение ночи, когда Джеймс, вероятно, будет рыскать по палубам. По этой причине необходимо было все выяснить, и не могу не признать, что испытывал чрезвычайное любопытство относительно судна.
Мы оставили тихую узкую комнату отдыха в «Королевском Гриле» и вернулись в основную часть судна, миновав немало кают, прежде чем добраться до роскошного магазинного городка на круговом балконе. Потом мы спустились по большой круговой лестнице, ведущей в другие затемненные бары и комнаты отдыха, каждая из которых могла похвастаться собственным широченным головокружительным ковром и грохотом электронной музыки, оставили позади внутренний бассейн, вокруг которого за большими круглыми столами обедали сотни людей, и вышли к еще одному бассейну, открытому, где в пляжных креслах загорало несметное множество пассажиров, дремавших или читавших сложенные газеты и книжки в бумажных обложках.
В результате мы набрели на маленькую библиотеку, переполненную тихими завсегдатаями, и неосвещенное казино, которое откроется только после того, как судно покинет порт. Здесь стояли ряды мрачных темных игровых автоматов и столы для блэк-джека и рулетки.
В какой-то момент мы заглянули в темный кинотеатр, – он оказался огромным, хотя фильм на гигантском экране смотрели всего лишь четыре-пять человек.
Далее следовали комнаты отдыха, одни – с окнами, другие – погруженные во мрак, и красивый изысканный ресторан для пассажиров среднего уровня, к которому вела винтовая лестница. Третий ресторан – тоже довольно симпатичный – обслуживал посетителей самых нижних палуб. Мы спустились вниз, прошли мимо моего тайного убежища в каюте. И обнаружили не одно, но два оздоровительных заведения курортного типа с тренажерами для наращивания мускулов и комнатами для очистки пор кожи с помощью струй пара.
Где-то еще мы наткнулись на маленькую больницу – крошечные ярко освещенные палаты и медсестры в белых униформах; в другом месте мы обнаружили большой зал без окон, полный компьютеров, за которыми тихо и самозабвенно работали несколько человек. Был там и салон красоты для женщин, и заведение такого же типа для мужчин. Как-то раз мы набрели на бюро путешествий, а потом – на некое учреждение, видимо, банк.
Все это время мы шли по узким коридорам, которым не было видно конца. Нас постоянно окружали унылые бежевые стены. Один чудовищный оттенок ковра сменялся другим. Иногда кричащие современные узоры сталкивались у разных дверей с таким неистовством, что я не мог не засмеяться вслух. Я потерял счет многочисленным лестницам с низкими, обитыми ковром ступеньками. Я не мог отличить один ряд лифтов от другого. Куда ни глянь – повсюду пронумерованные двери кают. Картины в рамах – сдержанные, неотличимые одна от другой. Мне вновь и вновь приходилось искать схемы, чтобы определить, где конкретно я побывал и куда направляюсь или как избежать ходьбы по кругу, по которому я слоняюсь уже в четвертый или в пятый раз.
Дэвид находил это невероятно забавным, особенно когда мы встречали других пассажиров, которые сбивались с пути почти на каждом повороте. По меньшей мере раз шесть мы помогли этим престарелым личностям найти дорогу к определенному месту. А потом заблудились сами.
Наконец мы чудом нашли дорогу к узкой комнате отдыха «Королевского Гриля» и поднялись к сигнальной палубе, к нашим каютам. До захода солнца оставался всего час, уже ревели гигантские моторы.
Едва переодевшись к вечеру в белую водолазку и светлый полосатый льняной костюм, я помчался на веранду посмотреть, как из большой трубы над головой извергается дым. Под действием моторов завибрировал весь пароход. Над далекими холмами гас мягкий карибский свет.
Меня охватило неистовое, бурлящее предчувствие. Такое впечатление, что вибрация мотора отдавалась в моих внутренностях. Но дело было не в этом. Я просто думал, что никогда больше не увижу сверкающий естественный свет. Я увижу тот свет, который придет через несколько мгновений – сумерки, – но никогда больше не увижу ни всплеск умирающего солнца в мозаичной воде, ни золотистый отблеск в далеком окне, ни голубое небо над плывущими облаками, такое ясное в этот последний час.
Мне хотелось приникнуть к этой минуте и смаковать каждую мягкую, неуловимую перемену. И расхотелось. Несколько веков назад не было никакого прощания с дневным светом. Когда в тот последний судьбоносный день садилось солнце, мне и не снилось, что я никогда больше его не увижу – до сих пор. Никогда даже не снилось!
Конечно, я постою здесь, наслаждаясь остатками его приятного тепла и драгоценными минутами блекнущего света.
Но мне уже не хотелось. Мне было все равно. Я видел солнце в минуты куда более чудесные и дорогие моему сердцу. Все кончено, не так ли? Скоро я опять стану Вампиром Лестатом.
Я медленно прошелся по каюте. Взглянул на свое отражение в большом зеркале. Да, впереди – самая долгая ночь моего существования, дольше даже, чем та жуткая ночь в Джорджтауне, ночь холода и болезни. А вдруг не получится?
Дэвид ожидал меня в коридоре и в костюме из белого льна выглядел подобающим образом. Пора уходить отсюда, сказал он, пока солнце не опустилось в волны. Я не так уж беспокоился. Я не думал, что этот неряшливый идиот выскочит из сундука прямо в горящие сумерки, как нравилось мне. Напротив, перед появлением он, скорее всего, боязливо полежит в темноте.
И что он сделает дальше? Откроет шторы на веранде и таким образом покинет пароход, чтобы ограбить некую обреченную семью на далеком побережье? Но он уже совершил нападение на Гренаде. Может быть, он собирается отдохнуть.
Мы не знали.
Мы опять выскользнули в комнату отдыха «Королевского Гриля» и вышли на обдуваемую ветром палубу. Многие пришли сюда, чтобы посмотреть, как судно покидает порт. Команда готовилась. Из трубы в угасающий небесный свод валил густой серый дым.
Я облокотился о поручни и посмотрел вдаль, на изогнутую линию суши. Бесконечно изменчивые волны ловили и удерживали свет тысячи различных оттенков и степеней прозрачности. Но насколько богаче и яснее предстанет он моим глазам завтра, когда опустится ночь! Глядя на него, я утратил всякие мысли о будущем. Меня захлестнуло величие моря и пламенный розовый свет, заливший бесконечное небо и изменивший его лазурный оттенок.
Окружавшие меня смертные затихли. Они почти не разговаривали. Народ собирался на носу, чтобы отдать дань этим минутам. Здесь дул шелковистый и ароматный бриз. Темно-оранжевое солнце висело над горизонтом, словно подсматривая одним глазом, но внезапно опустилось и исчезло из поля зрения. Огромные стаи бегущих облаков озарились снизу потрясающим взрывом желтого света. По безграничным сияющим небесам все выше и выше поднимался розоватый свет, и через чудесный цветной туман пробилось мерцание звезд.
Вода темнела; внизу волны с новой жестокостью бились о корпус судна. Я осознал, что пароход уже движется. Внезапно из него вырвался глубокий резкий вибрирующий свист, крик, отдавшийся в моих костях одновременно страхом и волнением. Пароход шел так медленно и ровно, что догадаться об этом можно было, только глядя на берег. Мы поворачивали к западу, навстречу умирающему свету.
Я увидел, что глаза Дэвида покрылись пеленой. Правой рукой он вцепился в поручень и смотрел на горизонт, на поднимающиеся облака и на глубокое розовое небо над ними.
Мне хотелось сказать ему что-нибудь – что-нибудь красивое и важное, чтобы выразить свою глубокую любовь. От нее у меня вдруг чуть не разорвалось сердце, я медленно повернулся к нему и положил левую ладонь на его правую руку, державшуюся за поручень.
– Я знаю, – прошептал он. – Поверь мне, знаю. Но сейчас тебе нужно вести себя умнее. Держи все при себе.
Ах да, опустить занавес. Стать одним из бесчисленных сотен, отгородиться, замолчать, остаться одному. Одному. Так и подошел к концу мой последний день смертной жизни.
Оглушительный вибрирующий свисток прозвучал еще раз.
Судно практически завершило разворот. Оно двигалось к открытому морю. Небо уже быстро темнело, нам пора было удалиться на нижние палубы и найти какой-нибудь уголок шумной общественной комнаты, где нас будет не видно.
Я бросил последний взгляд на небо, сознавая, что весь свет уже ушел, окончательно и навсегда, и сердце мое похолодело. Меня пробрала мрачная дрожь. Но я не мог сожалеть о потере света. Не мог. Все, чего хотела моя чудовищная душа, – это получить назад свою вампирскую силу. Однако сама земля, казалось, требовала чего-то более утонченного, – чтобы я оплакивал то, от чего отрекся.
Не вышло. Мне было грустно, и, пока я неподвижно стоял в тишине на теплом ласковом ветерке, на меня давил сокрушительный провал моего человеческого приключения.
Я почувствовал, что Дэвид мягко тянет меня за локоть.
– Да, идем внутрь, – сказал я и отвернулся от нежного карибского неба. Уже опустилась ночь. И мысли мои принадлежали Джеймсу, одному только Джеймсу.
О, как же я жалел, что не мог подсмотреть, как этот дурак поднимается из своего шелкового укрытия! Но это было чересчур рискованно. Ни с какого наблюдательного пункта мы не могли бы следить за ним, оставаясь в безопасности. Единственным доступным нам шагом было немедленно скрыться.
С наступлением темноты изменился и корабль.
Сверкающие магазинчики, мимо которых мы проходили, вели шумную и бойкую торговлю. Внизу, в Театральном фойе, облаченные в вечерние наряды мужчины и женщины уже занимали свои места.
Игровые автоматы в казино ожили и горели яркими огнями; вокруг рулетки собралась толпа. А пожилые пары танцевали в просторном затемненном Королевском зале под тихую медленную оркестровую музыку.
Как только мы нашли подходящий уголок в клубе «Лидо» и заказали, чтобы не скучать, пару напитков, Дэвид велел мне оставаться на месте, сказав, что рискнет и один поднимется на сигнальную палубу.
– Зачем? Что значит «оставаться на месте»? – Я пришел в бешенство.
– Он узнает тебя, как только увидит, – сказал он снисходительно, словно ребенку. Он нацепил пару темных очков. – А меня он, скорее всего, вообще не заметит.
– Ладно, босс, – с отвращением ответил я. Я был вне себя – спокойно ждать здесь, в то время как он отправляется на охоту!
Я рухнул обратно в кресло, отпил еще один антисептический глоток джина с тоником и попытался рассмотреть в раздражающей темноте, как несколько молодых пар выходят под яркие огни танцевальной площадки. Музыка играла невыносимо громко. Но едва уловимая вибрация корабля была восхитительна. Он уже рвался вперед. Выглянув из этой ямы, полной переплетенных теней, в дальний левый угол, в одно из множества больших стеклянных окон, я увидел, как полное облаков небо, все еще светящееся светом раннего вечера, попросту проносится мимо.
Могучий корабль, подумал я. В этом ему не откажешь. Несмотря на безвкусные лампочки и уродливый ковер, на гнетуще низкие потолки и бесконечно нудные общественные комнаты, это был действительно могучий корабль.
Вот о чем я размышлял, стараясь не сойти с ума от нетерпения и даже пытаясь увидеть это с точки зрения Джеймса, когда меня отвлекло появление в дальнем коридоре потрясающе красивого молодого блондина. Он был одет в шикарный вечерний костюм. Впечатление портили лишь совершенно неуместные здесь фиолетовые очки. И я в свойственной мне манере упивался его внешностью, пока с полукомическим ужасом не осознал, что смотрю на самого себя!
Это был Джеймс – в черном смокинге и накрахмаленной рубашке; из-под модных линз он осматривал помещение и медленно продвигался к этому фойе.
У меня в груди все невыразимо сжалось. Каждый мускул моего тела свело в спазме волнения. Я очень медленно поднял руку, чтобы подпереть ею лоб, и чуть-чуть наклонил голову, снова отводя взгляд влево.
Но как же он не видит меня острыми сверхъестественными глазами? Темнота для него не преграда. Ну разумеется, он уловит исходящий от меня запах страха – под рубашкой у меня льет пот.
Однако дьявол меня не заметил. Вместо этого он уселся в баре ко мне спиной и повернул голову направо. Мне были видны только очертания щеки и челюсти. И когда он впал в явно расслабленное состояние, я понял, как он рисуется – сидит, облокотившись о полированное дерево, слегка изогнув правую ногу в колене и зацепившись каблуком за латунную перекладину своего табурета.
Он мягко покачивал головой в такт медленной музыке. От него веяло приятной гордостью, едва уловимым довольством тем, что он есть и где находится.
Я медленно сделал глубокий вдох. Далеко за ним, на противоположном конце просторного зала, я безошибочно различил фигуру Дэвида, на секунду остановившуюся в открытых дверях. Потом она двинулась дальше. Слава Богу, он заметил чудовище, которое представало перед всем миром таким же нормальным – за исключением чрезмерной, кричащей красоты, – как и передо мной.
Когда меня охватил новый приступ страха, я стал намеренно представлять себе работу, которой не имел, в городе, где я никогда не жил. Я думал о невесте по имени Барбара, невероятно красивой и сводящей с ума, и о нашей ссоре, которой, конечно, никогда не было. Я забил себе голову такими картинами и думал о куче всякой всячины – о тропической рыбе, которую когда-нибудь хочу завести в аквариуме, и стоит ли пойти в Театральное фойе и посмотреть представление.
Это существо не обращало на меня внимания. Вскоре я осознал, что оно вообще никого не замечает. В том, как он сидел, чуть-чуть приподняв голову, явно наслаждаясь этим мрачным, довольно заурядным и положительно некрасивым местом, было что-то мучительное.
Ему здесь нравится, подумал я. Эти общественные места, пластмассово-мишурные, обладают некой частицей элегантности, и он пребывает в тихом восторге от того, что находится здесь. Ему даже не нужно, чтобы на него обращали внимание. Он сам не обращает внимания ни на кого, кто мог бы его заметить. Он живет в своем собственном внутреннем мирке, как и корабль, который на такой высокой скорости несется по теплым морям.
Даже сквозь страх это внезапно произвело на меня душераздирающее и трагическое впечатление. И я подумал – не выглядел ли перед остальными я, находясь в том теле, таким же нудным неудачником? Не казался ли я точно таким же жалким?
Отчаянно дрожа, я поднял бокал и проглотил напиток, словно лекарство, опять укрывшись за сплетением образов, обволакивая ими свой страх, даже подпевая про себя в такт музыке, почти рассеянно наблюдая за игрой мягких разноцветных огней на красивой золотистой голове.
Вдруг он соскользнул с табурета и, повернув налево, медленно, очень медленно прошел по темному бару, миновав меня, но так меня и не заметив, и вышел на более ярко освещенное пространство вокруг бассейна. Он высоко поднимал подбородок; он двигался таким медленным осторожным шагом, что казалось, ему больно, поворачивая голову на ходу то вправо, то влево, чтобы обследовать помещение. Потом в той же осмотрительной манере, свидетельствующей скорее о слабости, нежели о силе, он толкнул стеклянную дверь на внешнюю палубу и выскользнул в ночь.
Я не мог не пойти за ним. Я знал, что нельзя, но оказался на ногах прежде, чем успел остановиться, в голове висело облако моей фальшивой личности, я двинулся за ним, но остался стоять в дверях. Я увидел его вдали, на самом краю палубы, он опирался руками о поручни, и ветер яростно трепал его распущенные волосы. Он смотрел в небо и снова, казалось, погрузился в гордость и довольство, наслаждаясь, наверное, ветром и темнотой, немного покачиваясь, – как раскачиваются слепые музыканты, когда играют свою музыку, – упиваясь каждой секундой своего пребывания в этом теле, плывя по волнам счастья.
Меня опять охватило душераздирающее чувство узнавания. Неужели я выглядел таким же пустячным дураком в глазах тех, кто знал меня и осуждал? Жалкое, жалкое создание – тратить свою сверхъестественную жизнь не где-нибудь, а именно здесь, в этом до боли искусственном месте, среди жалких старых пассажиров, в неприметных покоях с безвкусными украшениями, в изоляции от великой вселенной, полной настоящих чудес.
Только спустя длительное время он слегка опустил голову и провел пальцами правой руки по отвороту смокинга. Кошка, вылизывающая свой мех, и та не выглядит такой расслабленной и самодовольной. Как любовно поглаживал он этот кусок ничтожной ткани! Это красноречивее говорило обо всей трагедии, чем любой другой его поступок.
Затем, повернув голову в одну сторону, в другую и увидев лишь пару пассажиров далеко справа от себя, которые смотрели в совершенно противоположном направлении, он неожиданно оторвался от пола и сразу же исчез!
Конечно, на самом деле все было не так. Он просто поднялся в воздух. А я остался дрожать за стеклянной дверью, смотреть на опустевшее место и чувствовать, как покрываются потом мое лицо и спина. Я услышал, что Дэвид быстро шепчет мне на ухо:
– Пойдем, старина, идем ужинать в «Королевский Гриль».
Я обернулся и увидел на его лице напряженное выражение. Конечно, Джеймс еще достаточно близко, чтобы слышать нас обоих! Чтобы слышать все, что выходит за рамки заурядного, даже специально не прислушиваясь.
– Да, в «Королевский Гриль», – отозвался я, сознательно стараясь не вспоминать слова, сказанные Джейком вчера ночью: наш приятель еще не бывал в этом заведении. – Я не особенно голоден, но болтаться здесь ужасно утомительно, правда?
Дэвида тоже трясло. Но при этом он испытывал сильное возбуждение.
– Да, должен тебе сказать, – говорил он прежним фальшивым тоном, пока мы возвращались в фойе и направлялись к ближайшей лестнице. – Там все в «бабочках», но нас должны обслужить, мы же только что сели.
– Мне наплевать, пусть хоть голые ходят. Нам предстоит не ночь, а настоящий ад.
Прославленный ресторан первого класса оказался несколько более сдержанным и цивилизованным, чем прочие места, где мы успели побывать. Все отделано белой обивкой и черным лаком, щедрое теплое освещение – вполне приятно. Декор сильно отдавал хрупкостью, но это можно было сказать и обо всем судне; однако уродливого впечатления отнюдь не создавалось, да и аккуратно приготовленная пища была вполне вкусной.
Когда с момента отлета птички прошло минут двадцать пять, я рискнул высказать несколько наблюдений:
– Он не может использовать и одной десятой своей силы! Он от нее в ужасе.
– Да, я с тобой согласен. Он так перепуган, что двигается словно пьяный.
– Да, вот оно, ты попал в точку. Нас с ним и двадцать футов не разделяло, Дэвид. А он и не почувствовал моего присутствия.
– Знаю, Лестат, поверь мне, я знаю. Господи, я столькому тебя не научил. Я следил за тобой в ужасе, думал, что он выкинет какой-нибудь телекинетический фокус, а я не дал тебе ни малейших указаний, как отразить удар.
– Дэвид, если он действительно воспользуется своей силой, его ничто не остановит. Но ты сам видишь, он ей пользоваться не умеет. А нанеси он удар, я бы полагался на инстинкт, потому что именно этому ты меня и учил.
– Да, верно. Все дело в том, что в своем другом теле ты хорошо был знаком с подобными трюками. Вчера вечером у меня было ощущение, что самые уверенные победы ты одерживал, когда забывал, что ты смертный, и принимался вести себя по-старому.
– Может, и так, – сказал я. – Если честно, я не знаю. Но сам вид – он в моем теле!
– Ш-ш-ш, доедай свой последний ужин и говори потише.
– Мой последний ужин, – хихикнул я. – Когда я его поймаю, вот это будет ужин! – Тут я остановился, с отвращением вспомнив, что говорю о своей собственной плоти. Я посмотрел на длинные смуглые ладони, державшие серебряный нож. Чувствую ли я привязанность к этому телу? Нет. Мне нужно было мое собственное тело, и я не мог смириться с тем, что придется прождать еще целых восемь часов, прежде чем оно опять станет моим.
Только глубоко за полночь увидели мы его снова.
Я достаточно разобрался в обстановке, чтобы избегать маленького клуба «Лидо», так как это было лучшее место для танцев, а он их любил, и кроме того, там царила удобная темнота. Вместо этого я слонялся по более просторным местам отдыха, не забывая о темных очках и зализав волосы назад с помощью толстого куска жира, который по моей просьбе любезно дал мне смущенный молодой стюард. Я не возражал против такого кошмарного внешнего вида. Так я чувствовал себя неузнаваемым и находился в большей безопасности.
Когда мы заметили его, он снова был в одном из внешних коридоров и теперь двигался по направлению к казино. На этот раз наблюдать за ним пошел Дэвид – в основном потому, что не мог противостоять искушению.
Я хотел напомнить ему, что в нашу задачу не входит преследовать мерзавца. Все, что нам нужно, – это в подходящий момент напасть на каюту Королевы Виктории. Газетка, выпускавшаяся на пароходе, указывала точное время восхода солнца – шесть двадцать одна. Я засмеялся про себя, но ведь я больше не мог с легкостью угадывать такие вещи. Ничего, в шесть двадцать одну я снова буду самим собой.
Наконец Дэвид вернулся к креслу рядом со мной и взял газету, которую перед этим упорно читал при свете настольной лампы.
– Он у рулетки, причем выигрывает. Чтобы выиграть, паршивец использует свои телекинетические способности! Какой же он дурак.
– Да, ты об этом без конца говоришь, – сказал я. – Давай поговорим о наших любимых фильмах, хочешь? Что-то в последнее время Рутгера Хауэра не видно. Скучаю я без этого парня.
Дэвид коротко рассмеялся.
– Да, я и сам очень люблю этого голландца.
В двадцать пять минут четвертого мы все еще тихо разговаривали, когда мимо нас опять прошелся красавчик мистер Дж. Гамильтон. Медлительный, мечтательный, обреченный. Когда Дэвид шевельнулся, чтобы проследить за ним, я положил свою руку на его.
– Не надо, друг. Осталось всего три часа. Расскажи мне сюжет того старого фильма, «Тело и душа». Помнишь его? И кстати, там не было строчки из Блейка – про тигра?
В десять минут седьмого небо уже заливал молочный свет. Именно в такой момент я обычно искал себе убежище и сейчас не представлял себе, что он еще этого не сделал. Мы найдем его в блестящем черном сундуке.
После начала пятого, когда он в пьяной медлительной манере танцевал на площадке опустевшего клуба «Лидо» с седовласой женщиной маленького роста в красивом мягком красном платье, мы его не видели. Мы стояли на расстоянии, не заходя в бар, прислонившись спинами к стене, и слушали резкий поток его вежливой, ужасно вежливой британской речи. Потом мы оба сбежали.
Теперь же момент настал. Хватит от него бегать. Долгая ночь клонится к концу. Мне несколько раз приходило в голову, что в течение следующих нескольких минут я могу погибнуть, но эта мысль никогда в жизни меня не останавливала. Если бы я думал о том, что Дэвид подвергнется опасности, я бы совершенно потерял мужество.
Дэвид никогда еще не был настроен так решительно. Он только что достал большой серебристый револьвер из каюты на пятой палубе, и теперь он лежал у него в кармане. Мы оставили сундук открытым, наготове; на двери висела табличка: «Не беспокоить», – чтобы не зашли стюарды. Также мы решили, что черный револьвер я с собой не возьму, ибо в таком случае после обмена оружие окажется в руках Джеймса. Каюту мы не заперли. Ключи же мы оставили внутри, так как носить их с собой значило идти на риск. Если какой-нибудь услужливый стюард и запрет каюту, мне придется открыть замок телепатически, что для прежнего Лестата не составляло труда.
С собой в кармане пиджака у меня был только фальшивый паспорт Шеридана Блэквуда и деньги в достаточном количестве, чтобы этот дурак сбежал с Барбадоса в любую часть света, куда пожелает. Пароход уже направлялся в гавань Барбадоса. Если на то будет воля Господня, он пришвартуется быстро.
Мы тихо прошли к двери каюты Королевы Виктории, и Дэвид сунул ключ в замок. Мы немедленно оказались внутри. Открытый сундук был пуст. Дьявол еще не явился.
Не произнося ни слова, я выключил лампы одну за другой, подошел к дверям веранды и отдернул шторы. Синее небо еще сияло ночью, но с каждой секундой оно все больше и больше бледнело. Комнату залило приятное, мягкое освещение. Оно обожжет ему глаза. И заставит покраснеть от боли его незащищенную кожу.
Вне всякого сомнения, он уже идет сюда, иначе и быть не может, разве только у него есть второе, неизвестное нам укрытие.
Я вернулся к двери и встал слева от нее. При входе он меня не увидит, так как меня загородит открытая им самим дверь.
Дэвид поднялся по ступенькам к верхней гостиной и повернулся спиной к стеклянной стене, лицом к двери в каюту, крепко держа в руках револьвер.
Внезапно я услышал поспешно приближающиеся шаги. Я не осмелился сигналить Дэвиду, но видел, что и он это слышит. Существо почти бежало. Я изумился его отваге. И когда в двери скрипнул ключ, Дэвид поднял револьвер и прицелился.
Дверь распахнулась и хлопнула; Джеймс, чуть ли не спотыкаясь, вошел в комнату. Он поднял руку, чтобы заслониться от проникающего сквозь стеклянную стену света, пробормотал придушенное ругательство, явно проклиная стюардов за то, что они не задернули шторы, как им было велено.
В своей обычной неуклюжей манере он двинулся наверх, но тут остановился. Он увидел, что наверху, нацелив на него револьвер, стоит Дэвид, и тогда Дэвид крикнул:
– Давай!
Всем своим существом я набросился на него, моя невидимая часть взлетела вверх, вылетела из смертного тела и с несоизмеримой силой кинулась на мою прежнюю оболочку. Меня мгновенно отбросило назад! Я с такой скоростью вернулся в свое смертное тело, что оно шлепнулось о стену.
– Еще раз! – закричал Дэвид, но меня снова оттолкнули с головокружительной скоростью, и я с трудом подчинил себе тяжелые смертные конечности и вскарабкался на ноги.
Я увидел, как надо мной замаячило мое старое вампирское лицо, комната осветилась ярче, и глаза покраснели и прищурились. Да, я знал, от какой боли он страдает! Я знал, в какой он растерянности. Солнце сжигало его нежную кожу, так и не излечившуюся до конца после пустыни Гоби! Наверное, у него уже слабеют руки и ноги – с приближением дня неизбежно наступает немота.
– Ладно, Джеймс, игра окончена, – в нескрываемом бешенстве сказал Дэвид. – Пошевели мозгами!
Он повернулся, словно голос Дэвида резко привлек его внимание, но потом отступил, наткнулся на ночной столик, с противным громким звуком смяв плотный пластик, и вскинул руку, чтобы защитить глаза. В панике он увидел, какой устроил разгром, и попытался опять посмотреть на Дэвида, стоявшего спиной к восходящему солнцу.
– И что ты теперь намерен делать? – спросил Дэвид. – Куда тебе идти? Где тебе прятаться? Тронь нас – и каюту обыщут, как только обнаружат трупы. Все кончено, друг мой. Сдавайся.
Джеймс испустил глубокий рев. Он наклонил голову, как слепой бык, готовый к нападению. Увидев, как его руки сжимаются в кулаки, я исполнился отчаяния.
– Сдавайся, Джеймс, – крикнул Дэвид.
И когда тварь разразилась потоком проклятий, я еще раз бросился на него, движимый в равной степени как мужеством и смертной волей, так и паникой. Воду рассек первый горячий солнечный луч! Господи, сейчас или никогда, и отступать нельзя. Нельзя. Я столкнулся с ним в полную силу, проник в него, почувствовав удар парализующего электрического разряда, и лишился способности видеть; меня засасывало внутрь, в темноту, все ниже и ниже, словно гигантским пылесосом, и я закричал:
– Да, в него, в меня! Да, в мое тело! – И уставился прямо на вспышку золотого света.
Боль в глазах была невыносимой. Как жара в пустыне Гоби. Великое, конечное адское пламя. Но у меня получилось! Я попал в свое тело! А пламя – это восходящее солнце, опаляющее мое дорогое, бесценное сверхъестественное лицо и руки.
– Дэвид, мы победили! – заорал я, и слова выскочили из моего рта на безумной громкости. Я вскочил с пола, на который упал, вновь обретая всю свою восхитительную, великолепную быстроту и силу. Я вслепую кинулся к двери и в последний момент заметил свое бывшее смертное тело, на четвереньках карабкающееся к ступенькам.
Комната буквально разрывалась от жары и света, когда я выбрался в коридор. Мне нельзя было оставаться там ни секундой дольше, пусть даже я и услышал оглушающий выстрел, произведенный из мощного револьвера.
– Да поможет тебе Бог, Дэвид, – прошептал я. В мгновение ока я уже стоял у подножия первого лестничного пролета. Благодарение небу, в коридор не проникал солнечный свет, но мои знакомые сильные конечности уже слабели. Когда раздался второй выстрел, я уже перепрыгнул через перила лестницы А и бросился вниз, на пятую палубу, на ковер… и побежал.
Еще один выстрел я услышал перед тем, как попасть в каюту. Но он был такой слабый! Темная, загорелая рука, ухватившаяся за дверь, оказалась почти не в состоянии повернуть ручку. По моему телу снова побежали мурашки от холода, такие же, как во время прогулки по джорджтаунскому снегу. Но я толкнул дверь, она открылась, и я упал на колени – уже внутри комнаты. Пусть даже я потеряю сознание, от солнца я в безопасности.
Последним усилием воли я захлопнул дверь, втолкнул на место открытый сундук и свалился в него. Потом пришлось приложить все силы, чтобы потянуться за крышкой. Когда я услышал, что она закрылась, я уже ничего не чувствовал. Я лежал без движения, и с моих губ сорвался неровный вздох.
– Да поможет тебе Бог, Дэвид, – прошептал я. Зачем он стрелял? Зачем? И зачем было столько раз стрелять из этого большого, мощного оружия? И как мог весь мир не услышать этот шумный, большой револьвер?
Но никакая сила на земле не властна была дать мне возможность ему помочь. У меня закрывались глаза. А затем я поплыл в глубоком бархатном мраке, которого не знал с момента роковой встречи в Джорджтауне. Все завершилось, все было кончено. Я снова стал Вампиром Лестатом, а все остальное – ерунда. Все вообще.
Кажется, мои губы еще раз сложились в слово «Дэвид», как при молитве.
Глава 23
Не успев проснуться, я почувствовал, что ни Дэвида, ни Джеймса на пароходе нет. Не могу точно сказать, откуда я это знал. Знал, и все.
Кое-как расправив одежду и позволив себе насладиться несколькими мгновениями головокружительного счастья, смотрясь в зеркало и разминая мои чудесные пальцы рук и ног, я пошел убедиться, что их обоих нет на борту. Джеймса я и не надеялся найти. Но Дэвид. Что случилось с Дэвидом после выстрелов?
Три пули наверняка убили бы Джеймса! И, конечно, все это произошло в моей каюте – я, кстати, нашел свой паспорт на имя Джейсона Гамильтона, заботливо припрятанный в кармане, – так что я проследовал к сигнальной палубе в высшей степени осторожно.
Там повсюду бегали стюарды, разнося вечерние коктейли и убирая комнаты тех, кто уже отправился на ночные приключения. Я воспользовался всем своим мастерством, чтобы быстро проскочить по проходу в апартаменты Королевы Виктории, оставшись незамеченным.
В каюте явно навели порядок. Черный лакированный рундук, который Джеймс использовал в качестве гроба, был закрыт, покрывало на нем – разглажено. Разгромленный, разбитый столик у кровати убрали, но на стене осталась царапина.
Крови на ковре не было. И вообще не было никаких улик, указывающих на то, что здесь произошла страшная схватка. И сквозь стеклянные окна веранды я увидел, что мы двигаемся из гавани Барбадоса в открытое море под великолепной, сияющей завесой сумерек.
Я на минуту шагнул на веранду, просто посмотреть на безграничную ночь и по-новому порадоваться своему истинно вампирскому зрению. На далеких блестящих берегах я видел миллионы деталей, недоступных смертному взору. Я так разволновался, ощущая прежнюю физическую легкость, гибкость, грациозность, что мне захотелось танцевать. Неплохо было бы пройтись в чечетке с одного борта парохода на другой, щелкая пальцами и распевая песни.
Но на это у меня времени не было. Нужно было немедленно выяснить, что же произошло с Дэвидом.
Открыв дверь в коридор, я быстро и безмолвно поработал над замком каюты Дэвида, расположенной напротив. Потом, на рывке сверхъестественной скорости я вошел в нее, незримый для тех, кто двигался по холлу.
Все исчезло. Каюту даже убрали и подготовили для нового пассажира. Очевидно, Дэвида заставили сойти с корабля. Он, должно быть, сейчас на Барбадосе! Если так, я быстро его найду.
А как же вторая каюта – та, которая принадлежала мне, когда я был смертным? Я открыл смежную дверь, не прикасаясь к ней, и обнаружил, что и эта комната опустела и была убрана.
Как же быть дальше? Я не хотел оставаться на пароходе дольше, чем потребуется, поскольку стоит им меня найти, и я наверняка окажусь в центре внимания. Разгром все-таки произошел в моих апартаментах.
Я услышал легко различимую поступь стюарда, который ранее оказал нам услугу, и открыл дверь как раз в тот момент, когда он собирался пройти мимо. Увидев меня, он ужасно смутился и взволновался. Я сделал ему жест зайти внутрь.
– Ох, сэр, вас же повсюду ищут! Они решили, что вы сошли на берег на Барбадосе! Я немедленно должен связаться со службой безопасности.
– Да, но расскажите мне, что же произошло, – сказал я, впиваясь взглядом в его глаза. Я заметил, что чары сработали, он смягчился и впал в состояние полного доверия.
На рассвете в моей каюте случилось кошмарное происшествие. Пожилой британский джентльмен – который раньше, кстати, утверждал, что он мой врач, – несколько раз выстрелил в напавшего молодого человека, который, согласно его заявлению, пытался его убить, но ни один из выстрелов не попал в цель. Напавшего молодого человека никто не смог разыскать. На основании описания пожилого джентльмена было установлено, что этот молодой человек занимал ту самую каюту, где мы сейчас и стоим, и что он сел на пароход под вымышленным именем.
То же самое можно сказать и о британском джентльмене. Фактически путаница в именах играет в этом деле немаловажную роль. Стюард не особенно знал, что произошло, знал только, что пожилого британского джентльмена взяли под охрану, пока в конце концов его не препроводили на берег.
Стюард был озадачен.
– Думаю, они испытывали облегчение, ссадив его с парохода. Но мы должны вызвать офицера службы безопасности, сэр. Они очень волнуются о вашем благополучии. Удивительно, что вас не остановили, когда вы сели на пароход на Барбадосе. Вас весь день ищут.
Я отнюдь не был уверен, что мне хочется подвергаться проверке офицеров службы безопасности, но все вскоре разрешилось, когда перед дверью в каюту Королевы Виктории появились двое мужчин в белой форме.
Я поблагодарил стюарда и приблизился к этим двум джентльменам, пригласил их в свой номер, отошел поглубже в тень, как я по обыкновению поступаю в ходе подобных столкновений, и попросил прощения за то, что не включаю свет. Света, проникающего сквозь двери веранды, вполне достаточно, объяснил я, учитывая плохое состояние моей кожи. Оба человека были сильно обеспокоены и настроены подозрительно, так что в ходе разговора я изо всех сил постарался наложить и на них чары убеждения.
– Что случилось с доктором Стокером? – спросил я. – Это мой личный врач, и я очень беспокоюсь.
Офицер помоложе, очень краснолицый человек с ирландским акцентом, явно не поверил моим словам и почувствовал, что с моими манерами и речью что-то не совсем так. Единственной моей надеждой оставалось совершенно запутать эту личность, чтобы он хранил молчание.
Но второй, высокий образованный англичанин, гораздо легче поддавался воздействию и бесхитростно начал изливать мне всю историю.
Доктор Стокер на самом деле вроде бы не доктор Стокер, а англичанин по имени Дэвид Тальбот, хотя он и отказался назвать причину, побудившую его взять вымышленное имя.
– Представляете, сэр, у этого мистера Тальбота на борту было оружие! – воскликнул офицер, в то время как его напарник не сводил с меня глаз, выражавших укоренившееся немое недоверие. – Конечно, эта организация в Лондоне, эта Таламаска, или как там ее, принесла глубочайшие извинения и всячески стремилась все исправить. В конце концов все было улажено с капитаном и с кем-то из головного офиса «Канарда». Против мистера Тальбота не выдвинуто никаких обвинений, раз он согласился упаковать свои вещи, в сопровождении охраны сойти на берег и сесть на самолет, немедленно отправляющийся в Соединенные Штаты.
– Куда именно в Соединенных Штатах?
– В Майами, сэр. На самом деле именно я сопровождал его до самолета. Он настоял, чтобы я передал сообщение для вас, сэр, – вы должны встретиться с ним в Майами, когда вам будет удобно. В отеле «Сентрал-Парк». Он повторял это сообщение без конца.
– Понятно, – ответил я. – А тот, кто напал на него? Человек, в которого он стрелял?
– Мы такого человека не нашли, сэр, хотя, вне всякого сомнения, раньше этого человека на пароходе видели без конца, причем в обществе мистера Тальбота! На самом деле, вон там расположена каюта этого молодого человека – кажется, когда мы пришли, вы стояли внутри и разговаривали со стюардом?
– Все это в высшей степени непонятно, – сказал я самым интимным и доверительным тоном. – Думаете, этого молодого человека с темными волосами на пароходе больше нет?
– Мы практически уверены, сэр, однако, разумеется, невозможно провести тщательный обыск на таком большом судне. Когда мы открыли его каюту, в ней все еще лежали его вещи. Конечно, мы были вынуждены ее открыть, так как мистер Тальбот настаивал, что молодой человек напал на него, а также – что он путешествовал под вымышленным именем! Мы, конечно, храним его багаж в надежном месте. Сэр, если бы вы прошли со мной к капитану, вы, возможно, могли бы пролить некоторый свет на…
Я поспешил уверить его, что ничего об этом не знаю, в это время меня вообще в каюте не было. Вчера я сошел на берег на Гренаде, и даже не знал, что кто-то из них сел на судно. А сегодня утром я высадился на Барбадосе и целый день смотрел достопримечательности, даже не зная, что произошла стрельба.
Но вся эта спокойная хитроумная болтовня с моей стороны была не более чем прикрытием для продолжения внушения им обоим – они должны оставить меня, чтобы я переоделся и немного отдохнул.
Захлопнув за ними дверь, я знал, что они идут в каюту капитана и до их возвращения остается всего несколько минут. Какая разница? Дэвид в безопасности; он покинул корабль и уехал в Майами, где мы с ним и встретимся. Больше я ничего выяснять не хотел. Слава Богу, он смог без промедления вылететь с Барбадоса. Ибо одному Богу известно, где сейчас Джеймс.
Что касается мистера Джейсона Гамильтона, чей паспорт я носил в кармане, у него в этом номере оставался полный шкаф одежды, и я намеревался сразу же кое-чем воспользоваться. Я сорвал с себя помятый смокинг и прочие ночные наряды – вампирские шмотки, par excellence! – и нашел хлопчатобумажную рубашку, приличную льняную куртку и брюки. Конечно, все это было искусно сшито по меркам этого тела. Удобно сидели даже хлопчатобумажные туфли.
Я прихватил с собой паспорт и ощутимую сумму американских денег, найденных мной в старой одежде.
Потом я опять вышел на веранду и застыл на приятном ласкающем ветру, мечтательно обводя глазами темно-синее светящееся море.
«Королева Елизавета II» с грохотом неслась вперед на великолепной скорости в двадцать восемь узлов, и яркие прозрачные волны разбивались о ее могучий нос. Остров Барбадос окончательно исчез из поля зрения. Я взглянул вверх, на огромную черную дымовую трубу, которая размерами своими производила впечатление трубы адской печи. Потрясающее зрелище – валившая из нее струя густого серого дыма, изгибающаяся назад, как арка, доходя по воле несмолкающих порывов ветра до самой воды.
Я бросил еще один взгляд на далекий горизонт. Весь мир заполнился прозрачным, прекрасным лазурным светом. За тонким слоем тумана, невидимого смертному глазу, я следил, как мимо медленно-медленно проплывают крошечные мигающие созвездия и мрачные сияющие планеты. Я распрямил руки и ноги, наслаждаясь этим ощущением и приятным волнением, пробежавшим по плечам и спине. Я встряхнулся, радуясь тому, что чувствую прикосновение волос к шее, и облокотился о перила.
– Я тебя поймаю, Джеймс, – прошептал я. – Можешь не сомневаться. Но сейчас у меня есть другие дела. Можешь пока продолжать строить свои пустые планы.
Потом я медленно поднялся вверх – так медленно, как только смог, – пока не воспарил над судном высоко-высоко, и посмотрел на него сверху, восхищаясь многочисленными палубами, расположенными одна над другой, отороченными бессчетными желтыми огоньками. Он казался таким праздничным, таким далеким от любых забот. Он храбро продвигался вперед по бурлящему морю, немой, могущественный, унося с собой маленькое царство танцующих, обедающих, болтающих существ, деловых офицеров службы безопасности, суетливых стюардов, сотни и сотни счастливых созданий, которые и не подозревали о нашем присутствии и нашей небольшой драме, о том, что мы исчезли так же быстро, как и появились, оставив за собой лишь незначительную путаницу. Я пожелал мира счастливой «Королеве Елизавете II» и опять-таки понял, за что ее любил Похититель Тел и зачем прятался на ней, пусть он и был жалкой дешевкой.
В конце концов, что такое весь наш мир для далеких звезд? Что они думают о нашей крошечной планете, хотел бы я знать, полной безумных наложений, случайностей, нескончаемой борьбы, расползшихся по ней прочно перемешанных цивилизаций, которая остается цельной не благодаря воле, вере или совместным устремлениям, но благодаря некой сказочной способности миллионов ее жителей забывать о трагедиях жизни и вновь и вновь отдаваться счастью, как отдаются ему пассажиры того кораблика – словно счастье свойственно всем им не меньше, чем голод, сон, любовь к теплу и боязнь холода.
Я поднимался все выше и выше, пока пароход совсем не исчез. По представшему передо мной миру гнались облака. А наверху горели холодные царственные звезды, и впервые я их не ненавидел; нет, я не мог их ненавидеть, я ничто не мог ненавидеть; слишком велики были моя радость и темное горькое торжество. Я был Лестатом, плывущим между адом и раем, и довольствовался этим – возможно, впервые в жизни.
Глава 24
Тропические леса Южной Америки – необъятные густые сплетения лесов и джунглей, покрывающие континент миля за милей, захватывающие склоны гор и толпящиеся в глубоких долинах, уступающие дорогу лишь широким сверкающим рекам и мерцающим озерам, – мягкие, зеленеющие, буйные и внешне безобидные, если смотреть на них сверху, сквозь несомые ветром облака.
Если же встать на мягкую, влажную почву, то оказываешься в кромешной тьме. Деревья такие высокие, что над ними нет неба. Да, сотворение – это всего лишь борьба и опасность среди густых влажных теней. Это конечное торжество Сада Зла, и всем ученым цивилизации никогда до конца не классифицировать все виды разрисованных бабочек, пятнистых кошек, плотоядных рыб или гигантских свернувшихся змей, ведущих бурную жизнь в этих местах.
В мокрых ветвях мелькают птицы с оперением цвета летнего неба или пылающего солнца. Обезьяны кричат и тянут крошечные умелые лапы к лианам, толстым, как канат, зловещие млекопитающие тысячи форм и размеров крадутся в беспощадной охоте друг на друга по чудовищным корням и полузарытым в земле клубням, под шелестящими гигантскими листьями, взбираются на изогнутые стволы молодой поросли, умирающей в зловонной темноте, несмотря на то что она высасывает из земли последний питательный глоток.
Цикл голода и насыщения, насильственной и болезненной смерти бездумен и бесконечно энергичен. Рептилии с твердыми и блестящими, словно опалы, глазами извечно питаются корчащейся вселенной жестких трескучих насекомых, как питались в те дни, когда по земле не ступало ни одно теплокровное существо. А насекомые – крылатые, клыкастые, накачанные смертоносным ядом, ослепительные в своей мерзости и отталкивающей красоте, и прежде всего коварные, – в конечном счете питаются всеми.
В этих лесах нет места милосердию. Ни милосердию, ни справедливости, ни благоговейному преклонению перед их красотой, ни тихому вскрику радости при виде прекрасных струй дождя. Даже мудрая обезьянка в сердце своем – моральный идиот.
Это значит, что до прихода человека таких понятий не существовало.
Сколько тысячелетий тому назад это происходило, никто точно не скажет. Джунгли пожирают собственные кости. Они спокойно проглатывают священные рукописи, вгрызаясь в более упрямые камни замков. Ткани, плетеные корзины, расписанные горшки и даже украшения из кованого золота в результате растворяются в их пасти.
Но, вне всякого сомнения, здесь уже много веков обитают мелкотелые темнокожие люди, сбиваясь в хрупкие деревеньки, состоящие из хижин, крытых пальмовыми листьями, и дымных костров для приготовления пищи, охотясь на водящуюся здесь в изобилии смертельно опасную дичь с помощью примитивных пик и дротиков, смазанных смертоносным ядом. Где-то, как и прежде, они устраивают аккуратные фермочки, чтобы выращивать толстый ямс, сочные зеленые авокадо, красный перец и кукурузу. Сладкую, нежную желтую кукурузу в больших количествах. Рядом с аккуратно выстроенными домишками ковыряются в песке куры. В загонах, сопя, сворачиваются жирные, лоснящиеся свиньи.
Кто эти люди – лучшее, что есть в Саду Зла, так как они традиционно воюют друг с другом? Или же просто ничем не выделяющаяся его частица, в конечном счете не более сложная, чем ползучая сороконожка или крадущийся ягуар с атласной шкурой, чем тихая большеглазая лягушка, до того ядовитая, что одно прикосновение к ее пятнистой спине непременно вызывает смерть?
Какое отношение многочисленные башни великого Каракаса имеют к этому раскинувшемуся неподалеку бескрайнему миру? Откуда пришла эта южноамериканская метрополия с полным смога небом и холмами, кишащими громадными трущобами? Красота есть красота, где бы она ни встретилась. По ночам даже так называемые «ранчито» – тысячи тысяч хижин, покрывающих крутые склоны по обе стороны ревущих шоссе, – прекрасны, пусть в них нет ни воды, ни канализации, пусть по современным нормам комфорта и здравоохранения они перенаселены, все равно они оснащены ярким, сияющим электрическим светом.
Иногда складывается такое ощущение, что свет меняет все! Это безусловная, неоспоримая метафора для обозначения красоты. Но известно ли это жителям «ранчито»? Пользуются ли они светом ради красоты? Или просто ради удобства хотят освещать свои хижины?
Это не имеет значения.
Мы не можем прекратить творить красоту. И не можем запретить это миру.
Взгляните сверху на реку, что течет мимо маленькой заставы Сен-Лоран, на ленточку света, что на миг проблескивает то здесь, то там, сквозь деревья, все глубже и глубже забирается в лес и наконец добирается до маленькой миссии Святой Маргариты-Марии – скопища домиков на поляне, вокруг которой терпеливо ожидают джунгли. Ну разве оно не прекрасно, это скопление строений с жестяными крышами, с белеными стенами, с освещенными оконцами и звуками доносящейся из радиоприемника высокой песни с индейскими словами под веселый барабанный бой?
Какое симпатичное крыльцо у маленьких бунгало с разбросанными повсюду качалками, скамьями и стульями. Ширмы на окнах придают комнатам мягкое сонное очарование, так как набрасывают плотную сеточку из тонких линий на цвета и формы, тем самым несколько четче их обрисовывают, благодаря чему те становятся еще заметнее и живее, а также более нарочитыми – как интерьеры на картинах Эдварда Хоппера или в детских книжках с яркими картинками.
Конечно, существует способ остановить этот безудержный размах красоты. Он связан с регламентацией, согласованностью, конвейерной эстетикой и торжеством рационального над беспорядочным.
Но здесь такого не найти!
Вот она, судьба Гретхен, из которой вырваны все тонкости современного мира – лаборатории для единого повторяющегося морального эксперимента: Сеять Добро.
Зря поет ночь песнь хаоса, голода и разрушения вокруг этого маленького лагеря. Главное здесь – уход за ограниченным числом людей, которые пришли сюда с целью получения вакцинации, хирургической помощи, антибиотиков. Как говорила сама Гретхен – думать о более крупной картине значит лгать.
Я часами бродил большими кругами в густых зарослях, беззаботный и сильный, пробирался сквозь непроходимую листву, взбирался на высокие фантастические корни тропических деревьев, иногда останавливался, чтобы послушать гулкий переплетенный хор ночных джунглей. Повыше, на более зеленых ветвях, дремлющих в ожидании утреннего солнца, росли нежные мокрые восковые цветы.
Я опять оказался выше страха перед влажным, рассыпающимся уродством развития. Болотистая ложбина распространяла зловоние разложения. Скользкие твари не могли причинить мне вред и поэтому не вызывали отвращения. Да, пусть за мной придет анаконда. Мне понравятся ее крепкие быстрые объятия. Я упивался гулким, резким криком птиц, наверняка предназначенным для того, чтобы вселять ужас в сердца попроще. Очень жаль, что в этот темный час обезьянки с волосатыми руками уже спят, – мне бы так хотелось изловить их ненадолго, чтобы запечатлеть поцелуи на их хмурящихся лбах или безгубых болтливых ртах.
А бедные смертные, спящие в многочисленных домиках на поляне рядом с аккуратно вспаханными полями, со школой, с больницей и с церковью, до последней заурядной мелочи представлялись мне божественным чудом созидания.
Я соскучился по Моджо. Почему его здесь нет, почему он не бродит со мной по джунглям? Нужно его выдрессировать, превратить в настоящую собаку вампира. Мне в голову пришли картины, как в течение дня он охраняет мой гроб – часовой в египетском стиле, которому дана команда разорвать горло всякому смертному, который отыщет лестницу, ведущую в святилище.
Но мы с ним уже скоро увидимся. За этими джунглями нас ждет целый мир. Закрыв глаза и превратив свое тело в хитроумный приемник, я услышал на расстоянии многих миль напряженный шум транспорта в Каракасе, резкий акцент усилившихся голосов, громкий грохот музыки мрачных проветривающихся берлог, где я притягивал к себе убийц, как мошек тянет к яркой свече, чтобы выпить их кровь.
Здесь же царил покой; в мягкой мурлыкающей тропической тишине утекал час за часом. С низкого облачного неба брызнул мерцающий дождь, прибивая пыль на поляне, испещряя точками чисто подметенные ступеньки школы, легко стуча по рифленым жестяным крышам.
В маленьких спальнях моргнули и погасли огни, как и в отдаленных домах. Только в глубине затемненной церкви с низкой башенкой и большим, блестящим, хранящим молчание колоколом мелькал тусклый рыжий свет. Чистые тропинки и выбеленные стены освещали желтые лампочки под круглыми металлическими абажурами.
Свет в первом из больничных зданий, где Гретхен работала одна, потускнел.
Я периодически видел ее профиль на фоне затянутого ширмой окна. Я мельком заметил ее у самых дверей, когда она села за стол, чтобы нацарапать на бумаге какие-то записи, наклонив голову; волосы ее были собраны на затылке.
В конце концов я бесшумно двинулся к входу, проскользнул в маленький захламленный офис, где одна-единственная лампа источала яркий свет, и подошел к ширме, за которой лежала сама палата.
Детская больница! Все кроватки – маленькие. Примитивные, простые, в два ряда. Не померещились ли они мне в глубокой полутьме? Или кровати действительно сделаны из грубого дерева и завешены сеткой? А что там на бесцветном столике, не огарок ли свечи на блюдце?
У меня внезапно закружилась голова; в глазах несколько помутнело. Не та больница! Я моргнул, пытаясь оторвать вневременные элементы от тех, которые поддавались объяснению. На хромовых подставках у кроватей поблескивали пластиковые пакеты с внутривенной питательной смесью, сияли нейлоновые трубки, спускающиеся к крошечным иголкам, торчащим из тонких хрупких ручек!
Это не Новый Орлеан! Это не та больница! Но взгляни на стены! Разве они не каменные? Я стер со лба тонкую блестящую пелену кровавого пота и уставился на испачканный в крови носовой платок. И нет ли на той дальней кроватке золотоволосой девочки? Меня опять захлестнул приступ головокружения. Мне показалось, что я смутно слышу высокий смех, веселый, полный легкой насмешки. Но это, конечно, голос птицы в окружающей бескрайней темноте. Никакой старой сиделки в домотканом платье до лодыжек и с платком на плечах. Уже несколько веков, как ее нет, и того здания тоже.
Но девочка застонала; на ее круглой головке заиграли отблески света. На одеяле я увидел ее пухлую ручку. И снова я попробовал прочистить глаза. Рядом со мной на пол упала темная тень. Да, смотри, сигнал тревоги с крохотными светящимися циферками, шкафы с лекарствами за стеклянной дверцей! Не та больница, другая больница.
«Так ты пришел за мной, отец? Ты сказал, что повторишь все заново».
– Нет, я ее не трону! Я не хочу ее обижать! – Я что, шепчу все это вслух?
Она сидела далеко-далеко, в маленьком кресле на самом конце узкой комнаты, болтая ногами, и волосы замысловатыми кудрявыми волнами падали на взбитые рукава.
«А, ты пришел за ней. Ты сам знаешь, что это правда».
«Ш-ш-ш, ты разбудишь детей! Уходи. Тебя здесь нет!»
«Все знали, что ты одержишь победу. Все знали, что ты поразишь Похитителя Тел. И вот… ты пришел за ней».
«Нет, не за тем, чтобы причинить ей зло. Но чтобы предоставить ей возможность выбора».
– Месье? Я могу вам помочь?
Я поднял глаза на стоящего передо мной человека, на доктора с испачканными бакенбардами и крошечными очками. Нет, не тот доктор! Откуда он взялся? Я уставился на табличку с именем. Мы во Французской Гвиане. Вот почему он говорит по-французски. А в конце палаты нет никакого стула, и ребенка тоже нет.
– Увидеть Гретхен, – прошептал я. – Сестру Маргариту. Я думал, что она в этом здании, так как разглядел ее через окно. – Я знал, что она здесь.
Глухой шум в конце палаты. Ему не слышно, зато слышно мне. Идет. Я внезапно уловил ее запах, смешанный с запахом детей и стариков.
Но даже эти глаза не справлялись с невыносимым мраком. Откуда в этом помещении исходит свет? Она только что погасила крошечную электрическую лампочку у дальней двери и теперь шла, минуя кровать за кроватью, быстрым упругим шагом. Доктор сделал усталый жест и прошаркал мимо.
Не глазей на запачканные бакенбарды, не глазей на очки и сгорбленную спину. Ведь ты видел у него на кармане табличку с именем. Это не призрак!
Он вышел, волоча ноги, и за ним глухо хлопнула дверь.
Она остановилась в прозрачной темноте. Какие красивые волнистые волосы, убранные со лба, и какие красивые, большие, неподвижные глаза. Еще не увидев меня, она увидела мою обувь. И внезапно осознала, что здесь чужак, бледная беззвучная фигура – из меня не вырывалось даже звуков дыхания – в абсолютной тишине ночи, и ему здесь не место.
Доктор исчез. Казалось, его поглотили тени, но он, разумеется, оставался где-то там, в темноте.
Я стоял против света, сочившегося из офиса. Меня обволакивал ее аромат – кровь и чистый запах живого существа. Господи, видеть ее этими глазами, видеть ее блестящие щеки. Но я заслоняю свет, не так ли? Дверь совсем маленькая. Хорошо ли ей видны черты моего лица? Видит ли она жутковатый неземной цвет моих глаз?
– Кто вы? – Тихий, настороженный шепот. Она стояла вдалеке, остановившись на полпути в проходе, и смотрела на меня исподлобья, из-под темных, сведенных к переносице бровей.
– Гретхен, – отозвался я. – Это Лестат. Я пришел, я же обещал, что приду.
Ничто не дрогнуло в длинной узкой палате. Кровати словно застыли под сетками. Но по искрящимся пакетам с жидкостью двигался свет, как будто в смыкающейся тьме сверкали многочисленные серебристые лампочки. Я слышал тихое ровное дыхание спящих маленьких тел. И тупой ритмичный звук, как будто ребенок, играя, без конца стучит пяткой по стулу.
Гретхен медленно подняла правую руку и, инстинктивно защищаясь, положила пальцы на грудь, у основания горла. У нее ускорился пульс. Я увидел, как она сжала пальцы, как будто на медальоне, а потом на тонкой как нитка золотой цепочке блеснул свет.
– Что это у тебя на шее?
– Кто вы? – повторила она резким, скрежещущим шепотом, и у нее задрожали губы. В ее глазах отразился тусклый свет, исходящий из офиса. Она уставилась на мое лицо и руки.
– Это я, Гретхен. Я не причиню тебе вреда. Мне и в голову такое не приходило. Я пришел, потому что обещал прийти.
– Я… Я вам не верю. – Она попятилась по деревянному полу, тихо зашуршали резиновые подошвы.
– Гретхен, не пугайся меня. Я хотел, чтобы ты знала – я сказал тебе правду. – Я говорил так тихо. Ей меня слышно?
Я видел, что она, как я сам несколько минут назад, пытается прочистить глаза. Ее сердце неистово забилось, под жесткой белой хлопчатобумажной тканью красиво задвигалась грудь, а к лицу внезапно прилила густая кровь.
– Я здесь, Гретхен. Я пришел поблагодарить тебя. Держи, позволь мне отдать это тебе, для миссии.
Я как дурак полез в карманы, полными пригоршнями извлек оттуда барыши Похитителя Тел и протянул ей; у меня, как и у нее, дрожали пальцы, а деньги оказались грязными и дурацкими, как куча мусора.
– Возьми, Гретхен. Держи. Они помогут детям. – Я повернулся и опять увидел свечу – все ту же свечу! Откуда здесь свеча? Я положил рядом с ней деньги, услышав, как под весом моего тела скрипнули половицы, когда я шагнул к столику.
Когда я повернулся к ней, она направилась ко мне, опасливо, с широко раскрытыми глазами.
– Кто вы? – в третий раз прошептала она. Какие у нее большие глаза, какие темные зрачки, пляшущие по мне, как пальцы, тянущиеся к тому, обо что можно обжечься. – Еще раз прошу вас сказать мне правду!
– Лестат, которого ты выходила в своем собственном доме, Гретхен. Гретхен, я вернул свое настоящее тело. Я пришел, потому что обещал прийти.
Я едва мог сдерживаться; по мере того как усиливался ее страх, как каменели ее плечи, как плотно сжимались ее руки, как ладонь, державшая цепочку, задрожала, во мне распалялось былое бешенство.
– Я вам не верю, – сказала она тем же удушенным шепотом и отпрянула всем телом, хотя не сделала при этом ни шага.
– Нет, Гретхен. Не смотри на меня так, как будто ты меня боишься или презираешь. Что я тебе сделал, что ты так на меня смотришь? Ты знаешь мой голос. Ты знаешь, что ты для меня сделала. Я пришел поблагодарить тебя…
– Лжец!
– Нет, это неправда. Я пришел, потому что… потому что я хотел увидеть тебя снова.
Господи Боже, я что, плачу? Неужели мои эмоции стали такими же изменчивыми, как и моя сила? А она увидит полосы крови на моем лице и оттого испугается еще больше. Я не мог видеть выражение ее глаз.
Я повернулся и уставился на свечку. Своей невидимой силой я толкнул фитиль и увидел, как вверх подскочил желтый язычок пламени. Mon Dieu, на стене точно так же играют тени. Она охнула, переводя взгляд со свечи на меня, вокруг нас разлился свет, и она впервые отчетливо увидела глаза, остановившиеся на ней, волосы, обрамлявшие обращенное к ней лицо, блестящие ногти на руках, белые зубы, едва заметные за моими полуоткрытыми губами.
– Гретхен, не бойся меня. Во имя истины, посмотри на меня. Ты заставила меня пообещать, что я приду. Гретхен, я тебя не обманывал. Ты спасла меня. Я здесь, а Бога нет, ты сама мне говорила. В устах любого другого эти слова ничего не значили бы, но ты сама их произнесла.
Она отшатнулась, и ее руки потянулись к губам, выпустив цепочку, и при свете свечи я увидел золотой крест. Ну, слава Богу, крест, не медальон! Она сделала еще один шаг назад. Этих импульсивных движений она побороть не могла.
Тихим неверным шепотом зазвучали ее слова:
– Уходи от меня, нечистый дух! Уходи из дома Господня!
– Я тебя не трону!
– Уходи от этих малышей!
– Гретхен! Я не трону детей.
– Во имя Господа, уходи от меня… уходи.
Ее правая рука снова нащупала крест, и она наставила его на меня. Лицо раскраснелось, губы увлажнились, расслабились и затряслись в истерике, и когда она заговорила, в глазах не было мысли. Я увидел, что это распятие с крошечным искривленным телом мертвого Христа.
– Убирайся из этого дома. Сам Господь охраняет его. Он охраняет детей. Уходи.
– Во имя истины, Гретхен, – с чувством ответил я тихим, как и у нее, голосом. – Я же был с тобой! Я пришел.
– Лжец, – зашипела она. – Лжец! – Ее тело яростно шаталось, казалось, она сейчас потеряет равновесие и упадет.
– Нет, это правда. Если даже все остальное неправда, то это – правда. Гретхен, я не трону детей. И тебя не трону.
Через мгновение она наверняка окончательно потеряет рассудок, примется испускать беспомощные крики, вся ночь услышит ее, и каждая бедная душа в лагере выйдет наружу, чтобы позаботиться о ней и, возможно, начать вторить ее крику.
Но она стояла на месте, дрожала всем телом, и из открытого рта внезапно вырвались сухие всхлипывания.
– Гретхен, я ухожу, я оставлю тебя, если ты действительно этого хочешь. Но я сдержал свое обещание! Больше я ничего не могу сделать?
С одной из кроватей за ее спиной раздался вскрик, с другой – стон, и она стала оглядываться на эти звуки.
Потом стрелой метнулась в мою сторону, пронеслась мимо через маленький офис, задев бумаги, которые разлетелись со стола, и ширма, служившая дверью, хлопнула, когда она умчалась в ночь.
Я услышал ее далекие всхлипывания и развернулся как в тумане.
Тонким беззвучным туманом падал на землю дождь. Я увидел, что она уже пересекла поляну и спешит к церковным дверям.
«Я же сказала, что ты причинишь ей зло».
Я повернулся обратно и взглянул на темную длинную палату.
– Тебя здесь нет. Я с тобой покончил! – прошептал я.
Теперь, благодаря свече, ее было видно совершенно четко, хотя она и оставалась в дальнем конце комнаты. Она все раскачивала ногой в белом чулке и ударяла по ножке стула каблуком черной туфельки.
«Уходи, – сказал я так ласково, как только мог. – Все кончено».
У меня по лицу катились-таки слезы, кровавые слезы. Заметила ли их Гретхен?
«Уходи, – повторил я. – Все кончено, я тоже ухожу».
Казалось, она улыбнулась, но она вовсе не улыбалась. Ее лицо превратилось в образчик невинности, в лицо с медальона из сна. Я застыл как загипнотизированный, глядя на нее, и образ остался на месте, но совершенно прекратил двигаться. А потом рассеялся.
Остался только пустой стул.
За ширмой жужжали мухи. Какой чистый дождь, теперь он барабанит по земле. Затем раздался мягкий нарастающий звук, словно небо медленно раскрыло рот и вздохнуло. Что-то я забыл. Что же? Свеча, да, задуй свечу, пока не начался пожар и не задел нежных малышей!
И посмотри на тот конец – маленький светловолосый ребенок в кислородной маске, лист помятого пластика сверкает, как будто он соткан из частиц и кусочков света. И как ты мог быть таким дураком, что зажег здесь огонь?
Пальцами я погасил свечу. Я опустошил все карманы. Я выложил все грязные, скрученные купюры, сотни и сотни долларов, а также несколько найденных мной монет.
А затем я вышел и медленно прошел мимо открытых дверей церкви. Сквозь ласковый ливень я услышал, как она молится, быстро и тихо что-то шепчет, а потом через открытый дверной проем я увидел, что она встала на колени у алтаря, за ней задрожало красноватое пламя свечи, и она простерла руки, сложенные в виде креста.
Я хотел уйти. В глубине моей израненной души мне казалось, что больше я ничего не хочу. Но что-то меня удержало. Я почуял резкий запах, в котором безошибочно определил запах свежей крови.
Он исходил от церкви и принадлежал не горячей крови, пульсирующей в ее теле, – это была кровь, хлещущая из открытой раны.
Я приблизился, стараясь не производить ни малейшего звука, пока не оказался в дверях. Запах усиливался. И тогда я увидел, что с ее простертых рук капает кровь. Я увидел, что по полу у ее ног текут ручейки крови.
– Избави меня от Зла, о Господь мой, прими меня к себе, Священное Сердце Иисуса, прими меня в объятия свои…
Я подошел ближе, но она меня не видела и не слышала. Ее лицо источало свет, благодаря дрожащей свече и сиянию внутри нее самой, великому всепоглощающему восторгу, который овладел ей и избавил от всего, что ее окружало, включая и темную фигуру, стоящую рядом.
Я взглянул на алтарь. Наверху, над ним, висело гигантское распятие, а внизу поблескивала крошечная дарохранительница, и за красным стеклом горела свеча, что означало: здесь совершается Святое причастие. В открытые церковные двери ворвался ветер. Он задел колокол, издавший слабый жестяной звон, заглушаемый самим ветром.
Я опять опустил на нее глаза, на ее обращенное вверх слепое лицо, на ее расслабленный рот, из которого все равно доносились слова.
– Христос, мой возлюбленный Христос, прими меня в свои объятия.
И сквозь пелену слез я следил, как из ее открытых ладоней хлещет красная кровь – красная, густая, обильная.
В лагере послышались приглушенные голоса. Открывались и закрывались двери. Я услышал, как бегут люди по плотной земле. Повернувшись, я увидел темные силуэты, собравшиеся у входа, – сборище взволнованных женских фигур. Я услышал произнесенное шепотом французское слово, означающее «незнакомец». И сдавленный крик:
– Дьявол!
Я пошел прямо к ним по проходу, наверное заставив их разбежаться в стороны, хотя я никого из них не тронул и ни на кого не смотрел, и поспешил прочь, под дождь.
Там я повернулся и оглянулся. Она все еще стояла на коленях, а они собрались вокруг нее, и я услышал их тихие почтительные вскрики:
– Чудо!
– Стигматы!
Они крестились и падали вокруг нее на колени, а с ее губ продолжали срываться монотонные, как в трансе, молитвы.
– И Слово было с Богом, и Слово было Бог, и Слово стало Плотию.
– Прощай, Гретхен, – прошептал я.
И я исчез, свободный и одинокий, в теплых объятиях дикой ночи.
Глава 25
Нужно было той же ночью отправляться к Дэвиду. Я знал, что могу ему понадобиться. И, конечно, я понятия не имел, куда делся Джеймс.
Но у меня на это не оставалось сил – слишком сильное я испытал потрясение, – и к утру я оказался далеко на востоке от маленького государства Французской Гвианы, не выходя, однако, за пределы голодных расползшихся джунглей, испытывая жажду без всякой надежды на удовлетворение этой потребности.
Примерно за час да рассвета я набрел на древний храм – огромную прямоугольную каменную яму, – до того заросший ползучими растениями и прочей гниющей листвой, что даже для смертных, проходящих в нескольких футах от него, он, должно быть, оставался невидимым. Но так как через эту часть джунглей не проходило ни дороги, ни даже тропинки, я почувствовал, что здесь уже веками никто не бывал. Это место стало моей тайной.
Если не считать обезьян, проснувшихся с приближением солнца. Древнее здание подвергалось настоящей осаде со стороны племени обезьян, гикающих, испускающих пронзительные крики и роящихся на длинной плоской крыше и покатых стенах. Я наблюдал за ними тупо, бездумно, даже улыбаясь, а они выделывали свои фокусы. Джунгли возрождались. Хор птиц значительно усилился по сравнению с часами кромешной тьмы, небо бледнело, и я увидел, что меня окружают мириады оттенков зеленого. И в шоке я осознал, что солнца мне не увидеть.
Моя глупость в этом отношении несколько меня удивила. Но как же глубоко укореняются наши привычки. Да, но разве мне мало этого раннего света? Возвращение в прежнее тело наполняло меня неподдельной радостью…
…Пока я не вспоминал выражение неподдельного отвращения на лице Гретхен.
С земли поднимался густой туман, захватывающий это бесценное освещение и распылявший его по мельчайшим уголкам и щелям под дрожащими цветами и листьями.
Грусть моя усугубилась, когда я огляделся по сторонам; точнее, я чувствовал, что у меня все саднит, словно с меня заживо содрали кожу. «Грусть» – это слишком мягкое и приятное слово. Я вновь и вновь вспоминал о Гретхен, но лишь в бессловесных образах. А когда я подумал о Клодии, то онемел, безмолвно и ожесточенно припоминая слова, что сказал ей в горячечном бреду.
Доктор с грязными бакенбардами как будто вышел из страшного сна. Девочка-кукла на стуле. Нет, их там не было. Не было. Не было!
А если и были, какая разница? Абсолютно никакой разницы.
За этими глубокими, обессиливающими переживаниями я все-таки не чувствовал себя несчастным; и осознать, воистину понять это мне было удивительно. Ну да, снова стал самим собой.
Нужно рассказать об этих джунглях Дэвиду! Перед возвращением в Англию Дэвид должен съездить в Рио. Может быть, я поеду с ним.
Может быть.
В храме я обнаружил две двери. Первая была заблокирована тяжелыми несимметричными камнями. Но вторая стояла открытой, так как камни давным-давно развалились, образовав бесформенную груду. Я двинулся по лестнице, уходящей глубоко в землю, прошел по нескольким коридорам, пока не нашел помещения, куда свет не проникал вовсе. И в одном из них, очень прохладном, полностью отрезанном от шумов джунглей, я лег спать.
Здесь водились крошечные скользкие твари. Прижимаясь лицом к влажному прохладному полу, я почувствовал, как они двигаются вокруг кончиков моих пальцев. Я слышал, как они шуршат. И ощутил на лодыжке тяжелый шелковистый груз – змею. И не мог не улыбнуться.
Как бы тряслось и корчилось мое смертное тело. Но, с другой стороны, мои смертные глаза в это глубинное место никогда бы не заглянули.
Внезапно я задрожал и тихо заплакал, вспоминая о Гретхен. Я знал, что Клодия мне больше никогда не приснится.
– Чего ты от меня хотела? – прошептал я. – Ты серьезно считала, что я могу спасти свою душу? – Я увидел ее, как видел в бреду: в старой больнице Нового Орлеана, когда я взял ее за плечи. Или это было в старой гостинице? – Я же говорил тебе, что все сделаю заново. Говорил!
И тот момент кое-что спас. Спас темное проклятье Лестата, и теперь оно навеки останется в сохранности.
– Прощайте, мои милые, – повторил я.
И заснул.
Глава 26
Майами – ах, моя прекрасная южная метрополия, раскинувшаяся под полированным карибским небом, что бы там ни говорили различные карты! Воздух здесь казался еще слаще, чем на островах, и нежно обвевал вечную толпу на Оушн-драйв.
Поспешно пройдя через отделанный в стиле арт-деко вестибюль отеля «Сентрал-Парк» в номера, которые я там снимал, я сорвал с себя изорванную в джунглях одежду и нырнул в собственный гардероб в поисках белой водолазки, куртки с поясом и брюк цвета хаки, а также пары гладких коричневых кожаных ботинок. Приятно было освободиться от одежды, купленной Похитителем Тел, не важно, хорошо она сидела или нет.
Потом я сразу же позвонил портье и выяснил, что Дэвид Тальбот проживает в отеле со вчерашнего дня, а в настоящий момент ожидает меня на террасе ресторана «Бейлиз» – дальше по той же улице.
У меня не было настроения сидеть в людном общественном месте. Я уговорю его вернуться ко мне в номер. Безусловно, это испытание оставило его без сил. Гораздо удобнее будет поговорить здесь, в креслах за столиком у окна, а мы, конечно, собирались поговорить.
Я вышел и направился по оживленному тротуару на север, пока не увидел «Бейлиз» с характерной вывеской, написанный изящными неоновыми буквами, над красивыми белыми навесами; на розовых льняных скатертях стояли свечи, и первая волна вечерней толпы уже нахлынула на ресторан. В самом дальнем углу террасы виднелась знакомая, очень собранная фигура Дэвида в белом льняном костюме, который он носил на пароходе. Он посматривал вокруг в ожидании моего появления с обычным живым и любопытным выражением лица.
Несмотря на чувство облегчения, я намеренно застал его врасплох, скользнув на стул напротив так быстро, что он слегка вздрогнул.
– Ах ты, дьявол, – прошептал он. Я увидел, что его рот на минуту застыл, как будто от раздражения, но потом он улыбнулся. – Слава Богу, с тобой все в порядке.
– Ты, правда, думаешь, что здесь подходящее место? – спросил я.
Когда появился красивый молодой официант, я сказал ему, что хочу бокал вина, просто чтобы он не продолжал до бесконечности задавать этот вопрос. Дэвиду уже подали какой-то экзотический напиток жуткого цвета.
– Черт возьми, что же произошло на самом деле? – спросил я, наклоняясь над столиком поближе к нему, чтобы вытеснить часть обыденного шума.
– Настоящая бойня, – ответил он. – Он попытался напасть на меня, и мне пришлось воспользоваться оружием – другого выхода не было. Ему удалось выбраться на веранду, так как я не мог твердо удерживать чертов револьвер. Слишком он большой для этих старых рук. – Он вздохнул. Он выглядел усталым и внутренне обессиленным. – После этого вся сложность заключалась в том, чтобы позвонить в Таламаску и заставить их выпустить меня на поруки. Бесконечные звонки в Ливерпуль, в «Канард». – Он сделал пренебрежительный жест. – В полдень я уже летел в Майами. Конечно, мне не хотелось оставлять тебя на борту без присмотра, но у меня действительно не было выбора.
– Мне ни на секунду не угрожала ни малейшая опасность, – сказал я. – Я боялся за тебя. Я же сказал – за меня не бойся.
– Я и решил, что это тот самый случай. Конечно, я направил их на след Джеймса в надежде прогнать его с парохода. Мне стало ясно, что они и не подумают производить обыск во всех каютах судна. Так что я подумал, что тебя оставят в покое. Я почти уверен, что Джеймс высадился сразу после переполоха. Иначе его бы задержали. Я, естественно, снабдил их полным описанием.
Он замолчал, сделал осторожный глоточек своего замысловатого напитка и поставил его на стол.
– Тебе ведь он не нравится, да? Где же твой противный шотландский виски?
– Напиток островов, – сказал он. – Да, не нравится, но это не имеет значения. А как все прошло у тебя?
Я не ответил. Я, конечно, рассматривал его своими прежними глазами, его кожа казалась более прозрачной, и заметны стали все мелкие недостатки его тела. Но при этом он обладал чудесной аурой, свойственной всем смертным в глазах вампира.
Он выглядел утомленным, страдающим от нервного напряжения. Уголки глаз у него покраснели, и я опять увидел жесткую складку у рта. И отметил, как ссутулились его плечи. Неужели это ужасное испытание состарило его еще больше? Я не мог этого видеть. Но в его лице, обращенном ко мне, читалась неподдельная забота.
– С тобой стряслось что-то плохое, – сказал он, еще больше смягчаясь, протянул руку через стол и коснулся пальцами моей ладони. Какие теплые пальцы. – Это видно по глазам.
– Я не хочу здесь разговаривать, – сказал я. – Пойдем ко мне в номер, в отель.
– Нет, давай останемся здесь, – очень мягко ответил он. – Мне тревожно после случившегося. Для человека моего возраста это была настоящая пытка, правда. Я совсем без сил. Я надеялся, что ты придешь вчера вечером.
– Прости меня. Нужно было прийти. Я понимал, что для тебя это ужасное испытание, пусть даже ты и наслаждался самим процессом.
– Тебе так показалось? – Он улыбнулся, медленно и грустно. – Мне нужно выпить что-то другое. Что ты сказал? Шотландский виски?
– Что я сказал? Я думал, это твой любимый напиток.
– Периодами. – Он сделал знак официанту. – Иногда он кажется мне слишком крепким. – Он попросил один солодовый виски, если у них есть. У них не было. Chivas Regal подойдет. – Спасибо, что потворствуешь мне. Мне здесь нравится. Мне нравится тихое волнение. Мне нравится открытый воздух.
Даже в голосе его звучала усталость; в нем не хватало какой-то яркой искорки. Сейчас явно был неподходящий момент, чтобы предлагать ехать в Рио-де-Жанейро. И все из-за меня.
– Все, что пожелаешь, – сказал я.
– Теперь расскажи, что случилось, – с беспокойством сказал он. – Я вижу, у тебя тяжело на душе.
И тут я осознал, как сильно мне хотелось рассказать ему о Гретхен, осознал, что помчался сюда в равной степени как из-за беспокойства, так и из-за этого желания. Мне было стыдно, но я не мог удержаться. Я повернулся лицом к пляжу, облокотившись о столик, и мои глаза немного затуманились, так что вечерний мир теперь виделся мне в приглушенных тонах. Я рассказал, что пошел к Гретхен, так как дал ей слово, хотя в глубине души надеялся и молился, что смогу забрать ее в свой мир. А потом я описал больницу, невероятные странности – схожесть врача с доктором двухвековой давности, сама палата, безумное, сумасшедшее сознание того, что рядом Клодия.
– Я был обескуражен, – прошептал я. – Мне и не снилось, что Гретхен меня отвергнет. Знаешь, что я думал? Сейчас это прозвучит так глупо. Я думал, она сочтет меня неотразимым! Я думал, иначе и быть не может! Я думал, что, заглянув в мои глаза – мои настоящие глаза, а не те, смертные, она увидит истинную душу, которую она полюбила! Я не представлял себе, что она испытает отвращение, полное отвращение, как моральное, так и физическое, и что в тот момент, когда она поймет, кто я такой, она почувствует всепоглощающий ужас и отвернется от меня. Не понимаю, как я мог быть таким дураком и тешить себя иллюзиями! Это тщеславие? Или я просто спятил? Ты ведь никогда не находил меня отталкивающим, правда, Дэвид? Или я и на твой счет заблуждаюсь?
– Ты прекрасен, – прошептал он смягченным от чувства тоном. – Но ты неестествен, вот что увидела эта женщина. – Казалось, он глубоко потрясен. Никогда еще за все время его терпеливых бесед со мной не разговаривал он столь заботливо. Он выглядел так, словно переживал мою собственную боль – остро, всем своим существом. – Она была бы для тебя неподходящей спутницей, понимаешь? – доброжелательно спросил он.
– Да, понимаю. Понимаю. – Я подпер голову рукой. Мне хотелось, чтобы мы оказались у меня, в тишине комнаты, но я не настаивал. Я опять обрел в нем друга, какого у меня никогда в жизни не было, и я сделаю так, как он пожелает. – Знаешь, ты единственный, – внезапно сказал я, и мой голос тоже звучал измученно и устало. – Единственный, кто позволяет мне терпеть поражение, оставаясь самим собой, и при этом не отворачивается от меня.
– О чем ты?
– О чем? Все остальные проклинают меня за мою вспыльчивость, порывистость, волю! Им это не нравится. Но стоит мне проявить слабость, как меня выгоняют. – Я подумал о том, как меня отверг Луи, о том, что скоро его увижу, и исполнился злобного удовлетворения. Как же он удивится! Потом мной овладел некоторый страх. Как мне его простить? Как сдержать свой бешеный нрав и не взорваться огромной буйной вспышкой?
– Мы всегда унижаем своих героев, – ответил он очень медленно и почти грустно. – Мы их ломаем. Ведь они напоминают нам, что означает настоящая сила.
– Так вот в чем дело? – спросил я. Я обернулся и положил руки на стол, уставившись на бокал бледно-желтого вина. – Я по-настоящему силен?
– О да, в силе тебе не откажешь. Поэтому тебе завидуют, поэтому тебя ненавидят, поэтому с тобой так резко обходятся. Но не мне тебе рассказывать. Забудь эту женщину. Это было бы ошибкой, ужасной ошибкой.
– А ты, Дэвид? С тобой это не было бы ошибкой. – Я взглянул на него и, к своему удивлению, обнаружил, что его глаза увлажнились и совсем покраснели, а рот опять ожесточился. – В чем дело, Дэвид?
– Нет, это не было бы ошибкой, – сказал он. – Совершенно не представляю себе, в чем здесь ошибка.
– То есть…
– Возьми меня к себе, Лестат, – прошептал он и отпрянул, настоящий английский джентльмен, шокированный собственными эмоциями, которые явно не одобрял, и посмотрел поверх кружащейся толпы на далекое море.
– Ты серьезно, Дэвид? Ты уверен? – Честно говоря, мне не хотелось задавать вопросы. Не хотелось произносить ни слова. И все же – почему? Как он пришел к такому решению? До чего его довела моя безумная эскапада? Если бы не он, я не был бы сейчас Вампиром Лестатом. Но какую цену ему пришлось заплатить?
Я вспомнил о том, как мы стояли на пляже в Гренаде, как он отказался заниматься любовью – простой акт. Сейчас он переживает так же, как в тот момент. И внезапно для меня не осталось тайны в том, как он до этого дошел. Нашим совместным приключением с Похитителем Тел я сам подтолкнул его к решению.
– Идем, – сказал я. – Теперь действительно пора идти, подальше отсюда, туда, где мы сможем побыть вдвоем. – Меня трясло. Сколько раз я мечтал об этой минуте.
А она наступила так скоро, и мне еще нужно задать столько вопросов.
Вдруг меня охватила ужасная застенчивость. Я не мог смотреть на него. Я думал об интимности, которую нам предстоит пережить, и не мог смотреть ему в глаза. Господи, я веду себя так, как он вел себя в Новом Орлеане, когда я находился в том рослом смертном теле и приставал к нему со своим безудержным желанием.
Мое сердце колотилось от предвкушения. Дэвид, Дэвид в моих объятиях. Перетекающая в меня кровь Дэвида. А моя – в него; и мы окажемся на краю моря, темные бессмертные братья. Я едва мог говорить и даже думать.
Не глядя на него, я поднялся, пересек веранду и спустился по ступенькам. Я знал, что он идет за мной. Я чувствовал себя Орфеем. Один взгляд назад – и его оторвут от меня. Может быть, яркие фары проносящейся мимо машины выхватят из темноты мои волосы и глаза таким образом, что его парализует от страха.
Я шел впереди, по тротуару, мимо медлительно шествующих смертных в пляжных нарядах, мимо вынесенных на улицу столиков кафе. Я вошел прямо в «Сентрал-Парк», пересек фойе, сверкавшее ярким великолепием, и поднялся по лестнице в свой номер.
Я услышал, как он закрыл дверь за моей спиной.
Я стоял у окна и смотрел на светящееся вечернее небо. Сердце, успокойся! Не подгоняй. Мне слишком важно, чтобы каждый шаг был проделан как можно тщательнее.
Смотри, как быстро ветер отгоняет от рая облака. Звезды, блестящие точки, пробиваются сквозь бледный прилив сумерек.
Мне нужно столько сказать ему, столько объяснить. Он навсегда останется таким же, как в этот момент; нет ли какой-то мелочи во внешности, которую ему хочется изменить? Получше побриться, подстричь волосы?
– Это не имеет значения, – сказал он тихим, интеллигентным английским голосом. – Что с тобой? – Как будто это в меня нужно вселять уверенность. – Разве ты не этого хотел?
– О да, да. Но тебе нужно убедиться, что этого хочешь ты, – сказал я и только тогда повернулся.
Он стоял в тени, подтянутый, в аккуратном льняном костюме, у шеи должным образом завязан бледный шелковый галстук. Ему в глаза бил яркий уличный свет, на мгновение сверкнувший на крошечной золотой булавке в галстуке.
– Не могу объяснить, – прошептал я. – Все произошло так быстро, так неожиданно, а я был уверен, что все выйдет по-другому. Я боюсь за тебя. Боюсь, что ты совершаешь чудовищную ошибку.
– Я этого хочу, – сказал он, но каким напряженным тоном, каким мрачным, без прежней яркой лирической нотки. – Хочу больше, чем ты можешь себе представить. Давай, прошу тебя. Не продлевай мою агонию. Подойди ко мне. Как мне тебя просить? Как тебя убедить? У меня было больше времени, чем ты думаешь, чтобы поразмыслить над этим решением. Вспомни, как давно я знаю ваши тайны, все ваши тайны.
Как странно он изменился в лице, глаза стали жесткими, а рот – напряженным и горьким.
– Дэвид, что-то здесь не так, – сказал я. – Я чувствую. Послушай меня. Мы должны все обсудить вместе. Возможно, более важного разговора у нас еще не было и никогда не будет. Что случилось, почему ты решился? Что послужило причиной? Наше пребывание на острове? Объясни мне подробно. Я не понимаю.
– Ты зря теряешь время, Лестат.
– Да, но здесь нельзя торопиться, сейчас время имеет значение в самый последний раз.
Я приблизился к нему, намеренно вдыхая ноздрями его аромат, намеренно впуская в себя запах его крови, пробуждая в себе желание, которому было все равно, кто он такой, кто я такой – острый голод, стремящийся только к его смерти. Жажда изогнулась и хлестнула меня изнутри, как огромный хлыст.
Он отступил на шаг. Я увидел в его глазах страх.
– Нет, не пугайся. Думаешь, я причиню тебе зло? Если бы не ты, как бы я победил этого дурака, Похитителя Тел?
Его лицо застыло, глаза сузились, рот растянулся, как в гримасе. Как он жутко выглядит, совсем на себя не похож. Бога ради, что происходит у него в голове? Все неправильно – эти минуты, это решение. Ни радости, ни интимности. Все не так.
– Откройся мне! – прошептал я.
Он покачал головой, сверкнул глазами и снова прищурился.
– Разве этого не случится, когда польется кровь? – Какой ломкий голос! – Дай мне какой-нибудь образ, Лестат, чтобы думать о нем. Чтобы заслониться им от страха.
Я смутился. Я был не уверен, что понял, о чем он говорит.
– Может быть, думать о тебе, о том, как ты прекрасен, – ласково сказал он, – о том, что мы будем вместе, спутниками навеки? Это поможет?
– Думай об Индии, – прошептал я. – О лесах, о секвойях, о том времени, когда ты был так счастлив…
Я не закончил, я хотел добавить – нет, не то, но не понимал, зачем. И взметнувшийся во мне голод смешался с обжигающим одиночеством, я снова увидел Гретхен и выражение неподдельного ужаса на ее лице. Я подвинулся поближе: «Дэвид, Дэвид, наконец-то… Давай! И покончим с разговорами. При чем здесь образы? Давай! Да что с тобой, чего ты боишься?»
И на этот раз я крепко схватил его обеими руками.
Его опять охватил спазм страха, но он не сопротивлялся, и я позволил себе на мгновение посмаковать эту буйную физическую близость, его высокое царственное тело в моих руках. Я провел губами по его темным седым волосам, вдыхая знакомый аромат, обвил пальцами его голову. И прежде чем я решился на это, мои зубы разорвали его кожу, мне на язык брызнула горячая соленая кровь, наполнившая весь рот.
Дэвид, Дэвид, наконец-то.
Начался поток образов – дремучие леса Индии, мимо с грохотом проносятся огромные серые слоны, неуклюже задирая ноги, кивая здоровыми головами, крошечные уши хлопают, как опавшие листья. Луч солнца рассекает лес. А где же тигр? О Господи, Лестат, тигр – это ты! Ты во всем виноват! Поэтому ты и не хотел, чтобы он о нем думал! И передо мной мелькнул Дэвид, Дэвид много лет назад в расцвете юности, он улыбался, и вдруг на долю секунды на эту картину наложилась – или выскочила из нее, как распустившийся цветок – другая фигура, другой мужчина. Худое, истощенное создание с седыми волосами и коварными глазами. Она переросла в фальшивый, безжизненный образ Дэвида, но я понял, что это Джеймс!
Человек, которого я держал в руках, был Джеймсом!
Я отшвырнул его, подняв руку, чтобы стереть с губ пролившуюся кровь.
– Джеймс! – взревел я.
Он упал, ударившись о кровать – глаза его затуманились, кровь текла на воротник, – и выбросил вперед руку.
– А теперь помедленнее! – выкрикнул он со знакомой интонацией, тяжело дыша; на его лице блестел пот.
– Будь ты проклят, отправляйся в ад! – ревел я, уставившись в безумно сверкающие глаза на лице Дэвида.
Я ринулся на него и услышал внезапный взрыв отчаянного безумного хохота и поток неразборчивой, поспешной речи.
– Дурак! Это тело Тальбота! Ты же не станешь трогать тело Тал…
Но было уже слишком поздно. Я пытался остановиться, но моя рука сомкнулась на его горле, я уже швырнул его тело об стену.
В ужасе я увидел, как он грохнулся о штукатурку. Увидел, как из его затылка хлынула кровь, услышал противный хруст пробитой стены и потянулся, чтобы схватить его; он упал прямо мне на руки. Он уставился на меня широкими бычьими глазами и отчаянно шевелил ртом, чтобы выдавить из себя слова.
– Смотри, что ты наделал, дурак, идиот. Смотри, что… Смотри, что…
– Оставайся в теле, подонок! – отвечал я, стиснув зубы. – Не давай ему умереть!
Он хватал ртом воздух. Из носа потекла тонкая струйка крови. Глаза закатились. Я поддерживал его в вертикальном положении, но ноги болтались, как у парализованного.
– Ты… дурак… позови маму, позови… Мама, мама, ты нужна Раглану… Не зови Сару, не говори Саре. Позови маму… – И тут он потерял сознание, голова свесилась вперед, я удержал его и уложил на кровать.
Я был в отчаянии. Что мне делать? Смогу ли я залечить рану своей кровью? Нет, рана внутренняя, задета голова, задет мозг. О Господи! Мозг. Мозг Дэвида.
Я схватил телефон, заикаясь, пробормотал номер комнаты, сказал, что произошел несчастный случай. Человек серьезно ранен. Он упал. У него случился удар! Необходимо немедленно вызвать скорую.
Я повесил трубку и вернулся к нему. Лицо Дэвида, тело Дэвида – на постели, в беспомощном состоянии! У него дрожали ресницы, левая рука разжалась, затем сжалась и опять разжалась.
– Мама, – прошептал он. – Приведи маму. Скажи, она нужна Раглану… Мама.
– Сейчас она придет, – сказал я, – дождись ее! – Я мягко повернул его голову набок. Но какая разница, по правде говоря? Пусть вылетает отсюда, если может. Этому телу уже не оправиться. Оно больше не сможет стать подходящим организмом для Дэвида.
Черт побери, а где же Дэвид?
По всему покрывалу растекалась кровь. Я прокусил себе запястье и уронил несколько капель на ранки на шее. Может быть, пара капель на губах чем-то поможет? Но что же мне делать с мозгом? О Господи, как я только мог.
– Глупо, – прошептал он, – как же глупо. Мама!
Левая ладонь принялась хлопать по постели из стороны в сторону. Потом я увидел, что всю руку сводит судорогой, а левая сторона рта без конца дергается вверх; глаза уставились в потолок, зрачки перестали двигаться. А кровь все хлестала из носа в открытый рот, заливая белые зубы.
– Ох, Дэвид, я не хотел, – прошептал я. – О Господи Боже, он умирает!
Кажется, он еще раз повторил слово «мама».
Но я уже слышал вой сирен, приближающихся к Оушн-драйв. В дверь стучали. Когда она распахнулась, я скользнул в сторону, а потом, невидимый, метнулся прочь из комнаты. По лестнице бежали другие смертные. Меня они замечали не больше, чем быструю тень. Я один раз остановился в вестибюле и, как в тумане, проследил за суетящимися клерками. Жуткие вопли сирен становились громче. Я повернулся, чуть не споткнулся в дверях и вышел на улицу.
– О Господи Боже, Дэвид, что я наделал?
Я вздрогнул от звука автомобильного гудка, но второй свисток выбил меня из ступора. Я стоял в самом центре проезжей части. Я попятился и отошел на песок.
Внезапно прямо перед отелем со скрежетом остановилась большая неуклюжая белая машина «скорой помощи». С переднего сиденья выскочил высокий молодой человек и помчался в вестибюль, его напарник распахнул заднюю дверь. В здании кто-то кричал. Я увидел, как в окне моей комнаты появилась чья-то фигура.
Я отошел еще дальше; у меня, как у смертного, дрожали ноги, руки по-дурацки вцепились в голову; сквозь затемненные солнечные очки я следил за этой жуткой сценой, смотрел, как неизбежно собирается толпа, как люди сворачивают с маршрута прогулки, как они поднимаются из-за столиков близлежащих ресторанов и подходят к входу в отель.
Теперь уже разглядеть что-то нормальным путем было невозможно, но я выхватил образы из мыслей смертных, и передо мной материализовалась вся сцена – по вестибюлю тащат тяжелые носилки, на них привязано беспомощное тело Дэвида, санитары оттесняют людей в сторону.
Дверцы «скорой помощи» захлопнулись. Опять раздался пугающий рев сирен, и машина помчалась Бог знает куда, унося с собой тело Дэвида.
Нужно было что-то делать! Но что я мог? Попасть в больницу, произвести над телом соответствующие манипуляции! Как еще его спасти? А потом ты получишь в нем Джеймса? И где Дэвид? Господи, пожалуйста, помоги мне. Но с какой стати ты станешь мне помогать?
В конце концов я перешел к действию. Я помчался по улице, легко обгоняя смертных, которые едва меня замечали, нашел телефонную будку со стеклянными стенами, проскользнул в нее и захлопнул дверь.
– Мне нужен Лондон, – сообщил я телефонистке, выливая на нее поток информации: «Таламаска, оплачивается абонентом». Ну почему так долго? От нетерпения я застучал правым кулаком по стеклу, прижимая к уху трубку. Наконец на звонок ответил один из любезных, терпеливых голосов, свойственных Таламаске.
– Выслушайте меня, – сказал я, для начала выпалив свое полное имя. – Вам покажется, что это бессмыслица, но это ужасно важно. Тело Дэвида Тальбота только что повезли в больницу города Майами. Я даже не знаю, в какую больницу. Но оно тяжело ранено. Тело может умереть. Но вы должны понять: Дэвида в этом теле нет. Вы слушаете? Дэвид находится где-то…
Я замолчал.
Передо мной по ту сторону стекла возник темный силуэт. И когда мои глаза остановились на нем, решительно готовые не обращать внимания – ибо что мне за дело, если какой-то смертный будет меня торопить, – я осознал, что там стоит мое прежнее смертное тело, мое высокое молодое темноволосое тело, в котором я провел достаточно времени, чтобы изучить все его особенности, все слабые и сильные стороны. Я смотрел на то лицо, которое всего два дня назад видел в зеркале! Только теперь оно располагалось на два дюйма выше. Я смотрел снизу вверх, прямо в знакомые карие глаза.
На теле был тот же полосатый костюм, в какой я его одевал. И та же белая водолазка, что я натянул ему через голову. А одна из знакомых рук была поднята в спокойном жесте, спокойном, как и выражение лица, в котором я безошибочно распознал команду повесить трубку.
Я положил трубку на место.
Двигаясь тихо и плавно, тело обошло будку и открыло дверь. Правая рука сжала мне локоть и при полном моем согласии вытянула меня на тротуар, где дул нежный ветерок.
– Дэвид, – сказал я. – Ты знаешь, что я наделал?
– Думаю, да, – ответил он, слегка подняв брови; из молодого рта уверенно звучал знакомый английский голос. – Я видел у отеля «скорую».
– Дэвид, это была ошибка, ужасная, ужасная ошибка!
– Ладно, давай уйдем отсюда, – сказал он. Вот он, голос, который я помнил, по-настоящему утешающий, властный и мягкий.
– Но Дэвид, ты не понимаешь, твое тело…
– Идем, ты мне все расскажешь, – сказал он.
– Оно умирает, Дэвид.
– Что ж, значит, мы здесь ничем помочь не можем, правда?
И к моему полному изумлению, он обхватил меня рукой, наклонился вперед в своей характерной авторитетной манере, заставил меня дойти с ним по тротуару до угла, где поднял руку, останавливая такси.
– В какую больницу, я не знаю, – признался я. Я все еще отчаянно дрожал. И особенно непереносимо было видеть, как он безмятежно смотрит на меня сверху вниз, тем более что от аккуратного загорелого лица исходил хорошо знакомый голос.
– Мы не едем в больницу, – сказал он, словно намеренно старался успокоить истеричного ребенка. – Пожалуйста, садись.
Скользнув рядом со мной на кожаное сиденье, он назвал водителю адрес отеля «Гранд-Бэй» в Коконат-Гроув.
Глава 27
Когда мы входили в большой, выложенный мрамором вестибюль, я все еще находился в состоянии типично смертного шока. Как в тумане, передо мной представала роскошная мебель, огромные вазы с цветами и элегантно одетые туристы, проплывающие мимо. Высокий темноволосый человек, которым когда-то был я сам, терпеливо провел меня к лифту, и мы в гробовом молчании поднялись на верхний этаж.
Я был не в состоянии оторвать от него взгляд, но после недавних событий у меня колотилось сердце. У меня во рту еще сохранился вкус крови раненого тела!
Мы вошли в просторный номер, отделанный в приглушенных тонах, куда свободно входила ночь благодаря окнам от пола до потолка, выходящим на многочисленные освещенные башни, расположенные вдоль берегов темного безмятежного Бискайского залива.
– Ты ведь понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать, – начал я, радуясь, что наконец-то остался с ним наедине, и уставился на то, как он устраивается напротив у круглого деревянного столика. – Я ранил его, Дэвид, я ранил его в припадке ярости. Я… Я швырнул его об стену.
– Все твоя жуткая вспыльчивость, Лестат, – сказал он прежним голосом, каким успокаивают перевозбудившегося ребенка.
На прекрасно вылепленном лице с четкими изящными скулами и широким спокойным ртом зажглась теплая улыбка – типичная улыбка Дэвида.
Я не мог отвечать. Я медленно перевел глаза на сильные прямые плечи и на все его расслабившееся тело.
– Он заставил меня поверить, что он – это ты! – сказал я, пытаясь сосредоточиться. – Он притворился тобой. О Господи, я излил ему всю свою скорбь, Дэвид. Он сидел, слушал меня и высасывал продолжение. А потом попросил Темный Дар. Он сказал, что передумал. Он заманил меня в комнату, чтобы я дал ему Темный Дар, Дэвид! Как мерзко. О другом я и не мечтал, но при этом знал, что здесь что-то не так! В нем было что-то зловещее. Да, можно было догадаться, но я ничего не заметил! Какой же я дурак!
– Тело и душа, – отозвался гладкокожий, уравновешенный молодой человек напротив. Он снял полосатый пиджак, кинул его на соседний стул и принял прежнюю позу, скрестив руки на груди. Ткань водолазки выгодно подчеркивала его мускулы, а белоснежный хлопок оттенял кожу, придавая ей еще более яркий оттенок темно-золотистого загара.
– Я тебя понимаю, – совершенно естественно сказал приятный британский голос. – Это большое потрясение. Я пережил то же самое всего несколько дней назад, в Новом Орлеане, когда передо мной в этом теле появился мой единственный на свете друг. И я прекрасно понимаю – можешь больше не спрашивать, – что мое тело, вероятно, умирает. Просто я не знаю, что мы можем сделать.
– Во всяком случае, подходить к нему нельзя, это точно! Если ты приблизишься к нему на расстояние нескольких футов, Джеймс может учуять твое присутствие и сосредоточиться на том, чтобы выбраться из тела.
– Думаешь, Джеймс все еще там? – спросил он, подняв брови, в точности как их всегда поднимал Дэвид, когда разговаривал, потом чуть-чуть наклонил вперед голову и едва не улыбнулся.
Дэвид с таким лицом! Тембр голоса остался практически без изменений.
– А… что… ну да, Джеймс. Да, Джеймс все еще там! Дэвид, он получил удар по голове! Помнишь, что мы обсуждали. Если я буду его убивать, то должен нанести быстрый удар по голове. Он что-то бормотал о своей матери. Он все повторял, что она нужна Раглану. Когда я уходил, он был в том теле.
– Понятно. То есть, мозг функционирует, но серьезно поврежден.
– Вот именно! Ты что, не понял? Он думал, что предотвратит удар, потому что это твое тело. Он нашел себе убежище в твоем теле! Да, он просчитался! Просчитался! А стараться принудить меня к совершению Обряда Тьмы! Ну и тщеславие! Он мог бы догадаться. Ему стоило признаться в своем плане, как только он меня увидел. Будь он проклят. Дэвид, если я и не убил твое тело, то ранил его, и ему уже не оправиться.
Он витал в собственных мыслях, точно так же, как обычно с ним случалось в разгар разговора, его глаза расширились и смягчились, и он посмотрел вдаль, на темную бухту, лежащую за высокими окнами.
– Я должен ехать в больницу, не так ли? – прошептал он.
– Бога ради, не надо. Ты что, хочешь, чтобы тебя втолкнули в умирающе тело? Ты, должно быть, шутишь?
Он с непосредственной грацией поднялся на ноги и двинулся к окну. Там он остановился и пристально посмотрел в ночь, и я обратил внимание на характерную для него позу, а в новом лице заметил типичное выражение обеспокоенной задумчивости, свойственное Дэвиду.
Что за волшебство – сквозь молодое тело просвечивают его уравновешенность и мудрость. Когда он перевел на меня взгляд, то за ясными молодыми глазами я увидел незаурядный ум.
– Меня ждет моя смерть, да? – прошептал он.
– Пусть подождет. Это был несчастный случай, Дэвид. Не неизбежная смерть. Конечно, существует одна альтернатива. Мы оба знаем, в чем она заключается.
– В чем же? – спросил он.
– Мы пойдем вместе. Как-нибудь проберемся в палату, одурачив нескольких медиков различного ранга. Ты вытолкнешь его из тела, войдешь в него, а я дам тебе кровь. Даже теоретически не существует повреждения, которое не излечит полное вливание крови.
– Нет, друг мой. Ты мог бы догадаться, что не стоит и предлагать. Этого я сделать не могу.
– Я знал, что ты так скажешь, – сказал я. – Тогда и не приближайся к больнице. Не делай того, что может вывести его из ступора!
Мы оба замолчали и уставились друг на друга. Тревога быстро покидала меня. Я уже не дрожал. И внезапно понял, что сам он никогда и не тревожился.
Не встревожился он и сейчас. Он даже не казался грустным. Он смотрел на меня и тем самым молча просил меня понять его. Или же вообще обо мне не думал.
Ему было семьдесят четыре года! А он перешел из тела, страдающего от предсказуемых болезней, недугов и притупленного зрения, в закаленную и прекрасную оболочку.
Нет, я и понятия не имел, что он сейчас чувствует! Я променял на эти конечности тело бога! Он же поменял стареющее тело, у которого за плечом стоит смерть, тело человека, для кого юность была скопищем болезненных, гнетущих воспоминаний, человека, настолько потрясенного этими воспоминаниями, что его душевное спокойствие на глазах окончательно разваливалось на куски, угрожая оставить ему взамен на несколько последних лет сплошную горечь и разочарование.
Теперь же к нему вернулась молодость! Он может прожить всю жизнь заново! Причем это тело он сам считал соблазнительным, красивым, даже великолепным – и даже испытывал по отношению к нему плотское желание.
А я-то нервничаю и оплакиваю состарившееся, разбитое тело, из которого капля за каплей на больничной койке вытекает жизнь!
– Да, – сказал он. – Я бы сказал, что ты описал положение дел исчерпывающим образом. Но при этом я понимаю, что должен идти к тому телу! Я знаю, что оно и есть настоящий дом этой души. Я знаю, что каждый момент промедления невообразимо усиливает риск – оно может умереть, и мне придется оставаться в этом теле. Но я привез тебя сюда. И именно здесь я намерен остаться.
Я содрогнулся, глядя на него, моргнул, словно хотел очнуться от сна, а потом еще раз вздрогнул. Наконец я засмеялся безумным ироничным смехом. И сказал:
– Садись, налей себе немного твоего проклятого, паршивого шотландского виски и расскажи, как все произошло.
Ему было не до смеха. Он выглядел озадаченным – или же впал в состояние полной пассивности, пристально рассматривая меня, суть проблемы и весь мир из своего чудесного тела.
Он еще немного постоял у окна, обводя глазами далекие высотки, белые и чистые, с сотнями балкончиков, и воду, простирающуюся до самого яркого неба.
Затем он подошел к маленькому бару в углу, без малейшей неловкости взял бутылку шотландского виски и стакан и вернулся с ними с столу. Он налил себе добрый крепкий глоток вонючего зелья, отпил половину с прежней очаровательной гримасой на новом лице, плотно обтянутом кожей, в точности как бывало с его старым, более мягким лицом, и сверкнул в мою сторону неотразимыми глазами.
– Итак, он нашел себе убежище. Именно как ты и сказал. Можно было догадаться, как он поступит! Но, черт возьми, мне это и в голову не приходило. Проблемы обмена нам, как говорится, хватало выше головы. И видит Бог, я не думал, что он попытается соблазнить тебя совершить Обряд Тьмы. С чего он взял, что сможет дурачить тебя, когда польется кровь?
Я сделал жест, означавший отчаяние.
– Расскажи, что случилось, – сказал я. – Он выбил тебя из тела?
– Полностью. Сначала я даже не понял, что произошло! Ты и не представляешь себе, насколько он силен! Конечно, он был доведен до отчаяния, как и все мы! Конечно, я сразу же постарался забрать тело назад, но он оттолкнул меня и начал стрелять в тебя из револьвера!
– В меня? Дэвид, он не мог нанести мне вред револьвером!
– Но я не знал этого наверняка, Лестат. Предположим, одна из пуль попала бы тебе в глаз! Я знал только, что он может одним метким выстрелом задержать твое тело и каким-то образом вернуться! Я же не могу утверждать, что обладаю большим опытом в области духовных путешествий. Конечно, с ним мне не сравниться. Я просто испугался. Потом ты исчез, я все никак не мог вернуться в свое тело, а он нацелил револьвер на то тело, что лежало на полу.
Я даже не был уверен, что сумею в него вселиться. Я никогда не пробовал. Я даже отказался совершить подобную попытку, когда ты мне предлагал. Вселиться в чужое тело. Для меня это столь же морально отвратительно, как и лишить человека жизни. Но он готов был снести тому телу голову – если, конечно, сможет управиться с оружием. А где нахожусь я? И что со мной станет? То тело представлялось мне единственным шансом вернуться в физический мир.
Я проник в него точно так же, как учил тебя. И мгновенно заставил его вскочить на ноги, одним ударом оттолкнул его и почти что выбил револьвер из его руки. К тому моменту в коридор набежала толпа охваченных паникой пассажиров и стюардов! Он выстрелил еще раз, а я выбежал на веранду и спрыгнул на нижнюю палубу.
Наверное, я не сознавал, что произошло, пока не ударился о настил палубы. В старом теле при таком падении я сломал бы лодыжку! Или даже ногу. Я приготовился встретить неизбежную острую боль, но внезапно понял, что вообще не ранен, что я почти без усилий встал на ноги, пробежал вдоль палубы и попал в комнату отдыха при «Королевском Гриле».
Конечно, это был самый неверный путь. Офицеры службы безопасности бежали по той же комнате к лестнице, ведущей на сигнальную палубу. Я не сомневался, что его задержат. Иначе и быть не могло. Как же неловко он обращался с оружием, Лестат. Совсем как ты мне описывал. Он не особенно умеет управлять телами, которые ворует. Остается самим собой.
Он замолчал, сделал еще один глоток виски и снова наполнил бокал. Я наблюдал за ним и слушал его как под гипнозом – авторитетный голос и манеры в сочетании с сияющим невинным лицом. Это молодое тело лишь недавно вышло из запоздалого подросткового периода, хотя я раньше об этом не думал. Оно во всех отношениях отточилось совсем недавно, словно только что отчеканенная монета без единой царапины, свидетельствующей о долгом хождении.
– В этом теле ты пьянеешь не так быстро, да? – спросил я.
– Нет, – ответил он, – не так. В этом теле вообще все по-другому. Все. Но я продолжу. Я не собирался оставлять тебя на корабле одного. Я был в отчаянии, тревожась о твоей безопасности. Но пришлось.
– Я же говорил, на мой счет не беспокойся, – сказал я. – О Господи Боже, я разговаривал с ним почти в таких же выражениях… когда я думал, что он – это ты. Но продолжай. Что было дальше?
– Дальше я отступил в проход за комнатой отдыха, откуда мог наблюдать за обстановкой внутри ее через стеклянное оконце в стене. Я рассчитал, что обратно им придется вести его тем же путем. А я должен был узнать, поймали его или нет. Пойми, тогда еще я не принял никакого решения относительно того, что мне делать. Через несколько секунд появился целый контингент офицеров, а среди них я, Дэвид Тальбот, они сурово и поспешно провели его – бывшего меня – через весь «Королевский Гриль» в направлении носа корабля. Каково мне было видеть, как он старается сохранить достоинство, быстро и почти весело разговаривает с ними как очень богатый и влиятельный джентльмен, по случайности попавший в мрачное, неприятное происшествие.
– Могу себе представить.
– Но какую игру он ведет, думал я. Конечно, я не сознавал, что он думает о будущем, о том, как скрыться от тебя. Я только гадал, что он теперь замышляет. Потом до меня дошло, что он отправит их искать меня. Конечно, он обвинит меня во всем, что произошло.
Я немедленно проверил карманы. У меня при себе оказался паспорт на имя Шеридана Блэквуда, деньги, которые ты оставил ему, чтобы убраться с парохода, и ключ от твоей старой каюты наверху. Я пытался придумать, что мне делать. Если я пойду в каюту, то туда придут меня искать. Он не знал, на чье имя выписан паспорт. Но стюард, обслуживающий каюту, конечно все сопоставит.
Я совершенно запутался, когда услышал, что из громкоговорителей доносится его имя. Мистера Раглана Джеймса спокойным голосом просили немедленно связаться с любым офицером. Значит, он меня впутал, считая, что у меня остался тот паспорт, что он тебе дал. А когда с ним свяжут имя Шеридана Блэквуда – вопрос времени. В тот момент он, наверное, давал им мое физическое описание.
Я не осмеливался спуститься на пятую палубу – посмотреть, благополучно ли ты добрался до укрытия. Таким образом я мог бы привести их к тебе. На мой взгляд, мне оставалось только одно – где-нибудь спрятаться, пока я не узнаю, что он покинул пароход.
Самым логичным мне казалось, что из-за наличия огнестрельного оружия его возьмут под охрану на Барбадосе. К тому же он вряд ли знает, чье имя стоит в его паспорте, а они успеют посмотреть на него прежде, чем он его достанет.
Я спустился на палубу «Лидо», где завтракало великое множество пассажиров, заказал себе чашку кофе и заполз в угол, но через несколько минут понял, что из этого ничего не выйдет. Появились два офицера, они явно кого-то искали. Я едва избежал опознания. Я разговорился с двумя любезными женщинами, сидевшими рядом, и кое-как спрятался, смешавшись с их компанией.
Не прошло и минуты, как ушли офицеры, и из динамиков раздалось новое объявление. На этот раз имя они назвали правильно. Не мог бы мистер Шеридан Блэквуд немедленно связаться с любым офицером парохода? И мне пришел в голову другой, ужасный, вариант. Я находился в теле лондонского механика, который убил всю свою семью и сбежал из сумасшедшего дома. Скорее всего, в деле есть отпечатки пальцев этого тела. Джеймс не преминет сообщить об этом властям. А мы входили в порт британского Барбадоса! Даже Таламаска не вытащит это тело из-под стражи, если меня поймают. Как бы я ни боялся тебя оставлять, мне необходимо было попробовать исчезнуть с корабля.
– Ты должен был знать, что со мной все будет в порядке. Но почему тебя не остановили на сходнях?
– А меня чуть не остановили, но тут началась полная неразбериха. Гавань в Бриджтауне большая, и мы пришвартовались к пристани. В катере необходимости не возникло. А таможенники так долго проверяли пароход перед высадкой, что в проходах нижней палубы собрались сотни пассажиров, желающих сойти на берег.
Офицеры по возможности проверяли пропуска, но мне снова удалось проскользнуть, смешавшись с группой английских леди, я громко заговорил с ними о достопримечательностях Барбадоса и хорошей погоде и смог пройти.
Я спустился на бетонную пристань и прямиком направился в здание таможни. Теперь я опасался, что, прежде чем пропустить меня, в этом здании проверят мой паспорт.
Конечно, не забывай, что я пробыл в том теле меньше часа! Каждый шаг казался мне ужасно странным. Я вновь и вновь опускал глаза, видел перед собой эти руки, и у меня начинался шок – кто я? Я смотрел на чужие лица как будто через две дыры в пустой стене. Я не представлял себе, что они видят!
– Поверь мне, я тебя понимаю.
– Да, но сила, Лестат! Этого ты не понимаешь. Я будто бы выпил некий стимулирующий напиток сокрушительного действия, насытивший каждую частицу моего тела! А молодые глаза – как далеко, как четко они видят!
Я кивнул.
– Ну, если быть совсем уж откровенным, – сказал он, – я практически не мог рассуждать разумно. В здании таможни собралась толпа. В порт в тот момент вошли несколько круизных пароходов. «Песня Ветра», а также «Роттердам». Кажется, и «Королевское Солнце Викингов» там пришвартовалось, как раз напротив «Королевы Елизаветы II». Так или иначе, помещение кишело туристами, и я быстро выяснил, что паспорта проверяют только у тех, кто возвращается на свой пароход.
Я зашел в один магазинчик – представляешь их себе, из тех, что торгуют кошмарными товарами, – и купил пару больших зеркальных очков, похожих на те, что ты носил, когда у тебя была совсем бледная кожа, и ужасную рубашку с попугаем.
Потом, раздевшись до пояса, я надел эту жуткую рубашку и очки и занял наблюдательный пункт, с которого через открытые двери мне была видна вся пристань. Я не знал, что еще делать. Я в ужасе думал, что они начнут обыскивать каюты! Что они сделают, обнаружив, что дверь на пятой палубе не открывается? Или найдут в сундуке твое тело? С другой стороны, как им устроить такой обыск? И что их на него подвигнет? Человека с револьвером они поймали.
Он снова замолчал, чтобы отхлебнуть еще виски. В своем несчастье он выглядел совершенно невинным, таким невинным, каким никогда не показался бы в прежней плоти.
– Я чуть окончательно с ума не сошел. Я пытался использовать свою прежнюю телепатическую силу, но восстановил ее не скоро, и оказалось, что тело связано с ней больше, чем я думал.
– Что меня не удивляет, – заметил я.
– Но и тогда я не мог воспринять ничего, кроме различных мыслей и образов, исходящих от ближайших ко мне пассажиров. Это никуда не годилось. Но, к счастью, моя агония резко подошла к концу.
Джеймса ссадили на берег. В сопровождении того же огромного контингента офицеров. Должно быть, его сочли самым опасным преступником западного мира. При нем был мой багаж. А он являл собой олицетворение британского достоинства, болтая с веселой улыбкой на губах, несмотря на то что офицеры вели себя в высшей степени подозрительно и чувствовали себя невероятно неудобно, препровождая его к таможенникам и передавая им в руки его паспорт.
Я осознал, что его вынуждают окончательно покинуть пароход. Они даже обыскали багаж, прежде чем позволить ему сойти.
Все это время я держался у стены, как молодой бездельник, если хочешь, с перекинутыми через руку пиджаком и рубашкой. «Какую игру он ведет? – думал я. – Зачем ему это тело?» Как я уже говорил, мне просто не приходило в голову, до чего это умный шаг.
Я проследовал за маленьким войском на улицу, где уже ждала полицейская машина; в нее погрузили багаж, а он продолжал трещать и пожимать руки офицерам, которые дальше его не сопровождали.
Я подошел достаточно близко, чтобы услышать его обильные благодарности и извинения, кошмарные эвфемизмы и бессмысленную речь, а также полные энтузиазма заявления о том, как ему понравилось его недолгое путешествие. Как же он наслаждался этим маскарадом.
– Да, – уныло сказал я. – Это на него похоже.
– А далее случилось самое странное. Ему открыли дверцу машины, но он прекратил болтать и повернулся. Он смотрел прямо на меня, как будто знал, что я все время был рядом. Только он довольно ловко замаскировал этот жест, обведя глазами потоки входивших и выходивших, а потом еще раз взглянул на меня, очень быстро, и улыбнулся.
Только после того как отъехала машина, я понял, что произошло. Он по собственной воле уехал в моем старом теле, оставляя мне двадцатишестилетний кусок плоти.
Он поднял бокал, отпил и внимательно посмотрел на меня.
– Может быть, совершить обмен в такой момент было абсолютно невозможно. Я просто не знаю. Но дело в том, что ему нужно было получить то тело. А я остался стоять у таможни и снова был… молодым!
Он уставился на бокал, явно его не замечая, а потом опять посмотрел мне в глаза.
– Как в «Фаусте», Лестат. Я купил себе молодость. Но что самое странное… я не продал свою душу!
Я ждал, а он сидел, удивленно молчал, слегка качал головой, вот-вот собираясь заговорить. Наконец он продолжил:
– Ты можешь простить меня за то, что я тогда уехал? Мне никак нельзя было вернуться на корабль. А Джеймса, как я считал, увезли в тюрьму.
– Конечно, я тебя простил. Дэвид, мы же знали, что такое может случиться. Мы ожидали, что тебя могут взять под стражу, как взяли его! Это совершенно не важно. Но что ты сделал дальше? Куда поехал?
– Я поехал в Бриджтаун. Это нельзя назвать решением. Ко мне подошел очень общительный чернокожий таксист, приняв меня за пассажира круизного судна, что, конечно, было правдой. Он предложил мне совершить экскурсию по городу по сходной цене. Он несколько лет прожил в Англии. У него был приятный голос. Кажется, я так ничего ему и не ответил. Я просто кивнул и забрался на заднее сиденье его автомобильчика. Несколько часов он возил меня по острову. Он, должно быть, счел меня очень странной личностью.
Я помню, как мы катались по удивительной красоты полям сахарного тростника. Он сказал, что эту дорогу построили для карет и лошадей. А я думал, что эти поля, возможно, выглядят так, как выглядели двести лет назад. Лестат мне расскажет. Лестат, должно быть, знает. И потом мой взгляд опять падал на эти ладони. Я двигал ногой, напрягал руки, делал небольшой жест и чувствовал абсолютное здоровье и энергию этого тела. И опять впадал в состояние недоумения, совершенно забыв о том, что бедняга рассказывает мне о достопримечательностях.
В конце концов мы приехали в ботанический сад. Вежливый чернокожий водитель поставил машину на стоянку и пригласил меня зайти. Не все ли мне было равно? Я купил билет на те деньги, что ты любезно оставил в карманах для Похитителя Тел, а потом вошел в сад и очутился в таком красивом месте, равных которому я еще не видел в этом мире.
Лестат, это было как в очень правдоподобном сне!
Мне непременно нужно отвезти тебя в это место, ты обязательно должен на него взглянуть – ты же так любишь острова! Фактически я ни о чем не мог думать… кроме тебя.
Я должен кое-что объяснить. Ни разу с того момента, когда ты впервые пришел ко мне, ни единого раза я не мог смотреть в твои глаза, слышать твой голос или даже думать о тебе, не испытывая боли. Боли, связанной со смертностью, с осознанием своего возраста и пределов, с пониманием, что некоторых вещей больше не будет никогда. Понимаешь, о чем я говорю?
– Да. А, бродя по ботаническому саду, ты думал обо мне. И боль прошла.
– Да, – прошептал он. – Боль прошла.
Я ждал. Он сидел молча, еще раз отпив виски большим жадным глотком, а затем оттолкнув бокал. Элегантность его духа всецело контролировала высокое мускулистое тело, ему передались его отточенные движения; и снова послышались сдержанные, размеренные интонации его голоса.
– Мы должны туда съездить, – сказал он. – Должны постоять на том холме над морем. Помнишь, с каким звуком шевелились на ветру кокосовые пальмы на Гренаде, с каким щелканьем? Такой музыки, как в том саду на Барбадосе, нигде больше не услышишь; а цветы, безумные дикие цветы! Вот твой Сад Зла, но какой он ручной, мягкий, безопасный! Я видел гигантскую пальму путешественников – такое впечатление, что растущие из ствола ветви заплетены в косы! А клешня омара, чудовищная восковая штука; а рыжие лилии, нет, ты должен это увидеть. Они останутся прекрасными даже при лунном свете, с твоими-то глазами.
Думаю, я мог бы остаться там навсегда. Но полный туристов автобус оторвал меня от раздумий. И представляешь, они были с нашего парохода. Народ с «Королевы Елизаветы II». – Он весело засмеялся, от чего черты его лица стали еще изящнее. – О, я быстро убрался оттуда, очень быстро.
Я вышел, нашел моего водителя и дал ему увезти меня на западный берег острова, к шикарным отелям. Там отдыхает множество британцев. Роскошь, уединение, поля для гольфа. И там я отметил примечательное местечко – один курорт прямо на воде; только об этом я и мечтал, когда мне хотелось уехать из Лондона и пересечь мир в поисках теплого и красивого уголка.
Я попросил подвезти меня к нему по аллее, чтобы я мог осмотреться. Оказалось, что это несимметричный оштукатуренный розовый дом, с очаровательной крытой столовой и открытой верандой вдоль всего пляжа. Прогуливаясь там, я обдумывал все, что произошло – по крайней мере пытался, – и решил пока что остановиться в этом отеле.
Я расплатился с водителем и снял красивую небольшую комнату с видом на пляж. Чтобы добраться до нее, меня провели по саду, а потом впустили в небольшое здание, и я оказался внутри; распахнутые двери выходили на крытое крыльцо, от которого прямо на песок вела маленькая тропинка. Теперь ничто не отделяло меня от Карибского моря, за исключением кокосовых пальм и нескольких огромных кустов гибискуса, покрытых неземными красными бутонами.
Лестат, я начал задумываться, не умер ли я; может быть, это мираж, явившийся мне перед тем, как упадет занавес?
Я кивнул в знак понимания.
– Я опустился на кровать, и знаешь, что произошло? Я заснул. Я лег на нее в этом теле и заснул.
– Ничего удивительного, – сказал я с легкой улыбкой.
– Ну, я-то удивился. Но как бы тебе понравилась моя комната! Она напоминает безмолвную раковину, обращенную к пассатам. Проснувшись в середине дня, я первым делом увидел воду.
Затем я испытал потрясение, осознав, что до сих пор нахожусь в этом теле! Я понял, что все время боялся, что Джеймс найдет меня и вытолкнет, и в результате я стану бродить по миру, невидимый, не в состоянии найти физическое пристанище. Я был уверен, что кончится чем-нибудь в этом роде. Мне даже пришло в голову, что я могу просто оторваться от тела сам.
Но ничего не произошло, а твои уродливые часы показывали, что уже больше трех. Я сразу позвонил в Лондон. Конечно, когда Джеймс позвонил, они поверили, будто он – Дэвид Тальбот, и только терпеливо выслушав их, я сумел по кусочкам собрать головоломку воедино. Наши юристы немедленно выехали в штаб-квартиру «Канарда» и все уладили, а теперь он направлялся в Соединенные Штаты. В Обители решили, что я звоню из отеля «Сентрал-Парк» в Майами-Бич, чтобы сообщить о благополучном прибытии и о том, что я получил срочный денежный перевод.
– Можно было догадаться, что об этом он не забудет.
– О да, и какая сумма! И они выслали ее без промедления, так как Дэвид Тальбот до сих пор остается Верховным главой ордена. Все это я, как и было сказано, терпеливо выслушал, а потом попросил к телефону моего доверенного ассистента, которому подробно объяснил, что произошло на самом деле. Человек, в точности похожий на меня внешне, умеющий мастерски подражать моему голосу, выдает себя за меня. Это чудовище носит имя Раглан Джеймс, но, когда он позвонит снова – если позвонит, – ему нельзя давать понять, что его раскусили; напротив, нужно притвориться, что все будет сделано, как он скажет.
Полагаю, во всем мире не найдется другой организации, где подобная история, пусть даже рассказанная Верховным главой, была бы принята за чистую монету. Мне и самому пришлось потрудиться, чтобы их убедить. Но на деле это оказалось намного проще, чем можно было ожидать. Существует масса мелочей, известных только мне и моему ассистенту. Идентификация не составила большой проблемы. И конечно, я не сказал ему, что уютно и прочно укоренился в теле двадцатишестилетнего мужчины.
Однако я сказал ему, что мне немедленно требуется новый паспорт. Я не намеревался и пытаться уехать с Барбадоса, пока на моей фотографии напечатано имя Шеридана Блэквуда. Я дал ассистенту инструкции позвонить старине Джейку в Мехико, который, конечно, снабдит меня именем человека из Бриджтауна, кто сможет в тот же день проделать необходимую работу. А также мне и самому нужны деньги. Я уже собирался повесить трубку, когда ассистент сообщил, что самозванец оставил сообщение для Лестата де Лионкура – как можно скорее встретиться с ним в Майами, в отеле «Сентрал-Парк». Самозванец сказал, что Лестат де Лионкур обязательно позвонит, чтобы получить это сообщение. Ему непременно следует его передать.
Он опять замолчал и вздохнул.
– Знаю, мне следовало бы поехать в Майами. Следовало бы предупредить тебя, что там находится Похититель Тел. Но, когда я получил эту информацию, во мне что-то изменилось. Я знал, что можно доехать до отеля «Сентрал-Парк» и сразиться с Похитителем Тел, причем, наверное, даже опередив тебя, если выехать сразу.
– А тебе этого не хотелось.
– Нет. Не хотелось.
– Дэвид, это вполне объяснимо.
– Да? – Он посмотрел на меня.
– Ты спрашиваешь такого дьяволенка, как я?
Он слабо улыбнулся. И снова покачал головой, прежде чем продолжить:
– Я провел на Барбадосе ночь и половину сегодняшнего дня. Паспорт был готов еще вчера, я вполне успевал на последний рейс в Майами. Но мне не хотелось уезжать. Я остался в том красивом отеле на берегу моря. Там я поужинал и побродил по Бриджтауну. Я выехал только сегодня в полдень.
– Я же сказал, что все понимаю.
– Понимаешь? А вдруг мерзавец напал бы на тебя еще раз?
– Невозможно! Нам обоим это известно. Если бы он мог успешно осуществить это с помощью силы, он сделал бы это, как только подвернулся бы момент. Перестань мучить себя, Дэвид. Я и сам не приехал вчера ночью, хотя и думал, что могу тебе понадобиться. Я был с Гретхен. – Я печально пожал плечами. – Прекрати волноваться о том, что не имеет значения. Ты знаешь, что сейчас важно. То, что происходит в настоящий момент с твоим старым телом. Друг мой, до тебя просто не доходит. Я нанес тому телу смертельный удар по голове! Нет, вижу, что ты пока не понимаешь. Тебе так кажется, но ты все еще в тумане.
Эти слова, должно быть, произвели на него большое впечатление.
У меня разрывалось сердце, когда я увидел боль в его глазах, увидел, как они затуманились, увидел резкие следы страдания на его новой, ничем не запятнанной коже. Но сочетание закаленной временем души и молодого тела снова показалось мне до того чудесным и увлекательным зрелищем, что я только и мог, что разглядывать его, смутно припоминая, как он разглядывал меня в Новом Орлеане, выводя меня из себя.
– Я должен поехать туда, Лестат. В ту больницу. Я должен увидеть, что произошло.
– Поеду я. Можешь поехать со мной. Но я один войду в палату. Так, где телефон? Нужно позвонить в «Сентрал-Парк» и выяснить, куда увезли мистера Тальбота! Меня, кстати, наверное, ищут. Все произошло в моем номере. Может быть, стоит лучше просто позвонить в больницу.
– Нет. – Он дотронулся до моей руки. – Не надо. Лучше поехать. Нужно… увидеть… своими глазами. У меня… у меня плохое предчувствие.
– У меня тоже, – сказал я. Но это было больше, чем плохое предчувствие. В конце концов, это я видел, как седой старик впадает в состояние безмолвной агонии на окровавленной постели.
Глава 28
Всех пациентов, требующих экстренной госпитализации, отправляли в большую общую больницу, и даже в столь поздний ночной час у входов суетились машины «скорой помощи», а доктора в белых куртках не покладая рук принимали жертв транспортных происшествий, внезапных сердечных приступов, окровавленных ножей или обычных пуль.
Но Дэвида Тальбота унесли подальше от слепящих огней и неустанного шума в безмолвное отделение на верхнем этаже, известное просто как отделение интенсивной терапии.
– Жди здесь, – твердо сказал я Дэвиду, направляя его в маленькую стерильную комнату ожидания, обставленную унылой мебелью, где повсюду валялись истертые журналы. – Отсюда – никуда.
В широком коридоре царила полная тишина. Я подошел к двери в конце коридора.
Через мгновение я вернулся. Дэвид сидел, уставившись в пространство, скрестив длинные ноги, снова сложив руки на груди.
Наконец он поднял глаза, словно пробуждаясь от сна. Я опять задрожал всем телом, не в состоянии овладеть собой, и выражение глубокого спокойствия на его лице только усилило мой ужас и жуткое мучительное раскаяние.
– Дэвид Тальбот умер, – прошептал я, стараясь выражаться попроще. – Он умер полчаса назад.
Внешне он никак не отреагировал. Как будто я ничего и не говорил. Я мог думать только одно: «Это я принял за тебя решение! Я привел в твой мир Похитителя Тел, хотя ты меня предупреждал. И я нанес удар тому, другому телу! Одному Богу известно, что ты почувствуешь, осознав, что произошло. Ты пока не понимаешь».
Он медленно встал на ноги.
– Да нет, понимаю, – сказал он тихим, рассудительным голосом. Он подошел ко мне и положил мне руки на плечи; все его поведение так напоминало о прежнем Дэвиде, что у меня было ощущение, будто я смотрю на двух человек, слившихся воедино. – Это «Фауст», мой дорогой друг. Но ты не Мефистофель. Ты просто Лестат, во гневе нанесший удар. И теперь все кончено!
Он медленно отступил на шаг, отвел в сторону прежний застывший взгляд, и на его лице сразу исчез отпечаток пережитого. Он погрузился в мысли, отгородился от меня, а я остался дрожать, пытаясь совладать с собой и поверить, что он получил то, что хотел.
И опять-таки я встал на его место. Как ему не хотеть? И я понял кое-что еще.
Я потерял его навсегда. Он никогда, никогда не согласится пойти со мной. Это чудо унесло прочь последний остававшийся у меня шанс. Как же иначе? Эта невысказанная мысль постепенно проникала все глубже и глубже. Я снова вспомнил Гретхен, выражение ее лица. И на мгновение оказался в той комнате с фальшивым Дэвидом, он смотрел на меня прекрасными темными глазами и говорил, что хочет получить Темный Дар.
Внутри меня замерцала боль; она усилилась и разгорелась, как будто мое тело снедал страшный всепожирающий внутренний огонь.
Я ничего не сказал. Я уставился на уродливые лампы дневного света, встроенные в выложенный плиткой потолок, на бессмысленную мебель, на пятна и вырванные нитки, на засаленный журнал с улыбающимся ребенком на обложке. Я посмотрел на него. Постепенно боль угасла и превратилась в тупой зуд. Я ждал. Ничто не заставило бы меня заговорить, только не сейчас.
После долгих молчаливых раздумий он вроде бы очнулся от чар. Меня, как всегда, околдовывала спокойная кошачья грация его движений. Он пробормотал, что должен увидеть тело. Несомненно, это можно устроить.
Я кивнул.
Тогда он полез в карман и достал маленький британский паспорт – конечно фальшивку, купленную на Барбадосе – и взглянул на нее с таким видом, будто старался разрешить небольшую, но очень важную загадку. Потом он протянул ее мне, хотя я не представлял себе, с какой целью. Я увидел перед собой красивое молодое лицо с тайными признаками мудрости; зачем мне эта картинка? Но я разглядывал ее, следуя его желанию, и увидел под новым лицом старое имя.
Дэвид Тальбот.
Для фальшивого документа он использовал собственное имя, как будто…
– Да, – сказал он, – как будто я знал, что никогда, никогда уже не стану прежним Дэвидом Тальботом.
Покойного Дэвида Тальбота еще не отправили в морг, так как из Нового Орлеана зафрахтованным рейсом вылетел его близкий друг по имени Эрон Лайтнер; он должен очень скоро приехать.
Тело лежало в маленькой, безупречно чистой палате. Старик с густыми темно-седыми волосами, спокойный, как во сне, большая голова на простой подушке, руки сложены по бокам. Щеки уже слегка запали, благодаря чему лицо удлинилось; при желтом свете лампы нос выглядел резче, чем на самом деле, и твердым, словно был сделан не из хряща, а из кости.
С тела сняли льняной костюм, его вымыли, убрали и одели в простую хлопчатобумажную рубашку. Его накрыли одеялом, и из-под его белого края выглядывал рубец бледно-голубой простыни. Веки слишком тесно прилипли к глазам, как будто кожа уже разглаживалась и даже таяла. Обостренное восприятие вампира уже улавливало аромат смерти.
Но этому Дэвиду не узнать, не почувствовать такой запах.
Он стоял у кровати, рассматривая тело, свое застывшее лицо с чуть-чуть пожелтевшей кожей и щетиной, несколько грязное и неаккуратное. Неуверенной рукой он потрогал свои седые волосы, задержав пальцы на волнистой пряди волос у правого уха. Потом он отстранился и встал, собранный, словно явился на похороны, чтобы отдать последнюю дань уважения.
– Мертвое, – пробормотал он. – Действительно мертвое, по-настоящему. – Он глубоко вздохнул, обвел глазами потолок и стены палаты, окно с опущенными жалюзи, унылый, покрытый линолеумом пол. – Я не чувствую жизни ни в нем, ни поблизости, – сказал он тем же сдержанным тоном.
– Нет. Ее нет, – ответил я. – Процесс разложения уже начался.
– Я думал, он останется здесь! – прошептал он. – В этой комнате, как клуб дыма. Я думал, что непременно почувствую его рядом, думал, он постарается вернуться.
– Может, он здесь, – сказал я. – Но у него ничего не выходит. Как ужасно, даже для него.
– Нет, – ответил он. – Здесь никого нет. – Он уставился на свое старое тело, словно не мог отвести от него глаз.
Шли минуты. Я наблюдал за его неуловимо напряженным лицом, тонкой пластичной кожей, которая то растягивалась или сжималась под действием эмоций, то снова разглаживалась. Он уже смирился? Он был близок мне как никогда и все больше вживался в новое тело, пусть даже его душа просвечивала сквозь него прекрасным светом.
Он опять вздохнул, отодвинулся, и мы вместе вышли из комнаты.
Мы стояли вдвоем в тускло-бежевом коридоре под мрачно-желтыми лампами дневного света. За стеклянным окном, затянутым тонкими темными шторами, мигал и загорался Майами; с проходящего рядом шоссе доносился глухой рев, каскад зажженных фар скользил в опасной близости от нас, прежде чем дорога отклонялась в сторону, снова поднималась на длинные тонкие бетонные ноги и уносилась прочь.
– Ты понимаешь, что потерял поместье Тальботов, – сказал я. – Оно принадлежало тому человеку.
– Да, я уже подумал, – вяло ответил он. – Я из тех англичан, что не забывают о таких вещах. Подумать только, оно перейдет к мерзкому кузену, который только и захочет, что немедленно выставить его на продажу.
– Я тебе его выкуплю.
– Орден может сам выкупить. По завещанию большая часть моего состояния переходит к нему.
– Ты уверен? Даже Таламаска, может быть, к такому не готова! Кстати, люди, бывает, превращаются в настоящих зверей, чуть только речь заходит о деньгах. Позвони моему агенту в Париже. Я велю ему отдать тебе абсолютно все, что ты пожелаешь. Я позабочусь, чтобы тебе вернули все состояние, все, до последнего фунта, и в первую очередь – дом. Можешь рассчитывать на все, что у меня есть.
Он слабо удивился. И был глубоко тронут.
Я не мог не задаваться вопросом – а сам я когда-нибудь чувствовал себя так легко в этом высоком теле с длинными руками и ногами? Конечно, мои движения были импульсивнее и даже резче. Эта сила выжала из меня определенную небрежность. Он же, напротив, познакомился с каждым сухожилием, с каждой костью.
Я мысленно увидел старого Дэвида – как он прогуливался по улицам Амстердама, по узким булыжным мостовым, отступая от жужжащих велосипедов. В нем и тогда присутствовала эта уравновешенность.
– Лестат, ты за меня не отвечаешь, – сказал он. – Ты не виноват в том, что произошло.
Я внезапно почувствовал себя очень несчастным. Но нужно было кое-что сказать, не так ли?
– Дэвид, – начал я, пытаясь скрыть горечь. – Если бы не ты, я бы никогда с ним не справился. В Новом Орлеане я говорил тебе, что буду твоим рабом навеки, если ты поможешь мне отобрать мое тело. Что ты и сделал. – У меня дрожал голос. Мне было противно. Но почему не сказать все сразу? К чему продлевать агонию? – Конечно, я понимаю, что теперь я потерял тебя навсегда, Дэвид. Я понимаю, что теперь ты никогда не примешь от меня Темный Дар.
– Но зачем говорить, что ты потерял меня, Лестат? – спросил он тихо, но пылко. – Почему мне нужно умереть, чтобы любить тебя? – Он сжал губы, пытаясь подавить внезапный всплеск чувства. – Зачем тебе такая цена, особенно сейчас, когда я живу как никогда прежде? Господи Боже, ты, естественно, сознаешь величие того, что произошло! Я переродился.
Он положил руку мне на плечо, стараясь сжать твердую чужеродную ткань, которая едва чувствовала его прикосновение, или же, лучше сказать, чувствовала его совсем по-другому, а как – он никогда не узнает.
– Я люблю тебя, друг мой, – сказал он тем же жарким шепотом. – Прошу тебя, не уходи. Мы стали так близки.
– Нет, Дэвид. Не стали. В последние несколько дней мы были близки, потому что оба были смертны. Мы видели одно и то же солнце, одни и те же сумерки, чувствовали одно и то же земное притяжение. Мы вместе пили и преломляли хлеб. Мы могли бы заняться вместе любовью, если бы ты позволил. Но все изменилось. Ты получил молодость, да, а с ней – головокружительное удивление, сопутствующее чуду. Но, глядя на тебя, Дэвид, я все равно вижу смерть. Я вижу человека, который гуляет на солнце со смертью за плечом. Я знаю, что не могу быть твоим спутником, как ты не можешь быть моим. Все это просто доставляет мне слишком мучительную боль.
Он молча наклонил голову, самоотверженно стараясь сохранить внутреннее самообладание.
– Не оставляй меня так рано, – прошептал он. – Кто еще во всем мире сможет меня понять?
Внезапно мне захотелось взмолиться: «Подумай, Дэвид, бессмертие в прекрасном молодом теле!» Я хотел рассказать ему обо всех местах, куда мы, двое бессмертных, сможем отправиться, о чудесах, которые сможем увидеть. Я хотел описать мрачный храм, обнаруженный мной в самой чаще тропического леса, объяснить, что значит без страха бродить по джунглям и иметь глаза, проникающие в самые темные уголки… О, сейчас из меня польется поток слов, а я не предпринимаю попыток скрыть мысли и чувства. Ну да, ты снова молод, и теперь можешь остаться молодым навсегда. Более подходящего средства для путешествия во тьму и представить невозможно; как будто таким образом тебя подготовили темные духи! Ты обладаешь и мудростью, и красотой. Наши боги совершили чудо. Идем, идем со мной.
Но я молчал. Я не стал умолять. Молча стоя в коридоре, я вдыхал исходящий от него запах крови, запах, исходящий от каждого смертного, но у каждого он свой. Как мучительно мне было отмечать эту новую жизненную энергию, этот более резкий жар, более звучное и медленное сердцебиение, открытое моим ушам, как будто само тело говорило со мной на непонятном ему языке.
В том новоорлеанском кафе это живое существо источало тот же самый резкий запах жизни, но он был другой. Да, совсем другой.
Покончить с этим было несложно. Что я и сделал. Я завернулся в хрупкий одинокий покой обычного человека. Я не смотрел ему в глаза. Мне больше не хотелось слушать сбивчивые извинения.
– Скоро увидимся, – сказал я. – Я понимаю, что буду тебе нужен. Когда груз ужаса и тайны будет давить слишком сильно, тебе потребуется твой единственный свидетель. Я приду. Но дай мне время. И не забудь. Позвони моему человеку в Париж. Не полагайся на Таламаску. Разумеется, ты не пожертвуешь им еще и эту жизнь?
Повернувшись, чтобы уходить, я услышал в отдалении приглушенный звук открывающихся дверей лифта. Приехал его друг – невысокий седовласый человек, одетый так, как часто одевался Дэвид, в официальный старомодный костюм-тройку. Он с очень взволнованным видом приближался к нам быстрой оживленной поступью, но тут его взгляд остановился на мне, и он замедлил шаг.
Я поспешил прочь, не обращая внимания на противное сознание того, что этот человек знает меня, знает, кто я и что я. Тем лучше, решил я, ибо он, несомненно, поверит Дэвиду, когда тот начнет свою странную повесть.
Ночь, как всегда, ждала меня. А жажда моя ждать больше не могла. Я на секунду остановился, запрокинул голову, закрыл глаза, почувствовал жажду и захотел зареветь, как голодный зверь. Да, когда ничего другого не остается, существует кровь. Когда мир при всей своей красоте кажется пустым и бессердечным, а я полностью в тупике. Подайте мне старую подругу смерть и соответствующий поток крови. Идет Вампир Лестат, он хочет пить, и сегодня-то ночью он себе ни в чем не откажет.
Но, рыща по грязным переулкам в поисках моих любимых жестоких жертв, я понимал, что потерял свой прекрасный южный город Майами. По крайней мере, на какое-то время.
Я не мог выбросить из головы элегантный номер в «Сентрал-Парк» с открытыми навстречу морю окнами и фальшивого Дэвида, заявляющего, что он хочет получить Темный Дар! И Гретхен. Настанет ли момент, когда я забуду Гретхен и то, как изливал историю Гретхен человеку, которого считал Дэвидом, после чего мы поднялись по ступенькам в мою комнату, как у меня билось сердце и я думал: «Наконец-то! Наконец-то!»
Озлобленный, разгневанный, опустошенный, я больше не хотел видеть красивые отели на Саут-Бич.
Часть 2 Вне законов природы
Куклы
В кукольной мастерской Появилась детская люлька. – Нас детеныш людской Опозорил! – крикнула кукла. И из витрины паяц, Переживший множество кукол, За ней заорал, распалясь: – Мало того что наш угол Отвратителен и зловещ, Так хозяева нас оскорбляют И еще сюда выставляют Крикливую грязную вещь! — Понимая, что муж все слышит, Кукольникова жена К креслу его спешит. Ему на плечо она Голову преклонила И тихо произнесла: – Милый, прости меня, милый, Это ведь не со зла. У. Б. ЙейтсПеревод А. СергееваГлава 29
Две ночи спустя я возвратился в Новый Орлеан. Я бродил по Флориде и живописным южным городкам, часами гулял по южным пляжам, даже поворошил голыми пальцами ног белый песок.
В конце концов я вернулся, и неизбежный ветер начисто сдул холодную погоду. Воздух снова почти благоухал – мой Новый Орлеан, – а небо над бегущими облаками казалось высоким и ярким.
Я немедленно отправился к своей дорогой пожилой квартиросъемщице и позвал Моджо, заснувшего на заднем дворе, – в квартирке ему было слишком жарко. Когда я вошел во дворик, он не заворчал, но звук моего голоса всколыхнул в нем воспоминания. Стоило мне произнести его имя – и он снова стал моим.
Он подошел ко мне, подпрыгнул, вскинув мне на плечи мягкие тяжелые лапы, и лизнул в лицо огромным розовым, как ветчина, языком. Я прижался к нему, поцеловал и зарылся лицом в душистый сверкающий серый мех. Я снова увидел его теми же глазами, что и в ту ночь в Джорджтауне, – увидел его неистовую жизненную энергию и великую доброту.
Бывает ли, что зверь выглядит таким устрашающим, когда он полон спокойной, ласковой любви? Чудесное сочетание. Я опустился на колени на старые плиты, поборолся с ним, перекатил его на спину и спрятал голову в густом мохнатом воротнике у него на груди. Он ворчал, попискивал и издавал все те высокие звуки, какими собаки признаются в любви. А как я любил его в ответ!
Что до моей квартиросъемщицы, милой старушки, наблюдавшей за нами из кухонной двери, она расплакалась, узнав, что он уходит. Мы сразу заключили сделку. Она станет содержать его, а я буду заходить за ним через садовые ворота, когда пожелаю. Просто божественно, ибо нечестно по отношению к нему ожидать, что он станет спать со мной в склепе, и мне ведь не нужен такой хранитель, каким бы красивым ни рисовался мне тогда этот образ.
Я нежно и быстро поцеловал старушку, дабы она не почувствовала, что находится в непосредственной близости к демону, и отправился восвояси вместе с Моджо – гулять по симпатичным узким улочками Французского квартала и посмеяться про себя над тем, как таращатся на Моджо смертные, какой крюк они делают, чтобы его обойти, как они его боятся, в то время как опасаться следует… сами знаете кого.
Следующей моей остановкой было здание на Рю-Рояль, где мы вместе с Клодией и Луи провели пятьдесят потрясающих, блистательных лет земного существования в первой половине прошлого века, – полуразрушенный дом, я уже его описывал.
В этом владении со мной должен был встретиться один молодой человек – способная личность, обладающая репутацией того, кто умеет превратить унылые дома в сравнимые с дворцами особняки, и я провел его по лестнице в загнивающую квартиру.
– Я хочу, чтобы все было как сто лет назад, даже больше, – сказал я ему. – Но обратите внимание: ничего американского, ничего английского. Ничего викторианского. Все должно быть только французское. Я повел его на веселую экскурсию по дому, в ходе которой он делал поспешные записи в своей книжечке, хотя в темноте почти ничего не видел, а я говорил ему, какие обои хочу видеть здесь, какого оттенка должна быть эмаль на этой двери, какое глубокое кресло закруглит этот угол и какого типа индийские или персидские ковры он должен приобрести для тех или иных полов.
Ну и острая у меня память.
Снова и снова я предупреждал его, чтобы он записывал каждое мое слово.
– Вы должны найти греческую вазу – нет, копия не подойдет, она должна быть вот такой высоты, с танцующими фигурами. Разве не ода Китса вдохновила меня на эту покупку? И куда делась та урна?
А вон тот камин, это не та доска. Нужно найти белую доску, с завитками, изогнутую над решеткой. Да, и эти камины, их следует починить. Надо, чтобы в них можно было жечь уголь.
Я поселюсь здесь, как только вы закончите, – сказал я ему. – Так что вы должны поторопиться. Да, еще одно предупреждение. Все, что вы найдете в этом помещении, все, что спрятано за старой штукатуркой, непременно отдайте мне.
Как приятно было стоять под этими высокими потолками, как радостно будет увидеть отреставрированные лепные карнизы, которые пока что крошатся. Я чувствовал себя совершенно свободным и спокойным. Прошлое здесь, но его здесь нет. Нет больше шепчущихся призраков, если они вообще были.
Я медленно описывал, какие хочу люстры; когда мне не приходило на ум название, я рисовал словесные картины того, что здесь когда-то было. Кое-где я хочу поставить и масляные лампы, хотя, конечно, электрическое освещение должно присутствовать в неограниченных количествах, а разнообразные телевизоры мы спрячем в красивых шкафчиках, чтобы не испортить впечатление. А там будет шкафчик для моих видеокассет и лазерных дисков, и здесь тоже нужно найти что-нибудь подходящее – расписной восточный стенной шкаф даст нужный эффект. Телефоны спрячьте.
– И факсимильный аппарат! Мне необходимо завести это современное чудо! Найдите куда спрятать и его. Кстати, можно использовать эту комнату под кабинет, только пусть она будет элегантной и красивой. Вещи, сделанные не из отполированной латуни, тонкой шерсти или лакированного дерева, не должны попадаться на глаза. В этой комнате я хочу фреску. Вот, я вам покажу. Ну, смотрите, видите обои? Вот это фреска и есть. Приведите фотографа, запечатлейте каждый дюйм, а уж тогда начинайте реставрацию. Работайте усердно, но очень быстро.
Наконец мы покончили с мрачным сырым помещением. Теперь пора было обсудить задний двор со сломанным фонтаном и то, как следует отреставрировать старую кухню. Я хочу посадить бугенвиллею, вьюнок и гигантский гибискус, да, я только что видел этот очаровательный цветок на Карибах, и, конечно, лунный цвет. И банановые деревья тоже хочу. Старые стены рассыпаются. Залатайте их. Подоприте. А наверху, на заднем крыльце, я хочу высадить папоротники, разные виды тонких папоротников. Опять теплеет, да? Им будет хорошо.
Теперь еще раз наверх, пройдем через длинную коричневую полость дома на парадное крыльцо.
Я вломился во французские двери и ступил на гнилые половицы. Изящные старые железные перила не так уж проржавели. Крышу, конечно, надо переделать. Но скоро я усядусь на ней, как бывало делал в те дни, и понаблюдаю за прохожими на той стороне улицы.
Конечно, верные и ревностные читатели моих книг смогут иной раз меня заметить. Читатели мемуаров Луи, которым удалось разыскать квартиру, где мы жили, разумеется, узнают этот дом.
Ну и пусть. Они поверили в них, но это не означает, что они им верят. И кто такой еще один светлолицый молодой человек, улыбающийся им с высокого балкона, опираясь руками на перила? Я никогда не стану пить кровь этих нежных, невинных смертных – даже когда они обнажают передо мной горло и говорят: «Лестат, прямо сюда!» (А такое случалось на Джексон-сквер, читатель, и не один раз.)
– Вы должны поторопиться, – сказал я молодому человеку, не перестававшему делать пометки, производить измерения, бормотать про себя о цветах и тканях; он периодически вздрагивал, обнаруживая Моджо рядом с собой, перед собой или под ногами. – Я хочу, чтобы к лету все было сделано. – Он порядочно трясся, когда я его отпустил. Мы же с Моджо остались в старом здании одни.
Чердак. Прежде я никогда туда не ходил. Но туда вела лестница, скрытая черным ходом, как раз за задней гостиной, той самой, где Клодия как-то раз рассекла мою тонкую белую кожу молодого вампира огромным сверкающим ножом. Именно туда я и направился, поднялся в низкие комнаты под покатой крышей. Высоты потолков как раз хватало, чтобы мужчина шести футов ростом мог не нагибаться, а слуховые окна с фасада пропускали уличный свет.
Здесь нужно будет устроить себе логово, подумал я, в простом жестком саркофаге с крышкой, которую смертный и надеяться не будет сдвинуть с места. Несложно будет оборудовать под фронтоном небольшую комнату и снабдить ее плотными бронзовыми дверями по моему дизайну. А проснувшись, я буду спускаться в дом, такой же, как и в те чудесные десятилетия, только повсюду меня будут окружать все технологические чудеса, какие могут мне понадобиться. Прошлого не вернуть. Прошлое окончательно померкнет.
– Не правда ли, Клодия? – прошептал я, останавливаясь в задней гостиной. Ответа не было. Ни звуков клавикордов, ни канареек в клетке. Но я опять заведу певчих птиц, да, много птиц, и в доме не будет смолкать музыка Гайдна и Моцарта.
«О, дорогая моя, жаль, что тебя здесь нет!»
А моя темная душа снова счастлива, потому что долгое горе ей попросту незнакомо и потому что боль – это глубокое черное море, в котором я утону, если не буду уверенной рукой направлять по волнам свое суденышко, прямо к солнцу, которое никогда не встанет.
Уже было за полночь, городок вокруг меня мурлыкал свою песню – хор смешавшихся голосов, щелканье далекого поезда, тихий вибрирующий свисток над рекой и громыхание транспорта на Рю-Эспланад.
Я вошел в старую гостиную и взглянул на бледные блестящие заплатки света, пробивавшегося сквозь дверные панели. Я лег на голый пол, Моджо улегся рядом, и мы заснули.
Сны о ней мне не снились. Зачем же я тихо плачу, когда настал час вернуться к безопасному склепу? И где Луи, мой предатель, упрямец Луи? Больно. Да, и будет еще больнее, ведь я скоро его увижу.
Я резко осознал, что Моджо слизывает кровавые слезы с моих щек. – Нет. Не смей, нельзя! – сказал я, закрывая ему рот рукой. – Эту кровь – никогда, никогда. Злую кровь. – Я был потрясен. Он сразу подчинился и слегка попятился от меня – как всегда неторопливо и с достоинством.
Устремленные на меня глаза – совсем как у демона. Что за обман! Я снова поцеловал его в самую нежную часть длинной мохнатой морды, под самыми глазами.
Я еще раз подумал о Луи, и меня резанула боль, словно кто-то из старейших нанес мне удар прямо в грудь.
Мне было так горько, что я не управлял своими эмоциями и несколько секунд не мог ни о чем думать и ничего не чувствовал, кроме этой боли.
Мысленно я представил себе остальных. Я вызывал их лица, словно Эндорская ведьма, стоящая над котлом и вызывающая образы мертвых.
Маарет и Мекаре, рыжеволосые близнецы, предстали передо мной вместе – самые древние из нас, они, возможно, и не ведали о моей дилемме, так удалились они от нас и в возрасте, и в мудрости, так глубоко погрузились в собственные неизбежные вневременные заботы; я представил себе Эрика, и Маэла, и Хаймана – их интерес ко мне был весьма ограничен, даже если они сознательно отказались прийти ко мне на помощь. Они никогда не были моими спутниками. Что мне до них? Потом я увидел Габриэль, мою возлюбленную мать, кому, естественно, не узнать о грозившей мне ужасной опасности – она, несомненно, скитается по какому-то далекому континенту, общается только с неодушевленными предметами, как всегда. Я не знал, пьет ли она еще человеческую кровь; всплыло смутное воспоминание, как она описывала схватку с неким темным лесным зверем. Обезумела ли она, моя мать, там, куда ушла? Вряд ли. Что она до сих пор жива, я был уверен. Что я никогда не смогу найти ее, я не сомневался.
Следующей я представил себе Пандору. Пандора, возлюбленная Мариуса, возможно, давно уже погибла. Созданная Мариусом в эпоху Древнего Рима, она была на грани отчаяния, когда я видел ее в последний раз. Несколько лет назад она без предупреждения покинула нашу последнюю настоящую общину на острове Ночи – ушла одна из первых.
Что касается Сантино, итальянца, то о нем я почти ничего не знал. И ничего не ждал. Он молод. Может быть, мои крики не долетели до его ушей. А если и долетели, зачем ему их слушать?
Потом я увидел Армана. Мой старый враг и друг Арман. Мой старый противник и спутник Арман. Арман, ангельское дитя, создатель острова Ночи, нашего последнего дома.
Где Арман? Арман намеренно оставил меня выпутываться самостоятельно? Почему бы и нет?
Позвольте мне теперь обратиться к Мариусу, великому древнему властелину, который с любовью и нежностью создал Армана много веков назад; Мариусу, которого я искал столько десятилетий; Мариусу, настоящему Сыну Тысячелетий, который провел меня в глубины нашей бессмысленной истории и пригласил меня помолиться в храме Тех, Кого Следует Оберегать.
Те, Кого Следует Оберегать. Умерли, исчезли, как и Клодия. Ибо наши цари и царицы могут погибнуть точно так же, как и нежные, внешне юные дети.
А я остался. Я здесь. У меня много сил.
И Мариус, подобно Луи, знал о моих страданиях! Он знал и отказался помочь.
Мой гнев усиливался и становился опасен. Может быть, Луи где-то рядом, на одной из соседних улиц? Я сжал кулаки, пытаясь побороть этот гнев, отбиваясь от его беспомощного и неизбежного проявления.
Мариус, ты отвернулся от меня. Я, в общем-то, не удивился. Ты всегда был учителем, отцом, верховным жрецом. За это я тебя не ненавижу. Но Луи! Мой Луи! Я никогда ни в чем не мог тебе отказать, а ты отверг меня!
Я понял, что здесь оставаться нельзя. Я недостаточно доверял себе, чтобы встретиться с ним. Еще рано.
За час до рассвета я отвел Моджо в его сад, поцеловал на прощание и быстро пошел к окраинам старого города, пересек предместье Мариньи и оказался на болотах; там я поднял руки к звездам, плывущим в облаках с таким ярким блеском, и поднимался выше, выше и выше, пока не погрузился в песню ветра и мечущихся мельчайших воздушных потоков и радость от сознания того, какими я обладаю дарами, не завладела всецело моей душой.
Глава 30
Должно быть, я путешествовал по миру целую неделю. Сначала я отправился в Джорджтаун и нашел ту хрупкую, жалкую молодую женщину, которую так непростительно изнасиловало мое смертное воплощение. Теперь она представлялась мне экзотической птицей; она напрягала зрение, пытаясь рассмотреть меня в пахучей темноте диковинного смертного ресторанчика, и не желала признаваться, что та встреча с «моим другом из Франции» вообще имела место; но когда я вложил ей в руку старинные четки, сделанные из изумрудов и бриллиантов, она застыла от изумления.
– Продай их, если хочешь, chéri, – сказал я. – Он хотел, чтобы ты использовала их на любые цели, какие пожелаешь. Но скажи мне одну вещь. Ты зачала ребенка?
Она покачала головой и прошептала:
– Нет.
Мне захотелось поцеловать ее, для меня она снова была красавицей. Но я не осмелился рисковать. Дело не только в том, что я не хотел ее пугать, – но желание убить ее стало почти непреодолимым. Некий неистовый чисто мужской инстинкт во мне хотел заявить на нее свои права просто потому, что я уже получил ее другим способом.
Через несколько часов я покинул Новый Свет и скитался по миру ночь за ночью, охотясь в бурлящих трущобах Азии – в Бангкоке, в Гонконге, в Сингапуре, а потом в тоскливой замерзшей Москве и в очаровательных старинных городах Вене и Праге. Я ненадолго посетил Париж. В Лондон я не заглянул. Я достигал пределов скорости; я поднимался вверх и кидался во тьму, иногда приземляясь в городах, имени которых не знал. Я неустанно пил кровь отчаявшихся и коварных, а иногда – заблудших, сумасшедших и абсолютно невинных, если они попадались мне на глаза.
Я старался не убивать. Старался. За исключением тех случаев, когда объект оказывался чертовски неотразимым, злодей высшего разряда. И тогда смерть наступала медленно и жестоко, а по окончании голод мой ничуть не уменьшался, и я уходил искать новую жертву, пока солнце еще не встало.
Никогда еще мне не было так просто управлять своими силами. Никогда еще я не поднимался так высоко в облаках и не двигался так быстро.
Я часами гулял среди смертных по узким старым улочкам Гейдельберга, Лиссабона, Мадрида. Я прошелся по Афинам, Каиру, Марокко. Я ходил по берегам Персидского залива, Средиземного моря и Адриатики.
Чем я занимался? О чем думал? Что старое клише оказалось правдой – мир принадлежал мне.
И куда бы я ни пошел, я открывал свое присутствие. Мысли исходили от меня, как ноты от лиры.
Это Вампир Лестат. Вампир Лестат идет. Лучше посторонитесь.
Я не хотел видеть остальных. Я их особенно не искал, не открывал им мысли, не прислушивался. Мне нечего было им сказать. Я хотел только, чтобы они знали – я здесь побывал.
В разных местах я все же улавливал звуки безымянных бессмертных, бродяг, нам неизвестных, разрозненных существ, избежавших недавнего избиения нашего рода. Иногда я на миг мысленно замечал могущественное создание, которое немедленно закрывало мысли. Периодически раздавался отчетливый звук чудовища, бредущего сквозь вечность без хитрости, без истории, без цели. Может быть, подобные твари останутся здесь навсегда!
Теперь у меня есть вечность, чтобы встретиться с этими тварями, если мне когда-нибудь захочется. Единственное имя, которое приходило мне на ум, было имя Луи.
Луи.
Я ни на секунду не забывал о Луи. Словно кто-то напевал мне это имя на ухо. Что мне делать, если он когда-нибудь попадется мне на глаза? Как обуздать свой характер? И буду ли я стараться?
В конце концов я устал. Одежда превратилась в лохмотья. Я больше не мог оставаться в стороне. Мне хотелось домой.
Глава 31
Я сидел в неосвещенном соборе. Его заперли уже несколько часов назад, но я тайком проник в одну из парадных дверей, утихомирив сигнализацию. И оставил ее открытой – для него.
С момента моего возвращения прошло пять ночей. Работа над квартирой на Рю-Рояль чудесным образом продвигалась, и, конечно, он не преминул это отметить. Я увидел, как он стоит на крыльце дома напротив, подняв глаза к окнам, и на секунду появился на балконе – смертный глаз ничего не заметил бы.
С тех пор я играл с ним в кошки-мышки.
Сегодня вечером я дал ему заметить себя у старого Французского рынка. И как же он дернулся, увидев меня своими глазами, а рядом со мной – Моджо, осознав, когда я подмигнул ему, что перед ним – настоящий Лестат.
О чем он подумал в первый момент? Что Раглан Джеймс в моем теле пришел, чтобы его уничтожить? Что Джеймс оборудует себе жилище на Рю-Рояль? Нет, он с самого начала знал, что я – Лестат.
Потом я медленно направился к церкви, Моджо элегантно двигался рядом. Моджо, мой якорь на доброй земле.
Я хотел, чтобы он пошел за мной. Но даже не поворачивал головы, чтобы проверить, идет он или нет.
Ночь выдалась теплой, уже прошел дождь, заставив потемнеть ярко-розовые стены старых зданий во Французском квартале и коричневые кирпичи и оставив симпатичный глянец на плитах и булыжниках. Идеальная ночь для прогулок по Новому Орлеану. Над стенами садов расцветали влажные ароматные бутоны.
Но для новой встречи с ним мне необходимы тишина и покой неосвещенной церкви.
У меня немного дрожали руки – с момента возвращения в старое тело такое со мной случалось. Физической причины для этого не было – то подступала, то отступала ярость, длительные периоды удовлетворенности, потом – приближение страшной пустоты, разверзавшейся вокруг меня, затем приходило счастье, вполне полноценное, но хрупкое, словно тонкая фанера. Честно ли будет сказать, что я сам не знал, в каком состоянии находится моя душа? Я вспоминал безудержную ярость, с которой я размозжил голову Дэвида Тальбота, и содрогался. Неужели мне до сих пор страшно?
Хм-м-м… Взгляни на эти загорелые пальцы с блестящими ногтями. Прижимая кончики пальцев правой руки к губам, я ощутил дрожь.
Я сидел на темной церковной скамье, за несколько рядов от ограды, окружавшей алтарь, смотрел на темные статуи, картины и всякие позолоченные украшения, принадлежавшие этому холодному и пустому месту.
Уже первый час. Шум на Рю-Бурбон не стихает. Сколько там кипящей человеческой плоти! Я уже поохотился. И поохочусь еще.
Но ночь издавала успокаивающие звуки. На узких улочках квартала, в его квартирках, стильных барах, в изысканных коктейльных заведениях и ресторанах смеялись и разговаривали, обнимались и целовались смертные.
Я поудобнее устроился на скамье и вытянул на спинке руки, как на скамейке в парке. Моджо уже заснул в проходе, положив на лапы длинный нос.
Что, если бы я был таким, как ты, мой друг? Внешне похожий на дьявола, а внутри – большая свалка доброты. О да, доброты. Именно доброту чувствовал я, обхватывая его руками и зарываясь лицом в мех.
Но теперь в церковь вошел он.
Я почувствовал его присутствие, хотя и не мог поймать ни мыслей его, ни чувств, даже не слышал его шагов. Я не слышал, как открывается или закрывается входная дверь. Почему-то я знал, что он здесь. Он вошел в мой ряд и сел около меня, чуть поодаль.
Мы просидели молча много долгих минут, а потом он заговорил.
– Ты сжег мой домик, да? – спросил он тонким дрожащим голосом.
– Тебе ли меня винить? – спросил я в ответ с улыбкой, не сводя глаз с алтаря. – Кроме того, я тогда был человеком. Человеческая слабость. Хочешь переехать ко мне?
– Это означает, что ты простил меня?
– Нет, это означает, что я с тобой играю. За то, что ты мне устроил, я могу тебя даже уничтожить. Я еще не решил. Разве ты не боишься?
– Нет. Если бы ты намеревался расправиться со мной, то сделал бы это уже давно.
– Откуда такая уверенность? Я то не в себе, то прихожу в себя, то опять вне себя.
Долгая пауза, только Моджо хрипло и глубоко вздыхает во сне.
– Я рад тебя видеть, – сказал он. – Я знал, что ты победишь. Вот только не знал, каким образом.
Я не ответил. Но внутри меня все закипело. Почему мои достоинства и мои пороки вечно обращают против меня?
Но какой смысл обвинять, хватать его и трясти, требовать ответы? Может быть, их лучше не знать.
– Расскажи мне, что произошло, – сказал он.
– Не буду, – ответил я. – Зачем тебе это знать.
Неф разносил мягкое эхо наших приглушенных голосов. На позолоченных верхушках колонн и на лицах статуй играл колеблющийся свет свечей. Как же мне нравилась эта тишина и прохлада! И в самой-самой глубине души я не мог не признаться, что рад его приходу. Подчас любовь и ненависть служат одной и той же цели.
Я повернулся и посмотрел на него. Он сидел лицом ко мне, задрав одну ногу на скамью и положив руку на колено. Он был, как всегда, бледен – мерцание в темноте.
– Ты был прав насчет всего эксперимента, – сказал я. И подумал – хотя бы голос у меня спокойный.
– В чем же? – Никакой злобы в тоне, никакого вызова – просто едва уловимое желание знать. Какое утешение – смотреть на его лицо, чувствовать слабый пыльный запах поношенной одежды и дыхания дождя, приставший к его темным волосам.
– В том, что ты говорил мне, мой старый друг-любовник, – сказал я. – Что на самом деле я не хотел быть человеком. Что это мечта, причем мечта, основанная на фальши, дурацких иллюзиях и гордыне.
– Не утверждаю, что я тогда это понимал, – сказал он. – Я и сейчас не понимаю.
– О да, понимал. Прекрасно понимал. Всегда понимал. Может быть, ты достаточно долго прожил; может быть, ты всегда был сильнее. Но ты знал. Мне не нужна была слабость. Мне не нужна была ограниченность. Мне не нужны были омерзительные потребности и бесконечная уязвимость; мне не нужно было утопать в поту или обжигаться от холода. Мне не нужны были слепящая темнота, шумы, мешающие слушать, или же быстрая, лихорадочная кульминация эротической страсти; мне не нужна была заурядность, не нужно было уродство. Мне не нужно было одиночество; не нужна была постоянная усталость.
– Ты уже объяснял мне. Но должно было быть что-то… пусть небольшое… но хорошее!
– Что, как ты думаешь?
– Солнечный свет.
– Точно. Свет солнца на снегу; свет солнца на воде; свет солнца… на руках, на лице, раскрывший все потайные складки мира, словно он цветок, словно все мы – частицы одного вздыхающего организма. Свет солнца… на снегу.
Я замолчал. Я не хотел ему рассказывать. Я чувствовал, что предал самого себя.
– Это еще не все, – сказал я. – Было много всего. Только дурак этого не заметил бы. Как-нибудь ночью, возможно, когда мы будем снова сидеть в тепле и уюте, как будто ничего не произошло, я тебе расскажу.
– Но этого не хватило.
– Мне – нет. Уже нет.
Молчание.
– Может быть, это и есть самое лучшее, – сказал я, – открытие. Я больше не тешу себя самообманом. Теперь я знаю, как мне нравится быть маленьким дьяволом.
Я повернулся и одарил его своей самой симпатичной, самой злобной улыбкой.
У него хватило ума не поддаваться. Он издал долгий, почти беззвучный вздох и снова посмотрел на меня.
– Только ты мог бы уйти туда, – сказал он. – И вернуться.
Я хотел сказать, что это неправда. Но кто еще мог быть таким дураком, чтобы довериться Похитителю Тел? Кто еще кинулся бы в авантюру с таким безрассудством? И, перебирая в голове эти мысли, я осознал то, что должен был понять уже давно. Что я знал, на какой иду риск. Я расценивал его как плату. Демон говорил мне, что он – лжец; говорил, что он – пройдоха. Но я рискнул, так как иначе быть просто не могло.
Конечно, на самом деле Луи имел в виду другое; но в чем-то и это тоже. Это глубинная истина.
– Ты переживал, пока меня не было? – спросил я, переводя взгляд на алтарь.
– Я жил как в аду. – Ровный, спокойный тон.
Я не ответил.
– Каждый раз, когда ты рискуешь, это отражается на мне. Но это моя забота и моя вина.
– За что ты меня любишь? – спросил я.
– Ты сам знаешь, и всегда знал. Я хотел бы быть тобой. Хотел бы я испытать радость, которую ты чувствуешь постоянно.
– А боль, она тебе тоже нужна?
– Твоя боль? – Он улыбнулся. – Конечно. Твою разновидность боли, как говорится, я возьму на себя в любой момент.
– Ах ты самодовольный, циничный подонок, – прошептал я, и от подступившей злости кровь бросилась мне в лицо. – Ты был мне нужен – и ты отверг меня! Ты выгнал меня в смертную ночь. Ты отказал мне. Ты от меня отвернулся!
Горячность моего голоса застала его врасплох. И меня. Но я ничего не мог поделать, у меня опять тряслись руки, руки, которые сами собой набросились на фальшивого Дэвида, пусть даже все прочие смертоносные силы я держал при себе.
Он не проронил ни слова. На его лице отразились мелкие следы потрясения – легкое дрожание ресниц, растянувшийся, но затем смягчившийся рот, неуловимое кислое выражение, исчезнувшее так же быстро, как и появилось. Все это время он выдерживал мой обвиняющий взгляд, а потом медленно отвел глаза.
– Тебе помог твой смертный друг, Дэвид Тальбот, не так ли? – спросил он.
Я кивнул.
Но от простого упоминания его имени по всем моим нервам как будто пробежались кончиком раскаленной проволоки. Хватит уже страдать. Я больше не мог говорить о Дэвиде. И не стал бы говорить о Гретхен. И внезапно я осознал, что больше всего на свете мне хочется повернуться, обнять его и выплакаться у него на плече, чего я никогда не делал.
Как позорно. Как предсказуемо! Как пресно. И как приятно.
Я не стал.
Мы сидели в тишине. За витражами, отражавшими слабый свет уличных фонарей, то приближалась, то стихала негромкая городская какофония. Дождь возобновился, нежный теплый новоорлеанский дождь, под которым гулять так же просто, как и при тончайшем тумане.
– Я хочу, чтобы ты простил меня, – сказал он. – Хочу, чтобы ты понял – дело не в трусости, не в слабости. В тот раз я говорил тебе правду. Я не мог. Я не могу сделать человека таким! Пусть даже внутри этого смертного человека будешь ты. Я просто не мог.
– Я все это знаю.
Я попытался на этом остановиться. Но не мог. Моя вспыльчивость не унималась, моя чудесная вспыльчивость, заставившая меня швырнуть Дэвида Тальбота головой о стену.
Он заговорил снова:
– Я заслуживаю всего, что ты скажешь.
– А куда больше! – воскликнул я. – Но вот что мне нужно знать. – Я повернулся к нему лицом и произнес, стиснув зубы: – Ты всегда отказывал бы мне? Если бы остальные уничтожили мое тело – Мариус, кто-то еще, кто знал об этом, – а я остался бы в этом теле, как в ловушке, если бы я стал без конца приходить к тебе, умолять тебя и взывать, то ты, ты выгнал бы меня навсегда? Ты нарушил бы принципы?
– Не знаю.
– Не спеши с ответом. Поищи правду в своей душе. Ты знаешь. Пошевели своим гнусным воображением. Ты знаешь. Ты отверг бы меня?
– У меня нет ответа!
– Я тебя презираю! – произнес я горьким, резким шепотом. – Я должен бы уничтожить тебя – завершить то, что начал, создавая тебя. Превратить тебя в пепел и растереть его руками. Ты знаешь, это в моих силах. Вот так! Мне это все равно что смертному пальцем щелкнуть. Сжечь тебя, как я сжег твой домишко. И ничто не спасло бы тебя, ничто на свете.
Я свирепо глянул на него, на резкие изящные углы его невозмутимого лица, слабо фосфорецировавшего на фоне церковных теней. Какой красивой формы глубоко посаженные глаза с тонкими густыми черными ресницами. Какая идеальная нежная впадинка на верхней губе.
Ярость внутри меня кислотой разъедала вены и сжигала сверхъестественную кровь.
Но я не мог причинить ему вред. Мне и в голову бы не пришло исполнить эти жуткие трусливые угрозы. Я никогда не смог бы причинить вред Клодии. Создавать из ничего нечто – да. Подбрасывать в воздух обломки и смотреть, как они падают, – да. Но месть? Сухая, ужасная, противная месть. Что мне до нее?
– Подумай об этом, – прошептал он. – Ты мог бы создать еще кого-то после всего, что произошло? – Он пошел еще дальше. – Ты мог бы еще раз совершить Обряд Тьмы? И ты тоже не торопись с ответом. В поисках ответа загляни поглубже к себе в душу, как советовал мне. А когда найдешь его, можешь мне не рассказывать.
Потом он наклонился вперед, сокращая разделявшее нас расстояние, и прижал к моей щеке свои гладкие шелковые губы. Я намеревался отодвинуться, но он изо всех сил удерживал меня на месте, и я разрешил ему поцеловать себя холодным бесстрастным поцелуем; и теперь уже он отстранился, как скопище перерастающих одна в другую теней, не убирая руку с моего плеча, в то время как я не сводил глаз с алтаря.
Наконец я медленно поднялся, прошел мимо него и сделал Моджо жест просыпаться и идти.
Я прошел сквозь весь неф к выходу из церкви. Я нашел затененный уголок, где у статуи Святой Девы горят свечи, – альков, наполненный дрожащим приятным светом.
Мне вспомнились ароматы и звуки тропического леса. И зрелище маленькой выбеленной церкви на поляне, ее распахнутые двери и неестественный приглушенный звук колокола на странствующем ветру. И запах крови, хлещущей из ран на руках Гретхен.
Я поднял длинный фитиль, лежавший рядом, чтобы от него зажигать свечи, окунул его в старый огонек и зажег новый, горячий и желтый; он выровнялся, испуская резкое благоухание тающего воска.
Я уже было произнес: «За Гретхен», когда осознал, что зажег свечу совсем не ради нее. Я поднял глаза к лику Святой Девы. Я увидел распятие над алтарем Гретхен. Меня снова окружил мирный тропический лес, и я увидел палату с маленькими кроватками. За Клодию, мою бесценную прекрасную Клодию? Нет, и не за нее, как бы я ее ни любил…
Я знал, что эта свеча – за меня.
За того темноволосого человека, который любил Гретхен в Джорджтауне. За грустного заблудившегося голубоглазого демона, каким я был прежде, чем стать тем человеком. За смертного мальчика двухвековой давности, который уехал в Париж с драгоценностями матери в кармане и со свертком одежды за спиной. За испорченное импульсивное создание, которое держало на руках умирающую Клодию.
За всех них и за дьявола, который стоит здесь, потому что любит свечи и любит зажигать огонек от огонька. Потому что не осталось ни Бога, в которого бы он верил, ни святых, ни Царицы Небесной.
Потому что он сдержал свою озлобившуюся вспыльчивость и не уничтожил своего друга.
Потому что он был одинок, как близко ни оказывался подле него тот друг. И потому что к нему вернулось счастье, как недуг, который он никогда не мог побороть, потому что его губы расползались в дьявольской улыбке, внутри билась жажда и усиливалось желание просто выйти на воздух и бродить по гладким и блестящим городским улицам.
Да. Эта свечка, эта чудесная крошечная свечка, благодаря которой свет на земле стал еще ярче, – за Вампира Лестата! И она будет гореть в пустой церкви всю ночь среди остальных огоньков. Будет гореть завтра, когда придут верующие; когда в эти двери войдет солнце.
Не угасай, свечка, ни во тьме, ни на солнце.
Да, за меня.
Глава 32
Вы думали, на этом история и закончилась? И четвертый том «Вампирских хроник» подошел к концу?
Да, пора завершать мою повесть. И на самом деле ей лучше было бы закончиться, когда я зажег ту свечку, но это не так. Что я и понял на следующую ночь, едва открыв глаза.
Прошу вас перейти к тридцать третьей главе, чтобы выяснить, что же произошло. Или можете закрыть книгу сейчас, если хотите. Возможно, в результате вы пожалеете, что этого не сделали.
Глава 33
Барбадос.
Он все еще был там, когда я нагнал его. В отеле у моря.
Прошли недели, хотя почему я упустил столько времени, не знаю. Доброта здесь ни при чем, трусость тоже. Тем не менее я ждал. Я наблюдал за реставрацией великолепной квартирки на Рю-Рояль, шаг за шагом, пока в ней не появилось хотя бы несколько изысканно обставленных комнат, в которых можно было проводить время, обдумывать все, что случилось и что еще могло произойти. Луи вернулся, чтобы поселиться вместе со мной, и занимался поисками письменного стола, максимально похожего на тот, что стоял в гостиной более сотни лет тому назад.
Дэвид оставил у моего человека в Париже массу посланий. Он скоро уезжает на карнавал в Рио. Ему меня не хватает. Он хотел бы, чтобы я присоединился к нему.
С его поместьем все устроилось прекрасно. Он стал Дэвидом Тальботом, молодым кузеном старика, который умер в Майами, и новым владельцем дома своих предков. Этого добилась Таламаска, восстановив состояние, что он им оставил, и назначив ему щедрую пенсию. Он ушел с поста Верховного главы ордена, но оставил за собой свой кабинет. Он навсегда останется под их крылом.
Если мне нужно, у него появился для меня небольшой подарок. Медальон с миниатюрой Клодии. Он его отыскал. Изящный портрет; тонкая золотая цепочка. Он у него с собой, если я захочу, он мне его пришлет. Или, может быть, я сам приеду навестить его и сам приму подарок из его рук?
Барбадос. Он чувствовал искушение вернуться, так сказать, на место преступления. Погода стоит чудесная. Он писал, что опять перечитывает «Фауста». У него столько ко мне вопросов. Когда я приеду?
Он больше не видел ни Бога, ни дьявола, хотя перед отъездом из Европы провел немало времени в разнообразных парижских кафе. На поиски Бога или дьявола он эту жизнь тратить тоже не собирался.
«Только ты знаешь, каким я стал, – писал он. – Я по тебе скучаю, я хочу с тобой поговорить. Неужели ты не можешь вспомнить, что я помог тебе, и простить мне все остальное?»
Именно этот морской курорт он мне и описывал – красивые здания, покрытые розовой штукатуркой, расползающиеся во все стороны крыши бунгало, мягкие ароматные сады и бесконечные виды на чистый песок и искрящееся прозрачное море.
Я пошел к ним только после того, как побывал в садах на горе, постоял на тех же утесах, что посещал и он, окинул взглядом поросшие лесами горы и прислушался к ветру, обитавшему в ветвях шумно щелкающих кокосовых пальм.
Рассказывал ли он мне о горах? О том, что можно посмотреть вниз прямо на глубокие мягкие долины, что соседние склоны кажутся такими близкими, что их можно потрогать рукой – а на самом деле они далеко-далеко.
Кажется, нет, но цветы он описал прекрасно – похожее на креветку растение с крошечными цветками, орхидеи на дереве и рыжие лилии, неистово-красные лилии с нежными дрожащими лепестками, папоротник, приютившийся в глубоких прогалинах, восковые «райские птицы» и высокие жесткие ивы с сережками, и крошечные, с желтой шейкой бутоны трубной лозы.
Мы сходим туда вместе, говорил он.
Ладно, так мы и поступим. Тихий хруст гравия. О да, нигде высокие покачивающиеся пальмы не бывают так прекрасны, как на этих утесах.
Я ждал, минула полночь, и тогда я спустился к раскинувшемуся у моря отелю. Во дворе, как он и сказал, было полно розовых азалий, больших восковых слоновьих ушей и темных глянцевых кустов.
Я прошел через пустую неосвещенную столовую, длинное открытое крыльцо и спустился на пляж. Я зашел далеко на мелководье, чтобы увидеть бунгало с крытыми верандами на расстоянии. Я сразу его нашел.
Двери в маленький внутренний дворик были открыты нараспашку, желтый свет, исходящий из помещения, заливал небольшую мощеную площадку, расписной стол и стулья. Он сидел внутри, как на освещенной сцене, лицом к ночи и к воде, и печатал на маленьком переносном компьютере; в тишине упруго щелкали клавиши, заглушая даже ленивую, мягко пенящуюся волну.
Из одежды на нем ничего не было, за исключением пары белых пляжных шорт. Кожа приобрела темно-золотистый оттенок, словно он целыми днями спал на солнце. В темно-коричневых волосах просвечивали золотые полосы. Его голые плечи и гладкая безволосая грудь слегка светились. Мускулы на талии очень твердые. Бедра отливают золотистым блеском, а на тыльной стороне рук – редкие волоски.
Пока я был жив, я эти волоски даже не замечал. Или, может быть, они мне не нравились. Правда, не знаю. Теперь они мне нравились. Нравилось и то, что он выглядел в этом теле чуть худее, чем я. Да, все кости тела выделяются заметнее, в соответствии, полагаю, с неким современным стилем здоровой жизни, который утверждает, что необходимо следовать моде и недоедать. Ему это шло, шло и телу; полагаю, шло им обоим.
Комната за его спиной выглядела очень аккуратной и простоватой, в стиле островов, с балками до потолка и выложенным розовой плиткой полом. Кровать накрыта пестрым, пастельных оттенков покрывалом с неровным геометрическим индийским узором. Шкаф и тумбочки – белые, разрисованные яркими цветами. Освещение щедрое, благодаря большому количеству незатейливых ламп.
Я не мог не улыбнуться, видя, как он сидит среди этой роскоши и самозабвенно печатает, – Дэвид-ученый, глаза пляшут от наплыва идей в голове.
Приблизившись, я обратил внимание, что он очень чисто выбрит. Ногти подстрижены и отполированы – вероятно даже профессиональным маникюристом. Волосы остались прежней густой копной, с которой я так небрежно обращался, находясь в этом теле, но их тоже подстригли и придали им куда более приятную форму. Рядом с ним лежал экземпляр «Фауста», открытый, на нем – ручка, многие страницы загнуты или отмечены маленькими серебристыми скрепками.
Я все еще неторопливо производил осмотр, отметив стоящую рядом бутылку шотландского виски и хрустальный бокал с толстым дном, пачку маленьких тонких сигар, когда он поднял глаза и увидел меня.
Я стоял на песке вдалеке от крыльца с низкими бетонными перилами, но при свете меня вполне можно было разглядеть.
– Лестат, – прошептал он. Его лицо просветлело. Он немедленно поднялся и направился ко мне знакомой грациозной походкой. – Слава Богу, ты пришел.
– Думаешь? – спросил я. Я вспомнил тот момент в Новом Орлеане, когда я смотрел, как суетливо выбегает из Кафе дю Монд Похититель Тел, и решил, что с другим человеком внутри это тело сможет двигаться, как пантера.
Он хотел обнять меня, но когда я застыл и чуть-чуть отодвинулся, он остановился и сложил руки на груди – жест, принадлежавший, казалось, всецело этому телу, так как я не помнил, чтобы видел его до Майами. Эти руки были тяжелее, чем его прежние руки. И грудь шире.
Она выглядела ужасно голой. А глаза – чистыми и неистовыми.
– Я скучал по тебе, – сказал он.
– Правда? Несомненно, ты здесь не отшельником живешь.
– Нет, с остальными я, на мой взгляд, встречаюсь даже слишком часто. Чересчур много званых ужинов в Бриджтауне. Несколько раз приезжал и уезжал мой друг Эрон. И другие члены здесь бывают. – Он сделал паузу. – Я не могу выносить их общество, Лестат. Я не могу находиться в поместье Тальботов со слугами и притворяться, что я сам себе кузен. В том, что произошло, есть нечто отвратительное. Иногда я не могу смотреть в зеркало. Но об этой стороне мне говорить не хочется.
– Почему же?
– Это временный период, период адаптации. Шок в конце концов пройдет. У меня еще столько дел. Как же я рад, что ты пришел, я чувствовал, что ты придешь. Сегодня утром я чуть не уехал в Рио, но у меня появилось отчетливое чувство, что вечером придешь ты.
– Ну и ну.
– В чем дело? Почему такое мрачное лицо? Почему ты злишься?
– Не знаю. В последнее время мне не требуются причины, чтобы злиться. Я должен бы быть счастлив. И скоро буду. Так всегда бывает – все-таки сегодня важная ночь.
Он пристально посмотрел на меня, пытаясь вычислить, что я имел в виду, или же, что более важно, как правильнее ответить.
– Заходи в дом, – наконец сказал он.
– Может, посидим в тени, на крыльце? Мне нравится бриз.
– Конечно, как скажешь.
Он зашел в комнатку, чтобы взять бутылку виски, налил себе выпить и присоединился ко мне за деревянным столиком. Я только что уселся на один из стульев и смотрел прямо в море.
– Так чем ты занимался? – спросил я.
– С чего же мне начать? – спросил он. – Я постоянно делаю записи – стараюсь описать все мелкие ощущения, новые открытия.
– Остаются ли сомнения в том, что ты прочно закрепился в этом теле?
– Никаких сомнений. – Он сделал большой глоток виски. – И, видимо, никаких ухудшений не наблюдается. Знаешь, я ведь этого боялся. Боялся даже когда в этом теле был ты, но не хотел говорить. У нас и без того было достаточно причин для беспокойства, правда? – Он повернулся, посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся. И тихим потрясенным голосом добавил: – Ты смотришь на человека, которого знаешь изнутри.
– Да нет, не особенно, – ответил я. – Расскажи мне, как ты справляешься с восприятием посторонних… тех, кто ни о чем не догадывается. Как женщины, приглашают тебя в спальни? А молодые мужчины?
Он посмотрел вдаль, на море, и в его лице внезапно появилась некоторая горечь.
– Ты знаешь ответ. Подобные приключения – не мое призвание. Мне нет до них дела. Я не говорю, что не получил удовольствия от нескольких сафари в спальне. Но меня ждут более важные дела, Лестат, куда более важные дела.
Я хочу съездить в разные места – в страны и города, которые всегда мечтал посетить. Рио – только начало. Я должен разрешить некоторые тайны, прояснить определенные вещи.
– Да, могу себе представить.
– Когда мы в последний раз были вместе, ты произнес очень важные слова. Ты сказал – конечно, ты не пожертвуешь Таламаске еще и эту жизнь. Так вот, они ее не получат. Моя первостепенная мысль заключается в том, что я не должен прожить ее зря. Что я должен сделать нечто чрезвычайно важное. Конечно, в каком именно направлении, я сразу не пойму. Будет период путешествий, приобретения знаний, оценки, а потом уже я приму решение относительно направления. И, погружаясь в исследования, я пишу. Я все записываю. Иногда целью мне кажутся сами записи.
– Понимаю.
– Мне о стольком хочется тебя спросить. Меня преследуют вопросы.
– Почему? Какие вопросы?
– О том, что ты пережил за те несколько дней, и сожалеешь ли ты хоть немного о том, что мы так скоро окончили это приключение.
– Какое приключение? Ты говоришь о моей жизни в качестве смертного человека?
– Да.
– Не жалею.
Он заговорил было снова, но резко замолчал. Потом продолжил.
– Что ты из этого вынес? – спросил он тихим пламенным голосом.
Я повернулся и опять взглянул на него. Да, лицо несомненно стало более угловатым. Значит, личность обострила черты лица и придала ему больше определенности. Прекрасно, решил я.
– Прости, Дэвид, я отвлекся. Спроси еще раз.
– Что ты из этого вынес? – спросил он с привычным терпением. – Какой урок?
– Не знаю, был ли это урок, – ответил я. – И мне нужно время, чтобы понять, чему я научился.
– Да, конечно, я понимаю.
– Могу сказать тебе, что у меня появилась новая страсть к приключениям, к странствиям, совсем как ты описываешь. Я хочу вернуться в тропики. Когда я ходил навестить Гретхен, то почти их не видел. Там есть один храм. Я хочу увидеть его снова.
– Ты никогда не рассказывал мне, что там произошло.
– Ну да, я рассказывал, но ты тогда был Рагланом. Свидетелем моей исповеди стал Похититель Тел. Черт, ну зачем ему нужно было красть такое? Но я уклоняюсь от темы. Существует столько мест, где мне тоже хочется побывать.
– Да.
– Новое влечение ко времени, к будущему, к тайнам естественного мира. Стать наблюдателем, которым я стал в ту давнюю ночь в Париже, когда меня силой превратили в то, что я есть. Я утратил иллюзии. Я лишился своей любимой лжи. Можешь сказать, что я пережил тот момент заново и Родился во Тьму по собственной воле. Да с какой радостью!
– Ну да, я понимаю.
– Правда? Тем лучше для тебя.
– Почему ты так говоришь? – Он понизил голос и заговорил медленнее. – Тебе требуется мое понимание, так же как и мне – твое?
– Ты меня никогда не понимал, – ответил я. – О, это не обвинение. Ты живешь с иллюзиями на мой счет, и благодаря им ты можешь выносить мои визиты, беседовать со мной, даже давать мне приют и помогать мне. Знай ты, кто я на самом деле, ты бы никогда этого не сделал. Я пытался тебе объяснить. Говоря о своих снах…
– Ты ошибаешься. Это говорит твое тщеславие, – сказал он. – Ты любишь воображать, что ты хуже, чем есть на самом деле. Какие сны? Не помню, чтобы ты говорил со мной о снах.
Я улыбнулся.
– Не помнишь? Подумай, Дэвид, это было давно. Мой сон про тигра. Я боялся за тебя. А теперь угроза, присутствовавшая в том сне, воплотится в жизнь.
– О чем ты?
– Я сделаю это с тобой, Дэвид. Я заберу тебя с собой.
– Что? – Он перешел на шепот. – Что ты такое говоришь? – Он наклонился вперед, стараясь разглядеть выражение моего лица. Но свет был сзади, а смертное зрение для этого недостаточно остро.
– Я же только что сказал. Я сделаю это с тобой, Дэвид.
– Зачем, зачем ты так говоришь?
– Потому что это правда, – ответил я. Я встал и ногой оттолкнул стул в сторону.
Он уставился на меня. Только сейчас его тело отреагировало на опасность – я увидел, как напряглись превосходные мускулы его рук. Он не сводил с меня глаз.
– Зачем ты так говоришь? Ты не мог бы так поступить со мной, – сказал он.
– Конечно, мог бы. Так и будет. Все это время я твердил тебе, что во мне живет зло. Я говорил тебе, что я и есть дьявол. Дьявол из твоего «Фауста», дьявол из твоих видений, тигр из моего сна!
– Нет, это неправда. – Он вскочил на ноги, перевернув за собой стул, и чуть не потерял равновесие. Он шагнул назад, в комнату. – Ты не дьявол, и ты сам это понимаешь. Не делай этого со мной! Я запрещаю! – Он стиснул зубы, произнося последние слова. – В сердце своем ты такой же человек, как и я. И ты этого не сделаешь.
– Черта с два, – ответил я. Я засмеялся. Ничего не мог с собой поделать. – Дэвид, Верховный глава ордена. Дэвид, жрец кандомбле.
Он попятился по выложенному плиткой полу, теперь полностью осветились его лицо и напряженные, сильные мускулы рук.
– Хочешь со мной драться? Это бесполезно. Никакая сила на земле меня не остановит.
– Я скорее умру, – сказал он тихим придушенным голосом. Его лицо темнело, к нему приливала кровь. Ах, кровь Дэвида.
– Я не дам тебе умереть. Что же ты не вызываешь своих старых бразильских духов? Уже не помнишь, как это делается, да? Сердце у тебя к этому не лежит. Но, если ты их и вызовешь, пользы не будет.
– Ты не можешь этого сделать, – сказал он, пытаясь овладеть собой. – Ты не сможешь отплатить мне таким образом.
– Да, вот так дьявол расплачивается со своими помощниками!
– Лестат, я же помог тебе справиться с Рагланом! Я помог тебе восстановить твое тело, и где же твоя клятва верности? Куда делись твои слова?
– Я обманул тебя, Дэвид. Я обманываю как себя, так и всех остальных. Вот чему меня научила моя экскурсия в этой плоти. Дэвид, ты меня удивляешь. Ты злишься, очень злишься, но не боишься. Ты похож на меня, Дэвид – вы с Клодией единственные, кто действительно обладает моей силой.
– Клодия, – кивнул он. – Ах да, Клодия. У меня есть для тебя кое-что, дорогой друг. – Он отошел, намеренно повернувшись спиной, чтобы я оценил бесстрашие жеста, и медленно, отказываясь торопиться, подошел к стоявшему у кровати сундуку. Когда он обернулся, в руке его был маленький медальон. – Из Таламаски. Медальон, что ты описывал.
– А, медальон. Давай сюда. – Только сейчас я заметил, как дрожат его руки, управляясь с овальным золотым футлярчиком. И пальцы, не так уж хорошо он с ними знаком, правда? Наконец он открыл его и швырнул мне; я посмотрел на миниатюру – ее лицо, ее глаза, ее золотые кудри. Ребенок, глядящий на меня из-под маски невинности. Или это не маска?
И постепенно из обширного затуманенного водоворота памяти выплыл момент, когда я впервые бросил взгляд на эту безделушку с золотой цепочкой… когда на темной грязной улице я наткнулся на зачумленную лачугу, где лежала ее мертвая мать, а сам смертный ребенок стал пищей для вампира – крошечное белое тельце беспомощно трепетало в объятиях Луи.
Как же я смеялся над ним, как тыкал в него пальцем, а потом схватил с вонючей постели тело мертвой женщины – матери Клодии – и принялся танцевать с ним по комнате. А на ее шее поблескивали золотая цепь и медальон, ибо даже самый наглый вор не вошел бы в лачугу, чтобы украсть пустячок из самой утробы чумы.
Роняя бедный труп, я схватил его левой рукой. Замок сломался, я раскрутил цепочку над головой, словно небольшой трофей, и бросил в карман, переступая через тело умирающей Клодии, чтобы побежать по улице вдогонку за Луи.
Только несколько месяцев спустя я обнаружил его в том самом кармане и поднес его к свету. Когда писали этот портрет, она была живым ребенком, но Темная Кровь придала ей то же приторное совершенство, что и художник. Это была моя Клодия, и я оставил медальон в сундуке, а как он попал в Таламаску или в другое место, я не знаю.
Я держал его в руках. Я поднял глаза. Я как будто только что побывал в том полуразрушенном доме, но вернулся сюда и увидел Дэвида. Он что-то говорил, но я его не слышал, а теперь до меня отчетливо донесся его голос.
– Ты сделаешь это со мной? – спросил он, и тембр голоса выдал его точно так же, как и дрожащие руки. – Посмотри на нее. Ты сделаешь это со мной?
Я взглянул на ее крошечное личико, а потом на него.
– Да, Дэвид, – сказал я. – Я говорил ей, что повторю все заново. И повторю с тобой.
Я перебросил медальон из комнаты через крыльцо, через песок – в море. Цепочка на миг оставила на небе золотую царапину, а потом исчезла, словно растворилась в прозрачном свете.
Он отскочил назад с удивившей меня скоростью и прижался к стене.
– Не надо, Лестат.
– Не спорь со мной, старый друг. Не трать зря силы. У тебя впереди еще целая ночь открытий.
– Ты этого не сделаешь! – выкрикнул он так низко, что его голос больше походил на гортанный рев. Он сделал выпад, как будто считал, что сможет сбить меня с ног, ударил двумя кулаками в грудь, но я не пошевелился. Он упал, ударился и уставился на меня с выражением неподдельного гнева в полных слез глазах. Кровь опять бросилась ему в лицо, отчего оно стало еще темнее. И только теперь, увидев всю тщетность любой попытки защититься, он решил бежать.
Не успел он домчаться до крыльца, как я схватил его за горло. Пока он бешено сопротивлялся, как зверь, чтобы оторвать от себя мои пальцы и высвободиться, я массировал его шею. Я медленно приподнял его и, легко подставив под его затылок левую руку, впился зубами в тонкую, ароматную молодую кожу и принял первый пузырящийся поток крови.
Ах, Дэвид, любимый Дэвид. Никогда еще я не погружался в душу, которую так хорошо знал. Что за густые и удивительные картины меня окружили: мягкий, прекрасный солнечный свет, рассекающий заросли секвой, хруст высокой травы в вельдте, грохот огромного ружья и дрожание земли под гулкими слоновьими шагами. Я увидел все: все бесконечные летние дожди, омывающие джунгли, вода, затопляющая сваи и крыльцо, сверкающая в небе молния, а за ними – бунтующее, грохочущее, обвиняющее сердце: «Ты меня предал, ты меня предал, ты забираешь меня против воли», – и густая, вкусная, соленая, жаркая кровь.
Я отбросил его назад. Для начала хватит. Я смотрел, как он с трудом поднимается на колени. Что видел он в те секунды? Узнал ли он, как темна и своевольна моя душа?
– Ты меня любишь? – сказал я. – Я твой единственный друг во всем мире?
Я наблюдал, как он ползет по полу. Он ухватился за ножку кровати и поднялся, потом у него закружилась голова, и он снова упал. И опять постарался встать.
– Ну давай, помогу! – сказал я. Я развернул его, поднял и вонзил зубы в прежние крошечные ранки.
– Ради Бога, прекрати, не надо. Лестат, я тебя умоляю, не надо.
Зря умоляешь, Дэвид. О, какое восхительное молодое тело, отталкивающие меня руки – какая же у тебя воля, даже в трансе, мой прекрасный друг. А теперь мы с тобой – в старой доброй Бразилии, не правда ли, в крошечной комнатке: он вызывает по именам духов кандомбле, вызывает, и что, они придут?
Я выпустил его. Он снова опустился на колени, накренился вбок, уставился в пространство. Для второй атаки достаточно. В комнате поднялся слабый грохот. Слабый стук.
– Так у нас здесь целая компания? Маленькие невидимые друзья?
Да, посмотри, зеркало шатается. Сейчас упадет!
Оно рухнуло на плитки, вывалилось из рамы и взорвалось осколками света. Он опять хотел подняться.
– Знаешь, какие они на ощупь, Дэвид? Ты меня слышишь? Как шелковые флажки. Такие вот, слабенькие.
Я следил, как он поднимается на колени. Он опять пополз по полу. Неожиданно он встал и бросился вперед. Он схватил лежавшую у компьютера книгу и, обернувшись, бросил ею в меня. Она упала у ног. У него кружилась голова. Он едва мог стоять, его глаза покрылись пеленой.
А потом он повернулся и практически выпал на крыльцо, споткнулся о перила и оказался на пляже.
Я пошел за ним, он, спотыкаясь, брел по белому песчаному склону. Жажда усиливалась, понимая только то, что всего несколько секунд назад здесь была кровь, ей нужно еще. Добравшись до воды, он остановился, пошатнулся, от обморока его удерживала лишь железная воля.
Я взял его за плечо и ласково обнял правой рукой.
– Нет, будь ты проклят, проклят. Нет, – сказал он. Собрав остатки силы, он ударил меня, толкнул кулаком в лицо, но только в кровь ободрал костяшки пальцев, столкнувшись с неподатливой кожей.
Я скрутил его, глядя, как он пинает меня ногами, вновь и вновь бьет мягкими бессильными руками; и я еще раз зарылся лицом ему в шею, лизнул ее, понюхал и в третий раз впился в него зубами. Мммм… вот это уже экстаз. Интересно, могло бы то, старое тело, изношенное возрастом, угостить меня таким блюдом? Его горячая рука на моем лице. Какой ты сильный. Очень сильный. Да, дерись со мной, дерись, как я дрался с Магнусом. Как приятно, что ты сопротивляешься. Мне это нравится. Правда.
Что у нас на этот раз, когда я впадаю в забытье? Самые чистые молитвы, обращенные не к богам, в которых мы не верим, не к распятому Христу, не к старой Деве-царице. Но ко мне.
– Лестат, друг мой. Не лишай меня жизни. Не надо. Отпусти меня.
М-м-м-м. Я еще крепче обхватил его рукой вокруг груди. Потом отстранился, облизав рану.
– Ты плохо выбираешь друзей, Дэвид, – прошептал я, слизывая кровь с губ и заглядывая ему в лицо.
Он был почти мертв. Какие у него красивые, сильные, белые зубы и мягкие губы. Под веками видны одни белки. А как боролось его сердце – это молодое, безупречное смертное сердце. Сердце, накачавшее кровью мой мозг. Сердце, что подскочило и остановилось, – и я с испугом увидел приближение смерти.
Я приложил ухо к его груди и прислушался. Я услышал, как визжит «скорая помощь» в Джорджтауне.
«Не дай мне умереть».
Я увидел его в том сне о гостинице, с Луи и Клодией. Может быть, все мы – разрозненные порождения снов дьявола?
Сердце замедляло темп. Момент вот-вот настанет. Еще один глоток, друг мой.
Я поднял его и перенес через пляж обратно в комнату. Я поцеловал ранки, лизнул их и еще раз запустил в них зубы. Его тело дрогнуло в спазме, с губ сорвался вскрик.
– Я люблю тебя, – прошептал он.
– Да, а я люблю тебя, – ответил я, задыхаясь, так как в рот мне опять хлынула жаркая кровь.
Сердце забилось еще медленнее. Он проваливался в воспоминания, возвращаясь назад, к колыбели, когда не было еще резких, отчетливых, членораздельных слов, стеная про себя, словно подпевая старой, знакомой мелодии.
Ко мне прижималось его теплое тело, руки болтались, глаза закрылись, голову я удерживал пальцами левой руки. Тихий стон угас, и сердце внезапно забилось мелким, приглушенным стуком.
Я впивался зубами в собственный язык, пока боль не стала невыносимой. Я снова и снова протыкал его клыками, поворачивая его то вправо, то влево, а потом прижал свой рот к его рту, заставил его раскрыть губы, и кровь потекла ему на язык.
Мне показалось, что время остановилось. Я узнал вкус собственной крови, залившей рот и мне, и ему. Вдруг его зубы сомкнулись на моем языке. Они укусили меня резко, угрожающе, со всей смертной силой, оставшейся в его челюсти, и цапали сверхъестественную плоть, выскребая кровь из сделанных мной порезов, с такой силой, что, казалось, они отсекли бы мне язык, если бы смогли.
Его пронзил жестокий спазм. Спина под моей рукой изогнулась. А когда я отстранился, чувствуя жгучую боль во рту, на языке, он жадно приподнялся, все еще ничего перед собой не видя. Я разорвал запястье. Держи, любовь моя. Вот она, не по капле, но из самой реки моего существа. И когда его рот сомкнулся на этот раз, боль достигла самых корней моего организма, запутывая сердце в пылающую сеть. Ради тебя, Дэвид. Пей еще. Будь сильным. Теперь я от этого не умру, как бы долго оно ни продлилось. Воспоминания о тех ушедших временах, когда я этого страшился, показались мне неловкими, глупыми, они померкли и оставили нас наедине.
Я встал на колени, поддерживая его, зная, что так и должно быть, пусть боль распространится по всем венам, по всем артериям. Мне стало так жарко и так больно, что я медленно улегся на пол, не выпуская его из рук, прижимая запястье к его рту, поддерживая ладонью его голову. У меня закружилась голова. Мое собственное сердце угрожающе замедлило ход. Он все пил и пил, и на фоне яркой темноты перед закрытыми глазами я увидел тысячи крошечных сосудов, опустошенных, съежившихся и провисших, словно тонкие черные нити разорванной ветром паутины.
Мы снова очутились в номере новоорлеанской гостиницы, в кресле молча сидела Клодия. За окном то и дело подмигивали тусклые городские лампы. Какое темное, тяжелое небо, никакого намека на будущее городское зарево.
«Я же говорил, что сделаю все еще раз», – сказал я Клодии.
«Да что ты мне объясняешь? Ты прекрасно знаешь, что я не задавала тебе никаких вопросов. Я уже много лет как умерла».
Я открыл глаза.
Я лежал в комнате, на холодных плитках, он стоял надо мной, смотрел на меня, и в лицо ему светил электрический свет. У него больше не было карих глаз; они наполнились мягким, слепящим, золотистым светом. Его гладкую смуглую кожу уже завоевывал сверхъестественный блеск, благодаря чему она чуть-чуть побледнела и стала еще больше отливать золотом, в волосах уже появился тот самый зловещий, великолепный глянец, освещение стремилось к нему, отражалось в нем, играло вокруг, будто считало его неотразимым, – высокая ангельская мужская фигура с озадаченным и ошеломленным выражением лица.
Он молчал. А я не мог разгадать, что скрывается за этим выражением. Только я знал, какие он узрел чудеса. Я знал, что он видит, когда оглядывается вокруг – смотрит на лампу, на осколки зеркала, на небо за окном. Он опять всмотрелся в меня.
– Тебе плохо, – прошептал он. В его голосе зазвучала наша кровь! – Да? Тебе плохо?
– Ради Бога, – ответил я резким, хриплым голосом. – Неужели тебя волнует, плохо мне или нет?
Он отпрянул от меня, расширив глаза, словно каждая секунда придавала его глазам новую силу, потом отвернулся и как будто забыл, что я рядом. Из его глаз не исчезало зачарованное выражение. А потом, согнувшись от боли, с искаженным лицом он направился на крыльцо и пошел к морю.
Я сел. Комната мерцала. Я отдал ему всю кровь, какую он смог выпить, до последней капли. Меня парализовало от жажды, я едва мог удержаться на месте. Я обхватил колени руками и постарался сидеть, не падая от слабости на пол. Я поднес левую руку к свету, чтобы рассмотреть ее получше. На ней вздулись вены, разглаживающиеся на глазах.
Я чувствовал, как жадно забилось мое сердце. Но, невзирая на острую, ужасную жажду, я понимал, что она подождет. Я не лучше больного смертного знал, почему я излечиваюсь после случившегося. Но над моим восстановлением усиленно и ровно работал некий внутренний мотор, как будто ему непременно нужно избавить от слабости сложную смертоносную машину, дабы она снова отправилась на охоту.
Поднявшись наконец с пола, я пришел в себя. Я отдал ему намного больше крови, чем когда-либо отдавал другим. Все кончено. Я все сделал правильно. Он будет таким сильным! Господи, он будет сильнее, чем многие старейшие.
Но пора его найти. Он умирает. Необходимо помочь ему, пусть даже он захочет меня оттолкнуть.
Я нашел его по пояс в воде. Его трясло, и от боли он хватал ртом воздух, хотя и старался молчать. Он нашел медальон и обернул золотую цепочку вокруг сжатой в кулак руки.
Я обнял его, чтобы успокоить. Я сказал, что это продлится совсем недолго. А когда кончится, то кончится навсегда. Он кивнул.
Через какое-то время я почувствовал, что его мускулы расслабляются. Я уговорил его выйти на мелководье, где идти будет проще, несмотря на нашу силу, и мы вместе пошли по пляжу.
– Тебе нужно пойти на охоту, – сказал я. – Как ты думаешь, ты справишься один?
Он покачал головой.
– Ладно, я пойду с тобой и покажу тебе все, что нужно знать. Но сначала идем к водопаду, вон туда. Я его слышу. А ты? Там ты сможешь вымыться.
Он кивнул и последовал за мной, наклонив голову, все еще обхватив живот руками; периодически его тело напрягалось от последних жестоких судорог, неизменно сопутствующих смерти.
Когда мы добрались до водопада, он легко переступил через опасные камни, снял шорты и встал прямо под шумный поток, омывший его лицо, тело и широко раскрытые глаза. В какой-то момент он встряхнулся и выплюнул воду, случайно попавшую в рот.
Я наблюдал за ним, чувствуя, как с каждой секундой ко мне возвращаются силы. Я подпрыгнул над водопадом и приземлился на утесе. Внизу осталась его крошечная фигурка – она отступила, вся в пене, и посмотрела на меня.
– Можешь подойти ко мне? – тихо произнес я.
Он кивнул. Отлично, он услышал. Он отошел назад и совершил гигантский прыжок, поднявшись прямо из воды, приземлился на склоне утеса в нескольких ярдах от меня, легко ухватившись руками за скользкие камни. По ним он и вскарабкался ко мне, ни разу не оглянувшись вниз.
Меня откровенно изумила его сила. Но дело не просто в силе. Дело в его полном бесстрашии. А сам он, казалось, напрочь обо всем забыл. Он просто осматривался, глядя на пробегавшие мимо облака, на тихо мерцающее небо. Он посмотрел на звезды, затем – на джунгли, спускающиеся за высокими скалами.
– Ты испытываешь жажду? – спросил я. Он кивнул, задержав на мне мимолетный взгляд, а потом посмотрел на море.
– Хорошо, тогда мы вернемся в твои комнаты, ты оденешься для прогулок по смертному миру, и мы отправимся в город.
– Так далеко? – спросил он. Он указал на горизонт. – В том направлении плывет небольшой катер.
Я мысленно поискал его и увидел катер глазами человека на борту. Жестокое непривлекательное существо. Контрабанда. Он злился, что его пьяные товарищи оставили его завершить рейс в одиночку.
– Ладно, – сказал я. – Пойдем вместе.
– Нет, – ответил он. – Думаю, мне лучше пойти… одному. – Он повернулся, не дожидаясь ответа, и быстро, грациозно спустился на пляж. Он, как полоска света, прошел по воде, нырнул в волны и поплыл сильными быстрыми гребками.
Я спустился по краю утеса, нашел узкую неровную тропинку и апатично шел по ней, пока не вернулся в комнату. Я уставился на обломки – разбитое зеркало, перевернутый стол, лежащий на боку компьютер, упавшая на пол книга. На крыльце валялся стул. Я развернулся и вышел.
Я пошел назад, в сады. Луна стояла очень высоко, и, следуя посыпанной гравием тропе, ведущей по самому краю, я поднялся на вершину, где и остановился, глядя на тонкую ленточку белого пляжа и мягкое беззвучное море. Наконец я сел, прислонившись к стволу большого темного дерева, расправившего надо мной ветви в виде легкого купола, я положил руку на колено, а голову – на руку. Так прошел час.
Я услышал, что он приближается, поднимается по тропе быстрым легким шагом, какого не бывает у смертных. Подняв глаза, я увидел, что он вымылся и оделся, даже причесался, к нему пристал запах выпитой крови – наверное, он шел от губ. Совсем не слабое, плотское создание, как Луи, о нет, намного сильнее. Но процесс еще не закончился. Боль, вызванная смертью, прошла, но его тело на глазах твердело, а неяркий золотистый блеск кожи радовал глаз.
– Зачем ты это сделал? – спросил он. Не лицо, а маска. Она сверкнула гневом. – Зачем ты это сделал?
– Не знаю.
– Вот только этого не надо. И не надо мне твоих слез. Зачем ты это сделал?
– Я сказал правду. Не знаю. Могу назвать много причин, но я не знаю; я сделал это, потому что хотел, хотел. Потому что я хотел узнать, что из этого выйдет, хотел… но не мог. Я понял это, вернувшись в Новый Орлеан. Я столько ждал, но не мог. А теперь сделал.
– Жалкий, лживый ублюдок. Ты сделал это из жестокости и злобы! Потому что твой эксперимент с Похитителем Тел пошел наперекосяк! Но он совершил со мной чудо – принес мне молодость, переродил меня, а ты пришел в бешенство – еще бы, я столько выиграл, когда ты так пострадал.
– Может, ты и прав!
– Прав. Признайся. Признайся, как это мелочно. Признайся, что ты злобствовал, что ты не мог дать мне ускользнуть в будущее в теле, выдержать которое у тебя не хватило мужества!
– Возможно.
Он подошел и, твердо, настойчиво схватив меня за руку, попытался поставить на ноги. Ничего, конечно, не вышло. Он не смог сдвинуть меня с места ни на дюйм.
– Ты еще недостаточно силен, чтобы играть в эти игры, – сказал я. – Если не прекратишь, я тебя ударю, и ты перевернешься на спину. Тебе не понравится. Слишком уж много в тебе собственного достоинства. Так что кончай с дешевым смертным мордобоем, пожалуйста. – Он повернулся ко мне спиной, скрестил руки и наклонил голову.
Я слышал доносившиеся от него тихие звуки отчаяния и почти что переживал вместе с ним. Он начал удаляться, и я опять уткнулся лицом в руку. Но тут услышал, что он вернулся.
– Зачем? Я хочу хоть что-нибудь услышать. Какое-нибудь признание.
– Нет, – сказал я.
Он протянул руку и вцепился мне в волосы, намотал их на пальцы и дернул мою голову вверх так, что меня пронзила боль.
– Ты слишком далеко заходишь, Дэвид – зарычал я, высвобождаясь. – Еще одна такая штучка, и я скину тебя со скалы.
Но увидев его лицо, его мучения, я угомонился.
Он опустился на колени передо мной, и мы оказались лицом к лицу.
– Зачем, Лестат? – спросил он измученным, грустным голосом, и у меня заныло сердце.
Охваченный стыдом и горем, я снова прижался закрытыми глазами к правой руке, а левой накрыл голову. И ничто, никакие мольбы, проклятья и крики, даже его тихий уход, не смогли заставить меня поднять голову.
Задолго до наступления утра я отправился его искать. Комната была убрана, его чемодан лежал на кровати. Компьютер закрыт, на гладком пластиковом футляре лежал «Фауст».
Но его здесь не было. Я обыскал весь отель, но так его и не нашел. Я обыскал сады, потом леса, сначала в одном направлении, затем – в другом, но безуспешно.
Наконец я нашел высоко в горах небольшую пещеру, зарылся поглубже и заснул.
Что толку описывать мое горе? Или тупую темную боль? Что толку говорить, что я в полной мере осознал свою несправедливость, бесчестность, жестокость? Я понимал важность содеянного.
Я познал до конца и себя, и свое зло и теперь не ждал от мира ничего, кроме точно такого же зла.
Как только солнце опустилось в море, я проснулся. С высокого обрыва я посмотрел на сумерки, потом спустился и отправился на охоту в город. Довольно скоро привычный вор попытался задержать меня и обокрасть, я отнес его в переулок и иссушил – медленно, с наслаждением, в нескольких шагах от гулявших рядом туристов. Тело я спрятал в глубине переулка и пошел своей дорогой. А где она, моя дорога?
Я вернулся в отель. Вещи лежали на месте, но его не было. Я еще раз отправился на поиски, борясь со страхом, что он уже с собой разделался, и потом осознал, что для такой простой вещи он слишком силен. Даже если он остался лежать на яростном солнце, в чем я сильно сомневался, оно не уничтожило бы его полностью.
Но меня терзали всевозможные страхи: возможно, он до того обожжен и искалечен, что не может самостоятельно двигаться. Его нашли смертные. Или же пришли другие вампиры и похитили его. Или же он сейчас придет и снова осыплет меня проклятьями. Этого я тоже боялся.
В конце концов я вернулся в Бриджтаун, не в силах покинуть остров, не зная, что с ним стало. До рассвета оставался час, а я все еще искал его. На следующую ночь я его тоже не нашел. Как и еще через одну ночь.
В результате, измученный и умом, и душой, сказав себе, что не заслуживаю ничего, кроме горя, я отправился домой.
В Новый Орлеан наконец-то проникло весеннее тепло, и город под чистым фиолетовым вечерним небом так и кишел туристами. Сначала я пошел в свой старый дом, чтобы избавить старушку от забот о Моджо, однако она отнюдь не рада была с ним расстаться, вот только он явно очень по мне скучал. И мы с ним прошествовали на Рю-Рояль.
Не успев подняться по ступенькам черного хода, я понял, что в квартире кто-то есть. Я на секунду остановился, выглянув в отреставрированный дворик с оттертыми плитами и романтичным фонтанчиком с херувимами, изливавшими в резервуар потоки прозрачной воды из огромных раковин в виде рогов изобилия.
У старой кирпичной стены высадили клумбу темных нежных цветов, в углу себя прекрасно чувствовали банановые деревья, чьи длинные, похожие на ножи листья грациозно кивали в такт ветру. Что невыразимо обрадовало мою злобную эгоистичную сущность.
Я вошел в дом. Заднюю гостиную уже закончили и обставили отобранными мной прекрасными старинными стульями, а на пол положили толстый бледный персидский ковер блекло-красного цвета.
Я всмотрелся в длинный холл, в свежие обои с белыми и золотыми полосками, в растянувшийся на ярды темный ковер, и увидел, что в дверях передней гостиной стоит Луи.
– Не спрашивай, где я был и что делал, – сказал я. Я подошел к нему, оттолкнул его в сторону и прошел в комнату. Она превзошла все мои ожидания. Между окнами стояла точная копия его старого письменного стола, золотой дамастовый диван с горбатой спинкой и овальный столик, инкрустированный красным деревом. А у дальней стены – спинет.
– Я знаю, где ты был, – ответил он, – и знаю, что ты сделал.
– Да? И что дальше? Уничижительная бесконечная лекция? Давай быстрее. Чтобы я уже мог пойти спать.
Я повернулся к нему лицом, чтобы проверить, какое впечатление на него произвел этот резкий отпор и произвел ли вообще, а там, рядом с ним, сложив руки на груди, прислонившись к дверному косяку, стоял Дэвид, одетый в великолепный черный бархат.
Оба они смотрели на меня с бледными, ничего не выражающими лицами. Дэвид был выше и темнее, но они производили удивительно похожее впечатление. Лишь постепенно до меня дошло, что Луи по этому случаю приоделся, причем на этот раз выбрал одежду, которая не выглядела так, как будто ее достали из сундука на чердаке. Первым заговорил Дэвид.
– Завтра в Рио начинается карнавал, – сказал он еще более обольстительным, чем при жизни, голосом. – Я подумал, что мы могли бы поехать.
Я уставился на него с нескрываемым подозрением. Его лицо светилось темным светом. Глаза горели жестким блеском. Но рот был мягким, без намека на злобу или горечь. От него вообще не веяло угрозой.
Потом Луи очнулся от задумчивости и тихо прошел через холл в свою старую комнату. Какое знакомое сочетание слабо поскрипывающих половиц и шагов! Я совершенно смутился и едва мог дышать. Я сел на диван и подозвал к себе Моджо, который уселся прямо передо мной, прижимаясь тяжеленным телом к моим ногам.
– Ты серьезно? – спросил я. – Ты хочешь, чтобы мы поехали вместе?
– Да, – сказал он. – А потом в тропики. Что, если нам туда съездить? Углубиться в леса. – Он распрямил руки и, наклонив голову, принялся медленно ходить по комнате взад-вперед. – Ты что-то говорил, не помню когда… Может быть, еще до того, как все это случилось, я поймал один твой образ, какой-то храм, неизвестный смертным, затерянный в джунглях. Подумать только, сколько там таится открытий!
Какое искреннее чувство, какой звучный голос.
– Почему ты простил меня? – спросил я.
Он остановился, посмотрел на меня, и я так увлекся созерцанием признаков нашей крови, разительно изменившей его кожу, волосы, глаза, что на секунду потерял ход мысли. Я поднял руку, умоляя его молчать. Ну почему я так и не смог привыкнуть к этому чуду? Я уронил руку, позволяя ему, нет, попросив его продолжать.
– Ты знал, что я тебя прощу, – ответил он прежним размеренным, сдержанным тоном. – C самого начала знал, что не перестану тебя любить. Что ты будешь мне нужен. Что я буду искать тебя и останусь именно с тобой, ни с кем другим.
– Ох, нет. Клянусь, я не знал, – прошептал я.
– Я ушел на некоторое время, чтобы наказать тебя. С тобой действительно никакого терпения не хватит. Ты и впрямь распроклятое создание, как тебя называют те, кто мудрее меня. Но ты знал, что я вернусь. Ты знал, что я здесь.
– Нет, я об этом и не мечтал.
– Только не надо опять плакать.
– Мне нравится плакать. Я не могу не плакать. Иначе с чего бы мне плакать так часто?
– Давай, прекращай!
– Ну и весело нам будет! Ты считаешь себя в этом собрании главным, не так ли? Ты что, собрался учить меня жить?
– Опять все сначала?
– Ты даже внешне теперь не старше меня, и ты в принципе никогда не был старше. Мое прекрасное, неотразимое лицо ввело тебя в заблуждение самым простым и глупым образом. Я здесь главный. Это мой дом. Я буду решать, едем мы в Рио или нет.
Он засмеялся. Сначала медленно, потом свободнее и искреннее. Единственная угроза, которая от него исходила, крылась в мгновенных резких переменах выражения лица, в мрачном блеске глаз. Но я точно не знал, угроза это вообще или нет.
– Ты главный? – презрительно спросил он. С былой властностью.
– Да, я. Итак, ты сбежал… ты хотел продемонстрировать мне, что можешь прожить и без меня. Ты можешь охотиться самостоятельно, можешь найти укрытие на день. Я тебе не нужен. Но ты здесь!
– Ты едешь с нами в Рио или нет?
– Еду с вами! Ты сказал «с нами»?
– Именно так.
Он подошел к ближайшему к дивану креслу и сел. До меня дошло, что он уже полностью управляет своими новыми силами. А я, конечно, не могу вычислить, насколько он на самом деле силен, если буду просто его разглядывать. Слишком уж вводит в заблуждение смуглый оттенок его кожи. Он скрестил ноги и принял непринужденную, расслабленную позу, сохранив при этом свойственное Дэвиду достоинство.
Возможно, дело было в том, что прижатая к спинке кресла спина оставалась прямой, или в элегантном положении руки, лежавшей на лодыжке, и второй руки, слившейся с подлокотником.
Достоинство нарушали только густые волнистые коричневые волосы, падающие на лоб, так что в результате ему пришлось бессознательно встряхнуть головой.
Но его сдержанность неожиданно растаяла; на лице внезапно проявились отметины серьезного замешательства, а затем – откровенного страдания.
Я не мог этого выносить. Но заставил себя молчать.
– Я пытался тебя ненавидеть, – признался он потухшим голосом, широко раскрывая глаза. – Все очень просто: у меня не вышло. – На миг в нем мелькнула угроза, знаменитая сверхъестественная злость, но потом лицо стало совсем несчастным и, наконец, просто грустным.
– Почему же?
– Не играй со мной.
– Я никогда с тобой не играл! Я говорю то, что думаю. Как ты можешь меня не ненавидеть?
– Если бы я тебя возненавидел, то совершил бы ту же самую ошибку, что и ты, – сказал он, подняв брови. – Разве ты не понимаешь, что ты сделал? Ты дал мне свой дар, но избавил меня от капитуляции. Ты перенес меня через барьер со всем своим мастерством и силой, но не потребовал от меня смертного поражения. Ты вырвал решение из моих рук и дал мне то, чего не хотеть я не мог.
У меня не было слов. Все правда, но хуже лжи я в жизни не слышал.
– Значит, насилие и убийство и есть наш путь к славе! Я на это не куплюсь. Это гнусно. Все мы прокляты, теперь ты тоже проклят. Вот что я с тобой сделал.
Он снес это, как несколько легких пощечин, немного вздрогнув, а затем опять обратив на меня глаза.
– Тебе понадобилось двести лет, чтобы узнать, что тебе нужно, – сказал он. – Я понял это в тот момент, когда вышел из ступора и увидел, что ты лежишь на полу. Ты был похож на пустую скорлупу. Я знал, что ты зашел слишком далеко. Я пришел из-за тебя в ужас. Ведь я видел тебя новыми глазами.
– Да.
– Знаешь, что пришло мне в голову? Я решил, что ты нашел способ умереть. Ты отдал мне всю свою кровь, до капли. А теперь погибал на моих глазах. Я понял, что люблю тебя. Я понял, что прощаю тебя. И с каждым глотком воздуха, с каждым новым открывавшимся передо мной оттенком или формой я все лучше понимал, что хотел этого – нового восприятия, новой жизни, которую никому из нас не описать! Да, я не мог в этом признаться. Не мог не проклинать тебя, не мог с тобой ненадолго не поссориться. Но в конечном счете важно то, что это было ненадолго.
– Ты намного умнее меня, – тихо сказал я.
– Ну конечно, а чего ты ожидал?
Я улыбнулся и развалился на диване.
– Да, вот он, Обряд Тьмы, – прошептал я. – Как правы были старейшие, что дали ему это имя. Интересно, не сам ли я себя перехитрил? Ведь передо мной сидит вампир, вампир огромной силы, мой личный отпрыск – и что ему до прежних эмоций?
Я посмотрел на него и снова почувствовал, как подступают слезы. Они меня никогда не подводят.
Он хмурился, слегка приоткрыв рот, и мне показалось, будто я нанес ему ужасный удар. Но он мне не ответил. Он выглядел так, словно я поставил его в тупик, покачал головой, как будто не знал, что ответить.
И я осознал, что вижу в нем не столько уязвимость, сколько сочувствие и нескрываемую заботу обо мне.
Он внезапно встал с кресла, упал передо мной на колени и положил руки мне на плечи, совершенно не обращая внимания на моего верного Моджо, который уставился на него безразличными глазами. Сознавал ли он, что именно так я стоял перед Клодией в горячечном бреду?
– Ты не изменился, – сказал он. – Совсем не изменился.
– Не изменился по сравнению с чем?
– Каждый раз, когда ты приходил ко мне, ты задевал меня за живое, вызывал во мне глубокое желание тебя защитить. Ты вызывал во мне любовь. И ничто не изменилось. Только ты еще больше запутался и нуждаешься во мне. Я ясно вижу, что мне предстоит вести тебя вперед. Я – твоя связь с будущим. Только с моей помощью ты встретишь грядущие годы.
– Ты тоже не изменился. Потрясающая наивность. Чертов дурак. – Я попытался стряхнуть его руку с плеча, но не вышло. – Тебя ждут большие неприятности. Вот увидишь.
– Как восхитительно. Ну идем, нам нужно ехать в Рио. Нельзя пропустить ни минуты карнавала. Хотя, конечно, потом мы сможем поехать еще… и еще… и еще… Пошли.
Я неподвижно сидел и долго-долго смотрел на него, пока он снова не забеспокоился. Сжимавшие мои плечи пальцы оказались довольно сильными. Да, я все сделал отлично, шаг за шагом.
– В чем дело? – робко спросил он. – Ты меня оплакиваешь?
– Может быть, немного. Как ты и сказал, я не такой сообразительный, не всегда знаю, чего хочу. Но, наверное, я стараюсь запечатлеть этот момент у себя в голове. Я хочу запомнить его навсегда – какой ты сейчас, здесь, со мной… Пока все еще остается по-прежнему.
Он встал и, без заметного усилия потянув за собой, поставил меня на ноги. Когда он заметил мое удивление, на его лице заиграла торжествующая улыбка.
– Да, наша драка – это будет нечто, – сказал я.
– Что ж, можешь подраться со мной в Рио, когда будем танцевать на улицах.
Он поманил меня за собой. Я точно не знал, что мы теперь будем делать и как совершим это путешествие, но я испытывал чудесное волнение, и, честно говоря, мне было наплевать на мелочи.
Конечно, Луи придется уговаривать ехать, но мы против него скооперируемся и, невзирая на его нежелание, как-нибудь заманим.
Я уже было собирался выйти следом за ним из комнаты, когда мое внимание привлек один предмет. Он лежал на старом столе Луи.
Это был медальон Клодии. Цепочка свернулась в кольцо, отражая свет каждым своим звеном, овальный футляр был открыт и прислонен к чернильнице, и ее личико смотрело прямо на меня.
Я протянул руку, поднял медальон и внимательно посмотрел на портрет. И меня посетило печальное осознание.
Она перестала быть воспоминанием. Она превратилась в лихорадочный бред. Она стала призраком из больницы в джунглях, фигуркой, стоявшей на солнце в Джорджтауне, духом, мечущимся в тенях Нотр-Дам. При жизни она никогда не была моей совестью! Только не Клодия, моя безжалостная Клодия. Что за сон! Просто сон.
Пока я с горечью рассматривал ее, в очередной раз оказавшись на грани слез, на губы мои закралась мрачная потаенная улыбка. Ведь ничто не изменилось, когда я осознал, что собственноручно приписал ей эти слова. То, что они означали, было правдой. Я действительно получил шанс на спасение – и отказался от него.
Держа в руках медальон, я хотел сказать ей что-нибудь. Я хотел сказать что-нибудь той, кем она была, и своей собственной слабости, и обитавшему во мне жадному, зловредному существу, которое опять восторжествовало. Это правда. Я выиграл.
Да, мне нестерпимо хотелось произнести какие-нибудь слова! Слова, исполненные поэзии, глубокого смысла, которые искупили бы мою жадность, мои пороки, страсти моего сердца. Ведь я еду в Рио, не так ли? С Дэвидом и с Луи – и начинается новая эра…
Да, скажи что-нибудь – ради всего святого, ради Клодии – напусти мрака, покажи, что за этим стоит. Господи, распори завесу, покажи жуткую суть.
Но я не смог.
Нет, правда, что еще говорить?
Я уже все сказал.
Лестат де Лионкур
Новый Орлеан
1991
Примечания
1
Из стихотворения В. Блейка «Тигр» (перевод К. Бальмонта).
(обратно)

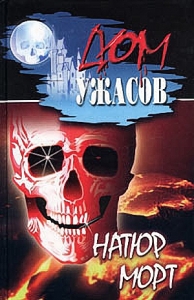
Комментарии к книге «История Похитителя Тел», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев