ЩЕПАН ТВАРДОХ
ЭПИФАНИЯ ВИКАРИЯ ТШАСКИ
Нижнесилезское Издательство, 2007
Перевод: Марченко Владимир Борисович, 2019
ЭВЕ И МАРТЕ
Сереющее на горизонте небо готовилось к тому, чтобы принять в себя рассвет. Ноябрьский заморозок задубил землю, покрыл инеем автомобильные стекла, траву и деревья, на которых еще висели остатки листьев, и привел к тому, что воздух утратил прозрачность, заполняясь замороженным туманом. С крыш в небо глядели мускулистые дымовые трубы, изрыгающие из себя желтый, белый и черный дым, который, смешиваясь словно на палитре художника, зависал метрах в пятидесяти над землей и стелился, лентами и клубами, будто гротескная издевка над бабьим летом.
Отцы семейств, которых рычание будильников вытаскивало из-под пуховых перин, от спокойно дышащих широкобедрых жен, закуривали первую сигарету в подвалах, забрасывая очередные лопатки угля в угасшие или зияющие алым жаром жерла печей центрального отопления. Их жены крестились и наполовину сознательно, шлепая тапками по терразиту, шли на кухни, вытаскивали из холодильников сыр, колбасу и масло, резали хлеб, ставили воду на кофе и заворачивали бутерброды в бумагу.
Скрипели навесные замки и дрожали решетки открываемых магазинов. Запах свежего хлеба выползал из разогретой пекарни. Под пластиковыми скребками иней пластами сходил со стекол "гольфов", "ланосов", "полонезов" и "малюхов"[1], а копулирующие с цилиндрами поршни разогревали застывшее в двигателях масло. Монотонной мантрой призывали одни других голуби в отдаленных голубятнях, а воробьи заполняли воздух чириканьем. Под землей, в штреках и забоях ночную смену меняли шахтеры из пересменки.
Юзеф Лёмпа, прозванный Понедельником, укладывал тормозок в сумку – бутербродов в нем было в два раза больше обычного. Панна[2] Альдона, домохозяйка, со спокойствием фаталистки накачивала камеру своего велосипеда, "вигры 3", из которой шалопаи снизу опять спустили воздух. У Анджея Зелиньского, приходского священника, не было ни малейшего желания вылезать из теплой постели, поэтому он пялился в покрытый грибком потолок и беспокоился, откуда взять деньги на ремонт крыши дома, в котором поселил его приход. Ковнацкая, учительница математики, страдающая бессонницей, с жаром выстукивала оскорбления на Интернет-форуме. Герхард Пикулик орал в мобильный телефон, ругая своего сотрудника, водителя опаздывающего автобуса маршрута Гливице – Гамбург – Гливице. Целинка Гвужджь, учительница английского, напрасно пыталась пробудить желание в сонном муже. Теофил Кочик, дурачок, закончил доить корову и опасался того, что может опоздать в костёл. Ядвига Олексяк, директор школы, с трудом натягивала трусы-утяжки. Школьный молодняк сопел в обе дырочки, тихо надеясь про себя, что сегодня мир попросту не проснется.
Заменяющий костёльного служку электронный автомат запустил механизм колоколов, бой которых, взывая к мессе, понесся по улицам в ямах, между придомовыми огородами, по замерзшим парам, между стен жестяных гаражей, сквозь ограды из сетки, рахитические рощицы и пустоши, втискиваясь в дома через звуконепроницаемые окна.
Вместе с боем колоколов, распыленный тяжелыми облаками свет извлек из темноты суровую громаду старого костёла, барочного по стилю, но лишенного всяческой фривольности, спокойного и основательного – как характер всех тех людей, которые собирались в нем каждое воскресенье. На коньке кирпично-рыжей крыши присели воробьи, выгнанные из уютных закоулков колокольни гудящей бронзой.
Посреди просыпающейся в магазинах, пекарнях и учреждениях деревни светом электрических люстр загорелись и костёльные окна.
Господь Бог глядел на свои Дробчице.
В освещенном костёле сине-голубое тело лишенного головы Иоанна Крестителя изливало ровную струю крови, а голова в руке палача вздымала глаза к небу. Одетая в платье в стиле рококо Иродиада удовлетворенно улыбалась, убийца все еще держал меч в руке. Потемневший лак придавал барочной картине мрачности, только лишь муслиновые одежды женщин да бледность мертвого тела слегка освещали темноту подземелий.
Старшим братьям с колокольни завторил маленький колокольчик на шнурке, при выходе из ризницы. Потянутый маленькой рукой министранта[3], он известил о начале мессы немногочисленным прихожанам, которые пришли в понедельник в костёл. Молодой ксёндз опустился на колено перед алтарем, тяжелым взглядом одаряя картину с покровителем храма. Сонный министрант опустился на колени за ним, после чего они оба заняли соответствующие места.
- Милость Бога Отца, любовь Господа нашего Иисуса Христа и дар единства в Духе Святом да будет со всеми вами, - запел священник.
- И с духом твоим, - ответили ему бабульки и Кочик. Утренняя святая месса в приходском костёле Усекновения Главы святого Иоанна Крестителя в Дробчицах началась. Верные[4], то есть народ, как обычно, выступил в количестве десяти человек. Ксёндз викарий[5] Ян Тшаска, которого прихожане называли ксёндзом Янечком, а старшими "новым капелюнкйим" (новым викарием (все переводы с силезского языка в тексте даны Автором за исключением особых случаев)) про себя попросил прощения у Господа бога за свои грехи, прочитал Интенцию[6], после чего начал Confiteor[7].
- Признаем перед Господом, что мы грешны, чтобы могли с чистым сердцем принести Самую святую Жертву, - пропел своим чистым голосом, о котором старшие люди говорили: "Kapelůnek to śpjywajům tak pjykne, že aže Matko Bosko na figuře śe śmejům, jak go suyšům" (Викарий так красиво поет, что даже фигура Матери Божьей смеется, когда слышит его – силезск.).
Когда верующие вялыми голосами начали свое "Исповедуюсь Господу Богу Всемогущему и вам, братья и сестры…", викарий, возбудив в себе искреннюю печаль за грехи, позволил мыслям на секунд двенадцать-пятнадцать улететь, в то время как губы безотчетно проговаривали, как и каждый день, одни и те же слова. Ксёндз Янечек раздумывал о завтраке, которого не успел заглотать, потому что проснулся на четверть часа позже, чем следовало, и едва-едва успел на мессу. Он надеялся на то, что приходский настоятель не слопает его пару колбасок по-силезски, которые с мыслью о завтраке он сам спрятал на самой нижней полке в холодильнике. Настоятель, возможно, и не слопает, но если их обнаружит панна Альдона, то обязательно покрошит их настоятелю в яичницу, бурча себе под нос: "Přeca farařowi śe bardźyj naležy wušt do smažůnki anželi kapelůnkowi" (Ведь настоятелю колбаса в яичницу больше пристоит, чем викарию – силезск.).
Черт подери. И это же придется тащиться в продуктовый, за каким-нибудь сырком или чем-нибудь другим, лишь бы недорогим. А после завтрака нужно будет сесть и быстренько прочитать ляудесы[8], которых не успел перед мессой, а потом нужно будет сразу же бежать в школу. После школы, возможно, небольшая прогулка, можно будет возвратиться через лес, красивый, поздне-осенний день сегодня, в лесу он мог бы прочесть бревиарий[9] снова, присядет себе так удобненько на пеньке, поглядит на остатки разноцветных листьев и вознесет мысли к Господу, потом на обед в приходскую церковь, где не станет обращать внимание на придирки панны Альдоны и сбежит к себе в комнату. Нет, псякрев, понедельник же, дежурство в канцелярии. Так что проторчит эти пару часов в канцелярии, может быть, никто и не придет, после чего он отправится к себе, в свою комнату. Включит компьютер и вернется, возможно, к статье для "Воскресного Гостя", об инкультурации[10], которую должен был закончить еще месяц назад. Или почитает чего-нибудь, может, Августина, или же, если в нем уже не будет сил ни на что другое, тогда какие-нибудь глупости. Недавно в городе он купил себе в магазине дешевой книги несколько непритязательных романчиков, которые прекрасно подходили для вечернего расслабления. Потом прочитает вечерние молитвы, а когда услышит, как faroř ложится спать, а экономка отправилась домой, переключит штекер от телефона к модему и на парочку минут соединится с Нэтом, скачает электронные письма от приятелей, разве что опять ничего не будет, потому что кто там о нем еще помнит, отключится, напишет ответы, снова ненадолго подключится и отошлет. А может, за завтраком, вновь вернуться к вопросу постоянного канала связи? Но это возможно лишь если не будет Альдоны, поскольку при ней все тут же закончится кудахтанием, мол, зачем пану ксёндзу эти компьютеры, пускай лучше пан ксёндз молитвами займется.
Печальные карие глаза молодого Кочика вглядывались в ксёндза Янечека с укоризной. Блин, это я зазевался! – подумал Тшаска.
- Да смилуется над нами Господь Всемогущий и, отпустив нам грехи, приведет нас к жизни вечной, - поспешно пропел он.
- А-а-аминь, - ответили ему бабульки, Кочик и министрант.
Тшаска гладко перешел через "Господи, что умер на кресте…", затем к литургии слова[11]. Настоятель всегда желал, чтобы это министранты читали фрагменты Писания, только у ксёндза Янечека не было ни малейшего желания двенадцатилетнего Пётруся, с трудов выдавливающего из себя Божьи Слова, так что сам прочет все, что требовалось. Он махнул рукой на проповедь, после чего неожиданно исчез уродливый костёл, исчезли бабульки и фанатик Кочик, исчез минестрантишка, а ксёндз Янечек улетел к великой Тайне, скрытой в Римском Каноне, который викарий предпочитал всем остальным евхаристическим[12] молитвам. Так же, как и всякий день, когда он возносил глаза к поднятой над головой облатке, и далее, точно так же, как и шесть лет назад, после рукоположения, волосы становились дыбом, по телу пробегала дрожь, когда кусочек облатки превратился в самого Христа. А вино – в кровь. Преломление хлеба, предъявление причастия верным, Agnus Dei[13], причастие, вываленные языки, на которые ксёндз Янечек кладет Тело Христово – аминь – вялое пение. Тшаска забирает у министранта патену[14], потому что парень – ужасный растяпа, и осторожненько ссыпает невидимые частицы Тела в чашу, шепча:
- Господи, позволь гам с чистым сердцем принять то, что приняли устами, и дар, полученный в жизни временной, да станет пускай для нас лекарством для жизни вечной.
Очищение чаши – ксёндз Янечек глядит, как вода, запущенная в спиральное движение запястьем, забирает с собой крохи Тела.
Конец. Объявления. Хотелось бы что-нибудь сказать им, о своей жизни студента из приличного дома, который он бросил, чтобы стать ксёндзом, и о жизни столичного священника-интеллектуала, которую он вел в столице, и которую покинул по зову Господню, чтобы у них, в этой всеми забытой деревне в безобразной Силезии, в глухой Oberschliesen (Верхняя Силезия – нем.), ежедневно совершать чудо Пресуществления. Вот только зачем бы он должен был это им говорить? Тшаска мрачно подумал о том, что понимания здесь не найдет. Так что викарий пробормотал порядок святых месс на неделе, интенсивно думая при этом о колбасках. Господь с вами, бабки; Господь с тобой, Кочик, сумасшедший.
- И с духом твоим, - отвечал народ.
- Да благословит вас Бог Всемогущий – Отец – Сын – и Дух Святой.
Затрещали осенние плащи, когда бабки набожно – то есть, в их понятии, с губами, вытянутые в куриную гузку и глазами, поднятыми к лампам – прощались, очерчивая ладонями столь широкие дуги, словно бы спасение зависело от длины руки. Ну почему, холера ясна, вы всегда опускаетесь на колени, чтобы получить мое благословение, вместо того, чтобы вставать, - с отчаянием подумал ксёндз Янечек, и тут же извинился перед Господом за мысленную ругань. В принципе, на колени становятся, потому что так их научили, когда они были детьми, а отцу настоятелю эта смесь Тридентины с Novus Ordo Missae[15], кажется, никак не мешает. Кочик же для уверенности перекрестился троекратно, как будто бы плыл сумасшедшим кролем.
Возвращение за алтарь, поклон, кровь, бьющая струей из безголовой шеи Иоанна Крестителя; держитесь, Ваня Без Головы и Голова Вани на Блюде, мои немые приятели на картине, не давайтесь гадам, и теперь в ризницу. Пётрусь набожно сложил руки – а вот интересно, когда ты, сынок, начнешь совать свои лапки подружкам в трусики, ведь мне известно, что ты тот еще фрукт, - подумал викарий и прочитал молитву. Ладно, сейчас пускай этот растяпа-министрант поможет ему снять одеяния – ну, Пётрусь, живо. Потертую ризу ксёндз Янечек снял сам и повесил в шкаф, отвязал поясной шнур –сингулум, сложил его, как следует; Пётрусь забрал столу, помог стащить альбу и отвязал завязки гумерала[16]. Болезненное сокращение в желудке вновь напомнило ксёндзу Янечку про завтрак.
- Спасибо тебе, Петр, что помогал мне в возложении жертвы Господней.
Ксёндз протянул свою большую ладонь и пожал маленькую ручку министранта. Он знал, что мальчишки ценят, когда после мессы он благодарит их так, по-мужски, как взрослым.
Они вышли из ризницы, министрант потопал в школу, волоча за собой рюкзак, а ксёндз Янечек с радостью констатировал, что под крыльцом дома приходского священника велосипед панны Альдоны еще не стоит, следовательно, его колбаски ожидают в холодильнике.
- Прошу прощения пана ксёндза…
- Блииин. Кочик. Не морочь мне голову, Кочик, я хочу пойти позавтракать, сейчас четверть восьмого утра, понедельник, а я еще не ел, а сейчас надо идти в школу. А кроме того, паршиво ты выглядишь, у тебя горячка, мужик. Ты мне нравишься, Кочик, потому что ты, как и я, здесь чужой, не свой, gorol (городской – силезск.), на тебя тоже глядят здесь, как на рарога[17], мы, похоже, даже одного возраста, ты мне близок, Кочик, но не сегодня утром, Господи, только не сегодня утром. Тшаска решил не поворачиваться, может, отстанет.
- Прошу прощения у ксёндза, у меня вопрос.
Вечно у тебя вопросы – подумал ксёндз и со вздохом разочарования повернулся.
- Ну, слушаю вас, пан Кочик.
Так, в чем будет дело в этот раз. Деревенский дурачок и слепой приверженец религии уже подскочил, схватил за плечо – и ведь не скажешь ему, что терпеть не могу, когда кто-нибудь держит меня за руку во время разговора, Христос бы так не поступил.
- Скажите пожалуйста, пан ксёндз, а вот когда облатка превращается в тело Христа, как пан ксёндз говорит за алтарем, то вот в какую часть тела, простите, что так вот спрошу? – сумасшедший выговаривал слова тщательно, медленно, по раздумью, как кто-то, кто плохо знает польский язык и вспоминает заученные наизусть выражения.
Ты, Кочик, дурачок, можешь так спрашивать, и вот что я должен тебе отвечать? Этого и профессора теологии хорошенько понимать не всегда могут, а тут я должен объяснять тебе, бездомному бродяге, которого приютил хозяин для помощи со скотиной, ты же из благодарности решил обратиться в истинную веру, что хорошо говорит о тех переставленных шариках и роликах в твоей тридцатилетней башке, но никак не поможет тебе понять Пресуществление.
- Ну, пан Кочик, попросту во всего Христа. Не следует морочить этим голову, идите-ка лучше домой, а не то ваш хозяин еще рассердится, что от работы отлыниваете, - быстро отрезал викарий, печально глядя на панну Альдону, которая неумолимо приближалась к дому священника, нажимая на педали своего велосипеда.
- Прошу прощения, пан ксёндз, но нет ничего более важного, чем Святая Месса и Причастие.
Кочик не отклеивался, и викарий знал, что для парня со сломанным носом важны не столько теологические сомнения, а только лишь контакт со священником, который, в понимании Кочика, приближал его к Богу.
И я тебе этот контакт обязан обеспечить, и обеспечу. Но не сейчас.
- Если вы желаете поговорить, пан Кочик, то придите-ка лучше вечером, после семи, когда я уже закончу дежурить в канцелярии, хорошо? – сказал ксёндз, в мыслях прощаясь с запланированным вечером с книжкой, с электронной почтой от приятелей. Кочик желал сказать еще что-то, но викарий уже практически бежал в сторону фары[18], только бы упредить панну Альдону. К двери подскочил запоздало, так что было бы невежливым закрыть ее у женщины перед носом, пришлось впустить экономку в дом.
- Ńech bydźe pochwalůny Jesus Christus i Maryja zawše Dźywica (Слава Иисусу Христу и Марии Приснодеве – силезск.), - процитировала панна Альдона.
А еще святой Иоанн Креститель с Его Усекновение Главы, святые Петр и Павел, святой Косма, святой Дамиан, святая Тереза от Младенца Иисуса, святой Игнатий Лойола, святые папы римские и епископы, все святые – женщины и мужчины Божьи, провозгласи уж сразу целую литанию, - вновь ксёндз Янечек про себя дал выход злости, и вновь попросил у Господа прощения за это. Он вежливо ответил:
- Во веки веков, аминь, панна Альдона. И что интересного сегодня?
- A co mo być, co śe kśůndz gupje pytajům? (И что такого должно было стрястись, что ксёндз глупые вопросы задает? – силезск.) – ответила ворчливо старая силезянка, а викарий с печалью вспоминал панну Ханю, кухарку из его первого прихода, в Варшаве на Жолибоже, которая к своим "ксёнжикам" относилась будто к родным сыновьям.
Они прошли в кухню. Викарий быстренько вытащил свои колбаски из холодильника и поставил воду на газовой печке. Какое-то время он еще пытался игнорировать возмущенный взгляд экономки, но капитулировал и подал ей одну сардельку.
- Отец настоятель наверняка бы хотел яичницу на колбасе…
Панна Альдона пробормотала что-то себе под нос о том, как, вот, не уважают хозяина, и начала готовить яичницу для старшего священника. Викарий же забросил свою колбаску в кастрюльку с водой и включил электрический чайник, чтобы заварить себе кофе. Растворимый. Через минуту он уже сидел за столом над двумя кусочками вчерашнего хлеба, помазанными плавленым сыром с кляксами горчицы и с чашкой кофе. Он решил подождать, чтобы поесть вместе с настоятелем. Панна Альдона злилась, злилась, пока не рявкнула:
- Niech faroř oroz sam přilezům! Wjela mům čekać ze smažůnkům? Juz je źimno, źic ny warto, do luftu z takům robotm! Niech se faroř na bezrok nowo kucharka šukajům, bo jo tego poradzą ńy ščimać! (Пускай отец настоятель идет немедленно! Сколько мне ждать с этой яичницей? Она уже холодная, никуда не годится, и мне это уже надоело! На будущий год пускай отец настоятель ищет другую кухарку, потому что я уже не выдерживаю!)
Ксёндз Янечек даже внутренне сжался, хотя и знал, что все эти ритуальные угрозы никакого значения не имеют, а панна Альдона провозглашает их через день. Викарий даже подозревал, что у их экономки имеется свой личный бревиарий, составленный из угроз, сетований, напоминалок и ворчалок на каждый день в году, который она прочитывает полностью с огромным воодушевлением.
В конце концов, отец настоятель вкатился на кухню. Большой, круглый, свежий, с головой, поросшей редкой седой щетиной, с розовой кожей, он выглядел здоровым и добродушным, несмотря на значительный вес. Но вот добродушным он, чаще всего, и не бывал, сегодня был вообще в ярости, что викарий сразу же отметил. Священник сел за стол, не промолвив ни слова, не отреагировав ни на "добрый день" ксёндза Янека, ни на "да восславится" экономки. Отметив длительный, взбешенный взгляд, викарий сразу же сделал вывод, что это в раз он является причиной утреннего гнева фарара.
Все вместе произнесли молитву перед едой и ели молча. В восемь часов молодой священник посчитал, что съел бы чего-нибудь и больше, но через сорок пять минут ему следовало быть в школе, а ведь нужно было еще прочесть молитвы. Тшаска тихо поблагодарил и поднялся из-за стола.
- Сядьте, пан ксёндз, - рявкнул отец настоятель.
Блиин, - подумал викарий. Паршиво. Он снова опустился на стул. Пожилой священник передвинул по столу в сторону ксёндза Янечка лист бумаги с логотипом ТP (Telekomunikacja Polska).
- И как пан ксёндз собирается это пояснить?
Двести девяносто два злотых и девятнадцать грошей. Курррва. Прости Господи! Модем, скорее всего, он должен был случайно оставить на ночь включенный модем.
- Нуу… это, наверное… за интернет… Совершенно случайно оставил включенным модем. Я же говорил, что нам нужен постоянный канал… От всего сердца прошу прощения у отца настоятеля, я покрою все из своих личных средств, - с трудом пробормотал Тшаска.
- А пан ксёндз как представлял, что община будет платить за ваши прихоти? За то, что пан всякие гадости в своем интернете смотрит? – прорычал отец настоятель.
Молодой священник уже хотел оправдываться, что никогда в жизни никаких гадостей в интернете не глядел (ладно, один разик, еще в семинарии, ведомый любопытством, зашел на такую страницу, но сразу же, перепугавшись, и сбежал, а чудовищные сцены, которые там увидал, преследовали его еще пару лет после того), а вот сам лично видел, как отец настоятель пялится на Плейбой по спутниковому. Но подумал, что молчание станет отличной тренировкой покорности. Так что молчал.
- Я вам запрещаю, понимаете, пан ксёндз? Запрещаю пользоваться этим, как его, модемом! И конец, холера ясна! Нам крышу на плебании ремонтировать надо! Вода в подвале стоит, за откачку тоже платить нужно, а тут целых три сотни за пана ксёндза глупости!
- Еще раз извиняюсь, отец настоятель прав. Но прошу вас (Господи Иисусе, укрепи меня в смирении и послушании, отстрани от меня искушение изо всех сил долбануть в эту жирную, розовую харю), пожалуйста, не запрещайте мне пользоваться сетью. Я стану ограничивать себя, счет оплачу из денег, которые присылает мне отец. И-мэйлы для меня – это единственный контакт с друзьями и с семьей в Варшаве, пожалуйста, отец настоятель.
Унизился, умолял его. Мало? Конечно же мало, ему еще нужно насытиться властью.
- Нет, холера ясна, не может быть и речи. Запрет! Пан ксёндз понимает? За-пре-ща-ю!
А тот не выдержал. Неожиданно поднялся из-за стола, шумно отодвигая стул, поглядел на отца настоятеля (когда-нибудь не выдержу, и эта бабища будет его с пола собирать, даже если за это меня лишить сана) и, хлопнув дверью, отправился в свою комнату на втором этаже. Его еще сопровождали вопли фарара. В комнате викарий упал на кровать, втиснул лицо в подушку и пробормотал: то ли сам себе, то ли обращаясь к Иисусу:
- Как долго еще, как долго? Заберите меня отсюда, потому что больше я вынести не смогу…
Ну почему он, блестящий клирик, а потом и живой, молодой священник с начатой диссертацией по философии, крепко связанный с варшавской академической средой, попал в Дробчице в Силезии? Брат говорил ему: старик, тут все просто. Архиепископ Зяркевич терпеть не может нашего родителя. Ты же знаешь, Зяркевич всегда был за открытый католицизм, ксёндз Чайковский[19], "Тыгодник" и тому подобные дела; а отец упрекал его, говоря о церкви святого Иуды, об агентах, о "лже-епископах". И когда до Зяркевича дошло, что юный Тшаска в его архиепархии ксёндзом, да еще пишет какие-то диссертации, то тут же врубился, что старому Тшаске ничего не сделает, а вот его сынуле, который был настолько глуп, что попал под его начало… Вот на тебя все и повалило. Но не беспокойся. После второго приступа папа с политикой покончил, занимается исключительно садом, ходит от дерева к дереву и подрезает яблоньки, газеты ним уже не интересуются, да и у Зяркевича, вроде как, ожесточение прошло, так что посиди там немного, науками займись в частном порядке, свыкнись с жизнью приходского священника, и, раз-два, вернешься к нам и начнешь карабкаться вверх. Во славу Господа, во славу Господа.
- Господи, дай мне сил быть смиренным, позволь любить мое начальство, - прошептал ксёндз Янечек и быстро прочитал пару Отче наш, одну молитву в интенции отца настоятеля, вторую – в интенции архиепископа Зяркевича. – Прости меня, Господи, за мою вспышку, но позволь, чтобы перед отцом настоятелем я извинился только завтра.
Он поднялся с кровати, поглядел на часы. Ну, а теперь быстренько: заутреня.
Тшаска прочитал нужные молитвы по бревиарию, под конец пообещал Господу, что будет продолжать исполнять свое обещание не произносить ругательств вслух, и заранее извинился перед Богом за то, что, вне всякого сомнения, будет продолжать ругаться про себя. Ксёндз Янечек считал, что самого себя менять следует по кусочку.
Он надел берет, пальто, доходящее до щиколоток, как и сутана. Нужно было бы отдать его в чистку. С тоской он поглядел на висящий в шкафу черный костюм небольшой рядок черных сорочек с колоратками[20]. Тшаска взял папку и вышел во двор. На крыльце он наткнулся на отца настоятеля, который курил первую утреннюю сигарету, считая, что его не заметит панна Альдона, занятая как раз вешанием занавесок в задних комнатах плебании.
- Хотелось бы извиниться перед отцом за свое поведение за завтраком, - героически начал викарий и опустил глаза. Ему было, черт подери, стыдно.
У настоятеля, которого поймали, когда он предавался вредной привычке, уже не было сил на решительную позу.
- Я тоже прошу прощения у ксёндза викария. Но вы же сами знаете, какое у нас положение с финансами. Это же не Варшава, ксёндз Янечек. И пускай пан ксёндз соединяется с этими своими и-мэйлами, раз уже пану ксёндзу так надо, только, пожалуйста, недолго.
Викарий кивнул. Отец настоятель показал пальцем на сигарету, которую он держал в правой руке, после чего прижал этот палец к губам – об этом, мол, ша! Они даже улыбнулись друг другу, жва измученных жизнью священника в земном пути от рождения до смерти.
Ксёндз Янечек быстрым шагом направился в сторону школы, проходя мимо детей, группками снующих в неспешную прогулку на второй урок. Когда же прошел мимо гимназистов, похоже, из выпускного класса, его догнал громкий смех и издевательские замечания. Вновь они насмехаются, а он не знает, как поступить. Отец настоятель развернулся бы на месте и одному за другим дал бы им по мордам, но вот он так не мог. Не то, чтобы он что-то имел против, проучить сопляков стоило, но он попросту не умел этого.
Сосновая шишка ударила по слишком тесному, насаженному на самую макушку берету с такой силой, что головной убор свалился на землю. Викарий резко обернулся, но дети, разохоченные, но и напуганные своим наглым поступком, сбежали с дороги в рощу. Ксёндз Ян Тшаска вздохнул, поднял берет, нацепил его снова на голову и пошел дальше. А перед ним четыреста шестьдесят четвертый день в принадлежащем гливицкой епархии приходе в Дробчицах.
+ + +
Теофил, Теофил! – позвала корова.
Кочик мотнул головой, раз и другой. Коровы не разговаривают, Теофил. Парень сделал глубокий вдох, удержал воздух в легких, выпустил его и повернулся к животному. Корова молчала, глядя куда-то в бок большими глазами.
Кочик перекрестился и вернулся к уборке навоза. Коровы не разговаривают, Теофил. Он набрал последнее ведро и выбросил его на gnojok, помыл руки под дворовым краном и сел на лавочке, опирающейся о неоштукатуренную стену. Какой хороший сегодня день, Теофил. Светит солнце, утром ты был в гостях Господа Иисусика, еще нет десяти утра, а ты уже половину работы сделал. Можешь присесть и впитать эти последние солнечные лучи, прежде чем придет зима.
Когда-то ты, Теофил, боялся зимы, но сейчас ты ее уже не боишься. Когда-то зима означала страх в течение всей морозной ночи, в течение которой человек слабел, так что он попросту хотел лечь на лавке в парке. Когда из каналов с трубами человека выгнали бухари, потому что даже для ханыг ты был чем-то чужим. Ничего удивительного, тогда к тебе обращались предметы, животные и привидения.
А теперь – зима, так и что же с того, что зима? Сидишь, Теофил, в своей комнатке, в котором так тепло, что спать можешь под тонким одеялом в самих трусах и майке. Если нужно выйти во двор, у тебя имеются две теплые куртки, одна на bezstydźyń (будни), как говорят хозяева, а вторую, чтобы одевать в костёл. И шапка у тебя есть, и два шарфа, и рукавицы. И живешь ты здесь, Теофил, как король. И еда, хорошая такая, домашняя еда, настоящая. Тот супец, что из котла для бездомных, да по сравнению с супами пани Фриды Лёмпы – одна вода. Пани Фрида или же пани Эльфрида или пани Лёмпа или же Lůmpino, делает супы густые, жирные, такие, что ложку поставить можно, питательные, такие, что человеку одной тарелки хватило бы на целый обед да и на ужин – а ведь тут всегда имеется и второе блюдо, в будний день karminadle с картошкой или krupnok, а в воскресенье – rolada a kluski, s modro kapusta (в будни котлеты из фарша с картошкой или же колбаса с кашей, а в воскресенье – рулет с клецками и красной капустой). А потом еще хозяева ужинают какими-нибудь бутербродами, но ты, Теофил, не ужинаешь, ведь оно стыдно было бы снова есть, когда так уж сильно и не работаешь, потому отказываешься, как только можешь.
Так что сейчас, Теофил, можешь себе спокойненько посидеть на лавочке, подставляя лицо солнцу, и без страха впитать в себя то последнее тепло, пока не выпадет снег. Помежешь подумать про Святое Причастие. Как это хорошо, что ты, Теофил, обратился в веру, а раньше ведь жил в грехе, но вот теперь – уже нет. В небе оно наверняка будет, как в хозяйстве у Лёмпов, но при этом исчезнет даже та маленькая искорка страха, которая с каждым днем делается все меньшей и меньшей, но еще тлеет где-то на дне сердца – страха, что когда-нибудь Лёмпы прикажут уйти прочь. А они прогонят, потому что мир вещей и животных, который замолк, снова заговорит, и ты, Теофил, должен будешь послушать, как слушал когда-то. Помнишь ворона, Теофил? Помнишь ворона?
Сейчас, когда к тебе обратится корова, ты просто поворачиваешься к ней спиной и не обращаешь на него внимания. А тогда, Теофил, помнишь, как оно было? Помнишь ворона? Прежде чем Черный Дед вынул голоса из твоей головы, Теофил?
Ворон уселся на твоей голове, когда тебе было пять лет. Вы с мамой шли по улице, в Кельцах, с правой стороны был дворец, а по левой – низкие домики. Ворон сидел на коньке, на самой вершине крыши одного из домов, ты, Теофил, шел с мамой, она держала тебя за руку, а во второй ее руке была сетка, в которой звякали бутылки. А тут ворон тебя увидел, ты же крикнул, хотел, чтобы мама тебя спрятала, но она никакого ворона не видела, и только дернула тебя за руку, потому что ты упирался. А вот ворон тебя видел и распростер огромные крылья и спланировал вниз к тебе, Теофил? Он вцепился когтями тебе в волосы, вонзил их в кожу, а на каждом когте у него были такие занозы, словно на крючке у рыболова, ты помнишь их? Когти пробили кожу, соскользнули под ней, спустившись по кости черепа, после чего чуточку отодвинулись, а занозы вцепились в кость, вонзились в нее, и уже никакая сила не могла вырвать эти когти из твоих волос. И ворон расставил свои крылья широко-широко, а ты, Теофил, кричал, и вот тогда, в наказание, он нанес тебе первый удар, после чего ударил своим громадным клювом прямо в глаз.
И мам тоже кричала, даже несколько раз шлепнула тебя по попке, а у тебя тела кровь, ты помнишь тот узор, который она разрисовала на белых штанинах? А потом тебя забрали в скорую помощь, вот только так и не мог отцепить ворона, а он начал с тобой разговаривать. И он смеялся, когда за мамой закрылась дверь, а ты сидел на стуле с обивкой из бордового дерматина с черной окантовкой; в стуле имелась полка из блестящего металла; а перед тобой был письменный стол, а за столом одна такая тётя; мам закрыла дверь, и вы остались сами: ты, та тётя и ворон, между двухцветными стенками с коричневой панелью и накатанным светлым узором. И там ты так и остался, и там были такие круглые лампы, помнишь, Теофил? И повсюду тот самый накатанный узор. А потом и ты сам научился такой делать, когда уже покрасил стенку в какой-то цвет, ты брал валик и тщательно, неспешно отпечатывал тот узор на стенах, валик крутился и оставлял на штукатурке листья, изогнутые ветки и цветочные бутоны.
А ворон крепко держал тебя за голову. Он поджимал ноги, сплющивался, клал крылья на твою голову, прижимал голову с острым клювом, и его не было видно, но ты его чувствовал всякий раз, когда проводил рукой по голове. И иногда он просыпался, поднимался, бил крыльями и наказывал тебя, при этом бил клювом в твои глаза. И он разговаривал с тобой, приказывал тебе делать разные вещи, которых ты боялся. Как тогда, когда ты вышел на крышу, а он говорил, что если ты спрыгнешь, он удержит тебя в воздухе, а ты не спрыгнул, тебя сняли оттуда и привязали к кровати; а он хохотал и колол тебя клювом, а потом кто-то стянул тебе штаны и сдвинул одеяло, и все смеялись, и ворон тоже смеялся, а ты, Теофил, ничего не мог сделать, потому что был привязан к кровати, а потом пришла тётя и глядела на тебя с отвращением, но она подтянула тебе штаны и прикрыла одеялом, а ворон тебя клевал. То было уже давно, потом все изменилось; однажды ворон ушел, и тогда мир ожил. Тогда ты помогал таким другим людям, которые ремонтировали дома, и как раз тогда научился делать валиком узор. Вы ездили в Германию, то были поездки, Теофил, когда мир, такой различный и такой же самый передвигался за окошком фургона, и все те большие и красивые дома, и люди, говорившие по-немецки. И у тебя даже имелись какие-то деньги, как-то раз коллеги дали тебе сто марок, помнишь, Теофил? А потом мир начал обращаться к тебе громче и настырней, и уже никто не желал с тобой никуда ездить, и тогда ты спал по вокзалам. Там тебя иногда били, но часто и заботились о тебе, и тогда ты разговаривал с воробьями, а они сообщали, кто сделает тебя плохо, а кто даст миску супа.
И мир, Теофил, так сильно изменился, магазины расцвели разноцветными красками, они выглядели словно те маленькие раи в Германии, в которые ты входил с набожным настроем и тихонько прохаживался по длинным аллейкам, вдоль полок, заполненных пластиковыми мешочками, на которых были лица людей и мордочки животных, а еще из мультиков, и они тоже к тебе обращались. А потом то же самое было в Польше, в Варшаве, в Краков, повсюду. Но тебе, Теофил, это было уже все равно, правда? В конце концов, ты уселся в один из тех желто-голубых поездов и поехал. Сиденья в поезде были как те стулья раньше, из дерматина с черной окантовкой, словно черный круглый червяк, обползающий бордовую равнину со сделанными ручкой надписями и неприличными рисунками. В общем, Теофил, ты поехал, а плохие люди все время тебя выбрасывали, потому что у тебя не было билета, как будто бы не понимали, что тебе надо ехать, а вот откуда было тебе взять билет. Тебя выбрасывали из вагона на станциях, а ты садился в очередной поезд, и ехал, ехал, пока, наконец, маленький червяк, что вылез из земли, сообщил тебе, чтобы ты дальше не ехал, и ты, Теофил, не поехал, а только вышел со станции и пошел, куда глаза глядят. А потом лошадь, запряженная в телегу с углем, позвала тебя по имени: - Теофил, Теофил! – и сообщила тебе, куда надо идти. Ты туда пошел, но, похоже, лошадь что-то напутала, потому что оттуда тебя прогнал тебя молодой, перепуганный мужчина, придающий себе смелости кулаком, стиснувшимся на черенке лопаты. Люди тут говорили по-другому: "ćůng mi stůnd, giźdźe!" (выматывайся отсюда, прохвост! – силезск.) вместо: "вон отсюда, нищеброд!", и деревня была не такая, более богатая. А потом, наконец, он нашел дом, про который рассказывала лошадь, потому что, когда постучал в дверь, то вместо "вон!" и "raus, giźdźe!" (пшел вон, прохвост!) ты увидел Юзефа Лёмпу, прозванного Понедельником, который глядел на тебя своими водянистыми, бледными глазами, а потом сказал: "Ja, wlyźće sam, do antryju, to pogodůmy" (Да, проходите в сени, поговорим – силезск.). И так уже тут и остался, хотя люди из деревни, некоторые, стучали себе по голове, когда твой хозяин проходил, потому что ничего же не знаешь, а вдруг такой тебе горло во сне перережет? Ты и сам немного боялся, что вернется ворон или чего-нибудь другое, и заставит чего-нибудь сделать, и вот, наконец, однажды ночью к тебе в каморку пришел кот.
Ох, Теофил, кота помнишь? Прислал ли его Черный Дедушка, возможно, он же прислал червяка, который вылез из-под красных камней, заполняющих пути возле перрона, и сообщил тебе, что как раз здесь заканчивается твое железнодорожное путешествие? Ведь кот, когда подошел к твоей кровати и сказал, что ты прямо сейчас и обязательно отправляться в коровник, потому что там происходит совет, и тебе необходимо взять с собой зеркало, ведь он к тебе не случайно пришел. Тогда ты взял из комнаты зеркало и спустился вниз в сопровождении своего худого, чужого лица, над которым вились соломенного цвета волосы, и ты спустился в коровник, а там коровы и конь громко спорили о том, кто из них должен тебя слопать, кот же приказал тебе прикрепить зеркало к столбу, чтобы ты мог глядеть, как они будут тебя пожирать, а ты боялся, как тогда, когда в голову тебе вцепился ворон, ведь когда пан Лёмпа обо всем узнает, то он выбросит тебя с разбитой рожей, вот как ты боялся, а кот приказал тебе снять все одежки, ты остался в одних трусах, и видел себя в зеркале, такого худого, ты помнишь, Теофил?
Сейчас ты сидишь на лавочке, гладишь себя по ребрам и чувствуешь, как их прикрывает счастливое одеяльце тоненького жирка, который ты помнишь по прикосновению, по тем временам, когда был очень маленьким и жил с мамой, которая тебя кормила; тогда ты тоже был толстым, как теперь. Но тогда, в коровнике, ты был ужасно худым, все ребра торчали, а ключицы собирались пробить тонкую кожу, и ты умолял, Теофил, тех животных, чтобы они тебя не ели, потому что ты совсем же худой, а кот смеялся, помнишь, Теофил, как сильно он смеялся и хлестал тебя когтями по лицу, и ты кровоточил, но той крови в зеркале не было видно. А потом корова протянула морду за твоей рукой, но тут двери сарая открылись, и вошел хозяин.
А ты лежал, в трусах, на земле и выл, чувствуя, как твоя рука исчезает во рту коровы. И знал, потому что кот тебе об этом сказал, что пан Лёмпа выкинет тебя из дома. И так оно случилось, Теофил, ты помнишь? Он, пан Лёмпа, побежал домой, там куда-то позвонил, потом тебя одели и вещди тебя, помнишь, на автомобиле, на старой машине. На таком же автомобиле, то был большой фиат, тебя везли в дом со стульями из бордового дерматина, когда за мамой закрылась дверь, а теперь тебя везли куда-то, и ты знал, что где-нибудь далеко тебя выбросят или убьют, потому что моль, которая сидела у тебя на руке, сообщила, что тебя убьют и закопают в землю. Ты боялся, Теофил, потому что знал, что когда умрешь, то потом проснешься, и там будет ждать тебя ворон, и не будет ничего, только ты и ворон, и моль над тобой смеялась, когда ты плакал. А потом было еще хуже, вы въехали в какую-то ограду, показывали какие-то пропуска, кто-то вслух врал, а ты плакал, помнишь, Теофил? И ты же плакал, когда тебя вытащили из автомобиля и сунули в лифт, и вдруг спустились под землю, в шахту, такую, какую ты видел на картинках в книжке, в начальной школе в Кельцах, то есть, в специальной школе, Теофил, ведь ты ходил в особенную школу, Теофил, помнишь? И там был труд шахтеров, и подземные сокровища дремлют в горах, и плюмажи[21], и вот сейчас ты съезжал в самый низ такой вот шахты, а лифт страшно скрипел, и смеялись кот, ворон и моль, а ты, Теофил, кричал, потому что знал, что здесь тебя и закопают, привалят грудами угля и породы и оставят, а потом к тебе приползут черви и пожрут тебя.
Но не оставили, Теофил, ведь правда? Не оставили, потому что сейчас ты сидишь здесь, на лавке, и с радостью позволяешь солнцу греть тебе лицо, и ты думаешь о том, что пани Лёмпино даст тебе на обед. Не оставили, вы только шли коридорами, избегая других шахтеров, которые добывают подземные сокровища, и в самом конце там была пещера, в которой был Черный Дедушка – черный, потому что он и вправду был совсем черный, словно негр, и тебя положили на лежанку из угля, а Черный Дедушка охватил твою голову, приказал всем выйти и вырывал у тебя из черепа голоса, которые торчали там словно вороньи когти, вырвал, мучился и сопел, а ты вопил, но твой голос не мог пробиться сквозь породу, а он все вырывал, вырывал, пока не выдрал все, а ты потерял сознание.
А проснулся, помнишь, Теофил, в своей постели, чистенький, без единого следа угля. И спросил у пана Лёмпы, который сидел у твоей кровати, где же ты был, а он сказал, что "bůú žeś pod źymjům, na grubje, i tam će Skarbek wylyčyú" (ты был под землей, в шахте, и там тебя Скарбек[22] вылечил – силезск.). И действительно, голосов в твоей голове уже не было. Твоя голова была чистой и тихой, это ты помнишь более всего. И после того начал ты выходить к людям, в деревню, а они все говорили так странно, как пан Лёмпа, но ты их полюбил, потому что они, увидав, что ты живешь у Лёмпы, перестали тебя бояться. И ты начал ходить в костёл, и на уроки катехизиса с детьми из школы, которым рассказывал про Черного Дедушку, поскольку именно так называл Скарбника, который тебя излечил, а еще раньше послал червяка и кота, чтобы те тебя к нему привели. Дети слушали, а если были постарше, то смеялись, но все равно слушали. А когда по понедельникам пан Лёмпа брал с собой еду для Черного Деда, ты иногда давал пану Лёмпе подарок для Дедушки: засушенный цветок или камешек, или что-нибудь приятное. А тот Деду всегда относил.
И вот теперь, Теофил, ты сидишь себе на лавочке, но чувствуешь, что нужно вновь посетить Черного Дедушку, потому что коровы иногда вновь начинают заговаривать с тобой, и Дедушке нужно будет вновь вырвать голоса из головы, ведь правда? И ты чувствуешь, что и ворон где-то неподалеку. Кружит поблизости ворон каркающий и только и ждет, кого бы это расклевать.
Но ты же не боишься, ты ведь знаешь, что Черный Дедушка тебе поможет, опять же, ты ведь в костёл ходишь, а там тот милый ксёндз, который, хотя это ему совершенно не нравится, сидит с тобой и разъясняет тебе различные вещи про Иисуса. И так вот сидишь, Теофил, на солнышке, и тебе тепло и хорошо, и у тебя имеется собственная комната и горячая еда, и ты работаешь с коровами, а они, чаще всего, молчат, и кот тебя избегает, издалека обходит, даже ворон тебя боится, потому что, как только чувствуешь, что он близко, ты бежишь в костёл, идешь к причастию, и ворон исчезает.
Теофил Кочик еще сильнее вытянулся на лавке, улыбнулся солнцу. А в доме пани Лёмпина никак не могла найти банку с молоком, которое хотела вскипятить детям, да и вторую, чтобы поставить na kiška i potym na haúskyjza (чтобы скисло, а потом на домашний сыр – силезск.), так что когда увидала в окно Кочика, с закрытыми глазами скалящегося в сторону солнца, то, раздраженным тоном, она крикнула через окно:
- Kocik, najduchu, kaj žeś zaś poćep bańka ze mlykjym?! (Кочик, найденыш, куда девал банки с молоком? – силезск.).
Кочик сорвался с лавки, словно его током ударило, потому что он побаивался суровой хозяйки, доброе сердце которой он узнал так же, как познал ее требовательную и нетерпеливую натуру. Какое-то мгновение он не мог вспомнить, куда поставил банку с молоком, так что без конца бегал с одного конца двора в другой, лишь бы было видно, что он занят поисками. В конце концов, припомнил, что молоко поставил на ступенях, перед laúbům (передними сенями), так что быстренько перескочил эти несколько ступенек, схватил обе банки и вбежал в дом. Сбросил обувку, стрелой промчался через сени и вскочил на кухню.
И что же это была за кухня, Теофил! Большая, широкая, со столом, за которым каждый день все обедали и ужинали, только лишь по воскресеньям раскладывая большой стол в комнате. Кухня, в которой у пани Лёмпиной имеется современная газовая печка и холодильник, и красивая мебель, но постоянно она готовит на угольной печи с духовкой, потому что так ей удобнее, и так эта кухня отличается от всех тех мастерских, в который в течение всей жизни готовили тебе пищу безразличные кухарки с сетками на волосах, в огромных эмалированных ведрах, а у пани Лёмпиной всегда жарко и огонь в печи, и под буфетом висят бело-голубые занавесочки с вышитыми набожными высказываниями и бело-голубые баночки с SALT, PFEFFER и ZUCKER (СОЛЬ, ПЕРЕЦ и САХАР), и кухню все время тщательно убирают, и печку пани Лёмпино каждый день тщательно вытирает, вот и сегодня пахнет журом, кисловатым зачином из крупы, и жареной грудинкой, и колбасой, а среди всего этого царит пани Лёмпина[23], с пухлыми обнаженными плечами, в стилоновом[24] фартуке в горошек, царица грозная и справедливая, но и милосердная, которой ты, Теофил, служишь.
- Вот, вот, я молоко принес, пани Лёмпино, здесь я, - почти что крикнул он.
Лёмпина повернулась с улыбкой к усердному и частенько все забывающему Кочику, а тот вдруг почувствовал, как бьющее от кафельной, кухонной печи тепло размягчает ему ноги, словно бы те были из пластилина, в то время как запахи еду окутывают мозг мягкой ватой. Ноги совсем подкосились, и Кочик упал на покрытый желтым линолеумом пол, теряя сознание.
Когда пани Лёмпина припала к нему и положила руку на его лбу, она не на шутку перепугалась: лоб Кочика горел, сжигаемый горячкой, которую дети переносят с огромным трудом – ладонь пани Лёмпиной, матери четырех сыновей и дочки, была чувствительная словно термометр. Так что она потащила худенького дурачка в кровать, хватая его под мышки, положила ему на лбу холодный компресс и позвонила в скорую помощь.
+ + +
Поначалу детские рожицы. Младшие классы начальной школы, дети удивительно – после варшавского опыта – вежливые и послушные. Видна прусская муштра, маленькие силезцы, - думал ксёндз про себя, - дома у вас наверняка висит портрет Гитлера или, по крайней мере, kajzera Wiluśa, как вы его называете. Они пялят свои большие глазки, когда он говорит с ними по вопросам катехизиса. Или же говорят что-то на своем странном, польско-чешско-немецком пиджине, на том самом Wasserpolnisch, когда он спрашивает, то рассказывают о семьях, в которых есть fatry и mamulki, braćiki и śostry, ůúpy, ůmy, ujki, starki, stařiki, staroški, по началу приходилось расспрашивать, чтобы освоить хотя бы эту, семейную терминологию. Потом ему рассказывают какие-то свои детские, силезские истории, про Викторию из второго "цэ", про Николу из первого "а"; у половины из них имена из сериалов. Или же пересказывают, вместо мультиков – удивлялся ксёндз поначалу – какие-то свои силезские сказки, которые рассказывают им родичи, про Скарбека, который сидит в шахте, и папа носит ему еду в szychtu, в противном случае Скарбек мог бы разозлиться и zaloc cauo gruba rajn (полностью залить шахту – силезск.). А что означает rajn? И показывают ему свои тетрадки, их гордость и сокровище, опрятные словно дворы их хозяйств, со всеми необходимыми полями, ленточками и цветными обложками.
А после обеда – старшие классы, гимназия. Куда-то пропадает у вас та самая силезская послушность и собранность. Четырнадцатилетние лолитки с выпяченными сиськами, кокетничающие со мной в своих блядских юбчонках и в туфельках на каблуках, склоняющиеся над моим столом выработанным движением, так что маленькие девичьи грудки чуть ли не сами выпрыгивают из доходящего почти что до пупка декольте. На уроке такая девица жует батончик “Марс”, сует его себе в рот так, прости меня, Господи, словно занимается оральным сексом. Я пытался говорить со школьной директрисой, чтобы совместно как-то апеллировать к родителям по вопросу приличий в одежде детей, но та ему ответила лишь: "пану ксёндзу тут легко, пана ксёндза через год-два здесь уже и не будет, а я буду жить здесь до конца своей жизни и не собираюсь наживать себе врагов". Или взять тех пятнадцатилетних бандиток или мальчишек, только-только после мутации, петушиными голосами говорящие только лишь о том, как въебать кому-нибудь в харю, подъебать у кого-нибудь машину, выебать какую-нибудь задницу, наебать кого-то, приебаться к кому-нибудь текстом, въебаться во что-нибудь на подъебанной у кого-то машине, и вообще, чтобы все было заебись. Заебись! По дороге домой Тшаска просил у Господа прощения, но им ведь нужен не ксёндз, им нужна полицейская дубинка, прости меня, Господи Иисусе, но вот к этому у меня никакого призвания нет. А ведь среди них дети и из хороших семей – довольно часто бедные, скромно одетые, умные и послушные – и тут же запуганные, побитые, оплеванные, осмеянные. Ему вспоминалось, что он и сам был таким вот ребенком, в пролетарской начальной школе на Праге[25] и теперь пытался как-то защищать их, отгонял юных хулиганов, подавал жалобы в дирекцию – после чего приходила какая-нибудь дамочка, мать бандюгана, профессор Силезской Политехники и из-под белокурой прически метала громы на наглого попика, который от нечего делать цепляется к ее сыночку. Она сама переехала из Гливиц на село, чтобы ее сыну не нужно было опасаться городских бандюков, а тут к нему эти местные шалавы цепляются, дерёвня какая-то. И тогда он становился на стороне "дерёвни", против собственных сестер и братьев по академическому образованию, для которых Дробчице – его тюрьма и ссылка – были всего лишь спальней.
После школьных занятий Тшаска возвратился домой, пришлось отказаться от прогулки по лесу, потому что отец настоятель выслал ему эсэмэску, что сегодня дежурство в канцелярии нужно будет начать пораньше Ксёндз с трудом прожевал невкусный обед: обжаренные и пригоревшие клецки, оставшиеся от воскресенья – Боже, я уже даже начинаю говорить как они ведь клецки должны плавать в супе, а эти – попросту картофельные, запихивающие рот комья, и даже не знаю, галушки, что ли, плюс твердый рулет, порезанный на куски и подогретый во вчерашнем соусе. Как и каждую неделю, сплошная силезская кухня: клецки, рулеты, красная капуста, бульон, а еще эта их нехорошая, только лишь забивающая желудок, дрожжевая выпечка, koúočzposypkům, и ничего более. Полная силезская поваренная книга поместилась бы на одном листе бумаги. И ничего более, никакого разнообразия: галушки, рулеты, котлеты из фарша, жареный цыпленок, иногда, в воскресенье, гусь, и снова клецки с картошкой, картошка с клецками, все время и по кругу. Тшаска вымыл после себя посуду, несмотря на протесты панны Альдоны, отставил тарелку, чтобы стекла вода, а экономка тут же вырвала ее из проволочной сушилки и отполировала досуха.
После того он засел в канцелярии и в течение пары часов попеременно то скучал, то выписывал свидетельства о крещении для будущих супругов, то слушал, как за стенкой отец настоятель склоняет молодежь к католической морали, рассказывая всяческие глупости в рамках того, что называлось обучением для будущих семей. Даже он сам, слыша тембр голоса отца настоятеля, должен был изо всех сил напоминать себе, что от всего сердца верит в католическое учение о супружестве – а что уж там говорить про этих парней, про этих девушек, которые все уже трахались сотней различных способов, о существовании которых отец фарар и не подозревал, которые пользовались презервативами, таблетками и один Бог знает чем еще. А на обучение приходили, а как же – ведь свадьба должна быть в костёле, ведь покрытые плесенью стены ЗАГСа никак не могут равняться с освещенным нефом, а сонная чиновница с абсурдной цепью на шее – это ведь никак не священник.
В конце концов, уже после восьми вечера, Тшаска поужинал, пожелал спокойной ночи и, совершенно обессиленный, вскарабкался по лестнице в комнатку в мезонине плебании. Весь мезонин был разделен маленьким коридорчиком; справа, под крышей, утепленной стекловатой, с потолками из гипсокартонной плиты, размещалась комната ксёндза Янечка, а слева – просторны и холодный чердак, используемый в качестве чулана. Викарий ужасно устал, но пересилил себя, включил компьютер и открыл файл со статьей об инкультурации которую писал для "Гостя". Заскрипел жесткий диск в корпусе, замигал красный светодиод, открылось окошко Word’а, после чего весьма сонно загрузился сам текст. Когда это он в последний раз работал над ним? Нужно перечитать все заново, чтобы вообще вспомнить, в чем там суть, а ведь это всего лишь необязательная публицистика. Тшаска пробежал глазами по последнему написанному им абзацу:
Когда в 1549 году португальские купцы привезли в Японию иезуитов (а еще огнестрельное оружие), члены ордена начали миссионерскую работу. Отмечая, что японцы вовсе не являются дикарями (это как раз японцы считали все остальные народы за gajin, варваров, забрасывая европейцев, китайцев, малайцев и арабов в один мешок), решили «перевести» христианство для японской культуры. Католические церкви строились как синтоистские святыни, священники носили одеяния, похожие на одежду буддийских монахов, Писание было переведено на японский язык. Но появилась проблема с крестом – в Японии смерть на кресте была смертью, несравненно более позорной, чем в кругах латинской и иудейской культуры. Проявление почитания предмету столь глубокого позора для японцев было просто невообразимо, потому иезуиты перестали размещать кресты в храмах. Только для Ватикана это было слишком много – было приказано завершить "эксперимент" и вернуться к классической миссионерской деятельности, с христианством, облаченным в европейские культурные образцы. Это совпало с преследованиями христиан, начатые кланом Такеда. В результате, христианство в Японии практически исчезло – до эпохи Мейдзи дожили очень небольшие группы, полностью законспирированные, в то время как в 1614 году в Японии было 300 тысяч христиан. Об этом можно лишь сожалеть, поскольку такой уровень христианизации в Стране Цветущей Вишни уже никогда не был достигнут. Но, не продвинулись ли иезуиты слишком далеко? Вопрос звучит следующим образом: как много можно «перевести», не подделывая Доброй Вести?
Он написал это две недели назад. С того времени – ни слова, а ведь сколько раз пробовал. Тшаска положил пальцы на клавиатуру и тут же понял, что в голове пустота. Не появилось ничего, что можно было бы перелить на бумагу. Викарий перечитал последний абзац еще раз, но ему казалось, будто бы читает текст, написанный кем-то чужим. И он уже был взбешен, уже знал, что и теперь ничего не выйдет, но еще сидел перед монитором, через силу пытаясь преодолеть интеллектуальное оцепенение, в котором находился уже несколько месяцев. И ничего, совершенно ничего. Викарий переставил штекер из телефона в модем; Господи, ну какое же все это было архаичное, точно так же мог бы передавать и дымовые сообщения; модем тихонько запищал и соединился с сетью. Тшаска открыл Outlook, выпало несколько сообщений-предложений: buy Viagra, chip Cialis, meet hot chicks from your area, enlarge your penis. Особенно последнее предложение показалась викарию жестоким; он стер весь спам, еще раз нажал на клавишу «Отсылка/Прием», но за эти последние несколько секунд никто выслать ему электронное письмо не решился. Он выключил компьютер, прямо в сутане лег в кровать, поднял пульт и начал тупо глядеть какую-то идиотскую комедию на Польсате. Какое-то мгновение думал, а не взять ли книгу, но тут же отказался от этого намерения. Тшаска решил еще немного посмотреть телевизор, а потом просто отправиться спать. Ничего не поделаешь, "Воскресный Гость" подождет. Викарий постепенно погружался в телевизионное онемение, он даже подумал, что нет никаких сил для комплеты[26]. Он поднялся ненадолго лишь после того, как кончился фильм, сутану небрежно положил на кресло, после чего бросился в нижнем белье на кровать, слушая вечерние новости. И вот тут услыхал шум на чердаке.
Кочик. Он совершенно позабыл о нем, а ведь тот должен был прийти, в половину одиннадцатого. Наверняка забрался по громоотводу, открыл себе окошко и влез на чердак, чтобы постучать прямиком в двери комнатки викария. Сейчас он разбудит отца настоятеля, и будет скандал. Настоятель подумает, будто бы Кочик захотел что-то своровать, и пинками выгонит его из фары.
Ксёндз Янечек с неохотой сполз с кровати, окутался халатом и вышел в коридор мезонина. Из щелей между фрамугой и дверью, ведущей на чердак, пробивался яркий свет.
- Понятное дело, еще фонарь с собой притащил, придурок, - буркнул викарий. – Ладно, Кочик, уже иду, только не шуми, - прибавил он уже громче.
Викарий повернул ключ и открыл двери, ведущие на чердак. Между старыми комодами, запихнутыми в шкафы приходскими книгами за последние четыре сотни лет, поломанными абажурами, сундуком с Бог знает чем, запыленными банками и громадным эмалированным барабаном для ślojdrowańo – по-польски вроде как говорят про кручение[27] меда? – стояло двое мужчин в белых одеяниях до самой земли. От их исходило сияние, словно от неоновой вывески над мультиплексом.
- Ксёндз Ян Тшаска, как предполагаю? – отозвался более высокий из двух пришельцев, длинноволосый и бородатый.
Викарий, стоя с открытым ртом, смог только лишь кивнуть.
- Тогда мне весьма приятно. Я – Иисус Христос, а вот это, - тут он указал на второго мужчину, андрогинного и одаренного белокурыми локонами до пояса, - архангел Михаил.
У бородатого мужчины было лицо с Туринской плащаницы, копия которого, выполненная из льняной ткани, висела у ксёндза Яна на стене.
- О-о-о я ебу, - прошептал викарий и потерял сознание.
+ + +
Янек лежал с закрытыми глазами хотя уже и не спал. Он размышлял о безумном сне, который увидел сразу же после того, как заснул, про Иисуса с архангелом Михаилом на чердаке. Интересно, вот как бы это проинтерпретировал Збышек, который в семинарии прятал под матрасом Фрейда. Наверняка, сказал бы какую-нибудь глупость об отце. Ладно, это все без смысла.
- Ну вот, наш попик и приходит в себя, - викарий услышал Иисуса Христа и открыл глаза.
Человек, называющий себя именем Спасителя, сидел в кресле, в котором сам ксёндз Янечек привык читать бревиарий, ну а архангел Михаил присел на корточках прямо на столешнице письменного стола, рядом с клавиатурой, словно азиат или громадная птица опирая ягодицы на пятках Ксёндз Тшаска резко уселся – и в тот же самый миг над головой Иисуса Христа загорелся нимб. На предплечье чужака был закреплен небольшой жидкокристаллический экранчик, на котором Иисус вычерчивал какие-то знаки стилом.
- Я ебу, - вновь прошептал викарий.
- не следует пану ксёндзу ругаться, поскольку это явно ему не соответствует. И будьте так добры, не теряйте сознания. Все-таки, сколько-то там пан ксёндз да весит, мы с Михаилом напахались, пока пана ксёндза сюда затащили, - сказал бородач.
Янек вскочил на ноги. Настенные часы показывали полчаса после полуночи, выходит, он не проспал и трех часов. С того момента, как он услышал голос Христа, мозг его работал на самых высоких оборотах, анализируя ситуацию: он удостоверился в том, что это не сон, и что наркотиков он не принимал (ну да!). Себе он оставил две возможности: либо сошел с ум и теперь у него зрительные галлюцинации (хотя таковые, вроде как, почти никогда не случаются, в отличие от слуховых галлюцинаций), либо же кто-то устраивает над ним злую шутку. Викарий понял, что психическую болезнь сам у себя он не будет в состоянии выявить, даже если бы и вправду был болен; так что пока что следует принять, что он стал жертвой шутки. Вот только чьей? Наверняка, это никто из его старых знакомых, те с большим трудом могли себе позволить электронное письмо раз в три недели. Исключил он и прихожан, это явно не силезское чувство юмора. Может это какие-то антиклерикальные журналисты?
- Нет, ксёндз, мы вовсе не из "Фикций и Мифов"[28]. Мы с неба, - сообщил Иисус.
Стечение обстоятельств. Им известно, что ты интеллигентен и способен догадаться о сути шутки Он представил себе заголовок: Ксендз, уверенный, что его посетил Христос. Они могут быть из "НЕ!"[29], из Фикций и Мифов или из какого-нибудь, скажем, интернет-сервиса.
- Да успокойтесь, пан ксёндз. Я же говорю, что мы никакие не журналисты, мы – с неба. Если говорить интеллектуальным сокращенным языком, прилетели на космическом корабле, типа НЛО. Ну, пан ксёндз же врубается, ангел на бронзовых ногах и в белых одеждах, огонь и дым, глас с высоты[30]. Только не говорите, пан ксёндз, что при изучении Откровение святого Иоанна у него никогда не было дэникеновских[31] ассоциаций.
Просто стечение обстоятельств, понятное дело, ведь никто не может читать мысли.
- Ясен перец, нет. О том, что, будучи в седьмом классе, пан ксёндз украл машинку из магазина игрушек, а потом, мучимый угрызениями совести, все же не отважился вернуть его хозяину, так что, втайне от всех, пан ксёндз отнес его в детский дом.
Ну откуда, никто ведь об этом не знал, за исключением… Нет, это невозможно. Его исповедник в семинарии не мог бы…
0 Ну конечно же, нет. Отец Станислав, дорогой мой пан ксёндз, слишком много знал тайн, чтобы выдать хотя бы одну. Но этот диалог не имеет смысла, подслушивание в голове меня мучает, - продолжил Иисус. – Ну как я могу святому отцу доказать, что я тот, за кого себя выдаю? Какое чудо мне сотворить, Ян ты наш неверующий?
Викарий не отвечал, потому что ему ничего не пришло в голову. Иисус вознесся над полом сантиметров на двадцать, стащил со шкафа хрустальную вазочку и хряснул ею об стенку. Вазочка с грохотом разбилась, а на пол рухнул ливень блестящих осколков. Только они не легли спокойно на досках, а отскочили от них, словно бы их сделали из резины, полетели на средину помещения, закружились, вновь соединились в вазон и вернулись в руку Иисуса, который поставил сосуд на шкаф.
Я сошел с ума. Или – а может престидижитатор? Дэвид Копперфилд? Скрытая камера?
- Меня, случаем, не в "скрытой камере" снимают? – выдавил из себя в конце концов Тшаска.
- Понимаю, что это выглядит будто дешевый трюк или штучки фокусника, но как раз сейчас – и пан ксёндз должен это понимать – у меня нет под рукой моря, которое могло бы расступиться. Впрочем, в семинарии вас же учили относительно парузии[32], разве не так? Так вот, пан ксёндз, вот вам и парузия, я вновь сошел на землю. Хотя нет, в принципе, пока что это обычная частная эпифания[33], парузия случится, когда я явлюсь всем.
- Но ведь должны же были появиться знаки: печати, бестия, вавилонская блудница… - без какого-либо смысла возразил ксёндз.
- Ну да, и обоюдоострый меч должен выходить у меня из уст, разве не так?
Христос раскрыл губы, и между зубов выскочил длинный, блестящий клинок.
- Нхак, нгвица? Тьфу, - клинок исчез, - невозможно же так говорить. Ну как, понравился пану ксёндзу меч? Годится? Вообще-то говоря, могу сообщить пану ксёндзу, материя послушна моей воле. Так что, чего только пан ксёндз пожелает: меч во рту, крылья, рога, копыта, отроски – любое ваше желание.
- Так вы… - наконец-то выдавил из себя викарий, - Иисус?...
- Нуу, вообще-то принципиально ответ не так уже и прост. Вообще-то: да, я – Иешуа, родился я в Вифлееме, в четвертом году до рождества Христова, - снисходительно усмехнулся бородатый, - во времена правления Августа. Родила меня Мириам, которая и вправду была девственницей, а Иосиф моим отцом не был. Зато я и не Сын Божий, что естественно и понятно. Меня прибили к кресту, но на нем я не умер. Ну и, опять же, я не мог бы никого ни от чего избавить, так что я никакой не Христос, Мессия или Искупитель. Вот непорочное зачатие – это и вправду факт, но, как пан ксёёндз наверняка ориентируется, оплодотворение девственности без полового акта и без разрыва девственной плевы не представляет собой какой-то особый вызов с технической стороны.
О, Святая Дева, прости мне, что я слушаю эти вот святотатства, и не карай этих людей, кем бы они ни были, - подумал викарий.
Иисус прервал свою речь и почесал себе подбородок.
- О'кей, ты прав, что ни говори, она ведь мне биологическая мать…
- К делу, Господи, - перебил Иисуса архангел Михаил.
- Ладно. Слушайте, пан ксёндз, дело не столь уже и сложное. День Господен наступил. Вы уж простите, пан ксёндз, что не все выглядит так, как пану ксёндзу казалось. Дело, в принципе, достаточно простое. Так вот, я и вправду бог, но не в понимании современной теологии. Для римлянина времен правления Августа, когда я родился, я был бы богом вне всяких сомнений – моя воля влияет напрямую на материю, примеры чему, признаюсь, шутливые, я представил только что. Если вы спросите, были ли это чудеса, или же эти события соответствуют какой-то пока что не известной вам физике – отвечу: ни да, ни нет. Просто, никакой такой физики не существует. Природа мира не физична, она духовна – потому-то мы и смогли появиться на чердаке, рядом с твоей спальней. Присесть можно? На форму мира не влияют никакие законы, но лишь воля сознательный бытий – сами вы духовно еще слабы, потому способны формировать реальность только лишь косвенно; чем же бытие мощнее, тем больше оно может.
Иисус отодвинул стул от компьютера и уселся поудобнее.
- Мы не космические пришельцы, просто – мы высшие существа. Духовные. Все – демоны, ангелы, тому подобные дела, в которые ты более или менее веришь, все это правда. Просто правда эта выглядит несколько иначе. Бог, понятное дело, существует, только я не назвал бы его бытием как личность. С сожалением заявляю, что иногда ближе к истине были различные языческие пантеисты или тот самый сумасшедший немецкий бенедиктинец-буддист[34]. Но, несмотря на то что Папаша личностью не является, у него имеется воля и сила, но личностью мы его не назовем, поскольку он не индивидуум… Псякрев, в жопу этот ваш язык. Ну никак этого не выразить. Михаил, как бы это было на божественном языке? – обратился он к архангелу.
Тот, все время стоя рядом, глянул на Иисуса.
- Ага. Хорошо. Может, по-французски попробую, это более точный язык… или, в принципе, оно и не важно. Ну, попик, чего ты на меня так пялишься?
Ксёндз Янечек сидел на кровати, и действительно пялясь, с лицом,, предполагавшим совершенно плоскую линию энцефалограммы.
- Эй, ксёндз, возьмите-ка себя в руки. Именно сейчас пан ксёндз переживает, скажем так, мистическое испытание! В книгах об этом писать будут, о Втором Откровении – да, я, кстати, говорил уже, что это еще не конец света, а только лишь дополнение возвещения?
- Дополнение? Но ведь, - тут викарий долго подыскивал подходящую форму вежливости и, в конце концов, удовлетворился простейшей, - вы ведь все отрицаете, абсолютно все, что я признаю в Credo[35]… - викарий наконец-то отреагировал на только что услышанные им сенсационные открытия.
- Ну, скажем так: дополнение и коррекция. Ну а помимо того, не всего. Так вот, самое основное, человек и вправду обладает душой, и душа эта, действительно, бессмертна. После смерти человек теряет в материальности в пользу собственной духовности – тут снова непреодолимый языковый барьер, пан ксёндз пускай ж простит – пан ксёндз после смерти поймет и так. Разве что пан ксёндз вознесется на небо, как Мария – это иной способ перехода на другую сторону, но без утраты материи, более близкий, хммм – чтобы дать отсылку к наверняка известному пану ксёндзу понятийному аппарату, более близкий к аристотелевскому единству души и тела, чем к обычной смерти, которая, скажем так, платоновская, не правда ли? Записывайте же, пан ксёндз, записывайте, это же Второе Откровение!
Ксёндз Янек машинально взял тетрадь и карандаш.
- Во-о, у нас уже и первые реликвии появились. Пан ксёндз лучше пусть вырвет из тетради страницы, на которых сейчас виршеплетства пана ксёндза, да выбросит их в корзину – но, впрочем, не надо, ведь если страницы будут вырваны, то лет через двести кто-нибудь пана ксёндза тут же обвинит в повторной подделке Откровения; ведь будут новые agrapha dogmata[36], будут новые протестанты и новые католики. Так что, пожалуйста, не вырывайте, а записывайте, как оно идет, Святым Карандашом. Я, Иисус, Иешуа, Христос, Мессия, являюсь наивысшим духовным бытием, которое на какое-то время приняло материальную форму путем рождения от женщины, Марии. Ариане, те самые, древние, а не те, что с деревянными саблями[37], совершенно случайно имели правильную интуицию по данному вопросу, отрицая существование Святой Троицы – я создание, не создатель. Свидетели Иеговы каким-то образом тоже ближе к истине, хотя они, без всякого смысла, отождествляют меня с ветхозаветным архангелом Михаилом, который – сам видишь – является чем-то отдельным.
Архангел Михаил изысканно поклонился.
- Так или иначе, - продолжал Иисус, - именно римская Церковь является моей Церковью, а не те еретики, так что не беспокойся, правильную ты сутану выбрал. Верность догмату здесь никаким боком, вы бы могли заявить даже то, что Христос – то есть я – был гиппопотамом, но это ведь я вас избрал, а не вы меня, так что это никакого значения не имеет.
Проблема заключается в то, что все те действия, которые вы так обожаете: молитвы, богослужения, пения, ладан, нам ни на что не пригодны. С молитвами, по сути дела, все совсем иначе – они обладают некоей внутренней ценностью, в качестве, скажем, созерцательных тренингов. Но к нам они ну никак не попадают. То есть, молится следует, поскольку это поднимает, говоря языком брошюрок о здоровом питании, уровень духовности. То есть – я иногда в состоянии их услышать, когда, случаем, на какой-нибудь из них сконцентрируюсь, или когда ее напряжение велико – к примеру, когда миллион человек соберется на поле с тем вашим папой римским, где ровнехонько сто тысяч молятся, тогда это я как раз слышу. Но вовсе не выслушиваю, поскольку, что очевидно, я вовсе не вездесущий. Вездесущ только Бог – мой способ существования не геометричен в вашем понимании, но это совсем не означает, будто бы я повсюду – я попросту в некотором, хммм, месте или области – или, возможно, на каком-то уровне, ты как считаешь, Михаил?
- Угу, уровне, - сказал архангел.
- Итак, я нахожусь на определенном уровне сферы духовности, понимаешь? Это не место в геометрическом смысле, просто к этой сфере не относятся понятия "повсюду", "там", "нигде" – но при этом не следует, чтобы у тебя создалось впечатление, будто наше бытие соответствует неким эфирным созданиям – у нас имеются тела или, скорее всего, возможно – их манифестации. Ну ладно, хватит уже этой теологической онтологии[38]. Записал?
Ксёндз кивнул. Да, действительно, он записал все. В конце концо, до него дошло, что он обязан задать этот вопрос:
- Но почему Вы ко мне пришли? Чего Вы хотите?
- А что, пан ксёндз еще не врубился? Мне нужен новый Иоанн Креститель, некто, одаренный силой, кто предскажет мое возвращение. Люди уже дозрели до правды, а миру нужен царь, настоящий царь. Так что – вот он и я. А вашему christianitas (здесь: христианскому сообществу) пригодится новая версия имени Ян – имеются же Иоанн Креститель, Ян Непомуцен, Ян Канты[39], то может быть и Ян Тшаска, разве не так? По-французски имеется Jean Baptist Какой-то-там[40], так что может быть и Jean Traska Какой-то-там, правда?
Викарий мрачно подумал о переполненной удовлетворением усмешке Иродиады и кровавой струе, бьющей из шеи, лишенной своего естественного завершения. Иисус поднялся с вращающегося кресла, подошел к викарию и положил ему ладони на голову. Ксёндз почувствовал, что кожа пришельца холодна словно лёд.
- Даю пану ксёндзу дар. Дар знания – знания истинного; теперь пан ксёндз сможет заглядывать в глубину людских душ и совести. Еще даю тебе дар силы – ты будешь творить чудеса, как только этому научишься.
Тшаска ничего не почувствовал.
- Мы же с Михаилом временно поселимся в твоем шкафу.
- Но ведь там вам будет тесно… - как-то неубедительно начал протестовать викарий.
- Понятие неудобства к нам не относится. Шкаф укроет нас от взглядов той дотошной женщины, у которой имеется запасной ключ, и когда пана ксёндза нет, она выискивает все в вашей комнате, разыскивая что-нибудь такое, что могло бы скомпрометировать пана ксёндза перед отцом настоятелем. Пану ксёндзу еще ужасно повезло в том, что тетка ничерта не понимает в компьютерах, потому что была бы готова накачать порнухи из интернета, лшь бы свалить это на пана ксёндза. Ну а теперь – спать. Завтра начнется первый день миссии пана ксёндза, пан ксёндз начнет деликатно, с мелких событий, которые сделают мир лучшим, постепенно переходя к событиям зрелищным, а потом и к чудесам. А уже когда в Дробчице со всех сторон начнут валить автобусы с паломниками, ксёндз начнет проповедовать, случится скандал, в конце концов прибудет комиссия из Рима – и вот тогда я сойду на землю. То есть, мы с Михаилом конкретно вылезем из шкафа. Из Святого, сами понимаете, Шкафа. Жаль, что он такой убогий, получилась бы нехилая реликвия.
Викарий критично глянул на несчастный предмет мебели, покрытый синтетической клеящей пленкой. Прикосновением ладони Иисус зажег экран на предплечье, а ксёндз Янечек решился задать вопрос:
- Раз уж пан утверждает, что он духовная сущность, принявшая материальную манифестацию – тогда зачем пану эта электроника?
- Игры у меня там, - коротко ответил Иисус и влез в шкаф. Архангел Михаил вошел за ним и закрыл дверцу.
Ксёндз Янек сидел на кровати и размышлял над тем, как долго ему удастся скрывать шизофрению. Господи Иисусе, - думал он про себя, - прости за то, что у меня в голове поселились подобные святотатства, которые, к тому же, мой больной разум вкладывает в твои уста.
- Ой, пан ксёндз, только глупостей не пиздите, а ложитесь спать, это приказ, - отозвался приглушенный слоями фанеры и политуры голос.
Викарий улегся и немедленно заснул.
+ + +
Вторник. Вторник. Тшаска знал, что уже начало восьмого. Вторник, вторник… вторник? Ну да, следовательно, утреннюю мессу читает отец настоятель. И доджен уже выходить. Неужто проспал? Да нет, слышно, как он крутится в коридоре. Наконец выходная дверь закрылась. Ксёндз с нехотью подумал про уроки Закона Божьего для гимназистов, которые начнутся через полтора часа, и на которых он сам, Янек Тшаска, обязан присутствовать. Ладно, по крайней мере, утро будет приятным, без отца настоятеля и, возможно, без панны Альдоны. Ну, пошел…
Он быстро разделся и в одном лишь нижнем белье вышел на неприятный холод коридора, который следовало пройти по дороге в ванную. Тшаска сбежал по лестнице, пару мгновений сражался с ручкой, и вступил, наконец, в то место, в котором струя горячей воды вот уже пятнадцать месяцев возвращала по утрам те остатки желания жить, которые еще тлели в нем. Оснащение ванной было родом из начала тридцатых годов – от него исходило достоинство, прохлада и мощь. Монументальная стальная ванна на львиных лапах, сплющенный кран, лежащая на вилках слуховая трубка душа в стиле довоенного телефонного аппарата, умывальник величиной с фаянсовый бассейн – и кафельные плитки, черные и белые, выложенные шахматной доской, и все это охвачено внутренним холодом, от кафельного пола до высокого потолка. Когда душ забулькал, закашлял и плюнул, в конце концов, кипятком, горячая вода, столкнувшись с ледяной стенкой и ванной, тут же превратилась в облако пара, который тут же осел на плитках и на зеркале. Викарий стянул трусы-боксеры и футболку, какое-то время приглядывался к своему отражению, критически оценивая покатые плечи, впавшую грудную клетку, выступающие коленки и локти, не говоря уже о сморщившихся от холода гениталиях. Ты мог бы в Списке Шиндлера сыграть, - смеялись коллеги в семинарии. Когда отражение в зеркале покрылось испариной, ксёндз Янечек открыл кран с холодной водой, сунул руку под струю и влез под душ. Стоял он долго, с головой под каплями. Наконец вышел и завершил утренний туалет посредством зубной щетки и электробритвы. Затем протер зеркало, улыбнулся сам себе, как и всякое утро. Справишься, Янек. Спасибо тебе, Иисусе, за то, что ты позволил кому-то изобрести душ. Дай мне сил, Иисусе. Тшаска надел свежее нижнее белье и отправился к себе в комнату. Не одеваясь, прочел нужные молитвы по бревиарию, потом посчитал, что уже пора спуститься на низ. Он открыл шкаф, с верхней полки стащил брюки, когда же протянул руку за сутаной, услужливая ладонь подвинула вешалку в его сторону. Господи Боже! Иисусе сладчайший!
Выходит, то не сон, просто моя голова смешала сон с явью, неожиданно открыл двецу в другую сторону – заорал Моррисон, завыл синтезатор, застонала гитара, когда воспоминание о песне The Doors прозвучало под куполом черепа священника. Ксёндз стоял, словно парализованный, в нижнем белье, с сутаной в вытянутой руке.
И через двери пройду в приятную белую комнатку в Творках или, как говорят здесь, в Рыбнике[41]. В комнате рядом будет лежать дружбан Будды, а слева – имам, который разговаривает с Магометом. Будем встречаться за кофейком и обсуждать своих знакомых богов и пророков у них за спиной. А Будда в последнее время поправился, заметил? Ну, у него на аватаре такие валики жира выросли. А Магомет обиделся, когда его назвали педофилом. Может малой и всего тринадцать было, зато буфера у нее были – во, какие! А Иисус побрился, можете поверить? Да не, чего ты несешь? Побрился? Ну, это он сказал, что ему понравилась позднеримская иконография. Так что он еще и перманент себе сделал, чтобы были такие вот меленькие локончики, как именно на тех изображениях. Господи Боже, что это за мысли у меня по голове лазят? Я перестал быть способен к исполнению священнического служения, надо отправиться к психиатру и написать письмо епископу.
- Пан ксёндз, вы тут не плачьтесь в жилетку, а бегите завтракать. Вас ждет миссия!
Тшаска послушно надел сутану и спустился в кухню. Еще на лестнице он услышал голос экономки:
- Kapelůnku? Tyn karlus, ten gupi, Koćik, pamjyntoće go? Do Glywic do špitala go wźeńi… (Пан викарий, помните того придурка, недоумковатого парня, Кочика? Его в Гливице в больницу забрали – силезск.).
Тшаска не отвечал, а что еще было отвечать? Он уселся за столом и поглядел на панну Альдону, крутящуюся по кухне.
И увидал ее, Альдону Шиндзелорж, во всем ее человеческом виде.
Маленькая Альдонка сидит с матерью в подвале, втиснувшись в воняющую старым картофелем материнскую верхнюю одежонку. Сквозь грязные стекла подвального окошка глядят они на перемалывающие землю танковые гусеницы, колеса автомобилей и сапоги из хромовой кожи, на сапожища советских солдат, прущих на Запад в своей великой, отечественной войне. Ксёндз Янечек чувствует, что если сейчас он посильнее сконцентрируется, то за каждой этой парой сапог он увидит человека, людское существо (старик Володя, в Саратове, трясущимися пальцами нажимает на кнопки пульта, разыскивая на телевизионных каналах сериал, который заменяет ему жизнь), но он отодвигает это и возвращается к Альдоне. Те все так же сидят в подвале, Альдона ужасно боится, они с матерью сидят уже второй день, а страх, в конце концов, приходит, у него винтовка со штыком, которым он открывает кривые дверцы каморки. Мама отталкивает Альдону, поднимается и выходит к красноармейцу. Альдоне четырнадцать лет, так что она прекрасно понимает, что происходит рядом, на том тряпье, на котором они спят с тех пор, как фронт пришел в Силезию. Мама возвращается и не глядит дочке в глаза.
Перрон banhof'а в Гляйвице, возвращаются пленники из Франции, возвращается папа. Они стоят обе, и наконец, в раздвинутых дверях вагона появляется любимое лицо в сером мундире.
Демонстрация. Avanti popolo! Alla riscossa! Bandiera rossa, bandiera rossa! Avanyi popolo! Alla riscossa! Bandiera rossa trionfera! (итальянская песня "Красное знамя"). Альдона любит демонстрации, цветастые флаги, веселые песни. Avanti popolo! Вставай проклятьем заклейменный! Ей уже семнадцать лет, и ей нравится весь этот неуемный оптимизм, желание идти вперед, трактора, которые завоюют весну, работницы, да здравствует!, с этим она возвращается домой, неся под мышкой портрет Сталина. Отец выбрасывает портрет в окно, тонкое стекло из рамки рассыпается на бетонных плитах. Здесь никто в милицию не донесет. Отец кладет ее, семнадцатилетнюю через колено и всыпает ей по заднице по первое число. По крайней мере, эту последнюю, самую важную битву с большевиками – за душу своей дочки – он выигрывает. Униженная, взбешенная и заплаканная Альдона убегает к себе в комнату.
Через семь лет вместе с матерью она стоит перед угольной шахтой "Гливице". Обе ожидают. Мать ожидает своего мужа и Герда, жениха Альдоны, трудолюбивого, хорошего парня, который не пьет, не волочится за девицами и любит ее дочку. Альдона ожидает своего отца и своего жениха Герда, который нежен, мил, приносит ей луговые цветы, не ругается и не шатается с дружками. Рядом, через ворота шахты, воя сиреной, проезжают кареты скорой помощи, одна за другой, одна за другой. На площадь, опираясь на плечи спасателей, выходят грязные и окровавленные шахтеры. Потом они уже только лежат на носилках. Плачь. Плачь. Beč, dźouško. Beč, po tatulku – ряд открытых могил, духовой оркестр, надуваются щеки дующего в тубу брата Герда, и по этим надувшимся щекам с трудом, медленно стекают слезы и белыми дорожками маркируют черное сукно мундира, прожат красные плюмажи, слезы их кропила священника спадают на ряд светлых гробов. Beč, frelko, po tym abštyfikanće, co ća tak chćoú, že fedrowoú i w ńydźela, bo se porachowoú, že jak śe bydźe budowoú, to mu geltaku ńy stykńe, a přeca musi mjeć chaúpa, jak śe chce wźůnć tako gryf no dźouška. (Плач, девушка, по тому жениху, который так сильно желал быть с тобой, что работал и по воскресеньям, потому что посчитал себе, что когда будет строить дом, то ему не хватит денег от зарплаты, а ведь дом иметь должен, если желает жениться на такой красивой девушке – силезск.). Гроб колышется на белых полосах материи и сползает в коричневую глину могилы, полосы опадают, их вытягивают с одной стороны, лопатка ксёндза сбрасывает комок земли, который с шумом бьется о крышку гроба, брат Герда надувает щеки, изо всех сил дует в тубу.
Альдона стоит на коленях в костёле, на холодном полу, надавливает колени в тонких колготах. Ей не хочется возвращаться домой, где вдова принимает кандидатов на второго мужа. Ей не хочется никого другого. Насмешки подружек, толкающих детские коляски, ведущих детей в церковь, когда Альдона едет утром на своем велосипеде в плебанию. Любимица ксёндза. Старый отец фарар, глядящий на молодую экономку как на дочку, а она думает о своем бесплодном лоне, которое не произвело на свет ребенка, которое никогда не почувствовало мужчины, потому что Герду она запретила доступа к себе, а тот и не настаивал – если бы только знала, то взяла бы тогда тот грех на свои плечи, а весь мир выглядел бы иначе. Ее груди, еще молодые, которые никогда не кормили, не дали молока, а ведь Господь сотворил ее именно для этого. И дети, дети, дети, маленькие мальчик и маленькие девочки с бантами, послушные и расшалившиеся, глупенькие и умные, тетя, пани Альдона, простите, тетенька, даже Альдона, но никто из них не скажет ей "мама", "мамочка". Альдона как женщина погибла в шахте, спрятанная на черно-белой фотографии в портмоне Герда, вдавленном в юношеское тело тяжестью сотен кубических метров породы; ее похоронили на дробчицком кладбище, после чего она сгнила в грязной глине.
Приходит спокойствие, загрязненное только лишь кратким отчаянием, когда проходит климакс, и правда, которая была ей известна, неожиданно открывается всем: нет уже Альдонки, женщины, девушки, имеется панна Альдона, экономка у ксёндза, старая баба, поскрипывающая велосипедными педалями каждый день, по одному и тому же маршруту: улица Вейская, Майова, налево в Скшинецкого и под плебанию.
Очередные события не наступали одно за другим – Янечек видел их так, как они творили панну Альдону, человека, создавая причину и фундамент того, кем она является сейчас. История, интенсивная поначалу и слабеющая со временем, очерчивает надежды и желания: скромные пожертвования, настолько громадные, что попросту незаметные, передача себя в Божью опеку (грохот танковых гусениц и мысль, что высоко-высоко имеется нескто, более могучий, чем самый громадный советский танк), желание порядка, беспокойство за деньги, безразличие к тому, что скажут люди, этот вот новый викарий, которого она в принципе даже любит, лишь бы только забросил он свои варшавские привычки и научился уважать еду, экономить… Вот только эта боль в бедре, исходящая оттуда, иногда усыпленная только лишь затем, чтобы неожиданно проснуться и пронзить все тело. Хрящ и смазка, выстилающая вертлужную впадину бедренной кости, отмирают и с каждым движением все сильнее стираются, все сильнее раздражая окончания нервов, по которым в мозг бегут те небольшие шпилечки уколов и крупные шипы ударов.
- Zjyće krajiček chlyba z tustym na śńodańe, kapelůnku? (Пан викарий не желает на завтрак кусок хлеба со смальцем? – силезск.) – панна Альдона повернулась к ксёндзу Янечку и внезапно заметила, что тот изменился. Он не закусывал нервно губ, не бврабанил пальцами по столу, не крутил пуговку сутаны, не отводил взгляда. Ксёндз викарий лучился. У него было светлое лицо, деликатная улыбка и спокойный, наполненный любовью взгляд. В обычных обстоятельствах можно было бы подумать, что, возможно, он опрокинул в себя чекушечку перед завтраком или влюбился в какой-нибудь соплячке, но панна Альдона откуда-то знала, что это не то.
- Dobře dźiśej wyglůndoće, kapelůnku. Ukraúa bych wům ta šnita, pra? Bůúnkawa bydźeće pjyli? (Пан ксёндз сегодня замечательно выглядит. Так я отрежу вас горбушку, хорошо? А кофе пить будете? – силезск.) – спрашивает экономка спокойным, привыкшим к ворчанию голосом.
Ксёндз Янек ничего не ответил, только поднялся и коснулся бедра панны Альдоны.
В первую секунду ей показалось, что тот с ума сошел и начинает приставать к семидесятилетней старухе. Потом – это он что, насмехается. Открыл все печали, что тихонько складывались в ее сердце, и теперь решил пошутить над ее иссохшей жизнью. Но в течение третьей секунды, когда викарий уже отнял руку, а за его рукой ушла боль, и панна Альдона почувствовала, как ее суставы вновь наполняются хрящевой тканью и смазывающим их веществом, как они делаются эластичными, крепкими и надежными, неожиданно до нее дошло, что ксёндз Янек ее исцелил. Ей хотелось как-то поблагодарить его, выразить изумление, она даже решила, что произнесет это торжественно, на самом лучшем, литературном польском языке, который она могла себе позволить, но, прежде чем подобрала слова, ксёндз схватил кусок хлеба, который она намазывала смальцем, и ушел в школу.
Он не застегивал пальто, слишком тесный берет нес в руке вместе с папкой, в правой, свободной руке сжимал мобилку и большим пальцем перемещал голубую подсветку по записанным в телефоне номерам, с одной позиции на другую. Вот база данных людей, которым я могу позвонить, друг рядом с другом начальство из курии, брат, коллега по лицею, дантист, отец, профессор из семинарии. Кому он может заявить: ксёндз профессор, у меня тут личное откровение, Христос вместе с архангелом Михаилом, оба носят на предплечьях жидкокристаллические экранчики. Нет, пан ксёндз, с ума я не сошел. Ну нет, понятно, что своему давнему ментору звонить не стоит. Боже, как холодно.
- Слава Иисусу Христу.
Тшаска оторвал глаза от экранчика мобилки. Бабка, имени которой он не помнил, в меховой шапке из нутрии – вот шапку помнил, эта шапка сидит на второй лавке слева на утренней воскресной мессе. Тщательно и преувеличенно произнесенная польская носовая гласная[42]. К пану ксёндзу следует обращаться по-польски, как и к чиновнику. Увенчанная шапкой бабуля в старомодном пальто крепко держала руль дамского велосипеда, на котором никогда не ездила, а только водила. Велосипед заменял ей палку и корзинку для покупок. За звонок зацепила эмалированный бидончик на молоко. Бабка была возмущена, ксёндз это чувствовал – ну что это за новомодные такие привычки, kapelůnek po wsi chodzům, mantel ńy zapjynty, kśynžowsko mycka w rynce… (викарий по деревне идет, пальто расстегнуто, священнический берет в руке – силезск.). Совершенно неодобрительно она глядела на телефон в руке священника – fto to widźoú, pjyrwyj tego ńy byúo, coby kśůndz z takim aparatym po ceśće chodźyli… (это же где такое видано, раньше никогда не случалось, чтобы ксёнлз с таким аппаратом по дороге ходил… - силезск.).
Янек стоял, прибитый приветствием, которое услышал, и чувствами, которые переживал вместе с бабкой. Он испытал злость на самого себя, что вот, идет с мобильным телефоном в руке, возмущая прихожан. Он даже подумал, что эта жанровая сценка буквально просится в шустрый объектив фоторепортера National Geographic – молодой священник с мобилкой в руке и старая бабка с молочным бидончиком на велосипедном руле. Викарий чуть не рассмеялся.
- Слава Иисусу Христу, - акцентируя слова и с упреком повторила пожилая женщина, а ксёндзу Янеку расхотелось смеяться.
- Во веки веков, - неспешно ответил он.
Бабулька стиснула губы, сеточка морщин на ее лице сжалась, словно паутина, которую тронул ветер. Неодобрительно мотнула головой и покатила дальше свое ярмо, свой велосипед на спущенных шинах, чтобы внуки получили свое молоко к завтраку.
Ксёндз позволил себя обойти и вновь поднял мобилку к глазам. Озябший экранчик флегматично отвечал на клики – наконец голубым цветом засветилась надпись – "Папа". И что я ему скажу? Тшаска нажал на клавишу "соединение" и приложил холодный пластик к уху. Вместе со стонами сигнала его воля побеседовать перескочила по эфиру и по кабелям до Варшавы, включив электронный звонок в беспроводном "Сименсе", который они с братом купили отцу на день рождения. Папа отрывается от утренней газеты, меняет очки: с "для чтения" на "просто смотреть", подходит к базе, на которой всегда стоит трубка, словно бы прикованная невидимым кабелем. Он поднимает трубку, тщательно вглядывается в нее, находит крупную кнопку с иконкой трубки и нажимает на нее большим пальцем левой руки. Сигнал замолкает, мгновение шумов, когда он, не отходя от столика, подносит трубку к уху.
- Анджей Тшаска, слушаю.
Сухой и конкретный голос папы. Папы, который даже фланелевую рубашку застегивал под самой шеей. Папы, для которого деяние по чистке ботинок было демонстрацией принадлежности к цивилизации. Папочка с седыми английскими усами, подстригаемыми через день, с гладко выбритыми щеками (утром и вечером, Ясек[43], настоящий мужчина бреется по утрам и вечерам). Папочка, в своих ужасно немодных брюках, которые он носит так же, как наследник английского трона носит свои табачного цвета фрачные брюки. Папочка, статьи которого об агентах когда-то публиковались в нишевых журнальчиках, милостиво не замечаемых политическими противниками папы, того самого папы, который сейчас молчит, но его голосом уже говорит mainstream (нет, сам папа никогда таким словом не воспользовался бы)…
- Привет, папа. Это Янек.
Тот улыбается, радуется, что слышит своего сына-ксёндза.
- Привет, Ясек. Как здорово, что ты звонишь. Что там у тебя? А у меня вчера был Южвяк, принес мне корзинку своих яблок. И знаешь, насколько удачными у него вышли эти малиновки? Не хочешь, чтобы я переслал тебе несколько? Оберну каждое в бумагу и упакую в опилки. Южвяк говорит, что подсыпает под деревья куриный помет, потому-то они такие хорошие. Только я предпочту, пускай яблоки даже будут и хуже, но чтобы переносить в саду такую вонь…
- Папа…
- Ну что, Ясек, рассказывай. Как оно там, в твоей Силезии? Не так, как в Варшаве, не правда?
И что я тебе, папочка, должен сказать? Что когда хожу с рождественскими пожеланиями и собираю на костёл, так здешние старики показывают мне альбомы, в которых они гордо выпячивают грудь в feldgrau, украшенную немецкими крестами и медалями – это потому, что они верят мне, потому что я ксёндз. И что это вот – мои прихожане? И что я не мог в это поверить, как не мог бы им поверить, если бы они показывали мне фотки самих себя, молодых в пиратских костюмах? Что наш дедушка переворачивается в могиле, где бы там эта его могила не находилась, захороненный вместе со своим стэном[44] под развалинами той Варшавы, которой уже нет – он переворачивается в могиле, потому что его внук сделался душепастырем немцев – которых вообще следовало бы со строчной буквы писать[45], как предлагали после войны.
Ьак что мне тебе сказать, папа? Я рассказывал тебе об этом уже тысячу раз, поскольку этим еще могу тебя тронуть, мы можем вместе поговорить, заламывая руки, а ты в тысяче первый раз пригладишь усы и скажешь мне пару умных предложений, что я обязан понять, что это ведь могут быть даже порядочные люди, что ведь не каждый из них шел добровольцем, что не у каждого имелся выбор. Ну тому подобное, как всегда.
Нет, папочка, стандартная болтовня сегодня не обеспечит беседы отца с сыном. Я должен тебе сказать, что мне открылись Христос и архангел Михаил, и что прямо сейчас они живут в моем шкафу.
- Папа, я… У меня проблемы, папа. Это может странно прозвучать, но…
- Ты говори, Ясек, говори. Но, знаешь, сегодня с утра, хотя и был заморозок, я набрал немного яблок. Хорошие, джонатаны и старкинги. Может послать тебе, а? Если завернуть в газеты, они даже не сильно и побьются.
- Пана, не хочу я яблок… Мне нужно тебе кое о чем рассказать.
- Так ты рассказывай, сынок, рассказывай. Погоди только минутку, новости по радио начинаются, так я погромче сделаю.
Понятно, все это не имеет никакого смысла.
- Папа, знаешь что, я попозже позвоню, тут срочности нет. Держись там, пока, - произнес он под конец то, что, о чем знал с самого начала этой беседы, и так обязан будет сказать.
- Хорошо, сынок, позвони. До свидания.
В динамике мобильного телефона тихий щелчок сообщает о том, что пан Анджей Тшаска старший, легенда радикальной антикоммунистической оппозиции, проживающий в Рашине[46], разговор закончил.
Янек остался один на холодной дороге, ведущей в школу, в расстегнутом пальто, с беретом и папкой в одной руке и с беспомощной мобилкой в другой. Мобилкой, наполненной номерами, которые означали дороги к ушам различных людей, близких и далеких; мобилка, наполненная номерами, ни один из которых ему не поможет. Ведь брату он звонить не станет.
Одинокая снежинка кристаллизовалась в тучах вокруг какой-то пылинки, выросла в замерзающую воду и медленно, сквозь студеный воздух, соскользнула вниз, чтобы осесть на волосах ксёндза и растаять от того тепла, которое отдавала в атмосферу разогретая голова священника.
+ + +
Это же надо такое, чтобы третий "цэ" сбежал со второго урока! Причем, с математики… А ведь это же самый лучший, самый умный класс. Пани Ковнацкая, прозванная Наковальней, обождала двадцать минут, вглядываясь в пустые парты, и решила оставшиеся двадцать минут посвятить чашечке кофе и чтению журнала "Твой Стиль" в учительской. Она взяла журнал под мышку, вышла из класса и повернула ключ в замке, но тут наскочила на преподавательницу польского языка, пани магистр Роттер.
- Третий "цэ" удрал с математики, - заявила пани Ковнацкая, и ее голос громким эхом прокатился по пустому коридору.
- Невероятно… У меня тоже никого нет, - ответила преподавательница языка, ее все это застало несколько врасплох, и ей тоже завторило эхо.
Из кабинета № 208 вышла Целинка, новая учительница английского.
- С урока сбежали, - перепугано прошептала она.
- Так у нас, выходит, прецедент, первое в истории школы бегство всех гимназических классов, - объявила пани Ковнацкая.
- Конечно, их каким-то образом следовало б наказать, но пани директор наверняка заявит, что все это наша вина, - прибавила учительница польского языка.
На лестнице, ведущей с третьего этажа, застучали каблуки пани директор Олексяк.
Когда глаза преподавательниц увидали небольшую, полненькую и подвижную фигуру директорши, обтянутую ужасно дорогим, и в месте с тем, ужасно уродливым костюмчиком в "гусиные лапки" и дополнительно увенчанную облаком обесцвеченных волос, до них дошло, что случилось что-то серьезное. Похоже, что пани магистр Олексяк пробежалась по всей длине коридора на этаже, потому что сейчас, раскрасневшаяся, она не могла отдышаться, лишь указывала пальцем на окно, вторую руку театральным жестом прижав к груди.
Учительницы, перегоняя одна другую, припали к окну, выходящему на школьную спортплощадку. На асфальтовом покрытии собрались, похоже, все ученики. Они стояли неорганизованной массой, окружив ксёндза Янечка, который, на возвышении, изготовленном наскоро из гимнастических ящиков, стоял и что-то говорил тихим голосом. Ученики, как никогда, стояли, практически не шевелясь, совершенно бесшумно – сквозь приоткрытое окно не доносилось и шороха, дети слушали, словно загипнотизированные, открыв рты. Священник говорил слишком тихо, чтобы его слова были слышны на втором этаже, но, вне всякого сомнения, он говорил что-то такое, чего никто из учительниц никогда не говорил – говорил то, что ученики действительно желали слушать.
- Ну вот, этим и кончается то, что попов запустили в школы, - мрачно заявила пани Ковнацкая, которая только лишь в 1989 году с огромным сожалением сняла со стены портрет Ленина. – Вместо того, чтобы детей просвещать, в школе им в головы втискивают ненаучные бредни. И этим должно было кончиться…
- Он их загипнотизировал, что ли? – спросила пани Целинка, которая даже испытывала некоторое возбуждение всей этой ситуацией.
- Во всяком случае, он, вне всякого сомнения, сошел с ума. Но вот когда ему удалось вытащить всех их всех на стадион? – спросила пани магистр Роттер.
- Он дежурил в коридоре, - ответила ей математичка.
- Дорогие мои дамы, времени на болтовню у нас нет, - взвизгнула пани директор, которой наконец-то удалось отдышаться. – Необходимо это прекратить, за мной! – скомандовала она, и наполненным достоинством шагом, соответствующим ее должности, она направилась к выходу. Учительницы поспешили за ней. Пани магистр Роттер с опасениями, что весь инцидент может закончиться чем-то таким, что могло бы нарушить хрупкое сложившееся в школе status quo. Пани Ковнацкая с радостью и надеждой на то, что, возможно, добраться до шкуры попику – про себя она уже составляла электронное письмо в "НЕ!", которое отошлет сегодня же вечером. Пани Целинка же, которая с огромным трудом сносила сексуальную неудовлетворенность – с нарастающим возбуждением, ожидая, что в ее скучной жизни, разделенной между скучными уроками, мужем-занудой и такими же занудными коллегами по работе – наконец-то случится нечто возбуждающее. Пани Олексяк маршировала, плечом к плечу, с шуанами[47] и российскими белыми генералами, слева от нее шли Рошежаклин и Кателино[48], а справа – Колчак с Деникиным. Защитников Бога и монархии переполняли те же чувства, которые переполняли пухлую грудь пани директор. В беспорядке деликатная материя школы функционировать не может. Порядок – самое главное. Если бы толстый и вялый Людовик XVI обладал энергией и решительностью пани магистр Гертруды Олексяк, революция была бы задушена в зародыше!
Когда все они приблизились к последнему ряду учеников, собравшихся на спортплощадке, пани директор остановилась и подняла руку, тем самым давая знак подчиненным, чтобы те тоже остановились.
Она ожидала, что как только подойдет к этому странному сборищу, кто-то ее заметит, передаст сообщение другим, по ученической массе понесется столь милое для ушей директрисы "ДИРА ИДЕТ!", произносимое тем ученическим шепото-криком, являющимся признаком наивысшего увжения и в то же время – срочности сообщения. И молодежь застынет на месте, готовая исполнить ее волю, с радостью или ропотом, но так, как того желает она.
Но ничего подобного не произошло. Директриса Олексяк постояла еще какое-то время, убежденная, что вот сейчас кто-то ее заметит, но неожиданно до нее дошло, что прямо сейчас она пересекла ту границу, за которой выставила себя в смешном виде – вот она, здесь, на асфальте спортплощадки, маленькая и кругленькая, в костюмчике в "гусиные лапки", а вся банда стоит к ней спиной, пялясь на священника, который ничего не говорит, но и не замечает ее – ее, пани Директрису. Она незаметно развернулась, и ситуация сделалась еще хуже, поскольку ее подчиненные не пропустили унижения, которому учащиеся подвергли директрису.
- Тишина! – бешено рявкнула директриса Олексяк, совершенно абсурдно, потому что ученики молчали, ожидая очередных слов из уст ксёндза. – Тишина и разойтись! – повторила она, рассчитывая на то, что весь мир, подчиняясь мощи ее голоса, изменит направление движения и вернется на правильную колею.
Молодежь отреагировала. Парни в куртках с надписями и головными уборами набекрень, девоньки, словно бы извлеченные из мокрых снов педофила – повернулись, отметили директрису и вновь повернули свои глаза к ксёндзу, словно бы у них за спинами хлопнула под порывом ветра калитка, а не раздался голос удельного суверена школы, пани директор Олексяк.
- Дети мои, пропустите пани директор, - попросил священник, а лицо у него светилось. Ученики расступились. Директриса собрала в кулак решительность и с грозной миной направилась в сторону ксёндза.
- Это что за сборище?! Что это пан ксёндз себе воображает?! Почему со мной никто ничего не согласовал? Дети не пришли на занятия! – выкрикивала директриса, шагая с достоинством, поскольку, принимая во внимание необычность ситуации, она сейчас отказалась от принципа не выговаривать подчиненным в присутствии учеников.
Ксёндз соскочил с ящика и подбежал к директрисе.
- Пани директор, я ужасно извиняюсь перед вами, честное слово.
Гертруда Олексяк почувствовала, что мир возвращается на свое место.
Ксёндз викарий увидал сердце директрисы, которая просто любила Порядок, отождествляя Порядок с цивилизацией, с тем, ради чего она сама сбежала в Силезию от хаотичной деревенской жизни в Келецком воеводстве.
- Я ведь и не хотел, они так сами, я от них почти что убегал, а они поставили меня на ящик и слушали. Началось все на уроке Закона Божьего, только я ведь не сказал ничего такого, - объяснялся священник.
Ученики же глядели на директрису с гневом. Имеется такой инстинкт, который учителя, офицеры и тюремные надзиратели разделяют с дрессировщиками диких зверей. Весьма часто он подсказывает, что имеются такие регионы, заведенные в которые чудовище, даже со всех сторон одаренная милостями, способна пожрать своего повелителя – этим-то инстинктом, который спас множество офицеров на фронте, директриса почувствовала, что если она провозгласит хотя бы одно критическое замечание в адрес ксёндза, прыщатый вьюнош с грязными руками и надписью JP на куртке сожмет свою лапищу в кулак и ударит директрису прямо в лицо. Ну а помимо того, она испытала прилив симпатии к священнику, что ни говоря, он извинился перед ней, и говорит правду, действительно, не хотел он такого сборища, его заставили. Что там пан ксёндз такого говорил?
- Ладно, пан ксёндз, возвращайтесь на свой ящик. Это что, такой вот урок Закона Божьего, да? – пришла ей в голову мысль. – Я объявляю сегодняшний день Школьным Днем… - тут она на минуточку задумалась - …Экуменизма.
Она произнесла первое попавшееся слово, которое у нее ассоциировалось с религией, поскольку, если по телевизору появлялся какой-нибудь епископ, то именно экуменизм в его выступлении появлялся чаще всего. О себе она подумала с гордостью, что хороший повелитель, не терпя диссонанса между собственной волей и реальностью, иногда, не имея возможности поменять мир, подстраивает под него волю, чтобы они всегда образовывали единство.
- И в этот день уроков не будет, - прибавила она, рассчитывая на то, что услышит обычное в подобных ситуациях ликование.
А ничего подобного не произошло. Дети всматривались в ксёндза, а тот просто сказал:
- Нужно быть приличным человеком. Это трудно, но нужно стараться.
Содержание слов священника не имело значения, как в красивой песне на экзотическом языке. Пани директор Олексяк увидела все свои грехи как на ладони, свою жестокость, непреклонность, несправедливость, иногда даже подлость – но в этом ничего такого уж особого не было, свои грехи как на ладони она видывала часто, глядя в зеркало; потом она топила их в работе, уборках, покупках и сплетнях. Теперь же, впервые в жизни, она увидала грехи в контексте бытия человеком и почувствовала, что хотя ее грехи и отдаляют ее от Господа, тем не менее, Иисус ее любит. Любит со все ее несправедливостью и подлостью, ибо любит ее не за то, какая она есть, а любит за то – что она есть. Гертруда Олексяк упала на колени, совершенно не думая о дырках, которые грубый асфальт проделает в ее колготках.
А пани Целинка уже стояла на коленях, за пределами толпы учеников, и из ее глаз текли слезы. Неожиданно до нее дошел вес тех действий, которыми она занималась с коллегой своего мужа, и громадный вес доброй и истинной любви, которой одаривает ее лично «законный». Она даже испытала сочувствие к коллеге мужа, который питал к ней неподдельное, хотя и незаконное чувство. Она знала, что с нее стекла вина, тяжкая вина, о которой ранее она и не подозревала, считая свои измены несущественными шалостями. Она почувствовала себя как некто, кто в одно мгновение узнает о смертном приговоре, и уже через секунду, еще перед тем, как в нем успеет проклюнуться безнадежное чувство неизбежности, получает сообщение о помиловании.
А рядом стояла на коленях пани Роттер, благодарная за то, что ей позволили опуститься на колени.
С шелестом джинсовых мини-юбок, стилоновых спортивных костюмов, со скрипом стильных сапожек и кроссовок "адидас" - на колени рухнула молодежь.
Пани магистр Ковнацкая глядела на эту сцену, превратившись в соляной столп. Реальность переросла самые смелые (до сей поры ей казалось – преувеличенные) статьи из "Фикций и Мифов". Только сейчас до нее дошло, какую важную роль имело ее антиклерикальное хобби – и какими силами располагают те, которых до сих пор она, скорее, презирала, а не боялась – попы. Вот сейчас она стоит и глядит на то, как всего один святоша загипнотизировал стадо говнюков – и это ладно – но всего одним взглядом он загипнотизировал ее начальницу и двух сотрудниц! Вон они стоят на коленях и хлюпают носами. Наверняка, если бы он только кивнул, то удовлетворили бы его. А вот на нее это все не действует, недаром она провела молодость в ССПМ[49]. С гордостью и презрением поглядела она на ксёндза. Не проявляя страха, она повернулась и направилась в сторону дома, чтобы написать электронные письма во все прогрессивные редакции. Когда она была почти что у ворот, ей вспомнилось, что в ее мобильном телефоне имеется встроенный фотоаппарат. Она совершенно не знала того, как потом извлечь из него те снимки, но попросит сына соседей, с его помощью все должно было удаться. Поэтому она вытащила мобилку и активировала фотоаппарат (счастье еще, что он включался отдельной кнопкой). Ковнацкая сделала несколько снимков, правда, она не была уверена, передадут ли те хорошо суть дела. Подвернув коричневую юбку, она забралась на столбик – и-эх, Эльвира, по тебе годов совсем и не видно – и, уже не задерживаясь, маршем направилась к вечной славе на поле сражения с обскурантизмом.
+ + +
Ксёндз Янек второй раз в жизни уверовал в Иисуса.
- Пан ксёндз очень хорошо врубился в проблему. И не надо пану ксёндзу пока что вообще касаться теологии, поскольку она во Втором Пришествии, как пан ксёндз уже заметил, будет принципиально изменена. А вот моральное учение Церкви поправок практически и не требует, если говорить о том, что можно, а чего нельзя. Вопросы прощения и Божьей любви тоже не требуют поправок, так как, в принципе, практика такая же самая. Различия имеются в теории, поскольку, по сути, это не моя смерть на кресте кого-либо искупила, но только лишь каждый своей духовной зрелостью приходит к спасению, то есть подъему на более высокую ступень духовного существования. А некоторые, случается, и не дозревают, и это как раз те, которые не заслужили бы спасения и в рамках, назовем это так, Первого Пришествия. Ага, еще к вашему сведению: позволю пояснить пану ксёндзу, чем по сути своей является грех. С сожалением сообщаю, что ближе к истине, чем Церковь пана ксёндза, были римляне, для которых грех не был оскорблением божественного существа, оскорбление божества было только лишь одним из множества грехов; для римлян грех нарушал субстанцию мира, выбивал ми из состояния равновесия. Потому, как пан ксёндз может прочесть у Тацита, римский палач насиловал осужденных на смерть девственниц – поскольку римский мир был устроен таким образом, что девственницу осудить на смерть было нельзя. Понятное дело, они не знали, как эта мировая субстанция выглядит, потому столь часто они ее бессознательно нарушали; не знали они и того, что выглядит она так, как выглядит, поскольку в акте творения именно такой ее создал Бог. В дополнение, значение они приписывали исключительно поступкам, игнорируя намерения. Мы же, наоборот, знаем – и пан ксёндз тоже знает – что намерение имеет огромное значение. Уже само по себе намерение способно нарушить структуру мира, ведь мир духовен.
Ксёндз Янечек выслушал речь Иисуса молча.
Он часто представлял себе своего Спасителя в те времена, когда тот ходил по земле, так вот самой жизненно важной частью тех представлений были как раз слова. Янек представлял себе речи Иисуса; и он всегда видел их как противоположность тому, как высказываются интеллектуалы. Речь Иисуса должна была быть простой: да, да, нет, нет[50] – и здесь нет места нюансам, двузначности, иронии. Тем временем, Иисусу, который к нему обращается, не достает кресла, позы "нога на ногу", кофейка и сигаретки; ладонь заворачивает дымные окружности, и мы должны принципиально совершить эйдетическую редукцию[51], чтобы абстрагировать, понятное дело, сам эйдос; дойти до самой сути вещей, или до цитаты из Тацита. Ксёндз ненавидел все это еще тогда, в Варшаве, все эти показы тщеславия – ведь это же даже не эрудиция, а только лишь вопрос освоения нескольких десятков понятий-отмычек – кто ими владел, без труда мог выдавать себя за любого профессора в гуманитарной сфере.
Иисус же обращался к нему именно так. А Янек понял, что этот помпезный язык является его собственным, иного он бы не принял. Ну, в принципе он скучал по этим вот пустым разговорам, а перипатетически-лесная[52] метода была так же хороша, как и сигаретно-кофейная. Иисус всегда обращается к нам на нашем собственном языке, разве не правда?
Стоя в школе, на возвышении, ксёндз глядел на ученическую толпу в пестрых одежках и старался говорить просто.
Он не пытался подражать их языку – Боже, как же он его всегда смущал. Священник в ризе, скачущий вокруг алтаря и обращающийся к детям тем образом, который этому священнику всегда казался молодежным, который на самом деле является жалким метисом того, что ксёндз считает молодежным сленгом (практически всегда он устаревший), и церковного новояза – и вот тут в обязательном порядке должен быть применен глагол "обогащать". И перед тем, как произнести столь модное лет десять назад слова "потрясный" или выражения "как вы это говорите, Иисус – это cool", священнослужитель делает паузу и произносит упомянутое потрясное слово со старательной интонацией, выразительно – в результате чего оно впивается в предложение словно макаронизм[53], допустим, пословица на латыни – употребляется совершенно неуместно. Потому Янек никогда не пытался изображать кого-то, кем он никогда и не был. Впрочем, это проблема не только аутентичности. Раз в церкви не вешают плакатов с Пэрис Хилтон или кто там еще заполняет страницы "Bravo" своими личиками, отделанными в кабинетах пластической хирургии и окошках программ для редактирования фотографий, то нет потребности подражать этому языку. Молодежь разницу чувствует.
Поэтому и говорил просто: да, да, нет, нет. Он не обдумывал этой небольшой катехезы[54], которую внимательно слушало больше пар ушей, чем все его предыдущие уроки, вместе взятые. Сейчас он просто сказал им: что им необходимо, а что – нет. Ксёндз не углублялся в теологию, ведь они же не пришли к нему на лекцию; он должен быть ориентиром, а не вести дискуссию. Его преподаватели из семинарии наверняка бы заявили, что ксёндз должен побуждать молодежь к дискуссии, но они ошибались. Дискутировать они могли о том, кто с кем переспал, и настоящие или силиконовые сиськи у Шакиры – от него же желают простой речи: да, да, нет, нет, потому именно такую он им и дал, сказал, что должен был сказать – и, черт подери, радовался тому, что у этих молодых людей стояли слезы в глазах, что учительницы с плачем опускались на колени, вздымая глаза к небу. Может оно и плохо, что радовался – но ведь работнику полагается его заработная плата, разве не так? Таковой здесь была его оплата – вот, мои слова обладают силой. Он закончил, совершил над молодежью знак креста, спрыгнул с ящика и попросту ушел.
Ксёндзу не хотелось возвращаться в фару – ну, боялся, тут нечего и скрывать, боялся вопросов отца настоятеля. Потому пошел в лес, хотя там было холодно и сыро. Но как только он сошел с тропинки, воздух над ним неожиданно полыхнул, будто гигантская лампа-вспышка, и материализовался Иисус, сидящий на поросшем мхом валуне. Он заявил, что решил телепортироваться сюда, потому что поболтать – оно приятнее, опять же, Михаил не подслушивает. Они двинулись на прогулку по шелестящим листьям, а Иисус начал свою лекцию. Когда кончил, дальше они шли в молчании.
Через пару минут Иисус еще прибавил:
- И пускай пан ксёндз не забывает о том, чтобы пока что не касаться Второго Пришествия. Время этому еще придет. Пан ксёндз должен учить так, как его самого научили. Пан ксёндз может все это представить так: Иоанн Креститель учил, прежде чем я вот начал это делать. Он выпрямлял пути для меня, но ведь учил он тому, что заключено было в Старом Договоре, в, как вы сами его называете, Ветхом Завете. Точно так же, пускай пан ксёндз сконцентрируется на проповедовании, скажем, христианства…
- Католичества… - робко перебил его ксёндз.
- Вижу, пан ксёндз, временами, как тот ваш поэт, бывает более римским, чем католиком[55], - засмеялся Иисус. – Ну да, католицизма. Выпрямляйте мне пути, творите чудеса, учите. Придет время, уже вскоре, и я сойду на землю, а пан ксёндз – а почему бы и нет – меня окрестит…
Иисус усмехнулся в свою рыже-русую бородку, коснулся пальцем экранчика на предплечье и исчез во вспышке.
+ + +
Малгоська, и во что это ты лезешь? Под что, подруга, подписываешься? Мать твою ёб! Должен был быть простой материал: сигнал от читательницы из Верхней Силезии – изящная попочка в машину, вжжжик из Лодзи в Силезию, поговорить с кем надо, записать на диктофон, фотка ксёндза, плебании и костёла, попочка в машину, вжжжик из Силезии в Лодзь, в редакцию, стук-стук по клавишам, текст готов и – бабах! – в печать. А в конце месяца построчные, зряплата, поздравления от начальства и – хоп, в кроватку кого-то из нормальных коллег по редакции. Или, что, к сожалению, более вероятно, хоп, в теплые носочки и шлепанцы, чай с малиновым соком и романтические комедии на ДВД. И похмелюга после ночи без мужчины, кто знает, лучше это или хуже, чем после ночи с каким-то типчиком, который рядом с настоящим мужчиной даже и не лежал.
Еще в редакции, вместе с коллегами и с помощью Гугла, они быстро ассоциировали фамилию ксёндза с Анджеем Тшаской старшим, смутьяном на пенсии, а так же с Анджеем Тшаской младшим, молодым и активным варшавским смутьяном. Вот она и решила – поехать из Лодзи в Силезию через Варшаву. По телефонной цепочке пробилась через весь политический спектр прессы – позвонила подружке из "НЕ!", которая подражая своему шефу, ходит на мероприятия с журналистами из "Выборчей"[56]. Подружка дала ей номер одного цивилизованного консерватора с когда-то действительной "концессией" из "Выборчей", который в "Кошерной" пописывал какую-то литературную критику, потом перебрался в "Дзенник"[57], и этот цивилизованный консерватор знал кого-то из смутьянского планктона, который несколько лет назад выполз из своих никому не известных газетенок, размножаемых на ксероксе, и расползся по редакциям бульварной прессы, серьезных газет и радиостанций. Словом, он дал кого-то, кто принадлежит к тому самому племени, что и брат ксёндза, о котором Малгося хотела написать. Упомянутый "кто-то" без каких-либо церемоний дал ей номер Ендрека (именно так он его и называл), Маогося позвонила, вложила массу секса в собственный альт (прыщавые смутьяны в костюмчиках с базара не слишком-то и устойчивы) и договорилась с Ендреком встретиться.
Договорились они в "Кафе Файя" – смешной такой забегаловке, где необходимо снимать обувь, сидеть на подушках, брошенных на пол, и курить арабскую шишу[58]. Малгося поступила так сознательно, все эти смутьяны были чертовски чувствительны в отношении своих неуклюжих и немужских тел – на полу, без щита столика ему будет неудобно, он будет бояться, что от носков пахнет, будет пытаться прикрыть промежность, станет вертеться или, наоборот, сидеть, словно палку проглотив – и вот тут он сделается податливым, и такого легче будет расколоть.
Когда она спустилась на самый нижний уровень кафешки и увидала своего собеседника, до нее дошло, что ошиблась. На Енджеке Тшаске был дорогой костюм от Босса, который он без всякого мял, развалившись на подушках. Хороший галстук, хорошая прическа, расслабленность и уверенность в себе. Одним словом: смутьян типа Бэ, более грозная и вредная модель. Таких Малгоська тоже знала. Некоторые из них еще относительно недавно принадлежали к тому более распространенному типу, который можно было убить смехом; еще несколько лет назад это были нервные, заикающиеся типчики в великоватых или, наоборот, кургузых пиджачках. Лишь впоследствии они показались тебе более привлекательными, с бабками и классом. Светские, они бывали на банкетах и раутах, в салонах у – а почему бы и нет? – Сераковского[59] и других, у них имеются дома в деревне, сисястые жены, а потом отправляется такой вот к какому-то своему тупому гуру из круга "Радио Мария" и говорит с ним, как будто так и надо, словно бы он не принадлежал к лучшему миру красавчиков-космополитов, а у гуру слезы в глазах: ты, сынок, будущее нашего народа. Или же едет такой вот с женой и детишками на своем вольваке за двести тысяч в малюсенькую церквушку, вежливо так садится на лавке между учительницей на пенсии и ветераном войны, складывает лапки и набожно возводит глазки к небу. Или же, в очках RAY-BAN на носу и фирменной рубашечке с крокодильчиком чалапает на какое-то паломничество, пряча образок под шитым на заказ костюмчиком.
Нет, это в принципе нечестно. Сколько свет стоит, во всяком случае, с времен короля Стася[60], в этой стране это мы были красавцами, с бокалами шампанского в руках, а они обязаны держаться корней, иметь родню в Груйце или под Конином[61], за метрикой три дня на волах ехать, потеть, галстуки повязывать так, чтобы те над пупком заканчивались, не ходить к парикмахеру и пахнуть, в самом лучшем случае, old spice. А эти, гляди, впихиваются в наши салоны, в наши клубы… Вообще-то, в принципе, им даже и не надо толкаться, мы сами открываем им двери, приглашаем их – а они, натасканные в свете и умелые, суют себе в рои тартинки с икрой, берут бокал с Dom Perignon – и давай молоть: гомосексуализм – это психическая болезнь, Че Гевара – левацкий преступник, Франко, Пиночет, Рейган – цацы, Клинтон – бее – а после третьего бокала валится такой вот на софу (сисястая супруга, как примерная католичка присматривает дома за детьми и готовит обед на завтра), а рядом с ним молоденькая девица, феминистка-альтер-глобалистка, пялится на типа большими своими глазками и робко протестует, когда тот, уже изрядно налакавшись, гундосить ей про Waffen-SS, Леоне Дегрелле[62] или о консервативной революции, с миной старого фрайкоровца[63] или ветерана, как будто бы это он сам мотался по Берлину с маузером. Потом, понятное дело, они идут наверх, тип запускает несколько анекдотов о Шатобриане, но девица его уже не слушает, потому что присосалась к ширинке, она уже вытащила, что следует, из трусов марки Calvin Klein.
Малгося уселась на подушках. Перед Тшаской уже стоял наргиле, из которого он выпускал клубы пахнущего яблоками дыма. Мужчина не поднялся, не поздоровался, только глядел размытыми глазами, раз за разом прячась за белым дымом. Хам, подумала журналистка и решила начать с места в карьер.
- Что вы думаете о своем брате, который исцеляет раковых больных?
Анджей криво усмехнулся.
- Что он мог бы сделать на этом шикарный бизнес.
Малгожата не ответила на улыбку. Вынула из кармана диктофон и положила на подушку.
- Вы позволите…?
Тот пожал плечами и кивнул, она нажала на кнопку rec, красный светодиод замигал.
Малгося задала ему ряд вопросов, каждый их которых тот пропустил. Тогда она выключила диктофон и заказала бутылку вина; передвинула подушки, оперлась поудобнее; они чокнулись бокалами, и девушка начала рассказывать о себе. Иногда по-другому не получается, это самый лучший способ вскрыть интровертов – мало кто выдерживает следующее из принципа взаимности давление на ответ реванша тем же самым. Так что она рассказывала: о редакции, о людях, которых объединяет только взаимное неприятие; о собственной пустой жизни – в принципе, всякие банальности, о мужиках, с которыми трахалась, потому что ничего лучшего не нашлось, о пустом жилище, о гонке к корыту в редакции.
Невольно и совершенно естественно перешли на "ты".
Через четверть часа до нее дошло, что она уже не думает ни о материале, ни о священнике, а только радуется беседе с милым, интеллигентным мужчиной, который подает ей огонь, чтобы прикурить и говорит комплименты. Она же сама сидит свободно, улыбается, отбрасывает прядку волос, которая постоянно падает ей на глаза. Эй, Малгося, опустись-ка на землю. К делу!
У Тшаски зазвонил мобильный телефон, он отключил его, не глядя на экран. Склонился к Малгожате и взял ее за руку – ладонь та не убрала. Мужчина поднял бокал.
- За противоположности, которые притягиваются, пани Трумен Капоте[64].
Та коснулась своим бокалом его бокала, те брякнули, белое вино дрогнуло и было выпито. Эй, Малгося, Малгоська, давай к делу.
- Так ты мне скажешь, что думаешь о том, что делает твой брат?
Воздух загустел, вино в бокалах утратило вкус, с лица Анджея исчезла симпатия. Но ее ладонь он не отпускал – вот только касание, ранее деликатное и ласкающее, сделалось грубым. Глаза сделались холодными.
- Слушай, подруга. Мне говорили, что ты клево даешь, потому мы и встретились. Если хочешь, могу тебя трахнуть, но о моем брате говорить не будем. И ни о каких Христах, которые ему, якобы, являются.
Сотканное из дыма, улыбок, вина и жестов настроение неотвратимо лопнуло. Вновь они сидели напротив друг друга – журналистка из антиклерикального бульварного издания и бунтарский деятель. Ничего не поделаешь. Понятное дело, она не станет обижаться на предложение секса, хотя бы потому, что оно было подано так, что реализация его была бы невозможной.
- В таком случае, может быть я могла поговорить с вашим отцом?
Анджей отставил бокал.
- А от отца отъебись, - рявкнул он измененным вульгарным словом голосом. – Он и так не станет с тобой говорить, но если узнаю, что ты ему надоедала, поговорим по-другому. Возвращайся к своей писанине о попах, которые лапают маленьких девочек. Свиданию конец.
Он поднялся, вытащил из бумажника сто злотых, бросил банкноту на подушки, словно бы платил проститутке, надел обувь и ушел. Вот и все, что касается интервью с братом героя ее интервью. Нужно было ехать в Силезию.
"Факты и Мифы[65], не церковный еженедельник", Малгожата Клейдус, не желает ли пан рассказать нам что-либо о ксёндзе-чудотворце? Тянем за язык. Не собирал ли ксёндз какие-нибудь пожертвования за свои чудеса? Встречается ли он с женщинами? А потом попа приколачиваем – на каком автомобиле ездит пан ксёндз викарий? Пребывал ли он когда-нибудь один на один с детьми? Может, он выпивает с удовольствием? Ну, не опасайтесь, это же совершенно людская слабость… Вопросы задаем сочувственно, без ненависти, а люди они всегда чего-то высмотрят, католики ведь сами утверждают, каждый является грешником. А ты, Малгося, являешься, скажем, мирской карой за грехи клира.
И вот тут, курва, ничего. Кроме училки, которая ей позвонила – старая брюква, памятка ПНР, информатор никакой, потому что изолирована в деревне – ни-ко-го. С кем ни поговори, сплошные превосходные степени. Наш ксёндз викарий – это второй Иоанн Креститель. Нет, второй Христос. Он станет римским папой, как Иоанн-Павел II. Он будет жить вечно. Да он святой. Никогда не согрешил. Когда он родился, в больнице запахло розами, и Матерь Божья показалась в окне. И за это, казалось, можно было бы ухватиться, подбросить в рамке материал о асихоманипуляции, вроде как люди одурачены уже до такой степени; вот только нет здесь такого магнита, как какая-то попочка в доме священника или набитый капшук. Да и сами эти люди, такие доброжелательные: а поглядите-ка, пани, сама, ксёндз будет исцелять Кочика.
И, мать их ёб, дала себя уболтать. Подальше спрятала редакционное удостоверение и аппарат, побежала к своей машине и поменяла дизайнерские сапожки-казачки на шпильках на удобные туфли, сбросила мини и натянула джинсы, чтобы не отсвечивать, как бриллиант на угле, среди всех этих силезянок, которые выглядят так, словно бы к парикмахеру ездили на машине времени на задней скорости, по дороге заскакивая в поздние восьмидесятые на базар. Диктофон спрятала в карман, микрофон же держала под курткой, прицепив клипсой возле воротника, чтобы выглядел похоже на наушник от мобильного. Пошла. На площади перед костёлом стоял большой рейсовый автобус с надписью "Pikulik Reisen". Как сразу же ее просветила одна бабулька, Герхард Пикулик, местный крез и магнат, в костёл не ходил целых двадцать три года, потому что когда-то "powadźyú śe s farofiym při škaće I faroř mu pedźeli (да как они, мать их за ногу, разговаривают; неужто эти силезские грязнули никогда порядочному польскому языку не научатся?), ze úůn je kůmuńista I bydźe śe w piekle poljyú. Úůn, Pikulik, frelko, to kupjyú stary buśik I woźyú ludzi do roboty do Rajchu, a po tym sie zbogaćyú I teroski ma rajzebjuro, dźeśyńć autobusůw I idze sńym do Hišpańje abo do Lurt na půnć pojechać, frelko" (поссорился с отцом настоятелем во время игры в скат, и отец настоятель сказал ему (…) что он коммунист, и что будет в аду гореть. А Пикулик, девушка, купил старый автобус и возил народ на работу в Германию, потом разбогател, сейчас у него турбюро, десять автобусов, м ним теперь и в Испанию поехать можно, и в Лурд в паломничество, девушка – силезск.). О том, что было дальше, она догадалась сама; Пикулик, явно, обратился в истинную веру, и отдал один из автобусов в распоряжение ксёндза. Автобус был празднично украшен% на стекла приклеены фотографии Иоанна-Павла II, благочестивые картинки с Ченстоховской Богоматерью, вырезанные из бумаги чаши с облатками% на лобовом стекле висели четки, а на заднем искусственным снегом из баллончика по шаблону были написаны крупные буквы IHS (Иисус Христос Спаситель).
Возле автобуса толкся народ – похоже, сюда сошлась вся деревня. На ступеньке автобуса стоял молодой ксёндз. Высокий, худой, темноволосый, на вид даже ничего. Паршивый материал для ксёндза-мошенника, практически никакой для ксёндза-пьяницы или ксёндза – дорожного пирата, на ксёндза-педофила тоже не тянет – профессионально оценила Малгожата, возможно, еще покатил бы под ксёндза-бабника, хотя взгляд у него слишком открытый и невинный. Статья всегда выходит лучше, когда у катабаса[66] жирная рожа старого хряка, или же когда викарий похож на переодетого в сутану валютчика. Ну что же, в данном случае статья пойдет без фотографии.
Журналистка стояла в толпе, где-то с полчаса ничего не происходило. Так что она потихоньку протискивалась поближе к входу в автобус, и когда ей уже удалось передвинуться метра на два, статный мужчина с седеющими взъерошенными усами усмирил хаос. Малгожатв сразу же поняла, что это хозяин автобуса и всей фирмы, поскольку народ, несмотря на необычность ситуации, послушал его без возражений, хотя тот отдавал приказы тоном, не терпящим возражений, таким, который, естественно, такое возражение чаще всего и вызывает. Но, когда он скомандовал, чтобы люди отступили, те послушно сделали пару шагов назад. Кто лично заинтересован всем этим делом – семья, родственники больного (болезнь, исцеление, шарлатанство – прошептала в микрофон журналистка) - проходите в автобус, а все остальные пускай подождут возвращения ксёндза, например, читая розарий[67] в костёле.
Как на человека, который более двух десятков лет не посещал мессу, он был исключительно ориентирован. Из толпы раздались голоса, что у Кочика никаких родственников нет, он только работал у людей по хозяйствам. Малгожата посчитала, что это ее шанс – ей обязательно следует попасть в автобус. Правда, она могла бы поехать за ними на своей тигре, но тогда она будет за пределами событий, она не сможет вслушаться в людские голоса, не найдет точки зацепки, не найдет "языка" – так называли особу из самой среды, от которой можно было вытащить ценную информацию, в отличие от "доносчика" – кого-то, среду не любящего, снаружи, кто доносит об афере, не имея о ней полных сведений. Малгожата никогда не могла понять, почему католики столь охотно беседуют с представителями ее газеты. Даже ее раздражало явно эсбистское[68] происхождение правления "Фикций и Мифов", хотя сама она посчитала, что это необходимый компромисс, если желаешь эффективно сражаться с Церковью. Тем временем, ее собеседникам с другой стороны баррикады это, казалось, никак не мешало. Особенно четко это было видно на востоке страны, где набожные старушки протискивались к ее микрофону, чтобы выразить собственное мнение относительно викария, сельского священника, декана, прелата[69] и епископа, или кто там как раз подвернулся под перо Малгоси.
В Силезии, как уже несколько раз ей удалось убедиться, люди, казалось бы, такие же самые – простые, набожные, вовлеченные в данную проблему, были гораздо более недоверчивыми. Очень редко случалось, чтобы хватило махнуть перед глазами журналистским удостоверением, нужно было рассказать: из какой газеты, да зачем, да для кого пишет. И чаще всего, кончалось это тем, что дверь закрывали перед самым носом. Малгося была к этому приготовлена, у нее было фальшивое удостоверение "Воскресного гостя" – каждый католик в Силезии эту газету признавал, зато мало кто знал фамилии ее журналистов. Как раз это удостоверение, которое по образцу самого настоящего изготовил ей редакционный фокусник-график, должно было, как ей казалось, обеспечить ей возможность войти в автобус. И она не ошиблась.
Малгожата вошла последней, все места были уже заняты. Все – кроме одного. Прихожане опасались садиться рядом с их викарием – вроде как чудотворцем. Малгожата в чудеса не верила, священников не боялась, так что послала местным отсталым и тупыи верующим лучистую улыбку и уселась на свободное место.
- Добрый день, - с вызовом произнесла она, ожидая поучения, как следует приветствовать ксёндза.
- Добрый день, - очень просто ответил ей викарий.
- Я журналистка из "Воскресного Гостя", - рискнула девушка.
Ксёндз лишь слабо усмехнулся.
- Передо мной можете не притворяться.
Курва, - подумала та и решила, что лучше данную тему не развивать, а сразу перейти к делу.
- Пан ксёндз, вы действительно творите чудеса? – спросила она.
- Простите, пани, не знаю. Я делаю различные вещи, которых не мог делать раньше. Но если я и вправду обладаю такой силой, она не моя, а только Христова, который, паз уже ему так нравится, может действовать через меня.
Малгожата поняла, что дело простым не будет. Ксёндз внимательный, интеллигентный, осторожный. Он не сказал ей ничего такого, что можно было воспринять как зацепку.
- Пан ксёндз излечит того парня?
- Если Господь пожелает, пани, то излечит его моими руками, а если пожелает, то излечит его порошками и уколами. То на то и выходит. Не мне об этом решать, во мне нет никакой силы.
Автобус величественно продвигался между силезскими деревеньками в сторону больницы в Гливицах, где, на кровати, помнящей еще времена генерала Зентека[70], лежал Теофил Кочик, двадцать девять лет. В его венах и артериях текла кровь, превратившаяся в гной; кровь, которая, вместо того, чтобы нести жизнь, омывать ткани, несла им смерть, которую врачи называли сепсисом или гнилокровием.
Украшенный набожными картинками автобус возбуждал сенсацию на улице, люди показывали пальцем на странное транспортное средство, многие знали, кто находится в средине, так что поясняли другим.
В конце концов, водитель заехал на небольшую площадку перед Военным госпиталем на улице Костюшко. Дверь зашипела, зашумела и медленно сдвинулась с места. Люди в автобусе не поднимались с мест, ожидая того, а что сделает ксёндз Янечек. Тот же поднялся, поглядел на сидящих в автобусе прихожан и вышел наружу. Малгожата выскочила за ним и украдкой включила диктофон.
Люди двинулись за своим священником. Они шли словно солдаты за командиром, не обращая внимания – потому что и тот не обращал – на сотрудников больницы, на портье и на изумленных медсестер. Они быстро добрались до палаты, в которой – как сориентировалась Малгося – лежал тот самый Кочик. На лице юноши с первого же взгляда можно было заметить его умственную отсталость, как показалось журналистке – не слишком и сильное, хотя, наверняка достаточное, чтобы выставить его за границы локального общества. Журналистка решила не задавать вопросов, на это время будет завтра, сегодня она всего лишь наблюдательница. К ней привыкнут, освоятся с ее лицом, завтра будет полегче.
+ + +
Ксёндз подошел к кровати больного, остальные скучились возле двери или расселись на трех пустующих кроватях. Увидав священника, Кочик поднял раскалывающуюся от боли голову и слабо усмехнулся. Его кожа была покрыта кровоподтеками, дышал он с трудом, на лице засохла тонкая струйка крови, от носа, через щеку, впадая в лужу коричневого пятна на подушке.
Ворон вернулся, Теофил, ворон вернулся. Хищная птица вернулась и, хотя и не вонзила когтей между кожей и черепом, он кружит над нами, кружит над тобой, Теофил, и над ксёндзом, и над деревней, и над всем светом, и каркает. Он отравил тебе кровь, ты чувствуешь, как она течет в жилах, переливается, отравленная, предательская, ядовитая; он отравил ее, потому что разъярился от того, что Черный Дед вырвал тебя, то есть, вырвал у тебя волосы из головы, но это ничего, ничего, пускай течет отравленная, тут ничего такого, каждый ведь должен умереть, а ворон взбешен, только ведь он ничего тебе не может сделать.
- Я знал, что пан ксёндз придет. И пан ксёндз ответит мне на мой вопрос? Только у меня имеется еще один: скажите, пожалуйста, пан ксёндз, а вот Дух Святой, он родом от Бога Отца или от Сына, либо же от обоих сразу? Мне хотелось бы знать, пан ксёндз, до того, как умру, - тихо произнес он.
Кретин-теолог. Интересно, а если бы он знал, какие последствия может нести задавание подобных вопросов[71], он продолжал бы их задавать?
- Ты не умрешь, Кочик, не умрешь, - сказал ксёндз и вынул чистый носовой платок. Он увлажнил его минеральной водой и вытер Кочику лицо. Парень схватил ладонь священника и прижал ее к груди.
- Мне хотелось бы жить, пан ксёндз. Только мне писано умереть, я это знаю. Ворон меня отравил, испортил мне кровь, потому что он бешеный, злой от того, что я уже не его. Только все это ничего, ничего, пан ксёндз.
Ксёндз Янечек закрыл глаза и положил вторую, свободную руку на лбу парня. Кочик сорвался с кровати с криком:
- Уходи прочь! Прочь!
Ах ты, ворон! Переоделся в ксёндза, черные рукава сутаны – словно твои черные крылья, зачем ты касаешься Теофила своими когтями, которые втянул под ногти чистых пальцев пана ксёндза, ворон! Нет, Теофил, не соглашайся на это, не позволь ворону вновь вцепиться в твою голову!
Благодетели и домашние Кочика бросились к больному и придержали его за голову и все конечности, но тот не переставал кричать, так что-то закрыл ему рот ладонью. Ксёндз, в замешательстве, прикоснулся еще раз ко лбу страдающего мужчины, вновь закрыл глаза и почувствовал его болезнь, почувствовал текущую в жилах плохую кровь, разносящую заражение к каждому фрагменту тканей и е каждому органу. А еще он почувствовал кое-что еще. Вопросы Кочика ставились не по причине, как до сих пор ему казалось, неумелого коварства, не были они неудачными попытками заловить ксёндза на непоследовательности. Теофил Кочик обладал могучей верой, которой наверняка хватило бы на сотни священников. Он спрашивал, потому что хотел знать больше. Теофил Кочик отдал свою жизнь Иисусу – во всяком случае, такому Иисусу, которого он знал – и от ксёндза желал получить лишь таинство[72], но никак не исцеление. Неисповедимы пути Господни, который сам является всего лишь метафорой, подумал ксёндз Янечек и уничтожил болезнь, смирил заражение, оздоровил распаленные внутренности парня, и в самом конце снял горячку.
- Теперь тебе нужно будет много есть, но теперь ты уже здоров, - сказал он через какое-то время. – Отпустите его, он уже здоров.
Прихожане отступили от кровати больного.
Кочик, уже полностью в сознании, вслушивался в свое тело.
Теофил, куда подевался огонь, тот злой, грязный огонь, что тек в твоих жилах? Где тот яд, которым отравил тебя ворон? Неужто исчез? Ты чувствуешь свои ноги и руки, и спину, и живот, и грудь – и ничего, и голова тоже ничего, Теофил. Ты умирал, Теофил, так куда же подевалась твоя смерть? Неужто это Господь Иисус высосал яд из жил? Неужто это Господь Иисус погасил злой, грязный огонь, что сжигал твои руки и ноги изнутри, Теофил? Когда ты был болен, когда-то, это когда ты жил в доме с бордовым дерматином, ты лежал в кровати, и в голове у тебя был ворон, он не хотел, чтобы ты болел и забрал болезнь из твоих легких, и сейчас он тоже может забрать болезнь, лн, втиснутый в одетого в черное ксёндза, и он бьет руками по бокам, ворон, как будто летит и планирует, ибо, кто связал, тот может и развязать, Теофил, тот может и развязать, ну да, тот способен и развязать.
Совершенно неожиданно, обеими руками он схватил священника за воротник и притянул к себе. Жители Дробчиц с усердием бросились на помощь, но ксёндз остановил их жестом руки.
- Пан Иисус не обманывает, - не своим голосом произнес Кочик.
Ксёндз Янечек открыл было рот, чтобы защищать свою новую веру – ибо не Бог, но люди способны подделывать все и вся, но замолчал в самый последний миг, вспомнив распоряжение Иисуса не выдавать Второго Пришествия.
- Где пан ксёндз потерял Господа Иисуса? – прошептал Кочик ксёндзу на ухо. – И откуда пришел тот ворон, что сидит внутри пана ксёндза? Каким образом он в него вступил? Иногда он впивается в кожу, но способен войти вовнутрь, через ухо, словно уховертка, он сжимается, поначалу вонзает в ухо клюв, а потом протискивается в средину, вставляет крылья в руки, лапы – в ноги, клювом пробивает себе дырку во лбу, чтобы видеть мир, или же подглядывает изнутри через глаза.
Викарий освободился от слабых рук парня. Да кто он такой, чтобы нести ему всякую чушь о воронах! Ничего не знает, ничего не видел! А вот к нему, ксёндзу Яну, пришел Иисус, и теперь он новый Иоанн!
Тшаска поднялся и объявил:
- Он уже излечен. Что-то говорит не по делу, но это от истощения. Вызовите врачей, пускай его обследуют.
Прихожане из Дробчиц начали бить в ладоши, ксёндз прошел среди них и направился к автобусу. Иисус, спрятанный в шкафу в доме отца настоятеля, широко усмехнулся кивающему головой архангелу Михаилу.
Журналистка осталась в палате, она уселась на стул у стены и ждала, потому что ей нужно было иметь уверенность. Через пару минут прибыл пожилой, лысый врач в голубом халате и попробовал рукой лоб Теофила Кочика. Почесал самую макушку лысины, вытащил из кармашка термометр и сунул парню в рот.
- Теофил, Теофил! – позвала моль.
Теофил, не слушай моли, никого не слушай. Лежи, лежи в этой высокой, напичканной техникой кровати, которая только и ждет, чтобы свои винты и петли вкрутить человеку в бедра и локти, чтобы складываться вместе с ним; ты же видел таких, Теофил, сросшихся со своими колясками, у которых ноги сделались худыми и искривились в форме колес, которые толкали себя своими руками словно паровозные тяги, такие были в домах с бордовым дерматином, были и в других местах, и эти, пожранные больничными койками, поглощенные будто покрытая плесенью мертвая птица, с трубками в носу и на писюрке, с машинами, которые, подключившись к их головам, проверяли, что те думают. Да, Теофил, ты не можешь здесь остаться, просто нужно отдохнуть, койка не успеет тебя поглотить, полежи чуточку, позволь врачам себя обследовать, но потом ты обязан подняться, Теофил, а потом ты должен лететь, не слушать ни моль, ни червяка, ни кота, ни ворона; ты должен идти к пану Лёмпе и сообщить ему, и посоветоваться с Черным Дедушкой, Теофил, ну да, Черный Дед поможет, он отошлет червяка и кота. Или же это ворон их посылает? Или Черный Дедушка? Нет, Теофил, не думай об этом, это неважно, отдыхай, а потом сбежишь и отправишься прямиком к пану Лёмпе.
Через два часа над Теофилом Уоциком собрались, похоже, все врачи из госпиталя. Уже давным-давно у него взяли кровь на анализ, сейчас же этот расширенный консилиум возбужденных докторов стоял и перемалывал то, что все уже признали чудесным исцелением. Кочик не обращал на них внимание. На Малгожату Клейдус внимания не обращал вообще никто.
Она же уже не думала про статью для "Фикций и Мифов", но о собственной племяннице, четырнадцатилетней Анельке, которая в варшавском хосписе для детей умирала от белокровия.
+ + +
Ксёндз подошел к кровати больного, остальные скучились возле двери или расселись на трех За ксёндзом Янечком с шипом закрылись двери автобуса, который привез его назад в плебанию. В костёл он не пошел, поскольку был для этого ужасно усталым, только махнул людям рукой – толпа единогласно вздохнула – а викарий уже закрывал за собой двери фары. В кухне за столом сидел отец настоятель с телефоном у уха. Увидав ксёндза Тшаску, он замолчал, но трубки не отложил. Он не поприветствовал своего викария, только медленно провел его взглядом – от двери до холодильника, Янек вынул йогурт, от холодильника до двери. Когда Тшаска закрыл ее за собой, отец настоятель вернулся к беседе, слышен был бубнящий тембр его голоса, хотя слов было и не разобрать.
Викарий поднялся по лестнице к себе в комнату. Открыл шкаф – Иисуса не было. Янек упал на кровать, спиной оперся о стену. Господи мой, Господи, почему ты меня покинул? – произнеслось само собой. В качестве ответа в кармане завибрировал телефон. Ксёндз с трудом выпрямился, достал жужжащую мобилку, поглядел на экран – "Ендрек". Брат. Братишка. Какое-то время он касался большим пальцем кнопки с зеленой трубкой, колеблясь – и в то же самое время зная, что на звонок ответит. В конце концов, это же брат звонит. Щелк, длительный сигнал прервался, маленький демон в трубке заговорил голосом находящегося на расстоянии в триста километров брата:
- Привет, Ясь.
- Привет, Ендрек.
Находящийся в Варшаве Анджей Тшаска вздохнул, набираясь духа перед разговором, словно ловец жемчуга, готовясь спуститься под воду.
- Янек, во что они тебя суют? – спросил брат.
- О чем ты говоришь?
- Боже, Янек, вот только не надо со мной этих хохм. Даже в Ваше все об этом гудят: гуру, исцеляет наложением рук, святой человек. Так во что ты влез, старик? Кто тебя во все это втягивает?
Кто. Кто. Ясный перец, братишка, малыш Ясь наверняка поддался подсказкам нехороших людей, в конце концов, я же такой глупенький и наивненький, и как только я убрался с глаз большого Ендрека, я тут же влез в какие-то неприятности.
- Янек, я к тебе обращаюсь, ты меня слышишь? Скажи, кто тебя во все это затаскивает? Я приеду, и мы избавимся от этого типа, я помогу тебе.
Ну ладно, братец.
- Иисус.
- Что ты сказал? – Анджей еще не снял ног со столешницы, но уже выпрямился в кресле.
- Я сказал: Христос.
- Мужик, вот только не вешай мне лапши на уши вашу священническую болтовню. Я понимаю, ясно, ты предоставил свою жизнь Иисусу, и если сейчас лезешь в какие-то неприятности, это означает, что это Иисус поставил их перед тобой. Сам я семинарий, возможно, и не кончал, но таскался на говенья[73], так что наслушался, дай боже каждому. Я хочу тебе помочь, так что скажи, кто тебя во все это тянет. Какая-то баба? Или кто?
- Христос.
- Бляха-муха, Ясек…
- На самом деле, Ендрек. Просто Иисус явился мне. Физически. Пришел ко мне. Во плоти. Понимаешь?
По другой стороне телефонных кабелей и пустоты, введенной в вибрацию радиоволной, воцарилось молчание. Губы Анджея Тшаски не произнесли ни единого слова, которые посредством микрофона мобильного телефона могли бы улететь в эфир, записываясь в беспорядочном хаосе жестких дисков, смонтированных на шпионских спутниках. Старший из братьев Тшасок с извращенным наслаждением мазохиста вслушивался в себя: как я отреагировал, что чувствую, кем являюсь, когда именно сейчас – сейчас – происходит, исполняется наихудшая из возможных версий событий. Вижу ли я уже перед собой все последствия, знаю ли уже, что принесет жизнь сошедшего с ума брата-ксёндза?
- Анджей? – спросил Янек, ибо братская связь выявляет больше, чем цифровой сигнал между двумя мобильниками.
- Ясь… Приезжай побыстрее в Варшаву, парень. Сегодня. Или же нет, я сам за тобой приеду…
- Исключено. У меня здесь задание. Передо мной его поставил Христос.
- Парень, тебе надо идти к врачу. Я заберу тебя к самому лучшему специалисту, год-два, и будешь как новенький, после чего спокойно вернешься к работе в универе. Я же знал, курва, что в нервном плане ты этого не переживешь, знал же. И виноват в этом долбаный Зяркевич. Но ничего, не беспокойся, с этим лже-епископом мы справимся, Ясек, вместе справимся. Не беспокойся. Все будет в норме.
Анджей уже нашел себя в мире новых забот, он бросился в хлопоты головой вниз, широкими замахами царственных рук обуздал их и вынырнул на поверхность. И снова молчание, в микрофон сочится лищь обыденный шум дыханий – того воздуха, которое выпихивается из легких, язык не укладывает в слова.
- Ты давно не звонил мне, Ендрек… - неожиданно произнес викарий, прослеживая взглядом за развитием трещин на потолке.
- Ты о чем? – ответил Анджей, постепенно фокусируя мысли на бессмысленном замечании брата.
- Я о том говорю, что в принципе, так ты всегда видел меня в заднице. И верно, вот зачем было тебе мною беспокоиться, раз это именно ты был надеждой родителей, это ты был первородным, умным, красивым…
Ксёндз Янек внезапно почувствовал, что как раз сейчас самый подходящий момент, чтобы высказаться обо всем этом, о чем почти что – почти – забыл, о всех претензиях и печалях, которые тщательно собирал и откладывал в голове в архив, растущий с самого детства. Каталогизированный и громадный, он всегда был доказательством моральной правоты, что стояла по стороне Янека – с возрастом он, правда, перестал в него заглядывать и, сохраняя дистанцию, имел даже положительные отношения с братом – но всегда помнил о собственных маленьких обидах. И теперь он вдруг почувствовал, что в его архиве открываются все перегородки и все каталогизированные неприятности, которые познал по причине брата, и теперь толпой лезут на язык. И он позволил им вылететь.
- Янек, о чем это ты?
- Не перебивай меня! Не сейчас! Это тобой папа гордился, ты шел по его следам, Республиканская Лига[74] и тому подобные вещи. Даже твои выходки в "Нашости" – то ведь не были, понятное дело, молодежные проказы, но борьба за дело[75], правда? Это ты получил от отца автомобиль, ведь так? Ибо, а зачем авто мне, пацану, который не поднимает носа от книжки, не встречается с девушками – с кошечками, попками или нюнями, или как ты там теперь называешь женщин, Ендрек? Ты был красивым, храбрым, ходил на карате, ты дрался, когда было нужно – и только лишь тогда, как без конца повторял мне папа, ставя тебя в пример. Я стыдился говорить о собственных заслугах, но это только папа считал, что у меня их нет; ты же каждый свой успех, рассказывая о нем, множил на десять, так что все считали, что такой вот замечательный, правда? И что, Ендрек, теперь ты вдруг почувствовал, что что-то здесь не играет? О каком-то Тшаске пишут в газетах, только это не про папу и не про тебя, только про брата-попика, который ведь никак не может быть ведущей темой, разве не так? Только ты разочаруешься, Ендрек, ибо то, что пишут сейчас, это еще ничего, сам увидишь. Ко мне пришел Христос, я стану новым Иоанном Крестителем, я выпрямляю тропы для Него, меняю форму мира сего. То, что сейчас происходит, Ендрек, это еще мелочи, ты понимаешь? Ничего не понимаешь!
- Ничего не понимаю? Ясек, курва, я уже врубился, ты вовсе не сошел с ума, у тебя манечка, - спокойный голосом произнес Енджей. – Правы были в курии, что есть здесь нечто дьявольское. И не только щелкоперы от Урбана вынюхивают тут, но имелся один священник, который делал относительно тебя интервью. Жалко, что мы раньше не поговорили…
- О, даже так? Жаль, что мы раньше не говорили? – подколол брата викарий.
Анджей же продолжал:
- …потому что мне кажется, что эта беседа дала бы тому священнику-следователю более лучшкю картинку того, кто ты такой, Янек. Если сколько-то ума у тебя в голове осталось, то подумай, парень, об отце. Ты что, хочешь его всем этим убить? Ведь тебя ждет отлучение от церкви… И это они еще правильно сделают, ведь ты же святотатствуешь, хлопец.
- Только не тебе меня поучать! Ничего ты не понимаешь! Господь тебе ничего, дурачок, не открыл, ничего ты не знаешь, ничего не видел, живешь себе в выстраиваемой тысячелетиями лжи! Так что, будь добр, Ендрек, отъебись от меня.
Мобильный телефон, к сожалению, не дает возможности убедительно закончить разговор, бросив трубку. Если жест бросания трубки эмоционален, импульсивен – ты отрываешь ее от уха и грохаешь на вилки аппарата, то отодвигание мобилки от уха, нахождение кнопки с красной трубкой и нажатие на нее, не имеют в себе той динамики, которую требует взбешенность, не позволяет истечь гневу. А ксёндз Янек и вправду должен был дать выход своей ярости, так что он метнул мобилку в шкаф, аппарат распался на кучку пластикового мусора.
Дверь шкафа, в которую ударился телефон, заскрипела и приоткрылась. Сквозь щель выглянул Иисус и широко, шельмовски улыбнулся.
- Это вы стучали? – спросил он.
У Янека не было настроения шутить.
Анджей Тшаска сидел в той же самой позе, в которой начал беседу. Тонюсенькая, словно бритва "моторола" все так же лежала в ладони, а стпрший Тшаска тупо всматривался в экран и в беспроводном динамике в ухе слушал голос брата:
- Это ксёндз Ян Тшаска. Я не могу взять сейчас трубку. После сигнала, пожалуйста, отставьте сообщение, я перезвоню, - говорил Янек.
Нужно купить новый телефон, - подумал Анджей и снова набрал номер ксёндза Янека.
- Это ксёндз Ян Тшаска. Я не могу… - резкий хлопок микрофона прервал спокойный голос священника на полуслове.
Анджей поднялся с дивана. В двери салона стояла Каська.
- Что случилось? – сухо спросила она.
- Ничего, - ответил Анджей, обошел жену и направился в спальню. Там он раздвинул двери шкафа, пробежался пальцами по покрывающей широкие плечи вешалок шерсти костюмов и выбрал темно-серый, от Босса, самый лучший. Потом начал искать сорочку, но своей любимой, нежно-розовой, с итальянским широким воротничком нигд[76]е найти не мог.
- Каська, а где моя розовая рубашка, ну та, от Феруччи? – крикнул он через стенку.
- Там, где ты ее и положил, - ответил приглушенный бетоном голос жены.
Анджей перемолол во рту ругательство, а с вешалки снял голубую рубашку. Он сбросил джинсы и футболку, натянул костюмные брюки, протащил ремень через петельки, надел рубашку, помучился с запонками для манжет, накинул пиджак и, глядясь в зеркальной двери шкафа, тщательно завязал галстук на двойной узел, прекрасно подходящий к расстегнутому воротничку сорочки. Потом надел туфли и опять погляделся в зеркале.
- Ну, Анджей, это ты вхуярился в дерьмо по самые уши, - тихо сказал он сам себе, глядя на отражение красивого тридцатилетнего мужчины. С ночного столика он взял часы и обручальное кольцо, в ящичке нашел после недолгих поисков розарий-перстенек, который натянул на безымянный палец левой руки. Затем критично присмотрелся к своим рукам и надел розарий на правую руку, под обручальное кольцо. Так лучше. Он еще поглядел в зеркало.
- В принципе, в дерьме по самые уши ты торчишь уже годами, Анджей, - и помахал сам себе рукой. В прихожей набросил на себя куртку в три четвертых, кашне, собрал бумажник, мобильный телефон и ключи. Нажал на дверную ручку.
- Куда-то выходишь? – спросила Каська.
- Собрание, - соврал Анджей.
- Ты же должен был забрать детей из садика, - с упреком напомнила та.
- Да знаю, знаю. Только не успею. Сама их забери. Задержусь до вечера, поем где-нибудь в городе.
- Но я же приготовила обед…
Анджей подошел к супруге, погладил ее по голове.
- Кася, прости. Но не могу. Тут кое-что неожиданно выскочило, нужно срочно все устроить.
- Я слышала, как ты разговаривал с Янеком.
Анджей какое-то время глядел ей в глаза, не говоря ни слова. И все же я до сих пор тебя люблю, женщина. Не так, как раньше, но люблю. Он поцеловал жену в лоб и вышел.
Спускаясь в лифте, позвонил в курию, представился и потребовал соединить его с епископом. Вежливый секретарь отшил его учтиво, но решительно – тогда Анджей представился более подробно, с учетом семейного контекста. Секретарь попросил минуточку терпения, и когда Анджей уже шел по стоянке к своей "альфе", цербер архиепископа отозвался вновь, предложив устроить встречу через полчаса. Тшаска, выезжая, помахал охраннику у ворот и поехал в курию. По дороге он еще позвонил в фирму и приказал своей секретарше отменить все сегодняшние встречи.
Припарковался он перед зданием курии. Анджей представился, его провели дальше, и уже через пару минут он сидел в кресле в кабинете архиепископа Зяркевича. Для кого-то, кого студенты UKSW когда-то за глаза называли "Казиком", ксёндз епископ выглядел исключительно по-княжески, подумал Анджей, приглядываясь к вытянутому и благородному лицу иерарха, подчеркнутому красной обшивкой епископской сутаны. Из-за элегантных очков без оправы глядели холодные, серые глаза. Ухоженные руки епископ сплел на гладкой столешнице письменного стола, сразу же рядом со сложенным ноутбуком. Ритуал взаимных поздравлений был уже позади. Анджей положил ладони на поручни кресла, чтобы был розарий на пальце.
- Я помню вас по университету, - произнес наконец епископ.
- Я не ожидал, что Ваше Преосвященство будет меня еще с чем-то ассоциировать, - скромно ответил Анджей, прекрасно помня яростные дискуссии, которые он единственный осмеливался вести с достойным преподавателем.
- О, ну как мог я забыть. Хотя и правда, вы изменились так, что и не узнать. Где же вы сейчас работаете? – заинтересовался Зяркевич.
- В консалтинговой фирме, Ваше Преосвященство, я в ней совладелец. Но не пренебрегаю я и общественной службой, которая, впрочем, сплетается с профессиональными занятиями, мы часто консультируем политиков.
Зяркевич с признанием кивал, затем невинно спросил:
- Я слышал, что вы, вроде как, должны получить портфель вице-министра в министерстве финансов?
Анджей от неожиданности не знал, что и ответить. Вот же мошенник! Крут! Кто ему сказал? В принципе, только что Его Преосвященство дал ему понять, что он весьма хорошо информирован, и что он сам, Анджей Тшаска, по сравнению с ним – маленький плюшевый медвежонок и не должен выпендриваться.
- Все это слухи, Ваше Преосвященство, нет смысла слушать сплетен, - ответил наконец Тшаска. – Но хватит обо мне. Как Ваше Преосвященству известно, я хотел с вами поговорить по делу своего брата.
- Так… Слушаю вас. Хотя даже и не знаю, чем мог бы помочь, раз ксёндз Ян Тшаска остается под юрисдикцией гливицкой епархии. Вам следовало бы обратиться к гливицкому епископу. Но лично я, естественно, готов вас выслушать.
Не помогаешь мне, прохвост. Но вообще-то, в принципе, а чего ему мне помогать и облегчать дело? Папочку помнишь, так? Так на тебя, дорогой наш архиепископ, у меня тоже кое-что имеется…
- Я посчитал, что вскоре дело сделается широко известным. Знаю, что на будущей неделе в "Фактах" должен появиться обширный материал, и этот материал не будет особенно благоприятен в отношении того кунктаторства, которое епископат проявляет по данному вопросу. Быть может, мне удалось бы этот материал заблокировать. Мне очень хотелось бы это дело заглушить.
Анджей снизил голос, ожидая какого-то ответа, но Зяркевич лишь поднял брови, ожидая продолжения.
- И вот тут я подумал, что голос Вашего Преосвященства будет решающим. Не стану притворяться, будто бы не осознаю влияния Вашего Преосвященства в епископате и за его пределами. Скажу честно, я очень беспокоюсь за брата. Сегодня я разговаривал с Ясеком по телефону, так он вел себя, словно сумасшедший. Или, хмм, словно одержимый.
На лице Зяркевича не дрогнула ни единая жилка. Тшаска продолжал:
- Так вот, в связи с этим, я хотел бы просить Ваше Преосвященство повлиять на начальство Янека, чтобы те предоставили ему отпуск. Я займусь им, перекрою публикацию в "Фактах" и все каким-то образом утихнет. Ведь это дело не нужно ни Церкви, ни нам.
Тшаска замолчал. Архиепископ тоже молчал, дав возможность своему собеседнику чуточку поволноваться. И волнение это было обосновано. До Анджея дошло, что он неверно определил интересы иерарха. В конце концов Зяркевич отозвался:
- У меня сложилось впечатление, что вы, пан Тшаска, допускаете принципиальное злоупотребление. Вы пытаетесь повлиять на мое решение, не имея на то ни права, ни возможностей. Так что я не вижу причин продолжать эту беседу. К вашему брату мы отнесемся так же, как отнеслись бы к любому иному священнику.
Ладно, попик, тогда поговорим иначе.
- Ваше Преосвященство, и все же я весьма настаиваю. Не надо, чтобы епископат придавал всему этому какую-либо официальную форму; я сам отправлюсь в Силезию, заберу Янека, обеспечу ему лечение, статья в "Фактах" не появится и скандала не будет, - Тшаска даже не приподнялся со стула.
- Я предлагаю вам закончить этот разговор до того, как вы произнесете что-то лишнее. В какой-то мере я понимаю вашу возбужденность, которая наверняка не следует из заботы о брате, а скорее – из заботы о собственной карьере, которую вы последовательно строите на всем известном фанатизме вашего отца – вы обладаете всеми его достоинствами, в конце концов, вы носите фамилию Тшаска, в то же самое время вы современны и лишены недостатков вашего родителя. Потому, говорю, я понимаю вашу обеспокоенность и желание "блокирования" – как вы это сами определили – журналистской активности некоей газетенки. Но, вы уж простите, политическая карьера того или иного семейства не может быть для меня причиной, по которой я должен был бы, во-первых, позволить вам влиять на мои решения, а во-вторых, я должен был бы превышать собственную компетенцию, используя мнимые влияния в епископате. Позвольте попрощаться с вами, пан Тшаска.
Архиепископ высказал свои последние слова очень спокойно, после чего поднялся из-за письменного стола, тем самым давая Анджею знак, что разговор закончен. Тшаска со стула не сдвинулся. Либо буду нагличать, либо проиграю.
- Все же я считаю, что Ваше Преосвященство должно меня выслушать. Мне не хотелось ранее ссылаться на аргументы такого вида, но раз Ваше Преосвященство сам предположил, что у меня нет возможностей влиять на решения Вашего Преосвященства, осмелюсь заявить, что дело обстоит несколько иначе.
Архиепископ не уселся на место, не ответил Анджею. Тот, после недолгой паузы продолжил:
- Недавно я был у своего отца. Он показал мне ксерокопии кое-каких документов. Оригиналы их находятся в безопасном, мне не известном месте. В упомянутых документах появляется имя Юзефа Зенчика, капитана Службы Безопасности, а еще псевдоним некоего клирика, а потом и ксёндза, занимающего сейчас почетное место в иерархии польской Церкви. Мой отец, у которого, признаю, мания на почве правды, намеревается эти документы опубликовать. Я же, хотя тоже считаю, что общество должно знать о подобных вещах, считаю, что решение относительно подобной публикации должна принять сама Церковь, но не мы, люди светские – хотя ведь wir sind die Kirche (мы и есть Церковь – нем.), разве не так?
Зяркевич остался абсолютно спокоен, хотя Анджей заметил, что епископ стиснул челюсти так крепко, что мышцы задолжали.
- Выйтите, пожалуйста, - только и сказал он.
Тшаска поднялся со стула.
- С Богом, Ваше Преосвященство, - сказал он. И вышел, послушно исполняя желание архиепископа.
Зяркевич долго сидел, не двигаясь, только лишь сжимая челюсти изо всех сил и всматриваясь в черный прямоугольник двери на белой стене. Он вспомнил забытое и почувствовал страх.
+ + +
- Отец ксёндз выходит?
Отец настоятель, в длинном пальто и берете, остановился в двери, услышав голос своего викария-чудотворца. Какое-то время он стоял неподвижно, под конец поставил чемодан на пол и повернулся, чтобы в последний раз глянуть на ксёндза Яна Тшаску, на коридор собственной плебании, в котором целых двадцать лет вешал пальто, клал kśynžowsko mycka[77], снимал обувь и глядел на небольшое распятие, подвешенное напротив входа. И вздыхал, обращаясь к Иисуск, поскольку уставал от деятельности сельского приходского священника.
- Так отец ксёндз уезжает? – повторил свой вопрос ксёндз Янечек.
- Нечего мне здесь делать. Уезжаю.
Так вот как должен выглядеть этот триумф? В злых мыслях, которые подавлялись уже год, с которыми боролся, все выглядело не так. Просто – уходит, потому что он, Янек Тшаска внезапно оказался кем-то необыкновенным, рядом с которым его плебанское величество не могло уже лучиться величием? Вот же ведь лажа, ведь он, Янек, именно сейчас в нем нуждается! Какое-то мгновение – но мысль очень быстро отогнал – а не сделать ли отца настоятеля, в акте смирения – своим духовным наставником, в котором так нуждался, чтобы отделить то, что начнется, от подлых начал в душе, удостоенной внимания Христа.
По ступеням со второго этажа, шлепая обувью, спустилась панна Альдона.
- Fařoru, dyć weźće śe aby kůnsek wuštu na droga, jo wům klapšnity zrobja, ja? (Пан ксёндз, по крайней мере, хоть кусок колбасы на дорогу возьмите, или вам бутербродов сделать, хорошо? - силезск.), - произнесла она и, не ожидая ответа, пошлепала на кухню с кольцом пахучей колбасы.
Отец настоятель вздохнул.
- Отец нужен здесь, ведь я же не умею управлять приходом! Кто всем этим займется? Опять же, только с отцом настоятелем я могу поговорить… И я даже думал о каком-то духовном руководстве… - выдавил из себя Тшаска.
- Видишь ли, Янек, это не так просто, - отозвался отец настоятель с удивительной доверительностью. – Ты говоришь о руководстве? Хорошо, тогда слушай: я не знаю, что с тобой творится, хорошее это или плохое, от кого родом та сила, которая в тебе, я тоже не знаю. Но вот сердцем, душой чувствую: что-то здесь не так. Но ведь я не могу противопоставлять себя ни людям, ни тебе… Это все, что касается моего руководства.
- Вот только с вами не удается говорить, потому что пана ксёндза… ну… я не могу считывать… Я не вижу вас. Людей я вижу насквозь, а вот пана ксёндза – нет. И Кочика тоже не вижу, почему так, не знаю. Вот других, да – и всех, кого вижу насквозь, становятся для меня далекими и чуждыми, потому что это так, словно бы всех их видел нагими, только это нагота самая глубокая, самая интимная, я вижу их очищенных от плоти, словно бы я был… Богом, вы уж простите, отец настоятель. То есть, это не должно быть святотатством, а всего лишь сравнение, вы понимаете? – выбросил из себя викарий, подходя поближе и хватая старого священника за руку.
Ксёндз Зелинский вырвался из руки викария.
- Нет, Тщаска, нет. Меня не соблазнишь. Я знаю, почему ты не видишь меня, почему не видишь Кочика. Надеюсь, что оштбаюсь, и что Господь выбрал меня, чтобы для тебя я был тем плохим персонажем из всякой агиографии, от которого неприятности и сомнения указанный святой, в данном случае – ты, сносит со смирением. Если я ошибаюсь, то кто-то, возможно, когда-нибудь оценит, что я освободил тебя от моей особы. Но что-то говорит мне, Тшаска, что я не ошибаюсь, и что все то, что здесь происходит, не имеет ничего общего со святостью. А в таком случае, пускай, Богом клянусь, оно не будет иметь ничего общего со мной.
Пан приходский священник Анджей Зелинский поднял чемодан, повернулся и спустился по ступеням. Он открыл багажник хонды, забросил чемодан, уселся за руль и, не оглядываясь, уехал.
Панна Альдона выбежала за ним, тяжело дыша, в вытянутой руке держа завернутые в бумагу бутерброды. Красная хонда не остановилась. Экономка вернулась в дом, пожала плечами, надела пальто и пробормотала себе под нос:
- Te klapšnity z wuštym I kyjzům to śe, kapelůnku, zjyće na swašina abo na wjčyeřo, bo faroř tak oroz pojechali, žech byúa juž za ńyskoro. Sam, na byfyju ležům. (Эти вот бутерброды с колбасой и сыром пан викарий пускай съест на полдник или на ужин, потому что отец настоятель так неожиданно уехал, что я и не успела. Они на буфете лежат. – силезск.).
Она еще раз огляделась по сторонам.
- Mantel mům, taška mům, paryzol mům – to jo tys juz půńda, co tu by da śedźeć… (Так, пальто есть, сумочка есть, зонтик имеется – тогда я пойду уже, а то чего здесь сидеть – силезск.).
И она ушла. Ксёндз Ян Тшаска остался сам. Тишина двухсотлетних стен окружила его плотным и тесным коконом, чтобы расколоться через мгновение, разодранной скрипом дверки шкафа, из которого вышел Христос. Он прошлепал босыми ногами по полу, встал за ксёндзом и шепнул ему на ухо:
- Не беспокойся, Иоанн. Рассчитываю только на тебя.
Тшаска стоял у окна, глядя как Альдона с трудом жмет на педали, покачиваясь так, словно бы каждый оборот колес должен был стать последним. Христос положил ему руку на плечо.
Из-за поворота, за которым исчезла экономка, появилась красная "альфа ромео".
- GT. Клёвая тачка, - сообщил архангел Михаил, выходя из шкафа.
Ксёндз Тшаска, изумленный и потерявший почву под ногами, повернул голову к ангелу.
- Михаилу всегда нравились земные спортивные автомобили, что тут удивительного? - буркнул Иисус.
Альфа остановилась перед воротами, ведущими на двор фары.
- Ендрек, - узнал ксёндз.
Анджей Тшаска вышел из автомобиля, огляделся. Здесь он уже был один раз, в гостях у брата; ему не нравилось тогда, а сейчас не нравится еще больше. Засранная, грязная Силезия, ебаные силезцы, а где-то иначе такого вообще бы не было. Он нажал кнопку на пульте, автомобиль пискнул, мигнул и щелкнул двумя замками. Старший Тшаска направился к главному входу плебании.
Перепуганный Янек повернулся к Христу.
- Что мне делать? – шокированный спросил он.
Христос разложил руки и выдул губы, после чего спрятался в шкаф. За ним влез архангел Михаил и захлопнул за собой дверцу. Анджей нажал на кнопку звонка. Элегантный гонг проиграл свою партию и замолчал. Янек, замерший в неподвижности, не отходил от стола. Вновь зазвучал гонг, после чего кулак брата загрохотал в дверь.
- Янек, открой, я же знаю, что ты там, вижу тебя в окне! – крикнул Анджей.
Младший Тшаска все так же застыл возле стола, всматриваясь в стену. Анджей звонил, колотил в дверь, немилосердно шумя.
Грохот обратил внимание молодых людей, которые как раз выходили из костёла. Видя мужчину, желающего что бы ни стало попасть в дом священника, они завернули и, вместо того, чтобы покинуть костёльный двор через главные ворота, направились в боковую тропку, чтобы пройти мимо фары. Анджей заметил их только лишь тогда, когда самый рослый из трех агрессивно спросил высоким, петушиным голосом, слегка вибрирующим от дозы адреналина:
- Co tak klupuješ, mamlaśe, do tych dźwiyřy? (Ты, растяпа, чего так колотишь в эту дверь? – силезск.).
Анджей бросил через плечо:
- Не твое дело, ханыга, - все так же продолжая звонить и стучать.
- Sluchej, gorolu jedyn, daj lepi kśyndzowi pokůj, bo śe poradzymy znerwować zaroski (Слушай, городской, отстал бы от ксёндза, а не то мы и рассердиться можем – силезск.), - не отступал парень.
Тшаска-старший повернулся в сторону защитников викария и рявкнул:
- Не суй нос не в свои дела, сопляк, а не то тебе в этот нос ёбну, врубился? Это мой брат, и я его собираюсь отсюда забрать. А теперь вон нахрен отсюда, пошли!
После таких слов парни, решившие защищать своего священника от любой агрессии, рявкнули подбадривающе: "Lyj gorola, Stańik!" и разошлись в стороны, давая Станиславу место для разворачивания наступления. Тот, несколько опешивший, огляделся, и до него дошло, что от воодушевления, с которым он атакует чужака, зависит его престиж. Тогда он быстро сбросил куртку, бросил ее в услужливые руки kamrat'а и направился к Анджею. Когда он уже был на ступенях, внешняя сторона стопы Тшаски-старшего с силой впечаталась Станиславу в лицо в профессионально проведенном йоко-гери. Stańik полетел назад, уже без сознания, а кровь залила ему лицо еще до того, как спина глухо ударилась о бетон. Дружки Стася, хотя им ужасно хотелось смыться, устыдились друг друга и атаковали. Отсутствие спешки было для них хорошим выбором, потому что Рихат успел прикрыть голову от очередного удара ногой и, хотя и так полетел назад, но в тот же самый миг Зефель бросился на ту самую ногу, на которой Тшаска как раз стоял, проводя удар в сторону Рышарда, и резко ее подбил. Анджей утратил единственную точку опоры для остальной части тела и шлепнулся ягодицами о наивысшую ступеньку. Отзвук удара слился в одно с громогласным ударом кулака – привыкшая к stylu от ryla, pyrlika a kilofa (черенку лопаты, молоту и лому – силезск.) рабоче-крестьянская десница пала на варшавскую, интеллигентскую челюсть. Помраченный Тшаска успел лишь отпихнуть нападающего. Он как раз собирался отбить очередную атаку, отплевывая кровь из разбитых губ, как двери открылись, и оттуда выглянул ксёндз Янечек.
- Оставьте его, ребята, это мой брат. Идите по домам, - сказал он.
Анджей стоял, опираясь о поручень и оттирая кровь. Нападающие поглядели один на другого, подняли приходящего в себя Стася и, подпирая его собственными плечами, начали отходить, окидывая старшего Тшаску злыми взглядами. Анджей провел их взглядом, но спокойно вздохнул лишь тогда, когда те спокойно прошли мимо его припаркованной под воротами "альфы".
- Возвращайся в Варшаву, Ендрек. Нечего тебе тут делать, - произнес викарий.
- Да что ты такое говоришь, Ясь… Давай поговорим.
Анджей повернулся и хотел было пройти в плебанию, но остановился, потому что ксёндз Янечек загородил ему дорогу, заполняя своей худощавой фигурой узкую щель, которую оставил, открывая дверь.
- Нет, Ендрек. Возвращайся в Варшаву, - четко произнес он. Старший брат ничего не мог сделать. Он оттирал губы, запятнав кровью весь манжет сорочки, и он знал, что не может силой запихнуть брата вовнутрь, зайти вслед за ним, посадить его за стол и поговорить, хотя в любой иной ситуации он обратился бы именно к такому решительному развитию событий.
- Ясек, ну ты успокойся… Давай поговорим, пожалуйста.
- Нет, Ендрек. Не о чем нам говорить. Возвращайся в Варшаву, давай, - ответил викарий, акцентируя свои слова, и до Анджея вдруг дошло, что ему здесь нечего делать. Ничего он не сделает. Янек ушел, не прощаясь. Щелкнул засов, заскрежетал замок, и Ендрек вновь стоял перед наглухо закрытой дверью. Еще раз он сплюнул кровью в кусты и пошел к машине. Отъехал, со злости нажимая на педаль газа до упора и рыча двигателем, выходящим на высокие обороты, провожая злым взглядом опирающегося на плечах дружков Станислава, прозванного Станеком, у которого до сих пор крутилось в голове.
+ + +
Хорошенько послуживший "пассат" подскакивал на выбоинах улицы Рыбницкой, и ксёндз Марчин Велецкий с трудом удерживал ноутбук на коленях. Быстрее ехать уже никак не удавалось, амортизаторы фольсквагена скрипели и стучали, когда водитель преодолевал одну выбоину в асфальте за другой.
- Владек, побыстрее, черт подери, - все время повторял ксёндз Велецкий, когда взгляд цеплялся за часы в нижнем правом углу экрана компьютера. Водитель делал, что только мог, но только лишь они проехали съезд на автостраду, сразу же застряли в пробке. Священник сложил ноутбук и вышел из автомобиля; поднявшись на бордюр он пытался увидеть, что является причиной затора – но неподвижный ряд машин тянулся далеко, до самого поворота. Ксёндз со злостью пнул шину "пассата", водитель только пожал плечами. Через несколько секунд он опустил боковое стекло.
- По радио говорят, что была авария. И что стоять будем не меньше часа.
Велецкий поглядел на небо и принял решение.
- Иду пешком. Потом припаркуешься под курией, сходишь пообедать, но все время оставайся на связи.
Он сунул компьютер в рюкзак и быстрым шагом направился вдоль колонны машин, возбуждая радость водителей – они показывали пальцами на храбро марширующего высокого и бородатого священника в сутане, берете и с рюкзаком за спиной. Тот совершенно не обращал на них внимания, позвонил ксёндзу Рафалу, доложил, что на месте будет минут через сорок, и продолжил поход.
В конце концов, он добрался до здания курии, запыхавшись, забежал вовнутрь, ксёндз Рафал уже ждал его. Велецкий бросил ему пальто и берет, вытащил компьютер из рюкзака и вбежал по лестнице, перескакивая через две ступени за раз. Перед дверью он на секунду остановился, пригладил ладонью взъерошенные волосы, не спеша нажал на дверную ручку, чтобы та не заскрипела – та отозвалась протяжным стоном. Ксёндз толкнул дверь, и сопрано дверной рукояти дополнилось громким альтом давно не смазываемых петель. Велецкий прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и шагнул в комнату.
В конференц-зале гливицкой курии собрался цвет польских апостольских наследников. Съехались практически все ординарные епископы, исключая тех, кому помешали чрезвычайные обстоятельства или болезнь – такие выслали своих викарных епископов. Были здесь князья Церкви, еще не так давно выбиравшие наместника Христа на земле, вбрасывая в урну листки бумаги, которые затем превратились в белый дым, возносящийся над Ватиканом. Присутствовали архиепископы, известные по телевидению, любимцы журналистов, которые могли сказать что-то по любой теме, но были и такие, которых на улице никто бы не узнал, хотя, по сути своей, это как раз они управляли Церковью в Польше.
Все уже сидели за длинным прямоугольным столом, на котором предусмотрительные священники, обслуживающие конференцию, поставили минеральную воду, печенье и фрукты.
Ксёндз Марчин улыбнулся, извиняясь, как можно тише занял место за столом, развернул ноутбук и начал вставлять провода питания и мультимедийного проектора, пытаясь подключить проектор к собственному аппарату.
Гливицкий епископ, непосредственный начальник Велецкого, взглядом укорил его, поднялся с места, откашлялся и начал:
- Дорогие братья по апостольской службе! Мы собрались на этом чрезвычайном собрании, чтобы справиться с немалой проблемой, что возникла в одном из самых обычных силезских приходов, в Дробчицах, при костёле Усекновения Главы Иоанна Крестителя. Думаю, все присутствующие уже ознакомлены с медийным образом проблемы, но для ясности вопроса присутствующий здесь отец Велецкий представит нам результаты нашего собственного исследования проблемы, чтобы мы могли легче отделить истину от медийных фактов.
Ксёндз Велецкий уже подключил проектор, теперь же пытался его запустить. Епископы тактично улыбались, но, наконец, повешенный на стену экран осветился, и на нем появилась эмблема Windows. Еще несколько секунд собравшиеся должны были следить за тем, как священник нервно просматривает папки в поисках нужного файла – наконец, слава Богу, есть, jan_trzaska_prezentacja.ppt, ксёндз кликнул, включил показ слайдов, и экран заполнила большая черно-белая фотография ксёндза Яна Тшаски, служащего обедню.
- Сразу же перехожу к делу. Ксёндз Ян Тшаска, сын Анджея Тшаски довольно известного деятеля, поначалу "Солидарности", затем различных организаций более или менее правого толка…
Щелчок по клавише "пробел", и на экране высвечивается следующий слайд: улыбающегося Анджея Тшаску на взлетном поле варшавского аэропорта обнимает папа римский Иоанн-Павел II.
Архиепископ Зяркевич что-то пробормотал себе под нос, написал пару слов на листке бумаги и подсунул его для прочтения сопровождающему его священнику. Велецкий сделал паузу на пару секунд, глядя на архиепископа. Через собравшихся за столом церковным деятелям прошел тихий шорох; Велецкий был рад про себя, что ситуацию поняли; Зяркевич демонстративно поглядел на потолок, якобы игнорируя замешательство. Ксёндз продолжил, читая выразительно и медленно, скучным и монотонным голосом:
- После второго сердечного приступа Анджей Тшаска отошел от политической деятельности. – Пробел, новый слайд: элегантная и полная пани профессор[78]. – Мать, Иоанна, в девичестве Рабчиньская, Тшаска, учительница. – Слайд: семейное фото, худой и высокий Янек, рядом с ним прекрасно сложенный мужчина, крепкая челюсть и выписанная на лице уверенность в себе. – Старший брат Анджей, бизнесмен и политик. Ксёндз Ян Тшаска после окончания лицея начал учебу на филологическом факультете Варшавского Университета, через год бросил его и вступил в семинарию. Семинарию он закончил с превосходными результатами, хотя в ходе учебы возникли некоторые проблемы с дисциплиной. Это не были, - пробел, на слайде документ с печатью семинарии, - что следует отметить, типичные неприятности вроде несоответствующих дружеских отношений с женщинами, злоупотребления спиртным et cetera, но, скорее, бунтарский характер, противящийся дисциплине в обучении и молитве. Как следует из записок духовника, который занимался опекой ксёндза Тшаски, совместно они преодолели неподходящие для священника инстинкты; тогдашний клирик Тшаска эффективно тренировал себя в смирении. После окончания семинарии он начал обучение на факультете философии, которые должны были закончиться защитой диссертации, но он прервал обучение, когда его направили в приход в Дробчицах, - пробел, классицистическая плебания восемнадцатого века, окруженная садом, - в котором, как нам известно, он остается до настоящего времени…
Длительный взгляд на архиепископа Зяркевича.
- Если же речь идет о свойствах характера ксёндза Тшаски, то прежде всего следует подчеркнуть интеллигентность и эрудицию, отчасти вынесенную из родного дома, отчасти врожденную и отчасти выработанну.. Ксёндз Тшаска, вне всякого сомнения, был превосходным материалом для прекрасного католического ученого, и его преподаватели из семинарии все до одного согласны в том, что были – а некоторые остаются такими и сейчас – уверены, что наш священник сделается выдающимся профессором и католическим философом. У нас имеется компьютерный файл, содержащий практически завершенную книгу – пробел, слайд: первая страница эссе, - автором которой является ксёндз Тшаска. По нашему мнению – это замечательное, пускай и выдающее некоторую незрелость и ненужную радикальность оценок, популярно-философское творение. Темперамент у ксёндза Тшаски был порывистый, ему случалось терять контроль над собой, и, к примеру, в обществе светских он использовал выражения, хм, совершенно не соответствующие священнику. Склонности к вредным привычкам, несоответствующим компаниям – не выражал. Отношения с женщинами – самые что ни есть корректные, нам известно о паре симпатий ксёндза по лицею, которые, как кажется, даже тогда оставались в рамках морального приличия. С момента поступления в семинарию никаких близких знакомств он не заводил, старые дружеские отношения поддерживал, сохраняя, однако, определенную дистанцию, что все без какого-либо принуждения подтверждают.
В приходе Дробчице обязанности свои исполнял как следует, он не был конфликтным, к отцу настоятелю проявлял послушание и уважение. В принципе, его ни в чем нельзя было бы обвинить.
Как нам кажется, ситуация, с которой мы имеем дело, началась двадцатого ноября текущего года, в школе, в которой ксёндз Тшаска преподавал Катехизис. Молодежь спонтанно собралась на школьной спортплощадке во время уроков и крайне внимательно слушала моральные поучения ксёндза. Преподавательницы, которые спустились туда же, чтобы позвать учащихся снова в классы, тут же поддались, скажем так, очарованию слов, которые провозглашал ксёндз Тшаска. – Слайд: нечеткий снимок, сделанный на мобильный телефон; над толпой ученической молодежи, собравшейся на стадионе, высится черная фигурка. - Похоже, ксёндз обладает даром заглядывать в людские сердца; из сообщений достоверных свидетелей, с которыми можно связаться, следует, что ксёндз Тшаска видит в целом человеческую суть людей, на которых глядит, точно так же, как мы видим физическую оболочку.
После спонтанного собрания в школе, с которого, похоже, ксёндз Тшаска попросту сбежал, перепуганный силой собственных слов, молодежь возвратилась домой и рассказала обо всем родителям. Те, которые поверили словам детей, отправились к плебании, чтобы самим увидеть этого необычного священника; остальные испугались того, что их детей подвергли какой-то манипуляции, и тоже отправились к плебании, чтобы выяснить все дело. В любом случае, через несколько часов под дробчицкой фарой собралась приличных размеров толпа взволнованных, нервничающих, спорящих людей. – Пробел, слайд: снимок дома приходского священника, собравшиеся кучками люди. – Под конец скептики стали брать верх, и тогда люди начали стучать в двери плебании. Им открыл ксёндз Тшаска лично, он заговорил, и настроение людей мгновенно изменилось. Похоже, согласно сообщения отца настоятеля, сам вид ксёндза Тшаски вызвал, что люди замолчали, чтобы не пропустить ни единого слова. Ксёндза тут же забрали в расположенный неподалеку костёл, поставили – это в буквальном смысле слова: забрали и поставили, ксёндз Тшаска не шел, его несли на руках прихожане – на амвон, и в течение целой ночи, попеременно, народ читал розарий и слушал проповеди ксёндза. Утром часть людей пошла спать, но их заменили другие, но по викарию не было видно никаких следов усталости; ну а приход, по сути своей, оцепенел. Верующие не ходили на работу, в школе не было уроков, все занимались только лишь этими необычными говеньями.
Стоит отметить, что имеются люди совершенно устойчивые к харизме ксёндза Тшаски. Это касается закоренелых атеистов, которые, к тому же, испытывают сильную нелюбовь к Церкви. Примером может быть дробчицкая преподавательница математики, – пробел, слайд: женщина лет под пятьдесят, перманент, скрутивший волосы в бараньи завитки, - пани магистр Ковнацкая, которая сообщила о случившемся журналистам антиклерикальной прессы. Но до сих пор ни одного репортажа в подобного рода журналах не появилось; некоторые прямо заявляют, что какой-то журналист или журналистка на месте была, но на месте пережила сотрясение и бросила свою отвратительную профессию.
На третий день народ, наконец-то, начал возвращаться к своим обязанностям, образовался и своеобразный комитет, который начал организовывать жизнь прихода вокруг ксёндза Тшаски. Неформальным главой этого вот комитета стал Герхард Пикулик, самый богатый житель Дробчиц, владелец известного турбюро Pikulik Reisen, человек уважаемый, но поссорившийся с Церковью, вероятно, на фоне личного конфликта с настоятелем.
Именно тогда отмечено первое исцеление. У нас имеются документы, в которых уважаемые и никоим образом не связанные с Церковью врачи однозначно заявляют, что срочное излечение Теофила Кочика, - слайд: фотография с подписью "Теофил Кочик", - из терминальной стадии заражения крови, популярно называемого сепсисом или гнилокровием, не находит ни прецедента, ни объяснения врачебного искусства. Один из докторов образно выразился, что пациент находился в таком состоянии, что его излечение можно назвать воскрешением.
И вот после того случая, в течение двух недель, случилось, по меньшей мере, девять подтвержденных исцелений, в том числе, одно возвращение зрения ослепшему. Согласно показаний врача-окулиста, случай, не только не известный медицине, но медицине явно противоречащий, поскольку то был, якобы, случай абсолютной слепоты, связанной с серьезным повреждением зрительных нервов.
В этом месте следует однозначно заявить, что на основе сообщений, которые нам удалось собрать, в том числе и в кратком фрагменте проповеди ксёндза Тшаски, у нас нет никаких предпосылок для того, чтобы выдвинуть заключение, будто бы из уст ксёндза прозвучали утверждения, характер которых в чем-то нарушал веру. Мало того, в сообщениях часто проходит определение, будто бы ксёндз Тшаска призывает к ортодоксии, к "необходимости прислушиваться к учению Церкви".
В данный момент ситуация приведена к норме, ксёндз Тшаска проживает в плебании в Дробчицах, откуда выехал отец настоятель, который, хотя и остановился в Гливицах и передал себя в распоряжение епископа, не желает говорить о случае отца викария. Ему кажется, что эта нелюбовь какая-то иррациональная, но он последовательно отказывается отвечать на данные вопросы. Благодарю за внимание, это все.
Ксёндз Велецкий провел взглядом по собравшимся. Довольный тем впечатлением, которое он произвел на аудиторию, ксёндз сел с выражением скромности на лице, закрыл ноутбук и положил руки на колени.
Проектор еще осветил экран голубым прямоугольником с надписью "no signal", после чего отключился.
Воцарилось молчание, прерываемое лишь замечаниями шепотом, которыми епископы, архиепископы и кардиналы обменивались со своими соседями и консультантами. Где-то тихо защебетал мобильный телефон, докладывая своему хозяину о прибытии SMS. Архиепископ Зяркевич разложил свой ноутбук и через минуту, когда система загрузилась, быстро ввел посредством клавиатуры несколько слов. Его примеру последовали епископы Шидловский и Колодзей; над столом разошелся негромкий шумок компьютерных кулеров и скрип жестких дисков.
Первым взял голос епископ Рыдз, ординарий[79] пелплинской епархии.
- Братья мои в трудах апостольских, дорогие душепастыри! – начал он, и вся аудитория уже знала, что епископ Рыдз готовит им речь, которая закончится не скоро. Архиепископ Михальчевский, любельский митрополит, злорадно усмехнулся, сплетая пальцы на выдающемся животе и опуская голову, словно на скучной проповеди прибывшего с визитом отца декана. Прозвучали сдавленные смешки, которые Рыдз проигнорировал.
- Братья мои в служении апостольском, дорогие душепастыри, - повторпил он. – Никто из нас не ведает и предусмотреть не может, пред какими вызовами ставит нас Господь. Но мы знаем одно – никогда эти вызовы не будут легкими. И вот теперь мы, польский епископат, как раз стоим перед таким вызовом. Господь Бог посредством своей кардинальской коллегии в 1978 году пожелал поставить поляка во главе Столицы Петрово. После смерти нашего папы мы без преувеличения можем сказать, что то был величайший за пятьсот лет понтификат. Но Господь не перестает посылать нам знаки, доказывающие, что он особенно возлюбил страну нашу, последнюю страну в Европе, которая может называться католической. Именно из Польши выйдет повторное обращение Европы – и теперь Господь посылает нам новую Фатиму[80], в чистое сердце этого вот молодого ксёндза вкладывая могучий дар. Дар, способный наново, посредством чудес своих, разжечь огонь веры в Европе. Господь поставил нас пред вызовом – как епископат, мы можем повести себя малодушно и мелочно, провести длительное и сложное расследование, которое и так завершится в Ватикане, в то время как польский народ с тоской будет глядеть в нашу сторону и – обманутый молчанием или отсутствием энтузиазма, отвернется от нас – и это будет поражением, нашим поражением как душепастырей. На сей раз мы не можем ожидать, пока откровения не закончатся, как это Церковь привыкла делать. На это нет времени.
В связи с этим, я постулирую, дорогие братья, чтобы мы в чрезвычайном порядке сделали все, что только можем, чтобы проявить ксёндзу Яну Тшаске нашу поддержку. Для народа Ян Тшаска уже герой – вот, поглядите.
Епископ Рыдз вытащил из папки "Факт". Искусно он прикрыл голенькую Касю с последней стороны, которая ищет кого-то, кто прижмет ее к себе в эти холодные, осенние дни, и разложил газету на статье, озаглавленной Ксёндз-чудотворец из Верхней Силезии. Статья была снабжена крупными фотографиями дробчицкой фары, костёла, ксёндза Яна и толп, собравшихся на церковном дворе.
- А теперь поглядите сюда: "Что обо всем этом думает Церковь?", - епископ Рыдз указал пальцем на сопровождающую статью заметку. – К счастью, нашим медийным епископам на сей раз удалось удержаться от высказываний от имени всех нас.
Архиепископ Зяркевич насмешливо усмехнулся над клавиатурой ноутбука, не отрывая взгляда от экрана. Сопровождающий его священник написал пару слов на листке, заслоняя из ладонью, заслоняя написанное ладонью, и показал листок Зяркевичу, который по прочтению смял его и спрятал в карман.
- И все же, - продолжал Рыдз, - известный краковский интеллектуал, несколько на вырост определяемый как католический, Ян Шепетыньский, высказывается в том же бульварном издании в тоне, как минимум, скептически, сравнивая случай ксёндза Тшаски с фальшивыми изображениями Богоматери, время от времени появляющимися на стеклах, особенно – грязных. И вот, кстати, не вступая в дискуссию относительности правдивости этих предполагаемых чудес с Матерью Божьей, редактор[81] Шепетыньский не находит ни единого теплого слова для народа, который становится на колени в грязи, молясь тем, повторюсь, предполагаемым чудесам. Похоже, больше ему подошло бы отношение жителей Западной Европы, которые не опускаются на колени не только перед грязными стеклами, но и не опускаются на колени вообще ни перед чем. Это так, кстати. Возвращаясь к случаю ксёндза Тшаски, наверное, мне не следует прибавлять, что замечания редактора Шепетыньского о "мистификации", "журналистской утке", "самовнушении", "колдовской и суеверной народной религиоз-ности" в свете отчета, который нам здесь прочитал ксёндз Велицкий, кажутся нам, говоря прямо, лживыми.
По аудитории вновь прокатился шумок. Отношения между епископами были иатерией крайне деликатной. Епископ Рыдз использовал выражение "лживые" в адрес редактора Шепетыньского, который, как ходили слухи, просит архиепископа Зяркевича разрешения опубликовать рецензию даже на вечерний мультфильм для малышей, и который служит архиепископу для провозглашения мнений и взглядов, которых самому митрополиту публично высказывать вроде как не пристоит. Даже если это еще не представляло собой casus belli, тогда, по крайней мере, это были демонстративные маневры рядом с вражеской границей.
- Если мы примем, скажем, "версию" редактора Шепетыньского, то та же самая газета поместит очередной, договоримся – обоснованный, панегирик в честь ксёндза Тшаски, одновременно не оставляя на нас – а прежде всего, на Церкви – ни одной сухой нитки.
- И с каких это пор епископы должны направлять мнения бульварных газетенок с голыми бабами на последней стороне? – мрачным тоном Зяркевич перебил Рыдза.
- Уважаемый ксёндз архиепископ, да, газетенка, понятное дело, желтая, но в данном случае она прекрасно диагностирует общественные настроения, которыми нам, пастырям Церкви, пренебрегать не следует. Надеюсь, что архиепископ Михальчевский согласится со мной по данному вопросу и вообще, с моим мнением в отношении случая ксёндза Тшаски.
Собравшиеся за столом церковные душепастыри облегченно вздохнули, поскольку ситуация наконец-то показалась им ясной. Но понятной она не была только лишь для молодого священника, одного из секретарей викарного епископа из вроцлавской архиепархии. Молокосос спросил у своего коллеги, почему это все так неожиданно возбудились. Пользуясь тем, что они сидели на самом конце стола для совещаний, а их начальство занято размышлениями над тем, что лучше купить сестрам, занимающимся приютом для умственно отсталых: "мерседес вито" или "форд транзит", и даже украдкой просматривает спрятанные среди заметок предложения автомобильных салонов, старший коллега начал шепотом излагать политические расклады на конференции епископов:
- Дело простое. Большинство епископов не склоняется ни к прогрессивной стороне, ни к консервативной стороне, иногда даже сомневаясь в обоснованности такого рода разделения. Когда им следует встать на чью-либо сторону по конкретному вопросу, часто случается, что в плане принятия решений они просто парализованы, поскольку, по таинственным причинам, для них крайне важно удержать некое странное равновесие между силами прогресса и реакции, которых, якобы, даже и не существует. Потому огромное внимание они уделяют окружению Зяркевича, однозначно идентифицируемому как прогрессивное, а так же окружению архиепископа Михальчевского, то есть, консерваторам. Дело выглядит по-другому, когда речь касается сексотничания эс-бекам на своих братьев по священнической службе, здесь взгляды проходят поперек раздела на традиционалистов и прогрессистов; но в случае ксёндза Тшаски этот раздел имеет существенное значение. Им довольно-таки до лампочки суть дела, сейчас они раздумывают лишь над тем, кого поддержать. Мнение Зяркевича нам известно из газеты, так что, почти что автоматически, нам известно и мнение Михальчевского. А облегченно епископы вздохнули, когда посчитали, что раз Рыдз, который обычно считается неформальным предводителем "Болота", и потому его позиция гораздо более сильная, чем на это указывало бы его формальное место в иерархии…
- Болота? – переспросил молодой священник.
- Вы что, в семинарии историю не учили? Ну и я не стану тебя просвещать. Поищите сам, в разделе о Французской Революции. Так вот, когда епископ Рыдз атаковал Зяркевича, они посчитали, что в данном случае следует поддержать консерваторов, и обрадовались тому, что уже знают, что им делать. Теперь будет достаточно, чтобы голос взял Михальчевский, и дело сразу же станет ясным.
Но архиепископ Михальчевский вовсе даже и не спешил. Он спокойно просмотрел свои заметки, не обращая внимания на ожидающие взгляды иерархов. В конце концов, через пару минут, он поднял взгляд и изобразил на лице изумление, что столько людей на него глядят. Он поправил очки, поднимая их с кончика носа повыше. Молодой священник, которому только что был преподан урок по вопросу политики в епископате, чуть ли не подавился смехом, поскольку жест по поправлению очков архиепископ осуществил средним пальцем, в результате чего ладонь изобразила жест, во всем мире считающийся оскорбительным. Сам же епископ-консерватор этого не заметил. Он взял голос:
- Я не пытаюсь усомниться в правдивости рапорта, который представил нам ксёндз… - тут епископ снизил голос, давая понять, что не помнит фамилию.
- Велецкий, - с упреком подсказал ксёндз Велецкий.
- Велецкий. Так вот, теперь предположим, что все описанные ранее ситуации и вправду имели место. Но откуда нам известно, кто стоит за всей этой серией чудесных событий? Случаем, оптимистически предполагая, что эти чудеса совершались Божественной силой, не оказываемся ли мы, как это сейчас говорит молодежь, законченными наивняками?
Молодежь, которая так сказала бы, уже дождалась внуков, пан архиепископ, - подумал секретарь вроцлавского епископа.
Архиепископ Зяркевич глянул над краем очков на своего главного протагониста и, не прося слова, сказал:
- Уважаемый архиепископ Михальчевский, наш инквизитор[82], конечно же, решил посчитать эти предполагаемые чудеса результатом деятельности сатаны, которого наш уважаемый архиепископ наверняка представляет в виде косматого создания с рогами и хвостом.
- Быть может, Ваше Преосвященство избавит нас от своих колкостей? – отрезал Михальчевский.
- Ну хорошо, хорошо. Тем более, что мне кажется, что, по-разному подходя к диагнозу, мы соглашаемся по вопросу рекомендуемого лечения. По моему мнению, следует сохранять как можно более далеко идущую сдержанность в выражении мнений на тему случая ксёндза Тшаски, рекомендовать верующим проявлять осторожность при обращении к вышеупомянутому священнику, самого же ксёндза Тшаску направить в какой-нибудь изолированный монастырь, где до времени полнейшего выяснения он посвятил бы себя молитве.
- Согласен, - коротко сказал архиепископ Михальчевский, не находя удовольствия в наслаждении тембром собственного голоса.
- Ну вот теперь наши епископы могут кичиться, - прошептал преподаватель политики молодому ксёндзу на ухо. – Силы прогресса и реакции сомкнули собственные ряды в оппозиции к умеренным. Так уже было, но не в Церкви, а в Германии, при чем, восемьдесят лет назад. Хотя иногда и у нас, когда различные журналисты взялись за люстрацию епископов.
- Да о чем это таком пан ксёндз говорит? – шепнул в ответ попик в пространство, не отращая взгляда от переговаривающихся наследников апостолов, поправляя манжеты сорочки, элегантно выступающих из под рукавов сутаны.
- Да ладно, неважно, неважно. Важно то – гляди, парень – когда епископы будут кипятиться, чего тут делать, раз уже не надо заботиться о равновесии, а только лишь принять решение по сути вопроса. Ничего они не сделают, нет ни малейшего шанса, против Михальчевского и Зяркевича вместе взятых им не выступить – а они, в свою очередь, должны ужасно дивиться собственной коалиции, - продолжал шептать чичероне по извилистым тропам церковной иерархии.
Тут епископы, архиепископы, кардиналы вдруг заговорили все вместе, кто-то поднял голос, кто-то ударил ладонью по столешнице.
Оба ксёндза-секретаря викарного епископа вроцлавской епархии тихонечко выбрались в коридор, пользуясь замешательством, игнорируемое их наставником, который уже принял решение, что монашкам купит "форд", поскольку "мерседес" для них это уже слишком, а теперь между заметками спрятал томик с эссе Честертона и читал вовсю, усмехаясь про себя, что его братья по епископскому служению интерпретировали как немой комментарий к разгоревшейся дискуссии.
Тот секретарь, что был постарше, сунул руку в карман сутаны и вытащил пачку "мальборо". Затем закурил, предварительно раскрыв настежь окно в коридоре.
- А знаете, - отозвался тот, что помоложе, - когда после галстучной недели в семинарии, после последней ночи, которую проспал в галстуке на шее, в соборе надевал сутану на пострижение, мне казалось, что вместе с тем галстуком я покидаю мир галстучников. Вот знаете, споры, политика, расклады сил, все это… А здесь, наши пастыри, они ведут себя так… Ну, вы понимаете. Так по-светски. Как те, как светские люди, как политики.
- А ты что думал? Что после епископского рукоположения у человека ангельские крылья отрастают?
- Но вот может ли сказать мне уважаемый ксёндз, где во всем этом имеется Святой Дух?
- Сынок, ты что, представляешь себе, будто бы Дух Святой должен был бы залететь в этот зал в виде голубки и проконсультировать епископов, что им делать по делу ксёндза Тшаски, а потом белым крылышком указать, кто из епископов является агентом СБ, а при случае еще и посоветовать, чтобы все компьютеры в приходах должны работать под Линуксом, ибо только лишь open software мило Господу?
Молодой священник тихо рассмеялся.
- Вы просто шутите, но ведь я имею в виду другое. Чтобы было какое-то единодушие, чтобы они не думали о политике, о прогрессивных и консервативных фракциях, а только о том, ну вы понимаете, где правда, и что по-настоящему приятно Богу.
- Видишь ли, парень, если бы ты изучал историю, то знал бы, что Дух Святой мог действовать даже посредством римского папы Борджии, Александра VI. Представь себе, что тот сукин сын Борджиа на папском троне реализовал волю Духа Святого, а вовсе не святой безумец Савонарола. Spiritus Sanctus прекрасно справлялся с опекой над Церковью, которой управляли такие ублюдки в пурпуре, что наши епископы, хотя у них рыльца и в пушку, но по сравнению с теми – они просто ходячее воплощение святости. Парень, вот ты удивляешься, что в том зале столь важную роль играют людские страсти, нелюбовь, гордыня, жажда власти. Но удивляться, скорее, следует тому, что, несмотря на все эти людские черты – ведь там сидят люди, никого более - среди собранных в том зале епископов иногда, хотя и редко, удается провести то, что жажду власти и спесь перерастает. Так что, парень, тренируйся в смирении и поверь, что не исключено такое, что наши епископы примут то или иное решение как раз по причине Святого Духа. Ну а теперь давай возвращаться, пока старик не врубится, что мы ничего не записываем, - произнес он, после чего загасил сигарету на подоконнике и выбросил окурок за окно, на неухоженный газон. Оба возвратились в конференц-зал. Тот, что постарше, стал просматривать заметки и обдумывать отчет, который нужно быдет составить для ординария; младший же прислушивался к дискуссии и изо всех сил пытался поверить в присутствие Духа Святого в зале.
+ + +
Ксёндз Янечек сидел на кухне, в которой после ухода панны Альдоны в мойке нагромоздилась куча посуды. В плебании было ужасно холодно, потому что викарий не умел толком справиться с печью центрального отопления в подвале. Сразу же после того, как он разжег печь, та раскалилась докрасна, а вода в трубах закипела, чтобы через час полностью остыть. Так что он махнул на все рукой, и вот уже два дня сидел в холоде.
На столе, рядом с кружкой горячего кофе – к счастью, обслуживание электрочайника не требовало лет опыта – лежало письмо из курии, пришедшее днем раньше. Епископ рекомендует ему отправиться в монастырь камедулов[83] на Белянах. Сегодня ночью, в три ночи – прямо сейчас – ему будет прислан автомобиль с водителем, который завезет ксёндза в монастырь, где ксёндз предастся молитве и посту, вплоть до момента выяснения дела и принятия решения.
Тшаска ужасно устал. Обессилен. Бытие пророком требует гораздо больше поглощенности, чем бытие викарием и даже преподавателем катехизиса. Иисуса и архангела Михаила он не видел уже неделю, с момента ухода отца настоятеля и экономки. Они исчезли без слова, но сила осталась – так что ксёндз посчитал это испытанием своего характера, и что он обязан делать то же самое, что и раньше. Так что ежедневно он утром вставал, шел в церковь и целый день молился, едя только то, что приносили верные. Должен ли он быть послушен Церкви, или же Иисус, который пришел к нему лично, желал, чтобы он отправился к камедулам или же, скорее, продолжал делать то же, что и раньше? А может, следует учредить нищенствующий орден, уйти из плебании, забрав с собой только пальто, и ходить по домам проповедовать.
Когда-то у него был приятель, физик. Парень писал диссертацию в универе как экстерн, а на жизнь зарабатывал, преподавая физику в лицее. Он рассказывал Тшаске, как странно себя чувствует, излагая детворе в школе картину мира – возможно, что и не фальшивую, но, вне всякого сомнения, неполную, анахроничную, словом – неправдивую. Но то была всего лишь физика, а он, священник, обязан идти и проповедовать народу, который верит в каждое слово из его уст более, чем папе, кардиналам и епископам вместе взятым, истины, которые к настоящему времени сделались гораздо более не актуальными, чем ньютоновская физика..
Тшаска стиснул пальцы на эмалированной кружке - неужто, Янек, сказал он сам себе, ты не веришь в то, что было смыслом жизни? И в не стираемое священническое знамение тоже не веришь? Это не вопрос веры, - сказал отсутствующий Христос, - ты уже ни во что не должен верить, ты знаешь.
На площади перед плебанией заскрипел снег под колесами автомобиля. Иисус сказал, что эта Церковь – все же – это его Церковь, так что я сделаю то, что Церковь мне приказывает. По причине усталости, страха или послушания – неважно.
Ксёндз поднялся из-за стола и вышел перед дом. В зеленом "опеле" стекло со стороны водителя опустилось вниз, сидящий за рулем полный мужчина спросил:
- Ксёндз Тшаска? Я должен отвезти вас в Краков.
- Да, да. Это я, - ответил священник, подошел к автомобилю, открыл дверь и уселся внутри.
Даже курия, разыскивая человека для устройства столь деликатного дела как перевоз одного бедного викария с Силезии в Краков, неизменно попадает на этот характерный тип людей – спецы по всему. Место работы? А на собственном рабочем месте. Хозяйственная деятельность, ФЛП "Гражина" (от имени супруги, весьма уважаемой женщины), Зембал Ежи, улица такая-то и такая, номер, сорок четыре сто тридцать три, Дробчице. Фирма, размещающаяся в черной барсетке, разделяющая это и так тесное Lebensraum (жизненное пространство – нем.) с мобильным телефоном и фотографиями детей. На левое запястье живописно спадает золотой браслет крикливых часов, на мохнатой шее висит золотая цепь. Автомобили из Германии привожу, по желанию, любую модель, любой тип. Вот пан знает, что такое авто без ДТП, самую только чуточку стукнутое в левое заднее крыло, но все уже заделано, так что пан дает десять косарей и ездит, только топливо заливает и ездит. Какая там шпаклевка, пан чего? Говорю же – безаварийное, стукнутое только в левое заднее, и что с того, что номера стекол не совпадают. Пан у нас что: контроль качества? Номера именно такие, какие на заводе дали. Классная тачка. Немецкая. Надежная. Если у пана нога легкая, так и пятерочку на сто возьмет, не больше.
Как это здорово: исправлять мир. На эвакуаторе едет сгоревший "форд фокус", а он, Ежи Зенбал, превратит этот мусор в красивую машину. Или на бусике отвезет двенадцать рыл на работу, в Италию, на плантации, в один конец на старом "рено", а бабки уже и есть. Когда-то ездил как таксист, но плюнул, потому что настоящие бабки в других местах зарабатывают. Утречком щеточкой сметает волосы с пелерины, протирает седеющие усы, мобилку к уху – ну как, берут "лагуну"? Первого года? Сколько дам? Ну, как обычно, за "лагунку", два косаря дам. Так как? Весек, ты что, с дуба съехал, другана хочешь раздеть? Говорю же, две косых дам.
А в воскресенье пакует супругу и двух дочек в самую красивую тачку из тех, что в данный момент у него на площадке стоят, и неспешно катит в костёл, довольный, когда доносятся слова, что у Зембала снова новая машина. Или: tyn gorol zaś tym nowym autym (а городской снова на новой машине – силезск.). На костёл жертвует часто и обильно, в Рождество сам всегда едет за ксёндзом и отвозит его назад на плебанию, предварительно накормив и напоив – поскольку, пан ксёндз же знает: я хочу и с паном ксёндзом, и с Господом Богом нормально жить. Когда нужно было тротуар отремонтировать – устроил бетономешалку. На кладбище ветки подрезали – вышка завтра будет. Я со всеми хочу хорошо жить, разве что кто на мозоль мне наступит. Вот тогда сгною урода.
Так что, раз уж сам епископ просят подвезти викария в Краков, так вообще не о чем и говорить. Ксёндз ничего не платит. Ну, раз уж так, раз это курия, тогда приму, а потом еще доложу, когда ксёндз станет тот ремонт крыши проводить.
И вот таким вот Юрекам Зембалам он обязан гласить Добрую, хотя и фальшивую, Новость. Он должен пояснить Зембалу, что у Нового Завета срок закончился, равно как и у Ветхого, и сейчас пришло время Завета Новейшего. Он обязан это пояснить Ежи Зембалу, человеку, для которого христианство помещается в нефах церкви, и именно там его следует раз в неделю навещать – только оно, естественно, не имеет никакой связи с мирком автомототорговцев. Безаварийная тачка, прошу вас, в Рейхе на нем один дедок ездил, так что пробег самый настоящий, это, скажу вам, супер оказия. Пан Зембал, нам следует подняться на следующую ступень веры, поскольку мне явился Христос.
После того, как викарий сел в машину, Зембал с уважением ожидал, когда тот отзовется. Но священник молчал, и тогда водитель спросил сам:
- Ну а какие-нибудь вещи пан ксёндз берет, или как?
- Нет, мне ничего не надо.
- Тогда поехали.
Ксёндз застегнул ремень безопасности. Толстяк врубил задний ход, со вздохом обернулся в кресле, устроился на правой ягодице, оперев руку на пассажирском кресле, засопел и начал выезжать.
Грохот сминаемого металла и бьющегося стекла. Тишина. Панические вздохи, жадно всасываемый воздух, викарий чувствует, как ремни безопасности раздавливают ему ребра. Надувшаяся подушка безопасности после оргазма столкновения превратилась уже в опустившийся конец.
- С ксёндзом ничего не случилось? – придя в себя, спросил Зембал.
Ксёндз Янечек отрицательно покрутил головой, до сих пор не способный произнести хотя бы слово. Водитель выкатил свою тушу из машины. В правом боку его личной "астры" торчал смятый перед красной "тигры" из которой выскочила молодая, красивая девушка и, совершенно не обращая внимания на толстяка, подбежала к ксёндзу Янеку.
- Вы не можете никуда уезжать. Высаживайтесь, пан ксёндз. Я увидела, как пан ксёндз уезжает, и нужно было пана ксёндза задержать! – кричала она.
Ксёндз Янечек узнал ее – журналистка, Малгожата Клейдус, из "Фикций и Мифов".
- Так оно как, пани, получается, специально ударила в мою машину? – багровея от злости спросил Зембал.
Ксёндз вышел. На капоте появились снежинки.
- Первый снег в этом году, - сказал он.
- Гляньте-ка вон туда, она там стоит, - показала журналистка, совершенно зря, потому что ксёндз Янек уже знал, что имеется в виду.
В темноте, освещаемой лишь слабым светом фонарей, на обочине асфальтовой дороги стояла худенькая девочка в голубеньком пальтишке, наброшенном на больничную пижаму. Снежинки, которые поначалу проявлялись на высоте оранжевых ламп уличного освещения, не преследуемые ветром спокойно падали на Анульку, ложась на ее плечи и голову, и медленно умирали, впитываясь в шерсть пальто и разлохмаченные волосы.
Ксёндз Тшаска впервые в жизни видел взрослую четырнадцатилетнюю девочку. Взрослую, поскольку осознающую смерть, которая неизбежно придет через несколько недель или месяцев. Осознающую собственную слабость, собственное тело, которое само себя уничтожает и пожирает. Осознающую все, чего в своей жизни уже не увидит и не почувствует: поцелуи, каникулы над морем, новые платья и фильмы в кино. Касание мужчины и обеды в ресторане, вкус вина и сигарет, поражения и победы, ощущение белого и черного платья, боль разрываемой детской головкой промежности. Анулька. Это имя, детское имя, которого она уже не успеет сменить, стократно поясняя маме (отца она не знает и уже никогда не узнает), что ее зовут не Анулька, а только Анна, ладно – Аня, и именно так к ней следует обращаться. Анна.
- Пан ксёндз должен ее спасти! Пан ксёндз может ее исцелить! Пан ксёндз, прошу вас, я исповедалась, я обратилась в вере, уже не работаю в "Фикциях", пан ксёндз, сделайте это для нее.
- Пан ксёндз, да бросьте вы эту сумасшедшую. Садитесь, как-нибудь, с Божьей помощью, доберемся ко мне домой, там "опель" оставим и поедем на "мерсе", до Кракова недалеко, по автостраде – это часа полтора, и мы будем на месте. Шины у меня зимние, так что снег нам не страшен, - говорил Зембал, думая о тысяче злотых, которая как раз сейчас выскальзывала у него из рук с каждым словом этой психованной. Он приблизился к ксёндзу, открыл двери "опеля" и попытался запихать викария вовнутрь.
Ксёндз Янечек был килограммов на пятьдесят легче него и намного слабее. Только ни толстенная словно ветка дерева лапища, ни бочкообразные грудная клетка и пузо не сумели сдвинуть священника хотя бы на миллиметр.
- Чего? – был изумлен толстяк и внезапно, словно ударенный ломом в грудь, перелетел через дорогу и рухнул в придорожную канаву. Он тут же начал оттуда выкарабкиваться, сопя и постанывая, а ксёндз уже бежал к стоящей у дороги девочке, схватил ее на руки – та весила не более тридцати килограммов – и занес в дом.
- Не еду я, раздумал, - бросил он по дороге перепуганному водиле, который и сам посчитал, что дело ой какое скользкое, так что из него следует как можно скорее выпутаться.
Янек шел в плебанию, прижимая к себе костлявое тельце; девочка же, в рефлексе инстинктивного доверия обняла ксёндза за шею. Благодарю тебя, Иисус, кто бы ты ни был: Бог, дух, человек – благодарю тебя за дар исправления мира. До фары он буквально добежал, пинком открыл дверь и заскочил в кухню. Придерживая больное дитя одной рукой, другой он сбросил все со стола. В доме так холодно, а малышка еще и ужасно замерзла. Он подумал о печке, и вода в трубах забулькала от жара, чугунные же калориферы, писк современности последних лет правления императора Вильгельма, застонали и зазвучали расширяющимся, нагревающимся металлом. С помощью Малгожаты, которая побежала за ним, ксёндз разместил Анульку на столешнице. Он положил ладони на распаленном лбу девочки.
- Я забрала ее из хосписа. Пан ксёндз должен ей помочь, - сказала Малгожата.
Ксёндз Ян Тшаска закрыл глаза и почувствовал, где ткани, извращенные клеймом первородного греха, взбунтовались против собственного творца, чтобы венец Его творения смять, вывернуть, измазать блевотиной, пускай издыхает в собственном дерьме, эта вот кучка грязи, разбодяженной глины, одаренная душой падаль. И пускай не умирает: пускай издыхает, пускай ее форма размоется в чудовищных деформациях, наростах и опухолях; и пускай воет.
Так что ксёндз успокоил множащиеся клетки, выгладил, возвратил их на старое место. Исправил мир, давая этой девочке жизнь, которую та не имела права иметь.
Анна открыла глаза.
- Я буду жить, тетя, - произнесла она.
- Ну конечно, девонька, потому что ксёндз Янек тебя исцелил, - сообщил сидящий на шкафу Иисус. Он болтал в воздухе сандалиями; рядом, опирая ягодицы на пятки и охватив колени руками, пристроился архангел Михаил.
Викарий потерял сознание.
+ + +
Когда он открыл глаза, то увидал над собой лицо Кочика. Теофил, Теофил, тебя освободили от ворона, ты же поможешь освободить других.
- Проснулся, - сказал Кочик.
Сильные руки поставили ксёндза вертикально. Он почувствовал, что у него связаны руки и ноги, а во рту кляп.
Тшаска рванулся, дернулся, бессильно завыл сквозь давящую его тряпку. Помимо Теофила Кочика ксёндза удерживала пара мужчин в рабочих комбинезонах, в горняцких касках с фонарями. Из лица и руки были черны от угля. Перепачканные взяли ксёндза за руки и ноги, вынесли из плебании и уложили на заднем сидении запаркованного под самыми ступенями большого "фиата". Мужчины сели спереди, Кочик уселся сзади, рядом со священником.
- Ксёндзу беспокоиться не о чем, женщина и девочка в безопасности, они ночуют у моих хозяев. Поехали! – бросил он водителю.
Его похитили, чтобы закрыть в какой-то шикарной клинике, где он будет лечить больных детей богатеев. Из него сделают медицинский автомат, учредят общество ООО "Ксёндзо-Мед" и будут ложить в карман по десять тысяч за пластическую коррекцию, по сотне тысяч за диабет и по миллиону за рак и белокровие. Быть может, он даже получит зеленый хаоат, как врачи в телесериалах? И маску. Но и так все останется в тайне, ведь законно пленить человека запрещено. Короче, ему устроят золотую клетку наполненную всяческими удобствами, зато отрежут его от мира. Либо станут шантажировать карьерой брата или жизнью отца...
Тшаска дернулся в своих узах. Только лишь через несколько секунд до него дошло, что он ведь чувствует намерения своих мучителей. Странно, ничего плохого сделать ему те не желали.
Кочик склонился над священником и вытащил из-под куртки небольшой сверток.
- Тут у меня собрано, здесь вот облатки, но такие еще, что они пока не являются Господом Иисусом; но у меня есть банка, она потом понадобится, - с убежденностью сообщил сумасшедший.
Ксёндз ничего не понимал. Двигатель старой развалины закашлял и завелся, дворники с хрустом стерли тонкий слой снега. Они поехали. Фары освещали рой кружащихся снежинок, они ехали в тумане, колеса автомобиля, обутые в лысую резину, танцевали по скользкой дороге, только водитель уже набил руку на вождении в подобных условиях. Все продолжалось где-то с полчаса. С шоссе они свернули на боковую дорогу, водитель выключил фары, так что дальше ехали на ощупь. Потом машина остановилась.
- Jerůna, na tym śńyhu bydźe šladyśúo uźfeć, jakby tu ftoś přiloz… (Блин, на этом снегу можно бужет заметить следы, если бы кто пришел – силезск.) – сказал один из горняков.
- Ńy fandzol, Zefel, yno bier kapelůnka za ůúapy I drap na gruba lecymy. Koćik, pozamykej auto, kluče mos we stacyjce, I lec za nami (Ты не говори глупостей, Юзеф, а только хватай викария за ноги и быстренько побежали на шахту. Кочик, машину закроешь, ключи в замке зажигания, и беги за нами – силезск.), - ответил на это второй.
Ксёндз Янек совершенно не дергался, горняки вытащили его из машины и осторожно положили на снегу, после чего ножницами разрезали сетку ограждения. Схватили ксёндза, протиснули его через дыру, и по покрытому снегом полю трусцой направились к маячащим в тусклом фонарном свете постройкам. Кочик закрыл автомобиль и направился за своими дружками.
Они добежали до покрытой осыпающейся штукатуркой стены, приставили ксёндза к ней.
- Moš te halby? (Поллитры у тебя? – силезск.) – спросил тот, что был повыше и плотнее из пары горняков, которого коллега называл Зефелем (Юзефом – силезск.).
Кочик вытащил из-под куртки две бутылки. Зефель взял водку, заговорщически вынлянул за угол, огляделся, добежал до дорожки и нарочито безразличным шагом направился в цех. Через пару минут он выглянул их двери, поднял большой палец вверх. Кочик со вторым шахтером подняли ксёндза Янека и побежали в цех, пересекли ее, ни на мгновение не задерживаясь, добежали до лифта в стволе, закрыли за собой сдвижную дверь.
- Kapelůnek to ponoc pjyršy roz w šole śedzům, pra? (Ксёндз викарий наверняка ведь впервые в лифте, да? – силезск.) – спросил горняк меньшего роста.
Ксёндз викарий ответил лишь стоном через кляп. Кочик вытащил из кармана перочинный нож, перерезал веревки и вынул кляп.
- Прошу прощения, что мы пана ксёндза связали, но не ьыло времени. Тшаска оттер онемевшие запястья.
- Куда вы меня тащите? Что в этом всем фарсе играется? – спросил он.
- Ксёндз сам увидит. Мы излечим ксёндза, честное слово. Еще немножечко терпения. Вот только пану ксёндзу следовало бы надеть рабочее, чтобы не так бросаться в глаза.
Лифт остановился. Викарий сменил платье духовного лица на брезентовые штаны, рубаху в клетку и куртку. Горняки надели на головы ксёндза и Кочика каски. Они двинулись через штреки и раскопы, среди блестящей черноты стен, опор и опалубок, проходя мимо немногочисленных шахтеров. Минут через десять быстрого марша они остановились. Зефель сунул руку за старый, толщиной с дубовый ствол столб и нащупал за ним железный рычаг, дернул за него, и узкий фрагмент стены между элементами закладки оказался стальной дверцей, на которой были закреплены фрагменты горной породы, так что дверь полностью сливалась с окружением. Открытый проход показал низкий коридор, двигаться по которому можно было только на четвереньках. Зефель зажег фонарь на лбу и вполх в коридор, за ним ксёндз, Кочик и второй горняк, который, не поворачиваясь, закрыл ногой дверь в секретный проход. Воздух был затхлым и вонючим, но совершенно не такой, какого ксёндз Янек мог ожидать в шахте. Воняло здесь не так, как воняет от старого механизма: горелым маслом, истлевшей изоляцией, тут не воняло заводом, но так, как несет от заселенного бухарями зала ожидания провинциального вокзала, пускай и без ноток переваренного алкоголя. Запахи человеческих экскрементов, немытого тела и остатков пищи были едва слышны, хотя и постепенно густели, по мере того, как они продвигались по штреку.
Слабый отсвет фонаря внезапно сдвинулся со стенок и пласта, пропал в пространстве и серым свечением подсветил небольшую каверну, находящуюся в самом конце прохода.
- Fater, to jo, Jůsef, syn Půndźaúka, je ze mnům Koćik, co go znoće juž, Walek, syn Środy, I tyn kapelůnek, o kerym my wům godali (Отче, это я, Юзеф, сын Понедельника, а со мной Кочик, уже отцу известный, Валек, сын Среды, и тот самый викарий, про которого мы отцу говорили – силезск.).
- Kommen Sie (проходите – нем.), - отозвался хрипящий голос.
Вползли вовнутрь. Высота каверны не превышала метра и семидесяти сантиметров, при всем том она не была больше обычной комнаты в квартире. Под одной из стенок в угольной породе была выбита ниша, которая должна была служить обитателю каверны лежанкой, с другой находился короткий штрек, заканчивающийся небольшой выработкой, у выхода стояли три старых деревянных ведра, наполненные комьями угля.
Обитатель камеры сидел на лежанке. Когда свет фонаря Герда лег на нем, ксёндзу Янеку пришлось напрячь зрение, чтобы отличить фигуру от окружавших ее стен, так как была она практически вся черной. Поблескивали только лишь белки глаз, ногти и нити не окрашенной угольной пылью седины в длинных, превратившихся в колтун волосах, соединявшихся с бородой патриарха. Все вместе, щетина и волосы окружали гривой небольшую голову. Штаны и куртка давно уже превратились в рванье. Сейчас, уже сотни раз залатанные, связанные друг с другом, они образовали мастерскую конструкцию, которая едва-едва заслоняла тело. Из этих лохмотьев выглядывали руки и ноги, худые, но жилистые, а по сути даже мускулистые, покрытые черной кожей. Черной не негритянским коричневым оттенком, но окрашенной угольной пылью, что втерлась в слои ткани, а кожа, совершенно бледная по причине отсутствия солнца, восприняла ее как пигмент.
- Как-то раз ко мне пришел Христос, - сказал обитатель подземной кельи.
Ксёндз Янечек увидел человека. Но в этот раз он не видел человека насквозь – его сверхъестественное зрение не проникало под покрытое углем кожу. Подземный житель сам показался в голове ксёндза. И видение не было актом проникновенности, но глубинного, интимного раскрытия.
Богислав Фрайхерр фон Тшивиц едет в поезде. Поезд выехал из Гданьска. Богислав едет на войну. На дворе 1944 год, и большевистские, азиатские орды уже недалеко от родины Богислава. Только Богислав этого им не позволит. Богислав – поморский дворянин, и он не согласится на то, чтобы в имении его отца расселись комиссары в кожанках, о нет. Он не позволит, чтобы солдатня с калмыцкими чертами лица обесчестила Еву, золотоволосую дочь соседей, снимок которой Богислав носит в записной книжке. Богислав уверен в том, что кто уж кто – но такие как он остановят большевиков. В его семействе все носят старинные местные имена. Отец, Болько фон Тшивиц, говорил ему, что их предки были, после королевских Грифитов, первым родом Поморья. Потомки славянских пиратов, которые на утлых суденышках плыли через Балтику, чтобы грабить поселения викингов. А потом семья Чивицов приняла наивысшее воплощение европейской цивилизации – как говорит Папа – она стала германской аристократией. Папа говорит, что канцлер фон Бисмарк тоже был германизированным славянином. Еще папа считает, что соединение славянской чувственности и впечатлительности с германскими закалкой, идеализмом и дисциплиной образует самого совершенного человека. Такими взглядами хвалится не стоит, но Богислав свое знает. А великий Панцерграф? Генерал-майор Гиацинт Штрахвиц граф фон Гросс-Заухе унд Камминец из старого силезского дворянства. Как раз под его командованием едет служить Богислав в качестве панцер-гренадера в 1. Panzer Division.
Только все это теряет какое-либо значение уже через пару недель. Богислав забывает о том, что имеется фон Поммерн и фон Тшивиц, о славянах и германцах, про Панцерграфа и даже о белокурых волосах Евы. Все, что он испытывает, это страх и ненависть, и ничего более. Он боится большевиков, потому что боится жестокой и ужасной смерти, он обещает сам себе, что последний патрон оставит для себя – хотя и знает, что не сможет выстрелить сам в себя. Он ненавидит их за то, что так сильно боится, ненавидит и за то, что видел в тех местностях, которые отбили от Советов.
А после нескольких месяцев службы к страху и ненависти присоединяются сомнение и анестезия. Сомнение, вызванное отступлением, превратившимся в бегство. Анестезия, потому что после десятого по очереди камрада уже не удается плакать, а двадцатого по очереди уже даже не хоронят. Все затирается. Образ родного двора, имения, золотоволосой Евы, золотых полей, через которые они идут с отцом. Отец срывает несколько колосьев, растирает их между ладоней словно между жерновами и выдувает плевелы. На его ладони остаются золотые зерна пшеницы, отец показывает их Богиславу, которому исполнилось семь лет. Вот, сынок, настоящее золото, гораздо более ценное, чем какое-либо иное – и еще сегодня мы начнем жатву. Папа в одной рубахе помогает мужикам, подгоняет, кричит, смеется, дворовые девки приносят холодное молоко в кувшинах, кто-то отбивает косу – словно колокол бьет – кто-то присел на камне и мокрый оселок скрежещет по полотну, разбрасывая ржавые капли. Все затирается. Белые скатерти и дрезденский фарфор, из которого пьют кофе, сливки в молочнике, серебряные ложечки. И еще шарлотка с яблоками. Мягкая постель и шелковая простыня. Костюмы из английской шерсти, шитые портным-шотландцем в Данциге, мягкие сапожки… Все затирается. Шикарно же кавалер выглядит! Повсюду грязь, снег, кровь. Звериный сон на земле или на заржавевшем полу транспортера. Звериная пища из огромного котла. Заплесневевшие сигареты, вонючая русская махорка. Захваченная водка обжигает рот; когда он в последний раз купался? Никто уже не бреется, потому что некогда, нет уже ни дисциплины, ни прусской муштры. Склонившись в мелком окопе, к их посту направляется лютеранский капеллан.
- Kinder, Kinder, gecht zurük! Einek Kilometer weiter gibt es Panzern, hundert von Panzern. Und Unmenge von Sovieten, Infanterie. Ihr seit doch nur 'ne Kompanie und habr keine Panzerfäuste. Flieht! Rettet euch! Ich werdet um sonst sterben! Schont eures junges Leben! (Дети, дети, отступайте, в километре отсюда танки, сотни танков и массы Советов, пехота, а вас здесь всего рота, у вас даже панцерфаустов нет. Бегите! Спасайтесь! Вы же напрасно погибнете! Пощадите свои молодые жизни! – нем.).
А за капелланом бежит командир, капитан, шлем покрыт белой краской, на мундире белый комбинезон.
- Ich verbiete es Ihnen! Sie begehen verrat, ich verde Sie vom Militärsgericht stellen! (Запрещаю! Вы допускаете предательство, я поставлю вас перед военным судом! – нем.).
Он размахивает пистолетом и бешено орет:
- Der Erste, der versucht zu fliehen, wird von mir persönlich erschossen, ihr habt dem Führer geschworen eure Köpfe hinzulegen, wenn es Nötig ist! (Первого же, кто попытается сбежать, застрелю лично, вы обещали фюреру сложить головы, если будет нужно! – нем.).
Все молчат, глаза устремлены в грязь, зубы стиснуты, словно кулаки. Молчат.
- Was jetz, Kerls, wollt ichr denn ewig leben? (Что, сволочи, неужто хотите жить вечно? - обращение Фридриха II Великого, во время битвы под Колином, своим бегущим гренадерам) – ревет капитан, показывая собственную эрудицию или всего лишь духовное единство с давним повелителем Пруссии, потому что давно уже презирает как собственную, так и собственную жизнь. Эта его позиция передается солдатам, и штык со свистом выходит из ножен, замах, и он вонзается в почки капитана, который, изумленный, выпускает из руки вальтер и опускается на оба колена, на белой материи кровавое пятно. Богислав вырывает штык из тела офицера и бьет во второй раз, уже повыше. Капитан падает на землю, онемевший священник глядит на труп, и они бегут, несколько десятков пар сапог пробегают по заколотому командиру, втискивая труп глубже в жидкую грязь на дне окопа.
Hauptmann Kischke ist bei einem Handkampf mit einem sovietischen Soldaten umgekommen, Herr Oberst. Sterbend, gab er uns dem befehl zum Rückkehr (Капитан Кишке погиб в бою один на один с советским солдатом, герр полковник. Умирая, он отдал нам приказ к отступлению – нем.). Простите, герр священник, это правда то, о чем рассказывает этот gefreiter? Капеллан опускает глаза, всматривается в кончики своих саперских сапог, и наконец говорит, что das ist die aufrichtigse Wahrheit, Herr General, so ist es gewesen (самая чистая правда, герр генерал, именно так все и было – нем.).
Городишко, сожженный дотла после нескольких недель сражений. Богислав с двумя камрадами захватили шесть советских солдат и польку-радиотелеграфистку. У радиотелеграфистки желтые, соломенные волосы, когда-то коротко срезанные, а теперь беспорядочно торчащие во все стороны. Русские с глупыми минами сидят у огня, в руках у них хлеб и сало. Радиотелеграфистка тихо шепчет: "Zdrovaś Maryjo, łaskiś pełna; Zdrovaś Maryjo, łaskiś pełna" (Радуйся, Мария Благодатная – начало католической молитвы Ave Maria – польск. простонар.) – беспрерывно повторяет она свою мантру. Богислав разоружает русских, которые даже облегченно вздохнули, поскольку опасались того, что их сразу же убьют. Но нет, Богислав поначалу отобрал у них винтовки, а уже потом он с камрадами нажали на спусковые крючки. Когда он же сдирает с радиотелеграфистки форму, обнажая мягкое, белое тело, светлые волосы на лоне, мягкие, коричневые соски, которые тут же съеживаются на морозе, он думает о том, что, в принципе, нужно было сразу стащить с русаков шинели, потому что мороз дает о себе знать; ночью можно было бы дополнительно укутаться, а от дырявых и окровавленных никакой пользы. Девушка лежит голая на собственной шинели, она не защищается, только шепчет собственную молитву. Богислав раздвигает ей колени, ложится сверху, расстегивает пояс и пуговицы ширинки, и насилует ее: быстро и спешно, не рассусоливая. Один камрад сбежал блевать, когда увидел трупы, зато второй громко подшучивает и подгоняет Богислава, поскольку он тоже желает сказать этой вот даме парочку ласковых. После короткого спазма Богислав поднимается и отходит в сторону, поправляя форму; камрад же переворачивает девушку на живот, насилует, после чего Богислав вытаскивает пистолет и стреляет.
Богислав считает, что это война сделала его тем, кем он сейчас является. У него не осталось ничего от юношеского задора, который переполнял его во время дороги на фронт. Богислав знает, что превратился в скотину, но считает, что во всем этом виноват не он сам, а Сталин вместе с Гитлером.
А потом поднимает руки, когда ствол ППШ толкает его в грудь. В километрами тянущемся строю пленных он плетется на восток, их форма с каждым пройденным километром меняется. Из символа принадлежности, носимого с гордостью и честью – орел на левой груди, ленточка Креста на пуговице, знаки отличия на правом кармане – она превращается в клубы тряпья, носимого с иллюзорной надеждой сохранить тепло. Русская шинель, завязанный на голове женский платок, обмотанные тряпьем руки. Богислав думает, что взявший его в плен советский солдат был хорошим человеком, ведь он мог его попросту застрелить, и никто бы ничего не заметил. На самом же деле у Тимофея Кирилловича просто не было уже патронов, так что он толко пугал немца бесполезным ППШ с пустым магазином.
На счастье, вместо Магадана он попадает силезскую шахту. Ежедневно он спускается вниз, из последних сил работает по четырнадцать часов и отупевший, обессиленный возвращается на лагерные нары, уверенный в том, что уже умер. Проходят годы, он же погружается в апатии, разум и душа уподобляются телу. Они становятся сухими, жилистыми, устойчивыми – и избегают всякого лишнего движения, как будто экономя себя на будущее. Когда он лежит на нарах, то не размышляет, не тоскует, не считает дни, не вспоминает о женщинах, о доме, не ожидает посылок (которых ему и так никто не присылает) и не мечтает об амнистии, нет у него никаких надежд или желаний. Он становится животным. Ежится под ударами, которые наносят ему охранники-евреи, и не чувствует к ним никакой ненависти. Он их не боится, к побоям и издевкам относится так, как настоящие люди в истинном мире относятся к мелким неудобствам, следующим, допустим, от погоды. Разве дождь кто-нибудь ненавидит? Нет приятелей, нет врагов.
На нарах рядом с номером 32829, который когда-то был Богиславом, ложится новый заключенный, низкий и худой, в толстых очках в роговой оправе. Я – ксёндз Смоллка. Ich bin Priester Smollka. Je suis prêtre Smollka. Он неспешно представляется на нескольких языках, не замечая какой-либо реакции в глазах товарища по несчастью. 32829 даже не производит жестов, свойственных человеку, желающему избавиться от чьей-то компании. Он не отворачивается демонстративно на другой бок, не избегает зрительного контакта. Не срывается с нар и не валит нового заключенного кулаком в лицо, чтобы показать, кто здесь главный. Просто у него имеется собственная стена, которую никто не пробьет. Никто.
Только ксёндз Смоллка в лагере находится не случайно, ибо ничего случайно не происходит. Он знает, что у Бога в отношение него имеется план, и в лагерном бараке он может совершить столько же или даже больше, чем совершил бы с барочного амвона, провозглашая окончательные вещи шахтерам, их толстым женам, их жилистым отцам и матерям с толстыми руками и широкими задами. Эти спокойные силезцы, которые живут так, как будто бы ничего не изменилось, лояльно работают на своих грубах (шахтах – силезск.) и гутах (металлургический завод – пол. и силезск.), ибо так следует, как они работали на Гитлера, точно так же работают и на Сталина. Они работали бы и на Наполеона, и на Чингисхана, потому что мир устроен так, что без двадцати пять нужно подняться, идти семь километров до работы, переодеться, спуститься вниз, отработать смену, после сигнала подняться we šole na wjyrch, přeblyc śe i lyźć sedym kilometrůw duma, na úobjod. A w ńydźela úobly śe čorny ancug i iść na mšo (в лифте наверх, переодеться, пройти семь километров домой, на обед. А в воскресенье надеть черный костюм и отправиться на мессу – силезск.). Таков порядок вещей. И точно так же, как выжили они в своей верности по отношению к властям, хотя повелевают ими воплощенные дьяволы, точно так же верны они в отношении собственного faroř'a. Они не вступают ни в партизаны, ни в партию. Они надевают белые сорочки и под летним солнцем, под звуки труб, в стране, находящейся под властью грузинского дьявола, шагают за проносимыми по улицам Святыми Дарами, как будто бы власть этого Юлиана Отступника[84] двадцатого века не распространялась на улицы силезских деревень и городов. Словно бы щупальца катовицкого Управления Безопасности не могли скользнуть на мостовые, полируемые подошвами и коленями процессии. Богу – божеское, Сталину – сталинское. И жизнь в семейных домах катится в ритме литургического года, а в Сталиногроде, который когда-то был Катовицами, толпы по воскресеньям сходятся на обедню. В каждом из них сидит раб и одновременно патриций, потому что работают одинаково совестливо, точно так же, как с безразличием презирают обычаи и ритуалы новой власти.
И вот как должен их евангелизировать ксёндз Смоллка? Что может сказать им, кровь от их крови, но такой непохожий, ибо пылающий святым возмущением, несогласием с миром. Ему хотелось бы вырвать их из летаргии. Ну как же вы можете, кланяетесь Богу, а потом идете в шахту и, вырывая у земли груды угля, служите дьяволу, что убивает в Сибири ваших же братьев о вере. Ваши сыновья, которые не вернулись с войны, сидят по лагерям на Колыме или здесь, в Швентохловицах, а вы плачете по ним, но каждое утро спускаетесь в шахту, чтобы дьявол мог ваш труд перековать в новые танки и винтовки, чтобы поработить оставшийся мир. Несмотря на напоминания епископа, риторику он не поменяет. Тронул ли он сердца своих прихожан – ему было неизвестно, зато сердце дрогнуло у нескольких сексотов УБ, которые посещали мессу по обязанности. И от той дрожи до бесчеловечных допросов и лагерных нар ксёндза повела краткая и быстрая дорога.
Следовательно, он станет нести Евангелие там, где несли свет Доброй Вести[85] те, могущество и власть которых передал ему епископ, возложивший ему ладони на голову и сделавший священником. Раз он отдал свою жизнь Иисусу, то верит ему без всяких оговорок. Раз Господу понравилось поместить его в узилище, то, видать, именно здесь его место. И начать ему следует с того человека, который лежит на нарах рядом.
И ксёндз Смоллка говорит, а душа Богислава – превратившаяся в сплошную фиброму, иссохшая, мертвая 0 потихоньку, но под влиянием слов священника, оттаивает, размягчается, возвращается к жизни. Через три недели он впервые отзывается, а уже через два месяца Богислав Фрайхерр фон Тшивитц исповедался о всей своей жизни.
И священник Смоллка начал выкапывать христианина из-под всех тех завалов трупов, из-под изнасилованной девушки. Богислав когда-то был лютеранином, но он уверен, что во всех беленных молитвенных домах мира нет и той частицы веры, которой обладает обращающийся к нему ксёндз.
Четыре года длится формирование, которому священник подвергает это молодое чудище, поначалу спущенное с цепи, а потом избитое и закованное в цепи, порабощенное и сломанное. Из убийцы и насильника, хуже того – из раба он выковывает христианина. От тифа он умирает лишь после того, как заключенный 32829 становится свободным человеком, спокойным и отважным, уверенным в собственных убеждениях, внутренне собранным и наполненным силой. Если бы кто-нибудь мог заглянуть в душу Богислава, осознавая при том условия, в которых совершается перемена, никогда не поверил бы, ибо даже в уютных стенах семинарий преподавателям редко удается достичь такого искусства. Но ксёндз Смоллка вовсе не удивлен, поскольку чувствует себя лишь скромным помощником Христа. Умирает он в спокойствии. Последняя беседа, которую он делит с поморским аристократом, говорит о монастырях, призванию к уходу от мира в созерцательных орденах о монашеской идее от Бенедикта до нашего времени.
Богислав молит дать свободу, поскольку желает выйти из узилища и вступить в монастырь. После нескольких дней жарких молитв он неожиданно понимает, чего желает от него Господь, и больше он уже не молит о свободе, поскольку он уже и так свободен. Он целует руки охранникам, которые избивают его еще сильнее, и молится за них. И вот однажды, спустившись вниз, он понимает, что уже никогда не увидит солнца и неба. Он попросту знает об этом и считает, будто погибнет в шахте. Так что он пытается поговорить с охранником, но только получает дубинкой по ребрам, говорит с товарищами-заключенными, только те давно уже относятся к нему как к сумасшедшему. Когда опора лопается, Богислав уже готов. Pater noster, qui es in caelis. К собственному изумлению, он не гибнет. Он припоминает гимназию: а вот "небеса" на латыни следует произносить "келис" или, скорее, "челис"? Порода, сорвавшаяся с потолка, отделяет его от других заключенных и охранников. Богислав гасит лампу, садится на угольный пласт, опираясь на черную, смолистую темноту, спрашивает: "Herr, hast fur mich als Busse fur meine Sunden den Tod vom Durst vorgesehen?" (Господи, не назначил ли ты за мои грехи смерть от жажды? – нем.). Ему, осужденному, не принадлежит привилегия свободного горняка – до свободного шахтера, живого или мертвого, всегда доберутся спасатели, которые будут рубить породу так долго, пока не найдут или тело, или самого человека. Свободный горняк мог бы просто сесть и ждать в уверенности, что за ним кто-нибудь да придет. А он, 32829, может быть уверен – никто не придет. В канцелярии писарь сделает соответствующую приписку в дело, его вычеркнут из учета, миску и одеяло сдадут на склад, и конец. Богислав не боится смерти, но при мысли о муках умирания от жажды у него трясутся руки, поскольку он прекрасно знает, что это означает – когда-то он сидел в карцере, без воды, целых четыре дня. И тут он чувствует на лице легкое дуновение. Раз есть дуновение, раз воздух движется, это означает, что где-то может быть и выход. Он зажигает фонарь, ищет и находит. Sanctificteur nomen tuum (Да святится имя твое – лат.). Завал приоткрыл фрагмент прохода в старый коридор, узенькую щелку. Богислав худ, так что он протиснулся и вдруг очутился в штреке, в котором никогда до этого не был. У Господа имеется план в отношении моей жизни – думает Богислав и просто идет по том штреку, который, теперь он уже это знает, соединяется с другой шахтой. Adveniat regnum tuum (да приидет царствие твое – лат.). Он спотыкается на старых шпалах и погнутых шинах; когда доходит до штрека побольше, заворачивает. У Бога имеется план в отношении моей жизни. Он не знает, что произойдет. Его обнаружат шахтеры, свободные шахтеры, выведут наружу, и он снова попадет на свои нары. Охранники посчитают это попыткой побега и забьют его до смерти. Deine Wille geschehe, auf Erden, wie im Himmel (и да будет воля Твоя, яко на земле, тако и в небе – нем.). Тихое и отдаленное эхо слов, которые в совершенно иную эпоху исходили из сморщенных губ кашубской няньки – Będze wólo twoja, jak v njebje, tak na zemji – и отекали маленькое тельце последнего дворянина, что родился в поморском дворце, прежде чем по воле трудящихся городов и деревень его превратили центр социальной помощи. Через пару часов он слышит шаги. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra (и да будет воля Твоя, яко на земле, тако и в небеси – лат.). "Сикут ин чело" или "сикут ин кело"?
Шахтер, который пришел отлить в давным-давно не используемом штреке и обнаружил там человека в лохмотьях, сразу же ориентируется, с кем имеет дело. Он решает помочь осужденному, которого охранники лагеря наверняка посчитали мертвым. Он оставляет ему свой тормозок, воду в бутылке и приказывает ожидать. Panem nostrum catidianum da nobis hodie (хлеб наш насущный даждь нам днесь – лат.). Богислав ожидает.
Той ночью, первой ночью без утра, без начала и конца, Богислав принимает решение. Раз уж отцы-пустынники[86], о которых рассказывал ему отец Смоллка, бежали в пустыню, чтобы быть ближе к Богу и подальше от мытарей, тогда он сделается отшельником в шахте. Свои грехи станет искупать, не видя уже никогда света, будет молиться, станет жить из милости шахтеров, на то, что те пожелают ему принести. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris (и прости нам наши прегрешения, яко мы прощаем должникам нашим – лат.). Если же они не пожелают, он сам умрет, все в руках Господних. Чтобы бездеятельность не становилась для него возможностью грешить, он тоже станет работать, добывая уголь. И, чтобы не удовлетвориться только лишь намерениями и добрыми пожеланиями, он берет лом, который забрал с собой из завала, и бьет ним в стену. И еще раз, оставляя на породе тонкую трещину.
В первый день, который днем является лишь хронологически, поскольку солнце под землей не встает, Богислав сообщает шахтеру, который с двумя приятелями пришел забрать его на поверхность ("kaj my lo wos naśikowali jaki stary ancug, ščewiki, troska pjyńyndzy i joduú, co byśće mjeli, jak bydźeće do Raichu ućekać. Bo wyśće sům ńymjecki wojok, pra?" (мы тут для вас приготовили старую одежду, обувку, немного денег и еду, чтобы у вас чего было, когда станете бежать в Германию, ведь вы же немецкий солдат, правда? – силезск.), что наружу выходить не станет. Своего решения не поясняет, только лишь покорно просит, чтобы ему через день приносили немного хлеба и воды, столько лишь, чтобы выжить. Еще просит принести ему распятие, молитвенник – лучше всего, бревиарий – и свечи, либо запас карбида и воды для лампы, чтобы иметь возможность молиться. А помимо указанного, больше ни в чем не нуждается.
У простых людей есть дар чувствовать и понимать безумцев Божьих, который исчезает по мере того, как человек становится ироничным и отстраненным. Горняк и три его товарища не знают, что русский народ знаком с юродивыми, но они без труда чувствуют, что человек, с которым они сейчас разговаривают, является кем-то больше, чем обычным психом. Без слова они соглашаются.
Богислав начинает ломом в породе выбивать себе скит. Карбид с шипением падает в воду, трещит спичка, и ацетиленовый огонь освещает мрак. Богислав тщательно отделяет уголь от сланца и складывает добычу в кучу – когда приходят его новые опекуны, он отдает им плод своего труда. Они же передают ему еду, один из них грузит уголь на тачки, а первый, который Богислава нашел, опускается на одно колено и просит его благословить. Могу ли я благословлять тебя теми самыми руками, на которых кровь невиновных? А Господь в голове Богислава говорит ему – да, теми самыми руками, на которых кровь невинных. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo (И не введи нас во искушение, и избавь нас ото зла – лат.). Так что он благословляет и просит водные часы-клепсидру на час. Ханыс, первый горняк, изготовляет ее собственноручно, подогревая стекло горелкой. И вот по этой вот клепсидре Богислав начинает жить: молитва, работа, отдых. В круг опекунов подземного пустынника Ханыс и друзья посвящают еще троих, и каждый их них берет себе прозвище по дню недели – именно под этими именами Богислав их и знает – они считают, что в случае провала это затруднит работу убекам. Богислав много и не требует, а их жены совершенно не протестуют, когда Среда говорит: "Dźiśej dej mi do taše wjyncy klapšnitůw, bo we środy jo mům gúůd" (Сегодня положи-ка в сумку побольше бутербродов, потому что по средам есть хочется сильнее – силезск.). Воскресеньем становится священник, викарий в одном из недалеких приходов, который, правда, не в состоянии еженедельно спускаться вниз, чтобы провести для пустынника мессу, но ежемесячные интервалы почти что выдерживаются. Богислав помнит каждое причастие, которое принял в течение всей своей долгой жизни. Каждое, хотя все они совершенно одинаковы, проходят они в том же интерьере черного скита, освещенного шипящим огоньком карбидной лампы. И каждый раз он принимает того же самого Христа, но помнит каждое причастие по отдельности. Quia tuum est regnum et potestas et gloria (Ибо твое есть Царство и сила, и слава – лат.).
Посвященные занимаются опекой над Богиславом, которого все уже называют "fater", а когда кто-то из них навсегда уходит из gruby, назначает своего наследника, чаще всего: сына или ближайшего родственника. Понимание важности жизни отшельника в соединении со страхом перед УБ, а потом и СБ, приводит к тому, что никто из них никогда и никому ничего не выдает. За свои сорок лет жизни под землей пару раз отшельник находился в шаге от разоблачения, но в таком случае опекуны убеждают любопытствующего, что фигура, которую он видел, это Скарбник, страж подземного царства. Кому-то, кто видел сгорбленную, длинноволосую фигуру Богислава, опирающегося на лом, нетрудно было поверить в легенды про шахтный дух. Остальные делились на скептиков, которые смеялись над суевериями, и на верящих, которые боялись.
Сейчас ни один из Дней Недели уже не тот, что вначале, хотя Понедельник, Пятница и Суббота еще живы. Сгорбленные, жилистые старики иногда спускаются в шахту, другие этого стараются не замечать. Вроде как ходят, осматривают старые штреки и лавы, после чего теряются в паутине коридоров, по которым их ведут их сыновья или внуки, после чего ненадолго гостят у своего fater'a.
In saecula. Amen (Во веки веков. Аминь – лат.).
Шестьдесят лет затворничества, шестьдесят лет жизни, проведенной в темноте, в молитве и в трудах, на нищенском хлебе. Шесть десятков подобных лет приближают человека к Богу так близко, как только можно приблизиться при жизни.
Ксёндз Янечек после этой добровольного, интимного и внутреннего показа, который в пару секунд открыл ему шестьдесят лет жизни человека, прошедшего дорогу от чудовища до святого, понял, зачем шахтеры привели его в шахту. Теофил Кочик должен был догадаться или же почувствовал присутствие, и вот он доставил его сюда, к этому отшельнику-святому, чтобы тот его проверил. И хорошо, пускай проверяет.
- Выйдите отсюда все, - приказал Богислав горнякам. Воцарилась тьма.
- Как-то раз ко мне пришел Христос, - продолжил старец хриплым голосом и на странно звучащем польском языке. – А я сказал ему: вали отсюда! Пошел отсюда, урод! И он тогда ушел. Поскольку я знал, что не достоин видеть Христа в этой жизни. А раз я не достоин видеть Христа, то как же тогда он мог мне показаться?
Он замолчал. Подземный скит заполняла тишина, которую никогда не услышишь на поверхности, тишина абсолютная и темная. Двое мужчин стояли друг напротив друга, словно ободранные от плоти. Голос отшельника, не нарушая этой тишины, звучал теперь прямо в голове ксёндза Янека. – Неужто Господь собирался нас обмануть? Неужели собирался обмануть собственную Церковь и заставлять нас две тысячи лет верить в неправду?
Нет! Но ведь так! – размышляет ксёндз Янечек.
- Свят ли ты? Настолько ли чиста твоя душа, чтобы принять причастие? Это может каждый человек, который смоет в себе грех в таинстве покаяния. Чего же большего нужно, чтобы иметь Иисуса в сердце, есть тело его и пить его кровь? Нужно ли для этого иметь Иисуса еще и в собственной комнате? Грех нарушает Божий порядок…
Но ведь Он ему объявился. Вот взял просто так и пришел, ведь, возможно, ему разрешено!
- Он дал тебе силу. Глядеть в людскую душу, пронзать ее насквозь. Нечто большее, чем имели величайшие исповедники – но он дал тебе эту силу и никак не связал ее с таинством покаяния. Ты можешь читать в людях, а потом писать об этом в газету, так? Он не наложил на эту силу удил, которые наложил на каждого священника – тайны, прощения, возможностью быть ухом Господним.
Я исцелял! Больных детей!
- Он вошел к тебе через калитку твоей гордыни. Тщательно ощупал тебя изнутри и почувствовал, что у тебя болит, после чего попросту нажал. Ты – философ, из хорошего варшавского семейства. Жрец студентов, поверенный тайн умных, изысканных и светлых умом людей – ты, и в деревне! Силезской деревне, населенной сухими, безразличными и неумными людьми. Так что он бросил тебе приманку – вот, я прихожу к тебе, лично, Бог – к человеку, лицом в лицо, я унижаюсь, чтобы быть равным тебе. Тебя, жаждущего, не нужно было долго уговаривать выпить из того источника. В одном он тебя не обманул, поскольку такого даже он не способен. Он ничего не сказал об Евхаристии[87], ибо ткани этого чуда ничто не способно нарушить. Ты священник и каждодневно совершаешь величайшее чудо, что повторяется во всех храмах всей земли: ты берешь в руки хлеб, и в твоих пальцах он превращается в тело нашего Бога. Ты, ближайший свидетель и движитель этого чуда – Христос приходит по каждому твоему желанию – поверил в штучки фокусника. А во всем ином и в иных обстоятельствах: он лгал – мало того, признавался в собственной лжи, ибо если в твоей комнате говорил правду, тогда лгал две тысячи лет назад, в Палестине, и наоборот. Так что он признавался тебе открыто – я лжец, великий обманщик, я обманул те миллиарды людей, что населили землю. А кто у нас лжец, священник?
Да нет, должно быть ты ошибаешься. Я исцелял. Девочка, маленькая, больная белокровием, в хосписе. Умная такая, которая знала, чего в жизни не попробует и чего не увидит. Ты видел благодарность в ее глазах, когда я отобрал у нее болезнь? И это должно быть плохим?
- Человек малой веры! Ты распахнул ему еще одну калитку. Сколько раз ты думал, глядя по вашему телевизору на голодающих детей или на деформированных детей, которые рождаются и пугают своих матерей – да как же Господь может такое позволить? Только лишь потому, что не способен этого понять, ты обвиняешь Бога в жестокости? Ты что же, с ума сошел? Когда мать не разрешает ребенку играть на подоконнике распахнутого окна, малыш тоже может считать, будто бы мать жестока, но ведь ты же взрослый мужчина, священник Церкви, и ты позволяешь исправлять Божьи решения:
В штреке замерцала лампа. Четверг заглянул в пустынь.
- Fater, to juž bydům dwje godiny. Wjela ješče? (Отче, это уже два часа. Сколько еще? – силез.).
Два часа! В темноте и тишине ксёндзу Янечку показалось, что прошло минут пятнадцать.
- Да все уже. Придите через пять минут, будет месса. А теперь, ксёндз, я прошу вас меня исповедовать.
- Я должен отца исповедовать? – воскликнул викарий. – На мне ведь огромный грех лежит!
- А какое это имеет отношение к делу? Садитесь здесь, священник, и исповедуйте.
Викарий присел рядом, и внезапно до него дошло, что от Богислава не несет неприятным запахом. Человек, который уже шестьдесят лет живет под землей, не моется – и не воняет. В штреке воняло, в самой пещере тоже чувствовался запах душной затхлости, но вот сам отшельник запаха не имел.
- Пан ксёндз помнит формулы по латыни?
Ego ti absolvo… (Исповедую тебя – лат.).
- Помню, - ответил Тшаска. И они начали.
Перед викарием открылся мир воплей в темноту, мир пугающего одиночества, которое, раз за разом, прерывается ужасными посещениями чудищ, которым, похоже, до подземного скита совсем близко. Мир страха и покрытых чешуей лап, которые из ненависти ко всему, что свято, затыкают нос и уста спящему. Мир громадной, скручивающей тоски по золотому полю пшеницы, ладони в руке отца и прикосновению колосьев, по солнцу, вызывающему, что волосы сохнут сразу же после выхода из реки. Мир страшнейших вопросов: а вдруг все это напрасно? И когда о нажал на спусковой крючок, а тело девушки вздрогнуло, из-за того, что его рванул кусок свинца. И приходят к нему все, которых он когда-то убил – это "когда-то" такое отдаленное, для ксёндза Богислав точно так же мог бы рассказывать о зверствах галльской войны – а он их боится, дрожит от испуга, что его схватят и потянут его в преисподнюю, от которой из подземелья так близко.
- Ego te absoho a peccatis tuis. In nomine Patris, et Fiili, et Spiritus Sancti, Amen (Отпускаю тебе грехи твои. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь – лат).
Голова отшельника опирается на плечо ксёндза, божий человек всхлипывает, когда руки ксёндза очерчивают знак креста, сопровождая латинские слова. Вот могущество, зачарованное в слабость, поражение в победе, величие в малости, святость в грешности. Преступник, который кается за грехи собственные и всего мира. Камедул преисподней, закопанный в подземельях, который обрек на молчание не только собственные уши, но и глаза на вечную слепоту.
Шахтерские лампочки осветили божественную тьму. Горняки устанавливают в келье, под угольным пластом, алтарь, зажигают на нем свечи. Они же вручают ксёндзу Янечку старый служебник.
И в адской пропасти, практически касаясь подошвами рогов самого Повелителя Мух[88], ксёндз Янечек проводит Евхаристию, по латыни, в старинном тридентском обряде из служебника отшельника, до которого еще не добралось aggiornamento[89]. Когда он в пальцах поднимает вверх кусочек облатки, украденной сумасшедшим парнем из костёла, перемолотые зерна, склеенные водой, что превращаются в самого Бога, возвращают ему веру и спокойствие.
Ксёндз Тшаска причастил отшельника и стоящих на коленях шахтеров, в подземной каверне воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим бормотанием, исходящим из губ Богислава:
- Победишь его огнем, двумя видами пламени. Одно должно гореть при сердце твоем, спрячь там облатки, этим победишь его в себе. А второй, земной огонь, пускай сожжет то тело, которое он принял.
Ксёндз прячет освященные облатки в банку и вешает ее себе на шею. Глаза Теофила Кочика горят, ибо Теофил слышит, как черви переползают между камней и шепотом делятся между собой дьявольскими секретами. Он слышал их, когда все возвращались по черным штрекам, слышал их даже в подъемнике, несмотря на грохот проходящих через блоки тросов и цепей; их голоса, перепуганные и смущенные, утихли лишь после того, как все они выехали на поверхность.
- Они боялись, пан ксёндз, боялись Иисуса, что у ксёндза в этой вот баночке, - прошептал он викарию на ухо, когда уже они тихонько крались через шахтный двор к дыре в ограде.
Обратная дорога ксёндзу Янеку показалась еще более длинной, тем более, что начал падать свежий снег, и большой "фиат" на лысых шинах медленно катил по скользкой дороге, занося зад на каждом повороте. Он сидел на заднем сидении машины, вновь в своей вытертой сутане, со Святым Причастием, спрятанным в золотистой коробочке на груди. В руках он держал надрезанную накрест тротиловую шашку с воткнутым в нее запалом.
- Fater pedźeli, že tym moće špryngnůnć caúo fara (Отец сказал, что этим вы сможете всю плебанию поднять на воздух – силезск.), - сообщил один из горняков, вручая ему бомбу.
Светало. Когда они, в конце концов, подъехали под плебанию, припарковались на площади и вышли из машины, сделалось уже совсем видно. Этим бледным, осенне-зимним утром под домом приходского священника собралось десятка полтора людей. Не местные, закутанные в толстые слои одежды, притопывали ногами и потирали руки, выпуская из ртов клубы пара и табачного дыма. Увидав священника, все погасили сигареты, утихли и замерли в ожидании, то ли все сейчас отправятся в костёл, то ли им придется ожидать здесь, перед плебанией.
Должен ли я им объяснить? Сказать: "Люди, я лгал в доброй вере, но представил вам фальшивое свидетельство"? Ибо их я обманул вдвойне, к счастью, возможно, не разрушил их простой веры простых людей. Все с любопытством глядели на серый предмет в руках викария – кто-то из шахтеров узнал взрывчатку, они начали перешептываться, но сразу и замолкли, священнику верили.
- Идите в костёл, люди. А мне тут нужно еще кое-что сделать.
Все пошли. Две фигуры, побольше и поменьше, как-то мялись, и наконец ошеломленный ксёндз Янек узнал в них Малгожату и Аню. Журналистка отсоединилась от направляющихся в храм людей, подбежала к ксёндзу, опустилась перед ним на колени и поцеловала ему руку.
- Она здорова, пан ксёндз ее исцелил. Я порвала свое удостоверение, уже позвонила в редакцию, что уже у них не работаю. Пан ксёндз изменил мю жизнь, вернув жизнь Ане.
- Иди в костёл, - сухо, сквозь стиснутое горло, произнес викарий Янек, когда же женщина ушла, он поднялся по ступеням и вошел в плебанию, тщательно закрывая за собой дверь.
Иисус-не Иисус сидел в кухне, за столом, прихлебывая чай из выщербленной чашки.
- Ну как, раздумал? – спросил он.
- Кто ты такой?
- Да прекрати, ксёндз. Ты же прекрасно знаешь. Моя ли в том вина, будто ты поверил, что к тебе вот так вот пришел Иисус в компании архангела Михаила? Я отверг каждый догмат твоей веры, не обманывая, в то же самое время, в отношении своей собственной натуры, я говорил святотатственные вещи, а ты, глупец, будто бы я Сын Божий?
- Я отошлю тебя назад в преисподнюю, сатана, - прошептал ксёндз.
- Да не парь голову, ксёндз, второй раз тебе говорю. О-кей, мы не были с тобой до конца откровенными. Только что это меняет? Я выбрал тебя, потому что ты, пан ксёндз, мне нравишься. Пан ксёндз гордый, интеллигентный, решительный и сильный. Это даже к лучшему, что вопрос решился, потому что теперь мы можм играть с открытыми картами. Я желаю, чтобы пан ксёндз привел ко мне людей, соблазняя их исцелениями, теми силами, которые я дал ксёндзу – а ведь дам и новые. А чего за это ксёндз желает? Обожания? Я дам его ксёндзу – уже дал. Власти? Женщин? Денег? Величия? А не желает ксёндз сделаться кардиналом Ришелье? Наполеоном? Сталиным? Президентом США? Повелителем всего мира? Да что там, у меня куча планет, одну могу презентовать ксёндзу. Я дам пану ксёндзу бессмертие, власть, могущество, перед паном ксёндзом согнутся шеи царей, свои уста и ноги перед ксёндзом разведут все женщины.
Вместе со словами Дьявола кухня фары исчезла. Они вдвоем стояли в пустоте, а сатанинский пересчет вожделений тут же призывал их к жизни. Перед священником не появлялись образы, Сатана вовсе не устраивал для него кинопоказ; все искушения он делал реальными, давал их попробовать в целостности, словно коммивояжер, который самому лучшему свему клиенту дает на пару дней новейшую модель изделия фирмы, чтобы тот, попользовавшись им, убедился, сколь сильно он его жаждет.
Когда Дьявол произнес "власть", ксёндз Янечек перестал быть ксёндзом Янечком. Он сделался Иоанном. Иоанн восседал на троне (Слишком старомодно? Естественно, никаких опасений!) – нет, за громадным письменным столом кабинета, в пентхаусе самого высокого небоскреба. Сквозь окружающие его окна он видел мир, весь мир, над которым обладает властью, посредством армии послушных чиновников, посредством жидкокристаллических экранов на столе, посредством бесед, что ведутся в креслах из коричневой кожи, с сигарой и с коньяком. Он сидит и уже не носит занюханную сутану, на нем костюм из мягчайшей шерсти, шелковая сорочка и галстук, скромные до отвратительной роскоши часы на запястье, а перед ним, в креслах, сидят сильные мира сего, только они не развалились с удобством, не закидывают нога за ногу, как он, не затягиваются сигарным дымом и не наслаждаются вкусом коньяка. Все сидят, выпрямившись, счастливые тем, что он – он, Иоанн - вежливыс жестом пригласил их присесть. Они поблагодарили за сигары – а может он их слишком балует? – и держат их в руках, словно реликвии. Сигару, которую и в самом деле сворачивала на своих нагих бедрах кубинская девушка в расцвете женственности. Табачные листья трутся о коричневую кожу, которая упруго поддается под нажимом длинных пальцев, по внутренней стороне ляжек, под закатанной юбкой она не носит трусов, ее же ладонь ласкает мягкие складки ее женственности, листья забирают с собой ее чистый и крепкий запах и переносят его на себя. Уйди, исчезни, человечек – так что тот отступает задом, маленькими шажками, изгибаясь в поклонах, а вместо него появляется та самая девушка, она сидит в закатанной наверх юбке, переполненная преданности и любви, но вместе с тем она полна отваги, решительности и сексуального желания. У нее имеются юбка, свободный, расшнурованный корсет и белая сорочка, словно бы прибыла к нему из девятнадцатого века, из корсета выглядывают груди с набухшими сосками, она раздвигает ноги, потихоньку, медленно, и наконец полностью – сидя на краю кресла, она раскрывается перед ним. И превращается во всех женщин мира, она носит соблазняющие одежды всех эпох, она вмещает в себя все извращения мира в их наиболее благородных, художественных, лишенных гротескности проявлениях. Вот она стоит на высоких каблуках, в чулках, нагая и властная, а он стоит перед ней на коленях, он ее раб, он, повелитель мира, превратился в мальчика, он маленький и беззащитный, а она – его учительница, хозяйка, она могущественная и сильная. И вновь он – мужчина, а они – потому что их множестьво – вьбтся перед ним на атласном постельном белье, их языки, словно змеи, всовываются меж всеми губами; их ладони, тела – идеальные, гладкие, упругие, с напряженными ягодицами и тяжелыми грудями, а он уже вовсе не худенький попик, он – прекрасный мужчина: высокий, сильный, мускулистый, но худощавый, мышцы живота очерчивают благородные линии, словно вырезы в корпусе скрипки, и он берет их всех, на этой постели, а они выгибаются под ним, изгибают позвоночники, выпирая к нему манящие попки, вонзают ногти его твердые ягодицы, он же их наполняет, разрывает; они кричат, широко раскрывая рты. Чего желаешь больше?
Сам видишь, я даю тебе все. Все.
- Уходи прочь, Сатана, - шепчет ксёндз Янек, отрывая свои губы от женских уст.
Имеются и другие способы. Не желаешь морковки, можешь попробовать еще и кнута.
Он целует труп. Ее язык, набухший и черный, еще находится в его устах, а из-под совершенно белых глаз и век выползают черви и ползут по синей коже; кожа полностью сгнила и под прикосновением его пальцев отходит с чавканьем, открывая плоть. И труп шевелится, обнимает его руками, с которых сходит мясо. Страх поначалу проклевывается, затем расцветает и, наконец, заполняет всего Тшаску, превращается в перепуг, нет ничего, нет Бога, нет мира, нет матери и отца, есть только он, он, маленький червячок, пылинка, придавленная громадьем пустоты, слабости; а он такой малюченький. Но где-то, на самом конце света, на горизонте событий, имеется точка, что растет и преращается в светящуюся фигуру, прекрасную и светлую, которая протягивает ему руку, и в фигуре этой - надежда и дружба.
Один лишь я твой друг, только я тебя люблю. Только лишь я.
- Уходи прочь, Сатана, - остатком сил шепчет ксёндз Янек. Да, я слабее тебя, но si Domini pro nobis, quis contra nos? (если Бог с нами, тогда кто против нас? – лат.).
И снова они на кухне, в плебании, а Люцифер – светлый и прекрасный, наибольший, самый могущественный дух, глядит на человека, на человечка, на этот наполненный дерьмом мешок из мяса, на это уродливое создание, которое должно жрать, пить, срать, которое потеет, воняет, болеет, сдыхает, и он – Несущий Свет, боится этого несчастного созданьица.
Ксёндз Янечек кладет на столе серый куб тротила, поворачивается и желает выйти.
Люцифер хватает его за руку, и теперь они стоят во дворе дробцицкого костёла, опираясь на барьер и поглядывая на сидящих на лавках людей. Костёл заполняют те, которых ксёндз Янек исцелил, молодые и старые, женщины и мужчины, они молятся Богу, благодаря его за чудесный возврат к жизни.
- Ты отберешь у них то, что дал, заберешь надежду. Как и все, что взялось от меня, их здоровье исчезнет, как только ты от меня отвернешься.
Они стоят напротив Ани, которая стоит на колянях рядом со своей новообращенной теткой.
- Ты заберешь у нее то, что дал ей – надежду на жизнь. Может ли быть что-либо более страшное: вернуть здоровье смертельно больному, после чего его отобрать?
Ксёндз Янек чувствует, что мякнет. Все они, что сидят здесь, а преждк всего, те которые близки ему: Кочик, Аня – умрут, поскольку он желает спастись сам.
- Быть может, это та жертва, которую ты обязан понести, Янек. Может, ты обязан взять на себя проклятие, чтобы они могли жить. Ты повторишь жертву Христа, умрешь за них вечной смертью, но более благородной, потому что не воскреснешь.
Янек, ксёндз Янечек, отворачивается от Несущего Свет и желает кивнуть, согласиться и слиться с лучащейся фигурой. Он уже балансирует на краю, он сделает это ради них, искупит свои вины собственным проклятием,сам же он исчезнет, о нем забудут, он будет страдать целую вечность, ради их счастья.
Но когда он уже валился вниз, в омут сияющих, таких уютных объятий, кто-то схватил его за волосы, потянул к себе, наверх. Черный отшельник, Богислав, шепчет ему:
- Это величайший лжец, пан ксёндз. Вспомните-ка, что следует ему сказать. И ксёндз Янек орет:
- Иди ты нахер, Сатана!
И он сбрасывает лучистую ладонь с плеча. Тшаска выходит из кухни, проходит через коридор, открывает дверь, спускается по ступеням, и вот он уже на дворе. С изумлением он замечает, что короткий зимний день уже прошел, и серый рассвет сменился серыми сумерками. В доме Сатана вопит от страха. Шахтеры, которые весь день терпеливо ждали перед плебанией, греясь в машине, слышат этот вопль. Ксёндз Янечек сует руку в карман, вытаскивает из него черную коробочку с выдвижной антенной и красной кнопкой, прикрытой плексигласовой пластинкой. Тшаска поднимает пластинку, поворачивает кнопку и нажимает на нее.
Глухой грохот на мгновение вздувает стены и крышу плебании, те набухают, словно в мультфильме, и тут же распадаются в огненном шаре взрыва, в священном огне исчезает Несущий Свет, исчезает и сам огонь, замыкаясь в клубе дума и спадающем на землю граде обломков. Кочик выскочил из автомобиля, он вопит от радости словно сумасшедший, смеется и подскакивает в безумной радости.
Викарий думает про собственную статью об инкультурации, подробный конспект которой в обломках жесткого диска упал на ту кучу развалин, в которую превратилась плебания. Из костёла выбегают ничего не понимающие люди. Журналистка, держа за руку свою племянницу, выходит вместе с ними, она тоже ничего не понимает. Одна лишь Анна чувствует, как из ее тела уходит жизнь, которое угнездилось в ней буквально на мгновение, и теряет сознание.
У ксёндза Яна Тшаски нет смелости поглядеть в глаза тем, которые молились в костёле, так что он поворачивается и направляется в лес. Никто его не задерживает, один только Теофил Кочик, деревенский дурачок, идет за своим ксёндзом, с каждым шагом теряя силы. Он догоняет священника, хватает за руку, и они идут вместе, проходят мимо домов, плюющихся угольной пылью, который, вырвавшись из дымовых труб, тяжело стелется по улицам. Серость мира превращается в темень, едва-едва освещаемую уличными фонарями.
- Теофил, Теофил! – взывает снег, взывают черные стволы деревьев. Но ты, Теофил, не слушаешь, не слушаешь. Мир говорит вновь, всей своей мощью, но ты не слушаешь, не слушаешь шум собственной отравленной крови. Ворон повис над тобой в воздухе, трепеща крыльями, перемещается столь же медленно, как ты ставишь шаг за шагом, опираясь на плече ксёндза Янека, которому ты помог – ты, Теофил, совершил в жизни нечто, это ты, из дома бордового дерматина, ты, спасенный из пасти коровы, ты, у которого в голове поселился ворон. Ты, вокзальная падаль, ты, Теофил, за которым мама закрыла дверь, помнишь и остался только ты, та пани, стол и стул из дерматина с черной окантовкой, которая, словно червяк, окружала бордовое скользкое сидение, этот дерматин клеился к твоим голым бедрам, выступающим из коротеньких штанишек, Теофил! Ворон отравил тебе жилы, ворон забрал болезнь, когда из твоей головы перешел в голову ксёндза и выглядывал через его глаза, словно водитель в кабине автомобиля или рабочий в экскаваторе; маленький такой, маленький будто ворон, а движением руки на всех тех рычажках – ты же нагляделся на них, когда спал по стройкам, Теофил – движет огромным ковшом, словно ворон, что сидит в голове, движет рукой человека. Только Черный Дедушка выбросил ворона прочь, далеко, а тот ведь знаком с червяком, который передвигается между камнями в земле, ты помнишь, камушки и песок приятно трутся о гибкое, поделенное на сегменты тельце, малюсенькие ножки, словно реснички, волнуются, отталкиваются от комков земли; Черный Дедушка прогнал их, и они боятся, и ворон висит в воздухе, да,, ты же видишь его, Теофил, как он висит и не упадет в воздухе, не вцепится в твою голову, тебя защищает Черный Дедушка. И ксёндз взорвал плебанию, а у ворона там было гнездо на дымовой трубе, так что сгорели его птенцы, черные, будто уголь, и безглазые, с мягкими клювиками. Но теперь яд, должно быть, вернулся, и ты, Теофил, чувствуешь, как яд несет в твои ноги и руки холод, как снег падает тебе за воротник, как он тает и течет по спине, но ты идешь, Теофил, потому что он идет, поскольку ты должен дойти.
Когда они вступают в лес, Кочик уже совсем слабеет, в конце концов, он падает на землю. Изо рта у него течет кровь, течет из ушей, жизнь уходит из него. Ксёндз Ян понимает это, оба шепчут слова последней исповеди, нет освященных масел, зато имеется Святое Причастие, оставшееся от подземной литургии и, спрятанное в золотистой коробочке, лежало у него на груди, придавая сил во время конфронтации с Дьяволом. Облатка, ставшая уже Плотью Христовой, когда ксёндз подносит ее к губам Теофила, тут же напитывается кровью, что заполняет рот умирающего; Кочик глотает причастие, и навечно уходит.
Никто и ничто уже не обращается к тебе, мир замолк, ты же вздымаешься к единственному Голосу, который скажет тебе: Теофил, Теофил!
Викарий поднимается над мертвецом. Снег падает на стынущее тело, быстро покрывая его белым саваном.
Ксёндз идет дальше, совершенно без цели, чтобы просто идти; он идет, куда глаза глядят, лес переходит в поля, поля сменяются пригородными пустошами, наконец, трясясь от холода, викарий идет среди многоэтажных жилых домов, по улицам, доходит до центра города, которого никак не распознает, и, в конце концов, совершенно обессиленный, он садится на лавке рядом с неоготическим собором и застывает в неподвижности.
- Мама… - шепчет он.
Покрытого с наветренной стороны снегом ксёндза в одной только сутане, сидящего на лавке под костёлом, полицейские из ночного патруля поначалу принимают за жертву какой-то поповской пьянки. Ксёндз ошеломлен, но в полнейшем сознании, полицейские не слышали, чтобы от него исходил запах спиртного, но викарий не отвечает на вопросы, вообще не отзывается ни единым словом. Наконец, пожилой полицейский узнает священника, о котором читал статью в "Новинах Гливицких" и связывает его с взрывом плебании в недалеких Дробчицах, о котором узнал по радио. В принципе, он должен был бы задержать его на сорок восемь часов, но глупо было бы задерживать ксёндза, это было бы как-то по-убекски – причем, ксёндза знаменитого, так что он решил отвезти задержанного в курию, ведь не убежит же тот, а если даже и чего, они скажут, что ничего и не было, что никакого священника вообще не видели.
Они припарковались под курией, старший аспирант[90] нажал на первую попавшую под пальцы кнопку домофона, и нажимал так долго, пока какой-то взбешенный и сонный священник не открыл дверь. Поначалу духовное лицо хотело отругать настырного пришельца, но в самый последний момент сдержался, увидев полицейский мундир. Уже через мгновение он, вместе с представителем власти, вытаскивал озябшего викария из патрульной машины, разбуженный священник успел разбудить других, присутствия которых эта нетипичная ситуация требовала, и сам гливицкий ауксилиарий[91] в зеленом халате побеспокоился пожать руку старшего аспиранта, от всей души поблагодарить его и попросить не разглашать сей инцидент, ссылаясь на не слишком горячие религиозные чувства полицейского, о не слишком высокой температуре которых епископ никак не мог знать. Старший аспирант с партнером находились под впечатлением епископской важности, который удостоил их беседы, так что согласились на все, о чем церковный сановник их просил. Старший аспирант в глубине души представил, а как здорово было бы, если бы епископ сочетал браком его дочку и того придурка, за которого Марыся решила выйти. По крайней мере, хоть что-то пойдет так, как следует.
+ + +
После того, как Янек выгнал его от плебании, Анджей вернулся в Варшаву. Знакомый бумагомарака из "Фактов" не позволил себя уболтать и запустил статью, несмотря на уговоры и угрозы Тшаски. Так что Анджею пришлось заняться отцом, который только из газеты узнал, что его младший сын сделался знаменитым. Анджей Тшаска – младший убедил отца в том, что это заговор агентуры, задача которого заключается в том, чтобы дискредитировать его, Анджея Тшаску – старшего, старого антикоммуниста, члена Движения по Защите Прав Человека и Гражданина. Сначала они вытащат Яся на всеобщий обзор, а потом казнят как сумасшедшего или шарлатана. Отец поверил. Гораздо больше сил Анджею понадобилось потратить, чтобы убедить старика, что помощь от того не нужна, что он, первородный, сам всем занялся и за всем проследит. В конце концов, отец поверил и в это и провалился, тяжело и безнадежно, в ямину кресла. Когда отец заснул, Анджей пошел в кабинет, отверткой вскрыл несчастный замочек ящика письменного стола, просмотрел пару папок и скоросшивателей, обнаружив ту, что искал. Посеревшую от пыли, грязную, зато подписанную. Выходя, он поглядел на дремлющего в кресле отца, задумался – отец никогда бы на такое не согласился. Нам нельзя быть такими, как они, сынок, они воспользовались против нас всем, но как раз его, епископа, сынок, мы должны простить, во имя наивысшего добра. Люди перестанут им верить, но ведь кому-то верить обязаны. Это очень плохо, что Церковь не очистилась сама, Анджей, но сейчас уже поздно, нужно стиснуть зубы и сносить этих вот прохиндеев, а рассчитывать только лишь на Святого Духа. А помимо того, ты же сам понимаешь, сынок, этой папкой мы владеть не должны.
Ага, черта с два. Зяркевич ведь мог бы и сам признаться, а не выставлять свою благородную рожу на каждом телеканале трижды в день, он мог бы и не выставлять себя в роли совести Церкви, народа и всего, вообще, мира. Можно было ведь проявить и немножко смирения, пан ксёндз архиепископ, найти его в себе. Раз уже пан архиепископ не мог признаться, то нужно было бы, по крайней мере, держаться в тени, а не токовать в свете юпитеров и выставлять другим сертификаты моральности либо ее отсутствия. Не нужно было на каждом шагу бить в неотесанную толпу, потому что "неотесанные", временно представленные моей скромной персоной, как раз достало, Выше Преосвященство, и я удар возвращаю. Выше Преосвященство считало, будто бы я блефую, но это я скажу: "карты на стол", Ваше Преосвященство. Прошу вас, пожалуйста.
Анджей накрыл отца пледом, тот что-то буркнул сквозь сон, сын же вышел из дома, уселся в свой автомобиль и позвонил Войтеку Шафранцу из "Впрост"[92]. Весьма спешно они встретились в "альфе" Анджея, припаркованной под редакцией еженедельника; Войтек устроился на пассажирском сидении и, несколько раздраженный, бесцеремонно спросил:
- Ну, чего там у тебя есть?
Анджей вручил ему папку. Шафранец, уставший от вечной гонки, толстый журналист в очках с толстыми стеклами, осознающий собственное будущее, которое за приличные деньги проведет за неудобными письменными столами, а потом откинет коньки на какой-нибудь бляди или же в ходе рождественского ужина среди детей и внуков. Он держал папку двумя пальцами, глядя на выписанный на ней псевдоним.
- Пиздишь, Ендрек, не верю.
- Ты знаешь, кто это? – ответил Анджей, пялясь на витрину газетного киоска, под которым поставил "альфу".
- Бля, ясен перец, знаю, все знают, вот только не верю. Вот не верю, чтобы расписки Зяркевича взяли вот так просто и нашлись. Расписки сами по себе не находятся, сам же знаешь.
- И все-таки, Войтек, и все-таки. Ты открой.
Дрожащими руками Войтек Шафранец развязывает тесемки. Он просмотрел пожелтевшие рапорты и показания, написанные от руки и на машинке.
- И все равно – не верю, это фальшивка. Ну, не знаю, Ендрек, это тебе Рыдзык[93] дал. Или кто-то… ну, не знаю… Вот, Михальчевский Зяркевича терпеть не может, быть может, от него?
Анджей повернулся на сидении и схватил журналиста за плечо.
- Кончай пиздеть, Войтек. Берешь или нет? Мне по барабану, считаешь ты это фальшивкой или нет, но здесь имеются его подписи, идиот. Ты берешь или нет? И решай немедленно. К тебе я пришел к первому, потому что ты мне нравишься, но если нет, флаг тебе в руки, с этим я поеду к Славеку Грабеку, он мне за это руки расуелует.
Шафранец помолчал, тупо глядя на лежащую у него на коленях папку.
- Беру, - сказал он наконец.
- Тогда бери и вали. Пока.
- Пока.
Сопя, Шафранец выбрался из машины и хлопнул дверью. Анджей стиснул пальцы на руле. Извини, папа.
Он позвонил домой, извинился перед ней и сообщил, что едет в Силезию спасать Янека. Каська молчала, он тоже молчал, раз не дождался ответа.
- Я люблю тебя, Кася, - сообщил Анджей под конец.
Жена отключилась. Анджей выругался и яростным движением врубил задний ход, с писком покрышек выехал со стоянки, вынудив дать первенство, и, гоня через Варшаву на Рашин, Янки и геркувку[94], подавлял ярость адреналином. За Янками его пытались остановить мусора, но Анджей лишь сильнее даванул на газ, ну а гайцам не хотелось гоняться за сумасшедшим, да и зачем, раз мимо проезжает полсотни машин в минуту. Так, без нескольких секунд полный час, Анджей включил на приемнике "Тройку"[95], чтобы послушать новости. Прозвучали последние аккорды дурацкой песни, отыграл джингл, и диктор начал с известий последнего часа. В Дробчицах под Гливицами, в деревне, в последнее время сделавшейся известной по причине деятельности харизматического ксёндза Яна Тшаски, в плебании произошел взрыв. Старинная плебания полностью разрушена, полиция комментариев не дает, неофициально говорится о случайном взрыве газа.
Анджей почувствовал, как внутренности завязываются в тугой узел. Спутанные кишки сужаются, стискиваются, запутываются, желудок сжимается и вытягивается вверх, цепляясь за гортань; легкие отказываются принимать воздух. Руки начали трястись, хотя пальцы судорожно сжимали руль. Тшаска съехал на обочину, обошел машину и, весь трясясь, вывалил чемоданчик в поисках бутылочки с белыми таблетками. Наконец обнаружил, высыпал на ладонь целых три и проглотил, не запивая, запихивая их в горло чуть ли не силой. Дрожь не переставала, Анджей уселся за рулем, ожидая, когда лекарство подействует. В мобильном телефоне нашел номер Шафранца и позвонил журналисту, чтобы хоть чем-то заняться.
- Ну? – спросил в телефоне голос сопящего толстяка.
- Просмотрел?
- Да.
- И когда запустишь?
- Пойдет в понедельник, меняем весь номер. Я уже звонил в курию, но во встрече и в комментариях мне отказали. Они что, ожидали этого? – сопел Шафранец, сражаясь с астмой и лестницей.
- Да.
- Ну ты и зараза…
- Отъебись, Шафранец.
- И тебе того же, - буркнул толстяк, Анджей отключил телефон, потер глаза руками, врубил первую передачу и, вырывая в щебенке склона глубокие борозды, выкарабкался на дорогу, подгоняемый ревом клаксонов. Газ выжал до пола, глядел, как стрелка спидометра выходит в красный сектор, сцепление, смена скорости, и следующая, следующая, "альфа" летела под сто девяносто по паршивому асфальту, чуть ли не распихивая машины на забитой в это время "геркувке". Радиоприемник переключил на CD: Пи-Джей Харви, годится, музыку запустил со всей возможной громкостью.
Где-то в районе Ченстоховы движение сделалось совершенно плотным. Анджей снизил скорость, затем остановился в мощной двухсторонней пробке. Среди машин, медленно движущихся с противоположной стороны, краем глаза Анджей выловил одну особенную: "тигру" с разбитым передом. За лобовым стеклом было знакомое лицо. Девица от Урбана, литовская такая фамилия: Кейстут… Кейдус. Ага, таки вынюхивал, сукин сын, возле Янека и таки вынюхал, холера ясна.
В конце концов, в Катовицах, выскочил на А4, тут можно было прижать, было уже поздно, автострада почти пустая, "альфа" снова вырвалась вперед, несмотря на тонкий слой снега на дороге, Анджей давил на газ и ехал по центральной полосе, время от времени выскакивая на левую, чтобы обогнать плохо различимые в темноте машины. В Гливицах он съехал с автострады, но не в том месте, и потерял дорогу.
Включил GPS и нашел нужную дорогу на Дробчице. Как ехать в самой деревне он помнил, плебанию ему безошибочно указало зарево, мигающее синими и оранжевыми огнями, издалека видимое в черной деревне – после взрыва, наверное, отключили ток. Анджей припарковался далеко от фары, вышел из машины и дальше направился пешком.
На месте, освещенные мощными прожекторами развалины прочесывали пожарные с собаками, рядом стояли три пожарные машины, несколько патрульных полицейских и машин скорой помощи, все они поблескивали синими огнями, а между автомобилями клубилась толпа зевак, переругивающихся с полицейскими, пытающимися оттеснить народ от еще дымящегося места взрыва. Анджей схватил за рукав ближайшего зеваку и спросил:
- А что случилось с ксёндзом Тшаской?
- Śpryngnyli fara i pošli furt… (Взорвал плебанию и ушел себе… - силезск.), - лаконично ответил силезец, обращаясь куда-то в пространство и не отводя глаз от места трагедии.
- Что он сделал? – не понял Анджей.
- Jerůna, dyć godům: špryngnyú no (Блин, говорю же: взорвал… - силезск.), взорвал плебанию и ушел, куда-то, pra?
- Как это, взорвал? – все так же не понимал Анджей.
Любопытствующий силезец, уже несколько раздраженный тупостью своего собеседника, повернулся, измерил Анджея взглядом и, тщательно подбирая польские слова, сказал:
- Пан, простите, чего мне голову морочит? Нормально, бомба у ксёндза имелась, как в кино, с детонатором, они на кнопку нажали, и фара взлетела на воздух.
Анджей сглотнул слюну.
- Но его в средине не было!?
- Chopje, gupiśće sům? (Парень, ты чего, придурок? – силезск.). Как это, в средине? На площади они стояли, так что взорвали себе и пошли. Если бы в средине были, вот как бы они пошли?
Анджей уже не слушал, он вмешался в толпу. Все расспрашиваемые им подтверждали, что Янек взрыв пережил, а так же то, что сам его же и вызвал, и что он удалился в неизвестном направлении.
Так что он сел в машину и начал беспорядочно кружить по окрестным дорогам, высматривая брата. Звонил в полицию, осторожно выпытывал про ксёндза, но, естественно, ему отказывали предоставить какую-либо информацию. Кон-фи-ден-ци-аль-ность!
В конце концов, он сдался, на экранчике GPS нашел свой отель и, следуя указаниям, которые выдавал ему автомат прерывистым, но таким же бархатным голосом зрелой женщины, припарковался под параллелепипедом "Qubus", уродующим неоклассицистический и неоготический центр пластиковой язвой свой махины. Анджей констатировал это, с некоторым удовлетворением думая о своем всестороннем, художественном вкусе. Он гладко прошел беседу в администрации, въехал на анонимный этаж и погрузился в анонимном номере, между кроватью, гостиничными полотенцами и десятками гостиничных каналов гостиничного кабельного телевидения. Анджей лежал, перескакивая по каналам, розовые дамочки из "Плейбоя" сменялись телезакупками, пока он не заснул тяжелым сном ужасно уставшего человека. Разбудил его писк настроечной таблицы в странное время, в три часа ночи – встал с раскалывающейся головой, выключил телевизор, потащился к холодильнику, одним духом выпил бутылку минералки и снова заснул.
Разбудил его звонок мобильного телефона. Номер отправителя заблокирован.
- Пан Анджей Тшаска? – конфиденциальным шепотом спросил мужской голос.
- У телефона. Кто это звонит?
- Прошу прощения, по некоторым причинам не стану представляться, могу только сказать, что я \ксёндз. Вам звоню по просьбе вашего брата, должен передать вам и при вашем посредничестве, что с вашим братом все в порядке. От себя могу добавить, что ксёндзу Янеку ничто не угрожает, но ему требуется помощь, и эту помощь мы ему предоставим. Так что прошу не беспокоиться. Вскоре мы отзовемся. До свидания.
- Алло, что пан ксёндз говорит? Какая помощь? – заорал Анджей в уже молчащую трубку.
Он сложил мобильник, из нераспакованной сумки вытащил джинсы, натянул их, застегнул, надел свитер, куртку и бегом спустился вниз к администратору, спросил, где здесь ближайший киоск с прессой, и уже через десять минут сидел за завтраком, с чашкой кофе и свежайшим номером "Впрост" в руках.
С обложки улыбалось лицо архиепископа Зяркевича, а на черном фоне сутаны багровели прописные буквы одного слова: "ИУДА".
Отцу пришлось капитулировать, но я эту войну запустил заново, Ваше Преосвященство, и на сей раз это уже я выиграю, и не отдохну, пока не буду знать, что Преосвященство остаток своих дней проведет в каком-нибудь уютном монастыре (подальше от торных путей, так что помоги мне, Господи!). А не надо было издеваться над проигравшими, Ваше Преосвященство, это всегда плохо кончается.
Анджей раскрыл журнал на страницах с "материалом номера" и читал, закусывая слова круассаном и запивая кофе. С первого же взгляда видно, что материал практически не подготовлен, по сути своей, они перепечатали пару документов из папки и прибавили краткий редакционный комментарий, времени на что-либо большее у них не было, да это ведь и не важно. Важно то, что это сражение с современной Тарговицей[96] он выиграл. Епископу повезло, что мы живем в XXI веке – жизнь он закончит в изгнании в монастыре, а не на виселице, как повешенные во времена Костюшко тарговичане, тогдашние специалисты по разделению радостью, епископы Коссовский и Массальский. Анджей позвонил отцу.
- Папа, сегодняшний "Впрост" видел? – начал он, пропуская вежливости вступления.
- Видел, Ендрусь, видел, - тусклым голосом ответил отец.
- И что ты на это?
В трубке воцарилась тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием Анджея Тшаски – старшего.
- Не знаю, Ендрусь, - сказал наконец отец. – Не знаю. Может это и хорошо, что ты у меня эти документы выкрал и опубликовал, возможно, что я неправомерно откладывал все это на будущее, на святое никогда. Вот только – не знаю, я боюсь за Янека. Даже не за то, что он не сделает никакой карьеры в Церкви, но о том, чтобы его никто как-то не обидел. Он же такой у нас деликатный, ты же знаешь, Ендрусь?
- Знаю, папа. Потому и должен был это сделать.
- Возможно ты и прав. А теперь ты должен за него сражаться. Держись, сынок.
До свидания, папа.
Анджей только-только успел отвести мобилку от уха, как та зазвенела снова. Он глянул на экран – пульсирующее алое сердечко и имя "Кася". Тшаска пару секунд тупо глядел на экран, колебался, но звонок принял.
- Анджей, вернись домой, пожалуйста… - тихо произнесла жена.
Тот молчал.
- Анджей…
Не мог он с ней разговаривать; прервал соединение, хлопнув крышкой телефона, но тут совесть заколола так сильно, что тут же открыл аппарат и быстро написал эсэмэску: "Извини, Кася. Люблю. Буду через четыре часа". Анджей допил кофе, глядя на эти семь слов, словно бы решение возврата в Варшаву появилось не в его голове, словно бы оно пришло снаружи и только лишь случаем попало на экран мобильного телефона, который держал в ладони.
И он нажал на "выслать".
+ + +
Поначалу Малгожата Кейдус узнала автомобиль, спортивную "альфу ромео", а только лишь потом водителя. Разъехались они медленно, едва-едва катясь по асфальту, пару минут глядели друг на друга, но никто из них стекло не опустил.
Впрочем, Малгося тут же забыла о нем в тот самый момент, когда спортивный автомобиль исчез из ее поля зрения. Все ее внимание было сконцентрировано на завернутой в одеяла, тихонько дышащей девочке на узком заднем сидении машины. Аня прекрасно понимала, что происходит: только что у нее отобрали подарок, которого она никогда не должна была получить. Еще она знала, что этого не понимает тётя, которая судорожно держит руль, и как только появляется кусочек свободного асфальта, она выжимает из двигателя все возможное, лишь бы быстрее, лишь бы поближе к больнице в Лодзи. Аня интересуется автомобилями: тётя, из твоего один и четыре десятых литра тётя больше ничего не вытянет, в конце концов, это всего лишь восемьдесят лошадей.
Когда они уже на месте, у самого приемного покоя, Аня еще чувствует, что тётя несет ее на реках, ее саму кладут на кровать, вкалывают иглы внутривенных катетеров, вливают в вены соли и лекарства, совершенно бессмысленно, это точно так же, как заливать топливо в заклинивший двигатель, помочь может лишь совести, да и то – не ее. А потом мир темнеет. Еще лицо тёти.
Малгося же стояла в коридоре и глядела в глаза собственной сестры, ну а Аля Кейдус-Билинская, которая убежала с работы, не обращая внимания на протесты шефа и коллег, и приехала, трясясь от чувства вины, и не верила собственным ушам.
- Я забрала Аню из хосписа. К священнику, тому самому, что бы какое-то время знаменит, чтобы он ее исцелил, - впервые в жизни Малгожата боялась собственной сестры..
- Ты забрала ее к священнику? Понятно. Девица, ты что, с дуба грохнулась? Где Аня?
- Что, уже сориентировалась? Твоя дочь умирала, а ты только лишь через три дня узнаешь, что ее нет? Аня умерла, я уже говорила тебе, - с трудом произнесла Малгожата.
- Но я никак не могла…
Аля не смогла выдавить из себя больше слов, потому ударила сестру в лицо.
Та не ожидала, что у ее сестренки столько силы. Удар открытой ладонью, попавший ей в лицо, он не был всего лишь символической пощечиной, которая должна была лишь символически ранить гордость, никак не тело – но Аля ударила ее сильно. Нежная плоть, покрывающая щеку изнутри, разодралась о зубы, и Малгося почувствовала, что рот заполняется кровью. Она пошатнулась и тяжело опустилась на стул. Аля развернулась на месте и ушла. Малгося поцеловала мертвую племянницу и, как только могла побыстрее, сбежала из больницы.
Она осталась сама в своем современном жилище, прямиком из журнала по интерьерам, в своей пустой и одинокой квартире. Без племянницы. Без сестры. Без работы, которую бросила без какой-либо возможности вернуться (и покончим с этим, эсбек ёбаный – удостоверение с хлопком ложится на письменном столе главного редактора). Без веры, которую обрела ненадолго, чтобы утратить, когда единственный священник, которому она впервые в жизни поверила, оказался коварным, сатанински подлым шарлатаном.
Малгося, Малгоська, неужели, курва, не сдаешься?
Она сделает это. За свою столь жестоко преданную племянницу. За сестру – самую лучшую и единственную подругу, которую как раз утратила. За саму себя, за свой разрушенный мир.
Она напишет эту статью. Поедет туда, даже если придется прожить там пять лет, и все выяснит. Узнает обо всем, все поймет, раскроет, а потом напишет громадную статью. И епископ из Щецина, который лапал мальчишек в семинарии, по сравнению с ее материалом будет мелюзгой. Она сделает нечто такое, что сотрясет этой институцией, полной подлыми людьми, она напишет большой репортаж, который купит у нее любая газета, за любые деньги – раз уж французская монархия смогла пасть по причине скандала с ожерельем Марии-Антуанетты, то она, Малгоська, устроит такой скандалище, который станет таким же ожерельем для Церкви в Польше. Она сама посвятит себ этому полностью, сделает все, что понадобится. Нужно будет кого-то подкупить – и прекрасно, она продаст квартиру, покупатель имеется, давно уже ходит кругами. Сейчас же она позвонит квартирантам, что проживают в ее старой однокомнатной квартире, что пускай выметаются, потому что она переезжает из своих апартаментов назад в те самые тридцать два квадратных метра с кухней. Тысяч триста же получится, так? А если одних денег не хватит – тоже отлично, она, Малгоська, упираться не станет. Если будет нужно, сможет у кого-то и отсосать. Никаких проблем. В конце концов, позволяла же она мужикам трахать себя только лишь затем, чтобы ее любили, так что можно будет раздвинуть ноги и ради справедливости в мире. Взять, хотя бы, ту же Валевскую[97] – давала себя ебать какому-то корсиканскому коротышке, чтобы тот спас Польшу, и в этой же засранной католической Польше сделалась национальной героиней. И никто ведь не говорит, что она попросту блядовала. Она, Малгоська, может и скурвиться, чтобы устроить католиков, нормалек. Возможно, даже и приятно будет. Натренированные постами правые пареньки в постели хороши.
Автомобиля у нее не было, даже не расспрашивала, что случилось с ее любимой "тигрой" после аварии. Наверняка кто-то забрал, отремонтировал и продал как "безаварийную". Или на запчасти. Сестра забрала свою машину, на которой Малгожата ездила в последнее время, правда, имелось еще кое-что. Один из коллег, который какое-то время звался "ее парнем", в приступе доброты отдал в ее распоряжение маленький городской "мерседес" класса А – потом, когда их дороги разошлись, он, понятное дело, его забрал, но у Малгоси до сих пор где-то валяются ключики от этой машины. Ладно, сукин сын, хоть на что-то пригодишься.
Прошло несколько недель, и квартира была продана, деньги поступили на ее счет, квартиранты были безоговорочно выставлены из старого однокомнатного жилища, все нужное барахло было перевезено назад в ту комнатушку, в которой Малгожата все начинала двенадцать лет назад. Спецу по компьютерной графики со своей прошлой работ она пообещала совместный ужин, если тот сделает ей несколько приличных пресс-удостоверений; обещание она, естественно, не выполнила, но удостоверения получила. После этого она провела полнейший research: польская пресса, локальная пресса, дискуссионные списки, фановские страницы – все было обработано в соответствии с наилучшей журналистской тактикой, все разложено по элегантным папочкам в ноутбуке. Теперь Малгожата знала про ксёндза Тшаску абсолютно все, у нее было подготовлено полнейшее досье. И из ее разработки выглядывал порядочный и скромный человек. Тем сильнее она его ненавидела.
И, в конце концов, тронулась. На трамвае подъехала к дому своего бывшего ухажера, села в припаркованный возле ограды "мерседес". Малгожата опорожнила все бардачки и багажник, все найденное забросив в сад через забор. С удовлетворением она убедилась, что на машине ездила другая женщина, все губные помады, сумки для покупок, наушники от мобилки и записные книжки, плащ и зонтик очутились на снегу. Малгожата запустила двигатель и позвонила хозяину авто: Беру на время, мой милый, за все те обещания, которые ты давал. "Сумасшедшая!" – заорал бывший в телефон и выбежал из дома; Малгося дождалась, когда он добежит до калитки, улыбнулась и уехала. Нет, ьывший в полицию звонить не станет, он бы сгорел от стыда, а если ее задержат мусора, то вместо доверенности она даст взятку. Достаточно крупную. Или отправится с мусором в мотель. Ей один черт.
Подскакивая на выбоинах геркувки, Малгося добралась до Силезии. Номер в гливицкой гостинице сделался ее оперативным центром. Администратору заявила, что не желает, чтобы в ее номере проводили уборки; мягкие обои вскоре покрылись желтыми листками с заметками и газетными вырезками, прикрепленными цветными шпильками. Над письменным столиком повесила большую карту округи, на которой цветными фломастерами отмечала места собственных визитов, отмечала номера сделанных снимков и адреса людей, с которыми разговаривала.
Поднятая на воздух плебания; исцеленные люди, к которым неожиданно возвратились старые болезни. Все молчали. Жизнь шла по-старому, люди ходили в костёл и на работу, возвращались, обедали, посылали детей в школу, в которой учительницы ставили колы и пятерки; делали закупки, сплетничали под магазином, но никто не вспоминал про ксёндза Тшаску. Никто не знал, что с ним случилось, никто и не пытался ничего узнать, все были счастливы тем, что чудо вновь прератилось в нормальность, что ксёндз в своей проповеди вновь корит присутствующих за тех, которых на мессу не ходят. Они припали к вновь обретенному порядку, и всем не пришлось даже притворяться, что ничего и не случилось, потому что и в самом деле ничего ведь не произошло. На покрытой землей могиле Теофила Кочика дети сметали снег и зажигали лампадки.
Пьяница под пивной с недоверием глядел на бутылку болса[98], который получил в презенте от "šumnyj frelki ze Waršawy, co piše do cajtungůw" (элегантной дамочки из Варшавы, что в газеты пишет – силезск), шум пленки диктофона между одним глотком и другим, потом говорит: "Ja, jak ta fara špryngúo, tam bergmůny byli, to možno úůn mjoú ze gruby jakos bůmba, to jo widźoú kapelůnka iść do łasa, a za ńym pošoú tyn gupi, co go potym znodli we śńygu, ale kapelůnka ńy znodli I ńykere ludźe godajům, co úůnego do Půnbůčka wźyni, jak Matko Bosko, dobro gořoúka", - он жадно глотает дорогой напиток, словно бы опасался, что Малгожата заберет у него недопитую бутылку – "jo žech wům już wšisko pedźoú, nic wjyncy ńy wjym, I južech jest ganc ožarty, frelko" (ага, когда плебания взлетела на воздух, там были шахтеры, так что, может, он какую бомбу из шахты имел, а я же видел ксёндза викария, как он в лес шел, а за ним пошел тот придурок, которого потом нашли в снегу, но викария не обнаружили, и некоторые люди говорят, что его Господь Бог забрал, как Богоматерь, хорошая водка (…) я уже пани все рассказал, ничего больше не знаю и уже совершенно пьяный – силезск.). Малгожата перемотала пленку, пьяница чирикал наоборот, "ja, jak ta fara špryngúo, tam bergmůny byli, to možno úůn mjoú ze gruby jakos bůmba", стоп. Пришлось отправиться в полицию. Малгожата всегда умела разговаривать с мусорами, ее эсбекская редакция обучила ее коммуникационному коду, посредством которого общаются и те молодые парни, которые ПНР даже и не помнят, и все же, служа в полиции, переняли ментальность и привычки той самовоспроизводящейся системы. И еще нечто неопределенное говорило им: это своя девчонка, при ней можно говорить и открытым текстом.
Тем не менее, несмотря ни на что, ни о чем она не узнала.
Малгожата не верила собственным глазам. Взрыв газа, следствие закрыто. Молодой полицейский, показывающий ей материалы, раз за разом бросал значащие взгляды. Малгося знала такие очень даже хорошо: дело скользкое, лично мне ничего не известно, следствие прикрыто по указанию сверху и экспертов. Она расспрашивала, тянула резину – и по тому барьеру, которым огородился мусор, поняла, что таким образом дальше не пробьется, так что просто перестала быть журналисткой и за минут десять соблазнила молодого мусорка, используя простейший репертуар, которы девочки изучают наизусть еще до того, как сделаться женщинами, и к которому у мужчин иммунитет появляется лишь тогда, когда маскулинность уходит, уступая место простатиту и склерозу.
Женщина предложила встретиться вечером. На листочке парень написал ей время и адрес клуба. Так что встретились они в задымленном помещении, разрываемом исходящей из мощных колонок музыкой. Мусор хотел свидания, вот свидание и получил – а Малгоська позволила ему представить себя в чандлеровском свете. И вот молодой Марлоу[99] рассказывал, цинично шмаля "LM", про экспертизы, которые ясно показывали, что плебания взлетела в воздух, под воздействием взрывчатки, о шахтерах, которые могли иметь доступ к таким материалам на шахте. И о том, как следствие было насильно прервано, о начальниках, которые закрыли дело по четкому указанию сверху. О том, как он сам пытался тащить дело дальше, хотя сам прекрасно знал, что это не удастся, и все же пытался, ну ты понимаешь, ради идеи. Ты понимаешь? Ясное дело, что понимала. Поцелуи, мужская ладонь на ее колени как раз проскальзывала под обтягивающую ткань ее платья.
Это уже было что-то. Церковь прикрывает следствие по делу взрыва плебании. Это еще не материал для статьи, которая могла бы сравниться с J'accuse[100] Золя, но это уже какая-то зацепка, и Малгоська впилась в нее своими красными коготками, и она знала, что не отпустить и сорвет занавесь, скрывающую мерзость.
Номер мобилки молодого полицейского, тихого союзника ее крестового похода, появляется в записной книжке Малгожаты. Широкие плечи, красивые ладони, как будто бы специально созданные для ласк, крепкая челюсть – тип чувствительного крутого парня. Сам он жил с родителями, так что отправились к ней, в гостиницу, а мусор сделал то, на что Малгожата и рассчитывала – он не начал бесплодной болтовни, маскирующей очевидную цель, ради которой мужчина приходит ночью в комнату женщины, они не засели за столом с бокалами вина, которые должны доказывать, что мы ведь не животные. Как только она закрыла дверь, не зажигая свет, гливицкий Марлоу попросту бросил ее на кровать, задрал ей платье, сорвал стринги, перевернул на живот и трахнул пани журналистку сзади. Той ночью они занимались любовью еще два раза, но в первый раз он ее попросту выпорол – куря в темном номере, Малгоська просто не представляла, чтобы какой-то другой глагол соответствовал тому, что с ней сделал полицейский. Она рассчитывала на то, что парень останется до утра, потому что ей хотелось проснуться в постели, пахнущей сексом и мужчиной, прижаться утром к широкой спине и наслаждаться всем тем, что связано с утренним мужиком – прелестным, похожим на плюшевого медведя – его сонливостью, грубой лаской, когда ему вспомнится, что они вытворяли ночью. Даже царапанием задницы, когда он поднимается в туалет.
Но после третьего оргазма мусор зажег свет, чтобы поискать презервативы – и увидал ее номер, выглядящий словно святилище, украшенное вотивными[101] трофеями: фотографии, заметки, статьи и белые листки с огромными вопросительными знаками. Он почувствовал себя словно полицейский из триллера, входящий в берлогу психопата. Он хотел было броситься бежать, лищь бы подальше от этой психопатки, которая спит с ним, чтобы использовать в собственных таинственных целях. Может она русская агентесса? Или еврейская – недавно видел подобный фильм – быть может, во время войны его дед сделал чего-то плохого евреям, а они, вроде как, никогда не прощают и мстят до седьмого поколения. Но он взял себя в руки, цивилизация победила спиртное, страх и изумление – не удрал. Попросту натянул одежду, попрощался, пожелал спокойной ночи, поцеловал и ушел. С крепким постановлением, что с этой психованной больше уже никогда ни-ни. Ясен перец, у его Баськи нет и половины того секса, что у этой киски; Баська не стонет под каждым его прикосновением, не вьется в кровати, когда он ее трахает, не шепчет ему на ухо всякие непристойности, не выгибается вперед, говоря, словно порно-актриса, что она нехорошая девочка, и что заслужила порку, не исследует губами каждый уголок его тела – но Баська же нормальная, с Баськой он когда-нибудь поженится, и у него с ней будут дети, если с финансами как-то устаканится, так что уж лучше, что она такая, какая есть.
Он просто не отвечал на звонки, как только на экране мобильного появлялась подмигивающая надпись "Малгося Клейдус" – а самой Малгоське полицейский уже был и не нужен, просить же не было желания. Она легко забывала про широкие плечи и узкие, твердые ягодицы мусора. И обещала сама себе: это уже последний мужик.
Так что удар она нанесла в самый центр событий, снова приехав в Дробчице. В доме-параллелепипеде, неподалеку от костёла и развалин плебании, приходский ксёндз-настоятель Зелинский арендовал этаж, исполнявший функции фары, временную же канцелярию ведя в ризнице храма. Именно там Малгоська его и нашла. Она приоткрыла дверь, гаглянула, принимая невинную мину, Боже помоги, я журналистка из радиостанции "Уан эфэм", мог ьы пан ксёндз со мной поговорить? Отец настоятель медленно поднял глаза, разыскивая гостью невидящим взором, наконец вспомнил про очки и сдвинул их со лба.
- Я знаю, пани, кто вы такая. Можем и поговорить, но не здесь. Подходите в плебанию через четверть часика… Ну, то есть в дом номер семь, пани найдет, это недалеко.
Малгожата ждала в автомобиле, когда пан приходский священник Анджей Зелинский, шагом ужасно уставшего человека оставлял темные следы в свежем снегу.
Мокрые снежинки лепятся к берету, очкам и пальто, а ксёндз снег не стирает, позволяя ему таять на лице и стекать тонкими струйками.
Они сидели вместе в комнате, среди предметов мебели, ни один из которых не соответствовал другому: разные кресла, диван от другого набора, различные комоды и блестящая шпоном мебельная стенка восьмидесятых годов. Пан священник заварил чай в стаканах, один поставил перед Малгосей (сахар, лимон?) и наконец уселся в кресле, он тщательно размешивал свой чай и с печалью глядел на свою гостью.
- Моя кухарка умерла. Как раз вчера похоронили. В плебании она готовила дольше, чем я служу здесь настоятелем.
Малгоське хотелось быть агрессивной, провоцирующей, наглой.
- Мне очень жаль, - сказала она.
Ей даже хотелось спровоцировать ксёндза, диктофон тихонечко крутил свою кассету в кармане; ей казалось, что – может быть – она попытается его соблазнить или сделать так, чтобы он взорвался и сообщил ей, что здесь произошло. Но на месте пойти на это ей как-то не удавалось. В конце концов, у человека кухарка умерла.
- Простите, пан ксёндз, так что же здесь случилось?
- Не знаю. Я трус, потому не выдержал и сбежал. Плохой из меня священник, поскольку испугался того, чего не мог понять. А ведь хороший ксёндз знает, что ему ничего понимать не надо, - очень тихо и медленно сказал отец настоятель, все время беззвучно мешая чай.
- Прошу прощения, пан ксёндз, а что случилось с викарием Тшаской? Где он сейчас?
- Не знаю, пани редактор, не знаю. Вы ведь из "НЕ!"?
- Нет, не оттуда. Я независимый журналист. Но в принципе вы попали в десятку, - Малгося не верила собственным ушам, - я пишу антиклерикальную статью.
- Ну, об этом я догадался. В принципе, я подходящий герой для такой вот статьи – в конце концов, антиклерикальные статьи хлещут священников за их недостатки, ведь так? Ну а я совершенно никакой священник, совершенно ни на что не гожусь. Именно так можете и написать.
Диктофон шумел в кармане куртки, регистрируя лишь приглушенный телом стук сердца и тишину.
- Пан ксёндз, расскажите, пожалуйста, что здесь происходило? Кем был ксёндз Тшаска, почему он исцелял? – спрашивает наконец, после длительного молчания, Малгожата.
- Не знаю, простите, пани, но это намного превышает мое понятие. Произошло что-то плохое, но ксёндз викарий как-то со всем этим справился, это я знаю точно. А не могли бы вы, пани, в своей статье не писать плохо о Боге и его Церкви? Напишите плохо обо мне, раз уж пани пишет антиклерикальную статью. Это станет моим покаянием. Я могу признаться перед вами в своих недостатках и грехах.
Малгожата молчала. Отец настоятель покопался в кармане сутаны и вытащил смятую пачку "лаки страйк".
- Пани курит? Угощайтесь. Если говорить о моих недостатках, то я неисправимый курильщик. Порчу свое здоровье и напрасно трачу деньги на сигареты. Но это и так самый мелкий из моих недостатков, вы сама понимаете.
Они закурили, и теперь оба молчали. Через минуту Малгося сунула свою сигарету в заполненную окурками пепельницу и поднялась.
- Прошу прощения, пан ксёндз, я уже пойду.
- Хорошо. Я буду молиться, чтобы священники Церкви были лучше, чтобы пани больше не пришлось писать антиклерикальных статей. Я ужасно сожалею о том, что вы вынуждены, и я приношу извинения за себя и от имени всех священников, которые своим поведением вынуждают пани делать это.
Малгожата вышла совершенно ошеломленная и онемелая.
- С Богом, пани редактор. Я буду молиться за вас, - сказал настоятель закрытой двери.
Ёбаный и святоебучий поп, - подумала Малгося. – Да пожалуйста, ударь меня еще, я плохой, заслужил наказания. И как писать о таком? Но что ей оставалось делать, раз тот файл, которому часа дала название "j_accuse.doc" и иконка которого располагается по самому центру рабочего стола ее ноутбука, точнехонько на кончике носа Джонни Деппа, на средине божественного носика того божественного снимка. И Депп глядит на нее с экрана ноутбука, немного косясь на тот самый файл, на тот самый "j_accuse.doc" и спрашивает взглядом: Ну что, справишься, котик? Врежешь им? А может тебе вовсе и не хочется им врезать, а?
Так что она пишет, пишет и пишет. Только лишь в кратком ходе клавишей ноутбука может она успокоить расходившуюся в голове боль. Надевает наушники, ставит себе Шиннед О'Коннор, тот диск, на котором Шиннед поет регги, покачивается под ямайский ритм, па-папа, па-папа, па-папа, даже пишет под ритм, пишет с ненавистью, потому что кого-то должна ненавидеть.
Наконец статья готова. Не такая уж она и мощная, как ей бы хотелось, но, вне всякого сомнения, шума наделает много. Это не памфлет, материал холодный, объективный и лишенный эмоций. Эмоции будут в читателях, в тексте они и не обязательны. Нет в нем гнева или злости, нет насмешек и иронии, которых полно на страницах антиклерикальных бульварных изданий; зато статья наполнена холодной, уравновешенной ненависти, какой так много в материалах серьезныых, создающих общественное мнение еженедельников.
После этого она сняла со стен листки с заметками и газетные вырезки, забрасывая их все в мешок для мусора, сняла покрытую сообщениями карту, смяла и тоже выкинула. С письменного стола смела туда же кассеты, листки с записями бесед, распечатанные снимки, газеты и журналы. Получились два толстых мешка. После этого пошла в город чего-нибудь съесть, после ужина заказала себе бутылку абсурдно дорогого вина и выпила всю ее сама, за столиком, пялясь на гливицкий рынок, на ратушу, обрамленную рождественскими огоньками словно грузовик из реклам кока-колы. Одинокая и привлекательная женщина над бутылкой вина в ресторане. С тем же самым успехом она могла зажечь у себя над головой неоновую рекламу "можешь меня трахнуть". Мужики, как только видят эту рекламу, пробуют, летят на нее, но как только подходят поближе, что-то их отпугивает, возможно – ее взгляд.
Так что Малгося заказала вторую бутылку вина, очень быстро выхлестала ее, бокал за бокалом, заплатила сто пятьдесят злотых счета (а какое ей до этого дело?) и пьяная отправилась в гостиницу. Идя, она громко плакала и пела сама себе свои любимые девочковые песенки Ренаты Пжемык[102]. Ей было наплевать на то, что народ обходит ее по широкой дуге, прижимая к себе детвору, чтобы защитить ее перед пьяницей.
- В гробу я всех вас видела! В жопе, слышите? В жопе! – кричала Малгожата, спотыкаясь и елозя по мостовой полами длинного пальто, таща шарф по мокрому снегу.
Перед самой гостиницей с ней случился приступ приличия, она привела в порядок одежду, отряхнулась, выпрямилась и, лишь слегка пошатываясь, дошла до лифта, а лифт помчался на нужный этаж, она же попала ключом в скважину, в дырку, блин, засмеялась она непристойной ассоциации для такого банального поступка как открывание двери; в конце концов, вошла в номер, стряхнула с ног, промоченные шпильки и, не раздеваясь, бросилась на кровать. Ей хотелось заснуть сразу же, тяжелым от спиртного сном, но тот никак не приходил, так что по частям Малгожата избавлялась от различных частей гардероба, пока не очутилась совершенно голой, свернувшись клубком и заходясь в спазмах бесшумного плача, который не покинул ее даже тогда, когда она заснула.
Проснулась она рано, с пересохшим тапком во рту. В номере ничего для питья не было, так что пришлось жадно глотать отвратительную воду из-под крана; Малгожата приняла душ и сползла вниз на завтрак. Инстинктивно взяла какие-то газеты, которые, без особого вникания, просмотрела под кофе, и вернулась к себе в номер.
Уселась за компьютером, подключилась к wi-fi, еще раз прочла весь текст, проверила фотографии, рамки, информацию. Инстинктивно просмотрела сетевые сервисы, ни на чем особо не задерживая внимания, открыла почту, стерла спам, без каких-либо эмоций прочла два электронных письма от подружек из редакции, которые в тайне сообщали ей о ситуации на фирме после того, как сама она бросила работу, хлопнув удостоверением по столу главреда, словно в кино. Но ведь туда она ведь уже не вернется, так?
Малгожата выслала письмо своему бывшему: "Машина ждет в Гливицах на охраняемой стоянке за торговым центром Икар на улице Победы; стоянка оплачена на две недели, дверь захлопнута, ключи в бардачке. Запасные же у тебя найдутся? Твоя Малгося. PS: Ебись на здоровье". Малгожата усмехнулась сама себе. Ничего, уроду полезно будет прокатиться хоть раз в жизни на поезде.
Она закрыла ноутбук и уже знала, что никуда, ни в какую редакцию статью не вышлет. А жаль, материал ведь неплохой, его наверняка взяла бы даже "Выборча", потому что, во время его написания она отбросила всякую риторику "Фикций" в пользу того, чего когда-то сама страстно ненавидела, то есть фальшивый, суровый, пускай и ангажированный в поиски истины тон "объективной" журналистики. Ба, да что там "Выборча", материал мог бы пойти и в "Тыгоднику Повшехным", потому что прогрессивные католики из "Тыгодника" обожают извиняться за то, что живут. Так что мог бы, мог бы, но не пойдет. Ненависти у Малгоси осталось ровно столько, чтобы текст написать, но вот на то, чтобы отправить его в редакцию, уже не хватило. Кончилась у нее ненависть, осталась одна только пустота и пара вопросов. А на вопросы она могла отвечать только по Евангелиям: да, да, нет, нет.
Так что Малгожата смыла лак с ногтей и коротко их обрезала, смыла макияж и связала волосы на шее. Компьютер в сумку, одежду в оба чемодана, все затащила на остановку междугороднего автобуса, подождала, сколько следует и поехала на шумном и вонючем средстве сообщения среди гимназистов, возвращающихся домой работяг и бабок, сплетничающих на своем кошмарном наречии: "Byúy we Gliwicach, kupić se šaty, choća teroski to I tak juž ńyskoro, přeca śwjynta to juž zaros I nic po sklepach ńy ma, I juzaś bydům muśaúy jechać" (Были в Гливицах купить себе какую-никакую одежду, хотя сейчас уже и поздно, скоро же праздники, и в магазинах ничего нет, так что снова придется ехать – силезск.).
С дробчиской остановки все свое барахло Малгося потащила по снегу к новой плебании, не обращая внимания на то, что все пялятся на нее со смесью изумления и неодобрительности в долгих взглядах, из-за коричневого стекла пивных бутылок, отставляемых потом на тоненький слой снега ступенек, ведущих в магазин.
Она нажала на кнопку домофона, рядом с которой за пластинкой их плексигласа была вставлена карточка с надписью "Плебания". Дверь зажужжала и раскрылась перед женщиной.
Что ты делаешь, девица? А что, имеется какая-нибудь другая идея? Малгося вскарабкалась по лестнице, отец настоятель уже стоял перед дверью квартиры.
- Пан ксёндз все еще ищет себе кухарку? – спросила Малгося и задрожала при звуке своего голоса.
Ксёндз Зеленский увидел надутые губы своих прихожанок. Услышал дискуссии в продовольственном магазине, представил себе выглядывающих из-за занавесок баб, проверяющих: а во сколько это любовница ксёндза возвращается домой. Увидел высящиеся горой на письменном столе секретариата курии доносы епископу о непристойном поведении отца настоятеля общины в Дробчицах, подписанные "Озабоченные прихожане". И видел эту молодую, красивую женщину, которая ну никак не может стать кухаркой в силезской плебании, точно так же как и сам он, старый уже мужик, не смог бы с завтрашнего дня сделаться платным танцором в клубе. Но как отказать? Как?
- Вы бы могли начать сейчас же, потому что работы куча. Но я могу платить пани только семьсот злотых, так что пани пришлось бы жить весьма скромно, - сообщил отец настоятель, повернулся и отправился на кухню. Пан ксёндз танцует?
Еще немного сомневаясь, Малгожата поставила свои сумки в прихожей, осмотрелась по сторонам и быстро обнаружила чуланчик для щеток. Когда-то она здорово убирала, вместе с сестрой ей удавалось отчистить до блеска статридцатиметровую родительскую квартиру за четыре часа, включая снятие паутин в с высоких стенок и мытье окон. Она быстро припомнила все мелкие секреты, откуда и докуда лучше всего мыть пол, тряпка должна быть не слишком мокрой, но и не сухой; не прошло и часа, а она уже умело помыла лестницу и прихожую тряпкой на зеленой швабре, после чего по-бенедиктински, тщательно вычищать зубной щеткой щели между кафельными плитками, так что не чувствовались ни ладони, ни колени. Малгося умела готовить, плохо и дорого, но готовила. Мыла, отскребала, заметала. Еще стирала.
Отец настоятель проводил мессы, потом сидел на кухне, опирая лоб на сложенные ладони, или же спал.
- Пани Малгося, но ведь во всем этом нет никакого смысла, - сказал он в конце, через три дня, обращаясь к открытой двери, из-за которых слышал передвижения щетки.
Малгожата отставила ведро, отложила щетку, уселась на самой высокой ступеньке. Ксёндз настоятель вышел из кухни и сел рядом. Прав поп, ой прав. Тридцать лет жизни невозможно искупить пустым жестом, даже жертвенным. Нельзя искупить смерть ребенка, моя лестницу. Невозможно исправить просранных пятнадцати лет, пятнадцати, потому что в свои пятнадцать я уже была достаточно взрослой. Тот парень, с которым тогда ходила в лицее, смешной такой, первый мой парень, который не был старше меня, еще не мужчина, уже не ребенок, но не в том смысле, что было в нем что-то от мужчины, а что-то от ребенка, нет, не было в нем ничего от ребенка и ничего от мужчины, странный такой вид мужика, а я его тогда сделала мужчиной; нет, мы не спали вместе, спала я совсем с другими, но тогда я сделала его мужчиной, потому что научила его тому, что мужчина должен уметь. Научила его тому, как бросить женщину. Научила жестокости. Вот ведь китч, разве нет? Но правда. Как же это смешно, тогда мы были практически что детьми, ходили в школу, боялись контрольных, и в то же самое время эмоции, которые мы тогда переживали, были такими неподдельными и взрослыми. В нас совершенно не было комизма детей во взрослых костюмах, потому что мы были уже совершенно взрослыми. И в это трудно поверить, но именно тогда я и начала тратить понапрасну всю эту сраную жизнь.
- Пан ксёндз понимает? – спросила она, даже не осознавая, когда все свои мысли начала шептать сквозь закрывающие лицо ладони; тихо, но так, чтобы сидящий рядом поп ее услышал.
- Прошу прощения, нет, не понимаю, но я пани слушаю.
- То было так смешно, ведь я уже тогда видела, что растрачиваю собственную жизнь, черт, мне было всего пятнадцать, разве не смешно? Ну кто поверит пятнадцатилетке, у которой сплошные пятерки в хорошем лицее, будто бы она тратит жизнь напрасно? А потом экзамены на аттестат зрелости, сплошные пятерки, социология в Варшавском Университете, диплом с отличием, мне предлагают аспирантуру, но я сама не хочу, получаю работу в "Фикциях", главред – хороший приятель отца, но уже через полгода мне стало известно, что даже если бы мой отец записался в Лигу Республиканских Правых, меня все равно держали бы в газете, потому что я была лучшей, но жизнь тратилась впустую, пан ксёндз понимает? С мужиками – без смысла, с приятельницами – без толку, с работой – напрасно, ничего не имело смысла. Словно пылинки в воде, броуновское движение, пан ксёндз физику помнит? И так я, блин – прошу прощения – и живу.
Малгожата замолчала.
- Пани Малгося, езжайте в Варшаву, к себе, там вам следует отдохнуть. И оно как-то все уложится, - через какое-то время сказал священник.
- Как-то все уложится, - бессознательно повторила Малгожата.
- Ведь все делается не так сразу, пани Малгося. Тут надо неспешно, по кусочку…
Какое-то время они сидели рядом, снова молча. Ирландия – нет, там гадко; и не Лондон, потому что там слишком много поляков. Остаются только Штаты.
- А не хотела бы пани исповедаться?... – рискнул через минуту настоятель.
Малгося окинула старика удивленным взглядом.
- Пан ксёндз, наверное, с ума сошел, - рассмеялась она.
- Ну, раз уж вы хотели стать кухаркой в плебании… - обиженно заметил священник.
Малгося отправилась собирать чемоданы, все заняло у нее четверть часа. Впервые за три дня она вытащила ноутбук из сумки, подключила к мобильному телефону, запустила сеть. Ввела логин и пароль в электронный банк, в очередной раз обрадовалась размеру собранных на счету средств, оставшихся после продажи квартиры. В отделениях сумки отыскала свой паспорт, для уверенности глянула на вклеенную в него американскую визу, результат служебной командировки в Чикаго два года назад – замечательно, она будет действительна еще восемь лет. Малгожата зашла на сайты нескольких авиакомпаний: Lot, KLM, Lufthansa, достала из бумажника кредитную карточку, набрала номер и купила билет "аэропорт Окенче – аэропорт Кеннеди". Бизнес-класс. Она надела пальто, навьючилась сумками и спустилась, пройдя без слова мимо до сих пор сидевшего на ступенях священника, открыла двери, но в конце повернулась. Несколько мгновений собиралась, но, наконец, выдавила из себя с трудом:
- С Богом, пан ксёндз.
Тот кивнул.
- С Господом, пани Малгожата.
Женщина вышла из временной плебании и остановилась в оранжевом свете уличного фонаря, со своим рюкзаком, чемоданом на колесиках, второй сумкой, ручной, и с сумкой для ноутбука. Падал снег. Малгожата подняла голову и подставила лицо падающим снежинкам.
+ + +
Санитарка в синем свитере, надетом на халат, открыла ворота; серый bmw вкатился во двор Государственной Больницы для нервно- и психически больных в Рыбнике[103]. Водитель припарковался, быстро выскочил, обежал автомобиль спереди и открыл пассажирские двери. Из автомобиля вышел архиепископ Михальчевский, поправил сутану, застегнул пуговицу пальто и надел перчатки. Из административного здания выбежал директор больницы и расплылся в приветствиях и благодарностях. Архиепископ отсек поток его слов:
- Где я могу найти пациента Тшаску?
Директор послушно замолчал, после чего головой указал на одно из зданий, такое же, как и все остальные, мрачное прусским, монументальным спокойствием, цвета бордового кирпича. Хоршего такого германского кирпича, будто фарфор блестит, теперь такого уже не делают, - подумал архиепископ.
- Третье отделение, общее психиатрическое, - сообщил врач и глянул на тонкую стопку листков – историю болезни:
- Тшаска Ян, лет столько-то и столько, родившийся, имя отца, матери. Анамнез: психическое расстройство неопределенной природы, - прочитал он нараспев, время от времени пялясь на церковного сановника . – Койка номер двадцать пять. Мы предоставили ксёндзу отдельную палату.
Архиепископ решительным шагом направился по убранным от снега аллейкам в сторону указанного отделения. – Сейчас ксёндз на седативных препаратах, мы даем ему фенактил и допокол лошадиными дозами, так что я не очень-то ожидал бы чего от этой встречи, - молотил языком директор, продвигающийся за архиепископом мелкими шажками, - ваше Высокопреосвященство…
- Преосвященство, - перебил чиновника церковник.
- Не понял?
- Уж если вы желаете меня титуловать, прошу делать это правильно. Кардиналом я еще не стал, так что меня следует титуловать "Ваше Преосвященство", а не "Ваше "Высокопреосвященство".
- Ну да, прошу прощения, Ваше Преосвященство. Вашему Преосвященству наверняка известно, что главным организатором принудительного приема сюда ксёндза викария был ксёндз архиепископ Зяркевич? Местный ординарий, вроде как, хотел дело затушевать, что было возможным, хотя и трудным делом – ну, вы же понимаете, все те взрывы и двенадцать трупов за один день, это все те исцеленные, что неожиданно умерли – так что гливицкий епископ хотел отослать ксёндза на какую-то незаметную учебу в Рим с запретом возвращаться в Польшу в течение десяти лет, пока все не забудется. Но после той статьи, ну, Ваше Преосвященство понимает, что я имею в виду, со всеми теми рапортами из Института Национальной Памяти, которые, вроде как, выплыли из окружения отца ксёндза Тшаски, Зяркевич уперся, будто бы викарий опасен, потянул за какие-то нити в прокуратуре. Здесь были и отец с братом викария, старик только сидел возле кровати и плакал, а молодой ругался на чем свет стоит, угрожал мне, кричал, что он еще вернется, что мы еще попомним, потом… - Тут до директора дошло, что архиепископ его не слушает. – Вообще-то, он должен был лежать в психиатрическом судебном отделении, но я нарушил принципы и положил его в общем…
Михальчевский знал дело лучше всех остальных. Они вошли в здание, архиапископ снял пальто и подал его директору. Они поднялись по ступеням, возбуждая любопытство большинства пациентов. Какой-то шизофреник, увидав сутану с пурпуром, начал дико выть. Они дошли до дверей, обозначенных цифрами "25-27".
- Две койки мы выставили, ксёндз лежит там сам.
Архиепископ вошел, захлопнув дверь перед самым носом директора.
Он сел на табуретке у изголовья кровати. Изолятор был устроен так, чтобы быть похожим на комнату. На окне были приятные шторы, у стены стоял шкафчик, над кроватью висел какой-то пейзажик и псевдоправославная икона Богоматери.
Ксёндз Янечек лежал на спине с открытыми, невидящими глазами.
Отшельник в пустыне собственного черепа.
Архиепископ немного посидел у кровати, наконец вздохнул, поднялся, начертил на люу викария знак креста, немым \шепотом произнес несколько слов и вышел
Когда он закрывал дверь, к ксёндзу вернулись чудища. Только он их не боялся, ибо si Deus nobiscum, quis contra nos? (Если Господь с нами, то кто против нас? – лат.).
октябрь 2005 – декабрь 2006
Пильховице – Понте ди Леньо – Лондон – Пильховице
+ + +
Вас не должны отталкивать несовершенства, которые наверняка заметны у собратьев и начальствующих: лишь в Торжествующей Церкви все епископы святы и интеллигентны, а все священники смиренны и мудры. Пока же все должны согласиться с ролью шестеренок в отставшей на столетия машине любви, неизвестных членов Церкви Воинствующей, с сожженного на костре святого Лаврентия начиная, вплоть до мисс О'Флаэрти, предлагающей Господу страдания, вызванные врастающим в палец на ноге ногтем.
И наконец, - сказал архиепископ, - вы обязаны помнить, что, скорее всего, не более десяти процентов христиан обретает спасение, и нигде не сказано, что в это число автоматически включаются духовные лица. Поэтому они должны быть готовы в час смерти ответить на вопрос из литургии святого Иоанна Златоуста: "Старался ли ты всеми силами сохранить незапятнанность жизни своей и найьт основания для оправдания перед страшным судом Христова трибунала?".
Брюс Маршалл, Ангел в красном
+ + +
Очередные версии повести, которую Уважаемый Читатель держит как раз в руках, терпеливо читали Яцек Дукай и Лукаш Орбитовский, которых за это неоднократное и критическое чтение я должен поблагодарить - без вашей помощи эта книга не появилась бы, так что спасибо.
Анна Костка пожелала помочь мне с переводом фрагментов на немецком языке, за что так же благодарю.
Одновременно оговариваю, что все несовершенства данного текста лежат исключительно на моей совести.
Написание силезских текстов, согласно проекта
Перевод: Марченко Владимир Борисович, 27 июля 2019 г.
Примечания
1
Фиат 126 — городской автомобиль, который выпускался фирмой "Фиат"; он был представлен общественности в октябре 1972 года на автосалоне в Турине. Большая часть машин была изготовлена в Польше под названием "Фиат 126р". Какое-то время "малыш" (maluch) был самым маленьким в мире автомобилем.
(обратно)2
Исключительно для того, чтобы напомнить русскоязычному читателю: панна – незамужняя женщина; пани – замужняя.
(обратно)3
Министра́нт — в латинском обряде Католической церкви мирянин, чаще всего – мальчик или юноша, прислуживающий священнику во время мессы и иных богослужений. Термин "министрант" соответствует термину "алтарник" в византийском обряде.
(обратно)4
Верные – имеются в виду уже окрещенные члены Церкви (в отличие от оглашенных - катехуменов).
(обратно)5
Приходской викарий (лат. vicarius paroecialis) — священник, сотрудник приходского настоятеля, может назначаться для помощи ему в осуществлении пастырского служения во всём приходе, в определённой его части или для некоторой группы прихожан, а также для несения определённого служения сразу в нескольких приходах. В приходе может быть назначен один приходской викарий или несколько. Приходской викарий назначается епархиальным епископом; он обязан замещать приходского настоятеля в его отсутствие.
(обратно)6
Интенция — то, о чём кто-либо просит в молитве. В зависимости от интересов самого молящегося или других лиц. Интенция может иметь духовный или материальный характер, быть личной или общей. Интенция мессы — это интенция священника, служащего мессу, и людей, принимающей в ней участие, или лица, её заказавшего. Молиться "в интенции римского папы" значит молиться о том, о чём просит папа. Термин широко используется среди верующих Католической церкви.
(обратно)7
Confiteor (конфи́теор, от лат. confíteor, "исповедую") — краткая покаянная молитва, читаемая в Римско-католической церкви в начале мессы, а также в некоторых других случаях. Характерными особенностями данной молитвы является молитвенное обращение как к святым, так и к другим стоящим в храме молящимся, а также троекратное биение себя в грудь в знак покаяния, сопровождающее произнесение слов "Mea culpa" (Моя вина).
(обратно)8
Молитвы, которые читаются в рамках раннего утреннего богослужения (канонические часы, оффиции).
(обратно)9
Бревиа́рий (лат. breviarium, от лат. brevis краткий) — в Католической церкви богослужебная книга, содержащая чинопоследования литургических часов (оффиция) согласно обряду Римской церкви. Бревиарий содержит только тексты молитв, в том числе и тексты молитвословных распевов (в средневековых бревиариях молитвы также нотировались). Аналогичная по функции богослужебная книга для мессы именуется миссалом.
(обратно)10
Инкультурация — процесс освоения индивидуумом норм общественной жизни и культуры.
(обратно)11
Литургия слова (лат. Liturgia verbi),в зап. литургической терминологии — часть богослужения некоторых таинств и сакраменталий, основу которой составляет чтение фрагментов Священного Писания. В Святой мессе Литургия слова является первой из двух основных частей. В восточной традиции аналогичная часть в контексте Божественной литургии именуется Литургией оглашенных.
(обратно)12
Евхаристия - то же, что причащение; одно из семи христианских таинств.
(обратно)13
Агнец Божий – католическое песнопение, заключительная часть мессы.
(обратно)14
Пате́на (лат. patena, "блюдо") — в католической церкви латинского обряда один из литургических сосудов. Представляет собой блюдо с изображением сцен из Нового Завета.
(обратно)15
Тридентская месса — одно из распространённых названий для обозначения литургии римского обряда — мессы, преобладавшей до издания миссала 1969 года. Novus Ordo, или Novus Ordo Missae, — условное название чина мессы, используемого в настоящее время в Римско-католической церкви в богослужении римского обряда, который был введён в употребление Папой Павлом VI в 1969 году. Термином Novus Ordo (без добавления Missae) часто называют и в целом богослужебный обряд, введённый тогда же и явивший собой осуществление богослужебных реформ, предписанных II Ватиканским Собором, хотя это осуществление и не во всём соответствовало предписаниям Собора.
(обратно)16
Сто́ла — элемент литургического облачения католического клирика. Шёлковая лента 5-10 см в ширину и около 2 метров в длину с нашитыми на концах и в середине крестами. Носится поверх альбы, под далматикой или казулой. Цвет варьируется в зависимости от времени церковного года. А́льба (лат. alba — «белая») — длинное белое литургическое одеяние католических и лютеранских клириков, препоясанное верёвкой. Ношение альбы обязательно для клирика, совершающего литургию. Изготовляется из тонкой льняной, хлопковой или шерстяной ткани. Происходит от древнеримской длинной рубашки, носимой под туникой. Её аналогами в Православной церкви являются стихарь и, у священников, подризник. Гумерал (лат. [h]umeral — накидка), наплечный плат — деталь католического литургического облачения в западных литургических обрядах
(обратно)17
Рарог - у древних славян язычников: огненный дух, связанный с культом очага (обычно выступает в образе хищной птицы, дракона с искрящимся телом, пламенеющими волосами и исходящим из его рта сиянием или в виде огненного вихря). – Энциклопедический Словарь
(обратно)18
Здесь, дом приходского священника (еще плебания), потому приходского священника еще называют фарар.
(обратно)19
Ксёндз Михал Чайковский (1934) – пресвитер вроцлавской архиепархии, профессор богословских наук, специалист по библейским исследованиям Нового Завета, бывший сопредседатель Польского совета христиан и евреев, бывший член Освенцимского международного совета (2000-2006), тайный сотрудник Службы безопасности ПНР. Подозревался в доносах на другую культовую фигуру польского католицизма – ксёндза Ежи Попелушко.
"Тыгодник Повщехны (Tygodnik Powszechny) — польский еженедельный общественно-культурный журнал, основанный кардиналом Адамом Стефаном Сапегой и выходящий в Кракове с 1945 года
(обратно)20
Колоратка или римский воротник — элемент облачения клириков и иных священнослужителей в западных Церквях и церковных общинах, представляющий собой жёсткий белый воротничок с подшитой к нему манишкой, застёгивающийся сзади и надевающийся под сутану, или же белую вставку в воротничок-стойку обычной рубашки. Слово произошло от фр. collerette — "воротничок"; а оно еще от лат. collum — "шея". Первоначально колоратка символизировала собой послушание и посвящение Господу (по одним источникам) или чистоту помыслов и действий клирика или целибат (общепризнанное мнение). Колоратка должна была всегда быть белой, и это доставляло немало хлопот. Сейчас колоратки изготавливают из пластика (помыл с мылом и порядок).
(обратно)21
Праздничная форма польских горняков включает шапку с плюмажем, султаном из перьев различного цвета.
(обратно)22
Горный дух в представлениях силезских шахтеров. И в них часто появляется это загадочное существо - Скарбек, подземный призрак с множеством лиц и разнообразных нравов. И до конца не понятно: злой он или добрый. Известно, что со Скарбеком шутить нельзя, но иногда он сам шутит с шахтерами. То тормозок свистнет, то половину заработка затребует, чтобы потом подкинуть золотой самородок или указать на угольную жилу. Горный дух перемещается ходит по подземным переходам в виде собаки, кошки или мыши, иногда появляется как седовласый старик и иногда смешивается с шахтерами, одетыми как они. Существует много историй о Скарбеке, но каждый шахтер знает, что он является повелителем душ тех, кто погиб в шахтах, каждый шахтер знает, что Скарбек, "металлам и сокровищам начальник". И он так тщательно охраняет подземную страну, что трудно отобрать у него земные сокровища. (пер. с польского языка: )
(обратно)23
В силезском языке так образуется женская форма, указывающая на супружество (супруга пана Лёмпы). В чешском (и польском) была бы Лёмпова.
(обратно)24
Стилон – одно из коммерческих названий полиамида (нейлона).
(обратно)25
Прага – имеется в виду не столица Чехии, а рабочий район Варшавы.
(обратно)26
Молитва, завершающая суточный цикл.
(обратно)27
Наверное, речь, все же, идет про откачивание мёда из сотов.
(обратно)28
Вообще-то такого печатного издания в Польше нет. Возможно, что имеется в виду еженедельник «Факты и Мифы» (с подзаголовком Неклерикальный Еженедельник) – антиклерикальный журнал, издаваемый в Згере, начиная с 2000 года. Основатель журнала – Роман Котлиньский.
(обратно)29
Nie! (стилизовано под NIE!; по-польски означает «Нет!») - польский еженедельный журнал, публикуемый в Варшаве. Журнал был впервые опубликован в октябре 1990 года. Основателем и главным редактором журнала является Ежи Урбан. Политическая линия – крайне левая. Журнал очень критично относится к политическим взглядам правых и к религии, особенно к католицизму. В 1990-х годах «НЕ» поддерживал лидера Левого демократического альянса Александра Квасьневского. Журнал публикует много сатирических текстов с карикатурами и иллюстрациями. Это что пишет англоязычная «Википедия». Отношение поляков к журналу неоднозначное. Похоже, уж слишком настырный стёб публикаций поляков раздражает.
(обратно)30
и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. (Откровение, 15)
(обратно)31
Э́рих фон Дэ́никен — швейцарский писатель и кинорежиссёр, один из известнейших идеологов теории палеоконтактов. В 1968 году издал книгу «Колесницы богов», послужившую литературной основой для популярной западногерманской документальной кинодилогии «Воспоминания о будущем» (1970) и «Тайны богов», 1976). Фон Дэникен выступает с лекциями на тему пребывания в прошлом на Земле инопланетных космонавтов, публикует книги, снимает фильмы. Его книги переведены на 32 языка и вышли общим тиражом более 60 миллионов экземпляров.
(обратно)32
Парузия - (греч., присутствие). Второе пришествие Спасителя. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.
(обратно)33
Богоявле́нье, более древнее название — Явление (греч. Επιφάνια — Эпифания).
В отличие от видений, воспринимаемых только зрительно, Э. как ист.-религ. понятие охватывает явления, воспринимаемые зрительно и на слух одноврем. или только на слух (напр., Дельфийский оракул). Э. предполагает появление божества или к.-л. др. потустор. существа, напр., ангела в иуд.-христ. верованиях, в человеч. образе (напр., олимпийские боги у Гомера), в форме проявления к.-л. сверхчеловеч. особенностей (чудеса) или под чужим обличьем (напр., Зевс в образе быка). По существу, Э. — составная часть культа, хар-рного для ранних религий, в первую очередь рим. и греч. – Древний мир. Энциклопедический словарь в 2 томах — М.: Центрполиграф. В. Д. Гладкий. 1998.
(обратно)34
??? «Например, полемика с психологией, с такими людьми, как Ойген Древерман. В принципе, именно мы прекратили этот диалог. Он как-то начался, но продолжения не получил. А ведь очень важно было бы его продолжить. Или, например, диалог с другими религиями. Причём я имею в виду не только ислам, но и буддизм. Вот, в Мюнстершварцахе группа бенедиктинцев, собравшаяся вокруг Ансельма Грюна, как нечто само собой разумеющееся утверждает, что христианство уступает дальневосточной мудрости и духовности. Всё это нас не должно оставлять равнодушными. Особенно потому, что все эти теории пользуются широкой популярностью и на рынке, и среди общественности». /%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/a-1222534
(обратно)35
Credo (Верую) – молитва и христианский символ веры.
(обратно)36
апокрифические изречения Христа (не вошедшие в евангелия)
(обратно)37
Польские братья, которых также называли «польскими арианами» и социнианами, появились в 1656 году, после раскола среди кальвинистов в Польше. Под руководством Пётра из Гонёндза они создали свою первую конгрегацию в Бжезинах, деревушке неподалеку от Лодзи. … Польские братья стали одной из первых христианских церквей, проповедующих пацифизм (peace churches): они начали делать это даже раньше, чем всем известные квакеры или амиши. Согласно общей для подобных церквей доктрине, пацифизм считается одним из важнейших посланий Библии. В этом вопросе польские братья были непреклонны: наиболее радикально настроенные из них отказывались занимать какие-либо государственные посты, поскольку государство неотделимо от насилия. Кроме того, польские братья первыми начали выступать против смертной казни и телесных наказаний. Чтобы подчеркнуть свои пацифистские воззрения, многие носили деревянные мечи вместо привычной и ставшей практически обязательной польской сабли. (-bratya-pervaya-reformatskaya-cerkov-propoveduyushchaya-pacifizm )
(обратно)38
Онтоло́гия — учение о сущем; учение о бытии как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и закономерности. Философское учение об общих категориях и закономерностях бытия, существующее в единстве с теорией познания и логикой.
(обратно)39
Ян Непому́цкий (чеш. Jan Nepomucký; ок. 1350, Непомук, Чехия — 20 марта 1393, Прага) — чешский католический святой, священник, мученик.
Ян из Кент, настоящее имя и фамилия Ян Ваценга (рус. церк. также Иоанн Кантий, Jan Kanty); 23 июня 1390, Кенты, Польша — 24 декабря 1473, Краков, Польша) — пресвитер, польский святой Римско-католической церкви, бакалавр теологии, кантор университетского костела св. Флориана под Краковом, настоятель базилики св. Андрея в Олькуше. Культ святого Яна из Кент жив и по сей день. Он почитается прежде всего как покровитель преподавателей и учащейся молодежи. Ведь он целиком, почти всю свою жизнь — 55 лет, отдал обучению молодежи.
(обратно)40
Известные Жаны-Батисты: Мольер, Ламарк, Тавернье, Кольбер… Интересно: Жан-Батист Гренуй — протагонист романа Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы", опубликованного в 1985 году.
(обратно)41
В каждом городе каждой страны адрес психиатрической лечебницы свой. В Днепре это Игрень (Ксеньевка).
(обратно)42
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Во втором слове та самая носовая "ę" (ен, эн).
(обратно)43
Ласкательно-уменьшительная форма от имени Ян.
(обратно)44
STEN — британский пистолет-пулемёт, созданный в 1941 году.
(обратно)45
В польском языке названия национальностей пишутся с прописной буквы (Niemcy, Ukraińcy, Polacy).
(обратно)46
Рашин ( Raszyn) - гмина под Варшавой. В этом районе (гмине) множество частных домов. Много иностранцев снимают жилье именно здесь, по причине доступности цен.
(обратно)47
Шуаны — участники крупномасштабного и длительного роялистского восстания против Великой Французской революции в провинции Бретань, на западе Франции, известного, как шуанерия. Вместе с вандейцами шуаны составляли французское контрреволюционное движение, длившееся четверть века (с перерывами).
(обратно)48
Анри́ дю Вержье, граф де Ларошжакле́н (1772-1794)) — французский военный, один из вождей вандейских роялистов в период французской революции. Жак Кателино (фр. Jacques Cathelineau; 5 января 1759 (1759-01-05) — 14 июля 1793) — вождь вандейцев в борьбе с республиканской Францией.
(обратно)49
Союз социалистической польской молодёжи, ССПМ (польск. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, ZSMP) — польская молодёжная организация, созданная наподобие советского ВЛКСМ (1957-1976).
(обратно)50
"Но да будет слово ваше: "да, да"; "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого". Евангелие от Матфея 5:37 – Мф 5:37 (Синодальный перевод).
(обратно)51
Эйдетическая редукция – одно из понятий феноменологии Гуссерля. "эйдетическая редукция — это переход при рассмотрении переживаний сознания от экзистенции к эссенции, от фактов к их сущностям (эйдосам), усматриваемым в идеации". /%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%AD%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
(обратно)52
Перипате́тики (от др.-греч. περι-πατέω — ходить кругом, прохаживаться; др.-греч. περί «около, вокруг» + др.-греч. πατεῖν «идти, шагать) — ученики и последователи Аристотеля, его философская школа. Определение же "лесной" (возможно), Автор взял из поговорки: "семь верст и все лесом" . Либо, дается отсылка к последующему эпизоду (беседа-прогулка в лесу с Иисусом).
(обратно)53
Макаронизм - [фр. macaronisme] - слово или выражение другого языка (первонач. - латинского), механически внесенное в речь, часто с искажением. Словарь иностранных слов.- Комлев Н.Г., 2006. Ипяковский так писал о современном ему Брайтоне: «Русские называют трамвай – стриткарой, угол – корнером, квартал – блоком, квартиранта – бордером, билет – тикетом…». Ну а самый известный макаронизм мы помним с детства:
Гутен морген, гутен таг! Бьем по морде просто так! ( )
(обратно)54
Здесь катехеза – беседа об основах христианского учения, проводимая в виде вопросов и ответов; но так же называется и учебная дисциплина в христианских школах, в рамках которой изучается Катехизис.
(обратно)55
Имеется в виду Зби́гнев Хе́рберт (1924-1998) — польский поэт, драматург, эссеист. Он сказал: Ja jestem rzymski katolik, ale bardzej rzymski, niż katolik (Я – римский католик, но более римский, чем католик). Можно это понять так, что поэт предпочитает римскую концепцию справедливости христианской идее всепрощения.
(обратно)56
"Газэта Выбо́рча" ("Gazeta Wyborcza", польск. — Газета избирателя) — польская ежедневная общественно-политическая газета. Одно из самых известных современных польских изданий. Главный редактор — Адам Михник. Издаётся с 1989 года, иногда рассматривается как таблоид. В некоторых кругах прозывается "Кошерной газетой".
(обратно)57
"Дзенник Польски" ("Польская ежедневная газета"), центристское издание, распространяемое, в основном, в Малопольском и Жешовском воеводствах, издается с 1945 года.
(обратно)58
То же самое, что и кальян. "Fajki" – на польском молодежном сленге – это "курево".
(обратно)59
Славомир Сераковский (Sławomir Sierakowski) - публицист, социолог, основатель движения Krytyka Polityczna, директор Института перспективных исследований в Варшаве..
60
Имеется в виду Стани́слав II А́вгуст Понято́вский (1732-1798) - последний король польский и великий князь литовский в 1764—1795 годах, которого посадила на трон Екатерина II.
(обратно)61
По-нашему: где-то под Хацапетовкой.
(обратно)62
Леон Дегрель — бельгийский военный деятель и ультраправый политик. Один из основателей и лидер Рексистской партии Бельгии, командир 28-й добровольческой дивизии СС "Валлония".
(обратно)63
Фрайкор (freikorp) — наименование целого ряда полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII—XX вв. В 20-30 гг. в Германии способствовали приходу Гитлера к власти.
(обратно)64
Тру́мен Гарси́я Капо́те — американский романист, драматург театра и кино, актёр; многие его рассказы, романы, пьесы и документальные произведения признаны литературной классикой, включая повесть "Завтрак у Тиффани" и документальный роман "Хладнокровное убийство" ("Хладнокровно"), основанный на реальных событиях. Аллюзия к тому, что Капоте последнюю указанную книгу построил как журналистское расследование.
(обратно)65
Единственный раз, когда придуманная газета названа как реальное издание.
(обратно)66
Жаргонное школьное прозвище преподавателей Закона Божьего.
(обратно)67
Роза́рий (лат. rosarium "венок из роз") — традиционные католические чётки, а также молитва, читаемая по этим чёткам. Классические чётки для Розария состоят из заключённых в кольцо 5 наборов из десяти малых бусин и одной большой, а также трех малых, одной большой бусины, распятия (креста) и медальона. Существуют также другие, менее распространенные разновидности. Молитва Розария, читаемая по чёткам, представляет собой чередование молитв Отче наш, Радуйся, Мария (Ave, Maria) и Слава (Gloria Patri), которым должны сопутствовать размышления о тайнах, соответствующих определённым евангельским событиям. Имеются розарии в виде кольца.
(обратно)68
От sb (służba bezpieczeństwa) – служба безопасности. Служба безопасности МВД ПНР — спецслужба и политическая полиция ПНР в 1956—1990 гг.. Входила в структуру Министерства внутренних дел как подразделение государственной безопасности.
(обратно)69
Дека́н (лат. decanus, от decem — десять; греч. δεκανός от греч. δέκα — десять) — в церковно-административной системе декан, называемый также окружным викарием (vicarius foraneus) или архипресвитером, выполняет административные и пастырские функции по координации деятельности приходов в определённой части епархии — деканате. Прелат — исторический термин, применявшийся к кардиналам, архиепископам, епископам, генералам и провинциалам монашеских орденов, аббатам и другим лицам, занимающим высокие должности в структурах церкви; в настоящее время — почётный титул (Почётный прелат Его Святейшества), а также должность лиц, возглавляющих персональные прелатуры и территориальные прелатуры.
(обратно)70
Ежи Ян Антони Зентек (1901-1985) — польский политический деятель, генерал бригады Народного Войска Польского. По данным опроса, проведённого изданием "Газета Выборча", он был назван вторым по значению силезцем XX века после лидера польского национального движения в Силезии Войцеха Корфанты.
(обратно)71
Филио́кве (лат. Filioque — «и [от] Сына») — добавление к латинскому переводу Никео-Константинопольского символа веры, принятое Западной (Римской) церковью в XI веке в догмате о Троице: об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына». Стало одним из поводов для разделения Вселенской Церкви. После раскола 1054 года были неоднократные попытки объединения православных и католиков на основе общего вероопределения, включая главное расхождение — филиокве.
(обратно)72
Таинство - (греч. mysterion, лат. sacramentum), в христианстве - священнодействие, отличающееся от других обрядов тем, что оно было установлено самим Христом. Первоначально церковные авторы использовали термин "таинства" нестрого и применяли его ко многим священнодействиям, однако в 12 в. число таинств было сведено к семи: крещению, конфирмации (миропомазанию), евхаристии (причащению), покаянию, елеосвящению, священству и браку. Римско-католическая церковь и Восточные церкви с небольшими различиями признают только эти семь таинств. (Энциклопедия Кольера) Сложно сказать, какие таинства желал принять Кочик, скорее всего, он ожидал причащения.
(обратно)73
Говение У верующих: поститься и посещать церковные службы, приготовляясь к исповеди и причастию в установленные церковью сроки.
(обратно)74
Республиканская Лига (польск. Liga Republikańska) - польская правая и антикоммунистическая политическая организация, которая действовала в 1993-2001 годах. Главным требованием объединения была радикальная декоммунизация, которая бы состояла в полном устранении из публичной жизни чиновников аппарата Польской рабочей партии, Польской объединенной рабочей партии и Польского социалистического союза молодежи, функционеров и тайных сотрудников МГБ, Службы безопасности и военных служб ПНР и членов коммунистических правительств Польской Народной Республики. Лига также выдвигала требование декоммунизации права путем дерегуляции и снижения размера бюрократии.
(обратно)75
Альтернативная акция "Naszość" (Нашесть – пол.) - правая группа, созданная в конце 1980-х годов, действующая в основном в Познани и других польских городах, в том числе в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Гданьске и Венгожево. Основным центром по формированию движения была VII средняя школа им. Домбровки в Познани. Цели: Проведение правой контрреволюции – Питье вспомогательных напитков на заседаниях Совета Контрреволюции, чаще всего, по субботам и воскресеньям – Свободная Польша – Свободная Чечня - Противодействие коррупции – Написание стихов. Лозунги: Наша цель – Глупость – Только для Ненормальных – Фляки из летучих мышей – купи или в торец – Первое мая – День Самурая – Не бойся Путина, пей грузинские вина – Товарищ, в свободную минутку, соверши харакири, только не в шутку! – польская Википедия
(обратно)76
Университет кардинала Стефана Вышиньского — высшее государственное учебное заведение. Расположено в Варшаве. Назван в честь Примаса Польши кардинала Стефана Вышиньского. В настоящее время в университете кардинала С. Вышиньского имеется десять факультетов, четыре из которых так или иначе связаны с религией, на которых студенты получают почти сорок специальностей.
(обратно)77
Священнический берет (силезск.). Головной убор (чаще всего, квадратный) духовных лиц католической Церкви (и, значительно реже, протестантских пасторов), может иметь 3 (в Польше) или 4 жестких выступа и, возможно, помпон из шерсти.
(обратно)78
В Польше преподавателей гимназий и ВУЗов называют "профессорами".
(обратно)79
Ординарий (лат. ordinarius) — католический священнослужитель, занимающий должность, в силу которой он получает ординарную власть. Аналогом ординария на христианском Востоке является правящий архиерей.
(обратно)80
Фа́тимские явления Девы Марии — серия событий в португальском городе Фа́тима в 1917 году. По уверениям трёх детей, им многократно являлась "дама" и передавала сообщения с призывами религиозного характера и пророчества. Признаны Католической церковью подлинным чудом.
(обратно)81
В Польше обращение "редактор" понимает обращение к журналисту.
(обратно)82
От лат. inquīsītiō, в юридическом смысле — "розыски", "расследование", "исследование". Термин был широко распространён в правовой сфере ещё до возникновения средневековых церковных учреждений с таким названием и означал выяснение обстоятельств дела, расследование. Со временем под инквизицией стали понимать духовные суды над антихристианскими ересями.
(обратно)83
Камедулы (камальдулы) – монашеский орден, основанный в начале XI в. бенедиктинцем Ромуальдом из Равенны, заложившим новый монастырь в высокогорной пустынной местности Камальдоли близ итальянского г.Ареццо. Святой Ромуальд ввёл в монастыре правила бенедиктинского устава, усиленные новыми постановлениями - предпринятые им реформы имели целью переработать устав бенедиктинцев в сторону большей строгости, увеличения аскезы и индивидуального аспекта монашеской жизни. Основными особенностями камальдолийского устава стали очень строгие посты, уединенный образ жизни, обеты молчания, практика ночного чтения Литургии часов, крайнее умерщвление плоти, в том числе ношение власяницы. Харизмой отцов камедулов является молитва за тех, кто вообще не молится и не думает о Боге.
(обратно)84
Фла́вий Кла́вдий Юлиа́н — римский император в 361—363 годах из династии Константина. Последний языческий император Рима, ритор, философ и поэт.
(обратно)85
Евангелие = Добрая Весть (греч.).
(обратно)86
Отцы-пустынники — название христианских монахов, отшельников и аскетов периода возникновения монашества в IV—V веках. Используется преимущественно в отношении египетских подвижников, проживавших в Скитской пустыне (Вади-эль-Натрун). Изречения отцов-пустынников вошли в многочисленные сборники («Патерик Скитский», «Изречения отцов», «Книга святых мужей»), известные с VI века.
(обратно)87
Евхари́стия (греч. εὐ-χᾰριστία — благодарение, благодарность, признательность от греч. εὖ — добро, благо и греч. χάρις — почитание, честь, уважение), Свято́е Прича́стие, Ве́черя Госпо́дня, в различных течениях христианства толкуется как таинство, священнодействие, обряд. Заключается в освящении хлеба и вина особым образом и последующем их употреблении. Согласно апостолу Павлу, при этом христиане приобщаются Тела и Крови Иисуса Христа (1Кор. 10:16, 1Кор. 11:23-25). Евхаристия, согласно православному вероучению, даёт возможность верующему соединиться с Богом во Христе. Регулярное причащение необходимо человеку для спасения и вечной жизни. В позднепротестантских течениях она, как правило, толкуется как символическое действие, выражающее единство верующего со Христом, но не осуществляющее его непосредственно.
У православных, католиков, дохалкидонитов, большинства лютеран, англикан, старокатоликов и в некоторых других конфессиях составляет основу главного христианского богослужения, Божественной литургии (или Мессы). Термин «Евхаристия» используется в православии, католицизме и англиканстве. В протестантизме приняты наименования «Вечеря Господня» или «Хлебопреломление».
(/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%B5%D0%B2%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F )
(обратно)88
Одно из прозвищ Вельзевула.
(обратно)89
Аджорнаменто - (итал. aggiornamento — обновление) — термин, означающий приспосабливание к актуальным условиям; в Католической Церкви стал широко применяться во время понтификата Папы Иоанна XXIII (см. энц. Ad Petri cathedram от 29.06.1959; апост. послание Oe*****eni***** Concilium от 28.04.1962; речь на открытии 1-й сессии II Ватиканского собора). В языке Церкви времен II Ватиканского собора и после него термин А. синонимичен терминам адаптация и аккомодация. Обоснованием необходимости А. в Церкви являются изменения, происходившие в ней на протяжении истории, но не затрагивающие то, что не подлежит изменению, поскольку было установлено Богом (таинства, незыблемое устройство Церкви, в отличие от ее изменяемых структур). – Католическая Энциклопедия
(обратно)90
Полицейское звание в Польше. Соответствует давнему унтер-офицерскому званию "старший хорунжий".
(обратно)91
Викарный епископ.
(обратно)92
Wprost (Напрямую, Без уверток – пол.) – один из ведущих польских еженедельников общественно-политического профиля, регулярно занимающий первую строчку рейтинга наиболее цитируемых СМИ в своей группе. Начал работу в 1982 году как региональное издание, с 1989 года приобрел общенациональный характер. Специфика Wprost претерпевала корректировки вслед за сменой главных редакторов: журнал, прославившийся в предыдущие годы журналистскими расследованиями, зачастую выходившими за рамки журналистской этики, взял в 2015 году курс на обновление. Поставлена задача укрепить имидж издания, как СМИ, задающего направление общественных дискуссий, и выступающего в защиту либеральной экономики, свободного рынка, предпринимательства и гражданских свобод.
(обратно)93
Таде́уш Ры́дзык — польский священник Римско-католической Церкви и монах монашеского ордена редемптористов, общественный деятель, основатель и руководитель ультраправой религиозно-политической радиостанции "Радио Мария".
(обратно)94
Построенная при Э. Гереке и ведущая на Силезию оживлённая трасса S1, так называемая „геркувка” (gierkówka).
(обратно)95
Третья Программа (канал) польского радио (была и на ТВ).
(обратно)96
Тарговицкая конфедерация – союз польских магнатов (акт Тарговицкой конфедерации опубликован 14.5.1792 в местечке Тарговица (Targowica). Стремясь ликвидировать реформы Четырехлетнего сейма, Тарговицкая конфедерация обратилась за помощью к царскому правительству. Результат действий Тарговицкой конфедерации - 2-й раздел (1793) Речи Посполитой. В ходе Польского восстания 1794 некоторые деятели Тарговицкой конфедерации казнены как изменники. (БСЭ)
(обратно)97
Графиня Мария Вале́вская — польская дворянка, дочь гостыньского старосты Матвея Лончинского, любовница Наполеона I, мать его сына — графа Александра Колонна-Валевского. А еще можно посмотреть любопытный польский фильм "Марыся и Наполеон". "Вошла в мировую историю как «польская супруга Наполеона». Ее совратили политика и патриотизм, а любовь пришла позднее" ( ).
(обратно)98
Скажу сразу: BOLS genever – это НЕ джин! Это – дженевер. Но поскольку для многих из нас даже обычный классический джин ещё остаётся не самым распространённым алкоголем, то разобраться в таких тонкостях вообще не реально. Я же по мере сил попробую немного прояснить ситуацию.
Чтобы понять почему дженевер это не джин, необходим лёгкий исторический экскурс. Использовать для ароматизации спирта различные растительные компоненты стали очень давно. На севере Европы и в Голландии в частности, обрёл популярность довольно крепкий напиток, изготовленный с применением шишкоягод можжевельника. Традиционно он поначалу был предназначен для лечения, но во время Тридцатилетней войны, голландские солдаты тоже им активно «лечились», принимая его так сказать «для храбрости». В это время с ним и познакомились «прирождённые бухарики» - англичане, которые поначалу называли его dutch courage (голландская храбрость), а затем сокращая голландское слово genever – просто gin. Таким образом и объясняется классическая версия происхождения слова «джин». При всём при этом, тот джин, что пили тогда голландские «вояки», и то, что сейчас продаётся под названием gin, это совершенно разные вещи, общего у которых, пожалуй лишь аромат можжевельника. Основное различие тут в технологии. Современный джин, именуемый «London dry», готовят как известно многократной перегонкой зернового спирта СОВМЕСТНО с можжевеловыми ягодами и другими компонентами. В результате получается очень сухой напиток с ярким ароматом можжевельника и других компонентов. При производстве женевера используется так называемое «солодовое вино», получаемое из разных злаковых (рожь, пшеница и др). Затем к нему добавляются всякие «присадки», в том числе и ягоды можжевельника, и другие. Затем всё это дело перегоняется и разводится до нужной концентрации водой. Поэтому у женевера хоть и есть в запахе можжевельник, но тут он далеко не на первом месте, как у «лондонского сухого». Основная его черта – солодовый привкус, что делает его больше похожим не на обычный джин, а скорее на ароматизированный виски! Вторым существенным отличием будет то, что обычный опять таки «ландан драй» практически сразу разливается по бутылкам и идёт в продажу. Женевер же, как правило, подвергается некоторой выдержке. Самый молодой из них называется Jonge, имеющий более резкий вкус и запах. Дистиллят, проведший в бочках несколько лет, называется Oude. Отличается более мягким вкусом и тёмным цветом. Самый старый (по аналогии с коньяком) называется ZO, то есть Zeer Oude. Это уже тоже вполне самостоятельный напиток, имеющий свои правила и традиции
Подробнее на Отзовик:
(обратно)99
Для тех, кто не знаком с классикой: Филип Марлоу — вымышленный частный детектив из Лос-Анджелеса, который является главным героем многих нуаровых рассказов и романов Раймонда Чандлера, включая: 1939 — «Глубокий сон», 1940 — «Прощай, любимая», 1942 — «Высокое окно», 1943 — «Леди в озере», 1954 — «Долгое прощание».
(обратно)100
"Я обвиня́ю" — статья французского писателя Эмиля Золя, опубликованная в ежедневной газете "Л'Орор" 13 января 1898 года. Она написана в форме открытого письма, адресованного президенту Франции Феликсу Фору, и обвиняла французское правительство в антисемитизме и противозаконном заключении в тюрьму Альфреда Дрейфуса.
(обратно)101
Вотивные предметы, вотивные дары — различные вещи, приносимые в дар божеству по обету, ради исцеления или исполнения какого-либо желания. Обычай приношения вотивных предметов — смягчённая форма жертвоприношения. Традиция известна начиная со времен пещерного человека до наших дней.
(обратно)102
Польская певица, автор песен и актриса. Деятельность начала в 1999 году. Работает в стиле альтернативный рок, авторская песня, "cold wave". Записала 10 дисков, разошедшихся тиражом 500000 экз.
(обратно)103
Рыбник — город в южной Польше, в Силезском воеводстве. Город находится в 340 километрах к югу от Варшавы, в 120 километрах к западу от Кракова и в 25 км от границы с Чехией. Население города — около 141 000 человек.
(обратно)
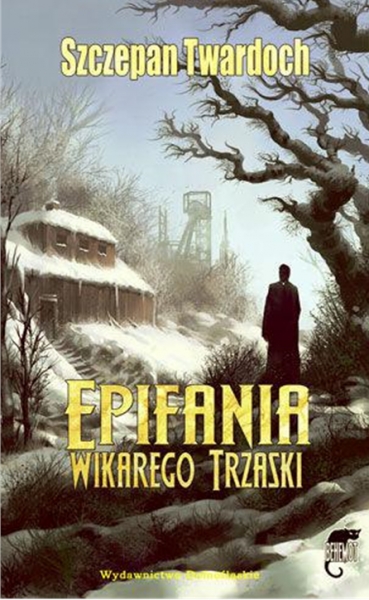



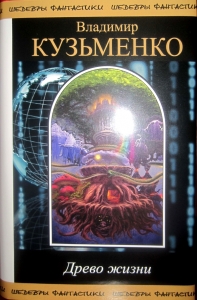

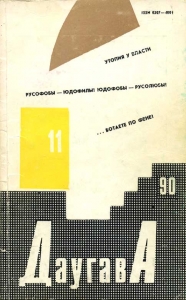

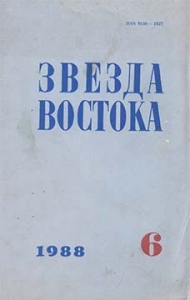
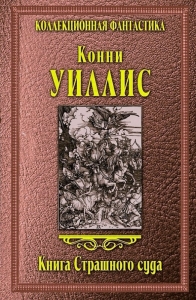
Комментарии к книге «Эпифания викария Тшаски», Щепан Твардох
Всего 0 комментариев