Ольгерд Бахаревич Собаки Европы
Белорусскоязычная версия романа «Собаки Европы» вышла в 2017 году в издательстве «Логвiнаў»
© Бахаревич Ольгерд, 2019
© «Время», 2019
* * *
Ю.
In the nightmare of the dark All the dogs of Europe bark, And the living nations wait, Each sequestered in its hate; Intellectual disgrace Stares from every human face, And the seas of pity lie Locked and frozen in each eye. Follow, poet, follow right To the bottom of the night… W. H. Auden. In Memory of W. B. Yeats…В темноте кошмарной той
Лают все наперебой Псы Европы. А народ, Полон ненависти, ждёт Расширения границ. Тупость пялится из лиц, Море жалости в глазах Заперто навек во льдах. Так ступай туда, поэт, Там ступай, где гаснет свет… У. Х. Оден. Памяти ЙейтсаI. Мы лёгкие, как бумага
1.
Как же мне надоел ваш белорусский язык, кто бы знал.
И кто бы знал, с каким наслаждением я пишу это. Надоел. Опостылел.
Ос-то-чер-тел.
Опротивел.
Достал.
Брысь, моя обрюзгшая мова, брысь. Ты вдоволь натешилась. Тобой не заработаешь, не убьёшь, не наиграешься, тебя уже не забудешь. Будто незнакомая баба в привокзальном тумане, похитительница оставленных на минутку детей, однажды ты появилась из ниоткуда, взяла меня за руку и повела в заплёванный подземный переход, полный тусклых витрин, озябших голубей и продавцов лотереек, — а я всё оглядывался туда, где остались стоять чемоданы: надёжные, начинённые будущим, уже ничьи. Ты разлучила меня с родными, это тебе благодаря мне привиделся однажды какой-то особый, странный народ, прозрачный, неуловимый, на самом-то деле — не существующий. Год за годом мы ходили с тобой по свету, ночевали в разных убогих местах, каких-то мухо-молочных деревеньках, библиотеках, заброшенных замках, на подозрительных постоялых дворах — где придётся; ты покупала мне дешёвые китайские игрушки и кормила, пока я не вырос, ты учила меня говорить тихо, а думать быстро, днём ты заставляла меня клянчить на улицах мелочь, а ночью обещала мне царство, и вот куда ты в конце концов меня привела —
в эту тёмную,
словно задымлённую,
съёмную
однокомнатную квартиру,
в доме с мемориальной доской,
в городе М.,
во времена всеобщего помрачения.
И ваш русский язык меня тоже достал. О-кон-ча-тель-но. Так приелся, что мочи больше нет. Кто бы знал, какую оскомину он успел мне набить за последние сорок лет. Что им ни скажешь, этим езыкомъ, всё уже было, всё откликается тысячей глупых эхо и вонью давно остывших буквиц. Готовые конструкции, чугунное литьё, язык-труба, положенная поперёк наших жизней. Ты всегда чего-то от меня хотел, мой русский язычок. Ещё в животе у мамы, когда я и человеком ещё не был, а так, слепленным чучелком, — ты уже настойчиво ко мне стучался, читал мне морали, душил своими ватно-марлевыми повязками, заражал меня страхом. Язык, который всегда приходит будто с обыском, язык, который всегда имеет право. Брысь, русский, брысь, жестяной язык жэков и пажеских корпусов, язык большой и липкой литературы, голос миллионов маленьких, свирепчатых в своей ежедневной злобе людей.
А английский? Он достал не меньше. То, что вы называете английским, всего лишь раздутое, как опухоль, резиновое сердце, которое натужно качает миллиарды слов, неживое сердце, на которое светит неумолимая лампа. Холодное люминесцентное свечение. Язык-фастфуд, от английского повсюду пятна, будто весь наш мир — всего лишь куча салфеток на чьём-то столе. Английский — язык на трансжирах и искусственных добавках. О, он умеет подмазать!.. Как же много людей думает, что знает английский, и считает, что этого им вполне хватит для счастья. Наивные дураки. И как много мы могли бы сказать друг другу, если бы отказались от этого вашего инглиша, если бы крикнули раз и навсегда своё «нет» этой отвратительной оргии взаимопонимания.
Испанский? Астматический кашель убийцы, какого-либо честного монстра Че. Смех мясника-тореадора. Немецкий? Горькая редька, которая когда-то вообразила себя гением и сверхчеловеком, а теперь всячески выпячивается, чтобы снова казаться нормальной. Французский? Недолущенное письмо сверху, невзрачный философский жаргон внутри. Польский? Высокомерие вторичных поэтов, от которого слова аж трещат, брызжут, лопаются, как колбаски на сковороде…
«Что это вы там всё пишете?» — он поднимает глаза от телефона и недовольно скрипит стулом.
«Пишу», — вяло оправдываюсь я, прикрывая ладонью серые листы.
«Пипишу… — передразнивает он. — Напиписали уже на три листа. Дайте сюда».
Он решительно вытягивает бумажки из-под моих рук. Лицо его кривится, будто он сейчас заплачет.
«Что это? Что это, я вас спрашиваю? Ну ёж вашу не скажу, ну что это такое? Ну за что мне вот это всё, а? Вы глухой? Или больной? Я вам что сказал? Напишите, при каких обстоятельствах вы познакомились с… А вы что пишете? Брысь, брысь, какие-то колбаски, чучелки… Блин, да я не понимаю ни слова, тут не разобрать ваще ни хрена!»
«Давно не писал от руки…»
Он грубо, с наслаждением мнёт мои листки, и мне становится жаль написанного. Даже больше, чем себя. Я люблю бумагу. Она меня успокаивает. Мне душно, страшно и смешно одновременно. Он сминает бумагу в комок и бросает куда-то за мою спину — но я всё равно вздрагиваю и отворачиваюсь, будто он метил мне в лицо.
«От руки! От руки, блядь, он не писал! Да тут что от руки, что от ноги! Тема не та! Тема! Понятно? Мне факты нужны. А это бред какой-то. Я же вам русским языком сказал…»
Он обхватывает голову руками и закрывает глаза. Государев муж принимает за меня муку смертную. Государев муж в отчаянии. Государев муж молчит. Государев муж карает меня тишиной своего душного кабинета. Проходит минута, а может, и две, и я начинаю слышать, чем живёт это удивительное здание, в котором на каждом этаже по дюжине государевых мужей. За стеной нервный женский хохот, где-то далеко наверху шумит кран и заходится дрель — видимо, кого-то там выводят на чистую водопроводную воду и сверлят глазами. Наверное, если бы я сейчас тихонько поднялся и выскользнул в коридор, мой государев муж ничего бы и не заметил. И вдруг у него булькает в животе. Я сразу же чувствую к нему симпатию — будто в брюхе под пиджаком у него сидит какой-то другой он, маленький, не государев, а вполне себе обычный муж, человек, со всеми своими привычками-пестричками, прыщиками, ручками-ножками, кучками-колючками.
Может, у него даже кошка дома есть.
А у кошки мячик.
В какое-то мгновение мне кажется, что всё это и правда можно было бы решить просто и легко: сейчас я тихо выйду отсюда и никому ничего не скажу, а он откроет глаза, улыбнётся и вычеркнет меня из этих его протоколов, и пойдёт на обед, и полезет в телефон, как будто ничего не было, и забудет меня, а я забуду его, и мы больше никогда не встретимся.
И как только я начинаю верить в то, что это возможно, его чрево утихает, он приходит в себя и сердито впивается в меня своими глазами:
«Послушайте меня внимательно, Олег Олегович. Повторять больше не буду. Погиб человек, а это не шуточки. Нам известно, что вы имеете к этому делу самое прямое отношение. Поэтому я вам и сказал: возьмите бумагу и напишите, чётко и ясно, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с…»
Он копается в бумагах:
«Вот. С Козловичем Денисом, Бундасом Станиславом, Кашкан Натальей. Вы понимаете, о чём я? Олег Олегович? Может, напомнить вам, а? Что именно произошло? А, напомнить?»
Я ничего не отвечаю. Имена мне и правда ничего не говорят. Они чужие. Я никогда не называл их так.
«Хорошо, я напомню… — он на ощупь достаёт какую-то зловещую папку. — Вот. Козлович Денис Валерьевич, вы же с ним знакомы, правда? Здесь, на фотографии, он трошки не в форме, но узнать можно. Любите смотреть на трупаков, а, Олег Олегович? И книжки читать любите… Лю-ю-бите, я зна-а-ю… А здесь у нас и книжка, и фишка, и трупишка…»
Я отворачиваюсь. Он доволен, он думает, что я уже почти готов. Ещё немного поднажать, и из меня потечёт сок. Из глаз, из пальцев, на бумагу, на его лицо, кислый сок вины, из которого он, винодел, сделает славный напиток — и справедливость засядет за свой роскошный банкет, будет пировать, пировать, бля, ведь мы же все любим справедливость. Краем глаза я, конечно, посмотрел на фото. Не мог не взглянуть, я же человек информационной эпохи, как и он, мы уже не можем просто отвернуться, отвернуться и не вернуться, лишних картинок, букв, звуков больше не существует, не существует чужих дел и тайн, нам всюду надо сунуть свой нос — иначе мы не уснём. Мы весь день только и делаем, что читаем. Поэтому я украдкой взглянул на снимок — и он заметил, что я взглянул, заметил, не мог не заметить.
Хитроглазый, могучий государев муж следит за моей реакцией. Откуда ему знать, что я эйдетик — что мне достаточно бросить совсем короткий взгляд на что-то, чтобы это что-то перескочило в моё сознание и закрепилось там навсегда. Лучше, конечно, чтобы это что-то было буковками на бумаге или на экране — а не мёртвым голым парнем, которого я совсем недавно искушал несуществующими сокровищами. Козлик, Козлик, что же ты наделал. Давай договоримся хотя бы сейчас, что это была просто игра. Вставай, изгладь себя с этого асфальта, с этого снимка, из моей памяти, давай договоримся, что мы никогда не были знакомы. Тогда и этот, по ту сторону стола, исчезнет. Растает в воздухе строгий муж государев, — и мы все пойдём домой. Можно, мы уже все пойдём домой?
«Я, конечно, иностранными языками не увлекаюсь, — задумчиво говорит он, пряча фото в папку. — Но даже я, блин, могу сказать: у него на коже написано что-то не по-русски. Ножиком нацарапано. Ножик-то мы нашли… А вот что там за текст… Хрен разберёшь. Это не английский, не немецкий, не французский… Мы, ясен перец, покажем знающим людям, но пока что расшифровать не получается. Видите, Олег Олегович, я от вас ничего не скрываю, я вам как родному… А вы?»
И ещё один лист бумаги. Он ложится передо мной аккуратно, словно мне нужно подписать какой-то договор и от одного моего росчерка зависит, будет ли нам с ним профит, нам и нашему удивительному предприятию, у которого пока что нет конкурентов.
«Интересно, да? — он снова впивается мне в глаза. — Я это сам переписал. От руки. Прямо с кожи этого Козловича. И не жалуюсь. Может, скажете мне, что это? Поможете нам? Что здесь написано? Вы же умный, языками владеете. Владеете же?»
«Кто кем владеет, это ещё вопрос…»
«Что вы там бормочете? Какой допрос? Просто беседуем. Вот, полюбуйтесь».
То, что я вижу, заставляет меня вздрогнуть. Он нетерпеливо перегибается через стол, смотрит то на этот короткий текст, то на меня. Конечно, я знаю, что написано на том листе бумаги. Бальбута на самом деле простая — достаточно иметь немного фантазии, быть хотя бы чуточку поэтом. И разумеется, усвоить корневую систему, но это легко. Корневая система — звучит, как на приеме у дантиста. Тридцать два зуба — сто тридцать слов. А вот у неандертальца зубов было сорок четыре.
«Как чижей у Хармса», — говорю я.
«Что вы сказали?»
«Да так, ничего».
Цифры, цифры, цифры. Цифры против слов. Я всё продумал. Корневая система против карательной.
Как же мне хочется писать. Всё объяснить, во всём оправдаться. Рассказать кому-то, да так, чтобы с самого начала. Ведь иначе никто не поймёт. А этот болван забрал бумагу.
Я уже не отворачиваюсь. Тупо смотрю на подсунутый мне текст. На бумаге слова выглядят солидно. Будто это не я их придумал. Будто я здесь ни при чём. Смешно будет, если они доберутся до правды. Переписано, конечно, неумело, с ошибками, — а может, и оригинал был такой, Козлик любил пропускать буквы, все молодые болеют дисграфией, теперь вообще все дислектики, а виновата она, глобальная сеть, это она отменила законы письма — вычеркнула правописание вместе с этикой из списка умений и навыков. И эмпатию вычеркнула.
Во что же ты играл со мной, Козлик?
«Да какие там языки, — я пытаюсь взять себя в руки. — Вы меня с кем-то путаете, я не полиглот».
Он не верит.
«Да ну? А мне говорили…»
Я совсем забыл, что кроме Козлика есть и другие. Каштанка. Буня. Неужели и они сидели вот так, в душном кабинете, и отворачивались, и делали вид, что не имеют никакого отношения к тому, что всё-таки взяло и произошло.
«Ну, может… Нет, не знаю. На что-то похоже, но на что… Нет, не могу сказать. Может, это баскский. Но я им не владею. Только слышал, что это очень трудный язык. Не знаю. Да я вообще в школе немецкий учил!»
Последние слова звучат почти истерично. И всё же я чувствую гордость. Потому что всё всерьёз. Наконец-то меня и моё произведение кто-то воспринимает всерьёз. Пусть это всего лишь маленький человек в душном кабинете.
И тогда он вдруг начинает вслух читать то, что написано на листе — этим своим деревянным голосом, ставя ударения так, будто хочет меня унизить, он читает, будто грубо срывает одежду с какого-то беззащитного существа, и тело этого существа постепенно проступает сквозь мрак его идиотизма, трудноузнаваемое, но ещё живое тело. А он мучает, терзает своим поганым языком, слово за словом тянет. И смотрит на меня злорадно. Государев муж смотрит на меня, будто читает сейчас со злых складок на моём лбу, а не с листа серой бумаги. Искалеченные им слова гремят у меня в ушах. Записка, которую оставил Козлик, совсем короткая, но это бездарное чтение быстро доводит меня до бешенства.
Это нужно читать совсем не так, надо нараспев, мягко, это же музыка, не обязательно знать значения слов, чтобы их правильно произнести, у вас же нет слуха! — хочется мне крикнуть ему в лицо.
Но я сдерживаюсь.
Прижмурившись, государев муж долго смотрит на меня, а потом складывает всё в папку.
«Не хотите вы нам помогать, Олег Олегович. А придётся. Есть свидетели. Которые, согласно их показаниям, неоднократно… Короче, которые видели вас с Козловичем, Кашкан и этим, как его… Бундасом Станиславом. Что-то же вас связывало. Да ещё как связывало».
«Ничего особенного. Просто знакомые».
«Знакомые… Да уж. Слишком знакомые. Вас часто видели вместе. В самых разных местах. А ещё… Ещё эти трое неоднократно приходили к вам домой. То есть в незаконно снимаемое вами помещение… Чем вы там занимались?»
«Ничем. Языки учили».
«А говорите, не полиглот, только немецкий… Что же вы всё врёте, а? Я же вас насквозь вижу. Что за языки?»
«Разные…»
«Какие?»
«Это не важно».
«То есть садились и учили? И больше ничего? Ничем больше не занимались? Может, вы языками не в том смысле занимались? А? Язык — слово неоднозначное».
«Нет. Мы говорили — и всё».
«На каком языке?»
«Которого не существует».
«Но вы на нём говорили?»
«Да».
«Значит, он существует?»
«Нет. То есть, конечно, да, но только… Никто о нём не знает».
«Так он существует? Да или нет?»
«Нет».
«Ясно. Замечательно. Действительно, чего это я к вам прицепился? Всё же нормально. Это я просто какой-то подозрительный. А вы невинная овечка, жертва полицейского государства. Сорокалетний неженатый мужчина приглашает к себе домой двух молодых людей и одну несовершеннолетнюю, говорит с ними на языке, которого, блядь, не существует, а потом один из парней ножиком режет себе на коже какие-то слова и голый выбрасывается из окна. Прекрасно. Вопросов нет. Никакого криминала. Обычное дело, тут и думать нечего. Простое, как мычание. Наверное, надо извиниться перед вами и отпустить на все четыре стороны. Чтоб вы пошли домой и дальше говорить на несуществующих языках, водить к себе новые партии несовершеннолетних и учить их писать на коже ножиком. От руки».
«Я не учил… ножиком. Понимаете… Мы говорили. Это искусственный язык. Я его придумал».
«Зачем?»
Я отвожу глаза. Я растерян, как ребёнок. Я боюсь таких скоростей, у меня тогда ладони становятся, как из бумаги. Поэтому я не нахожу ничего лучшего, как только пробормотать с масленой улыбкой:
«В смысле?»
«Я спрашиваю: зачем?»
К этому вопросу я и правда не был готов. Наверное, я даже побледнел. Нахмурившись, недоумённо выставив вперёд брови, он смотрел на меня так, будто только что поймал меня на лжи. Я ожидал, что сейчас придётся прочитать ему лекцию об эсперанто и других конлангах, рассказать, что я не единственный в мире такой урод, интересующийся искусственными языками. И вскользь намекнуть, что «искусственность языка» в данном случае — термин некорректный, надо говорить именно о constructed languages. Искусственность — это мёртвое состояние, иллюзия. А нас было четверо живых — без всяких иллюзий. Почему-то я надеялся, что понять всё это будет под силу его юридическому, сладострастно-бюрократическому умишку — мелкой умочке государевой, мозжечку, в котором нет места ни фантазии, ни красоте. Но какие-то же книжки он читал. Есть же кошка у него дома! И мячик у кошки есть! Он же не тупой. Простое, как мычание, — это же не каждый муж в этом государевом доме так завернуть сможет. Да, я не испытывал к нему ненависти. Только что мы говорили, худо-бедно, но говорили, куда бы это всё ни привело, и я старался понять его, а он меня. И тут это беспощадное, нелепое, такое обидное «зачем?»
А и правда — зачем? Люди придумывают конланги, чтобы осчастливить других людей. Чтобы дать шанс людям на взаимопонимание. Или чтобы отомстить богу. Или ради интеллектуального развлечения — чтобы решить художественную задачу, головоломку. Заполнить пустые клеточки вечерком, чтобы всё сошлось и можно было спокойно пойти пить чай и думать о вечном. О том, как заработать денег и остаться живым. А ещё люди создают языки, чтобы знать, что у них, языков, внутри.
Но зачем всё это было мне?..
«Дайте мне бумагу, — попросил я дрожащим голосом. — Пожалуйста. Я боюсь говорить, мне надо писать».
«Нет, — он покачал головой. — Снова вы мне про колбаски начнёте, про чемоданы с будущим. Сделаем так. Есть у нас здесь один кабинет… Он пока что пустой. После ремонта. Я дам вам диктофон и закрою там на часок или два. А вы возьмите и всё расскажите. Всё, как есть. Представьте, что пишете. И начинайте говорить. Не забывая о том, что ваша задача — ответить на все мои вопросы. А дальше всё будет зависеть только от вас. И никаких красивостей, договорились?»
Я киваю. Вот как оно вышло. Стоило ему заговорить вот так, деловито и спокойно, и теперь он для меня как родной. Мне даже хочется руку ему пожать — или обнять.
Всю жизнь я мечтаю говорить так, будто я пишу. Я слышал, что за эти виды деятельности отвечают разные половины мозга. Но проблема в том, что всё слышимое мне всегда кажется ложью. Я знаю, что невозможное возможно. А иначе и жить незачем.
Он провёл меня в пустой кабинет, где не было ничего, кроме стола и стула, и включил машинку.
Я назвал своё имя и не без труда вспомнил, какой сегодня день.
«Никакой литературщины! Только факты, имена и даты», — строго напомнил он, закрывая за собой дверь.
«Да-да, конечно, понял», — поспешно замахал я руками. Мне хотелось, чтобы он как можно скорее ушёл.
В дверях повернулся ключ. В зарешёченное окно заглянуло солнце и разложило на столе свою доску для китайской игры. Теперь я был один, сидел и не знал, с чего начать. Машинка на столе записывала моё дыхание, стук сердца, далёкие звуки дрелей и кранов, дробь пальцев. Несколько минут я молча смотрел на неё — и на какой-то момент мне показалось, что я уже всё сказал. Вся история уже там, в этой дьявольской коробке. Кто-то с той стороны дёрнул ручку двери — и раздражённо потопал обратно по коридору. Я подтянул стул поближе к столу, дышать становилось всё труднее, я не мог выдавить больше ни слова. И тут я заметил нитку. Её кончик торчал из приоткрытого ящика пустого стола. Одному богу известно, как она туда попала, эта синяя нитка, зацепившаяся за гвоздик в деревянном ящике. Осторожно, стараясь не порвать неуловимый, тонкий синий хвостик, я освободил её, вытащил и намотал на указательный палец. А потом размотал. И намотал снова. Она была длиной в ладонь.
Игра меня захватила. Я уже не думал о словах. Я играл со своей подружкой-ниткой, а кто-то другой, кому надоело на нас смотреть, покашлял и начал говорить. Вполуха я прислушивался к его болтовне. В какие-то мгновения мне хотелось прервать его и поправить, но нитка была важнее. Впрочем, с самого начала этот кто-то выбрал не тот тон, не те слова, иногда он бесстыдно врал и выставлял себя гораздо умнее, чем есть. Его послушать, так всё очень просто. Как в книжках. Но надо дать ему выговориться.
Послушать только, что он несёт… Только бездарь начинает рассказ с кофе. Кофе… Мол, видите, какой я богемный, романтичный, европейский, какой я кофейный, ароматный, крепкий орешек, без кофе я никуда, без кофе я калека, ни начать, ни кончить. Кофе…
Но, если разобраться, так оно и было.
2.
Однажды я сварил себе кофе, сел за стол и придумал свой язык.
Придумав, я откинулся на спинку стула и неторопливо огляделся.
В пепельнице скрючились пять окурков. Безымянный цветок на подоконнике задумался о Blut und Boden. В моём тихом, неинтересном дворе было уже темно, в доме напротив давно включили свет и завесили окна. Как в примерочных кабинках. Голые люди за занавесками примеряли на себя друг друга: давит? Не давит? Нормально… Сойдёт для сельской местности, как говорили мои городские родители.
Ноутбук тихо мурлыкал в тишине квартиры, освещая моё лицо.
Серое лицо человека, который придумал свой язык.
На какой-то момент я увидел себя как бы со стороны. Будто я сижу у костра, и вокруг лес, и я знаю только три слова, и мне хватает.
В такие мгновения, когда ты сидишь перед включённым ноутбуком в тёмной квартире и смотришь в окно, иногда может показаться, что всё на свете придумано тобой. Что именно ты только что настучал на клавишах этот удивительный мир, который живёт своей жизнью. Опасное ощущение. И как же больно бывает, когда понимаешь, что ты тут вообще ни при чём. И действительно, вокруг не было ничего, к чему я был бы причастен. Всё — от крыши над головой до наимизернейшей микросхемки, от уличных фонарей до колёсика зажигалки — было придумано, сделано, построено, покрашено и названо другими. И люди за занавесками не собирались становиться ко мне в очередь. Об их намерениях я вообще ничего не знал. Как и они о моих. Обычно в моём распоряжении было только время. Пустые клетки, в которые нужно себя вписать. Клеток мало, а тебя много. Поэтому надо идти на всяческие ухищрения. Мучить себя и других.
На этот раз, однако, вышло иначе.
С того момента, как я сел за стол с чашкой кофе, прошло два часа. Казалось, что вокруг ничего не изменилось, кроме освещения. Я остался прежним. И мир был такой же, как два часа назад. Такой же, и всё же совсем другой. Там, за окном, ходили люди, и каждый из них пользовался чужим языком, а у меня был свой. Сам по себе этот факт ничего не решал — и всё же наполнял меня странной радостью. Будто меня признали виновным в преступлении, на которое я никогда бы не решился.
Я чувствовал усталость. Величественную усталость бога, весёлую усталость творца. Вдруг я почувствовал, что голоден, пошёл на кухню, везде включая свет, достал из холодильника кусок колбасы и начал жадно жевать, запивая дешевым вином прямо из пакета. За стеной залаял пёс, зазвенели ключи, там расклеили рот телевизору и он сразу во всём признался. Я нажал кнопку электрического чайника, старый чёрный советский счётчик у дверей затрещал, колёсико завертелось, как пластинка, с которой сейчас польётся то ли вальс, то ли джаз, то ли марш. Что-то, что давно уже не в моде. Неожиданно мне стало страшно, что файл мог пропасть — я бросился обратно к столу, проверил: он был на месте, придуманный мной язык светил мне в лицо, как луна. Я аккуратно скопировал файл на флэшку и спрятал её в надежном месте. А потом выключил ноутбук, открыл окно, выбросил окурки. Скоро должна была прийти Верочка. Но ни она, ни соседи, никто, никто во всем мире не должен был узнать, что сегодня вечером
я сварил себе кофе,
сел за стол и
придумал…
Я назвал его бальбута. Одному богу известно почему.
А богом был я.
Лингвоконструированием я начал увлекаться еще в детстве.
Помню, мы с приятелями вырезали из бумаги фигурки людей, раскрашивали их и играли на полу в государства: воевали, мирились, торговали, прирастали землями — ковровыми Сибирями, горными хребтами диванов и другими колониальными владениями. Надо было обзавестись как можно большим количеством народа: из-под наших ножниц на пол сыпались солдаты, крестьяне, чиновники, священники, моряки, купцы. Больше всего, конечно, мы любили делать солдат: придумывали им обмундирование и оружие, знаки различия, чины и даже характеры — для самых героических. Игру эту выдумал я — и мгновенно подсадил на неё остальных, мы могли ползать по полу часами, перемещая наши войска и поселенцев, строя города и постоянно ведя перестрелки и сражения: тыщ, тыщ, тыдыщ. Тысячи фигурок были подвластны нашим приказам. Нам было лет по двенадцать-тринадцать, эпоха компьютерных игр ещё не наступила, но мы получали от нашей забавы такой кайф, которого не получишь от современных стрелялок, аркад и стратегий. Мы играли после школы у меня дома, сделанный нами мир нужно было убрать до прихода родителей с работы, иначе сворачиваться приходилось в спешке, под ногами у взрослых, и можно было в суете забыть, какие пределы установлены на сегодняшний день в нашем мире. Иногда взрослые приходили раньше и всё же заставали нас за этим групповым помрачением. Сначала они не обращали внимания, что делается у них под ногами, но со временем наша игра стала их настораживать. Видно, существовали какие-то неизвестные нам родительские совещания, где они обсуждали, что с нами не так. Однажды отец одного из приятелей, встретив как-то на улице нашу компанию (мы как раз шли ко мне с полными карманами фигурок), остановил нас и с какой-то добродушной яростью в глазах сказал, глядя в глаза не кому-то иному, а именно мне — и ухватив меня за руку выше локтя:
«Слышь? Вы ж здоровые ребята! Что вы хернёй занимаетесь? Шли бы уже девок тискать… Или набухайтесь возьмите. Или там, не знаю, лбы себе поразбивайте. Что вы всё по полу ползаете, как малые?»
«Папа, иди куда шёл», — пробормотал мой приятель. Мы стояли и стыдливо лыбились, не зная, что сказать. Он был Папа. С правом наказывать или миловать, с плевками вместо глаз, пролетарскими кулаками, с пенисом, перегаром, принципами. А мы были никто, подростки с бумажными игрушками в карманах школьных пиджачков.
«А ты отцу рот не затыкай! Будешь с ним и дальше ползать, не мужик из тебя получится, а хуй бумажный!»
Он сжал мою руку ещё сильнее. Он был выпивши. Он считал, что мои родители обходятся со мной недостаточно сурово. Но что он мог сделать? Только отпустить меня, залезть к сыну в карман пиджачка и вытрясти из него целый народ, солдат, странствующих монахов, полководцев, купцов, кузнецов — вытрясти просто на асфальт, на который кого-то недавно стошнило свежей зловонной весной, кого-то большого, кто плыл теперь по небу и у кого мы уже тринадцатый год путались под ногами.
Он растоптал фигурки, буквально вмесив их в лужу, этот всемогущий отец, настоящий Бог, не бумажный, на асфальте теперь была грязная каша из фантазий его сына, и он имел полное право заставить своего отпрыска стать теперь на колени и слизать её. Я смотрел на этого отца, как загипнотизированный. Такая власть меня восхищала. Он заметил мой взгляд, плюнул и пошел прочь.
Трезвым он меня боялся. И называл за глаза так: «этат бальной». С уважением и презрением одновременно — бывает и такое. Мы жили в недавно построенном микрорайоне на самом краю города, здесь все знали всех, здесь трудно было хранить тайны. Он боялся, что я заражу его сына своей «балезьнью» — своей бумажнохуёвостью, своей бумагоползучестью, своей ненормальной любовью к книгам.
Как я уже сказал, идея игры принадлежала мне, приятели завидовали и постоянно пытались как-то повлиять на правила, а мне это не нравилось. Поэтому иногда мы поднимались с пола и противостояние продолжалось в воздухе — и уже не бумажные люди, а суровые боги становились друг против друга, сжимая кулаки.
И именно мне принадлежала другая идея: начать делать для игры не только бумажных солдат, монахов и рабочий люд, но и женщин. Что и говорить: над женскими фигурками мы сидели значительно дольше. Попробуй вырежь все эти таинственные изгибы и кошачьи очертания, все эти кружева загадочных тел, придуманных кем-то для нашего наказания, тел, от одной мысли о которых потели ладони, болели соски и ныло между ног. Стоит руке дрогнуть — и вместо женщины получишь опухшую, бесформенную старую ведьму. А старухи — они ведь не считаются. В наших играх вообще не было ни стариков, ни детей. Только здоровые белые бумажные мужики, которые постоянно думали об убийстве себе подобных.
Какая же это болезнь — быть мальчиком. Моё тело напоминало мне тогда весеннее дерево. Я чувствовал что-то родное моему бедному мальчишескому телу в первых почках на ветках, в том, как же больно им весной распускаться, в их утренних мартовских стонах, которые, кажется, слышал только я сам. Какая же это была мука. Мука тринадцатилетия. Ведь фантазия у нас тогда работала так, что не нужно было никакое порно, никакие стимуляторы. Однажды я не выдержал и начал делать фигурки обнажённых женщин, все заржали и с облегчением начали мне подражать, а потом мы лежали животами на своих империях и сравнивали, у кого что вышло, мы валялись на полу красные, как будто с нас содрали кожу, и почему-то не хотели смотреть друг другу в глаза, и становилось страшно, что сейчас вернутся родители и застанут нас за этой игрой. Мы настолько этого боялись, что уничтожали женские фигурки после каждой игры, и следующий раз их нужно было вырезать заново. И мы мастерили, неистово и неуклюже, — и больше не понимали, кто мы: боги, рабы или сумасшедшие, и громко смеялись, и ругались, и лезли на стены от чего-то невысказанного, страшного и неизбежного.
Однажды, успев уничтожить все обнажённые фигурки как раз перед приходом родителей, я, сидя с мамой и папой перед телевизором, с ужасом заметил, что одна фигурка осталась лежать под диваном. Как я мог недосмотреть, как мог её не заметить! Что будет, если мама её найдёт (она убиралась часто, чуть ли не каждый день)… Я уже не мог смотреть фильм, я думал только об этой забытой фигурке. А родители сидели рядом со мной, как прикованные. С трудом дождавшись, когда фильм наконец закончится, я долго не выходил из комнаты, но никак не мог остаться один. Потом меня послали на кухню за вареньем, потом родители выходили из комнаты, но по одному, каждый раз по одному, я никак не мог выбрать момент, чтобы схватить ту злосчастную фигурку и спрятать в штаны. Я сгорал от стыда. Наконец оставшись в комнате без родителей, я полез под диван, но фигурки там не было! Никакой фигурки, только полная пустота и чистота — и эта абсолютная чистота пугала меня больше любого скандала. Она была там. Я видел её. Куда она подевалась? Ответ на этот вопрос долго не давал мне покоя.
Годы спустя, когда я уже был вполне себе взрослым человеком и иногда оставался дома один, я несколько раз не выдерживал и ложился на пол, будто хотел отыскать ту потерянную женщину. Её нигде не было. Я брал ножницы и бумагу, и вокруг меня снова вырастали империи детства, мои солдаты, крестьяне, жрецы несуществующих религий, а я лежал с закрытыми глазами и печально прислушивался к своим ощущениям. Иногда мне казалось, что сердце колет что-то знакомое, я ожидал того самого, забытого уже нытья внизу живота, лежал, боясь спугнуть прошлое, которое, я думал, вот-вот прошмыгнёт мимо по пустой квартире — но в конце концов приходило только разочарование. Туда не возвращаются. По крайней мере, в одиночестве. Нужны враги или сообщники, но никто не способен вызвать их из царства теней.
При чём здесь лингвоконструирование, спросите вы? При чём здесь бальбута? Разве она родилась уже тогда? Конечно нет. До бальбуты было ещё как до Луны.
Как заточенному зубу карандаша до бумажного месяца.
Дело в том, что тогда, подростком, играя в наши странные игры и передвигая по полу бумажные фигурки, я предъявил приятелям одно важное требование. Если уж мы имеем свои государства и народы, мы должны придумать им языки, нетерпеливо объяснял я им. Это казалось мне таким очевидным: до слёз! — но, к сожалению, только мне одному. Приятели поневоле соглашались, да что толку: им хватало двух-трех глупых фраз — чисто для декора, бессмысленных фраз, которые они сами не в состоянии были запомнить. И когда я начинал расспрашивать, как будет на их языках то или иное слово или выражение, очень быстро они не выдерживали. Я хорошо помню их сиплые психованные голоса: да пошёл ты, ты только игру портишь своими капризами. Теперь я, конечно, всё понимаю. Их увлекало другое: тыщ, тыщ, тыдыщ, власть, выстрелы, войска и голые женские фигурки. От балды придумав своему народу пару слов, они считали, что этого вполне достаточно, и раздражались, когда я ловил их на ужасных несоответствиях языкового строя.
У меня же всё было серьёзно. В толстых тетрадях я составлял словари и грамматики подвластных мне бумажных людей. И строго следил за тем, чтобы всё в моей стране было по правилам. Если какой-нибудь из моих генералов издавал письменный приказ, мне приходилось не раз и не два заглянуть в свои тетради. Мои генералы не имели права на ошибку. По крайней мере, на языковую. Друзей это раздражало. Их наспех нарезанные народишки болтали по-русски, хотя и имели, на бумаге, свои национальные языки. Что-то эта ситуация напоминает, не правда ли? В моих войсках и тайных службах даже были специально вырезанные и раскрашенные специалисты в тёмных очках, чтобы изучать языки врагов, — но им попросту не было чем заняться и они часами протирали на коврах свои бумажные брюки.
Таким образом, друзья не собирались тратить время и бумагу на такие мелочи, как лингвоконструирование, и, наверное, считали меня тем ещё занудой. Но в игры мои они играли с неподдельным подростковым энтузиазмом — ведь никто другой не мог предложить им ничего подобного. Один из дружков устроился теперь охранником в большом гипермаркете. Когда я его встречаю, то делаю вид, что мы незнакомы. Другой спился и умер в Москве. Он любил коверкать слова: это его выражение, которое он повторял с тупым наслаждением и каким-то кишечным смехом — «нормалды». С ударением на «ы». Нормалды, Олежка, всё нормалды. Все смеялись. Кроме меня. Под их глупый смех я размышлял, откуда и зачем это ненормальное «нормалды» и как оно могло прицепиться к нашему минскому русскому языку; явно что-то дикое, тюркское, глупый репейник из далёкой степи, принесённый слепым ветром с одного конца империи в другой.
Третий приятель уехал в Англию и как-то через много лет нашёл меня в фейсбуке. Он довольно долго доставал меня, посылая мне в приват бодрые вопросы относительно того, чего я добился в жизни, — и всё по-английски. Почему вдруг по-английски? Чтобы его ненароком не приняли за нашего? Но кто его мог увидеть здесь, в частном чате? Вскоре мне стало ясно. Ему не хватало моей зависти. Он хотел признания своего саксеса. Ему хотелось показать, что он «кое-чего добился в жизни». Почему-то они все, уехав, строят из себя ну таких уже европейцев, таких уже крутых и цивилизованных, что на рвоту тянет. Я внимательно рассмотрел фото приятеля, который улыбался из-под каких-то пальм. Да у него на лбу русским языком было написано: дитя говномикрорайона, совок по рождению и чистокровный славянин, то есть сын еврейки и татарина. Лицо его совсем не изменилось. Изменилась фамилия. На её конце появилась красивое «off». Был Сырников, а стал Sirnikoff. Интересно, помнит ли он наше ползанье по полу, наши пакты, победы, перемирия, наши путешествия с бумажным порно на потных подушечках пальцев — от плинтуса до плинтуса? Мне хотелось его расспросить обо всём этом, нашем, далёком, но я ответил только: Fuck off, Sir Nikoff. Зачем мне эмигранты — я сам эмигрант. Ведь всю жизнь бежал от всех их языков — к своему, единственному.
Вот так, ещё тринадцатилетним фриком в трениках, я придумывал языки. В том возрасте моей любимой книжкой был «Словарь юного филолога». А в особенности та его статья, которая называлась «Искусственные языки». Я и сейчас помню, где она размещалась в книге: она занимала правую сторону, слева была картинка, а продолжение было на следующей странице — я просматривал её снова и снова, и я хорошо помню постоянное чувство горечи, когда я перелистывал ту страницу: статья была обидно короткой и слишком быстро заканчивалась. Я жаждал ещё больше информации, но её нигде не было — ни в школьной библиотеке, ни в районной, ни в городской, всё тот же мизер, мне оставался только мой белый, бедный, всезнающий словарь: какашечные пятна от какао и варенья на заветной странице, и крошки от печенья, навечно приплюснутые тугим корешком, и антропоморфные части речи на иллюстрациях. Вскоре он уже сам разворачивался там, где нужно, этот словарь. Чтобы снова выдать тот самый мизер, давно заученный мной наизусть. И всё же именно из этой белой книги я впервые узнал об эсперанто и Заменгофе, о волапюке и пасторе Шлейере, об идо и интерлингве. Меня завораживали эти слова. Ида Эсперанто: это звучало для меня, как женское имя, а Волапюк — как имя похотливого лесного бога, который гонится за невинной нимфой (а на самом деле той ещё нимфоманкой). Я будто бы слышал незнакомые непонятные слова, которые слетают с их губ; было что-то развратное и тревожное в образе, который представал передо мной, стоило мне взять мой словарь в руки. Словарь ни разу не оплошал — с ним я забывал мерзость родного микрорайона и дикость моей страшной средней школы, забывал свои нудные обязанности и красные повязки дежурных, с которыми мы, ученики, были похожи на молодых нацистов. С твёрдой обложкой, весь такой позитивный и правильный, полный цветных иллюстраций, чем-то похожий на детскую библию — этот соблазнительный словарь для старших школьников всем своим видом обещал мальчику или девочке, которые выберут филологию, место в рядах интеллигенции: всегда чистые руки, кабинетную славу и белый билет вместо чёрной работы. Я рано перестал ему верить. И всё равно языки меня завораживали, а больше всего завораживало то, что это и правда реально: когда-нибудь создать свой.
Позже я понял, почему у меня ничего не выходило, — я совершал детскую ошибку, не стоящую серьезного лингвоконструктора: я хотел, чтобы языки, которые я придумывал, были как живые. Похожие на уже существующие. Наречия, создающие иллюзию жизни. Языки, которыми якобы пользовались миллионы людей, сотни поколений, языки седые и дремучие, скрытые где-то внутри пра-истории. Конструируя, я словно работал над звуковым фоном для фильма, оформлял искусственным языком данный мне согласно контракту искусственный мир. Я не был свободен. Я хотел, чтобы всё было как у людей, — имея под рукой лишь неумело вырезанные мной бумажные фигурки. Мне и в голову не приходило, что я и мои приятели тоже были героями, достойными языка, что мы и были готовой пра- и предысторией, вполне пригодной для рождения чего-то нового.
Создать язык — тяжёлый труд. В те времена и чуть позже, когда в моей жизни ещё не настал долгий период Поражения, я несколько раз пытался создать что-то стоящее и постоянно сталкивался с одной проблемой, с которой так и не смог справиться. Чем больше мой язык напоминал живой, тем больше условностей, соответствий и правил он требовал. Я нетерпеливо и небрежно разрабатывал лексику и грамматику, надеясь нащупать наконец спасательное дно — но язык ненасытен, он требует ещё и ещё, и ты погружаешься всё глубже и тянешь себя вниз в надежде ощутить чудо — а до дна ещё ужасно далеко. И ты просто тонешь. Захлёбываешься в бесконечности языка, в его обещаниях. Теперь я знаю: чтобы придумать язык, нужно сначала самому определить его дно. И оттолкнуться от него, и забыть, где оно, на какой глубине. Дать языку самому перемещать своё дно то ближе, то дальше от того, кто в него погрузился.
Настоящий лингвоконструктор не мастерит языки «как живые». Он создает живые языки.
Бальбута получилась такой живой, что от неё даже кто-то умер.
3.
Каждый сконструированный язык должен соответствовать пяти важным требованиям.
Во-первых, он должен быть лёгким для изучения. Не иметь исключений и других нелогичных сложностей, которые ничего не добавляют к его красоте, а лишь загромождают новое, созданное нами пространство. Пространство новорождённого языка — комната с белыми стенами, полом из светлого дерева, много солнца и окна до потолка. Воздух и свет. Ничего лишнего.
Во-вторых, он должен быть благозвучным. Именно неблагозвучность погубила когда-то волапюк. Музыка удерживает язык в нашем мире, соединяет его клетки в единый организм, не даёт им вернуться в хаос. И здесь нужны компромиссы. Девять из десяти европейцев считают идеалом благозвучности и музыкальности романское языковое наследство. Как бы ты ни относился к этим пошлякам, в чём-то они правы. Полноголосие и ударения, чистота гласных, рычание согласных — на всё это может наплевать только круглый дурачок. Хотя для меня идеалом в этом смысле всегда был литовский… певучий и древний язык соседей — его звуки даже физически приятно произносить. Видно, эта моя любовь как-то отразилась и в бальбуте.
В-третьих, язык должен быть поэтичным. С одной стороны, содержать поэзию в самом себе, уже созданном, с другой, быть способным её воспроизводить, иметь потенциал образности, чувствовать в себе силу говорить о невыразимом. Язык не язык, если он не имеет тайн. Каким бы он ни был богатым и сложным, язык мёртв, если он открыт только для ограниченного количества интерпретаций. Если на него (и с него тоже) невозможно переводить стихи.
В-четвёртых, он должен иметь определенную философию. Изменять личность того, кто им владеет, ставить вопросы, связывать с миром, влиять на мышление.
В-пятых, он должен давать свободу. Каждый, кто захочет им овладеть, должен иметь право делать с ним что захочет, изменять и приспосабливать к своим потребностям. Язык невозможен без гибкости, он — змея, которая одолеет своим гремучим телом любую стену, любое отверстие, любой рельеф, змея, для которой нет преград ни под землёй, ни на земле, ни на небе.
Таким образом, каждый новосозданный язык должен сочетать в себе благозвучие и свободу эсперанто, ум и сознание токипоны, лёгкое безумие славянских наречий и многозначность восточного иероглифа.
Бальбута соответствовала всем пяти требованиям.
Она и правда получилась доступной и лёгкой. Ее правила можно усвоить за десять минут, а лексику за день.
Фонетика бальбуты произвольная. J — это йот и читается как «й». Ударение всегда на предпоследний слог — но в словах с — utima, — utika, — utikama только на «u».
Balbuta. Язык. Слово. История. Рассказ. Ответ. Вопрос…
Скажи: balbutika. То есть: слова. Или: языки. Или…
Латинская графика, знакомая каждому. Письмо без диакритики — она лишняя. Никаких диграфов, дифтонгов, артиклей, соплей, дублей, мелких дуэлей… Каждое существительное в номинативе имеет окончание — uta, при изменении — utima.
Скажи: balbuta balbutima. Слово Слов. Или Песня Песней?..
Для существительных, означающих занятие или профессию, я придумал специальный профессиональный суффикс: — aln для мужчин и — alinga для женщин.
Скажи: balbaln. Balbalinga. Tajnobalbaln. Tajnobalbalinga. Поэт. Поэт-ка… А может, просто одержимый амбициями бездарный лингвист-любитель?
Ну а множественное число: — utika. Я уже говорил. Проще не бывает. Изменяясь, слова во множественном числе приобретают окончание — utikama.
Balbutika. Слова. Balbutikama. Слов. Grimuta mau balbutikama. Музыка моих слов. Ну я и самовлюбенный Хер Дык Чван… Тоже мне. Музыка, блин, моих слов…
А разве не музыка? Каждый прилагательное заканчивается на — oje, наречие на — oju, глагол на — uzu. Прилагательные и наречия не изменяются. Все эти спряжения и склонения ничего не добавляют к пониманию языка, так зачем мастерить для бальбуты лишние виньетки, загромождать цвяточками моё сбитое блестящими гвоздями логики произведение. Бальбута — конструктивизм с элементами ар-деко, а не какой-нибудь имперский кичевый псевдоклассицизм. Так решил я, первый Бальбутанин.
Конечно, с глаголами вышло немножко сложнее. Прошедшее время глагола образуется добавление перед ним частицы bim, будущее время — bu.
Скажи: bu balbuzu. Буду говорить. Bim balbuzu. Говорил. Говорил и буду говорить: bim balbuzu da bu balbuzu.
Сослагательное наклонение глагола, мое любимое творение, танцуется так: берём глагол и добавляем к нему спереди bif. Признаюсь, это я придумал чисто для красоты. А ещё для того, чтобы придать туманностям бальбуты немного откровенности. Тот, кто владеет бальбутой, всегда играет сам с собой.
Как сконструированный язык бальбута сочетает в себе черты как априорных, так и апостериорных конлангов. То есть она и берёт из чужих источников, и даёт жизнь новым. Её лексическая база состоит из пары сотен слов, которые дают нам все необходимые корни и козыри. Образование новых и передача всех возможных значений — в руках того, кто говорит. Здесь и включается поэтическая сила бальбуты — ведь только имея представление о поэзии, открывая в себе таинственные резервы фантазии, активизируя все свои давно атрофированные органы, ответственные за чудо, можно выразить на бальбуте всё то сложное и интересное, что в тебе есть. Осветить себя внутренним огнём этого языка, возникшим из пустоты пламенем найденной в себе силы. Потенциально каждое высказывание на бальбуте — это готовое стихотворение, то состояние, когда тебе хочется от жизни чего-то большего, чем кормёжка, туалет, секс и сон.
Посмотри в самый конец книги. Вот он, словарь, тот заколдованный замок, где лежат сокровища бальбуты, balbutika balbutima, сокровища, которыми может пользоваться каждый, и от этого их станет ещё больше.
Как видим, философия бальбуты основана на разнообразии, свободе и поэзии. В ней нет слова «должен». В ней нет слова «мы» — только бесконечное число свободных и уникальных «я». В ней нет слова «бог» — а если кому-то заблагорассудится заполучить себе бога, он назовёт его своими словами, теми, которые пригодятся именно ему, и никому другому. В ней нет ни морализаторства, ни морали, нет слов, которые бы оценивали, хорошо что-либо или плохо, правильно или нет. Всё имеет право на существование. Мир сложный — и это не хорошо и не плохо, так просто есть. А если хочется выразить, что чувствуешь, дать оценку, можно использовать другие слова — которые погасят эмоции, успокоят, и останется только правда. Бальбута экологическая и толерантная: в ней нет различия между человеком и животным, между сорняками и растениями из Красной книги, нет преимущества одних над другими, нет языкового угнетения, нет власти точного и окончательного называния. Бальбутой трудно кого-то унизить, а вот воспеть — пожалуйста. Слово «красивый» в ней означает лишь личное отношение к объекту. Бальбута — язык тонкого вкуса. Язык свободы, поэзии и счастья.
Бальбута открыта: если лень придумывать, можно бальбутизировать латинские слова и не чувствовать себя пристыженным. Что касается собственных имён и названий, то их, согласно правилам, можно писать как хочешь. Даже если твоя фамилия «Щимиржицковский». Как кому называться — его дело и его право. Которое нужно уважать.
Что ж, свобода — нож со множеством лезвий: на бальбуте можно говорить и лозунгами:
«Belarus istuzu!»
«Kаu ne fuzu, ne kusuzu».
«Fuzalno ujma tutikama, bu kopja!»
«Deutschland ujming ujma!»
«Rosija statuzu tork!»
«Fu Amerika ujma noju!»
Или даже так:
«Duzu tributika stutima — о tajnuta».
«Ugustrilutika — o ne hitruta!»
Как уже говорилось, само слово «balbuta» означает «язык», а ещё «слово», «имя», «название», «высказывание», «послание», «письмо», «сообщение» и так далее. От «balbuta» мы можем образовать другие части речи со множеством значений: «balbuzu» — это и «говорить», и «называть», и «звать», и «читать доклад», «balboje» — «языковой», «именной», «общительный», «устный», «высказанный»… «Balboju» — устно, словами, с помощью языка… Balbuta duzu tau algutima balbuzu ujma. Были бы только рядом другие слова, которые своей логикой и силой создадут ситуацию свободы. В бальбуте всё решает контекст. Бальбута стимулирует человека говорить и не бояться, подталкивает экспериментировать и отдавать дань разнообразию и бесконечности мира. Брать сколько угодно слов, все, что под рукой, и не бояться окрика.
Если говорить о счёте, то я решил, что для цифр и обозначения количества следует придумать отдельную схему. У современного человека и так постоянно перед глазами написанные цифры — так почему бы вместо того, чтобы применять сложные архаичные формы, просто не озвучить то, что видит зрение и визуально фиксирует мозг.
0 — zironk
1 — onk
2 — donk
3 — tronk
4 — kronk
5 — skonk
6 — sonk
7 — sidonk
8 — etonk
9 — nonk
10 — dzonk
Конечно, для сотен и далее потребовалось ещё несколько слов.
100 — stonk
1 000 — tisonk
1 000 000 — milionk
И если мы говорим «сто пятьдесят три» — на бальбуте это будет stonk skonkitronk. А если, например, «тысяча двести семьдесят девять»: tisonk donkisidonk nonk.
Нас было четверо. Bim kronk au. Дословно: было четыре «я».
Но сначала был я один, бог. Ksutima au onkuru bim, B.O.G., suta da kavuta, amgluta da negrimuta. В начале был только я, человек и кофе, время и тишина.
Da donk bim m-e-e-suta kroskoje. Meesutko. А вторым был он — Козлик.
Ко-о-озлик…
4.
Тайком насладившись созданным мной наречием, вылепив из его месива, как ребёнок из подаренного ему пластилина, полдюжины простых фигурок, я немного успокоился и твёрдо решил никому пока что о бальбуте не говорить. Совершенствовать понемногу её неслыханный вкус — и ни в коем случае ни с кем не делиться. Нужно было сделать паузу — пусть отлежится, перестанет быть сном, наберётся сил, чтобы принять все предназначенные ей вызовы. А лучше всего, думал я печально и с каким-то почти садистским наслаждением, пусть навсегда останется моей и только моей мёртвой красотой.
Но созданный мной язык не выглядел мёртвым. Нет, чёрт бы её побрал, бальбута не лежала неподвижно на застеленном мной ложе, в свадебном платье, холодная и совершенная. Ничего подобного! Она соблазняла, она вибрировала, не давала сосредоточиться на чём-нибудь другом, звала из тьмы, манила своими сладкими полнозвучными гласными. Она танцевала передо мной, она звенела — недаром я увешал её монистами стольких звонких звуков, она густо и страстно трубила в свой рог — и мне становилось всё более неловко. Её способность к жизни была абсолютной. Она могла всё — и принадлежала мне одному.
Как осатаневший от любви восточный сатрап, каждую ночь я приходил к ней в комнату, ключ от которой существовал только в одном экземпляре, любовался ею, насыщался ею, пересыпал из ладони в ладонь её золото, шёлк и серебро, нюхал её материю, гладил её кожу — и чувствовал при этом всё больший страх: или её украдут, или я раздам её толпе. Раздам всем нищим, тупым и безликим, раздам в одном ужасном, пьяном порыве, и больше никогда не смогу вернуть. «Последний раз я был у тебя», — клялся я каждый раз после своих визитов, «Учти, последний!» — и всё равно стоило Верочке уйти на работу, как я бросался открывать клетку.
Как-то зимой я не выдержал и начал переводить на бальбуту стихи и разные короткие тексты. Бальбута будто бы только этого и ждала — в ней наконец забурлила кровь, она принимала любую форму, которую я ей предлагал, ей не были нужны приказы и напоминания, она с улыбкой извивалась, становилось мягкой или, наоборот, послушно твердела, стоило мне только представить, чего я от неё хочу. Она была бесконечным пространством слова, она перевоплощалась в любой образ, который мне хотелось притащить с собой в её золотую клетку. Моя бальбута… она была такой покорной, такой предупредительной… Каждый день я наблюдал волшебство: на моих глазах молниеносно вырастали новые растения, существа, пейзажи — никем не изведанные, невидимые, и познать их мог только я. Одного моего желания хватало, чтобы вся эта роскошь и вся тайна свернулись, спрятались — и снова уступили место реальности. Я был королём бальбуты. Её диктатором. Единственным её любовником, первым и последним. Её сердцем. Её убийцей.
Как-то в марте, трясясь в троллейбусе, я думал про свою бальбуту, думал, как я приду к ней в эту ночь, — и тут на остановке вошёл какой-то человек, который… Как бы это сказать? Он вдруг показался мне таким обычным, что я даже отвернулся, так мне стало нехорошо.
Это был мужчина: не лысый, но достаточно редковолосый, одетый не богато, но во всё новое, с рынка, такое, чтобы не выделяться, с глазами не тупыми, но и не сказать, чтобы умными, тело его было вполне пропорционально, но правильные пропорции сожрали его индивидуальность, у него не было ни шрамов, ни родинок, ни бороды, лицо было желтовато-серым, но не слишком серым и не слишком жёлтым, а как раз таким, чтобы слиться с цветами города; его внешность трудно было запомнить, он был не высокий, но и не низкий, скорее: среднего роста… среднего возраста, среднего класса, среднего образования, средних размеров, средних потребностей — и родился он, по-видимому, также в среду.
Такой себе средний минимальный белорус, базовая человеческая величина.
Он был обычный даже по сравнению с теми, кто сидел вокруг меня и наполнял собой троллейбусные внутренности, он был такой обычный, что я даже физически чувствовал его банальность, его усреднённость, его нормальность, он был такой, будто сама повседневность назначила его своим представителем, своим послом в этом городском тумане, словно она утверждала через него свою мрачную власть в толпе. Средний мужичок ухватился за поручень и зевнул, обнажив не очень хорошие, но всё ещё целые зубы. Утвердившись на новом месте, заняв место под солнцем, он начал испуганно-брезгливо оглядываться — так они все делают, когда не чувствуют для себя непосредственной угрозы.
Между нами сразу возникло некое противостояние — хотя я видел его впервые и он меня тоже. Что-то такое появилось в воздухе, будто на нас с ним кто-то смотрел. Он также почувствовал что-то не то, начал бросать на меня взгляд за взглядом, он не понимал, в чём тут дело, но улавливал какие-то волны моего отвращения и моей зависимости от него — его взгляды становились всё более недружелюбными, и всё больше страха и ненависти появлялось в его неглубоких глазах.
Я не мог отвести от него глаз. И вдруг отчётливо представил себе, что он, этот обычный человек, вот этот вот мистер Норма, господин Нормалды, сейчас скажет мне что-нибудь на бальбуте.
Меня будто по голове ударили.
Будто троллейбус полетел в пропасть.
Будто мною выстрелили из пушки в небо.
Он, этот обычный мужичок, мог бы говорить на бальбуте. Мог бы ею владеть. Обладать ею. Мог бы говорить на бальбуте свои средние слова, думать средние мысли, формулировать на бальбуте свои средние нужды. А почему, собственно говоря, нет? Мужичок был живой, как плесень, и бальбута была живая. Сейчас он раскроет рот… И я услышу…
Этого не могло быть.
И всё же могло. Его мозга вполне хватало, чтобы усвоить определённые мной правила. Его памяти было достаточно, чтобы изучить все слова. Его рот мог произнести эти звуки не хуже моего — и его речь могла зазвучать на бальбуте, как и на любом другом языке.
На любом другом — почему бы не на моём?
Осознавать это было невероятно больно.
И невероятно приятно.
Меня охватил стыд. Очень похожий на тот, который я чувствовал когда-то в детстве. Сладкий стыд бумажного мальчика, который рисует бумажных женщин и торопливо мнёт свои рисунки, боясь, что его застанут за этим занятием.
Не в состоянии отвести от него глаз, я смотрел на мужика в троллейбусе и в мыслях давал ему произнести на бальбуте то одну, то другую фразу, он моргал глазами, он бесился от моего гипноза, он и подумать не мог, что способен на такое — говорить на языке, которого нет. Мой потенциальный бальбутанин. Как же ты меня тогда напугал.
Правда, которая открылась мне в тот момент, обжигала сознание. Всего лишь одна ошибка мироздания, всего лишь возможность ошибки, всего только представление об ошибке — и на бальбуте может заговорить каждый. На меня навалилась вдруг страшная ревность, которая не просто волновала, она физически возбуждала — и я ничего не мог сделать с этим возбуждением. Я делился тем, что любил, — и мне хотелось, чтобы они брали это у меня на глазах. Жрали, чавкали, овладевали, делали своим, совали себе в рот. Я будто следил за чужим любовным актом. И мне всё было мало. Я жаждал продолжения.
Кое-как оторвав мокрые руки от поручня, на следующей остановке я всё же выбежал на улицу. Мистер Нормалды с его обыденностью и его ненавистью мог наконец вздохнуть спокойно. Но не вы, дорогие мои минсквичи. Я шёл сквозь толпу и пытался примерить бальбуту на каждого, кто спешил навстречу: насупленных мужчин, женщин с невидящими глазами, детей и стариков — и ни о ком не мог сказать с уверенностью, что он не мог бы заговорить на бальбуте, если бы его научили.
И тогда я решился.
Это было глупое решение, но я ничего не мог с собой поделать. Ещё вполне вменяемый, внешне ещё приличный, обычный, нормальный, я уже дал согласие на участие в этой оргии с самим собой.
Мокрый и, наверное, болезненно-бледный, с замиранием сердца я остановился у «Макдоналдса» и достал телефон.
Делая вид, что звоню кому-то, я стоял в центре города, среди всего этого разнообразия человеческих существ, которые равнодушно огибали меня, спеша по своим делам, — и громко и нагло разговаривал на бальбуте. На языке, которого не было, с собеседником, которого не существовало. Впервые в жизни.
Слова. Фраза. Речь. Течение удивительно мелодичных звуков, которые заглушало громкое ворчание города.
И снова: ничего не изменилось.
Они шли на меня, мимо меня, спускались в подземный переход, говорили, молчали, кашляли, хлюпали ногами по мартовской слякоти, и никто не обращал на меня внимания. Будто я по-русски болтал, ей-богу.
В центре большого города, на глазах у всех, впервые звучал несуществующий язык — и никого это не волновало. Оттого что никому нет до меня дела, оттого что никто, ни один человек из тех, что сейчас торопливо обходили мою фигуру в грязном плаще и неуклюже завязанном шарфе, не догадывался, что происходит, мне стало плохо. Возбуждение достигло какого-то предела, за которым я уже не мог себя контролировать. Мне срочно нужно было побыть одному. Я забежал в общественный туалет, заплатил и спрятался в кабинке. Я ощупал своё тело, его гусиную кожу, все его тёплые выступы, засунул руки себе в штаны, под мышки, на спину, много, много рук — и потихоньку вернул себе ощущение цельности.
Успокоившись, я задумался.
Они не могли понять, что я, улыбаясь, кричал там, наверху, в телефон. Но какое-то мгновение они всё же слышали эти странные звуки. Они конечно же подумали, что я иностранец. Да, так и было! Их память на секунду-другую отметила неряшливого, вспотевшего иностранца, который стоит у «Макдоналдса» и разговаривает с кем-то по-своему, она приложила незнакомые звуки к своему примитивному набору стандартных образцов, их мозги оценили невозможность решить задачу — и этот тщедушный иностранец был выброшен из памяти, он был идентифицирован как слишком короткий, неинтересный, не нужный им, бесполезный эпизод. Мало ли около «Макдоналдса» ошивается иностранцев. К ним тут давно привыкли.
И всё же они меня слышали, мои соотечественники. Слышали! А я говорил. Нёс чушь о погоде, о ценах, о еде. Будто в мире и правда существовали люди, которые могли мне ответить.
Так я впервые вывел бальбуту в мир. Голой, живой, на коротком поводке. Кажется, ей понравилось. Она хотела ещё.
Я не мог ей отказать. Вечерами я выходил в город, лез в самую гущу, в водоворот локтей, рюкзаков, затылков, пристраивался к обитателям подземных переходов, доставал телефон и говорил на бальбуте. Они оглядывались, в их глазах вспыхивал и сразу же гас интерес. Может, они принимали меня за итальянца. А может, за того, кто выгуливает туристов по Минску, — ведь бальбуте плевать на произношение. А может, и им было плевать, кого я выгуливаю — несуществующий язык или несуществующих людей.
Мокрый февраль, сумасшедший март… Город пообсох, повсюду, на прошлогодней жесткой траве, на асфальте, на деревьях и спинах, появились пятна, словно от стирального порошка. Начался апрель, вернулся холод. Вылазки уже не приносили прежнего возбуждения — и вот как раз в это время, когда игра начала мне надоедать, я абсолютно неожиданно получил на электронную почту небольшое, но бойкое письмо.
«Что ж, пане, — писал мне какой-то незнакомец, даже не поздоровавшись, — благодарю, неплохая задачка. Не знаю, кого вы надумали дурить, но проект ваш достаточно самонадеянный. Что касается меня, то даже природная лень не смогла настолько склеить мне мозг, чтобы я не смог разгадать милое личико нового конланга. Не знаю почему, но чувствую давнюю симпатию к их мордахам. Правда, жизнь у них, как у бабочек. Брожу иногда по кладбищу вымышленных языков, и знаете, пане, взрослую могилку там редко когда увидишь. Всё умирает ещё на стадии рождения. Более чем уверен, что и вы своё детище давно похоронили, так и не дав ему ни голоса, ни цвета, ни лапкой махнуть. Ну да, перевод… И что дальше? Лингвоконструирование, к сожалению, для вас всех разве что игра на один вечер. Но имя-то отец своему детищу успел придумать? Пришлите его мне, а? Что называется, ради научного интереса. Вам хоть какое-то воспоминание, а мне в коллекцию мёртвых имён новый экспонат. А лучше добавьте к названию ещё несколько переводов вместе со словариком и грамматикой. Хочется поразвлечься на досуге.
Знаю, что не ответите, потому попрощаюсь так: bu ne strikuzu! Но всё же буду надеяться на ответ. Ибо надежда умирает… бла-бла-бла, ну, вы поняли. Со всеми поклонами — Каэтан Покаянский».
Я перечитал это письмо несколько раз, чувствуя всё большую панику. Неужели я действительно вижу это: два слова на бальбуте, которые настучала на клавиатуре вовсе не эта вот, знакомая до отвращения, моя правая рука — а какая-то другая? Тоже правая, но чужая. В мире был кто-то ещё, кто владел моим языком — пусть только двумя словами, но он их написал, и я не знал, кто он такой и зачем это сделал.
«Бу не стрикузу» — «Не жду»…
До меня не сразу дошло, как он меня вычислил, — но потом я вспомнил: как-то мартовской ночью, одуревший от холодного кофе, я оставил на одном набрякшем гнилыми амбициями сайте свой перевод забытого венгерского поэта, гомосексуала и бездарного самоубийцы Имре фон Штукара. Мне показалось, он хорошо звучал на бальбуте. Я не раз жалел, что сделал это, но меня утешало, что мой перевод всё равно останется никем не замеченным. Ведь этот сайт существовал как чёрная дыра, в которой тексты исчезали быстрее, чем их мог кто-то прочитать. О, это была странная страница… Сообщество больных манией величия, никто не читал никого, кроме себя, никто не читал живых, никто никого не чтил и ни у кого не было даже капли таланта — да что говорить, там даже самого себя читать считалось плохим вкусом. И всё же эта неумело сделанная, примитивная и набитая вирусами и тупой российской рекламой страница, которой, я был уверен, никто не управлял, трещала от самых разных текстов на самых разных языках. Это была большая свалка литературных обид и переводческих неудач, богом забытая планета самозваных гениев и несбывшихся надежд — и чтобы наткнуться на мой перевод, нужно было хорошенько побродить по её скользким и темным лабиринтам. Я зарегистрировался на этом сайте давно, ещё когда жил один, и, видимо, там до сих пор висел мой мейл. Кем надо было себя считать, чтобы добраться до перевода стихов никому не известного извращенца Имре фон Штукара, да ещё и на бальбуту? Какую нужно было иметь одержимость, какую случайность надо было благодарить?..
Сначала я решил ничего не отвечать. Не без труда отыскал свой перевод и удалил его — но никакого облегчения не почувствовал. Я не знал, что мне делать. Пытался представить себе этого тайного Каэтана: вот же гад, ему хватило ума и рвения, чтобы, воспользовавшись моим скромным переводом, постигнуть некоторые из правил бальбуты. Наверно, это человек моих лет — и, возможно, даже моих амбиций. Не без таланта — достаточно оценить стиль его письма. Создает себе имидж этакого эстета. И надо же, какое прекрасное хобби: собирать названия умерших при рождении конлангов. Каэтан… Ну, этому мы, положим, не поверим, нашел дурака. Скорее какой-нибудь Андрей или вообще Санёк. Санёк-пенёк. Хитер Змитер. А может, и Александр Эдуардович. С фамилией через дефис. Они такое любят, эти Эдуардовичи. Интеллигенты хреновы. Вероятно, моего возраста, не женат, разочарованный циник, любит выпить, курит трубку. Нет. Возможно, он инвалид, подумал я и сразу поверил в эту соблазнительную версию. У него уйма свободного времени — вот и мается человек разной ерундой. Может себе позволить.
Конечно, я сам совершил ошибку и выдал себя, опубликовав свой текст. Но возможно, если я в ответ промолчу, рвения у тайного Каэтана вскоре поубавится, а там, глядишь, и вовсе пропадёт желание лезть ко мне в друзья. И он забудет и мой дурацкий перевод, и мой почтовый адрес. И о том, что он когда-то мне написал, тоже когда-нибудь забудет. Найдёт себе другие развлечения.
Незнакомец, который ждёт, что я дам ему ключ от клетки. Той клетки, где я прячу своё живое. Свою любовь и свою смерть.
От каждого его слова пахло чем-то опасным. И он знал это. Он смеялся надо мной, сидя где-то во враждебном мне мире, может быть — даже за вот за этой самой стеной.
Прошло несколько дней, и я понял, что промолчать будет труднее, чем мне казалось. Искушение мучило меня — ведь это был шанс увидеть человека, который произнесёт слова бальбуты просто у меня на глазах. Я услышу эти звуки, увижу, как шевелятся губы, как язык выталкивает в воздух слова созданного мной языка. Нет, не создание языка делает тебя богом — а возможность видеть, как этим языком говорят незнакомые тебе существа, как она оживает в складках их кожи.
Письмо пришло в ночь с воскресенья на понедельник. В пятницу я написал ответ. И уже вечером я переписывался с тем, кому первому суждено было заговорить со мной на бальбуте, — и я никак не мог понять, кто кого поймал в свою сеть, я его или всё же он меня. Кто из нас должен был подчиниться?
Почему-то мы сразу же договорились встретиться — в следующий понедельник в шесть вечера. До сих пор не объяснимое решение: что мешало нам общаться онлайн и спокойно обсуждать всё на свете? Зачем было это личное знакомство? Как-то я провел специальное исследование, пытаясь понять, чья это была идея: встретиться и познакомиться. Развиртуалиться… Нашёл те наши первые мейлы. Выяснилось, что идея была моя. А он был виноват в том, что не отказался. Наоборот, согласился слишком быстро. Подозрительно быстро. Словно от того, как я выгляжу, зависело, продолжать ли ему контакты со мной.
Какое облегчение. Он жил в том же городе, что и я. Мы договорились встретиться на площади Победы, за столиком возле «Щедрого» — был там такой универсам с кафе прямо у выхода из метро, демократичное место, дешёвое пиво, кофе, молочные коктейли. Он написал, что будет держать в руке книгу. «Какую?» — спросил я. Он не ответил. Хотел меня подразнить.
Я намеренно пришёл раньше. Не доходя до столиков, я занял позицию возле парапета. Сел на холодный мрамор, закурил с дремлющим видом, делая вид, что никакого «Щедрого» для меня не существует, а существуют только девичьи ноги, что пробегают мимо, — май только-только расщедрился на тепло. Дремал, курил — а сам внимательно изучал, что делается там, под зонтиками. Столиков было три. За одним сидели какие-то чрезмерно волосатые мужики, все в тёмных очках, сидели и о чём-то спорили, оживлённо жестикулируя. Один в определённый момент даже угрожающе приподнялся, но другие примиряюще схватили его за локти. За вторым столиком бабушка раздражённо наблюдала, как внучка ест мороженое. Стол покрывался белыми пятнами, как краской, девочка облизывала себе запястье, мизинец, указательный палец, вдруг вафля сломалась, как будто у девочки пальцы хрустнули, — и бабушка вздрогнула от неожиданности. Третий столик был пуст.
Почти шесть. Мужчины ушли, не переставая спорить. Но мороженое у девочки всё не заканчивалось. Третий столик заняли две дамочки, которые заказали себе по шампанскому. Книг у них не было.
Я уже успел выкурить три сигареты, когда к первому столику подошёл какой-то паренёк и начал оглядываться. Я отвернулся, хотя подозрения мои росли; мне не хотелось пока что им верить. А когда я снова посмотрел на столики, то огорчённо застонал и спрыгнул с парапета. Неуклюжим подростковым движением этот юнец достал из рюкзака книгу, ветер пробежал её одним дуновением и полетел дальше. Паренёк был здесь лишний, смешной, как прыщ, и чувствовал это. Слишком большие руки, которые он не знал, куда девать, смели со стола книгу, сбросили на асфальт. Он полез поднимать, острые колени уперлись в столик — я успел разглядеть, что он в шортах, голая, белая куриная кожа резко контрастировала с ядовитой желтизной носков. Мне вдруг стало жалко себя, я чуть ли не плакал от разочарования. Вся эта затея с нашей встречей показалась мне полной чушью. Как я буду выглядеть в собственных глазах, если всё же подойду к этому сопляку? О чём мне с ним говорить? Как всё бездарно, фальшиво и опасно. «Здравствуй, как тебя зовут, я тот дядя, который придумал бальбуту, хочешь, я буду тебя учить, мой мальчик?»
Козлику было девятнадцать, но тогда, когда я впервые увидел его у «Щедрого», мне показалось, что ему лет шестнадцать, не больше. Чёртов вундеркинд, он думал, что обведёт меня вокруг пальца. А я тоже тот ещё гений, знаток людей — поддался на примитивную детскую фальшивку. Зачем мне дети? У нас с Верочкой не могло быть детей. Представляю, что это были бы за дети, если бы она приказала мне их завести. Исчадия. Чудовища! Их королевские беспощадия…
Быстрым шагом, больше не оглядываясь, я шёл в направлении Дома-музея Первого съезда РСДРП. Разочарование душило меня. Я уже был почти готов к тому, что услышу сегодня бальбуту от незнакомого человека. Впервые и, возможно, в последний раз. Но этот пацан? Нет, превращать бальбуту в детскую игрушку не входило в мои планы.
Быстрым, злым шагом, всё дальше от «Щедрого», от фарса, в который чуть ли не вляпался, от насмешек, которыми неустанно награждал сам себя. Ну я и болван. Над коммунистическим домиком плыл дым. В музейном саду жарили шашлыки. Запахло нашей минской речкой — словно её только что извлекли из давно не размораживавшегося холодильника. И тут чья-то большая и нервная рука легла мне на плечо.
«Извините! Вы же меня ждали?»
Я резко развернулся, и он налетел на меня — нескладный, как стихотворение.
«Никого я не ждал», — бросил я невыразительным голосом, пряча глаза. Губы не слушались, будто я сто лет их не разлеплял, ладони потели, и сладкий запах шашлыка наполнял рот густой слюной. Кажется, я даже плюнул ему на бороду.
Он отступил. Взъерошенный и невысокий, он напоминал кактус. Я презрительно посмотрел на него и повторил уже громче:
«Чего тебе, паренёк? Денег нет? Иди к метро, там постреляй».
Он скривился. Казалось, он сейчас заплачет.
«Знаю я вас, — не унимался я, порываясь убежать от него к реке. — Турист из какого-нибудь Пи-и-тера… Аддалжи-и-ите на метрошку… Весь город нам загадили».
«Я вам писал, — голос его дрожал. — И… Вот книга».
Какие мы ранимые однако.
Я решительно пошел к набережной. Делая широкие неуверенные шаги, он тенью поскакал рядом.
«Я не турист, я вам писал», — он постепенно взял себя в руки. Голос его звучал так искренне, что мне стало противно. Он был в моей власти, этот пацанчик.
«Он мне писал, чего же боле. Вихри снежные крутя. Что же это вы по-москальски со мной вдруг забалакали, пане Каэтане, — издевательски говорил я, брезгливо выставив плечо и пытаясь от него убежать. — Иди гуляй, сопляк».
«Мне и правда интересно, — не отставал он. — Я спать не могу. Всё думаю о вашем эксперименте. Об этом вашем конланге. Как вы его назвали?»
«Иди отсюда, эсперантист, — огрызнулся я. — Раскатал губу».
Так мы добежали до Свислочи, он, высоко выставляя юные гладкие колени и вцепившись в свою смоляную хипстерскую бороду, и я, седой, лысоватый, с выставленным в его сторону презрительным плечом. Тупые клоуны — вот кто мы с ним были. Но город не замечал нас, город девичьих ног, свежепокрашенных лавочек и летней резины.
Я дошел до берега и остановился.
«Долго ты будешь за мной бегать?»
«Не прогоняйте меня!» — вдруг закричал он, широко открыв глаза. Вот теперь город оглянулся. Подозрительно и насмешливо. Небо стало серым, сделалось так тихо, что мы оба испуганно вздрогнули.
«Что ты кричишь, истеричка?» — я оттолкнулся от каменной ограды и пошёл в сторону детского парка. Он постоял немного, а потом догнал меня. И тут на нас обрушился град. Прохожие побежали кто куда, около музейного домика спасали шашлык, а я быстро дошёл до тоннеля под мостом и стал там, закуривая сигарету. Он прибежал, тяжело дыша, и стал наблюдать, как я щёлкаю зажигалкой.
В тоннеле мы были одни. Я стоял, глядя на сплошную стену дождя, смотрел, как по асфальту прыгают градины, крупные, как таблетки. Что они лечат, какую боль унимают? Только теперь мой Каэтан понял, что всё это время держал в руке свою нелепую книжку. Ну конечно. Роберто Боланьо. «Первый классик двадцать первого века»! «Третий рейх»… Что ж, половив лаечки в фейсбучках, можно и такое почитать. Хорошо, что хотя б не этого… Франзена….
«Хотите посмотреть?» — он с надеждой протянул мне книгу.
«Читал», — процедил я, ожидая, когда закончится град.
Он с радостью и как-то очень по-доброму улыбнулся. В тоннеле под мостом было темно. Он покорно стал к стене, спрятавшись в полумраке. Было слышно, как над нами едут машины — во время дождя город становится намного громче. Я намеренно говорил с ним шёпотом, чтобы он не мог ничего разобрать.
«Будем считать, что это ошибка. Сейчас кончится град, и мы разбежимся. И ты забудешь и меня, и мой адрес, ясно?»
Град колотил по зазубренному асфальту. Терпеливый мальчик. Мне показалось, он стоял и кивал. А ещё я понял, что у него никогда не было женщины. Может, по его девственным рукам, а может, по колену, которое робко дрожало от холода. Мне хотелось, чтобы сюда, в тоннель, вошла какая-нибудь девушка — и под моим властным взглядом опустилась на асфальт и вцепилась в его колено зубами. Как в яблоко. О, как бы это меня потешило.
Что-то менялось между нами. Неуловимо и быстро. И мне становилось как-то совсем неуютно.
Скорее бы закончился этот дождь, этот град, этот плен. Я поеду домой. Успею ещё побаловаться с бальбутой до Верочкиного прихода.
Град играл с нами. Утихая, давая обманчивую надежду, он сразу же начинался с новой силой. Словно кто-то следил за нами. Я докурил сигарету и бросил её в угол.
А потом я вдруг услышал его голос. Выставив бороду, он читал нараспев:
«Akkou klinkuta
Deu natuzu
Tau
Tajnobalbutika da ujma sau onoje,
Skutoje natributima da broje
Dinagramutima, sau neokuz nekau —
O bu tau kvaj legoje da samoje
Da u sprugutima tau bu pavuzu, mau
Komutko noje…»
Он помолчал, смакуя эффект.
Сказать, что я был потрясен, значило не сказать ничего.
Я был пригвождён, пристыжен, jebanuta.
Это был мой перевод. То, что он звучал теперь в центре города, в этом тёмном переходе, где никогда не выветривалась вонь мочи, где на заплесневелых стенах жил мрак, где никого не было, кроме нас с этим мальчиком, ощущалось мною как чудо.
Я смотрел на него большими глазами, я будто гладил взглядом его по лицу. По его розовым щекам, по бороде, по ресницам.
«Я пока мало что понимаю, — смущённо и радостно произнес он. — Но я повторяю это каждый день. Это круто. Понимаете? И я хочу ещё».
Никогда не учивший бальбуту, он правильно расставил все ударения. Перевод звучал музыкой, настоящей музыкой, иногда грубоватой, иногда слишком в тон улице над нами, но осмысленной и удивительной музыкой, в этом не было никаких сомнений. Мой любимый стих Имре фон Штукара за один миг вернул гармонию окружающему нас миру. Теперь я мог управлять этим городом.
«Меня зовут Денис, Денис Козлович, — сказал этот милый лжец Каэтан Покаянский, и я засмеялся. Он удивлённо поднял брови. — А вас?»
«Бальбута, — сказал я, закрыв глаза. Город и Козлик. Я и подумать не мог, что меньше чем за минуту у меня в кармане окажется такая шикарная добыча. — Язык называется бальбута. Я тебя научу. Au bu duzu tau vedutima, mau kroskoje mautko, mau onoje suta u istutima, mau meesutko, mau balbaln».
5.
Возвращаясь домой, к Верочке, в пещеру своей пыльной однушки, я думал о Козлике — и снова и снова прокручивал в голове его голос: ещё и ещё, раз за разом, словно я записал его на свои воспалённые нервы, словно этот голос навечно остался у меня внутри. На пассажиров мне теперь было наплевать: существовал реальный Козлик, козлик с ручками-ножками, который жаждал выучить придуманный мной язык. Вечер у нас был долгий, мы обошли с ним весь парк, вышли на Первомайскую, углубились во дворы, прошагали по велосипедным дорожкам вдоль канала, пока не упёрлись в стройку и не повернули назад, мы никак не могли расстаться, будто это был поцелуй, а не прогулка.
В этот первый вечер я многое узнал о Козлике, а сам рассказывал ему только о бальбуте, тщательно избегая любой личной информации. Какое-то подсознательное чувство, которое трудно было назвать страхом, что-то отвратительно взрослое, почти старческое, заставляло меня быть осторожным. Будто я ему не до конца верил. Будто своей красивой декламацией фон Штукара он намеревался обвести меня вокруг пальца. Нет, я не собирался поддаваться очарованию его странной искренности. Я оставлял себе пространство для побега. Мог ли я подумать тогда, что это замечательное пространство окажется в конце концов таким дырявым. Одни дыры, беги — не хочу… А не от кого.
Ну да ладно.
В свои девятнадцать Козлик успел увидеть и пережить столько интересного, что я ему даже немного позавидовал. Он был студентом филфака, бросил, мог загреметь в армию, собирался снова поступать, уже на юриста. Но всё это было разве что прикрытием. Ведь на самом деле… На самом деле он учил эсперанто (бросил, когда почувствовал, что оно слишком напоминает итальянский с испанским), знал пару сотен стихов в оригинале на двадцати языках и мог прочитать их наизусть (но кроме беларусиша и русиша бегло говорил только по-английски), одолевал один за одним всякие странные романы (Лампедуза, Боланьо и Кнаусгор были пройденным этапом, теперь он взялся за трехтысячестраничный «Quercus» Гионы Гийен, настоящий шедевр занудства), три года подряд ездил каждое лето не куда-нибудь, а в Киргизию (обязательно посещая по дороге Гуляйполе). Рисовал денежные знаки несуществующих стран и пытался обменять их в «Беларусбанке». Два года был веганом, позволяя себе по праздникам жареных насекомых (если верить Козлику, он учился их готовить и употреблять строго согласно Библии). Однажды приковал себя к какой-то скандальной скульптуре в маленьком польском городке, требуя её снести (за месяц до этого активисты приковывали себя к ней, протестуя против её уничтожения, и их послушали, а его нет). Всю дорогу он намекал на существование каких-то необычных коллекций, собранных им исключительно для удовлетворения своих эстетических потребностей. От этого мне снова стало как-то очень неуютно, но я решил, что использовать меня как экспонат для одной из них он всё же побоится. И вообще, он меня почему-то слушался. И слушал так внимательно, словно я был Христос, а он мой апостол. Апостол Козлик.
Языки, книжки, эпатаж, постоянное стремление придумать яркую обёртку для этого серого мира. Короче, юный фрик в отставке. Хотя, конечно, нельзя было верить всему, что он о себе понарассказывал. Задыхаясь, заикаясь, потрясая своей греческой кудрявой бородой, он всё болтал и болтал, и часто сам смеялся над своими историями — и было в его смехе что-то нездоровое. Но, честно говоря, какая разница, правдой были эти рассказы и байки или нет. Козлик сказал, что всё это уже в прошлом. «Я столько пережил в молодости, вы себе не представляете». Хе-хе. Ну да, в девятнадцать лет конечно же особенно остро чувствуешь свою старость.
Я слушал и кивал. Всё это звучало хорошо, но важно было только одно: он всерьёз увлекся бальбутой. На прощание я пообещал прислать ему материалы (да какие там материалы, один несчастный файл). Он был очень возбуждён и долго жал мне руку.
Я всегда верил в сумасшедших. Наверно, это и есть то, что ещё удерживает меня на свете, единственный факт, с самого детства доводящий меня до священного трепета: в каждой человеческой общности, в каждой стае, каждом коллективе, песочницей он зовется или больничной палатой, школьным классом или казармой, пассажирским автобусом или пионерским отрядом, командой или бандой, городом или нацией, толпой или патриархальным кланом, — так вот, в каждой такой общности всегда найдутся те, кто всё будет делать не так. Или хотя бы что-то.
Но не так, не так, не так.
Лепить не те замки не из того песка. Дружить не с теми, некстати и не вовремя. Читать не те книжки не на том языке. Выбирать бесполезное даже там, где польза может спасти тебе жизнь. Между счастьем и несчастьем выбирать иголочное ушко в нижней части мягкого знака. Выворачивать себя наизнанку, исследовать Великое Княжество Грязи, засовывать пальцы в розетку (ведь они туда не помещаются, правда?). Гоняться за неуловимым, нечитаемым, некликабельным, нефотогеничным, нетипичным, бесперспективным, безнадёжным, саморазрушительным, невыгодным, несолидным и ничего не стоящим.
Оглянитесь. Вокруг вас люди. Что поделаешь. Так уж вышло. Вы к этому привыкли. И вроде всё как всегда. Да, люди. Но! Хотя бы один из них обязательно будет сумасшедшим. Пусть пока что тихим, незаметным. Пока что он занят собственным носом где-то в уголке. Вы не замечаете его, вы думаете, вы один такой особенный. Ерунда. Вокруг есть другая, таинственная жизнь. В тёмных щелях между явью и сном вещей, в страшных ящиках своих черепушек, просто посреди этого обманчивого мира сидят они, ненормальные. Которые, может, совсем не считают себя ненормальными. Но что-то подозревают о себе и не очень-то жаждут, чтобы их вытаскивали на свет. И они поненормальнее вас будут, так что гордость ваша — курам на смех…
Размышляя об этом, я доехал до своего дома с мемориальной доской и только тогда взглянул на часы.
Вот блин. С минуты на минуту должна была прийти Верочка. Она разозлится, если не застанет меня дома.
Я стремглав взлетел по лестнице и в темноте схватился за ручку двери.
Ключ тыкался, ища лазейку, но не находил. Только скользил по искусственной коже, которой когда-то обили эту дверь-деревяшку. Деревяшку, за которой таилось моё убогое жильё.
Блин.
Какая-то глупая деревяшка, одетая в кожу, не пускала меня домой. Всего лишь одна тонкая деревяшка отделяла меня от моего убежища, а я не мог с ней справиться. Верочка придёт, а меня нет.
Возможно, у меня слишком дрожали руки. А может, дверь просто не хотела меня впускать. Может, я здесь уже не жил. Может, встретившись с Козликом, я автоматически лишился крова. Могло быть и так. Ведь Козлик был моей изменой, моим самым страшным предательством. Об этом я как-то не подумал.
Я пальцами начал нащупывать замок. Пальцы находили отверстие, а ключ — нет. Будто замочную скважину кто-то от меня прятал. Такого со мной ещё не случалось.
А Верочка была уже близко. Я прислонился к стене, сжал кулаки и выдохнул. Выдохнул осторожно, боясь, что вместе со своим страхом могу выдохнуть и Козлика, и этот вечер, и всё то, что сегодня добыл, да ещё таким чудесным образом. Одним махом обрёл, одним выдохом потерял. Такое бывает.
Лёгкий, как бумага, я дрожал в темноте подъезда, и сквозняки, пробравшись сквозь разбитые окна, уже обнюхивали меня.
Нужно было сделать ещё одну попытку.
Где-то внизу грохнули двери. Но было ясно, что это не соседи, нет, слишком уж темно стало у меня на душе. И пальцы на ногах склеило, словно плёнкой, как всегда перед её приходом.
И душно. Так душно, что хотелось выбежать на улицу. Я широко раскрыл рот и расстегнул куртку, чтобы поймать сквозняк, но он был горячий, сухой, будто не весенний сырой город лежал вокруг этого дома с мемориальной доской, а пустыня.
Шагов на лестнице слышно не было. И всё же она поднималась.
Подвывая, я встал на колени, упёрся носом в дверь и снова начал искать замочную скважину. Пол подо мной вдруг захрустел. Под ногами появилась какая-то пустота. Я схватился за ручку двери и — попал.
Ключ повернулся как ни в чём не бывало.
Я заскочил в квартиру, чувствуя, как лестничная площадка уходит у меня из-под ног, и как был, в сапогах, бросился на кровать, накрылся с головой одеялом. Я верил, что смогу её обмануть.
Например, притвориться пьяным. Она уже видела меня пьяным.
И, как только я затих под своим давно не стиранным пледом, обеими руками обхватив своё одеревеневшее вдруг тело, она вошла.
Она никогда не подходила ко мне сразу. Нет, она долго снимала обувь, вешала пальто, шла в ванную — я слышал, как скрипят двери. Я достаточно долго прожил в этой квартире, чтобы изучить все её голоса. И даже через толщу пледа, за которым я прятался, словно зарытый в землю, я слышал, как она напевает. Тихо, под нос. Я знал, что никакого носа у Верочки нет, но такую уж слабость имеем мы, приматы: превращать свои страхи в примитивные образы. Делать всё приматоподобным. Бога. Язык. Ужас. Смерть.
«Попробуй спеть вместе со мной, — нежно и деловито напевала Верочка, намыливая руки. Тонкий несуществующий поток воды разбивался о дно ванны. Словно она танцевала вокруг мертвого фонтана. — Вставай рядом со мной…»
Песню я знал. Но напевала Верочка её совсем не так, как она должна звучать. Это был голос сладкий и грустный, песня напоминала скорее колыбельную, её нарушенная гармония всё повторялась и повторялась.
Под одеялом становилось всё жарче. Вот где они свили себе гнездо, эти обманчивые пустынные сквозняки. Мне словно всё время кто-то дышал в лицо. Я понимал, что долго не выдержу.
«Попробуй, — уже не пела, а просто пофыркивала Верочка в коридоре. — Спеть… Вместе… Вставай…»
На кухне загремела посуда.
Мне хотелось сбросить плед. Я задыхался. Я знал, что скоро это закончится. Когда-то, когда я ещё следил за своими зубами, таким было ожидание в кресле дантиста — боль, боль, боль — и передышка, и снова боль, но понимание того, что она закончится, что я всё равно буду дома, не давало отчаянию разыграться по-настоящему. Зубы… зубы, их уже почти нет, у неандертальцев их было сорок четыре, как чижей у Хармса, а сейчас они числом тридцать два, tronki donk, тронки донк, тронки донк, апельсинчики как мёд, в колокол Сент-Клемент бьёт.
Так было каждый раз.
Почему же сейчас так тяжело?
Неужели и правда виной всему Козлик? И теперь она мстит мне. Мстит за измену.
Я же не опоздал, Верочка. Я был на месте. Я просто немножко выпил и заснул. С кем? Да ни с кем, Верочка. Как всегда, один. Разве мы не договаривались? Я верен тебе, Верочка. Тебе одной.
Она гремит посудой, как пыточными инструментами.
Она включает микроволновую печь.
И счётчик, старый счётчик у дверей, эбонитово-чёрный, блестящий, начинает вращаться, пробки гудят, колечко ездит: вот-вот польётся из счётчика то ли марш, то ли джаз, то ли вальс.
Верочка хочет потанцевать.
Она идёт сюда.
Скоро всё это закончится. Оно всегда заканчивается.
И тогда я начинаю молиться. Пытаюсь представить себе лицо Козлика и молюсь.
На бальбуте. Я уже не знаю других языков.
«Bruta mau, tau istuzu u autima, tau balbuta svetuzu bu, tau stuta aiduzu bu, tau fuzu ujma sau aluzu u tutima da autima, du nau kusutima rusoje dinuti…»
Молитва примата.
Верочка подходит к кровати. «Попробуй… Вставай». Верочка опускается рядом. Я чувствую, как бьётся её сердце, как она дышит, я вжимаюсь глубже в продавленную кровать, и ноги мои в прогнившей обуви так жгуче смердят, и плед, в который я выдохнул столько страха, начинает шевелиться.
И тогда я молюсь уже по-другому.
«Amiluta o istoje, o istuta amiluta,
Amiluta o intruta, o intruta amiluta,
Amiluta o aluta amiloje tau istuzu…»
Леннон, спасай. Леннон, приди. Тридцать два зуба, тридцать две минуты, сорок четыре весёлых чижа. Love is free, free is love. Может, это и есть ответ, может, поэтому я и придумал бальбуту — чтобы на ней молиться?
Она перестала напевать. Мне показалось, она плачет.
Но я тебя не люблю, Верочка. Как сказать ей, что я её не люблю. Как сказать, что не любишь, на языке приматов?
Плед полез к ногам, в лицо пахнуло духами, плёнка между пальцев напряглась, натянулась, щёлкнул выключатель. Только счётчик всё потрескивал в тишине квартиры.
То ли вальс, то ли марш, то ли джаз.
Как всегда, ночью я проснулся, чувствуя во всём теле приятную лёгкость. Она простила меня — а может, ничего не заметила. Всё было как всегда. Плед лежал на полу. Я был разут, а ботинки стояли в прихожей, сдвинув морды. Верочка уже ушла в свою ночную смену, а я отправился на кухню, налил себе выпить, стал у окна. Люди спали, этажами вповалку, один на другом. Чёрт возьми. Чего я боялся? Я был ещё не стар и достаточно здоров, у меня была съёмная квартира в доме с мемориальной доской, флэшка с созданным мной языком, спрятанная в надёжном месте, и свой собственный Козлик где-то в микрорайоне неподалёку. На столе лежали деньги, холодильник был снова наполовину полон, а в ванной капала вода. Я прекрасно выспался и знал, что мне ничего не угрожает.
Я сел за ноутбук и сразу же нашёл в почте письмо от Козлика. Не прошло и восьми часов, как мы расстались, а он уже нетерпеливо писал, что так и не получил материала с правилами и словарём бальбуты, и просил прощения за то, что меня обидел. Я отправил ему всё, что нужно, и добавил несколько слов. А потом откинулся в кресле, подумал, улыбнулся и написал сверху по-белорусски:
«Дорогой Козлик!»
Я чувствовал, что это его удивит — но я знал, точно знал, что на прозвище он не обидится. Он уже был очарован моим языком. И его Богом, который взялся наконец за свои прямые обязанности — учить и давать людям закон.
Уже утром, попивая кофе, я получил от него новое письмо. На этот раз — полностью написанное на бальбуте. Я и сейчас помню, что там, в переводе на белорусский оно звучало примерно так:
«Это невероятно, но я так и не смог заснуть. Всю ночь просидел за вашей книгой. Это как оказаться на полном чудес острове — только на первый взгляд он маленький, необитаемый, невидимый, на самом же деле — космос. Спасибо. Кажется, я сегодня уже не смогу говорить и думать ни на каком другом языке. Все вопросы, которые у меня появились, надеюсь озвучить при встрече. Буду рад, если вы подарите мне право на одно слово. Понимаю, что его надо заслужить, это право, но если в словаре бальбуты появится хоть что-то, созданное мной, вы (помните Стрельцова?) «увидите счастливого человека».
Ваш К.»
6.
Чуть ли не каждый день мы обменивались с Козликом короткими посланиями, а недели через две договорились встретиться снова — и как ни странно, я ждал этого момента с таким нетерпением, что мне даже было стыдно. Возможно, мой стыд и стал причиной того, что я отнёсся к нему настороженно, и он сразу же почувствовал мою сдержанность. Бедный Козлик, он только вздохнул, улыбнулся и сделал вид, что ничего не замечает.
На этот раз мы снова условились увидеться за столиками возле «Щедрого» — и почему меня так туда тянуло, не понимаю. «У вас свободно?» — спросил кто-то над моей головой. «За-ня-то», — проворчал я и положил на пластиковый стул свой пиджак. Надо было что-то взять, пиво или колу, но столик за это время мог кто-нибудь присвоить. Я сидел под зонтиком и смотрел, как у памятника Победы выстраивается почётный караул: девушки в форме, с пустыми глазами и огромными, как забинтованные опухоли, белыми бантами на затылках послушно лупили туфельками по плитке. Меня всегда поражал их торжественный выход на площадь, существовал какой-то дичайший контраст между тем, что было в их головах: шопинг, мобинг, петтинг, вконтактик, гитлерюгенд, близкие каникулы — и этими чудовищными белыми цветами, которые вживляли им в черепа пропитые, безобразные командиры. Хлопцы выглядели не так занятно — парням форма всегда к лицу.
Козлик немного опоздал. На этот раз он был на велосипеде. И это вызывало во мне странное раздражение. Улыбаясь сквозь свою слишком большую бороду, которая совсем не шла его мелковатому лицу, он прицепил велосипед и сел напротив, нежно повесив мой пиджак на спинку стула.
Я думал, мы сразу начнём на бальбуте, но он упрямо говорил только по-белорусски.
«Велосипед, — сказал он, словно что-то вспомнив. — Когда я к вам ехал, то всё думал, как его назвать по-нашему».
«И что надумал?» — спросил я как-то слишком высокомерно.
«Ну, например… Не, я боюсь, — сказал он с улыбкой. — Это вам решать. Хотя слово уже, видимо, давно существует».
Не глядя на него, я бросил:
«По-моему, всё ясно. Olodonkuta».
Он кивнул.
«Разве у тебя были другие варианты?»
«Конечно, — сказал он. — Я подумал, donkolouta. А ещё лучше donkolo. Хотя это и немного против правил. Mau donkolo bloje da ujma».
«Olodonkuta, — сказал я, уставившись ему на этот раз прямо в глаза. — И только так».
Он снова кивнул.
«Пойду закажу что-нибудь. Вам взять пиво?»
«Лучше давай деньги и посиди здесь».
Я взял ему пива, а себе сто грамм водки в пластиковом стаканчике и сок. Мне не терпелось начать разговор на бальбуте, но, если честно, я тоже боялся. Боялся, что у нас ничего не выйдет. Водка была хорошим выходом, главное — не переборщить. Я вышел из «Щедрого» (кондиционер у них — просто зверь), сел, сделал глоток и поморщился.
Козлик улыбался и всё время жмурился — то ли от солнца, то ли от моего жадного взгляда.
И тогда мы заговорили. Так, как я и хотел.
Это оказалось не так уж легко. Бальбута даёт своим носителям много свободы — а свобода, как известно, ярмо тяжкое. Двигаясь, словно в тумане, навстречу друг другу, мы вели разговор на ощупь, натыкаясь то на плечо, то на спину, то на вытянутую руку, — но нам редко когда удавалось взглянуть друг другу в лицо. Странный выходил разговор. Козлик часто останавливался, подбирая слова, — да и я всё время чувствовал свою неопытность в устной беседе: люди мы с ним были непростые и любили говорить сложно, нам надо было постоянно строить в голове причудливые конструкции; не факт, что собеседник мог молниеносно их оценить и понять. Подсознательно мы, конечно, стремились к упрощению каждой фразы — или, может, это я стремился, а Козлик искренне старался воспользоваться всем разнообразием нового языка и говорил в полную силу. Тем не менее полчаса неспешной, осторожной болтовни на бальбуте да ещё мои двести граммов водки и пара бокалов пива сделали своё дело — коммуникация удавалась нам всё лучше. Да, мы запинались, мокли от напряжения и замолкали, мы рычали, мычали, стучали пальцами по столу, но всё же понимали друг друга — контакт был. Был контакт!
«Вы женаты?» — спросил неожиданно Козлик, когда мы замолчали, чтобы отдохнуть, и уставились на пробегающих мимо людей, чувствуя к ним лёгкую зависть. Уж что-что, но наши теперешние ощущения были им абсолютно незнакомы — ведь мы говорили на языке, который никто в мире не знал. Правда, люди об этом не догадывались. Им было значительно проще жить. Они казались нам такими лёгкими и беззаботными, словно райские птицы. Райские птицы в центре Минска.
«Вы женаты?» — повторил он, и снова на бальбуте.
Он применил для этого, на первый взгляд такого несложного, вопроса интересную форму: tau istuzu ne onk? То есть: ты живёшь не один? — спросил Козлик, и я сразу понял, что он имеет в виду. Конечно, можно было спросить: tau imatuzu kvinutima? — ты имеешь женщину? — однако Козлик постиг философскую сущность бальбуты: к любым претензиям на то, чтобы обладать кем-то живым, на то, чтобы считать себя чьим-то властелином, проводником чего-то, носителем истины в последней инстанции или расклейщиком ярлыков, бальбута относилась не очень дружелюбно. Поэтому просто: ты не один? — и это могло значить и брак, и дружбу, и сотрудничество, и состояние в эту самую секунду, и ничто ничему не противоречило.
Такой уж я придумал язык.
Патологически не способный на гнёт и унижение.
«Да, — ответил я, подумав. — Конечно я живу не один. Я живу с Верочкой».
Он странно встрепенулся, словно от холода.
«Верочка меня любит», — сказал я почему-то на этот раз по-белорусски.
И достал телефон, повертел в руках. Словно показать хотел Козлику, что не вру, что прямо сейчас эта штукенция может позвонить и заговорить женским голосом.
Он кивнул.
«Хочу прокатиться на твоём велосипеде, — сказал я снова на бальбуте. — Ты не против?»
«Конечно нет», — он удивлённо поднялся, отцепил замок. Покорно дал мне в руки руль, словно я хотел его обезоружить. Глупый мальчик. Я закинул ногу, как собака около столба. Давно я так высоко не поднимал ноги. Аж что-то хрустнуло в позвоночнике.
И вот я уже мчался по проспекту, мимо флагов и людей, разрезая ветер. На полной скорости выехал на мост через Свислочь. Козлик остался где-то далеко, за столиком возле «Щедрого», и я был рад, что можно больше не смотреть на его маленькое, красное, влюблённое лицо.
Когда-то, в моем бумажном детстве, у меня конечно же был велосипед — тот самый советский «Аист», на котором все мы доехали до конца империи. Но я тогда жил в самом отдалённом микрорайоне и носился на велике только вокруг его бетонных гробов — или, в лучшем случае, через полуживой лес, на грязное озерцо, поплавать. Помню, помню: прямая и длинная улица Промышленная, где сплошной стеной стояли заводские корпуса, уходила за горизонт, а из лесочка шёл гнилой запах воды, там надо было поворачивать, слезать, топать по загаженной тропе, толкая велосипед… Как давно это всё было. Я никогда ещё не видел центр города с велосипедного сиденья, никогда ещё не завоёвывал велосипедным рулём этих широких плакатных улиц, этого гордого тоталитарного пространства, этой пустоты настоящего города. Поэтому, вращая педали Козликовой машины, я чувствовал, что в моей жизни начался какой-то совершенно новый этап. Неизвестность била мне прямо в лицо. А в голове шумели деревья парка Янки Купалы, беспорядочно сцепленные слова бальбуты, животные голоса машин, пронзительный угловатый грохот минской архитектуры, каждая линия — нота, каждый угол — ритмичный удар в висок…
Я свернул в парк, сбросил скорость, доехал до памятника Купале и остановился.
Сел на скамейку, достал сигарету.
Намертво расставив ноги, Купала ожидал, что ему скажут: «Снято!» — но никто не спешил вызволить его тушу из этой неудобной позы.
Здесь были только мы: каменный человек и я. За спиной Лупаки купались голые девки. Но он не имел права повернуться.
«Снято», — сказал я вполголоса.
Он скосил глаза. Но не шевельнулся. Не я был здесь режиссёром. Едва намеченные скулы Купалы еле заметно напряглись.
«Tuputa hitrutima, finita la commedia», — сказал я немного громче и улыбнулся.
А вот если Лупаку перевести на бальбуту.
Это тебе не Имре фон Штукар. И не Эзра Паунд.
Проще, конечно, это:
«Kau vou aiduzu, u ujma kvaj kopjutima?
Belarusutika».
А вот это уже труднее — но и изящнее:
«Mizoj liutima, mizoj sprugutikama
Mau Tutima belarusoje…»
Красивый я придумал язык. Печальный, протяжный, меланхоличный, как песня над болотами-пустынями.
Козлик нашёл меня только через час. Я издали заметил его растерянную фигуру, мелькающую среди парковых деревьев, она то и дело сливалась с зеленью — потому что и футболка на Козлике была зелёная, майская; он подошёл и сел рядом, вертя в руках велосипедный замок на резиновой колбасе.
«Верочка звонила», — соврал я. И стоило мне произнести её имя, будто бы щёлкнуло что-то под лавкой — и всё вокруг: деревья, и каменный человек на постаменте, и даже голые купальщицы, и шапка Госцирка за забором с вазами, все будто придвинулись поближе и навострили уши. Я отогнал от глаз какую-то насекомую мелочь и сказал вполголоса на бальбуте:
«Хочешь, расскажу, как мы познакомились?»
Козлик опять кивнул. По-моему, он хотел от меня всего и сразу — и чем больше, тем лучше. И я, не повышая голоса, заговорил. Слова вылетали словно сами собой, я сам удивился, как складно у меня выходит. Как на бумаге. Будто бальбута была моим родным языком.
«Однажды я понял, что проиграл. Несколько лет назад, вечером, когда не было ещё ни этих столиков возле «Щедрого», ни бальбуты, ни Верочки, я ясно осознал, что последние двадцать лет моей жизни были Эпохой Поражения. Да, я называю это Эпохой — ведь моя жизнь до того момента была просто некой историей, и она шла за Большой Историей и отражалась в ней, и Большая История руководила и направляла, а моя путалась под ногами. А теперь Большая История оказалась далеко впереди, а я остался там, где был. Сначала я оправдывался, что это не моя вина, что меня что-то удерживает, хватает за рукав: привычки, здоровье, время, обстоятельства. Но теперь я понимаю, что просто — проиграл.
Двадцать лет подряд я только и делал, что терпел поражение за поражением. Мне было примерно как тебе теперь, мой Козлик, когда свершилось первое поражение, — и я не обратил на него внимания. Сначала я поступил на филфак — но так и не стал никем, просто человеком с дипломом. Белый словарь из моего бумажного детства говорил, что будущее тоже белое и стоит только захотеть, и можно чего-то достичь, все дороги открыты. Врал он всё. Врать детям — это же так просто, и за это ничего не будет, правда? Я писал стихи — но их никто так и не прочитал. Те люди, которым я их показывал, хвалили меня и называли многообещающим — и что из этого вышло? Ничего. Никто не сказал мне: давай издадим книгу, никто не написал обо мне ни строчки, никто не попытался даже понять, что я хочу сказать. Никто даже не назвал меня бездарью. Просто — молчание. Тишина. Ничто и ничего. Пиши, сказали мне. А не хочешь, не пиши. Я работал над собой. Я относился к себе критически. Я прочитал столько умных книг, я превратил их все в гранит, из них можно было сделать несколько вот таких каменных истуканов. Я верил в знания. Я боролся с амбициями и верил, что терпение и труд всё перетрут. Результат был нулевой. С таким же успехом я мог ничего не читать, считать себя гением и лениво поплёвывать на остальных. Ни от таланта, ни от амбиций, ни от самокритики, ни от знакомств, ни от трудолюбия, ни от целеустремлённости ничего не зависит, Козлик. Вообще ничего ни от чего не зависит и никому на свете ничего никогда ни от кого не нужно. Вот то главное, что я понял. К сожалению, слишком поздно.
Я не сделал ни одного величественного или значительного поступка. Вообще ничего не сделал. Я женился и через год развёлся. Я боялся идти в армию, я был пацифист и анархист в душе, но всё равно пошёл. Я менял работы, но с каждой уходил — не потому, что меня выгоняли, не потому, что я был неудобный, колючий, слишком вольнолюбивый, не потому, что делал что-то, что не нравилось начальству. Нет: просто фирма закрывалась, и я оставался без гроша в кармане. Я брался за всё на свете, и, стоило мне взяться, это всё сразу же заканчивалась. Я попытался быть подхалимом, продажной сволочью, тихим и незаметным конформистом — но и это не подействовало. Ничего не изменилось. Мне не стало ни легче, ни проще, ни, наоборот, труднее — ни страданий, ни разочарования, ни желания что-то доказать. Даже смириться я не мог — ведь не было с чем смиряться. Представь себе, Козлик.
Когда я был подростком, то мечтал о том, что изменю мир и заставлю о себе говорить. Когда мне было тридцать пять, я наконец-то внимательно взглянул на себя: я был таким незаметным, что о моём существовании никто не догадывался, кроме родителей. Я почувствовал, что могу кого-нибудь убить — и всё равно ничего не изменится. Мне ничего не было интересно и ничего не волновало. Какое-то время я мечтал, что однажды выйду к резиденции нашего главного победителя, выйду босиком, весь в белом, и подожгу себя. Может, тогда Эпоха Поражения закончилась бы. Но я не решился. Конечно не решился. Трус. Ноль. Никто. В тот момент, когда я твердо решил совершить этот подвиг, я уже знал, что никогда в жизни ничего такого не сделаю.
Постепенно я оказался совсем без денег, без работы, без дома. Жил у родителей, ел то, что готовила мать, брал у отца деньги и бесцельно бродил по городу. Был дождливый вечер, я искал бар, где можно дёшево выпить и закусить. У меня заканчивались сигареты. Впереди вдруг появились двери какой-то забегаловки. Я удивился: раньше её здесь не было. Но в городе много чего пооткрывалось в то время, я вошёл, это было совсем маленькое помещение, пара мужчин, пара женщин, запах жирных беляшей. Я взял «Беловежской» и чай без сахара. И сигарет. Самых дешёвых. Я стоял, пытаясь подольше растянуть свою убогую пластиковую рюмку, а потом почему-то взял и выпил её всю залпом. Прищуриваясь, отрыгнул. Схватил чай, обжёг гортань, губы, он не хотел остывать, этот мой безвкусный, бессмысленный чай. Так Эпоха Поражения оставляет за собой следы. А ты терпи. Меня чуть не стошнило. И «Беловежская» в последнее время совсем испортилась. Некогда это был напиток богов — а теперь хер его знает, что они туда добавляют. На вкус как краска.
И тогда я опустил глаза и увидел рядом с собой ножницы.
Ножницы и стопку бумаги. Они лежали на стойке передо мной. Ещё мгновение назад их не было. Прямо передо мной лежали ножницы и бумага, и я не знал, откуда они взялись. Я взял ножницы и оглянулся.
Из бара как раз вышла какая-то женщина. Мне казалось, что, выходя, она бросила на меня быстрый взгляд. Я бросился за ней под дождь. Она убегала, низко надвинув зонтик. Она была без каблуков, и всё же догнать её было непросто — почему-то я чувствовал в ногах слабость. Колени не слушались, а где-то внизу живота появилось очень приятное ощущение. Там, внизу живота, другой я, настоящий я, уже знал, что делать. Конечно проиграть. Это же Эпоха Поражения. Ещё одна неудача. Я просто не смог её догнать. Чисто спортивное поражение. Мышцы против мышц. Не вышло. Кто меня за это осудит?
Я спрятал ножницы в карман, сунул бумагу в рюкзак и поехал домой. Уже поднимаясь в лифте, я почувствовал: что-то не так. Мать плакала. Отец сообщил, что моя бабушка умерла. Я не знал, что ему сказать.
Через несколько недель я получил кучу денег. Бабушкину хату в частном секторе продали, и у меня на руках было пять тысяч долларов.
А вечером мне позвонили с незнакомого номера и предложили снять квартиру. Назвали адрес и положили трубку. Нет, я не стал перезванивать, я не отнёсся к этому как к шутке, я не попытался выбросить это из головы. Мы же не такие, правда, мой Козлик? Я видел связь между ножницами и этим звонком. Мы ведь сумасшедшие, Козлик. И наше безумие лёгкое, как бумага. Там, где другие видят угрозу, — мы видим чудо.
На другой день я поехал по указанному адресу. На доме была мемориальная доска в честь какого-то партократа. Я до сих пор не могу запомнить, как его звали. Домофон не работал, дверь подъезда была распахнута. Я постоял немного, наблюдая за тем, как из подъезда выходят люди. Обычные люди с вечным подозрением в глазах, люди, у которых есть проблемы, и эти проблемы никуда не денутся. Я поднялся на третий этаж, нашёл дверь без номера, это была та квартира, адрес которой мне сказали по телефону. В замке торчал ключ. Я повернул его и вошёл. Внутри было убого, но для меня вполне приемлемо. Я посидел за столом, глядя в окно. У дверей потрескивал счётчик, старый, советский ещё. Блестящая чёрная африканская маска с пробками вместо глаз. Я разделся, лёг на кровать, заснул, а потом пришла Верочка, и всё стало как сейчас.
Понимаешь, Козлик, я не хочу думать о том, что произошло. Я знаю, что главное — не искать никаких объяснений. Я только пошутить могу насчёт какой-то небесной службы социальной помощи, которая выделяет ежегодно стипендии для тех, кто, как я, проиграл. Чтобы мы не подохли с голоду. Там, наверху, сейчас, видно, социал-демократы у власти. Или вообще коммунисты. А завтра всё может быть по-другому. Я хочу, чтобы они там, наверху, обо мне забыли. Я знаю, что если начну искать, в чём причина, всё может закончиться. А может, и нет. Ничего ни от чего не зависит, Козлик. Всё просто или так, или иначе, нет никаких причинно-следственных связей. Я живу как живу, потихоньку трачу деньги, которые получил после бабушкиной смерти, и ничего не хочу загадывать наперёд. Я понимаю, что Верочка от меня чего-то ждёт. Может, того, что я отремонтирую квартиру. Или что пойду на работу. Или вложу деньги в какой-то бизнес. Но их уже мало. Какой там бизнес… А может, она ждёт, что я ничего не буду делать. Может, ей именно этого хочется. Я не знаю. Теперь я думаю, что всё это: поражение за поражением, страх, амбиции, борьба за то, чтобы выживать, меняться, приспосабливаться, мысли о самосожжении и вся прочая фигня…»
Фигня — это я, конечно, не переводил. Так и сказал: фигня. Посреди гармоничного бальбутианского мяуканья и уютного потрескивания её согласных «фигня» прозвучала такой какофонией, что Козлик аж вздрогнул.
«…вся прочая фигня — всё это было для того, чтобы однажды вечером я заварил себе кофе, сел за стол и придумал бальбуту».
Он нежно посмотрел на меня. Так нежно и так сочувственно, как сын смотрит в глаза больному отцу.
«Вот как бывает: сначала вырезаешь фигурки из бумаги и населяешь ими империи, от плинтуса до плинтуса. Потом сам, как скомканная фигурка, валяешься на чужих коврах. Мечтаешь, горишь, остываешь, гаснешь, таешь, рассыпаешься. Выясняется, всё, на что ты способен, всё, для чего это было, весь смысл твоей предыдущей жизни — это выдумать несуществующий язык для тебя и какого-то мальчика-фрика, язык, о котором лучше никому не рассказывать, а особенно тем, с кем живешь, особенно самым родным. Что, так и выглядит смысл жизни?
Так стоило ли надрываться? Стоило ли так мучиться и мечтать? Зачем были эти двадцать лет? И зачем я тебе всё это сейчас рассказал, пацан? Зачем я тебе в этом всём признался?
А, Козлик?»
Я посмотрел ему в лицо, нащупывая в кармане сигареты. Козлик улыбнулся виновато и вытянул перед собой ноги в коротких шортах, голые, короткие, натренированные.
«Простите, но… я почти ничего не понял. Видно, долго мне ещё учить бальбуту… Тяжеловато вот так, на слух… Особенно если так быстро говорят, как вы».
Я положил руку ему на пушистое колено. Мне было страшновато, стыдно, да и низ живота снова заныл. И всё же я высказался — давно я не говорил ни с кем так искренне. Вокруг и правда всё понемногу успокоилось. Тени ушли далеко, к ступенькам, ведущим на проспект, в траве прыгали белки: враки, враки, враки, вот Верочка услышит, вот уж она с работы вернётся, вот уж тебя раком поставит… Брысь. Город отодвинулся от моего лица, шапка Госцирка сбилась на лоб вечерней толпе, и в фонтане с голыми девушками снова зашумела вода. Бронзовый Лупака судорожно сглотнул и выставил вперёд мягкий подбородок. И всё же что-то было не так. Будто Верочка и правда слышала, что я здесь наговорил. Но она простит. Просто я слишком много выпил. Или слишком мало. Она простит.
Вдруг я почувствовал, что Верочка где-то близко. Убрал руку с колена Козлика и достал телефон. Многозначительно так достал, с намёком. И отодвинулся от Козлика, на какой-то сантиметр, но отстранился. Так, чтобы он тоже что-то почувствовал. Но тот был на своей волне.
«Я мало что понял, — повторил Козлик, мечтательно улыбаясь. — Но это было красиво. Как музыка. Я думаю… Я хотел бы услышать ваш рассказ снова. Напишите мне сегодня письмо. Хорошо?»
7.
Конечно я ему написал. Как всегда, ночью. Написал, чтобы он не принимал близко к сердцу то, что я ему понарассказывал, что я просто выпил лишнего, а алкоголь на меня как-то неправильно действует. На бальбуте мое письмо выглядело дико: как выяснилось, этот язык не очень уверенно себя чувствует, если речь идёт об оправданиях. Постоянно приходится скрывать простые слова за сложными описаниями того, что хочешь сказать, и в результате любое выражение выглядит как многословный, витиеватый обман. Вот и скажи после этого, что бальбута — примитивный организм. Скажи давай. И хотя никто мне ничего такого пока что не говорил, я неистово ввязался в спор с этим никем. Бальбута разматывалась, как пружина, — уже почти без моего участия.
Впрочем, я не для этого её создавал, не для оправданий — просто лучше вообще не создавать таких ситуаций, убеждал я себя. Надо жить так, как подсказывает бальбута, а не наоборот. Идти за языком, чтобы он вывел к простоте и искренности. А не тянуть его в свои лопуховые заросли.
Конечно я написал Козлику. А потом написал ему ещё и ещё. Он отвечал практически сразу же — такое ощущение, что он теперь только тем в жизни и занимался, что ждал моих сообщений и, едва получив, бросался писать мне ответы. Как-то мы снова встретились и долго гуляли возле Белой Вежи, обсуждая нашу бальбуту и прикладывая её к самым разным вещам и явлениям, обсуждая её такой простой и одновременно такой сложный словарь. Иногда мы смеялись, разыгрывая сценки: например, визит бальбутанина в районную поликлинику, или переводили речь нашего всенародно избранного «пересидента», посвящённую Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Иногда останавливались и взволнованно читали друг другу стихи на бальбуте — переводы любимых поэтов. Иногда притворялись туристами из Бальбуты, заходили в полупустой магазин и начинали прицениваться к каким-нибудь соломенным зверям, болтая по-своему. Нам верили. Неизменно верили. Терпеливо объясняли, мучительно вспоминали английский, оказывали знаки внимания и почёта — и никто так и не спросил, откуда мы такие приехали. Легковерные belarusutika, как же мало вы знаете о мире, о тех, кто живёт среди вас, и какое же болезненное уважение питаете ко всему чужому.
Лето прошло, выгорело, выкипело, пробулькало в такой вот бальбуте, этим стремительным летом Козлик впервые никуда не поехал. Мы так и просидели три месяца в городе, приучая его к звукам нашего языка. С красной строки началась осень — и вот однажды в сентябре мы с Козликом пошли гулять по проспекту, восторженно рассуждая о нашем словаре. Корни бальбуты, связанные между собой множеством удивительных комбинаций, давали нам такое пространство для деятельности, что мы решили разделить нашу работу и распроектировать её на несколько лет. Козлик брал на себя разработку лексики медицинской, транспортной, юридической, сельскохозяйственной, экономической и спортивной. Я — лингвистику, историю, политику, кулинарию, СМИ и искусство. Литературу никто из нас не хотел уступать — и мы решили заниматься ею вместе. Перед нами открывались такие перспективы, такие бескрайние поля для экспериментов, что мы не обращали внимания на то, где мы сейчас находимся и кто мы вообще такие. Мы даже дорогу несколько раз на красный свет перешли, поступок для Минска неслыханный, но нам повезло, никто нас не остановил и никто не размазал по асфальту. Возбуждённо размахивая руками, мы дошли до станции метро «Московская» и только там наконец немного успокоились и протрезвели. Съели по пирожку, сидя на бордюре, помолчали, потрясённые нашим замыслом. Понемногу разговор разгорелся снова — доставая языком мясо из зубов, я шёл вперёд, рождая на ходу новые слова бальбуты, и одновременно слушал Козлика, напевающего свой собственный лексикон. Так мы дошли до самого Борисовского тракта, пересекли кольцевую, спустились с горки…
«Кстати, я тут совсем близко живу», — сказал вдруг Козлик, словно мимоходом.
Я как раз позволил себе небольшую мечту: сейчас бы тетрадь общую, такую, как в детстве, школьную толстую тетрадку, так хочется всё придуманное записывать, что аж сил нет. Ноутбук я с собой не брал, не хотелось с ним таскаться. А с тетрадью посидеть в тени — самое то. И тут Козлик и произнёс эти слова, которые я совсем не ожидал от него услышать.
«Да, совсем близко, минут десять отсюда».
И подмигнул мне неумело, обоими глазами.
«Можем ко мне зайти, у меня чистых тетрадей хватает, мать приносит с работы. Посидим, пива попьём холодного».
Сам не знаю, почему я согласился. Почему дал ему повести меня за собой, в переход, а потом во двор, по дорожке, протоптанной среди одинаковых многоэтажек.
«А родители? Против не будут? Ты же с родителями живёшь?» — глухо спросил я, когда мы огибали огромный детский сад, проволочная ограда которого всё никак не заканчивалась. С той стороны ограды за нами следил сторож, а может, и дворник — рослый дед то ли с ломом, то ли с древком от лопаты.
«Они на работе, ещё же только четыре, а они в шесть заканчивают».
Козлик ловко переступал через кучи какого-то строительного щебня, а я едва перебирал ногами. Что-то неладное витало в воздухе, усталом, застоявшемся; во дворе, где мы шли, никак не могли завести машину — и шум двигателя звучал, как аплодисменты в большом концертном зале. Дворник перемещался вдоль забора, не отставая от нас, — я ускорил шаг, чтобы он наконец оказался за спиной, и Козлик удивлённо настиг меня возле подъезда.
«Не сюда», — мягко сказал он.
«Верочка!» — крикнул кто-то с балкона.
Мы нырнули в какую-то арку и вышли в очередной широкий двор.
«Здесь я и живу».
Мы поднялись на неизвестно какой этаж. Я совершенно не знал, что это за улица и как отсюда дойти до метро. Козлик открыл дверь, за которой была каморка с ещё четырьмя дверями. В каморке стоял тот самый велосипед. Olodonkuta. Козлик нагнулся, дал мне тапки.
«Проходите».
Коридор наполнился запахом моего пота. Квартира шелестела занавесками, гардинками, жалюзи, уютное жильё семьи из трех человек. Чистенькая двухкомнатная хата с видом на школьный стадион. Козлик усадил меня на диван — упругий, застеленный чем-то таким приятным на ощупь, что я сразу же схватился за ткань и начал перебирать, щупать, крутить на пальце нитки бахромы. Словно втирался к дивану в доверие.
Козлик показал мне свои богатства. Те, что привёз из своих азиатских путешествий. Какие-то вонючие, все в отпечатках жирных пальцев, барабаны, вырванные из доисторических книг страницы с полустёртой вязью: видно же, что подделка… Какие-то ржавые ножи с причудливыми ручками, выцветшие фото неизвестных киноактрис с усиками над пухлыми губами…
Я без особого интереса разглядывал его сокровища. Он принёс пива, вопросительно показал на полки с книгами:
«Если вам интересно, берите, полистайте, могу что-нибудь дать почитать… Родителям всё равно это всё не нужно».
Я думал отказаться, но волю мою словно парализовало. Взял из его гладких, как колени, рук — да, читал, и ещё что-то взял — тоже читал. Конечно он похвастался Пиперски — «От эсперанто до дотракийского», у него она была на бумаге, эта заветная книжка, а я скачал её на Флибусте и читал с ноутбука — ну, ладно, книжка была действительно хорошая, хоть и оставила лёгкое разочарование, так как слишком быстро закончилась, мне было мало, а вообще, Пиперски как Пиперски.
«А по конлангам?»
«Конланги здесь». — Он наклонился, футболка задралась, выглянула задница, розовая щёлка. У него целая полка, самая нижняя, была вся о конлангах — на разных языках, но он честно признался, что половины ещё не прочитал:
«Я медленно читаю. И знаете, когда я начал учить бальбуту — ни о чём другом не могу думать».
Среди книг я заметил толстый альбом в шикарном переплёте, лениво потянулся к нему, Козлик сделал едва заметное движение, это было даже не движение, а какая-то мимолётная стрела возможной судороги, но я заметил — это моё желание вызвало в нём лёгкий протест. Он сделал над собой усилие, чтобы его не показать. Заинтригованный, я схватил книгу и разложил на коленях.
«Это родителей», — сказал Козлик недовольно.
Альбом был и правда шикарный. Порнография — да какая. На толстой и благородной бумаге, страница за страницей, одна и та же женщина занималась любовными утехами со своим псом — тонким и мускулистым догом, во всевозможных позах, в роскошной атмосфере аристократического дома начала двадцатого века. Причёска женщины постоянно менялась, поэтому я не сразу понял, что на всех рисунках изображена именно она: то вся в разбросанных по плечам светлых локонах, то с мальчишеской стрижкой, то вообще с выбритой головой, то надев викторианский парик она отдавалась этому догу с человеческими глазами, и только волосы у неё между ног оставались неизменными, они были выписаны тщательно и достаточно талантливо, и нарисованы были каждый раз так, чтобы зритель видел все подробности её раздвинутой волосатой и влажной вульвы. Я почувствовал, что возбудился, под альбомом, что лежал у меня на коленях, выросло то, что не спишешь просто так со счетов. Мне сразу захотелось эту книгу — если спрятать её от Верочки, можно было бы дарить себе время от времени такие мгновения… Мгновения, которые можно было коллекционировать. Никакое порно в интернете не могло сравниться с тем, что я здесь увидел.
Я держал альбом на коленях меньше минуты, а у меня уже были в нём любимые картинки.
«Родители, я вижу, у тебя достаточно либеральные», — хрипло и как-то издевательски произнёс я, положив руки на альбом. Мне не хотелось, чтобы в моих словах была хотя бы тень насмешки, но что-то двусмысленное всё равно повисло в воздухе.
Бедный Козлик печально смотрел на лампу, торчащую прямо из стены над моей головой. По-видимому, здесь его родители вечером сидят и пьют чай. А может, вино. Культурные люди, родители культурного сына. Вырастет — успокоится. Главное — поменьше на него давить и ничего не запрещать.
«Если честно, это подарок от одной знакомой, — неохотно сказал Козлик, а руки его просили: отдайте. Большие руки. Не по Сеньке. Козлик ведь был мелкий. — Сам не знаю, почему я вам о родителях сказал. Они с этих полок не берут ничего. Они вообще книг не читают. Им неинтересно».
«Ясно, — я ещё сильнее прижал к себе альбом. — Кстати, знаешь, как на бальбуте: секс? Догадайся. Как будет секс на твоей бальбуте? Ну, Козлик, давай».
«Pajuta… Duzu pajuta… — сказал он нерешительно. — Duzuta pajutima. Красиво получилось, по-моему…»
«Хорошо, а грубее? — поспешно спросил я. — Грубый секс? Но хороший, страстный! Как ты скажешь?»
«Takuzu pajuta… Taku mau pajuta… — говорил он, и глаза его вдруг осветились каким-то мучительным огнём. — Strilo u prugoje. Чёрт. Вы и правда гений. Так музыкально и не… Неприлично… На самом деле будто картинку видишь…»
Довольный собой, я хищно улыбнулся. Я хотел его ещё немножко помучить. Но то, что выросло под разложенным альбомом, и не думало чахнуть. Я был напряжён и возбуждён — к счастью, Козлик не видел, как подёргивался под моими руками его тайный альбом.
«А теперь скажи: мастурбация… Ну, давай, это легко!» — меня забавляло, как он танцует передо мной, нащупывает слово своими неуклюжими пальцами.
«Sabaupajuta… Sabauduzuta pajutima…»
«Неинтересно, — кольнул я его. — Слишком просто. Фантазия, где фантазия, Козлик?»
«Irukuta pajutima», — сказал он и покрылся пятнами.
«Хорошо… — Я взял принесённое им пиво. — А если, например…»
«Я вам тетрадь принёс, может, запишем то, что я придумал?» — Козлик уселся рядом со мной. Так он сидит возле своего отца. В те вечера, когда вся семья в сборе и по телевизору идёт что-то интересное. О женских прическах сто лет назад и о роли собак в парикмахерском искусстве.
«Да, давай». — Я так и не отдал ему альбом. И тогда он положил на открытую страницу свою руку.
«Вы, конечно, заметили… Здесь внизу стихи…»
«Стихи?»
И правда, увлечённый пикантными картинками, я даже внимания не обратил, что внизу каждой страницы симпатичным шрифтом старых парижских афиш были напечатаны короткие четверостишия.
«Это на каком языке?»
«Не знаю. — Козлик нетерпеливо пролистал пустую тетрадь. — И никто не знает. Их автор — на этих картинках. Эти стихи написала она, в 1901-м, описывая свои ощущения. На языке, который выдумала сама. Но никто так и не смог их прочитать. Франсуаза Дарлон. Так её звали. Загадочная была женщина. Я пытался расшифровать, несколько лет назад, но ничего не вышло. Я просто не могу нащупать никаких связей. И подсказок нет. Никакие методы не работают».
«Кажется, я знаю, в чем дело, — сказал я, разглядывая надписи. — Эти слова не имеют смысла».
Козлик посмотрел на меня с сомнением.
«Точнее, имеют, конечно. Если бы ты был женщиной и занимался тем, чем она на картинках, ты тоже мог бы написать что-нибудь подобное. Это язык её вульвы, которую ласкает собака. У тебя есть вульва? А клитор? А собака? Поэтому ты и не понимаешь. И я тоже. Если бы у нас была знакомая, которая… Возможно, она поняла бы, о чём писала эта Франсуаза Дарлон».
Он наконец забрал у меня альбом и торопливо поставил его обратно.
«Такое объяснение… никогда не приходило мне в голову…» — пробормотал он, вздохнул, жадно отпил пива и с облегчением откинулся на спинку дивана.
Мы взяли его чистые общие тетради, схватили каждый по ручке и подозрительно посмотрели друг на друга. А потом начали писать, одновременно, как по команде. И всё же скоро я выдохся. Или сделал вид, что выдохся. Потому что пальцы на моих ногах, оставив сырые от пота тапки, уже давно ползали по ковру и глупые мысли поднимались пузырями вверх от пола этой чужой квартиры, охмуряя мою бедную голову.
Вот тут я построил бы бумажный город. Здесь, в тени бамбуковой занавески, за которой начинается прихожая. А вот здесь, под креслами, была бы прекрасная пещера. Где можно было бы разместить войска на случай нападения. С той стороны ковра трудно было бы оценить их многочисленность. А вот здесь, на изгибе дивана, был бы священный холм. И они приходили бы сюда молиться перед битвой, мои воины. Зелёный участок под торшером — это лес, куда я отправил бы своего главного героя. А там, где ковёр заканчивается и начинается гладь ламината, — там море… А у края ковра, где жёлтые полосы, я построил бы порт. И корабли, плывущие в кухню, добывать там золото, серебро, шёлк… Здесь, в этой стране, жили бы бумажные люди, здесь звучала бы бальбута, от края до края… Попросить бы у Козлика ножницы — и резать, резать бумагу, умножая народы, языки, обычаи, стремления, воплощая всё то, что когда-то не удалось, не вышло, всё то, в чём я дал маху…
Но нельзя. Надо гнать от себя дурные мысли — и оставаться по эту сторону границы.
Ну пожалуйста.
Совсем маленький компромисс.
«Спина болит, — процедил я, гримасничая. — Кто куда, а я на пол».
И, не дожидаясь реакции Козлика, я с наслаждением сполз на ковёр, лёг на него боком, подперев рукой голову. Ничего уже не замечая, я лежал и писал в общей тетради слова бальбуты, лежал и с наслаждением чувствовал, как рука начинает затекать. Я вдыхал запах ковра, спасённой им пыли, далёкий аромат средства для чистки ламината — я знал, что Козлик окажется рядом со мной быстрее, чем я заполню страницу.
И он сдался.
«Жарко». — Он вдруг сбросил футболку: худой, бледный и мелкий, как ребёнок — ребёнок с густой бородой и светлыми редкими волосами на груди, между которыми торчала большая родинка, да и не родинка даже, а целая ягода. Как третий сосок. Симметрия была ужасная — будто он сам эту родинку туда приклеил. Я не мог отвести от неё глаз. Хотелось её срезать.
«Жарко», — повторил Козлик и растянулся на полу рядом с мной, высунув язык.
«Есть ножницы?» — спросил я почему-то по-белорусски. Он удивлённо поднял глаза:
«Принести? Зачем?»
«Да нет, нет, ничего, — я снова перешёл на бальбуту. — Работаем».
Мы молча писали — и я видел, что Козлик занимается словарём уже безо всякого энтузиазма, что-то бродило в его голове, что-то пузырилось, наполняя эту молодую головку глупым газом, от которого глаза у Козлика сделались совсем стеклянные. Мы лежали на полу, совсем близко друг от друга, я в своей мятой рубашке и джинсах, босиком, — и Козлик в одних коротких шортах. Вдруг мне заложило уши. Видимо, я слишком резко опустился на ковёр. Опять у меня проблемы с давлением. Краем глаза я наблюдал за моим учеником и незаметно теребил пальцем ковровую траву. Две империи сошлись в чистом поле. Два войска, два властелина. Нужно провести границу и выставить стражу — и следить за руками Козлика, следить, иначе он может спрятать свои отряды где-то под диваном, над которым солнцем торчала лампа, лампа, под которой вечером, каждый вечер, каждый божий, дьявольский, недобрый вечер садится семья, маленький козлик, папа-козёл и мама-коза…
«Здравствуйте», — сказала мама-коза, которая выросла из бамбуковых зарослей. За её спиной, в коридоре, стоял папа-козёл, ростом с козлика, но без бороды.
Ничего не скажешь. Тихо ходят по родной земле граждане Козловичи.
Мягко ступают копытами по ламинату, бородами не потрясают, листья с ветвей не жрут, на лишнее не отвлекаются, серьёзные они создания, эти жители уручанских джунглей. Тигры, а не травоядные.
Козлик вскочил, схватил почему-то футболку, начал натягивать задом наперёд.
Папа Козлика вошёл в комнату, сделал такое движение, будто дать мне копытом в морду собирался, — но сдержался:
«Здравствуйте! Это кто?»
«Это мой… друг», — сказал Козлик из-под футболки.
«Олег Олегович», — я с достоинством, не спеша поднялся, понимая, как мерзко это звучит. Олег Олегович. Есть что-то непристойное в этих «о», что-то с намёком на не совсем законные вещи, за которые много не дадут, но о которых напишут в хронике происшествий на тутбае.
Услышав моё имя, папа-козёл содрогнулся. Да и Козлик был удивлён. Я протянул папе-козлу руку — но он её не пожал. Поднял мою тетрадь, начал читать, шевеля губами, — но что он мог там понять?
«Это что?» — спросил он, разглядывая меня. Снизу вверх — и это давало мне надежду, что всё обойдется. В конце концов, что он мог мне предъявить? И что вообще такого произошло?
«Мы с Олегом… Олеговичем… язык учим, — сказал Козлик, запинаясь. — Сложный язык. Олег Олегович известный специалист…»
«Не знаем мы что-то таких специалистов, — мрачно сказал папа Козлика, внимательно разглядывая меня с головы до ног. — Мы таких специалистов что-то вообще не того… Не знаем… Знаем мы их, специалистов таких…»
Мама Козлика почувствовала, что надо спасать ситуацию, крикнула из кухни, закашлявшись:
«Денис, ты звонил в деканат?»
«Да». — Козлик хотел заслонить меня от папиного хищного взгляда, но куда там, я был выше и шире в плечах, так что теперь возвышался над ними обоими.
«Ел уже? Мы с папой в магазин зашли…»
«Отвечай, когда мать спрашивает, — прожевал слова папа-козёл. — А мы пока покурим сходим… со специалистом».
Он пошёл прямо на меня — и мне ничего не оставалось, как отступить к балкону. Он схватился за дверь и вытолкнул меня туда, где лианами свисало бельё Козловичей, уже совсем сухое.
Я убрал с лица брюки Козловича-старшего и прикрыл глаза бюстгальтером мамы-козы. Так было удобнее отбиваться.
«Ну что скажешь, Олегович? — Папа достал скомканную пачку красного «Минска», но сигарету так и не вытащил. — Чему ты учишь? Рассказывай, специалист».
«Да так. — Я смотрел на него сквозь лифчик мамы-козы, как через прорези на боевом шлеме. — Учу».
«Ага, — он покачал головой, будто мой ответ его полностью удовлетворил. — Учишь, значит. Молодец».
На школьном стадионе под нами малые играли в футбол. Жёлтый мячик заметался по коричневой высохшей земле, дети матерились — тонкие, сорванные голоса. Они словно травили этот мяч — и он не знал, куда деваться, прыгал то вправо, то влево, то подлетал вверх, к солнцу, но ему некуда было спрятаться, а они кричали, возбуждённо и с азартом, они знали, что в конце концов загонят его, как зайца, и он всё равно упадет от усталости где-то в кустах, так и не успев убежать. И тогда они набросятся на него и растерзают своими молочными зубами, и насытятся, и разойдутся по домам.
Учебный год начался. А я и забыл.
«Слушай, ты, забирай свои бумажки, и чтоб я тебя больше с Дениской не видел, — прошипел этот страшный маленький козёл, застиранные трусы которого угрожающе покачивались у него над ухом. — Ты мне парня не порти, хуй ты бумажный. Знаю я таких специалистов. Заднего ряда. Увижу ещё раз с Денисом, ты у меня таким специалистом заделаешься…»
Козлик смотрел на нас с той стороны окна, растерянно замерев посреди комнаты, держа в руках тетрадь — то ли мою, то ли его.
Я осторожно вернул лифчик мамы-козы на место и вышел с балкона.
«Денис, иди сюда», — раздался из кухни тревожный голос.
Козлик неохотно пошел на кухню. Папа-козёл последовал за ним, презрительно махнув воображаемой бородой и оттеснив меня элегантным движением таза.
«Мам, я сейчас! — Услышав, как я обуваюсь, Козлик выскочил в коридор и схватил рюкзак. — Я вас провожу!»
Он наклонился к моему уху и зашептал на бальбуте, что виноват, виноват, что родители пришли раньше, что они никогда раньше семи не являлись и что отца его за такое…
Улыбаясь, я молча взялся за ручку двери.
«Такая девка ходила! — бушевал на кухне козёл-старший. — Кровь с молоком. Отец с матерью на дачу специально гоняли, чтоб он тут с девкой делом занялся. Нет, билядь! Послал Олесю, сам послал, не она его, а он. На бумажки, билядь, променял. Чем они здесь занимались, а, мать? Ты мне можешь объяснить? Развелось, билядь, специалистов. А ты его всё защищаешь! Денис! Ты куда это? Стоять, я тебе сказал!»
Но Козлик уже рванул на себя дверь, и мы затопали по ступенькам, отталкивая с дороги велосипеды, коляски, сбивая ногами игрушечные грузовики, всё, чем были заставлены ступеньки, скатились, выскочили из подъезда, и какая-то старушка громко сказала нам вдогонку: «Вот скотовьё».
Мы пошли куда-то — я не знал дороги — и я вдруг засмеялся во весь голос, и Козлик вмиг просветлел лицом.
«Твой папа интересно произносит слово “блядь”, — сказал я ему, когда мы снова шли вдоль детского сада. — Билядь. Откуда там этот гласный?»
«Не знаю. Он всегда так говорил».
«Как будто акцент среднеазиатский».
«Нормалды. Это ещё одно его слово. Когда он в настроении. Он на самом деле неплохой человек».
Козлик довёл меня до метро. Мы больше не говорили. Только когда я протянул ему руку на прощание, он вдруг расстегнул рюкзак и вытащил книгу Франсуазы. Той самой, мадемуазель Дарлон.
«Я так понял, она вам нужна?»
Между нами протиснулся, заехав мне в бок локтем, какой-то нетерпеливый уручанец:
«Станут в проходе, ни пройти ни проехать! Иностранцы, вашу мать!»
Он оглянулся и весело подмигнул. Чернявый, пьяный, в футболке с российскими орлами. Подмигнул и исчез. И всё же запомнился мне навсегда. Кто знает почему.
«И ещё… — Козлик вздохнул. — Вас правда зовут Олег Олегович?»
«Да».
«Можно, я не буду вас так называть?»
«А как будешь?»
«Как и раньше. Обходился же я раньше без имени».
Я пожал плечами и пошел к турникету, прижимая книгу к животу. Хотя обложка и так была без картинок. Наверное, Козлик смотрел мне вслед. А может, и нет. Мне было плевать.
Несколько дней от Козлика не приходило никаких писем. Может, оно и хорошо, думал я. Надо было успокоить Верочку. У меня появилось ощущение, что она начала что-то подозревать. Наверное, Козлик всё же мучился чувством вины — и я дал ему намучиться вдоволь. Я знал, что рано или поздно он отзовётся. Возможно, папа-козёл лишил его интернета — но было ясно, что Козлик уже достаточно взрослый, чтобы противостоять диктатуре больших козлов.
Конечно, он бесится, этот его отец. Бесится, что так и не научил сыночка ходить тихо, жевать скромно, думать, как травоядное, ненавидеть бумагу и любить козочек. Проверил бы, что у тебя за книжки на полке стоят, под самым твоим носом, думал я раздражённо, отдыхая в приятном обществе мадемуазель Дарлон. Может, тогда бы всё было иначе. А сейчас — прими всё как есть, козёл, и скажи богу спасибо, что у тебя такой не похожий на других сын, а не тупой приспособленец, который повторит твой бездарный путь.
Да, я верил в Козлика. Он мог бы быть моим сыном. Он был на двадцать лет моложе. Этот факт мы с мадемуазель Дарлон обсуждали не раз — книга, которую дал мне Козлик (я так и не понял, должен ли её вернуть), заняла законное место рядом с моим ноутбуком, и теперь я ежедневно, поработав над бальбутой, долго сидел над загадочными стихами развратной Франсуазы, пытаясь услышать их, почувствовать на вкус и, чем чёрт не шутит, понять.
После истории с Козловичем-старшим мы с Козликом договорились встречаться только в «Щедром» — так было безопаснее. К тому же ни он, ни я не забывали, какую роль этот барчик сыграл в истории бальбуты. Козлик даже придумал мемориальную доску, которая будет здесь висеть через полвека. На бальбуте, конечно. Не скажу, что мне понравилась эта идея. Сам принцип бальбуты исключает существование мемориальных досок. Хотя, конечно, сказать на бальбуте «мемориальная доска» теоретически не трудно: flarekuta vedutima, например. Но что-то небальбутанское есть в сочетании этих слов. Что-то, что противоречит философии моего чудесного языка…
Моего языка. Но оставалась ли бальбута моей? Теперь она была якобы наша. Наша с Козликом на двоих. И это почему-то начинало меня беспокоить. Я разрывался между радостью и ревностью. Но Козлику этого не показывал. Сначала нужно было определиться самому, чего я всё-таки хочу от бальбуты — и от себя самого.
Я всё откладывал и откладывал это непростое решение — и будто в отместку за мою нерешительность жизнь сделала его ещё более сложным.
Был конец сентября, когда мы снова встретились с Козликом за столиком возле «Щедрого»: сидя друг напротив друга, мы вполголоса обсуждали его работу — раздел нашего словаря, посвящённый транспорту, был почти готов. Целый рой паровозов, трамваев, легковых машин, контролёров, машинистов висел над нашими склонёнными головами: негромкий рокот согласных, предупредительные свистки гласных… Я люблю поезда. Козлик был специалист по каретам, повозкам, бричкам и всему такому. Вот же старомодный дурак. Незаметно мы так увлеклись, что уже не обращали внимания на то, что делается вокруг: какие-то люди приходили и уходили, прислушивались к нашей бальбутанской болтовне, раздражённо или с уважительным любопытством. И тут просто из-за плеча у Козлика кто-то спросил по-английски:
«Простите, пожалуйста. На каком языке вы разговариваете?»
Смущенно замолкнув, мы обернулись.
Это была девушка, из тех, о которых нельзя сразу сказать, школьница она или студентка, голос у неё был хриплый, простуженный, что ли. Ничего удивительного — в руке она держала чашку с такой порцией мороженого, что из него можно было слепить человеческую голову. Такую, как моя, например.
Лизнув эту синеватую голову в её блестящую лысину, она махнула ресницами и спокойно, совсем без смущения повторила вопрос.
«Это… Это баскский», — сказал Козлик, покраснев.
Она засмеялась. Зубы белые, но некрасивые. Кривые. Ясно. На брекеты денег нет.
«Нет, — она вытерла губы. — Это не баскский. Ничего подобного. Ни разу не баскский».
«Откуда ты знаешь? — спросил я. — Ты в какой класс ходишь, девочка?»
Услышав мой английский, она сразу же поняла, кто мы, и заговорила на чистом белорусском.
«В десятый, дедушка. А насчёт баскского забудьте. Маскировка так себе. Подождите, до меня дошло…»
Мы молча смотрели, как от ледяной головы в её руках откалывается кусок черепа и собирается упасть ей на юбку. Она закатила глаза и сложила холодные мокрые губы для удивлённого «у».
«Ну и что до тебя дошло?» — спросил Козлик, опустив глаза.
«Ну… Я ду-у-маю…», — она прищурилась, будто раздумывая, выдавать нам тайну или нет.
И что-то мы с Козликом приуныли от этого прищура, и стало нам страшно и весело, как в очереди к зубному.
«Я думаю, это конланг», — сказала она твёрдо и взглянула на нас с видом победителя. Глаза ясные, как у птицы.
Замороженная голова у неё в руке медленно и торжественно развалилась на две части. И мы инстинктивно, каждый со своей стороны, бросились, чтобы их поднять.
8.
Я верю в безумие. И в сумасшедших верю не меньше.
А ещё я верю в то, что в любом почётном карауле найдётся один белый бант, который обязательно окажется фальшивым. Понимаете? В почётном карауле, за которым так забавно наблюдать, когда сидишь за столиком возле «Щедрого» на площади Победы и попиваешь тепловатое пиво, всегда окажется хотя бы один Белый Бант, который всё будет делать не так и некстати: слезет набок, отклеится, повиснет, наглый, непокорный; да что говорить: при ближайшем рассмотрении он окажется чёрным, зелёным, жёлтым — а то и не бантом вовсе, а морской звездой, или медузой, или куском мороженого. Безумие всегда живёт в нас самих, где-то оно всё равно есть, упрятанное вглубь, но вовсе не притворное, безумие смеётся над нами, невидимое и безжалостное. Оно уже здесь. Просто надо уметь видеть. А если тебе очень повезёт, оно само обратит на себя внимание.
Кашкан Наталья Евгеньевна… Так у вас там записано, правильно? Так вот, эта самая Кашкан Наталья, то есть Каштанка, была сумасшедшей старшего школьного возраста. Она любила отечественное мороженое, иностранные языки и мужчин старше её на двадцать пять лет. И только мужчин из этого короткого списка она любила платонически. Она интересовалась ими, как интересуются пандами или слонами. Правда, Козлик был старше её всего на три с половиной года… Ну, не важно. Кто из нас панда, а кто слон, мы должны были выяснить позже — и выяснили; всё равно конкуренции с мороженым и языками нам было не выдержать.
Её любовь к мороженому была патологической. Словно у этой девочки внутри горел огонь и она всё время старалась унять его всё новыми и новыми порциями сладкого льда. Меня это раздражало. Я помню мороженое своего детства — в котором любви, мороза и молока было гораздо больше, а химии, сахара и различных других излишков вообще не ощущалось. Это было мороженое, которое буквально сливалось с кончиком твоего языка в невероятном экстазе, постепенно переходящем в нежную и спокойную дружбу, в прекрасную гармонию вкусовых отношений.
В течение своей жизни я мог наблюдать необратимую и досадную деградацию мороженого. Новых сортов появлялось всё больше, они становились всё слаще, дизайн упаковок делался всё более разнообразным, но мой бедный язык, язык гурмана, язык влюблённого лизуна и пломбироглотателя быстро отвык от настоящего вкуса — из любителей мороженого мы превратились в его бездарных потребителей, всегда готовых купиться на рекламу, на неживой холод, на химическую виагру поддельного молока и лишнего сахара. Потребителями, ностальгию которых бессовестно и цинично используют для продажи подделок, — вот кем стали люди, которые едят мороженое в новом тысячелетии. Справедливости ради, конечно, нужно отметить, что в городе М. существует «Каштан» — единственное мороженое, которое ещё можно есть и которое хоть как-то соответствует прежним стандартам. «Каштан»… Каштанка… Видимо, не зря мы её так называли — хотя кличка была придумана не нами. А кем? Нет, Чехов тут был ни при чём.
С мороженым ясно. А вот языки… Тут у Каштанки был специфический вкус. Как и Козлик, десятиклассница Каштанка была обладательницей одной удивительной книги. Нет, порнографии в ней почти не встречалось, хотя какие народные поговорки без порно. Просто оно спрятано глубоко, дети не достанут. Каштанку порно не интересовало. У неё был свой клад, который она не променяла бы ни на что на свете. Мы ей даже сначала не поверили, пока она не принесла его однажды в «Щедрый» и не ткнула им в наши медвежьи носы.
Каким-то образом она ещё в восьмом классе заполучила «Словарь поговорок народа кунду», составленный в 70-х годах одним немецким исследователем и напечатанный для внутреннего пользования в Гумбольдтском университете. Словарь этот был её настольной книгой — она знала его чуть ли не наизусть и сыпала поговорками направо и налево. Будто какая-то африканская бабка. Поговорки всегда слетали с её губ в оригинале — когда Каштанка была в хорошем настроении, она переводила нам, что значат все эти таинственные слова, а если нет — просто издевательски смеялась. Себе на уме была девчонка. И мы ничего не могли с ней поделать.
Разве что рассмеяться вместе с ней.
«Нье ка ма: ло мбоко!»
То есть: ой, не могу, сказал шимпанзе, давясь от смеха.
Такие у них, кунду, поговорки.
Сам не поверил бы, если бы не увидел книгу. Каштанка принесла её на одну из наших тайных встреч. Дала полистать — и правда, книжка была что надо.
«Дай почитать», — попросил Козлик.
«Мбэе эси фо ла», — сказала Каштанка, пряча свою книгу. Что значило: а горшочек ещё не насытился. Так говорят матери кунду, когда дети просят дать им после обеда немножко сладкого.
Её родители, интеллигибельные интеллигентные интровертные интеллектуалы, белорусскоязычные сторонники демократических ценностей, каждый год брали её с собой в Берлин. Вот какие дети пошли… Не то что в наше время. Она рассказывала о Берлине с таким спокойствием, что я её ненавидел. Шестнадцать годков всего, а шляется по заграницам так, словно мы давно в Евросоюзе. В её возрасте я вообще сомневался, что в моей жизни мне хотя бы на денёк удастся вырваться в Европу, не говоря уже об Америке.
«Так ты в Берлине купила этих своих кунду?»
«Я называю это Книгой. Вот так, с большой буквы: Книга».
«Вот это — Книга. Словарь Бальбуты. А твои сказки народов Африки — просто книжка. Ты бы лучше в том Берлине шмоток себе купила, — сказал Козлик. — Ходишь абы в чём. В школе, наверное, все над тобой ржут».
«На себя посмотри, — я ткнул Козлика в голое колено. — Хипстерок».
«Да, я купила её в Берлине, — зевнула Каштанка. — Однажды утром я гуляла по Кудамм…»
«Кому ты чего не дам?» — не отставал от неё Козлик.
«…и зашла к букинисту…» — Каштанка задумалась, полезла в сумочку, достала телефон и скороговоркой прочла:
«Берлин. Вчера я купила книгу. А на что ещё можно потратить деньги в Берлине в наше время? Всё этакое и растакое, что когда-то было в этом городе, всё, чем он мог соблазнить раньше, всё, чем он изумлял, раздражал, ранил, всё, чему заставлял завидовать, у нас давно уже есть. Большое спасибо. У нас те же магазины и те же цены, та самая усталость и та самая жажда обладать, которую когда-то так хотелось примерить на себя: умеем ли мы так хотеть? Сможем ли мы употребить столько и не подавиться? Как выяснилось, сможем. Мы кое-как влезли в берлинские стандарты и счастливо улыбнулись своему отражению в зеркале. У нас та же опустошенность и та же иллюзия вечной неполноты, та же лихорадочность движений и те же страхи. Те самые вкусы и те же проблемы с выбором. Wir sind Berliner. Когда я говорю это, то, ясное дело, представляю те самые сладости, от одного вида которых у родителей когда-то кружилась голова. Мы — берлинеры. Люди-пончики с шоколадной начинкой. Продаёмся в ближайших «Соседях» по шестьдесят копеек. Купи нас. Wir sind Berliner.
Из желанного, живого, нужного, ненашего в Берлине остались разве что музеи, но их не купишь, не привезёшь домой и не повесишь на стену. Музеи — и ещё книги.
То, что и как мы читаем, имеет свои причины и последствия. Если ты покупаешь книгу, то находишься в плену иллюзий, что она тебе интересна, то есть соответствует каким-то твоим личным интересам. На самом деле чаще всего эти истинные причины и последствия недоступны для нашего понимания — по крайней мере, сначала. Иногда мы осознаём их и ужасаемся своему открытию, но это происходит гораздо позже. В большинстве случаев так и остаётся тайной, зачем ты взял в руки ту или иную книгу. Неужели ты такой дурак, что можешь купиться на красивую обложку, благозвучное имя, настойчивую аннотацию? Неужели книгу можно вообще купить случайно?»
«Так ты писатель…» — засмеялся Козлик.
Я строго поправил его — в бальбуте можно и должно применять феминитивы. Не nataln, а natalinga.
«А ты — просто Козлик, — сказала Каштанка, которая мгновенно переняла мою привычку так его называть. — Какой же ты всё-таки милый, Козлик… Я правильно применила козленитив, ОО?»
И она посмотрела на меня невинным взглядом человека, который опять, уже третий раз за день, собирается согрешить с мороженым.
Она так быстро начала говорить на бальбуте, что я её даже зауважал. У девочки были способности… А вот Козлику Каштанка сразу же после знакомства пришлась как-то не по душе. Он постоянно неумело пытался её троллить — а она не обижалась, да и вообще, по-моему, ей было забавно слушать эти мальчишеские подколки. Возможно, он ревновал меня к ней — и сколько бы я ему ни объяснял, что нас уже трое (трое, Козлик! меньше чем за год! такими темпами бальбута скоро захватит мир!), между Козликом и Каштанкой часто вспыхивали быстрые и бессмысленные споры. Приходилось включать всю силу своих круглых и взрослых ОО, приходилось быть суровым и справедливым. А бальбута не очень-то годится для таких вещей, как строгость, дисциплина, закон и суд.
«Ты первая женщина в мире, которая говорит на бальбуте», — поздравил я как-то Каштанку, надеясь на то, что она возгордится, расцветёт, покраснеет.
«А ты первый мужчина, который придумал что-то стоящее моего внимания», — ответила она, не моргнув глазом.
Она говорила мне «ты». Эта дурочка говорила мне «ты». Когда она была в хорошем настроении, то называла меня «ОО», а когда сердилась — не называла никак.
«А мороженое?»
«Я думаю, его придумали женщины. Африканские женщины».
«Твоё мороженое белое, — сказал Козлик. — Так что всё равно ты расистка. Оно белое, сладкое, европейское и к тому же, как я вижу, гетеросексуальное, ведь ты его лижешь».
Это мне не понравилось. Он так и сказал на бальбуте, соединив её слова не самым удачным образом:
«Tau zimnopajuta oviloje, tau ne amiluzu sutima onoje tviutima, oviloje, azurkoje, europoje asmakutima, amiluzu onkuru onoje seksutima, tau lipkuzu us pajutima nau».
Я постарался перевести разговор в другое русло. Заставить их подумать о предстоящем нам великом труде. На самом деле я не знал, что мне с ними делать. Бальбута выходила из-под контроля — и только от меня зависело, сумеем ли мы выйти все вместе из этой опасной зоны.
Мы поручили Каштанке работу над одним из разделов нашего словаря — лексикой, связанной с флорой и фауной. Решили посмотреть, справится ли она. К тому же она ходила в эту свою школу — нельзя было нагружать её, как взрослую. Каштанка принялась за работу с энтузиазмом, а я всё сильнее чувствовал, что хочу, совсем не по-взрослому хочу, чтобы она отдала предпочтение моему гениальному языку и забыла этих своих любимых полуфантастических кунду. Пока что бальбута ей нравилась — но не было ли это просто очередным девичьим капризом? Конечно, если знаешь какую-то книжку наизусть, хочется начать другую, но та, которую уже знаешь от корки до корки, — она словно первая любовь. Не забывается. Я всячески старался скрыть, что меня очень злит, когда среди благородных звуков моей бальбуты она вставляет все эти африканские выкрики, все эти «мбэ» и «нго»… Я решил ничего ей пока что не говорить. Пусть она забудет своих чёрных берлинских кунду сама. Конечно, её любимые поговорки и на меня произвели определённое впечатление — я не ожидал, что какое-то заштатное африканское племя обладает таким чудесным набором фразем, по духу ничем не отличающихся от наших народных, чистопородно-криничных языковых сокровищ. В наших народных поговорках были волки, собаки, лошади, медведи, а у далеких кунду — леопарды, дикобразы и антилопы, но выходило, что все эти животные были братьями и сёстрами с очень похожими характерами.
Братья и сёстры. Каштанка была нам как сестра.
Но ведь я придумал бальбуту не для какого-то там братства или сестринства.
А зачем?
Пока я думал зачем, нас стало уже трое.
А там, где трое, рано или поздно может созреть заговор или предательство.
Разумеется, Каштанка — что бы она там ни говорила, какими бы высокомерными, цвета раскрашенного дерева, негритянскими словечками ни плевалась — очень гордилась, что принадлежит к самому что ни на есть тайному мужскому обществу. Она была такая, как мы, — осознание того, что у неё есть тайна и она может говорить на языке, о котором никто в мире не подозревает, словно освещало её изнутри. Но слишком уж она была умная. К тому же девчонка. Я не верил, что девчонки умеют хранить тайны. Только мужчины владеют искусством держать рот на замке.
Кажется, я начинал её немного бояться.
И будто вопреки этому страху, будто чтобы поддразнить меня, наши разговоры в сети неизменно заканчивались договорённостью встретиться возле «Щедрого». Каштанка брала мороженое, двойную порцию, я — водку, которая приглушала мой страх, а Козлик — свое вечное пиво. Как я выглядел рядом с ними? За кого меня принимали прохожие, все эти чинные минсквичи? За опустившегося отца двоих детей? Может, и так. Я надеялся, что это именно так. Пока не случилось непоправимое.
Мы сидели у «Щедрого» и обсуждали Каштанкину работу (за месяц она успела невероятно много — вот что значит молодость), как вдруг услышали откуда-то из залитого последними солнечными лучами перехода:
«Каштанка!»
Тогда мы не знали, что её можно так называть. Что она отзывается на эту кличку. Мы называли её… А никак не называли. Поэтому моментально почувствовали облегчение и сами этому удивились. Каштанка. Так просто. И так идеально ей подходит.
Было видно, что самой Каштанке этот голос особой радости не принёс.
«Вот же блин, — сказала она тихо и поморщилась. — Это Буня».
А к нашему столику, недоверчиво вглядываясь в Козлика и опасливо — в моё сто лет не бритое лицо, уже приближался добрый молодец, стриженый по последней моде. Широкий в плечах (двух Козликов не хватило бы, чтобы составить из них одного такого молодого человека), с челюстью продавца спорттоваров, в яркой рубашке и моднявых штанишках. Короче, стандартный такой буня.
«Привет, — он подошёл к Каштанке и наклонился над ней, обхватив обеими руками её стул. — Здравствуйте».
Здравствуйте — это предназначалось мне. Я мрачно кивнул. Козлик не знал, куда девать свои лапы. Каштанка, оправдываясь, повела плечами:
«Привет, Буня».
«Станислав, — он протянул руку мне, а потом, слегка вытянувшись, Козлику. — А это кто с тобой?»
«Тебе дело, Буня?» — Каштанка с напускным спокойствием доела мороженое.
«Я тебя с ними уже третий раз вижу. Дай, думаю, подойду, познакомлюсь. Каштанка, ты чего вчера убежала? Я тебя весь вечер искал. И чего ты трубку не берёшь?»
«Я тебе говорила, чтоб ты за мной не ходил? А, Буня?»
«Не, ну чего ты в самом деле. Я поговорить хотел, — сказал Буня обиженно. — А они что, иностранцы? Я слышал, как вы говорили».
«Это Олег Олегович, мой репетитор, — раздражённо сказала Каштанка. — А это мой друг, Козлик».
Козлик покраснел.
«Козлик? — Буня расхохотался. — Извини, братан, не смог сдержаться. Хорошая у тебя фамилия. Или это она придумала? Каштанка у нас, по ходу, любит клички давать. Знает, что ничего ей за это не будет. Пока что. Вот подрастёт…»
«Шёл бы ты, Буня, по своим делам». — Каштанка облизала палец.
«Хороший у тебя репетитор, я смотрю. — Буня медленно дотронулся до моего стакана, в котором ожидали своей очереди уже не первые на сегодня сто граммов. — А что вы репетируете? Чему учитесь?»
«Тебе дело? Давай, Буня, быстрым шагом, — проговорила Каштанка, и глаза её сверкнули. — У тебя же бизнес, все дела».
На вид Буне было лет двадцать. Он подумал — и в его раскосых, красивых глазах возникло сомнение.
«Ладно. — Он отпустил стул Каштанки, выпрямился. — Я только другу твоему, Козлику, кое-что сказать хотел. На два слова, брат».
«Не пойду я никуда, — неожиданно громко и возмущённо сказал Козлик. — Говори или исчезни. Остопиздел уже».
«Ого, — Буня подошел к нему. — Белорусский язык. Уважаю. Мова нанова, Пагоня, галерея У. «Толькi ў сэрцы трывожным пачую…» Нормально. Я тоже могу. По-белорусски размавлять. Слушай, Козлик. Ты Каштанку не обижай, добро? Мы с ней друзья. Я её того, люблю. Понял?»
«Ты что, бухой, Буня?» — Каштанка встала и взяла его за руку.
«Ладно. Позвоню тебе сегодня. Репетируйте тут, только закусывайте. — Буня миролюбиво пожал мне руку. — До свиданья, Олег Олегыч!»
И он своим медленным, развалистым шагом пошёл к парку, пару раз обернувшись, каким-то тоскливым взглядом выхватывая нашу троицу из-под тени скрипучих зонтиков.
«Моке а бекке бе моке… Нет, он нормальный парень, — сказала Каштанка и пересчитала деньги. — В драку не полезет. Но достал уже так, что хоть ты ему ногу возьми сломай. Ходит за мной, ходит. Что ему от меня нужно? Сказала же, Буня, у тебя никаких шансов».
Козлик хмыкнул. А я собрал со стола бумаги.
«Он за тобой следит, — я снова подумал об осторожности и как-то мне стало нехорошо, словно Буня следил именно за мной. — Ты что, не видишь? Каштанка!»
Она не слушала, бормотала что-то под нос. Не на бальбуте и не на кунду. Я не сразу понял, что она вполголоса матерится.
«Каштанка!»
Она встрепенулась, посмотрела на меня удивлённо.
«А тебе идёт», — улыбнулся Козлик.
Она показала ему кончик языка. Синевато-красный, замёрзший. Козлик отвернулся.
«Надо придумать другое место, — задумчиво сказал я. — А может, и вообще пока что залечь на дно».
9.
Несколько недель мы друг другу почти не писали — а в начале ноября словарь был готов. Не скажу, что это меня очень уж порадовало: бальбута приобретала завершённую форму, но шло ли ей это на пользу? Нет, не шло, и я вообще уже не совсем понимал, куда движется эта моя история. Моя — и моего удивительного языка, выросшего из старой чашки, на дне которой темнела остывшая кофейная гуща. Бальбута задумывалась мной как непрерывная «переливающаяся форма», не способная застыть навсегда. Неужели и правда придуманные этими людишками законы неизбежны и мы никогда не сможем договориться, не условившись строго соблюдать правила? Бальбута родилась как «корневая база», как набор несложных правил — но созданный нами словарь ставил бальбуте ультиматум, он приказывал ей сделать вид, что она существует давно и её не столько придумали, сколько вспомнили. Это был приказ обмануть самого себя. Бальбута на моих глазах превращалась в какое-то иезуитское наречие, требующее от нас троих предавать и убивать во имя понимания и веры.
Но что оставалось делать? Наверное, это был закономерный путь её развития. Единственно возможный. Как-то нам пришла в голову безумная идея — взяться за перевод на бальбуту «Улисса» Джойса. Мы даже разделили текст, нам с Козликом досталось по шесть эпизодов, Каштанке как единственной девчонке — четыре. Конечно, это была всего лишь идея. Но я не просто согласился — я даже распределил, кто за какие части возьмётся. Словно какой-то голос нашептывал мне: ну же, самое время показать им, кто здесь главный.
Нет, мой авторитет первого бальбутанина, пророка бальбуты и её императора никто не оспаривал. И всё же я понимал: если ослабить хватку, если не поддерживать в этих двоих ежедневно боевое пламя бальбуты, со временем мне останется только дымок на пепелище, где я буду сидеть в одиночестве и оплакивать свой народ. Нет, их нельзя было отпускать.
Так что непростым выдался конец этой осени. Несколько раз мы встречались в каких-то душных, набитых молодежью пиццериях — но быстро ретировались, не выдерживая шума и суеты. Возвращаясь домой, я каждый раз страдал, я не мог понять, что меня мучает: я одновременно упрекал себя, что в который раз поддался искушению, и жалел, что мы посидели так недолго. Стоило нам попрощаться — я начинал скучать по моим бальбутанам, а как только мы встречались — с нетерпением ждал, когда же наконец можно пойти домой, чтобы не видеть больше их юных и таинственных лиц.
Меня спасла Франсуаза Дарлон — её лицо, полное pajutima, её полузакрытые okutika и непонятные тексты, в которые я ошалело всматривался среди ночи, голый, больной, прокуренный так, что у меня даже волосы под мышками пахли табаком. Я ловил себя на мысли, что хочу, чтобы в этих её стихах действительно не оказалось никакого смысла. Доказать Козлику, что я прав. Всегда прав.
А ещё я чувствовал зависть к сладострастной сумасшедшей Франсуазе. Умершей лет сто назад Франсуазе с её давно сгнившим в парижской земле псом. Возможно, там, где почил этот дог, перед взглядом которого открывались в своё время такие широкие возможности, сейчас стоит пёстрая арабская лавка. Или кот-д’ивуарская. Или бангладешская. Впрочем, существовал ли этот дог на самом деле? И так ли уж любила Франсуаза устраивать его между своих коротких ног? Или это была просто фантазия благопристойной дамы, которая так хорошо умела рисовать сама себя карандашом, не жалея мелких кренделей и мушиных точек?
Зависть. У Франсуазы Дарлон действительно получилось придумать язык, который никто так и не смог понять. Язык только для себя. Я думал, что бальбута получится такой же. И вот на тебе. Пришлось делиться. Теперь я для них — это всегда я плюс мой язык. До тех пор, пока я существую. Меня не будет на свете — а бальбута останется. И они сделают с ней всё, что захотят. По праву молодых. Их неотъемлемому праву.
Я слышал, как шевелится моя ревность — будто в постели, шевелится, укрывшись во мне с головой и обиженно дыша. Делая вид, что дремлет.
Ну да, была ещё Верочка.
Верочка не собиралась от меня уходить.
Верочке нужно было что-то подарить на Новый год. В прошлый раз я просто оставил для неё на столе цветы. Взяла. Ушла, забрав букет, помыв перед уходом стеклянную банку, в которую я его поставил. А рядом лежал её подарок мне. Та рубашка, которую я сейчас ношу, почти не снимая. И, когда я иногда чувствую — в самых разных местах — что Верочка где-то близко, и начинаю задыхаться, и ноги мои холодеют, и руки начинают дрожать, я почти уверен: это всё рубашка. Она подарила мне её, чтобы каждую минуту быть в курсе, где я нахожусь. Поэтому я почти не снимаю эту синюю рубашку. Я не хочу злить Верочку. Кто знает, как оно всё сложится, когда Верочка меня бросит. Вряд ли как в кино.
Как-то в конце ноября я встретил у «Щедрого» Буню. К счастью, я был один (залечь на дно, как выяснилось, оказалось правильной идеей). Стоя у дверей (столики, конечно, давно убрали, и на месте, где мы любили сидеть, теперь пенились только дождевые плевки), я пил кофе и курил сырую, кривую сигарету — и тут из-за поворота показалась вдруг ярко-оранжевая куртка, из тех, которые я ненавижу, и знакомое лицо сунулось ко мне, ухмыляясь:
«Здравствуйте!»
Я презрительно кивнул.
«Ну как, репетируете? Как успехи? — Буня видел, что я не хочу с ним разговаривать, и всё же остановился, прижал меня к стене. — Да ладно, Олегыч, я знаю, что вы с Каштанкой и с этим козлищем по городу бегаете. Или с вами тока на белорусском говорить надо? Я могу…»
Он всё ухмылялся. Он сам был смущён не меньше моего. И он тоже мог бы быть моим сыном.
Я докурил, одним глотком допил кофе и двинулся в обход оранжевой куртки. Он сделал вид, что хочет загородить мне дорогу, но сразу же отступил.
«Берегите себя, Олег Олегыч! — услышал я за спиной. — Бережёного бог бережёт!»
О встрече с Буней я никому не рассказывал. У Каштанки от этого испортилось бы настроение — чего доброго, начала бы ещё разбираться со своим доставучим ухажёром, чтобы защитить наше тайное общество. А Козлик начал бы снова во всём обвинять Каштанку — мол, если бы мы её не взяли, то никакого Буни не случилось бы. Его бы просто не существовало. Козлик написал мне как-то, что, пока в твоей жизни есть языки и книги, люди тебе не опасны. А стоит начать путать языки и книги с людьми, разговаривать с ними, переписываться — вот тогда и правда: пиши пропало.
«Пропало», — написал я ему. Что поделаешь, Каштанка была с нами, хорошо это или нет, и мы ничего уже не могли сделать с этим фактом. Она знала бальбуту — а значит, должна была оставаться рядом с нами. Не могли же мы заставить Каштанку забыть наш чудесный язык.
Словарь получился на семь тысяч слов. Конечно, на «Улисс» этого не хватало, но Козлик был уверен, что в процессе перевода лексический запас бальбуты должен увеличиться ещё раз в пять. Так что задача была не только величественной — но и реалистичной. Это придавало нам сил.
И вот как-то в начале декабря, холодным, сырым вечером с грубым ветром и горстями колючего дождя, мы встретились втроём у ратуши и пошли искать кафе — но мест нигде не было, а там, где были, по какой-то негласной договорённости мы сразу решали, что чувствуем себя здесь не в своей тарелке. Услышав, что мы болтаем на «иностранном языке», на нас сразу же оборачивались — и снова прятали взгляды в тарелки: Каштанку это забавляло, и она смеялась, надо сказать, достаточно неприличным смехом, приходилось её отчитывать, а это была тяжёлая для меня роль. В какой-то момент я взял её за руку — она не пыталась её вырвать, только взглянула на Козлика, заметил он или нет. Я понимал, что надо это прекратить, — но чувство полного контроля над ними уже охватило меня, теперь я знал, куда веду их через гудящую минскую непогоду.
«Я живу здесь недалеко, — сказал я. — Хоть согреемся».
И потянул Каштанку за руку.
Ветер гонял по улице безлицых прохожих, в свете фонарей покачивались, будто развешенные на невидимых верёвках, синие надутые плащи, мелькали зелёные, красные, апельсиновые, чёрные, белые куртки… По Немиге пробирались машины, освещая друг друга фарами, останавливаясь, объезжая, наезжая, жалуясь — будто все здесь искали кого-то одного, сбежавшего страшного преступника, которого опасно ловить в одиночку. Молча мы дошли до моего дома с мемориальной доской. За углом улицы не было ветра, мраморная голова советского деятеля проплыла мимо нас, словно мы оказались в каком-то чёрно-белом фильме, фильме без диалогов, в кино не для всех.
Только в квартире страх потихоньку развеялся.
Я сделал Козлику и Каштанке чая, а себе налил дешёвого вина — полный стакан.
«Мороженого у меня нет».
«Я проверю», — Каштанка бросилась на кухню. — «Какая бессовестная ложь!» — Она появилась в комнате с коробкой шоколадного.
Я не знал, откуда оно здесь.
«Не стыдно так обманывать бедную школьницу, ОО?» — Каштанка села на мою кровать рядом с Козликом.
«Это жена купила, — сказал я. — Наверное».
«У вашей жены хороший вкус, — Каштанка с интересом огляделась вокруг. — Но плохой пылесос. Ой, может, это нельзя брать? Я поставлю назад».
«Жри, — разрешил я. — А вот это положи обратно. Маленькая ещё».
Каштанка как раз потянулась к книге Франсуазы Дарлон, рука её замерла, она нахмурилась — но я схватил книгу и спрятал в ящик. Взглянул на Козлика — он запустил указательный палец в бороду и чесал там, чесал, крутил, вертел, как ненормальный.
Каштанка пожала плечами и принялась за мороженое.
«На Рождество мы с родителями снова едем в Берлин, — сказала она. — Принимаю заказы. От Козлика. Привезу любую книжку. А вам, ОО, ничего не привезу. Месть. За то, что не дали посмотреть, что за альбомчик».
«Как ты сказала? Как ты назвала Рождество?»
Что за девчонка. Чтобы сказать на бальбуте «Рождество», нужно иметь хороший поэтический слух.
Я сказал бы: Ujma Kovtejle.
А скорее просто: Kaladutika. Kristmasuta.
Она же сказала так: Dinuta Kovardutima.
И всё же мы все поняли, что она имела в виду. Мы давно были настроены на одну волну — волну бальбуты, и она несла нас неизвестно куда и угрожала спихнуть в ближайший омут, но мы уже научились сохранять равновесие.
Каштанке вдруг стало грустно.
«Мороженое невкусное, дитятко? — я повернулся к ней в своем старом компьютерном кресле. — А я говорил тебе… вкусного мороженого уже давно нет. Его перестали делать, когда ты ещё в памперсы какалась».
«Да нет… — Каштанка махнула ложечкой. — Так, кое-что вспомнила».
«А давайте поработаем, — нетерпеливо сказал Козлик. — Словарь же почти готов. Можно свести всё вместе. У вас есть принтер?»
Каштанка забралась на мою кровать с ногами.
«Нет, принтера нету, я вниз хожу, там какой-то центр копировальный, — ответил я, не сводя глаз с Каштанки. — У меня всё в тетрадях… Значит, работаем?»
«Только давайте на полу, — Козлик сполз с кровати и растянулся на моём пыльном ковре. Коснулся его щекой, провел по старому ворсу. — Здесь супер!»
«Каштанку заморозим».
«Ага. Такую заморозишь. Вон как наворачивает, и никакая холера её не берёт». — Козлик вяло разложил на ковре свои большие руки.
Каштанка опустилась на ковёр, не переставая задумчиво класть в рот мороженое — ложечку за ложечкой. Я нехотя опустился рядом с ними.
Но ничего во мне на этот раз не откликнулось. И почему-то тянуло к книге Франсуазы Дарлон. Интересно, если бы Каштанка раскрыла её — может, она поняла бы? Почувствовала, что имела в виду эта сумасшедшая?
Никто из нас не двигался. Козлик лежал на спине, глядя прямо на мою люстру, в которой лежали высушенные, кто знает в каком году умершие мухи. Может, ещё при Советах. Каштанка сидела рядом с ним, подогнув под себя ноги в тёплых чёрных колготках. Я лежал на боку и щипал пальцами ворс.
«Просто я вспомнила, как раньше родители ездили в Берлин без меня, — проговорила Каштанка, отставив в сторону коробку с мороженым. — Мне было тринадцать. Они оставили меня вместе с тётей Галей. Можно, я расскажу? Мне почему-то очень захотелось. Я быстро».
«Мы работать собирались…» — недовольно проскрипел Козлик.
«С тётей Галей? По телеку рядятся, как дальше жить, достали», — брякнул я.
«Что?»
«Ничего. Рассказывай», — сказал я властно и допил вино.
«Хорошо. Тётя Галя, мамина двоюродная сестра, меня ненавидела. Я это знала и очень не хотела с ней оставаться. Но родители упёрлись: отель на двоих, куда мы тебя там поселим, и вообще, там конференция, с детьми никто на такие штуки не приезжает. Ага, конференция. Рождество на дворе. В Берлине вайнахтсмаркты, вурст мит зэнф, бананы в шоколаде, глупая музычка, от которой хочется хохотать, как после травы, глювайн для взрослых, а для детей — пунш, от которого отрыжка такая, будто в глотке калейдоскоп, знаете, такие детские калейдоскопы, приставишь к глазу и не можешь остановиться, так бы и смотрела не отрываясь, пока не ослепнешь… Они просто от меня отдохнуть хотели. По Берлину погулять, сексом спокойно позаниматься, по музеям походить — будто я им когда-нибудь мешала ходить по музеям. Да я сама их первая всегда тащила…
Но делать было нечего. Утром родители поехали в аэропорт, а после обеда приехала тётя Галя. Накормила меня — ей казалось, что мать не умеет готовить, и она сварила борщ. Ненавижу борщ. Я вообще тогда хотела стать вегетарианкой. Весь вечер я лежала и читала “Дублинцев”. А тётя Галя лежала в соседней комнате и смотрела какое-то российское говно. Сериал, ага. И всё кричала мне: “Наташа! Наташа! Давай ко мне, ха-ха-ха, здесь такое показывают, я не могу. Наташа!” До сих пор голос её в ушах стоит — противный, как сало в борще. У некоторых людей есть дар — мешать другим читать. В поезде, например. Или в кафе. Или в пустой квартире в декабре — когда родители в Берлине, “Дублинцы” у тебя на коленях, а в глазах слёзы и на сердце жаба. А кто-то ничего такого не видит, не слышит, не понимает. И кричит из-за стенки. У некоторых людей это их единственный талант.
Ну, вы знаете. Вы же — знаете?»
И Каштанка поглядела на нас с такой надеждой в глазах, что мы только мрачно промычали что-то в знак согласия. Теперь она выглядела так, как и должна была выглядеть почти шестнадцатилетняя девушка — наивной, ранимой и уверенной, что где-то есть существа, способные её понять. Я подумал, что она, рассказывая нам свою историю, впервые обходится без этих своих африканских поговорок. Наверное, в тот вечер мы впервые слышали настоящую Каштанку — а не ту, которую она придумала вместо себя.
«Когда сериал закончился, тётя Галя позвала меня ужинать. Почему-то они очень много жрут, такие тёти. Я отказалась — она обиделась, долго гремела посудой, бормоча вслух так, чтобы я слышала, что я неблагодарная, испорченная, капризная, но — и тут тётя Галя пришла ко мне и села на край кровати — что меня можно вылечить. И что завтра мы поедем куда-то, где у меня из головы блажь повыбивают. Я не слушала, я уже тогда умела делать так, что мир вокруг вроде бы выключался, засыпал, оставалась только я, свободная и всесильная: в такие моменты я могла делать, что хочу. Глупая тётка, которая всегда повторяла моим родителям, что моим воспитанием нужно срочно заняться, иначе поздно будет, — вот эта вот глупая тётка исчезла куда-то, я была в совсем другом городе, и вокруг меня сновали совсем другие люди, важные и вместе с тем такие простые, что мне хотелось с ними заговорить. Тётя Галя наконец заметила, что я её не слушаю, и просто взбесилась — она взяла меня за руку и потянула в другую комнату, и посадила рядом с собой, и включила какую-то пе-ре-да-чу, я всегда произношу это именно так: пе-ре-да-чу, потому что стоит только произнести это слово так, как они, и сама окажешься в пе-ре-да-че, и погибнешь там, останешься опе-ре-да-ченным, я давно это изучила, некоторые слова нужно дробить на слоги, чтобы лишить их мощи, чтобы убежать от них, а если разбить на слоги, они ничего уже не могут с тобой сделать… “Тё-тя-га-ля, — сказала я. — Тё-тя-га-ля…” — я смеялась и повторяла это, пока тетка рядом со мной не озверела: “Заткнись! — кричала она. — Заткнись, ты больная, заткнись, я тебя убью!” — а я всё повторяла: “Ля-тё-тя-га-ля-тё-тя-га”, я могла это повторять до бесконечности, пока родители не возвратятся, мне было нетрудно повторить это хоть миллиард раз. Она затащила меня в ванную комнату, раздела, засунула под ледяной душ, но я повторяла своё заклинание, тогда она дала мне что-то выпить, и я уже просто шевелила губами — было так холодно, что я думала, сейчас умру, — и вот я уже просто лязгала зубами, и всё равно делила тётку на слоги, делила, делила, делила, пока не отключилась.
Я проснулась рано: тётя Галя стояла надо мной и шипела. Я и не знала, что она умеет так шипеть — словно её накачали и из неё теперь воздух выходил. Она одела меня, брезгливо, поспешно, повторяя, что я оборванка, маленький бомж, и что родители мои перед богом ответят за то, что вырастили такую дочь. “Но я помогу, помогу, — шипела она, толкая меня в коридор. — Как же сестре не помочь. Сейчас поедем, съездим в одно место, к бабушке, приедешь домой человеком, перестанешь папу с мамой мучить”. Солнце ещё не встало, а мы уже выходили из подъезда, нас ждала машина, а в ней — тёткин-Галин муж, дядя Слава. Тётя затолкала меня в машину, помолилась, и мы поехали — я сидела рядом с тётей Галей, которая крепко вцепилась мне в руку, словно боялась, что я выпрыгну на ходу. А я была словно во сне — и в голове крутилась мысль, что она мне что-то подсыпала вчера, подсыпала яд в стакан, о который я чуть не сломала зубы…
Мы выехали из города, и только тогда солнце появилось над нами — тётя Галя выглядела так ужасно в его красноватом свечении, что я закричала. Но крик не вырывался изо рта, никак не вырывался, она залепила мне рот ладонью. “Быстрей, — командовала она дяде, — быстрей, ты не видишь, плохо нашей девочке, не хватало ещё в больницу попасть. Сейчас, сейчас бабушка тебя полечит…”
Мы мчались по шоссе, а я думала о родителях. Знают ли они, или догадываются, что со мной и где я? А когда узнают, что скажут? “Ничего, — скажет папа. — Мы должны Гале спасибо сказать, она хотела как лучше. Вокруг не так много людей, которые хотят как лучше. Разве с тобой случилось что-то плохое, Наталка? Нет, это просто новый опыт. Это важно. Мы должны ценить новый опыт. Он достается нам абсолютно бесплатно”. И тогда он рассмеётся. Милый папа. Он у меня такой хороший. А мама скажет: “В конце концов, Галя была права. Ты и правда вела себя не наилучшим образом. Боже, если то, что она рассказала, правда — все эти истерики, крики, игнорирование, свинячьи выходки — я её понимаю. Ты обидела её — без всяких на то оснований”.
Так она скажет, мама. Если узнает.
Я успокоилась. Помощи ждать было неоткуда.
“Родители знают, куда ты меня везёшь?” — вдруг спросила я. Тётя Галя так удивилась, что я говорю с ней нормальным языком, — даже руку отпустила.
“Да, конечно! — соврала она. — Я им позвонила. Они же умные люди. Переживают за тебя. Не хотят, чтобы ты всю жизнь прожила дурочкой”.
Дядя Слава облегчённо вздохнул и включил радио.
Так мы и проехали час, потом второй — под радио, которое не умолкало ни на секунду. Но мне было уже всё равно.
Наконец мы свернули с шоссе и поскакали, поползли, потряслись по лесным дорогам, мимо деревень, проваливаясь в снег, объезжая по несколько раз размокшие мусорные свалки, спрашивая дорогу, а потом остановились. Тётя Галя закрыла меня шапкой, накрепко закрутила у меня на шее шарф — словно задушить хотела, взяла за руку… И мы пошли через лес. Я, конечно, сразу про братьев Гримм вспомнила. Отведёт меня тётя в чащу и бросит. Такая перспектива меня так обрадовала, что я уже начала представлять, чем займусь. Найду хутор и останусь там жить. Прикинусь парнем, наймусь в батраки, буду на сене спать, вместе со свиньями, и так проживу всю жизнь, лет до двадцати пяти, а потом меня конь копытом в висок ударит, и я умру на месте, меня положат на деревенском кладбище, на место, где уже кто-то лежит, и поп приедет, напьётся, молитву пьяную прочитает, и будет забывать слова, а через год уже и не вспомнит никто, что был такой парень.
Серьёзно. Об этом я и думала. Но лес расступился, впереди озеро сверкнуло, рядом с озером хатка, тётя Галя перекрестилась и повела меня по следам от шин автомобильных — прямо во двор.
“Бабушка! — крикнула она, оглядываясь. — Бабушка!”
Из дома кот вышел, посмотрел на неё важно, сел, лапу лизнул.
“Бабушка!”
Тётя Галя меня с котом оставила, а сама в дом пошла. Я посмотрела на кота — а он на меня.
“Чего приехала? — спросил кот. — По записи? Или по живой очереди?”
“По живой”.
“У нас строго, — сказал кот. — Предупреждать надо”.
“Я несовершеннолетняя, — объяснила я ему. — С тётей. Она меня убивать привезла. У вас здесь как, быстро убивают? Нужно потерпеть?”
“Специалисты у нас самые лучшие, — сказал кот. — Бабушка так лечит, что пикнуть не успеешь. Чик — и уже готово. Но подождать придётся. Она одна, а вас много”.
“Где же много? Я и тётя”.
“Да, не сезон, — согласился кот. — К бабке весной все едут. В лесу зимой заблудиться можно. А ты это… Может, беги? Пока не поздно. Нехороший человек твоя тётя. Я таких за километр чую”.
“Не могу, — сказала я. — Пусть убивает. Может, ей это поможет. Может, ей совсем чуточку не хватает, чтобы хорошей стать. Меня убьёт — и станет счастливая, спокойная. Я готова. Пожертвовать собой — это святое. Так меня мама с папой учили”.
“Дурные они у тебя, — сказал кот. — Ну, ладно. А ты что любишь? Перед тем, как умереть, надо что-то приятное вспомнить”.
“Языки, мороженое и мужчин после сорока”, — ответила я.
“Этого добра у нас хватает, — кот обвел лапой окрестность. — Снег за городом вкусный. Языки — так у бабки моей таким языкам можно научиться, что тебе и не снилось. Даже неандертальскому. Ты по-неандертальски как, могёшь?”
“Нет”, — призналась я.
“А она — может! — поднял лапу кот и откусил себе кусок желтоватого когтя. — Ну а мужчины…”
“Что мужчины?”
“Ну, подумай… Посмотри вокруг”.
Я оглянулась. Лес, озеро, снег. Я наклонилась, набрала в ладонь липкого снега, лизнула. И правда — вкусно.
“Не вижу я никаких мужчин”.
“Ты что, слепая? Так к офтальмологу нужно тебе, а не к бабке! Посмотри перед собой, долбанутая!”
Я посмотрела на прогнившие двери дома.
“На меня посмотри, — кот говорил таким голосом, будто видел перед собой полную идиотку. — Я что, баба? Вот… дошло… Яйца не видишь? Все вы такие. Да, правильно, погладь. Можешь здесь. И здесь. А здесь не надо. Мала ещё”.
“Наташа!” — Скрипнула дверь, кот едва успел отскочить в сторону, тётя Галя вышла и схватила меня за руку. Потянула в хату — тёмную, страшную, вонючую. Завела за печку.
За печкой стояла бабка. Чёрная, как негритос, а глаза синие. Я её и не заметила бы ни за что, если бы не глаза.
“Я снаружи подожду”, — сказала тётя и вышла. В хате было темно, а стало ещё темнее. Только глаза бабкины синие на белом крутились, в меня впивались, повивальная пиявка, страшная бабка, как смерть страшная, я такой не видела никогда, клянусь.
Я сразу начала бабку на слоги делить:
“Ба-буш-ка-ба-бу-шка-ба-бу…”
Но на бабку это никоим образом не действовало. Она посмотрела на меня исподлобья, но без злобы, и протянула руку. И я поняла, что она меня раздевает. Перестал душить шею шарф, одна за другой отскочили пуговицы, и вот я стояла перед ней в одних трусах, а бабкины сухие руки легко бегали по моему телу.
“Это правда, что вы неандертальский язык знаете, бабушка?” — спросила я шёпотом. Я уже не боялась — мне было легко и тепло. Словно лето было прямо за дверью этой хаты.
Мне показалось, что она улыбнулась. И тогда я вдруг увидела: осенний солнечный день, я сижу за столиком, ем мороженое, двойную порцию — и слышу, как за соседним столиком…»
«Врёшь, — сказал Козлик, нервно дёргая себя за бороду. — Это ты только что придумала. И на Alice in Wonderland чем-то похоже».
Каштанка засмеялась.
«Ньи ле конди ба ма унье ё о лоа?»
«Чего?» — Козлик перешел на белорусский.
«Это моя любимая поговорка, — удовлетворённо сказала Каштанка. — Я не ела орехов, почему меня должно ими тошнить? Так говорит какой-нибудь кунду, когда его обвиняют в том, чего он не делал. Я не ел орехов — почему меня должно ими тошнить?»
«Великолепная поговорка. — Мне и правда настолько понравилась эта фраза, хоть сам на вооружение бери. — На бальбуте будет так: au bim ne kusuzu trudoje strudutikama, parous au bif strudutima nariguzu?»
«Ну, примерно так. — Каштанка задумалась, но не о моём переводе, а о чём-то своём, Каштанкином, замороженном, белом, сладком. — Тебе виднее, ОО».
«А вообще, тебе в писательницы надо идти», — сказал я.
«Слушайте, мы работать собираемся?» — Козлик погрыз кончик ручки.
И тут я услышал, как где-то далеко отсюда, ещё неуловимое, но уже живое, тёмное, проснувшееся от наших голосов, шевельнулось, тяжело ступило на землю… двинулось через дома и улицы… раздвигая руками ветер… сдувая куртки…
Верочка.
«На сегодня хватит», — резко сказал я и вскочил с пола, стряхивая пыль со штанов.
«Но мы…» — Козлик с недоумением и умоляюще посмотрел на меня, вцепившись в ковёр, словно я собирался отнять у него что-то бесценное.
«Хватит, — я легонько толкнул его мыском ноги. — Вам нужно идти».
Козлик нехотя поднялся, Каштанка принялась одеваться, думая о чём-то своём.
«Скорее», — я толкнул Козлика в мягкую спину. К двери. Прочь из квартиры.
«А ваша жена…» — начал было Козлик, но я прикрыл ему рот ладонью.
Они вышли и стали там, на пороге, ожидая, что я скажу им что-нибудь на прощанье. Но я просто молча закрыл прямо перед их юными, такими растерянными лицами свои ненадёжные двери, которые уже не могли меня защитить.
10.
Вот и вышло, что в следующий раз мы встретились только после Нового года. Наконец пришёл настоящий мороз: я натянул старую лыжную шапочку — на которой никто никогда не собирался вышивать слово «Мастер». Козлик был в длинной куртке, такие как раз вошли в моду, бесформенные, до колена, балахоны, из-под которых молодые козлики махали тонкими копытцами в узких джинсиках и идиотских кедах. Как подстреленные, говорила когда-то моя бабушка. Зато Каштанка зимой выглядела просто шикарно — было видно, что на этот раз в Берлине она всё же поддалась искушению и купила себе пару-тройку вещей, которые и правда ей прекрасно шли: стильную чёрную кепку, под которой её лицо стало таким узким и уже совсем не здешним, да пальтишко, что хорошо подчёркивало её пока не испорченную биографией талию, да высокие сапоги на шнуровке… Девочка была с вызовом, ничего не скажешь. Теперь мы, шляясь по городу, выглядели так, будто Каштанка и Козлик были гостями из далёкой, недостижимой Бальбуты — а я напоминал минского бомжару, который за выпивку согласился быть их гидом. Правда, бомжара я был класса люкс: говорил по-иностранному не хуже своих подопечных…
В январе бальбута окончательно распухла и начинала болеть каждый раз, когда я к ней прикасался. Думая о составленном нами словаре, я чувствовал досаду и злость, словарь убивал бальбуту, он начинал диктовать и устанавливать незыблемые правила, поэтому я на первой же встрече потребовал от своих ребят забыть всё, что они написали, и создать абсолютно новый лексикон, принцип которого противоречил бы уже разработанному. Соль бальбуты в том и состоит, что каждый сам решает, с помощью каких корней ему передавать смыслы, — а наш грандиозный словарь лишал того, кто обратится к бальбуте, главного: свободы. Самого важного критерия, согласно которому бальбутоязычный человек конструирует свои высказывания и мысли. Кажется, Каштанка поняла меня лучше, чем Козлик, — ему нравилось покрывать бальбуту всё новой и новой паутиной правил, нравилось расширять корневую базу моего языка, ему хотелось обогащать его и править: во всех смыслах. Я всячески старался напомнить ему, что это мой язык и только я решаю, куда ему двигаться, как одеваться и что делать с нами, слабыми людишками, которым вздумалось стать счастливыми бальбутанами.
Зима была не лучшим временем для наших прогулок. Мне нужны были столики, нужны как воздух, без них я не чувствовал уверенности, не чувствовал себя хозяином положения — я с нетерпением ждал, когда над всеми столиками всех кафе города М. снова распустятся цветы зонтов, ждал, когда снова взойдут их солнца, скрипящие на ветру, мне как воздух необходим был этот скрип, он придавал мне решительности, а моим словам — неторопливой и веской властности, он напоминал мне о шаткости всей этой моей авантюры: над нами должны были скрипеть неуклюжие зонтики, как мачты корабля, что стремится неизвестно куда по этим широким улицам и бескрайним площадям…
Неудивительно, что в середине января мы снова оказались у меня дома, все трое. А потом, через неделю, ещё раз. И ещё. Всякий раз, когда они легко раскладывали на моём ковре свои совершенные, отвратительно красивые молодые тела, я вспоминал о Верочке и какой-то ледяной ужас охватывал меня с головы до ног — будто в моей квартире посередине этой зимы вдруг выбило все окна. Но я брал себя в руки, улыбался как ни в чём не бывало, и только старался прислушиваться… всеми волосками на спине прислушиваться, не собирается ли Верочка сегодня меня навестить. Но мне везло, Верочка выбирала другие дни, она, может, и догадывалась о том, что у меня бывают гости, но из деликатности не хотела их смущать. Возможно, я зря боялся — я люблю преувеличивать свои страхи; вполне могло случиться, что она пожалела бы их, не обратила бы на них внимания, не стала бы им мстить. Но лучше было всё же не сталкивать их — моих юных учеников и её, мою Верочку, от которой неизвестно чего следовало ожидать.
Поднимаясь ко мне на третий этаж, мы всё чаще встречали соседей: каких-то мужчин с детьми и санками, женщин, которые здоровались со мной с таким хитрым видом, словно всё обо мне знали, — и как у них получается напускать на себя такой вид, я всю жизнь не могу этого понять: дело в косметике? В выражении губ? В том тоне, которым они произносят своё «Здрасьте», — шутливо-беспощадном, как у врачих, которые приказывают тебе раздеться? У меня что, полный подъезд врачих? Одна из них даже как-то начала цепляться ко мне с расспросами, однажды её доброжелательный голос усыпил мою бдительность и я чуть не проговорился: «Сколько вы платите за квартиру? — спросила она участливо. — Просто у меня сын снимает, я ему говорю, дорого, а он не слушает, говорит, ты цены по городу знаешь, мама? Вот и молчи». «Да не так и дорого, — ответил я. — Всего-то…» — и тут понял, что сейчас скажу лишнее, и пробормотал только: «Всего-то ничего. Ничего не плачу. Я здесь не живу, меня цветы попросили поливать, хозяева в отъезде… Вот и захожу иногда…»
«В отъезде, да, — внимательно глядя мне в глаза, с той самой беспощадной и хитрой улыбкой сказала соседка. — Мы знаем, что в отъезде, это она правильно сделала, сестра ваша, что попросила цветы поливать… Очень правильно… Цветы жалко, когда уезжаешь, засохнут ведь цветы, живые же, умрут, так что это хорошо, когда есть кого попросить…»
О том, что её небритый сосед в старом пальто и лыжной шапочке ходит поливать цветы в компании девушки-школьницы и студента, она ничего не сказала, но несколько раз мы все вместе сталкивались с ней на лестнице, и было ясно, что она запомнила Козлика и Каштанку во всех подробностях. Что поделаешь, мы слишком бросались в глаза — да и в уши: случалось, что мы забывали обо всём на свете, споря на бальбуте о её будущем, и, заходя с улицы в подъезд, наполняли его своими громкими, непонятными соседям возгласами.
В начале февраля мы снова сидели у меня — и где-то в девять вечера я повёл моих козликов на остановку. Каштанка должна была ровно в десять быть дома, чтобы не вызвать подозрений. Козлик напросился её проводить. Я довел их до метро, покурил, стоя на морозе в расстегнутом пальто и с наслаждением вдыхая холодный воздух, — в тот вечер я выкурил в форточку целую пачку сигарет и ещё в квартире начал немного задыхаться (раньше со мной такого не случалось). По дороге домой зашёл в «Рублёвский», купил себе вина и драник с мясом, который попросил разогреть, — было лень засовывать его в микроволновку. И тогда уже бегом, чтобы еда не остыла, добежал до подъезда, достал ключ-таблетку, ткнул в красный глазок дверей, начал подниматься — и понял, что на лестнице меня кто-то ждёт.
Оранжевое пятно. Плечи, что заняли собой всю лестничную площадку.
«Олег Олегыч! А я вас жду».
Да, это был Буня. Улыбаясь во весь рот — немного виновато, немного развязно, а прежде всего — нагло, как это умеют двадцатилетние предприниматели с ясно определёнными жизненными планами, он стоял передо мной, и мне не очень хотелось преодолевать оставшиеся четыре ступени, чтобы оказаться с ним вровень.
«Чего тебе?»
«Не поверите, Олег Олегыч, практически ничего, — вздохнул Буня. — Хожу за вами, за шоблой этой вашей дружной, и ничего. Ничего не понимаю».
Я молчал, поглаживая облупленную краску перил. Он то смотрел на меня, то отводил взгляд — он выглядел всё более печальным, таким одиноким, покинутым… я и правда на мгновение поверил, что ему ничего не надо.
«Я просто сказать зашёл… — Буня сложил губы, как ребенок. — Даже не знаю, вот не хочется вас огорчать, Олег Олегыч, но… Но я с родителями Каштанки поговорил… Говорю, видел вашу Каштанку с репетитором… Они и прифигели. Сказали, ни к какому репетитору она не ходит…»
Он сочувственно поцокал языком.
«Всполошились, давай меня расспрашивать, — Буня опустил глаза вниз, теперь я видел только его ухо, большое, выпирающее, как у животного. — Что да как… Да чего это я интересуюсь… Вы, Олег Олегыч, не переживайте. Я им ничего не сказал. Дурачком по ходу прикинулся. Нет, говорю, просто подумал, что ей же поступать, так надо же, наверное, репетитора нанять… Да, наверное, она и не с репетитором была, а одна… Успокоились вроде. Её родители меня знают. Уважают, кстати. Они бы и не против, чтоб мы встречались. Кормят меня, когда прихожу. Чаем поят. Кофе. Только эта… Шизанутая. Давно уже мне сказала, чтоб я ни с чем таким к ней не лез. Каштанка. Говорит: ничего не получится, неинтересный я для неё. А я, дурак, всё надеюсь. Ну, вы понимаете».
«И что дальше? Давай кончай и дай пройти, а то… а то я милицию вызову», — мой голос дрожал.
«Да не вызовете, — махнул рукой Буня. — Что я, дебил? Я же вижу, что вы сами боитесь. Дальше… Дальше ясно всё. Я же не знал, что она по ходу себе такого дедушку нашла. Вас то есть. Кто бы мог подумать, а? Что Каштанка, девочка же ещё совсем, а на такого старичка, как вы, клюнет. Она вас дедушкой называет? Или всё-таки папочкой?»
Я уже собирался броситься вниз по лестнице — но Буня примирительно сказал:
«Не, ну ладно, я только знать хочу — у вас это что, серьёзно? И ещё хочу узнать, что вы, Олег Олегович, это… по ходу чувствуете. Когда школьницу это… Не знаю, как сказать. Раздеваете… Вы же её раздеваете…»
«Нет, — сказал я твёрдо. — Ошибаешься ты, Буня».
«В смысле? — Он вскинул на меня свои мутноватые глаза. — Не раздеваете, а сразу? Я вас сейчас бить буду, так вы уж не стесняйтесь, Олег Олегыч, чтоб я знал, что извращенца отпиздить пришёл, а не просто там какого-то старичка, у которого только на молодых девочек встаёт».
«Ничего у нас нет с Каштанкой, — торопливо заговорил я, словно оправдываясь. — Ничего такого, что ты себе в башку вбил. Я до неё не дотронулся. Ни разу».
«Пиздёж, — сказал спокойно Буня. — Я видел. Как вы её за руку держали».
Я отвёл глаза.
«Ну, держал, и всё. Больше ничего».
«Кто же вам поверит, Олег Олегыч? — Буня взглянул на меня с жалостью. Как же быстро у него менялись эмоции. Мужик называется. — Ясно, что вы там в квартире с ней делаете. Вместе с пидором этим, Козликом. Это ваш фотограф? Или вы втроём? Вы её голой фоткаете? Или?..»
«Клянусь, что ничего такого», — сказал я. Прозвучало, конечно, глупо. Сказал бы хоть «зуб даю». Так нет же, «клянусь». Пионер нашёлся. Но почему-то — я сам удивился — он вдруг засомневался. Неужели такое пустое, не нужное никому словцо, как «клянусь», способно ещё на чудеса?
«Клянётесь… — Буня почесался, как обезьяна. — Мы вот что сделаем, Олег Олегыч. Пойдём счас к вам. Разберёмся. Каштанка и этот… Козёл… Часа ещё не прошло, как они от вас ушли. Пойдём к вам, и я проверю. Я сразу пойму, чем вы там занимаетесь, от меня, блядь, ничего не спрячешь. Я, по ходу, в таких делах шарю».
Соглашаться было нельзя. Ни в коем случае нельзя было соглашаться. Но где-то близко, над нами, отворилась дверь, зазвенели ключи, зашуршал пакет. Нас могли здесь увидеть. И это было бы уже слишком. Это могла быть та самая соседка, подумал я со страхом, видимо это она и есть, спустится сейчас, пройдёт мимо нас, бросит свой ядовитый вгляд на меня, на Буню, улыбнётся, отметит в своём графике, запомнит наши растерянные физиономии, наши позы: судьи и обвиняемого, следователя и подследственного, хищника и жертвы. Нельзя, нельзя было позволить, чтобы она увидела.
«Ну, идём». — Я пошел на Буню, он отступил в сторону, я нащупал ключи и поспешно затолкал его оранжевую спину в тёмный коридор. Брякнул дверью — и тут же за ней послышались шаги. Я так и не успел понять, кто из соседей по лестнице спускался. Но решение было правильным. Лучше так — чем привлекать внимание.
«Каштанка, — втянул воздух в свои широкие ноздри Буня, когда я включил свет. — Каштанкой пахнет. Я её запах знаю. Как собака. Ни с каким другим не перепутаю».
Дома я осмелел. Упал в своё кресло, включил ноутбук, насмешливо начал наблюдать, как Буня ходит по комнате, принюхивается, проверяет кровать, шкаф, пол и почему-то оконное стекло, в котором мы с ним отражались, как герои какого-то чёрно-белого триллера.
Он выглядел разочарованным. Сходил в туалет, на кухню, с уважением остановился у книжных полок.
«Книг у вас много, — сказал Буня присмиревшим голосом. — Читать любите?»
Я засмеялся — и мне показалось, что он сразу как-то ослаб от этого моего дьявольского смеха. Улыбнулся недоумённо, даже жалостливо.
«Сколько бумаги… — протянул он с удивлённой интонацией человека, который оказался в неудобном положении. — Это ж надо, столько бумаги исписать. Лесов вам не жалко, Олег Олегыч? Не, это ж надо. Здесь же на пару тонн потянет. Бумажный вы человек, сразу видно».
«Доволен?» — спросил я.
«Ну, не знаю… — Буня сел на мою кровать. — Ничем таким не пахнет. Ничего такого не видно. Одна бумага. Дышать из-за неё нечем. Может, и правда… Может, и не врёте. Но тогда… Чем вы тогда здесь втроём занимаетесь?»
Я молчал. Я не знал, что сказать. Врать было лень. Я устал.
«Нет, ну правда. Что вы тут… делаете? — Буня вдруг перешел на белорусский. — Разговариваете? Может, у вас тут запрещённая секта? А, Олег Олегыч?»
«Мы изучаем язык бальбута», — сказал я, повернувшись к нему спиной. Хорошая вещь эти компьютерные стулья. Круть — и в лицо докучливому идиоту смотрит твоя каменная спина.
«Чего? — голос Буни звучал так серьёзно, что мне хотелось расхохотаться. — Это что за манера выражаться? Это где на такой мове размавляют?»
«В Караганде».
«Что, правда?»
«Да нет, конечно, — я не сдержался и засмеялся. — Забавный ты, Буня. Ты когда-нибудь слышал о языке бальбута?»
«Нет», — сказал он честно.
Я снова повернулся к нему.
«В мире несколько тысяч языков. — Я рассматривал его круглое лицо, на котором теперь было написано только туповатое внимание. — Ты должен мне поверить. Ты же не знаешь, что это за тысячи языков. Так? Вполне возможно, что среди них есть и бальбута. Что она существует. Просто ты никогда о ней не слышал. Правильно?»
«Ну, по ходу, да».
«А вот и неправильно. — Я придвинул стул к нему. — Бальбуты не существует, и всё же мы на ней говорим».
«Загадочный вы, Олег Олегыч, — сказал Буня. — Каштанка таких любит».
«Всё просто, никаких загадок. — Меня разозлило, что он всё ещё думает о Каштанке своей ненаглядной, в то время как я здесь ему новый мир открываю. — Бальбуту придумал я».
«Вы? А так можно? Придумать язык?»
«Уголовный кодекс разрешает. Но… Это не всем дано, — сказал я гордо. — А я придумал. И на данный момент, Буня, во всём мире только трое человек владеют бальбутой. Я. Козлик. И Каштанка твоя драгоценная. Зацени».
Буня заценил. Не скажу, что он сидел с открытым ртом — но в голове его, и я чувствовал это, закружились, заскрипели ржавые колёсики, нейроны бросились образовывать новые связи, мозг напряжённо работал, пыхтел, плевался паром и дымом, медленно превращаясь в то, чем его задумали, — сложный механизм, данный человеку не только для того, чтобы включать новый смартфон.
На моих глазах рождался человек.
И я гордился этим. Может, даже больше, чем когда открыл бальбуту для Козлика и Каштанки.
Я дал ему опомниться. А затем заговорил, глядя прямо в его расширенные зрачки:
«Бальбутой во всём мире владеют только трое. Я. Козлик. Каштанка. А знают о существовании такого языка четверо. Я. Козлик. Каштанка. И ещё один человек. Назови его имя».
«Не знаю я, — Буня пожал плечами. — Откуда мне знать».
«Ну, подумай. Как его зовут?»
«Понятия не имею».
«У него смешное имя».
«Ну… Не знаю я».
«Буня его зовут, — нетерпеливо сказал я и закатил глаза. — Буня! Кого в этой комнате называют Буня? Меня? Стол называют Буня? Может, здесь сидит какой-то другой Буня? Что ты дурачка из себя строишь? Четвёртый — это ты. Ты теперь знаешь про бальбуту, и я делаю из всего этого вывод, логический и очень несложный. Если уж ты знаешь, чем мы здесь занимаемся, будешь учиться. Бальбута — язык настолько простой, что им можешь овладеть даже ты».
Буня молчал, поражённый моей внезапной атакой и всей той информацией, которая вдруг обрушилась на него. Видимо, он всё ещё не очень мне верил. Но я уже знал, как его убедить. Раскрыл файл с бальбутой для начинающих и начал объяснять.
Буня оказался способным учеником. Уже через полчаса до него дошло, чего я хочу. Правда, его меркантильность мне мешала. Он во всём пытался найти практический смысл. И всё думал о своей Каштанке — вместо того, чтобы сконцентрироваться на философии бальбуты, которую я старался вбить в его стриженую голову. Впрочем, это был человек, у которого был стимул для учёбы: когда до Буни дошло, что теперь он не только знает тайну Каштанки, но и сможет разговаривать с ней на одном языке, он бросился учиться с удвоенной силой.
Настала ночь. Надо было сделать перерыв, бедный Буня быстро обессилел от всего, что произошло с ним этим странным вечером. Я пошёл на кухню, налил себе вина, а Буне сделал кофе. Вернулся — и застал его с книгой Франсуазы Дарлон в руках. Он не мог оторваться от картинок. Ну ещё бы.
«Копаешься в моём столе? — сказал я железным голосом. — Знаешь, Буня, в моём доме это запрещено. И если уж мама тебя не научила, что лазить по чужим столам — это плохо, то и я вряд ли научу. Давай иди, топай домой, и чтобы я тебя больше не видел».
«Да ладно, Олегыч, — примирительно сказал Буня. — Я случайно. Открыл, а тут такое…»
Я рассказал ему вкратце, что это за книга, и спрятал Франсуазу в ящик.
«Пиздец как захватывает, — одобрил Буня. — А можно мне ещё разок глянуть?»
«Нет».
«И всё же вы, Олег Олегыч, тот ещё извращенец, — засмеялся Буня, шумно отпив горячего кофе. — Хотя и не в том смысле, в котором я думал».
Я с гордостью посмотрел в окно.
Буня ушёл от меня утром, взяв с собой распечатки, валявшиеся под столом. Когда-то я сделал их просто так, неизвестно для кого, просто мне нравилось, как они выглядят. А теперь эти бумажки служили важному и трудному делу. Делу живых и тонких, как книжные страницы, людей, о существовании которых я ещё десять месяцев назад не имел никакого представления.
11.
Я решил пока не рассказывать про Буню ни Козлику, ни Каштанке. У меня возникла безумная идея сделать им сюрприз. Я представил себе, какой прекрасный шок вызовет у них новость, что нас уже четверо, — словно я родил им внебрачного сына. Причём неизвестно от кого — и всем нам троим сразу. Поэтому я втайне переписывался с Буней, несколько раз встретился с ним в «Щедром» (нам уже нечего было скрывать) — я курил, пил рюмку за рюмкой и учил его, дурака, бальбуте. Буня смотрел на меня со всё большим уважением, а я радовался его сообразительности — и строил свои королевские планы. Быть учителем Буни оказалось приятно — вот кто на самом деле умел выразить свою благодарность, вот чьё обожание было действительно искренним. Он слушался меня без возражений — а я всё чаще замечал, что бальбута идёт ему на пользу. Никогда нельзя быть уверенным, что можно изменить жизнь безнадёжного, казалось бы, экземпляра, туповатого юноши без особых талантов. Придумай и дай ему хороший конланг — и ты сделаешь из него человека.
Нужен был только хороший повод, чтобы ввести его в общество.
И такой повод подвернулся достаточно быстро. Слишком быстро. Гораздо быстрее, чем я думал. И совсем не там, где я ожидал.
Как-то в ничем не примечательный день (зима уже догнивала) мне написала Каштанка. Конечно, мы переписывались регулярно, бальбута непрестанно поддерживала в нас это желание не терять связь, она была, как наркотик, без неё мы все чувствовали ломку — да и навык коммуникации потерять было легко, мы все боялись этого и писали друг другу, даже когда у нас не было темы для разговора, писали просто так, чтоб поболтать, болтовня на бальбуте была не менее важной, чем молитва её словам и её священным правилам.
Но на этот раз, когда я снова оказался онлайн, все было иначе.
Каштанка написала мне, и только мне. Не в нашу группу, а мне лично. Она не хотела, чтобы нашу переписку видел Козлик. И это меня насторожило.
Она скинула мне чью-то переписку. Копию чьей-то переписки, которую я не должен был увидеть. Но она сбросила её мне на почту — и хотела этим сказать мне что-то очень важное.
Я всматривался в слова чужого разговора и понимал всё с большим бешенством, что ничего не понимаю.
Ни слова. Каждое слово этого разговора было мне незнакомо.
Я успел от такого отвыкнуть. Подумав несколько минут, я нашёл причину. Причина была неприятная. Да что там говорить. Гнусная причина, которую я не мог проигнорировать.
Это был разговор на абсолютно непонятном мне языке. Беседу вели двое — и один писал много, выпускал из своих загонов целые стада слов, а второй… Второй отвечал односложно, неохотно. Будто ему не очень нравился разговор, будто он хотел поскорее его закончить.
Непонятные слова выглядели не очень благородно. Что-то псевдогерманское: brekken tekken kuekken, и всякая чепуха: kaaru-suaru-ynga…
Абы что. На мой вкус, язык кунду и тот выглядел более красивым. Поэтому я послал Каштанке целый букет вопросительных знаков, и она ответила мне издевательскими смайликами. Мы договорились встретиться с ней в новом кафе, которое недавно открылось на Немиге, я там никогда ещё не бывал — и я почувствовал в кончиках пальцев забытый, далёкий трепет тайны.
На следующий день я пришел на условленную улицу, к кинотеатру «Победа», который тогда ещё стоял на своём месте, пугая народ цветами: жёлтым, кроваво-алым, в которые выкрасили колонны, и нежно-розовым… засохший торт, от одного вида которого начинали болеть зубы. Мне нужно было нырнуть во двор — там, за задубелой террасой, были двери, в стекле которых мутнело печальное лицо администратора. Я давно не ходил в такие места. Кофе здесь обошлось бы мне в сумму, за которую я мог купить полбутылки дешёвого коньяка. Я вошёл — седой дядька в прожжённом дешёвыми сигаретами пальто и лыжной шапочке. На меня посмотрели так, будто на этой клоунской шапке и правда было написано «Майстар». Именно так, по-белорусски. Надо было напиться перед тем, как сюда идти. Но Каштанка уже махала мне из глубины зала.
Я пошёл к ней и шлёпнулся в мягкое кресло, не снимая пальто.
Что и говорить, она выглядела шикарно. Свежая, шелковистая кожа на насмешливых щеках, загадочные тени на острых скулах… Почему она показалась мне некрасивой тогда, в нашу первую встречу? Они что, так быстро растут, эти шестнадцатилетние? Каштанка сочувственно следила за тем, как по моему лицу пробегали старческие складки. Она не обращала никакого внимания на мир вокруг, неторопливо цедила свой безалкогольный коктейль, по ней было видно, что она собирается до смерти меня удивить. А мир вокруг следил только за ней. Мужчины за соседними столиками не сводили с неё глаз, но, чувствуя то презрение, которое я излучал, они с огорчением прятали лица в своих бокалах и фужерах. Вот где Буне нужно было искать извращенцев, а вовсе не в моём логове, в этой скромной келье святого конлангера… Добропорядочные буржуи жевали и шевелили в такт толстыми пальцами и жирными мозгами, размышляя, что эта восхитительная девочка во мне такого нашла, а я вовсю издевался над ними и одновременно пытался угадать, что за тайна меня ждёт.
Все вокруг были в полном недоумении — и это меня веселило.
«Что будете пить, ОО?» — спросила Каштанка, подсунув мне меню.
«Водку».
Она разочарованно вздохнула. Никто здесь не догадывался, сколько ей лет. Я торжествующе обвёл зал глазами и выпил первые сто.
И тогда она рассказала, что случилось.
Недавно, начала Каштанка, когда Козлик провожал ее домой, он признался ей в любви. Услышав это, я громко хрюкнул, и на нас снова оглянулись, теперь уже не скрывая возмущения. Думаю, если бы не моя спутница, меня б отсюда вышибли. А может, это и не Каштанка спасала меня от позора, может, виновата была бальбута, на которой мы вполголоса с ней переговаривались. Иностранцев не так легко выставить даже из самого хорошего кафе, если дело происходит в городе М.
«В любви? Тебе? Козлик?»
«Ага, — Каштанка засмеялась. — Сказал, что я его первая и последняя любовь. И что любит меня с первого взгляда. А я-то думала, он меня ненавидит».
«И что ты будешь делать?» — спросил я, наливая себе ещё водки из не такого уж и чистого графина.
«Не знаю, — Каштанка взмахнула длинными, совсем взрослыми ресницами. — Это вообще какой-то бред: Козлик, любовь и я…»
«А что ты к нему чувствуешь?»
«Я?»
«Ты», — я чувствовал себя разочарованным. Ну да, ну да, от Козлика и я сам не ожидал каких-то там чувств к кому бы то ни было, он же Козлик, какая там любовь… — но в том, что рассказала Каштанка, не было, по большому счёту, ничего особенного. Они же ещё дети. Ему почти двадцать, ей шестнадцать, ничего удивительного.
«Вы серьёзно? — Каштанка даже обиделась. — Я? К Козлику? Он же такой смешной… Такой маленький и смешной. Его хочется троллить, а потом жалеть. И кормить. Вот и вся любовь. К домашним животным».
Ей наконец принесли мороженое — целую вазу. Мороженое опять напомнило мне человеческую голову — или, скорее, на этот раз, чей-то белый череп. Каштанка сунула ложечку прямо в темя и достала холодный, блестящий в мёртвом свете ламп мозг. Лизнула его и закатила глаза.
«И это всё, что ты собиралась мне рассказать?»
«Почти, — хитро прищурилась Каштанка. — Есть ещё кое-что…»
«Подожди, я выпью. Вот так. Теперь можешь рассказывать. Или вам с Козликом нужно моё родительское благословение?»
Каштанка поглядела на меня как-то странно, а потом быстро, будто боялась, что передумает, сказала:
«А ещё Козлик придумал для нас с ним особый язык».
«Что?»
«Да, он придумал для нас с ним свой язык. Там всё очень серьёзно, он прислал мне правила и словарь. Сказал, это язык нашей с ним любви. Но он надеется научить ему всех, кого мы с ним полюбим. Я уже знаю штук тридцать слов… Он заставляет меня их учить. И то, что я вам прислала, это наша с ним переписка. Он, конечно, просил меня вам не признаваться, сказал, что это должно остаться нашей тайной… Но я…»
«Билядь!» — громко сказал я. Очень громко. Весь зал аж вздрогнул. С противоположного его конца к нам направилась администратор, на ходу приделывая на лицо корректно-нудное выражение. Но маска всё время сползала. На самом деле она жаждала моего позорного изгнания из этого буржуазного райка.
«Я сама удивилась… — Каштанка с наслаждением разглядывала мою перекошенную от злости и обиды морду. — Мой друг извиняется, он сегодня впервые в Минске, а его уже дважды ограбили. Войдите, пожалуйста, в положение…»
Это она администраторше так сказала — и та, смутившись, вернулась на место.
«Предатель, — произнёс я вполголоса. — Чёртов Козлик. Вот же су-ка».
Каштанка кивнула.
«И как он назвал это своё… изобретение? — спросил я с дьявольским смехом. — Этот язык вашей большой и чистой любви?»
«А вы угадайте».
«Да ладно…»
«Форнаталь».
«Как?»
«Форнаталь. Типа язык для Натали. Для меня. Подарок от любимого. И тут я должна была бы с гордостью сказать, что я, наверное, первая женщина в мире, которой подарили целый язык. Но вот беда… Первым языком, который мне подарили, была бальбута. Я об этом помню, ОО.Так что у меня теперь два языка. Смотрите, завидуйте, у каждой женщины должна быть змея, а во рту у змеи раздвоенное жало, один конец — форнаталь, второй — бальбута… Забавно. Правда, ОО?»
«Я пойду покурю, — мне нужно было остаться наедине с собой. — Ешь свои мозги, я быстро…»
«Собираетесь ему позвонить?»
«Собираюсь его убить».
«Может, не надо? Он же просто козлик».
«Просто предатель».
Форнаталь, блин. Форнаталь! Козликанто! Вот урод. Я выкурил сигарету, вторую, третью и почувствовал, что трезвею, а внутри меня росла тошнотворная, чёрная злоба, с мохнатыми толстыми стеблями, жгучая и одуряющая злоба, почти что ненависть. Она наливалась ядом, она тащила свои тяжёлые листья через весь город, нависая над проспектом, она простиралась вплоть до северной окраины моего большого города, она закрывала своей чёрной тенью многоэтажку в тёмном микрорайоне, она знала, что ей нужно отыскать в этом лабиринте одинаковых квартир. Существо под названием «Глупый маленький козлик», мелкое, убогое создание, которое бросило мне вызов.
Форнаталь.
Вот же падла.
Я ему покажу форнаталь.
Я вернулся и попрощался с Каштанкой, которая ответила мне какой-то своей африканской поговоркой.
«Пришли мне всё, что у тебя есть, по этому форнаталю…»
«Хорошо, — с готовностью согласилась Каштанка. — Но я хотела вас попросить, чтобы вы не очень больно его убили, ОО. Просто я думаю, что…»
Но я уже не слушал, что она там щебечет. Я уже знал, что я сделаю. Я уже готовил суд. Первый судебный процесс на языке бальбута.
Каштанка пообещала ничего не рассказывать этому предателю, и я ей верил. Ну да, девка — но она не такая, как все, она умеет хранить тайны. Но о своей идее я ей решил всё-таки не рассказывать. Мало ли что ей в головку ударит. Через несколько дней она и Козлик получили от меня письмо, полностью посвящённое бальбуте, — и только в самом конце, будто невзначай, я написал, что жду их у себя второго апреля. Ровно в семь. А затем я послал имейл Буне, который получил от меня особые инструкции. Буня был приглашён в мою резиденцию на шесть вечера.
Оставалось только ждать.
Первым пришёл Козлик. Стараясь ничем себя не выдать, я изредка поглядывал на него, пытаясь найти на его бородатом, плохо прорисованном лице приметы совершённого предательства. Но он выглядел как всегда. Только прыщей стало ещё больше. В марте на мордах молодого поколения вылезают целые колонии прыщей, а нам смотри на них и терпи. Терпи и отводи глаза от этой скверны.
Я тебя самого выдавлю, как прыщ. Прыщ на красивом лице моей бальбуты. Козлик-хуёзлик, король форнаталя, влюблённый шекспирчик. Мало не покажется. Это будет твой последний вечер. Последний вечер на острове Бальбуты.
Влюблённый шекспирчик лежал на полу и читал мои книги. И только по тому, как вздрагивала его шея, по тому, как краснели щеки, было понятно, что он ждёт звонка в домофон. Никак не может дождаться, что сейчас придёт она и…
«Когда! Она!» — вспомнил я «Гостью из будущего». Фильм из того далёкого времени, когда я, лёжа на полу с приятелями, вырезал из бумаги фигурки солдат, купцов, чародеев и обнажённых женщин. И читал «Словарь юного филолога» вприкуску с халвой.
«А говорил, романтик…»
Я улыбнулся.
«Пиво?» — предложил я Козлику. У него было право на последнее желание. А он, дуралей, ни о чём не догадывался.
Каштанка пришла ровно через десять минут. Может, они даже вместе приехали к моему дому, странному дому с мемориальной табличкой на боку, где шли последние приготовления к публичной казни предателя. А потом Козлик сказал на своем форнатале: «Сначала зайду я, чтобы Олег Олегович ни о чём не догадался. А ты через десять минут позвонишь в дверь». И Каштанка согласилась, глядя на него своими невинными глазами. Наверное, так и было. У меня уже почти не было сомнений. Почти ни в чём не было никаких сомнений.
Каштанка села на мою кровать. Свесила ноги так, чтобы они оказались совсем близко к Козлику. Чтобы дразнили его, дразнили и не давали ему почувствовать опасность.
«Я думаю, бальбуте нужна перезагрузка», — сказал я мрачно.
Козлик замахал руками: «Этого я и боялся! Вот не поверите, я так и думал, что однажды это услышу. Нет! Бальбута уже живёт, она наливается всё большей силой, я уже думаю только на ней! Перезагрузка её убьёт. Ей нужно дать развиваться самой… И вы увидите…»
Я остановил его ритуальные выкрики властным движением руки.
Одними глазами я установил молчание в этой тёмной,
задымлённой,
съёмной
однокомнатной квартире,
в городе М.,
в доме с мемориальной доской,
во времена всеобщего помрачения.
Каштанка сидела на кровати. Козлик полулежал у моих ног. Большую часть ковра занимал низкий журнальный стол, лакированный так щедро, что казалось, он полностью состоит из лака, страшный коричневый стол, на котором я расставил угощение: разогретую пиццу, зефир, накрошенный шоколад, пиво, вино и чай, да ещё полную коробку мороженого цвета женской пудры.
«Мои дорогие бальбутане, — сказал я и улыбнулся. — Нас становится всё больше. Позвольте представить вашего блудного брата по бальбуте. Свободного и счастливого!»
Я махнул рукой и налил себе вина. Но Буня не появлялся. Козлик и Каштанка, кажется, не поняли, в чём дело, — вместо того чтобы оглядываться по сторонам, они следили за моим ртом. Будто их блудный брат по бальбуте должен выскочить оттуда.
Придурок, куда же он подевался?
«Вот он, наш свободный и счастливый брат Буня!» — раздражённо выкрикнул я, пытаясь спасти этот спектакль.
Буня вышел из коридора и стал в дверях. Я долго учил его, что он должен сказать в эту минуту, но, видно, от волнения он забыл текст.
Козлик и Каштанка придвинулись друг к другу. А говорила, никакой любви.
«Что он здесь делает? — Каштанка схватилась за виски. — Что здесь делает эта морская свинка?»
И тогда Буня вспомнил. Заикаясь и путаясь в словах, абсолютно игнорируя все выдуманные мной благородные — utima, он тем не менее поздоровался с моими бальбутанами и рассказал им свою трогательную историю обращения.
Козлик не верил своим ушам.
«Этого не может быть, — сказал он. — Это сон. Или это сон, или вы гений».
Последнее было сказано мне. Чёртов лжец. Лицемер и паршивый предатель.
«Поздравляем, Буня, теперь ты — один из нас, — сказал я так торжественно, как только мог. — Я думаю, мы все вместе поможем тебе овладеть бальбутой так, чтобы ты смог очиститься от шелухи так называемых живых языков и сумел сполна насладиться красотой и свободой нашего конланга…»
Буня подсунул под свой зад принесённый из кухни табурет и сел у дверей, ведущих в коридор. Козлик и Каштанка смотрели на него с плохо скрытой неприязнью.
«Я всё ещё не верю, — сказал Козлик. — Я скорее поверю, что Каштанка променяет мороженое на чебурек, чем…»
«Нас было трое, — прервал я его болтовню. — Прошу обратить внимание на арифметику. Нас было трое, и нас остаётся трое. Ставя сегодня плюс, я ставлю и минус…»
Каштанка стала догадываться, в чём дело, и с интересом наблюдала за Козликом. Она даже поудобнее устроилась на моей кровати. Кажется, ей начинал нравиться этот спектакль.
«Я…» — сказал Буня на бальбуте и замолчал. Все невольно усмехнулись. Козлик — немного тревожно. Почувствовал, козёл, куда ветер дует.
«Мой дорогой Козлик, — обратился я к нему ласково. — Ты был первый, кого я научил бальбуте. К сожалению, настал момент её забыть. Так вышло, что этот момент настал только для тебя».
«Как для меня?» — воскликнул Козлик, подпрыгнув и взвившись с ковра. Он обвёл глазами меня, Каштанку, Буню, и его глаза снова вернулись к моим — злым, беспощадным и властным.
«Дорогой Козлик, — сказал я. — Ты меня предал. И сам понимаешь, что должен ответить за свой поступок».
Я произнес всё это на чистейшем форнатале. Даже сам его создатель не мог бы сказать чище и правильнее. Каким-то задним умом я отметил сам для себя, что вышло складно. Благозвучный этот его форнаталь, ничего не скажешь, похвалил я Козлика мысленно. Способный был у меня ученик. Умненький козлёнок.
Козлик вскочил и сжал кулаки. Он переводил взгляд то на меня, то на Каштанку, и только на Буню он не смотрел, будто его не существовало в этой полутёмной комнате, где я вершил свой строгий и справедливый суд.
«Как создатель бальбуты я изгоняю тебя с её невидимого острова», — сказал я твёрдо, без тени улыбки. Сначала на форнатале, а потом на бальбуте, повторив все это ещё более грозно: Akkou Onkaln Balbutima au fuzu tau ottou uve nau neokutoje plututima!»
И тогда из маленьких глаз Козлика посыпались маленькие козлиные слёзы. Каштанка глядела на них, как зачарованная. У дверей что-то пытался промычать Буня, поднимая и опуская руку, как игрушечный медведь.
«Поешь на дорожку, — нежно сказал я Козлику, показывая на свой королевский стол. — А потом иди и не возвращайся. Если хочешь, скажи хоть что-то в своё оправдание. Но предупреждаю, это уже не поможет».
Козлик набирал воздуха в свои хрупкие груди, тряс бородой, но так и не сказал ни слова. Я подумал, его сейчас разорвёт. А может, он на самом деле был никакой не Козлик, а воздушный шарик, шарик, который…
«Давай, Козлик, скажи», — настойчиво и строго сказал я, чтобы его поощрить. Хотя мне было уже совсем неинтересно, что он скажет.
«Что же мне делать?» — тихо спросил Козлик, обращаясь уже только ко мне одному. Тому, кто решил его судьбу.
«Поехать домой, к своим родителям, хорошо учиться и всё забыть, — ответил я равнодушно. — Знаешь, как забывают язык? Сначала забываются отдельные слова. Потом грамматика в голове окутывается туманом, и ты уже ходишь по языку на ощупь, ещё угадывая в памяти какие-то очертания, ещё не забыв размещение самых важных объектов, надеясь на интуицию, на контекст. Затем ты уже просто бродишь в темноте. А потом кто-то включает свет — и язык, который ты знал, кажется тебе просто сном. Конечно, забыть язык окончательно невозможно. Останутся какие-то обрывки, неясные воспоминания, внезапные ассоциации. Но говорить ты не сможешь. Да и с кем? Бальбута не прощает предателей».
«Но… — Козлик выслушал меня внимательно, бледный и серый, таким я его никогда ещё не видел. — Но что мне теперь делать?»
Вот дурак.
«Для кого я только что тут выступал, а, Козлик?»
«Но ведь я… — он плакал и смотрел мне в глаза. — Я не знаю, что мне делать. Я не смогу без бальбуты. Вы, бальбута, Каштанка… Это всё, что у меня есть».
«А если бы можно было выбрать? Что-то одно? Что бы ты оставил, а от чего бы отказался?» — спросила Каштанка. Буня с интересом прислушивался к нашему разговору, но мало что понимал. Ему пока не хватало практики.
Козлик ничего не ответил. Только потом, с ужасом изучив лицо Каштанки (и когда она успела снова стать такой некрасивой?), он выдавил из себя те самые надоевшие мне уже слова:
«Что мне делать?»
«Да ничего с тобой не случится! — бросил я сердито. — Можно жить и без языка. Говори сам с собой на своём форнатале, хоть до усрачки. Ничего с тобой не случится, Козлик! Жив будешь! Вспомни, что писал Имре фон Штукар. “Мы полетим в бездну, и у нас в зубах будут только крики. Мы станем лёгкими, как бумага”. Целый год ты жил с бальбутой. Ты стал лёгким и свободным, твоя душа справится с этим стремительным падением, ты знаешь слова, которые не дадут тебе грохнуться об землю и разбиться. Бальбута даст тебе силы приглушить боль, ты плавно опустишься за землю и проживёшь свою ничтожную жизнь, ты станешь таким, как они, там, за окном — вот и всё!»
Я показал в окно и обессиленно откинулся в своём кресле. Получилось пафосно, но Каштанка глядела на меня с восхищением. Она ещё не видела меня таким. Козлик кивал, мне казалось, он меня слушает, слушает так, как никогда не слушал, но он вдруг подошёл к кровати и залепил Каштанке оплеуху. Её лицо вспыхнуло, она даже понять не успела, что произошло. А потом упала лицом в подушку. Мою подушку. Я не успел ничего предпринять — просто в каком-то ступоре вертелся на стуле и наблюдал, как Буня вскочил с места и начал молотить Козлика кулаками.
«Не здесь! — только и смог я крикнуть, когда пришёл в себя. Крикнуть по-русски, каким-то не своим, тонким и противным голосом. — Тащи его на улицу и там решайте свои дела! Не здесь, Буня!»
Как ни странно, он меня послушался. Как собака послушался. Схватил Козлика за бороду и потащил к дверям. Козлик не сопротивлялся, только пыхтел, и это было бы смешно, если бы не было так убого. Я слышал, как они спускаются по лестнице, как во всех квартирах этого темного подъезда в доме с мемориальной доской открываются и закрываются двери.
Каштанка вытянулась на моей кровати и отвернулась к стене. Я сходил и закрыл дверь, дал Каштанке мороженое, но коробка с ним была тёплая, а мороженое почти растаяло — верный признак подделки. Поэтому пришлось сбегать на кухню, достать ледяное, тяжёлое, как кирпич, купленное когда-то сало и приложить к её лицу. Она охнула.
«Выпей», — я налил ей вина.
«Спаиваете несовершеннолетних, — она криво улыбнулась, повернувшись ко мне. — Мне так его жалко, ОО».
«Да ничего с ним не сделается», — буркнул я и осушил полный стакан.
Она отпила и снова рухнула на подушку. Мою подушку.
В дверь зазвонили. Я пошел открывать, а когда вернулся, она уже сидела, крепко прижимая сало к скуле. В комнате появился Буня, бросился к ней, застыл на полпути, налетев на стол.
«Как ты, Каштанка? Вот гад этот ваш козёл, но ничо, я ему всё ебало в кровь разбил, — гордо сказал Буня. — Но всё равно мало. Вырвался, падла, и убежал. Козёл, одно слово!»
«Уйди, Буня, — проговорила Каштанка по-русски. — Уйди и не приходи больше. Чтоб я тебя никогда больше не видела. Понял?»
Лицо у Буни стало красное, как у пьяного. Он не двигался с места, стоял и смотрел на неё с любовью и обидой.
«Иди, — махнул я ему. — Ты же слышал, что тебе сказали. Давай, Буня. Я тебе напишу».
Но он стоял и не шевелился.
«Иди в жопу! — крикнула Каштанка. — Я тебя видеть больше не могу! Уйди и убейся где-нибудь! И чтоб навсегда!»
Окаменевший Буня зашевелился — но послушался этого дикого крика. Зашуршала куртка, хлопнула дверь, и мы остались одни.
Каштанка положила в рот кусок давно остывшей пиццы и начала осторожно жевать.
«Налей мне ещё вина».
Я налил. Мы чокнулись.
«Я посижу у тебя?»
«Сиди», — я снова присел возле неё.
«Ты же не собираешься ко мне цепляться? Ничего не выйдет».
Я покачал головой. И выпил ещё. А потом стал у форточки и закурил.
«Дикобраз спрятался в норе, значит старость пришла, — сказала Каштанка. — Забыла, как там на кунду. Но смысл такой. Ты мой старый дикобраз, ОО».
«Сама ты дикобраз. Можешь мне помочь?»
Мы снова говорили на бальбуте. Докурив, я подсел к ней с книгой в руках. Заслоняя ладонью непристойные картинки, все эти гнусные автопортреты Франсуазы Дарлон и её похотливого пса с тонкими лапами и взъерошенной шерстью на короткой холке, я показывал Каштанке только тексты. Показывал один за другим, и она читала их вслух, и морщилась, и всё пыталась убрать мою строгую ладонь — но я держал её, там, где надо, напрягая запястье, пока она меня не укусила. Хапнула зубами просто за волосатую руку.
«Ты чего?»
«Ничего».
Я закрыл книгу и отбросил подальше от кровати.
«Может, ты что-то почувствовала или поняла, когда читала это? Ну хоть что-то? Может, что-то кольнуло, показалось знакомым?»
«Нет, — сказала она и допила вино. — Спать хочу. Ты меня напоил».
Так она и уснула на моей давно не чищенной подушке, утопив в ней своё красное ухо. Я прилёг рядом, пытаясь представить себе Козлика. Как он бродит по городу, с разбитым лицом, потеряв бальбуту, и Каштанку, и меня, и целый год своей жизни. Ничего, у него ещё вся жизнь впереди. Вся эта длинная, длинная, очень долгая, слишком долгая жизнь.
Я сам не заметил, как уснул рядом с Каштанкой. А когда проснулся, было уже слишком поздно.
«Верочка», — сказал я и судорожно сглотнул слюну. На лестничной площадке как раз послышались её шаги. В квартире было темно, хоть глаз выколи, рядом со мной проснулась Каштанка и тревожно зашевелилась.
«Что там за Верочка тебе приснилась?» — сказала она в темноте, такая близкая и тёплая Каштанка, пахнущая вином и салом.
«Тихо!» — цыкнул я на неё.
Поздно, поздно, было уже слишком поздно. Верочка осторожно вставила в замок ключ. Я схватил Каштанку и вместе с ней накрылся пледом, тем самым пледом, под которым всегда встречал Верочку и под которым столько лет прятался от неё. Тем вонючим пледом, который Верочка никогда не могла поднять. Ведь ей это было запрещено. Кем запрещено, я не знал. Тем, кто посылал ко мне Верочку из самого сердца тьмы.
«Это твоя жена?» — шепотом спросила Каштанка, прижавшись ко мне под пледом.
Верочка вошла, сбросила сапоги, пошла мыть руки. Что она напевала под нос сегодня? Я не мог разобрать, шумное дыхание Каштанки перекрывало собой все звуки, щекотало мне ухо, не давало дышать.
«Это Верочка, — прошептал я. — Лежи тихо. И тогда всё, может быть, кончится хорошо».
«Но она найдёт нас здесь!» — придавленный голос Каштанки звучал под пледом, как писк. Словно по нашим телам бегали мыши. Куча голодных и некрасивых мышей. Мы прижимались друг к другу, и я закрывал Каштанке рот, но она начала дёргаться, и я испугался, что задушу её, — отпустил, чувствуя, что моё сердце начинает стучать всё громче, оно ухало в темноте зловеще и тяжело, и мне было плохо.
«Ей нельзя, — прошептал я. — Сейчас она пойдёт на кухню, помоет посуду, оставит там что-нибудь, придёт сюда. Полежит рядом — и потом всё закончится. Так всегда бывает. Но сегодня всё может пойти по-другому».
Каштанка замерла, потёрлась об меня, а потом снова защекотала мне ухо:
«А она… эта Верочка… она вообще человек?»
«Я не знаю, — сказал я. — Я никогда не видел».
Каштанка засопела. Вот теперь я и правда был готов её придушить. Верочка звенела посудой, она ещё не знала, что творится в комнате, где мы лежали с Каштанкой, замерев и прижавшись друг к другу. Сейчас она разберётся с кухонными делами, а потом зайдёт, увидит и поймёт. Скорее всего она очень хорошо умеет видеть в темноте. Её взгляд проникает сквозь стены и деревья, сквозь сталь и бетон, сквозь стекло и снег, сквозь землю и бумагу — да, да, через бумагу… И только одно ей запрещено — снимать этот старый, выцветший, поеденный молью плед. И это нас спасёт. Шанс есть. Всё кончится. Когда же всё это наконец закончится?
И тогда Каштанка сбросила плед. Резким движением, так, что я не успел её удержать, она сбросила его на пол и поднялась на кровати. Я лежал, крепко закрыв глаза, и молился.
«Bruta mau, tau istuzu u autima, tau balbuta svetuzu bu, tau stuta aiduzu bu, tau fuzu ujma sau aluzu u tutima da autima, du nau kusutima rusoje dinuti…»
Я больше не слышал ни Верочку, ни Каштанку, ни городского шума за окном. Только свой голос, несчастный голос примата, который не может достать до ветки.
Тёплые руки легли мне на лицо.
«Здесь никого нет», — сказала Каштанка, ударилась коленом о стол с моим дьявольским угощением и грязно выругалась.
«Я уйду из твоего логова инвалидом».
Я медленно открыл глаза. Каштанка щёлкнула выключателем, в комнате стало светло, знакомые, опостылевшие мне предметы смотрели на меня с нескрываемым презрением, вещи вздохнули и стали на место, готовые продолжать свой неподвижный бег.
Каштанка, прихрамывая, прошлась по квартире.
«Никого, — послышался её голос из кухни. — Никого. Никакой Верочки».
Я недоверчиво рассмеялся.
«У тебя галлюцинации, — сказала Каштанка. — Как интересно!»
Я, всё ещё не веря, пошёл к ней, обнюхивая все углы — совсем как Буня, когда заявился ко мне с инспекцией. И правда, квартира выглядела так, будто никто сюда не наведывался. Или я сошел с ума — или Каштанка испугала Верочку. Бедную Верочку, страшную Верочку, никогда не виданную мной Верочку, тёмную Верочку. Как же так, Верочка, ты испугалась какой-то сопливой школьницы. Или?..
Или ты всё ещё здесь. Прячешься. Ждёшь, когда этот ребёнок уйдёт. Терпеливая Верочка. Верочка, которая никогда не уходит просто так, ничего не оставив и не забрав.
Я начал открывать всё, что могло открываться в этой проклятой квартире. Но напрасно: если моя Верочка и пряталась где-то здесь, то я мог её и не заметить. Она могла стать чем угодно. Хоть куском резиновой пиццы, хоть окурком, хоть молью, что кружила вокруг Каштанки, болтаясь в спёртом воздухе. Я опустился на корточки и в такой вот клоунской позе начал исследовать пол, пытаясь найти хоть какие-то следы. Каштанка наблюдала за мной, издевательски посмеиваясь, а потом, вздохнув, тоже начала ползать по полу — я видел, какие грязные у неё колени. Что скажут её родители?
«Ты не заметила ничего странного? — Зажмурясь, я пополз в сторону, хотя мне не очень-то хотелось оказаться слишком далеко от Каштанки. Я боялся потеряться в собственном жилище. — Ничего не находила на полу? Может, пуговицу? Или нитку? Хотя бы какой-то след…»
«Да нет, ничего, — Каштанка заглянула за кресло. — Ничего такого. Если, конечно, не считать этого…»
И она протянула мне ладонь. Свою чистую, уютную ладонь, на которой лежал кусок бумаги. Я посмотрел на то, что она мне показывала, и мне показалось, сердце сейчас выскочит у меня из груди.
На ладони Каштанки лежала вырезанная из бумаги фигурка. Бумага пожелтела, поэтому цвет фигурки был похож на цвет человеческой кожи. Это была фигурка женщины: неумело, грубо, дрожащими пальцами выстриженная из бумаги женщина, с нарисованными школьной ручкой глазами, едва заметным носом, развратным ртом с большими губами, и сосками, и пупком, и волосами на лобке, и всем тем, от чего когда-то мы с ума сходили, неистово орудуя ножницами посреди бескрайнего ковра. Давным-давно, не здесь, в иной жизни, в другой империи, под ногами взрослых, которые вот-вот могли вернуться с работы, где они зарабатывали нам на хлеб.
«Здраствуйте, Верочка, — пропела Каштанка, улыбаясь своей ладони. — Приятно с вами познакомиться».
Я хотел вырвать фигурку, но Каштанка ловко перехватила её двумя пальцами и бросилась от меня на кухню.
«Прощайте, Вера, — проговорила Каштанка, беря спички. — Прощайте».
Нет, я не пытался её остановить. Я стоял в дверях кухни и смотрел, как бумажка становится огнём, и огонь летит в раковину, как моя Верочка шипит и рассыпается на чёрные лепестки. Она просто вернулась туда, откуда пришла.
«Нго ибэ и со китака моломба, — сказала Каштанка. — Двум леопардам тесно в одной норе. Правда, ОО?»
12.
Окончив свою историю, я какое-то время молчу, слушая, как вещи вокруг начинают освобождаться от власти моего голоса — сначала они ещё чуть слышно гудят, будто каждая из них причастна к тому, что я здесь наговорил, но понемногу комнатой овладевает тишина. Я смотрю на свои пальцы, на них синяя грязная пыль, вот во что превратилась нитка, найденная мной в ящике пустого стола. Старый казённый диктофон лежит передо мной, и я не знаю, хватило ли на нём места, чтобы записать мой рассказ до конца. Проверить я не могу, да и не моё это дело. Возможно, мне вообще нельзя к нему прикасаться. Это казённое устройство, как и всё здесь, люди, звуки, воздух, и сам я уже — казённый, потому что не могу отсюда выйти по своей воле.
Можно мне домой?
Давным-давно, в школе, почти теми же словами мы просили учительницу отменить урок — ту, чужую учительницу, которая приходила через десять минут после звонка на последний урок объявить, что наша русица или немка заболела и… От неё, этой чужой училки, зависело, сидеть нам в классе и заниматься своими делами, или урок всё же состоится, или… «Можно нам домой?» — звучал чей-то голос, и учительница знала, что он прозвучит, и мы все это прекрасно знали, и смотрели на женщину у доски с надеждой и смирением, и вот она оглядывала нас, прижмурившись, и произносила заветное…
Что она произносила? Какими были те заветные слова? «Только тихо», — так звучал её приговор, когда она была в хорошем настроении, и мы и правда тихонько, но уже расплескивая радостный гул перед собой по коридорам и лестницам, стремглав неслись вниз, на крыльцо, так неожиданно выпущенные на свободу, амнистированные одной фразой, спасённые до самого следующего утра.
Я сижу и вспоминаю всё это — и не знаю, нужно ли мне ненавидеть свои воспоминания или лучше поберечь их, потому что неизвестно, чем закончится этот день. Возможно, они надолго станут единственным, что мне позволено будет взять с собой.
Вечер давно уже наступил. В здании, где я сижу, закрытый наедине с диктофоном, утихли и дрель, и краны, но оно не собирается засыпать. Наоборот, коридоры полнятся всё более громкими шагами, совсем близко слышны усталые и грубые голоса, здесь всё только начинается, в доме, где государевы люди без устали делают своё дело.
Я молчу. Мне и правда нечего больше сказать. Словно кто-то другой рассказал мою историю, а я, хоть и заметил множество неточностей, не чувствую в себе право вмешиваться и черкать. Если бы у меня не забрали бумагу, я рассказал бы всё, как было. И места на бумаге хватило бы. Я умею писать на бумаге. Возможно, я последний человек, который любит и умеет писать на бумаге. Какая же ненадёжная штука диктофон — он может выключиться, на нём может закончиться место для записи, он может сломаться, и всё, капут, надо рассказывать всё заново, а я не уверен, что у меня хватило бы на это сил. Мне хочется домой, к своим книгам. Мне хочется покурить и выпить, наконец. У меня дома полпакета дешёвого вина — я думаю о нём с нежностью, оно вернуло бы мне силы и заставило бы сделать хоть что-то.
Да и в туалет давно хочется. Пока что я терплю. Но знаю, что стоит мне подняться, и нужда станет нестерпимой. Я стараюсь не шевелиться.
Пустая комната тоже ничем не выдаёт своей заинтересованности. Кажется, она сжилась со мной. Здесь мало предметов, но они уже принимают меня за своего. Вот в чём она, сила таких учреждений. В том, что они становятся частью тебя раньше, чем ты смог об этом подумать.
И вот наконец долгожданные шаги у дверей.
Щёлкает замок.
«Честно говоря, я про вас и забыл, — смеётся мой государев муж, подбрасывая и ловя ключи. — Столько дел… Ещё и работы подбросили под вечер… понапривозили… этих… не скоро домой пойду. Вот кто их заставляет ходить на все эти шествия… совести у людей нет».
Я молчу. У него хорошее настроение. Наверное, хорошее настроение у человека его профессии — плохой знак. Он садится на край стола и забирает диктофон.
«Выговорились?»
«Не знаю».
«А кто знает? Ладно, не волнуйтесь, уже не важно. Вообще-то, я вот что пришёл сказать. Вы свободны. Можете спокойно идти домой. У нас к вам вопросов больше нет».
«Как это нет?» — говорю я и понимаю, что мне как можно скорее надо найти уборную.
«Нет. Не-ту, — пожимает он плечами. — Всё в порядке, закон вы не нарушали, а если какой-то и нарушили, то не тот, который в нашей компетенции. Вскроются новые факты — вызовем. Хотя какие тут факты. Всё ясно, всё как на ладони. Интересное, конечно, дело на фоне остальных, необычное, с особенностями… Но мы разобрались».
Я не ухожу. Сижу и смотрю на него, как будто это я здесь главный.
«Олег Олегович!»
Я дрожу. Я не знаю, что мне сказать.
«Олег Олегович, идите, вы свободны!»
Я глотаю слюну. Я с утра ничего не ел, во рту кисло, я хочу помочиться, но не ухожу.
«Хотите ещё что-то услышать? — удивляется он. — Ну ладно. Могу в двух словах поделиться. Кашкан во всём призналась, рассказала, как было дело. Как она придумала какой-то тайный язык, балбутто… От слова «болтать», конечно. Она с Козловичем на нём переписывалась. Детский сад! А потом задурила головы вам и Бундасу, а больше всех этому, Козловичу Денису. Который в неё тоже влюбился, дурак молодой. Приставал, проходу не давал. А она с ним покрутила, а потом дала ему от ворот поворот. Парень от любви несчастной из окна и выбросился. А перед этим ножиком на коже у себя стишки написал какие-то. На этом их тайном языке. Хотите знать, что он написал? Кашкан нам перевела. Что-то вроде: мы лёгкие, как бумажки, падаем в пропасть и орём. Это он ей написал, на балбутто этом ихнем. У него психический срыв случился, бывает. В таком возрасте гормоны ещё как шалят…»
Он подошёл к двери, нетерпеливо гремя ключами.
«А вам, Олег Олегович, советую: вы поосторожней с этими малолетками. Сами должны понимать, с ними свяжешься, можно под статью загреметь. Я-то вас понимаю в чём-то…»
Он понизил голос и заговорщицки улыбнулся.
«А вот у нас здесь не поймут… Вы уже немолодой человек, старше меня. Пора б уже успокоиться. Вы женаты?»
«В разводе», — сказал я и выбежал в коридор. Едва успел добежать до туалета. Государев муж удивлённо смотрел, как я рву дверь не в ту сторону. Больше я его не видел.
В школе мы после такого облегчения говорили, пародируя телевизионную рекламу: «Счастье есть». Застегнув штаны, я посмотрел на себя в грязное зеркало и вышел в коридор. Повсюду кипела работа, где-то кричали, где-то кого-то уговаривали, где-то молчали так жутко, что лучше бы из тех кабинетов слышался крик. Я вышел мимо дежурного на крыльцо и глубоко вдохнул воздух. Закурил и медленно пошёл по улице туда, где были фонари, люди, смех, где шумел город М. Мой город. Я решил дойти пешком до своего дома с мемориальной доской. Мне некуда было спешить.
В кафетерии тускло освещённого гастронома я купил два пирожка с мясом и съел их тут же, возле кассы, вытирая пальцы о край пальто. Повернул на Кнорина к Дому кино и по бульвару Толбухина пошёл в сторону проспекта. Где-то там я впервые сказал Козлику про нашу с ним лёгкость. Процитировал ему Имре фон Штукара — но не сказал, что это цитата. Мне хотелось, чтобы он думал, что это я написал. На бумаге. От руки. Так, как я умею и люблю.
На бульваре было довольно много людей — в городе потеплело, скамейки были заняты молодёжью, примерно возраста Козлика. Я слышал отрывки их разговоров — нет, Козлика на их месте я представить не мог. Козлик был не такой. Эти были тяжёлые, тупые, пригнутые к земле, на которой их угораздило родиться. Они жили по законам её тяготения, слушали её и ступали по ней уверенно, зная, что она будет их носить ещё долго, пока не устанет. А Козлик был как слово, написанное на бумаге. Они исчезнут, а Козлик останется.
Ко мне вдруг подбежала собака. Высокая, стройная охотничья собака в блестящем ошейнике. Я инстинктивно отшатнулся, схватившись за край скамейки. А хозяйка уже бежала мне навстречу.
«Карлотта! — крикнула она. — Фу! Фу! Ко мне!»
Я присел на лавочку и закурил. Сука тыкалась мне в колени острой мордой, оглядывалась на хозяйку, но не спешила оставить меня в покое. Я посмотрел в собачьи глаза, мне было интересно, можно ли увидеть в них что-то, что свидетельствовало бы о естественной потребности собаки подчиняться человеку. Но я так и не смог ничего в них прочитать. Словно это была книга на совершенно другом языке.
Хозяйка подошла, вертя в руках поводок, надела его на послушную, тонкую собачью шею.
«Извините, — бросила она, облизав губы. — Убежала. И как только умудрилась? Шею вытянула, вырвалась и убежала. Но она не укусит. Тем более вы ей, смотрю, понравились».
«Красивая собака», — сказал я.
Но кажется, ей было наплевать, что я думаю о её породистой сучке. Ничего не случилось — и хорошо. Не сказав больше ни слова, она потянула собаку в темноту, а я посмотрел на свои руки, на их кожу, на которой кудрявились седые волоски, и подумал, что у меня осталась его книга — книга со стихами и картинками: что ещё нужно такому человеку, как я. Может, он сам нарисовал все картинки, этот Козлик. И написал все эти стихи. А я бился… Бился головой о бумагу… Мучился. Ну и что. Главное, что я на свободе. Жив. И у меня есть свой тайный язык.
А ещё я подумал о том, что заслужил сегодня немного жалости и сочувствия от тех, кто меня любит. Немного жалости, сочувствия и ласки.
Должен же в этом городе хоть кто-то меня любить.
Legoing klinkutima / Легче бумаги
Für Imre von Stukar
Akkou klinkuta Deu natuzu Tau Tajnobalbutika da ujma sau onoje, Skutoje dutributima da broje Dinagramutima, sau neokuz nekau — O bu tau kvaj legoje da samoje Da u sprugutima tau bu pavuzu, mau Komutko noje. Klinkutima legoing, Tau ufjutima akkou. Danuo kvaj da bif aluzu Neistuta. Dukoju da rukoju tau stogou Kalau tau bu legoje kvaj balbuta. Da bu sprugutima skamuta tau okuzu, Minutima o jaf bu tau takuzu: Psautima grimuta da kraputa Strilonatutima, sau Bim primuzu tau.Легче бумаги
Имре фон Штукару
Как та бумага, На которой ты Стихи строчить привык, подсчитывать убытки И в перерывах тайный свой дневник Вести, Однажды в неизбежность пустоты Ты полетишь, не сняв с лица улыбки, Приятель милый мой. Пора туда уйти, Бумаги легче, Лёгким, как дыханье. Как слово то, что написалось втайне От всех, кто за спиной твоей стоял. Завидую, ведь ты увидишь бездну, И упадёшь, свободный, не спеша. Ты верил только в то, что бесполезно, В собачий лай и в скрип карандаша.II. Гуси, люди, лебеди
«Где-то в топи болот погребён остывающий гром…»
1.
Святой Покров накрыл землю жёлтым листом,
молодым снежком, воду льдом, пчелу мёдом.
Рыбу чешуёй, дерево корой, птицу пером, девку чепцом.
Стога покрыл, первый стожок драничками,
второй стожок полосками,
третий стожок белым снегом.
На Покров младшего Космача, их соседа, забирали в москали. По такому случаю поставили столы прямо в саду, благо день был погожий, а на столы выставили всё, что могли. А могли Космачи по самое не могу — ведь старый Космач был, как говорится, вытиран, поэтому полагались ему и зельице крамное, и сервелат, и грушевые карамельки, и мороженое. Вчера Космачи засмолили кого-то у себя во дворе, а кого конкретно, никто особо не разбирался — не такие здесь жили люди, чтобы на чужое рты разевать. Позвали — придём, а мимо идти сказали — тоже не осудим. Кому сейчас легко? А в лесу много разной живности бродит…
День и правда был погожий, солнечный, хотя иногда и налетал на накрытые столы первый ветерок, чужой, злой, как из пустого погреба. Ничего не скажешь, всех Космачи позвали, никого не забыли: в первую очередь, ясно дело, солтыса, а с ним и полицая, и поп тут сидел, и зам по идеологии, но с элитой этой и так все понятно, куда без них. Так они даже дурачка местного за стол посадили, Каковского. Тот сразу же напился — и когда только успел — да завел жалостливым голосом своё, неизменное:
«Людзи! Людзи! Изьвинице меня, люди, радные маи, но атвецьце: какой сичас год?»
С ним всегда так: сидит, улыбается, бабам ручки целует, кивает многозначительно, а потом будто наваждение на человека находит: вскидывается, словно только что проснулся, хватается за голову, что аж пальцы белеют, и обводит всех страшными глазами:
«Людзи! Людзи! Какой год на дварэ?»
Все от смеха аж кладутся, но ведь не от злого смеха, такого, что из гортани идёт, а от хорошего, такого, что из живота. Какой-год, какой-год — видать, поэтому и назвали его так: Каковский. Никто не знал, откуда тот Каковский взялся, полицай его однажды в лесу нашёл и отдал кому следует, а через два дня Каковского назад привезли и поселили в доме умершего Игната — так и живёт здесь у них Каковский уже, может, года три, а может, и пять. Жалеют у них Каковского: посмеются, посмеются, а потом уж вздыхают сочувственно и берутся беднягу успокаивать. Вот и сейчас за столом у Космачей насмеялись вволю, слишком уж убогий у Каковского был вид, как у пьяного, который Страшный суд проспал, — а после врачиха и говорит ему, вздохнув и глотнув ликера:
«Дзве тысячы сорок дзевяты, пан Каковский, дзве тысячы сорок дзевяты».
Это все знают, у каждого дома интернет есть и календарь на стене висит. Каковский стонет, пялит на всех глаза, кричит немым голосом и падает пятой точкой прямо в траву.
«Как жэ эта получылась? Ашыбка, ашыбка…» — бормочет он, обводя невидящими глазами этот их небольшой, неброский мир: дома, лица, усталые деревья, смоченное ваткой облаков небо, близкое, вытянутое в нитку перспективы, вдетое на концах в иголки длинных проволочных оград.
«А гдзе я, людзи? Гдзе я нахажусь?» — хрипит Каковский, хватая за руки того, кто ближе всех. Но его уже не слушают, насмеялись вдоволь, хватит уже, разве только зам по идеологии скажет задумчиво:
«Какой год, какой год… Нет чтобы месяц какой спросить. Или хотя бы день недели. Чудак человек…»
И все важно достают из карманов мобильные телефоны, кладут на стол: вот тебе и время, и день, и год, и даже сфотографироваться можно. Например, с младшим Космачом: тот сидит во главе стола, лысый, мрачный, на людей не смотрит, только на Любку, невесту свою, да так смотрит, будто сейчас съест.
«Ну что ты всё на неё смотрыш, — не выдерживает солтыс. — Дзевка шчас в гамбургер прэврацицца от стыда. Даждзёцца она тебя, даждзёцца — сам пасматры, ну каго тут ещё дажыдацца?»
И правда: кого?
Не его же, Молчуна. Молчуну ещё только пятнадцатый год пошёл. А кроме него в деревне только семеро мужчин остаётся: старый Космач, да староста, да солтыс, да поп, да Молчунов татка, да учитель, да пан Каковский. Все остальные — бабы, даже зам по идеологии.
Если честно, Молчун очень завидовал младшему Космачу. Хотя чему там завидовать: ума ни грамма, одни кулаки и любимое слово «насёр». Что ни скажи младшему Космачу, он на всё отвечает «А я с дуба насёр». Иногда Молчун задавал себе вопрос: как же Космач с Любкой разговаривает, когда они тискаются? Она ему: ой, Касмачык, какой же ты дууужы, какой ты харооошы, а он ей отвечает ласково: а я с дуба насёр. Как она его терпит? Как они вообще всё это терпят? Почему не воют от ужаса и клаустрофобии? В курятнике у Молчуна есть тайник, а там бумажки с рисунками, Молчун их там всех нарисовал, всех: солтыса — как вредного жука, попа — в виде старого чёрного шкафа, полицая — грибом сухим несъедобным изобразил, зам у него на гроб похожим получился, а меньший Космач — точь-в-точь как коровий блин вышел…
Космач заметил, что Молчун тайком рассматривает его, и нахмурился, сжал кулачищи. Неужели ревнует? Да нужна мне твоя Любка…
И правда, чему здесь завидовать? Но Молчун завидовал — жгуче, чуть ли не до слёз. Не потому, что у Любки с младшим Космачом такая любовь. А потому, что…
Ясно почему.
Завтра за Космачом приедет военная машина, запрыгнет Космач в кузов, махнув кедами, — и повезёт его та машина далеко-далеко, туда, куда никому из них нельзя. Космач увидит мир, а мир узнает, что есть такой Космач, и, каким бы тот Космач ни был, он будет занимать собой пространство, то тут, то там, в местах, которые Молчуну и не снились, и узнает Космач такие вещи, о которых Молчун даже не догадывается. А самое обидное, что Космач своими глазами увидит то, о чём им в школе рассказывают — но рассказывают как-то неохотно, словно сам учитель не очень верит в то, чему их учит. Будто это сказка такая про белого бычка: что есть где-то другие страны, да большие города, да высокие горы, да бескрайние степи. Конечно, в интернете кое-что почитать можно — но и там информации мало, так мало, что Молчуну только и остаётся, что додумывать, фантазировать и мечтать…
А додумывать он умеет.
Ну вот завидует он младшему Космачу. Хотя ясно, что Космачик этот туповатый, скорее всего, и не вернётся больше в их деревню. Это раньше ветераны возвращались — с медалями, с загаром боевым, в шинелях казённых, кто без руки, кто без ноги. А теперь кто в москали пошел — пиши пропало. Ни один ещё из старших ребят, отслужив, домой не вернулся. Можно только догадываться, что с ними стало там, за тысячу километров, — может, стрела татаро-монгольская сразила в стороне чужой, или женили на казачке какой чернобровой и на рубеже далёком оставили, чтобы стерёг Родину до последнего вздоха. И спросить некого — запрещено им на такие темы разговаривать.
Молчуну в москали ещё, конечно, рано идти. Да видно, и не возьмут его — отец у него однорукий, а мамы нет. Пошла как-то давно мама в лес и не вернулась. Что с ней стало — никто до сих пор не знает. Как мама пропала, так отец ходил к начальству, но и так было ясно, что никто маму искать не будет. Сама виновата, сказал староста с важным видом, лес у нас стратегический, а по стратегическому лесу ходить можно только до определённой границы, а дальше уж под свою ответственность. Эх, вышла мама, видать, за ту границу определённую, не заметила знаков — ну так кто ж её туда гнал. Никто.
«Сочувствую твоему горю, Молчан, но ничем помочь не могу, — говорил староста, пока жёнка его гусочку в курятник загоняла. — Думай, будешь сына один растить или к девушке какой посватаешься? Я бы второй вариант выбрал. Ну, и вообще: во всём надо искать свои плюсы и минусы. Жаль твою Надю, но зато на сынка твоего, Молчуна, насколько я понимаю, рекрутский набор теперь не распространяется. Имеешь право сейчас на открепление для сына, все понимают, отец инвалид, мать пропала, таких служить берут только в военное время, а наша русская Родина сейчас ни с кем военных оборонительных действий не ведёт. Так что хоть сын при тебе останется. Космачу-то не повезло, ещё пара лет — и аты-баты…»
Подлец тот староста, взятку у отца взял, отец ему целую гусочку белую занёс, чтобы тот разобрался, целую гусочку белую — и за что? За то, что отбрехался от них начальник. Ничем не помог. Молчуну тогда лет десять было, стоял он рядом с отцом во дворе солтысова дома, смотрел на хозяина и видел перед собой жука. Хитрого жадного жука, который всегда, чуть что, крылья раскроет — и вот он уже ни при чём. Про стратегический лес и про то, что под свою ответственность, они и так знали. И о том, что Молчуна в москали теперь могут и не взять. Об этом в интернете написано, там раздел такой есть, где все законы посмотреть можно. Правда, туда редко кто забирается, там сам чёрт ногу сломит, таким уж языком написано, как будто по-иностранному.
Разговор этот происходил лет пять назад — а теперь вот забирают младшего Космача в москали, а он, Молчун, остаётся и не знает, радоваться ему или от тоски помирать.
То обида накатит: пусть бы его забрали, пусть бы сказали, что жить ему, Молчуну, меньше года остаётся, — зато увидел бы он дальние края, и степи, и пустыни, и большие города. И может, над землёй бы пролетел на военном самолёте, одном из тех, что над ними иногда гудят, — самих этих птах железных не видно, только гул в небе такой, словно сейчас небосвод обрушится, — в такие моменты разыгрывается у Молчуна фантазия, да так, что аж сердце заходится в груди. Всё бы отдал, лишь бы на землю сверху посмотреть: и на отца, и на книжку любимую, и на серую свою любимую гусочку, и на деревню их маленькую, незаметную, но всё же родную…
То радость, душная, злая радость навалится: заберут Космача, перестанет он к Молчуну лезть и учить его уму-разуму, останется Молчун старшим в деревне из всей молодёжи, никто теперь его от мыслей и от книжек отвлекать не будет и подозрительно в глаза заглядывать: что ты там всё думаешь, а, Молчун, темная твоя душа, пойдём лучше на кулачках биться… Достал уже Космач со своими кулачками, мозгов ноль, одни ручищи, которыми он каждый раз Молчуна к земле припирает и вопит: «Победа! Опять я с дуба на тебя насёр, Молчунок! Малой ты ещё, куды тебе против Космачика!»
Сидя за столом возле отца, Молчун поглядывал на младшего Космача. Ну на что ему сдались те далёкие страны, куда ему те рубежи нашей необъятной русской Родины? Такой, как Космач, ничем, кроме своих кулаков, не интересуется. Да он ничего и не запомнит из того, что увидит, ничего не зацепит глазом и ничего не поймёт. Вот он, Молчун, к каждому столбу, к каждому лицу присматривался бы, каждое словечко ловил бы, в каждый голос вслушался бы до самого его нутра — и, может, получил бы ответы на все свои вопросы. А вопросы его давно мучили — с тех пор, как он читать научился.
«Предлагаю поднять бокалы за нашего новобранца, — сказал захмелевший уже староста. — Чтоб служил не на страх, а на совесть. Чтобы никому в наших Белых Росах за него стыдно не было, ни отцу дорогому, ни нам, его односельчанам».
Все одобрительно загалдели, налили, поднялись. Космач будто и не понимал, в чём дело — просто радовался, дурак, что все за него сегодня пьют, как за героя. Поднялся, проглотил магазинную водку, скулы заходили злобно и хищно, как у отца.
Белые Росы — так их деревня называлась на всех картах. Когда-то она другое название имела, но потом русская Родина воссоединилась и из губернии пришёл приказ на переименование, в духе патриотизма. Полицай Молчуну рассказывал, что по всей губернии тех Белых Рос — штук двадцать, и у их деревни свой код имеется: 13. А ещё в школе им учитель говорил, что сто лет назад фильм такой был популярный — «Белые Росы». Так освободителям фильм так понравился, что они много разных деревень в честь той кинокартины легендарной переименовали. Мол, так и должны деревни на западных рубежах называться. А как их тридцать домов раньше называли, никто уже и не помнил. То есть, может, и помнил, но говорить об этом неприлично стало. Недостойно русского человека. Так или иначе, Белые Росы — это было красиво, а некрасивые названия зачем в памяти держать? Так их в школе учили, и Молчун в принципе был не против. Белые так белые. Но чтобы кто-то всё же вспомнил старое название — тоже большой беды не было бы. Интересно же, как раньше в их деревне люди жили. О чём думали, о чём говорили, когда кого-нибудь в москали забирали или там, например, свадьбу гуляли. Что их волновало в те времена, когда ни интернета ещё не существовало, ни мобильной связи.
«Наверное, пошлют тебя, парень, на Южную границу, — сказал староста, но не к Космачу младшему обращаясь, а к мужикам да к заму по идеологии. — Я даже уверен, что на Южную».
«Почему же сразу на Южную?» — спросил плутоватый отец Космача, ловко разжёвывая золотыми зубами сало.
«Нет, на Южной сил у нас хватает, — заявил поп. — Видит бог, на Восточную отправят, там неспокойно: новости читали? И это хорошо, что на Восточную, там голодным не останешься, икру ложками есть будет твой Алёша, и с духовной пищей тоже всё в полном порядке, церковь наша православная там сильные позиции имеет. И удаль свою молодецкую будет где проявить».
И поп захихикал добродушно, накладывая себе горячих котлет, которые Космачиха только что торжественно выставила в середине стола.
«А я думаю, на Южную, — процедил солтыс, со всё большим интересом поглядывая на Любку. — Читали про инцындзент в Харбине? Надо показать дикарям, что мы не намерены терпеть их провокации. Ясно как дважды два — сейчас там концентрация войск пойдёт, чтоб кулак наш бронированный был виден, чтоб однозначно всё было, даже для этих, которые за океаном. Для пиндосов».
«На какую бы ни послали, мы все в тебя, Алёша, верим, — отпила свой мутный ликёрчик зам по идеологии. — Что не опозоришь честь Белых Рос. Мы все тобой гордимся. В какие бы передряги ты ни попал — не забывай, кто ты и откуда».
Младший Космач не слушал. Сейчас он только на полицая смотрел, так что кости у Космача хрустели, а шея напрягалась так, будто сейчас лопнет. Про Молчуна он уже и забыл. Боится, что завтра заберут его, а полицай к Любке клинья подбивать начнёт. Вот же пустота какая, подумал Молчун. Этого что забирай, что оставь — без разницы, ему б только пожрать, подраться да девок потискать. Ничего не интересно человеку.
Да и вправду, человек ли этот Космач? Иногда Молчуну казалось, что он живёт среди зверей, которые однажды вышли из леса, порычали друг на друга денёк-другой, но потом спохватились и решили, что лучше им притвориться, будто они люди. Чтобы в голодное время уцелеть. Вот мясо, которым стол заставлен, — чьё оно? Какого животного? Никто не спрашивает. Боятся. Никто не спрашивает, не знает и вопросы от себя подальше гонит. Как будто есть в этом застолье, и в этой деревне, и в этом времени, в котором угораздило жить Молчуна, какая-то страшная тайна. Он незаметно оглядел собравшихся за столом, и на душе его снова стало нехорошо. Как же отец этого не видит: что у зама по идеологии губы такие уж кровавые, словно она только что шею кому-то прокусила. Что у старшего Космача из-под гимнастёрки иглы торчат, а все делают вид, что это мужская шерсть. Что младший Космач на дуб похож, а староста на жука, а у полицая не лицо, а морда вытянутая, что у твоей собаки.
А женщины? Каждая на какое-то животное похожа, только успевай подмечать. Космачиха на кобылу, зам — та больше на зайчиху, и глаза такие красные… А вокруг целый лес собрался, принюхивается, глаза горят, нечеловеческие, зелёные, зубы стучат, запах дикий, жуткий: волчицы, кошки… и даже тараканихи…
Молчуна передёрнуло. Захотелось убежать из-за стола, спрятаться, забиться в нору и не вылезать, пока из леса охотники не выйдут и не перестреляют всю эту самонадеянную живность. Но тут отец, у которого кусок мяса на траву с вилки упал, глянул на Молчуна сердито, и такая боль была за этой злостью отцовской, что Молчуну стыдно стало. Подвинулся он ближе к отцу и стал за его вилкой следить — левой отец управлялся не хуже, чем правой, которая неизвестно каким собакам на корм пошла, но дрожала левая, дрожала, и надо было не мух ловить, а смотреть, чтобы отцовскую честь за столом ненароком не задело…
Только гусочки в Белых Росах такие, что с ними не страшно. Любит Молчун гусочек, глаза у них человеческие, а перья такие приятные, что чувствует Молчун с ними какое-то родство. Особенно с той, серой, которая его ждёт. Гусочки — не куры, куры глупые, а гусочка — благородное существо, с гусочкой никогда скучно не бывает…
Молчун взглянул на отца, протянул руку, поправил, чтобы кусок свежатины с вилки не свалился. В татке его тоже что-то неестественное было — лицо зеленоватое, словно чешуёй покрытое, будто отца из болота извлекли, высушили и за стол посадили. Совсем они с отцом не похожи. Как-то Космач даже намекал, говнюк, что отец Молчуна и не отец ему совсем, — такая драка была, что полицай их разнимать пришёл. Космач ему тогда зуб выбил, но и Молчун не остался в долгу: так в глаз Космачу звериный заехал, что у того слёзы полились. Стоял Космач тогда, рыдал и ничего с собой поделать не мог. Вот тебе и с дуба насёр. Победа…
«Люди! Люди! — залепетал вдруг пан Каковски, поднимаясь с травы. Проспался, видно. — Люди, родные мои, извините, но скажите мне: какой сейчас год?»
Младший Космач заржал.
«Опять за своё, — покачал головой солтыс. — Больной человек. И откуда он только взялся на наши головы?»
«Билядь, — выругался староста, и это была хорошая примета того, что он уже в кондиции. — Уберите его уже, праздник испортит».
«Да ладно, — отозвался поп. — Блаженный он. Никому вреда нет, а глядя на него, каждому есть над чем задуматься. Над проблемами бытия».
«Билядь», — повторил солтыс. Молчун знал, что тот служил на Южной границе. Оттуда и привёз это «билядь». Никто в Белых Росах так это слово не произносил. Так чурки ругаются, рассказал как-то отец. Не могут «бе» да «ля» связать, обязательно нужно им «и» вставить. Дикий народ. Такие зарежут и глазом не моргнут. Чтобы таких держать в повиновении, и шлют в пустыню со всех концов империи Космачей и других защитников Родины.
«А вот кто у нас сказать может, что за города на Южной границе? — весело спросил Космач-старший, чтобы переменить тему. — Давайте викторину проведём! Ну, кто? Ставлю стакан моего выдержанного!»
«Да куда им, — бросил полицай. — У всех интернет, а никто географией Родины не поинтересуется».
«А учитель на что? — сказала возмущённо зам по идеологии. — Что у нас, школы нет?»
Учитель, занятый свежиной, не сразу понял, чего от него хотят, а сообразив, вытер блестящие губы и на Молчуна показал чёрным ногтем:
«Вот он, лучший наш ученик, все города знает. Ну-ка, Молчун, давай, покажи, что не зря меньше всех по пальцам получаешь! Какие у нас города на Южной границе?»
Молчуну не хотелось рот раскрывать, но отец посмотрел на него с такой надеждой, что пришлось откашляться и пробурчать:
«Ну, Фрунзе. Ну, Кабул. Ну, Тегеран. Ну, Харбин. Ну, Пень-Яма. Ну…»
«Молодец! — восторженно сказала зам и подняла фужерчик с ликёром. — Отличная наука география, сразу представление даёт про необъятность Родины».
«Пень-Яма — это уже Восточная граница, — мрачно сказал полицай. — Так что промах вышел, Молчунок».
«Не может быть, — запротестовал учитель. — Молчун никогда не ошибается. Сейчас я посмотрю, сейчас проверю… Если ошибся — ой, Молчун, получишь ты завтра прута…»
Он полез в свой телефон, но, пока лазил, старый Космач снова выпить предложил, на этот раз за вооружённые силы и военно-морской флот, все с радостью ухнули и начали обсуждать, как зимовать будут.
«У меня так всё уже готово, — сказал старик Космач. — А кто, как та стрекоза, лето красное в пропеллер…»
И посмотрел выразительно на отца Молчуна.
«…то мы не виноваты, — улыбнулся Космач. — Но ведь мы здесь, в Белых Росах, один за всех и все за одного. Поэтому поможем, чем можем, а если не сможем, куда надо доложим».
И захохотал, как он умел. По-лесному, ужасно, как будто на дереве сидел, а не за столом.
«Прав Молчун! — радостно выкрикнул учитель. — Прав оказался! Восточная граница уже за Пень-Ямой начинается! А Пень-Яма — юх! Юх! Юх!»
И это «юх-юх» тоже прозвучало, будто какая-то свинья в телефоне поколупалась, а не учитель народной школы. Молчуну страшно стало, но он виду не подал, только усмехнулся криво.
«Ну что делать… — осклабился старый Космач и повернулся к его отцу. — Ставлю твоему парню стакан своей, выдержанной!»
«Спаивание несовершеннолетних», — равнодушно сказал солтыс и рыгнул.
«Вот же дилемма, — притворно опечалился Космач. — Ну тогда отцу ставлю, пусть сыном гордится. Географом нашим!»
«Кому в географы, а кому в солдаты, — серьёзно произнёс староста. — За рядового Космача, защитника Родины!»
Все выпили. Молчун видел, что сейчас начнутся песни. И правда. Завела, как всегда, зам по идеологии, староста подхватил, а тогда уже и другие затянули загадочные слова, которые в Белых Росах знали все, — и начало в песне было понятное, а дальше… дальше никто не мог объяснить, что значат странные названия, от которых так горько делалось на языке:
«Давай за нас, на-на-на-на-на-на, Давай за газ, на-на-на-на-на-на, И за Бомбей и за Мадрас, За Лхасу и за Гондурас, Давай за нас, за девок в Тхимпху, Давай за нас, пусть всё идёт наху…»Допев, все осоловело уставились в стол. Не тот был сегодня праздник. Не тот. Две песни любили в Белых Росах — и эту затягивали тогда, когда на душе у жителей деревни было темно и как будто какая-то тоска грызла их изнутри. Молчун подождал немного — может, что-то изменится, может быть, всё же затянут его любимую, которую пели тогда, когда действительно радовались и чувствовали себя людьми. Вот эту:
«Не вешать нос, айда, Марины! Дурна ли жизнь иль хороша!»Обычно зам солировала — да таким тонким голосом, что казалось, у неё внутри что-то лопнет. Но никто даже не вспомнил, что есть такая песня. Приуныли взрослые, начали вилками по столу скрести. Зловещий был звук. Кра… кра… Что-то бормотал, лёжа ничком в траве, пан Каковский. Молчун незаметно сполз с доски, на которой они сидели все в ряд, как на заседании, хорошей доски, строганой, гладкой, как грудь у Космача, — у мужиков их породы только на спине росло, мохнатилось, а грудь голая, чистая, как у баб. Сполз и тихо, как птица малая, за забор пролез, а там углами, углами, да по загуменью домой.
А там, конечно, сразу к гусочке своей серой. Обнял её, схватил осторожно за шею, в глаза ей посмотрел — и гусочка ответила ему таким взглядом, что хорошо и легко стало Молчуну, словно у него зубы болели и наконец попустило.
«Не вешать нос», — прошептал он и поцеловал гусочку в красивую шею.
Гусочка открыла клюв — словно что-то ответить хотела. Успокоить его, утешить после всех этих испытаний. Тёплая была гусочка, Молчун прижал её к земле, которая уже остывать начала, и сам к ней прижался.
«Давай я тебе расскажу… — зашептал он в полутьме курятника. — Ты же любишь, когда я тебе эту историю рассказываю. Так вот, в одной стране, на Севере, куда летает Эйр-Болтик, рос когда-то в одной деревне мальчик, а звали его Нильс, Нильс Хольгерсон. То есть Нильс, сын Хольгера, такое у его отца было имя… Но все звали того парня просто — Молчун. Очень уж он не любил говорить. А что любил? Любил книжки читать. А ещё любил одну серую гусочку. А больше никого…»
2.
Назавтра Молчун проснулся рано — и сразу же соскочил с кровати и пулей за дверь. Даже умываться не стал. Очень хотелось ему посмотреть, как Космача в москали забирают.
Побежал на другой конец деревни, туда, где у дороги слепая Тэкля жила, и ещё издали увидел военную машину. Народу собралось немного, не то что вчера — старый Космач, да Космачиха, да Любка, да полицай, да он сам — ну, и дочь слепой Тэкли Гэнька за забором торчала, следила своим кривым глазом, что происходит. Молчун стал поодаль, чувствуя, что он здесь, вообще-то, лишний. Но никто на него внимания не обращал. Младший Космач, лысый, с отливающим утренней синью лицом, Молчуна не заметил, смотрел прямо перед собой, весь важный такой, как государственный преступник. Ну и хрен с тобой, балда, подумал Молчун, нужен ты мне, придурок, я не на тебя посмотреть пришел. А на кого?
Ясно, на кого. Молчун с каким-то радостным ужасом пожирал глазами тяжёлую тупоносую машину, колёса которой, даром что все лесные дороги объездили, ещё не стрясли с себя пыль далёких городов, засекреченных объектов, прямых, как стрела, бетонок… Это была машина, которая уже совсем скоро двинется далеко-далеко, за ихний Стратегический лес, аж туда, где Западная граница идет, туда, где Молчуну, может, ни разу за всю его жизнь побывать не придётся. Из кабины выскочил комиссар, нетерпеливо проверил Космачёву повестку и показал властным движением ладони, чтоб не затягивали особо прощание. В кузове сидели такие же лысые парни возраста Космача, безразличные, опухшие, с большими ушами. Похожие на кроличьи тушки. Видно, вчера не только их тринадцатые Белые Росы своих космачей в москали проводили. Но и четырнадцатые, пятнадцатые и дальше по списку.
Но что на этих дебилов смотреть, космачи повсюду на одно лицо.
Вот комиссар — это другое дело.
Молчун с уважением разглядывал его зелёную форму, золотого орла с двумя головами, горделиво восседающего на фуражке и глядящего сразу в две стороны — словно орёл этот следил, нет ли в Белых Росах засады. Вот-вот каркнет эта птица настороженно и ударит комиссара просто по лбу: опасность, товарищ капитан, подозрительные объекты слева и справа! Выхватит тогда военком пушку и двумя выстрелами: бах, бах, опасность слева ликвидирована, опасность справа уничтожена. Молчуну вдруг привиделось, как Гэнька складывается пополам и падает мордой в огород, а с другой стороны улицы меткий выстрел снимает с забора сонного петуха. Комиссар прячет ствол. Да, этот может… Военный комиссар есть военный комиссар. Не промахнётся. Молчун на всякий случай протёр глаза: нет, показалось… Все пока что живы: Гэнька, рот разинув, на машину уставилась, и петух цел, и Космач, и Любка от утреннего холода голову в плечи вжимает.
Показалось.
Из-за машины вышли двое солдат, стали за спиной у Космачика.
«Ну всё, поехали», — добродушно проворчал военком, закуривая новую сигарету.
Космач обнял мать, отца, ухмыльнулся с каким-то совсем уж тупым видом. Подошла Любка, робко, с интересом поглядывая на молодых солдат.
«Пока, Космачик», — сказала, оглядываясь, а в глазах смех.
«Береги себя, сыночек!» — воскликнула старая Космачиха и отвернулась.
Полицай стоял, опустив голову в мобильник, — в тетрис играл.
«Скажи ему, что дождёшься», — сурово бросил Любке старый Космач.
«Дождуся», — скривилась Любка. И почему-то на Молчуна оглянулась с улыбкой — и тот нервно вздрогнул. Оправдываясь, повёл плечами невольно: а я тут при чём?
«Ну всё, всё, кончайте, кому сказал!» — прикрикнул военком.
«Да я с дуба насёр! — взревел вдруг молодой Космач. — На всех на вас! С дуба! И поеду, и больше не увидите вы меня, росы-хуесосы!»
Он оттолкнул солдат, ухватился за кузов и залез к другим рекрутам, которые встретили его невесёлым смехом. Мелькнули подошвы его белых бобруйских кедов. Полицай поднял голову. Космачиха зашлась в плаче. Любка, ковыряясь в носу, не мигая смотрела, как наверху раздвигаются спины, пропуская новобранца.
Военком удовлетворённо цокнул, бросил окурок под свои высокие офицерские сапоги. Солдаты вскочили в кузов и с грохотом захлопнули его, сразу превратившись из обычных парней в существ с другой планеты, мощных, беспощадных, с прорезями вместо глаз. На кокарде вспыхнули золотые орлы. Военком развалился в кабине. Машина загудела мощно, властно, не по-деревенски, и поползла к лесу.
Молчун ждал, пока все разойдутся: Космачи, ёж, кобыла… Сел на мотоцикл полицай — и укатил, скрипучий и дрындычливый, как бензопила… исчезла где-то во дворе Гэнька… петух прокричал, что скоро в школу, и пошёл в свой гарем…
«А ты чего стоишь? — Любка подошла к Молчуну. — В школу опоздаешь, Молчунок».
Молчун ничего не сказал, отвернулся, чтобы носом ненароком Любкин запах не втянуть. Пахла Любка резко, не то чтобы противно, нет; скорее, от неё интересно так пахло, необычно, один раз вдохнёшь, потом весь день её запах с собой носишь. Молчун это хорошо запомнил, не хотелось ему мучиться с этим странным запахом, вот он и молчал, молчал и сопел себе, стоя у гнилого Тэклиного забора.
«Ну что ты всё молчишь? — Любка обошла его, чтобы в глаза ему заглянуть. — Сказал бы хоть пару слов хороших. Меня сегодня поддержать нужно, обнять, по-дружески…»
Молчун сжал зубы и сам весь сжался, затаив дыхание. Он бы и сердце остановил, да нельзя. А оно словно услышало, застучало сильнее. Любка не выдержала, накинулась:
«Ну что ты как больной! Рад, видно, что Космачика забрали. Вздохнёшь спокойно. Да, Молчунок? Стыдно, а? Друга твоего в москали угнали, а ты тут отсидишься. Эх, Молчунок… Ну ладно, ладно, колода ты, а не мужик, ну и стой здесь, стой, дурачок, думай про своих гусей…»
И Любка прыснула презрительно и пошла по деревне, крутя задницей. Молчун подождал, пока она за поворотом исчезнет, он-то знал, что Любка не оглянется. Сам украдкой осмотрелся, бросился на середину улицы, туда, где недавно машина военная стояла, наклонился. Солнце ему помогло, оно как раз над Белыми Росами проснулось, улыбнулось с высоты — в подмёрзшей дорожной грязи сверкнули золотые полоски. Окурки, который комиссар выбросил. Молчун молниеносно поднял один, развернулся, схватил второй и зашагал по улице, осторожно держа окурки в кулаке, чтоб не заметил кто, — и, только повернув к своему дому, присел под яблоней, раскрыл ладонь, впился глазами в свою добычу.
Окурки были короткие, как гильзы, чёрные, примятые на обожжённых концах, и каждый заканчивался золотым фильтром, прикушенным да наслюненным — да не кем-то там, а нездешним, крепким, военным человеком. Молчун поднёс окурки близко-близко к своим вдруг ставшим почему-то мокрыми глазам, глубоко втянул в себя запах — такой пронзительный и такой тонкий… Не было в Белых Росах ничего подобного, никогда он ещё не встречал вещицы с таким удивительным ароматом. Он попытался запомнить этот запах — для этого пришлось напрячь все волоски в носу, но у него получилось, и он счастливо усмехнулся. Закрыл глаза, представил себе, как военная машина на шоссе выбирается и в ней покачивается Космач, обсирая всех со своего вечного низкорослого дуба… Представил да размечтался Молчун, как он на Космачёвом месте сидел бы и так же покачивался, и было бы ему страшно и сладко одновременно. Только он, Молчун, не торчал бы, как картофелина в борозде, и не повторял бы разную херню. Он бы всё вокруг примечал, мимо чего их машина мчала, каждую мелочь в себя поместил бы, навсегда, и всему постарался бы найти имя — а не нашёл, так придумал бы.
Мечты растворились, как тучи в небе, Молчун вздохнул и начал деловито и спокойно рассматривать свои сокровища.
Сигареты у капитана были чёрные, как ряса у попа, — а фильтры золотые. А на тех золотых фильтрах — вот же чудо! — такие же орлы сидели, как на кокарде офицерской. И внизу маленькими черными буквами выведено:
SOBRANIE
Black Russian.
Молчун знал, конечно, что птица эта, орёл двуглавый — не просто птица, а государственный герб. Но одно дело, когда ты его в книжке видишь или в школе на стенке в сенях. А совсем другое, когда кто-то этот го-су-дар-ствен-ный герб ко рту подносит и целует. Кому попало такое не разрешено. А вот военком может го-су-дар-ствен-ный герб целовать. И было в этом что-то ну такое… такое… такое уж символическое: вояка таким поцелуем как бы говорил всем, что жизнь отдаст за матушку Россию, словно он, когда курил, тот флаг целовал, под которым его герои-однополчане смертью храбрых пали. Молчуну тоже вдруг захотелось герб на фильтре поцеловать, он даже окурок к губам поднёс, и тут солнце зашло, потянуло откуда-то из леса совсем уж зимним холодом, и показалось Молчуну, что тот военком с неба за ним следит. Спрятал Молчун окурки в переплёт любимой своей книги про Нильса Хольгерсона и пошёл в школу собираться.
В школьных сенях мобилку полагалось сдать. Согласно постановлению министра народного просвещения, подписанному министром западных территорий, — указ висел тут же, на стене, и бумажку эту венчали те самые птичьи головы, в разные стороны повёрнутые. Молчун отключил телефон и положил в корзину. Он против постановления ничего не имел — в школу он ходил одержимый одним желанием: выучиться всему, чему только можно. А если постоянно в интернет лазить, то и тот мизер, что учитель даёт, запросто можно мимо ушей пропустить. Учиться он любил. А вот одноклассницы его оставляли в сенях свои пёстрые мобилки так, словно котят топили. Чуть ли не со слезами. Вот что значит интернет-зависимость.
Да и что там читать, в том интернете. Заходишь, а там пять разделов. Новости, законы, криминал, спорт и культура. Внутри культуры — любимая рубрика белоросиц: «Магия и красота». Обновляется раз в месяц. Оно, конечно, интересно, что там в столице, в Москве, нового, но… Молчун никому об этом не говорил, но как-то его посетила такая мысль: если в Москве кого-то месяц назад взорвали, это, конечно, событие. Но только на секунду. Бах — и всё. Через секунду — одно мгновение всего! — никакая это уже не новость, а самая что ни на есть старость. Не может быть такого, чтобы в Москве новости тоже только раз в месяц обновляли. Там, наверное, раз в неделю это делают. А может, и вообще раз в день. Ну, Москва есть Москва, столица, ей положено свои привилегии иметь. И всё же такие мысли наводили Молчуна на какие-то очень уж опасные выводы. Только дурак не додумался бы после таких рассуждений, что интернет бывает разный. У них, в Белых Росах, интернет один. На Южной границе другой. А в Москве третий. От таких рискованных мыслей можно было и дальше пойти — и до того доскрипеть извилинами, что интернет вообще у всех свой. И у них в Белых Росах — не самый лучший.
Знал бы полицай ихний, что в голове у Молчуна делается — не сидел бы Молчун уже в школе за партой. А где сидел бы, и подумать страшно.
«А ты не думай», — будто говорил кто-то над самым ухом.
Попробуй бросить это дело. До добра оно не доводит. Молчи себе. И про серую гусочку вспоминай, когда тебе совсем плохо.
В ней, в твоей гусочке, великий смысл заложен. А может, и вообще разгадка.
И Молчун послушно вспоминал про гусочку — и теплело у него на душе, как будто по голове кто погладил.
Первым уроком у них была сегодня родная речь. Молчун вошел, сел на своё место возле печки, обвёл глазами класс. Одни девки. Забрали Космача — так он и правда последний парень в школе остался. Теперь он и учитель — единственные мужики в школе, и это, ясное дело, как-то отразится на их отношениях. Словно подтверждая это, учитель, войдя, подмигнул Молчуну: здорово, мужик.
А может, это ему просто показалось.
Молчуну многое в последнее время просто казалось.
Вот учитель тоже… Молчун его с детства знал. Человек как человек. Не старый ещё. Но чем дальше ходил Молчун в знакомую до каждой щепки, до каждого жука-короеда школу, тем чаще замечал, что учитель их что-то скрывает. А может, и не скрывает, может, сам не подозревает, кто он на самом деле такой… Ну вот и сейчас: повернулся учитель к доске, чтобы мелом на ней тему написать, и в каком-то совсем коротком движении его густых бровей, в какой-то судороге пальцев привиделась вдруг Молчуну странная, насекомая, стригущая ловкость. Нечеловеческая. И так Молчуну противно стало, что он еле комок сглотнул, что к горлу вдруг подступил. А могло ведь и вырвать.
Шумно вышло. Нехорошо вышло. Обидел человека. А что было делать? Тошнить?
«Тебе что, плохо, Молчун? — спросил учитель, развернувшись к нему всем своим чёрным телом, всеми своими лапками-клешнями. — Или ты забыл, как себя вести?»
Молчун виновато опустил голову.
«Нет. Так не пойдёт. Русские люди так себя не ведут».
Учитель подошёл, схватил его за волосы и наклонил к парте. А потом резко ударил по затылку палкой.
«Молчун-писюн», — не выдержала толстая Женька. Сама поднялась, легла пузом на парту, задрала юбку. Жвах, жвах, жвах! Учитель внимательно сосчитал удары.
Потерла попу, села на место бочком.
Молчун рассказал наизусть «Люблю тебя, Петра творенье…», получил пять. Единственный во всей школе. Всё же прав он оказался насчет мужской солидарности. Они с учителем — единственные здесь мужики, среди куриц этих… Кому же, если не Молчуну, соответствовать здесь образу мужчины! Потом писали под диктовку про Петербург, про его дворцы. Потом уже математика была — и снова Молчун решил всё самый первый. Задачу учитель дал им, конечно, хитрую: с дробями, с подвохом, как говорится… Надо было вычислить количество пленных. Но Молчун справился — самый первый. За это его высокоблагородие ему прут доверил, пока до ветру ходил. Что-то часто стал он до ветру ходить, их строгий, но справедливый учитель. Стареет… А как умрёт — кого им пришлют? Может, женщину какую. Пришлую. И тогда кто знает, останется ли Молчун наилучшим учеником. Так что лучше пусть оно всё будет как есть.
Но в том и проблема, что давно уже что-то шло не так. Молчун не знал, что именно, — но в школу его тянуло всё меньше. И всё интереснее ему становилось, что там, за лесом…
А что там? Что там? Молчи и не спрашивай. Мал ты ещё. Жить тебе здесь — здесь и прыгай. В своих родных Белых Родосах.
А хорошее было бы название для деревни…
На перемене, когда все по двору разошлись, к Молчуну подошла Любка и снова своими глазами хитрющими в самую душу полезла, снова запашком своим кислым дразнить начала:
«А где же это друг твой, а, Молчунок? Где твой дружок Космачик? Ещё в ту субботу в это самое время вы с ним забавлялись… Помнишь, Молчунок? Как вы с ним в Голубого пса играли? Точнее, ты в голубого, а он в пса. Как же мы тогда ржали… Ой, не могу. А кто сейчас девушек развлекать будет, а, Молчун? Ну скажи ты хоть слово! Что ты зыришь всё на меня? Тебе что, мамка вместо трусов рот зашила?»
Молчун, конечно, не стал отвечать. Что на такое скажешь? Ушёл от неё подальше, спрятался за школой, чтобы побыть в одиночестве и подумать спокойно.
Там, в темноте, ему всегда хорошо думалось. Вот, скажем, хата, в которой они учились. Та, что школой называется. Сколько Молчун себя помнил, здесь школа была. Но видно, дети здесь учились и раньше. Тогда, когда никакого Молчуна ещё не существовало. Отец здесь учился. И полицай. И сам староста. И зам по идеологии… Нет, эту им из района, кажется, прислали, как и попа. Тэкля слепая в эту школу ходила. В Белых Росах говорили, Тэкля не всегда слепая была. Когда-то в Тэклю все хлопцы были влюблены, но пошла как-то Тэкля в лес и исчезла. Только через две недели вернулась — уже слепая, да седая, да с поломанными пальцами. Кто это рассказывал, Молчун уже и не вспомнит. Может, и никто. Люди так говорят. А люди — это и есть никто. Никто не врёт, и правды никто не говорит, а никто — это ноль, а ноль, как известно, величина математическая. Что было и что будет — можно вычислить, а на слухи опираться и на разговоры — глупое это дело…
Вот вещи — это да. Вещи не врут. За школой столько всякого хлама было навалено, что дай боже. Вот хотя бы плакат, который Молчун однажды откопал в самом низу фанерной кучи. На плакате был белокурый мальчик в синей форме, на шее галстук красный завязан, а за спиной у мальчика доска, а на доске… «Мая Радзiма Беларусь» написано. Что это? Зачем? Куда? Или вот, скажем, другая доска, полусгнившая, Молчун её чуть ли не из-под земли выкопал, вместе с червями и другими ползучими гадами, так они её облепили, что еле выдрал… Заметались, когда он доску из глины и гравия высунул, затревожились… будто было им что скрывать. На доске этой когда-то была надпись, и некоторые слова на ней еще можно было прочесть. «Респ Б лар Министерство обороны. Гн Сре школа». Министерство обороны — ясно, школа — тоже только идиот не допрёт, что это значит. «Респ Б лар» — здесь уже есть над чем попотеть. Ну, республика, ага. Значит, без царя. Но кто же в лесу может без царя? Как это в России их великой — и без царя? Не могло такого быть. Где-то за Западной границей — там ясен пень, но здесь? Без царя-батюшки?
Или вот клочок бумажки, на котором написано большими чёрными буквами: «Настаўнiцкая газета». С ошибкой. Что за буква чёртова такая: ў. Нет такой и не было никогда. Молчун в интернете искал — нет. Настаўнiцкая — типа для наставников, учителей. Что у него, этого учителя древнего, мобилки не было? С бумажки всё читал? У каждого учителя своя бумажка была с новостями, что ли? Эх… Дикие, видать, люди раньше жили в Стратегическом лесу…
Загадочный был тот старый хлам за школой. Таинственное место. На которое — что удивительно — всем в Белых Росах было наплевать.
Но не ему, Молчуну.
Затрясся звонок, Молчун зашёл в класс последним, сел на место. Началась история: Сталинградская битва, немцы против наших, дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… Если по книжке, с которой учитель читал, то выходило, что битва та полторы сотни лет назад была, просто в лесу за их деревней. А учитель так руками махал, будто только вчера наши немцев из того Сталинграда погнали. Когда Молчун про все эти героические действия наших русских войск слышал, ему, конечно, гордиться надлежало, он и старался: я помню, я горжусь… Но нет-нет да начинало всё в голове вокруг одного вопроса крутиться. Те немцы… Они ж, значит, и в Белых Росах были. Неужели и правда: ходили по тем же дорожкам, по той самой улице, где сейчас Молчун ходит? В те самые дома заглядывали?
Ну не могло такого быть. Но учитель всё знает. И не врёт. Учителя врать не умеют. Умолчать кое о чём — это да, это он может, но выдумывать — вряд ли. Его министерство народного просвещения не затем сюда прислало, чтобы он им лапшу борисовскую на уши вешал.
Трудно ему было сконцентрироваться на занятиях после всех этих мыслей. Раньше Космач не давал голове Молчуна как следует работать, времени не было, чуть перерыв — бежит Молчуна тискать, на бой до первой юшки выскочить или ещё какую новую забаву предлагать. Выдумщик, блин. А теперь все полчаса можно наедине с собой остаться. И вот результат. История закончилась, начался последний урок, а что там поп гундосит на Законе Божьем — никак не уловить.
«Да убоится жена мужа своего…»
Какая жена? Какого мужа? И чего ей его бояться? Молчун был убеждён, что никогда не женится, хоть над ним топор повесят, хоть в лесу привяжут, хоть топить будут. Сама фантазия о том, что он, Молчун, будет привязан на всю жизнь к одному человеку, пугала его и заставляла чувствовать в горле тот самый паскудный комок. Вместо того чтобы книжки читать и думать о всяком-разном, надо же будет, как поп говорит, «ежечасно-еженощно» заботиться, чтобы жена убоивалась. А если она не захочет? Если скажет: «Не убоиваюсь я тебя, Молчун, и всё тут. И не собираюсь убоиваться, как ни проси». Что тогда делать? На колени становиться? Языком чесать, чтобы её убедить? Сидят вон девки, как куры, никто попа не слушает, все только и делают, что звонка ждут, чтобы быстрее в интернет залезть, в магию свою и красоту. Кто же их убоиваться научит? К полицаю придется идти. Докладывать: так и так, жена моя не убоивается, прошу принять меры. Противно. Во-первых, Молчуну тошно делалось от того, сколько слов говорить придётся. Лучше умереть, чем так словесную энергию тратить. Во-вторых, не любил Молчун доносчиков. И сам таким становиться не хотел. Вон Космач-младший сколько Молчуну говна сделал, и так его мучил, и так, а Молчун язык за зубами держит. Ни разу на Космача не нажаловался. За это Космач его зауважал. Однажды валялись они в траве, чтобы передохнуть после драки, и вдруг Космачик обнял его за шею и произнёс как-то странно: «И чего я к тебе так прилип, Молчун? Ты ж больной. Я на тебя как посмотрю — и у самого все болеть начинает. Ты же, падла, убежать хочешь от нас. А я тебя всё в землю вжимаю, чтоб ты, сука, не убежал. Чтобы ты в неё врос и она тебя за ноги хватала, когда дёру задать надумаешь. С дуба тебе на башку насрать, а не дёру! Слышишь?»
И Космач снова схватил его и к земле прижал.
«Никуда ты не уйдёшь! Вечно здесь жить будешь! С нами! С нами, я сказал! Думаешь, ты самый умный? И всех здесь обдуришь? Да я с дуба насёр на твой ум!»
Но далеко уже друг его Космачик. Отучат его там с дуба срать. На Южной границе дубов, может, и нет никаких. Только степь голая и пустыни бескрайние. И по степи и пустыням дикари прыгают, те, что головы русским людям режут. Покатится однажды Космачёва голова по песку — и дадут ему Георгия. Посмертно. Глаза у той головы вспыхнут в последний раз, и тому, кто её поднимет, будет видно, как мелькают в мёртвых зрачках дальние дороги и города чужие, небывалые. А голова упрямая задвигает губами последний раз, и услышит косоглазый вояка странные слова:
«Да я с дуба насёр…»
Космач, Космач. Где ты сейчас? Знать бы…
Любка его, конечно, не дождётся. Сама в это не верит. И никто не верит. С Южной границы не возвращаются. Не женится Космач на Любке, некому будет Космача убоиваться. Не погуляют Белые Росы на самой замечательной в деревне свадьбе. Сейчас на Молчуна все смотреть будут. Внимательно… Ожидая. Кого он, Молчун, выберет из белоросиц этих красноротых.
Была бы его воля… Молчун знал, с кем бы он поженился. С гусочкой своей серой. С той, которая все его тайны-переживания знает, с той, которая не предаст, с той, которая такая тёплая, крепкая, пёрышко к пёрышку, с той, которая знает, где Молчуну приятно, а где так себе. С той, с которой так хорошо вздремнуть летней ночью, — а теперь, после Покрова, так славно греться зябким вечером, когда всё в доме переделано и отец в интернете сидит, возле печи…
Но об этом никому говорить нельзя.
Никому.
Иначе не будет ему жизни в Белых Росах. Припечатают клеймо на лоб и погонят в лес, перестанут за человека держать.
Наблюдая за своими односельчанами милыми, Молчун не сомневался, что так оно и будет.
Они помолились, поп потряс звонком и, подобрав длинную рясу, побежал к попадье на обед.
Молчун забрал в корзине телефон и сразу в интернет полез. Но новостей не было. Ни хороших, ни плохих. Семь дней уже информация не обновлялась. А всю, что была, он уже давно прочитал. Недаром у него в школе была самая высокая скорость чтения. Девки свою магию и красоту никак до конца осилить не могли, а он уже все разделы неделю перед тем одолел и нетерпеливо ждал обновлений. Да ничего не происходило в мире. Ни. Че. Во.
Зазвонил телефон, Молчун поднёс к уху, буркнул:
«Алё».
Отец.
«Зайди к Сысунихе, дрова поколи, она за это яиц нам даст, — прохрипел отцовский голос. — И чтобы сразу домой, работы хватает, хоть Покров и прошел, без матки нам с тобой за троих надо…»
«Так взял бы Сысуниху, — пробормотал Молчун. — Что ты ждёшь? Вся деревня ждёт, а ты всё тянешь…»
«Ты это! Молчи там! Это вообще не телефонный разговор, — оборвал его отец. — Сам разберусь».
И положил трубку. Молчун на всякий случай проверил, нет ли обновлений, — пусто. Он положил телефон в карман — словно отца туда засунул. Малого, уменьшенного до размеров телефона отца, с которым можно было больше не считаться. Вот интересно: правда ли это, что людей можно так уменьшать? Сказка сказкой — но люди давно научились сказку в жизнь воплощать. Может, там, в Москве, в Петербурге или Сталинграде, давно уже умеют: был человек роста в метр семьдесят, а стал в семнадцать сантиметров?
С телефоном у Молчуна были особые отношения. Делили они с мобилкой этой прекрасной на двоих одну тайну…
Это на позапрошлую Радуницу ещё случилось. Молчун с гусочкой своей серой лежал обнявшись, и тут дрогнул телефон его, «Победа», да так, что гусочка аж встрепенулась и крыльями забила, замахала, на Молчуна обиделась. Приставил Молчун «Победу» к уху, думал, отец, кому ещё его так поздно искать, но не тут-то было.
«Hallo, — сказала трубка. — Hallo!»
Молчун оцепенел весь. Хочет мобилку от уха оторвать, а не может. В трубке помолчали немного, подышали, да так шумно, что ухо вспотело, а затем мужской молодой голос произнёс удивленно:
«Hallo, Karina? Wieso sagst du nix? Karina, das bin ich, Ahmet…»
Молчун молчал. Голос выжидающе дышал. А потом трубка снова затрубила, страстно, недоумённо, с досадой и какой-то животной любовью:
«Karina, Karina, näh, hör auf, Karina, du brauchst nix zu fürchten, näh…»
Молчун не верил, что всё это происходит именно с ним.
«Karina!»
Молчание, горячее дыхание.
«Verzeih mich, Karina, Schätzchen…»
Замерев, Молчун всё сильнее прижимал телефон к уху и молился об одном: только чтобы этот голос продолжал говорить.
«Karina!»
Голос нежно замычал, словно на том конце бычок был дурной. Молчун боялся спугнуть его, он готов был прикинуться кем угодно, лишь бы он звучал и звучал, этот чужой голос, у Молчуна мурашки по коже ползали — и было в движениях их лапок что-то, чего Молчун давно уже ждал, хотя сам себе и не признавался.
«Nah gut, Karina. Okay. Okay, ruf mich an. Du bist so böös…»
И голос наконец исчез. Ошарашенный, Молчун гладил шею серой гусочки, он понимал, что запомнил каждый звук этой речи, каждое слово — да что там слово: Молчуну показалось, что во время этих стонов он слышал и кое-что другое, далёкое, несуществующее, чёткое, как в утреннем сне… Фантастический женский смех где-то в глубине трубки, и шум моторов никогда не виденных им машин, и непрерывный рокот улиц где-то на другом конце мира, чужие голоса, что болтают на непонятном языке, и даже блеяние то ли сигналов, то ли музыки, которую он никогда не должен был услышать — и всё же услышал…
Этого не могло быть. И всё же это произошло.
Бедный Молчун. Да он месяц потом ходил сам не свой. На какую-то пару минут он был там, в трубке «Победа», стоял посреди чужого, далёкого, придуманного телефоном города и слушал, как молодой человек ныл на ухо о чём-то своём, о чём он очень переживал…
Karina…
Что бы это значило, а?
Конечно женское имя. Как, например, Керамина. Так называли, по слухам, зама по идеологии, но Молчун не давал слухам веры. Не бывает таких имён.
И всё же бывает.
Всё бывает.
В телефоне у Молчуна было одиннадцать номеров. Отцовский, да соседей всех, да учителя, да полицая конечно — как что подозрительное увидишь или услышишь, необходимо было не мешкая полицаю позвонить и доложить. И звонок этот… Входящий. Непростой это был звонок. Именно такой и был, что сразу полицая нужно было набрать и признаться, что так и так, поступил входящий звонок от неизвестного абонента, не из нашей сети. Забрал бы полицай мобилку и передал бы кому следует. А вот выдали бы Молчуну новую или нет — это ещё вопрос.
Но не потому скрыл Молчун от всех, что пришёл на его мобилку подозрительный вызов. А потому, что…
Потому что Молчун ждал, что этот звонок повторится.
Вот повторится — и тогда Молчун наберётся смелости и скажет в ответ:
«Раз, раз. Приём. Калина, раз-два-три, малина красная… Малина в ягоды звала».
Нет, не так он скажет. А вот как:
«Здравствуйте, надеюсь, вы говорите по-русски. Меня зовут Молчун, я живу возле Западной границы, в деревне Белые Росы. Я сам русский. Но очень хочу посмотреть, как живут люди в других странах и сказать вам, чтобы вы не убивали нас, русских людей. И не бросали в наш лес всякие отравленные отходы, потому что ими можно отравиться. И ещё хочу сказать вам…»
Что сказать?
«Заберите меня, пожалуйста, отсюда».
В голове у Молчуна шумело, когда он думал о своей тайне. Словно он самогона у Космача напился.
«Только не предлагайте мне стать шпионом. Я шпионов не люблю. Просто заберите. Я вам за это дрова колоть буду, за детьми смотреть. А лучше на птицефабрику меня отправьте. Я птиц люблю. Они меня слушаются…»
Но мобилка больше не звонила. И всем своим видом показывала, что никогда больше тот звонок не повторится. Никогда. Что это был случай. Такой, которых и не бывает с нормальными людьми.
Просто однажды на станции мобильной связи произошёл сбой.
Маленький сбой, который сразу же исправили. Через пару минут.
Но за эти пару минут молодой мужской голос долетел до деревни Белые Росы посреди Стратегического леса — и был услышан.
Вызов был принят. Как писали в книжках.
Когда Молчун поколол дрова Сысунихе, на дворе уже стемнело. Он не спеша шёл по улице, чувствуя, как остывает разогретое работой тело. Ночью, может, и подморозит. Молчун думал о том, что придёт домой, поможет отцу, потом уроки сделает, — и когда отец у печи в свои виртуальные мечты зароется, можно и к гусочке его дорогой на пять минут зайти, глянуть, как она там.
«Помогай бог», — говорил он машинально, замечая то там, то сям за заборами своих односельчан, что неторопливо возились на подворьях. Окна домов уже светили зеленоватым огнём, словно лесные огромные чудовища разлеглись с обеих сторон улицы, ожидая, когда по ней пройдёт кто-нибудь более питательный, чем мелкий, худой, неприметный Молчун.
И чего он их так боится?
Молчун повернул к речке, деревня осталась в стороне, сейчас срезать через луг — и прямо до ихнего дома.
Через огороды прямо на него шёл человек. В темноте Молчун не сразу узнал, кто такой.
Да и человек его тоже вроде не на шутку испугался. Заметил Молчуна и мордой прямо в землю. Как убитый. Спрятаться думал.
Тут и стало ясно, что это за птица.
«Пан Каковский, это ж я, Молчун. Вы куда на ночь надумали, а?»
С паном Каковским Молчун почему-то любил говорить. Может, потому, что пан Каковский никогда никого не слушал. Даже себя самого.
Пан Каковский медленно поднялся с земли. Стал вглядываться издали в Молчуна глазами своими подслеповатыми.
«Как это? Ты кто такой?»
«Я Молчун, однорукого Кастуся Молчана сын, — объяснил терпеливо Молчун. — Так куда вы, пан Каковский?»
«Как ты меня напугал, — вздохнул господин Каковски, тревожно оглядываясь на деревню. — А вот скажи мне, хлопчик…»
Пан Каковский подошёл ближе, недоверчиво сверля Молчуна глазами.
«Какой сейчас год?»
«Две тысячи сорок девятый, — вежливо и устало ответил Молчун. — Пан Каковский, шли бы вы домой. Темно. Поспали бы — и всё пройдёт».
«Две тысячи сорок девятый… — с ужасом повторил пан Каковский. — Как так? Как так получилось? Ошибка! Ошибка вышла!»
И он снова рухнул на землю. Молчун встал рядом, ожидая, пока тот поднимется. А что поднимется, сомнения не было. Всегда поднимался. И не бросишь же человека. Жаль его.
«Как так получилось?.. — Пан Каковский поднялся, отряхнул брюки и надел на плечи свой рюкзачок. — Ну, ничего. Знаешь что, хлопчик. Я убежать хочу. Как-нибудь до Жабинки доберусь, через лес. Ты мне только дорогу покажи… Как отсюда до Жабинки дойти. У меня там тётка двоюродная живёт. Одна на всём свете родной человек. Покажешь, как убежать отсюда? Пойми, не могу я больше. Должен же быть какой-то выход!»
Такой он, пан Каковский. Всё как, да как-нибудь, да какой-то, да как так получилось…
«Пане Каковский, — Молчун посмотрел ему в глаза. — Не выйдет у вас убежать. Вы уже столько раз старались…»
«Как это не выйдет? — Каковский вытаращил глаза. — Какое ты право имеешь, щенок? А ну показывай, как отсюда кратчайшим путём выйти. Иначе убью тебя! Топором зарублю! Покажу тебе сейчас, какой топор у меня в рюкзаке!»
И правда: пан Каковский начал рыться в рюкзаке, стал на колени, топор никак не находился, и, компенсируя его отсутствие, он делал сердитое лицо: напрягал губы, раздувал щёки, скаля гнилые зубы, и дышал, как одичавший, не старый ещё пёс. Молчун смотрел на него сочувственно.
Рука пана Каковского достала до дна рюкзака и вылезла через дыру наружу — скрюченная, грязная, с длинными тонкими пальцами.
«Как же это я… — Каковский сокрушённо сел прямо на грядку. — Как же это я не заметил… вывалился топор. Нечем тебя убить, если дорогу показать откажешься. Но я найду! Как-нибудь да убью…»
Молчун покачал головой.
«Идём! — пан Каковский вскинулся, схватил Молчуна за руку и потащил в сторону леса. — Беру тебя в заложники. Я террорист, мне можно!»
Кривые пальцы пана Каковского вцепились ему в ладонь. Молчун послушно двинулся в сторону леса вместе со своим захватчиком, следя, чтобы тот не споткнулся о край колеи, оставленной здесь трактором.
«Как же это так вышло, а? — бормотал Каковски. — Какая трагическая ошибка… Но я как-нибудь. Я, может, топор и потерял, но я не потерял веры в себя! Как-нибудь соберусь…»
«Одиннадцатый раз уже в этом году собираетесь, — спокойно сказал Молчун. — Знаете же, чем всё закончится. Может, домой? Я вас спать уложу…»
«Молчать! — выпучил глаза пан Каковский, волоча Молчуна вперёд, к лесу. — Как-нибудь без тебя разберусь, молокосос!»
Они дошли до первых, тёмных, похожих на стражников, деревьев, пан Каковский потянул Молчуна дальше, Молчун это место хорошо знал, здесь начинались все их с отцом лесные вылазки, а пан Каковский сразу же попал в лапы к веткам, то в глаз от них получал, то в живот. И всё же лез вперёд, как одержимый. Молчун сначала раздвигал кусты да заросли для пана Каковского, словно двери перед ним открывал, но потом надоело — хочет, пусть себе всю кожу обдирает.
Дошли до лесной дороги, перешли на другую сторону, тут уж совсем густой лес начался, а пан Каковский всё тянул Молчуна вперёд, в темноту. Бросить его здесь — неделю бродить будет, если солдаты раньше не найдут.
«Ты мне правильно дорогу показывай! — хрипел где-то рядом невидимый пан Каковский. — А иначе привяжу к дереву и оставлю здесь диким зверям!»
Так они, может, целый час шли куда глаза глядят. Пока вдруг яркий свет не перерезал им путь. Пан Каковский закрыл глаза и бросился бежать, споткнулся, упал на колени, достал из рюкзака верёвку и обвязал вокруг шеи.
«Живым не дамся!» — крикнул он и потащил левой рукой верёвку вверх.
Из леса вышли двое солдат, лица до глаз закрытые, фонарики острые, будто ножами темноту рубят.
«Мы из Белых Рос, — сказал Молчун, закрывая глаза от ослепительного света. — Опять наш пан Каковский разошёлся».
Один из солдат достал мобилку. Второй опустил автомат и показал на тропинку, высеченную в чаще нестерпимо белым лучом фонарика.
Сейчас нас на уазике в деревню отвезут, подумал Молчун. Полицай около Тэклиного дома встретит, Каковского домой потащит, проспаться… Ну, может, плетей ещё выпишет. Ну, это не беда. Сколько раз пан Каковский уже режим нарушал, чудак этот неисправимый. А его, Молчуна, к отцу. Привезут на уазике, как важную персону. Сколько раз такое уже бывало.
Долго они с паном Каковским шли… Если по часам на мобилке считать, то часа полтора. Пока на пост не наткнулись. Так и живут они здесь, как на острове. Гуси на болоте. Один русский писатель когда-то такую книжку написал. Дед, пока живой был, рассказывал. Гуси — это якобы о них, сельчанах. Да какие же они гуси? Гусь — животное красивое, крепкое, совершенное в своей прелести. А вокруг — паноптикум. Понатыкал Господь Бог людей, склеив из чего попало, в землю и сказал: живите.
И какое ж тут болото… Море тут. Зелёное море, из которого в серое небо торчат узкие горы военных вышек. Лёжа ничком между сплошных елей и сосен, всматриваются в эту серую высь острова малолюдных деревень… Тоска…
Остров, как их учили в школе, — суша, со всех краёв окружённая лесом. Стратегическим лесом, который начинается здесь и повсюду и нигде не кончается. Шумит лес. Скрывает что-то. Гудит. Сердится.
Прямо под его, Молчуна, ногами.
3.
В воскресенье Молчун с отцом отправились на охоту.
Поднялись рано, как и полагается, у Молчуна ещё сны по спине лазили, а отец уже горячую картошку ему под нос суёт и молоко наливает: давай, сынок, пей — и пойдём. Вышли из дома на рассвете, отец с двустволкой на плече, старой, дедовской, а Молчун сетку несёт и снова, как когда-то, удивляется отцовской ловкости. Однорукому из двустволки выстрелить — это непростая задача, а отец, как что, сбрасывает ружьё, сжимает возле курка, взводит и бах! — рука даже не дрогнет. Такую вещь одной рукой удержать — это же какая сила нужна. Крепкий у Молчуна батька. Но сына не лупил никогда, ни разу тяжёлую свою единственную лапу на него не поднял, чтоб до Молчуна лучше доходило, кто кого слушаться должен. Поэтому, поговаривают в Белых Росах, и растёт Молчун таким странным — мало отец ему всыпал в своё время. Ну, что поделаешь — однорукий да без жены: где ж ты хлопца как следует воспитаешь…
«А на кого идём сегодня, татка?» — насупившись и зевая, спросил Молчун. Шаркающим шагом он шёл по дороге рядом с отцом и никак не мог проснуться.
Отец посмотрел на него, как на дурака.
«На панду, на кого же ещё».
Молчун вздохнул. Сколько раз они на панду ходили, так ни разу и не добыли. Хотя время, конечно, самое подходящее. После Покрова холод панду из чащи гонит, ютится тот панда поближе к человеческому жилью, из леса еду себе высматривает, с деревьев слезает. Казалось бы, тут-то его и лови голыми руками. Да только хитрый зверь панда, умеет притвориться — то белкой, то пнём, то кучкой мха, а то и человеком. Учитель им рассказывал, как пошёл однажды в лес на зайца, пострелял немного, домой возвращается, а тут на поляне какой-то мужичок сидит, малину дикую щиплет. Метров за десять от учителя. Учитель с ним заговорил, осторожно так — ведь каждый знает, что, чужого завидев, не паниковать надо, а постараться его в деревню заманить и там полицаю сдать. Мужичок повернулся к охотнику и, улыбаясь, говорит: «Да не ссы, у меня документы есть, иди сюда, я тебе покажу, вот лицензия райпотребсоюза на сбор ягод, грибов и корнеплодов… А ещё чекушку имею, иди сюда, вместе дёрнем…» И что-то издалека учителю показывает, бумажку какую-то. Учитель поверил, начал к тому мужичку сквозь кусты и ветви продираться, ружьё опустил, а мужичок ему улыбается так ласково — мол, свой я, свой… Давай сюда… Чекушечка в малиннике блеснула, учитель лезет к мужичку, а тот всё как был за десять метров, так и стоит там, да малину щиплет… Долго продирался учитель через лесок, гимнастёрку порвал, щёку веткой чуть не проткнул, мобилку потерял, только к вечеру на какую-то дорогу вышел — всего и успел, что зад того мужичка разглядеть, а зад у него не человеческий, а с коротким хвостом и круглый такой, красный…
Обманул учителя тот проклятый панда. Но это летом было. К зиме панда уже не такой хитрый, голод не тётка, лезет панда к человеку, надеется что-то с поля ухватить, бродит по опушке, поздний гриб ищет, или то, что на поле осталось, подбирает…
Один только старый Космач хвастался, что ему панду удалось подстрелить. Правда, уже тогда, когда проверить невозможно было. «Где же тот панда, дядька?» — «В брюхе твоём!» — тряс кадыком Космач. «Что, вкусно было? А то!» Космач всех мясом угощал, да так щедро, словно по доброте своей, а на самом деле платили ему, каждый платил — и каждый своей услугой. Молчун как-то у младшего Космача спросил: «А правда, что отец твой панду уполевал и мы его все ели?»
«Ясно, — важно ответил младший Космач. — Мать с тёткой того панду обдирали, а я видел. Толстый панда попался, знаешь, как выглядит? Спереди — как свинья, сзади — как курица, а лапы медвежьи».
«Брешешь, Космач!»
«Ну ладно. Правду скажу, — Космач сделал серьезное лицо. — Знаешь, на кого панда похож?»
«На кого?»
«На тебя! — и Космач покатился по траве, смеясь и зажимая живот руками. — На тебя он похож, Молчунок! Вылитый ты! Панда! Да я с дуба насёр на твоего панду! Какая разница, что жрать! Главное, у нас, Космачей, мяса всегда во, хоть зажрись, а вы, голытьба, нам за это работу чёрную делаете! Вам скажи, что за мясо, — дык самим захочется в Космачи! Так вот хрен вам, мы сами решим, кого мясом кормить, а кому в поле горбатиться!»
Хорошо, что забрали того Космача в москали. Спокойнее стало, не надо мозги и нервы на него, остолопа, попусту тратить.
Так думал Молчун, шагая рядом с отцом по направлению к лесу. Взгляд у отца становился всё более цепким, внимательным, настороженным — так ему хотелось хоть на этот раз панду добыть. Отец то и дело посматривал в совсем уже близкие заросли, то ветка колыхнется, то куст закачается, но нет, не показывался панда, а если и сидел поблизости, то ничем не выдавал своего присутствия.
Они вошли в холодный лес, постояли, послушали. Приложив палец единственной руки к губам, отец повёл Молчуна по какой-то одному ему знакомой тропке. Пройдя по ней минут десять, они остановились, отец наклонился, присел в мох, принюхался, разочарованно выпрямился.
«Дальше надо идти».
Они повернули на светлую сторону леса, надо было её держаться, чтоб хоть знак «Проход запрещен» вовремя заметить, если вдруг заблудятся. Молчун смотрел на отца и понимал: всё, разуверился он, сам знает, что надёжно спрятался панда, перехитрил их. Можно до ночи здесь бродить — не вылезет зверь. Будет следить за ними своими глазами хитрющими, пока не уйдут злые люди из его царства. Знать бы, как он выглядит. В интернете про панду ничего не было. А может, и было когда-то давно, да сплыло. Интернет тоже не бездонный, так в школе учили, на занятиях по информатике. Если одно появляется, другое исчезает. Такие вот законы физики.
«Татка, — Молчун ступал за отцом след в след, — а откуда в нашем лесу панда?»
«А я тебе не рассказывал? — недоверчиво отозвался отец. — Ну, это известная история…»
«Расскажи».
«Слушай. Ну так вот. Когда-то стоял за сто километров от нашего леса такой город, Минск. Самый большой на Западной границе. Чего только в Минске том не было. И подземная железная дорога, и аэропланы, и парк Дримленд, где тыщи разных людей дремали на солнышке, в порядке релаксации. И небоскрёбы. А самая красивая улица там называлась Ротмистрова. Ещё её Проспект называли. Самый длинный на Западной границе, между прочим. А посреди того Минска стоял задопарк. Знаешь, что такое задопарк? Это такое место, куда послы со всего мира приезжали, китайские, виносуэльские, мерыканские, и даже с Антарктики между прочим, и подарки привозили. А привозили они не только ковры и украшения, а и различных удивительных животных. Самых невероятных, которые только бывают. А ещё дикарей всяких. В подарок. Чтобы минчанам тем дремлющим была потеха. А кому не хочется на диво дивное посмотреть? Всем хочется, а не всем дано. Ясно, что вся эта живность пугалась, когда её к нам в Россию привозили, засунут ту скотину в клетку — а она на людей смотреть боится. Задом повернётся и стоит, как будто её вырубили. Минчане на жопы тех животных смотрят и развлекаются. Поэтому и назвали это место: задопарк…»
Отец рассказывал так увлечённо да так серьёзно, что не поверить было невозможно. Почти невозможно. Может, если бы Любка какая рядом шла или Космач-младший, они бы и правда поверили. Но Молчун был не такой. Недаром его Молчуном называли. Не отзывалось в нём что-то такое, что в человеческом организме за легковерность отвечает. К тому же были в рассказе отца хай себе и мелкие, но нестыковки.
«А ты сам в том Минске бывал, что ли?» — спросил Молчун.
«Ну а какая тебе разница? — рассердился вдруг отец. — Чтобы что-то знать, не обязательно везде бывать. Мне бабка рассказывала твоя, моя мама, она когда молодая была, их в тот Минск возили, на Девятое мая. И в задопарк на экскурсию водили. Что же мне, матери не верить? Чего ей брехать?»
«Ну ладно, татка, рассказывай дальше».
«Ну так вот, — понемногу успокоился отец. — А потом война началась. И тот Минск немцы сожгли. Весь, дотла. А живёлки те и дикари все разбежались. Ну, те, которые уцелели в бомбёжках. А куда зверям бежать? Естественно, в лес. Так те панды у нас и поселились. Размножились здесь трохи. Попривыкли. Адаптировались, падлы. Будто тыщу лет тут обитали. Феномент! Понял? Вот поэтому и живут у нас панды. И ещё неизвестно кто…»
Где-то поблизости хрустнула ветка. Отец замер, схватил двустволку. Но это всего-то белка была — Молчун проследил, как её рыжее тело взлетело до самых птичьих гнезд, давно уже пустых.
Многое не стыковалось в той отцовской байке.
Во-первых, какие такие послы? Послы, они в столицу приезжают того государства, с которым отношения дипломатические. В Москву. Что им в Минске том делать? На Западной границе? Туда никто послам сунуться не позволит. И дураку ясно, посол — он только так называется, а на самом деле — шпионы они все и цэрэушники.
Во-вторых. Отец говорит, что Минск тот немцы сожгли. Или разбомбили. Но им же по истории рассказывали, что его разбомбили еще сто пятьдесят лет назад. Так что, его снова построили и снова разбомбили? Вот ведь не повезло тем минским. И почему немцы? Что-то напутал отец. За Западной границей не немцы заправляют, это каждому ясно. А кто? Америка конечно.
И в-третьих… Здесь Молчун чувствовал самую слабую сторону отцовской байки. Ведь каждый, у кого на мобилке интернет, мог, если не лень, прочитать, что редакция главных новостей находится не где-то там, а как раз в том самом Минске. Правда, информация эта располагалась в том месте экрана, куда нормальный человек никогда заглядывать не будет. Маленькими буковками в разделе «Магия и красота», сбоку от рубрики «Поделись секретом вечной молодости» была кнопка зелёная, на которую никто не додумывался нажимать. А Молчун вот додумался. Кликнул — и получил:
«Редакция новостей “Северо-Запад”. Минск-Хрустальный, ул. Героев-подводников, 2. Главный редактор — Добрыня Владимирович Огарёв».
Значит, не сожгли тот Минск немцы. Или сожгли, но вырос после Освобождения на месте того сожжённого Минска с его задопарком новый город, из хрусталя и царь-цемента. Просто не знает ничего отец. Время такое, такая эпоха: дети лучше родителей в мире ориентируются. Не то что двадцать лет назад… Когда не было ещё на свете никакого Молчуна, а вот Белые Росы уже были. Только вот какие?.. Что здесь такое происходило? Никто не расскажет. Про задопарк и панду отец всегда потрындеть готов. Но вот как ни пытался Молчун отца о его службе в москалях расспросить, отец как сковородку проглотивши становится.
Они дошли до берёзовой рощи, сели на траву, отец сказал Молчуну, чтобы тот осторожно разложил сеть, а то запутается, и чтоб доставал из сумки припасы. Молчун разложил на пеньке колбасу, холодную картошку, соль, луковицу. Отец приставил к берёзе двустволку и закрыл глаза.
«Чёрт, — сказал он устало. — Услышал, видно, панда, как мы говорили. Издали услышал. Вот же китаец. И клялся же я себе, что на этот раз молчать буду, чтобы не спугнуть, а сам снова разговорился… Это всё ты, малой, виноват. И чего тебя Молчуном называют? Ты ж тот ещё болботун. Всё татка да татка… Расскажи да расскажи…»
Но Молчун видел, что отец не сердится. Нравилось отцу байки свои травить. И хорошо ему было, что они вдвоём по лесу ходят, поздней осенью, вместе, хорошо, что дышат одним воздухом — вкусным, холодным. Охота для отца — лучший отдых. Чёрт с ним, с пандой. Ничего, обойдутся. На зиму кое-что припасли, проживут как-нибудь. Да и зима сейчас такая, что настоящего мороза не бывает. А говорят, году в 2012 настоящие бураны были. Брешут, видно. Какие на хрен бураны? Хорошо, если в Белых Росах до нуля термометр дойдёт. Всю зиму плюс три-пять, а в конце февраля уже цветы распускаются. У соседей… Отец-то цветник совсем забросил. Вот взял бы Сысуниху в жёнки — и у них бы рядом с домом красота была…
«Хочешь, что-то покажу? — хитро прищурился отец. — Пойдём!»
Они быстренько собрались и пошли не туда, где через стволы деревьев пробивалось солнце, а в самую что ни на есть тёмную чащу. Молчун уже запереживал — вдруг они знака не заметили, как бы проблем не возникло… Но отец уверенно шёл вперёд. Помнит, видать, дорогу. Ну а что ему сделают, если даже и поймают. Солдаты его, Молчуна, знают. Отпустят. Только за отца боязно. Ведь всыпят же плетей за нарушение режима. Эх… Остаётся надеяться, что отец мозги не пропил. Понимает, что делает.
И вдруг они вышли к озеру.
Оно блеснуло впереди, как чей-то большой глаз. Глаз посмотрел на Молчуна и заслезился.
По воде прошла рябь. Словно озеро узнало его. Будто уже где-то видело.
Совсем недалеко от озера стояла хатка. Да и не хатка уже, а совсем сгнившая халупа, чёрная, с облупившейся синей краской, которая ещё кое-где держалась.
Двери висели на одном ржавом крючке.
Хатка была мёртвая. А озеро живое. И это так взволновало Молчуна, что он взял отца за руку.
«Да не бойся, — глухо сказал отец. — Здесь уже давно не живёт никто».
И в это Молчун тоже не очень-то поверил. Но руку отца отпустил. Они подошли к озеру, отец закурил папиросу. И Молчун почему-то вспомнил о своём сокровище: чёрно-золотом окурке от «Собрания». Вот бы у того капитана, военкома, выпросить одну целую сигаретку. И прям вот теперь отца угостить. Хоть, может, и глупая это была мечта. Ведь в вонючем дымке от «Победы», стелящемся сейчас над озером, и этом чёрном лесу на другом берегу, и в складке, что опоясывала отцовский лоб, и в мёртвом силуэте заброшенной, сгнившей хаты была она — та гармония, которую Молчун давно уже старался словить, будто бабочку, но никак нигде не мог. Кроме как в курятнике, с серой своей любимой гусочкой…
Он подошёл к дому и заглянул внутрь. Темно там было и сыро, спали там растения всякие лесные, и дышало там подземное болото.
«Смотри, не лезь, рухнет на голову крыша, придётся тебя на плечах тащить, — крикнул отец. — Не лучший это выбор: или сын на плече, или дубальтовка…»
Отец подошёл, достал новую папиросу.
«Давно здесь никто не живёт, — повторил он задумчиво. — А раньше жили. Матка, как молодая была, сюда иногда наведывалась».
«А кто здесь жил?» — спросил Молчун, нюхая дом и чувствуя, как что-то тёмное, тяжёлое бередит его душу.
«Э-э… — затянулся сигаретой отец. — Здесь знахарка да повитуха жила, лет тридцать назад. Такая бабка была, что всем бабкам бабка. Людей лечила. К ней со всей Западной границы ездили, через лес пробирались, деньги большие платили, лишь бы к бабке этой попасть. Ведь бабка та могла человека от любой болезни избавить. Как она это делала, кто её знает. Только и ездили к ней, и ходили, и на коленях ползали, лишь бы полечила. А она никому не отказывала. Говорят, что даже денег не брала. Хотя в это как-то слабо верится. Не бывает так, чтобы кто-то другому за просто так, задаром помогал».
«Так, чтобы лечить от всего, тоже не бывает, — хмуро сказал Молчун. — И как она помогала? Она что, врач была? Фельдшер? Или в бога крепко верила?»
«Да не знаю я, — махнул единственной рукой отец. — Но верю! Так люди старые говорят. От всего лечила. Есть вещи, сынок, которые необъяснимы. И не нам в них сомневаться. Наука — это, конечно, хорошо, да, но человеческому уму не всё доступно. И то, что в сказках написано, может когда-нибудь оказаться реальностью. Например, ковёр-самолет. Когда-то люди только в сказках про такое слышали, а потом аэропланы построили — и на тебе, летают, бомбы сбрасывают, удобрения. Или вот на Париж наши пятнадцать лет назад бомбу сбросили — а с чего всё началось? С ковра-самолёта!»
«Если так… — Молчун закусил губу. — Если так, то, может, учёные могут и другие чудеса в жизнь воплотить. Мне вот что интересно, татка. Можно ли, хотя бы чисто теоретически, так сделать: что вот есть человек, нормального роста — а его с помощью науки… Или бабки… Ну, в общем, превратить его в малыша? Такого малыша, чтобы он на спину гус… ну, на спину свиньи поместился?»
Отец слушал его вполуха. Казалось, что после своего монолога про аэропланы и бомбы он о чём-то глубоко задумался. И Молчуна это почему-то разозлило.
«Татка?»
«А? — Отец докурил и сплюнул. — Конечно можно. Теоретически всё можно. Главное — учись хорошо, сынок. И меньше по курятникам шастай. А то что-то ты там долго бавишься… Что ты там делаешь?»
«Ничего, — покраснел Молчун. — Просто гусей люблю. За ними ж глаз да глаз нужен».
«Ну ладно. — Отец подхватил двустволку. — Пойдём уже».
«А что с той бабкой стало? — спросил Молчун, когда они снова вошли в заметно похолодевший лес. — Умерла от старости?»
«Не знаю, — бросил отец, думая о своём. — Видать, умерла. Она уже тогда такая старая была, что никто и не верил, что она когда-то на свет родилась. Говорят, её в больницу однажды забрали. А из больницы уже сыновья к себе взяли. И больше никто о той бабке не слышал. Где-то лежит на погосте. Ну, землица ей пухом. Если и была ведьма, то для людей чаровала. Только ты с попом про такое не говори. Попы таких бабок очень не любят…»
«Почему?»
«Потому что…» — И тут отец побледнел, замер на месте. А потом осторожно начал снимать двустволку с плеча.
«Что?»
«Тс-с-с», — недовольно сжал он зубы.
Они постояли немного — теперь и Молчун услышал, как где-то довольно близко трещат ветви. Что-то мелькнуло между деревьев.
«Стой здесь, — прошептал отец. — Никуда не ходи. Позвоню тебе».
И бросился, как лягушка, в заросли.
«Что там?»
«Панда!» — Только и успел Молчун услышать отцовский шёпот, и спина его исчезла за деревьями.
Молчун присел на поваленное дерево, положил на колени сеть. Проверил телефон — связи не было. Оставалось надеяться на отцовское умение ориентироваться в лесу. Отец был не местный, но тоже деревенский, сельский и лесной человек — не потеряется. Отец есть отец.
Он достал кусок хлеба, откусил. Интересная история про бабку. Интересная прежде всего тем, что Молчун представил себе, как же долго стояла на берегу озера та мёртвая хата. Неужто и правда была она когда-то живая, и людей вокруг неё хватало, и машин, и было это всё в те доисторические времена, когда…
И тут треск послышался уже совсем с другой стороны. Молчун вскинулся, осторожно поднялся, стараясь не шуметь, и спрятался за кроной поваленного дерева. Выглянул из густых ветвей — и глазам своим не поверил.
На ту небольшую полянку, где они только недавно стояли с отцом, прислушиваясь к подозрительным звукам, вышло, оглядываясь, неизвестное существо.
Хотя какое уж там неизвестное.
Девка это была. Девка. Пусть и трудно было в это поверить. Ведь в таком снаряжении её можно было за кого хочешь принять, только не за девку.
Сама она была в чёрном: узкие брюки, военные сапоги, тесная куртка, на которой поблёскивали цепочки и молнии. На голове — шапка чёрная, как у танкистов. А за спиной, смешно и неуклюже, тянулся серый светлый парашют — как шлейф от свадебного платья, такие любят разглядывать в интернете его одноклассницы, когда дурят себе головы магией и красотой.
Девка вышла на полянку, огляделась и повела тонкими красивыми ноздрями.
А затем быстро и ловко отцепила парашют и начала раздеваться. Из-под шапки высыпались волосы: длинные, светлые, пушистые, лёгкие, как озёрная вода летом. Будто зачарованный, Молчун наблюдал за её превращением: она сбросила куртку, сапоги, брюки и быстро осталась в чём мать родила. А родила её мать такой, что Молчун словно видел перед собой гусочку свою ненаглядную. Не девка это была, а само совершенство. Он не мог отвести глаз от её белой кожи, от сосков на груди, и грудь та была такой идеальной формы, что Молчун чуть не задохнулся. Ему так захотелось прикоснуться к ней, что у него аж ладони зачесались. Но чудо продолжалось недолго — девушка расстегнула рюкзак, который будто прирос к куртке, так он был плотно упакован, достала оттуда обычную одежду, в которой их бабы ходили, и начала стремительно натягивать её на своё волшебное тело. Молчуну хотелось плакать оттого, что чудо на глазах заканчивалось, гасло, и ничего он не мог поделать, чтобы заставить это мгновение остановиться.
Девушка оделась, будто кожей новой обросла, и обвела глазами чащу.
И тогда у Молчуна в кармане зазвонил телефон.
Холера на ту мобилку. То она не ловит, то у самой земли, за поваленными деревьями, вдруг работает как ни в чём не бывало.
Девка, конечно, всполошилась. Но не так, как девки пугаются. А как животное хищное: через пару секунд она уже стояла над Молчуном, глазами приказывая ему подниматься, а в лицо Молчуну смотрел самый настоящий пистолет.
«Ты кто?» — спросила она строго, но и с каким-то облегчением.
«Молчун меня звать», — сказал Молчун, совсем не чувствуя страха. Уж он-то знал, какая она на самом деле. Что-то подсказывало ему, что она не будет стрелять. В него — так точно.
«И что ты здесь делаешь?»
«Панду с таткой ловим».
Она посмотрела на него ещё более сурово, но потом невольно улыбнулась — и Молчун вместе с ней.
«А где отец?»
«Звонит вот…» — сказал Молчун, показав на телефон, который только что утих.
«Близко?»
«Да».
Девушка оглянулась, сжимая пистолет.
«А ты кто?» — спросил Молчун. Хотя и так знал. Догадался. Не маленький.
«А я Стефка», — сказала девушка. Ага. Так я и поверил, подумал Молчун. Из тебя такая же Стефка, как из меня — Добрыня Владимирович Огарёв.
Но он согласно моргнул. Мол, Стефка так Стефка. Поверим пока что на слово.
«Ты парашют хотя бы спрячь», — сказал Молчун, указывая на шлейф. Стефка бросилась закапывать его под мох и опавшие ветви, Молчун присоединился — вместе они управились быстро. А закончив, посмотрели наконец друг другу в глаза.
«Ты парашютистка, правда? Тебя враги забросили, с той стороны?»
Стефка сжала губы.
«А ты? — ответила она, отведя глаза и прислушиваясь к неясным звукам. — Давно здесь сидишь?»
Конечно, ей интересно, видел ли он её голой. Молчун не стал врать, всё равно и так ясно, что видел.
«Давно, — признался он. — Ты красивая. Почти как гусочка».
«Что? — Она тихо засмеялась. — Как кто? Я — как гусочка? Сам ты гусь. Гусёнок глупый. А твой отец — он…?»
И она наставила пистолет на деревья.
«Лучше ему ничего о тебе не знать, — сказал Молчун. — Иди вон туда, если поворачивать не будешь, увидишь озеро, а рядом хату старую, мёртвую. Там и скройся. А я никому не скажу, что тебя видел. И завтра к тебе приду, потому что надо у тебя спросить кое-что».
«А ты умный… — сказала Стефка. — У вас тут все такие?»
Но Молчун уже делал страшные глаза, показывая ей направление — куда бежать. И она, подхватив рюкзак, бросилась за деревья.
«Ты чего трубку не берёшь? — Отец вышел из кустов меньше чем через минуту после того, как девка исчезла в лесу. — Я ему звоню, звоню…»
«Так связи не было, — сказал Молчун, которого аж трясло от волнения. — Вот, смотри, ни одной палки».
Но отец не стал смотреть, сел на дерево, положил рядом двустволку.
«Не панда», — сказал он и вздохнул.
Молчун сел рядом.
«Ты с кем тут говорил? — вспомнил отец. — Я твой голос слышал».
«Сам с собой», — бросил Молчун, пытаясь угомонить хорошими мыслями свое непослушное сердце.
«Сам с собой? Вот дурень. А ещё Молчун… — Отец ткнул его в бок. — И кто тебя так назвал? Надо было тебе другую кличку дать: Словесный Фонтан. Ну что? Пойдём. Охотники…»
И они пошли туда, где за тысячами деревьев, сотнями теней, мириадами запахов и звуков и других тёмных существ, что следили за ними своими горючими глазами, лежала их деревня — лежала и ждала зимы.
4.
Такая вот вышла у них с отцом охота.
А в понедельник в школу вдруг посреди занятий полицай заявился — при параде, в повязке нарукавной с орлом, да при кобуре, — и не один заявился, а с замом по идеологии. Как раз было естествознание — не самый любимый Молчуном предмет, поэтому он даже обрадовался, когда в сенях хлопнула дверь и на пороге класса, пригнувшись, выросли фигуры их деревенской элиты — только солтыса не хватало.
Учитель удивлённо уступил им место у доски, а сам среди учеников сел. Просто рядом с Молчуном. Полицай отхаркался, проглотил слюну и важно оглядел сначала Любку, потом Молчуна, а затем уже и всех смешливых девок, которые всё никак не могли успокоиться.
«Господин учитель, успокойте класс, дело важное», — недовольно сказала замиха и нахмурила брови.
Учитель достал прут и за спиной у Молчуна быстро воцарилась тишина.
«Дело и правда важное, — сказал полицай, положив руку на кобуру. — Можно сказать, государственное. От вас требуется прежде всего сознательность. Гражданская ответственность, я бы даже сказал. Ведь вы же молодые граждане, новое поколение Белых Рос, которое… Людка! Ты, ты, Чумачонок, хватит уже серу из уха таскать, мозги вместе с ней вытянешь, так уже пальцем в ухо залезла, аж тошнит!»
Все повернулись к глуповатой десятилетней Людке.
«Прута захотела, Чумачонок? — Учитель виновато взглянул на полицая. — А ну внимание на экран! Вот же покажу тебе!»
«Да, — Полицай снова отхаркался, от него пахло чесноком и перегаром. — Значит, слушаем внимательно. Как вы все знаете, страна окружена врагами. Вчера в окрестностях наших Белых Рос замечен был самолёт-шпион. Надеюсь, все понимают, что это значит. Более того. Утром в лесу был найден парашют. А это уж не просто — ситуация, это уже чрезвычайное происшествие. Управа нашего посёлка обращается к вам, молодёжь. Чтобы вы, сукины дети, были осторожными. И внимательными. Как побачите что подозрительное — сразу звоните мне… или на номер Аркадьевны. А если занято — старосте, батюшке или этому вашему… учителю. Наша армия также надеется на ваше содействие».
Полицай вздохнул.
«Ребята? Вы понимаете, что это значит?»
Молчун украдкой оглядел класс. Туповатые, немигающие глаза. Полицай повысил голос:
«Это значит, холера на вас, что, как только увидите где кого чужого, — сразу сигнализируйте. Это ваш долг! Как говорится, при обнаружении бесхозных или подозрительных предметов сообщайте об этом машинисту или работникам метрополитена. Всем понятно?»
Зам, которая до сих пор держалась в тени, решительно вышла к доске и присоединилась к полицаю. Губы её дрожали:
«Ребята! Надеюсь, вы поняли, что разговор идёт серьёзный. Где-то в лесу притаился враг. И наша задача — сообща не дать ему нарушить общественную стабильность. Будьте внимательны! Даже малейшее подозрение может вывести нас на правильный след! Давайте устроим в Белых Росах систему гражданского самоконтроля. И вместе выведем врага на чистую воду. Девочки! И мальчики тоже. У вас глаза молодые, ноги проворные, сердца храбрые. Так что на вас вся наша надежда!»
Полицай вдруг наклонился к передней парте:
«Слышал, Молчун? Всё понял? Что смотришь, как больной?»
Молчун почувствовал, как его лицо горит. Раньше полицай с ним так не разговаривал. Да и вообще редко обращал на него, Молчуна, внимание. Хватало ему дел с Космачиком. Видно, теперь он, Молчун, Космачиково место занял. В трудные подростки его записали. Надо ж кого-то в трудные, как же иначе. Но какой же он, Молчун, трудный? Никогда с законом проблем не имел. Разве что с Законом Божьим. Но это уже другая парафия…
«Ну что, что испугался? — Полицай неожиданно подобрел. — Не ссы. Я о том, чтобы ты не молчал, если что заметишь. А рот раскрыл и рассказал как есть. А то знаю я тебя. Слово клещами не вытянуть. А тут дело такое, что реагировать надо мгновенно. Увидел — доложил. Ясно, Молчун? Что ты всё краснеешь? Ты же мужик! Мобилку при себе имеешь?»
«Мобилки им перед занятиями сдавать надо, такое распоряжение», — поспешно сказал учитель.
«Ну, если распоряжение, надо выполнять», — полицай переглянулся с замом.
«Школа, кстати, одна из самых вероятных мишеней террориста, — строго сказала замиха. — Ну что, ребята? Вопросы есть?»
«Нема!» — пропищали девки.
На этом разговор был окончен — и полицай, галантно пропустив замиху вперед, вышел из класса. Молчун старался не смотреть на учителя, но тот, кажется, был занят девками, которые развели после ухода элиты такой гвалдёж, что пришлось ему пройтись прутом по их белым рученькам. Не помогло. Занятия в школе уже были сорваны — какая наука, если такое чэпэ произошло. На перемене все только и говорили, что о парашютах и о шпионах, девкам очень уж хотелось, чтобы диверсанта того скорее поймали, и желательно в деревне — так хотелось им на него посмотреть. Молчун с презрением прислушивался к их глупым разговорам — шпион почему-то рисовался в их воображении красивым высоким парнем, который и по-русски-то не говорит, а только стоит, связанный, ресницами машет да мускулами поигрывает под верёвками: жалко его, расстреляют же, не дадут девчатам налюбоваться. Поэтому, с одной стороны, девкам из ихней школы хотелось, чтобы его поскорей поймали, а с другой, пусть бы погулял хлопец ещё по лесу, пощекотал девичьи фантазии… А потом уж и расстрелять можно.
Правда, Любка в девичьих обсуждениях участия не принимала. Подошла, села возле Молчуна, будто он ей сейчас был ближе, чем все подружки. Девки смотрели на неё искоса — но что поделаешь, Любка была старше и тоже не такая, как все… независимая слишком, себе на уме…
Села Любка возле Молчуна, прижалась коленом:
«Как думаешь, Молчунок, поймают шпиона?»
Молчун, как и положено мужику, молчал с мрачным видом.
«Ты ж хлопец, кому же как не хлопцам, защитникам нашим, в таком деле разбираться? Поймают?»
«Не знаю».
Любка кивнула, колено у неё было тёплое и опасное. Молчун всё отодвигался, а оно лезло к нему — ближе, ближе, ближе…
«А ты, Молчун, если бы шпиона увидел, рассказал бы мне?»
Молчун криво усмехнулся.
«Ясно, — Любка покачала головой, словно она была врач, а он и правда больной. — Полицаю позвонил бы…»
«А ты бы не позвонила?» — Молчун презрительно отодвинулся.
«Позвонила бы, — Любка зевнула. — Но не сразу. Понимаешь, Молчунок? Не сразу…»
«Почему ж не сразу?»
«Я бы сначала шпиону пару вопросиков задала, — Любка расправила на коленях тёплое платье. — Расспросила бы его, что и как. Там, в его Шпионии. Как там они живут. Интересно же. У них там как у нас всё — или трошечки по-другому».
Молчун задумался. Хитрая Любка. Хитрее, чем он думал. Провокация. В доверие к нему втирается. Фигу ей. Молчун — он не из тех, кто первому встречному открывать душу будет. Тем более Космачёвой бабе.
«А ты Космачу письмо уже написала?» — спросил он, чтобы переменить тему.
«Кому? Космачу? — Любка сердито фыркнула. — Да пошёл он. Я уже и забыла его давно. Всё равно он больше не вернётся. Или убьют, или казачку себе найдёт. Да и не думала я никогда про твоего Космача. Как про серьёзный вариант. Дурачок он…»
Молчун ей не верил. Хитрая девка. Как мазь в кожу втирается. Любка почувствовала, что ничего у неё не выходит, разозлилась. Ну, побесись, побесись…
«И ты тоже дурачок, — Любка с наслаждением всмотрелась в его красное лицо. — Все вы, хлопцы, дураки. А ты особенно. От тебя гусями воняет. Гусиным говном, ага. Гусятник ты, Молчун. Тебе бы на ферме яйца высиживать. В шпионы тебя не взяли бы. Ни ихние, ни наши. А ещё разумным прикидываешься. Важность на себя напускаешь. Какие мы таинственные…»
И Любка расхохоталась громко, поднялась и пошла прочь.
Во время последнего урока над деревней протарахтел вертолёт. А потом ещё раз. И ещё — уже когда Молчун гусочку свою серую обнимал и рассказывал ей шёпотом, что вчера в лесу произошло, когда они с отцом на панду ходили. Всё понимала гусочка, Молчун это по глазам её бисерным видел, всё понимала, а сказать ничего не могла — но только по-человечески не могла, по-своему-то она много говорила, и чувствовал Молчун, что ревнует она его, а к кому — ясно было как белый день. Виноват был Молчун перед гусочкой, действительно виноват, потому как не выходила у него из головы Стефка, всё прокручивал он вчерашнюю встречу с ней в голове, и выходило, что помнит он её во всех сладких и тревожных подробностях.
Пока управился во дворе, уже и стемнело, а там и за уроки надо было браться. Задания Молчун за полчаса одолел, да и что там трудного — недаром у учителя он в лучших учениках ходил. А как только месяц выглянул, натянул Молчун зимние сапоги, пару пакетов магазинных в один карман куртки сунул (те пакеты в доме неизвестно с каких времен валялись), второй карман припасами набил — и за порог.
«Ты куда это? — Вспыхнула в темноте спичка. — Куда собрался?»
Отец стоял у калитки, словно давно там его караулил.
Молчун порадовался, что уже темно. С самого утра он с ужасом чувствовал, что никак не может овладеть своим лицом — такого раньше не случалось: неужели после вчерашнего знакомства со Стефкой он обречён теперь вечно краснеть, да глаза прятать, да трястись от малейшего звука? Вот что с человеком бабы делают. И как к такому привыкнуть? Но сейчас его скрывал мрак двора, свет полной луны над лесом всё искал Молчуна — и не находил, и стало ему как-то не по себе — неужели она весь вечер за ним следить надумала, эта круглая луна, что повисла над лесом, будто пост противовоздушной обороны?
Огонёк отцовской сигареты запрыгал у него над головой:
«Слышал, что в лесу шпион завелся? С парашюта скинули».
«Ага, в школе рассказывали, — ответил Молчун намеренно детским голосом. — Полицай выступать приходил, и замиха с ним».
Отец покашлял, огонёк сделал круг.
«Да… В сложное время ты родился, сынок… Дык куда собрался?»
«Никуда».
«Ага, никуда. В зимних сапогах. Я же слышу, как ты тупаешь. У охотника ухо такое, что не пропьёшь».
«Ай ну, татка…»
«Дык куда?»
«К девкам», — сказал Молчун неохотно. И сразу понял, что обман удался. Отец даже дышать по-другому начал.
«Значит, дошло до тебя наконец, — сказал он мягко. — Да… Малого Космача забрали, теперь ты у нас первый хлопец на деревне. А деревня один дом».
«Что?»
«Да ничего… Беги уже. Чтоб к ночи вернулся. Уроки все поделал?»
«Поделал», — бросил Молчун и, стараясь не показывать, что спешит, вышел на улицу. Повернул, юркнул за дом Космача, а там поскакал через поле, вылез на дорогу, завязал на сапоги пакеты целлофановые и широким шагом, прячась в тень ельника, зашагал к лесу. Ещё издалека услышал, как из-за сплошной стены деревьев кто-то завыл. Может, волк, а может, и панда. А может, и человек. Никто уже не разберет.
Дорогу, по которой они с отцом вчера шли, он хорошо запомнил. Только когда до упавшего дерева добрался, растерялся немного. Пришлось спички достать, посветить — хоть и рискованно это было: если солдаты близко, могли услышать. Чирканье спички разорвало тишину леса — словно кто-то с дерева кору содрал одним махом острых когтей. Молчун огляделся, обжигая пальцы. Ага, кажется, сюда. Медленно подошёл к деревьям, начал поднимать одну за другой тяжёлые холодные лапы, ступал осторожно, чтобы пакеты на ногах не зацепились да не порвались. Ещё одна спичка, ещё одна… Огонь выхватывал только тёмные стволы, что стояли, словно отвернувшись от Молчуна, будто вид делали, что его не знают. Он подумал было, что не то направление взял — и тут на середине озера сверкнула луна.
Вот оно, то место.
В свете луны Молчун увидел очертания мёртвой хаты. Пригнувшись — место было открытое, — прокрался к окну, прижался осторожно к стене, заглянул. И подтянулся, протиснулся в низкий проём. Хата заскрипела, внутри было так темно, что Молчун вытянул перед собой руки. Через несколько минут ему стало ясно, что хата пустая.
Разочарованный, он нащупал в кармане карамельку, развернул, спрятал за щёку. Никаких следов Стефки. Может, её давно нашли и теперь в хате полицая допрашивают. Кого вербовала, кого соблазняла, кому доллары обещала за измену. А может, заблудилась Стефка в Стратегическом лесу и солдатам попалась. Да и мало ли что могло случиться. Что если она на панду нарвалась? А тот её перехитрил и туда затащил, откуда не возвращаются?..
«Кофе хочешь?» — сказал вдруг голос за спиной у Молчуна, и он затылком почувствовал, как в мёртвой хате ожил незаметный, маленький, но сильный фонарик.
Он медленно обернулся. Стефка спрятала пистолет под мышкой и улыбнулась, да так двусмысленно, словно они с Молчуном что-то задумали. Какой-то план, который только что одновременно пришёл им в их такие разные головы. Она была в ватнике и сапогах, которые бабки в деревне носят, и было в её виде что-то несуразное. И всё же Молчун был так рад, что наконец её увидел: даже подошёл поближе и пожал ей руку.
«Хочу», — с вызовом сказал он. Ему очень хотелось, чтобы она обращалась с ним как со взрослым. Да и что за разница между ними была: Стефка выглядела всего лет на двадцать… Подумаешь, ещё немного пожить, и ему столько же стукнет.
Если доживёт, конечно.
Она достала откуда-то термос, налила ему кофе, он глотнул и поперхнулся. Не потому, что обжёгся или гадость какую-то попробовал.
А потому что кофе было такое, какого он никогда в жизни не пил.
Напиток богов.
Настоящее шпионское кофе.
Кофе оттуда.
Однако Молчун взял себя в руки, прищурился и сделал вид, что ничегошеньки его не удивило. Просто простудился немного в лесу. Бывает.
«Я думал, тебя уже того, схапали», — сказал он важно. Теперь бы ещё цигарку закурить. Золотую с чёрным. Вот бы шок у неё был. А что, она, может, думает, с мелочью какой связалась? В конце концов, он её вчера спас. Так что она ему должна.
«Да я за тобой от самой дороги иду, — улыбнулась Стефка. — Извини. Проверка. Я же тебя почти не знаю».
И сама себе кофе налила. Как же она пьёт. Заглядеться можно. Но Стефка выключила фонарик, и Молчуну показалось, что у неё засветились глаза. Они присели в темноте на прогнившую лавку.
«А ты чья шпионка? Германская? Или мерыканская? — поинтересовался Молчун. — Только правду скажи. Это важно».
«А какая разница?»
«Ну… — Молчун нахмурился. — Ты же шпионка, понимать должна. Если германская, значит, тебя расстреляют прямо в лесу. А если мерыканская, то, может, в Москву отправят. Ведь тогда на наших поменять можно. Это ж и дураку ясно».
«Так я тебе и призналась, — Стефка внимательно и даже как-то слишком любопытно наблюдала, как он хлебает из металлической кружки. — А теперь я спрошу. Почему от тебя так странно пахнет?»
«Как странно?»
«Не знаю. Живым чем-то. Очень живым и очень ароматным. У вас все так пахнут, в Белых Росах?»
Молчун вздрогнул.
«А ты откуда знаешь, где я живу?»
«Ну ты даёшь, Молчун, — тихо рассмеялась она. — Забыл, кто я?»
«А, ну да, у тебя же, видимо, навигатор на телефоне, — опомнился Молчун. — А дай посмотреть. Никогда не видел шпионских телефонов».
«Телефонов… — передразнила его Стефка. — Много будешь знать, панда съест. Так что за запах? Чем это так воняет? А?»
«Откуда мне знать, — обиделся Молчун. — А тебе зачем?»
«Так и я так вонять хочу».
«Не получится у тебя, — вздохнул Молчун. — Слушай… А откуда ты по-нашему так умеешь? Тебя в разведшколе учили? Не, ты без акцента болтаешь, только всё равно… Что-то не то… Не могу сказать что… Всё равно ты как чужая говоришь. Как нетутэйшая».
«Конечно в разведшколе, — сказала задумчиво Стефка. — Где же ещё?»
«А чему там ещё учат?»
«А ты мне про свою школу расскажешь?»
«Сначала ты».
«Ну, ладно. Сам мог бы догадаться. Меня в школе учили с парашютом прыгать, стрелять с обеих рук, заживлять раны, говорить на пяти языках и десяти диалектах. Машины водить любой марки. Компьютеры, химия, физика, право, литература, этнология — это само собой…»
«Ну а… — Молчун запнулся. Трудно было про такое спрашивать. Но он себя пересилил: — А, скажем, колодцы отравлять? Допросы проводить с пристрастием? Подсыпать снотворное? Мужиков соблазнять, чтобы тайны государственные выдавали? Бациллу в водопровод запускать? Или там, не знаю, дис… кабан… дискандикцировать органы власти?»
«Само собой, — Стефка серьёзно посмотрела на него. — Но это на первом курсе проходят. Всё это я изучала и экзамены на одни пятёрки сдала. Так что будь спокоен. Если тебя захочу допросить — допрос будет как следует. Ад. Пожалеешь, что родился. Но теперь моя очередь. Расскажи мне о школе. Обещал».
Молчун вздохнул, дососал карамельку и неохотно рассказал о том, как сегодня полицай и замиха по идеологии приходили. Но чем больше он говорил, чем дальше вспоминал события сегодняшнего дня, тем интересней было ему рассказывать. Будто не о себе он уже рассказ вёл, а о каком-то другом Молчуне, который сидел сейчас в деревне с девками и смешил их глупыми шуточками.
Стефка слушала, не перебивая. Молчун видел, что ей интересно, и удивлялся. Он думал, она про войска спрашивать будет, про оружие, да о том, где посты находятся главные, про Стратегический лес. А она про школу. Вот тебе и шпионка. Кто бы мог подумать, что там, по ту сторону границы, кому-то интересно, как они здесь занятия школьные проводят и что им на дом задают.
В конце концов он замолчал. Кофе было допито. Мёртвую хату снова затягивал в свои объятия холод, а в окно светила луна, которая, казалось, так заслушалась Молчуна, что забыла прикрыться тучами.
«Теперь моя очередь спрашивать, — сказал Молчун. — Ой, забыл… Я тебе принёс кое-чего, поешь, ты ведь с дороги…»
Он, немного стесняясь, достал из кармана сало, банку гусиного смальца, половину хлеба, два огурца, карамелек…
«Спасибо, — сказала Стефка и погладила его по голове. И ему захотелось, чтобы она погладила ещё. И ещё. — Я не голодная, припасов хватает, но, конечно, такой вкуснятины у меня не водится. Так что ты хотел узнать? Спрашивай».
«Скажи… — Молчун задумался, прикидывая, действительно ли вопрос, который он собирался задать, самый важный. И решил, что да. — Скажи. Вот у вас там, на западе вашем… Там придумали уже… ну, ученые… как человека нормальных размеров в маленького превратить? В такого, чтобы размером с мобилку, например? Или это… по-прежнему… из области научной фантастики?»
«Интересный вопрос, — Стефка и не подумала смеяться, и Молчуна это успокоило. — Понимаешь, наука — это такое дело… Я ни о чём таком пока не слышала. Но, хотя пока мы с тобой ни о чём таком не слышали, в лабораториях и в университетах, в кабинетах и в головах самых умных людей планеты идёт работа. Непрерывная работа. Поэтому, может, и придумали уже что-то похожее. Только ни ты, ни я об этом ещё не знаем. И только если такое открытие будет оценено, будет доказана его польза для людей, только тогда, когда такие штуки, как уменьшение размеров человека в соответствии с его потребностями, будут проконтролированы обществом — только тогда мы узнаем, что это возможно. Понимаешь?»
«Ага», — мрачно кивнул Молчун. Ведь ответа он так и не получил. Точнее, ответ был и звучал так: ответа нет. А ему хотелось знать. Так хотелось знать…
«Если чего-то очень хочешь — так оно и будет. Просто надо верить. Верить в себя. Это просто, Молчун. Просто — и так сложно. А теперь расскажи мне о людях, которые в Белых Росах живут, — попросила ласково Стефка. — Ну, может, не о всех. О самых лучших. Согласен?»
«А что там рассказывать? — буркнул Молчун. — Люди как люди. Что они тебе?»
«Мне интересно, — широко раскрыла рот Стефка. — Понимаешь? Интересно… Так расскажешь?»
«Ну хорошо», — согласился Молчун. Тайну выдать он бы всё равно не смог. Какие в Белых Росах тайны? Всё просто и ясно, всё как на ладони.
«Только погоди, — Стефка нащупала что-то в темноте. — Сейчас ты один прибор увидишь, не пугайся. Да ладно, что ты дрожишь? Тебе самому интересно будет. Ты же у нас научной фантастикой интересуешься. Смотри…»
Она легко коснулась щеки Молчуна — сквозь его тело будто электрический ток прошёл. Страшное это было ощущение — и такое приятное, что аж в туалет захотелось. И вдруг прямо перед ними засветился бледно-зелёный куб. Он вспыхнул прямо в воздухе, как конфорка на плите в доме Космача, и был тот куб в рост Молчуна, и блестел, как экран мобилки, — но ведь это не мобилка была, где кто видел мобилку таких размеров?..
«Сейчас я немного поговорю — и можешь начинать, я дам команду», — сказала Стефка и каким-то не своим, немного даже мужским голосом заговорила:
«Tronk, kronk, skonk. Fuzuta neokuzoje skuzima stonk onk. Grimonatuta u tutima kroskoje, oviloje rosika, balbuzu mauta kroskoje balbutima „Nebalboje“, Maucun tutoje balbutima, onk kronk vekutika. Duzuta fuzoje asitugra skuzima skonk skonk sidonk. Au u dreutejlima, u tulutima neistoje, pomirnoje, amgluta donk-zironk tuputa dinutima. Balbaln bu balbuzu istalnutika tutima, au imatuzu nojefuzutima a polisutima, vedutejle, soltisutima. Grimonatuta ksuzu».
Молчун как заворожённый слушал эту белиберду. Она звучала как музыка, музыка того далёкого города, который однажды подул в его телефон своими улицами, своим дождём, своей чужой любовью.
«Это… Это мерыканский язык? — только и мог он спросить. — Ничего не понятно».
«Нет, — улыбнулась нетерпеливо Стефка. — Это… Это другой язык. Язык бальбута».
«А где ею болтают?»
«В лесу около Белых Рос, — сказала Стефка. — Ты же сам слышал только что. Ну хорошо. Расскажу немного. Но потом сразу начинай. Язык бальбута придумала около тридцати лет назад одна женщина. Между прочим, твоя соотечественница. Знаменитая тётя по ту сторону границы. Она уже давно живёт в эмиграции. Это конланг, то есть сконструированный язык, и теперь мы в разведшколе пользуемся им для общения с этой вот штукой. Она его хорошо распознает, но только в исполнении наших голосов. Чужие так не смогут, даже если научатся бальбуте. Понял? А теперь рассказывай. Ты обещал».
«Разве язык можно… сконструировать? Это же не трактор!»
«Можно… Я же тебе рассказывала, что такое наука. Начинай, прошу тебя. У нас мало времени для передачи».
Молчун, сбиваясь, начал рассказывать — медленно, волоча за собой слова… И тут в бледно-зеленом кубе появилась неожиданно его гусочка.
«Это что такое? — строго спросила Стефка. — Ты о чём думаешь?»
Молчун смущённо замолчал.
«Ну ничего, попробуй ещё».
Стесняясь, сбитый с толку Молчун рассказал сначала про младшего Космача, потом про солтыса, потом про полицая. И про Космача-старшего, и про зама, да про попа. Да об отце, да об учителе…
«Устал? Есть кто-то ещё, достойный нашего внимания?» — спросила Стефка, погладив Молчуна по лбу.
«Ну, ещё пан Каковский, но он дурачок просто…»
И он рассказал про чудака, который неизвестно откуда взялся и неизвестно куда мечтал убежать из Белых Рос. Стефку пан Каковский заинтересовал.
«А скажи… машина времени у вас там есть?» — спросил смущённо Молчун.
«Я же тебе рассказала о том, что такое наука… — сказала Стефка, думая о чём-то своём. — Слушай, Молчун…»
И тогда она задала ему вопрос, по сравнению с которым все предыдущие были просто детской игрой.
Она спросила Молчуна, как ей оказаться в деревне и незаметно ни для кого поснимать их деревенскую жизнь.
«Ты что, с дуба упала? — Молчун покрутил пальцем. — Тебя же найдут. Полицай пока все углы не обнюхает, не успокоится».
«Подумай, Молчун, — нежно сказала Стефка. — Ты умный. Я знаю».
«Ну… — закатил глаза Молчун. — Разве что в пустом доме, где Юзик жил. Если высовываться не будешь… может… Но что мне за это будет?»
«Отвечу на все вопросы, — пообещала Стефка, глядя ему в глаза. — Слышишь? На все».
«Ну, тогда собирайся… — Молчун взглянул на экран мобилки. — Мне домой надо. Провожу тебя. Умеешь быть бесшумной, как зверь?»
«Умею, — Стефка поднялась со скамейки. — Веди».
Они вышли из дома, Молчун пошёл первый — а Стефка дышала сзади, вкусно и тихо, и ступала просто по его следам.
5.
До зимы оставалось один раз вздохнуть. Закрывался Стратегический лес, запирал за собой чёрные двери, замалёвывал белой краской окна, заколачивался от людей.
Но не давали люди Стратегическому лесу покоя.
По чаще шныряли патрули с собаками, наполняли заповедные места лаем и кашлем команд, деревья оборачивались солдатами, а поляны — прожекторами, а над кронами деревьев время от времени медленно, зловеще падал на лес вертолёт и никак не мог упасть, висел, вертелся, высматривая в тёмных джунглях, не пробежит ли по ним подозрительная волна, не вздрогнет ли где запрещённая ветка, не выдаст ли себя где-то между высоких вольных елей тайник.
Искали парашютиста. И день и ночь искали. Парашют был — а шпиона схватить никак не удавалось.
Это в лесу. А в Белых Росах носился в напрасных поисках полицай. Допрашивал, злился, заходил в дома к людям, обещал награду, а то и кару: на слабую память не надейтесь, предупреждал он, поймаем шпиона, он расколется, и тогда ясно будет, кто из вас, односельчан моих дорогеньких, виноват: что не заметил, не придал внимания, пропустил мимо ушей, дал себя обвести вокруг пальца, недосмотрел, не донёс, не доложил. Кто поленился на мобилке пару кнопок нажать, чтобы просигналить.
Каждая мелочь имеет значение, убеждал полицай сельчан. Дорогие мои, вспомните, может, слышали что или видели не такое, как всегда, что-то, что выбивалось из привычной ежедневной колеи. Каждая чепуха может стать зацепкой.
И тогда полицай потянет — и вытянет паскуду за некрасивый хвост.
В Белых Росах вскоре шпиона так и начали представлять — как некое нечеловеческое существо, с хвостом, да жабрами, да рогами, да глазом на жопе, а членом на лбу. И это было шпиону на руку (если, конечно, он имел руки). Ведь нечеловеческому существу в деревне спрятаться невозможно, здесь нечеловеческое существо сразу бы как на ладони оказалось.
Так сказал Молчуну учитель, когда они как-то встретились на улице. И Молчун представил себе Стефку — насколько же она не была на шпиона похожа. Да и не догадывался никто, что шпион-то — баба. Искали мужика. Так оно всегда бывает, когда люди в интернет и в религию верят.
Хата, где раньше Юзик жил, стояла в самом начале улицы. Пропадала себе потихоньку без хозяина. Смотрела на деревню тёмными окнами. На дверях замок болтался. Его туда сам полицай и повесил, когда Юзик пропал. Повесил и забыл. Каждый раз, проходя мимо Юзиковой хаты, Молчун посматривал на этот замок и радовался, что ему пришла в голову такая гениальная идея — поселить тут Стефку. Здесь её никто не искал. Да и вообще никто подумать не мог, что шпион расположился в самих Белых Росах. Его искали в лесу — а в деревне искали следы и сообщников. Кто же мог подумать, что шпион тот клятый способен на такое нахальство?
Иногда в Белых Росах исчезали люди. Так случилось с Молчуновой мамой. И с Чесиком, который в школу вместе с ним ходил, а однажды пошёл в лес за ягодами и не вернулся. А старый Игнат, в чьём доме пана Каковского поселили, сам умер. А Игнатова дочь, Лариса, тоже не вернулась. Такая же история и с Юзиком: трудолюбивый был мужчина, жена у него умерла, сыновей в москали давно забрали. К Юзику сестра Любкиной матери ходила. Все думали: ну, возьмёт Юзик её в жены осенью. Хрен вам. Пошёл Юзик год назад в лес на панду — и пропал. А поскольку никого в Белых Росах за этот год не прибавилось, так и стояла его крепкая, умелой рукой возведённая хата пустая.
Молчун с Космачиком туда как-то забирались: всё выглядело так, словно хозяин сейчас вернётся. Вещи стояли на своих местах, кровать застелена так, будто на ней ещё час назад кто-то лежал. Зарядка от мобилки свернулась на диване. Люди в Белых Росах, конечно, когда поняли, что не вернётся уже Юзик, начали к дому его ходить да присматриваться, что себе можно взять, что в хозяйстве собственном пригодится. Не потому, что мародёры. Какие же мародёры в Белых Росах? А потому, что нехорошо это, когда вещи без хозяина пропадают. Всякой вещи дело нужно, говорил старик Космач, который не прочь был, чтобы хату Юзикову ему отдали. Но однажды полицай пришёл, замок повесил, а всем по деревне эсэмэску отослал, государственную: Юзикова хата конфискуется, ничего в ней не трогать, в окна не лазить, по двору не ходить, замок не срывать, а кто ослушается, согласно указу будет плетьми побит. Публично. Это охладило пыл односельчан. Государство есть государство. Это когда-то, до Освобождения, его можно и нужно было обманывать, чтобы выжить. А сейчас всего хватает, империя всем дала что надо для жизни: работу, еду, достоинство, уверенность в завтрашнем дне. А от публичных плетей люди отвыкли. Никому не хотелось снова привыкать.
Поэтому и оставили Юзикову хату в покое. А полицай всё ждал, когда власти приедут на конфискацию, да только не ехал никто уже год, и сомнительно было, что власть вообще про Юзиково имущество помнит.
Вот и вышло, что если кто мимо хаты Юзиковой проходил, так старался на неё не смотреть. Чтобы себя в искушение не вводить. Но всё равно нет-нет, а мелькала в хозяйственной крестьянской голове мысль: ну нельзя так людей мучить, пустили бы нас, мы бы за час там всё растащили, и забылась бы эта история, вместе с Юзиком тем злополучным. Кому она нужна, память?
За домом у Юзика был сад. Маленький, но деревья живучие, сильные, здоровые. Так они в хату и залезли тогда, Молчун с Космачиком. По дереву на крышу, а там на чердак, а с чердака спрыгнули около печи. Никто их не заметил. Как залезли, так и вылезли.
Таким же образом хулиганским и Стефку Молчун туда оттранспортировал. Ночью, подождав, пока туча луну обнимет, на яблоню, с яблони на крышу, с крыши на чердак, с чердака через лаз к печке. Молчун назад вылез — а Стефка со своими шпионскими штуковинами осталась.
Уже неделю там сидела, вела съёмку и другую шпионскую деятельность. Начальству передавала через свои научно-фантастические устройства. А ночью, забежав к гусочке серой и пообнимавшись с ней как в последний раз, Молчун в Юзикову хату приходил, лез втихаря на крышу, да на чердак, а там его шпионка ждала… И они говорили: о том, как день прошёл, и о том, как у Стефки на родине люди живут. И ещё про всякие разные вещи.
А днём, идя в школу мимо Юзиковой хаты, Молчун только жмурился да в телефон на ходу носом тыкался — и никто из односельчан его даже заподозрить не мог, что он каждую ночь в той запрещённой хате бывает, да не один, а…
Здесь, конечно, не плетьми публичными пахло, а чем похуже. Если Молчуна вдруг раскроют, за ним тоже машина военная приедет. Только уже другая. Такая чёрная с золотым. Кого туда затолкали — того уже никто не вспомнит, как звали. И отца его никто не вспомнит. Но Молчун не боялся. Вот не боялся почему-то, и всё тут. Видимо, потому, что не самым это ужасным в жизни считал, что его нельзя будет вспомнить. Важнее, чтобы у самого что-то в памяти осталось. Важнее, когда на твои вопросы кто-то наконец даст ответ. Важнее, что у тебя есть серая гусочка, хорошая книжка про Нильса Хольгерсона и воспоминание о том, что когда-то увидел на лесной поляне, за поваленными деревьями спрятавшись.
Поэтому Молчун каждую ночь лазил к Стефке, никому ничего не говорил и только на ус наматывал, что ему шпионка рассказывала. Про далёкие города, и про чужих людей, и про их странные языки, и про науку жить вместе и никого не ненавидеть.
А через неделю он получил задание.
Своё первое шпионское задание.
«Расскажи-ка мне поподробнее об этом вашем господине Каковском, — попросила Стефка. — По-моему, из всех он самый интересный».
«Так я ж рассказывал, — недовольно прошептал Молчун, на которого падал через щель в крыше холодный свет луны, и он думал, что, возможно, выглядит сейчас в глазах Стефки старше своих лет. — Больной он. Мозги пропил».
«О тебе тоже много чего думают, — мягко возразила Стефка. — Но никто не знает, что у тебя на самом деле в голове».
Это было правдой. Молчун покряхтел, потёр лоб, почесал ногу. И рассказал Стефке всё, что знал. Что нашли мужики года три назад пана Каковского в лесу, думали — панда, а нет: человек. Пан Каковский не сопротивлялся, но идти не хотел, ноги по земле волочились, когда его в деревню тянули. Полицай ему под рёбра выписал раз пять, допрос устроил, но пан Каковский только и знал, что про свою ошибку талдычить да спрашивать, какой год и как это так вышло. Приехала в Белые Росы чёрная машина, внутри золотая, забрала пана Каковского, а через неделю назад привезла. Провели власти следствие, экспертизу, дознание, допросы с пристрастием — ничего не узнали нового. Признали больным на голову, который со спецбольницы далёкой каким-то чудом убежал в лес. Думали — шпион, но какой шпион пройдёт следствие с наилучшими экспертами и всё равно на своём стоять будет? Больной, но не опасный, решило государство и отправило господина Каковского в Белые Росы, поселило в доме Игната помершего, пенсию по инвалидности дало — гуманность проявило. А пан Каковский с тех пор ни о чём другом и говорить не мог: только «ошибка», «какой год» и «я от вас убегу». К его бреду все привыкли. Даже бить перестали. То солдаты, то Молчун, то Космачик, то другие подростки, да и взрослые тоже всегда находили дурачка-беглеца, пана Каковского, и возвращали на место прописки. Никто уже и не удивлялся. В каждом коллективе всегда есть своя элита, свои пчёлы-труженики, своя матка, свои трутни и свой больной. Юродивый вреда не чинит, пока народ не баламутит.
Стефка всё это выслушала и записала. Молчун пожал плечами: больше рассказывать нечего.
«Надо мне с ним контакт наладить, — решила Стефка. — Сможешь нас познакомить?»
«А ты мне Париж показать обещала».
«Покажу, если познакомишь».
Молчун вздохнул.
«Попробую».
Договорились, что Молчун пана Каковского ночью в Юзиков сад приведёт. Риск был, конечно. Но если что, кто пана Каковского слушать станет? Да и знал теперь Молчун: Стефка — она специально обучена, как господина Каковского лучше в сети завлечь и как его соучастником ихним сделать.
Вечером в назначенный день миловались Молчун и серая гусочка, как перед концом света. Молчун волновался — первое задание самое ответственное и самое опасное. Гладил гусочку свою серую по ладненькой шейке и рассказывал ей шёпотом:
«День будет погодный, не тепло и не холодно, не дождь и не жара, приду я к тебе последний раз и обниму сильно-сильно, задрожишь ты, словно голая в лесу стоишь посреди поляны солнечной, а я скажу все слова, которые положено по науке, и тогда почувствуешь ты, гусочка моя ненаглядная, как я становлюсь всё меньше, да меньше, да меньше… унтерменьше, да унтерменьше, да унтер-унтерменьше… А тогда уже совсем маленьким, вот с твою лапку ростом, стану, обхвачу твою шейку, и ты разбежишься и в небо прыгнешь… и поднимемся мы высоко-высоко, так, что даже Космачёва хата станет размером с мобилку, и полетим мы с тобой над Стратегическим лесом, да над мёртвой хатой, где старая шептуха жила, да над озёрными глазами, что в небо смотрят, да над всеми военными базами, выше вертолётов… Полетим на запад, туда, откуда Стефка, где Париж, да Берлин, да Лондон, да Рим, да Прага… Ведь это в школе неправду говорят, что их разбомбили наши, брехня, наши солдаты мирные, и бомбы у них, как конфеты, и у каждого солдата ангел внутри живёт, белый… и курит золотые сигареты…»
Слушала гусочка, и видел Молчун, что она ему не верила. Но он только улыбался тоскливо, жалея птицу недалёкую, любую свою пташечку. Вот настанет такой день — тогда поверишь. Гусочка моя ясочка, кисочка перелётная.
Пан Каковский сидел у себя во дворе и ружьё себе из берёзовой палки вырезал. С затвором, курком и прицелом — всё берёзовое. А под ногами у пана Каковского боеприпасы валялись — берёзовые патроны.
«Здрасьте, пан Каковский! — поздоровался Молчун. — Бежать собрались?»
Пан Каковский схватил берёзовое ружьё, на Молчуна наставил.
«Живым не дамся! Руки прочь! Застрелю тебя, дикарская морда!»
Молчун подошёл ближе.
«А какой сейчас год?» — подозрительно спросил пан Каковский, зарядив ружьё.
«Две тысячи сорок девятый», — ответил Молчун со вздохом.
«Ложь! — крикнул господин Каковский. — Получай! Умри, фашистский гад!»
И дал прямо по Молчуну очередь. Молчун схватился ладонью за грудь, лицо его перекосилось, и он мешком рухнул на щепки.
Пан Каковский, увидев это, издал радостный боевой возглас.
«Пан Каковский, а какой сейчас год?» — спросил Молчун, открыв глаза, но продолжая лежать на спине.
И это был сильный ход. Пан Каковский замер и задумался. Про такое у него ещё никто не спрашивал.
«Сегодня пятое июля две тысячи шестнадцатого года, — сказал он наконец. — Пятое июля две тысячи шестнадцатого года. Минск, парк Горького. Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я…»
Глаза пана Каковского лихорадочно закрутились.
«А зовут вас как?» — вполголоса спросил Молчун, лениво потеребив пальцами сырую траву.
«Михаил Антонович Жукович, — сказал растерянно пан Каковский. — Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я…»
«Ошибка вышла, — сказал Молчун, взглянув на дикое лицо пана Каковского. — Как так? Как это получилось?»
Пан Каковский сделал судорожное движение рукой, словно хотел, чтобы Молчун сейчас же замолчал. Молчун поднялся, отряхнул брюки, внимательно посмотрел господину Каковскому в глаза.
«Как так, Михаил Антонович?»
«Пятого июля две тысячи шестнадцатого года, — словно оправдываясь, заскулил пан Каковский. — Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я…»
«Назад хотите? — спросил Молчун, как его Стефка научила. — Тогда слушайте внимательно. Сегодня в полночь приду к вам, пойдём туда, откуда вы к себе обратно вернуться сможете. Поняли? Только никому ни слова. Ведь иначе пропало всё. Ошибку исправить можно. Но только один раз. Согласны?»
Понял ли его пан Каковский, трудно было сказать. Может, и не слушал он, что ему объясняли. Но отбросил в сторону своё берёзовое ружьё, пошёл к хате, покачиваясь, и всё бормотал под нос:
«Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я…»
Не очень веря в успех своего дела, ровно в 23.45 Молчун взглянул на экран мобилки и осторожно выглянул из-под одеяла. Отец давно спал, Молчун выскользнул на улицу и загуменьями быстро дошёл до хаты Каковского. Как ни странно, тот был готов — стоял у кривого своего туалета с сумкой, нацепив на себя картуз. Молчун дал ему знак, и пан Каковский, шумно выдохнув, пошёл следом. Не успели они в огороды нырнуть, как из-за кустов выскочил луч фонарика да, полетав по тёмной земле, выхватил ноги Молчуна.
«Стой, стрелять буду, — раздался зловещий голос полицая. — Кто такие? Комендантский час не писан?»
Молчун ничего ни про какой комендантский час не слышал, но решил не спорить.
«Я это, ваше благородие, — сказал он испуганно. — Молчун».
Фонарик ударил в глаза.
«Молчун? — полицай подошёл, держа руку на кобуре. — Вижу уже… Хм. Гы. Как-то ты мне раньше повыше ростом казался… Что ты здесь шатаешься? Ночь на дворе».
«Пана Каковского домой транспортирую…»
Фонарик бросился в сторону, пан Каковский закрыл лицо обеими руками. Но и без лица было ясно, что это он.
«Снова бежал? — полицай безжалостно, как саблей, изрубил лучом фонарика бедного Каковского. — Вот же не сидится сумасшедшему. Смотри, пан Каковский, сейчас время такое, убежишь в лес, дык подстрелят, как панду. В лесу солдат как ягод летом. Пока что прощаю. Следущий раз арестую и кнута всыплю, не посмотрю, что инвалид».
Пан Каковский вдруг замычал:
«Михаил Антонович Жукович! Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва…»
Но полицаю было всё равно:
«Какой-год, какой-год, — передразнил он. — Ошибка вышла. Сам ты ошибка, а не человек. Дом дали, пенсию дали, а он всё в лес смотрит. Волчина ты больной. Была бы моя воля — застрелил бы и забыл. Ладно, идите, и больше не попадайтесь. Я человек нервный. Шастают по темноте всякие. Работать мешают!»
Пришлось повернуть назад, к дому Каковского.
«Слышишь, Молчун! — крикнул им вдогонку полицай. — Ты сегодня ничего подозрительного не видел? Вот ваш учитель, например…»
Полицай догнал их и снова посветил Молчуну в лицо.
«Что-то мне показалось, какой-то он странный сегодня, — полицай говорил тихо, проникновенно, голос такой, будто Молчун ему был родной человек. — Учитель ваш — он, конечно, да… человек проверенный. Только вот что… Что-то он там у себя пишет ночами. Тебе не показывал? Не делился? Не намекал: зайди, мол, почитай?.. А?»
Молчун подумал, прикинул в голове, что и как следует ответить.
«Нет, — сказал он как можно спокойнее. — Но…»
«Что но?»
«Может быть, вы и правы… — замялся Молчун. — Что-то он мне подмигивать стал. Часто. Я думал, да, нервы, а теперь думаю, может, намекал…»
«Ага, — обрадованно сказал полицай. — Ты тоже заметил? Ну, проверим. Проверим. Может, и ложная тревога. Ты пока никому… Понял? Не надо на человека без вины гнать. Проверим. Но ты поклянись — как что заметишь, сразу мне эсэмэску. Понял, Молчун?»
«Так точно», — бодрым голосом ответил Молчун, и они наконец двинулись обратно. Чтобы, переждав, уже совсем другой дорогой, через поле, обойти быстрым шагом деревню и зайти к саду Юзика с другой стороны.
«Вот он, — Молчун бросился к Стефке. — Пан Каковский. То есть Михаил Антонович Жукович. А это…»
«Помогай бог, — Стефка вышла из-за яблони, будто родилась только что из этой жиденькой тени. — Добрый вечер, Михаил Антонович. Мы ещё не знаем, что с вами произошло, но вы — жертва и заложник не совсем обычных обстоятельств. В наших общих интересах…»
Было видно, что она хочет сказать совсем другие слова. Но такие, по-видимому, были у нее инструкции.
Пан Каковский замер, перепуганно прислонившись к стене. Его лица не было видно. Стефка и Молчун услышали только приглушённый, по-собачьи угрожающий рык:
«Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я… — прохрипел господин Каковский. — Девушка, дорогая, скажите мне прямо…»
Он перестал рычать и всхлипнул:
«Какой сейчас год?»
«Две тысячи сорок девятый, — твёрдо ответила Стефка. — Михаил Антонович, я…»
«Ошибка вышла», — заплакал пан Каковский и упал на колени.
Стефка достала шприц.
«Ты беги домой, я сама разберусь, — бросила она Молчуну. — Это приказ. Завтра всё объясню».
Молчун обиженно смотрел на неё, пытаясь угадать, как она на него сейчас смотрит. Безразлично? Строго? Нежно? Её голос звучал так ровно, так механически, что он впервые подумал: может, она им просто пользуется? Может, ничего такого между ними и нет?
«Молчун, — сказала Стефка горячим, серьёзным, совсем не своим шёпотом. — Ты должен идти. Так нужно для дела. Я обещала тебе про Париж? Завтра будет. А теперь иди».
Молчун повернулся и, оглядываясь, побежал. Издали увидел спину полицая, прикинул, как лучше её обойти, — и вот уже пробирался, стараясь не наделать шума, в свою хату. Осторожно открыл дверь — и тут на веранде зажёгся свет, в дверях появился отец, который вроде бы и не спал вовсе.
«Где тебя черти носят? — замахнулся он на Молчуна. — Я тебе что сказал: чтобы к ночи дома был… Ваше высокоблагородие, это сынок мой, он по девкам бегает, что поделаешь, возраст такой, гормоны играют…»
И Молчун с ужасом увидел, как из-за спины отца на веранду вышел высокий офицер в белой форме, высоких сапогах, фуражке с золотым орлом.
Офицер пригнулся, ступил на скрипучий пол веранды. Губы его были тонкие-тонкие, и сигарета в пальцах такая же, тонкая, длинная.
«Это майор Лебедь, — будто беспрестанно кланяясь, забормотал отец. — Наш высокий гость. Только что приехал, будет у нас следствие проводить. По делу парашютиста. Поскольку местная полиция не справляется. И у нас поживёт. Ты же знаешь, сын, у нас места столько, что на всех хватит. Солтыс его высокоблагородие у нас поселил, сейчас полицая… полицейского нашего пойду искать, познакомить, а ты высокоблагородию постель постели, угощение, и чтоб не молчал, когда высокоблагородие спрашивает…»
Майор Лебедь улыбнулся кончиками губ, рассматривая перепуганного Молчуна.
«Сколько тебе лет?»
«Пятнадцать. Почти», — буркнул Молчун.
«Тебя здесь все так и зовут: Молчун?»
«Да».
«Странно, — майор закурил и поставил на табурет ногу. Идеально начищенный чёрный сапог блестел в свете их мутноватой лампочки. — В Академии меня называли точно так же. Но потом перестали. Знаешь почему?»
Молчун ничего не говорил. Упёрся глазами в этот сапог и сжал кулаки. Голова его кружилась от дыма тонкой сигареты.
«Потому что до конца учёбы на курсе остался я один. Остальные сошли с дистанции».
Молчун не отрываясь смотрел, как высокий сапог под безупречно белой штаниной чуть видно шевелится, словно в нём, как в яйце, готовился вылупиться некто, кто знает о Молчуне всё, всё до последней тайны.
«Молчание — золото», — сказал майор задумчиво, снял с табурета ногу и вышел во двор. Молчун слышал, как он мочится в траву. Над деревней вновь взошла луна. Молчун стоял, не двигаясь, на веранде, пока журчание не стихло. Майор застегнул молнию и тихо завыл, немного запрокинув голову.
6.
Назавтра Молчун, глотнув молока и ухватив холодную картофелину, уже собирался бежать в школу — но майор Лебедь вдруг вырос в дверях и, улыбаясь тонкими губами, загородил ему проход. По лицу майора совсем нельзя было сказать, что он всю ночь работал и лёг только на рассвете, — нет, лицо это, похожее на красивую креманку, было чисто выбритым и вообще свежим, как у ребёнка. Кристально-голубые глаза заглянули на самое дно Молчуновой души:
«Стой. Не спеши. Пойдём сейчас с тобой на работу. Нужна твоя помощь».
Молчун отшатнулся, сжал в руках книги.
«Не могу я, учитель побьёт, — проворчал он мрачно. — Контрольная сегодня».
«С учителем мы разберемся, — улыбнулся майор Лебедь. — Дай-ка сюда свой телефон».
Молчун мрачно протянул офицеру мобилку, майор без труда отыскал номер — и вот уже в трубке был слышен льстивый голос учителя:
«Конечно, конечно, никаких вопросов! Он способный мальчик, а для нашей школы это огромная честь!»
Через минуту они уже шли по деревенской улице: Молчун — сгорбившись, свесив руки, глядя под ноги, на промёрзшую грязь… и ослепительно-белый майор, высоко подняв словно из мрамора высеченный подбородок и с интересом оглядывая окрестности.
«Что-то ты стоптался за ночь», — пошутил майор.
Молчун только хмыкнул. Кто его знает, что у майора на уме. Но шуточки шуточками, а настроение у Лебедя было и правда неплохое.
«Замечательный сегодня у нас с тобой день, Молчун, — говорил майор своим приятным, мужественным, немного грудным голосом. — Все работают, а мы с тобой по гостям. Обойдём тех, кто нам интересен, поговорим, послушаем… В глаза посмотрим. Такая у нас с тобой работа. Сначала с самыми умными надо встретиться — а дальше они подскажут, что делать. Не языком подскажут, так глазами. Мимикой, жестами, намёками. Не захотят — а всё равно подскажут. Люди молчать не умеют, тело всегда говорит, даже во сне. Запомни это. Твоя задача — рядом со мной стоять, моя — слушать и замечать, а их — говорить…»
Как ни удивительно, первым в их списке был полицай. Молчун думал, что майор с ним ночью всё обсудил, что полиция и майор вместе работают — но нет: как они с майором на двор к полицаю пришли, тот сразу в струнку вытянулся, а лицо сделал такое, что Молчун аж пожалел дядьку. Никогда ни перед кем ещё их полицай так не вытягивался.
«Значит, в деревне он, тупая ты башка, — хлёсткими, быстрыми, тяжёлыми словами отозвался майор, когда полицай доложил обстановку и рассказал про все свои старания, поиски и ночные караулы. — Кто у тебя под подозрением? Список ненадёжных, быстро!»
«Да как вам сказать, ваше высокоблагородие… — замялся полицай. — Все надёжные… Я же каждого здесь знаю как облупленного… ну разве что…»
«Что “разве что”? Говорить разучился? Отвечай быстро, ясно, русским языком!»
«Ну вот учитель наш местный… что-то не нравится он мне… Есть в нём что-то такое, слишком… Ночью пишет что-то в хате у себя. Допоздна сидит. Нет, доказательств нету, беседу я с ним провёл, на допросы вызывал. Говорит, тетрадки проверяет, домашние задания. Всё показал, все бумажки свои… не к чему придраться. Но какой-то скользкий он, мутный».
Полицай бормотал, а майор Лебедь на Молчуна поглядывал. Молчун отвернулся, начал в носу ковыряться. А колено дрожит, да так, что никак не унять. Будто не Молчуну оно принадлежит, а чужое совсем, с другого тела взятое и к Молчуну приклеенное. Такого с ним ещё не бывало.
«Каждую хату проверил?»
«Каждую! Без исключения! Каждое строение, в том числе все нежилые. И заброшенные тоже. В том числе конфискованные. Дом предателя Романовского, дом Юзика, дом Петрищенки. Школу обыскал дважды. Ферму вверх дном. К сожалению, безрезультатно».
Майор, прощаясь, развернулся — и Молчун, не оборачиваясь на застывшего полицая, потопал за этим величественным, ослепительно белым пришельцем из другого мира.
«Веди к солтысу», — сказал майор решительно, а сам всё будто что-то в голове записывал.
Солтыс накрыл для майора стол, а как увидела солтысиха, что с дорогим гостем Молчун пришёл, то и ему пирога положила, да ногу чью-то жирную, запечённую, с корочкой, дети в Белых Росах за такую корочку подраться могли, так её любили. Майор помочил тонкие губы самогоном, закурил свою золотую цигарку и велел говорить «по делу».
«Как вам сказать, ваше высокоблагородие… — Глаза толстого солтыса были такие чистые, такие искренние, словно он с неба спустился на минутку, проверить, как тут без него односельчане грешные маются. — В тот день многие в лесу были. Кто на панду ходил, на охоту, кто по грибки поздние, кто мусор на яму возил. Каждый под подозрением может оказаться. Такая она, судьба. Чужая душа — потёмки, как у нас, у русских людей говорится. Я, конечно, за порядком смотрю, всех знаю, но, сами понимаете, в черепную коробку человеку не влезешь…»
Майор Лебедь, казалось, не слушал. Да и не смотрел он на заплывшую морду солтыса — а всё Молчуна глазами ощупывал и улыбался и жмурился, и вился над столом красивый дымок, и падал на пол мягкий лёгкий пепел…
«Я вам вот что скажу…» — нахмурился вдруг солтыс. Обернулся, на солтысиху кулаком замахнулся: «Выйди, Татьяна, у нас тут мужские дела! Поговорить с высокоблагородием надо!»
Солтысиха пулей выскочила из кухни. Солтыс наклонился к столу, протянул руки к офицеру:
«Знаете… Они здесь все вроде и приличные, законопослушные люди, нормальные граждане. Если посмотреть днём… А только стемнеет… Я вам вот что скажу, это моё мнение. Хитрые они тут все. Никому тут так, чтоб на сто процентов, верить нельзя. Только мне с супругой моей и дочерьми… Да вот ещё мальчонка этот и отец его, однорукий, вот за них как компетентный гражданин тоже ручаюсь. Хорошие люди. Вы, ваше высокоблагородие, правильно их вычислили, они свои, до мозга костей, как говорится. Мальчонка этот, Молчун, он, конечно, молчит всё, но это у него от ума и от верности идеалам. А остальные… Давно мечтаю, чтоб профессионал, вот как вы, оценил их опытным глазом…»
Майор Лебедь глазами в Молчуна впился, не отпускает. Как кровь сосёт. У Молчуна аж снова комок в горле застрял.
Дальше пошли к заму по идеологии — но та как начала трындеть, всё как по маслу: как в селе идеологическая работа поставлена на широкую ногу, как воспитывается молодёжь в патриотическом духе, как старикам почёт, остальным дальняя дорога, что майор не выдержал, Молчуну шёпотом приказал бежать и не оглядываться. У попа их уже ждали. Попадья к их приходу торт испекла, «Наполеон», но майор даже пробовать не стал. У Космача тоже стол был накрыт — старый Космач всё под нос майору фото сына своего тыкал и бил себя в грудь:
«Мой сын — защитник Родины. На рубежах империю бережёт. Был бы он здесь, не случилось бы в наших Белых Росах досадное это чэпэ. Полиция у нас, прямо скажем, не сработала как следует — а сын мой, пока в армию не отправили, исполнял в селе функцию дружинника. А этот мальчонка, Молчун его у нас кличут, дык он с моим сыном дружил, не разлить вода просто были. Скажи, Молчун, ты ж нашу семью знаешь? Мы же к тебе всегда как к родному. Правда? Молчун подтвердит. Вот, кивает, видите? Я бы на вашем месте, ваше высокоблагородие, к Каковскому присмотрелся… Вот где загадочный и подозрительный человек, точь-в-точь шпион, жёнке моей, дуре этой, он даже раньше с парашютом снился… А один раз даже в противогазе…»
Они вышли с майором на оттаявшую уже, бледно-жёлтую от грязи улицу.
«Теперь ты у меня кое-что спросить должен, — улыбнулся Молчуну майор Лебедь. — Посмотри на меня и спроси. Если умный, давно уже в голове твоей вихрастой вопрос вертеться должен. Ну? Спрашивай!»
Молчун подумал. Исподлобья посмотрел на майора. Загадка была довольно простая.
«А почему у вас форма не грязная? Как была белая, так и осталась?» — спросил он глухо, слыша, как дрожит голос. На самом деле он не об этом думал, конечно. А о том, как бы скорее к серой гусочке пробраться. А там уже, в тепле курятника, можно и о другом подумать. О том, что с паном Каковским стало, жив ли он. И как это полицай дом Юзика исследовал — а Стефку-то и не нашел. Столько загадок было — что у Молчуна аж голова разболелась.
«Правильно, — одобрил майор Лебедь. — Хлопцы вроде тебя должны замечать такие вещи. Форма белая потому, что ткань специальным составом обработана. Враги — люди дикие, мистические, на них это действует — они везде грязь увидеть хотят и глазам своим не верят. Там, где должна грязь прицепиться, — белизна. Безукоризненная. Это врагов пугает. И они слабее становятся. Ну ладно. Веди к этому вашему пану Каковскому. Посмотрим, что за он, — и домой, отдыхать. Хорошо поработали сегодня, заслужили на печке поваляться».
«А как же учитель? — нерешительно произнёс Молчун. — Мы к нему не ходили, а он…»
«Учитель нас не интересует, — засмеялся майор Лебедь. — Этот ваш полицай — идиот. И пошляк. А пошляки всегда людей пишущих и читающих ненавидят. Запомни. Империи нужны умные люди, образованные. Тонкие, наблюдательные. Поэтому без книги ты только и можешь, что полицаем деревенским стать. Знаешь, что триста лет назад Дени Дидро сказал? Кто перестаёт читать — перестаёт мыслить. А без мыслей ты кто? Американец. Или педераст. Голова человеку для того, чтобы видеть, слышать, думать и анализировать мир. Каждую минуту замечать то, чего другие не заметят. А не для того, чтобы к ней мобилку прикладывать как компресс от безмозглости…»
Молчун со страхом ждал, что же они увидят в доме пана Каковского. Невероятно, но пан Каковский сидел на пеньке возле дома, жив и здоров, насколько он вообще мог быть здоров. Увидел, как на него майор идёт улыбаясь, и глаза выпучил, рот раскрыл:
«Лебединая песня… Красивый какой самец. Извини, птица белая, водоплавающая, но скажи мне, честь по чести молви, какой сейчас год?»
«Откуда он вас знает?» — прошептал Молчун невольно. Сам пожалел, что вырвалось.
«Ничего он не знает, — весело сказал майор. — Обо мне, по крайней мере. А вот кое о чём другом — пожалуй. Давай-ка его разговорим».
Майор сел поодаль, на скамейку, и снова достал сигарету.
«А угостите, а? Ну пожалуйста», — криво усмехнулся Молчун.
«Мал ещё, голова работать не будет, — строго сказал майор. — А зачем мне напарник с неработающей головой? Ну, господин Каковский, год-то у нас сейчас на дворе две тысячи сорок девятый, хотя вашу версию тоже интересно было бы услышать».
Услышав, как Молчун сигарету просит, господин Каковский посмотрел на него с ужасом. На майора он уже не обращал внимания, словно и не было здесь никакого офицера белоснежного. Только Молчун — который судорожно глотал слюну, слушая торопливое бормотание этого дурачка:
«Сказала! — взвыл пан Каковский, махая руками, и плюнул в лицо Молчуну своей жидкой слюной. — Сказала! Сказала, что самолёт прилетит! А сама птицу белую прислала! Ошибка! Опять ошибка! Мальчики кровавые в глазах! Все вы здесь в крови, все, яблоня от яблока недалеко падает, а под яблоней медсестра!»
«Тихо вы, — цыкнул Молчун на пана Каковского, умоляюще подмигивая, так офицер всё равно глаз его не видел, за спиной сидел. — Пан Каковский, поспать вам надо!»
И на Лебедя обернулся: ну дурачок же, что с него взять?
«Нет, продолжайте, — выставил белую ладонь майор Лебедь. — Интересно послушать».
Пан Каковский вдруг вспомнил что-то, выхватил из-под мышки берёзовый маузер, наставил на майора и сказал, обнажив десны:
«Бах!»
«Ой, — спокойно ответил майор Лебедь. — Я, кажется, убит».
«Видите, — бросился к нему Молчун. — Больной он, нет от него толку».
«Кажется, он ещё не кончил, — повёл тонкой бровью майор Лебедь. — Молчи и слушай».
Но пан Каковский уже выпустил из рук пистолет, упал на колени и, приняв свою любимую позу, забормотал что-то, будто молитву завёл. Глаза его сделались мутные, стеклянные, как самогона кто в них налил, искусанные губы двигались с трудом, а ногти драли пожелтевшую траву, грызли землю, да слюна брызгала во все стороны. Молчун отошёл к майору, отвернулся, но не мог не слушать и уши заткнуть тоже не мог. Пан Каковский уже не видел ни его, ни Лебедя, ни улицы, по которой пробегали, вытянув любопытные шеи, жители Белых Рос:
«Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я… Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я…»
Майор слушал это, прищурившись, — казалось, беспорядочные звуки, что вылетали изо рта Каковского, приносили ему невероятное наслаждение. Словно он сидел на концерте, этот белоснежный офицер, и впитывал в себя силу и гармонию прекрасной музыки.
И, только когда Каковский обессиленно замер и рухнул грязным лицом в траву, майор неслышно поднялся и поманил Молчуна пальцем. Они вышли, закрыв за собой калитку.
Домой шли мимо Юзиковой хаты. Молчун подумал, что надо обязательно заговорить, а иначе пустота молчания выдаст его мысли — и чужие тоже. Мысли той, за которую он сейчас был в ответе.
«А завтра? — спросил он таким тоном, будто майор был ему отцом. — Мне в школу… Или снова… поработаем?»
Майор посмотрел на него долгим, испытующим взглядом.
«Посмотрим».
Однако на следующий день майор уже не звал его ходить по деревне. Его и видно нигде не было, этого майора. К Стефке Молчун ночью не пошёл конечно — теперь всё изменилось, такое ощущение было, что везде, куда ни сунься, тебя достанет улыбчивый и острый взгляд майоровых глаз. Поэтому Молчун вечер с гусочкой провёл, а всю ночь возле печки пролежал, слушая, как в соседней комнате топают беспокойные майоровы сапоги. Утром Молчун вышел на кухню — тишина. Значит, надо в школу. Молчуна даже укололо какое-то странное разочарование.
В школе его встретили совсем не так, как всегда. Учитель так на Молчуна вообще старался не смотреть, Молчун даже партой скрипеть начал, умышленно, противно так — ноль внимания. Ни по пальцам не получил, ни хотя бы команды положить руки на парту. И к доске не вызывали. И девки на Молчуна так смотрели, будто готовы были любой его приказ выполнить. Все, кроме Любки. Та смотрела лукаво, нагло, будто усмехалась его неожиданной важности. А на перемене подошла, села рядом, коленку выставила:
«Что, Молчун, молчишь всё?»
«А тебе что?» — огрызнулся Молчун, чувствуя за собой силу. Он теперь помощник офицера был. Должна же Любка понимать: скажет Молчун пару слов майору, он ей с радостью плетей пропишет.
«Думаешь, ты такой классный? — Любка хихикнула. — Героем себя считаешь. А уж когда в зеркало смотришь, то даже не знаю, кем ты себя представляешь. Видно, Андреем Белогоровым?»
Андрей Белогоров — это такой актёр был. Все девки по нему сохли. У каждой на телефоне его фото было: красавчика в форме Императорского флота. Из фильма «Мельбурн наш». Молчун презрительно отстранился от этой наглой коленки.
«Никакой ты не Андрей Белогоров, — окрысилась Любка. — А просто — Молчунок. Роста в тебе всё меньше, а гонору всё больше. Что, думаешь, расскажешь своему офицеру и меня накажут? Дурак ты. Я же тоже рассказать могу про тебя кое-что. Не веришь?»
«Да кто же девкам верит», — осторожно сказал Молчун.
«А вот если поцелуешь меня — не расскажу, — пододвинула к нему костлявый подбородок Любка и сложила пухлые губы бантиком. — Поцелуешь, вот прямо сейчас — и я ведь тогда уже девушка Молчуна буду, а девушка Молчуна молчать должна. Ой, в рифму получилось!»
Молчун недоверчиво сплюнул и поднялся, показывая всем своим видом, что даже сидеть рядом с Любкой — ниже его достоинства.
«Ну, ладно, — пожала плечами Любка. — Что я, не знаю? Всё о тебе знаю, Молчунок, всё…»
«Ну что ты уже знаешь?» — презрительно процедил Молчун.
«Знаю, что ты с гусями затискаешься… — загнула Любка палец с кроваво-красным лаком, густо намазанным на ноготь. — Ну, это все знают. От тебя курятником воняет. И ещё что-то знаю…»
«Не знаешь ты ничего, дура», — покраснел Молчун.
«Знаю, например, что ты по ночам в хату, где Юзик жил, лазишь… А что ты там делаешь? — Любка игриво надулась. — Хотя и это я знаю…»
«Врёшь ты всё, — голос Молчуна задрожал. — Никто тебе не поверит, потому что неправда это. И про гусей, и про хату…»
«Ну, ладно», — согласилась эта кукла и сделала вид, что уходит.
И тут Молчуну стало ясно, что нужно Любку задержать. Обязательно задержать, и, как бы ему ни хотелось плюнуть ей вслед, Любка теперь для него человек важный. Может, даже важнее всех.
В данный, так сказать, момент.
«Подожди», — он коснулся её талии, и она, как будто только и ждала, обвилась змеёй вокруг его руки, прижалась к Молчуновой ладони своей совсем взрослой уже задницей, вернулась на лавку.
«Ты не спеши, — сказал Молчун. — Конечно ты мне нравишься. Просто… Ну, боязно мне как-то… Да и Космач… Вдруг вернётся? И что люди подумают?»
«Ой какие мы трусишки, — сказала Любка, плотнее прижимаясь к его плечу. — А Космач сказал бы, что с дуба на всех насёр. И делов».
«Ну, я не Космач, — буркнул Молчун. — У меня другие скорости. Так что я, по-твоему, в Юзиковой хате делаю ночами? Хотя предупреждаю, брехня это всё. Перепутала ты меня с кем-то».
«Ну, что-что… Ясно что. Не… Ты меня поцелуй сначала…»
Молчун неумело ткнулся ей губами в холодную щеку.
«Ой, как романтично, — пропела Любка. — А ещё?»
«Давай после школы встретимся, — заговорщицки предложил Молчун. — Типа назначаю тебе свидание. Только скажи, что я там делал, у Юзика?»
«Вот на свидании и расскажу», — пообещала Любка.
И тут же задребезжал дурной звонок.
Договорились встретиться возле церквушки, в восемь. Идя домой мимо Юзиковой хаты, Молчун не выдержал и одним быстрым взглядом ощупал тёмные окна, стреху, сад, двор. Но ничего не выдало там присутствия живого существа.
7.
«Смотри, что мне его высокоблагородие презентовали», — гордо потрясая кадыком, отец торжественно достал из-под пазухи её — тонкую золотую цигарку.
«Видел когда-нибудь такое?»
Молчун невольно потянулся к презенту — но отец дернул рукой, сверкнул сурово глазами, и золотая трубочка спряталась в его широком синем пиджаке. Этот пиджак ещё мама покупала, в автолавке — когда-то раз в месяц такая лавка приезжала в Белые Росы, и было в той автолавке всё что душа пожелает. Шмотки из самой Москвы, и сигареты с фильтром, и патроны к любому охотничьему ружью, и футляры для мобилок, а ещё флэшки, да прозрачный скотч, да виски, да журналы смоленские, хочешь, про спецназ, а хочешь, эротика, но не порнография, а такая, что церковью нашей имперской всероссийской одобрена.
А ещё тогда, отец рассказывал, можно было в автолавке заказать мебель из Петрозаводска — с самого завода «Патрикея», который наши у шведов отбили, в качестве военной добычи. Раньше он по-другому назывался, но как только снова русским стал, то получил наше, исконное славянское наименование. Когда-то наши люди за кровати и торшеры «Патрикеи» душу готовы были дьяволу продать, так рассказывала зам по идеологии, но завод давно уже русский и сейчас каждый себе его продукцию позволить может. Только вот автолавка давно уже в Белые Росы не ездила — всё магазинное, городское им на вертолёте сбрасывали. Удобно: по интернету закажешь, через месяц всё получаешь, что в интернет-магазине выбрал. Что ни говори, интернет удобнее, чем автолавка. И на телефоне он есть, и дома у каждого, хочешь — сериалы смотри, хоть до усрачки, хочешь — каталоги рассматривай, пока в глазах не зарябит. А хочешь — жми на кнопку и заказывай.
Всё, что душа пожелает. Душа. Интересное слово. Душное, шипящее, пушистое. Как кошка.
Может, Любке какой подарок по интернету заказать, подумал с тревогой Молчун, пробираясь вечером к церквушке.
Девки подарки любят.
Любка так точно, если подарок получит, язык свой длинный попридержит. Молчун знал это наверняка — и всё же чувство какой-то вины мучило его, не давало взять себя в руки и решить одним усилием воли все проблемы. А проблем становилось всё больше. И не Любка была виновата, что оброс он ими, как лесной человек волосами. А кто был виноват?
Стефка конечно.
Молчун снова и снова вспоминал тот момент, когда впервые её увидел. И все её рассказы вспоминал. О том далёком мире, которого, может, и не существовало никогда. Но он верил. Верил и никак не мог на все свои вопросы ответы найти. Поэтому и пришлось ему Любку за нос водить. Недалёкую Любку с губками бантиком. Которая, если разобраться, ничего ему плохого не сделала — кроме того, что случайно, чисто случайно в жизни рядом оказалась.
А что делать? Правду ей сказать? Не… Остаётся только обдурить. Переживёт. Ну, не под венец же ему с ней идти.
Церквушка в Белых Росах была старая, облезшая, зато с позолоченным куполом. Поп тем куполом очень гордился — сам протирать лазил весной, а попадья внизу стояла, стерегла, чтобы не упал. Церквушка торчала на отшибе, а за ней уже лесок начинался, в котором парочки из Белых Рос обычно отношения завязывали. Как старый Космач говорил, дипломатические. Раньше, когда хлопцев в деревне побольше было.
Там, в лесочке, и условились Молчун и Любка на свидании встретиться.
Поп рассказывал, церквушке этой, святого Владимира, уже лет под двести. Полтора века назад здесь овощи хранили, потом клуб был, а потом вообще снести собирались. Но в эпоху русской смуты снова церковь открыли, она на весь район одна была, да только народ, который на церквушку деньги давал, всё равно параллельно с религиозными потребностями к бабке-шептухе бегал. Оно ведь как: на бога надейся, а сам не плошай. Так ихние люди и там и там успевали — чтоб уже стопроцентный результат получился.
Дошёл Молчун до церквушки, перекрестился, как поп в школе учил. И за ограду, да в кусты, туда, где вокруг костра чурбаков навалено было, ящиков, бутылок… Место намоленное — он здесь не раз бывал, мальцом ещё, была у них забава такая — тех, кто здесь тискался, в темноте пужать. Хлопцы в москали пошли, а девки все по солдатам из ближайшей части вздыхают. Одна Любка, королева села, своих же хлопцев арканит.
Любка уже сидела здесь на ящике из-под пива, потянулась к нему, едва только увидела. Молчун скользнул верхней губой по её бантику, нерешительно положил ей руку на талию. Сел рядом, насупился.
«Ну говори».
«Что?»
«Ну ты же обещала. Рассказать. Что я будто бы ночью в доме Юзика делаю. Давай. Я слушаю!»
Любка обиженно отпрянула от него, руку его с талии сбросила. Да и отвесила ему ни с того ни с сего пощёчину.
«Ты чего? Как дам сейчас больно! — рассердился Молчун, потирая скулу. — Баба ты дурная!»
И тут он заметил, что Любка сама чуть не плачет. Вот же чёрт, вот же чёрт бы тебя побрал, думал он лихорадочно, испытывая к Любке что-то такое уж странное, почти нежное — словно гусочка его серая Любку крылом своим от него закрыла. От неловкости он начал ногти грызть.
«Ты чего? — зашипела Любка. — Совсем мозгов нету? У нас же свидание!»
«Ну ладно, Любка, прости, — Молчун снова её обнял, она поддалась, всё ещё дрожа от злости. — Я ж не обучен, что там обычно на свиданиях делают».
«Ты что, “Русский Титаник” не смотрел?» — Любка вытаращила на него глаза.
«Не-а».
«Тогда вместе посмотрим… — Любка вдруг полезла к нему на колени. — Ну что ты как дурень. Сначала нужно девушку обнять, помолчать, потом за руки подержаться, потом можно мне на коленку руку положить, а я тебя по пальцам, по пальцам! Вот так!»
«Что ты меня всё терроризируешь? — Молчуну надоела эта бессмысленная игра. — Ну ладно, вот, держи».
«Потом надо в любви признаться, потом поцеловаться, но уже не так, а взасос, по-взрослому… — учила его Любка. — Умеешь?»
«Научусь. Только если расскажешь, что ты про меня знаешь, — Молчун сделал строгое лицо, губы сжал, чтобы были тонкие, как у Лебедя. — Зуба даю».
«Вот же хлопцы, один с дуба, второй зуба, — разочарованно сказала Любка. — Ну хорошо. Ты там в хате Юзиковой голых женщин рассматриваешь. В журнале. И с ними говоришь. Мне дочка солтыса по секрету сказала. Она тебя видела. Все вы, хлопцы, в вашем возрасте такие. А у Юзика такие журналы в хате есть, он старый извращенец был, это все знают, но никто не признается. Ведь кто же в знакомстве с Юзиком признается… Вот расскажу всем, чем ты занимаешься, тебе плетей и в школе, и от зама, и от полицая выпишут!»
И Любка победно посмотрела на Молчуна. Но разочарованно отвернулась — на его лице было какое-то глупое облегчение.
«А может, ты там с кем встречаешься тайно? А, Молчун? Или нет! Придумала! Ты там не голых женщин, ты там журналы по гусеводству рассматриваешь! И на них дрочишь! Тебя гуси возбуждают! У тебя даже на меня не стоит! Я же вижу!»
Молчун скривился, как от зубной боли.
«Ну ты и дура, Любка! А я тебе ещё подарок заказать хотел, по интернету. Пудру там, шмудру… А ты сама всё испортила…»
«Подарок?» — Любкино лицо вспыхнуло от интереса.
И тут в кармане у Молчуна зазвонила мобилка. И на сердце как-то тяжело стало, будто камень кто на грудь положил.
«Да», — сказал он, прижав телефон к уху. А Любка эта, дура, змеёй свернулась, да руку вывернула, да под ухо ему пальцами своими лакированными прыгнула — и невесть каким образом мобилка в её руках оказалась. И вот уже она её к своему уху прижимала. Молчун повалил её, чтобы забрать.
«Там девка! — зашептала Любка, сделав страшные глаза. — Чей это голос? Не могу узнать! Девушка! Ну Молчун, ну скотина! Ну кобель! Со мной крутит, бесстыдная рожа, подарки обещает, а сам…»
«Да», — задыхаясь, сказал торопливо Молчун, поднимаясь с горячего Любкиного тела, — он и не думал, что она такая приятная на ощупь.
«Молчун, — заговорила трубка быстро и деловито. — Это я, Стефка. Если ты не один, кашляни. Это важно».
Молчун закашлялся.
«Я сейчас, — сказал он, делая страшные знаки Любке, чтобы не шла за ним. — Сейчас. Слышишь? Говори!»
И так и побежал, с телефоном возле уха, к большому лесу. Бежал и шептал, и слова всё равно выходили криком, сорванным, влюблённым:
«Ты где? В лес не убегай, там повсюду солдатня. Я что-нибудь придумаю!»
Наверное, ему показалось, но в трубке послышался нежный смех.
«Слушай внимательно, — Стефка произносила слова спокойно, чётко, словно ему в школе диктовала. — Я на старом месте. Ко мне не ходи. И вот твоё второе задание. Сделай так, чтобы человек, который вышел из поликлиники на улице Киселёва, не говорил с птицей. Ты понял?»
«Да!»
«Повторю: чтобы человек, который вышел из поликлиники на улице Киселёва, не говорил с птицей. Он не тот, за кого себя выдаёт. Ясно? Тогда у нас есть шанс. Молчун? Ты меня слышишь?»
«Да».
«Ты же ещё не получил ответы на все свои вопросы. Правда?»
«Да».
«Ты их получишь. Обязательно получишь. По этому номеру не звони. Всё. Кип калм!»
«Что?»
«Всё. Обнимаю. Молчи».
И в трубке пошли гудки. Ошарашенный, Молчун ещё несколько секунд слушал их — и всё надеялся, что услышит опять этот голос.
Голос, который мог всё объяснить, — но не хотел.
Пока Молчун добирался до дома пана Каковского, успел успокоиться. Теперь он даже песенку насвистывал, чего с ним раньше не случалось. Зашёл сбоку хаты, шмыгнул в огород, постучал в окно.
«Пан Каковский!»
Ничем хата пана Каковского не отозвалась. Разве что загудел ветер в стрехе и невидимая последняя муха с той стороны стекла забилось сонно да пояснила, раздражённая, что нет хазззяина, пошёл хазззяин, и кто знает куда…
Молчун обогнул дом, толкнул дверь. Вонь бросился в нос, заставила на секунду задохнуться. Молчун включил свет. В доме пана Каковского было сыро, на голом матрасе желтело пятно, в углу крыса доедала засохший творог. И повсюду валялись книги… Молчун подобрал одну, развернул и стал читать. Что-то про первобытных людей. Мол, лесов всего два. Один андертальский, а второй нет.
Он обвёл глазами комнату — и вдруг догадался. Выскочил опрометью из хаты и помчался по улице.
Он бежал, высоко поднимая ноги, перескакивая замёрзшие лужи, подлетая в воздухе, словно на велосипеде с трамплина бросался в бездну, ноги уже сами весело несли его, молотя грязь, — и всё равно чувствовал, что бежит он как-то слишком медленно. Раньше бы он такое расстояние минут за семь одолел, а тут ему показалось, что бежит он уже целую вечность, а впереди ещё только засветил огонёк отцовского окна.
Ещё достаточно далеко от него, но уже чёткая, кривая, напряжённая, к этому светящемуся окну уходила фигура человека.
Увидев её, Молчун словно мотор в себе почувствовал. Как задал ходу вперёд — аж сам уже не разбирал, что перед ним, только ветер свистел в ушах.
Спина становилась всё ближе. Знакомая спина с торбой на плече.
«Пан Каковский!» — Молчун схватил его за рукав. Перед глазами было темно: то ли он зрения лишился, то ли месяц спрятался, чтоб не видеть, что сейчас на земле твориться будет, то ли смотрел Молчун не в лицо господину Каковскому, а в его брюхо, выглядывающее из-под расстёгнутого грязного пальто.
Пан Каковский остановился — и на лице его болезненном мелькнула злоба, да такая, что Молчуну страшно стало.
«Ты кто такой? — спросил пан Каковский, пытаясь отцепить руку Молчуна от своего рукава. — Застрелю тебя! У меня пистолет!»
«Пан Каковский! — Молчун ещё сильнее вцепился в этот вонючий рваный рукав. — Михаил Антонович! Скажите, что вы не в нашу хату! Что не к Лебедю! Скажите, ну пожалуйста!»
«Возвращаясь из поликлиники по улице Киселёва, я… — завёл пан Каковский, пряча глаза. — А какой сейчас год? Скажи мне, мальчик!»
До их с отцом хаты, где жил теперь белоснежный майор Лебедь, оставалось полсотни шагов.
«Михаил Антонович, — Молчун чуть не плакал. — Я же знаю. Не ходите вы туда. Вы же её погубить решили. Падла вы, Михаил Антонович. Она вас от шизофрении вылечила, она на вас понадеялась! Вы ж теперь могли человеком стать!»
Он обессиленно отпустил руку. Пан Каковский махнул драным рукавом и достал свой берёзовый пистолет.
«Бах! — сказал он голосом человека, которому вдруг стало неинтересно. — Ты убит».
Молчун стоял перед ним, размазывая по лицу жгучие слёзы.
«Идите домой, а, Михаил Антонович! — умоляюще зашептал Молчун, оглядываясь. — Не губите её! Она сказала, что всё будет хорошо. Я ещё не на все вопросы ответы получил! Будьте ж вы человеком!»
Пан Каковский отвернулся.
«Вылечила… — проговорил он сердито. — Против власти пошла. Не наша она, Молчун. Не наша. Заброшенная к нам врагами. Говоришь, человеком мне нужно быть? А кем я был, по-твоему? Человеком! Живи себе, книжки читай, делай, что хочешь. Все только посмеются. Полная свобода самовыражения. Хорошая работа с перспективой карьерного роста, дружный коллектив, офис в шаговой доступности от метро, то есть от спецраспределителя. Оплачиваемый отпуск. Все социальные гарантии. Премии. Что молчишь?»
«Михаил Антонович! — Молчун глотал свои слёзы и оглядывался в поисках того, кто остановил бы все эти признания. — Не говорите так!»
Пан Каковский наклонился к нему:
«Не говорить? Я хорошо жил, лучше некоторых. Трудился. Работа непыльная. Слушай и пиши, куда надо. Раз в год. А она мне: я вам помогу, мы здесь вместе всё поменяем, надо только людям глаза раскрыть! Я, конечно, подумал, перед тем, как её разоблачить решил. Узнать хотелось, сколько предложит. А она всё мне про какую-то демократию, про запад, про манипуляции, блядь, сознанием. Я и так сознательный! Посознательнее некоторых!»
«Пан Каковский! Вы не можете!»
«Нет, Молчун, — пан Каковский шмыгнул носом и оглянулся на хату: веранда как раз осветилась изнутри тёплым и каким-то пьяным огнём лампочки. — Пойду и расскажу всё его высокоблагородию. Я законопослушный. Мне за это, может, орден дадут. И тогда ни одна собака тут мне не указ будет. Сам ветераном стану! Ещё и жену назначат. А может, и в Москву заберут. Оценят талант. А тебя мы на каторгу отправим. Надоел ты мне, всё лезешь, да ещё врагам империи пособничаешь. Сидел бы, гусей своих целовал. Так нет, соблазнила тебя Америка-Европа. Малой ты ещё о геополитике думать и против власти императорской идти. Вешать вас надо, и тебя, и отца вместе с тобой на одной осине, за то, что не уследил, козёл однорукий…»
И тогда Молчун бросился ему на шею и вцепился в горло зубами.
Пожалуй, каждый, кто в Стратегическом лесу на панду ходил, так смог бы.
Такая она, жизнь в Стратегическом лесу, на Западной границе, на окраине Великой зимы.
Тёплая кровь брызнула в рот Молчуна.
Не думал он, что такой большой пан Каковский. Такой, что всё небо над Белыми Росами заслонить может. И что такой тяжёлый, тоже не думал. Через поле в хату назад затянуть хозяина — это вам не хухры-мухры. Но Молчун справился. И плевать, если кто увидит, думал он, волоча тело по холодной земле картофельного поля. Подумают, напился пан Каковский. Бывает. Главное, чтобы помогать не бросились.
Когда-то ходил он с паном Каковским в лес и обратно, чтобы не очень пан Каковский далеко убежал, и казалось в то время Молчуну, что этого убогого мужичонку можно на плечо забросить и отнести куда захочешь. А теперь то ли пан Каковский подрос, то ли Молчун и правда в землю родную ногами так глубоко провалился.
Закопал Молчун торбу возле дороги. Почистил одежду. Посадил пана Каковского на его кухне, не зажигая свет, — и вышел, закрыв за собой дверь.
Бах.
Ты убит.
«Ты где шатаешься? — напустился на него отец. — Тебя его высокоблагородие дожидается».
Молчун, чувствуя, как ноги подкашиваются от усталости, проковылял по хате и упал на диван. Майор Лебедь, который сидел у печки, погружённый в свой планшет, удивлённо поднял голову:
«Ничего себе. Вы здесь все такие со свиданий приходите? Ты же на пугало похож. Чтоб помылся перед сном. Вы там чем со своей подругой занимались? Вагоны разгружали?»
Молчун не отвечал. Ему хотелось одного — умереть.
Но сначала получить ответы.
Хотя бы один.
И во рту всё ещё был вкус чужой крови. Человеческой. Молчун несколько раз прополоскал рот водой из колодца, сушёной мяты пожевал, из жвачки все соки выжал — а где-то около гортани, и за щекой, и на языке всё равно были они — свежие тёплые брызги, которые радостно обволакивали рот.
«Иди сюда, — властно сказал майор Лебедь. — А ты, батяня, ступай на кухню, сыну чайку организуй и поужинать. Что-то он у тебя с каждым днём мельчает. Заморишь ты его, а он парень способный. Жаль будет расставаться».
«Так точно», — отец бросился за дверь, загремел посудой; с ней он одной рукой хуже обходился, чем с тяжёлой двустволкой в лесу.
«Скажешь мне, что это? — майор разложил перед Молчуном помятые страницы, вырванные из школьной тетрадки. — Или мне самому нужно догадаться?»
Это были рисунки. Его рисунки.
Солтыс в виде жука, поп — как черный шкаф, полицай — как гриб сухой несъедобный, зам — как свежевыструганный гроб, а Космач — как блин коровий…
И Стефка — как птица чёрная.
И майор Лебедь — как птица белая.
И серая гусочка.
«Ты рисовал? — безразличным голосом спросил майор и достал сигарету. — Или это не твоё и мне показать это в школе?»
«Моё», — одними губами сказал Молчун, чувствуя, как к горлу подступает комок.
«Фух, — майор вытянул тонкую шею. — А я уж думал, соврёшь. Плохо я о тебе думал. Признаю. А рисунки замечательные. У тебя талант. Кто это на них? Вот это — кто?»
«Космач, — сказал Молчун, осмелев. — Его в… в армию забрали недавно».
«А это?»
«А это… староста».
«Похож. Урод, каких мало. А это? Постой. Дай угадаю. Это… полицай?»
«Да».
«А вот эта птица? Чёрная?»
«Это подруга моя, — соврал Молчун. — Я от неё как раз пришёл. Только вы ей не показывайте. Девки, они ж обидчивые».
«Что ты, — откинулся майор к печке. — Мы же с тобой мужики. Свои люди. Никому я ничего не покажу. Рисуй дальше. А пан Каковский здесь есть? Нету? Ну, чёрт с ним, с идиотом этим…»
«Можно, я спать пойду?» — Молчун чувствовал, что его сейчас стошнит. От белой формы, от золотой сигареты, от вкуса во рту.
«Пойдёшь, когда я скажу, — майор посмотрел на него стальными с голубым отблеском глазами. — Смотри. Что это за язык? Что за слово? Ты раньше ничего подобного не видел? Может, бумажку какую-нибудь находил? Надписи на дереве?»
Молчун, покачиваясь, взял в руки планшет.
Imatuzu donk mau sutika-vedoje, onk balbuzu nau u ottou-amglutima… donk tisonk onk sidonk…
«Не видел я такого… Это мерыканский язык?»
«Да нет… — майор спрятал бумажки. — Сам ты американский. Учи языки, Молчун. Учи. Тот, кто знает язык врага — уже на полпути к победе. Но сначала выучи русский. Как следует выучи. Без него ты никто. Понимаешь? Хорошо молчит тот, кто молчит по-русски. Ну всё, всё, ступай… Завтра у нас много дел».
8.
Среди ночи Молчун вдруг проснулся — словно очнулся на дне непроницаемо-чёрного, скользкого, замёрзшего по стенам колодца. Он не сразу понял, где находится, он только что сражался с кем-то огромным, хрипловатым, затянутым в колючую кожу — и пытался сбросить этого кого-то с себя, но не мог уже больше сопротивляться, понимал, что погибает. Пробуждение пришло как спасение, но облегчения не принесло: чудовище исчезло, зато теперь самого Молчуна поглощала тьма. И он не знал, в какую сторону ему двигаться.
Вот была бы гусочка серая с ним. И тогда можно было бы вместе подняться в воздух, с головой броситься вверх, туда, где жил пульс этой темени, и попытаться достать до какого-то другого, не существующего для остальных дна.
Он подумал про гусочку, её тепло, её сморщенные лапки, которые так приятно гладить пальцами — как листья осенних деревьев, когда стоишь один на опушке и смотришь на то, как заходит солнце.
Молчун нащупал около подушки телефон, экран засветил в лицо. Пять утра. У дверей привычно храпел отец — будто попрекал кого-то. Выпил и попрекал — не слушая, сбиваясь, теряя нить, но возвращаясь к своей обиде снова и снова.
А за стеной, как маятник, всё стучали и стучали по половицам сапоги майора. И когда он только спит? Как не падает с ног после дневной службы и хронического недосыпа? С утра майор всегда имел цветущий вид — словно отдыхал на курорте. А что, подумал Молчун, чем не курорт их Белые Росы? Лес. Воздух. Еда. Экология. Экзотика. Всё своё.
Лес. Воздух. Еда. Экология. Экзотика. И Стефка, что скрывается в доме, где Юзик жил. Стефка, которую принёс западный ветер. Стефка, которую он спас ценой чужой жизни. Стефка, которая каким-то чудом скрылась от полицая и которую до сих пор не смог разоблачить даже сам майор Лебедь. Та самая Стефка, которая обещала ему рассказать о том, чего Молчун никогда в жизни не увидит. О том, где Стефка бывала, где мёд-пиво пила, кебабы ела, в отелях спала, стихи писала, под дождь попадала, кофе сёрбала.
О городе Париж: Париж, говоришь? — Париж-спорыш, Париж-кыш-кыш.
Да о Берлине-марлине, Берлине-курлине, Берлине-магрибине.
Да о Вильно. Да о Лондоне. Да о Стокгольме.
Да о нём.
О Минске-Хрустальном.
О Минске, который был совсем близко, за Стратегическим лесом. Руку протяни и поймаешь.
Если Стефке верить, всё это существует, никуда не делось, не сгорело и не развеяно над землёй вечным пеплом, а живёт и пахнет, да воняет заводами, да шуршит книжками, да мусорит деньгами, да кричит дикими песнями, да эсбанами лязгает, да болтает бальбутами — миллионами голосов.
И Молчун снова закрыл глаза — и не понимал уже, где сон, а где явь.
А потом пришло утро — солнечное, со стайками весёлых теней, которые пробегали по двору, с последними перелётными птицами. Молчун потянулся сладко — сам не веря, что вчерашний день закончился и прошла ночь, а он жив и здоров, и такой молодой, что вся земля ему завидует. И пятки не достают до конца кровати.
Он вышел на кухню и лоб в лоб столкнулся с отцом. Майор сидел за столом и пил кофе. Не их, деревенское, через интернет заказанное, а какое-то своё. Видимо, не хуже Стефкиного. А в банке из-под кильки блестели золотые окурки. По-другому начала пахнуть их хата, когда майор в ней поселился. Словно они с отцом становились здесь понемногу чужие, а хата слушалась майора Лебедя — убоивалась, как покорная жена.
«Доброе утро, — поздоровался майор, как всегда, в хорошем настроении, подтянутый, с идеально ровной спиной и тонкой, вовсе не солдафонской шеей. — Выспался? Это хорошо. Дел сегодня много. А мы тут с батяней твоим дичь обсуждаем… Дичь, Федя!..»
И майор засмеялся.
«Знаешь эту шутку? Федя, дичь!»
«Я не Федя», — сказал Молчун, наливая себе холодного молока.
«Не знаешь? — удивился майор Лебедь. — Вся империя знает, а ты нет? Это ещё от наших прадедов пошло. Сейчас проверю, откуда точно эти слова… Вот. Вторая половина прошлого столетия. Бриллиантовая рука. Тогда, в довиртуальную эпоху, люди смотрели так называемые кинофильмы. Такой вид визуального искусства. И этот кинофильм был одним из самых популярных у русских людей. Он про шпионов и контрабандистов. Впрочем, я не любитель древностей…»
«Я тоже где-то слышал про эту дичь, — охотно подхватил отец. — Может, прабабка, когда я мальцом был, рассказывала… Так что, ваше благородие, какую гуску подать на ужин? Белую, жирную? Серую? Или, может, чёрную?»
«Какая же это дичь! — сказал майор. — Дичь — это дикая птица. Лесная. Вы здесь на этих ваших пандах совсем свихнулись. Сами в дичь превратились, в человечью. Что, лень уже птицу пострелять в лесу? Это же одно удовольствие: в воскресенье, с утра пораньше, вышел из дому с ружьём… Красота. Перепела, глухари…»
«Перевелись уже те перепелы… Но найдём. Если лесная, дикая, то есть здесь у нас одна… — задумался отец. — В курятнике сидит. Серая утка-гусь, она от своих отстала, когда они в тёплые края летели. Больная, наверное, а может, кот крыло ободрал, или панда напал в темноте. Бывают такие случаи. Молчун мой ту утку подобрал, выходил, дык она у нас в курятнике с нормальными гусями да курами живёт. Можем зажарить вечером, если ваше высокоблагородие желает. Только мясо у неё специфическое…»
Молчун с ужасом смотрел то на отца, то на майора — но они, кажется, не замечали его умоляющий взгляд.
«Дичь живёт в лесу, — наставительно сказал майор. — А не в курятнике. Тебе что, в башку твою тупую такая мысль не приходила? Дичь — от слова «дикий»! Ладно. Будем дальше свинину жрать. Если, конечно, это и правда свинина. Ты куда собрался, Молчун?»
«В школу», — опустил голову Молчун, схватив книжки.
«Нет, сегодня ты мне нужен, — строго сказал майор Лебедь. — Учителя предупрежу. А забуду — сам завтра скажешь, что со мной весь день работал. Бросай книжки, пойдём, надо кое с кем повидаться».
И они снова вышли на улицу вместе с майором — Молчун впереди, майор чуть поодаль, при полном параде.
Они прошли мимо дома Текли, мимо Гавриленков, увидели, как бежит в школу малая Волька (вот же всыплет ей плетей учитель за опоздание!). Прошли дом Космачей. Полиция за спинами осталась. Вот и солтыса дом. Заблестела вдали церквушка. Прошли хату, где Любка с родителями жила. Учителева усадьба — на самом деле, конечно, обычный дом, только на чердаке учитель себе балкончик устроил, поэтому и стали про неё говорить: усадьба…
Молчун, конечно, догадывался, куда они идут. К пану Каковскому, куда же ещё. С каждым шагом вчерашний страх возвращался, всё сильнее цеплялся за сердце Молчуна, которое вдруг стало такое большое, что хоть ты его запихни поглубже, чтобы не торчало. Молчун представил себе, что они увидят, когда придут и отопрут двери. Перекошенное лицо пана Каковского, жилистую шею, перевязанную полотенцем, словно модным шарфом. Мух, ползающих по неподвижному лбу. Мёртвый свет в закопчённых окнах. И мёртвую руку, холодную, жёлтую руку, которая уже никогда не поднимется, чтобы сдуть ту глупую последнюю муху…
Майор шёл упругим шагом, безупречно белый, улыбался позднему упрямому солнцу, рассматривал заборы, спины, животных, старые ставни на разноцветных хатах.
Вот и дом Юзика. Майор вдруг повернул и открыл калитку.
«Ну что, пришли, — белозубо, тонкогубо улыбнулся он Молчуну. — Сейчас поговорим. А ты слушай. Слушай и запоминай. Начинаем работать».
Он подошёл к двери и постучал.
«Тук-тук, кто в домике живёт? — весёлый крик майора настолько не соответствовал серьёзному, деловому, какому-то очень взрослому и не совсем живому виду Юзиковой хаты, что Молчун аж глаза закрыл. — Гости живут! Так покажись, гость ты наш дорогой! И не вздумай убегать, дом окружён, ты под прицелом!»
Хата Юзика молчала.
И Молчун молчал.
Он ещё верил, что всё как-то обойдется. Должно было обойтись. Не могло просто так кончиться.
«Ну ладно, сам зайду, — сказал майор, доставая ключ. — Самое время познакомиться».
Но не успел он ступить на крыльцо, как с той стороны двери что-то грохнуло и в доме почувствовалось какое-то неуловимое движение — словно хату эту передёрнуло. Но от майора оно не укрылось, он улыбнулся и бросился к окну.
«Молодец, Молчун! — сказал майор Лебедь вполголоса. — Хорошо мы с тобой поработали. И заметь. Говорили только они и ты. А я смотрел, слушал, думал. И вот мы здесь. Это и называется — метод Лебедя. Метод молчания».
Майор подтянулся и ударил кулаком в стекло. Оно разлетелось на осколки, и Молчун невольно залюбовался их блеском.
«Ну всё, хватит, выходи, — сказал майор Лебедь миролюбиво. — Хватит играть».
А потом громко, на весь двор:
«А теперь Горбатый! Я сказал: Горбатый!»
Молчун спрятался за забором и наблюдал в щель, что будет дальше.
«Это тоже из древнего кинофильма, кстати», — бросил майор и полез в окно. И тут же невидимая сила отбросила его с подоконника. Будто в хате майор напоролся на выставленный резко навстречу ему кулак. Майор покатился в траву. А на подоконнике появилась Стефка с оружием в руках. Она прицелилась — и красивая голова майора Лебедя вместе с фуражкой улетела в сорняки.
Молчун видел, как вокруг дома из густой, давно не кошенной травы, из непролазных колючих кустов и из-за дремлющих яблонь поднимаются солдаты. Но безголовый майор вскочил и дал им знак не стрелять.
«Сам разберусь», — сердито сказала голова майора и попыталась подкатиться поближе к полю боя.
Сейчас на туловище Лебедя торчала только тонкая, совсем не мужская шея. Молчун не мог отвести глаз от этой шеи — и только потом до него дошло, что на пожелтевшей траве нет ни одной капли крови.
Туловище выхватило что-то похожее на доисторический телефон с антенной на конце и наставило на Стефку. Но она его опередила. Снова заняв позицию за подоконником, она выстрелила ещё раз — и на этот раз уже майорова нога отвалилась и осталась лежать рядом с ним, как инструмент неизвестного назначения.
Майор упал, но тут же принял удобную для боя позу: локтем упёршись в землю, он одной ногой начал танцевать вокруг собственной оси и вести по Стефке прицельный огонь.
И один из этих выстрелов достиг цели. Правая рука Стефки вздрогнула и замерла, будто в ней отключили ток. Тут же левая её рука перехватила оружие из правой и направила на майора. Что ни говори, она умела стрелять.
Вот уже и одна из рук майора перестала работать, локоть дёрнулся и оцепенел.
Майор ответил выстрелом в грудь. Стефка содрогнулась, но устояла.
«Бах! Ты убит», — окрысилась улыбкой голова майора и покатилась к туловищу, попыталась взобраться на оставшуюся шею, словно кобель на сучку.
Стефка начала стрелять по жуткой голове, но удача ей уже изменила. Промах за промахом.
Руки как крылья.
И голова, к которой приросла белая фуражка с золотым орлом.
И это солнце, которое, казалось, само увлеклось дуэлью.
И это безумие.
И эта безнадёжность.
И этот далёкий блеск старой церквушки.
И этот век, в котором нам выпало жить.
Молчун отшатнулся от забора и побежал. Нет, такой скорости, как вчера, когда он гнался за паном Каковским по тёмной улице, он развить уже не мог. Но это было совсем не обязательно. За ним никто не гнался — кроме голосов двух чудовищ, что убивали друг друга во дворе Юзиковой хаты. Убивали и никак не могли убить. Кроме их лиц, таких живых и таких человеческих. Кроме этого дня, который кричал вслед Молчуну, чтобы он вернулся, выкинул всю блажь из головы и занял чью-нибудь сторону. Сторону царства-государства, которое билось за свои кнуты. Или тёмную сторону, которая билась за свои сказки да байки.
Молчун бежал — и никто на него не обращал внимания. Словно он всем им был больше не интересен. Но когда там, у Юзиковой хаты, всё закончится, тогда они придут к нему. Те, кто останется после битвы. И спросят, обязательно спросят:
«Где ты был, Молчун?»
Он бежал к отцовскому дому — и становился всё меньше и меньше. С каждым шагом, с каждой капелькой пота, с каждым вдохом и выдохом своего большого рта, с каждым ударом сердца.
Сначала он стал ростом с Любку.
Потом, когда пробегал мимо хаты полицая, уже размером с крест на бабкиной могиле.
А как повернул на их улицу, такую родную, такую знакомую, — ростом с мотоцикл.
А потом ростом с Любкину самую большую куклу.
На ихнем дворе, где отец складывал на дровокольне сырые кругляши, он был уже высотой с палец.
Не заметил его отец. Только тень какая-то через двор проскочила. Может, птица пролетела. Может, солнце за тучку зашло.
Может, кто-то печеной редьки объелся.
Может, в колодец старый кто плюнул.
Может, гора с горой сошлись.
Может, русалка воду из кос вычесала.
А может, это серая гусь-уточка в небо взлетела.
Высоко взлетела.
Не поймаешь.
Боевое искусство
Мёртвые танки, замёрзшие ленины, Вид из окна, по-солдатски застеленный, Кто его знает, как уцелели мы, Где мы теперь. Вот он и дёрнулся, поезд в столицу, Мышцей мимической, мимо милиции, Мимо кафе с продавщицей безлицей, Мимо базара… сейчас отворится нам Тайная дверь. Синий вагон, как потрёпанный паспорт. Кто-то всё кашляет, будто бы на спор, Кто-то вгрызается в яблоко страстно, Утро, проснись. Встрял проводник и включил телевизор, Мрак за окном расступается сизый, Рвутся билеты, столичные визы В старую жизнь. Нужно смотреть сериальчик московский, Нужно почувствовать частью массовки Их и себя. Лучше бы классику, хоть Д’Артаньяна. Ты был согласен на Джигарханяна, Едь. Ненавидь их, сонно и пьяно, Всех их любя. Здесь от тебя ничего не зависит. Ты в безопасности, так наклонись и Поле с коричневой сыпью залысин В сердце втяни. Должен прожить три часа и минуту, Вырыть окоп для спасенья уюта. Будто в тени Спрятать лицо за пейзажем, за киндлом, За пирожком с неизвестным повидлом, В складках пальто. За разговором о нашем, о минском. Чувствует поезд, что мы уже близко. Чувствуют люди, что-то нечисто. Что-то не то. Мы улыбаемся. Мы замолкаем. Город стирает вопросы со лба им. Мы спасены. Минск. На перроне шумно и пусто. Вырасти здесь — боевое искусство. Улицы снегом хрустящим и грустным Занесены. Как не сошли мы с ума в этом времени? Выжив среди их угрюмого племени, Пляски их выучив, целуя их выросты, Как мы смогли незаметно так вырасти? Как уцелели мы здесь, как не стали Мёрзлыми танками, мёртвою сталью, Нам повезло? Взялись откуда-то силы вернуться, Просто однажды друг в друга уткнуться, Всем им назло.III. Неандертальский лес
1.
Лесов всего два.
Один андертальский, а второй нет.
Совсем не андертальский. Неандертальский.
Где-то между этими лесами, на берегу неба, чёрной пылинкой в голубой слезе, и стояла хата старой Бенигны.
Что касается первого, андертальского леса, то с ним всё ясно. В нём мы все и живём. Люди, птицы, звери разные. Дети несмышлёные, мелочь ползучая и цветы дурманные. В том лесу озёра и реки, и пенсия, которую из села приносят, и телевидение, первый канал. И машины, оставляющие во дворе глубокие колеи, в которых до самого лета не высыхает вода. И небо в этих колеях. Небо, такое неуловимое и незлое. Небо, которое пьют куры и которое на заре туманится тонким льдом. Здесь тебя никто не тронет, а если и зацепит, то и бог с ним, поболит и перестанет.
Во втором, в неандертальском лесу, всё иначе.
В том втором лесу нужно тропинки знать. Темно там, тепло и всегда всё красным светом залито, как на пожаре. Растения там жгучие, как самая лютая крапива, как будто сама королева крапивная на пиру гуляет, там каждый кричит, а слушать нельзя, потому как тогда и сама кричать начнёшь и пропадёшь, чего доброго, на кривых дорожках. Надо прямо перед собой смотреть, не оглядываться и идти куда надо, и ни с кем не говорить. Люди там странные, косточки жарят на угольях, и говорят печально так: гу-у-у… гу-у-у… Будто иностранцы какие-то. В том лесу долго оставаться нельзя. Что принесла, нужно положить под пень, под луну, под пиджак, на траве постеленный, и сказать сразу: пойду от пана, пришла слишком рано. И идти поскорей домой, пока проход открыт.
В том другом, неандертальском лесу никто ещё не бывал. Нельзя им туда, тем, кто в нашем андертальском лесу живёт. А ей вот почему-то можно. Страшно бывает, да так, что обещает Бенигна сама себе: не пойду больше, не пойду, не пойду — а всё равно идёт. Некому больше ходить. Потому что люди кричат, потому что дети плачут, потому что машины едут — одна за другой. Бенигна, она ж на этих тропках лесных своя, а другим как о таком расскажешь?
Вот она и молчит.
Старая Бенигна не задумывалась, откуда она всё это знает. Просто знала, и всё тут. И ходила из одного леса в другой, когда была такая потребность. Совсем как её сестра, которая жила далеко, в пограничной зоне, и каждое воскресенье ходила через мост в заграницу. Но сестру Бенигна давно не видела — надо было бы ей письмо написать, но где тут напишешь. Четыре глаза, два своих, синих-синих, да два стеклянных. И, как на грех, ни один хорошо не видит. Даже если бы телевизор работал, так и то не посмотришь передачу как следует. Но поломался телевизор, а починить некому.
Одна она.
А лесов два.
Бенигна была такая старая, что никто уже не знал, откуда она взялась. А если бы узнал, то не поверил бы.
Трудно было представить, что её кто-то родил.
Проще было поверить, что старую Бенигну однажды нашли в краеведческом музее, между жерновов и прялок. Нашли и поселили на краю леса, вдали от людей. Не зная, что лесов всего два.
Бенигна была известная шептуха. Городские люди ехали к ней на своих машинах так быстро, словно у них было такое соревнование. Будто тому, кто приедет первым, Бенигна будет шептать со скидкой. Чаще всего к ней торопились весной — когда отчаяние подступает к самым человеческим горлам, когда холодно и страшно становится в андертальском лесу, хоть ты вешайся. Некоторые и вешались. Но большинство прыгали в свои машины и мчались туда, где Бенигна жила. Стучались в её хату и с надеждой смотрели старухе в глаза.
И тогда старая Бенигна брала у человека лишнее и шла в неандертальский лес.
Старая Бенигна за лечение денег не брала. И ни на кого не обижалась — ну, разве иногда на кота, когда тому вдруг приспичит помочь ей по хозяйству. Кот любил скидывать на пол её очки: выбрав момент, когда Бенигна не видит, он запрыгивал на стол, тянулся к ним лапой — и очки летели в серую темноту дома, глубокую, бездонную, в такой можно найти даже иголку, потерянную в прошлом году, но никогда то, что тебе и вправду нужно. А кот сидел на столе и удивлённо смотрел на неё, как будто очки эти у него самого с носа упали.
«Чтоб тебя, Гофман!» — ругалась на кота старая Бенигна.
«Чтоб меня», — соглашался кот и снова брался за своё.
Поэтому очки у неё были все потрескавшиеся, как лёд в колеях. Но и на кота-негодника старая Бенигна не так уж и злилась. Хотя в поисках «очей» приходилось ползать по полу и потом долго, бесконечно долго разгибать спину — и всякий раз ей казалось, что больше спина уже не выпрямится, и станет Бенигна просто старым высохшим колесом, которое уже совсем скоро докатится до сеней и так и останется там стоять. Навсегда.
Навеки.
Когда Бенигна впервые почувствовала, что может стать деревянным колесом, она перестала обижаться на мир. На судьбу, на животных, на растения, на власть. На детей, которые сами не знают, что говорят. А детей к ней привозили часто.
Вот, например, недавно.
«Дядя, дядя, а ты правда африканский раб с плантаций?»
«Да что ты несёшь такое, я же тебе говорила, это старая женщина, бабушка. Можно, он будет называть вас бабушка?»
«Мам, но она правда на негра похожа, которого замучили».
«Заткнись! Сколько раз тебе говорить, заткнись! Башка твоя стоеросовая. Вы не обращайте внимания, просто у него…»
«Не буду я её бабушкой называть! Моя бабушка в Минске осталась! А она не бабушка никакая, а негр! Негр, негр, негритос!»
Мальчик валится на землю, лицом в лужу, мотает головой и начинает пускать пузыри. Она тянет его за шкирку, за волосы, за шею, и вот он снова стоит на ногах, грязный, счастливый и страшный, как вырванный из земли корнеплод, и не перестает кричать.
«Негр, негр, негритос,
Не грызи себя за нос», —
с готовностью откликается эхо.
Мать отпускает его, хочет ударить по голове, заносит ладонь, но сдерживается. Только сжимает его тонкую руку и смотрит на старую Бенигну беспомощно и с ненавистью. Мальчик неожиданно замолкает.
«Помогите нам, бабушка», — говорит женщина, но Бенигна слышит другой голос. Её, но другой. Внутренний, настоящий, зажатый в животе.
Ну лечи его уже, лечи давай, если взялась, если о тебе такая слава ходит, слышит Бенигна. Лечи! В сумке у женщины начинает звонить телефон, но эхо молчит, так и не придумав рифмы. Лечи его, айболитиха ты старая, ведьма ты засохшая, бабка — божий одуванчик, что ты стоишь, лечи его, потому что я уже больше не могу, я его прибью сегодня, задушу, в ванне утоплю, а потом сама повешусь. А лучше напьюсь. Я напьюсь. Виновата ли я! Каша манная, буду пьяная, будет ванная, вином полная.
Бенигна улыбнулась исподлобья, да так ужасно, что в глазах у мальчика блеснули слёзы. Как роса на травинке. Она взяла его за руку — кожа куриная, холодная, пупырчатая, такую бы тёплой кровью смазать, согреть своим чесночным прикосновением. Холодно, холодно в андертальском лесу в марте месяце.
Бенигна помолчала, опустила голову, повела мальчика в свою комнату за печкой. Мать порывисто вздохнула и вытащила сигарету. Гофман осуждающе смотрел, как она затягивается, закашливается, закутывается, — и она нервно щёлкнула на него пальцем, стряхивая пепел.
Мальчик послушно ступал рядом, заглядывая Бенигне в лицо.
Чёрное, в старческих пупырышках, печёное, всё как чугунная сковорода, лицо — толстогубое, с курчавыми седыми волосами на подбородке и маленькими сырыми желтками глаз, в которых плавали синие зрачки. Бенигна была ниже мальчика ростом, а он всё равно её боялся. Никому не хочется идти с ней в неандертальский лес. Да она и не берёт. Не пустят же. Даже с ней не пустят.
В каморке она поставила его перед собой и начала раздевать. Развязала шарф, сняла шапку, расстегнула дрожащими руками куртку. Она всегда раздевала людей сама, потому что в складках своей одежды они постоянно что-то прятали. Руки Бенигнины работали ловко, как будто она картошку перебирала. Да он и правда был словно бы сделан из тёплой бульбы, этот пацан. Вскоре мальчик стоял перед ней голый, отвернувшись к печке и сильно зажмурив глаза, да так, что аж губы себе прокусил. Тело его дрожало, как от высокой температуры. Она внимательно осмотрела это тело: не принёс ли он что лишнее. Нашла, положила в одну ладонь, второй накрыла, опрокинула, сжала осторожно, взглянула пацану в глаза.
«Ты постой здесь, — прошептала Бенигна одними губами. — Не ходи никуда, слышишь, постой, я быстро, туда и обратно».
Мальчик ничего не услышал. Ему показалось, что на него ветром подуло. Сухим, горячим, как из сушилки в туалете детского кафе.
И вот Бенигна уже шла по знакомым ей одной тропинкам, держа в руках лишнее, лишнего не слушая, на лишнее не наступая. Гу-у-у, гу-у-у, воют ей то с одной, то с другой стороны, но никто её не преследует, никто не перебегает дорогу, никто не интересуется, что она держит в руках. «Ну что вы хотите, а, что вы хотите, — повторяет тихонько старая Бенигна, катясь колесом по неандертальскому лесу до заветного пня, — гу да гу, гу да гу, покормила бы вас, но вам же одни кости подавай. Вот же нелюди, а всё равно жалко вас, погладить бы каждого по загривку, да за ушами почесать, может, и умолкли бы, и согрелись наконец…»
Всё теплее и теплее в неандертальском лесу, вот уже и совсем жарко, у Бенигны пот со лба льётся, застилает глаза, а она всё глубже в лес заходит и повторяет про себя, одними губами:
«Ну что вы встали здесь, бедные, вот же иностранцы, турки малые, постояла бы с вами, но не могу, всё, что есть у меня при себе, всё лишнее, всё, что есть у меня при себе, не моё…»
Вот и пень тот заветный, а у пня пиджак постелен, примятый, будто на нём только что мужчина какой-то сидел. А может, и лежал, папиросу покуривая, а теперь отошёл за дерево. Бенигна бросается бегом к тому пню, лишнее на пиджак положила — и обратно. Сколько уже лишнего оставила она на том пиджаке, а всякий раз, когда возвращается, там пусто. Видимо, забирает кто-то. А кто забирает и зачем — это уже не её, Бенигны, дело.
«Сколько я вам должна?» — спрашивает женщина, закуривая новую сигарету. Три окурка она бросила на землю и расплющила каблуком своего высокого сапога. Оставила лишнее на Бенигнином дворе — ну и хорошо. Бенигна улыбается и машет ей рукой: езжай ты уже домой. Вари манную кашу, набирай воду в белую ванну, выпей немного, украдкой, чтобы муж не видел, но только граммулечку. А когда малого помоешь, сама в ванну залезь, всем своим белым телом. Женщина не слышит, ей кажется, что на неё ветром повеяло: сухим, горячим, как из пустыни, где она когда-то на экскурсии познакомилась с одним арабом.
«Нискока! — говорит мальчик. — Мам, нискока!»
И Бенигна кивает. Нискока.
Бенигна и так богатая. Сколько она уже людей лечит — столько не живут. Сколько раз она в неандертальский лес ходила — за то время можно весь андертальский сто и один раз обойти. Бенигна такая богатая, что она с каждым поделиться может: у неё под половицей у печки банка спрятана, а в ней столько денег, что на хороший гроб хватит, сосновый. Со смолистым запахом, не тесный и не слишком большой, как раз чтобы лечь и миром накрыться. Там лежат, под знакомой половицей, в банке миллионы лежат. Целых два миллиона. Это ж, наверное, хорошие грошики. И не может хороший гроб больше стоить. Надо бы сестре написать, спросить, сколько сейчас гробы стоят, да стесняется Бенигна, засмеёт её сестричка, скажет: кончай, лучше в больницу давай тебя положим, зять её давно предлагает, у него приятель врачом в Поставах работает, всё организует наилучшим образом.
Да и, если честно, если щиро-щиренько говорить, как с озером или с лесом, не хочет Бенигна в сосновый гроб ложиться. И в берёзовый не хочет, и в фанерный. А хочет, чтобы однажды в неандертальском лесу её иностранцы эти, турки нездешние, позвали и сказали: что ж ты, женщина, всё по нашему лесу бегаешь? Оставайся, бабка, с нами, живи себе, у костра грейся, и гуди себе тихонько на обе свои старушечьи груди: гу-у-у, гу-у-у… Если бы такое произошло, если бы знала, что ждёт её в хате неуютный сосновый гроб за два миллиона, осталась бы Бенигна, вот как на духу — осталась бы. Ведь нельзя ей в андертальском лесу мёртвой просто так под землёй лежать, баклуши бить. Машины будут под окно ездить, дети, мужики, женщины ихние будут у порога топтаться, курить, ругаться, заглядывать в хату: где вы, бабушка, мы к вам с самого Минска приехали, полечите нас, а то позадушиваемся все, и детей позадушиваем, потому что нет уже сил так жить, полечите, скока мы вам должны? А хата пустая. Некому в неандертальский лес сходить, лишнее занести, своё забрать, с людьми поделиться. Как так? Разве она имеет право так с людьми поступить?
Поэтому надо ходить. А куда деваться. Никто её в неандертальском лесу не трогает. Привыкли. Да и что к ней цепляться, она же вреда не приносит, старая Бенигна быстро ходит, хоть и ноги болят, и спина не разгибается, туда-сюда — только глазами своими красными блеснули на неё, а она уже обратно возвращается.
Нельзя ей в могиле вечным сном спать. Столько хлопот людям будет. Её хату ещё найди. А потом гроб за десять километров заказывай, яму копай, попа зови, поминки ладь… Тот поп, может, к ней и не поедет, даже если ему два миллиона отдать. Не верит батюшка в неандертальский лес. Да Бенигна и не обижается. Ему и не положено верить. Он же священнослужитель.
Да и кота жалко. Дурной тот Гофман, но жалко. Она бы его в неандертальский лес с собой взяла, пусть бы у ног сидел, грелся, косточки кушал. Нельзя ей в андертальском лесу умирать, никак нельзя, запрещено ей, а кем — какая разница?
Наверное, есть где-то какой-то мужчина, умный такой весь, представительный, который ей когда-то сказал: только ты одна, Бенигна, можешь в неандертальский лес ходить. Вот и ходи. Кого ещё туда пустят? А умирать тебе запрещаю. На тебя весь коллектив надеется. Весь человеческий коллектив. Большой и очень беспокойный коллектив, который в андертальском лесу живёт.
Тот важный мужчина Бенигну, может, никогда и не видел. Но знал, что есть такая женщина, живущая возле леса, на самом берегу неба. Он всё знает, у него работа такая. Как его зовут? Может, и бог. А может, и Константин какой-нибудь Семёнович. Не знала Бенигна о боге точно, как и что с ним. А о лесах знала. Что их всего два.
Один андертальский.
А второй нет.
У самой Бенигны супругов было трое.
Первый близко лежит, из дома выйди — и увидишь. Вон там, под кустом смородиновым, который уже несколько лет сам себе растёт, покоятся в земле его белые косточки. Первый муж на Бенигну с неба свалился. Упал, когда она ещё молодая была, когда ещё сама знала да и люди знали, в какой год Бенигна родилась и от кого. Сейчас Бенигна уже и сама не могла сказать, правда это или сказка, но откуда-то наплывала на неё, как майское облачко, такая история.
Как-то под вечер, много, много лет назад, появился над лесом, там, где тропа от её хаты в тёмный лес ведёт, самый настоящий ангел. Она только и провела его глазами — ведь опустился тот ангел прямо в чащу, и исчез, как и не было его. А ночью постучался в хату хлопец, весь лесом перемазанный, так андертальский лес всегда делает, когда посмеяться над людьми хочет. А за хлопцем тем белые крылья, рваные, грязные, а на боку дыра кровавая. Вошёл и упал прямо под лавку. И столько у него на теле молодом лишнего было, что Бенигна, сама ещё не понимая, что делает, положила его у печи, а сама в неандертальский лес наспех двинулась, лишнее отдать, у пня положить и в хату поскорей вернуться.
Так он и остался у неё. Звали её первого мужа Парашютист. Бенигне его имя нравилось, шумело оно, как лес, и пар тёплый шел от этого имени. Хотя и трудно было его сначала произнести, но она научилась, способная девка была, да и кто в неандертальский лес ходит, тот иностранным языкам быстро учится. Отнесла она лишнее, вернулась — и ясно ей стало, что никуда хлопец этот идти от неё не собирается. Ночь прошла, а на утро обвенчались они в озере, навалился на неё ангел, прижал к песочку на берегу, а она всё терпела и думала: какой же ты лёгкий был, когда над лесом летел, и какой у тебя парашют был белый — как облако, что от стаи отбилось и в верхушках лесных заблудилось. А теперь ты такой тяжёлый, был бы такой в небе тяжёленький, то разбился бы насмерть, и волосы у тебя на груди колются, колются, из земли ты сделан, из той самой земли, на которой андертальский лес стоит. Думала Бенигна тайком, когда с ним к озеру шла, что с Парашютистом можно будет в неандертальский лес ходить, всё же мужчина, спокойнее как-то и надёжнее, но где там: когда прижал он Бенигну и как-то сразу в ней весь целиком оказался, такой маленький весь и такой большой, ясно ей стало: не пустят такого в неандертальский лес, нет, андертальский он, до последней косточки андертальский, из тех, кто лишнее на себя цепляет.
Первый муж Бенигнин, Парашютист тот, всё любил ей о Беларуси рассказывать. Какая она бедная, Беларусь эта, и какая несчастная, и так уж рассказывал, что Бенигне самой жалко делалось: ну что ж такое, как же это такой несчастной быть, за что же её так, Беларусь ту, наказали-то. Если бы могла, она бы ту Беларусь раздела бы, и молодым чесноком кожи своей согрела, и натёрла бы и по местам заветным осмотрела, и лишнее бы забрала, а потом в неандертальский лес отнесла. Вернулась бы, тогда, может, и полегчало бы Беларуси этой убогой, может, и перестал бы Парашютист так по ней убиваться. Но как ты у Беларуси лишнее заберешь, когда Парашютист от неё к Бенигне ушёл. Ушёл — и теперь только и знает, что о брошенной той Беларуси ей, дурочке, говорить. Говорит, говорит и никак наговориться не может.
Первый муж Бенигны всё о себе рассказал, а если что и утаил, то не держит она на него зла, никто в андертальском лесу не обязан всего о себе рассказывать. В андертальском лесу и так холодно, а если признаешься всем, кто ты на самом деле, можно и вовсе околеть от жестокости да от беды. Его из-за границы сюда заслали, рассказывал Парашютист, чтобы он людей мутил против власти советской. А послали его мерыканцы, не из Америки, правда, а из Германии, посадили на самолёт ночью и сбросили над лесом. Дали ему рацию, пистолет и документы фальшивые и сказали, чтобы он Беларусь против власти поднимал.
Бенигна слушала его сочувственно, гладила по щеке, по руке, по груди колючей: вот же, послали молодого парня с таким именем красивым скитаться по андертальскому лесу, а кто послал: немцы и мерыканцы. Совсем обезумели люди в андертальском лесу, всё им неймётся, столько лишнего насобирали, что аж из ушей прёт. Вот и суетятся, придушенные, растерянные, тропинок не зная, крови не жалея. И такое им в голову приходит, что не дай бог. Сбросили человека с неба, как ангела, но человек не ангел, даже кот, если его с такой высоты бросить, разобьётся насмерть.
Не успел Парашютист до земли ногами достать, как понял, что предательство произошло. Ждали его в лесу, давно ждали, гнали через чащу, как животное, но животное в неандертальском лесу само укрыться может, а человеку стёжки тайные откуда знать? Кто его на те тропинки заветные пустит? Подстрелили Парашютиста, но не так, чтобы насмерть, легко, сбоку и навылет. Здоровье молодое, вот и повезло ему убежать, всю ночку бежал через лес, как, куда, сам не знает. Рацию потерял, всё потерял, так рассказывал первый муж Бенигны и так уж убивался по этой загадочной рации — не хуже, чем по той своей Беларуси.
Из рассказов его выходило, что не один он был в том аэроплане, и где-то в лесах бродят и другие Парашютисты. Муж её говорил об этом с такой надеждой, что Бенигна и сама поверила, что не сегодня, так завтра соберутся в её хате восемь парней, все как на подбор, все голубоглазые, белокурые, с дырками в боках. Такие, как её Парашютист. И будут они жить все вместе, в мире и согласии. И правда, поверила было Бенигна, что вот такой и будет её судьба: на берег ходить на рассвете, лишнее у парней своих брать и в неандертальский лес относить, да о Беларуси несчастной вечерами слушать. Но всё вышло иначе.
Через два дня вышел из леса человек. Не молодой парашютист с крыльями за гордой спиной, а неприметный такой дядька в серой кепке. «Это по мою душу», — обрадованно бросил Бенигнин муж и выскочил из дома. Не успел он с тем дядькой в кепке поручкаться, как из леса другие выскочили, все в форме, все один другого красивше, и все солдаты наставили ружья, начали андертальскими словами голосить, будто каждый из них был большой начальник. Залаяли собаки, застонало озеро, опрокинуло на себя небо, чтобы не видеть, что творится, вздохнул лес, крикнули издевательски вороны, рассыпавшись в голубом тумане, и куст смородиновый склонился покорно, словно знал, что сейчас будет.
Бросился Бенигнин муж к холодному озеру, босыми ногами по тому самому песочку, где она с ним лежала, и вместо крыльев выросли у него крепкие, блестящие плавники. Ударился он головой об озёрное зеркало, полетели осколки Бенигне в глаза, так что она с тех пор на солнце плохо видит. Треснуло небо, и озеро треснуло, так и смотрится она в них с тех пор и себя молодую не узнаёт. Ведь что дальше было она хоть и помнит, но вспоминать не любит. Парашютист её уже до середины доплыл, как вдруг выстрелил кто-то из солдат, а может, и все вместе. И муж начал перебирать ногами так медленно, будто по небу плыл, а потом обмяк, зачерпнул ртом воду, сделал глоток, потом ещё один, длинный, и в конце концов напился, замер, повис на озёрных волнах.
«Готов», — сказал командир.
Потоптались те мужчины у озера, просто по бережку, где Бенигна когда-то лежала, попытали по очереди воду, но лезть побоялись. Сказали ждать, скоро приедут, и исчезли в лесу.
Бенигна села ждать. Так и сидела, ждала, пока муж её сам к ней не подошёл, на берег не вышел, не лёг к ней на колени, и не было в нём больше ничего лишнего. Закопала она его под смородиновым кустом, вместе с парашютом, подмела песок и все дорожки, будто в хате прибралась, а когда приехали за мужем и не нашли ни тела, ни крыльев его мерыканских, когда начали её расспрашивать и рацией пугать, рассказала им про водовороты: озёрные, небесные, женские, все.
Больше к ней никто из властей не совался. А она, год за годом бегая в неандертальский лес, знала, чьё лишнее несёт — ведь долго ещё приезжали к ней те люди, что мужа её первого погубили, то один, то другой, и она ничего не говорила, лечила, носила их лишнее в лес к сухому пню, чтобы могли они ещё немножко продержаться в андертальском лесу. Там, где человек слабый и злой делается и каждую минуту только и думает, как ему другого погубить, а самому остаться, пожить ещё. В андертальском лесу всегда всё слишком рано, всегда и всем всего мало и всего хочется. А кто виноват? Никто. Не человек же виноват. Что не знает тропинок, что не может остановиться, что должен каждый день обрастать лишним, жестоким и ужасным.
Про второго мужа Бенигна немного помнила. Знала, что приехал он к ней на тракторе. Попросил полечить — да так и остался. Много Бенигне пришлось тогда побегать по неандертальскому лесу. Потому что любил её второй муж лишнее, ой любил. Только она одно отнесёт — уже снова бежать надо, люди те из неандертальского леса на неё коситься начали: что же ты, женщина, бегаешь, читала она в их глазах, вот споткнёшься когда-нибудь, упадёшь лицом на тропку, другим мешать будешь. А может, и не говорили ей такого их глаза-угольки, может, она сама придумала, читать она умела, да только большими буквами, два класса при немцах закончила. Да и вообще: для того, чтоб читать, надо было очки надевать, а они у неё поздно появились. С бумаги читать — одно, а в неандертальском лесу по глазам турок этих — совсем другое. Так она и бегала по своим жутковатым тропинкам, а муж её второй тем временем только и делал, что носился по лесу андертальскому, чтобы лишнего себе прикупить. А вскоре сказал, чтобы она в сраку шла со своим лечением, ведьма беззубая, а он себе молодую найдёт.
Досталось тогда Бенигне: выбивал об неё второй муж всю свою силу, рассказал ей, как тяжело ему жить в андертальском лесу, показал, где на теле другая боль живёт, а где — сто болей прячутся. Она не спорила — где ж ты с мужиком поспоришь, который лишнее отдавать не хочет, здесь нужно самому захотеть, все свои пуговицы расстегнуть, стать голеньким, страшненьким, чистым, червячков всех выпустить, бледным стать и грязным, как гриб без шляпки. Ничего не поделаешь, только и осталось, что смотреть на мужа, жалея, и глаз не сводить. Однажды муж её сам весь в лишнее превратился — и потом сбросил, всё лишнее сбросил, до последней капли. Ничего от него не осталось. Посмотрела Бенигна в его лицо, на котором застыло последнее слово: моё! Моё лишнее, не отдам, наберу столько, сколько вытянуть смогу. Надорвался её второй муж, не выдержал такого груза.
Отправила Бенигна его, покойного, с машиной в село, пошла к смородиновому кусту, села поговорить — а тут уже со двора «жигули» с гомельскими номерами сигналят: помогите, бабушка! Не хватает сил больше терпеть…
Жалко ей их. Людей.
Про третьего мужа, хотя он здесь появился, когда она уже старая была, Бенигна помнила ещё меньше. Да и не помнила почти ничего, кроме того дня, когда она в дом зашла, а он половицу с гвоздями рвёт, ту самую, под которой банка с миллионами лежит. Нашёл. Сказал бы, я бы тебе сама отдала — посмотрела на него Бенигна с мягким укором, зачем же ты по полу ползаешь, мало ты по андертальскому лесу поползал? А он, дуралей, рвал эту доску руками, хрипел, плакал, ломал ногти.
Выпить хочу, умру сейчас, знаю, что здесь твои деньги, знаю, старая ведьма, сама отдай, знаю, что доллары ховаешь, лучше сама отдай, иначе прибью! Так говорил её третий муж, а Бенигна стояла и слушала: что ты здесь человеку докажешь. Оторвалась половица, полетел её третий муж в угол, ударился головой о печку, вскочил, на неё бросился, Гофмана в бок так сапогом ударил, что котяра три дня потом лежал. А её, Бенигну, половицей начал охаживать по плечам, по кривой спине так, что она побежала, побежала в неандертальский лес, так ничего лишнего и не взяв, и не нашла тропинки, так домой и вернулась. А дома увидела мужа своего третьего — лежал он с банкой в руках у порога и не дышал больше. Крепко пальцы банку держали — будто тонул человек и за лилию плавучую в мучении предсмертном ухватился.
Отдай, попросила она его одними глазами, зачем тебе там, там же всё бесплатное, как при коммунизме.
Послушался покойный, пальцы его разогнулись. Бенигна вернула банку на место, сделала всё, как положено, и провела машину с мертвецом до лесной дороги. Сердце у него разорвалось. Так оно и бывает. Нельзя на сердце слишком много лишнего вешать. Сердце у человека своенравное, сердце сердце слышит, сердцу от сердца сна нет. Растут в андертальском лесу те сердца человечьи, растут, как ели, губами слова непонятные приговаривают, раздуваются неспокойно, бьют друг друга, кровавые, горячие, как порванное коровье вымя, пачкают людей, гонят вперёд, крутят, толкают, в кровь пачкают, заставляют жить, лопаются, брызжут. Оставляют на людях следы.
Вот такой был её третий муж. Третий муж старой Бенигны, лесной шептухи, которая лечила людей даже с минскими номерами, ведьмы, похожей на негритоса с плантации, бабки, о которой никто не знал, откуда она взялась, так давно она родилась. Бенигны, которая знала, что мужей у неё было трое, а лесов на свете всего два.
Один андертальский.
А другой нет.
И кто бы мог подумать, что именно в то время, когда все ожидали, что шептуха наконец-то к Абраму на пиво отправится, у старой Бенигны появится новый жених.
Да ещё какой.
Молодой, здоровый, красивый. Мог бы внуком ей быть, а может, и правнуком. Парень хоть куда. По крайней мере, такой он был на фотографиях. Чтобы рассмотреть как следует его лицо, ей пришлось долго искать очки. Но когда очки нашлись, впервые за долгие годы Бенигну охватило сомнение.
Нельзя молодым и красивым со старыми жениться. Не любит этого андертальский лес, злится, начинает его кособочить и раскачивать. Даже думать о таком нельзя, а если всё же подумаешь, надо замереть, сердце остановить и держать, сколько сможешь, а потом выдохнуть и снова сердце пустить, приговаривая: пойди, лишнее, куда шло, а меня не трогай, в гипсокартон превратись да в стекловату, у меня лишнего и так хватает. Нельзя молодым со старыми жениться, такой закон, а нарушишь: беда будет. Беда будет, если старые со смертью чаи пьют во сне, а молодые им сахар в кружки кладут. Такую картинку Бенигна видела, когда думала о тех, кто этот закон нарушает.
Но жених у неё все равно появился. Настойчивый, назойливый, носатый парень с той фотографии, что переливалась синими и красными огнями. Кудрявый, как барашек. И, чего ему было от неё нужно, она не понимала. Видимо, слишком часто ты ходила в неандертальский лес, старая шептуха. Спутались все тропки в твоей голове на склоне лет, и что-то ты сделала не так. Что-то лишнее ты при себе заимела, день за днём чужое в неандертальский лес относя. Может, забыла оставить что-то в заветном месте, может, выпустила из рук не там и не в то время.
Три — это цифра хорошая. Правильная цифра. Когда в жизни всего по три случилось — это по-человечески. Один, и два, и три — будто считает кто, а человек живёт и прислушивается. Три — сигнал нам, что пора место освободить. После трёх можно и уйти спокойно из этого мира. А вот кто четырёх ждёт — ничего из этого ожидания хорошего не выйдет. Четыре — цифра чётная, не может человеческая жизнь на неё делиться. Бояться нужно человеку четвёрок. Как бабке женихов — в таком возрасте.
Жених был нездешний, с недобрым лицом — даром что писаный красавец. Невидимый был и нетерпеливый. И ждал от неё ответа.
2.
А случилось всё так.
Как-то утром к хате старой Бенигны подъехала машина, похожая на большую чёрную свинью. Бенигна смотрела из окна, как из машины вышло двое крепких парней: осмотрелись, поплевали в лужи и подошли к дверям. Надо было идти навстречу, лечить, спасать, чёрной свиньёй веяло от тех чисто вымытых, стриженых хлопцев. Будут сейчас смущённо перед ней с ноги на ногу переминаться, грубо шутить, чтобы скрыть стыд, а в глазах будет мольба, мольба. Зачем? Она сходит, сходит куда надо, и денег не возьмёт. «Нискока». Нельзя за такое деньги брать, у неё и так денег-то достаточно, на её век хватит. Бенигна сидела на своей высокой кровати, тянула ноги вниз, тянула, а они как назло сегодня её не слушались. Слышали, но не слушались. Ничего, ничего, думала Бенигна, чувствуя, как приросла за ночь к кровати, ногам её время нужно, чтобы прийти в себя, они уже уловили её голос кончиками вечно холодных пальцев, сейчас голос дойдёт до косточек, затем до колен её больных, и ноги проснутся, придут в себя, задвигаются. Ноги мои, ноги, идите уже в мир, бедолаги из андертальского леса приехали, помощи ждут.
«Есть кто в хате?» — спросил один.
«Выходи, бабка, мы по твою душу», — весело сказал другой.
«Не пугай старушку, — строго откликнулся первый. — По твою душу… Бабка как услышит, так её кондрашка хватит, будешь тогда ей дыхание искусственное делать. Рот у рот».
«Урот, урот, — примирительно пробормотал второй и вошёл. — Бабка, принимай гостей!»
Они беспорядочно, будто и без цели совсем, походили по хате, натыкаясь на углы, пробуждая повсюду звон и скрипы.
«О, кошак. Худой, как из концлагеря. Заморила тебя бабка…»
Было слышно, как обиженно мяукнул Гофман. Подслеповато хватаясь руками за стены, хлопцы топали и беззлобно ругались, всё ближе и ближе было их слышно, пока не подошли они вплотную к кровати, на которой она сидела, сложив руки на одеяле. Но и тогда не сразу заметили они Бенигну в полумраке тесной, не протопленной как следует хаты, в пёстрой горе одеял, между сказочных фигур на дешёвом коврике, висевшем за её спиной. Увидев бабку, они невольно отшатнулись, один выдохнул деловито, второй с отвращением отвернулся.
«Вот ты где. Ну и воняет тут».
Ноги Бенигнины уже почти готовы были её послушаться. Осталось совсем трошки подождать. Совсем недолго. Она сидела, маленькая, согнутая, как кукла, и смотрела им прямо в глаза.
«Сейчас, сейчас, — говорила она им. — Погодите, сынки».
«Ну ты, бабка, нас и принимаешь. Как царевна. С кровати даже не встала».
«Может, она ходить не может. Будет нам с ней возни».
«Она хоть слышит? Может, глухая».
Они подошли совсем близко, один наклонился к ней и закричал:
«Ты нас слышишь? А, бабка? Моргни два раза, если да. Есть у нас к тебе это… деловое предложение!»
Ничего не поделаешь, пришлось моргнуть. Бенигна уже понимала, что к ней приехали по важному делу. Надо было спуститься с кровати, но нельзя бабе себе такого при мужиках позволять, чтоб в нижнем белье перед ними красоваться. Даже старой бабке нельзя. Поэтому она сидела и ждала.
«Вот и хорошо, — с облегчением произнёс один из парней. — Собирайся, бабка, поедешь с нами…»
«Давай лучше я», — перебил его второй и навис над её седой головой чёрным лысоватым теменем, над горой одеял и подушек.
«Привалило тебе счастье перед смертью. Есть один человек, который без тебя как без рук. Он знает, кто ты такая, и очень тебя ценит. И любит, бабка, любит… как тебя никто в жизни не любил. Ты у нас шептуха знаменитая, проверенная, репутация твоя, как говорится, в подтверждении не нуждается. Бренд, а не бабка. Будешь за границей жить, людей лечить, а самой тебе на старости лет будет и уход обеспечен, и уважение, и забота сыновья. Вот, блин, что это я несу, аж самому противно… Короче, собирайся, мы тебе поможем, скажи, что брать, погрузим и поедем».
«Ты не спеши, — сказал своему приятелю другой хлопец, поглядывая в окно. — Ты ж объясни, что мы с тобой имеем от того человека поручение — привезти тебя на остров…»
Они переглянулись.
«Ага, на остров. Знаешь, бабка, что такое остров? Про море слышала? Так вот, будешь на острове жить, людей лечить, на острове зимы не бывает, тепло, кости погреешь перед смертью…»
«Главное, скажи, где паспорт прячешь. С паспортом и нам легче будет, и тебе спокойнее. Знаю я этих бабок, у каждой тайничок есть, с золотом… и аусвайсом… засунут куда-нибудь, а куда, сами забудут. А нам со склерозом ихним разбирайся».
Бенигна неподвижно сидела, глядя куда-то между ними, а они громко говорили, постоянно переступая с ноги на ногу, с ноги на ногу, будто до ветру хотели. А старой Бенигне всё казалось, что она видит среди их крепких фигур кого-то третьего, неуловимого, с недоброй улыбкой, кого-то, кто скачет за их спинами, высматривая что-то, то из-за плеча, то из-под локтя, кого-то хитрого, весёлого, с лицом, на котором всё было наоборот: губы вместо глаз, нос сбоку, уши на подбородке, подпрыгивают, как маленькие цыцки…
«Эй, бабка, ты это, смотри, не отдай концы раньше времени, мы тебя из рук в руки передадим, там и умирай, а раньше чтоб ни-ни», — с тревогой сказал один из хлопцев, пока второй шарил нетерпеливо глазами по тёмной комнате.
«Покажешь, где паспорт? Может, за печкой?» — сказал второй, отвернувшись к первому и дав ему знак, — видно, всё же он тут был главный. А когда обернулся, Бенигна уже стояла перед ним во всех своих юбках и исподлобья смотрела на них, будто видела впервые.
«Да-а, — разочарованно сказал главный. — Вижу, у нас проблемы. Моргни два раза, если поедешь с нами. Добровольно, без выкаблучивания. Моргни два раза, что обещаешь слушаться и концов в дороге не отдавать».
На этот раз Бенигна мигать не стала, тяжко проковыляла мимо них, покатилась в сени, положила коту поесть, взяла в руки чайник.
«Ходит!»
«И всё слышит, — зловеще произнёс главный. — Ладно, бабка. Мы же к тебе в сваты приехали, а ты нас так принимаешь… Никакого уважения, дикая ты ведьма…»
«Кончай, бабка! Дело серьёзное! Тот человек, который нас к тебе послал, жениться на тебе хочет», — услышала за спиной Бенигна.
«Заключить с тобой законный брак. Так что была ты Христова невеста, а будешь мужева жена. Сюрприз!»
Повернулась к ним бабка, хоть и не хотела, а они, смеясь, смотрели ей в лицо, и столько на них было в этот момент лишнего, что Бенигна их пожалела, так пожалела, что готова была пять раз подряд сходить в неандертальский лес, лишь бы облегчить их ношу, такую тяжёлую, кривую, беспощадную, невыносимую. Поэтому и корчились они сейчас — не от смеха, а потому что нестерпимой та ноша была, давила на них, гнула, убивала, поэтому и блестели их глаза недобрым, мерзким каким-то блеском, что ноша их провалилась уже до самого их нутра.
«Он человек серьёзный, — услышала она. — Всё честь по чести, будешь ему законной супругой, только приехать надо, не жениться же ему с бабой, которую он даже обнять не сможет…»
Они расхохотались.
«Смотри, какой мужчина, а? Тебя, старую, осчастливить хочет, а ты тут ломаешься… Да любая молодая на твоём месте…»
И тогда она увидела фотографию. Ту самую фотографию, жившую в чёрной тяжёлой книге, и плавала та карточка, плавилась, сияла цветной чешуей, а на фотокарточке был молодой человек, чем-то похожий на первого мужа Бенигны. Высокий лоб, светлые глаза, в которых горела какая-то затаённая мука, смертная, глубокая, обиженный рот, пухлые щёки… И кудряшки эти. Чем-то мужчина на фотографии был похож на мальчика, которого она недавно лечила. Негр, негр, негритос, не грызи себя за нос, вспомнила Бенигна: и эти губы могли такое напеть, и эти глаза могли так на неё смотреть, и эти уши так гореть, будто его только что за них оттаскали сто суровых, замученных матерей, сто взрослых отчаявшихся рук… И тут фотография вспыхнула и исчезла. Прижмурилась бабка от неожиданности, а они по-своему всё поняли.
«Понравился жених? — удовлетворённо спросил главный. — Вот и не дури нам головы, бабка, собирайся и поедем».
А его приятель сверкнул ей в лицо камерой телефона, взглянул на то, что получилось, и крякнул:
«Страх божий. Какая же ты, бабка, страшная. Не дай бог тебя ночью встретить. Шучу, шучу. Красавица ты наша. Хлопцы вокруг так и вьются. Вон как красиво на фото вышла. Думаю, и без паспорта обойдёмся. Зуб даю, что у неё серпасто-молоткастый, так что без разницы, новый надо делать».
«Ну что, едем с нами? Давай, бабка, не тяни кота за хвост. Может, ты и говорить умеешь? Тогда скажи “да”. Слушай, мать… давай, не зли нас. Что там тебе надо? Платок, боты, иконки — и поехали».
Они подступили ближе. А потом ещё ближе.
«Давай, бабка, включай мозги».
Они и так видели, по её позе, по бешеным белкам глаз, что никуда она не поедет, что останется здесь, между двумя лесами, на берегу неба, в хате, что замерла чёрной пылинкой в голубой слезе. Сами понимали, что никуда бабка не собирается, что любая дорога для неё — как смерть. Они ничего не знали о том, что лесов всего два, — и всё же подступали ближе, и ближе, и ближе… Зачем вам такие руки, хлопцы? Чтобы носить гробы отцов наших. А зачем вам такие волосы, девки? Чтобы отгонять мух от трупов отцов ваших… Старая Бенигна знала, что так бывает в андертальском лесу, она не боялась, она знала, что стоит ей повести плечами, и она станет деревянным колесом, а стоит только подумать о себе с сожалением, лопнет деревянное колесо и на полу останутся лежать две его половины — что они с ними делать будут, эти беспокойные сваты, бедные хлопцы, от которых пахнет чёрной машиной, чёрной свиньёй, чёрными делами?
«Уколоть её?»
«Нежелательно. Организм слабый, изношенный, может не выдержать. Давай вязать. За руки, за ноги — и в багажник».
А сами в лицо заглядывают — пугают, надеются, что не придётся им прикасаться к её страшному телу. Противно им, холодно и мерзко, и всё, что они представляют сейчас — это слизь. Старая слизь, которую нужно собрать в пробирку, запечатать и доставить в лабораторию.
«Ты же всё равно поедешь с нами, бабка. Ну пожалей ты нас, молодых, не хочется нам тебя силой тянуть…»
Пересиливают отвращение, дотрагиваются до плеча.
«У нас ведь тоже матери… Не лягайся, бабка, лучше будет».
«Мы же с тобой как с человеком. Всё по инструкции…»
Словно сквозь сон Бенигна услышала, как за домом загудела машина. Кто-то ехал к ней за помощью, ехал искать спасения туда, где она пыталась спастись сама. Упала она грудью на дверь, открыла — словно вытекла прямо на крыльцо. Возле дома стоял автомобиль, из которого торопливо выбрался какой-то нервный мужчина и пошёл к ней, высоко поднимая колени, прямо по грязюке. Женщина, приехавшая вместе с ним, осталась возле машины — накрашенная, молодая, злая, со сжатыми кулаками, которые она постоянно прятала под шарфом.
«Здравствуйте, бабушка!»
Сваты вышли за ней, недовольные, хмурые, остановились за её спиной, как телохранители.
«Нам сказали, что вы… Что вы помочь можете…» — мужчина удивлённо рассматривал сватов. Женщина, приехавшая вместе с ним, села в машину, опустила голову и обхватила руками. Ей было стыдно: за него, за себя, за эти слова, за грязь и за то, что она позволила затащить себя сюда, на край света, туда, где сходятся два леса. Она всё ещё надеялась, что они приехали не по адресу.
«Но если вы заняты… мы подождём!», — с готовностью воскликнул мужчина, который, как и все, принимал молчание за глухоту, а слова за мостки, по которым можно пройти, не измазавшись и не провалившись в другой, чужой, вынужденно существующий, временный и грязный мир. Он стоял перед Бенигной и её сватами в своём открытом пальто и модном лёгком шарфе, стоял, смущённо улыбаясь, и с надеждой оглядывался на машину — он искал у женщины поддержки, но от машины шел дух усталости и злости, в лобовом стекле отражался бледной синевой лес, и машина неподвижно смотрела круглыми фарами в маленький огород старой шептухи.
Бенигна отвела взгляд от этого сбитого с толку мужчины, и он наконец понял, что ему нужно замолчать, отвернулся, сунул руки в карманы. Он был ни при чём, от него больше ничего не зависело. А бабка смотрела на белую машину, что привезла на своих покрытых глиной колёсах боль и отчаяние больших городов, машину, нагруженную лишним до самого верха. И, будто повинуясь её неподвижному взгляду, женщина вышла из машины и медленно пошла к хате, и внутри у неё что-то грохотало, пищало, тонко, как пойманная ночью случайная радиоволна. Бенигна глазами взяла её за руку, тонкая рука поднялась и ухватилась за потрескавшиеся двери. Закрывая их, Бенигна повернулась к дороге — чёрная машина со злыми парнями, натужно ревя, отъезжала от её старой хаты.
Спасли её незнакомые люди. Им самим плохо было, сами спасения у неё искали, а вышло, что они ей помогли.
То, что случилось с Бенигной, невозможно было объяснить — по-видимому, совсем больной стал андертальский лес, совсем очумели его обитатели, если уж сваты едут к пенсионеркам немощным, а молодые платят деньги за то, чтобы посмеяться над смертью да над старостью.
Гофман задумчиво потёрся об её ноги, взглянул снизу в глаза: ну что, поехали твои сваты, дура. А могли бы жить на острове. У моря… Апельсины жрала бы. Глупая старая ведьма. Чтоб тебя…
Ноги будто снова онемели, Бенигна пропустила девку в комнату, а сама стала на пороге: ни сюда ни туда. Вот беда. Ей бы тропинки не забыть, не спутать; кто, если не она? Рассказать бы этой девке, куда ходить надо и как в неандертальском лесу себя вести, пусть бы оставалась здесь со своим мужиком, так не смогут же, не увидит молодая заветный лес, застилает глаза ей злость, и обида, и большие городские дома, и правильные слова, которым её учили, и чистое тело, украшенное золотом и прикосновениями вечно спешащих рук. Торопится андертальский человек, бежит, ничего не замечает, споткнётся, осмотрится недоумённо, и снова бежит — поперёк тропинок, вдоль кормушек, вперёд к островам далёким и тёплым, вот ещё немножко — и они покажутся из-за горизонта, красивые города и солнечные пляжи, ещё три шага, и ноги обнимет тёплая ласковая вода, и в карманах вырастут деньги, как у лысых и несчастных растут во сне волосы счастья… Далеко-далеко, на острове без названия, живёт прекрасный принц со своей принцессой… Лишний принц с лишней принцессой, с одной короной на двоих — да и та тоже: лишняя.
Женщина стояла в полумраке, к стене лицом, к ней спиной. Сбросила одежду, хотя её и не просили.
По-видимому, не первая ты у неё бабка, Бенигна.
И муж у неё не первый.
Прозрачное, белое тело, привыкшее слушаться. Привыкшее принимать их форму, литься в буквы, клеиться к ним, лезть андертальскому лесу в пасть, нежиться в ней, льнуть к чужим словам.
Как же тебя трясёт.
Бенигна сделала шаг и чуть не упала. Схватилась за изгиб пониже женской спины, ткнулась печёным носом в кончики молодых волос, сползла на пол, стекла слизью по голым ногам. Женщина вскрикнула и отскочила от холодных рук Бенигны, от её черного лица и земляного запаха, который наполнил комнату.
Покатилось колесо,
Да в самый кут,
Ох, не жить тебе, бабка,
тут.
3.
В больнице Бенигна просыпалась раньше всех.
Вместе с ней просыпались птицы, прилетали на подоконник, скрежетали когтями по старой жести, кряхтели да ворковали, искали мокрые крошки. Видимо, кто-то раньше прикармливал это голубиное войско. А что стало с их кормилицей — неизвестно. Может умерла, а может, и за моряка вышла. А птицы те крошки запомнили — серые городские шипуны, единственное больничное утешение.
Такими же голосами, будто противень скребли, да с угрюмым носовым шипением, говорили другие бабки, лежавшие с Бенигной — бабки скрипучие, сердитые, а часто и вовсе невидимые.
Птицы прилетали, окно за занавесками понемногу светлело, на других кроватях начинали ворочаться. Бенигна то шевелилась, то снова закрывала глаза — и такое у неё было ощущение, что сама она стоит в углу больничной палаты и смотрит на своё тело, чисто вымытое, одетое в белую ночную рубашку, которую выдала медсестричка, её странное, такое живое тело, проколотое в нескольких местах длинными иглами, напоенное неизвестными травами. Забрать бы его да в дом вернуться. За то время, пока Бенигна здесь лежит, много людей к её хате приезжали, скобой железной гремели, звали бабку городскими, андертальскими голосами.
«Бабушка! Бабушка! — вспомнила она. — Помогите, бабушка. Скока вам заплатить? Нискока. Негр, негр, негритос…»
Никто не помог. Некому больше в неандертальский лес ходить. Горят костры, лежит пиджак у пенёчка, никто лишнего не приносит, никто не забирает. Но рано она собралась распроститься с неандертальским лесом. Из тех бабок, что в их палате, за это время две уже померли, а она живая и жить будет. Как ни странно.
Это ей доктор сказал. Каждое утро он приходил в палату, смотрел Бенигне в глаза, молодой, важный, бородатый. Глаза пронзительные, умные, но самоуверенные слишком. Из глаз Бенигны смотрел на него неандертальский лес, тёмный, освещённый кострами, наполненный тревожным гулом голосов, а доктор видел в тех глазах своё: цифры сухого, выработанного уже, но ещё живого человеческого тела, и тело это надо было держать в человеческом мире до тех пор, пока самый последний уголёк, самая маленькая свечка в нём не погаснет. Так его учили, за это ему платили.
У доктора была своя работа, у Бенигны — своя. Доктор не знал, что у Бенигны два миллиона под половицей спрятано. Что она обо всём уже подумала — как только почувствует, что конец, достанет их, на стол положит — и тогда уже можно…
А если Гофман деньги найдёт, по дому разбросает? Этого она не учла. Вот же, как ни крути, наделает она людям хлопот.
Да ещё жених этот. Может, совсем с головой у неё все плохо стало? Может, и не было никакого жениха, не было машины, на чёрную свинью похожей? Может, это какой-то чужой день был, не её? С теми, кто в неандертальский лес ходит, такое бывает. Перепутаются тропки — и конец. Нужно заново искать. И когда она хваталась за эту мысль, в душе Бенигны оживала такая тёплая, такая лёгкая надежда, перед глазами её снова и снова начинали переливаться змеи, и рыбьими, яркими красками вспыхивало лицо её молодого жениха с фотокарточки. Лицо, смотревшее ей в самое сердце, нехорошее, красивое, молодое лицо с глазами такими глубокими, что Бенигна чувствовала тошноту.
Доктор ни о чём таком не догадывался. Перед ним была старая бабка — не женщина даже, а просто организм, бесполый и, как у всех старушек, очень уж беспокойный.
«Вас бы в Минск отправить, бабушка, — говорил доктор, почёсывая живую, пушистую, что твой кот, бороду. — В республиканскую больницу. У нас здесь возможности ограничены. Нельзя вам одной в лесу жить. В таком возрасте. И в санаторий потом, там уход, питание, и вообще веселей. Хорошо, в этот раз добрые люди рядом оказались, но это же случайно вышло. Вам с людьми нужно жить, чтобы родные рядом, внуки… А вы на хуторе, одна. Стыдно, бабушка!»
«Ладно бы вы одинокая пенсионерка были, так у вас же внуки есть, насколько я знаю, — поддерживала доктора врачиха. — Заходили ко мне вчера, вас искали. Хорошие такие ребята. Вдвоём приехали, одеты культурно, вежливые… Что же они бабушку старенькую к себе забрать не могут? Надо поговорить с вашими хлопцами, а то что это такое, в конце концов…»
«Значит, так, — серьёзно говорил доктор. — Недели через две вас выпишу, но с условием, что к внукам переедете. Договорились?»
И, не дожидаясь ответа, доктор отворачивался к другой бабке. Молодых в их палате не было. Если, конечно, не считать сестричек тех голоногих, что забегали к ним, носили, кололи, убирали, да всё трещали между собой — не обращая внимания на сухих, сморщенных бабок, так, будто никто их здесь не понимал. Бенигна наблюдала за ними, прищурившись, слушала их голоса — и иногда голоса казались ей знакомыми, будто она их уже слышала, на берегу озера, на окраине холодного леса.
Когда Бенигне разрешили вставать, она обрадовалась так, что в первый же день покатилась в коридор, да к самому лифту. Никто не обращал на неё внимания, ни молодые, ни старые, только какой-то дед-кашлюн, вдруг выйдя из железных дверей, сказал ей сердито:
«Что ты тут всё ходишь? Вынюхиваешь? НАТО своё ждёшь? Будет тебе НАТО! Вот позвоню куда следует!»
Старая Бенигна испугалась и спряталась в своей палате. Ей хотелось вернуться в хату, она думала о том, сколько машин побывало там, пока она здесь прохлаждается. И понемногу перед её глазами нарисовалась целая вереница автомобилей — самых разных цветов и размеров. Автомобили толкали друг друга в спину, тащились по узкой дороге, налезали сзади друг на дружку, как кобели на сучек. Весь андертальский лес ждал от неё, старой бабки, помощи. Какая же она неблагодарная. Вместо того чтобы людей лечить, в больнице время впустую тратит. Незаметно она заснула, а когда на другой бок перевернулась, сквозь сон услышала:
«Бабушка! Бабушка! Вы спите?»
Открыла глаза — а на неё медсестричка смотрит. Присела у её кровати, коленки голые выставила, острые, с пушком под ними. Не холодно же ей без колготок.
«Бабушка! А помогите мне. Я знаю, кто вы. Вы шептуха из леса».
Палата была пустая. Солнце заходило, старые расползлись по больнице — кто телевизор смотреть, кто на скамейке посидеть, а к кому и дети пришли. Вот сестричка моментом и воспользовалась. Кто ей сказал? Неужели теснота такая в андертальском лесу, что все про всех знают… Бенигна улыбалась, она хотела, чтобы улыбка её выглядела доброй да ласковой — а медсестричка видела перед собой чёрный кочан, спереди которого шевелились черви губ, видела дыры в кочане и багровый нарост, который втягивал в себя воздух. Но девка была не из пугливых. В районной больнице пугливые долго не задерживаются.
«Помогите, бабушка. Я вам за это денежку дам. У вас же пенсия маленькая. Вот как так нашептать, чтобы парень, который к другой ушёл, эту другую бросил?…»
Бенигна протянула к ней руку. Медсестричка сглотнула слюну и терпеливо подождала, пока Бенигнина рука схватит её за колено, погладит и перестанет дрожать.
«Вы же можете, бабушка. Чтоб он вернулся, навсегда. Ну или не навсегда, — задумалась медсестричка. — Пошепчете мне, бабушка? Я вам его имя скажу. Или вещь какая-нибудь нужна? У меня журнал есть, “Магия и красота”, я читала, что разные способы есть… С полотенцем я пробовала, на узел завязала и что надо прочитала. Вот, у меня с собой. Может, я неправильно..? Вы скажите…»
Она достала из кармана бумажку и школьным, тетрадным голосом неуверенно, быстро прочитала:
«Любимый рученьки помыл и в полотенце наследил. Правильно, бабушка? Наследил… Знаю я, чем он наследил. Ну, ладно. А вот дальше. Полотенечко сверну — милёнку голову вскружу. Полотенечко сырое — мой милёнок по мне ноет. Ага, ноет… Видела я вчера, как он ноет. Кобель вонючий. Полотенцу высыхать — милому по мне вздыхать. Никто его не развяжет, милый мне любовь покажет». Правильно, бабушка?
Но старая шептуха ничего не отвечала, только шевелила губами-червями и сжимала колено медсестрички, как гладкое яблоко. Медсестричка задумалась, уставившись на своё колено в этой чёрной, как земля, руке, спрятала бумажку в карман и резко выпрямилась:
«Вы пошепчете, бабушка? Договорились? А я вам за это пока уточку поменяю…»
Полотенечко.
Все растения там жгучие, как самая лютая крапива, как будто сама королева Крапивна на балу там гуляет. А посреди крапивы лежит полотенечко. Надо перед собой смотреть, не оглядываться и идти куда надо, и ни с кем не говорить. Полотенечко. Люди там странные, косточки жарят на угольях, и говорят печально так: гу-у-у… гу-у-у… нужно положить под пень, под луну, под пиджак, что на траве постелен, и сказать сразу: пойду от пана, пришла слишком рано. И идти поскорее домой, пока проход открыт. Полотенечко. Лишнее оно было, то полотенечко. Беда! Лежало там, в неандертальском лесу, синее мужское полотенце в белую полоску, отсыревшее полотенце, пахнувшее женихами, их волосатой, вспотевший кожей, белитовским гелем для душа, лежало и выпускало в неандертальские травы свои пары, свои выдохи, свои запахи, и вот уже не могут неандертальские те чёртики свои косточки жарить, всё убивает им дух полотенечка, оглядываются они, морщатся, весь неандертальский лес скручивается в то широкое, полосатое полотенце, весь в него всасывается, забирает полотенце мокрое, махровое, всех в свои крепкие объятия. Спасать надо неандертальский лес, пропадёт он, некуда лишнее носить будет. Бежит Бенигна, бежит на битву, бьётся с полотенечком, вырывает его из крапивы, из травы тянет, а полотенечко не даётся, хлещет её по рукам, хватает за шею, душит Бенигну. Не хочет бабка, чтобы это в лесу видели, смотрит на всех виновато, а полотенечко смеётся: ты что жениха своего молодого тянешь, останусь я здесь, в лесу твоём заветном, буду всеми командовать, а тебе запрещу, проход закрою! И тогда говорит Бенигна: гори, полотенечко, неандертальским огнём! Вспыхивает махровое китайское полотенце, сгорает, как из бумаги сделанное, только пепел с рук Бенигны сыплется. Отворачиваются иностранцы неандертальские, турки и прочие мужички, пожимают плечами успокоенно, берутся за косточки, утихает неандертальский лес, и костры снова пылают ровно, ясно, как те свечи церковные, открываются тропинки лесные, косточки хрустят: ступай уже домой, Бенигна, иди, старая, откуда пришла, только не оглядывайся.
Хорошо, хорошо, пойду. Пойду от пана, пришла слишком рано.
В палату начали возвращаться другие бабки, каждая глянула на Бенигну, проверяя тайком, жива ли. Тайком, украдкой, быстренько, ничем себя не выдавая. Контролируют её. Они тут главные, пожилые женщины в своем уме, а она что? Одно слово: бабка дурная.
Когда молодой падает, бог ему подушечку подбрасывает, а как старый — так борозду.
В тот вечер Бенигна сама отправилась на ужин. Докатилась до столовой, вошла, а тут, как на горе, тот самый сердитый дед у дверей сидит. Каша на бороде, каша на носу, ложка в руке трясётся. Увидел её этот болван старый да как разошёлся:
«Опять вынюхивать пришла? Что я, не знаю, кто ты? Подполковник натовской армии! Ночью в окно светишь в туалете, стратегические цели врагу показываешь! Вот позвоню куда следует, заберут тебя завтра!»
Но Бенигна на этот раз на деда никакого внимания не обратила. Села тихонько на своё место, кухарка ей и миску каши принесла, и ложку, и курицы кусок положила с подливой. Бенигна ела, кашу глотала, и вспомнила вдруг, в чём ещё виновата. Сестре ведь так и не написала. Но куда писать? Адрес в доме остался, и телефон там. Могла бы из больницы позвонить. Но зачем родных людей волновать, с места срывать. Приедут же, всполошённые, апельсинов навезут. Не любит Бенигна апельсины. А ехать родным не близко. Апельсины… Оранжевые, яркие, как глаза кошачьи, нечеловеческий цвет, лишний. На том острове, где её жених живёт, бедный тот парень кудрявый да сумасшедший, который руки её просит, там одни апельсины, наверно, и растут. Вот и блестят его глаза на фотокарточке апельсиновым цветом. Будто подрисовал кто. Может, и не фотокарточка это никакая. А просто рисунок такой ей показали — и сказали, что фотокарточка, чтобы поверила. Но она уже не верит даже в то, что всё это и правда было. Что хата была и больница — верит. А между ними — будто тряпкой кто вытер. Ничего. Одна фантазия.
Когда за окном уже давно стемнело, Бенигна легла и начала мысленно сочинять письмо своей сестре. «Здравствуй, дорогая сестрица. Прости уж меня, давно не писала. Лежу в больнице, но ты не переживай, жива я, здорова, ехать ко мне не надо. Доктор сказал, выпишут завтра. Как твоё здоровье, сестрица, как у Павла, как наши все?..»
Обманула она сестру. Хотя письмо не написала, а уже взяла и обманула. Лишнего на себя нагребла.
И тут за окном послышался голос. Не человеческий, но такой знакомый.
А ну тебя.
И снова: голос, не голос даже, а писк.
«Что же ты, дуралейка старая, по больницам валяешься? Люди едут, едут, а ты… Что ж, мне в неандертальский лес вместо тебя ходить? Так надо было на остров к жениху ехать, если ты решила больше не лечить никого. Вот возьму твои очки и засуну под самую кровать, к мышам. Поползаешь тогда у меня…»
Гофман.
Гофман, подумала старая Бенигна и заворочалась на кровати. Коты всюду дорогу знают. Голодный, заскучал, в лес не хочет идти, лень ему. А к ней добрался, нашёл путь. Коты такие, будто за нитку к нам привязаны. За сто километров отойдёшь, потянешь — а они почувствуют.
И снова голос.
Сидит, видать, её кот под окном.
Это же сколько ему пройти пришлось. Аж до самого райцентра.
Мяукает, её зовёт. Может, не он, а так, какой-то больничный приблуда? Не, его голос, кажется.
И так засела в ней эта мысль, что нет сил спать.
Старая Бенигна поворочалась ещё минут пять, а потом слезла с кровати, надела халат, сунула очки в карман, хорошие, новые, в больнице ей выданные. Кое-как натянула тёплые носки, которые ей утром принесла суровая сестра-хозяйка. Бабки в палате спали, но Бенигна знала, что в этот самый момент три пары глаз следят за ней и три головы думают — тяжело думают, темно, со скрипом и тоской, и с раздражением: куда это бабка на ночь глядя потащилась? Не спится бабке. Старики постоянно куда-то тащатся, им кричат, их толкают, а они тащатся. Вот и она потащилась в дверь, в коридор, мимо дежурной. Дежурная покачала головой, не отрывая глаз от этого своего телефона могильного, мобильного то есть. И ногтем своим по телефону застучала с удвоенной силой: тук-тук, тук,
пюк-пюк-пюк,
I dont look
good naked anymore.
Может, это та девушка, которая просила ей пошептать? Бенигна не могла сказать этого с полной уверенностью. В ушах у неё всё звучал и звучал плаксивый кошачий голос с улицы. Она долго спускалась по лестнице, и вот наконец больничный двор: покрашенные в красный и зелёный пустые скамейки, тусклый фонарь разгоняет туман, ровные, невесёлые дорожки теряются в темноте, откуда слышны сиплые, усталые голоса автобусов. Она подняла голову. Бравой бровью над крыльцом больницы висел флаг, гудела сигнализация, как чья-то молодая бессонница, и в небе не было видно ни одной звезды. Все остались над её домом, далеко, на берегу озера, над смородиновым кустом, над палисадником, над колеями. Вот бы туда вернуться. Но вокруг был город — город и есть андертальский лес, только обращённый в камень, ножницы и стекло, город — другой лес, лес несчастливый, обманчивый, дрожащий, полный мелких движений, слепой и жаркий. Живой и горячий, как больной ребёнок, который спит на боку. Она не хотела его разбудить. Поэтому ступала тихо и прикрывала слабой рукой рот.
Если это и правда Гофман тут бродит, то он к ней выйдет. Выйдет, как миленький. Там он, там, где-то за деревьями. Пришёл, дурак. Бенигна вгляделась в темноту, позвала его глазами, помахала скрюченным пальцем. Никто не отзывался. Боится, не привычен её кот к городу. Откуда у него имя такое, как он вообще у неё очутился? Впервые задумалась об этом Бенигна, да так ничего и не придумала.
Она ступила на дорожку — как была, в халате и носках. И пошла под беззвёздным андертальским небом, и если бы кто-то сейчас выглянул из окна больницы, то вряд ли бы её заметил, а увидел бы только серовато-белую больничную кашу ночи. А сама она шла и удивлялась, как торжественно, с тихим журчанием, расступается перед ней туман. Как будто принимает её, старую, в свои чистые, увешанные капроновыми тканями комнаты.
«Смотри, кто идёт», — сказал тот, что сидел за рулём.
«Не может быть. Невестуха наша гулящая. Я же говорил. Никуда не денется».
Они переглянулись.
«Вот и хорошо. Не надо до завтра ждать. Ну что, поехали. Один за ручки, другой за ножки. По затылку не бить».
Они вздохнули и вышли из машины. Из тьмы, из тумана.
Подошли к ней сзади. Нарядные, нежные, застенчивые, крепенькие, как грибки. Тот, который сидел за рулём, взял старую Бенигну за талию, как на танцах, и легко приподнял над землёй, перевернул так, чтобы почувствовать под своей ладонью старческую спину. Спина была удивительно мягкая, с провалами, с ямами, как перекопанная вся. Ему было неуютно, он привык иметь дело с твёрдыми и непокорными вещами, а тут такая податливость, сам словно проваливаешься в эту старуху. Она что-то зашамкала — вместо голоса посыпался песок, и человек, который держал её на руках, сплюнул.
Бенигна неожиданно забила босыми ногами, тому, кто её держал, пришлось немного прижать старушенцию.
«Ну что ты, бабка, что ты, замолчи, ты ж сама понимаешь: работа такая».
Второй забросил Бенигнины ноги повыше и бросился открывать машину. Хорошо, что мне не пришлось брать её на руки, думал он, запихивая старуху в салон. Иначе обязательно бы почувствовал её дыхание. Зловонное дыхание, не человеческое, так пахнут квартиры, в которых недавно умер пенсионер. Как хорошо, что в больнице её помыли. А если бы они забирали её из хаты? Задохнулись бы, пока до Минска доехали.
Он сел рядом с Бенигной, накрыл её одеялом и брякнул дверью. Главный устроился за рулём, включил фары.
«Как она там? Живая?»
«А что с ней сделается? Мы ж аккуратно. Правда, бабка? Ну что, что тебе не нравится? Тепло, удобно, мы ребята хорошие. Спи давай».
«И правда, бабка, поспи, и нам спокойнее, и тебе полезно».
«Как там в анекдоте? Дед, а дед, а что такое “шабля”? Шо, бля? Шабля! Спи, бля».
«Прикрой рот, а?»
Раздвигая круглыми фарами туман, похожая на чёрную свинью машина выехала на Советскую улицу и чуть ли не сбила молодого человека со спортивной сумкой, который шёл в ночную смену. «Да вашу ж мать!» — крикнул он нерешительно, отскочив на тротуар, и погрозил кулаком прямо в лобовое стекло. И тогда машина притормозила. Он успел рассмотреть пассажиров: двое пацанов, а с ними их пожилая мать, которая сидела на заднем сиденье и спала, повесив голову. В Минск, видно, мать везут, или в Новинки, или в Боровляны. Освещённый синим светом водитель мрачно взглянул на молодого человека, нехорошо закусил нижнюю губу — и машина снова рванула с места. И тогда хлопец выругался уже полной грудью: «Ёб вашу мать!» — прокричал он уверенно вдогонку машине и двинулся дальше в ночь. У него недавно украли новое китайское полотенце, и поэтому он считал, что может позволить себе определённую некорректность.
4.
Комната, в которой её поселили, была оклеена весёлыми голубыми обоями, сплошь в жёлтых и зелёных цветочках, а по обоям прыгали странные нарисованные звери, от пола аж до самого потолка.
Были здесь мыши с большими головами, в человеческом исподнем, с большими ушами и блестящими носами, жуткие, будто карлы. Мышей было много, может шесть или семь, а может, и больше, мыши ухмылялись, глядя на старую Бенигну и показывая ей каждая по два зубища. Те мыши всё время ей подмигивали: что, старая, замуж захотела? Подкоротим тебе ночью платье-то, подстрижём подол зубищами, будешь знать.
Кроме мышей были на тех весёлых обоях апельсинового цвета пчёлы, с зенками такими огромными, что Бенигна не могла выдержать их взгляд и глаза её начинали слезиться. Пчёлы висели между нарисованных цветов, как в засаде. Ещё на обоях было двое малышей в смешных шапках, с носами длинными, как клювы, — кулаки их были сжаты, и Бенигна, разглядывая их, понимала, что те мальцы только и ждут, чтобы начать между собой дуэль: клевать друг друга носами, пока у одного юшка из головы не пойдёт, а может, и до смерти, потому что слишком уж они упрямые, хлопчики эти. На тех двух малышей смотрел третий — и вместо тела была у него луковица. И тот третий нет чтобы тех с носами успокоить — нет, хлопец-луковица их друг на друга натравливал: давайте, давайте, разбейте себе черепа! Ползали по обоям чёрные муравьи с оторванными лапками, с мордами бешеными, как у деда-кашлюна из больницы, с глазами дикими, неумными, почти человеческими, а в самом центре, на самой большой стене, светило с обоев лицо какой-то девки с голубыми волосами.
Она смотрела на Бенигну серьёзно, как Дева Мария, и улыбалась так, будто на самом деле осуждала бабку. Нельзя молодым со старыми жениться, говорила девушка. Горе будет — и одному и другой. Ведь грех это.
Грех.
Сначала Бенигна боялась смотреть на стену — как только она бросала на неё хотя бы короткий взгляд, картинки оживали, начинали двигаться, комната наполнялась писком, жужжанием да ворчанием. Весь этот чёртов луг напомнил ей вдруг картину, которую она видела в сельской церкви, когда ещё маленькая была. Ад — и посреди него строгая Дева Мария, которую никто тронуть не может, Мария, которая будто бы указывает, куда попадёт бабка, что всё в неандертальский лес ходит, а по-человечески жить не хочет.
Бенигна испугалась своей ожившей памяти. Память топала в её голове, как слепая в чужой хате, сейчас зацепит что-нибудь локтем и разобьёт. Как её остановить? Что ещё она вспомнит, старая шептуха, оторванная от своего дома, никого не лечащая, забывшая о своём долге? Не спасает она больше людей, а только лежит, жуёт и шевелится — а куда её дальше понесёт, сама не знает.
Куда понесут.
А что делать? Как ты докажешь двум молодым мужикам, что поздно тебе невестой быть? Как попросить, чтоб отпустили, если они не слышат — и слушать ничего не хотят?
Видно, что-то она не так сделала. Провинилась перед тем, кто всё это придумал. А может, непосильную ношу на себя взяла, жуткий какой-то груз, может, какая-то другая женщина должна была в неандертальский лес ходить, а она, Бенигна, у неё ключи украла? А, старая ты ведьма? Что ты ещё вспомнишь?
Но понемногу Бенигна попривыкла, всё чаще она рассматривала стены комнаты — и вскоре нашла на голубых обоях каракули. Будто кто-то пытался ручкой зарисовать картинки. Тёмно-синяя линия бегала по стенам, встречалась с красной, оставляла рубцы, зигзаги, взлетали эти каракули до середины стены и снова опускались до самого пола. И скоро уже Бенигна поняла — в этой комнате когда-то жил ребёночек. Жил с муравьями ужасными, с мышами хищными, с пчёлами гигантскими, с мальцами — большими носами. Со строгой девой голубоволосой посредине. Спал он на той самой кровати, на которой сейчас она спит. Спал да ел, да кричал. Жил да взрослел. Вырос как-то, а как, сам не знает. Уехал отсюда навсегда, давным-давно, а теперь в доме каждый месяц новые люди ночуют, деньги платят, чтобы в этой комнате спать и в окно смотреть.
За единственным в комнате окном был Минск.
Минск, которого она никогда в жизни не видела и не думала, что увидит, а если честно, если совсем уж щиренько, то и сомневалась, что тот Минск действительно существует. Мало ли что люди рассказывают.
А он, оказывается, вот какой, Минск.
Как узор на серой ткани. Сплетённый в клубок лес, который разматывается, разматывается, нитки его обвивают, чёрточки да чёртики опутывают, продевают собой паутину голых весенних деревьев, цепляются за землю и выползают через совсем другие дырки, пролезают сквозь машины, сталкиваются, завязываются в узелки и снова развязываются, запутываются в нём фигурки людей, флажки, собаки, лавки и ограды. Всё тянется и тянется этот клубок, а куда, где всё это заканчивается — неизвестно. Ведь напротив дома, где она сидит, другой дом. Смотрит этот дом на Бенигну всеми своими глазами, и такое у неё ощущение, что каждый знает: привезли сюда несколько дней назад на рассвете какую-то старуху, поселили в комнате, а выходить не дают. А почему? Что за старуха такая?
Да она бы и сама не смогла рассказать.
На самом деле в Минске, конечно, никому ни до кого нет дела. Каждый сам по себе — шевелятся люди в одном клубке, а каждый думает, что свободен, как птица. Птиц здесь много, но ни вороны, ни голуби на Бенигнин подоконник не садятся. Чужая она в Минске. Что ты, старая, забыла в большом городе? В самой что ни на есть сердцевине андертальского леса?
Никто не догадывается, что она здесь. Да и кто стал бы такую неинтересную загадку разгадывать. Им бы свои клубки до конца размотать. А на это минским жизни не хватит.
Это днём Минск такой — сплетённый, связанный, белый, серый, чёрный, синеватый, как кожа на морозе. Ночью Минск горит, но не сгорает. Как вечный огонь.
Болят Бенигнины глаза, болят, она их отводит, а они всё равно к окну просятся. Будто есть здесь кто-то, кто с ней поговорить хочет.
На самом деле у неё в Минске много знакомых. Сколько людей отсюда к ней переездило. Сколько лишнего, в Минске ими нажитого, она в неандертальский лес отнесла. Те, что во дворе под её окном бегают, — кто ж знает, может, они когда-то в её хате стояли, дрожали, рук её дожидаясь — с ужасом, с животом, ко рту подтянутым, с жилами застывшими, с душами, лишним набитыми. Она бы каждого узнала, так ей теперь казалось. Только вот саму себя она уже не узнавала. Вечером, стоя у окна, она видела своё лицо в тёмном оконном стекле и была уверена: нет, не её это лицо, не её, это какая-то другая бабка в дом пожить просится.
Но утром та чужая бабка уходила. Минск становился бело-розовый, как зефир. Начинался день, такой же, как вчера. Никто не приносил Бенигне лишнего, никто не умолял о помощи, никто не звал её: «Бабушка!»
Поэтому закрыт был для Бенигны неандертальский лес. Не для кого туда идти. И она со страхом думала, что забудет за все эти напрасные, бесконечные дни, где какая тропинка, забудет о том, в каком месте пиджак на корчах постелен. А если и не забудет, если доберётся — что если ни пиджака, ни пня там нет уже? Одна крапива. Куда она лишнее девать будет?
Посмеётся над ней королева Крапивна, зелёная Стракива. И закроется на веки вечные неандертальский лес.
На веки вечные.
Бенигна смотрела на Минск с высоты третьего этажа, и у неё кружилась голова. А здесь же и повыше дома бывают, ой повыше, да много. Есть такие, что она и разогнуться не сможет, чтобы верхушку увидеть. Хочется людям всё выше и выше жить — думают, что убегут так из андертальского леса. Или в ангелов превратятся.
Минск — город ангелов. Да и вообще, умирают ли в Минске люди своей смертью? Или здесь можно только из окна выпасть или под машину попасть?
Если бы Бенигне пришло в голову выпасть из своего единственного окна, то у неё вряд ли бы получилось. Рама была без ручек. Комнату нельзя было даже проветрить, поэтому стояла в ней такая духота, что Бенигна чувствовала, как пахнет её старое тело. Что ж, духота, но и теплота ведь тоже. Про то, чтоб она не мёрзла, позаботились как следует — в распоряжении у бабки был целый мешок тёплых вещей. Она выбрала что поскромней — и всё равно выглядела, как какая-то дурная старая бесстыдница. Её б не только Гофман — куры бы засмеяли. Нельзя женщине в таком возрасте в такой одежде ходить. Но лучше так, чем в халате больничном, решила Бенигна. Так и сидела у окна, чужая, незнакомая сама себе, в какой-то кофте с чужого плеча, на которую надела вязаный зелёный кабат, в чёрной юбке широкой, да ещё платок чёрный надела — будто бы умер кто.
Хлопцев, которые её сюда привезли, звали Антон и Миша. Антон был главным, а Миша её стерёг, в туалет водил, есть приносил. Двери в её комнату были на ключ заперты, но она слышала, как ребята переговариваются.
«Слушай, Антон, а почему она такая чёрная, бабка наша?»
«А что?»
«Старые обычно белые. Или жёлтые. А она чёрная, как земля».
«А тебе что? Наша работа — бабку стеречь».
«Да я просто подумал…»
«Подумал он. Чёрная… Я тебе что, дерматолог? Погугли».
Антон разговаривал с Мишей всё неохотнее, всё чаще уходил куда-то на целый день, и Бенигна слышала, как Миша мучается от такого вынужденного сидения на одном месте. Телевизор, который постоянно орал за стенкой, ему быстро надоедал, Миша шлялся по квартире, звонил кому-то, но говорить долго не мог, так как и это ему не приносило радости. Он начал заходить к бабке всё чаще, садился перед ней на корточки, говорил вполголоса:
«Ты вот людям шепчешь, а сколько тебе платят? А, бабка? Только не говори, что ничего не берёшь, всё равно не поверю. Не бывает таких шептух, чтобы не брали. Вы же все жадные такие, даже стыдно как-то за вас. Я ж знаю, вы всё на доллары меняете и в чулках ховаете. В переходах старые бабки стоят, ерунду всякую продают, подойдёшь ради интереса — глаза на лоб вылезают. Так это в переходе, а ты, колдунья старая, видно, в сто раз больше гребёшь. Может, и из-за границы к тебе едут? В евро платят? Не, евро вы не любите, я вас знаю. Зелёными, только зелёными…»
Бенигна слушала, а Мише казалось почему-то, что она кивает, и он начинал заводиться:
«Где же совесть у вас, стариков? Бедные, бедные, а в чулках одни доллары. А ещё говорят, молодёжь сейчас только о деньгах думает. Так а вы о чём? О культуре? О традициях?»
Она ела, опустив глаза — или просто сидела, глядя в окно. Миша наблюдал за ней брезгливо, но глаз не сводил.
«Мне вот интересно, почему так. Я думаю, это с возрастом проявляется. Чем старше человек, тем больше ему кажется, что чего-то ему недодали. Вот смотри, бабка. В Минске пожилых людей больше, чем где! Самый старый город в Европе по возрасту населения. Вы же живёте потому, что вам всё чего-то хочется. Успокоиться никак не сможете. Выйдешь на улицу — везде старые ползают, во все щели забираются, как тараканы. Чего вам дома не сидится?»
Бенигна видела, как в окнах дома напротив зажигается свет. Когда Миша от неё пойдёт, он тоже щёлкнет выключателем — и в окне появится та, другая Бенигна. Но пока что она может вглядываться в огни соседнего дома, которые сливаются в удивительный узор: и узор этот переливается, светится, крутится — точь-в-точь как фотоснимок её дальнего жениха. Бедного жениха, которого довёл до помрачения холодный, мартовский андертальский лес.
«Бабка? Слышишь меня? Минск такой серый, скучный, потому что он под вас, стариков, налажен. Здесь всё для старых и немощных, всё для пенсионеров, склеротиков, всё для тех, кто землёй пахнет. Он сам пахнет, как квартира в бабушатнике. Как комната, в которой вчера столетний дед концы отдал. Альцгеймерск, холера на него. Все эти советские тряпки, ленины, ленточки колорадские, и названия все старческие, больничные: Кнорина, Мясникова, Свердлова. Это всё, бабка, обезболивающее для вас, стариков, не город, а капельница, чтоб вы могли ещё немного протянуть в этом мире. В этом городе, бабка, управляет всем какой некрофил. Ну или геронтофил, без разницы. И слуг он себе тоже так выбирает — среди геронтофилов. А молодые прятаться должны, тихо себя вести, громко не разговаривать, чтоб ваше, блин, спокойствие не нарушить. Такой это город, бабка. Будто здесь вчера “дедушка умер”. Одни плачут, потому что так надо, другие на цыпочках ходят, потому что нельзя же покой мертвяков нарушать. Третьи венками всё вокруг обкладывают, четвёртые к поминкам ежегодным готовятся. Когда ж вы уже нас отпустите на свободу, а, бабка? Когда здесь можно будет дышать, а?»
Бабка не знала. Бабка молчала. Миша тоже задумывался. Так и сидели они рядом: бабка на кровати, Миша на корточках, и в окно смотрели. А там опять начинался вечер — третий, четвёртый, пятый…
Оба хлопца всё больше нервничали — это было видно по тому, что часто у них доходило чуть ли не до ссоры. Не хватало ещё, чтоб подрались, думала с тревогой Бенигна. Поразбивают лбы, а ей, старой, и не скажут ничего. Однажды Антон чуть не выгнал Мишу из дома.
«Всё, достал ты меня. Хватит. Давай ноги в руки и пошёл отсюда. Мне таких напарников не надо. Кто за тебя переделывать всё будет? Я тебе что говорил? Без визы мы здесь на всю жизнь зависнем. Втроём. Ещё, гляди, бабку и прятать в Минске придется. Сам ей гроб покупать будешь — как любимый внук».
«Да я…»
«Головка ты, сам знаешь от чего».
Но понемногу Антон повеселел. Видимо, дела пошли на лад. И даже принёс как-то Бенигне маленький телевизор, включил, посмотрел на неё почти сочувственно.
«Вот тебе, бабушка, за хорошее поведение. Видишь, как полезно нас слушаться?»
Всё видела Бенигна. Всё. И то, что в соседнем доме стариков столько живёт, что на десять деревень хватило бы. И то, что они её видят из своих окон, шевелят беззвучно губами, покачивают головами. Будто знакомятся. Что, Бенигна, в Минск умирать приехала? Думаешь, здесь умирать хорошо? Ну, становись в очередь. Это там, в хате твоей, очереди нет, ложись и засыпай навеки, а здесь город — и бегает по нему смерть, как участковый врач, по квартирам, и везде успевает. Смерть в Минске не такая, как у тебя в лесу, смерть в Минске государственная. А ты что думала? Много в Минске поликлиник, а есть одна для таких, как мы, — Чёрная поликлиника. Все мы там на учёте состоим. У каждого карточка там и талоны бесплатные. И каждый месяц ходим мы туда ночью на обследование. А ты, бабка, карточку там завела уже? Молчишь. Ну молчи, молчи, смотри свой телевизор, всё равно в той поликлинике встретимся. В одной очереди, к одному врачу. Молчи, на сынов своих надейся, такие уж они у тебя заботливые — нам бы таких хлопцев. Особенно Антон этот твой — золото, а не парень. А говорит как. Мягко, нежно, и улыбка такая уж хорошая. Видно, в армии недавно отслужил. Как он, женатый-то уже?
Не знаю я, отвечала старикам из дома напротив Бенигна. Ничего я о них не знаю, о тех хлопцах моих. Не знаю, женатые ли, и про внуков ничего не знаю. У меня своя тайна. Я сама к жениху еду. На старости лет под венец пойду.
Позор тебе, бабка. Позор! — так говорили, выслушав её, старческие лица, все эти белёсые глаза, впалые рты, пустые челюсти. Правду о вас, шептухах, говорят, что все вы против бога, и живёте все по дьявольским законам. И не связывался бы с вами никто, да что делать: холодно, страшно в андертальском лесу: как приспичит, то и к бабке поедешь. Главное, не говорить никому, не признаваться. Сказать, что в больнице лежал. Там и вылечили.
Хотелось Бенигне поплакать, но в замке снова поворачивался ключ, и глаза её мгновенно высыхали. Не хотела она своих хлопцев сердить.
Антон заглядывал в комнату, подходил к окну, всматривался в слякотный вечер. Волновался из-за чего-то, а сам всё старую Бенигну успокаивал:
«Терпи, бабка, терпи, уже почти всё готово. Скоро в поход. Не будешь нас злить — через три дня жениха своего увидишь».
Повеселел и Миша.
«А я погуглил. Если у старых морды чёрные — это эти… пигментные пятна… Если их много, они сливаются, вот морды чёрные и делаются. Или пигмент, или меланома. Первое страшно, а второе… Второе — это вообще конец. Меланома, и на тебе — уже рак. Но что интересно! Ты знал, что самые первые европейцы были чёрные? Чёрные, как негры? Но с голубыми глазами. Так что я думаю, наша бабка — из этих, из первобытных. Ты на неё посмотри. Вылитая. Череп, кожа… А челюсть какая… И глаза синие-синие».
«Мишка, а у тебя бабушка есть?»
«Да. Давно не видел. Может, и умерла уже, кто её знает. Но моя не такая чёрная. Моя как китаец… Маленькая и жёлтая…»
Теперь у Бенигны был свой телевизор. Чем-то похожий на тот, который стоял в её хате. Только там, в хате её лесной, телевизор давно уже не работал, а этот так уж хорошо показывал, — и потихоньку начала Бенигна всё меньше в окно смотреть, а всё больше в экран. Телевизор её сначала просто успокаивал — пока не разобралась бабка, что к чему, и не нашла себе любимую передачу. Да и не передачу даже, а сериал. Да такой уж душевный, такое кино жизненное, что как-то Бенигна и забывать начала — и про жениха своего, и о том, что сидит она в самой середине андертальского леса, и что хата её далеко, стоит где-то там, пустая, холодная, и что никто на самом деле не знает во всём мире, что с Бенигной дальше-то будет.
Но серия заканчивалась — на самом интересном месте. И тогда возвращалось всё то страшное, тревожное, прижимало Бенигну до самого пола, крутило и за душу таскало: как же оно так вышло, что я про свой долг забыла… Обо всём забыла, о людях, о лишнем, о себе. Как по голове кто ударил. Горе мне, шептухе, горе мне, бабке дурной. А где-то над ухом всё равно комар гудел и голову точил: завтра следующая серия будет, что же там с ними дальше, с героями — с Лизой этой, стервой, и с Ваней (такой уж мальчик хороший), и поверит ли Ваня тот своей Машеньке? Ну ты же видишь, что тебе голову дурят, Ванечка, иди к бабке Бенигне, она тебе всю правду расскажет. Машеньке своей не веришь, так хоть старухе поверь.
Что поделаешь. Сама уже Бенигна не знала, с кем она живёт и где: с ребятами своими в минской квартире или с Ваней этим и Лизой. Аж страшно иногда делалось: где я? В каком лесу? И в доме напротив старики тот самый сериал смотрели, и, пока он шёл, Бенигна чувствовала, что никто её не попрекает. Всех их, стариков, это кино притягивало, все они там жили, по кухням ходили, в спальнях стояли, у кроватей детей своих, и тянулись к молодым кривыми пальцами, чтобы им хоть как-то помочь. А как иначе? Такой в том кино был сюжет, что не оторваться. Так и хотелось бабке к ним пойти и всем добрым людям помочь, а остальным рассказать, что они неправильно делают. Пусть бы попросили её, бабушку, пошептать немного, она бы никому не отказала, всем помогла, с любой хворью справилась.
Так и сидела старая Бенигна перед тёмным экраном, и чёрные руки её тряслись от бессилия. Кто же такие фильмы придумывает? Кому-то же надо, чтобы человек так мучился, в экран глядя. Так мучился, что всё на свете забывал. Видела Бенигна и раньше кино, видела всякие сериалы, давно это было, когда ещё телевизор ейный не помер, но, что в том кино было, забыла. Неужели и это забуду, удивлялась она, с утра начиная ждать вечера, чтобы узнать, что ж там злая женщина Лиза ещё выкинула и как Ваня снова Машу свою подозревать начнёт. Вечер приходил, и снова всё заканчивалось на самом интересном месте. Такой был фильм — как сама жизнь. Видимо, за это его и любили — ведь он настоящих людей показывал, а не каких-то там выдуманных.
Чем закончилась история Вани, Машеньки и злой женщины Лизаветы, старая Бенигна так и не узнала. Потому что как-то рано утром, ещё солнце над Минском не встало, разбудил её Мишка и сказал собираться. Антон ей чаю горячего принёс, но она и допить не успела, только губы себе обожгла. Повели её парни в лифт, оттуда во двор, к машине своей, на чёрную свинью похожей.
Шла Бенигна по мокрой улице, чувствуя, как пахнет весной сырая городская земля, как свежеет с каждым вдохом ветер, как расправляется каждая травинка на обочине чёрного блестящего асфальта. По дороге ветер гонял пустые пакеты, над подъездами фонари выдували в ночь свой слабеющий свет, но не долетал он, падал под ноги, растекался лужами. Минск шуршал мусором, кашлял и грелся у своих бесконечных заводов. Бенигна катилась к стоянке, справа шёл Антон, слева Миша, и они поддерживали её под руки — то ли боялись, что убежит, то ли думали, что рухнет она сейчас здесь, делов наделает, скандал будет — а скандал им был не нужен. Миша и Антон думали, что никто их не видит, но это было не так. Беспокойный старческий сон, короткий… нет такой кровати, чтобы в ней мог выспаться старый человек. Из окон дома напротив на Бенигну и её хлопцев смотрели глаза минских дедов и бабок, не мигая смотрели, смотрели гадая да осуждающе.
Неспокойная ты, бабка. И куда тебя тянет среди тёмной ночи, куда ты собралась в пять часов утра. Не даёшь ты своим хлопцам поспать. И себе покоя найти не можешь. Возьми нас с собой, бабка. Не покидай нас. Идут к нам врачи из Чёрной поликлиники, несут уколы, меряют нам замёрзшие руки, пишут в карточки. А ты убегаешь. Думаешь, не найдут?
Слышишь? А, бабка? Как тебя там… Бенигна. Ну и имечко, не произнести. Бенигна ты из Бенина, недаром ты сама вся чёрная, вот и притягивается к тебе всё ночное, непонятное, неправильное. Неандертальское. Как же в тебя молодой влюбиться мог, если б ты нормальная была? Как такое возможно, что нас смерть ждёт, а тебя жених? Не стыдно?
Вот же ведьма старая.
Бабка на б.
Бабка, бля.
Бабка Африка.
Возьми нас с собой.
5.
Пока они из Минска выезжали, Бенигна в окно смотрела, на широкие, как поля, улицы, на оранжевые жилеты людей, которых то и дело выхватывали из городских сумерек фары, на высокие дома, по которым карабкались, взбираясь до самой луны, цветные огни. А когда уж на просторе очутились, она незаметно задремала, думая, как странно пахнет кожей от Мишкиной куртки с капюшоном. В Минске люди пахнут по-своему, все запахи пытаются друг друга обмануть. И сама она стала здесь совсем иначе пахнуть — не землёй, а чем-то горелым. Никогда Бенигна не задумывалась, как она пахнет, а теперь, на старости лет, поняла, что имеет свой запах. Мелкая, никому не нужная бабка — а тоже пахнет. И как-то стыдно ей стало. Кто она такая, чтобы людям собой пахнуть?
Когда Бенигна проснулась, было уже светло. Она увидела перед собой длинную череду машин — самого разного цвета, машины плотно стояли одна за другой, такие нетерпеливые, если смотреть назад, и такие покорные спереди. Небритые мужики со своими прищуренными, молчаливыми бабами смурно вглядывались в соседей. Кто-то бегал, кто-то курил, кто-то пил кофе из термосов.
«Стоим…»
«Ну, нормально, могло быть и хуже».
Антон включил радио, и на Бенигну обрушились новости. Те самые, которые она когда-то называла Последними Известиями — в те времена, когда у неё у самой в хате радиоточка была.
«Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал сегодня в американском городе Бостон. Будут разыграны комплекты медалей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Беларусь на соревнованиях представят пары Татьяна Данилова — Николай Каменчук, Виктория Ковалёва — Юрий Беляев…»
«А ты, бабка, как думаешь: когда уже гей-пары в фигурном катании легализуют? — Миша посмотрел на неё серьёзно и вдруг нервно расхохотался. — Ты, бабка, как — за однополую любовь или против? Мне то всё равно, лишь бы наши победили…»
«Не трогай бабку, идиот, — бросил через плечо Антон. — Пусть спит, у неё дорога длинная…»
Миша покрутился, постучал пальцами по сиденью. Бенигна смотрела на него искоса, сочувственно, мается парень в тесной машине, нет у него своего пространства, и работы хорошей нет. Разве ж это работа — за бабкой старой ухаживать?
Вот умерла бы она, отошла, тогда и занялись бы хлопцы каким полезным делом. А так всё прячутся, носятся, переживают, сердца свои мучают. Её от людей скрывают — а она что, из золота сделана? Не было на Бенигне золота, ни крупинки не было, даже кольца золотого, даже зуба золотого. Как будто услышав её мысли, Миша повернулся и начал её разглядывать. Что он там себе думал, трудно было по лицу прочесть. Но что-то не очень хорошее. Может, о том думал, что напоминает эта старая знахарка чёрную потрескавшуюся гирю для гимнастики. Царапнешь — а она внутри из золота. Как в той книжке. Распилил бы старуху молодой хлопец, узнал бы, что у неё внутри — и почему ту бабку убогую такой крутой жених к себе на остров зовёт. Что-то же есть в ней такое… Ценное… Вот же, не бабка — а сплошная загадка.
«К другим новостям. Ответственность за взрыв в Лахоре (Пакистан, провинция Пенджаб) пока не взяла на себя ни одна группировка. Убито более семидесяти человек, около трёхсот получили ранения. Напомним, что ответственность за недавние теракты в брюссельском метро, в ходе которых погибло почти сорок человек и триста сорок были ранены, взяла на себя организация «Исламское государство».
Жаль, думала Бенигна, что по радио про Машеньку и Ваню ничего не скажут. А людям же интересно. Даже тем, у кого телевизора нет. Если бы Бенигна могла, она бы всем рассказала, что там за история. Радио всё говорило и говорило, тысячи незнакомых слов падали на Бенигну, как мокрый снег, и сразу же высыхали, не оставляя в её памяти следа. Только в Минске могут так говорить — без удержу, то шутя, то будто бы человек близкий помер, но говорить, говорить и говорить, словно убегая от кого-то. Без смысла говорить, так, как осенью дождь по крыше барабанит. Говорят — и сами над своими шутками смеются, и над своими Последними Известиями головы ломают: что в них к чему?
«…Шесть кандидатов претендуют на кресло главы государства в Джибути. Президентские выборы в этой небольшой восточноафриканской стране пройдут восьмого апреля. Аналитики пророчат победу лидеру Народного движения за национальный прогресс Исмаилу Омар Гелле. Также в числе участников президентской гонки: Омар Эльми Хере и Мохамед Дауд Шеем из Союза национального спасения и три независимых кандидата: Мохамед Муса Али, Ассан Идрис Амед и Джами Абдурахман Джами…»
«Антон, а ты за кого? — спросил Миша, спрятав лицо в воротник куртки. — Я-то за национальное спасение… Спасайся кто может…»
«Да пошёл ты», — мрачно ответил Антон.
Машина перед ними рванула, проехала пару метров, стала. Так они и живут в андертальском лесу: тронулись — и замерли, тронулись и замерли. А затем конец. Стоп машина.
«Ты, бабка, молчи. Это всё, что от тебя требуется», — сказал Миша, отвернувшись. Руки его дрожали, лоб весь вспотел. Боится парень.
За их машиной вырос длинный хвост, до самого леса.
Антон выключил радио. Короткими рывками они двигались в этой пёстрой очереди, и не было видно ей ни конца ни края.
«Пограничный контроль», — сказал кто-то наконец, и Антон с Мишей вышли из машины.
«Бабушка пускай сидит», — сказал миролюбиво пограничник.
Человек в синей форме хлопотал около багажника.
«Куда едем?»
«Вильнюс».
«А бабушка?»
«Мать, к родственникам везём».
Большое веснушчатое лицо появилось в окне, наткнулось взглядом на Бенигну, отшатнулось.
«Посмотрите на меня, бабушка».
Но она и так смотрела. Во все глаза на него смотрела — ведь показалось ей, что знает она этого хлопчика. И того, кто сзади в машине копался, и того, кто с собакой рядом стоял и на них поглядывал. Какое-то наваждение нашло на старую Бенигну — показалось ей вдруг, что всех, кто сейчас был вокруг неё, она уже где-то видела. Все ей были знакомы, все когда-то перед ней голенькие стояли: и эти водители в своих ярких машинах, что замерли позади, готовые по первому же сигналу занять их место, и та девка в форме, с волосами крашеными, которая стояла перед машиной и что-то сосредоточенно записывала, и парень с веснушками, и тот, и этот, и вон тот… Не говоря уже про Антона с Мишкой — те и правда были бабке как родные. Все они, эти люди из андертальского леса, прошли через бабкины расставленные руки, все в её хате бывали, в той самой хате… Теперь пустой и заброшенной, а раньше такой тесной и тёплой. Все её ждали там в своё время. Полечи, бабушка.
Думала ты, бабка, что одна на свете, что родных душ у тебя только и есть, что котяра вредный и мухи залётные. Ан нет. Вот они, вокруг тебя стоят, вся твоя семья: мужчины, женщины, дети. А ты думала… И что из того, что все они глаза прячут, делают вид, будто тебя никогда не видели. У каждого из них есть своё тайное воспоминание, такое, о котором никому не рассказывают, воспоминание про холодное утро, бесконечное шоссе, лесную дорогу, про старую ведьму, которая касалась их своими горячими пальцами, о её сухом вонючем дыхании: похукаю — и пройдёт, я ху-у-утко, постой немного, спрячу я твой страх, а где спрячу — зачем тебе знать…
Повеселевшие Антон и Миша сели в машину. Снова проехали немного и остановились.
«Лабас», — поздоровался по-литовски Миша в окно.
Этот пограничник был не очень приветливый. И опять началось: «Вильнюс, мать, личные вещи». Старая Бенигна рассматривала золотые звёздочки на синем щите, и так уж они ей по нраву пришлись, что аж на душе легче стало. Здесь, возле этих звёздочек, она уже никого не узнавала. Вся её семья осталась позади, а впереди была заграница. Все чужие — но и здесь, за границей, был андертальский лес, с теми же законами, с тем самым холодом, и здесь жили люди, и людей Бенигне было жалко.
«Ачу», — попрощался Миша, забирая паспорта.
Машина с облегчением понеслась вперёд, словно разминая затёкшие ноги. На первый взгляд ничего вокруг не изменилось, но у Бенигны всё равно появилось ощущение, что пришла она в хату к чужим людям. И тут она вспомнила, что где-то в этих краях сестра её живет. Невольно с надеждой начала вглядываться в обочину — а вдруг где-то там её сестрёнка. Писала же когда-то, что пешком за границу ходит. Государство ей позволило, потому что она, сестричка эта, в пограничной зоне живёт. С тоской, которая сразу отозвалась где-то в горле, она впилась глазами в пейзаж, что проносился за окном. Неужели и правда, глянет — а там сестра, в заграничном костюме, радостная такая, и вся в чёрном? Почему в чёрном? Что же ты её в чёрном себе представляешь, бабка? Разве у неё умер кто? А тебе откуда знать… А, бабка? Ты же даже из больницы сестре не позвонила, не написала. Только и делаешь год за годом, что в неандертальский лес ходишь, а родную кровиночку забыла.
Эх, бабка…
Лучше бы, конечно, сестричку теперь не встречать. Что сестра подумает, когда её с двумя хлопцами в такой машине увидит? Чёрной, блестящей, на свинью похожей. Не будет же она опять сестричке брехать. Да и не была Бенигна уверена, что сможет рот раскрыть, — давно выветрился из неё человеческий язык, ушёл от неё, почувствовал, что не нужен он больше. Только с котом и детьми могла Бенигна говорить, но и с ними лучше глазами выходило, чем языком. Язык этот — только на то он и нужен, чтобы кашу горячую на нём подержать, перед тем как проглотить. Да зубы последние им погладить, как тех кошек: и сладко, и больно, и стыдно. Да и какие там уже зубы… Обломки одни.
Бенигна закрыла глаза — думала бабка дурная, что ехать им ещё далеко, но нет: совсем скоро за окнами машины вырос, сонно поднимаясь с холмов, вылезая из-за низких домов и огромных рекламных щитов, новый город. Всё в нём было не такое, как в Минске. Машина сбросила скорость, запищала на повороте — и начала медленно пробираться по узким улицам. Дома здесь были старые, некоторые чуть ли не полуразрушенные, и всё тут волновало бабкину память, давило на неё, будто Бенигна здесь уже бывала когда-то. Между домов сновали люди — и даже походка у них была другая, более медленная, сонная, будто все они только что проснулись. Церквей здесь было много, ничего не скажешь, — и все как на подбор, такие уж пригожие, что просто глаз не отвести. Зато дома, где люди жили, все старые и неухоженные — не то что в Минске. И как они здесь живут — в домах этих линялых? Ох, привыкла ты, бабка, к Минску. Столичная ты штучка…
Но когда ж это она могла здесь бывать — она, которая всю жизнь в лесу просидела? Чёрт его знает. Здесь, в этом заграничном городе, Бенигне почему нравилось вспоминать чёрта — в голове так и вертелось: чёрт, чёрт, чёрт, и весело так делалось на душе, что Бенигна испугалась. По-видимому, близко он, чёрт, если так о нём легко здесь думается. Конечно же, ближе, чем от её хаты, где хозяйничают сейчас только голодный ленивый кот и весенний, никому не подвластный холод.
«Вот он, бабка, Вильнюс», — сказал со смешком Миша.
«По-нашему Вильня», — добавил сквозь зубы Антон.
«Кривицкая Мекка», — Миша улыбнулся, достал свой телефон могильный-мобильный да на окно наставил.
«Здесь переночуем, а завтра, бабка, дальше полетишь. Уже мало осталось, завтра жениха своего увидишь», — сказал Антон вполголоса, будто сам с собой разговаривая, и повернул туда, где на холме громоздились дома: не то чтобы деревенские, но и не такие, как в городе. Деревянные, но с подворьем, с крыльцом, с обязательной бабкой на завалинке, с гаражом, возле которого суетится какой-нибудь иностранец. Гражданин Европы. Иностранец — а на лицо совсем как наш.
Гражданин? Европы? Набралась же ты, бабка, впечатлений, мыслей и слов, сидя в чёрной машине, на свинью похожей, увидев за окном столько деревень и городов и к речи хлопцев своих прислушиваясь… А может, это телевизор виноват — нельзя в таком возрасте телевизор смотреть. Так можно и тропинку в неандертальский лес забыть — и убить всё, ради чего ты на свете живёшь.
Машина остановилась у какой-то усадьбы, Бенигну вывели под руки и в дальнюю комнату закатили. Тепло там было и сыро, и хатой деревенской пахло, да горькими травами, да человеческим отчаянием. Окна в комнате не было. Лязгнул замок — было слышно, как Антон зазвенел ключами, пряча их в карман. Вот она и снова одна. В комнате было темно, и Бенигне показалось, что пол в ней качается. Будто дом по воде плыл. Трудно здесь думалось и дышалось тяжело. Легла Бенигна старая на скрипучую кровать, такую же, как она, старую, продавленную, с глухими стонами внутри, — и начали пробираться в её голову хмурые мысли.
Всё дальше и дальше её везли — и никак не заканчивалось её путешествие. Завезут её на край света — и этот расстилавшийся перед ней свет всё больше попахивал чёртом, всё сильнее ощущалось здесь его присутствие. Может, он за стеной сидит, лампу свою раскуривает, лампу старую, маслянистую, от неё чад идёт — и забирается тот чад-угар в молодые головы её парней, будут они спать долго и сладко да так и не проснутся. И будет ей, Бенигне, здесь в комнате одна работа: отыскать, несмотря ни на что, тропку в неандертальский лес, да так там и остаться.
На веки веков.
Вечером её снова сводили в туалет и покормили, и на лице у Антона, который принёс ей миску с супом, такая уж вина была, что жалко его стало. Бенигна глазами постаралась его успокоить: человек слаб, говорила она, незаметно шевеля губами, чтобы он не видел, но чтоб всё почувствовал и не мучил себя так. Трудно человеку в андертальском лесу так долго выдержать, головы кипят, и хоть не хочет человек ничего плохого делать, оно само выходит. Ведь такой здесь закон. Кто ж виноват, что он в андертальском лесу родился? Это ей счастье дано, что есть у неё такая возможность: между двумя лесами бегать.
Да и есть ли она ещё? Никто у Бенигны ничего не просит. Только и знает теперь этот мир, что ей приказывать. Но она бабка, что ей остается. Только слушаться и стараться на мир не пенять. Скрутили бабку и везут в далёкий свет, неизвестно зачем — значит, сама виновата, что-то не так сделала.
Ночью где-то совсем близко выли собаки. Так уж выли, что Бенигна всю ночь уснуть не могла. Видно, помер кто-то в Вильне этой. Дико выли, по-волчьи, да ещё подвывали, чтобы пронзительней выходило. Пёс, певец смерти, вестник долгой дороги. Таков этот город. Кобель Вильнюс. А если сучечка, то Вильня. Глупые мысли приходили Бенигне в голову этой долгой ночью. И всё вертелось в темноте лицо её бедного жениха — нехорошее, болезненное и красивое в этой болезненности молодое лицо. Говорят, завтра она его увидит. Бенигна начала думать, что он ей скажет. О таком, конечно, ей не догадаться, но вот что она сама в ответ сделает, Бенигна уже решила. Полечит его, заберёт лишнее, всю эту блажь о любви его и о браке с бабкой старой — и попросит, чтобы домой её отпустил. Есть же сердце у этого хлопца. Не может быть, чтобы не было сердца. Сердце каждый имеет, только у некоторых оно глубоко внутри. Глубже, чем в самом глубоком колодце. Не каждая бабка найдёт…
Под утро Бенигна услышала, как во двор вышли люди, заговорили по-своему. И тогда, под говор ихний, она всё же задремала. Только глаза закрыла — и тут замок щёлкнул, ключи зазвенели, Антон вошёл, одетый, подтянутый, а глаза усталые-усталые.
«Собирайся, бабка. Уже недолго осталось».
И снова сели они в машину, на чёрную свинью похожую. И покатили с холма, только не в город, к узким, как тропинки в том лесу, улицам, а на шоссе. Антон и Миша всячески старались на неё не смотреть — и как-то нутром Бенигна поняла, о чём они думают. Думают, что видят бабку свою последний раз. И снова захотелось ей их успокоить: встретится она с женихом тем смешным, полечит его — и назад вернётся. И представила Бенигна своё возвращение — всё будет у них в таком же порядке: Вильня та распрекрасная, Кривицкая Мекка, пограничники с веснушками, и в Минск они заедут, чтобы она узнала, что там с Машенькой и Ваней случилось, пока её не было. А потом на шоссе, да в лес, да к озеру — и вот она, её хата. Обнимутся они, и она им скажет, хлопцам своим:
«Оставались бы у меня, сынки. Прикипела я к вам. Женились бы и в хате жили, а я на печке, мне места хватит. Я бы ваших жён и детей лечила, в неандертальский лес ваше лишнее носила. А там, глядишь, и осталась бы в лесу своём неандертальском, чтобы вам не мешать…»
Хорошо стало на душе у Бенигны, когда она всё это вообразила. Но, понятное дело, только одна она в этой машине о такой ерунде думала. Потому что лица у Антона и Миши становились всё более серьёзные, вытянутые, машина съехала с шоссе, поскакала по лесной дороге, едва видной из-за густых елей. Они миновали деревянные щиты с иностранными надписями, снова покатились по асфальту, остановились перед воротами. Антон вылез из машины, позвонил, ворота разьехались, как это в железном лифте бывает. Бросился Антон в машину — боялся, видно, что двери снова закроются. Но они успели, потому как ждали их здесь, давно ждали. Ворота за ними загремели, лес кончился, чёрная машина, похожая на свинью, остановилась и заглохла.
Они стояли на ровно постриженном поле, вдали виднелся аккуратный, совсем не городской дом, а на поле том ровнюсеньком стоял самолёт. Бенигна такие только по телевизору видела — самолёт показался ей огромным, и хотя знала она как человек современный, что именно такие машины крылатые по небу летают, всё равно схватило ей сердце от вида этого зверя. Эх, бабка, видела б ты, какие самолёты в Минске на взлётной полосе красуются, в национальном аэропорту Минск-2… А какие во Франкфурте громады белые, с гордыми хвостами, с белыми крыльями, что качаются величественно, по-королевски, утверждая раз и навсегда, что нет для человека ничего невозможного, что оседлал он давно этот мир и, если припрёт ему, может он ноги от земли оторвать и над землёй той повиснуть. Как ангел… А может, и как король ангелов. Как самый-самый у ангелов высокий начальник. Председатель ангельского политбюро… Янголо-монголо-татарский хан над всеми ползучими тварями, среди которых и ты, бабка глупая, жила, так долго жила, что никто уже не помнит, когда и от кого ты родилась. И что бы ты ни говорила, бабка, про злой и неприветливый ранней весной андертальский лес, что бы ни наплели про него те, кто чередой тянулся к твоей хате, как бы люди из андертальского леса ни сетовали на свою слабость — могут ли они над андертальским миром подняться и на него с высоты посмотреть?.. А на неандертальский лес разве с небес взглянешь? Да и есть ли у него небеса, у того странного леса, который весь в дыму и в багряной темноте непроглядной от людей спрятан…
За такую возможность — по небу летать, как ангелы, — люди чёрту легче лёгкого продаются. Может, и лишнее это — но кто не пережил такого, тот и не жил вовсе.
Самолёт действительно был небольшой и лёгкий. Возле него их компанию уже ждали. У самого крыла стоял бородатый парень в короткой куртке и внимательно изучал какую-то карту. А к Антону подошёл упругой походкой ничем не примечательный дядька в солдатской форме.
«Опаздываете», — сказал он нерусским голосом.
Они с бородачом обменялись короткими фразами, на этот раз совершенно непонятными.
«Ну что, бабка, больше не увидимся», — глухо проговорил Антон и повернулся к ней.
Старая Бенигна всё ещё не понимала, что её ждет. Зачем это: самолёт железный, глаза Антона — тёмные, холодные, враждебные. Почему не увидимся? Как это?
«Давай, бабка, удачно тебе долететь, — подошёл к ней Мишка. — Зарыгай им там весь самолёт, а то какие-то они очень борзые. А им заплачено».
«Ты, бабка, только это… — Антон задумался. — Не держи на нас зла. Мы с тобой как с человеком. Пальцем не тронули. А если что и было — не хотели. Так вышло. У каждого своя работа. У тебя своя, у нас своя. Так друг друга и запомним. Окей?»
«Как же тебе повезло, бабка… — скривился Мишка и отвернулся. — Ты Остров увидишь… А мы тут останемся. Я бы тоже хотел. Вот бросил бы всё… Антона этого…»
«Кончай, поехали», — холодно произнёс Антон и отвернулся.
«Подожди… Да, бабка! Бросил бы и с тобой полетел, — мечтательно сказал Миша. — Хоть бы одним глазом на Остров посмотреть… Да кто же меня возьмёт. Разве после смерти».
«Чтобы на Остров попасть, заслужить надо», — крикнул Антон, а бородач уже исчез в кабине, завёл мотор, и полетел прямо в лицо Бенигне дикий ветер, такой, что она задохнулась. Мишка отвел её на шаг и провёл рукой по её чёрной щеке.
«Давай, бабка-негр. Невестуха…» — улыбнулся он и бросился догонять Антона, который уже садился в машину.
Дядька в военной форме подтолкнул Бенигну к самолёту. Она оглянулась недоумённо. Всё было неправильно. Не ангел она, чтобы по небу летать. Бабка она, старая бабка из леса. Покатилась Бенигна к чёрной машине, как к родному дому, но дядька догнал её, схватил — ловко, одним подхватом, и понёс к лестнице железной, что во внутренности самолётные вела. Чёрная машина исчезла в лесу — осталась Бенигна одна на свете: только самолёт этот, который крутил своим пропеллером, как бешеный, словно весь пейзаж в себя закрутить хотел. Запихнул дядька старую Бенигну в железное самолётное чрево, залез за ней и с лязгом захлопнул дверь.
Пока уселась Бенигна на подготовленное для неё кресло — такое, в которых старые в больницах ездят, — пока, отдышавшись, пристегнулась к самолёту тугим ремнём, пока сбросила с себя память о глупых объятиях дядькиных, самолёт уже бежал по остриженному полю. Молодой, белый, чистый, поблёскивая жучиными глазами. А когда глянула Бенигна в окно — ноги у неё похолодели: проваливался в бездну андертальский лес, уходил в никуда, и такое у неё было чувство, что мир, в котором она жила, повернулся к ней своей макушкой. Значит, раньше он к ней спиной лежал, подумала Бенигна, вцепившись глазами в свои колени, а глаз у неё становилось всё больше, и больше, и больше, и лезли они, любопытные, к окну, а она их собирала поспешно и в голову свою бедную складывала: куда же вы, мои глаза, вы же слепые были, что же вам сейчас не спится, на что вам туда смотреть, зачем сердце моё из груди к зубам тянуть!
Дядька смотрел ей в лицо не отрываясь, и не было в его лице ни отвращения, ни ненависти, но и доброты там не было, и интереса тоже — ни-ни. На Бенигну смотрело ничто — а ничто и есть самое страшное. Поэтому она решила на дядьку в ответ не глядеть, так как на ничто и ответ должен быть — ничего, только так уцелеть и можно.
Самолёт хотел Бенигну сбросить, чувствовал белый самолёт, что не любит она его, что не хочет быть его пассажиркой — и начал нарочно над Бенигной издеваться: то сделает так, чтобы Бенигна сердце во рту нашла, то так, чтобы в пятках, то так, чтобы в чашечках коленных, то вообще так крутанёт, чтоб Бенигна покатилась и лбом о стену железную ударилась. Но бородач, спина которого была видна в отверстии узких дверц, быстро укротил машину. И когда Бенигна решилась взглянуть в окно — было под окном так уж сине, да такая там была бескрайность, что у неё перехватило дыхание. Как бесконечное синее платье, лежала под ней холодная вода, от края мира и до края, и вышивали по этой воде не серебряными и золотыми нитями и не камнями драгоценными, а облаками, пароходами и дивными рыбами.
И был это первый подарок ей, невесте, от её жениха.
И был от него второй подарок:
Небо неосязаемое, со взбитыми, как подушки, облаками и облачками, со спрятанными в нём самолётами, которые их машина обгоняла, и была она легче, чем весь человеческий мир.
И был Бенигне-невесте третий подарок от жениха:
Телевизор, такой уж плоский, как газета, а в телевизоре мелькали люди. Страшный дядька включил его и знаками показал, чтобы она смотрела, а ему голову не дурила. Бенигна послушалась. Видно, показывали там какой-то сериал, и это сразу успокоило старуху — и среди людей, что суетились на экране, она невольно начала искать злую Лизку, и Ванечку милого, и Машеньку несчастную. Где-то ж они там ходят, в том телевизионном мире — там все друг друга знают, вот бы спросить, но не такая же ты, бабка, глупая, чтобы у телевизора, как у человека живого, про своих знакомых спрашивать… Хотя бывали и такие случаи — была же когда-то передача «Жди меня», — и людей находили, и плакали те люди от счастья, и Бенигна вместе с ними…
Но это давно было. Очень давно, когда ещё думала она, что вот было у неё три мужа и что четыре — цифра неправильная. А теперь летит Бенигна на белом самолёте. Рассказала бы она об этом мужу своему первому, тому, что под смородиновым кустом лежит, — что знает она теперь, как это ангелом по небу летать.
Но увидит ли она когда смородиновый куст — это большой вопрос. А дядя тот в окно тычет: смотри, бабка, смотри, шептуха. Она скосила глаза, а там и правда было на что посмотреть. Просто под ними на синей ткани моря лежал небольшой остров, изогнутый, как кот на печи. Топорщится на спине острова зелёная шерсть, и сидят у него на загривке дома. Всё ниже и ниже спускался над островом самолёт, всё больше и больше видела Бенигна, даром что глаза старые были. Будто моложе она враз стала, когда над островом оказалась. Видела флаги, которые трепетали на морском ветру, видела дорогу, что вилась по острову, и человека, который ехал на велосипеде, не подозревая даже, что Бенигна на него с неба смотрит. Видела деревья, которые дрожали в воздухе, как балерины.
Загудел андертальский мир и привлёк к себе Бенигну. Прижала она к груди жениховы подарки — а в руках уже и нет ничего. Только её же колено в грубом толстом чулке. Такие они, подарки мужские: обманчивые, красивые, прозрачные, как слова их ласковые, — и не живут долго, в пыль рассыпаются, как только их в руки возьмёшь. Бенигна смутилась, поправила юбку, самолёт ударил резко брюхом, поздоровался с землёю и, пробежав лёгкой птичьей походкой, остановился и притих.
Дядька открыл дверь, уронил в самолёт солнце и сбросил лестницу. Отстегнул старуху, как картину со стены снял, и помог ей подняться.
Ослеплённая, с тяжёлым сердцем и негибкими ногами, стала Бенигна на железную лестницу и хоть и не хотела, но вдохнула глубоко в себя чужой воздух.
Солёный он был и такой чистый, что аж выплюнуть захотелось. Но сдержалась Бенигна — кто же, в гости приходя, хозяевам под ноги плюет.
Где ты, хата далёкая, где ты, небо родное, низкое, руку протяни — и вот оно, где ты, смородиновый куст, под которым белый парашют вместе с белыми косточками лежит. Занесло старую Бенигну на самый край света. И как ей отсюда выбраться, она не знала.
6.
У приземлившегося самолёта Бенигну встречали мужчины — словно была она какой-то важной гостьей, а не бабкой тёмной и бесполезной. Стояли и смотрели на неё — да с таким любопытством, что Бенигна вмиг смутилась, остановилась посреди дорожки, что от самолёта прямо к ним вела, растерялась и голову ещё глубже в шею свою кривую спрятала.
Так и стояли они напротив — бабка, которую тот дядька всё под руку держал, и целая группа мужиков в шортах и кепках. Они на Бенигну смотрели — и никто не двигался, будто заколдовал их кто. Только ветер морской тех мужиков за волоса дёргал да всё под Бенигнин платок лез. Вот же цирюльник-приставала. Причёску ей, видно, накрутить хотел, чтобы на встрече с женихом она поприличней выглядела.
Освоилась Бенигна, стала мужчин разглядывать. Был среди них дед седенький, весь в белом, был силач молодой, с ногами бритыми, как у девки, был мужчинка узкоглазый, невысокий, как татарин, был и толстый, плотный, с палкой резиновой, которой он всё себе по колену голому стучал. Начала Бенигна рассуждать, кто из них её жених, да с тем лицом на фотографии сравнивать. А они все молча в Бенигну вглядывались — и трудно было сказать, рады они её видеть или нет. Такими глазами можно и на собаку смотреть, и на коня, и на машину новую, и на гряды, градом разбитые. Но чтобы так на какую-то там бабку смотрели — такого Бенигна ещё не встречала. Думали мужчины о чём-то, на неё глядя, а о чём — кто же тех мужчин знает, они всегда себе на уме.
Седой дед был хотя и дед, но какой-то очень уж молодой да молодцеватый. Не подходил он на женихово место, да и на фотографии лицо без бороды было, а этот, вишь ты, с бородой козлиной. Не мог старичок этот руки её просить. Он разве что за отца жениха сойти мог. Поэтому нет, не этот, решила Бенигна и впилась глазами в другого мужчину.
Этот, с ногами гладкими, девичьими, да с такими мышцами под майкой, что ему бы дубами ворочать, был достаточно молод, чтобы сдуру в женихи к бабке старой податься. Но глаза его не такие были, как на карточке той изумительной. Проще и добрее. Может, третий? Татарин? Кто тех татар знает, какой у них там обычай, и какие мысли дикие, татарские, им по ночам приходят? Или этот — вот уж где толстяк. Как он только в двери пролазит. В Бенигнину хату точно не влез бы.
И когда Бенигна перебрала всех да так и не поняла, кто из мужиков её сюда доставить приказал, из-за её спины — и откуда только взялся? — выскочил хлопец, весь в чёрном, сам босой, а голова в кудряшках. Разболтанный какой-то, такой уж подвижный, так и хотелось подкрутить на нём винтики и в некоторых местах гвоздями подбить, чтоб не развалился. Рот у парня был красивый, как красная ягода на кусте, но только до того момента, пока тот парень рот не открыл. И тогда превратился его рот в широкую чёрную дыру, которая сразу же всю его красоту испортила.
Парень забежал перед ней, стал — близко-близко, так, что Бенигна почувствовала его дыхание, заглянул ей в глаза — властно, требовательно, зрачки его поледенели. Положил ей руки на плечи — и тут же отнял, спрятал за спиной. А потом снова оббежал Бенигну, как будто она деревом была, к которому он что-то привязывал.
И снова замер перед ней, на этот раз улыбаясь.
Бенигна посмотрела на мужиков — смеются ли те, видя эти выкрутасы. Но мужики стояли серьёзные, какие-то унылые даже, никто малейшей улыбки себе не позволил. Будто это тут у них нормально было — вокруг бабок старых бегать, что те клоуны.
Парень в чёрном сделал вокруг бабки третий круг и на этот раз коротко взвизгнул. Стал к ней вплотную, снова взвизгнул и умолк.
И посмотрел на неё тем самым взглядом. Взглядом жениха с фотографии.
Стояла перед ним Бенигна ни жива ни мертва.
«Бабка!» — прокричал вдруг жених её, да так громко, что она чуть не упала: то ли от страха, то ли от смеха. Такого смеха, который бывает, когда ужас до самого сердца пронизывает.
«Бабка!» — прокричал он с искренним, молодым восторгом и обвёл глазами своих товарищей. Глотнул, сверкнул глазами.
«Настоящая!» — голос его был такой счастливый, что все закивали, заулыбались, расслабились.
«Настоящая, живая бабка, — сказал он уже спокойнее, и глаза его лучились от удовольствия. — Моя!»
«Моя бабка, — пробормотал счастливый женишок и пощупал её за щеку, за плечо, за живот. — Моя собственная. Что скажете?»
Он повернулся к друзьям своим, и все закивали ещё быстрее: бабка твоя, настоящая, никто не спорит, живая.
«Может, кто-то сомневается? — подозрительно обратился парень к мужчинам, что всё кивали, головами качали, но ближе не подходили. — А? Так подходите ближе, что вы там застыли, как в зоопарке? Подойдите сюда, моя бабка вас не укусит… А сам я ещё подумаю, кусать вас или живьём резать. Послушаю сначала, что вы скажете. Мудрецы вы мои, совесть нации. Идите, проверьте».
«Да что там проверять… — подал голос богатырь с женскими ногами. — Ну, бабка. Ну, настоящая. Никто не сомневается. Такая, как ты хотел. Старая, правда, слишком. Лет бы на десять моложе…»
«А что, было из чего выбирать? — произнёс скрипучим голосом седой старичок. — Это же не просто бабка. Такие лишь в одном экземпляре бывают. Это такая бабка, что одна целой страны стоит. Сокровище, а не бабка».
Бенигнин жених стоял и стремительно переводил глаза с одного на другого, а потом стал с бабкой рядом, и была она ему по грудь, и легла его рука ей на плечи.
«Бабка… — прищурился жених и зевнул, обнажив свой огромный рот, а потом к небу голову поднял. — Это же надо. Доставили мне бабку прямо на дом, будто посылку почтой привезли. Тёплую ещё, пахучую, с ручками, ножками. Расписался, заплатил за пересылку — и вот она, здесь. Кто бы мог подумать… В такое время живём. Расстояние больше ничего не значит. Границы, государства, законы — всё ерунда. Захотел — и свою бабку имеешь. Собственную. Даже соскучиться по ней не успел как следует — а она уже здесь…»
Мужчины смущённо нахмурились, на их лицах всё отчетливее проступали презрение и недоумение, они переминались с ноги на ногу, как привязанные, — чувствовалось, что не терпится им пойти отсюда, насмотрелись они на бабку, и трудно им было бабкой этой старой так по-детски восхищаться. Но что-то их здесь держало, что-то не давало сказать, что они на самом деле думают, — уловила Бенигна эти волны, что от мужиков шли, и поняла, что не все здесь такие, с дурью в голове, есть и нормальные люди, а значит, есть у неё надежда отсюда вырваться.
А жених её снова к ней всем телом повернулся, за руки её схватил и снова в глаза ей своими зрачками жгучими впился:
«Ух, бабка… Какая же в тебе сила! Слышу её, до костей пронимает. Силища! Тёмная, чёрная, лесная…»
И такая шла от её жениха любовь, что Бенигне совсем ужасно стало. Давно она так никого не пугалась, как этого парня больного. А жених её все не умолкал:
«Сила… С такой силой попробуй ещё поспорь. Тебя бы против любого из этих мудрецов поставить — ты бы им показала, кому раком стоять, а кому зимовать…»
Он втянул в себя бабкин запах, закрыл глаза и потом придвинул свой нос прямо к её чёрному носу, так что они на мгновение соприкоснулись:
«Выйдешь за меня, бабка?»
Молчала Бенигна, да и что ты тут скажешь. Кивнуть — значит против совести пойдёшь, а покачаешь головой — мол, не пойду, так разозлишь только бедного дурачка.
«Выйдешь? Я жених хороший. Ты меня не бойся. Я для светлых дел тебя сюда позвал. Как же ещё те светлые дела делать, как не тёмною силой, такой, которой ты, бабка ты моя золотая, владеешь. Тёмной, лесной, исконной…»
Прикатили откуда-то коляску больничную, кресло инвалидное, посадил жених Бенигну туда и на мужчин своих цыкнул:
«Сам повезу! Что вы с ней как с бабкой старой, нелюди. Это же невеста моя. Лебедь моя чёрная, дикая, красота моя лесная. Сокровище ненаглядное. Так что предупреждаю — чтобы были ей от вас только уважение и почёт. А лучше вообще к ней не суйтесь, а то испортите мне бабку своей ерундой, вы для себя просить мастаки, а о деле никто не думает. Слышали? Не суйтесь! А то мигом из списка вылетите, апостолы вы мои…»
И повёз её жених по дорожке, что вилась среди полей. Было заметно, что нечасто ему приходилось бабок в колясках больничных возить. Чуть справлялся он с тем механизмом, трясло Бенигну в узком кресле, так что она за ручки хваталась, иногда казалось, вытряхнет сейчас жених бабку, как горох из мешка. Пыхтел её бедняжка, задыхался, ногой сзади на спинку нажимал, но рот его всё не закрывался:
«Так выйдешь за меня, бабка? Дорогая ты моя, бесценная… За столько километров ко мне прилетела, не побоялась… Ты меня и правда не бойся. Мы здесь мирно живём, под синим небом, родине нашей всем сердцем преданы, работаем себе потихоньку, встаём рано, ложимся поздно, цену мозолей знаем и потехи тоже не чураемся…»
Мужчины шли за ними следом, и никто не решался жениху помочь. Шли и молчали, и хруст их трусливых шагов по песчаной дорожке звучал в бабкиных ушах. Дорожка пошла вверх, жених её обливался потом, но всё равно героически тащил бабку на холм, словно крест на спине нёс. Тянул он бабку и задыхался горячим громким шёпотом, над бабкиным чёрным ухом:
«Здесь, бабка, только на первый взгляд всё чужое, а на самом деле — всё на свете везде одинаковое, лес и вода, да люди, да беда… Вот ведь как я с тобой заговорил, сам себе удивляюсь… Это твоя сила на меня действует. Тёмная, чёрная, густая… Я тебя, бабка, так себе и представлял. Когда мне твое фото сбросили, я даже смотреть не стал — вдруг разочаруюсь. Вдруг ты на человека будешь похожа. Как же было бы обидно… Человек скучно выглядит. И чем дальше, тем скучнее. А ты вот какая… В сто раз лучше, чем на фото… Намного красивее… Моя бабка, супербабка, секси-бабка, лучше любой девки… Потерпи, родная, вон уже дом наш… Дом у меня большой, ты в таком не жила никогда, вот поженимся, и он весь твой будет…»
Чувствовала Бенигна, что сейчас вытряхнет он из неё жизнь, но терпела: что ты тут ещё сделаешь. Надо было дать парню выговориться. Может, выговорится, ему и полегчает. Полегчает — и крючки те дурные, что в мозги ему кто-то всадил, ослабеют, может и просветлеет тогда в голове у сумасшедшего.
«Сейчас отдохнёшь, моя ты бабка… Моя, моя, моя собственная… Настоящая, живая… будем жить с тобой… Ты, главное, не умирай, ты же не для того через границы, море и горы сюда летела, чтобы я тебя здесь в землю закопал. Ты потерпи, бабка, потерпи, мы тут тебе работу найдём, ты же хорошая бабка, должна понимать… Всё понимать. Что делиться надо тем, что имеешь… Как ты и раньше делилась… Ты не бойся…»
Так и докатил её, в возок запряжённый, до самого дома. Посмотрел на мужчин строго, пот со лба вытирая, те и пошли себе не оглядываясь, и такая ненависть была в их спинах, что Бенигна снова почувствовала себя виноватой.
А жених её засмеялся только. На руках Бенигну в дом тот внёс и на пол опустил. И на диван рухнул, едва живой. Но счастливый, как дитятко. Босые ноги на столик положил, руки за голову — и на неё уставился, глаза зажмурив. Кучеряшки по голове вьются, на лоб сползают, румянец по щекам играет, рот довольно скривился — сейчас сок потечёт. Красивый хлопец, ничего не скажешь. А всё же сынки её красивее. Вспомнила Бенигна Антона и Мишу, и сжалось её сердце от тоски и воспоминаний, да так, что она тоже на диван присела.
Дом, в котором она оказалась, был действительно большой. Длинный коридор вёл куда-то в его недра, а где они заканчивались, трудно было сказать — Бенигна начала двери считать и быстро сбилась. Широкая лестница, под которой стоял диван, шла на второй этаж. В конце комнаты сияло морским серебром большое окно — в такое, пожалуй, весь Минск поместился бы. На стенах висели картины, но, что там на них, Бенигна не могла сказать: будто кто-то решил неандертальский лес нарисовать, да заблудился в нём и бросил это дело — так и остались на картинах тех одни пятна да полосы, да рубцы: дым, шум да гам не использованных как следует красок.
Одна стена была почти голая, без картин, и белая, как кожа, — зато на ней, прямо по центру, висело большое распятие. Святое распятие, как в церкви. Значит, христиане здесь живут, начала успокаивать себя Бенигна. Разве христиане ей вред причинят? Может, это у них просто игра такая.
И тут случилось что-то невероятное. Жених её несчастный вздохнул, потянулся — и голова его легла бабке прямо на колени. Он растянулся во весь рост на диване, заложил ногу за ногу и громко, с наслаждением застонал.
Бабка смотрела и глазам своим не верила.
Прямо у неё, на старческих её коленях, на бедрах её давно неживых, высохших и костлявых, на тёплой юбке, что не пропускала через себя ничего, кроме времени и боли, лежала голова молодого парня, лежала и хватала воздух широким, страшным ртом. Полузакрытые глаза хитро смотрели бабке на сморщенную шею, на чёрный подбородок в корке отжившей кожи, на синие вены, скованные землёй её изуродованного долгой старостью лица. Парень сглотнул слюну, принюхался и пророкотал, обнажив зубы и длинный, белый, в вязкой паутине, язык:
«Как же хорошо, бабка… Может, и стошнит меня сейчас, но ведь как хорошо… Какая же ты хорошая бабушка, какая же ты всем бабкам бабка… Хорошо, что приехала. Вот лежу я у тебя на коленях и уже чувствую, что сильнее становлюсь. Эти мудрецы мои уже давно бы обосрались от отвращения, если бы нас сейчас увидели. Правда, бабка?»
Бенигна смотрела прямо перед собой. Она чувствовала, как этому молодому лицу на её коленях хочется, чтобы она подняла свою измученную руку, положила ему на лицо, но не могла Бенигна такого сделать, дьявольское это было игрище, никогда не станет она в таком участвовать.
Разве что сказал бы ей сейчас: «Бабушка…»
Но не скажет.
Бедный мой, бедный. Кто же тебя таким сделал, хлопчик ты мой? Кто же тебе так голову заморочил, столько лишнего в тебя засунул?
Грех это, захотелось ей сказать, грех. Но вместо этого закашляла старая Бенигна, заперхала, будто слово то, «грех», у неё из горла выхаркалось. Полетела старческая слюна прямо жениху в глаза, в рот, на щёки румяные. А он только улыбнулся, довольный, да ещё лоб под ту слюну подставил. Откашлялась Бенигна и от стыда глаза закрыла, а он прошептал обиженно и радостно:
«Ух ты, бабка… Какой же это рай…»
За окном расшумелось море, солнечный луч вырос прямо под ногами Бенигны, прыгнул ей на колени, разрезав её жениха надвое. Одна половина тёмная, страстная, страшная, вторая бледная, спокойная, сонная. Жених на её коленях перевернулся, с тенью играя, подставил солнцу ухо, провёл рукой по Бенигниной руке.
«Что, бабка? Боишься? Не бойся… К молодой девке каждый на колени заскочит… К бёдрам прижмётся, запах вдохнёт тайком… У каждого сердце заколотится, если он кожу молодую, сочную под тонким платьем щекой почувствует. Как же это скучно, бабка… как же предсказуемо. Сколько в этом слабости, зависимости, несвободы… А ты к старой бабке на колени ляг да прижмись, да понюхай, да поймай наслаждение. Не можешь? А я могу… Я не такой, как они все… Нудятина у них, а не жизнь… У меня бабка невеста, не то что у этих… биороботов… Бабка… Ба-ба-ба-ба-ба…»
Он будто разговаривал сейчас с кем-то, её молодой жених — словно увидел кого-то ещё своими обезумевшими глазами и вёл с этим кем-то злой, издевательский и усталый диалог. Бабка почувствовала, что на какой-то момент перестала для него существовать — осталось от бабки только её костлявое кривое колено, за которое жених хватался теперь, как за последнее спасение. Старческое колено, которым он отбивался от своего леса, идущего на него войной. Всем своим умом, всей своей волей и вопреки всем законам шёл на жениха тёмный лес, а он стоял один, выставив вперёд свою бабку, и был готов биться до конца.
Что это за лес, Бенигна?
Лесов же всего два.
Один андертальский, а второй нет. Совсем не андертальский.
Так в каком лесу жил бедный её женишок? А может, и сам он был лесом, может, выбросила его чащоба неандертальская на этот чёртов остров, а как вернуться — не знает бедняга, поэтому и мучается?..
Вдруг хлопец вскочил с её колен, как от сна проснувшись, выпрямился и начал махать руками.
«Что же это я, бабка, имя своё тебе не называю? С владениями не знакомлю? Ты прости, моя любимая, я человек молодой, а у молодых, сама знаешь…»
Он встал перед ней, скосил глаза куда-то на лестницу, да так скосил, что половина лица на нос уехала — Бенигна и подумать не могла, что можно так лицо ужать: глаза в совершенно разные стороны смотрят. Кто же ты и правда такой, дурень?
«Только не говори ничего, я сам придумаю, — поспешно пробормотал парень и прижал к её сухим губам свой тонкий палец. Вышло так, будто она его поцеловала. — Вот же, ничего в голову не лезет…»
Он забрал палец и прикусил на нём косточку. Косточка побелела, а он ничего не замечал, стоял себе и вглядывался в пустоту глазами своими невидящими. Бенигна почувствовала, что силы её покидают. Слишком много пережила она за этот долгий день — а на острове, кажется, он только начинался. Не доживёт она до ночи, вдруг поняла Бенигна. Как бы ей так сделать, чтобы её в покое оставили, не хотелось ей в другой мир отойти под женихову болтовню, в которой она мало что понимала.
«Какое же мне имя себе выбрать? — произнес её жених растерянно, схватил себя за большой палец на ноге и начал неистово драть его когтями. — Вот же дурная моя голова, голова-головка, не подумал… Вечная проблема. Имя, имя… Должна же ты меня, бабка, называть как-то. Интересно, как ты в голове своей старческой меня уже окрестила? Могу себе представить… Может, Казиком? Стасиком? Ты забудь это, бабка моя дорогая, забудь. Неправильно ты придумала. Я тебе сейчас имя скажу… Сейчас! Нельзя же мне с тобой без имени жениться! Как же это я, а? Сейчас!»
Он схватил с большой этажерки толстую книгу и начал её ожесточенно листать, чуть ли страницы из неё не выдёргивая.
«Фридолин? Сперелли? Sperelli! Звучит? Херня! Жан де Эсент? Пол Виана? Лишь бы что, бабка, лишь бы что. Гугон? А, бабка? Гугон! Нет, не то, не то… Говно! Всё не то, всё говно. Один я, бабка. Один… И имени у меня нету… А что я хотел? Старый я, бабка, такой старый… Старше, чем все твои мозоли…»
Он бросил книгу в угол, сел на пол — и старая Бенигна, замерев от удивления, увидела в его глазах слёзы. Самые настоящие, которые только у живых людей бывают.
«А зачем тебе имя мое, бабка? — поднял он вдруг голову, и глаза его с надеждой блеснули, словно в них наконец солнце попало. — Зачем тебе? Ты же, бабка, ни слова мне не сказала. И не говори. Мне нравится, что ты немая. Немая — значит, настоящая. Ты же всё равно по-белорусски думаешь. Не можешь по-нашему не думать. Ты же из самого сердца нашего края привезена, из самых глубин к моему столу доставлена. Мы с тобой и так поразумеемся!»
Жених с облегчением засмеялся и вскочил на ноги.
«Давай руку, бабка, иди сюда, я тебе все покажу…»
Он нетерпеливо подтащил бабку к окну, рванул на себя раму — и облизнулся.
«Смотри, бабушка! И радуйся…»
Закружилась голова у старой Бенигны, налетел на неё морской ветер, напоил враз да накормил, угостил своей силой руки её слабые и ноги бессильные. В глазах стало мокро, словно море Бенигну в свои объятия схватило да расцеловало по-сестрински, да опьянило, как на банкете.
Перед старухой отвесно спускалась вниз каменистая ложбина, в которой кое-где стояли удивительной постройки дома, между домами теми белыми и жёлтыми, цвета свежих астр, зеленели густые деревья, а заканчивалась эта лощина серым, как мрамор на памятнике, берегом, на который набегали волны, издали смешные, пушистые, юркие, как домашние собачонки. А над всей этой роскошью пылало солнце, чужое и властное, и чувствовала Бенигна, уклоняясь невольно от его прикосновений, что очень это солнце капризное и шаловливое — часто у него настроение меняется, и не угадаешь, что оно теперь делать начнет: плетьми хлестать или гладить да ласкать. Или просто отвернётся безразлично: я не я, и хата не моя.
Сломалась что-то у Бенигны в ногах, треснуло, и полетела бы она из широкого, во всю стену окна прямо в лощину, на камни и остроконечные крыши — если бы не рука её жениха. Затянул он её в дом, к себе прижав, и окно свободной рукой закрыл.
Так и стояли они, обнявшись, какое-то время, и Бенигна слышала, как бьётся у её жениха сердце — как часы, ровно, размеренно. Жених прижимал её к себе, а сам всё к своему сердцу прислушивался. Словно интересно было ему, чем каждое прикосновение в нём отзывается.
«Что же это я тебя мучу, бабка? — он вдруг схватился за голову. — Ты же, видимо, совсем без сил. Сейчас, сейчас, садись сюда. Пойдём, поищем кого живого в этой обители…»
Он толкнул Бенигну в кресло, схватил его за ручки и повёз бабку по коридору, открывая повсюду двери.
«Здесь у нас что? Ага, здесь у нас библиотека… Олеся! Куда ты делась? Давай бабку кормить! Библиотека, ага. Книжки здесь стоят. Самых разных писателей, писатели пишут, а сами и не знают, что и на диких островах их читают. Читают, читают, зрение себе портят, а зачем? Писатели современные, некоторые сами себя белорусскими называют, но о Беларуси ничего не пишут… Не пишут, подлецы. Обо всём пишут, что в голову придёт, про Европу, про Америку, про евреев, немцев, марсиан, про голубых, зелёных, русских… про литовцев пишут! Про русалок пишут и про шептух. Во, смотри. Целая полка про шептух да про бабок всяких. Я всё это прочитал. «Шептухи», Воронов… «Житковские богини»… Про бабок по-белорусски много книжек. Я всё думаю, какая бабка главная в нашей литературе? Степанида? Нда-а… Бабки, дедки, мертвецы… А про нас, островитян, — молчок. Словно нас и нет…»
Всхлипнул её жених, но сейчас же подмигнул бабке: не всерьёз я.
«У нас тут тоже один такой живёт… писатель… Хроникёр наш…»
Расхохотался женишок её и опять бабку чуть из кресла не вытряхнул.
«Олеся! Обед несёшь? Ты, бабка, что любишь? Гадов морских любишь? Не думаю… Мясо? Мясо тебе нечем жевать… Картошки мы здесь почти не едим… Олеся! Что у бабки на обед? Перцев ей, перцев нужно, чтобы кровь погонять, от перцев все молодеют… Да, здесь у нас комната для приёмов. Здесь для размышлений. Приходят эти, мудрецы мои, сядут и думают, думают… Заснуть с ними можно. Здесь туалет… Но ты можешь под себя ходить, ты же бабка, тебе можно! Слышишь? Бабка так и должна делать: всё под себя… А тут… О, тут моя любимая комната… Красота, правда, бабка? Олеся! Так птицы кричат! Так птицы кричат!»
Он закатил её в просторный зал, покрытый цветной мозаикой. Посреди зала мерцал, переливался водяной чешуёй неширокий бассейн. А в нём отражалась позолоченная люстра, которую легко покачивал ветер. Ветер был здесь повсюду, в доме везде хозяйничали сквозняки. Пробегали по поверхности бассейна, а бассейн смотрел на бабушку, как большое око и подмигивал:
«Узнаёшь?»
Забранная в злой круг, влитая в жёсткую форму вода, и видно в ней до самого дна. Мозаичные фигуры, от которых пахнет зубной болью да горькими травами, да воспоминаниями.
Будто взятое в плен, привезённое на остров в белом самолёте лесное озерцо. И сама мозаика зелёная, потёртая, щедрая на цвет и гладкая, как рыбья кожа…
Задумался жених в этом месте, но потом решительно толкнул кресло к двери.
«Мы сюда ещё заедем… Как будет настроение. Где вода, там и светлые дела. Здесь спальня, здесь молитвенная, часовенка наша домашняя, а тут ты, бабка, спать сегодня будешь, а тут… А сюда, бабка, не ходи. Там чего тебе делать. Считай, что нет здесь никаких дверей. Стена, и всё. Ну, поехали обратно».
Он развернулся, разогнался, и они быстро пронеслись по коридору в обратном направлении, пока не доехали до лестницы. По лестнице к ним спускалась девушка в короткой майке и в трусах бесстыдных, с грудями такими большими, что Бенигне, голова которой ещё качалась от быстрой езды по коридору, захотелось подняться и заправить их обратно. Хотя заправлять их было некуда. Видимо, это и была та самая Олеся — в руках она держала тарелку с угощением для бабки.
«Давай сюда, — жених схватил ложку, зачерпнул и поднёс к бабкиному рту. — Открывай, бабка, рот. Давай, вкусно? Кто сказал, что жених невесту покормить не может? Где такое написано? В постель до свадьбы завалиться — это грех, да, а что каши ложку в бабушкин рот нельзя — о таком нигде не сказано!»
Олеся держала тарелку, над которой нависали её обширные, загорелые груди, и рассматривала бабку со зловещей улыбкой. Бенигна пыталась понять, кто она здесь, эта светловолосая девка: сестра, любовница? Может, эта, как её, однокурсница? Или так просто, девушка знакомая, по хозяйству помогает? Но ничего уже не помещалась в её совсем уж замученной за этот день старой и слишком маленькой голове. Один мрак там был, мрак и боль, тягучая, давно она не приходила, заждалась она этой боли. И ноги ватные-ватные…
Она покорно глотала то, что нетерпеливо подкладывал ей в рот жених. А он вдруг бросил ложку на пол и вперился глазами в стену.
«Это что такое?»
Олеся неохотно взглянула на стену и пожала плечами.
«Ну, Исусик. Он же давно здесь висит».
«А теперь не будет. И-су-сик… Нависелся. У нас сейчас вот…»
Он поднял с пола ложку и ударил по инвалидному креслу.
«У нас сейчас бабка есть!»
Погладил Олесю по её густым волосам и строго сказал:
«Тёмная, чёрная, такая старая, что тебе и не снилось. Сила! Лесная, неодолимая, бес-по-щад-на-я. Исусик против неё — как моська против слона. Их на ринг выпусти — я бы на бабку весь остров поставил. Так что сними. Подожди, я сам сниму…»
Только после этого удивительного обеда старую Бенигну оставили наконец в покое. Олеся отвела её по коридору и довольно грубо втолкнула в одну из дверей. Улыбнулась нехорошо, издевательски, всеми своими белыми зубами, так, что дёсны обнажились, и закрыла за собой — будто слово злое на пороге бросила. Вот уж девка несчастливая, таких Бенигна за свою жизнь много видела, и каждой помочь смогла. Согреть бы такую, вылечить её белое большое тело, вдохнуть в грудь важное, лёгкое, живое, полегчало бы Олесе этой, начала бы смотреть на мир человеком. Да только не чувствовала Бенигна в себе силы больше ни на что. Только бы не умереть ей сегодня в этом чужом краю, на чёртовом этом острове, который ей психбольницу напоминал. Никогда она тех психбольниц не видела, но выглядят они, видать, совсем как это владение, жениха её собственность, того самого жениха, у которого имени нету. Но ведь и здесь жить можно и нужно. Не хочет Бенигна на острове в лучший мир уходить, не будет ей тут спокойной смерти, если и похоронят, то в цирк похороны превратят. Такие здесь люди живут — странные, больные, нехорошие. Да болтливые — будто напились все. Может, протрезвеют утром — и совесть проснется.
Никто не запирал её здесь, в просторной комнате, где на окнах не было ни занавесок, ни форточек, а стены были без обоев. Всё в этом доме выглядело так, словно в нём только недавно начали жить — а может, и не собирались долго здесь оставаться. Сырой он был и холодный, тот дом, хотя и играло по нему солнце. Никому не было пока что дела до Бенигны, никто за ней не следил, не смотрел, что она делает. Куда она могла деться с острова, старая бабка? Не улететь же назад по небу. Это только в сказках бабки с веником по небу летают, только в сказках и в белых самолётах…
Легла бабка на широкую кровать, пахнувшую песком и рыбой, и сразу же уснула. И приснилась ей её хата: между двумя лесами, на которые её судьба осудила, на берегу своего родного неба, чёрной пылинкой в голубой слезе, которую когда-то над этой страной бог выплакал.
Когда она проснулась, было уже темно. Из голого окна смотрел на старую Бенигну больной, яркий, нахальный и всё равно несчастный месяц. Вот на кого жених её похож, подумала старая Бенигна, приподнявшись на мягких прохладных подушках. Висит в пустоте в небе, безымянный, одинокий, холодный — как он сам о себе рассказывал. И правда, зачем ему двери за ней запирать, бабкой старой? Он за ней с неба следит, улыбается, как старый клоун, в глаза ей смотрит и шепчет:
«Бабка… Моя… Собственная…»
Хлопец-бедолага. Кто же тебя в том небе повесил? Кто же тебя заставляет там ночами торчать, не спать, старую бабку стеречь на нечеловеческой этой высоте?
А она сидит на чужой кровати — тоже одна, заброшенная на край андертальского леса, туда, куда никто не доберётся, кроме ангелов.
«Ложился бы ты уже», — сказала Бенигна месяцу, как умела: одними глазами да сердцем своим, старым, столько раз неандертальским лесом обожжённым, засмолённым, что диву даёшься, как то сердце у неё осталось.
«Полечу я тебя, полечу, ни копейки не возьму, только ты с неба на землю спустись да в руки мои приди. Найду тропинки в неандертальский лес, жених ты мой месячик, не забыла я их ещё».
Не поверил ей месяц, но отвернулся. Закрылся залётной морской тучей. Поднялась Бенигна, надела свои кофты старые — и в коридор вышла. По своей нужде — а заодно посмотреть, что в этом доме чужом по ночам творится.
7.
Ходит, ходит старая бабка Бенигна по коридору, во все двери тихонько заглядывает. И кажется ей, что бредёт она тропинками леса неандертальского, всё здесь тот лес чем-то напоминает — вспыхивает из-за дверей красным светом, в каждой комнате лампы горят, да слышится отовсюду негромкое, тоскливое, лесное «гу-у-у». Может, ветер морской по дому ночному гуляет, а может, дети плачут где-то наверху, а может, и мерещится бабке всё это — заложило ей уши после самолёта и никак не отпускает, да ещё и давление — такое только у старых бабок бывает. Сходила бы старая Бенигна в Чёрную поликлинику, да не знает она пока что, есть ли здесь, на острове, больницы. Надо потерпеть, за каждую дверь заглянуть, а про давление своё поменьше думать.
В библиотеке ей страшно стало — походила она промежду книг, а книжек тут уйма: в два, а то и в три ряда стоят, все стены книжками заняты, просвета не найдёшь. Только окно узкое мерцает, а в окне всё тот же месяц: смотрит он на бабку неотвязно, будто проконтролировать хочет: что за книжку бабка с полки возьмёт и не украдёт ли ненароком какую. Знаем мы этих бабок старых, только и думают, что бы такое стащить, что плохо лежит. Книжки смотрели на Бенигну, как живые, с осуждением смотрели, с упрёком, и даже с каким-то странным презрением. Взяла Бенигна одну книжку, с обложкой интересной, шероховатой. Но темно было в комнате, как та книжка называлась — ни за что было не прочитать, хотела она книженцию на место поставить, а не может. Сомкнулись книжные ряды, посмеяться над бабкой старой решили, делают вид, что не стояло здесь никакой книжечки. Что делать будешь, бабка?
Начала Бенигна книжку на место втискивать, а она не лезет. Не лезет — и всё тут, хоть кол на голове теши книжке этой чёртовой. Бенигна к другой полке — может, там засунуть получится, чтобы никто не заметил. Так и там книжки плечом к плечу выстроились, ни щели, ни дырки. Хотела она книжку сверху на другие положить — и тут, как назло, все остальные под ноги Бенигне посыпались. Завалили её по колено, будто сугроб под ногами вырос. Ещё больше испугалась Бенигна, наклонилась — а разогнуться не может. Скрутил её раматус. Так и сидела посреди книжной кучи, не зная, что делать. А книжки её за ноги старческие, высохшие хватали. Никто вас, бедняги, не читает, никто не открывает, беспорядочно гладила их Бенигна по твёрдым спинкам. Что делать с вами? И что со спиной своей делать? Жених говорил, здесь, на острове, писатель какой-то живёт, — вот придёт завтра тот писатель, увидит, что книги его на полу разбросаны. Помятые все, обиженные. Рассердится писатель, начнёт ногами топать.
А может, и не рассердится. Задумалась Бенигна — и понемногу спина её выпрямилась, боль ушла, и она, схватившись одной рукой за поясницу, другой начала по одной складывать книжки на место. Может, и не рассердится. Может, наоборот, обрадуется. Не так всё просто с теми писателями. Стоят их книжки на полках, никому не нужные — как поставили однажды, так и стоят, пока тот писатель в лучший мир не отойдёт. А ведь ему хочется, чтобы его живого прочитали. Чтоб похвалили, чтоб узнали, что он там в книжках своих понаписывал. Ну, или чтоб осудили, чтоб хоть что-нибудь про него, несчастного, сказали. Чтобы автограф взяли — хотя бы один. Размышляя об этом, она как-то, с грехом пополам, составила книжки на полке и поспешила из библиотеки назад в коридор. Может, и не так поставила — даст бог, никто внимания не обратит. Книжки-то вон какие пыльные. Может, и не ходит сюда никто.
В молитвенной, которую ей жених показывал, тоже не так чтобы уж чисто было. Никто не убирал в этом большом и неуютном доме. Не хозяйственная та девка, Олеся, и кто такую замуж возьмёт… Поэтому и бесится, что никто не берёт. Бенигна ещё раз зашла в комнату с бассейном, постояла у воды. С поверхности на неё смотрела испуганная старушка — такая уж сухая, перепечённая да переперчённая, да чёрная, да глупая, что Бенигна аж взвыла тихонько. Кому же ты такая понадобилась — бесформенная, больная и вообще на белого человека не похожая. Даже если все книжки в той библиотеке прочитаешь — ни на грамм на жениха своего похожа не станешь. Жених у неё хоть и больной — но такой уж весь из себя умный. Вышла Бенигна в коридор, в следующую комнату зашла. В той комнате на столе компьютер стоял, а может, и телевизор, бабка ещё не научилась толком их отличать. Мелькнуло в её голове старческой — может, включить, узнать, как там Ваня да Машенька?
Подошла к компьютеру, нажала кнопку — и в окне, словно от кнопки этой случайной, месяц всплыл. И тут он за ней следит. Засветился экран, и одновременно засветил месяц в небе — так ярко, что мочи глазам нету на него смотреть. Выкатилась бабка в коридор и комнату искать бросилась. Но где ты её здесь найдёшь. Потеряла. В неандертальском лесу никогда не терялась, не плутала, а тут в коридоре заблудилась. Вот и думай потом, где страшнее — в лесу том тёмном или в этом жениховом доме.
В одну дверь сунулась — там туалет, в другую — библиотека, в третью…
За третьей стояла большая кровать, а на краю кровати жених её сидел. Сидел и смотрел прямо на бабку глазами незрячими. А у его ног, спиной к бабке, всеми волосами своими сказочными к двери отвернувшись, сидела та самая Олеся. Услышала Олеся, что кто-то дверь в комнату приоткрыл, обернулась, взглянула на бабушку и губы облизнула. Будто пила она только что, но не напиток, не вино красное, а жениха её, мужика этого пила, соками его наслаждалась, как кровопийца. Губы у Алеси красные-красные были, как раздавленные вишни.
«Всё не так, бабка… — проговорил вдруг жених и улыбнулся: печально, по-стариковски. — Всё не так…»
Закрыла бабка плотно дверь и дальше по тёмному коридору покатилась. Докатилась до самого конца — до той двери, куда ей жених запретил ходить. Любопытная Бенигна дверь на себя всё же потянула — замкнуто, только внутри что-то тихонько звякнуло. И ветер по ту сторону зашептал, захихикал: гу-у-у…
Начала Бенигна двери считать: одна, вторая, третья… Седьмая должна была в её комнату вести. Как та тропинка в лесу неандертальском. Но не было в коридоре седьмой двери. Что же это с ней вышло-то? Где она, дверь та чёртова? Вот же глупая бабка… Старики — как дети малые. До семи посчитать не могут. Раз, два, три…
Снова бросилась она по коридору, добралась до места, где вчера женихову голову на коленях держала, упала там на диван — да и заснула, а месяц стоял в окне во весь рост, будто часовой, и перебирал в ладонях блёстки, золотые серьги и кольца ночного близкого моря. Над головой Бенигны вились насекомые: мушки, комары и прочая мелочь, садились ей на лицо, бегали по волосам, пищали негромко и удивлённо на своём языке, а ей во сне казалось, что она в лифте железном едет. Лифт тесный, лампочка потрескивает, в кабине мочой всё пропахло, и сердце у бабки замирает, потому как поднимается тот лифт всё выше и выше, и выше…
Там, на диване, её и нашла утром Олеся. Поесть принесла, а сама села напротив — цыцки из майки вываливаются, рот раскрашенный, нога, аж до задницы голая, колышется перед бабкой, и ногти яркие неприлично так поблёскивают. Смотрит, как бабка хлебает, и носом ведёт, что твоя сучка на морозе. Глаза брезгливые, развратные, пустые. Бедная девка, совсем тебя на острове доконали, в куклу превратили. А могла бы детей родить, да не одного-двух, а целую кучу. Хотя от кого здесь родишь — все больные, все несчастные…
Когда солнце поднялось над островом совсем высоко, появился жених бабушкин — да повез старую Бенигну прокатиться. Посадил бабку рядом с собой в машину, где только два места было, и поехал потихоньку вниз по склону, туда, где море синело. Был он в настроении — или просто тщательно делал вид, что настроение у него сегодня — замечательное.
«Как спалось, бабка? Печку ночью искала? Или ведро? — улыбнулся жених, приглаживая свои кудри. — Или книжку читала? Неужели правда книжку?»
Он вырулил на жёлтую разбитую дорогу, по обе стороны которой россыпями белели камни — каждый будто лицо старого деда. Бенигна умрёт, и жених её, дай ему бог здоровья, и остров этот опустится на дно морское, и Германия с Америкой забудут, как их звали, и Минск далёкий лесом непролазным станет, а валуны эти так и будут друг на друга смотреть, как сейчас смотрят: насупившись, из-под косматых неподвижных бровей, которые ветер только раз в тысячу лет может пошевелить.
«Книжки… Бросай ты это, бабка! — весело продолжал жених, отпустив руль. — Зачем тебе те книжки? Для мудрости? Так ты сама — мудрость, чистая, настоящая, временем проверенная. В одном твоём зубе гнилом ума больше, чем во всех этих книжках. Ведь ты — бабка! В тебе сила и красота, дикая, нетронутая. Как там говорят: старый дурак на правду мастак. А в книжках ни правды нет, ни силы. Одни потуги. Кто книжки читает, тот слабый и лживый делается. У бабок надо силу и правду искать, у бабок! А не у писателей, мать их! Тех писак почитаешь — жить не хочется, а к тебе дотронешься один раз — на год энергией заряжаешься. Горы перевернуть можно…»
Машина, набирая ход, неслась под откос — просто на скалы. Бенигна закрыла глаза — через несколько мгновений они должны были слететь с дороги и шмякнуться прямо о бок каменистой стены, под мышкой у которой был зажат берег. Но жених её притормозил и плавно свернул на другую дорогу, прячущуюся в высокой траве.
«Ты, бабка, как яблоко. Подпорченное с бочка. Цивилизация тебя подточила, но совсем чуть-чуть. Обрезать — и можно есть. А можно и не обрезать. Если гнильцы немножко — то и яблочко слаще. Смотрю я на тебя и любуюсь. А они там все… Тьфу. Ногой раздавить и прочь бежать из их хвалёного сада…»
Они неторопливо выехали к берегу: навстречу выплыли из прозрачного призрачного воздуха небольшие нарядные дома: заборчики, цветные крыши, сады, что только недавно вошли в цвет. Сердце Бенигны успокоилось, любила она, когда сады цветут. Но вот подъехали поближе, стала бабка тайком присматриваться к здешним подворьям: повсюду мусор, сорняки из земли лезут, да камни повсюду разбросаны. Дома некрашеные, некоторые без окон, может, строятся ещё — но почему тогда инструмента нигде не видно? Ни плотницкого, ни малярского, вообще никакого инструмента? Одни бутылки пластиковые в траве мелькают и пакеты магазинные на ветру хлопают.
Море постепенно отодвинулось, освободив место для широкой площадки, где лежали, подставив солнцу ребристые спины, сонные гладкие лодки. Не было видно ни души. Ни рыбаков, ни детей с матерями, ни начальства, ни хотя бы мужиков пьяных возле магазина. Вот тебе и андертальский лес. Стоит как порубленный.
«Ты, бабка, думаешь, наверное, что из Беларуси к нам приехала? — сказал жених, посмотрев на неё искоса. — Ага. Белорусскую невесту жених заграничный себе выписал. Бывает и так, конечно. Но ничего подобного. Никакой Беларуси там, где ты жила, давно нет. Лес один, в котором только одни и остались в живых — бабки вы наши дорогие. А всё остальное… сволочь одна. Нет, они там, конечно, все думают, что в Беларуси живут. Но это просто слово. Одно слово только и осталось. Настоящая Беларусь — у нас, вот здесь. Под твоими ногами. Под колёсами вот этой машины. Под моими босыми пятками».
Он остановился, выскочил из машины, топнул раз, топнул два, как в польку пуститься решил, распростёр руки:
«Здесь сейчас наша земля! Спасти на ней тех, кто достоин, и отвоевать потерянное — на такое жизни не жалко. Сил бы только хватило сволочь победить».
Затосковал её жених, загоревал, начал чесаться, сам себя щипать и подбадривать. То за шею ущипнёт, будто насекомое на ней прибил, то волосок из кудрей вырвет — добился всё ж своего, вылезла на лицо улыбка. Неохотная, вялая — парень её и так, и так: разгорелась всё же, стала живая, солнечная. Страшная.
Никогда ещё не видела Бенигна, чтобы человек так со своим лицом боролся. Чтобы вот так улыбку за хвост из себя тянул.
«Мне каждый раз петь хочется, когда вот так здесь стою, — растроганно произнёс её жених. — И ты, бабка, вылезай. Разомни ноги. Давай, давай, вылезай».
Она повиновалась — выдвинув вперёд своё затекшее тело, тяжело ступила на каменистую почву. Остров под её ногами еле слышно вздохнул. А жених её подпрыгнул, обвёл рукой дома, траву, сады, пустынный морской берег.
«Ступай смело. Может, и правда, споём? А, бабка?»
Он бодро затянул что-то под нос, округлив глаза, словно ожидая, что бабка и правда сейчас подтянет. Песня, может, и красивая была, из телевизора, такие песни целые ансамбли из бабок поют, Бенигна не раз такое видела. Но не знала старуха слов той песни. А если и бы знала — куда ей, немощной, петь-то. Жених её разочарованно промычал что-то, но быстро утих и произнёс чахлым, тусклым голосом:
«Это наша земля. Моя, твоя, всех, кто понимает, в чём главная идея и наивысший смысл. Наша! Правда, мы её иначе называем. Её истинным именем. Название у неё такое, как ты, бабка. Дикое, исконное, чистое. Сильное. А называем мы наш остров так:
…И только я хотел, поставив двоеточие, написать это слово — Кривья (вот сейчас же нащёлкал, без проблем, одним аккордом), только палец потянулся к нужной клавише, как мой Acer Aspire V-5 вдруг завис.
На мониторе вместо курсора появилось голубое кольцо, которое неторопливо крутилось, напоминая логотип неизвестной мне организации. Голубое кольцо, которое неумолимо затягивало в себя всё написанное за день. Экран стал бледный (блядой, как говорили раньше — а теперь боятся), и текст погрузился в туман, через который смутно просвечивали чёрные полосы, уже как бы и не совсем буквы. Голубое кольцо зловеще плавало впереди этого тумана, как будто защищая его от меня, — и несколько минут я ещё видел в глубине собственный текст, расплывчатые значки, которые балансировали между жизнью и смертью. Я выругался, гоняя колечко туда-сюда по экрану, я ещё не верил, что целый день работы был теперь под угрозой уничтожения, — но наконец из тумана выплыло стандартное для русского Windows предупреждение, которое тем не менее показалось мне странно связанным с моим текстом.
«Приложение не отвечает.
Возможно, оно ответит, если подождать».
Возможно. А может, и нет. Всё зависит от моего терпения. И от доброй воли этого приложения. Я и судьба моего текста зависим от него, будто оно ровня нам: моему таланту и моему трудолюбию и той удивительной идее, которую я заложил в свой текст. Я представил себе человека, который писал эти слова: «Приложение не отвечает. Возможно, оно ответит…»
Он был милостив, он давал нам, наивным и неопытным юзерам, надежду. Возможно — фальшивую. Однако он верил в то, что терпение и труд всё перетрут. Возможно, ему было известно больше, чем нам, — и он давал понять, что нельзя быть таким наивным. Он писал в будущее, писал на случай беды. И вот будущее наступило.
Терпения мне было не занимать. Я пошёл и приготовил себе кофе, вышел во двор, выкурил сигарету. Снежная буря отступила, с утра всё начало таять, слезиться, плюхать, через мои осенние сапоги просачивалась вода, и с моря долетал мутноватый ветер, неся с собой сырой запах закрытого на зиму погреба. Над домами кружила большая птица: то ли альбатрос, то ли чайка. Я не разбираюсь в птицах. Я смотрел на неё, и во мне всё ещё говорил мой текст, который сейчас боролся за своё существование в мире, где я был бессилен.
Я вернулся в комнату — старые пишущие машинки в коридоре напомнили мне, что когда-то можно было писать, не чувствуя ни малейшей зависимости от всяких там приложений. Колёсико крутилась на экране. Мой Acer висел, дело выглядело безнадёжным, и, что делать, я не знал.
Между тем это происшествие казалось мне всё более мистическим. С компьютером такого раньше не случалось. Сколько я ни убеждал себя, что виноват сам — нажал случайно тыльной стороной ладони лишнюю клавишу, — всё равно то, что проклятая машинка зависла именно перед тем, как я собирался написать «Кривья», не давало мне покоя. Будто это было запрещённое слово, слово-ключ, слово, которое нельзя было писать ни при каких обстоятельствах. Будто компьютер защищал меня от необдуманного шага, зависнув именно тогда, когда я был уже готов его совершить. Будто в нём была специальная программа, созданная, чтобы помешать другим писать это глупое слово. Кривья. Кривья. Вот я пишу его — и ничего не происходит. Словно я преодолел что-то в себе. А раньше не мог.
Я тогда довольно сильно испугался. Я сидел перед зависшим компьютером, всматривался в голубое кольцо, что безразлично крутилось на экране, и думал о том, что невидимость моего одиночества, моей работы, моих многочасовых дуэлей и примирение с собственным текстом — всего лишь иллюзия. Меня не трогали до того момента, как я собрался написать слово «Кривья». Этого они стерпеть и простить уже не могли. Включились тайные механизмы — и, вместо того чтобы работать, я сам завис, как дешёвый беззащитный компьютер в руках неосторожного профана.
Я попытался повернуть время в обратном направлении — и кажется, понял, в чём причина моего страха. Ещё вчера я прочитал в фейсбуке, что Кривья — наша духовная Шамбала. Эта тема активно обсуждалась в интернете, битва между арийцами и либералами (разделение, конечно, условное) шла не на жизнь, а на смерть. Сначала я только посмеивался, читая их дискуссии, я был далеко и мог спокойно поплёвывать на их горячие головы, но постепенно стал немного завидовать арийцам. У них была их Кривья — у меня же был только мой текст и сомнительная слава. Кривья была их последним оплотом, последним островом в буропенном море современности, которое всё опрокинуло с ног на голову, утопило их крейсер, затянуло в водоворот самых прочных и сильных бойцов. Их субмарины плавали кверху брюхом, они всплывали на поверхность, как мёртвые рыбы. Им не за что было хвататься. Древняя Кривья, эзотерический миф наших доморощенных арийцев, метафора их первокорня, их апокалипсис, оставалась единственным священным местом, куда ещё не долетел плевок современности. Они боялись, что теперь, когда их священное слово мусолит в интернете каждый желающий, их оплот станет доступным для критики и деконструкции.
Надо сказать, что я был причастен к тому бедственному состоянию, в котором хирели последние годы сторонники величественной и мистической Кривьи. На родине меня ненавидели, я не раз получал письма с угрозами, мне откровенно писали, что срать на Родину мне не позволят. Писали, что меня настало время остановить. Несколько недель назад, уже живя здесь, я имел неосторожность оставить под одним постом пару язвительных комментариев, в ответ на которые получил от своих оппонентов только загадочную фразу: «Жди гостей». Тогда я не обратил на это внимания. Меня совсем не насторожило то, что на этот раз вместо череды нацистских лозунгов и бездарно сформулированных обвинений было только это: два слова, которые ставили точку в обсуждении. В том посте концепция новой Кривьи рассматривалась довольно деликатно и беспристрастно, а мои комментарии, наоборот, нельзя было назвать объективными, поэтому весь день у меня было неприятное чувство, что я написал нечто несуразное. Я решил, что сконцентрируюсь на романе и постараюсь меньше торчать в фейсбуке. И всё же я понимал: соцсети соцсетями, но когда роман будет опубликован, милости мне ждать не приходится. Они просто не переживут, если в романе появится Их Кривья. Роман необратимо создаёт отношения между автором и тем, о чём он пишет, и эти отношения достаточно интимные. Достаточно интимные, чтобы ранить тех, кто в них не вписан. Нашим арийцам была нестерпима самая вероятность того, что я могу делать с их святыней что захочу. Они считали Кривью своей — и будут считать её использование подлым воровством.
Меня всегда поражало, сколько в их отношении к собственным мифам религиозного чувства. Настоящего экстаза. Им невозможно было что-то доказать: их Кривья была вопросом веры, а не ума. И иногда я сам боялся признаться себе, что завидую этим людям, которые так меня ненавидят.
И всё же до сегодняшнего дня я чувствовал себя в безопасности. Я был за тысячу километров от них и слышал, как они там, на родине, воют от бессилия. Они могли писать всё, что хотят — в своём скандинавском изгнании, в этой комнате, наедине с текстом я был для них недоступен.
Я работал тогда над историей старой белорусской шептухи, тёмной бабки, которую похищают и перевозят на остров члены таинственной организации. Сначала роман не шёл, вечером мне казалось, что я пишу полную чушь, утром я садился за компьютер разбитый и деморализованный, мне всё чаще казалось, что я теряю время и из этой книги ничего не выйдет. Но потихоньку, как это часто бывает, я сжился с персонажами, чётко разглядел все места, где должно было происходить действие, и даже сам начал разговаривать, как та старая бабка. Или так, как я думал, могла бы разговаривать сама с собой старая бабка, если бы оказалась в такой непривычной ситуации.
Колёсико крутилось. Компьютер висел. Я мог положиться только на своё ожидание и своё терпение. Я знал, что, если поддаться искушению и выключить компьютер, я уже не смогу заново написать то, что получилось у меня сегодня. Я подумал, что, если проблема решится и возникнет потребность ещё раз написать слово «Кривья», я сделаю это спокойно и без страха. Я не мог показать им, что боюсь.
Оставив кольцо вращаться, а компьютер висеть, я оделся и пошёл в магазин. С холма я видел, что к пристани подъехал паром. Сейчас город наполнится людьми. И правда, когда я шёл обратно из магазина, на улицах было полно незнакомых лиц. Повсюду сновали туристы, фотографировали, громко разговаривали на совершенно незнакомых мне языках. Я не понимал их, зато знал, что такое Кривья. Они не подозревали о существовании Кривьи — и не имели проблем ни с коммуникацией, ни с мифами, ни с хорошим настроением. Так бывает — если ты восточный европеец.
Конечно, можно было попросить помощи у кого-то из коллег: возможно, они разбирались в компьютерах лучше меня. Но мой английский был так плох, я боялся, что меня не поймут, а если и поймут, то просто посмеются.
По дороге я встретил Юхана. Переводчика с исландского на фарерский, или с саамского на фризский. Что-то такое.
«Паром приехал», — сказал Юхан.
«Да, я видел».
«Ты придёшь сегодня на ужин?»
«Нет, я буду работать».
Когда я вернулся, никаких изменений не произошло. Внешний вид моего предупреждения ничуть не изменился. Такое же голубое кольцо, бесстрастные буквы, исполненные потаённого смысла. Возможно. Возможно. Возможно. А может, и нет. От меня ничего не зависело. Мрачно жуя колбасу и запивая её холодным красным вином, я смотрел на зловещее кольцо, на свой растаявший, едва видимый в бледном тумане текст, смотрел в окно, на серый снег, красные крыши, на здешний флаг, который всегда успокаивал меня своей архаичной раскраской. Нет, сюда они не доберутся.
Стемнело. Под моим окном топтался какой-то тип, который делал вид, что фотографирует море. Я вышел, закурил и демонстративно встал совсем близко от него. Я был восточный европеец и мог себе это позволить. Он испугался и убежал. Я смотрел на город и видел, как по городу растекается весёлая толпа туристов. Взял книгу. Толстую старую книгу о том, как обращались со стариками в Спарте. Спартанские законы обязывали уважать стариков. Но только тех, что создали семьи. Неженатые и бездетные старики должны были зимой ходить голыми по рыночным площадям и петь особые песни о том, какие они глупые и как их заслуженно наказали за бездетность. Известен случай, когда какой-то юноша не уступил место знаменитому полководцу Деркилидасу, нагло заявив: «Ты не родил сына, который позже мог бы уступить место мне». И общество одобрило ответ умного юноши.
Голубое кольцо не останавливалось. Мой компьютер потихоньку умирал, но я не из тех, кто теряет надежду. Выпив ещё вина и дочитав главу, я решил, что нужно пойти к людям. Поставил ноут на подзарядку, накинул что-то и направился на кухню. Все уже собрались. Юхан заметил меня и вскинул брови:
«Вы уже знакомы? Это Анья».
Он подвел меня к новоприбывшим.
«Первый раз здесь?» — спросил я не очень дружелюбно.
«Да, первый».
«Анья приехала на пароме», — сказал Юхан, который в разговоре со мной всегда старался говорить как можно более короткими фразами, потому что я был ему симпатичен.
«Моя мама — артистка цирка», — вспомнил я и сказал это Анье прямо в лицо.
«О», — вежливо сказал Юхан.
«Ю ар хэппи», — сказала Инга.
«Кул», — сказали все.
Все, кроме Аньи.
За ужином я выпил ещё бутылку вина. Колёсико крутилось. Компьютер висел. Возможно, это был конец романа. Я знал, что больше такого не напишу.
Её поселили в соседней комнате. Когда все разошлись спать, я сел перед своим компьютером, поставленным на подзарядку, и стал слушать, как она ходит: от стены до стены.
Так она и ходила — всю ночь. Ждала, пока я усну. Возможно, она писала стихи или переводила — с гуарани на суахили, с сардинского на подляшский — но я всё прислушивался к её шагам в коридоре. Я не мог больше ничего делать. Только слушать. Мне казалось, стоит мне задремать, как она откроет дверь и окажется здесь. Здесь, в моей комнате, меня настигнет кара.
Утром я задремал, а когда проснулся, встал, выключил всё нахрен и с наслаждением лёг под одеяло. Текст, написанный вчера, перестал существовать. Конечно, потом я попытался создать его заново, но отношения автора и текста очень интимные: как всё интимное, они не повторяются. Никогда не повторяются.
В обед я встретил Юхана.
«Анья уехала сегодня утром, — сказал он недовольно. — Вернулась на континент».
Он выглядел так, будто его обидели:
«Я не понимаю почему».
Я посмотрел ему в глаза и медленно произнёс:
«Моя мама — артистка цирка».
Теперь у меня новый компьютер. И когда я пишу на нем: «Кривья» — ничего не происходит. Вот: Кривья. Можно капслоком. К. Р. И. В. Ь. Я. Я не боюсь писать «Кривья». Только перед тем, как выщелкнуть его на клавиатуре — одним аккордом, — я всё равно каждый раз думаю о последствиях и ничего не могу с собой поделать. Думать о последствиях, быть рассудительным, сохранять корректность — это так скучно. Возможно, поэтому я больше не пишу романов. Мир вокруг идёт в тартарары — и посреди этого безжалостного и неотвратимого моря мне хочется какой-то опоры. Не хочется больше бояться. И писать тексты на свой страх и свой риск. Хочется чего-то реального и вместе с тем несуществующего. Такого, на что можно встать двумя ногами. Встать — и просунуть голову в петлю с чувством, что ты такой не один.
Наконец-то ты не один.
«…Кривья», — сказал жених торжественно и внимательно посмотрел на бабку: оценила ли она красоту названия. Может, надеялся, что отзовётся в ней это странное слово. Лесное, липкое, обманчивое.
Но старой Бенигне и своих странных, старинных слов хватало.
Вот, скажем, «андертальский».
Откуда оно к ней попало? И почему кота её звали Гофман? Откуда-то же взялись эти имена. Слова. Тёмное, ох, тёмное ваше прошлое. Горе тому, кто пойдёт за вами, соблазнившись вашими загадками. Можно и не вернуться. Всю жизнь извести, разгадку отыскивая. Пока не выяснится, что время истекло, а разгадки никакой и не существовало.
«Мой остров, — сказал жених, ковыряя голым пальцем ноги сухую землю. — Наша Кривья. Если есть ещё где-то Беларусь, то только здесь… Земли тут десять километров квадратных. Мало? Это кажется. На самом деле на всех, кто настоящий кривич, хватает, и ещё на тысячу хватит. Не остров, а рай… Оглянись, бабка, вокруг — красота какая…»
Он оглянулся сам — показывая, как надо любоваться красотой. Лицо его сморщилось, как от горечи во рту:
«И вот есть же подонки, бабка, которым мой остров покоя не даёт. Пишут о нас, пишут, под меня копают, статейки свои гнусные в интернет забросят — и ждут, что я вместе со своим островом под воду пойду. А есть и такие, что бегут отсюда. Хер вам! Хер! Стояла земля наша и стоять будет! Над морем, как белая крепость! Была и будет, пока мы здесь живём!»
Так прокричал жених её в небо и в море, и в бабкины бедные уши. Неизвестно, отозвались ли на его клич простор морской и облака над островом, но бабка чуть не оглохла. Плакал её жених, и не знала бабка, как его утешить. А он стоял, маленький, смешной, кудрявый, и ногами босыми за землю цеплялся, да всё пальцы поджимал, чтобы никто оторвать не мог.
Будто кружили над ним сейчас какие-то гуси-лебеди да на хлопца охотились, когтями примерялись, хотели с собой забрать.
«А сам, я, бабушка, главный из кривичей. И называет меня мой народ так: Максим Кривичанин. Смеёшься? Думаешь, горжусь этим? Где там. Это крест мой…»
Да Бенигна и не думала смеяться. Сам он, жених её, на лице бабкином ту улыбку придумал. Не умела Бенигна улыбаться, не давало ей лицо её печное, чёрное, печёное, губы в человеческую улыбку сложить. Посмотрел на неё жених сердито, но передумал гневаться.
«Что это я горожу? Какой крест? Тьфу, — сплюнул он под ноги и пяткой слюну размял. — Крепко во мне их христианство сидит. Крест, крест… Но ты ж мне поможешь, бабка? А, невестуха моя золотая? Снимешь с меня крест, силой своей поделишься. Ну садись, садись в машину, поедем, уморил я тебя, бабка ты моя ненаглядная… Ты у нас человек старый, тебе покой нужен. Море спокойствия… Нам с тобой ещё столько всего сделать надо. Рано нам с тобой умирать, мы с тобой за себя не отвечаем…»
Из ближайшего к ним дома кто-то вышел, нерешительно остановился на пороге, подождал, пока машина отъедет. Так бабка и не смогла рассмотреть глазами своими слепыми, кто там был: мужчина, женщина, или просто пригрезилась ей, старой, человеческая фигура — слишком давно она нормальных людей не видела. А оно ох как важно — чтобы человек с людьми был. Иначе станет он зверем, да начнёт совсем по другим законам жить. В совсем другом лесу.
8.
Слюны не поднимешь, а слова не вернёшь. Начала бабка своего жениха в мыслях Максимом звать. То просто Максимом, то Кривичанином. Был он и правда какой-то кривой — так и хотелось выправить. Весь будто бы из одёжек сшит, а где душа его прячется — один чёрт знает. И глаза у жениха ейного — как колбаса кровяная.
Угораздило ж её вот такого мужика заполучить. У кого жених с домом и «жигулями», у кого с памятником мраморным, у кого со счётом в сбербанке. А у неё — с островом.
И где этот проклятый остров лежит, на котором она беду свою терпит, среди каких он океанов укрылся, под какими небесами — тоже, видать, одному только чёрту известно. А даже если бы и сказали бабке координаты места этого удивительного — что, помогло бы ей это? Только одно точно знала старая Бенигна — что, как и хатка её родимая, стоит этот чудо-остров, Кривья наша духовная, между двух лесов.
Один из которых андертальский.
А другой — нет.
Значит, есть ещё на свете места, которые посреди тех лесов находятся. А что же ты, бабуся глупая, думала, что одна на свете такая? Хрен тебе, бабка. Грех ведь это, большой грех — про себя так думать: какая же я замечательная, какая я одна такая да растакая на белом свете. Скромности себе, бабка, у бога-то попроси, скромности. Совсем ты на том острове бесстыдная стала. Позволяешь себе в такой кровати спать, какой на целую семью многодетную хватило бы, да в ванне лежишь, тёплой да чистой, а девка Олеся тебя губкой моет, по спине твоей водит, по груди да по волосам. А не больница здесь, чтобы за тобой медсестрички смотрели. Не больница здесь, бабка. А тюрьма.
Тюрьма.
Ешь вкусно, спишь сладко, ни в чём нужды не имеешь. А всё равно на сердце камень лежит. Будто наказали Бенигну те, кто её в неандертальский лес ходить научил. За лень её покарали да за глупость.
Ночью проснулась бабушка — оттого, что кто-то на неё смотрел. Открыла она глаза, а над самым её лицом лампочка светит, лампочку Олеся держит, а сама ей знаки пальцем показывает. За собой зовёт. Поднялась бабка с кровати, накинула что-то да за Олесей в коридор пошла. А Олеся, ведьма молодая, дальше идёт, да на бабку оглядывается — как всегда, с улыбкой своей кошачьей. Кто же тебя, девка, в кошку превратил? — думает Бенигна, но идёт послушно, за лампочкой в темноте ковыляет, за стены хватается.
Завела Олеся бабку в комнату, где бассейн был. Зашла бабка, жмурясь от света, — горела в той комнате люстра, горела не ярко, но всех здесь можно было хорошо рассмотреть. По краям бассейна мужики её знакомые стояли: и тот, который самый крупный, и старичок в белом, и парень-спортсмен, и татарин хитрый. Стояли и на бабку поглядывали — не то чтобы враждебно, а настороженно так, будто ожидали от бабки обмана.
А в самом бассейне жених её, Максим Кривичанин, лежал, на край облокотившись. Голый — в чём мать родила. Лежал и на неё глядел — внимательно, строго, как батюшка.
«Подойди сюда, бабка, — сказал Максим, слегка улыбнувшись. — Ближе, ближе».
Подошла бабка, рукой глаза закрывая. Хотя чего она там не видела — а всё равно срам. Жених её взрослый уже, неправильно это — наготой своей да местами срамными бабке в глаза тыкать.
«Опусти, бабка, руку, — приказал Кривичанин. — Я жених твой, нам с тобой жить до смерти».
Не сразу послушалась бабка, а когда послушалась приказа, то уже глаз не могла отвести. Ведь по всему телу молодому жениха её шли чёрные и алые гнойные раны, живые, от воды разбуженные, расцветали на коже, словно краски полевые. Видно было, что немало их пальцами порасчёсывали, пораздирали, что зудят они, каждый день чешутся нестерпимо, не дают хлопцу покоя.
Жених задумчиво, чуть наклонив голову, следил, как наполняются жалостью бабкины глаза.
«Вот так вот, бабка, — сказал он наконец, пошевелившись и удобнее устроившись у стенки бассейна. — Вот так. Видишь, что со мной?»
Заплескалась вода, вздохнули мужики, приятели жениха, капнуло с люстры — громко, тревожно, будто гвоздь кто с одного раза вбил. Прямо в пол мозаичный, в кафель, в сердце звериное. Ведь и правда было у бабки ощущение, что находится она в самом сердце большого и больного зверя. Посадили её туда, в самую кровь и самое мясо, несётся зверь по морю, по небу, по дорогам тёмным, лапами деревья сбрасывает, один бурелом после себя оставляючи, — а куда несётся, сам не знает.
«Гнию я, бабка, — сказал жених, растопырил пальцы, провёл по груди и радостно, широко раскрыв рот, посмотрел, что у него на ногтях осталось. — Гнию. Живьём гнию, сама видишь. А что со мной такое, никто не знает. Врачи ничего поделать не могут, да и не верю я им больше. Все они идиоты и мошенники. Столько денег потрачено, а на что?»
Он обвёл глазами своих приятелей — а может, и слуг, а может, и рабов: кто их знает.
«Пришло, бабка, время тебя проверить. Посмотреть, на что ты способна. Думаешь, за красоту я тебя сюда позвал, невестушка ты моя? Не… За силу, бабка. За силу…»
Он потянулся, ухватился за края бассейна и выскочил из воды. Подошёл к ней близко, так близко, что уже не глазами видела бабка его гнойные раны, а кожей своей чёрной чувствовала, как они живут, да горят, да смердят, да чешутся, да зудят-пекут.
«Помоги мне, бабка. Покажи, что умеешь».
Так и стоял он перед ней, голый, весь в своих гнойных ранах, орган его мужской напрягся, в бабку глазом единственным смотрит, не мигая, из подмышек капает, на плечах блестит, а шея и грудь будто вспотели все, не льётся из жениха вода, а на коже проступает — да сияет зеленоватыми жемчужинками. Раны гнойные дышат, а лицо красное, как от температуры.
Взяла его за руку старая Бенигна, послушала, что его тело говорит, сама глаза закрыла. Подождала, пока всё вокруг исчезнет — растворились в огне под её глазами и мужики эти застывшие, и Олеся, что за спиной стояла, и люстра, и вода, что тихо струилась под землёю.
Начала Бенигна на этом теле молодом, мужском, ядовитыми цветами покрытым, там да сям смотреть, искать, что на нём лишнего. Долго искала, по крови жениховой на челне плавая, в чёрные омуты заглядывая, по ветвям невидимым ногтями скребя. Нашла. И, как когда-то, с приятным, тёплым чувством вспоминая нужные движения, положила лишнее в одну ладонь, второй накрыла, опрокинула. Открылся третий глаз, четвёртый закрылся, пятым она на месяц в небе посмотрела, шестым на солнце, а седьмой от слёз дрожать заставила.
«Здесь стой, — сказала Бенигна одними губами. — Не ходи никуда».
Показалось, что кивнул ей жених. Будто услышал, что сухой ветер из её рта нашептывает.
Споткнулась Бенигна, тропинку выбирая да на ощупь по темноте блуждая, раз споткнулась, и второй, и третий — но затрепетал её седьмой глаз, напрягся — и раскрылся, да так больно, что в голове у Бенигны будто бы молнией ударило.
Бежала Бенигна по знакомым ей одной тропинкам, радуясь, что её впустили, что не забыли, бежала, держа в руках лишнее, лишнего не слушая, на лишнее не наступая. Никто её не преследует, никто не перебегает дорогу, никто не спросит, что она держит в руках. Только голоса знакомые её приветствуют: «Гу-у-у… Гу-у-у…»
«Ну что вы хотите, а, что вы хотите, гу да гу, гу да гу, бедные вы мои, нечем покормить, не нажила я за всё это время ни косточки, ни крошечки, только вот сынки у меня появились, Антон и Миша. Может, проведать мать соберутся, прилетят на самолёте… Ну что вы всё гудите, ну что? Нелюди вы мои, вы же меня знаете, жалко мне вас, поглажу, каждого поглажу, за ухом почешу, согрею… Недолго мне уже между лесами жить осталось».
Горят неандертальские кострища, как дома соломенные пылают, вот и пот у неё со лба потёк, глаза застилает. Всё глубже в лес, да ещё глубже, до пня того добежать да назад, времени у неё мало.
«Мои вы иностранцы, мои вы турки, постою с вами, постою, но не в этот раз. Жених мой помощи просит, мучается парень молодой, помогу ему, всё, что при себе у меня, всё лишнее, всё, что есть у меня, не моё…»
Добежала до пня заветного, пот вытерла, лицо обожжённое в траве охладила. Где пиджак? А вот он, у пня, обрадовалась Бенигна. Такой же, как был, примятый, будто на нём только что мужчина какой-то сидел. А может, и лежал, папиросу покуривая, а теперь отошёл за дерево. Бросилась бабка к тому пню, лишнее на пиджак осторожно сложила, как делала уже тысячу раз. Близко он был, ой близко — тот, кто лишнее с пиджака забирает, но не хочет он, чтобы Бенигна его видела, не хочет, чтобы запомнила. Ну и ладно. Ну и ничего. Не собирается она пока что здесь оставаться.
«Пойду от пана, пришла слишком рано», — шепчет Бенигна и назад, к тропке знакомой бросается.
Горят, дымят, трещат в неандертальским лесу высокие костры. Стоят у них существа лесные, унылые песни свои ноют, да гудят, гудят, Бенигну провожая. А она — с тропки на тропку, из-под дерева да к дереву, да через трясину, по чурке да по гребельке, и опять в лес, ветви разводит, губы сжимает: одна ветка в бок уколет, а две другие сами отступят.
Открыла Бенигна глаза. И опять она на острове чёртовом. Перед ней хлопец молодой, голый, стоит, руку к ней протянув, стоит неподвижно, как зачарованный, а за ним слуги его — и каждый на бабку с ужасом и почтением смотрит.
Отпустила она женихову руку — он поднёс к глазам ладонь, будто сам впервые её видел.
Посмотрел на своё бедное тело, вздохнул.
«Знать бы, где ты ходила… — проговорил её Кривичанин, опустив руки. — И что это было… Такое ощущение, как будто кровь в жилах обновили… Что перезагрузили… Ну, бабка…»
Раны на его теле всё так же дышали, зудели, жили своей жизнью, но знала Бенигна, что несчастный жених её уже верит, уже надеется, без этого люди из андертальского леса никак не могут: хвостик от надежды покажи, так всё бросят и за хвостиком тем побегут. Хотя и делал вид жених её, Кривичанин главный, что не такой он, как вся эта сволочь, но и для сволочи, и для могучих самых один закон: только бы надежда была, лишь бы светила она им в вечную зиму человеческую.
Повернулся жених её Максим к своим слугам, вопросительно поднял подбородок — а они стоят вокруг бассейна, слова вымолвить не могут, и лица их точно маски, те, что по телевизору показывают. Накинул жених полотенце на плечи и из комнаты вышел — и на Бенигну напоследок взгляд бросил: пристальный, пронзительный, такой уж любящий, что Бенигна вздрогнула, словно её за шею кто укусил.
Счастливая засыпала в ту ночь старая Бенигна — и сама своему счастью не верила, и сама того счастья стеснялась. Нельзя бабке старой счастливой быть — ведь в таком случае она у молодых счастье крадёт. Не бесконечны они в мире, счастья запасы, есть у них край, и конец, и дно. Но рада она была, так уж довольна, как девка молодая, — пригодился людям её лесной дар, нашла она все тропки, не выгнали её до сих пор из неандертальского леса. Ждали. И дождались. Значит, не растрачивает она почём зря свою старость, значит, есть ещё ей в андертальском лесу какое-никакое применение. Важно, ох важно было для Бенигны старой себя нужной почувствовать — знать, что не просто так она в мире этом странном, холодном место занимает.
Утром разбудил её женихов голос — бегал Максим молодой по коридору, дверями стучал. Забыл, дурачок, где бабку положил. А когда нашёл, бросился к ней и под рёбра старые ткнул:
«Ну и бабка! Сила! Смотри, старуха, смотри…»
Сбросил перед ней свой чёрный свитер, снова голый перед ней стал, как из бани. Посмотрела Бенигна сквозь веки — и правда. Сделались его раны поменьше да посуше и начали затягиваться. Уходил в темноту дикий зуд, и гной уходил, и боль — посветлело женихово лицо. А как же иначе, если лишнее на пне сухом осталось. Но только не знает жених, где тот пень заветный и как до него добраться.
Отпустил бы он её сейчас. Так нет же — даже не собирается.
Поцеловал он бабку — осторожно, в самую макушку. И губы вытер.
«Правду народ наш святой говорил: где куст густой, там двор не пустой… Непростая ты бабка! Теперь вижу, теперь верю. Недаром столько на тебя денег выбросил. Ну и сила! Как же я тебя ждал, бабка ты моя золотая… Будет у нас свадьба, будет…»
Сел перед ней и завёл свою песню, вполголоса, будто бы сердито, а глаза лучистые-лучистые:
«Научи меня бабка, своим штукам. Поделись силой. Расскажи, как бабками делаются… Я же всё равно способ найду…»
Молчала бабка, в сторону глядя, лишь бы рта его не видеть. Затягивал в себя этот рот, зиял, как яма, да намекал бабке, что ещё и не то сказать может, что таится в нём столько зла — ей и не снилось в снах её старческих.
Но думать об этом у бабки времени не было. Наутро пришёл к ней парень тот крепкий, с ногами бритыми, майку стащил, шорты поспешно скинул и стал перед бабкой, как на медкомиссии.
«Ну, лечи меня, бабка!»
Все бока у него были в гнойниках — забирались раны под самый пах, да внизу прятались, во внутренности уходили. Как чувствовали те раны зловонные, что появилось существо человеческое, которое их прогнать может. Заскрипела бабушкина кровать, поднялась она, дверь закрыла и парня за руку взяла. Отнесла лишнее и снова легла. Устала. А парень всё ногой в шорты попасть никак не мог, одеваясь, да бормотал под нос себе:
«Ты, бабка, могла бы знаменитой стать. Думала об этом? Тёмная ты, я на твоём месте нашёл бы человека, который в таких делах шарит, да занялся бы этим серьёзно. Таким талантом нельзя разбрасываться, ты мне поверь…»
На другой день старик пришёл, долго перед бабкой сидел, молчал, что-то в компьютер свой записывал. Она уже думала, он о ней пишет. Ну, пусть пишет. У каждого своя работа — кому писать, кому лишнее у людей забирать. Легла бабка к стенке, трясло её что-то, да ноги никак не просыпались — хоть ты их иглами уколи.
А когда отпустило её и она на другую сторону повернулась, смотрит, а старичок тот уже без штанов и без рубашки перед ней стоит и смотрит на неё застенчиво. Весь в гнойниках, словно из больницы сбежал. Стоит и глазами на своё пузо показывает. Вот же мухомор старый. Весь в седом пуху. А лечить надо.
Пододвинулась к нему Бенигна, подтянулась на локтях. Стала, покачиваясь, не держали её ноги как следует, за руку старичка взяла. Заискрило у неё перед глазами, загудело, не хотел неандертальский лес укрытия свои выдавать — но упрямая была бабка Бенигна, стойкая и ни на кого не злая, потому что нельзя злой быть, если в неандертальский лес ходишь. Минута или две прошли — а нашлись тропки. Снова побывала бабка у заветного пня. Вернулась — а дед, ничего не сказав, схватил трусы и одежду свою и радостный за порог бросился. Старый пердун. И что он с её женихом здесь делает? Такому деду городскому на скамейке бы сидеть и внуков нянчить. А он на остров попёрся. Одно слово — писатель.
Вспомнила Бенигна библиотеку и вздохнула. Нет им покоя, тем писателям. Всё пишут, пишут, хотят свою собственную библиотеку написать. А книжки те в темноте над писателями смеются: у книжки жизнь длинная, с человеческой не сравнить, сколько бы человек ни написал — всё равно ему из андертальского леса не убежать, всё равно в земле лежать сырой, а книжка будет жить и с полки на мир смотреть. Может, её за сто лет никто в руки не возьмёт — а она всё равно своего времени дождётся. А человек — нет. Как бы ни хотелось ему на победу свою полюбоваться.
На третий день толстяк к ней заявился, вошёл, подсел к ней, посмотрел заискивающе в глаза бабкины.
«Лечи меня, бабка. Как ты других полечила».
«Завтра приходи, бедолага», — сказала бабка одними глазами, чувствуя себя виноватой: но и правда ведь, приболела она, боялась к тому пню ходить. Ей бы покою себе дать, хоть на день, а тогда уж она полечит, никому не откажет. Да только не умел толстяк тот глазами слушать, смотрел на бабушку умоляюще и ждал.
«Ну что ж ты не лечишь? Смотри, у меня ведь тоже по всему телу херня эта, что я, не человек?»
Она взяла его за руку, но отпустила. Не была уверена, что сможет.
«Лечи, бабка! На колени стану!»
Легла бабка. Плохо ей было и тошнило.
«А я тебе, бабка, новости расскажу, — пробормотал тот дородный дядька вполголоса, на двери тревожно оглядываясь. — Всё тебе рассказывать буду, что знаю, только лечи. Вот ты тут сидишь и не знаешь, а Янка наш, тот, спортивный такой парень, умный оказался. Убежал сегодня утром с острова. Не хочет, паршивец, с нами жить. Посмотрел, что гнойники заживают, и бежать. Всё рассчитал, гад, никто бы и не заметил. Его бы не сразу хватились. Если бы не я. Я первый заметил, что лодки одной не хватает. Меня за такое полечить хорошо надо, слышишь, бабка? Бабка?»
Растормошил он её, поднялась Бенигна из последних сил, до пня дошла, а как назад попала — сама не помнила. А тут уже и татарин тот стоит, глаза бегают, а рот под усиками ходуном ходит:
«Мне последнему к тебе идти выпало, не могу до завтра терпеть, вдруг ты, бабка, до завтра не дотянешь! Сказали, что умираешь, так я сразу к тебе и прибежал! Полечи меня, бабка, а там уже умирай! Слышишь? Не надо умирать! Ну что тебе, жалко? Ты же всё равно подохнешь, а мне ещё жить!»
Да только не могла бабка подняться. Лежала и смотрела в потолок. Пусть бы оставили её одну — всем бы лучше было. Стыдно смертью своей людям в глаза колоть. Долго бы стоял татарин на коленях перед её кроватью — до ночи её умолял бы и головой бился о её подушку, если бы не жених. Вытащил он того татарина за шкирку из комнаты:
«Иди моторку заводи, я тебя что, зря в советники выбрал? До темноты должны Янку найти, шторм начинается, погибнет парень! Опять меня виноватым сделаете, сукины дети!»
А сам подошёл к Бенигниной кровати, сел и обхватил бабу за ноги:
«Надвое бабка ворожила: иль умрёт, иль будет жива…»
И засмеялся нервно:
«Вижу я, бабка, что не хочешь ты за меня замуж идти. Вижу… Что, правда собралась здесь ноги протянуть, на моём острове? Нет… Не нравится тебе такой расклад».
Пальцами полез в глаза, поднял веки:
«Вижу, что не нравится. Ты хочешь в хату свою вернуться, последний раз на детей посмотреть, на внуков, да на каком-нибудь суперпуперхристианском кладбище лежать, вместе с набрыдью всякой и бездарными людишками. Что я, не знаю? Так вот: умрёшь — закопаю тебя здесь, никогда родной хаты не увидишь. А выздоровеешь: верну туда, где взял. Думай, бабка, думай, невестуха…»
И ушёл, раздавая всем приказы. Будто народу был полон дом.
Задумалась Бенигна, поверила жениху своему. Может, и правда вместе со здоровьем к нему ум вернулся. Но не могла она свою немочь одолеть. В неандертальский лес со своим лишним не ходят. Стыдно это. Не поймут её иностранцы, турки эти, и мужчина тот, чей пиджак на корню постелен, не одобрит. Выйдет из-за дерева, папиросу жуя, да скажет ей:
«Всё, бабка. Запрещаю тебе ходить в наш лес. Во веки веков».
Тяжко было Бенигне. И умирать тяжко, и жить. Всё хотел от неё чего-то андертальский лес — придушил, навалился всем грузом своих необузданных желаний. Решила она, что умрёт. Разгорелся в ней такой жар, что страшно стало — неужели дом подожгли? Хотя и странный он, этот дом на острове — но тоже ведь дом: здесь люди живут, люди его строили, люди здесь от холода и зла скрываются. Горела Бенигна, горела, и будто бы видела из огня своего, как стоят вокруг неё обитатели леса неандертальского, стоят и ветви подбрасывают. Гори, гори, бабка, гори, старая, гу-у-у… Гу-у-у…
Не вышло у неё умереть. И на этот раз не вышло. Словно зачаровал кто.
Проснулась ночью Бенигна, вся мокрая, холодная. Открыла глаза, пошевелила руками. Смотрит, а по комнате призрак какой-то женский движется. Замер призрак над её кроватью, поднялся над головой старой бабки. Поняла Бенигна, кто перед ней. Олеся, та самая девушка, что на Бенигну так сердито смотрела. Была на этот раз Олеся совсем голая — села у бабки, волосы на плечи отбросила, грудь одной рукой придержала, а второй бабку за холодные пальцы схватила:
«Лечи меня, бабушка!»
Вот какой голос у неё. Невинный. Как у медсестрички. Прижимает Олеся свои пальцы с длинными ногтями к старухиной коже, сунет свою руку в бабкину, а сама шепчет:
«Смотри, бабушка, что со мной. Полечи меня, полечи, прошу!»
Заскользили руки старой Бенигны по девичьему телу, нашли все её гнойные раны. Задышали они под бабкиными пальцами, зашевелились, заострили язычки, плюнули гноем и кровью подпорченной. Вздохнула Бенигна — да так, что покатилась она по багровым дорожкам и по веткам сухим лицом в крапиву.
«Опять ты здесь, бабка?» — удивилась королева крапивная, Стракива изумрудная.
Сходила Бенигна до пня, оставила там девичье лишнее, покатилась назад, не оглядываясь. Откуда только силы взялись. Вернулась, легла рядом с девкой — чистой, здоровой, полеченной. А та спала уже — как была, голая, в том костюме, в котором люди в мир приходят. Прикрыла её Бенигна одеялом, послушала, как утихает Олесино сердце, успокаивается, понюхала радостно, какой сейчас дух у неё изо рта идёт, — да сама задремала.
Жила в доме кошка злющая — а появилась у старой бабки внученька.
9.
Вот и утро пришло, принесла ей внучка поесть — оделась, глаза замазала, спрятала, губы накрасила и поджала: мол, ничего за ночь не поменялось. Только видела старая Бенигна, что даже руки Олесины подобрели, смягчились — не как скотину уже Олеся её кормила, а как бабушку дорогую. Заживут твои раны, внучка, заживут — посмотрела она на Олесю да взглядом её приласкала. Поморщилась Олеся, будто её пощекотал кто, спиной повела и в коридор выбежала.
Ну, беги, беги. Подкрепилась бабка и снова задремала.
Когда-то, когда ещё она в своей хате жила, могла Бенигна каждый день без выходных и праздников в неандертальский лес ходить, а теперь три дня побегала и уже лежит. Видно, на острове время быстрее бежит — и люди здесь быстрее стареют. Вот же, и жених её поэтому такой — с виду юноша, а по уму и по мучениям своим — как старый пень. Задумалась бабка, видела ли она в этом доме большом хотя бы одни часы — да так и не вспомнила. Нынешним людям часы без надобности — потому и порядка нет. Поэтому и не спят они ночами, всё думают, чем бы ещё заняться. А поспали бы, отдохнули немного — так, может быть, не губили бы их глупые идеи и бессмысленные дела. И болезни злые, гнойные, заразные к ним не цеплялись бы.
И тогда, как спасение, как отдых долгожданный от забот андертальского леса, навалился на бабку глубокий сон. Сидела она в том сне у смородинового куста и слушала, как пчёлы вокруг гудят. Гу-у-у… гу-у-у…
Не слышала бабка, как вошёл в её комнату жених, Максим Кривичанин, лёгкий, как листочек, да прилёг тихонько возле Бенигны. Лежал на боку и лицо бабушкино, чёрное и страшное, разглядывал. Каждый холмик и каждый пригорочек на нём рассмотрел, всё заметил: как кожа мертвяная изнутри матово светится, как нос бабушкин подрагивает, как насекомые на бабку садятся, лапками перебирают, проваливаются в сухие чёрные трещины и выкарабкиваются, а она и не шелохнётся. Подул на бабку, убрал то насекомое, и тогда она глаза открыла — синие, как стёклышки из девичьих секретиков, в саду закопанных. Не мог Максим понять, спит она или и правда проснулась. Глаза бабкины не мигали, лежала она, как мёртвая — или просто на паузу поставленная.
И вдруг он увидел. Костры, ветви скрюченные, восковые фигурки в горячем тумане. А за ними тьма, из которой потянуло дымом и гулом. Мелькнуло всё это и исчезло, мимолётное, недостижимое, один кадр — и потухло всё. Только он собирался задержать эту увлекательную картинку — и вдруг конец.
Вздохнула бабка, вздрогнула и закашлялась. Проснулась. А рядом с ней жених лежит, кудряшки по подушке рассыпались.
«Бабка спит, а гусей пасёт», — сказал Максим и улыбнулся. Как будто знал теперь что-то о ней, как будто рассказали ему её тайну. Страшно стало бабке: неужели она во сне лишнее сказала? Взглянула она на Максима — нет, такой же он, как и был. Показалось, значит.
Откинулся Максим на спину рядом с бабкой и с наслаждением втянул в себя воздух:
«…А я же верил, что ты выживешь. Не из тех ты бабок, которые, чуть что, сразу в землю прячутся. Ты сама как земля, зачем тебе те заботы: гроб да поп, да поминки, да причитания… Не простая ты бабка. Только прикидываешься туповатой, а сама всё понимаешь…»
Он сложил на груди руки, как покойник, глаза закатил, обмяк — только свечу в руки вставь и помолись. Скосил глаза на бабушку и засмеялся:
«Понимаешь же? Вот бы тебя ещё говорить заставить. Чтобы ты рассказала, по каким лесам бродишь, когда людей лечишь, в какие чёрные дыры заглядываешь. И план нарисовать, со стрелками и всеми метками. У мудрецов, бабка, должны быть ученики. Иначе какой смысл в мудрости. А если баба в мудрецы подалась — надо с мужем наукой поделиться. Правильно? Как ты считаешь? Что твоя философия лесная говорит? А, бабка? Ты в этих вещах умнее меня, хотя я и Максим Кривичанин, а ты — бабка глупая…»
Он осторожно провёл рукой по бабкиному лицу. Отвернулась старая Бенигна к стене, Максим руку убрал и произнёс уже другим, будничным, печальным голосом:
«А нас, пока ты здесь спишь, стало ещё меньше. Ага. Янку, остолопа этого, море забрало — и что ему в голову стукнуло с острова бежать? Лодку мы нашли, километра за три от берега плавала, перевёрнутая. А самого прибьёт через год к какому-либо Родосу или Лесбосу. Если рыбы не сожрут. Дурак. Дурак и предатель. Он тебе ничего не говорил, когда ты его лечила? А, ну да, ты же у нас немая. Удобно быть немой… особенно в таком месте, как наша Кривья…»
Жених приподнялся на локте, заглянул ей через плечо:
«Опять уснула? Хитрая ты бабка… Как там словарь говорит: хитра бабка, будто кот, съела кашку да скребёт. Только словари и можно читать в этой библиотеке. А всё остальное выбросить к чёртовой матери. А говорила бы ты, не молчала — я бы и словари приказал сжечь. Всё в тебе найти можно. И язык, и истину, и историю, и лекарство… Эх… Что же ты молчишь всё? Бабка с дефектом…»
Максим отсмеялся над чем-то своим и снова повалился на спину, сложив на затылке руки.
«А татарин наш убился… Слышишь, бабка? Я ему сказал, что ты концы отдала. Так он от отчаяния того: взял да головой вниз со скалы. А такой белорус был — для Кривьи самое то. Потомок тех татар, что в Великом княжестве Литовском жили, между прочим. А я только и хотел, чтобы они тебе покоя немного дали, а то всё лезут, лезут, лечи да лечи… Ты ж моя бабка. С чего они решили, что я тобой делиться должен?»
Вздохнул Максим Кривичанин и похлопал рукой по животу.
«Так что минус два. Ничего. Найду, кем заменить. Там, в Беларуси вашей, хватает желающих на мою Кривью перебраться. Возьму оттуда ребят, давно просятся. Хорошие ребята, убеждённые, упрямые, националисты — первый сорт. Подпорчены немного, ясное дело, но остров их быстро настоящими белорусами сделает. Земля здесь плодородная… ты чего, опять? Засыпаешь, бабка?»
Он снова навис над ней:
«Нет, ты не спишь. Знаю я, что ты делаешь. Ты, видно, лежишь и думаешь мозгами своими хитрыми: как это земля здесь лечит, когда все живьём гниют. Правда, бабка? Этот вопрос тебе покоя не даёт?»
Он вскочил с кровати и начал ходить по комнате туда-сюда — словно на бой кого-то вызвал. Тот, другой, невидимый, перед ним попрыгивал, порыкивал, посапывал, морды страшные корчил, лапами Кривичанина обхватить хотел, но уклонялся Кривичанин, вертелся, как та ехидна, локтями взмахивал, запястья тонкие выгибал. Представлял себе Кривичанин, что в руках его двуручный меч, — и вот уже допрыгался его враг, потерял на мгновение бдительность. Выкрутился Кривичанин и одним махом снял врагу ужасному голову с шеи, а вторым махом вторую голову, а третьим махом насадил зверя на меч, а ногой третью голову в окно отфутболил. Станцевал победный танец и, усталый, вспотевший, назад к Бенигне в постель рухнул. Вытер пот со лба.
«Расскажу тебе, бабка, как всё было. Рассказать хочется, а с кем тут ещё поговоришь. У Олеси ума, как у пэтэушницы, а остальные двое — не верю я им…»
Он посмотрел на бабушку и добавил поспешно:
«Не, у нас тут народу хватает. Заняты просто остальные, работают весь белый день. Вот их и не видно. Ленивых не берём… У нас тут и женщины, и дети, целый Ноев ковчег — вот что такое наша Кривья. Те, кого ты видела, это советники-министры. Один за порядком следит, второй хронику ведёт, для истории. А тебя, бабка, когда поженимся, я министром здравоохранения сделаю. Хотя нет… Министром культуры и образования. Пусть лучше у тебя учатся, как правильно жить и во что верить. А то ночью страшно: сто человек сидят там, внизу, и каждый знает, что такое интернет. А сигнала нету… Только здесь, у меня. Только я информацией владею. Страшно… А как иначе? Им интернет дай — так и ещё чего-нибудь захочется.
Интернет-интернет… Погуляешь по нему ночью, по этой сети паскудной полазишь, и хочется всё пообрубать, надеть на этот остров святой, кривицкий, железный шлем и сказать: всё, живите там себе, как хотите, пропадайте, а мы тут сами по себе будем. Столько про нас мерзости пишут… И в Беларуси этой, и в других странах. Руки им поотрубать за это. Всё им мой остров спокойствия не дает. Пронюхали как-то, что мы тут живём, — и пишут, пишут, требуют, чтобы их сюда пустили. Мы нашли тех, кто нас предал, наказали — а они там всё не успокаиваются. Вот и вчера снова. Зашёл почитать, что в мире делается, а тут очередной пасквиль. Понавыдумывали про мой остров всякой чуши. Копают, копают, хотят знать, кому он принадлежит. Но руки коротки — даже если найдут, всё равно здесь моя, частная территория. Никого не пущу. Но обидно — писали бы о своём, что им моя Кривья… У самих дома хрен знает что творится, бабка, а они через море ко мне в хату заглянуть хотят. Проверку на меня наслать. Да мне насрать, что они пишут. И никто сюда не поедет. Миру не до нас. А всё равно не хочется, чтобы моё имя всплыло. Сама понимаешь, бабка, как это — когда твоё имя с грязью мешают. Вот же наймиты московские… Да и были бы московские, а то свои ж люди, белорусы. Развелось сволочи: левые, правые, журналисты, правозащитники… Фиминиздки какие-то. И все тычут носом в чужое просо…
Ничего, разберусь. Теперь у меня своя бабка есть. Вот ты кем будешь, невеста моя милая. Министр культуры и обороны. С тобой наша Кривья такое супероружие имеет — что берегись. Мы с тобой их всех накажем. Уже скоро. А они и не знают, что у нас уже ответ готов на все их интриги. Жесточайший ответ. А что? Что они хотели? Любопытной Камилле нос прищемили!»
Кривичанин зашёлся счастливым смехом, закатил глаза и заложил руки за голову.
«Прищемим им нос… Мы здесь, на Кривье, гордые.
Интернет-интернет… Я, когда молодой был, очень хорошо в компьютерах разбирался. Да не просто разбирался — я этим жил и дышал. Как ты, бабка, лесом и огородом. Как из школы приду, сразу за комп, и так до утра. Всё там было — и друзья, и любовь, и секс, и развлечения, и книжки. Так и жил, пока не вырос. Как говорится, и спал, и ел, и срал за тем компьютером. У меня даже девчонки не было — зачем, если в сети все девки мои, выбирай, какую хочешь. В игры играю, родителей на хрен посылаю, а если опостылеет, другую игру включу. Так и жил в своём компьютерном мире. Сам не знаю, как универ в Минске закончил — но закончил же! Такой был интеллектуал, что мои преподаватели мне завидовали — я их на полвека опередил, они только ворд осваивали, а я уже… Да что говорить. Лохи. А потом, бабка, в один прекрасный день — как сейчас помню, выскочил я за пивом на улицу, руки трясутся, неуютно в этом их мире, зловонно всё и бездарно, как будто идиота пустили со сложной программой работать: хочется поскорее обратно, такое ощущение, что сейчас меня прибьют, — и тут осенило мою гениальную голову. Осенило, бабка, понимаешь?»
Горело лицо у Кривичанина, когда он это рассказывал. Так горело, что старая Бенигна к стене отодвинулась. Будто заново он переживал всю свою молодость. А молодость у него, по-видимому, длинная была — засушил себя хлопец, за компьютером день и ночь сидючи. Видать, поэтому жених её таким юным кажется.
«Придумал я, бабка, компьютерную игру и назвал её “Библия”. Принцип прост как дважды два. Сначала у тебя нет ничего — зато ты можешь всё. Можешь создать мир заново. Показал знакомым, те — своим знакомым… И началось. Но я уже был умный. Купили у меня ту игру американцы, полмира в неё играло, а мне денежки пошли. Вот так, бабка. Только была одна проблема. Придумав свою “Библию”, потерял я к компьютерам интерес. Будто умерло что-то внутри. Шёл как-то мимо церкви — всю жизнь ходил и всегда плевать было, что там. А тут почему-то шапку снял, зашёл. И остался — так мне интересно было, такой свет зажёгся в душе. Познакомился с батюшкой, мы всё говорили, говорили, я к нему на дачу ездил, крещение принял, книги стал читать по теме. Счастливым человеком стал, бабка. Не поверишь. Куда-то всё уплыло — и компьютеры, и друзья мои, которых живьём никогда не видел, и порнушка любимая. Светло было на душе и красиво… А потом…»
Осклабился Максим Кривичанин, вздохнул и снова засмеялся.
«А после батюшка мне намекнул, что пора мне с церковью поделиться капиталом. Я сначала не поверил, но он через неделю снова намекает, и снова… елеем разливается. И опять стало у меня на душе темно, бабка. Так темно…»
Темно стало и в комнате, но знала старая Бенигна, что слушать ей ещё и слушать жениха своего. Слушать и не перебивать.
«И понеслось. Бросил я в церковь ходить, думал, чем залечить свою травму. Так больно было, бабка, ты себе не представляешь. Носило меня по концертам, по каким-то собраниям, по демонстрациям. И повсюду книжечки подсовывали да ссылочки сбрасывали: почитай, мол, литературку… Пошёл я к левым, какие-то подписи собирал, но нудно стало: я человек интровертный, мне от людей отдыхать нужно, да и не люблю я человеческую массу, и никогда не любил. О том, что я ещё и человек богатый, я уже никому не рассказывал — научен. И вот решили мы с одним парнем однажды к идейным врагам наведаться. Так я, бабка, стал фашистом. Самым настоящим. Но и там — тоска одна. Физкультура, дисциплина, расовый отбор — с этой не спать, этого мочить, этого слушать. Как в школе. Школа, бабка, обычная белорусская школа — вот где Третий рейх… Вот где идеальное фашистское государство. Средняя школа!»
Максим Кривичанин перевёл дух, проверил, не спит ли бабушка, — и удовлетворённо откашлялся.
«…Правда, был среди фашистов один парень белорусскоязычный. Он мне правду открыл: и об истории нашей настоящей, и о языке нашем, и про грамматику Тарашкевича, и про святых наших мучеников за независимость. Это было, как в церковь ходить, — но зато весь мир по-другому начал выглядеть. Шатаешься по городу и по каким-то условным знакам своих узнаёшь. Посреди толпы. С писателями познакомился, сам стихи начал писать, всю Беларусь объездил, и везде мне казалось, что ещё немного, ещё одно усилие — и она будет такая, о которой в книжках пишут. Такая у меня вера появилась, бабка, что ни с чем не сравнить.
Верил я, что Беларусь должна стать белорусской! Представь себе, бабка! Верил! Смотрел на людей с жалостью и любовью: жизнь положу, а сделаю из вас белорусов. Мне их и правда жалко было: ну как такое возможно, говорил я себе, что народ не хочет на языке родном говорить, под гербом “Погоня” в будущее идти, тесными рядами. Я решил, что это моя миссия — сделать так, чтобы Беларусь жила. Не один, конечно, я за это взялся, а с соратниками, под руководством вождей мудрых, в тени наших исконных символов. Деньги им давал, на их премии, поездки, на борьбу, на штрафы… Они брали. И платили тем, что принимали меня в свой круг — круг посвященных, в элиту меня брали, национального возрождения. Никогда не спрашивали, откуда у меня такие суммы. Как те революционеры, они считали, что для борьбы все средства хороши. Деньги не пахнут. Не то что ты, бабка. Невеста моя…
Молчишь всё. Хорошую я себе бабку нашёл. Только шепчет и слушает, шепчет и слушает. Каждому бы так своё место знать. Обычно наоборот бывает. Чёртовы белорусы…
Понимаешь, мне даже в голову не приходило, моя ты бабка, что, если бы у меня бабла не было, меня бы никто слушать не стал. Был бы я просто невидимым солдатом ихнего майнкампфа. И сгинул бы на той войне. И государство мною бы заинтересовалось…
И тут как-то стою я в обычном гипермаркете и вижу одного из наших духовных наставников. Со всем своим семейством. Я их и раньше видел, такие светлые люди были, настоящие патриоты. Мне, если честно, хотелось его сыном стать, приёмным. Подошёл я к ним, чтобы поздороваться, но, пару шагов не дойдя, слышу: он селёдку покупает. И так уж торгуется, но всё по-москальски, да с еврейскими такими интонациями, а жена его ему из-под руки помогает, и мальчик с девочкой переговариваются, мороженое выбирая — всё чисто по-русски, и всё такое низкое, такое всё человеческое, всё из пуза и из жопы… На меня как небо упало. Начал я тайком копать: как наши учителя духовные живут. Это нетрудно было, по одним же улицам ходили, в одном метро ездили. Я их всех в лицо знал, а они меня нет, хотя у меня на куртке “Погоня” была, на рюкзаке ленточка бело-красно-белая, на майке лозунги наши, латиницей… Такие невнимательные это были дяди, бабка, просто патологически невнимательные, в упор людей не видят, лиц не запоминают, только собой любуются.
Для них это была просто игра… Игра, бабка! Всё то, во что я верил — просто и-гра!
Бросил я это дело, исчез, знаки сорвал, как солдат-дезертир, и дальше решил сам искать. На ощупь. Так и открыл, что Беларусь их — лишь оболочка пустая. Так и понял наконец… А нет, меня ещё в литвины звали. Но это уже совсем что-то было несерьёзное. Литва и Литва, вариации одни на ту же тему… Послушал — и до свидания. Шамбала — вот что светило мне в ту ночь. Месяцем ясным светило. Числобог мне путь показывал, а я под ноги смотрел, хотел под ногами святое отыскать. Слепой был, не видел, не слышал, тыкался лбом в гипсовых идолов, молился, вместо того чтобы с той стороны темноты искать…
И тогда я подумал и купил остров. Недорого».
Он встал и подошёл к окну. Над островом висела полная луна, застывшая и такая живая в своей неподвижности, словно заслушалась она Кривичанина, — и Бенигна подумала, что жених её, пожалуй, и месяц купил бы, если бы мог: вот где было бы для его Кривьи наилучшее место. Купил бы — и забрал туда бабку, вырвав из земли, как куст. Вот там было бы отчаяние, вот там было бы нечего слёзы лить. Сидела бы старая бабка на месяце и на землю смотрела, как сейчас с земли на месяц смотрит: что один, что вторая — оба как яблоко, а как затянут тебя туда, тогда и поймёшь, каков твой истинный размер и где твоя свобода человеческая кончается.
Максим повернулся к бабке и слащаво улыбнулся, широко раскрыв свой некрасивый рот:
«Да, я купил помойку. И что, кто меня осудит?»
Подбежал к бабке, вспрыгнул коленями на кровать:
«Да, я знал. Знал, что это помойка, утилизационная зона, у которой срок давно вышел. Остров, которому в рот мусора натолкали по самую глотку. Поэтому здесь никто не живёт. Поэтому и недорого. И что? Сады цветут, земля родит, море шумит. Чем не рай? Была ничейная помойка, а стал приют для избранных. Для гонимых и презираемых. А что в мире не помойка? Если весь мир пойдёт ко дну, они на месяц залезут!»
Он указал на полную луну.
«Чем-то мне луна тебя напоминает, бабка. Сильно напоминает… Так же молчит и слушает. Старая, как этот мир. И тоже лечит и силу даёт. Полнолуние — это нам знак, что всё своим чередом идет. Что счастье ждёт Кривью, а тех, кто предал, суровая кара. Если месяц меньше делается, значит, силы в земле и людях всё меньше, значит, провинились мы, не стоим его света. А он, смотри, как светит… Значит, пришла пора. Сейчас или никогда. Готовься, бабка, к свадьбе. Была ты мне невестой, а будешь законной женой».
Слышала бабка, как он по коридору бежит — открывая все двери на своём пути, как кричит во все проёмы и все пустые кладовые, всем книжкам кричит и всем стенам, по которым сквозняки холодные ползали. Кричит о том, что женится он на старой бабке, завтра же женится, и никто ему не помешает с ней слиться в одну непобедимую силу.
Надрывался Максим Кривичанин, рвал себе горло, причитал своим глупым молодым голосом — так причитал, будто за каждой дверью там народ сидел да только и ждал, когда эта счастливая весть по дому полетит. Только знала бабка Бенигна, что нет никого в просторных комнатах, за широкими столами, пустой был дом, пустой и враждебный. Только что внучка её Олеся сидела, в угол забившись, да ногти на ногах красила: с малого начав и до большого, на одной ноге пять, да на второй пять, да на третьей, и на пятой, да лаком зелёным, как русалий хвост, да лаком чёрным, как кошачий затылок, да лаком жёлтым, как глаз бешеного зверя в ночи, да лаком синим, как Бенигнины глаза, да лаком белым, как бабушкин страх.
Пошла тогда бабка во двор — и никто её не держал, покатилась она в траву, а из травы на мураву чужую, а с муравы вниз по холму, к морю выкатилась и на берегу остановилась, у самой воды. Не было здесь уже лодок, не лежали они, сонные, ребра выставив. Плавала по воде полная луна — приглашала на себя запрыгнуть, а там с волны на волну, с волны на волну, да под самый горизонт. Закрыла бабка глаза сильно-сильно, сердце своё придержала да на ту луну ступила. Подбросила бабку вода, опрокинула, намочила всю, от слепой головы до немых ног. Попила бабка моря прямо из ведра, напилась, а море ей и дальше говорит: пей, бабка, пей, старая, меня много, так много, что на всех невест мира хватит. Катится бабка по морю, упрямая, от воды солёной пьяная, дно нащупывает, по грудь уже в воду вошла — и всё равно сухая остается. Побыла в воде — а не мокрая нигде. Ударило бабку в глаза море, как невестка неблагодарная, да ещё пощёчину сбоку влепила, потеряла бабка дно — а вот же оно: над головой прыгает, море-Кукарача. Не видно уже остров Кривья, а видно только бабкину смерть. Руки у смерти женские, ловкие, в перчатках…
Вынесла смерть бабку на берег и давай целовать. Целует, целует да на грудь наваливается. Не знала старая Бенигна, что смерть так целоваться любит. Выплюнула бабка море, всё, что выпить успела, и глаза открыла. А смерть сидит перед ней на корточках, в очках круглых, и говорит что-то на своём смертном языке — хоть знала Бенигна все иностранные языки, ничегошеньки она не поняла.
Подхватила её смерть на руки и потащила по холму. Лежала бабка на её гладкой груди, сохла на ветру да в себя приходила. Открылась дверь на стук. Выругался кто-то по-нашему, начал звонить, бабку на сухой и тёплый матрас положили, и вот уже входит в дом её жених, Максим Кривичанин, к бабке бросается, в глаза вглядывается обезумевшие. А смерть скромно в стороне стоит и по сторонам оглядывается с интересом. Да и не смерть это, а девушка какая-то черноволосая, которую раньше Бенигна не видела. Затянутая в блестящий костюм для плавания — мокрый, в такую уж обтяжку, что аж стыдно смотреть. Девушка-рыба.
«Она говорит, что видела, как человек тонет. А теперь её лодку уже не найти. А там камера, телефон…».
«Ясно, что не найти. Кто по такой темноте в открытое море пойдёт. Ладно… Скажи ей, что мы благодарны, и всё такое, — проворчал Максим Кривичанин толстому своему приятелю, а сам на девку смотрит, улыбается. — Что не забудем, не простим… В смысле, она спасла самое дорогое, что у меня есть, невесту мою… Эй! Какую невесту, скажи: мать! Мать! Так и скажи, что мать мою спасла и за это пусть катится куда подальше… Ну, ты понял: пусть переночует, а завтра… Завтра мы её домой отправим. Ты и отправишь».
«Она спрашивает, как это ваша мать в таком возрасте купается в открытом море».
«Скажи, что она из Восточной Европы. Там все такие».
Толстяк перевёл.
«Говорит, что её зовут Кассия».
Жених Бенигнин неохотно подошёл и пожал девушке руку:
«Максим. А бабку… мою мать зовут… М-м-м… Мария».
Девушка улыбалась.
«А ты у неё спроси, что она здесь около острова ночью делала. Зыс из май Айлэнд!» — прокричал Максим Кривичанин, выдавливая из себя улыбку.
«Говорит, что она… как это сказать? Исследовательница, с соседнего острова, плавает по ночам на лодке, надеется встретить чудовище».
«Какое ещё чудовище?»
«Говорит, это отравленный остров и…»
«Отравленный? Это Кривья! Святая земля. Так и скажи. Хотя нет, подожди. Знаем мы этих исследовательниц. Бабку я, само собой, к себе забираю, а ты смотри, если Кася эта будет вынюхивать…»
«Она просится остаться на пару дней, посмотреть остров».
«Вот бля… Гость в первый день золото, а во второй медь, сказали домой — так едь… Скажи, что… Не, ничего не говори. Что ты тут скажешь. Хорошо. Возьму её к себе. Ю ар вэлкам. А ты здесь оставайся, министр безопасности, да в следующий раз чтобы первый знал, кто у наших границ ночью шляется… И чтоб завтра в девять у меня был. Поработаешь… Переводчиком…»
Ничего не оставалось Максиму Кривичанину, как только посадить девушку Кассию, что вышла из воды, в машину, положить ей на колени свою невесту — и увезти этот груз на гору, в свой полный пустых комнат дворец, в котором уже несколько часов как шла подготовка к торжественному обряду: кривицкой свадьбе.
10.
«…Извечная белорусская мечта. Утешение разочарованных, сон тех, чья страна так и не сбылась. Мираж для тех, кто умирает от жажды. Дайте нам кусок земли — и мы сделаем из него Беларусь. Для себя, такую, какой она нам однажды привиделась, — тогда казалось, руку протяни, и получишь. О, ты помнишь то время. Ты стоял среди толпы, и слёзы душили тебя, и обида на этих твоих равнодушных соотечественников резала тебе сердце. Всего одно усилие — и то, о чём мы читали и писали, станет реальным, живым, полнокровным, пустит ростки, сбудется. Это же так просто!
Ну как же вы не понимаете! Беларусь вылупилась из яйца — и, пропищав что-то, взлетела над лесом. Или вот, ещё лучше: Беларусь, которая вышла на берег из морской пены, — рисуйте её, художники, желайте её, идите за ней, возьмите её, берите, берите, берите как идеал, без которого так страшно жить. Беларусь проросла, Беларусь назрела, она созрела, как тропическое лето, — и теперь все будут танцевать под её пальмами. Дайте нам кусок земли, вы, быдло! Вам же лучше будет. Мы перестанем мозолить вам глаза своими одержимыми лицами, и язык наш не будет драть вам уши, вы избавитесь наконец-то от наших книг, от наших претензий, наших жалоб, наших ритуалов, в которых вы так ничего и не поняли. Вам же будет легче. Мы уйдём в наш рай — а вы живите в своём. Дайте нам Полесье, мы будем жить на болотах. Что, жалко? Тогда хотя бы одну область, самую заброшенную, никому не нужную. Могилёвскую! И это для нас слишком жирно? Тогда хотя бы один район, из беднейших, самый хилый, самый убогий. И района не дадите? Ну хотя бы город. Местечко! Деревушку! Но чтобы там всё было так, как мы придумали. По нашим законам. Ну хотя бы пару гектаров земли. Разве это сепаратизм: согнать всех своих на те гектары и отделиться от вас оградой? Да ваша диктатура даже не заметит, что она что-то потеряла. А у нас будет своя Беларусь, на двух гектарах, но Беларусь настоящая, наша, из снов и песен, из книжек и проектов. Что, и это нельзя?
Тогда зажритесь своей землёй! Мы эмигрируем. Мы возьмём с собой только то, что нам по праву принадлежит. Тогда и посмотрим, что у вас останется. Только пустырь.
И тут вдруг находится кто-то, кто покупает остров. И объявляет на весь мир, что устроит на том острове не что-то там, не курорт, не дачу, не музей — а самую что ни на есть настоящую Беларусь. Ту, где всё будет так, как мы мечтали.
Да, это было что-то. Шок. Счастье. Восторг.
И тут тебе приходит на мейл приглашение. Ехать на остров и писать. Это же просто исторический шанс для любого писателя. И для самой Беларуси, и для того, кто напишет её хронику. Я тогда с женой развелся, бросил всё, детей, работу в редакции — всё равно там копейки платили. И согласился…
И вот мы встретились с Кривичанином. В одном кафе, в Верхнем городе…»
За окном послышался шум двигателя.
«Впрочем, не важно. Остальное вы уже знаете, и я думаю, вам следует поторопиться. Иначе будет поздно. Понимаете, он всех нас убьёт», — поспешно проговорил Хронист, выключил диктофон и оглянулся на бабку. Но та спала. Он спрятал диктофон в карман и снова взялся за книгу. Это была старая энциклопедия крестовых походов — со смешными, наивными, лишёнными перспективы рисунками, на которых людей рубили на части, жарили, били, топили, сжигали. Маленьких людей с большими головами, людей, которые не помещались в еле вдавленные в пространство рисунков кривые городские стены.
Топот в коридоре, весёлый голос хозяина. Такой голос, который бывает, когда им пытаются заглушить далёкий бой барабанов, — или деловитый стук разделочного ножа. Преувеличенно бодрый, фальшивый, актёрский голос.
Неужели она ничего не чувствует, эта бабка?
Дверь открылась, Хронист отложил книгу, погладил седую бороду.
«Ну как, не упустил бабку? — громко произнёс Кривичанин, глядя на Хрониста так нежно и пристально, что тому показалось, хозяин догадался о его предательстве. — Спит…»
«Она всё время спала», — сказал Хронист, стараясь выглядеть спокойным.
За спиной у Кривичанина стояла эта странная исследовательница, которая упала им вчера на голову. Кассия. Да ещё Толстяк — единственный на острове, кто умел по-английски.
«Скажи ей, что матери уже лучше, — отрывисто бросил Крывичанин. — Скажи, что сейчас мы перекусим и я отвезу её на моторке… И улыбайся, улыбайся ей, балда. Что ты кривишься?»
«Ты же сказал, что…»
«Делай, что я сказал».
Толстый перевёл. Кассия пожала плечами. Было видно, что ей не хотелось уезжать. Остров её заинтересовал, и она уже твёрдо решила, что вернётся сюда снова. Здесь хватало тайн. Тайны начались с самого утра. Тайны, странные поступки людей — как в плохой пьесе. Тайны…
Взять хотя бы этот дом. Поведение хозяина, этого холерического, такого неестественно проворного и разговорчивого Макса, казалось ей всё более подозрительным. С утра они объехали весь остров, и что-то подсказывало Кассии, что здесь не всё в порядке. Эти пустые дома, брошенные наспех вещи — и следы чьей-то злой радости, которые она, несмотря на то что всё происходило в спешке, успела заметить. Какие следы? Словно кто-то приходил в оставленные людьми жилища и истерично крушил всё, что попадётся под руку. Вырванные из рам фото, битое стекло, которое хрустело под ногами так ужасно, — как будто голоса людей, что жили здесь раньше, умоляли её не уходить, они так хотели рассказать ей свои истории… Но даже если допустить, что всё здесь, на острове, честно, законно и эта небольшая колония процветает, — Кассия не могла понять: как же они здесь живут? После всего, что произошло с этим маленьким островом? Как они могут здесь жить?
И главное: где они все? Жители, которые когда-то не побоялись здесь поселиться?..
Она пыталась задавать вопросы. Она пыталась рассказать Кривичанину о том, что здесь было раньше. Она выбирала самые деликатные формулировки и изо всех слов старалась не ранить чувств этих странных иностранцев. Она смотрела ему в лицо, прямо под кудряшки, под которыми он скрывал свои глумливые глаза. Он не понимал её, с недоумением хмурил лоб или оглушительно, с каким-то отчаянием хохотал, словно она удачно пошутила. Никто не понимал её. Сначала она посчитала, что это вина толстого переводчика, который смотрел на Кривичанина с собачьей преданностью и каким-то необычным, животным страхом. Его английский и правда был так себе, но она ведь не говорила ничего сложного. В конце концов, когда они поднимались по холму, она спросила в лоб:
«Вы знаете, что здесь нельзя жить? Что этот остров означает не что иное, как медленную смерть?»
Максим Кривичанин расхохотался и похлопал её по плечу.
«Он говорит, что вы слишком много читаете жёлтой прессы».
«Жёлтой прессы?»
«Yes, the yellow press», — равнодушно сказал толстяк.
Сейчас по дому хозяина, виляя бёдрами, ходила и стучала тарелками полуголая девушка, которая смотрела на Кассию с таким презрением, что Кассия чувствовала её почти физически: у неё разболелась голова от такой необъяснимой неприязни, и расхотелось есть. Хотя они полдня бродили по острову и там, у моря, она намекнула толстяку, что была бы не против съесть горячего супа. Нет, она ничего не понимала.
Она прошлась по коридору, думая, не попросить ли таблетку от головной боли. Кривичанин скрылся в своей комнате, толстяк закурил, развалясь на диване в гостиной.
Сегодня она спросила у толстяка насчёт интернета. Ей нужно было сообщить своим — Костасу, Жузи, Сандре, что с ней. «Интернет не работает, — развёл руками толстяк. — Нам очень жаль». Затем она обратилась к самому Кривичанину. «Не работает. Отключён за неуплату», — издевательски перевёл его ответ толстяк.
«А телефон? У вас же должен быть телефон?»
«Нет. У нас нет нужды в телефоне. Мы же как религиозная секта. И если бы вы встали на наше место, если бы пожили здесь немного, то поняли бы, что так люди чувствуют себя гораздо более счастливыми и свободными. Это ужасная зависимость… Интернет, айфоны, вся эта цифровая диктатура…»
Тогда она сделала вид, что поверила. А сейчас, в коридоре, она каким-то внутренним чувством осознала вдруг, что связь с континентом здесь на самом деле есть. Всё было насыщено этой связью. Всё вибрировало и передавало какие-то сигналы. Кассия потихоньку разглядывала двери: одни, вторые, третьи… И с другой стороны. И ещё одни в глубине коридора. Что за ними? И что на втором этаже? Почему они все так беззастенчиво врут? И зачем строить такой большой дом, если…
Из туалета вышел тот седой пожилой мужчина, которого Кривичанин оставил смотреть за своей матерью, пока устраивал ей экскурсию. Седой загорелый мужчина в белом. Он улыбнулся ей и прошёл рядом, спеша, потирая руки, — у него явно не было желания с ней разговаривать. Она прислонилась к стене, пропуская его. Он поблагодарил кивком головы и прошёл мимо, растерянный, сутулый, морщинистый мужчина лет шестидесяти, с типично славянским лицом, и всё было бы ничего, если бы не…
Проходя мимо неё, он сунул что-то Кассии в руку. Она невольно взяла, а он, как будто ничего не произошло, пошёл дальше, туда, где из окна открывался вид на море, которым здесь так гордились, туда, где гулял сигаретный дым, загоняемый ветром во все щели этого слишком большого и неуютного дома.
Она разжала пальцы. Это была флэшка. Совсем маленькая чёрная флэшка.
Он оглянулся и подмигнул — он не умел мигать или делал это слишком редко в своей жизни. Такой пожилой человек — и так неубедительно и нелепо подмигивает. Как будто сейчас чихнёт.
Но она поняла — и он видел, что она его поняла. Она поняла и сунула флэшку в карман своих шорт, которые ей выдала вчера неприветливая грудастая девушка.
Там, в этом кармане, лежало ещё что-то. А именно: неряшливо сложенный листок бумаги, на котором были неровные каракули, выведенные то ли детской, то ли старческой, то ли раненой рукой.
Он тоже попал к ней очень странным образом.
Сегодня на рассвете в комнату, где спала Кассия, вошла старая женщина.
Та самая. Мать хозяина, которую Кассия спасла в море, недалеко от берега. Кассия потеряла лодку, зато благодаря ей жил человек.
Это наполняло Кассию гордостью. Ей ещё никогда не приходилось спасать людей.
Женщина была так стара, что Кассия даже примерно не могла бы определить её возраст.
Может, девяносто.
А может, сто десять.
А может, она была бессмертная.
В последнее верилось. Только бессмертная женщина в таком возрасте может войти ночью в неспокойное море.
Если бы Кассия умела читать эти кривые, изогнутые, ломаные, как ветром вырванные из земли буквы, она прочла бы о сестре старой женщины, которая живёт далеко отсюда, в синем домике возле старой груши. О том, что со здоровьем всё дай бог, только ноги болят. О том, что теперь у неё есть два сынка, Антон и Миша. И внученька Олеся. И о том, что её здесь
дзержаць,
и не могла бы дорогая сестрица забрать её отсюда, потому что её, Бенигну, здесь
дзержаць,
и если денег доехать у сестрицы нет, так можно поехать в её хатку на берегу озера, выдернуть одну половицу и взять оттуда два миллиона на билеты, но приехать нужно как можно быстрее, потому что её, старую бя, старую ба, старую бе, старую бабку, здесь
дзержаць.
Однако Кассия не могла этого прочесть. Зато могла передать кому-нибудь, кто обязательно расшифровал бы эти бабкины каракули, белорусские руны, кривицкие иероглифы.
Старуха, отдавшая Кассии эту бумажку в предрассветных сумерках, посмотрела ей внимательно в глаза, и взгляд у неё был добрый-добрый.
Губы старухи зашевелились. Кассия заглянула в эти синие глаза, проследила, как зачарованная, за движениями этих сухих губ.
«Это мне?» — спросила она, осторожно держа бумажку двумя пальцами.
И тогда старуха высунула свой страшный язык и лизнула им воздух.
«Это мне? — шепнула Кассия. — Но…»
Старая лизнула воздух ещё раз. И тогда Кассия поняла.
«Я должна быть почтальоном? Отправить это? Но адрес? Где адрес?»
По глазам старухи она видела, что всё поняла правильно. Счастливо улыбнувшись, старая женщина вышла из комнаты.
И вот теперь у Кассии в кармане было два послания с острова, которые ей нужно было передать. Два тайных послания. О которых ей ни в коем случае нельзя было рассказывать. Ни хозяину, ни его переводчику, ни этой неприязненной девушке. Никому.
Её позвали обедать. Жидкий суп без мяса, овощи и консервированный тунец. Сухари и сладкое густое молоко из синих банок, по которым бегала незнакомая Кассии кириллица. За столом уселись все: на диване старуха, рядом девушка, которая готовила эту нехитрую еду, с другой стороны Кассия. Напротив сидели толстяк и седой мужчина в белом, сосредоточенно и жадно глотая суп. Сам Кривичанин сидел отдельно, держа тарелку на коленях, и ел мало — зато постоянно болтал. Ему очень хотелось, чтобы она поскорее исчезла отсюда.
«Гость не гость, а без обеда не брось… Ну что, пора! — закричал он, делая вид, что опечален прощанием. — Я сказал, чтобы подготовили моторку. Надо ехать, что-то не нравится мне это море! Лучше ноги в руки и вперёд, пока светло».
Переводчик так и сказал: ноги в руки. Кассия улыбнулась, обвела глазами стол и сидящих за ним странных людей. С некоторыми из них у неё была теперь общая тайна. Ещё и поэтому она чувствовала гордость. У неё давно не было тайн. С того самого времени, когда она маленькой девочкой выкурила отцовскую сигару. Очень дорогую. Как же её тогда тошнило…
Кривичанин открыл перед ней дверь машины. Она бросила под ноги свой плавательный костюм, маску, ласты. Свою рыбью кожу. Вид у Кривичанина был озабоченный. Не хочет отпускать рыбу обратно в море. Смотрит на небо — так, будто оно и правда темнеет, обещая бурю.
Когда они тронулись с места и понеслись вниз по каменистой дороге, она оглянулась.
Дом смотрел на неё так, будто она в нём что-то забыла.
«Мне нужно переодеться», — сказала Кассия, но он не понял. Она знаками показала, что ей нужно снять эти шорты, майку, легкий свитер, Олесины вещи, которые пришлись ей почти впору, и снова влезть в свою морскую экипировку. Он махнул рукой в направлении берега: там.
Моторка была готова. Он отвернулся, набрал в руку камешков — она сбросила чужую одежду и натянула костюм. Флэшка и бумажка были надёжно скрыты под чёрной материей, в специальном мешочке на груди.
«Эй, — позвала она. — Можем отчаливать».
Срезая волнам их великолепные серые хвосты, моторка, словно остро заточенный электрический нож, провела через бухту стремительную, только небу видимую линию и вышла в открытое море.
11.
Ах ты Кассия, Кассия, думала бабка, вспоминая русалочью кожу своей спасительницы. Недолго побыла девка гостьей на проклятом острове — бабка и оглянуться не успела, а та уже поехала. Повёз её Максим Кривичанин по морю, назад, в привычный ей мир. Вытащила она её, старую, с того света — а зачем?
Тоска охватила Бенигну. Хорошая, кажется, девка эта Кася, но андертальский лес — он такой, кого хочешь с дороги собьёт. Дело ясное, что дело тёмное. Передаст ли Кася её письмо? Или она давно уже жениху бабкиному записку отдала: посмотри, что матка твоя пишет. Честная же девка, людей обманывать не любит. По глазам видно. Отдала она, видно, жениху письмо, а в письме написано, что здесь старую бабку против её воли дзержаць. А Максим прочитал, может, да обезумел от злобы: что смотрит его бабка в лес, будто волк, а с ним оставаться не хочет.
Не было жениха в доме всю ночь, а когда появился, то на глаза бабке долго не показывался. Подумала была бабка, что застеснялся хлопец, — но какое там, разве знал этот Кривичанин, что такое стыд? Одно хорошо: пришлось жениху бабкиному, Максиму Кривичанину, отложить на время их дьявольскую свадьбу. Ох, видно, очень уж рассердился он на старуху — и за то, что та убиться решила, в море утопиться, и за письмо. Прибавила забот да печали ему иностранка эта. Катя, или Кася, кто поймёт, как ту девку на самом деле звали.
Но дело было вовсе не в бабке. Появилось у Максима её, у Кривичанина, важное дело, с которым он решил покончить как можно быстрее.
Не знала об этом бабка, лежала в отчаянии своём ледяном да в снежном сне, ждала, когда уже её бог к себе заберёт. Устала она думать — и жить устала. Тихо было в доме, тишина стояла на всём острове, только море шумело себе, никого не слушая, песню свою неумолчную пело. Никто не заходил к бабке в течение целого дня, только внучка Олеся забежала покормить. А утром вдруг заходят они: жених и толстяк этот, оба при параде, да говорят бабке собираться.
Затрепетало Бенигнино сердце — неужто покинет она наконец остров? Не ожидала бабка такого поворота. Собралась послушно и из дома вышла. Посадил её Кривичанин в знакомую коляску и покатил с горы. А когда они до поля широкого докатились, ждал их там тот самый белый самолёт. Только теперь бабка поняла, какой он маленький. Затащили её в машину воздушную и ремнём пристегнули.
«Налетаешься ты, бабка, по миру», — усмехнулся Максим с каким-то укором.
Налетаешься… Да разве ж она просилась?
Разогнался белый аэроплан и бросился прямо в предрассветную мглу. Вместе с бабкой Бенигной, с женихом её и с толстяком, таким мрачным, словно у него умер кто. А пилотом тот самый бородач, который бабку сюда доставил. Всё помнила бабка, даром что старая была, как истлевший пень. Может, и легче ей было бы, если бы забыла она, что с ней произошло. Да только упорствовала её память, как маленький ребёнок упиралась, не хотела спать ложиться.
Пролетели они совсем близко от солнца, такого уж прекрасного, что просто глаз не отвести, а когда начали спускаться, увидела бабка внизу большой город, наполовину из рыжего кирпича, а наполовину из белого камня. Вот уже и машины, и людей, и корабли на реке видно. Может, и забрал бы кто из этих людей бабку от злого жениха, да что тут поделаешь: они там, на земле, о ней и не догадываются. Неинтересно им, что там за самолёт в небе летит да откуда, а что за бабка в нём сидит, и подавно никого не волнует. Видят их глаза немецкие в небе объект летающий, да летит бабка высоко, она всех видит, а её никто…
Хотела старая Бенигна поверить, что это Минск под её ногами клубки свои разматывает, но хоть и старая была, да не такая глупая, чтоб чужой город с кораблями за Минск принять. Бросился их самолёт на землю, как ястреб, добычу в траве увидев, вывели бабку из самолёта на асфальтовое поле. Неужели в этом городе они с женихом и слугами его теперь жить будут?
Да нет, не жить они сюда прилетели. А дело делать. Так её жених сказал, Максим Кривичанин.
Приехало пузатое жёлтое такси, коляску бабушкину в багажник засунули, и повезла их та машина в город — сначала по гладкому, как лысая голова, шоссе: по такому самолёты в небо взлетают, а по этому машины снуют. Потом по мосту. Добрались до города, понеслись между церквей высоких, памятников зелёных, отсыревших, будто водяные, которых из болота вытащили, начали пробираться промежду магазинов блестящих, бесстыдных, промежду автобусов и железнодорожных станций. Люди здесь, не то что в Минске, на светофоры не смотрят, так через дорогу все и прут, и все живы, никого машины не давят. Чернявый водитель-таксист всё поговорить хотел, оборачивался, болтал, а сам на газ жмёт, на дорогу не смотрит, а движение в городе такое, что не раз казалось Бенигне: собьют они сейчас какую-нибудь бабку или ребёночка, вот сейчас прямо и собьют. Максим Кривичанин молчал, только в окно смотрел, о делах своих думал. А толстый поневоле таксисту отвечал — словами короткими, не нашими, да так отвечал, будто плевался.
Доехали до гостиницы, Максим таксисту денег сунул — и вот уже сидит Бенигна в номере. Номер тесный: «Места вдоволь есть — старой бабке сесть», как сказал жених её, в комнату зайдя.
Сидит она сама не своя, в груди холод, голова болит. Перед ней тарелка с обедом, а Максим Кривичанин ноги на стол положил и всё в компьютер свой всматривается. Бегают по женихову лицу быстрые тени да молодые злые складки, да солнечные зайцы. Стоит в большом чужом городе весна во всей красе — такая же чужая, непонятная, пахучая, шумная, будто бабка, морем на берег выброшенная.
«Ну что, бабка, как тебе Гамбург? — спрашивает жених, не отрываясь от экрана. — Страшный? Не знала, что такие города бывают? Каждое сельцо — своё норовцо… Ты ешь, бабка, ешь, тебе силы вечером понадобятся…»
И снова в свои дела погрузился. Зачем ей те силы? Разве чтобы умереть сила была нужна, а теперь на что? И что он там ещё придумал, сумасшедший этот? Одно слово — Кривичанин. Всё у него криво да всё людям во вред… Мало человеку лишнего, так он ещё хочет, килограммами в себя забрасывает и всё равно никак не насытится.
Вечером выкатили бабку на улицу и двинулись все трое по тротуару в самую человеческую гущу. Люди расступаются да все гергечут, а людей в городе как грибов в лесу, да все разные: есть белые и бородатые, но и чёрных, как черти, хватает, и черти эти чернее бабки, ой чернее… А с ними девки-лахудры, парни с петушками на головах, мужики в платьях, с носами проколотыми… Чего тут только нет… И басурманы повсюду ходят — смуглые и наглые, и жёнки их в платках, такие уж скромницы, а глянешь какой в глаза: ну будто всё понимают, что бабка думает. Жалеют они бабку, проход ей дают, улыбаются, будто она с ними целый век знакома.
Прикатили к какому-то дому, поднялись на лифте куда-то высоко, Максим Кривичанин уверенно рванулся к стеклянным дверям — и вот они уже в зале, большом, прибранном, стулья рядами стоят, люди сидят, по-иностранному шпрехают. Посмотрели раз на бабку и забыли. Занятые все, чистые, лбы широкие, с шишками — такие уж умные все и интеллигентные. Культурный народ собрался — и бабка вместе с ними чего-то ждёт, да не одна, а с женихом своим да приятелем жениха. Не бабка, а мадам. У стены стол и за ним три кресла, а на столе вода стоит в бутылке. Захотела бабка попить, но как ты у иностранцев этих спросишь, можно ли. Пришлось терпеть. А тут уже все по местам расселись — ну и бабка со своими с краю тоже сидит, наблюдает, что вокруг делается.
А делалось вот что. Зашла в зал женщина, не девушка уже, но и не старая, может сорок ей было, а может и меньше. Села за стол, улыбнулась. И такая уж деловая, слов нет: сама в брюках, майка белая из-под пиджака светит, и стрижка короткая, как у пацана-сорванца. Губы накрашенные, на ушах какие-то чёртики золотые висят, а глаза такие уж умные, что прости господи, — и не боится ж эта баба мужиков уму-разуму учить. С боков к ней иностранцы подсели, немцы или кто там ещё, и давай её обхаживать молча, один ей воды наливает, другой что-то на ухо шепчет, она слушает, прижмурившись, в зал смотрит. Микрофон покашлял, все утихли, бабка посмотрела на жениха своего и на толстяка тоже взгляд быстрый кинула. Толстяк всё оглядывался испуганно, а Максим Кривичанин глазами в девку впился — и такая была злоба в его глазах, такая ненависть, что бабка подумала, сейчас женщина за столом заметит, как Максим на неё смотрит, и закричит. Кровью налились красивые глаза Кривичанина, кулаки сжались, а подбородок всё улыбается, хитро, зловеще.
«Meine Damen und Herren…» — неожиданно сказал какой-то немец. Вздрогнула старая Бенигна, но никто на неё внимания не обратил, все к столу повернулись.
А женщина та в пиджаке ногу за ногу закинула, туфельками блеснула, губы облизала. Не боится! Даже на дамэн унд геррэн это гергучее — бровью не повела. Посмотри ты в зал, дура, разве ж не видишь, как Кривичанин на тебя смотрит? Кричи и спасайся, пока немец тот разглагольствует. Но нет, не стала женщина за столом криком кричать, не заметила она ни жениха, ни бабушку, а отпила воды из стакана и голосом своим деловым начала рассказывать. Рассказывает и рассказывает, и всё про Беларусь свою, и так уж убивается, так переживает, а голос приятный, хороший, словно она сказку детям рассказывает. Иностранцы, которые в зале переполненном сидят, её во все уши слушают, а она, лукавая, так на людей смотрит, будто никого из них не видит. Удивилась бабка, как это так научиться можно: чтобы одновременно на всех смотреть и никого не видеть.
Поговорит та деловая пять минут, потом замолкает — а переводчик переводит, да с уважением на деловитую оглядывается: правильно, мол? Молодец я? А она на переводчика ноль внимания. Подождала — и дальше говорит: как по писаному.
Важная, пожалуй, гостья к немцам из Беларуси приехала, если её так все слушают.
Попробовала и бабка прислушаться и понять, о чём речь. Но так уж по-городскому и по-деловому женщина говорила, что не могла старая Бенигна за её слова зацепиться и узнать, почему ей такой почёт: и старые, и молодые в неё глазами впились, и жених её уши наставил, словно перед начальником. Говорит она, говорит — а половина слов как будто нерусские. Долго женщина за столом говорила, а переводчик переводил — так уж, бедный, выкладывался, аж вспотел. Это же надо так научиться, чтобы язык наш понимать! Чего только те немцы не придумают… Нечего делать бедолагам. Где такое ещё в мире услышишь, чтобы иностранцы по-нашему, по-простому могли.
Где-где, конечно же в телевизоре, задумалась старая Бенигна. Вот, скажем, Ваня со своей Машей. Наши они или нет? С одной стороны, московские они. Далеко живут, что им до бабки старой. А с другой, какие же они не наши. Когда бабка в Минске жила и сериал тот смотрела, так они ей как родные стали. Она их сердцем слышала и понимала. Каждое словечко на душу ложилось. А вот были бы на месте тех Вани и Маши немцы или турки? Всё равно любовь была бы настоящая. И злоба, и ревность. Значит, размышляла старая, можно всё же с людьми так говорить, чтобы в переводчике нужды не было. Язык — это не главное…
А что главное?
Для женщины за столом, видно, главной Беларусь была. Да ещё демократия какая-то. Пожила бы ты подольше, женщинка ты моя дорогая. Может, по-другому бы заговорила. Может, сказала бы немцам и другим иностранцам, что главное — о лишнем много не думать и боль в мире не умножать. Слушала бабка, на женщину за столом смотрела и всё яснее и яснее видела: сидела там, на небольшом возвышении, в пиджаке мужском и золотых серьгах, женщина одинокая-одинокая, да без детишек, да без мужа, и одна у неё страсть была и одно облегчение: работа. Поэтому её все эти мужики серьёзные и боялись, слушали, как собачки, да фотографировали.
Сейчас наговорится она всласть, нафотографируется, и для телевизора её снимут, и скажут, какая она умная — мы и не знали, что у вас на востоке такие умные бабы водятся…
И тут встретились вдруг Бенигнины глаза с глазами Максима Кривичанина — а тот будто бы слышал всё, что она думала. И зазвучал в голове у бабки его насмешливый и сердитый голос:
«Ага, умная… а потом пойдёт эта твоя Ольга в гостиницу, в свою комнатку тесную, разденется, на кровать широкую, холодную ляжет одна, книжку умную почитает, тело своё белое поласкает, а дальше будет сон, да самолёт обратно в Минск, да квартира пустая, богатая, всё для себя, а всё равно пусто, страшно, одиноко, потому что никто на неё с любовью не посмотрит, все её уважают, все боятся, но никто не любит, никто. И снова начнётся работа, и Беларусь ту, видишь ли, защищать надо, и за границу летать, и книжки умные читать, и перед кучей людей слово держать, на всех сразу глядя и ни на кого. Но придёт однажды утро, когда сядет та деловая в машину и поедет в дальний лес, где, говорят, бабка одна живет, шептуха, которая людей лечит. Выйдет та деловая из машины, подойдёт к хате старой да позовёт тихо, протяжно, чуть ли не плача:
“Бабушка! Помогите!”
Опомнилась наконец-то. А поздно. Хата пустая. Нету в ней давно бабушки. Умерла. Только андертальский лес шумит, песни поёт, размахивает руками… Так же, бабка? Кто прав: она или мы с тобой?»
Задумалась Бенигна. У бабки жизнь долгая, а у андертальского леса длиннее. Бабке на край жизни ступить — что в сени выйти, а чтоб до края андертальского леса долететь — через два моря перемахнуть надо…
Взвыл микрофон и снова закашлял, закончила женщина говорить — встрепенулась бабка, от мыслей своих тяжёлых отходя понемножку. Опять она в большом зале, рядом жених её Максим Кривичанин, сбоку толстяк ноги расставил, а мероприятие всё не заканчивается. Теперь уже люди в зале начали у женщины спрашивать, как им жить и что думать, а она им нагло так всё рассказывает, смеётся, шутит, и они в ответ смеются, и всячески показывают, как они эту женщину уважают и любят. И Максим Кривичанин смеётся, будто бы вместе со всеми, а сам такой уж бешеный — разорвёт его сейчас. Страшно бабке стало: за себя, за людей, за женщину ту умную. Но как-то оно всё дальше-то шло и до конца должно было докатиться.
Зато бабка поняла, как ту женщину зовут. Фрау Ольга. Так к ней обращались: фрау Ольга и фрау Ольга, и столько уж сладости в голосе, словно та фрау Ольга им вареников налепила.
Испугалась бабка в какой-то момент, что они здесь до утра сидеть будут и беседы свои с фрау Ольгой вести, ан нет — кончилась та встреча, все в ладоши хлопать начали, как баптисты во время молитвы, такие уж довольные, будто им больные зубы вырвали. Поднялись, зашумели, все друг с другом заговорили. А Максим Кривичанин вскочил, коляску в руки — и к столу, где фрау Ольга разговаривала с кем-то, бросился. Остановился возле неё, улыбнулся терпеливо, толстяк за спиной у бабки стал. Кривичанин ещё фрау Ольге моргнул — мол, ничего, ничего, я подожду. Она договорила и к Кривичанину повернулась, серьгами блеснув и белой майкой своей, и с выражением ему в глаза посмотрела:
«Простите, вы хотели о чём-то спросить?»
«Да! — улыбнулся во весь рот Максим Кривичанин. — Хотел сказать вам спасибо за ваше смелое выступление, госпожа Ольга. Мы так рады, что здесь, в Германии, ваш голос услышан, они же ничего не хотят знать о наших проблемах… Но после таких встреч, как сегодня, что-то понемногу меняется, мы, эмигранты, это чувствуем. Спасибо!»
«Спасибо», — кивнул толстяк, оглядываясь.
«Это наш долг, — вздохнула фрау Ольга, которая, как выяснилось, вовсе и не фрау была, а нормальная, наша женщина: ах ты, бабка глупенькая. — Чтобы немцы нас понимали, нужно с ними говорить. Честно говорить, без обиняков. Говорить и не бояться, что на нас будут смотреть только как на жертв. Вы давно здесь живёте?»
«Уже год, — сказал Максим Кривичанин, горько сложив губы. — Спасибо! Можно пожать вам руку?»
«Конечно», — смутилась Ольга и протянула Максиму ладонь. Он взял её в свои пальцы и сжал:
«Спасибо и за то, что занимаетесь этим делом…»
«Каким?»
«Ну, про которое вы любите писать… Я об Острове. Думаете, он и правда существует? Мне, например, кажется, это всё журналистские выдумки. Да если и правда такое возможно: кто-то из наших купил остров и основал там колонию, то какая разница? Он же честно деньги заработал. Живёт человек себе там, рыбу ловит, никого не трогает… Или вы думаете, белорусскому обществу и Европе стоит бояться таких инициатив? Как непрозрачных и закрытых? Поймите, я против изоляции, я за то, чтобы мы были сплочённым гражданским обществом, но я вижу большой риск в таких материалах. Об Острове много пишут неправды. А люди доверчивы. Так легко поддаться манипуляциям и принять слухи за факты…»
И Максим Кривичанин огорчённо пожал плечами. Коляска в его руках громко скрипнула.
«Я верю, что Остров существует…» — сказала Ольга.
«Вот как».
«И не только как виртуальный проект, как нас хотят убедить. Вот только — где точно и как туда добраться… У меня такое впечатление, что там всё не так просто, — терпеливо сказала Ольга и взглянула на экран своего мобильного. — Да, у меня мало фактов. Но есть определённые сигналы, которые невозможно игнорировать. Мне кажется, там, на Острове, происходит что-то странное. Никто не хочет этим заниматься. Всем кажется, что Остров — чьё-то невинное развлечение. Причём чисто виртуальное. А я всё больше убеждаюсь, что он существует на самом деле и кто-то очень не хочет, чтобы о нём узнали… Исчезают люди… Это не шутка, согласитесь. И все следы ведут на Остров».
«Конечно! Пожалуйста, не бросайте эту тему! — горячо проговорил Максим Кривичанин, схватив её за руку. — Я подписан на вас в фейсбуке, я читаю каждую вашу колонку. Мы имеем право знать правду. Кстати, познакомьтесь. Это мой друг Артём Криштапович…»
Толстяк ухмыльнулся и неуклюже пожал тонкую Ольгину руку.
«…А это моя старенькая мать, Зинаида Семёновна Жилецкая, — погладил Максим Кривичанин бабку по голове и пододвинул её ближе к Ольге. — Она так хотела пожать вам руку, вы ей так понравились… Артём, сфотографируйте нас. Можно, она пожмёт вам руку? Совсем слабая мамочка моя…»
Кривичанин приподнял поникшую руку Бенигны и подал Ольге — как мёртвую птицу. Бабка и пикнуть не успела. А он ей на ухо шепнул: «Ну что, жги её, бабка, хорошенько жги».
«Конечно, — Ольга наклонилась к старой Бенигне, улыбнулась, от неё шел запах вкусных духов и чистой женской кожи, такой, за которой ежедневно ухаживают, чистят, лелеют, не дают стареть. — Рада познакомиться, госпожа Зинаида…»
Она взяла сухую старческую руку в свою…
И вот тут-то это и произошло. А что произошло, Бенигна и сама не поняла.
Только оказалась она вдруг посреди неандертальского леса.
Гудит лес — встревожен он чем-то, костры до самого неба поднимаются, кричат её знакомые, люди странные, полуголые, вокруг огня прыгают, как пьяные, молнии полыхают, сухие ветки ищут глаза, чтобы их вырвать, а тропинки, по которым она раньше ходила, приподнялись, словно плугом кто по ним прошёлся, камнями подземными осклабились, грязь и лава клокочут, страшно ступить.
Оглянулась Бенигна — тот ли это лес?
Тот.
На руки свои посмотрела — а рук у неё много, и в каждой лишнее: откуда столько взялось? Ужаснулась бабка, а вокруг водовороты огненные, и зелёные звери бегают, огромные, злые, деревья одним махом перепрыгивают, по земле трещины идут. У тебя есть лишнее — отнеси, шепчет себе Бенигна, но, куда нести, не знает. Сто тропинок перед ней, и все к ногам тянутся, жаром курятся, уже и за плечи кусают — так разъярился неандертальский лес. Назад идти нельзя — топает Бенигна на лес, дует из всех своих старческих сил да жалостливо так уговаривает: я же лишнее принесла, дайте пройти старухе, а если очередь, так я и подождать могу. Да только нет ей ответа — а делать что-то надо. Бросилась бабка на одну прогалину — не та, бросилась на другую — и здесь путь ложный. Пока все перебрала, сама будто растаяла от жара адского, нечеловеческого, но вон ещё тропинка одна. Побежала на неё многорукая бабка, как паук, — но кто-то перед ней вырос на дороге, будто из-под земли. Кто такой? Остановилась бабка — и дух у неё заняло. Стоит перед ней Максим её Кривичанин и смеётся. «Поворачивай, бабка, назад, сегодня у тебя другой маршрут, сегодня ты лишнее обратно в андертальский лес понесёшь, для разнообразия!»
Так говорят Максимовы глаза, от блеска огненного ещё более красивые, и руки его так говорят: набрала ты, бабка, лишнего, неси обратно, отдай его, кому скажу. А кому же отдать? А одному человеку, бабе одной, что за руку тебя держит, онемелая, неподвижная, без чувств — а как же красиво говорила, а как же долго, а как же её слушали! Нельзя это, отвечает бабка, нельзя лишнее в андертальский лес возвращать, если унесла, то на пень положить должна, где пиджак постелен, отпусти меня, Максим Кривичанин, к тому пню, время идёт, минуты в дверь колотят, жизнь через сито сыплется, смерть очки надевает, пиджак пустой на корню рукава складывает, лишнее руки печёт, ой, печёт! «Назад», — говорит ей жених да ещё злораднее смеётся. Неси, бабка, лишнее обратно в мир, я сам тебе скажу, у кого забирать, а кому давать!
Думала бабка мимо проскочить и до пня заветного доползти, да где там. Вышло время, рухнули двери, вот и сито пустое, и смерть очки надела, да увидела всё, а на руках бабкиных ожоги-волдыри выросли. Споткнулась она и полетела назад в андертальский мир, вместе со всем лишним, что на ней висело. И вот уже снова у неё две руки, сухие и тощие, как те ветки, и в одной руке она руку Ольги держит: тяжёлое женское тело, грузное, падает Ольга бабке под ноги, прямо под колёса, задираются чёрный пиджак и рубашечка белая, качаются на ушах золотые серьги и замолкают.
«Что с вами?» — удивляется Максим Кривичанин: теперь уже он герой вечера, теперь к нему все носы повернулись, в него все глаза вперились, к нему бросаются и старые, и молодые, и фотографируют, фотографируют, щёлкают, но не жениха её, а тело, что под ногами у него лежит.
«Фрау Ольге плохо!» — кричит Максим Кривичанин, призывая всех на помощь, а сам знает, что не нужна той Ольге уже никакая помощь, забрал её бог, навсегда к себе забрал. Отошла Ольга в лучший мир, бросила андертальский лес на нас, слабых, глупых и злополучных, умерла, мученица, посреди чужого города, среди чужих людей, лежит там, где каблуки туфелек её на ковровом покрытии точки ставили с косичками, руки раскинула. А могла бы в минской квартире своей умереть, звонили бы телефоны могильные, шли бы мейлы молитвенные и СМС печальные, а она бы не отвечала, молчала — так бы и забыли Ольгу люди, и за работу ейную другая бы какая смелая девушка взялась. Но всё иначе вышло, у всех на виду, несчастный случай, сердце. «Сердце!» — говорят все те немцы, и белорусы, и других народностей люди, что в зале собрались.
Никто не знал, что не сердце Ольгу их уважаемую убило, а обычная бабка-шептуха, которая в коляске своей инвалидной сидела, скрючившись, да на тело смотрела, да глазами кричала своими синими: «Я это! Я убийца! Меня, люди, бейте — пока не помру!»
Никто бабку не слышал — люди заняты были, не до бабки им стало, они говорили, говорили, говорили, говорили, врачам звонили и на телефоны свои покойницу снимали. А Максим Кривичанин тележку с бабкой подхватил и к лифту неторопливо двинулся, от беготни уворачиваясь, коляской защищаясь. За Максимом толстяк — бегом, бегом. Съехали они вниз, вышли на улицу, и только тогда Максим выдохнул и сказал, на бабку серьёзно посмотрев:
«Горе-то… Правда, бабка?»
Горе.
«Горе, горе, — промурлыкал озабоченно Максим. — Горе вам, ахейцы…»
В отеле, откупорив вино, они с толстяком наконец рассмеялись.
«Ты что ржёшь?» — грозно спросил вдруг Кривичанин, смолкнув.
«Так сработало же», — пожал плечами толстяк.
«Мы с тобой, дорогой мой министр, с убийцей в одной комнате сидим. Не боишься?»
Кривичанин внимательно вгляделся в бабку.
«Ну и бабка… — сказал он, рассматривая её как в первый раз. — Биоробот-киллер. Что, разгадал я твою загадку? Знаю теперь, куда ты ходишь. Бабка ты, бабка… Раньше в лес лишнее носила, а сейчас из леса будешь… Какая тебе разница? Вот стану твоим мужем, может, и я с тобой пойду… Возьмёшь меня с собой? Не? А я и спрашивать не буду. Не должен муж у жены разрешения спрашивать…»
Толстяк, о чём-то задумавшись, скручивал себе цигарку. За окном наступал вечер, загорались огни, со стороны реки протяжно трубили корабли, ветер принёс с моря дождь и сейчас примерялся, где бы его ссыпать на этот рыжий, весёлый, золотистый город.
В сети уже разнеслась новость — прямо посреди Гамбурга бог забрал на небеса Ольгу В., журналистку, блогерку, активистку, писательницу, политического деятеля и открытую лесбиянку. Причиной внезапной смерти… Мы знали Ольгу как… Беларусь не забудет… Деятельность вызвала немало споров… Бог забирает лучших… Так ей и надо, стерве. Это её бог наказал за извращения феминистские да за блуд бабский безудержный…
Всё это Максим Кривичанин с удовольствием зачитывал вслух, раскрыв свой ноутбук, толстяк сдержанно охал, весело подмигивая бабке, и важно выставлял палец.
«Не будет больше о нас госпожа Ольга писать. А такая тема была… Её любимая. Так уж старалась, так под нас копала… Палка-копалка. А теперь саму закопают. Писала, писала, сплетни да говно всякое собирала, покоя ей не давало, что где-то есть настоящая Беларусь, живёт себе — и ни у каких фиминиздок и лизбиянок не спрашивает. Писала-писала, на хлеб-сало себе зарабатывала, бля. Курица… Думала, против Кривьи святой идти — это игра такая. А вот лежит сейчас лапками кверху… Правда, бабка? Сработала ты как следует. Чётко! С такой невестой острову нашему ничего не страшно».
Погладил Кривичанин бабку по щеке и в лоб поцеловал.
«А что было делать? В суд на неё подавать? В какой суд? Что, там, где они живут, суд есть? Вот у нас свой суд, кривицкий. Справедливый. Заткнулась наконец глупая баба…»
Взял Кривичанин Бенигну да из коляски на кровать перенёс, одеялом прикрыл, посмотрел с нежностью. Толстяк покурить пошел, а Кривичанин подсел к бабке близко-близко и прикрыл ей глаза пальцами, как мёртвой.
«А теперь спать, бабка, спать, на рассвете домой на Остров возвращаемся… Разгадал я тебя… Знаю теперь, куда ты ходишь…»
И тут же голос его грянул так, что бабка содрогнулась.
«В том и дело, что ничего я не знаю! Не пускают меня дальше! Сколько я в твои глаза ни смотрю, на одном месте топчусь! Хочу с тобой ходить, бабка моя железная, с тобой, моя лютая! Туда, где самое начало начал, туда, где самое пекло. Слиться я с тобой хочу, бабка, слиться в один организм, ты и я — вот это будет союз! Возьми меня с собой туда, бабка моя смертоносная, возьми туда, где тайна духа живого, разгадка всего мёртвого и вечного, туда, где Шамбала наша, живая Кривья… Без твоего знания у меня только остров есть, а когда раскроешь мне все тайны — будет остров последним приютом человеческим, царством чистой Беларуси, без примесей…»
Вошёл толстяк, помялся, на пороге остановившись, потому что очень уж интимная перед ним была сцена. Ещё рассердится Максим, что за такими разговорами его застали. Поднялся Кривичанин, скривился, как от плача:
«Что ты лежишь, как неживая? Бабка! Бабка! Ну ладно, лежи, лежи, сил набирайся. Я же говорил, что светлые дела делать с тобой будем. От гнили избавляться. Лежи… А ты смотри за ней, толстый, бабка у нас не в духе сегодня, ещё из окна выбросится. Она у нас такая… Может…»
Он двинулся к двери.
«Никуда не ходить, на звонки не отвечать. Никаких перекуров. Кривицкий суд сам знаешь какой…»
И вышел.
Толстяк и бабка остались в комнате одни. За окном пошёл настоящий гамбургский дождь — как мелкая сетка, которую бросают в лицо, и запутывается в этой сети всё: и живое, и неживое, и обманчивое, неуловимое, и всё истинное, весомое. А ещё в этой сети запутывается свет — трепещет, бьётся, дышит, но сеть погнал уже по улицам ветер, от порта через Альтону к Люнебургу, через Санкт-Паули в желоба городской электрички, и дальше, и дальше, в туннель под Эльбой, на Тойфельсбрюкке, на чаек, что уселись вокруг опустевших рынков, закрытых мясобоен, тупиков и провалов, в которых бегают большие, размером с собаку, крысы…
Посидел толстяк, на бабушкино безжизненное лицо глядя, губы пухлые сложил, щёки надул, словно конфетка у него во рту была. А потом подскочил к окну, всмотрелся в дождь, повернулся к кровати, где бабка лежала, — и вот уже, кажется, похудело вмиг его расплывчатое, сытое лицо, прорезались на нем скулы, а в глазах полусонных зажёгся огонёк.
«Вставай, бабка, быстренько, давай! — забормотал он, сбрасывая с бабки одеяло и хватая её под мышки. — Слушайся меня, бабка, я тебе в женихи не набиваюсь, я тебе добра хочу, поэтому не дёргай ногами, делай, что говорю!»
Посадил он бабку в коляску, накинул куртку, сумку через плечо повесил. Вывез за дверь опротивевшее ей кресло вместе с бабушкой, вызвал лифт. Выбежал на улицу, перед собой коляску толкая, — они пересекли проезжую часть и, успев хорошо вспотеть, пробирались сейчас между машин на стоянке такси.
Пожилой водитель отвёз их на вокзал. Играла музыка, как будто они на концерт приехали, вокруг ходили мрачные полицейские, и от запаха далёкой пищи, подгоревшей, вездесущей, жирной, запаха, который смешивался с запахами сырой курилки, дорогих магазинов, зассанных закутков и нагретого железа, бабку начало тошнить. Они долго стояли в очереди, чтобы купить билеты, — и вот уже стеклянный лифт опускал их на платформу, где толпилась молодёжь в пёстрой одежде. Гляйс айнс, гляйс цвай, гляйс драй — прыгал по головам настойчивый голос, — когда же ты уже умолкнешь? Поезд подошёл, белый, с красной полосой, поезд, который как будто говорил всем своим видом: я тут ни при чём! Я ничего не знаю! Проводник помог толстяку погрузить коляску.
Они пробрались на свои места, толстяк бухнулся на сиденье и вытер пот. Бабку он посадил напротив себя — и, отдышавшись, важно поднял палец. Поднёс к самым бабкиным глазам, как будто хотел, чтобы она рассмотрела этот солидный, большой, важный палец, торчащий символ его власти. А потом полез этим пальцем к окну, за которым всё ещё лил дождь. Придвинул его к самому стеклу — и погрозил кому-то, кто прятался за сплошной стеной ливня.
12.
Аккуратные, словно из открытки вырезанные, зелёные холмы, обвитые тенистыми дорожками, уютные панельные четырёхэтажки, граничащие с белосахарными виллами и клетчатыми фахверковыми домиками. Узкие улочки, площадь, гномы в садах. Всё, что ни видишь перед собой, выглядит как сладкое на десерт. И не поймёшь, где заканчивается городская черта. Заберёшься на гору, и можно увидеть так далеко, что даже Кёльнский собор в утренней дымке можно разглядеть.
Такой он весной, городок Эркрат в Вестфалии.
Скромный и незаметный, но с душой — как красивый гриб среди пёстрых листьев.
Когда-то давно, когда Эркрат был ещё деревней, вписанной разве что в самые унылые анналы, здесь был открыт целебный источник — так это место впервые обрело себе хоть какую-то славу. Случилось это в 1830-м. Из всех княжеств и королевств сюда приезжали лечить ревматизм и подагру (по-нашему казинец). Золотое было время. Немецкой Ниццей звали тогда Эркрат, был здесь большой дом с купальней на тысячу мест, и забирались в воды источника и поэты, и придворные, и купцы, и священники, и иностранцы. Вытирались, тряся бородами, и шли на прогулку по долине Неандер, названной конечно же в честь одного композитора. Видимо, хороший был композитор, если в его честь назвали целую долину — а не улицу и не училище.
Ну, долина — это только так говорят. Лощина… Лог. Так было бы правильнее.
Неандертальский лог.
Процветал Эркрат. Но уже в 1870-м закончилась в целебном источнике вода, перекрыли её где-то на небе, решив, что достаточно уже какому-то там Эркрату играть в знаменитый курорт и что самая пора ему вместо бальнеологии заняться геологией, тем более ресурсов подземных здесь всегда было много — как и по всему Рейнскому краю. Нет воды — нет и славы. Так Эркрат и снова в деревушку превратился. Перестали сюда ездить поэты, придворные, священники, купцы и иностранцы. Зато начали наведываться учёные.
Ведь именно Эркрат оказался причастен к другой славной находке. Одним августовским днем группа итальянских рабочих, работавшая по найму в известковом карьере поблизости от города, а проще говоря, тягавшая день за днём известь из какой-то пещеры, которых здесь было не меньше, чем придорожных харчевен, наткнулась на хорошо сохранившиеся останки человека. Останки эти купили умные люди и долго ломали голову, что же это за человек такой. Пока наконец не поняли, что перед ними не совсем человек. И решили они назвать его неандертальцем. Так он и получил своё имя — более ста пятидесяти лет назад.
Сейчас Эркрат — ворота в Неандертальскую долину. Совсем недалеко отсюда Неандертальский музей. А какой же музей без сувенирной лавки. Наконечники для копий и топоров, огниво да фитиль, чтобы добывать огонь — по-неандертальски… Книжки, открытки, камни Из Той Самой Долины. Можно повесить на шею. Или вот: неандертальский барометр — обычная верёвочка с инструкцией:
Верёвочка сырая — будет дождь.
Верёвочка сухая — дождя не будет.
Верёвочка прыгает — ветер.
Верёвочка бьётся в руках — буря.
Верёвочка дымится — пожар.
Верёвочки нету — её украл мамонт.
Стоимость барометра — 14 евро 95 центов. Хорошее развлечение для детей, особенно последний пункт: играть с ней можно до упаду.
Неандертальцы в виде резинок, неандертальцы из извести, неандертальцы из воска и пластика, фигуры неандертальцев в современных костюмах. Местное неандертальское пиво. Неандертальские сосиски. Мит кетчуп унд зэнф.
Если всю историю Земли представить как 455 дней, неандертальцы жили восемь минут назад.
И по крайней мере несколько из них жили в Эркрате.
Давным-давно.
А сейчас здесь другие люди живут. Мёд-пиво пьют. Разные люди.
Здесь, в самом заселённом немецком крае, где так легко спрятаться среди людей и неандертальцев, в одной из белых вилл за известковой оградой поселился однажды вполне солидный иностранец. По-видимому, он мечтал вернуть Эркрату давнишнюю славу — ведь вскоре на дороге, ведущей к его вилле, начали появляться машины с номерами самых разных городов и стран.
Звали хозяина виллы так: доктор Филипп Майно. Национальность его определить было трудно. Финн — а может, украинец. Или вообще азиат — было в его облике что-то от круглого монгола, или от российского крестьянина, или от белокурого боевого балта. Кто знает, было ли это его настоящее имя — но каждый имеет право иметь псевдоним. Особенно если он — доктор.
Иностранец взялся за дело основательно. Сначала посетитель попадал к охраннику — мощный рыжий поляк Болеслав, бывший чемпион Поморья по лесорубному спорту, добродушно проверял гостя на наличие запрещённых предметов, забирал телефон и другую мелочь. Очищенный от плодов цивилизации, гость входил в другую комнату, где на столах стояли свечи, а со стен свисали звериные шкуры. В этой таинственной комнате вежливая девушка Таня проверяла, действительно ли гость зарегистрировался на специальном сайте и заплатил ли он за визит. Ведь в третьей комнате гостя ожидал уже доктор Филипп Майно собственной персоной — сидя в высоком кресле, он предлагал пациенту кофе, чай, сок или глоток хорошего вина, чтобы снять стресс, и с сильным акцентом рассказывал, как правильно вести себя, когда перед ним откроются последние, самые важные двери. Бывало так, что доктор оставался недоволен разговором — и корректно, но твёрдо говорил, что тому или иному гостю не стоит оставаться в его доме. Разумеется, в таком случае все расходы на визит возвращались в полном объёме — компенсировалась даже стоимость проезда. По крайней мере, жалоб на доктора Майно не было. Всё на его вилле было организовано так, чтобы гость чувствовал, что он приехал к цивилизованным и культурным людям. Которые заботятся о том, чтобы визит прошёл с максимальной пользой и не слишком травмировал и без того несчастных пациентов.
И только поговорив с доктором, произведя на него хорошее впечатление и получив в награду одобрительный кивок, гость мог войти туда, куда он так стремился. В полутёмной комнате без окон, где были только кровать, вешалка, небольшой стол и кресло-качалка, его встречала очень старая женщина с лицом таким чёрным, что её можно было принять за африканку. Одетая в жёлтый балахон до самых пят, она невидящими глазами смотрела на гостя и судорожно вздыхала. Едва ступив за порог, гость перепуганно замирал, старуха шевелила губами, а хозяин виллы в это время тихонько закрывал за ними дверь. Оставляя гостя наедине со своим величайшим сокровищем, который на сайте клиники описывался так: «Магическая шаманка из глубины первобытных лесов всего за один сеанс избавляет современного человека от вредных воздействий среды и ментальной грязи. Древний рецепт чистоты наших предков побеждает агрессивную грязь цивилизации».
Ну или что-то в этом роде. Доктор Майно уже и сам не помнил, что он там написал.
Зарегистрироваться на этом сайте было непросто. Примерно восемь из десяти желающих не смогли этого сделать — соответственно так и не получив подробных инструкций, как добраться до владений «магической шаманки» или хотя бы просто связаться с её представителем. Существовал небольшой тест, который надо было пройти, прежде чем приступить к процедуре регистрации. Уже на этом этапе лишь немногие достигали успеха. Но машин возле белой эркратской виллы доктора Филиппа Майно хватало. Как и денег у доктора.
О нет, это не была медицинская практика или гомеопатическое лечение. Это была просто встреча. Разговор. Беседа вполголоса. Старая женщина консультировала несчастных обитателей европейских и соседствующих с Европой стран. Она шептала им что-то, вот и всё. Что противозаконного в том, чтобы шёпотом поговорить со старой женщиной? В конце концов, старые люди как никакие другие нуждаются в утешении. Кто мог бы доказать, что здесь происходит нечто большее, чем простая задушевная беседа? И какая разница, кем эта женщина приходилась уважаемому доктору? Это его дело. Она лечила — и никто из дипломированных медиков и гомеопатов не мог с ней сравниться.
Да, это были те самые времена, когда люди вдруг бросились к гадалкам, шаманам, колдунам, экстрасенсам.
Да, это были именно те времена, когда человек снова поверил в то, что его невозможно познать, просто разрезав и посмотрев, что внутри. Познать, всего лишь достав из него лишнее и зашив то, что осталось.
Это было время, когда люди в который уже раз за свою долгую историю решили, что лишнее всё же скрывается глубже. В их душах.
То время, когда люди снова начинали думать душами и сердцем — и стали с презрением относиться к своему мозгу, который очень им надоел.
Время, когда хорошие люди перестали выбирать себе в вожди высоколобых, надутых и скептически настроенных выпускников престижных университетов. А начали голосовать за тех, кто Знал. За чародеев, шаманов и экстрасенсов. Народных целителей, душегреев, гадалок и эзотериков.
Человек поверил в смерть книги. И снова решил для себя, что он ничего не знает. Ему вновь захотелось прикоснуться к тайнам. Снова припасть к лапам своих старых божеств. Медленно, мучительно, с налитыми кровью глазами человек начал вспоминать свои тотемы, начал обвязывать себя корнями и обмазывать жертвенной кровью. Человек начал потихоньку вспоминать древние молитвы.
Слабый и пугливый человек из андертальского леса.
Неизвестно, что происходило в той комнате виллы, где встречались магическая старуха и её гости — гости каждый раз новые, но всегда со старым страхом. Может, они и правда садились там и разговаривали. Может, песни пели. А может, сбрасывали свои модные свитера и стояли перед старой шептухой голенькие и холодные, гусиной кожей покрытые, стояли, доверяя чернолицей да синеокой бабке свою такую любимую ими, такую беззащитную и такую тонкую оболочку.
Всем, кто ехал в Эркрат на приём к доктору Майно, казалось, что с ними там будут работать так, как неандертальцы с верёвочкой.
Верёвочка трепещет — будет буря.
Верёвочка успокаивается.
Верёвочки нету — её украл мамонт.
А старуха оставляла их, обнажённых и застенчивых, стоять в одиночестве и неумело молиться, а сама шла в свой лес.
Они говорили что-то на своих языках, а она слышала одно — дрожащее, виноватое, полное туповатой надежды:
«Помоги нам, бабушка».
Оглядывались, невольно ища окно, которого в комнате старухи не было. Как будто всё происходило в страшном сне.
«Как в страшном сне».
Тот, кто привёз Бенигну в Эркрат, любил повторять эти слова. Вечером он отпускал охранника Болеслава и вежливую Таню, запирал на вилле все двери и окна и садился напротив бабки, открыв бутылку сливовицы. Сначала пил молча, вздрагивая от каждого шороха, но понемногу пьянел, краснел и заводил свои разговоры, не спуская с бабки добрых, мутных и пустых глаз:
«Как в страшном сне. Как вспомню, бабка… Всё, как в страшном сне, Кривичанин, и этот остров гнилой, и мы все там, как под гипнозом… ты меня, бабка, до самой смерти должна благодарить, что я тебя спас. Я к тебе в женихи не лезу, я не извращенец какой-нибудь. Посмотри, я ж так придумал, чтобы всем было хорошо. Ты лечишь, я организую, люди рады, спокойствие повсюду и равновесие. А там, на острове, был страшный сон… Страшный сон…»
Он закупоривал бутылку и отодвигал на край стола. Отворачивался. Закуривал трубку — здесь, в Эркрате, он привык к трубкам и хорошему табаку, в доме пахло то вишней, то сливой, то конфеткой шоколадной, а бывало и так, будто пацаны шины за селом жгли. Смотрела Бенигна на своего избавителя сквозь серый дым, и вдруг так ей сердце щемить начинало, так её хата родная отчётливо припоминалась, что из этого напряжения в груди рождалась где-то в воздухе слеза — крупная, голубая, холодная, как капля озёрной воды, и садилась на бабушкин нос. Слеза из ниоткуда. Словно с неба упала.
А бабушкин спаситель, толстый Филипп, снова бутылку к себе придвигает и наливает. И снова говорит да говорит, бормочет под беззвучный бабкин плач:
«Страшный сон — вот что там творится… Кривья… Кривья… Ы-ы-ы… Если напишу об этом — никто не поверит. И ты, бабка, молчи… Иначе всё о тебе расскажу. Что ты убийца… Это ж ты тогда ту бабу замочила! Ольгу ту. Только не надо прикидываться, что память отшибло. Ты её убила, ты… Всё про тебя расскажу. И что с парнями молодыми спишь… Страшный сон, страшный… Но ты ж на острове была, ты ж сама всё видела? Хочешь, я тебе расскажу? О том, что ты, бабка, не знаешь… А ты многого об острове не знаешь, бабка, ой многого…»
Наливал он себе для храбрости да так, наливая, и забывал, что сказать хотел. Бросал трубку на стол, шёл в пятый раз все замки проверять да окна, да сигнализацию. Страшный, ей-богу, страшный сон снился человеку — и видела старая Бенигна, что Филипп тот от сна своего страшного никогда и не просыпался. Так годами в нём и жил — и сейчас живёт.
Знала бабка, кого он боялся снова в том сне увидеть. Максима её Кривичанина. Жениха её, которого она в Гамбурге бросила, — друга её сердечного, с его островом, его Кривьей и всеми его бреднями.
Лечила Бенигна людей, в неандертальский лес каждый день ходила — как на работу: ей бы порадоваться, что наконец-то снова она занимается чем ей положено, а не в игрища опасные на острове с дураками играет. А ей всё не так: несёт она лишнее в ладошках своих старческих и ничего не чувствует. Вроде и класть на пень нечего. Сходила, вернулась, а чего ходила? Случалось, забывала Бенигна старая, что делать нужно: станет у пня, стоит, будто ноги у неё из камня. Стоит и спрашивает сама себя: что я здесь делаю? И только потом ум к ней возвращается и она к тому пню бросается: опоздала!
Первый раз после Гамбурга, когда она в тот лес свой пошла, показалось ей, что подозрительно на неё смотрят, что вот-вот сейчас выйдет из-за дерева какой-нибудь начальник здешний да скажет: чего, бабка, пришла? Наделала здесь делов мерзостных, нет тебе больше сюда пропуска. А она бы бросилась на колени и сказала:
«Знаю я, какая моя вина, сожгите меня, дядьки неандертальские, на вашем лесном огне, пусть мои косточки сгорят, чтобы и дыма от них не осталось! Так мне и надо, дурной бабке! Не вернусь я больше в андертальский лес!»
Но никто не вышел, никто на неё не крикнул. Как ходила, так и ходит. Живёт в тепле, сытно ест. Может, и телевизор ей скоро поставят, если хорошо себя вести будет. Только всё чаще у бабки почему-то под сердцем ноет. Да так, что жить больше не хочется.
Приехал как-то на виллу один иностранец — на лошадь похожий. Морда вытянутая, грива коричневая, а зубы-то и правда, как у лошади. Пощекотал его охранник-поляк и пощупал, пропустил в другие двери — там и Таня ему поулыбалась, ведь перевёл тот конь хорошую сумму на счёт фирмы. Сел наконец иностранец перед самим доктором, рассказал, что с ним случилось. Доктор Филипп Майно посочувствовал, как он это умел, да к бабке гостя повёл. Закрыл за ним дверь и налил себе, пока никто не видит. Сидит, в компьютер свой недоверчиво вглядывается. Ведь всё там в компьютере хорошо. Так хорошо, что не может такого быть. Может, и правда закончился страшный сон? Или только начинается? Вздохнул доктор да ещё рюмку опустошил. Трубочку раскурил. И потихоньку его отпустило.
«Хватит, — сказал он себе, приминая табак. — Страшный сон. Был и кончился. Точка. Всё хорошо. Что ж меня так трясёт?»
И тут из комнаты, где бабка с тем конём работала, раздался крик.
Такого на белой вилле ещё никогда не происходило.
Бросился доктор Филипп к дверям в бабушкин кабинет, распахнул их и за голову схватился. Гость его, мужчина-конь, к стене прижался, лицо перекошено, одной рукой член свой прикрывает, голый весь, как будто обокрали его и раздели, а второй на бабку показывает и кричит. Лежит бабка на полу, глаза закатились, балахон жёлтый к самой груди задрался, видит доктор бабкино исподнее и глаз отвести не может. Шевелит бабка губами сухими, и изо рта у неё стоны вырываются: мокрые, сердечные, длинные.
Прибежала на этот дикий крик Таня, и охранник прибежал, доктор к бабке бросился, а Таня с охранником начали мужчину одевать. Тот пришёл в себя понемногу, молча их оттолкнул — и на доктора по-своему забрехал. Мол, ответите мне за эту моральную травму. Доктор его как мог успокоил — но гость и слушать не стал, выскочил за дверь.
Положили они бабку на кровать, вскоре она затихла и глаза открыла. Доктор махнул рукой на охранника с Таней, чтоб вышли вон.
«Что же ты, бабка, вытворяешь? — укоризненно спросил толстый доктор, вытирая с пиджака бабкину слюну. — Я тебе и то, и это… И от Кривичанина спас. Или…?»
Он уставился ей в глаза.
«Кого ты там видела? Бабка? Кого?»
Бабка ничего не сказала, посмотрела доктору, своему избавителю, в лицо, и доктор увидел, что ничего бабке не хочется уже, а только смерти.
«Кого? — закричал доктор. — Что там, бабка? Сначала скажи, а потом умирай! Кто там был?»
Хотя ответ был ему без надобности. Он и так уже знал, что произошло. Смотрел в бабкины синие глаза, которые гасли так быстро, словно кто-то высасывал из них свет, и видел всё, как на экране. Видел, что встретила бабка кого-то на своих дорожках. Кого? А знакомого друга. Весёлого парня в кудряшках, что босиком по земле ходить любил. Жил на свете парень, который купил себе остров среди моря. И хотел на бабке старой жениться. Вот же штука. Вот же история. Вот же замысел нечестивый. На который не каждый решится, а он — взял да сделал.
«Таня! Вызывай “скорую”», — крикнул доктор брезгливо. Его передёрнуло от того, что сейчас начнётся. Приедут, будут ходить, записывать, спрашивать, добавят в списки, внесут в базы. Смерть начнёт свою бюрократию. Нет ничего более мучительного и позорного, чем бюрократия смерти.
«Скорая» приехала через десять минут.
«Кто она вам?»
«Мать».
Двое лысых, татуированных, похожих, как братья, медика склонились над бабкой. Доктор ждал в коридоре. Попробовал сделать вид, что убит горем. Сейчас выйдут, скажут, что поздно: надо выругаться, выругаться и заплакать, выдавить из себя хотя бы пару слёз. А потом подписывать, подписывать, подписывать, заказывать, платить, принимать соболезнования…
Он скривился. Медики прошли мимо, весело переговариваясь.
«Как она?»
«Спит, — сказал один, остановившись и высморкавшись. — Старая у вас мать. Очень старая. Но поживёт ещё».
«Спасибо! — прошептал он, пожав лысому руку. — Спасибо!»
«Такому старому человеку вредно спать в комнате без окна, — строго сказал другой лысый. — Да и молодому тоже. Переведите её в другое помещение».
И они уехали. Доктор заглянул в комнату, подошёл к кровати. Спит. Чёртова бабка. Чёртова-чёртова-чёртова бабка, которая встретилась только что с его самым страшным сном. Которую только что лапал в неизвестных лесах сам Кривичанин. Лапал, передавая ему привет из своей Шамбалы. Доктор отпустил охранника, сказал Тане, что завтра у неё выходной, и закрыл дверь. Обошёл дом — кажется, всё на замке. Ему вдруг подумалось, что запас сливовицы закончился — неужели придётся заново всё открывать, идти в гараж, ехать в город? Но нет, последняя бутылка была на месте. Он налил себе, сел за компьютер и отменил все визиты до самого воскресенья. Бабка была жива. Бабку надо было поберечь. Бабка могла ещё. Могла.
Ах ты старая Могла, с ударением на первый слог. Кривая Могла, вечноживая Могла, Могла вечночёрная с вечносиними глазами… Магическая шаманка…
Бре-е-ед…
Какой же всё это бред.
Выпив всё до последней капли, он зашёл к ней и лёг рядом.
«Ты жива, бабка? А, бабка? Не ври мне, я тебя спасти хотел, я тебе только добра желал, чтобы ты старость достойную имела. Не дури мне голову, бабка. Живая… живая ты, я же слышу, как твоё сердце бьется. У старых оно не так бьётся, как у нас, у старых оно как колокол в церкви, гулкое… Что ты своим сердцем всё гремишь, бабка? Кого ты зовёшь? А? Кривичанина зовёшь?.. А хера ему, хера, не отдам я тебя, ты ещё жива, ты людям нужна — и мне, и мне…»
И тогда бабка подняла руку и за воздух судорожно схватилась, как подтянуться на нём хотела.
Не было в той комнате, где они лежали, ни одного окна, ни щели, ни прорехи — и всё же видели они в этот момент, в полумраке рядышком лёжа, на стене светлый прямоугольник, туманом изнутри окутанный, а в том прямоугольнике, в самой глубине, будто охотилось на них, переливалось, плевалось змеиным блеском и взглядом их щупало насмешливым знакомое лицо. И прикрыть его в этой душной комнате можно было разве что собственными ресницами — но и туда процеживался, примешивался навязчивый образ, и пальцы сами лезли в глаза, раздирайте их, чтобы не видеть, выдерите их, чтобы не видеть ненавистную эту улыбочку.
«Скажи мне, бабка, признайся: спала ты с Кривичанином? Спала? Дала ему, Максиму нашему? Развратная ты бабка, глупая старуха, отвечай: совершила грех с молодым? А он этого хочет, только этого и хочет, чтобы силу твою забрать, он сам говорил, что тебя возьмёт и вытряхнет, на простыни, как сумочку, вытряхнет, как сундук, — и сам тогда бабкой сделается. Не давай ему, бабка, не давай, иначе нам всем конец! Если твою силу Кривичанин заимеет, вот тогда поймёшь, бабка, что такое страшный сон!»
Стонал пьяный доктор Филипп, корчился на кровати — да и не доктор уже, а просто толстяк, который когда-то поверил, что сможет целый остров в руках держать, за порядком смотреть. Поверил, что будет ему счастье за верную службу. Уже и не министр, не бандит и не панок кривицкий бешено дёргался у бабки в ногах, то отталкивая их, то хватая за худые колени и целуя через тонкую ткань.
«Думаешь, почему на острове нас так мало? Ведь бежали с него люди, бежали, на лодках, на плотах, за любую возможность цеплялись, чтобы только убежать как можно дальше от нашей Кривьи. Каждого, кого мы ловили, Кривичанин обнимал и в дом к себе звал, поговорить по душам, а где они, все те души? А нет, и никто не знает, куда делись. Думаешь, кто-то спрашивал у него? Страшно, бабка, было спрашивать. Так и остались у Кривичанина только мы… Самые верные его кривичи!»
Засмеялся толстяк сквозь слёзы, но тут скрипнуло что-то в недрах дома, словно подстраиваясь к его плачу, — и толстяк вскочил, бросился дверь закрывать, и никак не мог, потому как они уже и так закрыты были, мучился он с замком, мучился, да бросил наконец и упал обессиленный на кровать.
«Самые верные и самые трусливые, бабка. Только мы Кривичанина послушались, когда народ на острове живьём гнить начал. Объяснил нам Кривичанин, что это перетерпеть надо — мол, первая стадия перерождения: не только душа меняется у тех, кто Кривью свою нашёл, но и тело! А как же иначе? Слушались мы Кривичанина, всё делали, как он скажет, хотя уже тогда было ясно, что убийца он, убийца… И то, что девка эта, Кассия, рассказывала, всё правда: на остров этот говно разное свозили, отбросы, химию и другую дрянь, чтобы у себя экологию не портить. Поэтому и смог наш Максимка остров задёшево купить — ведь кому он ещё нужен, бабка? Остров смертельного говна!»
Захохотал Филипп — и уже не обращал внимания на то, что погружённая в темноту белая вилла ответила ему таким же смехом.
«А девка та, Кассия, — думаешь, Кривичанин её на континент довёз? Плавает её труп где-то посреди синего моря. Разве же мы могли допустить, чтобы она про остров рассказала? Она же вернулась бы, понимаешь, бабка? С полицией да журналюгами. Поэтому и решил Кривичанин её рыбам скормить. А с тобой он сразу работать начал — как только ты Янку лечить стала. Янка… Та ещё сволочь. Думал, когда бабка его вылечила, самое время убежать чистеньким. Тоже на дне валяется, здоровенький, распухший трупак…»
Затих наконец толстяк, верный слуга Кривичанина. Пошевелила бабка ногами, прислушиваясь к дыханию этого мужчины несчастного, с головы до пяток в чаще андертальской запутанного, — понятно ей было, что не всё ещё сказано, а что должно быть сказано, придётся ей выслушать. И правда, захрапел толстяк, и тут же проснулся, вздрогнул и на бабку полез:
«Может, мне дашь, бабка? Силу свою дашь? Тогда и умереть спокойно сможешь… Я никому не скажу, что ты ту журналисточку в Гамбурге прикончила, чужими болезнями задушила. Молчать буду. А тебя отпущу. Кончатся твои страдания, бабка, ляжешь в гроб хороший, дорогой, скажу, чтобы тебя в Беларусь отвезли да около родного дома закопали. Дай мне, бабка! Я быстро… Тебе понравится… Да ты и не почувствуешь ничего, старая дырка… А нам всем будет выгода…»
Рванулась бабка на край кровати, но крепко её Филипп держал, руками и ногами вцепившись. Рванулась она к стене, да не открылась стена, не пропустила бабку на свободу. Сел на неё Филипп, пьяными пальцами штаны расстегнул, начал с бабки балахон срывать. Не даётся балахон, плотно он кожу обтянул, только и вышло у Филиппа, что задрать его к бабкиному животу.
«Свет нужно включить, со светом лучше пойдёт!» — прохрипел Филипп: и когда охрип? К чему прилип? К кому прилип? Кроватка скрип-скрип, хочешь, мальчик, жить? Тёмный дом молчит, остров крепко спит, остров-глист в синем море, будет теперь бабке горе.
«Не могу, бабка…» — застонал Филипп и упал рядом со старой лицом в подушку. И пробормотал глухо, голосом, как у висельника: «Убей меня, бабка… Чтоб ты сдохла…»
Поправила старая Бенигна балахон, спустила до щиколоток, да положила руку Филиппу на темечко. Могла она убить, могла, Могла старая, теперь знала, что могла, — а самой подохнуть никак у неё не выходило.
13.
Снова начала лечить Бенигна людей. Снова подались в Эркрат машины самых разных марок и моделей, да с самых разных автобанов. Мчали, не привлекая особого внимания — мало ли что людям надо в городе, который воротами в Неандерталь зовётся. Народу здесь всегда было много. И чем дальше их путь в Эркрат, тем они богаче — из таких уж неведомых краёв едут, что ты и не слышала о них никогда. Всем в гости к немцам хочется, на неандертальцев посмотреть, и каждый верёвочку опробовать желает — а заодно и к бабке сходить, шаманке-знахарке из дикого леса. Опять распахнула двери белая вилла: вернулись на свои места и охранник Болеслав, которого Болеком по-простому называли, и Таня, что на рецепции сидела и клиентам улыбалась. Опять начал пить доктор Филипп — неделю держался, а как только пациенты-бедолаги снова к бабке толпами повалили, так за старое взялся, пьёт да пьёт, будто горе какое зельем залить старается.
Как и прежде, не выпускал доктор бабку из комнаты — правда, докторов послушался, повесил ей на стену картину. На той картине окно было нарисованное, а за окном Неандертальский лог. И когда Бенигна на ту картину смотрела — в те минуты, когда была от визитов свободна и наедине со своим старческим телом оставалась, — то перед ней, как с холма, стелился пейзаж, полный солнца, птиц и белых камней, и среди боров и рощ вилась речка, и что-то кричало в комнату старухи высокое нарисованное небо. Старалась она вдохнуть это небо своей сухой грудью, всё целиком вдохнуть — аж кашель начинал её донимать от таких усилий. Добрый он был, Филипп, от страшного сна Бенигну избавил, добрый, хороший, глупый просто — и жадный, как волк. Вот что человеку слабому и доброму андертальский лес в первую очередь даёт — жадность неимоверную. Бери, человече, сколько сможешь. А хочешь, ещё проси.
Но повесил же благодетель её окно на стену — пожалел бабку. Значит, не ушла ещё из Филиппа его доброта, значит, не сдался он, значит, живёт в его дородном теле нервик тоненький, слабый, но юркий, тот самый заветный нервичек, который на мучение чужое всегда откликается…
Теперь доктор Филипп Майно пил молча, к бабке не лез — только лицо у него становилось всё краснее, и пятна по нему пошли некрасивые. Мог бы к бабке прийти, сказать: «Полечи меня, бабушка, чтоб не пил я больше», — но занят он был своими мыслями, так уж занят, что только бутылка его на этом свете и держала. Забросил он люльки свои дорогие, красивые, валялись они на полу, пылились, а когда пациент очередной приходил, доктор те трубки ногой под стул загребал.
Оно ведь как было-то: сначала отказывалась бабка людей лечить — легла к стене лицом, на просьбы не реагирует, что делать? За стеной гости сок апельсиновый пьют, обстановку рассматривают и волноваться начинают — почему это их к шаманке лесной не ведут, раз деньги заплачены. А бабка в стену глазами вперилась — и не мигает. Открыла она для себя секрет всех стен андертальского леса: если долго на какую-нибудь стену смотреть, то можно на ней всё, что хочешь, увидеть. Вот и научилась бабка: то кот её на стене появится, Гофман, ходит по обоям белым, мордашку моет, яйца себе вылизывает, лапки кусает. На бабку смотрит: когда ты уже, старая дура, домой вернёшься? Так уж тебе хорошо у тех немцев? Не надоело ещё по островам и чужим хатам шляться? Эх, бабка, в твоём-то возрасте… В твоём возрасте в гробу сосновом нужно лежать, землёй накрывшись, — или хотя бы кота кормить. А ты?
За котом уже другая серия начиналась. Видела бабка сыновей своих, Антона и Мишку, — как они к ней приезжают и вещи её собирают: пора уже, бабка, возвращаться. Видишь, мы за тобой приехали. Машина готова, поедем в Минск. В цирк тебя сводим, и в музей войны Отечественной. А за Мишкой и Антоном уже и Ваня с Машенькой под ручку идут — и смеются, счастливые. По-видимому, понесла Маша от Ванечки, какие бы пакости та Лизавета гнусная им ни подстраивала.
«Бабка! — хрипел доктор. — Бабушка! Вставай, люди ждут! Не поднимешься — кормить перестану! Вот увидишь, ведьма старая!»
И правда, перестал толстячок, спаситель её дорогой, бабку кормить. И заходить к ней перестал. Или это она так в свой лес неандертальский ходить привыкла, или в кинокартинах на обоях бабке подсказали, только через два дня поднялась Бенигна и Филиппу покорилась: одного полечила, второго, а там и третий приехал. Получила тогда бабка и еды вдоволь, и эту вот картину на стене — с окном и долиной…
Настало в Эркрате настоящее лето. И хотя каждый день солнце над Неандерталем светило, и птицы пели, и трава зеленела, а не было почему-то настроения у андертальских людей. Жили они так, будто вот-вот повиснет над ними тёмная туча и начнёт опускаться, засасывая в себя всё живое, что в мире осталось. Поэтому спешили люди жить, в сто раз больше и дальше летали, в сто раз больше денег тратили, в сто раз более сильных радостей и наслаждений искали и в сто раз крепче верили, что только магия и красота их от той тучи тёмной уберечь смогут. Всё новые и новые экстрасенсы открывали свои церкви, на клиники похожие, и клиники, которые изнутри, как храмы, сверкали. Всё больше становилось на улицах салонов красоты и магазинов вечной молодости, всё больше сайтов появлялась, где рассказывали, как старикам в девушек и юношей превратиться, всё больше люди о близости любовной и о липосакции думали и всё меньше доверяли разным учёным проходимцам. И всё росла да росла слава белой виллы в Эркрате. Не среди кого попало, конечно, а среди людей знающих, опытных, кто о здоровье своём думает, а не книжки тёмные научные читает, а истинную магию и красоту не признаёт. Всё больше и больше верил андертальский человек, что старики могут его омолодить и силу дать — такую, чтобы как можно дольше в андертальском лесу задержаться.
На доктора Филиппа Майно лето тоже подействовало — но по-своему. Однажды утром поднялся он с постели и решил, что все его беды позади. Позавтракал с аппетитом и спустился вниз, проверил, все ли на месте. Поговорил с Болеславом своим верным, о том, что надо бы ему напарника найти — один охранник хорошо, а четверо плеч широких никому не повредят, особенно на такой красивой белой вилле. Потом за дверь, к Тане хорошенькой зашёл — спросил, сколько визитов сегодня ожидается. Прикинул в голове, подсчитал — если бабка будет в духе, хорошая сумма выйдет. Убрался в своём кабинете, стараясь о бутылке не вспоминать, — может, разве вечером себе капельку можно будет позволить. Отпустило Филиппа наконец, полегчало ему — будто закончился страшный сон. И так уж в тот день летний да погожий ему на душе хорошо стало, что хоть ты польку танцуй.
Зашёл он к бабке, нахмурился для приличия. Посмотрела на него бабка да к стене отвернулась.
«Отворачивайся, отворачивайся, — весело сказал Филипп. — Можешь в меня даже плюнуть, если хочешь. Главное, работу делай, людей лечи, а что ты там обо мне думаешь, бабка, дело твоё…»
Вышел на террасу, выкурил трубку — вкусная была трубка на свежем воздухе. А тут уже и первый пациент подъехал — откуда? Не иначе из России. Богатый дядя. Много нагрешил в жизни, а теперь припекло. Ну давай, плати по счёту и живи дальше — бабка и не таких заматеревших к жизни возвращала.
Сел Филипп в своём кабинете, шторы задёрнул, волос в носу выщипнул, ногу на ногу заложил, ноутбук раскрыл. Ждёт.
Двери открываются. Дядя тяжело дышит. Он не говорит ни по-английски, ни по-немецки. Только дышит и на доктора поглядывает.
«Я гнию», — говорит он наконец.
«Гниёте? — с удовольствием откидывается на спинку кресла доктор. Ему приятно говорить по-русски. — О, здесь поможет только магия…»
Не знал доктор Филипп Майно, что в это время к эркратскому вокзалу, зданию кирпичному, старосветскому, построенному, кстати, ещё до Первой мировой, приближается, полный солнца и мелодичных объявлений, поезд местной железной дороги. Небольшой состав из трёх вагонов, похожий скорее на трамвай. Поезд приехал с опозданием на шесть минут — только наивные верят в пунктуальность местных железнодорожных линий. На исторический перрон, по которому ступали когда-то отправляемые под Верден молодые солдаты, нарядные офицеры в остроконечных шлемах, коммунистические агенты и нацистские бонзы, американские парни с набитыми жвачкой ртами и турецкие гастарбайтеры… да кто только не ступал! — на этот вот самый перрон вышел человек, одетый так, чтобы его можно было легко спутать с кем-то другим. Вот мы и спутали. Где он? Только что стоял на перроне, любуясь эркратскими видами, и вот уже исчез. Мы подсознательно ищем кудрявую голову, что скрывает лицо, — но нет её, нет. Пассажиры маленького поезда разошлись во все стороны, город разбросал их по своим узким улицам, прикрыл тенями, заглушил их шаги велосипедными звонками и громким шёпотом клёнов. Может быть, он сидит в одном из уютных эркратских кафе, попивая первый латте? Может, он замер на холме с фотоаппаратом в руках, пытаясь сделать панорамный снимок долины? Или, может, он вбежал в подъезд одного из домов, что так уютно расположились вон там, в тени? Нет, он взял такси и отправился в неандертальский музей. Походил между головастыми, полунагими фигурами тех, кого люди отказались признать в качестве предков. Купил там себе верёвочку. Неандертальский барометр, слышали про такой? Хорошее детское развлечение. Верёвочки нету — её украл мамонт.
И человечка украл. Нет его. Хрустнет камешек в Неандертальской долине — а ноги, на него наступившей, уже нет.
Бросится солнце птицей из густых ветвей на человеческую фигуру, быстро идущую через рощу. Но и её нет уже.
Только листья подрагивают на кустах. Тех самых, что тысячи лет назад.
Ничем не отличающихся от нынешних. Как люди.
Люди их андертальского леса.
В семь вечера человек вышел к белой вилле, от которой как раз отъезжала шикарная машина. Водитель дружелюбно улыбнулся — то ли как соучастник, то ли как друг. Будто знал водитель, что за человек приехал утром в Эркрат.
Что за человек поднимается по ступенькам.
Что за человек жмёт на кнопку звонка.
Что за дверью? Там Болеслав, огромный, с лысым черепом, словно вырезанным из тех дубов, которые он когда-то валил, выигрывая первые призы. Болеслав бросает на гостя короткий взгляд. Болеславу уже заплачено. Болеслав любит старые компьютерные игры. Например, «Библию». Болеслав не знает, кто перед ним, но берёт подготовленные с утра вещи и уходит из виллы не оглядываясь. Садится на мотоцикл и всю ночь едет на восток.
За вторыми дверями красавица Таня. И на её счет уже переведены деньги. Таня улыбается дорогому гостю так, как она умеет. Таня обеспечена на год вперёд. Таня берёт свою лёгкую сумочку и выпархивает из белой виллы. Таня снимет квартиру в центре Франкфурта. Там можно найти хорошую работу. Гораздо лучшую, чем эта — у толстого доктора-алкоголика и его вонючей старухи. Таня любит улыбаться. В её жизни будет ещё много дорогих гостей. И для каждого её улыбка будет значить что-то своё. За это её и ценят.
Гость толкает следующие двери. Он заходит в комнату, где сидит доктор Филипп Майно, совсем пьяный. Сидит и считает. Цифры не даются, цифры не складываются, тело затекло, ум вытек, следовало бы вытереть, собрать, сфокусировать глаза на цифрах, а не выходит.
Гость с отвращением смотрит на фигуру, что разлилась по креслу. Он не проводит в этой завешанной шкурами и коврами комнате слишком много времени. Он приказывает идти с ним — дальше, туда, за последние двери на этом удивительно прямом пути, он толкает сутулое и толстое тело перед собой и закрывает за его спиной весь мир.
Теперь они снова втроём. В тесной комнате без окон, комнате, чем-то похожей на остров. С картины на стене на них смотрит Неандертальский лес.
«Бабка! — сказал Максим Кривичанин и бросился ей в ноги. Он обнюхивал её, тыкался носом во всё это сухое, земляное, жёлтое, чёрное, выцветшее и вскопанное временем. Он искал в ней свою дикую радость, как собака. — Бабка! Моя бабка!»
Пьяный доктор Филипп Майно в это время пытался открыть дверь, но только ломал себе ногти. Двери были как заколдованные. Максим Кривичанин не обращал на него внимания.
«Бабка! — визжал он и стискивал её до самых костей, будто зимний холод. — Поехали домой. Невеста моя… Бабка…»
Наконец он повернулся к толстому и без особых усилий бросил его к бабкиным ногам.
«Каждый гад чужому счастью рад. Возьми её за руку».
Филипп заплакал.
«За руку».
Филипп хотел вскочить, но не смог, упал на колени.
«Возьми мою бабку за руку».
Глаза Кривичанина стали мутные-мутные.
Мы не знаем, что там было дальше на белой вилле. Ненадолго она опустела. Скорее всего, потом здесь открылся салон красоты. Повсюду, где был андертальский лес, готовились к заветному дню — и хотели встретить его во всей своей человеческой красе. Выставив напоказ все свои слабости, повернуться изнеженными, запечёнными в соляриях лицами к темноте и поверить в последний раз, что над верхушкой этого леса всё же господствует сила, которой никто не может противостоять. Поверить и уйти в землю, как вода. Вернуться в известковые карьеры, откуда всё начиналось.
А может, на белой вилле поселился другой доктор. Доктор, которому никто не верил. Доктор с его аппаратами, пилюлями, томографами и книгами. Людей к нему ходило немного. Не было у него дорогих гостей — а разве бывают другие гости при системе страховой медицины.
Известно лишь одно. По какому-то из воздушных мостов, которые позволяют людям в этой части андертальского леса делиться магией и красотой, ступали, держась за спинки сидений, жених и невеста.
Невеста села у иллюминатора. Жених, вытянув ноги, устроился в проходе. Стюардесса начала свою пантомиму. Самолёт помчался и взял курс на юг.
Полетела бабка в ночь — будто кто-то в спину толкнул. Дремлет она под вой машины крылатой, глаза откроет — жених её рядом сидит, в одну точку уставился. Бессонный Кривичанин. Ведь никто на Кривье не спит, каждый на ней дух бережёт, тот, что может время повернуть, всё назад воротить. На белый лист, к чистому лесу.
«Бабка, — повторял жених, лёжа возле неё в номере римского отеля. — Бабушка. Невеста моя. Богом суженая. Потерпи. Осталось уже немного. Мы с тобой должны быть терпеливыми. Как боги. Перед нами вечность, бабка. Вечность».
Город, раскинувшийся за окном, знал толк в старости. Никто не мог сказать, откуда он взялся, а если бы и смог, то никто не поверил бы. Проще было сказать, что его нашли в музее, этот город, который смотрел на старую Бенигну и её жениха и единственный в мире понимал, что они задумали.
Город-бабка. Город-шептуха. Город, который давно мечтает о смерти, — да никак помереть не может. Город — старый убийца.
«И ты, бабка, тоже, когда силу мне свою отдашь, станешь городом, выставишь над землёй свои кости, людям убежище дашь. Все города на бабкиных костях стоят, — говорил ей жених, любуясь видом из окна, и гладил бабкину руку, гладил так осторожно, будто боялся, что она рассыплется. — Молодые города — это и не города вовсе. Город должен состариться, чтобы силу заиметь. Старый город молодую кровь пьёт и никак напиться не может. Здесь, в Риме, некогда старые мужчины в Колизее собирались, чтобы кровь молодых гладиаторов пить. И молодели, молодели, выигрывали для себя на этих играх ещё немножко жизни — и никто не переживал, что грех это. И кровь пили, и сперму подростков, а, бабка, как тебе? — ведь никто стареть не хочет. Столько силы пропало, бабка… Столько силы в крови утоплено… Ненавижу кровь…»
Он глядел на город за окном, ему на мгновение показалось, что не бабка лежит рядом с ним на кровати, а молодая и длинноволосая девушка, настоящая кривичанка, которая знает и понимает, о чём он говорит, — вот поднимется сейчас, защекочет своими прядями светло-русыми, рассмеётся смехом-ручьём, да венок на его голову наденет. Такой и была его Олеся, была — пока не забрал он её к себе на кривицкий Остров.
«Ненавижу кровь… Никогда ни капли ни пролил. Потому что не верю в их бога христианского, иудейского, кровавого. Я, бабка, когда кровь вижу — без сознания становлюсь, гемофобия у меня, бабка… А они кровь любят… Без крови жить не могут. Всё их христианство — одна толстая кровяная колбаса!»
Не выдержал, заметался по комнате, замелькал, крыльями захлопал — кося на бабку глазами своими яркими. Будто ангел в комнату залетел.
«У нас, славян, тех, кто знанием владеет, стариков когда-то топили. Старых “ани перерахувати, ани передерживати, всех старых дедов вытопити” — это закон древний, славянский. Не я придумал, в книге исторической прочитал. Боялись стариков, силы их боялись. А я тебя не боюсь, бабка. Люблю тебя. Как землю, люблю, как смерть, как корень свой родной… Только на такой силе и расцветёт Кривья, та, что я нашёл. А где душа чистая, там и кровь очистится.
У нас, славян, бабка, кровь особенная. Есть тест специальный: наша кровь красной остаётся, а у жидов, арабов, турок, армян, индусов, иранцев — у всех этих чужеродцев кровь бледнеет, сине-зелёной делается. Как у моллюсков, осьминогов и каракатиц. Всех этих гадов, которых на остров наш святой море выносит…»
Быстро у её жениха настроение менялось — как у телевизора. Только что бегал от стены до стены, а теперь лежал на брюхе, смеялся — и вспоминал вслух, забыв, казалось, о своей невесте.
«Когда-то я верил в кровь. Мы с ребятами-кривичами в Минске такие эксперименты ставили… Химия и никакой магии. Однопроцентный спиртовой раствор метиленовой лазури; спиртовой раствор крезилвиолета; полторапроцентный раствор нитрата серебра; сорокапроцентная соляная кислота да ещё однопроцентный раствор перманганата калия. Хочешь в кривичи? Докажи, что достоин… Что твоя кровь на самом деле красная. Русский Манойлов эту формулу вывел. Брали кровь — свою, чужую — и на анализ. Я знал, что не смогу смотреть, а чтобы не смотреть, наилучший способ — командовать. Так я стал главным. И ведь не смотрел. Никогда не смотрел, что по моему приказу делают… Там я с хроникёром нашим и познакомился. О, бабка, что он писал тогда. Хочешь, почитаю? Всё здесь, всё осталось, только вот Хрониста нет больше… Кончился. Дописался. Космолог наш…»
Помрачнел её жених, но отбросил мрачные мысли:
«Ну, нет его и нет, и нечего о нём говорить. Главное — что от него осталось!»
Он включил ноутбук, устроился рядом с бабкой и, захлёбываясь от восторга, начал читать:
«Новости космологии. Это рубрика такая… Формула крови… А это название… Бла-бла-бла… Это неинтересно. Вот. Вот здесь. “В СССР эту информацию засекретили, так как у власти были чужеродцы: евреи и кавказцы. Под их влиянием и началось перерождение”.
Ясно, что это их христианство давно уже в жопе… Но читаем дальше.
“…Говорят, все люди произошли от Адама. Но если у славян и у негров один предок, то почему же мы все такие разные? На первый взгляд, у людей четыре группы крови, резус-фактор и всё такое. Официальная наука объясняла эту разницу условиями проживания, климата… Например, негры. Они чёрные потому, что живут в тропиках. Однако сколько бы тысяч лет белые ни жили в Африке и Азии, они почему-то не стали ни чёрными, как негры, ни узкоглазыми, как монголоиды. В Северном Ледовитом океане British Petroleum и Газпром нашли останки тропических растений и животных. Доказано, что ещё до глобальной катастрофы полюса поменялись местами, тропический климат в течение миллионов лет был не в Африке, а у нас на Севере. Значит, негры имеют такой вид вовсе не потому, что они живут в тропиках. Остаётся удивляться, насколько чужеродные религии (индуизм, христианство и др.) зомбировали белую расу, заставив нас поверить в то, что якобы всё человечество произошло от одного иудейского Адама. Читая их Библию, мы никогда не обращали внимания на то, что их Адам не был рождён, а был создан из праха, создан искусственно. Ева была сделана из ребра, то есть — клонирована. Адам и Ева были одни, а значит, их дети расплодились через инцест, как змии. Поэтому кровь чужеродцев при тестировании делается сине-зелёного цвета, что подтверждает их библейское, то есть искусственное происхождение. Получается, что эти потомки Адама, как учит их Библия, человекообразные, но они не люди. Откуда же появились чужеродцы?
Мифы не возникают на пустом месте. За каждым мифом скрывается какая-то реальность. Так, китайские мифы говорят, что китайцы произошли от небесного змея, латиняне ведут своё происхождение от божественной собаки, евреи и арабы от созданного Господом Адама. Выводы учёных: совершенно очевидно, что различные расы происходят от разных начал, а не от одного Адама, как пугали нас христиане. И мы не одиноки во вселенной. Существует масса научных свидетельств, представленных в фильме Everard Jurquet “Секретный Космос”, о генетической связи чужеродцев с пришельцами внеземных цивилизаций рептилоидов, которых древние люди приняли за богов. Просто на Земле чужеродцы расы c4e34f95-150x150 оделись в понятную нам материальную оболочку. На древних фресках изображено, как пришельцы проводят генетическое скрещивание ДНК обезьян и собак с ДНК рептилоидов, чтобы вывести человекообразных существ и через них ассимилировать людей. При неблагополучных скрещиваниях получались снежные люди, големы, русалки и кинокефалы”.
Вот так, бабка. И люди читали это! Тысячи читали, десятки тысяч. Читали и верили! Все читали — а я уже тогда думал о Кривье…»
Спала старая Бенигна. Спала посреди мёртвого старого города, рядом с женихом своим, который смотрел в ночь так, будто хотел в ней дыру просмотреть.
Дыру размером с остров.
14.
Беженцы появились с юга. Облезлый баркас, с трудом переползавший с волны на волну, вдруг перестал стучать, замер на входе в бухту — и, завалившись на левый бок, поплыл в сторону острова.
Максим Кривичанин заметил людей слишком поздно. Баркас бросил якорь совсем близко — а может, сел на мель — и его пассажиры, по колено в воде, длинной вереницей двинулись к берегу. Их было много — и хозяин острова не понимал, как они все могли поместиться на этом куске железа, который проседал в воде чуть ли не до палубы. Баркас должен был пойти на дно сразу же после их отправления — и всё же добрался сюда, словно его поддерживали под водой невидимые руки каких-то морских божеств. Его путь лежал дальше, на континент, но силы этих людей заканчивались. Поэтому они решили сделать передышку. А может, и правда посчитали эту никому не нужную сушу Европой.
Откуда они приплыли? Максим Кривичанин не хотел этого знать. Место, откуда они убегали, было одной из тех жарких стран, где у людей вместо крови сине-зелёная опара. Как у осьминогов, каракатиц, моллюсков. Кривичанину было всё равно, кто они, откуда и чего хотят. Чужеземцы должны были покинуть Кривью. Тем более, они срывали ему свадьбу.
Снова срывали их свадьбу.
Сколько их было? Может, полсотни. Когда-то у него тоже было полсотни да ещё полсотни. Но их нет. И куда они делись, Максим Кривичанин думать не хотел. Их нет. Так зачем же о них думать?
Только он, да бабка, да Олеся. Кривицкая семья. Последняя Кривицкая Семья.
Он с презрением смотрел в бинокль, как чужеземцы раскладывают на берегу пожитки, как собирают их и снова раскладывают, уже подальше от воды, завоёвывая шаг за шагом эту неожиданную землю. Видел, как одни падают в изнеможении, другие бросаются к детям, третьи осматриваются, ища защиты от солнца. А солнце вставало, поднималось всё выше, Ярило смеялся, Ярило давал тепло каждому, независимо от веры в него, и не следил за тем, сколько они готовы взять. Люди засуетились. Над лагерем беженцев выросли самодельные зонтики и навесы — большинство пряталось под ними, передавало из рук в руки пластиковые канистры с водой, но некоторые мужчины уходили от лагеря всё дальше и дальше. И с каждым шагом чувствовали себя всё более уверенно.
Он следил за ними до обеда.
А после обеда вышел на крыльцо и увидел на холме пять или шесть тёмных фигур.
Они шли к его дому, их привела сюда старая дорога. Скорее всего, из-за скал они не могли увидеть посёлок, и поэтому шли сюда, всё дальше, шли по следам автомобильных шин и не собирались останавливаться.
Фигуры приближались. Максим Кривичанин взял бинокль и рассмотрел их. Тёмные, блестящие лица, сжатые кулаки, босые ноги. Как у него. Остров под их ногами дрожал. И дрожал воздух, жадно втягиваемый их привычными к жаре широкими носами.
Он вышел им навстречу. Они не имели права здесь находиться, это была его частная территория. Остров принадлежал ему по закону. Того государства, которое продало ему остров, защищало частную собственность. Оно ни разу не послало сюда полицию. Но закон был далеко. А здесь были он — и это стадо.
Племя, вспомнил он. Так их и надо называть. Племя. У него тоже было своё племя — и вот они встретились. Что им нужно? Конечно, прежде всего пожрать. Другие нужды появятся позже. Может быть, завтра.
Пятеро мужчин поднялись к его дому и наконец заметили его — не старого ещё человека в чёрном, с вихрастой головой, без оружия и с улыбкой на лице. Таком белом лице. Лице того, кто живёт за морем.
Мужчины остановились метров за пять от Кривичанина и нерешительно заговорили между собой. Максим Кривичанин, склонив голову, ждал.
Потом они обратились к нему. Будто оправдываясь, но Максим Кривичанин знал цену их оправданиям.
Сначала говорил один — и показывал рукой в сторону моря. И вот уже они говорили все вместе — и всё более громко.
Он кивнул. Им это понравилось, но насторожённость всё равно проступала на будто маслом намазанных лицах. Скользкие люди, вышедшие из моря. Он жестом пригласил их пойти с ним, провёл к кладовой с припасами, открыл дверь. Они стояли, не приближаясь, и смотрели, как он выгружает, кряхтя, и ставит перед ними банки с консервированным мясом, рис, муку. И даже сгущённое молоко — оттуда. Они заговорили снова — возбуждённо и обиженно, и замахали руками.
«Вода, — улыбнулся Кривичанин. — Да, конечно, вода».
Он открыл кран и подкатил пластиковую бочку. Вода лилась долго, бесконечно долго. Мужчины из племени рассматривали припасы. Один подошёл к машине и прислонился к капоту. Он почти сел на него, засранец. Сел своей задницей, под которой ещё утром было сто метров воды, где он мог закончить свою убогую жизнь. А теперь он сидит на капоте его машины.
А его приятель закручивает на бочке крышку.
Другой засранец подошёл к хозяину острова и доброжелательно коснулся его плеча.
Машина. Им нужна машина. Нет, это не грабёж, он просто должен отвезти бочку в их лагерь. Двое с лёгкостью подняли её наверх и привязали, Кривичанин сел и завёл мотор. Он медленно вёл машину туда, куда они показывали, хотя и сам знал, где поселилось это племя, а его гости быстро следовали, безостановочно обсуждая что-то. Наверное, его.
Когда они появились на холме, в лагере поднялся такой гам, будто на остров слетелась стая чаек. Он подъехал к самому их лежбищу: толстые усатые женщины, дети с такими звериными движениями, что хотелось загнать их обратно в их мамаш, жгучие глаза, недоверчивые белозубые рты. Он никогда не видел их племя так близко, никогда не прикасался к ним, а теперь его обступили, начали болтать, хватать за рукава, за штаны. Мужчины, побывавшие у него, ловко разгрузили подаренные им припасы. Теперь он понимал, как мало он им дал, каким мизером думал от них откупиться. Еды было на пятерых. Он попытался показать им на баркас, покачивающийся недалеко от берега, — но они сделали вид, что не замечают его жестов.
К нему подошёл какой-то старик — появился откуда-то из-за спины, невысокий, с острым кадыком, метившим Кривичанину в сердце. Кадык затрясся, старик объяснял ему что-то, настойчиво, гортанно, зубы сверкали, и глаза тускло поблёскивали, как старые медяки.
Кривичанин сел в машину и уехал.
Вечером они пришли снова. Теперь их было уже десять, а может, и больше. Они поднялись в дом, не дожидаясь приглашения, ходили по комнатам, всё больше наглея, открывали шкафы, двери, ящики. Кто-то сел на диван и начал тупо смотреть в стену перед собой, словно показывали не очень интересный футбольный матч. Хорошо, что дверь в конце коридора их не заинтересовала. Может, в следующий раз. У Кривичанина не было с собой ключа. Но зачем им ключ — разве они просили ключ, когда высаживались на остров?
Они были очень удивлены, когда нашли Олесю — которая, забравшись на кровать с ногами, рассматривала их так внимательно, будто давно ждала и теперь сравнивала их с людьми из своих снов. Но ещё больше они удивились, найдя бабку.
Старая Бенигна повернула голову на скрип двери и только мигнула незаметно, когда к ней, топая, будто постукивая в мягкий кожаный барабан, ввалились незваные гости. Тёмные мужчины из телевизора — а может, те самые, из неандертальского леса. Они окружили её и заговорили, все вместе, но стоило ей разогнуть спину, чтобы поправить юбку, как они умолкли, почтительно поклонились и вышли из комнаты. Она провела их своими синими глазами — пока последний не закрыл за собой дверь.
Моя ты бабка… Повсюду в андертальском лесу ценят стариков — а кто не ценит, того гонят, гонят, свистом свистят, пока не скроется с глаз человеческих нарушитель святого закона. Но уж туда, где их, нарушителей, вотчина, не ходи, сиди на месте, старая, держись за поручни и у людей дорогу спрашивай, чтобы к тем изгнанным ненароком не попасть, — ведь если переступишь границу, заблудишься на чужих ложных дорожках, и ни закон, ни люди тебя уже не защитят.
Стоял Максим Кривичанин у окна и с холма на остров свой смотрел. Как рассыпается по нему, словно ветром разбросанная, горстка человеческих существ с сине-зелёной кровью, как заходят они в пустые дома, занимают сады, безжалостно пригибая к земле высокую траву, как, не успев обжить новую территорию, уже делят её между семьями, прокладывают невидимые границы, обговаривают, договариваются. Так здесь уже было когда-то — когда он приветствовал своё племя. Не поверили ему, что приведёт бабку, думали, сгниют они здесь, начали убегать, сначала по одному, потом целыми группами. Неужели и у тех, его подданных, сине-зелёная кровь была? Он обещал им, что скоро придёт спасение, — а они спешили, так спешили, что бросались в воду со своих лодок, словно собирались вплавь до континента добраться. Их ловили и приводили к нему — и они исчезали.
Ну, исчезли — и нет их. Зачем о них вспоминать? Разве их слышно, разве они пахнут, разве осталось от них что-то, кроме домов внизу. Снова обжитых, снова разделённых и наполненных голосами.
Утром их с бабкой осталось в доме двое.
Стоя на крыльце, Максим Кривичанин смотрел, как бежит по холму Олеся, спотыкается, перебирает смешными длинными ногами. Ничего с собою не взяла — видно, собирается вернуться. Не одна, конечно. С победителями.
Вот и ещё одна измена, подумал Максим Кривичанин достаточно равнодушно. И всё же что-то кололо в сердце. Не то, что она бежит от него в лагерь к чужакам, надеясь стать среди них своей. А то, что он сдаётся. Что дух его бездействует — оставляя всё ненадёжному телу и вялому мозгу.
Держась за стену, шла старая Бенигна по длинному коридору, который никак не заканчивался. Пел дом, всеми своими сквозняками пел, всеми щелями, всеми скрипучими дверями. Трепетали стены, и билась где-то над головой форточка. Вытягивала душу изнутри удивительная музыка, и басовитый молодой голос со злостью и упорством выводил:
«Эй, кривичи, Наша возьмёт!»В библиотеке нашла старая Бенигна жениха своего, Кривичанина. Лежал он на полу и подпевал, как мог:
«Эй, кривичи, эй, Наша возьмёт!»Посмотрел на бабку с интересом — словно открылась она ему с совершенно другой стороны, словно помолодела она, что ли, и устало улыбнулся:
«Музыканта… Вот чего не хватало этому острову. Музыканта. Своего Вагнера. Не войско надо было брать, не писателей… А только бабку старую — и хорошего музыканта… Напишу про это в фейсбук».
Бабка потянулась дальше, но он догнал её, вместе с песней, что вылетела из открытых дверей и гремела сейчас на весь дом. Догнал и обнял:
«Пора, бабка, пора! Пора нам с тобой жениться! Сегодня же и сыграем свадьбу! Готова, бабка?»
Засмеялся и отпустил старуху. Вышла Бенигна на холм, да не смогла сама подняться, упала лицом в землю, лежит и слушает, как у острова сердце стучит. Больной остров, больная земля. Несчастный ты, жених бабкин. Куда же тебя дороженька твоя завела? Полечить бы тебя — перед тем как на тот свет уйти.
Лежала бабка и слушала, и казалось ей, что слышит она с той стороны земли, как где-то кот мяукает, да лес шумит, да едет по грязи весенней машина, и голоса знакомые гремят глухо, как ложка в миске:
«Помогите нам, бабушка!»
Негр, негр, негритос,
Не грызи себя за нос.
Долго лежала Бенигна в траве, ртом в землю, сама как земля, а вечером подхватил её жених да в коляску посадил.
«Поехали, бабка, кривицкую землю защищать и Олесю, твою внученьку из беды выручать».
Потянул её на холм, ногами подпирает, руки трещат, не очень он силён, её жених, а остров ему не помогает, остров будто бы со стороны наблюдает и усмехается.
«Чтобы с ними объясниться, надо железный боб съесть», — сердито крикнул бабке на ухо Кривичанин, толкая коляску.
«Но я боб жрать не буду, я на бабке женюсь, вот же круто им придётся…»
В небе над островом появился самолёт, пролетел над ними низко-низко, сделал несколько кругов, махнул крылом белым и улетел обратно. Кривичанин остановился и провёл его весёлым взглядом. «Видишь, бабка? И тут предательство. И тут сволочь, а что делать? Кто чистым в этом мире остался? Только мы с тобой…» — обошёл он коляску, упал головой на бабкины колени, курчавая голова, волосы на солнце выгорели, сидит бабка с головой, как Юдифь, а служанки у неё нет, некому сказать, чтобы спрятала ту голову, самой её беречь надо… Поднялась голова, взглянула мутно и опять свою песню завела, шёпотом:
«Эй! Эй!»
Эй, эй, эй — и они покатили вниз по каменистой дороге, к тем домам, где расселились пришельцы. Кривичанин остановился между домов, выставил бабку вперёд и крикнул:
«Алло, вы, нелюди! На два слова!»
Вышли двое, стали поодаль, ожидая.
Показал им Максим Кривичанин на море и закричал на них, как на собак.
«Здесь вам нельзя жить! Нельзя, дебилы! Это гнилой остров! Вы здесь подохнете все!»
Тогда ещё двое вышли, да ещё, да ещё три раза по пять. А с ними Олеся — стоит за спинами, на Максима Кривичанина смотрит, будто и не узнаёт. Бросился к ней хозяин, схватил за руку и к коляске с бабкой потянул. Настигли его мужики из племени, толкнули в спину, он и рухнул в пыль. Поднялся, снова за Олесей бросился, ударил его кто-то по колену, а кто-то в живот наподдал. И посыпались на Кривичанина тычки и удары, а кто-то в него ещё и камнем кинул, да так метко, что в голову попал. Хорошо, что не до смерти, порадовалась Бенигна, к жениху своему подхрамывая. Как только сделала пару шагов, отступили от него те черти. Поднялся он, шатаясь, подхватил коляску и домой бабку потянул. Едет коляска, виляет, а Кривичанин ручки еле держит да хрипит во всё горло:
«Эй, кривичи, эй, Наша возьмёт!»Довез её до моря и в воду сел, голову промочить. Только коляску из рук выпустил, покатилась бабка старая на песок. Песок тёплый, хорошо солнцем нагретый. Закопала она в него своё чёрное сухое лицо да и задремала, как одеялом закутавшись. Только и слышала, как жених её, Кривичанин, рядом улёгся, будто собака побитая.
В посёлке тем временем грохот раздавался, не умолкал, стук инструмента плотницкого и детский плач — обживался на краю андертальского леса человек, и никакой ему закон не был писан. Так под грохот да песню детскую Бенигна и уснула.
Только не пришлось ей поспать как следует. Проснулась она — луна на небе яркая-яркая, а перед ней жених стоит: голый, всю одежду сбросил, страшный, трясётся, орган свой мужской наставил и на бабку смотрит.
«Ну что, бабка, настало нам время жениться. Дашь мне силу свою — тогда покажу я им, чья здесь земля и в чём дух Кривьи!»
Перевернулась бабка на спину, хотела от него ящерицей убежать, да бросился на неё Максим Кривичанин, налёг всем телом, схватил за верхнюю юбку и стянул с бабки, под нижнюю рукой полез да за бабкину кожу ухватился. Хотела бабка песком сухим рассыпаться, да так её скрутил жених любый, что некуда деваться. Посадил её Максим Кривичанин в свою ладонь да ноги бабкины развёл в стороны, как мертвый куст с дороги убрал. Сейчас вопхнётся да вопьётся он в бабку, лицо его всё ближе становится, вот уже он с месяц размером, а вот уже и больше месяца. Вздохнул остров под ними, и море ему вздохом тяжёлым ответило, сжал жених бабку, перед тем как последний закон нарушить, да не успел. Вырос за его спиной мужик из чужого племени, такой уж злой, словно ангел чёрный, с неба слетевший. Ухватил тот мужик с берега камень круглый да ударил жениха что есть силы по макушке. Рухнул Максим Кривичанин на свою Кривью и потёк в море красным ручейком.
«Помоги мне, бабушка».
Взяла бабка его руку в свою.
Поискала привычно, что у него лишнего. Уйму лишнего нашла, положила в одну ладонь, второй накрыла, опрокинула, посмотрела на море.
«Здесь лежи, — прошептала Бенигна одними губами. — Я быстренько».
Показалось Максиму, что на него ветром повеяло. Сухим, горячим, как весной ветер на Кривье.
Бежала Бенигна из последних сил по ей одной знакомым, сколько раз хоженым дорожкам, держа в руках лишнее, лишнего не слушая, на лишнее не наступая. Гу-у-у, гу-у-у, гудит вокруг, так машина когда-то гудела, на чёрную свинью похожая. «Ну что вы хотите, — повторяет старая Бенигна да колесом деревянным по неандертальскому лесу катится, к заветному пню, — гу да гу, гу да гу, жалко мне вас, нелюди, погладить бы каждого по загривку да за ушами почесать, сколько ни хожу, сколько ни терплю, а всё жалко…»
Всё жарче и жарче в неандертальском лесу, вот уже и совсем невыносимо, словно баню кто перетопил или пожар начинается, у Бенигны пот со лба льётся, застилает глаза, а она всё дальше в лес заходит. Ещё не дошла, а уже знает.
Знает, что на этот раз не будет на пне пиджака примятого и станет она вокруг того пня суетиться в отчаянии, да так и не придумает, где лишнее оставить, кому отдать. Что вышло на этот раз её время, не успеет она вернуться. Но катится дальше деревянное колесо, которое в том лесу бабкой называли, а в этом ему имя уже и без надобности. Катится, крутится, перепрыгивает через коряги да канавы, иногда чуть не падает, но движется упорно вперёд да поскрипывает само себе, с тихим облегчением:
«Всё, что у меня при себе, всё лишнее, всё, что есть у меня, не моё…»
Итальянская кухня
Вот тебе рука моя, руккола. Вот другая, моющая майоран. Свежим базиликом забрасывая белый свет, Я лечусь от ревности, от русскости и прочих ран, И от новостей в моём Париже и их Москве. Отличаясь от розмарина лишь странным составом молекул, Полный тестостерона, терпеливый, как эстрагон, Я мог бы родиться душистой травкой, а вышло, увы, человеком, Который требует больше, чем солнце, вода, балкон. Легионы — и все, кто не бросил меня! Вашей темною силой беру эту тесную кухню. Деконструктор рецептов, владыка огня. А в кастрюльке сливочный соус пухнет. Хочешь вкусно поесть — так иди же скорее к бедным. У бедных трава на окнах, вино в пакете. К бедным, слышишь, счастливым, всезнающим бедным, Бедные правят миром на кухне и в интернете. Тратят деньги на книжки, которые подороже. А не нравится, сразу же бьют по роже. Мизантропы, любители старых комедий. Бедные люди с кошкой на старом пледе. Бедные — это Мы с тобою. Стоим у окна и Друг друг стоим. Бедные ходят пешком по городу, Походкой странной, походкой гордою, У бедных всегда напряжённый график, И столько еды вкуснющей, что ну их на фиг, Такой ароматной, сытной, простой. К бедным иди, у них на пути не стой. …Год базилика, Базилика с её руки. Год майорана, ею выращенного на подоконнике. Она говорит с ними так, будто их языки Знакомы ей до последнего сладкого корня.IV. Тридцать градусов в тени
РОМАН ЛЕТНЕГО ДНЯ
1.
Мне давно не даёт покоя старая сказка про Нильса Хольгерсона.
Это история о том, как один не очень умный скандинавский мальчик стал таким маленьким, что смог сесть на гуся и убежать из родной деревни вместе с дикими перелётными птицами.
Я часто представляю себе, как Нильс, крепко обхватив птичью шею, закрывает глаза, когда гусь поднимается выше дома, выше самых высоких деревьев, выше всего, что казалось таким недостижимым.
И даже величественный дуб на деревенской площади сейчас выглядит, будто какой-то сорняк под занесённым над ним деревянным башмаком.
Ещё один взмах крыльев — и внизу осталась остроконечная, недавно отремонтированная крыша церкви, которой так гордится местный пастор. Гусь машет крыльями, как одержимый, сейчас или никогда, сейчас или никогда, в его сердце беспорядочно мелькают красные лампочки, а в сердце мальчика… Нет, в нём ещё не проснулись ни сожаление, ни ностальгия, пустота ещё далеко, а небо близко, его можно пощупать рукой, и только инстинкт самосохранения не даёт Нильсу отцепить пальцы от ненадёжных перьев.
Эти пальцы, по которым ещё недавно так любила ходить учительская линейка, белеют; в кровь поступает адреналин, без удержу, почти сверхдоза, но она спасает его, не даёт ему соскользнуть. Его уши заложены, он слышит только своё дыхание и непрерывный шум ветра. Дыхание, и ветер, и далёкие крики других птиц.
Мальчик чувствует, как гусь под ним работает мышцами, сначала неуверенно, отчаянно, натужно, то и дело теряя ритм, но вскоре крылья словно замирают, и тогда он открывает глаза и кричит от ужаса и восторга — и гусь отвечает ему одуревшим от счастья голосом. Они плывут в воздухе на головокружительной высоте — может, даже семь-восемь тысяч метров: именно на такое расстояние от земли могут подниматься дикие серые гуси во время сезонных миграций. Кажется, что вся страна раскинулась теперь под ними, как ковёр в детской комнате с разложенными на нём цветными игрушками и нарисованными дорожками. Нильс видел такой ковёр у богатых соседей — его позвали поиграть с их младшим сыном, но Нильсу было скучно, он съел слишком много торта, и его стошнило прямо на красивые узоры, и больше его не приглашали.
Сидя на своём гусе, Нильс пролетает над большим городом. Город дышит, как больной — тучное тело, положенное на спину. Город потеет. Возможно, это даже тот самый город, где я живу. Шоссе, по обе стороны которого жмутся друг к другу коттеджи, незаметно становится широким, самым длинным в Европе проспектом. От проспекта во все стороны разбегаются улицы, теряясь в парках и проваливаясь в щели между крошечными домами, под землёй отчаянно носится туда-сюда гремучее метро, год за годом оно ищет выход — и не находит, а наверху старая река просит, чтобы её наконец зарыли и забыли данное ей некогда имя. Где-то в этом городе, на балконе, схватившем за локоть уже почти голое дерево, сижу я. Я читаю книгу и жду лета. Как это всё не похоже на Нильсову деревню, в которой всё и все были на виду, и только лес, курятник и солома в амбаре могли приютить его одиночество.
А теперь вот у него есть небо.
Гуси кричат. С запада тянет холодом и дождём. Конечно, им нужно на юг, но вожак стаи лучше всех знает небесную дорогу. И поэтому они пока что держат курс на запад. Возможно, у вожака там дела, которые надо уладить, прежде чем повернуть в направлении тепла.
Гуси не обращают на Нильса внимания. Если он свалится, никто не будет ловить его и искать место, где он упал. И плакать никто не будет. Это гуси, а не люди. Это холодное прозрачное небо, а не земля, на которой плачут, роют могилы и выстукивают на клавиатуре поспешные некрологи.
Конечно же рано или поздно они долетят до государственной границы и немного снизятся, чтобы обсудить человеческую глупость. И тогда один из солдат, от нечего делать разглядывая гусиную стаю в свой суперсовременный и сверхточный бинокль, вдруг заметит на спине одной из птиц маленького мальчика.
Мальчика, который прижимается к гусиной шее так, как, бывает, девушки льнут к спинам своих бойфрендов-мотоциклистов.
Мальчика, который с почти королевским недоверием осматривает бесконечную окрестность с высоты нескольких тысяч метров.
И тогда солдат свяжется с начальством. Но гусиная стая будет уже на той стороне границы. Мальчик так и не узнает, что его заметили ещё на родине.
На той, другой стороне тоже будет свой солдат — с не менее, а может, и более современным и точным биноклем. И у солдата также будет своё начальство — может, и более строгое.
И когда гусиная стая начнёт снова набирать высоту, прозвучит выстрел.
Меткий и продуманный выстрел из современного и очень точного оружия. Выстрел — это тоже бегство. Сейчас или никогда. Сейчас — или никогда.
Безвизовый мальчик не услышит выстрела. Он только почувствует: что-то пошло не так, почувствует, как большое тело, которое он обнимает, потеряло лёгкость, вздрогнуло и обмякло. Гусь под ним вскрикнет последний раз, тоскливо и удивлённо, будто он увидел впереди море. Земля начнёт приближаться так стремительно, что мальчик снова закроет глаза. Мёртвое крыло смахнёт его с гусиной шеи, пальцы разожмутся, и он полетит в бездну, болтая ногами, отчаянно ища опоры и постоянно увеличиваясь в размерах. Он станет как раз таким, как был, когда земля притянет его к себе за шкирку и больно ударит по пальцам своей твёрдой линейкой.
Нильс отправился в своё путешествие осенью, когда гуси собираются в стаи и летят далеко-далеко, туда, где я, наверное, уже никогда не побываю.
Моё путешествие началось одним летним днем, в ту пору, когда солнце гонит людей к воде и небу, а внизу на суше остаются самые безнадёжные из нас.
2.
Наверное, я мог бы придумывать сюжеты для всяких странных мультфильмов. Или писать сценарии «кино не для всех».
И зарабатывать на этом деньги.
Так что, когда мой телефон вдруг зазвонил, мне даже на секунду показалось, что вот, наконец, это оно. «Мы хотели бы купить ваш сюжет о Нильсе… Как там его? Холджерсоне, — произнёс бы мужской голос. — Сколько вы за него хотите? Отвечайте быстро, у нас ещё тысячи таких, как вы».
«Я подумаю», — ответил бы я с запинкой. Запинкой на «п», как будто я заикаюсь. П-подумаю. Я всегда так отвечаю, когда не знаю, что сказать. Назвать точную цифру — прозвучит как-то жадно. Будто я только и ждал, что мне позвонят, будто я только о деньгах и думаю — а это не так. Сказать, что, мол, предлагайте сами, — высокомерно: дескать, да насрать мне на ваши баксы (а это опять же абсолютная ложь). Говорят, что это такая болезнь, когда ты не можешь сделать выбор. Я даже мелодию для телефона не могу выбрать. Телефон — такая штука: она говорит за тебя, даже если ты молчишь. Выберешь мелодию, и вот она как заиграет в каком-то автобусе — и все уже знают, что ты за человек. Поэтому я поставил на свою «Нокию» самый простой звук — как у советского телефона. И всё равно думаю, что это неправильно. Демонстративная скромность и простота — это так по-снобски, а я не сноб. Я отвечаю, даже когда на телефоне высвечивается незнакомый номер.
А мог бы и не отвечать. Потому что вокруг была такая красота, девять часов утра — и уходить из парка мне совсем не хотелось. Да и говорить тоже.
«Алло», — сказал я, думая о Нильсе Хольгерсоне.
Но это была мама. Ей не скажешь: я п-подумаю.
«Привет, — говорит мама. — Ты где?»
«Здорово, мам. Да так… Кофе пью».
«Понятно, — говорит мама, — снова не спал. Снова шлялся один по этим своим местам…»
«Не один», — ответил я мягко.
«В твоём возрасте надо хорошо высыпаться, — торопливо сказала мама. — И питаться. Не кофе, а овощи, фрукты… Сорок — это же не шутки. Ты когда на обследование запишешься? Ладно. Так значит, не один?»
«С Алесем».
«Ну конечно, разве я когда-нибудь услышу от тебя женское имя? — сказала мама и хмыкнула. — Сказал бы: с Олесей, порадовал бы материнское сердце».
Она то ли всхлипнула, то ли хихикнула. Моя мама — большая актриса.
«Ладно, сын мой. У меня к тебе просьба…»
«А ты почему не со своего номера, мам?»
«Много будешь знать… Я в аэропорту, срочно приезжай сюда, мне нужно одну вещь передать… одному человеку, а я не успеваю. Заберёшь у меня, позвонишь и договоришься, только это надо сегодня. Понял? Сегодня, там ждут. Ты всё равно всё время по городу шляешься, сделай это для меня, хорошо?»
«Хорошо, мам».
Так он и начался, этот безумный, безумный, безумный день.
3.
Солнце давно стояло над Минском, я не видел, как оно взошло, но то мгновение, когда город ожил, как проявленная фотография, когда темнота, будто чёрная вода, ушла в невидимые стоки и всё вокруг стало красноватым, чистым и чужим, я застал во всей красе.
Был тот момент, когда ненасытные соловьи измученно замолкают и просыпаются белки, отправляясь в траву по своим выверенным маршрутам.
Бродя по пустым паркам, снимая с деревьев и скамеек тонкую сетку своей бессонницы, я вышел к высокому зданию рядом с Немигой и увидел на его крыше людей.
С того места, где я стоял, трудно было разобрать, что они там делают и кто они такие. Просто тёмные очертания на фоне светлого, ещё прохладного неба. Возможно, это были строители, которые начали работать так рано, потому что не укладывались в сроки, но я представил себе секту Новых Минских Солнцепоклонников: как они каждое утро на самом рассвете выходят на чёрные остывшие крыши, скидывают одежду. Абсолютно голые, мужчины и женщины — гладкие, выбритые, блестящие тела — подставляют груди, животы и бёдра новому солнцу. Представил, как их стопы оставляют на чёрном битуме крыши отпечатки, как пятки Пятницы на тропическом песке. Они молятся юному минскому Солнцу, воздев к нему руки в чешуе языческих татуировок, расставляя сильные загорелые ноги, и Солнце ласкает их кожу.
День будет жаркий, на небе ни тучки, после молитвы они разбегутся по своим ванным комнатам и через пятнадцать минут сядут на велосипеды, надев наушники плееров, и никто ни словом не вспомнит ту утреннюю молитву. Только лёгкие многозначительные взгляды, опущенные к чашечке кофе ресницы, короткий всплеск пальцев, дрожь в покрытых пушком гибких хребтах.
Хотел бы я присоединиться к ним?
Да, хотел бы. Но я боюсь. Всё начинается с солнца, а потом ты падаешь. Падаешь, падаешь, падаешь.
Мне сорок лет, и я никогда не был женат. Более того, у меня никогда не было женщины. Дам вам переварить этот непростой факт.
И мужчин у меня не было тоже, уточню на всякий случай. Нет, не подумайте только, что я какой-то извращенец. Просто я не знаю, зачем это мне, когда в мире существует, например, лето. Вот это лето: с его солнцем, запахами, травами, горячим асфальтом, людьми и шумом. Я сделан из лета: у меня под мышками пахнет скошенной травой, мои ногти пахнут асфальтом минских улиц, в моих глазах прыгает солнце, и, разглядывая людей, я повторяю их привычки и тихо смеюсь, когда у меня получается раствориться в их шуме. Я счастлив и так, бродя ночами по минским паркам и думая всякое-разное о людях, птицах и растениях. Конечно, я знаю, что такое отношения: я прочитал столько книг и посмотрел столько разного кино, что мог бы, наверное, имитировать это с большим или меньшим успехом, как, впрочем, и всё остальное тоже.
Я думаю, что каждый, кто начинает отношения с каким-то человеком, занимается именно этим: подсознательно берёт в доступной ему культуре некую понятную схему и старается держаться её во что бы то ни стало. Кто-то живёт под Джойса, а кто-то под Пугачёву, кто-то под мадам Бовари, а кто-то под Иисуса Христа. Возможно, поэтому я и думаю о Нильсе Хольгерсоне. Как он, перед тем как решиться на побег, любил приходить к домашним птицам в их полутёмные, полные перьев дома, построенные для них людьми, дома, похожие на заброшенные гимнастические залы, — я думаю, Нильс Хольгерсон был влюблён в одну из этих птиц, в белую гусочку. Может быть, он ласкал себя, спрятавшись в птичнике и вглядываясь в её чокнутые глаза, потому что мне кажется, для крестьянских детей это лучшее место, чтобы побыть наедине с собой и исследовать себя: курятник, сарай, холодная баня…
Я знаю, что такое секс. Я нормальный человек: иногда я открываю заветные сайты на своём компьютере, включаю видео и наблюдаю, чем занимаются люди на экране монитора. Я стараюсь не упустить ни одной мелочи, мне интересно, что они чувствуют во время всей этой возни, я заглядываю в глаза женщин и смотрю, как влажнеют тела, напрягаются спины, двигаются ноги, языки и задницы. Мне интересно. Но они не несут в себе ни лета, ни города, они не пахнут ни скошенной травой, ни горячим асфальтом, ни ветром, который вдруг проносится по пустой улице, пробуждая тени, в их стонах не слышно ни навязчивого пьяного стрекотания газонокосилки, ни скрипа зонта над головой, когда пьёшь кофе в уличном кафе, ни испуганного признания пустой картонной коробки, которая бросается на проезжую часть перед грозой, ни лёгкости синего шарика, который вдруг выпускает детская рука, пальцы перепачканы мороженым, плач, бумкает тупая попса, водопад железа обрушивается на проспект. У них есть только они сами, у этих мужчин и женщин на экране, и они держат себя в руках, сжимают себя в своих собственных руках, оглядываясь на камеру, и я чувствую себя видимым, и выключаю, и выбегаю во двор, и смеюсь. У меня никогда не было секса — но я лучше вас знаю, что это такое. На это интересно смотреть, потому что в голову лезут разные мысли. Но этим совсем неинтересно заниматься.
Мама говорит, что мне уже сорок и время взяться за ум. Я никогда не рассказываю ей ни про Нильса, ни о том, что я на самом деле думаю и как провожу время. Наверное, мама ужаснулась бы — но меня всё чаще охватывает сомнение в искренности этого ужаса. Мне кажется, она принимает меня таким, как я есть. Единственная женщина в моей жизни. Она говорит о том, что хотела бы, чтобы у меня были отношения, потому что тоже придерживается какой-то схемы. Хотя сама так радостно смеётся, когда я говорю, что, к сожалению, никого пока не нашёл. А я забираю у неё старые сумочки, которые она хочет выбросить — якобы чтобы положить их около мусорки. А сам несу их домой и нюхаю. Просто нюхаю, мне нравится, как они пахнут. И всё — никакого извращения.
Конечно, если бы у меня были жена или муж, я мог бы рассказать ей или ему о Нильсе Хольгерсоне. Но что было бы потом? Я рассказал бы, а она послушала бы — и мы продолжили бы выстраивать отношения. Чужие, придуманные не нами. А так я могу думать о Нильсе сколько захочу и где захочу. На их языке это называется — инфантильностью. В сорок лет язык сжимает тебя мёртвой хваткой: в нём вдруг появляется столько разных слов, чтобы обозначить тебя. Где они были раньше, эти слова, когда я был моложе? Почему в то время никому не приходило в голову говорить обо мне латинскими корнями и научными терминами?
Я уже допивал кофе и собирался пойти пешком до метро — доехать до Уручья и сесть там на автобус в аэропорт. Мама будет злиться, если я опоздаю и она подведёт знакомых и улетит в свой Берлин.
На дне стаканчика остался сахар, много сахара — и я подумал, что, если бы была война, я мог бы продать этот пустой стаканчик и купить за него хлеба.
И тут на мою лавочку подсел он — человек с пластиковым пакетом. Немного старше меня, в белой летней униформе: шорты, кепка, рубашка с коротким рукавом. Мы посидели немного, человек поставил пакет рядом и вздохнул.
«Жара будет, — сказал он. — Тридцать пять, не меньше».
Мне нужно было идти, но пакет касался моего локтя. Он стоял между нами, и я знал, что, если встану, пакет упадёт. Я давно не видел в парке людей с пакетами. Я не люблю пластиковые пакеты. Пытаясь угадать, что в нём, я посидел немного и начал потихоньку отодвигаться — и пакет потянулся за мной. Как голова пьяного соседа в вагоне электрички.
«Полдесятого, а как жарит. Просто кожа плавится», — сказал человек.
Уже тогда мне нужно было догадаться, что это знак. И бежать, бежать прочь от этой скамейки, позвонить маме и сказать, что я не успеваю, что пусть она позвонит своим друзьям, у неё же их так много. Пойти домой и лечь спать, думая о Нильсе.
«Сухое будет лето, всё сгорит», — неторопливо сказал человек.
Я придержал пакет локтем, чувствуя, какой он холодный. Сверху содержимое пакета было прикрыто какой-то курткой. Обычный пакет, достаточно толстый. Пакет зашевелился и полез на меня.
«Я вам говорю, сегодня будет ад», — убеждённо добавил человек и на слове «ад» сжал губы в горькой и суровой улыбке.
Я придвинулся поближе к человеку с пакетом, чтобы предотвратить катастрофу. Он удивился, но продолжал, будто ничего не заметил:
«Задохнёмся все в этом аду».
И тогда я вскочил и быстрым шагом, оглядываясь, направился к метро. Пакет шлёпнулся на землю, и из него полетели какие-то ножницы, ножи, ножики, инструменты на коротких и злых ногах, мелкое железное зверьё. Я отвернулся и побежал, проклиная этого идиота. Мама ждала меня в аэропорту, и времени оставалось не так уж много.
4.
Во времена моей юности люди ходили по улицам с пластиковыми пакетами — будто каждый из них только что расплатился в супермаркете.
Конечно, у этих людей были и потрескавшиеся портфели, и спортивные сумки, и чёрные дерматиновые дипломаты с блестящими замочками. И та пошлая вещь, которую у нас называют гнусным словом «барсетка», уже входила в моду. Меня до сих пор так и тянет назвать барсеткой какую-нибудь моложавую злобную тварь в юбке. Естественно, у женщин были их чудесные сумочки, которые я так люблю нюхать. Но стандартный облик городского жителя определял именно яркий прямоугольный пакет в руке. В каждой свободной руке.
Выпуклый и полупрозрачный, он почти всегда позволял угадать его содержимое. Хотя бы приблизительно. У пакетов была своя иерархия: те, что имели на себе иностранные надписи или какие-то интересные рисунки и логотипы, ценились выше, импортный пакет по своей стоимости был почти равен отечественной сумке. Иерархия пакетов влияла на человеческую — и каждый день я покорно выходил из дома с пакетом, как и тысячи других минчан, и с волнением сравнивал свой пакет с чужими. Ехал с этим пакетом на учёбу, на прогулку, на работу, на свидание, навстречу каждому новому дню.
Грустные сумчатые люди, упакованное в яркие пакеты бесцветное беспокойство… Теперь я понимаю, что пакет царил в городе из-за тогдашней бедности его жителей. Пакет — вещь дешёвая и практичная, он не занимает много места. Правда, у него часто рвутся ручки, каждый пакет вообще рано или поздно порвётся, и сквозь тонкую оболочку вдруг вылезет наружу вся наша натура, вытянут свои змеиные головы наши тайны и страхи, пакет ненадёжен, как человеческое счастье, — и тогда, поддерживая за задницу разорванный пакет и неся его домой, как ребёнка, мы становимся теми, кто мы есть на самом деле, без позолоты и логотипов, мы оказываемся вне иерархий. Но если пакет беречь и не набивать в него слишком много — жить можно. Можно мечтать и мериться надписями.
А ещё те пакеты воплощали для нас рынок, Запад, мечты о новой жизни, доступные товары, сто сортов сыра и колбасы. Мы все с гордостью осознали себя потребителями. Мир как супермаркет — это красиво сказано. Нам казалось тогда, что наши братья и сёстры на Западе так и ходят — с пакетами, а нам так хотелось во всём походить на них. Пластиковый пакет с латинскими буквами на боку был манифестом нашей свободы. Он мог бы стать национальным флагом — и объединил бы гораздо больше людей, чем все другие знамёна и знаки. Под такой символ стал бы каждый. И над Домом правительства пластиковый пакет смотрелся бы гораздо уместнее, чем все возможные полотнища. Его форма идеальна для флага, а содержание — содержание всегда можно вложить своё.
Пакет царил на улицах города тогда, когда у меня ещё не вырос ни ус на брюхе, ни вкус в сердце. Как только они начали прорастать, я сразу понял его опасность. Пакет делает человека безвкусным, уродливым и бессмысленным, даже если его держит в руках самая изящная и элегантная личность. Пакет превращает своего обладателя в пакет — и это закон. Понемногу в городе начали это понимать, люди разбогатели и смогли наконец выбросить свои пакеты на мусорку, пакет цеплялся за их руки, как жвачка на полу маршрутки цепляется за подошвы, пакет не хотел уступать, его ручки были ещё целы, сильные, настойчивые ручки, которые прилипали к нашим уставшим пальцам.
Пластиковый пакет ушёл туда, откуда ворвался когда-то в нашу жизнь: в торговые центры и гипермаркеты. Правда, потом люди снова обеднели, и снова разбогатели, а потом обеднели так, что уже не знают, как жить дальше, — но пакет уже никогда больше не возвращался на улицы в качестве законодателя моды. Пакет живёт ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться из магазина домой. Пакет давно уступил место холщовой сумочке, удобному рюкзаку, стильному планшету, и женские сумочки пахнут так же божественно, как и всегда.
И только старшее поколение горожан сохранило к пакетам странную любовь. Они не рассуждают о пакетах в категориях вкуса, эстетики, экологии или социологии. Они кладут туда определённые вещи и несут их в определённые места в определённое время — ведь если есть пакет, туда надо что-то класть, не правда ли, и вообще, кому какая разница, что у тебя в руках, — так любит говорить моя хорошая, мудрая мама.
5.
А что если Нильс Хольгерсон не разбился? Я читал когда-то, что одна югославская стюардесса упала с высоты десять тысяч метров и осталась жива. С Нильсом тоже произошло чудо. Не первое в его жизни, но, видимо, последнее. Нильс попал на брезентовый навес, натянутый над каким-то деревенским магазином, брезент был военный, натовский, хозяин купил его задёшево у одного штабиста. Тело Нильса обрушилось на него, подпрыгнуло и снова повалилось на эту упругую крышу, но уже совсем легко — не забудем, что его вес стал таким же, как раньше, только перед самым приземлением. Он ничего не чувствовал, он был в шоке, этот полёт в бездну выключил его сознание, поставил на паузу — его тело перевернулось и покатилось по скату вниз.
Он открыл глаза в полной темноте. Сначала ему показалось, что он просто проснулся дома, в курятнике, — и Нильс спохватился, попытался подняться, он боялся, что если отец найдёт его здесь, то заподозрит неладное. Он уже давно на него искоса смотрел, его огромный, русый, страшный, как русский, отец. В присутствии отца Нильс никогда не смотрел на свою гусочку, потому что ему казалось, что отцу станет ясно, всё станет ясно о его безответной и позорной любви.
Тело Нильса болело так, что ему захотелось умереть. Он застонал, по-взрослому, по-больничному, и в темноте вдруг открылся светлый проём. Луна взглянула на него и произнесла женским голосом:
«Живой, курва. Живой, холера ясна. Матка боска, что же ты полез на тот брезент?»
Луна становилась всё ближе и ближе. И вот она уже слепит глаза. Нильс хочет прикрыть их, поднимает руку к лицу — в руке зажато что-то, и он не может разомкнуть пальцы. И тогда он достаёт это зубами, вытягивает, как отец вытаскивал папиросу из пачки.
Это перо. Серое перо. В зубах у Нильса торчит перо, и он чувствует во рту вкус сырой курицы. Кажется, оно живое и сейчас скажет знакомым голосом:
«Не смогу? Не смогу-у-у… Хе-хе! Да ещё как смогу! Летим! Я давно мечтал бросить это быдло и уехать в эмиграцию!»
Эмигра-а-ацию. Так он говорил, его дикий гусь, что когда-то оказался один среди покорных рабов, его боевой боинг, его несгибаемый боец, мужественный воин против природы и законов аэродинамики. Нильс плачет, не разжимая пальцев, и свободной рукой достает перо изо рта. Он успевает спрятать его под мышкой, когда сильные руки, пахнущие пивом и картофелем, поднимают его и прижимают к себе.
«Кто ты естэсь?»
6.
Думая о Нильсе Хольгерсоне, я ехал в автобусе в Национальный аэропорт к маме и разглядывал пассажиров. С Нильсом всё обошлось, а вот обойдётся ли с ними? Некоторые из них, видимо, полетят вместе с моей мамой — и что бы я ни делал, в голове моей мелькали разные ужасные, но очень чёткие картинки: лес под Смолевичами, разбросанные по светлым, выгоревшим от солнца ёлкам вещи, огонь расходится всё дальше и дальше. Сто пятьдесят трупов, не выжил никто, и голос по телевизору скажет, что на теле родины появилось ещё полторы сотни шрамов.
Жуков Луг, Королёв Стан. Поэзия Минского района.
Я знаю тот лес около аэродрома. Сквозь ельник белеют тела самолётов, взлётная полоса прикасается к опушке бетонной стеной, колючие сухие цветы дрожат на ветру, трава — тоже аэропорт, откуда ежеминутно поднимаются в воздух грузные шмели. И если в аэропорт ехать поездом, то железная дорога проходит как раз через этот лес, редковатый, жидковатый, но полный цветов, будто лето здесь устроило свою лабораторию. На лесных поворотах поезд замедляет ход — и хочется выскочить, упруго ступить на хвою, поиграть в партизан. Хотя этот лес возле аэродрома красивее осенью. Я уже ездил как-то встречать маму из Испании. На опушке я нарвал ей цветов. Хотя я что-то путаю, какие цветы? Цветы были, когда она вернулась из Афин.
Автобус поднимается к самому терминалу, в дверях застревают чемоданы, я помогаю, наклоняясь совсем близко к чьим-то волосатым рукам: а с рук смотрят часы, у них лицо моей мамы.
Опаздываю.
В терминале холодно и гулко, как в бассейне.
«Где ты ходишь? — она бежит мне навстречу. — Привет! О господи, ты чуть ходишь, круги под глазами, тощий весь как не знаю кто. Отвезёшь это — и спать. И вот номер, позвони и договорись, только сегодня, обещай, там ждут!»
«Мама! — я с ужасом посмотрел на то, что у неё в руках. — Мам, ты же знаешь, что я… Вот чёрт, ну ты же могла более что-то…»
В одной руке у мамы была бумажка с номером.
А в другой — пакет.
Пластиковый пакет с иностранными буквами. Пакет средних размеров, а в нём ещё что-то, упакованное в непрозрачный, подозрительный, непростой, прыщавый целлофан.
«Мама, ну ты бы хоть в сумку положила… Ты же знаешь, я ненавижу пакеты… У меня с собой ничего нет, знал бы, заплечник взял… Ну как я буду с пакетом ходить целый день… Как дурак…»
«В сумку? В женскую?» — хитро прижмуривается мама. Конечно, она боится, что я гей, хотя и не признаётся в этом. Но теперь она шутит. Просто шутит и целует меня в лоб.
«А что там?» — говорю я хмуро, устраивая пакет между ног. Тяжеловат, холера. Но не слишком.
«Где?»
«Ну, в пакете этом…»
«Любопытная ты Варвара. Много будешь знать… В общем, держись, ешь и спи побольше, вот тебе деньги, чтоб ел каждый день. И не забудь позвонить и отдать пакет! Всё, давай-пока!»
И она бежит на контроль. Вокруг неё всегда всё начинает двигаться быстрее. Ей шестьдесят один, а она всё бегает, летает, устраивает, кричит, когда надо кричать, и хитрит, когда надо быть хитрой. Моя мама — птица. Не гусыня, не курица, не воробей, а некая смесь совы и орла. И её такие частые сезонные миграции меня пугают. Что если однажды… Смолевичский лес, выгоревшие ели, сто пятьдесят шрамов. И пакет у меня в руках.
У меня очень деловая мама. Она трижды была замужем, к третьему мужу переехала, а квартиру оставила мне. Нашу старую однокомнатную в самом центре. Деловая, стильная, богатая мама, благодаря которой я ещё не умер с голоду, — а вот же, она до сих пор думает, что я способен ходить по городу с пакетом.
Я вижу, как она исчезает в недрах терминала.
Я кручу в руках бумажки — номер, деньги.
У моих ног стоит пластиковый пакет. Будто меня попросили посмотреть за чужим ребенком. Нужно как можно скорее от него избавиться, подумал я, зевнув. В течение часа. В течение целого часа я буду человеком с пластиковым пакетом. Опять буду человеком с пластиковым пакетом. На меня будут показывать пальцем все минские солнцепоклонники.
Какой это всё-таки позор. Казалось бы, ну пакет, ну и что. А хочется просто взять его и выбросить. Забыть где-то здесь, в аэропорту. Представляю, какой будет переполох, когда они его найдут. Одинокий ничейный пакет под скамейкой. Обнаружение бесхозных подозрительных предметов. Сапёров вызовут, пассажиров эвакуируют.
Я поехал по эскалатору вниз. Держа в руке пакет так, чтобы всем было ясно, что он не мой, я прошёл мимо милиционера, который ещё долго смотрел мне вслед. В метро меня обязательно проверят. Чёрт, а я даже не знаю, что в нём, в этом долбаном пакете. Я вышел из мраморно-мармеладной прохлады Национального аэропорта и пожалел, что мне нужно в город. Сейчас бы в лес или на озеро. На речку… А я тут с пакетом — с вещью, с которой ни поговорить, ни выбросить, ни забыть её, ни убить…
Маршрутка была пуста, только лето сидело там, на мокром от пота седалище, у лета было мокро между ног, и оно смеялась над нами, и светило нам, и крутило ручку своего безумного радио. Духота этого микроавтобуса оглушала, будто непрерывный шум. Горячие волны набегали на лицо — и если бы не мама…
«О господи, да тут просто газенваген», — сказала женщина за мной и толкнула меня в спину. Пакет вошёл и сел у окна. Пакеты не потеют.
«До Уручья, — сказал я, сунув деньги. — Нет, давайте до вокзала».
Микроавтобус постоял немного — и вот они, бегут, балакая на ходу, люди из другого лета. Из Алматы, Алибабаевска, Ашгабата, Апшерона, Анапы, Альфа-Бета-Центавра. Моё минское лето и их, приехавшее на ленте с багажом, зажаты в одну маршрутку. И вместе мы — атомный реактор лета. Взорвёмся?
«Занято»?
Я убрал пакет, прижал к себе, чувствуя, как бьётся его сердце.
«До метро, до метро, до метро», — заговорили все одновременно, и я закрыл глаза.
Человек с пакетом.
7.
Можно было, конечно, набрать номер просто в маршрутке: «Алло, добрый день, это от Оксаны Ивановны, её сын, она просила вам пакет передать, где мы можем встретиться? Что? Хорошо, хорошо, гут, я говорю, я Оксаны Ивановны сын, мне вам тут один пакет передать нужно, куда подъехать?»
Можно было. Но холера на него, на пакет и на маму… — нет, на маму холеры не надо, я её люблю… — а не люблю я говорить по телефону, особенно когда меня облепили люди, пусть они и из чужого лета, не из моего, не люблю навязывать свой голос, свою жизнь, свои заботы. А им-то плевать. Они без комплексов: стоило маршрутке вырваться на простор шоссе, как все вынули свои смертельные смартфончики да загомонили врассыпную и вразнобой — да всё о себе, о том, что долетели, что скоро будут дома, или что ещё долго не будут, или просто что всё нормально, нормально, нормалды, как один мой знакомый говорит, с ударением на последний слог, что было классно, а будет ещё классней, что погода в Минске просто
зашибись
заебись
закусь
готовь, я уже в маршрутке сижу, скоро увидимся — и всем им, по-моему, просто нужно было объявить миру, что они есть, есть, и ничего ты с этим не сделаешь, поэтому терпи, слушай и делай вид, что ничего не слышишь.
Вот и не стал я никому звонить — подумал, что на вокзал доеду, оттуда и позвоню, договорюсь, с вокзала в любую точку доехать легко, если только не в Уручье, конечно, или на восток пакет отвезти надо, но это вряд ли, решил я — сам не знаю почему.
Минск был близко, выставлял из леса плакаты, как ладони, — мол, спасибо, не надо мне вас, пассажиров, летите мимо — вот и пролетайте, и мне так хотелось, чтобы народ в маршрутке затих, хотя бы на минуту. А если им всем так хочется поговорить, можно же затянуть вместе какую-то песню. Хорошо бы сейчас всем вместе грохнуть, хором, лихо, качая головами, бессмертный хит:
«I am a passenger!»
Но они ведь не знают слов. Я был абсолютно уверен, что никто в этой маршрутке не знает слов иггипоповой песенки. Зато радио знало, что им по душе: «не вешать нос, гардемарины, дурна ли жизнь иль хороша», вот это они знают, сами забыли откуда, но знают, подпеть могут, а мне только рот раскрывай. На языке радио в маршрутке это называется: ностальгия. Если двадцать человек тихо подпевают носом:
«Едины парус и душа, судьба и родина едины».
Маршрутка неслась в Минск. Мы и правда были теперь заодно: пот, дыхание, парус, душа, судьба. Родина, правда, была разная, но где ты с самолета сошёл, там и Родина, таков закон летучих людей.
«Хорошо», — сказал какой-то гардемарин лет пятидесяти: он вываливался из своей безрукавной майки, расползался, как волосатое желе, его пот струился у меня по колену.
«А харашо жыць ешчо луччэ», — обернулся кто-то и засмеялся.
«Не вешать нос», — наклонившись, посоветовал мне гардемарин, русский гость нашего города, Муравьёв — невешатель белорусских носов, и ткнул доброжелательно кулаком мне в пакет.
Около метро желе выползло, за ним выскочили, как горох, пирожковые жопы моих спутников, рубашки прилипли к коже, водитель брякнул дверью и сонно развалился на сиденье. Маршрутка, как на автопилоте, покатилась по проспекту, вот сейчас доедем до вокзала, и там, в полумраке платформы, я и позвоню… Пакет рухнул мне под ноги, я поднял его и прижал, этот пакет был как мяч, который мне нужно было сегодня загнать в какие-то, неизвестные мне пока что, ворота, я буду бегать с ним, защищать, держать своими загорелыми голенями и худыми икрами, прятать под мышкой, обрушиваться всем телом, регби — вот на что это похоже, регби на поляне города, я — против сборной Минска, против двух миллионов человек, регби под хохот солнца, под рокот трибун, под рёв соперников — надо от него избавиться, надо убить, вынести за линию их лета — и как можно скорее вернуться в своё. Беззаботное, беспакетное, бестактное, бесконтактное лето…
Маршрутка забежала трусцой под своды автовокзала, я вышел, чувствуя, как расширяются поры, — и только тогда понял, как там на самом деле жарко, за границей тени. Остановился, стал в полушаге от ада, держа ногами пакет, набрал номер.
Занято. Занятые люди могут себе это позволить, а я нет. У меня лето, а у них летучки. Я размечтался, а у них лютые начальники, ляпы, липовые печати, люпус эст, лупанарий тут у вас, доллары, я в доле, давай лапу. Деловые люди. Бля.
Ну и что? Пусть себе. Тебе-то что?
Самое время позавтракать, решил я — и мы с пакетом совершили марш-бросок к железнодорожному вокзалу, солнцем палимые, под табло чуть живые прибежали и тут уже обтёрлись — ручки у пакета мокрые, скользкие…
Чёртов пакет. Сколько ещё будет длиться это рукопожатие?
По эскалатору мы доехали наверх, я взял себе два беляша и кофе. Общипанная, обещепитовская соблазнительница, не спрашивая, разогрела беляши до температуры, при которой гибнет всё живое. Чувствуя, как мои папиллярные линии на подушечках пальцев запекаются до твёрдой сплошной корочки, я взял оплавленный пакет и прильнул к столику. Плексигласовая стенка — вот и всё, что отделяло меня от пропасти. Какое всё же зарёванное словечко: плексиглас. А может, и нет плексигласа этого, а? Может, это просто такая невидимая прозрачность? Из чего это всё сделано, из чего сделан этот город? Почему он не тает при такой температуре?
Вокзал подо мной гудел, как заводской цех. Здесь производили что-то секретное, у лета не было сюда пропуска, вон его раскрасневшееся лицо прижимается к стеклу. Беляши всё никак не остывали, я уже и кофе выпил, и снова набрал номер, и ещё раз: занято. Гудки. Гуд. Вери гуд. Двери губ. Зуб. Им не кусать, заболит ещё.
Я люблю беляши.
И люблю играть со словами.
Я стоял, ждал, пока у моего завтрака снизится температура, и думал, что никто в этом городе не умеет играть словами так, как я.
Я мог это доказать.
Ну вот: я люблю беляши. Для меня это звучит признанием в любви от гражданина солнечной среднеазиатской деспотии.
До кого не дошло, я не виноват.
И ещё раз набрать номер. Сказать: «Алло, здравствуйте, я от Оксаны Ивановны…»
Занято.
Я люблю беляши.
Только вот беляш сейчас уже не тот. Особенно на вокзале. Бледный пошёл в Минске беляш, какой-то мокрый, словно их в лужах вымачивают. А не мокрый — так подгоревший. Много белого теста, мало серого мяса. Все кривятся: как ты их ешь? Это же не просто фаст-фуд, это белорусский вокзальный фаст-фуд, фу, что за крысятина в твоём круассане? И они правы. Беляш уже не тот. Но я знаю одну уловку: когда я ем беляш, я ем собственные воспоминания. Воспоминания о своей молодости, когда их делали с любовью. С мясом, из хорошо пропечённого теста — и с любовью.
Что-то не так с этой страной. Здесь все цепляются за старое — но давно разучились его готовить. Мёртвый фаст-фуд из советского Минска не способен заменить собой ни макдоналдс, ни кейэфси, но без него, советского фаст-фуда, здесь невозможно представить себе вокзал. Мы жрём собственные воспоминания. И они не кончаются. На вокзале нам хочется воспоминаний, последний раз, из микроволновой печки, ведь кто его знает, как оно повернётся, поэтому: мне воспоминание, будьте добры. С майонезом. И кетчупом. И салфеточки не забудьте.
Сосиска в тесте. Чебуреки по-мински. Беляши. Пицца с варёной колбасой. Они лежат за стеклом витрины, холодные и совершенные в своей целлофановой красе, — они похожи на музейные экспонаты, застывшие и очаровательные, они дошли до нас сквозь века. Может, потому продавщица так удивляется: что? Вы сказали: беляш? Неужели вы будет есть музейный экспонат? Вы что, не видите? Руками не трогать!
«Хочешь? — говорю я пакету, подбрасывая на языке всё ещё горячее мясо. — Ну как хочешь».
У пакетов нет воспоминаний. Они сами — воспоминания.
Когда-то я любил приезжать сюда, на железнодорожный вокзал, старый ещё, приезжать не просто так — а чтобы провожать поезда. Международные составы: Москва — Берлин. Москва — Амстердам. Москва — Варшава. Москва — Варна. Москва — Прага. Я тогда был студентом и часто прогуливал занятия, приходя сюда с пачкой «Союз — Аполлона», сам юный, как Аполлон, пленник этой удивительной страны, откуда, я знал, мне никогда не вырваться. Я садился на свой пёстрый пакет с учебниками и конспектами и смотрел, как одни счастливчики загружают в вагоны свои чемоданы, начинённые будущим и чем-то ещё, мне они все казались эмигрантами, эти минчане, которые ехали на запад, я даже мысли не допускал, что они могут вернуться. А другие везунчики, москвичи и москвички, дорогие россияне, выходили покурить, поплёвывали на нашу святую землю. Дякую тоби, боже, що я не москаль. И благодарю тебя за то, что я родился и живу в крупном железнодорожном узле, городе, через который уже почти полтора века всё течёт и течёт железная дорога, наша вторая река.
Я набрал номер.
Занятые же там, однако, люди. Вот мама. Могла бы оставить что-то кроме телефонного номера. Не при лучине, поди, живём.
Скайп? Lucy in the skype with diamonds… Вайбер? Die Weiber. Lucy ist das Weib mit Diamanten.
Я сходил в туалет и вылил себе на затылок холодной воды. А затем подхватил пакет и вышел в этот кромешный ад.
8.
Если ты на вокзале и впереди у тебя целый летний день, который ты ещё не знаешь, как скоротать, — ты идёшь на Проспект.
Ты идёшь. Я иду. Ты — это и есть я, в данном случае. Язык всегда даёт нам тень местоимения.
Я вспомнил, что читал как-то книжку одного немца, Нильса Хольгерсона… тьфу, какого Нильса, вот же прицепился: Томас Бон, вот как его звали, этого умного немца. Книжку, где он пишет о феномене минской урбанизации. И приводит, между прочим, результаты одного опроса. У минчан поинтересовались, что они считают центром своего города. Некоторые назвали Platz des Sieges, другие — Platz der Unabhängigkeit, третьи — Oktoberplatz. Но большинство — большинство объявило, ohne jedlichen Zweifel, что центр города для них — Проспект. Тот самый, который я помню ещё Ленинским. Тот самый (самый длинный в Европе, самый солнечный в Солнечном городе, незнайки об этом и не догадываются) проспект, который разрезает Минск, словно луч гиперболоида, — вот он и есть: центр.
Люди, которые назвали длиннющую прямую линию центром, должны иметь особое мышление. Если центр для тебя линия, ты ни к чему не привязан. Линия — это бесконечность, и потому какая на хрен разница, где начинается этот город и где заканчивается, 1049 или 2049… Как от Малиновки в Уручье прокатиться. Надеюсь, пакет не в Малиновку надо будет везти, помолился я тихо своим богам, нарисовав в голове образ этой отдалённой местности. Только не Малиновка, только не она, прошу тебя, отче наш, который еси беляши в своих небеси.
И снова набрал номер. О чудо. Сейчас там просто никто не брал трубку.
Как же хорошо было провалиться под землю в подземный переход — но вот и почтамт уже остался позади, я лениво двигался вперёд, как бревно, что плывёт по реке, натыкался на солнечных зайчиков, водоросли чьих-то дредов, спины человеческих пней, проспект нёс меня, будто утопленника… Наш длиннющий проспект, бесконечный, как этот день… Хотя почему бесконечный: перекрёсток с улицей Ленина — утро твоё, Парк Челюскинцев — твой полдень, Национальная библиотека — вечер твой, о проспект. Моя голова была нагрета так, словно я был Дзержинский в сквере напротив кагэбэ: какбэ Феликс, какбэ феникс, и горячий ветер дул на меня своим электрофеном —
господи, это лето меня убьёт.
Если этот зной забудет чувство меры, он испепелит город дотла. И нас, приматов, пантофагов с пакетами, текущих в своём ужасном множестве, с талым мороженым вместо мозгов, с тёплым пивом вместо сердца.
Так думал я, двигаясь к тому перекрёстку, где Ленин, ГУМ, «Макдоналдс» и Нацбанк забили свою бандитскую стрелку.
Лето испепелит этот город. Уцелеют те, кто одержим потребительским инстинктом. Уцелеют те, кто среди рабочего дня бродит прохладными галереями торговых центров, кто выбирает себе купальники и плавки, кто спустился в подземные царства, чтобы за шторкой примерить на себя «што-та оччэнь красивое, што-та оччэнь модное», примерить на себя скидку в самом низу униженного летом города.
Уцелеют немногие. Пассажиры метро. Если пакет нужно будет везти дальше чем на площадь Победы, я обязательно поеду на метро, подумал я. Метро вернёт меня в твёрдое состояние. Из Туркменистана бессознательности в Скандинавию осознанности.
Уцелеют те, кто спрятался за толстыми стенами музеев.
Уцелеют те, кому не хватило места в тесной маршрутке лета.
Бревно доплыло до Центрального. Я сполз на пластиковое кресло и заказал себе пива и кваса. Квас — от жажды, пиво для того, чтобы отметить то, что я всё ещё жив. Осушив первый кубок, я взялся за другой — и тут за мой столик бухнулся он. Человек из детства.
Макася. Макасёв. МcАсёф. Буквы поплыли передо мной раньше, чем мерзкий голос наполнил их смыслом, содержанием, формой. Что я о нём помнил? Ничего. Ну, может, кино. Да, мы ходили в кино. На «Полёт в страну чудовищ». Зеленохвостые «чудовишчы». Кажется, автор этой детской книжки — тот ещё лукашистик.
«Здорово, — сказал Макася. — Что, не узнал? Я тоже думаю: ты, не ты. А это ты».
«Здорово, — сказал я. — Если ты Макася, это я. А если нет, то соответственно не совсем».
«Чего?» — Макася вытер лысину. Лысина была втрое больше, чем у меня. И брюхо у него втрое превосходило моё. И вера в себя. И даже лето его было больше: с Макасёва текло. По усам, и в рот попадало. Макасёв разваливался на куски. Макасёв уплывал от меня. Цветная лужа.
«А, ну да, я слышал, что ты на мове говоришь, — сказал Макасёв. — Мне Пискун рассказывал. Он говорил, видел тебя недавно. Года два назад. А чего ты вдруг на мове? Угости пивом, а?»
Я неохотно позвал официантку.
«Ну как ты? Где ты? А у меня нормально всё. Охранником вот устроился. В “Момо”. Квартиру построил. В Малиновке. Сколько лет, а? Сколько зим. Девушка! Пиво! Мы тут пиво заказали, вы что, забыли? Может, хватит уже трещать, здесь люди ждут. Так как ты? Чего на встречи выпускников не ходишь?»
«Нормально», — я отпил из своего радужного пластика.
«Ну и жарит, блядь, просто мозги прожигает насквозь, — вздохнул Макасёв. — То, блядь, дожди. То, блядь, тридцать в тени, на хуй. Девушка! Такая молодая и такая курица. Неси уже пиво, где ваша культура обслуживания? Вот так, ставь сюда. Тёплое, блядь. Всё тёплое. Пиздец. Я вчера салатом отравился. Взял салатик. Ага. Всю ночь фаршил. Сегодня чуть поднялся. Я сутки через двое. Хорошо, выходной сегодня. Тебя вот встретил. Давай, за встречу».
Я допил пиво. Он жадно, но аккуратно осушил пластиковый стакан на треть и ухмыльнулся.
«Это хорошо, что я тебя встретил. Приятно на счастливого человека посмотреть. Да… У тебя вот всё заебись. А мы люди простые. Но выживаем как-то».
Я хмыкнул. А он понёс дальше:
«Народ у нас такой. Всё перенесёт. Всё стерпит. Войну вот как-то пережили, и это переживём. И кризис, и хуизис».
«Какую войну?»
«Ну, Великую Отечественную. Какую ещё. А помнишь, как мы у тебя дома города строили? Из книжек?»
Я никаких городов не помнил. Тем более построенных вместе с Макасёвым. Честно говоря, вместе с Макасёвым я бы не то что город — даже каркасный дом не взялся бы строить. Даже туалет. Да ещё из книжек?
«А ты правда Макасёв? — спросил я, посмотрев на телефон. — Что-то я засомневался».
«А кто я, по-твоему? — Макасёв жадно засосал в себя всё, что осталось. — Ты чего? Мы же с тобой вместе учились. А? Ты чего, братишка? Солнышко в головку бобо? Да… Правду Пискун говорил, задрал ты нос. А чего задрал? Вот что в тебе такого, что ты себя лучше нас считаешь? А, блядь? Что?»
Я помахал официантке. Макася схватил меня за руку:
«Да ладно тебе. Шутка. Может, ты и правда лучше. Я ж тебя помню. Как тебя учителя облизывали, ты же у нас хорошо эти, как их… диктанты писал. И эти, как их, блядь, сочинения. Я просто о чём. Ты нос не задирай. Будь проще лицом. Я вот с тобой как с человеком. Блядь, даже обнять тебя захотелось. Давай ещё по пиву, а? Так хуячит солнце, не могу, надо пива ещё взять. Закажешь?»
Меня спас телефон. В надежде, что это неизвестный, но амбициозный продюсер нашёл, наконец, мой номер, чтобы предложить мне тысячу баксов за сценарий мультфильма о Нильсе Хольгерсоне, я схватил трубку и сказал, что слушаю. Слушаю. Слушаю и п-подумаю. Макасёв нетерпеливо собирал жирный пот со своей плеши в помятую салфетку.
«Вы мне звонили, — сказала неуверенно трубка. Молодой мужской голос. Такие в копировальных центрах работают. — С вашего номера».
«Ага, — обрадовался я. — Я от Оксаны Ивановны. Мне вам надо пакет передать. Она просила. Я её сын…»
Трубка нерешительно молчала.
«Так где мы встретимся? — бодро спросил я, словно не было никакого лета над тем красным зонтиком, под которым мы прятались с Макасёвым. — Может, давайте поближе к центру? Если вам удобно?»
Трубка вздохнула:
«Пакет? Вы ошиблись. Не туда попали».
«Подождите!» — я перезвонил, но мне ответил тот же голос, голос задушенного летом человека, который не хотел никаких пакетов, не знал Оксаны Ивановны и вообще относился ко мне всё более подозрительно.
«А что у тебя в пакете?» — спросил Макасёв и тут же полез к нему своими мокрыми пальцами.
«Не твоё дело», — заметил я. Видимо, номер неправильно записал. Или мама. Скорее всё же мама. В спешке, невыспавшаяся, спиногрызу своему не тот номер дала. Цифру перепутала. Пакет дала, а номер не тот. Хоть ты теперь наугад звони. Надо ей эсэмэс послать. И Макасёва послать. И самому идти дальше, в лето.
«Я пива закажу, — обиженно сказал Макася. — И водочки. За встречу. Ты же при деньгах, а у меня временные трудности. Девушка!»
«Я в туалет схожу, в Макдак, — я поднялся и схватил пакет. — Закажи, конечно. И пива, и водочки. И закусить».
«Давай, — Макасёв схватил с соседнего столика меню. — Только салатик брать не будем. А то потравимся. Стой. А чего ты с пакетом? В туалет?»
«Там… Там косметика, — сказал я, твёрдо глядя ему в глаза. — И прокладки. Я же пол поменял. Я теперь женщина, Макасёв. Так Пискуну и передай, когда следующий раз увидишь. И всем нашим. И салатик возьми всё-таки. С селёдкой. Тут такие салатики — пальчики оближешь».
И, помахивая пакетом, я победно двинулся к метро мимо ошеломлённого Макасёва. А может, это был и не Макасёв. Спрятавшись в тень у памятной доски жертвам теракта, я написал матери отчаянную эсэмэску:
Ty dala mnie niеpravilny numar. Nie mahu pieradac pakiet. Cakaju pravilny. Tvoj syn.
Наверное, я был единственный в этом городе, кто пишет эсэмэски по-белорусски латиницей. Жаль только без диакритических знаков.
Мама всегда смеялась, когда я писал ей: cakaju. «Я читаю это как “какаю”, — говорила она мне при встрече. — И вспоминаю, как ты был маленьким и правда какался. В колготки. Тогда все малыши колготки носили. Такие трикотажные. Мальчики — голубые, девочки — розовые. Представляешь себя в голубых колготках?»
9.
А вот что дальше-то? Дальше что было бы с тем моим Нильсом?
Об этом думал я, человек-лето, выползший с другой стороны Проспекта и млеющий у светофора и мечтающий побыстрее нырнуть в тень Александровского сквера. Туда, к Купаловскому, где фонтан, где дети и дырка в лете, стремлюсь я, дикий и свободный посреди этого сумасшедшего дня, дёблинский, дублинский герой с целым пакетом неизвестно чего. Что ожидало бы его, Нильса, в той польской семье, которая приютила мальчика, упавшего с неба?
Мама. Ответь. Напиши. Номер. Мне нужен правильный номер. Этот пакет связывает мне руки.
Ну, Нильс — парень, к работе привычный. Пришёл бы в себя, и взяли бы его в батраки, документы ему справили бы. Разве не справили бы? Нет, та польская семья, во двор которой упал Нильс — мальчик с гусиным пером, зажатым в упрямой руке, — нет, не такая глупая это была семейка, чтобы сразу признаваться, что к ним с неба хлопец прилетел. Они бы его спрятали, ведь соседей поблизости не было, так, почтальон проедет раз в неделю, — а он бы им дрова рубил, в сарае убирал, в поле управлялся бы. А за это имел бы и хлеб, и мед, и бигос по праздникам, и новую одежду.
Почему-то семья, которая приютила Нильса, казалась мне похожей на героев книжки Марселя Райх-Раницкого «Моя жизнь». Был такой знаменитый немецкий литературный критик, еврей, который во время оккупации убежал с женой из Варшавского гетто — и нашел убежище у поляков, которые укрывали его чуть ли не до самого конца войны. Райх-Раницкий рассказывает, как относились к нему те поляки: заставляли работать, боялись каждую секунду, что из-за него их арестуют и расстреляют, грубые, полные предрассудков люди. Но немцам беглого еврея с женой они не сдали. Спасли две жизни. И он был благодарен этим полякам до самой смерти.
Ну вот примерно так я их представлял. Нильсу у них было хорошо. Но не для того ведь он в лилипута превратился и на гуся залез, чтобы перелететь через границу и так и прожить до смерти батраком на чужом хлебе. Нет, Нильс хотел забраться ещё дальше. Туда, где никто из его родни ещё не бывал.
На Запад.
Я сел у фонтана, лицом к театру. Пакет прислонился к скамье, как будто щекой прижался. Купаловский дразнил своим парижском видом. Театры всегда похожи на торты — а самый большой торт в Минске, это, конечно, оперный. Ба-альшой торт оперы и балета. Бисквит на бис.
Купаловский не ба-а-льшой, он маленький. И за это я был ему благодарен. Я вообще всегда был благодарен в этом городе всему маленькому, мелкому, незаметному, неброскому. Театр не должен быть больше самого себя. Купаловский — соизмерим: и своему масштабу, и своим амбициям. Гигантомания здесь была бы некстати. В Купаловском не так давно открылась «Аустерия» — с террасой, на которой вечером иногда танцуют вальс. Вечером, когда солнце садится в такси и уезжает куда-то на юго-запад, на проспект Жукова. Теперь терраса была пуста — только какие-то жрецы Мельпомены пили кофе, прижавшись к стене, подальше от солнца. Что бы они сказали, если б я сейчас пустился вальсировать прямо перед ними, обняв свой пакет за целлофановую талию?
Они только внутри театра, на сцене, такие творческие. Здесь, за столиком «Аустерии», им хочется, чтобы мир был нормальный. Всем хочется, чтобы мир вокруг был нормальный и подчинялся законам, а внутри себя можно быть сумасшедшим, гением, кем угодно. В мыслях мы позволяем себе всё, но от других требуем ограничивать себя правилами.
А лето смотрит на нас и смеётся.
«Жарища», — сказала девушка на высоких каблуках, проходя мимо и держа под руку свою подругу, на таких же ходулях. И они тоже — театр. Невидимый уличный театр.
Она споткнулась, когда я про неё подумал. Подвернула ногу. Лучше я не буду думать о людях, решил я, поднимая пакет.
Лето жарило одинокого милиционера на сковороде рядом с президенцией. Я спасся в «Ведах» — этом книжном магазине, в который стоит ходить только ради букинистического отдела. Прохлада обдала меня, как вода, и я почувствовал, какой я всё-таки мокрый. В «Ведах» интересная цветовая гамма — начинается всё с ярких, светлых цветов, с новых, блестящих, таких позитивненьких книжек, а чем дальше идёшь мимо их румяных мордочек, тем темнее становятся полки, и вот уже ты в букинистическом, здесь царят чёрные, коричневые, буро-зелёные, потёртые, тёмные от времени обложки, будто ты прожил вместе с ними целую жизнь, с утра и до вечера…
Как всегда, в букинистическом какой-то дед, пахнувший мочой и мачизмом давно минувших дней, разбирался с терпеливо-громогласной продавщицей. Он пришёл за деньгами, он урчал и шумел газами и всё никак не верил, что за его сокровища дадут так мало. Да и сокровища брали не все — увы! и он, навалившись на прилавок, пыхтел по-белорусски, на своей, интеллигентско-крокодилгентской мове:
«Я ведь не лишь абы что сдавал. Это же классика, спадарынька моя дорогая, такую сейчас не пишут! Что, молодые могут что-то похожее создать? Ерунду вы городите! Вы же посмотрите, это не макулатура какая-то, это Произведения! Произведения! На века!»
«Толстой есть у нас, хватает у нас Толстого, вот, видите, везде Толстой, мы берём, берём, я же не говорю, что мы не берём!..»
Я укрылся в русскоязычном отделе. Одна книжечка, другая, третья — все с автографами. Жили писатели, чиркали свои посвящения, именные, каменные, ядрёные, так, будто вечно жить собирались, а теперь их дети, друзья, внуки и просто владельцы никому не нужного хлама несут весь этот арс лонга в лавку, на рублики менять.
Я бы надолго завис здесь, я уже не замечал ни вони мочи, ни надоедливого кукареканья обалдевших библиофилов — но тут телефон в кармане сказал, что до мамы, видно, наконец-то дошел мой крик о помощи. И правда, она прислала мне номер. Просто номер. Да, одна цифра была неправильная. Глупая цифра. Но: мама! Могла бы хоть слово написать. Занята. Весь мир занят. И только я…
Спрятавшись за книгами, я набрал правильные цифры.
«Да! — тут же, мгновенно, словно только и ждал, проговорил железный мужской голос. Словно сам Дзержинский в сквере напротив кагэбэ трубку поднял. — Да!»
«Здравствуйте, я от Оксаны Ивановны, — начал я вполголоса. — Она просила вам пакет передать».
«Рига, — строго сказал голос. — Знаете, где это?»
«В Латвии», — ответил я, листая альбом Михаила Савицкого.
«Это на Сурганова, универсам, — сурово оборвал меня голос. — Там и встретимся. Возле входа. Через полчаса. Я позвоню».
И гудки.
Я не люблю, когда со мной так говорят. Ни здрасьте, ни до свидания. Что я, сторож пакету своему? Он что, и с мамой так разговаривает, этот голос? Я почувствовал нестерпимое желание ему отомстить. Или хотя бы заставить его подождать. Или… или бросить пакет у ног, пусть сам наклоняется и поднимает. Или вообще никуда не ехать. Но мама. Маму нельзя огорчать. Мама просила.
Я вышел из «Ведов» и сразу же бросился вниз, в метро. Знойный город даже за локоть меня ухватить не успел своими огненными руками. Метро встретило запахом подземелья, подвала, сутинскими красками… Покой. Зной остался над головой, зной сюда не доставал, там, наверху, лето танцевало свои вальсы и марши… Я купил жетончик, поднял пакет, двинулся вперед…
«Молодой человек! — синий мужичок бежал ко мне, загораживая проход. — Пройдёмте, пожалуйста, на досмотр».
Эти синие мужчины — наверное, самая ненавидимая часть человечества в городе. По крайней мере, для меня. Они такие вежливые, что хочется дать им поджопник. Их вежливость — вежливость желваков, что ходят у них под скулами, когда они говорят свое: «пожалуйста, спасибо, счастливого пути». Надо было покориться, вздохнуть, презрительно сжать губы — и поставить свой злосчастный пакет на эту ленту. Пусть просветит, деятель народного просвещения. Но что-то вдруг щёлкнуло в моей голове.
«А чем это я вас так заинтересовал?»
Без смысла это всё. Когда начинаешь с ними говорить, они с этой их безупречной любезностью посылают тебя в офис своей конторы — мол, если есть претензии, обращайтесь туда в установленном порядке. Всё впустую. Но я остановился, прижал пакет к груди и сказал:
«Я говорю, чем я вас так заинтересовал?»
Он добродушно улыбнулся. Тоже — добродушность эсэсовца. Жёсткая такая, властная добродушность.
«У каждого своя работа».
Arbeit macht frei.
«Пройдёмте на досмотр».
«Я что, такой… подозрительный?»
«Молодой человек! Пройдёмте на досмотр!»
«Не пойду!»
«Ну так пешком ходить надо. Или на такси ездить, — издевался он, весело разглядывая мою футболку. — А в метро прохладно. В такую жару в метро зайти — как в бассейне искупаться. Пройдёмте».
«Не пойду, — я отошёл от него на шаг. Сам не знаю, зачем я это всё начал. — Поясните, пожалуйста, причины вашего ко мне внимания».
«Что? — он улыбнулся ещё шире. — Ничего объяснять не обязан. В случае отказа от досмотра имею право не пустить вас в метро. И всё тут. Если есть претензии, обращайтесь на…»
Я повернулся и пошёл назад, к двери. Почему-то мне важно было показать ему, что он не заставит меня пройти этот его досмотр. Интересно, что они делают в таких случаях? Особые приметы запоминают?
И тут через дверь ломанулся к турникету какой-то верзила с рюкзаком, таким огромным, что в нём мы с моим дурацким пакетом могли бы поместиться да ещё кого-нибудь взять с собой. Эсэсовец бросился к нему. Проход был открыт. Не знаю, увидел он или нет, но я подбежал и бросил жетон, и оказался в моём родном метро, в котором, помню, мы катались с тётей в день открытия новой линии, когда я был совсем мал, и потратили кучу блестящих новеньких медяков. По ту сторону синий охранник был уже не страшен. Я спустился по ступенькам и слился с толпой. Обожжённые летом люди светили сосцами. Лето разрешает. Лето выставляет нас напоказ: волосатыми и с плохо бритыми ногами, соскастыми сопляками, невкусными, вспотевшими, анатомическими.
«Нэкст стэйшан плошча Перамогi», — сказал молодой человек с голосом работника копировального центра, я бухнулся на свободное место и положил на колени пакет. Пакет был ещё тёплый. Будто в нём обед лежал. Обед неизвестно для кого.
10.
А и правда — что в нём, в этом пакете? Продвигаясь в направлении Академии наук, я перебирал разные варианты. И чем больше людей набивалось в вагон, тем более фантастические вещи приходили мне в голову.
Моя мама занималась продажами. Что это значит, всегда было для меня тайной. Но логично, вполне логично было предположить, что и содержимое пакета как-то связано с этими самыми продажами. Возможно, она продавала косметику, тряслось в моей голове, косметику, какой-нибудь максфактор, или чем там они теперь красятся, мама-менеджер, что ж такого? А у Гали, например, мама-мене-текел-джер. Целый пакет косметики, за который заплачено. Клиентка ждёт, клейкие ручки пакета липнут к её пальцам, спасибо и до свиданья.
Но почему тогда трубку поднял мужчина? Муж? Жирный менеджеркин жмот-муженёк. Ого-го, лето, ого-го, как же я играю с тобой в слова, без удержу, остановка за остановкой, нэкст стэйшн «Академия наук» — а оттуда зайцем на троллейбусе до Риги. Riga. Riiiga. Цветёт столица социалистической Латвии.
Я ощупал пакет. Косметика — это неинтересный вариант.
Может, там деньги. Целый пакет, набитый стодолларовыми купюрами. Это больше похоже на правду. Таким голосом, которым со мной говорили по телефону, может говорить только пакет, набитый стодолларовыми купюрами. Голос денег. Голый сокол с пакетом баксов в клюве: посмотрите, что я вам несу! Денежки. Денежки. Деньги-деньги, дребеденьги. А остальное всё дребебедень.
Дребебедень приближался к своему апогею. Троллейбусы плыли в горячем мареве, мирное небо над головой трескалось от навязшего на нём зноя. На остановке за Академией искусств кто-то лежал, лицо прикрыто, пару человек склонились над телом, ноги — неживые, подошвы такие трогательные, в подошвах вся человеческая сила, показал подошвы миру — всё, уже не жилец, а так, пациент. Где-то на проспекте трубила в рог «скорая», в рот лезла, в рот, к сердцу добраться, а зубы сводило, не пускали, люди и машины, машинолюди сновали тут и там, никому не хватало времени, почему этот, с подошвами вперёд, думает, что он может без очереди?
А может, в моём пакете лежит человеческая голова. Отрубленная человеческая голова, рассуждал я, спрятавшись на чёрном квадратном метре тени, пока мой троллейбус ждал зелёного на той стороне Проспекта. Точно, в нём голова человека. Голова мужчины, завёрнутая в газету, и ещё в одну, и ещё в один пакет с завязанными ручками. Я вёз к универсаму «Рига» отрубленную человеческую голову. Из свиных голов делают студень; студень, да. Студёная окрошка, вот что приятно есть летом, в жаркие дни. А у меня в пакете человеческая голова — с выпученными глазами, с носом, с ушами, с разинутым в тайной улыбке ртом. Отдать голову и выпить пива. Я всего лишь курьер — принял, привёз, сдал, подпись, печать.
Зайцем, волком, медведем, ланью быстроногой, не приложив ничего к валидатору БСК, ни уст своих, ни большого пальца, доехал я до «Риги» — и вот уже стоял среди рижан, заряжался от солнца минского, как смартфон, и росло во мне нетерпение. От этого пакета надо было избавиться как можно скорее: ведь всё крепче становилась его власть, всё ужаснее. Крепкая власть — порядок в стране. Голосуй, а то п… Вот он уже и воспоминания начал подбрасывать, пакетик мой ненаглядный, воспоминания про молодость, пошлую мою, прошляпленную, со всеми её глупыми и честными намерениями и мимолётными сантиментами, быструю и шипящую, шумную, счастливую своим отсутствием цели…
Когда-то здесь, внизу, прямо под ногами, пивнуха была: мы с приятелями ловили в пол-литровые банки молодое солнце, и сами были молоды, и мочевые пузыри у нас были непуганые, послушные, сколько ни заливай — перетерпит, почки работали по-пролетарски, пена дней оседала на нас мягко, как снег. И вот я снова стоял у той «Риги», и снова с пакетом, словно мне опять двадцать, и снова думал о пиве, и только приятели куда делись, и в «Риге» уже не совки сновали, а мои «Соседи», средний класс, соотечественники, потребители, ебить их мать.
Терранова, нью-йоркер, свитанок, кензо, секонд-хэнд…
Чтоб успеть закупиться до греческих долгих календ,
Нужно дома оставить своё представленье о мире.
Я держу в руке пакет и думаю о Нильсе Хольгерсоне. Вот кем ему надо было научиться быть там, за границей: в первую очередь потребителем. Научиться ориентироваться в скидках, исчезать в кабинках, примерять на себя сначала вещи, а потом уже людей и слова, брать скопом, платить в рассрочку, не пропускать распродажи, брать, беречь, экономить и струиться в толпе таких же существ, ничем не выдавая своей неудобоваримости для этого добавочного мира. У него должна была рано или поздно вырасти потребилка — и этот польский городок недалеко от деревни, где его приютили, был его школой, полигоном для потребителей, вот они, пожары красок на вещевом рынке, задуй их купюркой, казюрка ты, неизвестно откуда взявшаяся, упала на головы добрым людям. У рынка автобусная станция, оттуда можно до Бяла-Подляски добраться, а там уже и до Варшавы. Билет он себе купил втайне, из отложенных денег, и отпросился в туалет, а сам к кассе и в парк. Та хорошая семья его около кебабницы ждала, ждала, чавкала, потом всё же начали искать — до автобуса сорок минут, тридцать, двадцать пять… Где ты, Нильс? Может, в полицию заявим? Нет, у него же никакой бумажки нету, он мальчик с неба, мальчик, у которого только и было, что перо в руке серое да на ногах грубые ботинки неизвестной фабрики, да на теле подростковом — какое-то рубище. Он не может исчезнуть, потому что его и так нет. Он нигде не зарегистрирован, не застрахован, не ужален ничьим ужасом, никем не вписан в списки, ему только миску выдали и ложку, и мыло с зубной пастой «Colgate», изготовленной специально для стран Восточной Европы, которая, как известно, заканчивается за рекой Бугага, она же Лямпа-по, она же Амазон-ком. Ктуры хлопак, цо пан муви? Не вемы. Нильс? А он, Нильс, уже на вокзале картофель фри жрёт — а наевшись, на шоссе и вперёд, на запад. И вот он уже в кабине большой фуры, и водитель-краковяк спрашивает, кем он хочет быть.
«Поэтом».
Нет, конечно, он сказал это гораздо позже. И не водителю: курвамаць! — порыкивал тот с высоты своего Volvo Globetrotter XXL на мелкие суетливые машины.
Нет, Нильс сказал это самому себе — и испугался своих слов. В туалете берлинского вокзала, вот где это было. Через несколько лет. Тогда он знал уже четыре языка, а слово, произнесённое перед зеркалом, всё равно получилось на каком-то другом:
Поэтом.
Тогда он уже всех прочитал: от Шекспира до Бахман, от Фроста до Фрэйи Стоун, от столетнего Бродского до Ивана Блядского, петербургского классика 2017 года. Нильс уже знал, что хочет говорить с миром так:
как по-эт.
Но ещё не догадывался, что об этом лучше никому не рассказывать.
Нильс был поэт, а у меня пакет в руке. И если телефон звонит, пакет нужно держать ногами, чтобы кнопку нажать.
«Алло».
«Здравствуйте, я по поводу пакета…»
«Да, да, — бодро заговорил я, а соседи из “Соседей” сунули мне в лицо свои снулые морды. — Я уже на месте, давно вас жду, где вы?»
«Извините, — а голосок был женский, молодой, льстивый, ласковый, падкий на игры с тембрами, — Машина сломалась, жара, не могли бы мы с вами попозже договориться?»
«Могли бы, — мрачно сказал я, тщетно пытаясь попасть в узкую полоску тени, оставленную мне человечеством. — Могли бы. Да. А где?»
«Возле цирка, — поспешно и виновато сказал этот беседующий со мной бес. — Вам нормально возле цирка?»
И тут передо мной выросла она. Денежка.
«Вам нормально? Слышите меня?»
«Это вы? — сказала Денежка, не обращая внимания на то, что я по телефону говорю. — Ой, это и правда вы…»
За спиной у Денежки стоял хмурый пацан и держал за руку другого пацана, помельче.
«Вы пропали… слышите меня? Я перезвоню?» — плакал голос в трубке. Я крикнул, задерживая Денежку взглядом:
«Во сколько? Я там могу быть через полчаса где-то».
«Нет, я не успею, давайте через два. Через два часа, хорошо? Вам подходит? Извините, что так получилось».
«Ладно», — сказал я.
У меня в трусах прохладно.
Если бы. Ад там был, ад. Жареные яйца на обед лету. Пот, пот, пот, джек-пот для мистера Джулая.
А Денежка стояла и смотрела на меня с таким удивлением, что хотелось убежать.
«Это и правда вы».
«Правда».
«А что вы здесь делаете?» — её удивление было неподдельным. Меня просто бесят такие вопросы. Встречаешь кого-то из старых знакомых, а они спрашивают так, будто ты не в Минске родился, будто никогда не жил здесь: что вы здесь делаете? Будто шанс встретиться у людей, которые живут в одном городе, равен нулю.
«Человека жду… Ждал, точнее, — я запнулся. — А ты здесь живёшь где-то поблизости?»
«Ага, — она всё смотрела на меня из-под шляпы. Пляжной такой. Которая ей шла, чудо как шла, ей всегда всё шло. — Живу вот в том доме. Родители мужа там квартиру нам купили. А вы? Тоже здесь где-то?»
«Не-а, я в Малиновке, — соврал я. — А здесь по делам. Да. Ага. Вот».
«Познакомьтесь, это мой муж, Витовт, а это Франтишек, сын», — сказала Денежка, отступив на шаг.
Хмурый пацан протянул мне руку.
«Где твоя панамка? — Денежка широко раскрыла глаза и посмотрела на сына. — Панамка где? У тебя солнечный удар будет!»
«Не хочу панамку».
«Надень сейчас же! Скажи ему, чтобы надел, слышишь, Витя?»
«Панамку надень», — глухо сказал Витя и начал надвигать на голову пацану белую с обезьянами панаму.
«Ну, как у тебя, Денежка? Всё хорошо?» — Я подхватил пакет, показывая, что мне надо идти.
«Да…» — сказала она, глубоко вздохнула и повторила: «Да! А я почему-то думала, что вы… Мне сказал кто-то…»
«Что? Что, Денежка?»
«Мама, а почему он тебя денежкой называет?»
«Где твоя панамка?»
«У папы».
«Витя, ну я же тебе сказала, надень ему панамку, ты что, не видишь, жара какая?»
«Франек, надевай панаму!»
«Не буду!»
«Мне сказали, что вы умерли».
Я недоверчиво рассмеялся.
«Кто?»
«Не помню. На встрече выпускников. Вы же тогда не пришли, а мы всех учителей звали. И вам звонили. Много раз. И кто-то узнавал… И нам сказали, что вы… Глупо получилось. А что вы здесь делаете?»
«Да так. С человеком одним встречаюсь. Ну хорошо, я пойду. Счастливо, Денежка».
«Да, конечно. У меня теперь другая фамилия. По мужу. Шелег».
«Ну, разница невелика. Пойду. Держись!» — Я двинулся по лестнице вниз, размахивая пакетом слишком активно, наверное, потому что и правда разволновался, как дурак. А может, это просто жара. Никакой выдержки, одна выпечка.
«Подождите. Я сейчас! — бросила она своему семейству и пошла за мной. — Я же не просто так спрашиваю. Я помню. И вот вы. Так не бывает…»
«Что помнишь?»
«Когда вы увольнялись, вы мне сказали, там, в парке… Что вот, Денежка, когда-нибудь, через много лет, ты пойдёшь с мужем и детьми в магазин, выйдешь, а там я буду стоять. И ты сделаешь вид, что меня не узнаёшь. Пройдёшь мимо. Потому что учителей надо забывать. Обязательно надо забыть их, забыть, как их звали, и лица, и голоса, потому что когда начнёшь виноватых искать, то… То будешь искать среди любимых и среди своих учителей. Это ваши слова. Вы что, не помните?»
«Нет, — сказал я. — Давно это было. Чушь какую-то сказал. Чтобы тебя очаровать. Только мужу не говори. Потому что молодые супруги ревнуют к прошлому».
Мальчик подбежал к ней, обхватил колено, муж Денежки догнал его, взял за голову обеими руками.
«А что у тебя в пакете?» — спросил мальчик.
«Не знаю, — сказал я ему. — Видишь, я без панамки. И вот что со мной стало. Какой я старый и глупый. Забыл, что в собственном пакете ношу. Надень панамку, пожалуйста».
И я оставил их на ступеньках у «Риги», и слово «панамка» ещё долго со мной было, крутилось в голове, панамка, панамка, пан панам, пани пану? Панамерикен. Ну и что. Денежка. Один раз её поцеловал. Мне было двадцать три, ей шестнадцать. Молодой специалист и школьница. Ну, не Лолита же. И не Гумберт. Играли вместе, псину её выгуливали, по городу ходили, после уроков, далеко отсюда, прогулки вдоль Свислочи, звонок, полчаса, и всё вверх тормашками: вся школьно-государственная иерархия мнётся в моем портфеле, как галстук, сейчас она — на вершине, а я заплёванный солнцем плебей, раб ряби на её лице, и вот мы стоим на берегу мёртвой реки, и я её целую осторожно в висок, а она молчит, а потом тихо так, протяжно, печально:
«Я думала, вы сначала меня научите чему-нибудь важному».
Вот как. С обидой, с печалью — и с расчётом на то, что это я, её учитель, чему-то научусь. Сначала дать, потом брать. Больше я к ней не прикасался. И так ничему и не научил. А что было дальше?.. Ничего не помню. Что она обо мне подумала, встретив через столько лет?
А что она могла подумать?
Человек с пакетом. Который однажды оставил на её виске свой колючий поцелуй. Он так и остался там, на её коже. И кто знает — может, туда её после меня больше никто не целовал.
11.
За спиной у Комаровки я, стоя за круглым высоким столиком, съел кебаб. Большой, тёплый, кебаб был чем-то похож на сшитый вручную мешочек, набитый детскими подарками, которые всё время высыпались мне прямо в рот, а ещё на пальцы, на джинсы, на отнюдь не рыцарский стол, на асфальт, где суетились одуревшие от жары муравьи. Человек, который ест кебаб, должен широко открывать свой рот. Будто кричит.
Лаваш — резиновый, скрипучий, словно бумажный свёрток.
Я вытер пальцы о джинсы, высморкался… Почему-то в жару многие в Минске начинают сморкаться. Словно призывают зиму вернуться. Салфетка — словно с живота удовольствие вытер. Вытер, хитер змитер, и дальше пошёл жить. Серийный убийца.
Лети в корзину. Вот так. Промахнулся. Завтра дворник подберёт, нацепит на свою палку-копалку, похоронит салфетку вместе с её великой историей.
«Как это у вас нету пива? В такую погоду у вас должно быть ледяное пиво!..»
Кебабы для них — как кафетерий в универмаге. Где пожрать, там и пиво. Там и водочка. Законы ислама запрещают продавать пиво там, где кебаб. Но минчане дома. А кебаб нет. Лицо без гражданства. Ориентализм на службе самой толерантной в Европе страны.
Выйдя из спасительной тени кебабницы, я снова подумал про Нильса. Где я его оставил? Ах да, в берлинском туалете, где он смотрит на себя в зеркало и говорит странное слово: поэт. Тот, кто говорит слово «поэт», тоже должен широко раскрывать рот. По крайней мере немного шире, чем обычно. Так язык напоминает нам о том, что между кебабом и поэзией существует странная связь. Поэту нужен кебаб. Кебабу нужен рот. Рту нужны слова. Слова нужны поэзии. Поэзия нужна поэтам.
Это как город, где всё находится между собой в нелинейной, непрямой зависимости.
На одной из берлинских улиц юноша Нильс Хольгерсон увидит велосипед без колёс. Точнее, колёса у него будут, но нарисованные. Ржавый безногий велосипед будет висеть на стене, на цепи, и там, где должны были бы быть колёса, прямо на кирпичной стене будут изображены два колеса со спицами. В Берлине можно увидеть что угодно, особенно в придуманном будущем; этот удивительный велосипед был художественным произведением, а может, просто памятником чьему-то двухколёсному любимцу — и всё же Нильс застыл перед этой картинкой: абсолютно материальный велосипед, нарисованные колёса, ржавчина и розовая краска. Сними зверя с цепи, сядь ему на затылок и поезжай, кати, катись, катигорошек, в перекати-поле, Käthe Kollwitz с тобой, по берлинским улицам, на намазанных прямо в воздухе блинах, гнильс-гнильс-гнильс — и вот ты уже на Курфюрстендамм.
Наверное, тогда он и написал своё первое стихотворение.
Порадовавшись за Нильса и представляя никогда не виданный мною Берлин (интересно, бывает ли там такой же сопливый зной?), я перешёл улицу и бросился в подвал секонд-хэнда. До встречи оставалось ещё полтора часа. По ступенькам вниз — и вот я в безопасности. Искусственный ветерок, пахнет антимолью, одежда отклеивается от кожи, хороший подвал, мой фамильный склеп, я часто туда наведывался, время от времени покупал что-то, что-то этакое.
Стоя перед зеркалом, я рассмотрел себя в нём и пришёл к выводу, что выгляжу просто ужасно. У: чёрная футболка с надписью «404. Belarus not found», скомканная, застиранная, растянутая на шее, словно в неё слона просовывали, просторная, на два размера больше моего, такие футболки были популярны шесть лет назад в районе площади Победы в городе Минске. Жа: джинсы, которые выпучивались на коленях двумя отвратительными шарами, придуманные евреем американские брюки турецкого производства, засаленные, слишком короткие, на винтах. Сно: на босых ногах шлёпанцы-хлюпанцы, грязные, разбитые от ночных и дневных блужданий, нестриженые ногти выглядывают, как голодные дети. Ужасно. Лицо загорелое, немытое, счастливое, седая щетина просачивается у самых глаз, на голове сумбур вместо музыки, редкие взъерошенные волосы. Се человек. Сим победиши хаос и мерзость. Сим он говорит сим-сим-откройся городу М. в самый знойный день от начала времен, если верить часам «Луч».
А пиджачок ничего. Льняной. Купить такой, накинуть — и сразу из бомжаки превратишься в богемного иностранца, который от нечего делать ходит-бродит сонным Минском и бормочет что-то по-своему, по-иноземски. Двести тысяч, то есть двадцать рублей новыми, на рукаве пятно: где ты сидел, владелец пиджачка, в какой салат опустил задумчиво локоть, в каком городе с магдебургским правом? И кто сказал тебе: синьор, у вас локоть в тарелке. Грацие, грацие, синьора, мио пинджакко э финито.
Я зашёл в кабинку, накинул его прямо на свою нотфаундлендовую футболку. Мой размер. Надо брать. Правда, пятно. Правда, в плечах великоват, очень уж разношенный. Правда, дырка на подкладке. Но он мой. Уно пинджакко, синьора, иль джорно фортунато, ма ля кальдура э тэррибиле. Так я скажу.
Я вышел из кабинки и подошёл к большому зеркалу. Кто его знает. Брать, не брать? Кажется, он всё же был слишком старый и поношенный. И всё же: соблазн.
В зеркале за своей спиной я увидел занавеску соседней кабинки. А под ней — женские голые ноги. Голые щиколотки. Сам не знаю почему вернулся к своей примерочной, но не зашёл, стал перед занавеской, прислонил пакет к стене, вздохнул, потёр руки — и заглянул в щель чужой кабинки. На мгновение. Не удержался. Стыдно, стыдно. Увидел немного, лифчик, плечо, наклонённую к юбке голову. Открыть, дёрнуть, раскрыть, сказать: можно я на вас посмотрю? Просто посмотрю. Я не успел разглядеть всего. Мне нужно знать, как вы выглядите, когда снимаете юбку. Зачем? Нет, вы не подумайте, что я маньяк какой-нибудь, я не подглядывал, это всё щель, она соблазнила, я не хотел, а теперь я выйду на зной и весь день буду мучиться, вас домысливая. Позвольте мне просто посмотреть и уйти. Что вам, жалко?
Последняя фраза была бы такой некрасивой. Конечно, я этого не сделаю. Никогда так не сделаю. Так и пойду, со словом «панамка» в голове и с образом щели, недосказанной красоты, так и доживу этот день: панамка, пакет, голое плечо неизвестной женщины.
Тяжело.
«Я возьму», — потихоньку говорю я, укладывая пинджакко на прилавок.
Я буду пахнуть погребом.
Как дурак буду бродить по городу с пакетом и в льняном чужом пиджаке, когда город раздевается, подставляя себя солнцу. Солнцепоклонники возвращаются с работы, велосипеды крутят колёсами, бёдрами, шортами, жопами, я уже слишком стар, чтобы быть одним из них.
Пинджакко сидеть на мне не понравилось. И погода ему не нравилась тоже. Ничего, привыкнешь, злорадно думал я, шагая мимо Комаровки в сторону Проспекта. Бог терпел и пиджакам велел. Так я шёл и рассматривал свои отпечатки в витринах киосков и стекле торговых центров, в щитах социальной рекламы и очках прохожих. Совсем другой человек шёл к площади Якуба Коласа. Серьёзный, солидный, представительный. Летний стиль. Ленивый и расслабленный я.
И вот этот ленивый и расслабленный я пошёл по проспекту в сторону площади Победы. Перешёл трамвайные пути, взглянул на часы. Ещё час ему оставалось, этому мне в новом пиджаке — и этот я повернул направо, дошёл до арки, вышел к старому троллейбусному депо, здесь была галерея Ў, а ещё бар и книжный магазин, солнце страшно смеялось с расставленных у стены ослепительно белых столиков, людей не было видно, смертному здесь не выжить. Я прошёл мимо, потом вернулся, заскочил по ступенькам в книжный магазин. Приложил ногу к этому их нулевому километру, началу книжных дорог Беларуси. Там у них на крыльце был такой смешной отпечаток ноги. А на белой стене надпись: мол, отсюда до такого-то писателя столько-то и столько-то километров. Или дней, или тысяч рублей на такси. Наверное, писатели любят ездить на такси. Если бы я был писателем — я бы только на такси и ездил. Сидел бы на заднем сиденье в тёмных очках, поглядывал на город и цедил бы сквозь зубы:
«Минск… Минск… Кто пожрал душу твою? Кто постриг тебе все волосы в носу? Кто разучил тебя читать гениальные книги, в числе которых написанные и мной, этими вот руками?..»
И ломал бы пальцы в отчаянном жесте, и плакал бы, и платил таксисту больше, чем мог себе позволить.
И клялся бы этому таксисту в любви к народу.
В книжном магазине было пусто. Только продавец сидел, в монитор смотрел — стильный парень с умными глазами. «Добрый день», — поздоровался он со мной дружелюбно, и это был единственный продавец сегодня, который решился сказать мне такие слова. Наполняя книжный магазин запахом своего спинджакко, я ответил неясным ворчанием и пробежал глазами книжки. Конечно, российские. Вот эти я хотел, давно хотел, нужно у мамы денег попросить, когда вернётся: «Почему мужчина должен хорошо одеваться» Адольфа Лооса (слышишь, спинджакко?) — и вторую, толстую, прекрасную, вкусную: «Наука приготовления и искусство поглощения пищи» Пеллегрино Артузи. Я подержал в руках первую, раскрыл вторую, с наслаждением прочитал под нос обалденные строки:
«Говорят, в тосканском Мареммо, когда приходит время кастрировать жеребят, друзей приглашают на обед, где главным блюдом служат как раз жареные яички кастрированных лошадей. Об их вкусе ничего не могу сказать, поскольку никогда не пробовал, хотя этот конский, а может, даже ослиный орган мы с вами не раз едали, сами того не ведая.
Я расскажу вам о бараньих яичках, которые наверняка ценятся не менее, и вкус у них, как у субпродуктов, а то и нежнее.
Отварите их в солёной воде, потом надрежьте вдоль, снимите верхнюю плёнку, состоящую, как уверяют физиологи, из туники и эпидидимиса. Порежьте мякоть тонкими ломтиками, хорошенько обваляйте в муке, потом во взбитом яйце и обжарьте…»
Это было красиво.
О мамма миа, как же это было красиво.
Я поставил книгу на место и уже собирался уходить.
«Не хотите книги белорусских авторов посмотреть?» — спросил продавец.
Я хмыкнул. Мне нравилось думать об этих «белорусских авторах» — но читать их? Prego uvolto. Я уже давно вышел из того возраста, когда люди интересуются беллитом. Конечно, иногда мне попадались их имена, какие-то интервью, какие-то маловразумительные описания их книжек… Но покупать и читать то, что они понаписывали?.. Такое мне в голову как-то не приходило.
Однако продавец был знатоком своего дела — и вот я уже стоял перед полками с сучбеллитом, как они называют современную белорусскую литературу на своем жаргоне. Ну что ж, ничего не изменилось, понял я, поневоле пробежав глазами по корешкам книжек в мягких обложках.
«И что вы мне порекомендуете?» — спросил я с вызовом. Мне не хотелось уходить из магазина — но и книжки отечественных живых классиков листать не хотелось тоже. А хотелось мне холодного пива. Хотелось закрыть глаза. Хотелось провалиться в сон и увидеть во сне яйца молодого барашка.
«Из прозы: вот новая книга Трухановича… “Кроссворд”, постмодернистский роман, бестселлер… — продавец протянул мне томик. Яркий бумажный кирпичонок. Я взвесил в руке: на премийку потянет. — Вот биография Петра Марцева, если вы интересуетесь такой литературой. А это семейная сага, “План Бабарозы”. Павел Костюкевич. Ещё есть последний Бахаревич, “Сиреневый и чёрный”, книга про Париж. Через очки беллита».
Ну да. Труханович. Тот, что написал роман «Лебеда» — а на обложке это слово так выведено, будто там «Либидо». Ага. Костюкевич, Бахаревич. Все эти ичи. А почитать-то и нечего. Правда, Костюкевича я не читал, может и интересно, семейная сага может быть забавной. А вот за попсового Трухановича и нудного Бахаревича я браться не стал бы. Когда-то я их любил. В иной жизни. Пока не открыл для себя другие книжки. И выяснилось то, в чём я не стал бы никому признаваться прилюдно. Что беллит вторичный… Ичный и вторичный. Такой вторичный, что становится жалко всех этих наших писателей. Надеюсь, у них на такси хватает.
«А из поэзии: вот новая книжка Вальжины Морт».
«Не знаю такого поэта», — сухо сказал я.
«А эту книжку Хадановича читали? “Поезд Чикаго — Токио”?»
Конечно. Хаданович. Труханович, Бахаревич, Костюкевич, Мартысевич, Адамович. Одни ичи. Подозрительное единство окончаний.
«Вот второй сборник Юли Тимофеевой, “Цирк”, вот Инга Шпаковская, “Крылья бука”, а это Настя Кудасова, лауреат премии “Книга года”. Антон Рудак, “Верхний город”».
«Красивые обложки», — сказал я.
«Есть и ещё что-то, — сказал продавец и вытащил из-под стола толстую книгу. — Она, конечно, на любителя. Репринтное издание альбома начала двадцатого столетия. Со стихами на неизвестном языке. Франсуаза Дарлон. Полистайте, может вам будет интересно».
Я подержал книгу в руках. Приятная тяжесть. Но желания разворачивать этот том, в котором были стихи неизвестной поэтессы, да еще на неизвестном языке, у меня не возникло. Вот если бы там были иллюстрации…
«Спасибо. Я, наверное, пойду».
«До свидания», — весело сказал он, кажется, вовсе не огорчившись, и вернул книгу под стол, туда, где стояли картонные ящики.
И снова я выгнал себя на жару. Когда уже закончится этот адский ад? Я нырнул в тень деревьев, нависавших над гаражами. И вспомнил, что совсем недалеко есть место, где можно недорого посидеть под зонтиком с бокалом пива. Ну конечно, «Щедрый». «Шчодраньки». Щедрый вечер в тени некрополя… Я двинул к арке, перебежал улицу Киселёва, завернул за угол. Памятник Победе («А кого вы победили?» — с недоумением спрашивал меня когда-то латышский знакомый, которому я показывал Минск. Я думал, шутит. Издевается. А он и правда не знал… До чего дошёл прогресс в советской Латвии!)
В баре «Щедром» стоял ледяной холод. Чёрт, здесь было даже холоднее, чем в метро. Закуски никакие, сладости банальные, пиво один сорт, зато холод — преизобильнейший. Такой, что уже через минуту захотелось погреться у какого-нибудь костра. К счастью, один из столиков был свободен. Один из трёх — надо занимать. Я быстро взял себе пива и орешков, заполнить дыры в гнилых зубах. Сел, огляделся, сделал первый, осторожный глоток. Тёплое, как и всё вокруг. Но мы ведь не привередливые. Мы, люди в пиджаках, которые мечтают о книге Пеллегрино Артузи и рассуждают о Нильсе Хольгерсоне. Нильс уже устроился в одну маленькую книжную лавку на Агамемнонштрассе. Он там будет работать, пока её не закроют… А закроют её в 2030-м…
Прижмурившись, я выпил половину бокала и принялся разглядывать соседей. За моей спиной две дамы ворковали о том, что сегодня самый жаркий день за всю историю наблюдений.
О чём они? Каких наблюдений? Тысячу лет назад в этом городе тоже мог жить какой-нибудь старославянский фрик, ведущий хронику лета. Но кто ж его вспомнит. Подлинная история невидима. Настоящую историю надо додумывать. Отмывать. Выдумывать.
…и не надо оскорблять.
А рядом, за соседним столиком, двое мужчин, один моего возраста, один молодой, может даже студент, бородатый, мелкий, обсуждали что-то на непонятном языке. Интуристы. Авантюристы. Тот, который помоложе, выглядел вполне по-европейски; впрочем, таких молодых людей, как этот, можно встретить от Лос-Анджелеса до Киото. Первый был седоватый, нервный, глаза горят, майка старая, на ногах потрескавшиеся туфли, на коленях жёлтых штанов мокрое пятно. Короче, неприличного вида иностранцы — а может, только один из них турист, а другой наш, здешний, но кто из них кто, сказать было трудно. Может, они вообще придуривались. Очень уж домашний был у них акцент. Что ж, каждый сходит с ума по-своему.
«O balzoje sveuta fuzu mau neistoje, — сказал старший. — Аkkоu nekau fuzu o aluzoj, stogou nau mau ne amiluzu… Bilad».
«U o ujmahinoje nenormoju dinutima au bif aluzu istuzu uve klinkutima, — откликнулся молодой, почесав загорелое колено. — Oku, au us tau bif nedeu u dreutejlima, onkuru tau da au, da liuta…»
«Nоrmaldy», — ответил первый, и они заговорщицки рассмеялись.
Вот наглецы.
«Извините, на каком языке вы говорите?» — не выдержал я, с трудом подбирая английские слова, которые приходилось выхватывать из вздутой, обвисшей своей головы. Хотелось спать. Но и ответ получить тоже хотелось. Вот же натура у нас, людей. Любопытные мы. На гуся залезем, лишь бы узнать, что там, за лесом, за границей, в конце книги…
«Romanch», — осклабился старший. Мол, швейцарская романшская, швейцарцы мы, тамошние, редкие птицы в вашем водохранилище.
Я кивнул:
«Красивый язык».
Младший хитро взглянул куда-то в сторону — и они продолжили свой разговор, уже тише, поглядывая на меня как-то победно, так, что хотелось им что-то обидное сказать. Что можно обидное сказать швейцарцам, которые на своем ретороманском диалекте балакают? Что можно вообще обидное сказать швейцарцам? Ничего не приходило мне в голову. Ну, может, что они во Вторую мировую никого не победили. А трусливо выполняли все приказы Гитлера, лишь бы сохранить свой распрекрасный нейтралитет. Или вот что: в 1938-м Швейцария заключила соглашение с нацистами, что не будет предоставлять политическое убежище лицам со штампом «J» в паспорте. И вообще, вспомнил я: они только в 1971-м предоставили женщинам право голосовать. Последними в Европе. И эти люди запрещают нам ковыряться в…
Швейцарцы вдруг рассмеялись.
Знают ли они о грехах своих? Младший точно нет. А вот старший, конечно, в курсе. Как скривилась бы его морда, если бы я ему вспомнил его «швейцарскую» вину?..
«Помогите», — услышали мы и все втроём оглянулись.
На ступеньках возле универсама «Щедрый» лежал какой-то пожилой дядька. Видно, ему стало плохо от жары и он упал прямо на ходу, ударившись головой об асфальт. Ещё одна жертва сегодняшнего микроволнового дня. Женщины бросились к нему, мои швейцарцы замолчали и с интересом наблюдали, что будет дальше.
«Здесь недалеко поликлиника есть, на Киселёва! — сказал грузчик «Щедрого», поднимая тело. — Эй, мужики, помогите кто-нибудь!»
Швейцарцы замахали руками — мол, мы ни при чём. Я взглянул на часы, нужно было идти к цирку. Грузчик плюнул и потащил несчастного в тень. Пиво было допито, я дал кружке прыгнуть со столика и поскакать по плитке, а сам двинулся на Проспект. Оставался ещё один марш-бросок. Совсем короткий. А потом — спать. Спать. Спааать…
12.
Под пронзительными лучами, которые уже знали, что их время уходит, и поэтому старались не миновать ничто и никого, я дошёл до поворота на улицу Янки Купалы и ещё на светофоре заметил их.
Солнцепоклонников.
Они стояли у цирка, не обращая внимания на агонию духоты, подставив лету свои светлые волосы, и нервно, тревожно озирались, хотя до нашей встречи оставалось ещё пять минут. Они ждали меня — женщина и мужчина, оба в белом, и этот странный белый цвет ещё сильнее оттенял их загорелые лица и голые руки. Им обоим было, пожалуй, лет по тридцать пять — нетерпеливо и с какой-то гордостью они вглядывались в прохожих, разыскивая меня, пытаясь выхватить меня первыми из летней толпы, опередить, определить, выцепить, чтобы успеть изменить выражения своих слишком уж неприязненных лиц на доброжелательные деловитые улыбки. Мне вдруг захотелось, чтобы они знали, что я первый их увидел, увидел и разоблачил: я дождался зелёного и перешёл Проспект, зашёл сбоку и стал у входа в цирк, насмешливо глядя на их идеально ровные спины.
Вот они повернулись, выискивая, замерли, шаря глазами по всем тем фигурам, которые неторопливо, словно плывя, двигались по Проспекту, — и вдруг они пошли прямо на меня, на ходу надевая на лица фальшивую приязнь.
«Здравствуйте, — протянула мне руку женщина, улыбаясь всеми зубами. — Наверное, вы нас ждёте».
На слово «нас» она сделала такой акцент, что стало ясно: между ними больше общего, чем можно было подумать. Чем же они всё-таки занимаются?
Мужчина также пожал мне руку.
«Добрый день», — сказал я, разглядывая его мрачную, несмотря на маску добродушия, морду.
Женщина нетерпеливо, словно её что-то укололо в спину, потянулась:
«У нас не так много времени…»
«У меня тоже», — ухмыльнулся я.
Они недоумённо переглянулись.
«Вы же от Оксаны Ивановны? И у вас для нас кое-что… есть?» — спросила женщина, чуть закусив губы.
«Ну да», — ответил я, мне надоел этот театр, надо покончить с этим делом — и идти спать.
«Так где же?..» — она многозначительно скосила подведённый глаз.
«Вот…» — сказал я.
Вот.
Пакета при мне не было.
Не было пакета.
Вот. Вот не было его. Я встрепенулся и опустил глаза.
«Чёрт, — сказал я, чувствуя, как убого выгляжу в этот момент. — Хм. Да, пакет. Конечно. Кажется, я его потерял. То есть нет, не потерял, что вы. Я его забыл. Дома. Нет, не дома, а у друзей. Я его сейчас привезу. Подождите немного. Сами понимаете, бывает».
«И сколько нам… ждать?» — мужчина приблизил ко мне своё загорелое лицо, и в глазах его мелькнула такая злость, что я отшатнулся и сжал кулаки. Впрочем, он сдержался и отвернулся, сказав куда-то в сторону, будто реплику в зал бросил:
«Надеюсь, он его и правда забыл, Кира».
Женщина от разочарования аж задохнулась. Глаза её уже не улыбались, они пылали, как два знойных солнца:
«Как же вы могли забыть? Это же очень важный пакет. Где вы его забыли? У нас нет времени!»
«Да я его через пятнадцать минут принесу! — залепетал я, жмурясь от обиды на самого себя. — Дайте мне двадцать минут. Через полчаса максимум. Я мигом».
«У нас нет ни полчаса, ни сорока минут, — сказал мужчина. — Вы должны были принести его сюда. Пакета — нет. И вы сами не понимаете, что…»
«Нам надо поговорить, Горан», — женщина взяла его за локоть и мягко потянула за собой. Он неохотно подчинился — но всё-таки дал ей отвести себя к ближайшей скамейке. Они поговорили и вернулись ко мне решительные и уже совсем не такие вежливые:
«Мы сделаем так, — сказал этот ничтожный Горан. — Через два часа, нет, меньше чем через два часа вы привезёте пакет на станцию метро “Могилёвская”. Там его заберёт наш человек. На остановке, в сторону выезда из города. Вам всё понятно?»
«Да», — пробормотал я, собираясь уходить.
«Пакет должен быть у вас в руках», — строго сказала женщина, схватив меня за запястье и заглянув в глаза. От неё ничем не пахло. Даже здоровым женским потом. Пальцы были прохладные, приятные, но какие-то властные, словно она в перчатках была, эта Кира. Ну и знакомые у моей мамы. Надо ей сказать об этом, когда вернётся. Я начинал за неё бояться. Может, и она тоже вот так вылавливает людей около цирков и хватает их за руку. Странная мама. Но моя мама пахнет. Пахнет женской сумочкой. А эта Кира — пахнет пустотой.
Я стремительно двинулся назад, к площади Победы. Не хотел, но оглянулся: эта непростая парочка, Горан и Кира, разбежались в разные стороны, он в сторону парка Горького, она вверх, к Октябрьской. И то ли мне показалось, то ли и правда на том месте, где мы стояли, сейчас топтался, оглядываясь, человек, который тоже искал встречи со мной. Он вертел головой, высматривая в руках у прохожих пакет, посмотрел на часы, но пакета не было, не было никакого пакета, и поэтому он не обратил на меня внимания.
Чушь, подумал я. Пригрезилось. Примириться — и привезти им этот — пииип! — пакет, этот абсолютно пииип! пакет, который сейчас пииип! знает, где искать.
Мои шансы вернуть его были чрезвычайно малы. И всё же, и всё же. Надежда умирала последней — вместе с этой сумасшедшей жарой, которая меня, маленького, виноватого, довела до конфуза; конец мне, конец, что мне мама скажет, куда пошлёт, когда вернётся, — страшно подумать. Или она меня эсэмэской пошлёт? Ей же расскажут. Всё расскажут: не сын у вас, Оксана Ивановна, а сыпь на теле, сыр с дырками у него вместо мозгов.
Стыдно.
Будешь знать, как думать про своего Нильса, укорял я себя, угрюмо прыгая по мосту, позорно-поспешно, невыспавшийся, раб вспотевшего пакета, испоганившего мне весь день, будешь знать, как забивать голову чушью вместо того, чтобы за вещами следить, чужими вещами, не твоими, за чужими вещами бдительным оком следить надо, а то расфантазировался, понимаешь, ни к селу ни к агрогородку, а всё почему, потому что не спал ни капельки, не сомкнул ни на секунду усталых вежд, всё скакал, как молодой, хрен мне в глаза, дураку.
Всё потому, что своих вещей у тебя нету. Поэтому и привычки нет к бдительности.
Пиджачок себе прикупил, собака. Радовался. Красовался. А пакет чужой — потерял.
Швейцарцы всё так же сидели под своим зонтиком, а за другими столиками не было никого. Я бросился к интуристам, обхватил их шаткий столик, в глазах гостей столицы проснулся усталый ужас:
«Пакет, — сказал я. — Вы не видели мой пакет? Я забыл его здесь».
Они замотали головами. Да если бы и видели: он стоял бы возле них, он бы не втиснулся в детский рюкзачок, который младший швейцарец на свободное кресло бросил. Я зашёл в бар, холодный, пустой, грохнул кулаком по витрине:
«Пакет. Я пакет потерял. Забыл у вас. А может, и не забыл».
Продавщица задумалась. Её неглубокие глаза помутнели.
«Вы не помните, я к вам с пакетом зашёл или без?»
Или без, или без.
«С пакетом», — уверенно сказала она.
«Или без?»
«Или нет, вы были без пакета», — сказала продавщица так же уверенно, как и до сих пор.
Я махнул рукой и вышел. Побежал в книжный магазин. С порога шепнул продавцу про пакет, в глубине комнаты кто-то громко говорил о какой-то сегодняшней презентации.
«Нет, вы были без пакета, — парень тоже перешёл на шёпот. — Это точно. Я всегда запоминаю такие вещи. Мне очень жаль».
Из угла вышла черная кошка, падабаюцца мне аксамiтныя танцы, подошла, потёрлась о мои ноги. Словно утешила: иди, ты ещё успеешь, найдётся твой пакет, человече. Живёшь не вечно, но ещё не вечер.
И город начал раскручиваться назад. Двор, проспект, площадь, рынок. «Ещё не вечер, — напевал я раздражённо, шагая по велосипедной дорожке, и откуда только взялась под носом эта песенция, — ещё не вечер, ещё одна осталась ночь у нас с тобой». Кто поёт? Кто? Лайма Вайкуле. Конечно же она.
«Пусть говорят…» А что говорят? Забыл. Память выдала и выдохлась — и хотелось спать. Нырнул в тень, взял кофе, двойное эспрессо, выпил одним резким глотком, и вперёд, мимо Коласа с его партизанскими амурами. Мимо котят, которых держали так, словно продают на вес, мимо «Импульса», который притворялся тщательно, что именно в нём бьётся пульс города, но это был блеф, блеф, пульс города бился в моей груди, организм начинал злиться: подушку, подушку, где ты был, у babuschka, и вот я уже перебежал улицу и, споткнувшись, полетел по ступенькам в подвал, здрасьте-извините, я здесь у вас забыл…
«Пакет, — сказала та, у кого я купил спинджакко. — Так и знала, что вы вернётесь. Вот он».
«Спасибо», — сказал я, прижимая его к груди. Танго с пакетом.
«Сегодня многие не в себе немного. Такая жара», — сказала мне эта обычная, простая, совсем не солнцепоклонница, а так: мещанка, минчанка, мачанка в глазах, вялая, без выкрутасов.
«Да, — сказал я. — Да. Ужасно, правда? Как вас зовут, девушка?»
«Лайма».
«Спасибо, Лайма. Вы молодец».
«Я не Лайма, я Лера, — сказала она обиженно. — Вам бы поспать. У вас под глазами такие чёрные круги».
Поношенный я. Поношенный. Остаться бы здесь, повесила бы Лайма-Лера меня на вешалку, нацепила бы ярлык, может и купил бы кто.
13.
Чёрные круги сели на троллейбус, 29-й, между прочим, а почему сели — потому что подъехал, открыл дверь, словно спасти хотел, и как-то меня тронул этот жест милосердия.
Чёрные круги уже около Оперного. Чёрные круги уже к Троицкому выруливают. Чёрные круги уже на мосту шинами шуршат. Чёрные круги уже под мост направляются, выползают из тени. Чёрные круги останавливаются возле церкви, название которой я никак не могу запомнить. Чёрные круги выходят из троллейбуса. Чёрные круги идут в противоположном направлении. До станции метро идут, людей пугают, пинджакко машет рукавами, зной утих, но воздух ещё горячий, гортань можно обжечь.
«Братишка, — бросился мне наперерез кто-то в красной майке без рукавов. — Братишка, ты местный?»
«Ну», — чёрные круги неохотно остановили свой бег.
«А я из Москвы. Братишка, можно спросить? Где здесь у вас костель такой есть…»
«Хостел? Не знаю. У нас хостелов хватает. Погугли».
«Да я запутался уже. Я из Москвы сам, понимаешь? Костель хочу посмотреть. Где-то здесь он».
«А как называется?»
«Не помню. Мне сказали, его здесь все знают. О, вспомнил, он красный такой. Красный костель».
«Костёл, что ли?»
«Да не, костель. Где ксёндзы молятся».
«Костёл».
«Сам ты костёл, братишка. Я костель красный ищу».
Я задумался. Подсолнухи, Свифт и здоровая русофобия — вот что спасёт нас в этом угасающем мире. Он посмотрел на меня с безнадёжностью последнего в мире человека:
«Ладно, понял. Давай, братишка, удачи тебе».
И ушёл. Костель. Надо же. Чемодан, вокзал, Россия.
Чёрные круги уже под землёй. Чёрные круги мимо охранника проходят. Чёрные круги жетон облупленный бросают в щель. Чёрные круги с белым пакетом садятся в поезд. Чёрные круги идут на последний бой.
«Камни, — сказала Нильсу Хольгерсону женщина, которая приходила в берлинский книжный магазин, где он работал, каждую субботу. Приходила и копалась в книжных ящиках — но ни разу ничего не купила. — Камни. Если человеку хочется летать, хочется убежать, хочется бросить всё, что он любил, надо есть камни».
Steine.
«По камушку-два в день, — спокойно говорила эта фрау. — Так человек приобретает вес и тяжесть. Если ты ешь камни, не так-то легко оторваться от земли».
Нильс слушал, листая старую книгу. Все книги в книжном магазине принадлежали ему. Вот только дома у него не было. Старуха брала книгу за книгой, листала, ставила не на те места, не на те полки, а то и просто клала себе под ноги. После того как она уходила, ему приходилось наводить Ordnung. Каждый раз наводить орднунг.
Он знал, что она ничего не купит. Знал, что придёт снова. Знал, уже знал эти странные слова: Steine, Erde, fliegen, fressen. Когда он впервые увидел старуху, то хотел её выгнать. Но ему запретили. А старуха не рассердилась. «Камни», — говорила она. Steine.
Хватит уже думать про Нильса. Гони его прочь. Подумай лучше о том, что у тебя дела. Мысли о важном.
Так говорил я, человек в пинджакко, с пакетом и седой паутиной в ушах.
От станции до станции минское метро меняет запах. Немига пахнет потом и духами, молодёжью и моложавостью пахнет, а на Купаловской уже тяжёлый аромат центра, дешёвой одежды, небогатых, радостных какой-то безнадёжной радостью людей, ожидающих поезда в своё гетто, готовых к новым очередям и новой суете в автобусах городской окраины. Первомайская пахнет прохладой пустоты, здесь мало кто выходит, а заходят с другой стороны, в другом направлении, Пролетарская пахнет электричкой и семечками, Тракторный завод блеском ярких ламп воняет, шумный и гулкий, словно литейка, а на Партизанской всегда темно, как в летнем лесу перед железнодорожной диверсией, и запах здесь такой: запах опасности. Автозаводская белая с костяным отливом, как платье шабановской невесты, и пахнет обувью, которую носили весь день не снимая. Здесь, в тоннелях, запах меняется уже окончательно, и ты понимаешь, что едешь на край города: аромат холода, штукатурки, железа, рабочего дыхания, проходной, металл и тьма. И вот на Могилёвской ты выходишь и забираешь с собой на поверхность последний, прощальный запах, так пахнет город, который бросили в атаку на сырую землю, давай, давай, сровняем землю с землёй.
На платформе я рванул вперёд, но пришлось остановиться, люди поднимались по ступенькам долго, будто специально спины выставляя: куда лезешь, тут тебе не центр, здесь народ живёт, народ доброжелательный и неспешный. Рядом со мной замедлила шаг парочка, я посмотрел невзначай: ого. Кажется, я их узнал. За ручки держатся.
«Простите, а вы… вы Бахаревич?» — спросил я зачем-то. Сам от себя такого не ожидал.
«Да», — сказал Бахаревич, вовсе не удивившись. Верхние зубы у него были ровные, белые, а вот с нижними пиздец. Как у меня почти. Судя по всему, не очень-то он был рад, что я его узнал. Ни хера себе. Бахаревич и Тимофеева в метро. У богатых свои причуды. Тимофееву я также узнал, она была в платье, и от платья этого, от изображённых на нём странных нездешних цветов шёл такой вызов, такое нахальство в нём чувствовалось, что я как-то растерялся. Я знал, что она недавно книжку стихов издала. Всё пишет и пишет эта парочка, то он, то она, но я твёрдо решил, что не буду их читать. Ведь я гордый. А они, видно, себя неизвестно кем считали. Звёзды, блин. И всё-таки занятно: Бахаревича и Тимофееву на Могилёвской встретить. Просто в метро.
«А что вы здесь делаете, если не секрет, спадар Альгерд?» — спросил я, чтобы хоть что-то сказать, и постарался произнести это как можно более безразлично.
«На дачу едем», — пробормотал Бахаревич. А Тимофеева посмотрела на меня насмешливо. Представляю, сколько они зарабатывают. Всё по заграницам катаются. И на тебе: на станции Могилёвская. Машины у них нет, что ли? Тимофеева потянула Бахаревича за руку, и они исчезли в дверях, словно куда-то очень спешили. Бахаревич обернулся и осклабился. Может, надеялся, что я автографы у них попрошу. Фигу. Я намеренно отстал, чтобы дать им затеряться в толпе.
Ещё на темной Партизанской мне наконец захотелось помочиться — вот что значит жара спадать начала, организм пришёл в себя от шока и вспомнил о своих потребностях. Теперь уже лишнее с потом из себя не выведешь. Теперь уже надо себя вывести, как собачку, под какое-нибудь деревце. Когда сидел, можно было терпеть, а ногами заработал — и всё, прощай спокойствие. Хорошо, что это окраина: здесь деревец хватает, подумал я и глянул на телефон: до встречи ещё минут пятнадцать, успею.
Деловым шагом вышел навстречу уже не страшному солнцу, обогнул киоск, прошёлся к рыжей опушке, за которой заправка зеленела. Долго выбирал деревце, чтобы с проспекта не было видно. Внизу автобусы толпились: на Сокол, да на Сосны, да на всякие другие Сны. Достал своего приятеля, мокрого, запревшего, струя весело выскочила на траву, прибила помертвевшие от духоты цветы, полилась, переливаясь в лучах укрощённого солнца. Вместе с ней и сон вышел — опорожнившись, я почувствовал второе дыхание, голова стала лёгкой и снова — своей. Вот сейчас отдам пакет — и может, не поеду домой спать, а поеду на Комсомольское озеро, лягу на каком-нибудь островке, высплюсь с закрытыми глазами…
Я застегнул молнию, повернулся и тут же получил резкий, слепой, сильный удар в живот.
Короткой бешеной ногой. В живот.
«Хорошо, что отлить дали», — успел подумать я, падая в траву.
Дали-дали. Догнали и ещё раз дали, как бабушка говорила.
…и вот тогда Нильс написал своё первое стихотворение. От руки, на листе старой бумаги, которую нашёл в ящике винтажного стола начала XXI века…
Их было двое: один лысоватый, круглый, как пень, второй с красивыми губами и вконец пропитыми глазами. Пивом пахли, пивом с водочкой, ершистые хлопцы-ковпаковцы, Ангарская, ангри бёрдз, сколько они выжрали: на хуй все подсчёты, теперь ещё возьмут, насладятся от моих щедрот. Бил пень, он же засунул руку в мой пиджак, достал кошелёк, телефон, сунул себе в задние карманы, не проверяя, подхватил мой злосчастный пакет и сказал строго:
«Не ссы. Мужик. В общественных местах».
Второй всё смотрел на меня своими мечтательными глазёнками да губы складывал уточкой, красивая рожа, мерзкая роза; пакет отдайте, гады.
Пень пошёл, размахивая моим пакетом, красавец за ним, куда они сейчас пойдут, в «Момо», к маме, мозоли мазать. Махнули пакетом, на остановку вышли. И вот уже не видно их.
Я поднялся: сначала на корточки, потом на карачки, потом на донышко, на аполлонишко, и вот уже стоял, чтобы передохнуть.
И снова про Нильса подумал.
В 2039-м он написал своё первое стихотворение. От руки. На листе старой бумаги, ручкой, да, да, ручки никуда не делись, и стих назывался…
Народу на остановке было не дай боже. Толпа. Где-то здесь меня ждут, нетерпеливо оглядываются, набирают мой номер, телефон мой звенит в кармане пня, а пню по… ему все по… и пакет чужой теперь зажат в руке его пролетарской (ошибка: люмпен-пролетарской). А в моей — нет пакета, поэтому никто не обращает на меня внимания, никто, Могилёвская как могила, шум тишины царит вокруг меня, шум Минска, который выплеснулся за собственные пределы.
Я постоял на остановке, спустился в подземный переход, вышел с той стороны Партизанского проспекта, сел на бордюрину, человек без пакета. Милиционер прошёл, посмотрел неодобрительно, молодой, красивый, пальцы пахнут ладаном. Пожаловаться ему, что ли? Пусть поднимет своих по тревоге, далеко пень с красавцем уйти не могли, красавец ноги переставляет с трудом, тяжёлый напиток водочка, и пиво не лёгкий.
Но я не знаю, что в пакете. Может, его нельзя показывать посторонним лицам и милиционерам? Может, маме от этого будет плохо. Я люблю маму. Наверное, я должен был вернуться на остановку, найти там того, кому нужно было передать пакет, — и сказать: украли. Я не виноват. Ограбили. Ищите сами, а я мученик, жертва, я спать поеду.
И тут, вычерчивая условную линию между собой и остановкой на той стороне, я увидел их. Пня и спутника его: как два апостола, что от своих отбились, они медленно шли по Ангарской наверх, в сторону частного сектора, в направлении Северного посёлка. Я видел их спины — покачиваясь, они плыли против течения, по глади тёплого летнего вечера, беззаботные, с потными затылками. Приятели.
Вскочив, я быстрым шагом бросился за ними и вскоре догнал. Держа дистанцию, пошёл, рассуждая, что делать. Всё нужно было вернуть, всё, да ещё и отомстить, но на месть не было времени, на остановке ждали — а может, уже плюнули: ну и сын у Оксаны Ивановны, сколько ему лет? Сорок. Не может быть. В сорок пакет умеют доставить куда надо. Подросток ваш сын, подросток.
Как Нильс Хольгерсон.
Который в Берлине написал своё первое стихотворение. От руки. Стихотворение под названием «Собаколовы».
Сам не знаю, откуда ко мне пришло вдруг это слово. А Нильс придумывался всё яснее, всё точнее… И пакет в руке пня покачивался так, словно не имел ко мне никакого отношения. Пень и красавец дошли до частного сектора, мимо проносились троллейбусы, возле кафетериев Ангарской ангажировались пожилые мужчины, а я брёл и брёл вслед за моими врагами-грабителями, и не знал, что мне делать. Они подошли к какой-то хате, загремела задвижка на калитке. Другой Минск, малый, незаметный, следил за мной из своих низких окон, засохшие колонки тянули клювы к земле, за заборами плевались вишнями. Я стал у калитки, вытянул шею. Пень с красавцем постучали в дверь, но им никто не открывал.
«Вотан! Вотан!» — закричал пень. А может, он Виталика звал.
Красавец сел на крыльце, закурил, повесил голову. Пень толкнул его ногой, по-дружески. Красавец скривил губки, глаза-песенки сузились, пень положил пакет под ноги, достал мой телефон, кошелёк, начал разглядывать. Что-то пробурчал под нос. На лице красавца расползлась улыбка. И вот мой телефон полетел в кусты. Деньги пень аккуратно сложил себе в карман рубашечки. На майке блеснули надписи: все иностранные, надписи-вопли, смысла которых никто из них не знал.
Я отошёл на другую сторону улицы, стал за кустами на горочку земли у колонки, так мне было лучше видно. Пень выкурил сигарету, похлопал по моему пакету и поднялся. Вышел на улицу, пошёл быстро, не оглядываясь, Коротконогий каратистик в кроссовках. Действовать надо было стремительно: я бросился во двор, к красавцу, который дремал на крыльце, схватил пакет, пополз на коленях в кусты, нашёл крышку от телефона, батарею, а потом и всё остальное. Вскочил на ноги. Красавец открыл глаза и посмотрел на меня мутным, счастливым взглядом. Сложил губы, словно для поцелуя.
«Ты кто? — спросил он нараспев. — Вотан?»
Мне хотелось ударить его чем-нибудь по голове. Я был уверен, что он принял бы это с такой же счастливой улыбкой. Чёртова Ангара. Наркоманский край. Прижимая к себе осквернённый пакет, я выбежал на улицу и решил, что надо вернуться к метро посёлком, иначе можно было снова встретить пня. Тот, видимо, за догонкой пошёл. Сейчас вернётся. Думать надо было быстро, а звонить ещё быстрее.
И тут мне стало ясно, что мой телефон сдох.
14.
Если у тебя в голове карта, тебе не сбиться с пути. Все эти дороги только кажутся лживыми, город сбросил с человека ярмо дезориентации, иди — и выйдешь к метро, только не спрашивай у людей о направлении, человек — существо слабое, может и не туда показать пальцем, а может и в небо ткнуть.
Над посёлком в далёкой дымке горели на вечернем солнце высотки многоэтажек. Где-то там оно, Партизанское авеню, куда-то туда надо было идти, чтобы пням на глаза не попадаться.
Когда-то здесь жило много цыган. Отсюда и до Дражни — цыганские усадьбы, за высокими заборами, из-за которых и сейчас ещё льётся странный язык, потоки непонятных слов, среди которых вдруг проскочит «двадцать тысяч» или «лампочка». Так они говорят, а ты слушай и голову ломай: кто они, свои, чужие? Свои, конечно. Они здесь жили, ещё когда твоя прабабушка до Минска не доехала. И всё же не свои. Двадцатью тысячами и лампочкой — свои, а недоверчивым блеском глаз — чужие. Я люблю чужих. Люблю их, как поезда на Минском железнодорожном вокзале. Без них холодно было бы городу. И как-то не думаешь, размышляя о чужих и своих, что ты и сам здесь чужой. Городу без тебя — нормально. Тебе без города — смерть.
Здесь бабка моя жила. Когда я у неё бывал, нас цыганами пугали: «Цыгане заберут, продадут, убьют, съедят!» Самое страшное, конечно: продадут. Как это так, продадут, думал я, пионер, советский гражданин, начитанный о рабовладении в Риме? Как можно живого человека — продать?
Цыгане могут, уверяли меня девочки с Ангарской, из Дражни, с Алтайской. Цыгане злые и хитрые. Берегись их. Ведь выкуп потребуют: и придётся твоим маме и папе всё продать, лишь бы тебя забрать обратно.
Почему-то всех, кого вычеркивают из списка людей, обвиняют прежде всего в чрезмерном увлечении торговлей. Торговля — это порок. Честный человек не торгует и не торгуется. Плюётся при виде торгаша. Белорусы — не торговцы. Они — земляки, «что за народ такi? Вядома ж, землякi!» — как в песне поётся. Земноводные. Земные, землекопалки, земляне, землеройки. Только бы окопы копать — хлебом не корми. Землянки. Ямы. Посадить себя в землю, прорасти, корни пустить. Так в землю вживиться, зацепиться, чтобы никто выдернуть не мог. Поэтому и не любят они странников, перекати-поле, которых не бросишь в оливье родной землицы, не любят тех, кто на гусях в небо убегает. И тех, кто свою землю бросил и к ним припёрся, тоже не любят. Человек без корня сохнет. Собака лает, ветер носит — это про эмигрантов, никто их слушать не хочет, что ты можешь сказать умного, человек, если корешки себе на ногах не отрастил?
Что ты можешь сказать в своё оправдание, Нильс Хольгерсон?
И где мне подзарядить телефон?
Думая обо всех этих невесёлых вещах, я шёл наискось через посёлок, а дома Енисейской ближе не казались. Только мягкое солнце обводило их контуры: всё красивее, гуще и сытнее становились краски. Из садов шёл обалденный запах летнего вечера, красноватых уже плодов, низко над неасфальтированной улицей нависали ветки, тяжёлые, страстные, непуганые, искушая остановиться и забыть, куда я иду и зачем. Ужас неожиданного одиночества навалился на меня: вокруг не было никого, ни души, только душноватый воздух доносил голоса из-за заборов и переделанных в беседки амбаров. Я почувствовал, что город подо мной проваливается куда-то, отламывается от своего тела, я шёл и не оборачивался, боясь, что увижу за спиной пропасть, глубокую и тёмную, по краям которой сочится песок. Не останавливаться, дойти до проспекта, забыть этот вечер, как рассказ пьяного деда в переполненной тройке-троллейбусе. Из-за поворота медленно выехала машина, посмотрела мне в глаза и почему-то мигнула фарами, прогудела мимо, неспешная, неутомимая, пахнуло горячим железом, тяжёлый муторный автомобиль с убитыми невидимым дымом лёгкими…
Я ускорил шаг. Но за спиной уже сигналили. Властно. Громко. Залаяли собаки.
«Эй, постой!»
Я решил не оборачиваться.
«Стой, тебе говорят!»
Машина дала задний ход, я повернулся, чтоб не попасть под колёса, и вот они уже стояли на моем пути: чёрный автомобиль и мужик постарше меня, в сером костюме, галстук болтается под полурасстёгнутой белоснежной рубашкой.
«Слышь? Ты Вату знаешь?»
«Нет», — ответил я, но из машины вышли ещё двое, тоже в костюмах, при галстуках, загорелые, красногорлые.
«Как не знаешь?»
«Не местный».
«Подожди», — они окружили меня, добродушные, усталые, угольки в глазах.
«Ты не понял. Найди нам Вату, мужик. Спроси у кого-нибудь. Его здесь все должны знать».
«Я же не местный, ребята».
«А чего это ты не местный? Что здесь делаешь?» — они подошли близко-близко.
«А в пакете что?» — спросил тот, первый, облизав чисто выбритое подносье.
«Ничего».
«Показывай».
Я оглянулся. Улица молчала. Пустая улица, вечерняя, вся в садах, словно в оправдание своего неучастия в беседе.
И тогда из машины вышел четвёртый. Волосы ёжиком. Взгляд печальный, как у убийцы. И тоже: костюм, галстук. Он показал им жестом, чтобы присмирели, замолчали, осмотрел меня со всех сторон:
«Выглядишь, как клоун. Ты знаешь, что ты как клоун выглядишь?»
Я сжал в руке пакет.
«Чем занимаешься?»
«Ничем».
«Оно и видно. Работаешь?»
«Нет».
«А на хлеб насущный? Или паразитируешь? Тунеядец?»
«А вам какое дело?» — злость ударила в голову, сяду сейчас просто на эту едва заметную, шинами убитую землю, никуда не пойду, пакет нужен? Вот вам пакет. А сам сяду и буду сидеть, попирайте, продавайте, убивайте.
«Поедешь с нами на свадьбу, — сказал этот мужичок голосом, который не привык терпеть возражений, разве что как перчик, для остроты блюда. — Клоун… Назад отвезём. Жрать-пить можешь без ограничений. Просто посидишь с нами. Клоуном поработаешь. Поехали».
Я рванулся, но как-то неуверенно, слабовато, они подхватили меня под руки, под мышки, под пакет, который я не выпускал из рук. И вот я уже сидел в машине, на заднем сиденье, зажатый руками их и коленями костюмными, как колоннами храма, в котором уже точат ножи толстые жрецы, а машина пронеслась по посёлку, мимо дома Ваты, мимо троллейбусной остановки, поцокала, словно из зубов что-то доставая, на светофоры, и через минуту мы уже были возле метро Могилёвская. Выехали на шоссе и полетели на полной скорости за город: мимо Шабанов, Стаек, Сосен, всех этих городских снов… проскочили под мостами, выбрались на простор.
«Дочка замуж выходит, — повернулся ко мне главный из мужичков. — Таня. Привезу ей клоуна. Очень она их любила в детстве… А сейчас вот забирают девочку мою из гнезда. И кто? Мелочовка какая-то. И что она в нём нашла? Послал бог зятька. А она мне: молчи. Молчи, папа, говорит, люблю я его. Понимаешь, ты, клоун?»
Ничего не сказал клоун. Только в пакет свой сильнее вцепился. А что в пакете, что? Может, там джинн сидит, вот возьму сейчас, развяжу лощёный пластик, выползет дымком злобный дух, произнесёт сиплым стотысячелетним голосом: «Девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять лет сидел я здесь, в неэкологичном пакете, в плену у алчных людишек, и вот освободил ты меня, человече, проси, чего хочешь! Любое желание твоё исполню, а после убью». И я скажу: «Останови эту машину и преврати всех, кто здесь сидит, в мумии жуков, а меня выпусти и дай мне гуся серого, ловкого, сильного, чтобы мог я сесть на его спину и полететь куда глаза глядят. Заберу с собой этот город, чтобы бродить по нему ночь и день, где бы я ни оказался, весь этот город с его лавочками, галками, киосками и сосцами, а больше ничего не возьму, даже пакет этот можешь себе оставить, о джинн».
«Да не ссы ты, — сказал отец невесты. — Поработаешь, и доставим тебя обратно в целости и сохранности. Мы с пацанами думали, надо в центр ехать, а тут ты. Такая удача. Без Ваты обошлись, слава богу».
Он достал сигарету, пососал, не зажигая, выбросил в окно.
«Но смотри мне, чтоб без фокусов. Свадьбу не испорти. Без истерик, понял? Звонить, жаловаться не советую. У меня весь город схвачен. Все знают, что я сегодня дочку замуж отдаю. Замуж… Был бы там мужик. Слизняк какой-то. Нет, ну что она в нём нашла? А, пацаны?»
Пацаны сочувственно захмыкали.
15.
Издалека перед нами рос, стремительно закрывая горизонт, синий куб минской IКЕА. Сколько же было визга, когда объявили, что его открывают. В скольких счастливых молодых глазах отразились сосна и белизна будущего благополучия, каким солнцем залило парковку для скромных экономических мечтаний, ведь именно ею вдруг оказался Минск в минуту радостной вести. Теперь и мы тоже, теперь и мы: Икея мая дарагая, я сэрцам табе прысягаю ў шчырай сыноўняй любвi! Поехали как-то и мы с мамой, купили кое-что в мою квартирку вместо осовелой советской меблишки: дивансоны, торшерсоны, стулсоны, столиксоны. И даже ковёрсон. И всё за какие-то пять сотен. Богиня Икея, покровительница Беларуси, рассыпала над страной лучи своей халвы. А потом им стало скучно. Опустела Икея. Грохнулся Икар. И теперь стоял синий куб на Могилёвском шоссе, высился, невесёлый, напоминал о своём первом пришествии, ждал новых хозяев… И всё же она была, была, эта минута национальной гордости. И у нас была своя Икея. И мы людьми звались. Земли, воли, Икеи, соли…
Машина наконец повернула к одной из тех роскошных усадеб, которые растут, как радиоактивные грибы, по всей Минщине — держатся стаями, коттеджными бандами, каменные имения с названиями претенциозными, полными искусственного сахара, вроде «Пан Забава», «Охотничье имение «Троекуров», «Усадьба «Медвежья», «Графский пруд»…
Potsony вышли, потеряв ко мне всякий интерес. Барский банкет давно уже гудел, настал тот момент, когда все, казалось, забыли, зачем собрались, и наш приезд их напугал. По кустам замерли гости, с тарелками и бокалами, расстёгнутые, пьяные, стеклянные глаза, кровью налитые лица, голые спины и истерический хохот. Завидев отца невесты, музыканты грянули нечто псевдонародное, вяло, гулко, одно буханье да стоны струн.
«Гуляете, мерзавцы?»
«Гуляем, Василь-Василич!»
«Не нажрётесь никак!»
«Никак не нажрёмся, Василь-Василич!»
«Вот же я вас из калаша».
«Так точно, Василь-Василич, дайте только дожевать».
К отцу невесты слуги бросились со стопочкой, да с графинчиком, да с лимончиком, а он им как плетью по лицам: «Танька где?»
Опустили слуги глаза, а какой-то жердяй-мажордом услужливо и сокрушённо в глубину двора показывает. Отец невесты туда бросился, мы за ним. Там, посреди белых искусственных акаций и лопнувших шариков, темнел зеленоватый пруд, а в нём невеста стояла, посередине, по пояс в воде, платье лежало вокруг неё на затянутой ряской поверхности, словно тарелка бумажная, а невеста стояла в центре этого бело-жёлтого круга, как пирожное. Она повернулась к нам голой спиной — высокая причёска то и дело вздрагивала, как будто невесту снизу под водой кто-то кусал за ноги.
«Танька! Танька!» — бросился к ней отец. Стал на берегу, руки к ней протянул.
Тут же на песочке прыгал жених, повторял, откашливаясь:
«Таня! Танечка! Вернись! Папа приехал!»
«Танька! — отец невесты бросился разуваться. — Ну что ты придумала, дочка? Обидел кто? Скажи кто, я его на кол посажу! Только имя назови!»
«Танечка!» — кашлял жених, разглядывая свои туфли.
«Ты чего стоишь, вошь ты дешёвая? — крикнул на него отец невесты. — Ты на руках её вынести давно должен был, сокровище своё! Я тебе что, куклу доверил? А, блядь? Послал бог зятька!»
«Так это, Василь-Василич, папа, — захлопал глазами жених. — Я плавать не умею. Да и не подпускает она никого. Даже вот Вичку не подпускает!»
«Вичку! — Отец невесты стянул носки и сунул их жениху под нос. — Я вас всех здесь сейчас закопаю живьём, если с доченькой моей что случится… Таня!»
«Дайте мне камень, папа, — услышали мы её голос. Голос Офелии Минской. — Камень, прошу».
«Что же ты такое несёшь, дочка? — горько проговорил папа. — Утопиться хочешь? Ты же его любишь, слизняка этого! Сама говорила!»
И тут его бешеный взгляд упал на меня.
«Таня, дочка! — завопил он радостно. — Я же тебе подарок привёз! Догадайся кого? Клоуна! Живого!»
И тогда она обернулась. Колыхнулась вода, торжественно потянула за собой платье, голая спина исчезла, причёска закивала шиньонами.
Я увидел спокойное лицо обычной минской девушки — на таких почему-то сразу бросаются, как на мёд, заграничные трутни, только такую блондиночку увидят — и с ума сходят, горемыки. Лицо было серое, усталое, вовсе не капризное, прикрытое плёнкой абсолютного, уже не управляемого безумия.
«Клоун?»
«Да! — закричал папа, сияя улыбкой. — Сюрприз!»
«Да! — оживились гости и захлопали в ладоши. — Ну Василь-Василич, ну молодец!»
«Клоун… Сколько ему заплатили, хотелось бы знать, — холодно проговорила тётка в бордовом платье. — Шикуете, Василий Васильевич».
Таня-Офелия нахмурилась, но тут же складки на её тронутом чистой больной печалью лбу разгладились.
«Пускай подойдёт, — сказала она растерянно. — Ко мне, сюда».
Я обвёл их глазами. Чудовища. И породила их сегодняшняя городская жара. Они просто не могли существовать, и всё же они существовали, впились в меня глазами, нетерпеливые, платежеспособные, успешные, связанные кровным родством. Что ж, вода в летний вечер — это не худший вариант.
«Что ты стоишь? — зарычал на меня Василь-Василич. — Слышал, что дочка сказала? Работай!»
Я положил пакет на траву, скинул свои ушлёпки, пинджакко, засучил, как мог, джинсы. И пошёл в объятия пьяной воды. Растущей просто из земли, с зелёной живой душой, воды, полной звуков, пузырей, мути. Подошёл к невесте, стал перед ней, словно это я жених был, а они, все мои гости, — стояли, рты разинув, красные шкурки лиц вытянув.
«Привет, — сказал я. — Вообще-то, я не клоун».
Она не слушала. Взяла меня под руку, и мы вышли из воды, как победители телевизионного конкурса лучших пар. Под хлопанье их ладоней и звон хрусталя.
Меня посадили возле молодых, зажали между свидетелем со стороны невесты и каким pоtsоnом, который, правда, был уже давно готов и ловил теперь рыбу в собственной тарелке: рыбка выскальзывала, смерть никак не давала себя обмануть. Мне навалили гору мяса, налили стакан водки «Русский стандарт», я пробормотал «горько» вместе со всеми, торопливо отпил, проглотил горячий кусок… Свидетельница была толстая, голорукая, голоногая, запечённая в фольге розового платья.
«У вас зарядного не найдется? Для “Нокии”».
«Нет», — она рассмеялась, словно я рассказал ей на ухо неприличную шутку.
«Я слышал, один хрен, из оппозиции, остров себе в море купил, — сказал отец невесты под почтительное чавканье своих дорогих гостей. — Типа, чтоб там оппозиционеров готовить, боевиков всяких. Я вот думаю: вот купил бы я остров. Собрал бы вас всех, завёз туда, оставил одних и назад улетел. А через год бы вернулся и посмотрел, кто живой остался. С теми и жил бы дальше. Дела бы делал. Вы же посмотрите на себя. Здесь же каждый второй — шлак. Не люди, а клоуны. Вы же по понятиям жить не умеете. Только жрать и бабло клянчить. Тошнит меня от вас, гостейки дорогие!»
Под моими ногами сидел пакет, ожидал, что я ему что-нибудь брошу со свадебного стола. Кость? Ножку? Ручку? Невеста… Хотя какая она невеста, они же поженились уже. Таня и её жук-муженёк. Таня эта на меня смотрела во все глаза. Чёрт, чёрт, я что, и правда завидую её муженьку? Ревность? Откуда ты пришла, я тебя не знаю, иди своей дорогой, я Нильса люблю, а тебя, глупая, прочь гоню: вэг! Откуда пришла? Из зелёной воды вылезла, отвечает ревность. У невесты руки утопленницы. Офелия, дочь мелкого афериста, обманула ты меня своими водорослями.
«Покажи что-нибудь, клоун, — попросила Таня. — Пожалуйста».
«Мне позвонить надо», — сказал я.
Но она слышала только то, что ей хотелось.
«Хорошо, — сказал я. — Но я лучше расскажу. Слушай…»
«Всем рассказывай! — крикнул Василь-Василич. — Всему столу! Микрофон дайте клоуну! Иди на сцену!»
Я подхватил свой пакет, выпученный, замученный, вышел, споткнувшись о скрученные провода, на сцену. Давно я на сцене не выступал. Последний раз, может, в универе. Точно. На День студента мне нужно было спеть комические куплеты. Вот же шоу тогда вышло… Двадцать лет назад, а то и больше, в совсем другой жизни. Я выглядел на подиуме того далёкого актового зала не хуже Берти Вустера: в шляпе, которую я одолжил в нашем самодеятельном театре, в белых носках (так было модно), в галстучке-бабочке, мальчик — пальчиковая батарейка; о, что это был за День студента… Помню своё волнение. Помню, как вышел и запел под фонограмму о том, что
Наш декан Пётр Кузьмич Издаёт победный клич: Завалил вчера две группы, Будто из двустволки дичь!И наградой мне была полная тишина в зале, никто не смеялся, никто, а потом мне сказали, что поэта из меня не выйдет — так и получилось. Зато сейчас сто человек считали меня клоуном, и она тоже, и мне нужно было что-то сказать.
«Что ты молчишь, клоун?» — крикнули с другого конца, затерявшегося в чаще бутылок и мясных холмов.
«Ща из пакета как достанет…»
«Бабу голую!»
«Тихо, черти, — рявкнул отец Офелии моей, Жуков войны моей, патрон всей этой ленивой, обожравшейся клиентеллы. — Давай, клоун, начинай!»
«Я вам расскажу историю про одного хлопца… — начал я, вертя в руках микрофон. — Который жил в Скандинавии. В Швеции, если быть точным. В одной деревне, ничем не приметной. Однажды он стал такой маленький, что сумел сесть на спину серого гуся и подняться высоко в небо. Гусь взял курс на запад. Вместе с парнем. И больше их не видели. Это, конечно, сказка. Но она почему-то не даёт мне покоя. Сегодня я весь день об этом думаю. И вот что я хотел вам сказать…»
«Песня про зайцев», — сказал кто-то.
Как во сне, они потихоньку двигали шеями. Словно желая согнать с себя оцепенение.
Таня улыбнулась.
«Всем ржать!» — скомандовал Василь-Василич.
Гости легли от хохота.
«На гуся… Швеция… — надрывались на спинах платья всех возможных цветов, белые прилипшие рубашки, кадыки, быки, гончие, пауки… — Не даёт покоя… Ну, насмешил… Петросян…»
Я сел на место, но так, чтобы при первой же возможности ускользнуть.
«За что тебе платят, артист?» — презрительно сказал Танин муженёк. И сразу же забыл обо мне. Закусил меня фаршированной индейкой. Широкие люди с широкими жестами, широкие лица с широкими ртами, широкие души — больше они во мне не нуждались. Я незаметно вышел и пошёл гулять по комнатам большого панского дома. Где-то здесь уже стояла кровать, а на ней расстелена их первая брачная ночь. Где-то здесь должно быть зарядное. Позвоню, объясню, выкручусь, высплюсь — и всё забудется.
Привязанный проводом к стене, включил телефон. Наш декан Пётр Кузьмич… Два-два-три-пять. Или шесть. Шесть. Наш декан Пётр Кузьмич… Нокия-Нокия, намочила ноги я… Или пять? Забыл пин-код. Пакет при мне, пин-код в говне. Наш декан Пётр Кузьмич… Солнцепоклонники на минских крышах уже раздували свои тонкие ноздри, светлые волоски на загорелой коже шевелились, готовясь к проводам солнца. Ещё часа три — и небо над Минском станет цвета занавески в Нильсовом отеле.
«Вы нас извините, — молодая женщина, которая вошла в комнату, чем-то напоминала Таню. — Да, я её сестра. Я вас отвезу, папа не хотел вам ничего плохого, просто на него иногда находит, когда выпьет. Он за Таню переживает… Вы только в милицию не звоните, ладно? Ради Тани. Пожалуйста!»
«Я пин-код забыл, — сказал я равнодушно. — Никому позвонить не могу. Ни в милицию, ни…»
«Я вас отвезу, до метро, — она помахала ключами. — Готовы? Не злитесь только. Это всё жара отцу в голову ударила. И водка. Сначала людей хватает на улицах, вместе с этими своими дебилами, а потом, как протрезвеет, деньги им даёт, чтоб не жаловались…»
Она села за руль в чём была: платье короткое, туфли сбросила под сиденье, ноги некрасивые, губы болезненные, узкие, цвета сукровицы, кривятся. Я залез сзади, не хотел сидеть рядом, пакет к себе прижал, чтобы не забыть. Про маму вспомнил: она бы гордилась. Расскажу ей, когда вернётся, расскажу, а у неё ни о чем спрашивать не буду, ни о друзьях её странных, со скрипучими, словно украденными, голосами, с делами тёмными, в которые они маму впутали, мама взрослый человек, а я сорок лет прожил — и всё равно сынком маменькиным остался, уставшим студентом посредине лета. Лето — мой секрет. Однажды в молодости, встречаясь со своей ученицей, преследуемый соблазнами, я случайно разгадал тайну лета. Я сделал так, чтобы оно остановилось, сделал шаг в его огромный сад, и больше уже оттуда не выходил. Зачем? Мне там хорошо. И ему со мной терпимо.
Да и куда, куда мне бежать из этого минского лета? Стучит внутри сердца старость, старость — не летний месяц, зимний, холодный, старость мне не грозит, лето мой защитник, высплюсь, проснусь под минских соловеек, завтра солнце будет, и всегда будет, и свобода, и одиночество, сутки за сутками, будут самые невероятные приключения и несуществующие чудеса в этом несуществующем моём городе, где жить мне да жить ещё, сорок и сорок, и в сачок, светел будь, мой путь в смерть, имя которой: город-герой на реке Свислочь.
Танина сестра молчала, чтобы не выдать мне ненароком ещё каких-нибудь своих семейных тайн. Синий куб Икеи вырос, напрягся, упал за спины, на плывучий асфальт шоссе. Над Шабанами солнце заходило, дымоходы ловили его, ловили, но не выловили, не вылавировали…
«Дообгоняешься», — сказала сердито Танина сестра в лобовое стекло и сбросила скорость. Над нами промелькнул мост, ещё один. И вот уже зелёные автобусы вымазали собой полотно дороги, хоккейная клумба поклялась, что она болеет за Беларусь, шоссе раздвоилось, растроилось… «Не расстраивайтесь», — сказала Танина сестра, высадив меня у метро и вручив мне пару купюр. Вечер принял меня в свои мягкие зловонные ветры. И я двинулся, покачиваясь, по ступенькам вниз. Купил жетон и талончики.
«Пройдёмте на осмотр», — ласково сказал печальный охранник. Как доктор, к которому ты уже много раз приходил на прием.
Я не сопротивлялся.
«Что у вас в пакете?» — спросил он, вытирая пот с широкого, лакированного солнцем лба.
«Камни», — сказал я, подумал и уже совсем уверенно повторил: «Теперь я точно знаю. Камни».
Памяти инженера Гарина
Когда-то мастер ворожбы, Ни с кем я больше не враждую. Мне должность бы… мне службу бы, Плевать, кому и где. Любую. Зарплата, офис у метро… Гулять по кладбищам Монтрё И Праги, Цюриха, Парижа И в Минске можно. Этих книжек Обложками в заду вагонном Свети! — пока ещё законно Перечитать «Улисс» до корки. И на ковёр, и на планёрки Ходи всегда с одной улыбкой. А прежнего себя ошибкой Считай — и не переживай. И о себе не возомни. Читай чужое, будь критичен. А гениев в их шеи птичьи Гони, гони, гони, гони! От них, больных и неприличных, От букв их тонких и двуличных Пиздострадания одни. Они все умерли давно. Перечитай, если приспичит, Но самому: запрещено. …Вот корешки любимых книг, Удавленных и удивлённых, Они не верят, что от них Читатель верный, их ребёнок, Сбежать способен в этот ад, С его дурацкой перспективой. С его нормальностью красивой. Как это страшно, если книги Тебе в глаза с утра глядят И осуждающе молчат. В обложках книг горит гордыня. А завтра телефон поднимет. Будильник трубку в злости кинет: Служить, служить, служить, служить. Ты просто начитался книг. Иди и вырви этот клык. Noblessе oblige? Нож оближи. Служи, служи, служи, служи. Но не уходит запах тлена Из однокомнатной норы, Одеты в пыль, вцепившись в стены, Стоят все книжные вселенной, Молчат все книжные вселенной, Кричат все книжные вселенной И новой требуют игры. А ты, заждавшийся наград, Уставший жить, работник хренов И бывший член различных ПЕНов, Хватаешь книжку наугад. Орёт твой разум, he’s a poet, Хватай скорей гиперболоид, Поэт, писатель, психопат! Гори вы гаром, Гаром, Гаром! Я вспомнил: Гарин, Гарин, Гарин. Маньяк, диктатор, инженер. …Восьмидесятые. Торшер. Вот, ногу за ногу забросив, Лежит подросток и не просит Ни есть, ни спать. Не может мальчик глаз зелёных, Астигматизмом подведённых, От новой книжки оторвать. Под завыванья минской стужи, До утреннего забытья… А папа служит, мама служит, Народ огромный верно служит Своим богам, своим чертям. Подумаешь, какой-то Гарин… Пора читать о тайнах спален, О тех, кто был в сраженьях славен. Ты лучший, добрый, не такой! …Затёкшей поведя рукой И книгу прислонив к колену, Я чувствовал, как постепенно Гордыни разбухала вена. Я уже знал, кто мой герой. А ночь кончалась так мгновенно. Был завтрак — как немая сцена. Портфель, пакет с обувкой сменной, И Гарин режет в животе. Воняет кровью в душном классе, Вся жизнь пока ещё в запасе. И борщ холодный на плите. Я помню школу, всю в тумане, Над партами, как над гробами, Плывёт лицо белорусицы… В те дни над теми Шабанами Пылал костёр моих амбиций. Как солнце, как багряный галстук, Как третий и последний Рим. Как я над вами издевался! Как верил, что непобедим… Гори вы гаром, Гаром, Гаром! Я вырасту таким, как Гарин. Махно, Айвенго, Вечный Жид! Я в мыслях жалил, мстил и жарил, Я был один на этом шаре, Я понял, как здесь нужно жить. Водить лучом своим смертельным По их фальшивой темноте, И их смеющиеся бельма Жечь и не думать: те, не те… Всех этих самозваных гуру, Их мелкие полуслова, Лакеев их и балагуров, Всё сказанное ими сдуру Жечь, не жалея вещества, И мстить им за литературу. Завоевать их мир поганый И доказать, что всё не так, Что их дворцы, короны, храмы — Пустяк, игрушка для луча. Я здесь. Встречайте палача! У старых мастеров учиться Искусству тонкой ворожбы, Чтоб на последней на странице Никто не понял, что за птицей Ты Был.V. Капсула времени
1.
…В туалете он, помогая себе зубами, завязал на рукаве красную повязку. Ловкости в таких вещах ему всегда не хватало — вот и сейчас непослушный шнурок залез ему в рот, и он успел вдоволь насосаться казённой ткани. Он инстинктивно осмотрелся в поисках какой-нибудь девчонки-восьмиклассницы, которая б одним движением разобралась с этими дурацкими завязочками. Довелось признать, что помещение, где он сейчас стоял перед зеркалом, было не лучшим местом для восьмиклассниц. Да и для него самого. В коридоре тоже никого было не поймать, звонок прозвенел, рабочий день начался. Пусть висит так, главное, не махать руками.
С этой повязкой дежурного педагога он сразу стал похож на уже немолодого, но ещё вполне мерзкого нациста. Коричневая рубашка, купленная в секонд-хэнде, и недавно сделанный андеркат с косым пробором — чтобы прикрыть лысину, — прекрасно дополняли облик. Только шортов кожаных не хватало. Поглядывая на повязку, он быстро, но не теряя достоинства, миновал коридор и офицерским шагом вошёл в класс.
Никакой реакции. Вошёл в класс. Ноль внимания. Учитель вошёл в класс. Идеальное предложение. Прямое высказывание, изумительно-нейтральное, эмоционально не окрашенное, ничем не окрашенное, кроме красной повязки, болтающейся на рукаве. Подлежащее, сказуемое, дополнение (впрочем, лишнее). Учитель вошёл. Учитель! Святой человек! Мученик! Жизней ваших повелитель, ваш герой и победитель, Гитлер-ваш-освободитель, судеб молодых вершитель, юных душ нагой Пракситель, ой ты скромный белый китель, мудрый вождь, отец, учитель, и страстей огнетушитель, и гормонов дирижёр…
Он обвёл глазами это нацистское сборище. Все в красных повязках. Дежурный класс.
Дети. Какие же они ещё дети.
Груди-дразнилки, щедро выложенные на переднюю парту, прямо перед ним, так, чтобы можно было заглянуть в дерзкие вырезы и поразиться, и дрогнуть, и простить глупость их обладательниц. Или — хлопцы. Вислоухие василиски, редкие усики над убогими губами, виноватые влажные ладони, высокие голоса, войнушка в голове: великаны-вонючки.
Шумящие, глумливые дети. Было время, они думали его напугать. Смешные, смешные дети. У каждого в голове дырка, а из дырки идёт шум. Это всё, что следует о них знать.
Заставить их замолчать было нетрудно. В его педагогическом арсенале имелось сто способов сделать это — оставалось только выбрать самый красивый.
Конечно, можно было лишить их единого языка. Перемешать их речи так, чтобы они не понимали друг друга. Разрушить Вавилон их болтовни, рассеять их по миру — там и сям, мир не такой уж большой: от универсама «Изумруд» до самурайского клуба, куда они вечерами ходят качаться. Он уже видел, как они моргают глазами, эти дети с дырками в голове, из которых идёт непрерывный шум, он уже видел, как слова застревают в горле, как они давятся шумом и замолкают, — что ж, теперь можно начать урок. Но этот способ угрожал ему неизбежными разборками с директором — пан Директор не любил архаичных методов, пан Директор уважал новаторов и атеистов.
Новаторскими способами он тоже владел неплохо. Например, можно было позашивать им рты. Сходить в кабинет труда, взять в долг ниток и длинную иглу — и обойти парту за партой, губу за губой. Дети-зашиванки. «Учитель школы на окраине Минска заколол своих учеников». Заколол? В каком смысле? Как кабанчика? Или шприцом? Нет, иглой для шитья. И зашил казёнными нитками. Заколол до потери языка. Ясно: политическая акция. Перформанс. Да нет: просто педагогический приём.
Всё равно в этом возрасте они поголовно мечтают себе что-нибудь проколоть. Пирсинг вызывает у них какое-то поросячье восхищение. Будто бы им мало ушей, словно на теле не хватает дырок. А кое-кто из учениц уже колотый орешек: по глазам видно, что кольца в пупке. И действительно: в их глазах хорошо видны их пупки. Часто это единственное, что там можно увидеть. Прогрессивные папы и мамы не против лёгкого пирсинга — если дитё хорошо учится, пусть проколупает в себе дырку-другую. Почему-то пупок кажется родителям безопасным местом. Ну, давай, только в пупок, строго говорят они, не понимая, как неприлично это звучит. Почему-то пупок ни у кого не вызывает рискованных ассоциаций. Взять хотя бы пуп земли, на котором мы живём. Вообще никаких дополнительных смыслов. Только пупок. Просто пупок. Пронзённый пуп земли.
Класс между тем продолжал выть, хрюкать, мычать, блеять и скулить. Дети. Бедные поросята. Когда он попал к ним впервые, серьга в его ухе вызвала среди них фурор. Что было бы, если бы он показал им все свои татуировки? Наверно, выбрали бы его своим фюрером.
Зашить им рты, зашить.
Но увы — и этот трикотажный способ соединить их во имя педагогической необходимости следовало оставить до лучших времён. Зашитые, как у зомби, рты его учеников, может, и замолчат, но, перестав шуметь, эти глумливые дети сразу начнут реветь. Им, понимаете ли, будет больно. Он не любил, когда они плачут. А такое бывало: пожалейте, отец прибьёт. Как же они его раздражали — хныча, любое из этих существ выглядело так, будто позирует для плакатов социальной рекламы. Вроде «Папа, не пей» или «Мы против домашнего насилия».
Существовали, конечно, и другие способы обратить на себя внимание. Снять штаны и показать им голую задницу. Облить детей бензином и поджечь. Но всё это грозило вызовом на педсовет, выговором или лишением премии. Дети теперь уже не те… Их учат знать свои права — как-никак, пуп земли обязывает.
Наконец после всех этих рассуждений — прошло уже минут пять — он выбрал достаточно традиционный способ, который, бывало, использовала много лет назад его молодая белорусица. Сначала он призвал на помощь литературу. Достал толстенную томину, на которой красовалось хитрое, какое-то христопродавшее слово «Хрестоматия» (оно никогда не ассоциировалось у него со словесностью) — медленно поднялся и воздел её на высоту глаз. А потом разжал пальцы.
Хрестоматия так хорошо вхрестоматилась в стол, что все сидящие в ней поэты получили, дожно быть, множественные ушибы внутренних органов.
Книга враз положила их руки на парты, будто целый вражеский взвод на землю. Она выстрелила по их кроличьим ушам, словно пушка. Гул от неё был слышен, наверно, даже в магазине «Изумруд» и в самурайском клубе.
Стало тихо-тихо.
На усёй зямлi. И урок наконец поплыл — как те рушники по реке. Далеко. Куда он их заведёт, никто пока что не знал.
Дети. Какие же они ещё дети. Стоит тебе просто настроить звук — и вот уже умолкли, сели, лапки сложив. Недовольные. Кто-то нагло покрутил пальцем у виска: «Вот наш Олег Иванович захерачил». Молчи, Сидоревич, христом-матом прошу, молчи.
Ёб вашу хрестомать, детки, я заставлю вас меня выслушать.
Не давая им опомниться, он достал пустую трёхлитровую банку и поставил на стол. И посмотрел на них долгим, зловещим взглядом. На всех сразу. Сидят, присмиревшие, пристыженные, заинтригованно подрагивая ногами. Поглядывают: то на банку, то на учителя.
«Это для анализа мочи?» — не выдержал один из них, тот, который с особо глумливым выражением глаз. Пара голосов приглушённо и радостно тявкнула, другие ждали, что будет.
«А тебе мало, Сидоревич? — ответил он в полной тишине. — Вся школа знает, что ты ссышься ночью, но я не думал, что твоя норма больше трёх литров…»
На этот раз тявканья было немного больше. Маленькая учительская победа.
«Я не Сидоревич», — проворчал ребёнок с вызовом, смущённый и раздосадованный.
«Возможно, — согласился он. — Но в постель, значит, и правда ссышься… Что молчишь? Да, Сидоревич, постправда, она такая».
Сидоревич мрачно опустил голову, раздавленный железной логикой. Дети. Им нечего было возразить. Пусть очередной раз убедятся, насколько он крут в открытом бою.
Он вспомнил, как пришёл к ним впервые. Как стоял перед ними, напряжённый, нелепый, готовый к бегству, словно таракан, застигнутый посреди кухни, стоял, правильный и причёсанный. Как хватал ртом воздух и не знал, как заставить их повернуться в свою сторону. А теперь они одна команда. Команда «Летучего голландца», несущегося на всех парусах в минский вечер.
Они все были для него Сидоревичи. А девчонки — Каштанки. Так удобнее. Только в мыслях, конечно. Не запоминать же их было и правда, как взрослых, поимённо. Ему казалось, что это абсолютно нереально. Он знал, что в этом богом проклятом классе есть как минимум один Сидоревич. Этого хватало. Только вот кто из них и как он выглядит — он забыл, а разузнавать было не в его правилах. Да и разве они бы сказали правду? Для них это стало бы весёлой игрой: не сговариваясь, они поменялись бы именами и выставили бы учителя на смех. В ушах уже стоял их радостный гогот. Кажется, у одного из них было прозвище: Гогот. Не у того ли, которого он так щедро наградил только что энурезом? Папа у него Гогот, и мама Гогот, и брат. Семейство Гогот, последняя надежда пупа земли, несломанный хребет белорусской нации.
Что касается Каштанок, тут всё было проще: вот она, сидит у окна, нервная, в свитерке, смотрит на что-то — а на что, угадать ни малейшего шанса: что там, штакетник, обсаженный птицами, школьный стадион, чёрная волна вкопанных в землю шин, серое здание, дым… Задумалась. Каштанка Наталья — с ударением на имени, в школе и правда всех называют так, будто фамилия одна на всех, только имена разные. За год он и сам начал так говорить. Ставить акценты не там, где нужно. Не на тех звуках, не на тех мыслях, не на тех темах. Школа превратила его во что-то другое. Каждый день она превращала его во что-то другое — и дома, под душем, под вагнеровский шторм, он каждый вечер отчаянно пытался вернуть себе себя, втирал в кожу свою потерянную самость, смывал звуками старой и вечной музыки очередной рабочий день. Такой, как этот.
Оставалось нанести ещё несколько штрихов. Он подошёл к одному из Сидоревичей, самому убогому, с пламенными ушами, уже вконец заплёванному бумажными пулями, Сидоревичу хилому и вялому, бесполому лоху, красноглазому зайцу, затравленному их тихими подлостями. Видно, из таких и вырастают потом белокурые бестии. Потом, попозже, когда всё это закончится: классы, кляузы, скрип парт, плевки, бесконечная охота… Он подошёл к нему и указал на переднюю парту. Спас до звонка. Несчастный пересел, втянув в плечи голову. Как там его, Витя? Неблагодарный маленький старичок. Поживи с полчаса. Я добрый.
Он вернулся к своему столу и сел рядом с этим убожеством. Сейчас в классе был порядок. Спасённый им Сидоревич сидел, странно содрогаясь, словно во сне, и он чувствовал, как от этого тела идут волны безвольной ненависти.
«…Я был таким же, как они, те же самые косые плечи, то самое уродство. Детство моё, сгорбившись, прошло мимо меня. Ушло, и я так и не коснулся его, хотя бы слегка. Моё ушло, а его — тайна, как наши взгляды. Тайны, безмолвно застывшие в тёмных чертогах наших сердец. Тайны, что устали тиранить, тираны, что мечтают быть поверженными» (Ул. 2:66).
Что же. Сидоревичи и Каштанки вдоволь отведали его справедливости. Пора! Самое время поработать.
«Сегодня. У нас. Не совсем. Обычный. Урок, — начал он, поровну разбрасывая слова в борозды этого дикого класса, словно суровый, но справедливый сеятель. — Урок. Который. Покажет. Покажет, что вы из себя представляете. Пустышки вы — или настоящие пупы земли. Кто-нибудь из вас слышал о капсуле времени?»
Нет. Они не слышали. Им понравилось слово «капсула», но не понравилось слово «время». Его слова вызвали у них беспокойство и ломоту в спинах. Класс завертелся, заёрзал. Они и так сидели в капсуле — капсуле школьного класса, и у них цепенели ноги и ныли копчики.
«А можно телефон достать?»
«Можно достать ногой до носа, — сказал он строго. — И замолчать, если не можешь сказать что-нибудь по теме. Объясняю. Капсула времени — это такая штука, в которой хранится послание будущим поколениям».
Он сделал паузу, чтобы до них дошло.
«У кого что по колено?» — не выдержал один из сидоревичей.
«Не у тебя, — терпеливо обратился он к этому дубовому лбу. — Поэтому ты в штаны всякую дрянь суёшь, чтобы девочки думали, что у тебя там ого-го».
Дети были рады. Дети оживились. Сидоревичи загудели. Каштанки зашептались.
«Девочки, девочки… — передразнил его пацан, положив квадратный подбородок на парту и пряча глаза. — Да кому они ваще…»
«Давай, показывай, что у тебя там, — он подошёл к наглецу и стал прямо над тёмным темечком, деловито прочищая языком во рту обломок зуба. — Ну! Доставай. Что там у тебя такое — до колена…»
Ученик покраснел, заполз пузом под парту и вытащил из брюк книгу.
Он брезгливо посмотрел на обложку:
«Танки Третьего рейха… Иллюстрированная энциклопедия. Так ты у нас ариец, Сидоревич? Я-я, натюрлих?»
«Я…»
«Ты… Ты посмотри на себя. Ты же еврей, Сидоревич. Нельзя тебе такие книжки читать. Хотя ты же и читать как следует не умеешь. Ты же только картинки разглядываешь».
«Сами вы еврей…» — беззлобно отозвался Сидоревич.
«Все люди евреи, — сказал он строго. — Запомни».
Они недоверчиво засмеялись.
«Вы бы сами почитали… Олег Иванович, а вы в танках сечёте?» — ученик даже не поморщился, не обиделся. Посмотрел на него вкрадчиво, нежно. Вот из кого она точно никогда не вылупится — белокурая белорусская бестия.
«Нет уж, спасибо. Пускай другие из твоих штанов всякую дрянь читают, а мне, только раз на тебя посмотрев, уже руки помыть хочется», — сказал он с улыбкой.
«Олег Иванович, да плюньте вы на него, про капсулу лучше расскажите», — недовольно сказала одна из Каштанок.
«Ага, давайте лучше про капсулу», — послышалось ещё несколько голосов.
«Хорошо, — он подошёл к окну. — Штаны не порви, ариец. Как я уже сказал, капсула времени — это послание потомкам, которое пишут современные люди, то есть мы с вами, и которое обычно запаковывается в определённую ёмкость, капсулу. Капсула хранится в определённом месте — например, её можно вмонтировать в стену, залить в фундамент, бросить в океан или просто закопать в землю. Даже в космос можно отправить. Как правило, на капсуле обозначено, для кого она, когда её можно открыть и прочитать послание. Например. Написав послание будущим поколениям, мы можем указать на капсуле: «Минск. 2017. Открыть в 2050 году». Когда-нибудь люди найдут капсулу, узнают, в какое время она была отправлена, и прочтут, что мы им написали. Прочтут, о чём мы думали, о чём мечтали и как представляли себе будущее. Вполне возможно, они прочтут всё это, когда нас уже не будет в живых. Скорее всего, так оно и будет. Чем лучше спрятана капсула, тем труднее её найти. Хотя и здесь всё не так просто, случайность никто ещё не отменял…»
«А зачем её закапывать? — пробасил какой-то простуженный Сидоревич. — Можно же просто в интернет отправить? Сделать так, чтобы самораспаковалась через пятьдесят лет… А то копать… Я копать не люблю… Что я, колхозник?»
Заржал, за ним другие — невесело, нависнув над партами, и всё же он видел, что им интересно. Пока что. Проглотили наживку.
«Какой ты умный, Дерунов. Через пятьдесят лет уже такого интернета не будет, через столько времени мы уже все в виртуальном пространстве будем жить, как голограммы», — быстро произнесла какая-то резвая Каштанка и поджала губы.
«А дети откуда будут браться?»
«Генерироваться, кнопку нажал — и готово».
«Через пятьдесят лет нас самих уже не будет! — решительно заявил Сидоревич, который сидел справа. — Всему миру будет пи…!»
«Нет… Нас марсиане в рабов превратят, — мечтательно сказал Сидоревич-ариец. — Кровь пить будут, и размножать, как свиней. На убой».
«Марсиане не дебилы, чтобы таких, как ты, размножать. Таких они в цирке показывать будут», — пискнула другая Каштанка.
«Сейчас ты у меня размножишься, Соловьёва».
«Так что у нас сегодня творческое задание! — остановил он их детские фантазии. — Вы, то есть восьмой «А» класс, под моим мудрым руководством напишете каждый своё короткое послание в будущее. После этого мы спрячем нашу капсулу в надёжном месте. Закопаем её. Что вы там напишете, дело ваше, я проверять не буду. Полная свобода. Можно писать анонимно, только учитывайте, что это когда-нибудь прочитают люди. Что они о вас подумают? Я бы на вашем месте об этом не забывал. Ну что, поехали, времени у нас осталось немного, двадцать пять минут. Начинаем. Это у вас последний урок, правильно? Так что после звонка сдаём, что написали, идём и закапываем капсулу».
«Я не могу после звонка…» — послышались разочарованные стоны.
«У меня репетитор…»
«Кто не может, я не заставляю, со мной пойдут добровольцы. И когда я буду оценки ставить за четверть, я тоже буду к ним добрее. На балл или на два. Всё, время пошло, пишем».
Они покорно вытянулись, неторопливо зашелестели тетрадями.
«А капсула где?»
С капсулой, конечно, вышел промах. Он всячески старался не выдавать своей растерянности, но они уловили её, волчата, уловили и вылавировали своими глумливыми взглядами к трёхлитровой банке, стоящей на его столе. И вопросительно перевели глаза на него, а он стоял как оплёванный. По классу прошёл довольный стон. Буркнул один, прыснул второй, и одна из Каштанок широко раскрыла глаза, наполненные таким воодушевлением, будто она на конкурсе красоты победила.
«Банка?»
«Это… это и есть наша капсула?»
Класс заржал, зарумянился, захрюкал — банка на столе и правда выглядела жутким издевательством над славной идеей капсулы: недомытая, дородная, мутная, и какая-то мещанская гордость ощущалась в её крикливой круглости.
«Трёхлитровик времени…» — сказал кто-то.
«Может, лучше на пиво, Олег Иванович?»
«Скинемся вам на банку и домой?»
Виноват во всём был учитель труда, который ещё месяц назад обещал сделать в школьной мастерской красивый и аккуратный футляр из стали. Ещё и надпись выгравировать клялся, падла. Но вчера он снова встретил трудовика возле магазина «Изумруд» — оказалось, что тот и не собирался выходить из очередного запоя. Его вообще трезвым никогда не видели — у каждого свой креативный подход к работе. Трудовик как раз взял новую порцию чернил и был в хорошем настроении.
«Иваныч, да я тебе такую капсулу сделаю — в космос отправить можно! — полез он обниматься. — Я же в секретной лаборатории работал, ты же в курсе… Завтра будет готово! Иваныч, ты меня знаешь! Не подведу!»
И так каждый раз. Надоело уже напоминать — он не из тех, кто умеет просить дважды. Да пан Директор по-прежнему цеплялся: конкурс креативности среди учителей в самом разгаре, а идея его так и оставалась идеей. Как ни встретит его, всё спрашивает: готова капсула или нет? И что его заставило месяц назад ляпнуть про этот свой оригинальный замысел? Промолчал бы, провёл викторину, раздал бы детям просроченные витамины отечественной поэзии — и забыл. А так попал в ловушку собственной гениальной идеи. На него начали смотреть с уважением и ещё большей завистью, пан Директор считал, что победа на конкурсе у них в кармане, и здоровался с ним, как с равным. Надо было что-то делать.
Фамилия директора была Барсук, имел он и отчество, этот неотъемлемый атрибут учительской власти, но почему-то любил, когда его называли паном. Может, потому и любил, что сам был историк. Историк с кашей в голове и неразборчивой любовью к иноземным словам: инновация в его устах звучала ватной подкладкой, а симулякры превращались в симулярки. Пан Директор был одержим креативностью: мое кредо — креационизм, гордо каркал он, и от вас я жду прежде всего креационизма. «Забудьте всё, чему вас учили, на одном стаже у меня никто не выедет!» Уныло сидя на стожках своего стажа, учителя всё же как-то выезжали — и никто не упал с воза. Прилипчивый, но невнимательный был пан Директор — с такими можно сосуществовать, главное — навык.
К нему пан Директор сразу же отнёсся с подозрительным радушием: «Вот человек, способный на что-то этакое!» — говорил он в учительской, обнимая его, нового учителя, за плечи. Учительская смотрела с ревностью; впрочем, здесь все ревновали друг друга, как в шекспировской пьесе. Что-то этакое было для директора неуловимым, расплывчатым божеством, суть которого долго оставалась для него тайной. Он выдумывал викторины, устраивал уроки-суды над персонажами советского беллита и конкурсы красноречия. Он доводил своих учеников до истерики. Мечты о спокойной ссылке в ничем не выдающуюся школу, где можно отсидеться год-два в поисках более достойного занятия, умерли в самом зародыше. Пан Директор никому не давал покоя, а ему в первую очередь. «Эх… Не то, — бормотал огорчённо пан Директор. — Понимаешь, Иваныч, не то… Должно быть что-то этакое! Такое, чтобы душа развернулась, а потом снова свернулась! Такое, чтобы ощущался прорыв! Ты сможешь!»
Вот однажды он и не выдержал очередной директорской атаки и ляпнул про капсулу. Пожертвовал неприкосновенным, раскрыл сокровенную тайну — лишь бы этот Барсук отцепился.
«Хм. А вот это и правда то! — одобрил пан Директор, вынимая влажную салфетку. Он всегда протирал руки после занятий, словно смывал с них кровь исторических сражений и подавленных восстаний. — Что-то эдакое! Вот это я и называю креационизмом! Действуй!»
Капсула… Честно говоря, он не видел большой разницы: стальная, стеклянная или из папье-маше. Да хоть из детской кожи. Поэтому сегодня утром он вытащил из туалета пустую банку, одну из тех, что каждый месяц передавала ему мать, вытряхнул из неё помидоры и прополоскал под краном. В конце концов, какая современность, такая и капсула. Стекло и пластмассовая крышка хранятся столько, что человеку и не снилось. И вообще, трёхлитровик выглядел символично и к тому же очень аутентично. Что могло бы лучше воплотить наше героическое время? И не менее героическое место? Классический дизайн: une banque trilitère classique! К тому же банка была прозрачная. И — что самое существенное — надёжная. Традиция, проверенная временем. А именно его толщу она должна была прорезать своим круглым рылом. Камень и шлак времени. Каким бы ни вышло их послание — к кому-то оно должно было дойти. Что само по себе выглядело невероятно абсурдно.
Его волчата всё ещё посмеивались.
«Что за ухмылки? Вам палец покажи, вы лыбитесь. Как дети малые».
«Так это ж, мы ж того… мы ж и есть дети, Олег Иванович! Мы ж несовершеннолетние!»
Впрочем, выбора у них не было. Класс навис над тетрадями. Они засунули во рты свои ручки, и лица их приняли отсутствующее и туповатое выражение — словно они к соскам на брюхе матки своей приложились. Худой и истощенной самки всеобщего бесплатного образования.
«Олег Иванович, а что писать?» — капризным голосом спросила какая-то Каштанка, пососав своё паркерово перо.
«Ну что-что… Расскажите в двух словах о себе. Что вам интересно, что окружает. И что это за время, в которое мы все живём. И обратитесь к людям из будущего. Какими вы их видите? О чём, на ваш взгляд, они должны задуматься. Ясно?»
«Нет!» — ответил ему на удивление слаженный хор. И началось:
«А сколько? Страницы хватит? А листик вырвать можно?»
«А что сверху писать?»
«Сколько угодно. Напоминаю, у вас полная свобода. Сверху?.. Ну, дату можете поставить».
«И что, всё от руки? У меня пальцы болят!» — заныли по очереди его Сидоревичи и Каштанки.
«Можно и не писать, — осклабился он. — Пожалуйста. Кто не хочет, кому нечего сказать, открыли учебники на странице сто два… И до завтра выучить, на оценку. Кто не пишет, поднимите руки».
Пишут. Скрипят. Прилежная многорукая рабыня. Он посмотрел на спасённого им Сидоревича: тот ковырялся в ухе. Заметил его беспощадные глаза, неохотно взял ручку. Зачеркал, мучая мерзкие свои прыщи.
«Ай! Я не знаю, что писать!» — захныкала, вылепив из губ розовое пирожное, Каштанка, что сидела перед ним. Бросила ручку — и почему школьные ручки так дребезжат, падая на стол? — плоско, пусто, подленько. Бросила, отвернулась, а у самой уже целая страница готова. Не знает она… Всё они знают, эти несовершеннолетние совершенства.
Заскрипели, притихли, засопели.
2.
Больше всего в школе его удивило, что он снова стал Олегом Ивановичем. Как же легко делает карьеру твоё собственное имя. Школа — учреждение для нищих аристократов, работаешь за копейки, зато каждый день имеешь приставку-отчество, не хуже чем «фон», и на её фоне кажешься себе не таким уж и мизерным. Здравствуйте, Идальго Иванович, как ваши дела, Орех Бонвиванович, пожалуйста, Морпех Бананович, не ставьте мне пять.
Он вёл уроки, как врач: не позволял себе крика, не сюсюкал, не жаловался и не жалел. Просто делал свою работу. Со своими учениками он заключил неписаный договор — с ним они говорят по-белорусски, кто как умеет, но вроде бы по-белорусски, а он не поправляет и не снижает за язык оценок. Они, конечно, не умели, они были из того поколения, для кого белорусский был скорее вторым иностранным, чем модным да полуродным, но потихоньку игра их захватила. Возможно, они его даже любили и немного жалели — как и полагается пациентам нервного, усталого, но хорошего и внимательного врача, который взялся за безнадёжное дело. Они знали, что ему их не излечить. Но он лечил, как будто ему и правда всё это было важно.
Ему? Важно? Да плевать он хотел. И на них, и на их родителей. Работа нужна, чтобы оплачивать удовольствия. А удовольствий в его жизни осталось немного. Вики, виски, Вильнюс — вот и весь набор. Эту триаду можно было воспринимать как veni, vidi, vici или как Kinder, Küche, Kirche, в зависимости от настроения и обстоятельств.
Ежедневно, отправляясь в свою школу, он просматривал объявления на сайтах рабочих вакансий. Прежде всего, разумеется, в разделах вроде «Искусство, развлечения, масс-медиа». Стране были нужны тренд-вотчэры — и это звучало как порода собак. Собачки должны были вынюхивать модные вещи в магазинах США и в зарубежных блогах и владеть английским на уровне Upper. Нет, это не для него. Куда ему, дворняге. Кто-то искал копирайтер-пиарщика 80-го уровня. Что нужно пиарить, объяснять не стали. Какая разница. Копируй, пей, неистовствуй и не парься. Сети магазинов «Рублёвский» был позарез нужен культорганизатор: «инициативность, харизматичность, креативность, активная жизненная позиция». Последнее особенно пугало. Быть в ответе за суровый отдых сотни доверенных тебе колбасников, кассирш и грузчиков и развлекать их своей активной жизненной позицией — это было похуже школы. Хотелось бы посмотреть, как они испытывают кандидатов на харизматичность. Ну что, парень, насмеши нас. Обаяй и наеби, да так, чтобы никто не заметил. Харя-то у тебя не больно харизматичная…
Отечественной культуре были нужны страстные преподаватели сальсы, а также бачаты, вальса, вога и стрип-пластика. Нежные флористы и мужественные мастера тату, радостные ведущие ФМ-радио и менеджеры по продаже керамической плитки. Несудимые мойщики посуды и непьющие кассиры в букмекерскую контору. Славные руководители телеканала Слуцк ТВ и аниматоры (а из него, кстати, получился бы неплохой Крокодил Гена). Катастрофически не хватало администраторов в катарские кинотеатры и мерчендайзеров. Срочно требовались также руководители курсов по наращиванию ресниц и шустрые швеи-машинистки.
Вики, виски, Вильнюс. Не спрашивайте, откуда у учителя деньги на виски и Вильнюс, — каждый крутится как может. Иметь здесь работу — значит искать другую, не иметь никакой — значит иметь только одну, быть — значит иметь, иметь — значит знать нужных людей. Вильнюс он позволял себе раз в месяц, на выходные — брал заранее билет, приезжал утром и, незаметный, отстояв во влажной очереди пограничного контроля, выходил, сонный и какой-то пристыженный, в виленский раёк, пил кофе, покупал мелочь, наслаждался другим ритмом, другим разумом, здесь можно было стать неловким, прозрачным, тонким, здесь не нужно было хитрить и трепаться, как флаг на ветру, здесь можно было раствориться — до вечера.
Нет, свой Вильнюс раз в месяц он, видимо, никому не отдал бы. А что-то другое из остатка иногда можно было заменить на Винифред. Такой был псевдоним у девушки из семиминутного порно, его любимого ролика, лучшего, чем этот, он так и не нашёл. Всё там было естественно и просто, как в наскальной живописи. Она была живая, печальная, неспешная, и кожа у неё была в прыщиках. Видео действовало на него умиротворяюще. Лица мужчины видно не было — да он ничего и не делал, от него оставался только член, с которым Винифред обходилась на удивление спокойно и с некоторым затаённым сожалением. Может, она любила того мужика, и он, школьный учитель, был свидетелем одного их вечера. Всегда одного и того же самого вечера. Они кончали с этим мужиком вместе. Ей на ладонь. Раз в неделю.
Он был одинок, и ему было сорок. В сорок лет понемногу начинаешь замечать, что твоё тело перестаёт тебя слушаться. Сначала это удивляет, воспринимается как нелепость, потом злит, словно предательство, а потом приходит смирение. Сорок — не приговор, сорок — вызов; твоё тело становится подобным школьному классу, над которым тебя недавно поставили учителем. Конечно, большинство тут ещё выполняет твои приказы и даже прихоти — неохотно, лениво, но выполняет, ведь таков уж заведённый порядок. Но там и сям постепенно появляются всякие маргиналы, непослушные, их мало, но голоса у них всё сильнее, этих дурачков всё больше — и всех их надо упрашивать и наказывать, обманывать и награждать. А есть и настоящие отморозки. Геморроидальные узлы коллектива. Как и любому учителю, тебе хотелось бы перевести их на какое-нибудь другое, чужое тело, а себе оставить сознательных и дисциплинированных. Мечта каждого педагога.
Но это не та школа, которую можно поменять. Понимаешь, не та. Это твоя школа на окраине города, и это твой класс, другого не будет, и это твоя страна, как бы ты ни мечтал о чужой, и это дежавю тебе надо как-то дожить.
3.
Вот и звонок стошнило. Диньдилинь, Цзин Цзылинь.
Приказав им ждать внизу, он сходил к трудовику, взял старую, но ещё крепкую, крапивной краской забрызганую лопату — и вышел на крыльцо.
Идти закапывать капсулу времени вызывался весь класс — но по дороге стадо растянулось, детки начали останавливаться, отставать, теряться, шмыгать по одному в норки дворов, в двери подъездов. Знали, что им отрыгнётся этот саботаж — и всё же убежали.
Он остановился там, где из чёрных голых кустов уже выглянули первые пустые полторашки из-под пива. Блеснула под ёлкой фольга, открылась полянка: бархатные угли на белых разбитых кирпичах.
Он оглядел свою группу и вонзил лопату в землю.
Штук восемь Каштанок и всего пять Сидоревичей. Немного — но для легитимности хватит. И его Каштанка тут как тут — все лепечут, а она молчит.
На опушке, там, где город, выдохнувшись, замахнулся своей лапой — но не достал, не дотянулся, они стояли и смотрели, как он вынимает из спортивной сумки капсулу времени. Наверное, со стороны это выглядело очень смешно. Словно они сейчас рассядутся здесь, на поваленном полусгнившем дереве, и начнут распивать спиртные напитки. То есть он, взрослый мужчина с высшим образованием, принёс банку и сейчас начнёт наливать детям: пейте, дети, пивасёк, будете здоровы.
Ну, ладно. И без него напьются.
«Ну что? Бросайте сюда свои письма счастья».
Туповато глядя на него, они полезли в рюкзаки и сумки. Вытянули свою писанину, некоторые по два-три листа. За себя и за друга-подружку. Он будто бы слышал их сиплые голоса: «Слышь, кинь там за меня, а? Ну кинь, что тебе, в падлу?»
Наконец все они опустили свои послания в широкое горлышко и уставились на него: что теперь?
Как ведущий какого-то безумного спортлото, он потряс банку с их письмами в будущее.
«Копать сами будете», — пропищал какой-то Сидоревич.
«Корона не упадёт», — мрачно сказал он, поплевал для солидности и смеха на ладони и сковырнул первый, самый мягкий слой ещё не отогретой после зимы, покрытой прошлогодней плешивой травой почвы.
Он и подумать не мог, что копание сделается такой мукой. Что земля не будет поддаваться, что изо всех сил будет цепляться за свои сырые секреты, что станет хвататься за тупое лезвие лопаты всеми своими живыми проводами, глупая белорусская земля, городская, ещё не препарированная, паровая, с запахом смерти. Они окружили его со всех сторон, равнодушно смотрели, как он покрывается потом, который сразу забил все поры. У него было ощущение, что он роет себе могилу.
Он остановился и посмотрел в телефон. Только пять минут прошло, пять минут, целых пять — а ямка, которую он отвоевал у земли, была курам на смех. В такую только нога провалиться может — до щиколотки. Пять минут, вот шестая пошла, поползла, падла, — а он уже был измучен. И всё же надо было довершить этот подвиг — который он сам навлёк на свою бедную голову.
На ладонях появились мозоли. Появились и сразу же лопнули. Приличная яма всё никак не вырисовывалась.
Это тебе не Википедия, бля, сказал он самому себе. А они будто бы услышали, его ученички, заулыбались злорадно.
Это тебе не в Вильнюс кататься. Не виски попивать, бля.
Они смотрели на него всё более насмешливо. В их детских глазах не было ни малейшего сочувствия.
Вот гады.
Он решил сосредоточиться. Он сделал вид, что вокруг никого нет.
Он копал.
Копал.
Копал.
Копал.
«Можно, мы уже домой пойдём, а, Олег Иванович?»
«А вы уже тут как-нибудь са-а-ами…»
Он злобно обвёл их глазами — и понял, что не удержит. Ну и валите. Валите, детки.
Нах. Домой то есть.
Копал.
Копал.
Копал.
Когда он поднял глаза, стоя по пояс в земле, которая никак не поддавалась, на него уже смотрела только она. Каштанка.
«Иди уже», — сплюнул он.
Она молча отвернулась.
Копал.
Он закрыл банку с посланиями грязной пластиковой крышкой, вылез, постоял немного рядом с Каштанкой. А потом осторожно опустил капсулу времени в яму. И ногой начал забрасывать эту сделанную им дыру в земном шаре чёрными страшными хлопьями. Снова схватил лопату и закончил работу. А затем потоптался по свежей земле. Хоть ты расстегни сейчас ширинку и помочись на дело рук своих. Если бы не Каштанка, он, наверное, так и сделал бы.
Они, не говоря ни слова, вернулись в микрорайон.
«До свиданья, Олег Иванович».
«И тебе того же».
Копал.
А потом… А потом нечего рассказывать. Он сходил в школу и вымыл руки, шею, протёр лоб. От него пахло кладбищем. В автобусе, который вёз его домой, к обеду, под вики, под виски, под мысли о Вильнюсе, он встретил пана Директора. Хотел отвернуться, затеряться, но не смог.
«Как там наша капсула?» — озабоченно спросил пан Директор.
Он стоял, а пан Директор сидел. Обратная иерархия. А может, и правильная — в данных обстоятельствах.
«Всё в порядке», — ответил он.
«В каком смысле?»
«Зарыли».
«Как зарыли?» — пан Директор аж с места вскочил, ухватился за поручень.
«Зарыли сегодня, совсем недавно, часа ещё не прошло. Пошли с ребятами в лес и закопали».
Пан Директор посмотрел на него, как на придурка.
«Как это закопали? Олег Иванович, дорогой… Ну вы же взрослый человек. Так ведь дела не делаются! Закопали… Вы должны были сначала показать мне, что вы там закапываете? Понимаете? Это же каждому ясно! Ох, Олег Иванович… Дорогой вы мой… Что ж вы наделали… «
«Но…»
«Никаких но! — строго оборвал его господин Директор. — Капсула времени — это же вам не игра какая-нибудь. В бирюльки. Это важное, ответственное дело. Идеологическое прежде всего. Вы должны были утвердить тексты ребят, проверить их на политическую и моральную грамотность. Заверить у меня. Вы их сами хоть прочитали?»
«Это же их дело… Их творчество».
«Какое творчество? Вы хоть представляете себе, что они там понаписывали? А они — понаписывали! Но вы и ещё кое о чём забыли. Забыли, что через много лет эту вашу капсулу откопают. И тогда это будет позор. Позор для вас, позор для меня, позор для родителей. Но в первую очередь — позор для школы! Представьте себе, что о нас подумают люди будущего! Какими они нас увидят. Теми, кто не смог вырастить нормальное, здоровое поколение. Теми, кто позволил потомкам вырасти моральными уродами! Олег Иванович… Господи, что же вы наделали… Где была ваша светлая голова, а?»
Они в полном молчании — сокрушённом, тяжёлом, как пейзаж за окном, — проехали несколько остановок.
«Знаете что, Олег Иванович, — повернулся к нему вдруг пан Директор. — Я думаю, не поздно ещё всё исправить. Возвращайтесь на место, где вы закопали вашу капсулу, достаньте её и повторите всё. С чистого листа. И обязательно покажите мне. Ваше счастье, Олег Иванович, что вы молоды, и совершаете такие ошибки, которые можно исправить… Ваше счастье… Вы меня поняли? Что вы улыбаетесь? Считайте, что это приказ старшего по званию».
Он приехал домой, пообедал, выпил полбутылки виски. А потом с какой-то неожиданной радостью расхохотался. Вечером он вошёл в школу, попросил у вахтёра ключи и фонарик и решительным шагом двинулся в лес. Засыпанную им яму он нашёл не сразу, пришлось побродить по кустам, откуда ветер безжалостно выметал вонь и пластиковые бутылки. Кажется, здесь. Он надел осмотрительно захваченные из дома, каким-то чудом оказавшиеся в помятой коробке со всяким хламом перчатки и начал копать.
Вот он уже снова по щиколотку в земле.
Вот он уже по колено.
По грудь.
А банки всё нет.
А он всё копает.
Наверное, здесь его и следует наконец оставить. С лопатой в руках, с мечтами о вики, виски, Вильнюсе и Винифред, в темноте лесочка, который жители микрорайона так и называют: лесок, потому что на большее у них не хватает ни сил, ни любви, ни, пошла она к чёрту, обычной фантазии.
SUTIKA KAU KUSUZU TRUDUTIMA
Odoloju tau ne bim veduzu a u Minsk istuzu kopjuta sutikama kau kusuzu trudutima.
Ne, trudutakusuta parou nauujma o ne sabaubavuta da ne sabaujokuta. Naudanau ne okuzoje da grimoje, o trudutakusalno. O nau aluzuta, kusuzu trudutikama, ne ujming o. Najda tau bim veduzu o nau istutima, o fuzu tau tuputima usoboje sutima, aluzu tau ida ne. Usoboje sutika ujmaamglutima kopja, kvaj, nauujma imatuzu nau akkoufuzutika, nau stutika, nau amglutima. Nau balbuta, u tuputa tuputima.
Kvaj trudutakusalnutika balbuzu nau u nau u social networks. Istuzu jaf afkluzoje kopjuta, deu naudanau balbuzu vedutima a onoje trudutikama, o ujma tikoje rekutikama, kau sau imatuzu. Ne, nau da nau ne linguzu trudutika u uvjutima da ne grizu sutatrudutikama nevedoje gerojutikama. Nau da nau ne kusuzu onoje korputikama. Nau da nau kusuzu onkuru o usoboje trudutika, sau nau aluzu imatuzu parou istuzu pajutoju.
U vedejle istuzu parou trudutakusutima usoboje balbuta: lithofagia. Da onoje balbuta, jaf ne kvaj tajnoje: gastrolitizm. Vedalno ine nekvajutima balbuzu, sau sutika kusuzu trudutima, stogou nau da nau takuzu rekutika, sau ne imatuzu parou istuzu. Odoloju kvaj. Kalaubif vedalno veduzu ujma, au bif hutahuzu. Ujmaamglutima kalau vedaln balbuzu „Au veduzu“, u nau flakutima grimuzu trudutko.
Akkou u volfsutima uve balbutikama brudergrimmoje. Veduzu jaf?
„…pomirnoje meesuta bim balbuzu: aidu, taku ujma trudutikama, au da tau liguzu o u volfsutoje flakutima, kalau nau pletuzu.
Sidonk meesutko bim takuzu kvaj ujma trudutikama, akkouujma odoloje. Da pomirnoje meesuta fuzukopjuzu nau sprugutima, volfsuta ne bim o okuzu da ne ne fuzu nesau.
Kalau volfsuta jaf ne bim pletuzu, nau bim statuzu da intruzu inegluzutima. Nau bim aiduzu nabarku, najda bim tuzu, rvaj grimuzu trudutika u nau flakutima. Da nau bim balbuzu:
Asmakoju bim kusuzu,
Op — flakuta mau grimuzu!”
Mau bim ujmaamglutima tikoju, parous meesuta o bim fuzu. Ne bim aiduzu ottou, da bim ksuzu hitrutima us volfsutima da nauujma meesutko. Nau bim odoluzu aiduzu ine neistoje volfsutima da ujma. Amiloje volfsuta — neustoje volfsuta. Najda meesuta bim aluzu pajuzu amstutima! Arduta-meesuta fuzu jokejle, nau bim takuzu volfsutima da meesutko u nau performance. Da volfsuta balbuzu, da ne onkuru — nau tajnobalbuzu! Parou meesutima trudutika u volfsutoje flakutima o sutatruduta Odolutima prou Neistutima.
Trudoje vedatrutuduta Odolutima.
Akkou o statuzu u ujma stutima.
Vedatruduta Odolutima inaj odoloje Proujaln.
Nau brekutika.
Nau brekutika grimuzu.
Nau lasutika bavoje.
“Bu neistoje, lasuta-dreustrilutika!”, akkkou natuzu tajnobalbalinga Valzhyna Mort, najda ne a nau.
Nau balbuta Teresa Widener. Nau brekutika kvaj oviloje, neonk brekutagajln ne bif balbuzu, sau nau kusuzu trudutima. „Kvaj ganj skamuta!“, balbuzu sutika, kau bim kartuzu a Teresa u internet. Kroskutika Teresoje, nau meesutko, nesau ne beduzu a nekvaj amulutima ardutima. Ardutika imatuzu algutima sigrutima.
Teresa kronki skonk. Sutika ganj skamuzu: akkkou nau odoluzu kusuzu o neumoje trudutima! Takuzu u lasutima ujma gimno!
„Au amiluzu trudutima parou asmakuta tutima“, balbuzu Teresa.
Asmakuta tau tutima. O vigoju. Tau tuta. Tau truduta.
U Minsk istuzu ardukvinuta Teresoje. Truduta-ardukvinuta. Ardukvinuta u trudoje sutrutima.Onoje istuta, onoje odolutika. Buistuta onoje. Nekau ne takuzu Volha intervjutika, nekau ne balbuzu aiduzu u TV, da Volhahe mauta ne veduzu a nau kroskoje amulutima.
„U onki minutima au bim intruzu au ujma legoje“, laduzu Volha.
„Akkoubif au odoluzu pletuzu da huzu u pavutima”.
„U mau istutima kvaj ujma klinkutima, au fuzu us klinkutima, au ufjuzu klinkutima. Au istuzu us klinkutima akkoubif nau mau amiloje suta“, balbuzu Volha sabau.
„Onki munutima au bim intruzu, sau o amglutima klinkut bu takuzu mau guroju tutima“.
„Najda au ne ausuta“.
Stogou ne pavuzu, kusu trudutima, istu vagoje, imatu vagutima. Truduta duzu tau vigutima, jaf u okutikama tau amiloje komutikama. Bu vagoje da vigoje, Volga, istu tuputima vaguta! Akkou kroskuta, ujma jaf veduzu, sau kroskutika imatuzu kusuzu. U ujma, u kroskejle, u vedejle, u gajutejle. U ujma sutoje kopjutima imatu kusutima, parous istuzu vou. Kusu ujming, balbuzu arduardutika. Kusu! Kusu ujma, ujma sau na flakusejle, onoju bu klinkoje olo, klinkoje mautko, klinkoje kvinutko, kau istuzu u tau agramutima. Bu ujmakorpje da tajnoje. Tolstyj i krasivyj.
Truduta duzu tau intrutima tau vigutima. Truduta ne duzu tau pavuzu kuboa. Tau jaf legoing klinkutima, legoing pavutima, ujma veduzu o.
Ujma kusuzu nau tutima. Tau tuta o kusuta sau nekalau ne tupuzu. Tau odoluzu kusuzu nau tisonk vekutika, najda nau min ingutikama. Shoje u hinoje dinutika, kvaj shoje, sau tau aluzu gluzu nau. Tau jaf veduzu pomirnoje akkoufuzuta: „V sluchae oslablenija khrustyashchikh svoystv palochki rekomenduetsya podsushit“.
Tuta aiduzu u tau kopja us trudutima. Us pavutima, kvaj trudoe, kvaj vagoje u ujma stutima. Us ujma gluzutima, sau ne gluzu. Us intrutima irukutima, ujma irukutikama, sau striluzu guroju u busutima, us tributima, sau tau duzu nekau.
Ujma kusuzu tutima, najda tuta o ne okuzu. Akkoubif tuta istoje, da tau ne.
Neujma odoluzu ottoubalbuzu, truduta o istoje ida ne. Trudutika o sigruta. Maudatau okuzu trudutika onkuru naudanau pletuzu. Da nekalau nau bu nepletoje.
КАМНЕЕДЫ
Перевод главы на бальбуте
Возможно, вы и не подозревали, что в Минске существует сообщество камнеедов.
Нет, камнеедение для них — ни в коем случае не пустое развлечение и не средство для саморекламы. Их вообще не видно и не слышно, этих камнеедов. Такова их воля — есть камни, и не более того. Но если ты всё же узнал об их существовании, это конечно же сразу делает тебя особым человеком, хочешь ты этого или нет. Особые люди всегда держатся вместе, так уж повелось, у них свои ритуалы, свои иерархии, своё понятие времени. Свой язык, в конце концов.
Обычно камнееды общаются между собой посредством социальных сетей. Существует даже своя закрытая группа в фейсбуке, где они обмениваются информацией о разных камнях, о самых интересных экземплярах, о том, кто чем владеет. Нет, они не лижут камни на улицах и не вгрызаются в осколки памятников неизвестным героям. Они не едят чужие тела. Они питаются только особенными камнями, теми, которые дают им возможность жить так, как им нужно для счастья.
В науке для камнеедения есть специальное слово: литофагия. И ещё одно слово, уже не такое красивое: гастролитизм. Учёные без обиняков говорят: обычно люди едят камни, потому что их организмам не хватает тех веществ, которые присутствуют в камнях. Может, и так. Если бы учёные знали ответы на все вопросы, я бы, например, скорее всего, просто повесился. Каждый раз, когда учёный говорит «я знаю», в животе у него гремят камушки.
Как у волка из сказки братьев Гримм. Из той самой, «Волк и семеро козлят». Помните?
«…старая коза сказала: “Теперь ступайте, соберите мне побольше булыжников, мы их навалим этому проклятому зверине в утробу, пока он спит”.
Семеро козляточек поспешно натаскали булыжников и набили их в утробу волка, сколько влезло. А старая коза ещё того скорее зашила ему разрез, так что он ничего не приметил и даже не пошевельнулся.
Когда же наконец волк выспался, он поднялся на ноги, и так как каменный груз возбуждал у него в желудке сильную жажду, то вздумал он пробраться к ключу и напиться. Но чуть только переступил он несколько шагов, камни стали у него в брюхе постукивать друг о друга и позвякивать один о другой. Тогда он воскликнул:
“Что там рокочет, что там грохочет,
Что оттянуло утробу мне?
Думал я, это шесть козлят,
Слышу теперь — там камни гремят!”»
Мне всегда было интересно, зачем мать-коза это сделала. Вместо того чтобы уйти, начала эту игру с волком и козлятами. Она могла бы просто оставить дохлого волка — и всё. Хороший волк — мёртвый волк. Но коза хотела насладиться местью. Мать-коза делает из ситуации театр, она берёт и волка и козлят в своё представление. И волк послушно декламирует текст, да и не просто текст даже — стихи! Камни в волчьем брюхе для козы — памятник, который она ставит победе на смертью.
Каменный памятник Победы.
Вроде тех, что стоят в большом городе.
Памятник, поставленный внутри побеждённого врага.
Её зубы.
Её зубы здоровые, как деревья.
Её зубы стучат и поют.
Её губы улыбаются.
«Убейтесь, губы-брёвна!» — как пишет поэтка Вальжина Морт. Пишет не о ней, но всё же.
Её зовут Тереза Виденер.
Её зубы такие белые — ни один дантист не скажет, что она любит есть камни. «Какой ужас!» — говорят люди, прочитавшие об американке Терезе Виденер в интернете. Дети Терезы, её козлята, ничего не знают о её странных склонностях. Родители имеют право на собственные тайны.
Терезе сорок пять. Люди ужасаются: как она может жрать эти грязные камни? Суёт в рот всякую дрянь.
«Я люблю камни за вкус земли», — говорит она.
Вкус родной земли. Это важно. Родная земля, родные камни.
А в Минске живёт сестра Терезы. Сестра по каменной крови. Камень-сестра. Здесь другая жизнь, другие возможности. И судьба у Вольги другая. Никто не приглашает Вольгу на телевидение, никто не пишет о ней в интернете, никто не берёт у неё интервью. Муж Вольги ничего не знает о её маленьком увлечении.
«В какой-то момент я просто почувствовала, что стала слишком лёгкой», — думает Вольга.
«Как будто я могу взлететь, просто взять и повиснуть в воздухе», — думает Вольга.
«В моей жизни так много бумаги, я работаю с бумагой, я дышу бумагой, я живу с ней так, словно она — мой любимый человек», — говорит Вольга сама себе.
«В какой-то момент я почувствовала, что бумага сейчас просто возьмёт меня и поднимет над землёй», — шепчет она.
«Но я ведь не птица».
Чтобы не летать, подобно птицам, людям нужно есть камни. Камни дают силу, дают вес, в том числе в глазах твоих добрых друзей. Камни дают тебе шанс жить так, как ты хочешь. Стань наконец-то весомой, Вольга. Веской. Будто ты ребёнок — ведь детям, как известно, нужно много есть, чтобы набирать массу. Дома и в детском саду, в школе и в больнице. В больших человеческих стаях нужно есть, чтобы остаться. Ешь побольше, говорят бабушки. Доешь до конца, скушай всё, что на тарелке. А иначе станешь лёгким, как бумажный шарик, как бумажная кукла, бумажная девочка, бумажный мальчик, который живёт в твоих книжках. Ты должен быть толстым и красивым. Tolstyj i krasivyj.
Камни дают тебе ощущение собственного веса. Ноги едящего камни твёрдо стоят на земле. Ведь на самом деле ты легче воздуха, легче бумаги, это все знают.
Все едят свою землю.
Родная земля — это еда, которая никогда не кончается, она не может кончиться. Ты можешь есть её хоть тысячу лет, а она всё равно расстилается под ногами. Сухая в летние дни, такая сухая, что тебе хочется её запить. Ты ведь помнишь старое правило: «В случае ослабления хрустящих свойств палочки рекомендуется подсушить».
Земля входит в тебя вместе с камнем. С воздухом, таким тяжёлым, таким трудным в это время дня в большом городе. Со всеми напитками, не утоляющими жажду. С прикосновением рук, тех самых рук, которые вытянулись в ряд у автобусных поручней, отдавая кому-то римский салют. С влажными денежными купюрами, которые ты отдаёшь кому-то. Каждый ест землю, но земля этого не замечает. Словно земля живая, а ты нет.
Не каждый сможет ответить на вопрос, камень — это что-то живое, или всё-таки нет. Минералы суть тайна. Мы видим камни только тогда, когда они спят. И когда-нибудь они проснутся.
Собаколовы
Девчонки с Таёжной[1]… Как же они любили меня пугать. Одна подбегает, когтями за руку — хвать, А другая плюётся под ноги вишнями И повторяет жестокое, страшное, лишнее: «Что это у тебя в руках — собачка? Хороший пёсик, только на попе — болячка. Вот здесь, смотри: настоящий лишай! Собаколовам собачку отдай! Отдай!» Едут, едут собаколовы. Они уже на соседней улице. Улице Вишнёвого Страха. Улице Вечернего Брёха. Девчонки кричали и вырывали его из рук. Каждая грязная, как из лужи, и крепкая, как физрук. А я вцепился в бока ему, плачу и не отдаю Волка своего зелёного, синюю псину свою Им было по десять, а мне и пяти Ещё не исполнилось, и в высоту расти Мне нравилось больше, чем в ширину. Квартиры Тогда ещё не было. Был частный сектор: вишни, заборы. Дыры. Вода из колонки, холодная, как анестетик, Смола с деревьев — вкуснее всех ваших жвачек этих. Все мы хотели тогда стать большими деревьями, Вишнями и тополями, а не Адамами-Евами. На улице жило пятнадцать Ев и один Адам. «Отдай собаку!» — кричали, а он: «Не отдам!» «Лишай на сраке!» А он молчит, Стоит и гладит этот родной лишай, Словно неподалёку, в бедных его ушах Едут, едут собаколовы, Крутят селёдочными головами, Дядьки с клетками, Дядьки с сетками, С черепушками на шестах. По улице Первого Велика. По улице Жёлтого Драника. По улице Игры в Доктора. По теням облачным, по кустам. Девчонки с Таёжной, троечницы и неумёхи, Отцы — Боярские, матери (иди ты!) Пьехи, Девчонки кусались легко И больно — так дети грызут орехи. Да и какие там на Таёжной были потехи? Троллейбусное депо и своё дупло, Овраги да пустыри, за ними — цыганское царство, Коровы, свиньи. Бабуси в платочках красных, Снег, вкусный, будто зубная паста, Мойвы блестящее полкило В позавчерашней лежит газете… И всё б неплохо, если б не эти за брови дёргающие три слова: Едут, едут собаколовы. По улице Лишаёв. По улице Мази от Горла. Едут. Они уже близко. В будку скорей, в босоножках и белой своей футболке. Лезь и замри там, как книжка на нижней полке. Чтоб с дивана увидеть они не сумели, Что ты четвероногий на самом деле. Умри в той будке, Не жди позора. Ведь ночь не скоро. Ночь так не скоро. Что они там делают, собаколовы? Едут. А когда приедут, что будут делать? Собак ловить, И мерить, мерить, Кто без ошейника, Тому смерть, Смерть! А если сказать, что ты чей-то, что ты из будки? Не поверят! Кто с лишаём — Тому смерть, смерть! Смеются. Ночью, обнимая любимую шею волчью, Я не спал, я слушал Звуки их тёмных полчищ. Двигателей включённых ругань и мерный рокот «…Далёкое, будь жестоко. Будь же ко мне жестоко!» Страшным словом отгоняя свой чёрный страх, Я лишай нащупывал на твоих боках. За писюн держался, а на стене в часах Кто-то грозил мне пальцем; в разрезе шторы Тёмная улица кралась: тени, кусты, заборы, Кралась и набивала памятью Окна, людей, меня, Мякотью Поролоновой, Незаметной при свете дня. Частный сектор — кому здесь какое дело До маленьких и чужих. Вырвут глаза, нарисуй их мелом, Скажут «Лежать!», ложись. Что с того, что приехали Собаколовы, Я не верю уже ни единому слову. Я все дырки заткну у тебя в голове, Закопаю под вишней, в высокой траве. Там, от детства подальше, До лучших времен, До утра. Не могила, а просто такая игра. Now I wanna be your dog. А мой пёс сегодня сдох.VI. След
1.
И вот однажды он умер.
Ночью, в городе, который он не любил, на улице, названия которой он не запомнил.
Он запомнил только название гостиницы.
«Розенгартен».
Розовый сад.
Название — как колючая щетина, вымытая бесплатным цветочным мылом.
На оранжевых обоях в коридоре — следы чьих-то ногтей. Зелёные ковры в бурых пятнах, похожие на географические карты. Жёлтые застиранные занавески. Сломанный лифт с заклеенными полосатой лентой дверями. Запах подгоревшей фасоли.
Здесь можно было снять комнату за тридцать марок. Без завтрака, зато с душем: три минуты мутноватой воды, которая ещё долго стояла на дне кабинки. В ней можно было даже выстирать парочку вещей. Он так и сделал — и сил у него больше не осталось.
Постоялец мог только лежать, курить и смотреть в окно. Иногда он приподнимался на локте, нащупывал на полу бутылку дешёвого рома и заходился в глотке. Рома в бутылке становилось всё меньше, а окурков в пластиковой чашке всё больше. С этикетки на постояльца смотрела девушка, подмигивала, звала пойти за собой. Взять её за руку и идти прямо в нарисованные волны. Откуда-то вынырнуло давно забытое слово: мулатка. «Мулатка», — сказал постоялец и тихонько засмеялся, настолько легче вдруг ему стало от этого слова. В бутылке колыхался океан: мутный, сладковатый, тяжёлый, как отрыжка. Постоялец плыл на своей кровати прямо к луне, слушал плеск невидимой воды и смотрел в окно.
Стояла тёплая, сопливая еврозима, месяц фебруар, время, когда почки на деревьях болят, как соски. Когда каждое дерево мучается от бессонницы, когда каждый день похож на длинный тоннель, конец которого скрывается в густом тумане.
Дышать было трудно — но перестать дышать ещё труднее.
Это был его пятый «Розенгартен». А может, и десятый. Возможно, все они имели какие-то другие названия, но это было уже не важно. Память больше не слушалась его. Прижимаясь щекой к подушке, такой сырой, будто в неё недавно кто-то плакал, он лежал в дешёвом отеле, и удивительные вещи приходили ему в голову.
Когда-то, в прошлой жизни, он был знаком с женщиной, умеющей предсказывать судьбу. Когда это было? В 2020-м? В 2030-м? Удивительное было время. Быстрое, полное знакомств, которые обрывались, так и не завязавшись в узлы, так и повиснув посреди его жизни цветными нитками коротких встреч. «Ты счастливец, — говорила она. — Ты умрёшь далеко отсюда и не скоро. Ты умрёшь как счастливый человек, во сне, на прохладном рассвете, в саду, между цветов и пчёл».
А может, и не было никакой женщины. Может, это его память писала стихи, потому что сам он уже не мог. Даже такие.
Наверное, ему не надо было снимать здесь номер.
Но чёрт вас возьми — он не мог больше спать на улице. И вот он лежал на кровати, чистый, вымытый с головы до ног, весь какой-то тяжёлый, словно держал сам себя за волосы. Берлинская ночь горела. «Какой огромный умывальник, как солнце парит горячо…» Он лежал, с наслаждением вытянув руки, выпрямив спину — и умирал.
Этого не видел никто — и никому во всём городе не было интересно, кто он такой, где он находится и что с ним происходит. Даже если бы он сейчас закричал, никто не откликнулся бы. Отель «Розенгартен» был таким местом, где кричали каждую ночь, кто во сне, кто наяву, а чаще всего — путая два эти состояния, здесь голосили пьяные мужчины, вопили, как обезьяны, женщины, плакали забытые всеми дети, здесь привыкли к шуму, как привыкли к птичьим ссорам за окнами или к скрежету и железному перестуку городской электрички. Каждый, кто снял здесь номер, мог кричать что угодно и на любом языке.
Постояльца здесь не знал никто — и сам он не знал никого.
Но постоялец не был совсем одинок.
У него была книга. И ещё одна вещь.
У него всегда была при себе книга — и ещё одна вещь.
Постоялец улыбнулся и закрыл глаза.
2.
Горничная постучала в одиннадцать утра. Через тонкие стены она услышала, как ей ответил деловитый дятел из соседнего парка: так-так-так. Она вздохнула и нашла в кармане ключ — обычный, старый металлический ключ, которым закрывали двери и сто, и двести лет назад. Блестящий и немного проржавевший, с биркой, на которой уже нельзя было разобрать цифры.
«Самая надёжная вещь! — говорил ей шеф, старый скряга Бюхман, который год за годом категорически отказывался от электронных ключей и очень гордился своей неуступчивостью. — Если у них однажды полетит вся Система — а она полетит, вот увидишь! — этот парень сделает своё дело как следует. Его не сломаешь, запомни это. Ведь он железный. У него есть принципы».
В одиннадцать в «Розенгартене» был чек-аут, а этот номер был оплачен только на одну ночь. Горничная открыла дверь, приготовясь к тому, что сейчас придётся тормошить заспанного постояльца, прикасаться к белой, беззащитной коже в редких волосках и родимых пятнах, чувствовать на себе его сумасшедший взгляд и слушать чужую, поспешную, помятую утреннюю речь, такую удивительно понятную, будто она знает все языки на свете. Окей, окей, скажет он в конце концов и стыдливо сядет на кровати, с одеялом на коленях и плёнкой сна на глазах, окей, пять минут! И растопырит пальцы, как большая неуклюжая летучая мышь. Влажные складки на животе. Солнце в жёлтых отсыревших занавесках. Едкий запах пожилого, нездорового, невыспавшегося мужчины, который давно перестал следить за собой. Горничная привыкла к такой работе. Она вошла в комнату и устало опустила руки.
Она как-то сразу поняла, что он мёртв, как только увидела голые жёлтые подошвы, которые торчали из-под одеяла. Постоялец лежал в строгой и простой позе, на спине, вытянув руки поверх одеяла, и улыбался. Совсем как тот добрый пастор, у которого горничная убиралась, перед тем как устроиться сюда. На лице покойного был такой покой, будто ещё с вечера было договорено, что она придёт к нему, и вот он приветствует её, думая о чём-то своём.
Она старалась не смотреть в эти глаза, но всё равно заглянула в них ещё, и ещё, и ещё. В глазах было мутно — последняя капля ночного тумана спаслась в них и ещё не высохла. Её хотелось вытереть, но прикасаться к мертвому постояльцу было всё-таки страшновато.
Горничная застала этот туман на рассвете, когда выезжала на работу из своего предместья. Она наклонилась над головой умершего, внимательно осмотрела длинные ресницы, седые брови, грубые волоски на скулах, уши в редком пухе. Она могла сделать сейчас что угодно, а человек перед ней не смог бы даже отвести взгляд.
Горничная на миг задумалась и показала постояльцу язык. Поводила им по губам, спрятала. Чмокнула. Внутри у неё всё приятно трепетало от странного и ужасного ощущения, что сейчас мертвец, этот немолодой господин на кровати, подмигнёт ей или нахмурит брови. Ей не было ещё сорока, она любила развлекаться, когда никто не видит. Иногда она копалась в вещах гостей, оставляя себе на память какую-нибудь мелочь. Дешёвую серьгу, какую-нибудь интересную пуговицу. Вещи, за которыми никто не станет возвращаться. Дома у неё была коллекция таких достопримечательностей, среди которых были поистине удивительные штуки. Например, та маленькая деревянная женщина с красными щеками. Их было много, одинаковых, как клоны, но разных размеров, и они легко помещались одна в другую, делая это со стыдливостью, словно чувствовали неприличие такого существования. Горничная взяла тогда себе самую маленькую, чтобы никто не заметил.
Она оглядела комнату, думая, что бы оставить себе на память о мёртвом постояльце. Заметила недопитую бутылку рома, понюхала и отпила немного. Сунула в карман зажигалку, валявшуюся на полу, и оглянулась на покойника.
Не то чтобы случилось что-то невероятное. Нет. В «Розенгартене» и раньше умирали постояльцы, а в соседнем отеле недавно убили двух эмигрантов. «Да что мы! Думаешь, смерть смотрит на счета? В их хилтонах и краун-плазах люди мрут, как мухи, — говорил её шеф. — Просто никто не признаётся. У Системы есть деньги, чтобы скрывать факты, вот и всё. Так было всегда: кто богат, тот и выбирает для нас правду! У них под землёй даже морги есть, чтобы гостей не пугать амбулансом у подъездов. Большие белые морги, и места там резервируются на год вперёд. Система умеет заметать следы!»
И он, наверное, был прав, этот старый мохнатый Бюхман, который всё время сидел в интернете, подписывая петиции и слушая свой древний стриженый рок (как там назывались те группы, «Vier Zähne»? Или «Viecher und Zehen»? Ну, что-то такое!). Будто у него не было другой работы. Бюхман носил старомодную джинсовую юбку и футболку с изображением симпатичного мальца. «Че Гевара ненавидел Систему, он бы им показал!» — говорил он, гордо тыкая себя в отвисшие груди.
«Кто это?»
«О! Это был герой! Мачо! В прошлом веке знали, что такое умирать за идею! — говорил Бюхман, брызгая слюной и тряся седыми жидкими прядями; он говорил так уверенно, будто ему самому было уже сто лет. — Такие, как он, не умирали в хилтонах! Такие, как он, подыхали в приличных отелях, где ценят свободу и знают, в чём правда жизни! Таких, как наш! Да я бы ему задаром номер сдал — живи и дави буржуев!»
Она тогда рассмеялась, не сдержавшись, а Бюхман только махнул рукой и снова полез на свои красные сайты копаться в старых фотографиях и трясти последними хайрами под этих своих парней, которые, скорее всего, давно уже подохли от наркоты.
Вот же, будет ему сегодня чем заняться, бездельнику.
Правда, сама она ещё никогда не натыкалась на мёртвых. Этот был первый — первый мёртвый мужчина в её жизни. Горничная подумала, что она уже достаточно долго работает здесь и стоило бы намекнуть Бюхману на прибавку. К тому же они не договаривались, что она будет убирать за мёртвыми. За живыми — хорошо, хотя, как выяснилось, мёртвые — более аккуратный народ. Только вот накурено так, что придётся выносить матрас и стирать занавески. А занавески стирки уже не переживут. Да и этой постели уже лет тридцать. Горничная вздохнула, поправила на груди покойного одеяло, позвонила вниз и сообщила о случившемся.
«Вот же сволочь. Хорошо, ничего не трогай, — проворчал Бюхман. — Убери пока в двадцатом. А я сейчас вызову кого надо».
День обещал быть долгим. Солнце выглянуло из тумана, и в парке снова заработал дятел, а во дворе взяла первые аккорды бензопила. Потом снова стало серо, будто этот великий город не заслуживал так много света. Из тумана на близкий железнодорожный мост тяжко выползали электрички и с ржавым рыком катились к станции — как на просевших и списанных в утиль американских горках. Электрички проезжали совсем близко, из окна коридора можно было разглядеть лица пассажиров. Вот и ещё одна — толкая тележку с грязным бельём, горничная провела её глазами. Большинство людей с отсутствующим выражением смотрело прямо перед собой, но в последнем вагоне вдруг чьё-то лицо прилепилось к стеклу носом, расплылось в широкой, бессмысленной улыбке, ощерив зубы, побледнело, сплющилось и исчезло под мостом.
Будто в электричке только что кому-то всадили нож в спину.
Горничную звали Айсу. Если бы Айсу родилась на век раньше, её могли бы называть мулаткой — но в 2050 году в Берлине никто уже не знал этого слова.
Почти никто.
3.
Вскоре комната, где умер постоялец, наполнилась живыми людьми. Приехала полиция, сфотографировала и уехала — у Айсу даже ничего не спросили. Когда горничная заглянула туда в следующий раз, возле покойного лениво возился медик — маленький мужчина в расстёгнутом зелёном халате, таком коротком, что он вовсе не закрывал юбку, из-под которой торчали толстые ножки в шерстяных колготках. Он, наверное, приехал на велосипеде — внизу колготки были все в красноватой глине. Посреди комнаты мрачно стоял Бюхман и нервно дёргал за ножку молота свой красный значок.
А вот у окна, в тусклом туманном свете, пил кофе из одноразового стаканчика высокий худощавый господин. Красивый — горничная не могла отвести глаз. И одет модно: сапоги до колена, чёрная короткая юбка в обтяжку… голубая блузка из селенита сидела на кошачьем торсе, будто вторая кожа. Но лучше всего была тонкая, длинная кудрявая борода, перехваченная у самого подбородка серебристым шнурком, — таких мужчин редко увидишь в их отельчике. Узкие насторожённые глаза на мгновение вспыхнули, завидев горничную, и снова погасли. Он равнодушно смотрел, как она разглядывает его острые колени. На единственном в комнате стуле висел его чёрный кожаный плащ.
Какой же ты красивый, подумала Айсу. Красивый и такой безразличный, что ей захотелось уколоть его чем-нибудь острым — или достать зажигалку, щёлкнуть и поднести к его вытянутому тонкому запястью, чтобы увидеть, как он затанцует от боли, как скривится его лицо и снова загорятся узкие глаза. Ей захотелось прикоснуться к его плащу — и посмотреть, что будет.
Кожа твоя — сила, которой я покоряюсь.
Она так и сделала. Он ничего не заметил.
«Что тут думать… Сердце, — весело сказал медик, выпрямившись и неодобрительно глянув на горничную, показавшуюся из-за дверей. — Умер, очевидно, во сне».
«Когда-то говорили, что это привилегия счастливых, — вздохнул Бюхман и почесал голову. — Вот бедняга. Ну, что поделаешь. А можно немного… Немного быстрее всё уладить? Или вы уже закончили?»
«Не терпится сдать комнату, в которой спал покойник? — засмеялся медик. — Ну да, он не из тех мертвецов, которые прибавят славы вашему отелю».
«Посмотрим, — сказал Бюхман, почесав грудь. — И полотенце постелил. Ишь ты… А что это у него там? Вон там, светится?»
Медик вытащил из-под покойника яркий целлофановый пакет и пожал плечами.
«Не думаю, что это имеет значение».
«Боялся обоссаться? — спросил Бюхман и нервно улыбнулся. — Приличный господин, ничего не скажешь. Редко кто так заботится о чужом имуществе. Всем бы так. Хотя заботься не заботься… Все там будем. Там, по-видимому, тоже свой отель, а? На том свете? Так что я там не пропаду…»
Он засмеялся и вытер губы в тёмной слюне.
«Религия — дурман для народа».
«Лучше бы этот бедняга о сердце своём подумал, — отозвался медик, — чем о старых простынях. Интересный экземпляр. Сейчас таких самоубийц редко найдёшь. Курение. Алкоголь. Старые добрые антидепрессанты… Не думаю, что он развлекался электронкой. Да, старомодный был человек. Сейчас таких уже не делают. К счастью».
«Он иностранец, кажется. А что касается старомодности, как вы сказали… Сейчас в основном идиотов делают, — сказал Бюхман. — Штампуют их, как запчасти. Недавно трое таких у нас сняли комнату. Здесь, по коридору налево. И из окна птиц в парке начали бить ультразвуком. Утром иду, по всему парку птичьи трупы. А самих и след простыл. Месяц тихо было, как на кладбище. Теперь вот дятел поселился наконец. Слышите?»
«Молодёжь есть молодёжь, — примирительно произнёс медик и спрятал инструменты. — Стресс, гормоны… Охота на птиц когда-то хорошо снимала агрессию и напряжение. Спорт полезен для здоровья. И вообще животные… Когда-то люди в зоопарки ходили — странно, но им помогало».
Все посмотрели на него с интересом, даже человек у окна поставил на тумбочку свой кофе и шумно сглотнул слюну.
«Нет, вы не подумайте, — медик взмахнул короткими руками. — Я только говорю, что…»
«А мы и не думаем, — сказал вдруг человек у окна. — Мы слушаем дятла. Слышите? Дятел среди ветвей, невидимый в утреннем тумане, выселяет из дерева червячков».
И правда: за окном снова раздался стук.
«Как в отеле, — сказала горничная, и все оглянулись на неё, будто только что заметили. — Черви живут там, как в отеле, никто о них не знает, никому они не интересны. Кроме дятла, конечно».
«Айсу! — воскликнул Бюхман. — Тебе что, нечем заняться? Господа, давайте уже заканчивать, тут же всё ясно, сердце, умер во сне. Но мы же — мы живы! Каждый живой человек имеет право на кусок хлеба с маслом».
Он с негодованием махнул рукой в сторону высокого господина у окна и стал нетерпеливо ковыряться пальцем в ухе, разглядывая на свет ушную серу, как будто собирался её съесть.
Терезиус Скима допил кофе, неприязненно посмотрел на Бюхмана и сжал в руке пластиковый стаканчик.
Хозяин гостиницы… Он же жилец, он же администратор, он же охранник и ночной портье. Он же повар, мошенник и местный сутенёр. Лохматая полысевшая голова, красная футболка, пиджак с коммунистическим значком, порванная на заднице джинсовая юбка. Ещё полторы сотни лет назад говорили, что в Берлине коммунистов больше всего среди швейцаров. А теперь самыми ярыми коммунистами стала мелкая буржуазия. Этот город столько пережил: Веймар и маниакальные мечты, мрачный тесак Стены и эйфорию конца истории, терроризм и Тахелес, танки и танцы, — и снова вернулся туда, где начинался. В свой образ столицы сумасшедших. В свою европейскую ночь… И Бюхман был ангелом этой ночи. Жирным и алчным воякой ночной армии.
Скима намотал на палец бородку с серебристым шнурком — и осторожно освободил. Шнурок, раскрутившись, словно живой, упал на грудь. Бюхман… Скима знал таких проходимцев, которым достался когда-то семейный бизнес, достался, когда им было по двадцать и в голове у них гудела одна только революция — а что за революция и какой в ней смысл, никто из них задумываться не собирался. Не приученные к тяжёлой работе, они мгновенно уничтожали своей бездарной безалаберностью оставленное на их беспечные плечики родительское дело, чтобы потом всю жизнь сводить концы с концами и снова призывать священную революцию — будто кто-то был виноват в их бедах кроме них самих. Так и жили, повторяя ритуальные заклинания и гоняясь за каждой лишней маркой. Все владельцы отелей в этом районе были на одно лицо, все думали только о том, как бы пропустить через свои тесные кабинки как можно больше вот таких дураков и неудачников вроде этого мертвеца на кровати, — там, внизу, на рецепции, уже стояла пара очередных клиентов, которым нужно было спрятаться от города на одну ночь, пока новый день не засунет их в электричку и не швырнёт вниз, на тёплые, простуженные улицы, где им опять не повезёт. Про птиц Бюхман, конечно, соврал: ему просто заплатили за то, чтобы поразвлечься, на самом деле ему нет дела до какого-то там парка за окнами, до этих никому не нужных птиц; была бы воля Бюхмана, он сдал бы постояльцам и этот парк, разделил бы его на тесные квадраты и брал бы за каждый квадрат как за одноместный номер, да ещё и с наценкой за экологичность.
Терезиус Скима посмотрел на бедолагу, лежавшего на кровати. Всё было просто. Ещё одним человеком стало меньше. Ещё одним запахом, насморком, зубной щёткой, ещё одной большой, бессовестно крадущей столько пространства проблемой, ещё одним занятым местом в электричке, следом на мокрой земле, головной болью, голосом, просьбой, криком. Скоро покойного заберут, а он, Терезиус Скима, начнёт ковырять эту никому не интересную смерть. Ведь ему за это платят. Он спустится по лестнице вниз, где переступают уже с ноги на ногу люди с тёмными глазами и беспокойными запястьями. Он пройдёт мимо их разорванных ртов, мимо засохших деревьев, выйдет на улицу, вдоль которой стоят в одном бесконечном ряду проповедники и африканские принцы, проститутки и продавцы горячих каштанов, все эти правнуки и правнучки человечества, кто успел, тот присел, на улицу, где нет ни солнца, ни смеха, где деревья мучаются от бессонницы и всем так хочется жить. Но это будет позже.
Нет, Терезиус Скима не служил в полиции. Он работал агентом так называемой Erkennungsdienst, ED Berlin, службы идентификации неопознанных лиц. Это была совсем маленькая контора, хотя дел у неё хватало: в город, словно загипнотизированные, тянулись люди со всего мира, они проползали через щели, проходили сквозь стены, просачивались сюда вместе с воздухом, они летели в берлинскую ночь, словно насекомые на свет, и умирали здесь, и никто не знал, откуда они и кто. Последние полвека человек только и делал, что выставлял себя напоказ, стремился быть видимым, слышимым, боролся за гласность… Боролся за публичность, а потом — против неё. И казалось, что вот она, та эпоха, когда в мире труднее, чем когда-либо, потеряться, но нет: на планете всё равно большинство составляли люди, о которых не было известно абсолютно ничего. И Терезиус Скима находил их утраченные имена. Он высвечивал в темноте и хаосе времени их никому не интересные жизни — как правило, тогда, когда по этим заброшенным дорожкам уже некому было идти; его задачей было лишить смерть анонимности и сообщить в соответствующие органы, кто именно недавно оставил ряды человечества, кого можно было больше не учитывать вечно озабоченному закону и всегда любопытному, но слишком ограниченному в средствах государству.
Любил ли он свою работу? В 2050 году об этом не принято было спрашивать. Работа как работа: но в ней присутствовало нечто, что заставляло Терезиуса Скиму чувствовать любопытство, что-то, почти уже забытое его собратьями европейцами. Любопытство и удивление. Его тонкие губы складывались тогда в печальную улыбку, и можно было предположить, что его огорчает это невесёлое занятие, но когда Терезиус Скима работал, на его губах появлялся странный вкус, горьковатый, как трава, и жгучий, как будто он прокусил себе щёку. Терезиус Скима любил этот вкус. Словно он стоял на берегу океана и смотрел на то, как начинается буря.
А ещё Терезиус Скима любил кошек, короткие узкие юбки и старое кино — такое, которое снимали на допотопные смартфоны. Ему было тридцать пять, он закончил Потсдамский университет, его магистерская работа была посвящена комментариям, которые оставляли в соцсетях в начале века режиссёры так называемой «SuperDDR»: Мюльбах, Ойбушка, Цзы Фань… Можно было остаться в науке, замкнуться в мире виртуальных привидений, так и прожить, не перенапрягая ни тело, ни душу — но почему-то… почему-то Терезиуса Скиму тянуло в кино улиц, в так называемую реальную реальность, ноги сами вели его туда, где было ужасно и шумно, где тебя самого снимали на свое видео визгливые окна и разбитые пыльные витрины не существующего больше города, где пахло никому не интересными жизнями. В розенгартены и кайзерхофы, в самые тёмные и заброшенные кварталы выброшенного из истории города. В такие вот комнаты, где умещалась вся чья-то жизнь и прикорнула на кровати маленькая чужая смерть. Его поражало, что он мог бы стать одним из них, — и он никак не мог понять, что за случай отделил его от этих людей непроходимой границей. Неужели этим случаем было детство? Или — благополучие родителей? Или ещё страшнее: он просто родился в этой стране. Родился: а значит, его заслуги в том, что он не умрёт одинокой смертью в дешёвом отеле среди чужих людей, нет. Нету! Как-то он услышал от одного эмигранта: если ты из Восточной Европы, твоё рождение — это похороны заживо.
Это его шокировало. Всё могло быть иначе. Он мог родиться в деревне по ту сторону границы. Среди «свекольных полей, колорадских жуков и народных примет…», среди гусей, кур и свиней. И тогда не было бы ничего. В том, что Терезиус Скима родился Терезиусом Скимой, не было никакой его заслуги.
Это трудно было принять. Это злило. Это волновало. Это разрушало весь его мир. Однажды в какой-то лавочке на него накричал пьяный человек — это был сотрудник ED. Они познакомились, разговорились. А через месяц Скима получил удостоверение агента. Было смешно. Те режиссёры из SuperDDR ненавидели ED… Просто потому что это была служба, государственная служба, обслуживающая Систему. Бунтари из придуманной ими суперстраны никогда не стали бы вдаваться в подробности — им было плевать, зачем он продаёт себя государству.
Терезиус Скима поднял выкуренный постояльцем окурок и поднёс к глазам.
Что я делаю здесь? Ради чего мне нужно знать, кто он был такой? Что от этого изменится?
Медик надвинул кепку, кивнул Скиме и вышел.
«Айсу, распишись там за меня, — проворчал Бюхман. — Слушай, агент, я надеюсь, тебе хватит тут десяти минут на эти ваши формальности?»
В комнату вошли крепкие парни и, несколько раз перевернув тяжёлое тело покойного, вскинули его на носилки. Последний раз провести взглядом по его лицу, запомнить каждую черту. Фото — это ещё не всё.
«Выносим».
Вот в комнате уже и нету никакой смерти. Ребята затопали в коридоре, понесли покойника вниз. Бюхман следовал за ними, словно священник. Было слышно, как он напевает под нос: «Würgen macht frei». Старая песня.
Терезиус Скима намотал бородку на палец, отпустил. А затем сжал узкие губы, которые снова покалывал горьковатый вкус тайны, и взялся за дело.
4.
Аусвайс покойного, как они успели убедиться, был всего лишь бессмысленным плоским куском пластика — сканер на него даже не реагировал. Это было временное разрешение на пребывание в стране — интересно, сколько ему дали времени чиновники полицайпрезидиума: год, два, три? А главное, когда? От фото в углу осталось только розовое пятно, буквы были затёрты, словно их кто-то соскрёб ножом. Понятно, что аусвайс был давно просрочен и владелец хранил его только потому, что другого удостоверения личности он не имел. Нет, он не был шпионом, этот постоялец — просто он слишком часто ночевал под дождём и снегом, терял свое незатейливое имущество и снова находил, ронял его на землю, в лужи, в бесплатный суп, в мочу, во все жалкие жидкости чужой страны, его обворовывали, били, он болел, валялся в отключке — и снова приходил в сознание, и каждый раз это пластиковое, неохотно выданное ему сердце снова возвращалось к нему невесть какими путями.
Соскребённый с пластика, затёртый беспаспортный человек только что лежал здесь, на этой вот самой кровати. Конечно, Бюхман должен ответить перед законом за то, что поселил в отеле лицо без документов, но Терезиус Скима знал, что махнёт на это рукой — ему было не до Бюхмана, с этим коммунякой всё ясно и так, внизу уже ждут новые постояльцы, у которых тоже никто не спросит, кто они такие. Волокита с разборками и штрафом только отвлекла бы агента от действительно важных вещей. Тем более что другие найденные у постояльца предметы оказались куда интереснее.
Да, здесь было о чём подумать.
Имущество покойного помещалось в один рюкзак. Носки и трусы он, по-видимому, незадолго до смерти пытался постирать в душевой кабинке — они лежали на полу ещё сырые, с белыми сопливыми пятнами от мыла. Грязное пальто висело на крючке, оно ещё сохраняло прежнюю элегантную форму, но уже потеряло цвет. У дверей разводили ушами в стороны разбитые, какие-то разудалые дорожные ботинки. На треснувшей раковине лежали старая зубная щётка и выжатый до последней капли тюбик зубной пасты. В рюкзаке Терезиус Скима нашёл брюки и свитер, вилку, открывалку, нож… Набор пластиковой посуды… С этим всё было понятно. Сделанный медиком анализ показал, что ДНК умершего постояльца нет ни в одной базе данных. Во внутреннем кармане его рюкзака лежало пятьдесят марок купюрами и медной мелочи граммов на триста. Банковскую карточку, конечно, искать было бессмысленно. Вот она, его карточка: помятая пачка денег. Использованные носовые платки, тряпки, бесплатная, грубая, будто каменным порошком посыпанная туалетная бумага «Нежность»… Ржавая машинка для скручивания сигарет. Пакет дешёвого табака. И другие артефакты вовсе не фантастической человеческой жизни.
Но в рюкзаке были ещё три вещи, увидев которые, Терезиус Скима понял, что покойный не являлся обычным бродягой.
Во-первых, бумажный блокнот, весь истерзанный надписями — каракули вились по нему, как бесконечные волосы, скручивались и выползали, цепляясь за другие, обрывались и завивались, колтуны букв, волос чёрного чужого почерка…
«Он что?.. Писал от… от руки? На бумаге?»
Терезиус Скима оглянулся. Горничная стояла на пороге, заворожённо глядя на блокнот в его руках.
«Извращенец, правда? — улыбнулся Скима. — Полагаю, от руки он писал не только карандашом…»
«А чем же ещё?»
«Например, веточкой на мокрой после дождя земле. Иногда я вижу, как они это делают. Сидят на лавочках, опустив головы, и чертят свои знаки. Злятся, стирают нацарапанное подошвой ботинка и снова пишут…»
«Я тоже однажды видела такое. В Тиргартене».
Но Терезиус Скима уже держал в руке ещё одну вещь, которую оставил после себя незнакомец. Держал осторожно и даже с опаской. Словно не знал точно, что это такое.
Но он знал. Конечно знал. Это была книга. Бумажная старая книга: серая сырая обложка, под которую заполз туман, серые страницы, с которых, расплывшись, будто из-под воды, смотрели редкие буквы незнакомой речи. Букв было не так уж и много — и поэтому они выглядели ещё более болезненными, чёрными, кривыми, словно на них падал невидимый свет. Словно банкноты упразднённой валюты не существующего уже государства, подумал Скима, рассматривая загнутые уголки страниц, складки больной бумаги, тайные значки, некоторые из которых напоминали латинские, а другие будто бы специально были придуманы как пародия на привычный нормальным людям шрифт. Конечно это была кириллица. Буквы с той стороны границы.
«Книга», — сказала Айсу торопливо и нервно, словно хотела подсказать Скиме мысль, к которой он никак не мог подобраться.
«Кстати, а что вы тут делаете? — спросил Скима, глядя на неё с весёлым недоумением. — Разве время для эксплуатации человека человеком ещё не настало? По-моему, в этом городе эксплуатировать начинают в восемь».
«Я подумала, что вам нужно будет меня допросить».
«О чём?»
«Об этом… Который умер. Вы же должны спросить у меня, что я о нём знаю, что запомнила… Разве нет?»
Терезиус Скима хмыкнул и снова ухватился за свою шикарную бороду. Обычно горничным нет никакого дела до постояльцев, ушедших в лучший мир или на вокзал. Normalerweise они всячески стараются дать понять, что плевать хотели на тех, кто выписался. Какая разница, что случилось с тем, кто оказался ничем.
«Хорошо. — Бородка покатилась по груди Скимы. — И что вы знаете? Что запомнили?»
«Ничего особенного, — поспешно проговорила Айсу. — Он пришёл вчера, в дождь. Выглядел уставшим. Бюхман накричал на него: что этот бедняга ноги свои не вытер, следы оставил на ковре. Хотя тому ковру уже больше лет, чем мне, да Бюхман и сам ноги никогда не вытирает. И не моет…»
«Кстати, отдайте зажигалку, — мягко попросил Скима. — Я знаю, она у вас».
Айсу покраснела.
«Откуда вы знаете?»
«У нас в отделе работа такая — знать всё, — с напускной важностью сказал Скима и засмеялся. — Я её вижу. Вы не курите, а покойный курил, и у вас на кармане, вон там, на груди, хорошо видны контуры предмета, который любой дурак идентифицирует как зажигалку».
«Возьмите её сами, — тихо сказала Айсу. — Я просто взяла. Зачем ему зажигалка? Там?»
Терезиус Скима положил книгу, подошёл к ней вплотную и ловко вытащил зажигалку из кармана. Горничная встрепенулась.
«Там? — он щёлкнул и посмотрел на огонёк. — Вы что, верите в загробную жизнь? Как те… Люди из прошлого?»
«Нет».
«Тогда что вы имеете в виду под этим «там»?»
«Ну, наверное же должно быть что-то. После смерти».
«И как вы себе представляете это что-то?»
«Не знаю».
«Но почему-то считаете, что курить там запрещено», — сказал Скима.
«Там должно что-то быть, — упрямо проговорила горничная. — Это как с Восточной границей, понимаете? Там, за ней, что-то есть. Там тоже люди живут… И может быть, там даже есть отели. И в эту минуту в одном из них… Пусть в самом жалком, но там тоже стоят двое, такие, как мы, и говорят о смерти. Как обо всём этом интересно думать…»
«Интересно», — откликнулся Скима, не слушая, и достал из пёстрого пакета с логотипом «Альди» ещё одну вещь, оставшуюся от загадочного незнакомца.
Это было перо.
Старое, вонючее птичье перо.
Взяв его в руки, Терезиус Скима неожиданно почувствовал, как по телу его пробежала странная дрожь. Будто от пера шли невидимые волны — и пронизывали Скиму от кончиков пальцев до волосков на коленях.
Потемневшее, но ещё гордое птичье перо — хранившее даже в самой своей форме образ птицы, вечный образ полёта.
Он ещё никогда не держал в руке перьев. Он чувствовал одновременно ненависть и гордость — и ему было неуютно от этого волнения.
«Что это?» — спросила Айсу.
«Это перо. Птичье».
Ни Терезиус Скима, ни Айсу не знали, какие они на ощупь, птицы. Они знали только, какие на ощупь люди. Знали и не боялись человеческих прикосновений. Ведь такая у них была работа: касаться. На определённое мгновение это их сблизило: Айсу сделала к нему шаг, и Скима дал ей подержать перо. С опаской положив его на ладонь, Айсу внимательно разглядела костяной кончик, желтоватую окраску косых полосок, пушистый верх. И отдала перо Скиме.
«Этим он писал в блокноте?»
«Нет», — коротко и уверенно ответил Скима.
Не такое, впрочем, оно было и старое — да и не настолько вонючее, как ему показалось. Стоило просто почувствовать его своим, почувствовать, что сейчас перо будет говорить за своего умершего владельца, — и вот уже Скима погладил его пальцем и даже пощекотал им себе подбородок. На нём не было следов краски или чернил, им ничего не скребли и вообще хранили достаточно бережно. Это перо имело для умершего какую-то особую важность, какое-то значение. Возможно, оно было талисманом — а может, напоминало о чём-то. Хотя могло статься, что человек просто подобрал его на улице, наплевав на все возможные болезни, передающиеся птицами. Просто так, поднял и положил в карман, очарованный его совершенством, его прелестью и необычностью… Перо могло быть зацепкой. Покойный мог быть как-то связан с птицами. Работал когда-то — или охотился, доведённый до отчаяния голодом.
«Айсу! — взревел снизу Бюхман. — Ты хочешь, чтобы наша фирма загнулась? Где ты, чёртова комсомолка? Я что, один буду убирать этот Дворец съездов?»
Айсу с сожалением обвела глазами комнату и остановила взгляд на серебряной бородке.
«Я даже не знаю, какой у него был голос, — прошептала она. — Он ничего не сказал. Взял ключ и пошёл наверх, сюда».
И она выбежала в коридор.
Дятел постучал в двери дня — требовательно и деловито. Терезиус Скима надел кожаное пальто и завязал красный шарф. Он сложил свои находки в рюкзак: книга, блокнот, перо. Вещи, которые должны были заговорить. На пороге он остановился и обернулся, будто что-то забыл. Но в комнате не оставалось ничего, что заставило бы его вернуться. И всё же, и всё же…
«…комната была сама по себе; но нашёлся посредник, и теперь этот вид становился видом из именно этой комнаты».
5.
Попивая турецкий чай — как уютно устроился и тает кусочек сахара во рту, с каждым новым глотком, кусочек сахара, сторож молчания! — Терезиус Скима просмотрел, что пишут в сети о гусиных перьях. Он заложил ногу за ногу и поэтому то и дело ловил на себе неодобрительные взгляды молодого кебабника: слишком уж коротка была его юбка для этого района. Не следовало их провоцировать — но у Терезиуса Скимы были свои принципы. Принципы, которые базировались на рассудительности и здравом смысле. И в самом деле: если бы он менял юбки каждый раз, когда оказывался в новом Stadtviertel, у него попросту не хватило бы запасов в гардеробе. Да и не подходили ему те широкие и длинные юбки, в которых ходили мужчины в этой части города. У Терезиуса Скимы был вкус.
Читать о гусиных перьях оказалось интереснее, чем он думал. Одна картина неожиданно так увлекла его своим сюжетом, что он надолго завис над ней, размышляя и покашливая, забыв и про кебабника, и про давно остывший чай. «Смерть Марата» Жака-Луи Давида — ну да, он знал о её существовании, но никогда особенно не вникал в сюжет. Когда-то эта работа была выставлена в Брюсселе, но уже два десятилетия находилась в Абу-Даби, купленная тамошним шейхом. На этой картине перьев было целых два: одно в руке только что убитого революционера, второе на деревянной тумбе, рядом с чернильницей. Эти два пера и были настоящие орудия убийства, подумал Скима. А как же нож на полу? Нет, он слишком очевиден, он всего лишь исполнитель, мститель, он не более чем инструмент. Невинные перья убили гораздо больше народу — и продолжали убивать, даже несмотря на гибель своего владельца. Гусиные перья, которыми подписывались приговоры и выносились кровавые резолюции…
От картины Давида, которую Терезиус Скима помнил ещё со школы, он незаметно перешёл к другим и сделал несколько открытий, которые немало его позабавили. Выяснилось, что смерть жёсткого якобинца писал не только Давид. Русский Гончаров сто двадцать пять лет назад нарисовал парочку Марат — Корде, будто сцену из немого кино — но цветного, раскрашенного художником в морозно-уголовные ленинградские тени. Перьев там не видно, там рука убийцы — уже сама по себе перо… А Марат — будто святой, руки воздевший, он совсем не удивлён и готов к вознесению. Мунк написал свою смерть Марата: там участники драмы — любовники, на столе фрукты, на кровати — вспоротый труп, лицом к зрителю обнажённая Шарлотта, с чувством выполненного долга, обречённая судия. Чех Иржи Сурувка, вдохновлённый Мунком, тоже написал постельную сцену. Она сверху, занята делом; рот у Марата большой, словно разорванный. Треугольник между ног Шарлоты пронзает Марату низ живота, рука с ножом занесена над сердцем, двойное проникновение, не только убийство, но ещё и кастрация.
И ни одного пера на картинах двадцатого столетия. Словно художники скрывают настоящую причину преступления. Словно пытаются замести следы. А вот на картине Давида женщины нет. Точнее, есть, но не каждый её увидит. Шарлотта Корде на картине Давида — это красное отверстие в груди убитого, откуда вытекает кровь.
Терезиус Скима любил думать о таких вещах.
Гусиное перо исчезло из обихода давно. Сначала время вырвало его из рук людей пишущих, почти сразу же — и из рук людей служилых, из рук государевых мужей; правда, перо ещё долго жило в символах и знаках. Архаичное воплощение отмершей литературы и последних вздохов журналистики. Полсотни лет назад ещё говорили: «произведение принадлежит перу»… Новая эра пришла в гости к культуре, будто Шарлотта Корде, и перо выпало из человеческих рук. Двадцать лет назад последние романтики всё ещё пытались прицепить его на свои флаги. Старые выцветшие флаги, застиранные, как простыни в дешёвом отеле. Перо и крылатый конь: была в этом какая-то злая ирония. Пока литераторы летали над планетой в оплаченных организаторами лайнерах на фестивали и конференции и лихорадочно стучали пальчиками по клавиатуре, ловя вдохновение и веря в своих крылатых коней, пока они щекотали символическими перьями своё затвердевшее самолюбие — на земле незаметно умерла литература. И не нашлось такого отдела, который бы занялся идентификацией её трупа. Чем или кем она, собственно говоря, была?
Терезиус Скима допил чай и расплатился. Если бы кебабник знал, чем он занимается, то отнёсся бы к Скиме ещё более неодобрительно. Зачем тратить силы на человека без аусвайса? Чужака, который даже в Берлине в 2050-м не смог придумать, что бы ему продать и как снискать хлеб насущный. Неудачника и, скорее всего, проходимца.
«Хорошего дня», — буркнул Терезиус Скима, поправив юбку.
И всё же…
Зачем ему было перо? Человеку без имени и биографии, который умер сегодня ночью в отеле «Розенгартен»? Старое перо, которое он берёг от непогоды и времени и таскал с собой в пластиковом пакете?
Этим пером открывались двери в тёмную комнату его жизни. Ключ был, но адреса Терезиус Скима не знал.
Но зато он хорошо знал свой город. В Берлине 2050-го хватало всяческих достопримечательностей. Относительно недалеко от кебабницы, на Йоахим-Лёв-штрассе, стоял двухсотлетний дом, в цокольном этаже которого располагался старый книжный магазин. Магазин бумажных книг — насколько Скиме было известно, магазин этот интересовал только самых сумасшедших туристов и продавцов разного хлама. Когда-то в городе было полно таких заведений, когда-то берлинцы с радостью всасывали в себя пыль бумажных книг и охотно делились ею со всеми гостями. Но уже в год рождения Терезиуса Скимы многие отдавали предпочтение электронным изданиям и начинали Великую чистку своих жилищ от громоздких и привязчивых, как грибок, книжек. Когда-то Йоахим-Лёв-штрассе называлась иначе, когда-то и сам этот книжный магазин имел совсем другое название, а нынешний владелец сразу же повесил над низким входом вывеску с гордой и безнадёжной надписью: «Die letzte Bücherei».
Терезиус Скима уже не помнил, бывал ли он там хоть раз, спускался ли по ступенькам в эту полуподвальную нору, откуда, казалось, пахло всей гнилью и всем смешным достоинством старого бумажного мира. Но сейчас идея посетить «Последний книжный магазин» показалась ему не лишённой смысла.
И вот старое берлинское метро — воспетый скрипом несуществующих перьев унтергрунд — уже трясло его и мотало в разные стороны, напоминая о том, что путешествия во времени сейчас может позволить себе каждый.
…Отразившись на мгновение в стекле потрескавшихся дверей — словно увидев своё имя на странице старой книги, — Терезиус Скима потянул на себя ручку и не без смущения остановился на пороге. Над головой звякнул колокольчик, объявив на своём удивительном языке, что в этом городе ещё жив по крайней мере один читатель. Правда, кому был адресован этот радостный звон, было не совсем понятно. Терезиуса Скиму со всех сторон обступали книги, их пирамиды тянулись до самого потолка, и каждая напоминала старого подслеповатого силача, подпирающего плечом такого же соседа, чтобы не упасть вместе с ним. Другие колонны из книг теснились к стенам, закрывали спинами узкое окно, лезли к свету, цепляясь друг за друга в тесных проходах, — это был город, древний город, где жили только колонны со сколотыми краями и усталые атланты без кариатид, и Терезиус Скима сразу почувствовал себя чужим. Ещё не поздно было выйти из книжного магазина, плюнуть на все те вопросы, которые он с такой самонадеянностью думал задать посреди нагромождений никому не нужного старья. Что за бессмыслица: получить нужный ответ здесь было настолько же нереально, как найти какую-то конкретную книгу. Терезиус Скима почувствовал, что стоит ему сделать хотя бы шаг навстречу молчаливым бумажным горам, и они начнут оседать, рушиться, рассыпаться в прах, задушат его, завалят, закроют ему путь к отступлению.
И когда среди мёртвого книжного города прозвучал голос, он не сразу понял, откуда именно он доносился.
«Здравствуйте, я могу вам помочь?»
Прошла, наверное, целая минута, прежде чем Терезиус Скима смог рассмотреть среди древних кирпичей и рыхлых бумажных мышц кроличье лицо хозяина. Два передних жёлтых зуба выступали далеко вперёд, большие уши торчали над лысиной, маленькие, красные, круглые глазки подозрительно впились в Скиму. А ещё галстук-бабочка, а ещё усики — таких людей уже и вправду давно не делают. Терезиус Скима даже не поверил, что в Берлине может существовать такая вот пародия на современного человека. Видно, хозяин нарочно принял такой вид, чтобы привлечь туристов, — но посетителей в «Последнем книжном» не было. Или их просто давно завалило книгами — и они не могут выдохнуть ни слова?
«Добрый день, — повторил этот книжный кролик, грустно наблюдая, как Терезиус Скима вертит головой и пощипывает бородку. — Приветствую в Последнем книжном магазине. Могу заверить: у нас действительно дёшево. Вы нигде не найдете такого выбора и таких смешных цен. Наилучшие и самые старые книги — всего полмарки за экземпляр. Альбомы, комиксы, диски, карты, открытки. Всё не позднее 2035 года. Пятнадцать тысяч изданий двадцатого века, пять тысяч девятнадцатого, около тысячи ещё более старых. У меня есть то, что вы ищете».
Терезиус Скима глазом не успел моргнуть, как книжный кролик уже стоял под его локтем и листал книгу.
«Вот. Разве это не то, за что не жалко отдать пять марок?»
Терезиус Скима глянул и отвернулся. Это была книжка с картинками: секс, секс, секс. Чем ещё можно с такой лёгкостью завлечь человека? Секс и картинки. Вот и всё, что им нужно.
«Вижу, что немножко ошибся, — с уважением произнёс книжник. — Тогда посмотрите. Вот. Это то, что не оставит вас равнодушным. Даже если вы принесли присягу в Антисексуальной лиге. Из этого можно сделать матрац — с помощью компьютерного моделирования».
«За кого вы меня принимаете?» — сказал Терезиус Скима.
Продавец не смутился. Он ловко переложил книгу из руки в руку, и ещё раз из руки в руку, у него было много рук, у этого человека-кролика, который постоянно двигался, словно выкручиваясь из объятий книжных силачей. И вот уже Скима невольно, будто защищаясь, выставил вперёд ладони, и покорно их опустил, а на них легла широкая, шероховатая…
Легла. И будто бы сама начала перелистывать свои цветные, винно-тёмные страницы. На иллюстрациях молодая женщина (1920? 1900? 1890?) практиковалась в плотских утехах с собакой — тонконогим и любопытным догом, с немного неправдоподобно вытянутым длинным языком.
«Это мадемуазель Дарлон, — заговорщически улыбнулся продавец. — Она была искусна в удовлетворении собственных желаний. Правда, тут есть ещё какие-то буковки, какой-то текст… Но не обращайте внимания. Картинки большие, а текст можно отрезать. Хотите, за десять марок я сделаю это сам? И в вашей книге не будет ничего лишнего».
«За кого вы меня принимаете?» — повторил Терезиус Скима, на этот раз уже гораздо более веско, так, что этот уже не кролик, а вполне себе крысоподобный книжник встрепенулся и спрятал свой альбомчик — будто и не было никогда никакой мадемуазель и никакого развратного пса.
Книжный магазин с шелестом свернулся, сложился, как карта старой настольной игры. Они снова были в Берлине середины XXI века.
«Так зачем вы тогда пришли сюда?» — спросил книжник и облизнул губы. Когда-то люди облизывали кончики пальцев, перед тем как перевернуть страницу, вспомнил Терезиус Скима. Он видел такое в кино.
Он неохотно достал книжку, оставшуюся от умершего жильца «Розенгартена», и протянул её продавцу. Тот схватил, потряс, поднёс к своим неискренним крысиным глазам.
«Более двадцати пфеннигов я вам за неё не дам…»
«Не волнуйтесь, — сказал Терезиус Скима и скрутил бородку в красивую фенечку. — Мне нужна консультация. Что вы можете сказать об этой… этой книге? Не знаете ли вы, кто её автор, — или может, вам попадалась такая же? Может, кто-то покупал её у вас или приносил на продажу?»
«Вот оно что, — осклабился книжник. — Вы из полиции».
«Я из ED, — нетерпеливо произнёс Скима. — Хозяин этой… этой книги умер сегодня ночью, и она, к сожалению, единственный документ, который он оставил после себя».
Почему-то ему тяжело давалось это короткое слово — книга. Такое короткое, как будто оно само стеснялось своего существования.
Buch.
Das Buch.
Плод засохшего тысячелетнего дерева.
Отведав который, начинаешь заикаться. Пока не почувствуешь, что заикание само по себе есть дар. Книги изобрёл заика.
«Книга… — сказал этот вонючий букинист, отвернувшись. — Да, конечно. Книга…»
Он что, плачет?
Нет, это книжная пыль выедает ему глаза. Терезиус Скима и сам почувствовал, как щиплет у него где-то в носу, прямо в волосках.
«Кажется, она написана по-русски, — сказал Терезиус Скима. — Но не факт. И я никогда не поверю, что вам нечего сказать про эту… хм… эту книгу».
Продавец взвесил книгу в руках.
«Нет, я вижу её впервые. Но русских книг у меня хватает. Русских и тех, что издавались во всех этих лимитрофах. До 2020 года. Что ж. Могу точно сказать, что её купили не у меня. И ещё…»
«Что?»
«Полагаю, он сам её написал, этот ваш покойный».
«Почему?»
«Не знаю. Но мне знаком этот тип. Поэты. Каждый из них таскает с собой экземплярчик своей книги. Поверьте, я достаточно на них насмотрелся».
«Поэты? Те, кто пишет… стихи? Разве они ещё существуют?»
Книжник злобно засмеялся.
«Они — да. Они даже читают эту свою ерунду. Но только самим себе. И страшно этим гордятся. Честно говоря, все они жалкие изращенцы. Более самовлюблённых существ я в жизни не встречал. Думаю, ваш клиент как раз из таких…»
Терезиус Скима показал книжнику фото умершего постояльца. Продавец потёр глаза и улыбнулся.
«Смерть самый лучший автор. Бессмертный классик. Перед ней мы все благоговейные читатели. Нет, я его не знаю. У меня он не выступал. Значит, ваш клиент был не такой уж дурак. По крайней мере, у него хватало ума не играть в их игры».
«Какие игры? Что вы имеете в виду?»
«А вы не знаете? Хотя откуда вам знать… Вы не похожи на тех, кто забавляется в Gruppe2047».
Заметив недоумённый взгляд Скимы, книжник как-то непристойно, криво рассмеялся.
«Это клуб молодых идиотов. Жестоких, как и все дети. Они приходят к этим старым пердунам, поэтишкам, и делают вид, что фанатеют по их стишкам. Понимаете? Впрочем, это лучше увидеть своими глазами. Сегодня у меня будет читать один такой бедолага. Не понимаю, почему до него не доходит, что он для них всего лишь посмешище. Впрочем, это занятие — пописывать книжечки — всегда ослепляло людей, внезапно и необратимо. Писать их — будто добровольно выколоть себе глаза. Собственноручно выдернуть их из своей башки и всю жизнь чувствовать себя счастливым. Они больные люди… Как вас зовут?»
«Агент Терезиус Скима», — Скима кивнул и присел на ящик с книгами.
«Вы немец?»
«Я берлинец», — коротко ответил Скима, а сам подумал, что как берлинец он давно должен был сюда зайти. Просто чтобы быть в курсе. Чтобы понимать, что происходит. Стыдно, агент.
«Я тоже… — книжник задумался. — Мое имя Кляйнрот. Уве Кляйнрот. К вашим услугам, агент Скима. Так о чём это я? Ах, да. Эти скучные шоу стоит увидеть своими глазами. Загляните к нам сегодня в семь. Эти козлы из Gruppe2047 придут на своего клоуна. Который даже не подозревает, кто он на самом деле для этой молодёжи. Интересный психологический феномен, должен вам сказать. Отвратительный и интересный, агент Скима… Отвратительный и…»
«Почему же вы терпите всё это? Если для вас это отвратительно?»
«А что я могу сделать? Клоун обижается, если ему намекаешь о том, кто он на самом деле такой. Последние книжные магазины есть и в других городах. Он может поехать к другим. А 47-е платят мне за вход. Три марки, кстати. Они богатые, эти злые дети, новые люди новой планеты. Поймите меня. Каждый выживает, как может. По крайней мере, у всех возникает иллюзия, что время литературы окончательно ещё не ушло. Что старая прекрасная эпоха ещё не закончилась. Хотя, честно говоря, агония началась ещё до вашего рождения…»
Терезиус Скима уже знал, что пойдёт. Он и не подозревал о существовании в городе таких субкультур. Это могло быть важно для работы — но была и другая причина. Какая, он пока что не смог бы объяснить даже самому себе. Город, по которому он шлялся год за годом, вдруг приоткрыл ему одну из своих сокровенных дверей. Будто ты жил годами с одним человеком и думал, что знаешь о нём всё. А выяснилось, что этот знакомый до последнего вросшего ногтя человек — сплошная тайна…
«Что касается вашей книги… — Кляйнрот со вздохом отдал её Скиме. — Здесь нет фамилии автора. И нет названия. Такие книги начали делать не ранее 2035-го. Тогда решили, что название — это слишком претенциозно, а писать свою фамилию на обложке — бессмысленно. Когда из литературы ушли последние деньги — закончилась и эта вечная претензия на власть. Власть над тем, что ты написал. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Я полагаю, он издал её за свои деньги где-то у нас в стране. У него не было иллюзий. Он не собирался читать её перед 47-ми. Он просто был счастлив тем, что имеет. Последний поэт. Вот кем он себя считал. Эмигрант, думавший, что сможет выжить здесь, у нас, занимаясь литературой, пишущий стихи на этом своём русском языке… Так ждать вас сегодня, агент Скима? Я не возьму с вас плату, так и быть. Лучше купите у меня что-нибудь».
«Да, я буду, — сказал Терезиус Скима. — Говорите, в семь? Дайте мне какую-нибудь русскую книгу. Любую».
«Хм, — Кляйнрот потянул носом воздух, словно пытался на запах определить, где лежат русские книжки. — Может… Хотя нет, там нет картинок. Одни буквы. Буковки, буковки, буковки… Знаете что. Возьмите сказку. Это русская сказка про мальчика, который стал такой маленький, что смог убежать на спине гуся из родной деревни за границу. Старая сказка в немецком переводе. Вот…»
Он замер перед книжной горой — и вдруг чрезвычайно ловким, почти нечеловеческим движением коротких крысиных пальцев выдернул из недр тонкую исцарапанную книжку в выцветшей обложке.
«Путешествие Нильса с дикими гусями… — задумчиво сказал Кляйнрот. — Что только не придумают эти русские. С вас марка».
«Нильс? Это не похоже на русское имя, — заметил Терезиус Скима, осторожно кладя деньги на спину какой-то энциклопедии. А теперь — к дверям, на улицу, бочком, мимо этих гор, этих колонн, этих силачей, уснувших навек сторожей забытого храма. — Хотя, конечно, всякое бывает…»
«Бывает, — согласился Кляйнрот, схватив деньги короткими жёлтыми когтями. — Вы правы. Бывает всякое».
6.
На литературный вечер в «Последнем книжном магазине» Терезиус Скима надел чёрное вечернее платье, а поверх — кожаную куртку. На ногах его были те самые сапоги до колена: как и куртка, сапоги были из искусственной кожи, которая уже давно обогнала натуральную по качеству. Сначала искусственная кожа одержала этическую победу над натуральной (как же долго она, очищенная от крови и крика животных, владела умами, душами, ногами, вот только от крика, застывшего в её мертвой фактуре, избавиться так и не смогла…). Затем пришла эстетическая и экономическая. Только эмигранты из дальних стран и из-за Восточной границы, оттуда, где кончается Европа, сохранили дикарскую любовь к коже убитых зверей — словно сами они остались зверями; а может, эта любовь к натуральной коже была для них способом сохранить в себе заодно и любовь к родине? Думать обо всём этом было интересно.
Ещё полтора века назад из натуральной кожи делали обложки для книг, подумал Терезиус Скима, спускаясь к дверям «Последнего книжного». И это были красивые обложки, отметил он, не без сомнения берясь за железную ручку. Возможно, её хватали вспотевшие пальцы самых разных умерших писателей. Он не мог вспомнить их имён — но они ведь были. Это они написали все те бумажные горы — и тихо ушли в небытие, оставив нам разгребать созданное ими бессмысленное великолепие. А мы не разгребли. Мы просто спрятали горы под землю и сделали вид, что их больше нет.
Двери равнодушно посмотрели в лицо Терезиусу Скиме и отвернулись. Сейчас на них была приклеена неброская афиша, которая гласила:
«“Последний книжный магазин” приглашает на вечер поэзии
Кима Клауса,
автора поэтических сборников “0,9, 99”, “Ohne Bilder mit Kobolden”, “Iwandurak”, лауреата поэтических премий “Gruppe2047”, премии имени Имре фон Штукара, дважды лауреата премии имени Эльзы Клюге и премии Ивана Блядского.
Вход: 3 марки. Владельцам золотой клубной карточки Gruppe2047 скидка 50 процентов».
Было без десяти семь, но книжный магазин, казалось, даже не подозревал о предстоящем событии. Ничего не изменилось с того момента, как Терезиус Скима вышел отсюда, держа в руках книгу про Нильса. Терезиус Скима поискал глазами продавца, но не нашёл и достал телефон, чтобы проверить почту. Но что-то мешало ему сконцентрироваться. Будто кто-то наблюдал за ним, заглядывал через плечо, шевелил губами… Где у книг губы? Где глаза у книжных холмов? Где заканчиваются руки престарелых книжных атлантов?..
«Агент Ски-и-ма, — Кляйнрот вынырнул из какой-то норы. — Не думал, что вы и правда заглянете. Но я рад, действительно рад. Берегите нервы, агент Скима. И прошу вас, ни во что вмешивайтесь. Это же не ваша компетенция, правда?»
Терезиус Скима спрятал телефон. Он ещё не знал, как ему здесь себя вести: Кляйнрот сам был похож на старую книжку, которая невесть почему заговорила, и его хотелось закрыть и поставить на полку — или просто сунуть в ближайшую бумажную пирамиду, как выпавший кирпичик.
«Чтение будет здесь, в соседней комнате, — Кляйнрот сделал приглашающий жест. — Осторожно, агент Скима, снимите рюкзак, не вынуждайте меня снова насыпать эти горы…»
Комната, в которую они протиснулись, была меньше первой, но здесь стояли только стулья, и поэтому она была попросторнее. За маленьким антикварным столиком, на котором стояла зажжённая свеча, сидел толстый человек в платье таком коротком, что через тонкие колготки можно было рассмотреть рыхлые ляжки и цветные трусы. Платье было с глубоким декольте, откуда выползла густая чёрная шерсть. В неопрятной бороде человека жили кусочки съеденной сегодня пищи: с первого взгляда Терезиус Скима определил, что это остатки кебаба… Конечно же это был кебаб Али, у которого кафе на углу Грегор-Зандер-штрассе недалеко отсюда. Чуть пониже декольте платье украшала надпись: «…und grün des Lebens fucking Baum…»
Цитата — но откуда? Терезиус Скима мгновенно проверил в сети и скептически усмехнулся.
«Знакомьтесь, — Кляйнрот с мерзкой улыбкой посмотрел на толстого мужчину. — Ким Клаус, гений нашего времени. А это агент Терезиус Скима, в каком-то смысле ваш коллега, дорогой Ким. Он тоже вечно в поисках имён… имён для тех, кто при жизни в них не нуждался».
Какая странная фраза, подумал Скима, — а толстяк схватил вдруг его руку и поднёс к своим жирным губам. Чмокнул: Скима почувствовал, что кусочек его тела стал на мгновение чужим — как вернуть его? Что это? Зачем это? Эта необъяснимая, старая, иррациональная нелюбовь к толстым — от которой человечество так и не избавилось? Эти старомодные касания, поцелуи, ритуалы — одолжить частичку тела другому, зная, что она уже не вернётся: почему всё это ассоциируется с поэзией? Эта уверенность в том, что слово заслуживает такого почти религиозного внимания? Спрятаться под землёй, накрыться мёртвыми телами книг, сделать вид, что никакого времени не существует, что кто-то имеет привилегию говорить, а кто-то почётное право слушать? Возможно, литература умерла именно потому, что всегда была такой — строго иерархической?
«Вы любите поэзию, агент?» — спросил Ким Клаус, и по его голосу Скима понял, что поэт запил свой кебаб дешёвым ромом. Возможно, тем самым, который пил загадочный постоялец перед самой смертью.
«Я люблю котиков, — сказал Терезиус Скима. — Они лучше пахнут».
Кляйнрот заскрипел большими передними зубами в знак одобрения.
«А вы красавец, — захохотал Ким Клаус. — Если бы я был женщиной… Эх. Я вижу, что вы любите поэзию, любите её, любите, молчите, вы её лю-би-те! Хотя, возможно, сами об этом не подозреваете. “Я люблю котиков” — это уже само по себе стихотворение. Давайте я подпишу вам книжку. Кляйнрот, старая крыса, дай мне экземпляр моих “Кобольдов”…»
Кляйнрот скривился.
«Хорошо, я подпишу свой… Вот. Вы читали мои стихи?»
«Нет», — коротко ответил Скима, наблюдая, как поэт вытирает о книгу свою бороду. А чего он ожидал? Что Клаус напишет ему автограф? От руки? Гусиным пером?
«Держите», — Ким Клаус с довольным видом протянул Скиме маленькую, тоненькую засаленную книжку и хитро и бесстыдно уставился в глаза агента, ожидая увидеть там шок и гнев. Но Скима спокойно кивнул и спрятал книжку в рюкзак.
«У меня тоже есть книга, — сказал Скима и положил перед поэтом сборник мёртвого постояльца. — О неё не обязательно вытирать бороду. Можно просто сказать мне, не знаете ли вы, кто её написал — или хотя бы откуда она взялась? И где можно найти такую же?»
Ким Клаус брезгливо взял книжку и полистал.
«Все восточные графоманы прут к нам, думая, что здесь можно обрести славу… И никакие границы им не указ. Хотя в Европе сейчас читают только меня… ну и ещё Хрисонагиса. Но Хрисонагис — это чисто медийное явление. Поэзии там ноль. Один пиар. Я никогда не выступаю с ним вместе. А он мечтает… мечтает… О да, этот свинопёс, этот свинопас, этот свинопсис только и думает, как бы пропиариться за мой счёт. Хотя знает, подлец, что на него даже за две марки никто не пойдёт… Даже за одну… Поэт на пятьдесят пфеннигов, вот он кто…»
«Ким, — мягко сказал Кляйнрот, выставив вперёд зубы. — Агент Скима пришёл сюда по делу. Хрисонагис его не интересует. А на тебя он пришёл посмотреть. Ты и правда не знаешь, кто бы мог издать такую книжечку?»
«Ладно, — поэт вцепился в свою бороду. — Думаю, это гамбургская работа. Там сидит этот фрик, старый Лампе. Считает себя неизвестно кем. Думает, он гордый. Хорошо быть гордым, когда тебя все давно забыли. Кажется, этот Лампе издавал когда-то такие вот сраные книжечки, за свои деньги. Ещё в 40-м… Пока не разорился. Его можно найти в базе, у него была лавочка в Альтоне. “Niemandsrose”, или как там она называлась… Я выступал там лет восемь назад. Но не знаю, захочет ли он с вами разговаривать… Скорее просто пошлёт к чёрту. Лампе ненавидит мир. Говорит, за то, что там больше нет книг. Но это ерунда, он просто ничего не читает. Меня — так точно. Как это говорили сто лет назад? “Не читал, но осуждаю”. Так говорили русские».
«Покойный тоже был русским, — сказал Кляйнрот. — И пожалуй, тоже читал только себя самого…»
В соседней комнате вдруг зазвенел колокольчик, а потом ещё раз, и ещё — словно какие-то дети дёргали за верёвочку, забавляясь его тонким жалобным звуком. Кляйнрот хмыкнул, разложил на столе книжки, а сам спрятался в тёмном углу. Скима сел в последнем ряду, с интересом наблюдая, как в комнату организованно, как японские туристы, входят молодые люди, один за другим, хитролицые, сытые, моднявые: тридцатилетние тинейджеры с цветными, татуированными, скользкими, словно заплаканными глазами. Рассаживаются, с наигранным почтением придерживая стулья, чтобы те не скрипели. Яркие платья, выбритые груди, дорогие плащи в тонких руках. Челюсти двигаются, постоянно двигаются… Среди них было несколько молодых женщин — и Скима видел, что им труднее даётся эта игра: они так и не смогли убрать презрительных улыбок со своих сконструированных лучшими хирургами искусственых губ…
Поэт впился в них глазами. Было видно, как ему тяжело, как он ищет в них энергию, ищет ответ — дадут ли они ему сегодня то, без чего он не доживёт до утра. Дозу славы.
Скима заложил ногу за ногу. К нему никто так и не подсел. Только женщины иногда бросали на него удивлённые, недоверчивые взгляды — наверно, не знали, как к нему относиться. Скима был здесь единственным, кто пришёл не ради игры. Единственным, кого они здесь не знали, они, весёлая стая перекормленных молодых горожан, спасающихся от скуки в старом книжном магазине.
Сидя в своём углу, Кляйнрот тихо представил поэта и осторожно, вдоль стены, прокрался к дверям. Ким Клаус не стал здороваться — взъерошив грязную бороду, он сразу начал что-то читать. Тоскливый голос бормотал слово за словом, борода тряслась, руки дрожали… Где-то через минуту поэт закрыл глаза и заговорил громче, он накачивал свой рот новыми словами, бравшимися неизвестно откуда — и наполнявшими эту тесную комнату всё гуще, всё гаже… Молодые тела перед Скимой напряглись; по едва заметной дрожи, которую агент замечал в идеально ровных спинах и выбритых затылках, Скима чувствовал, что внутри слушателей начинает потихоньку клокотать смех. Но пока что они сдерживались. Видимо, у них был свой сценарий — продуманный так, чтобы получить максимальное наслаждение.
Прищурившись, играя со своей бородкой, отсутствующий, красивый и всё равно почему-то очень печальный Терезиус Скима сидел, положив ногу на ногу, и ждал, что будет дальше.
Он пересчитал тех, кто пришёл. Пятнадцать человек. Немного — и всё же он, Скима, ещё утром был уверен, что такие вечера в Берлине давно уже стали историей… Ещё утром он думал, что знает о своём городе всё. И о тех, кто живёт в нём, тоже. И вот: новая забава, о которой он никогда не слышал. Потом он всё же решил сконцентрироваться на чтении, вслушиваясь в то, что звучало изо рта Клауса, — тот то бормотал, то выл, то плевался, но голос у него был неясный, слабый, голос больного, капризного толстяка… Терезиус Скима слышал слова, слова своего родного языка, но не мог понять их смысл. Даже если смысл всё же проскакивал, это не очень-то помогало. Тогда стихи Кима Клауса больше всего напоминали ему бесконечные жалобы на самочувствие — и Скима ещё сильнее чувствовал абсолютную абсурдность происходящего.
Ему хотелось переключить картинку, перевернуть, или просто удалить ненужный образ — но сделать это было невозможно. Ким Клаус существовал — и пятнадцать спин перед ним, которые уже начали проявлять признаки нетерпения, тоже существовали и заполняли этот вечер, не оставляя в нём свободного места. Терезиус Скима почувствовал, что задыхается в этой душной комнате, среди бессмыслицы, вони, ритмичного ворчания и насмешливо замерших затылков.
Наконец Ким Клаус сделал паузу — просто чтобы глотнуть воздуха, и публика воспользовалась этим сполна.
Сильные молодые ладони содрогнулись в бешеных, преувеличенно-истерических аплодисментах. Некоторые хлопали себя по бёдрам и лодыжкам, другие кричали:
«Браво! Гениально! Да здравствует Ким, наш лучший поэт!»
«Этот человек вынес мне мозг! — вскочил какой-то паренек и повернулся к своим приятелям. — Вот это сила!»
«Эта штука посильнее чем “Фауст” Гёте!» — поднялся с места другой.
Потом вскочили ещё двое, покосились на Скиму и хором завопили:
«Ким Клаус — гений нашего времени!»
«Кто мы без его стихов? Потребители, мёртвые дети проданной Европы!» — сказала басом одна из женщин.
«Вы немец?» — обратилась к Скиме её соседка.
«Я берлинец», — флегматично ответил Скима. Но его никто не услышал.
«Ким! Ким! Мы обожаем тебя!» — простонало какое-то бесполое мальчонко в галстуке, надетом на пальто.
«Ким Клаус — это поэзия! Ким Клаус — живой классик», — поддержала его подруга, подмигнув своим, которые поднимались с места по очереди, как на стадионе.
«Слава Киму! Без него этот мир — дерьмо, Ким дарит нам духовность и свет в конце тоннеля!» — пропищал тот самый мальчик в пальтишке, упав на колени перед поэтом и обхватив его короткие толстые ноги.
«Ким! Ким! Ким!» — завопили они все вместе. Скима осторожно взглянул туда, где должен был сидеть Кляйнрот — но увидел лишь закрытые двери. Он сидел в одной комнате с этими ненормальными и был единственным, для кого здесь не существовало собственной роли.
Скима намотал бородку на палец. Серебристый шнурок блеснул в свете лампы. Скорее всего, Кляйнрот запер двери. Но стучать?… и просить выпустить его отсюда на свободу?.. Нет, он не подарит им ещё и такого удовольствия.
Ким Клаус сидел на своём месте, тупо глядя перед собой, уши его горели, а в маленьких глазах плясали бешеные молодые люди, которые накручивали себя всё больше и больше.
«Когда я слышу стихи Кима Клауса, мне кажется, у меня под ногтями рождается космос», — сообщила агенту одна из женщин, судорожно вцепившись в спинку кресла.
«Европейский космос!»
«Вы читали его последнюю книгу? — спросил у Скимы писклявый мальчик. — Я куплю сегодня три экземпляра. И попрошу автограф на каждый! На каждый! На каждый!»
Всё началось с кресел. Их пинали ногами — и кресла послушно падали на пол, одно на одно, а если не падали, то разъезжались, натыкаясь на стены; на поваленные стулья наступали ногами, повсюду царили треск и грохот, будто этой комнате ломали кости, кто-то выбил стул из-под ног поэта, но тот успел спрыгнуть — достаточно элегантно, несмотря на свою дородность. И вот уже на поэта упал стул, подброшенный к самому потолку чьей-то молодой рукой, и тут взлетел другой стул и опустился на голову какому-то любителю поэзии. Кима Клауса облепили сразу четверо… нет, пятеро человек, они вырывали волоски из его засаленной бороды, хватали его за рукава, оставляли поцелуи на его багровых грязных щеках, он морщился, но держал руки по швам, как солдат, которого избивают пьяные офицеры, и на его лице горела несчастная, но в то же время похотливая улыбка.
«Поэзия! Кима! Клауса! Пробуждает в нас! Лучшие человеческие чувства! И космические инстинкты!» — проорал кто-то Скиме на ухо.
Скима сидел посреди этого столпотворения и флегматично улыбался. Из-под него никто выбить стул не решался — и он неподвижно, словно призрачный айсберг, плыл сквозь эту бурю, что разбрасывала вокруг волоски, плевки, ошмётки бумаги и глупые звериные вопли. Буря вихрилась прямо перед его лицом, в его глаза с жадной надеждой заглядывали бесы, мелкие и ужасные, как существа из гоголевской ночи, но Терезиус Скима просто поигрывал своей бородкой и улыбался. А когда неугомонная публика схватила поэта и начала подбрасывать вверх, он достал из рюкзака книжку про мальчика, убежавшего из дому на гусе, и стал разглядывать пожелтевшие картинки.
Мальчик на спине птицы. Человек в чреве кита. Терезиус Скима в чёрном платье, по которому вьётся кошачья шерсть. Живое подсказывает нам что-то, некий путь спасения. Не потому ли люди вокруг с каждым годом начинают всё больше напоминать животных? Волосы так и прут из изнеженных тел. Морды делаются длиннее, руки тянутся к земле. И из горл всё чаще вырываются стон, лай, страх, голод…
Из этой истории про Нильса мог бы получиться неплохой фильм, подумал Скима. Побег из империи на гусе в свободный мир. Мальчик-дикарь, который приземляется в чужой стране без бумаг и прошлого, без языка и без лишних воспоминаний.
Буря утихла внезапно. Словно по команде, участники Gruppe2047 замерли — и потом, не оглядываясь друг на друга, потянулись к двери. Кляйнрот сразу же открыл её и вот уже, стоя в тени книжных гор, собирал плату. Вскоре комната опустела.
«Сколько? — бросился Ким Клаус к продавцу. — Сколько купили?»
«Тридцать, — сухо ответил Кляйнрот. — Сейчас рассчитаемся. И ты обещал мне навести порядок».
«Ну, как тебе мое выступление?» — Ким Клаус поправил юбку, засучил разорванный рукав, сел натягивать тёплые колготки.
«Полный успех, — Кляйнрот, слюнявя купюры, отсчитал поэту его долю. — Как всегда, Ким. Я ведь и не сомневался».
«Именно! — глаза поэта счастливо блеснули. — Как они меня слушали… Я думал, сейчас заплачу… Они ведь даже чихнуть боялись…»
Но чего-то поэту всё же не хватало. Он придирчиво рассмотрел себя в маленьком зеркале, поглядывая искоса на Скиму, нетерпеливо пробежал мимо равнодушных книжных пирамид, а затем не выдержал и схватил Скиму за серебристый витой шнурок. Тот слегка ударил поэта по руке — и эта толстая рука, дрожа, вернулась в недра грязной вспотевшей бородищи.
«А вы, агент? Как вам моя поэзия? Видели, какой фурор?»
«Хрисонагису такой и не снился, — сказал Терезиус Скима, наблюдая, как по лицу Кима пробежала мгновенная гримаса отвращения. — Но мне показалось, они вас не слушали».
«Что?»
«Не слушали. И не читали. И больше того, даже не собирались, — спокойно сказал агент Терезиус Скима. — Вы просто их игрушка. И они позабавились вами вволю. У каждого поколения свои развлечения, но иногда привычные развлечения надоедают. Нам хочется перчинки. Изюминки. Новых жертв. Вот и всё, что я могу сказать».
«Что он несёт, Кляйнрот? — жалобно произнёс поэт. — Вы полицейская дубина, вы ничего не понимаете в литературе».
Кляйнрот пожал плечами:
«Я всего лишь торгую старыми книгами. И если новые тоже продаются…»
Он указал на ошмётки, которыми была засыпана комната.
«…это не так уж и плохо для моего магазина. Кто я такой, чтобы судить?»
«Скажите, Клаус, — Терезиус Скима застегнул куртку и поднёс к глазам поэта перо, найденное им утром в отеле. — Что вы можете сказать об этом предмете? Что он может означать в наше время? Я нашёл его в вещах того мёртвого человека. Книгу и перо».
Клаус брезгливо проглотил слюну.
«Это перо дохлой птицы. Вот и всё».
«Вы же поэт, Клаус, — Терезиус Скима сам удивился, как легко ему далась эта фраза. Словно он просто повторил её за кем-то. — Неужели вам в голову ничего не приходит? Ну, подумайте. Хотя бы какая-нибудь ассоциация. Образ. Если не можете вспомнить что-то более интересное».
«Когда-то поэты писали перьями… — захлопал глазами Клаус. — Когда я был молод, я написал об этом. Как меня трахает в задницу последний лауреат Нобелевской премии по литературе, в дешёвом отеле, на подушке, набитой использованными перьями давно умерших поэтов. Изнасилование на старой немытой перине с пятнами от чернил и спермы. О, как меня принимали тогда… Я читал это и… Как они хлопали… Такие чтения и правда зачастую заканчивались дешёвым отелем, бухлом, наркотой, сексом… Двадцать лет назад. Но это давно уже не модно. Как же оно воняет, это ваше перо… как вся эта высокая литература, которая хвасталась своей элитарностью, пряталась сама в себя, презирала народ, а потом сдохла в пустом курятнике, потому что её уже было некому кормить».
«Ну вот, а говорили, “просто перо и всё”, — Терезиус Скима спрятал свой артефакт и насмешливо посмотрел на Клауса. — Это были слова настоящего поэта».
«Лампе послал бы вас куда подальше, агент Скима, — махнул рукой звезда немецкой поэзии. — Старый Лампе из Гамбурга… Его бы вы не заставили говорить. Хотя он та ещё сволочь».
«Что вы имеете в виду?»
«Что он сволочь! И мизантроп. Враг современности, как он сам о себе говорит. Он не пользуется интернетом. Сидит и гниёт у себя в Гамбурге. В таких дырах, как его, только гнить и остаётся, это гнилая опухоль, агент Скима, смердящая и…»
Скима подобрал с пола вырванные страницы и примирительным жестом положил их в пакет для мусора. Ким Клаус давно крутил в руках сигарету, он уже собирался протиснуться к выходу, но Скима остановил его:
«И всё же… Как вы думаете, зачем человеку с книгой таскать с собой перо? В наше-то время?»
«Ради того самого, для чего Кляйнроту его книжный магазин, — процедил Клаус, который, видимо, невольно погрузился в воспоминания о благословенных 20-х. — Чтобы почувствовать себя последним дураком на планете. В глупости, в осознании собственной исключительности есть своё величие. И иногда это единственная возможность его почувствовать. Хотя бы раз в жизни».
7.
Сидя в мягком вагоне поезда Intercity, агент берлинского отдела ED Терезиус Скима размышлял о недопитой бутылке рома, которую оставил после себя незнакомец из отеля. И чем больше он сосредоточивался на этом нелепом предмете, тем яснее понимал, что мысли его крутятся не столько вокруг самого напитка или стеклянной бутылки, сколько вокруг этикетки.
Он думал о нарисованной на ней женщине. Женщине, которая улыбалась с наклейки и звала к себе, на морской берег, под пальмы, и дальше — в прибой, в волны, в синее море, в сине-золотой колониальный мужской сон. Дешёвый сон никому не нужного алкоголика. Один шаг — и из розового сада ты ступаешь на песок, и вот уже море целует тебе пальцы на ногах, и женщина протягивает руки, и говорит что-то на неизвестном тебе языке, полном гласных и ласки… Рай, купленный в киоске за две марки. Море, которое заканчивается с последним глотком.
Мулатка — выплыло откуда-то слово. Терезиус Скима обвёл глазами купе. Не прошло и двух дней со смерти того иностранца, а он вдруг начал замечать, как вокруг него вьются, будто насекомые, какие-то новые, а на самом деле старые слова, архаичные и хитрые слова, которые словно уснули на десятилетия, а теперь Терезиус Скима разбудил их, и их беспокойный рой не даёт ему жить как раньше. Мулатка. Кто в наше время способен произнести это слово: мулатка? И что точно оно означает? Оно как-то связано с кровью, с долей крови в человеческих, женских жилах, что-то связанное с расой, русскими, распевными звуками чужого языка, рабством, романами о приключениях… Романы? Ещё одно странное слово. Романы, романтика, ром. Устаревшие слова несуществующего языка, и кто его знает, на каком из них стоит остановиться. Слова просыпались одно за другим и порхали вокруг Терезиуса Скимы, и он чувствовал на губах их лёгкие, почти неслышные прикосновения.
Для человека, который умер в отеле «Розенгартен» тёплой февральской ночью, они были не просто словами. Он был в их власти, они светили ему в ночи. Какими глазами он смотрел на мулатку, когда опускал бутылку с дешёвым сладковатым пойлом, после которого такая кислая отрыжка? Наверное, ему казалось, что они целуются. Он и его мулатка.
Когда-то поезда Intercity считались одним из самых комфортабельных видов транспорта. Поезд ехал плавно, пассажиры не испытывали ни малейшей тряски, и при этом скорость была приличная. За окнами пассажиры наблюдали пейзажи, леса сменялись пустынями, пустоши — реками, поезд стремительно катился по равнине, поднимался на горы, залетал, словно стрела, в сердца тоннелей, и выходил, оставляя мир в живых. Пейзаж был частью железнодорожного путешествия. Во времена Терезиуса Скимы Intercity достигли своего совершенства — у пассажиров было такое чувство, словно поезд стоит на месте, а он в это время летел вперёд, используя наисовременнейшую энергию, и только перед тем, как остановиться на какой-то станции, тебя немного вжимало в сиденье. Полсотни лет назад из Берлина до Гамбурга можно было доехать за два часа — теперь дорога занимала лишь сорок минут. Всё, чем пришлось пожертвовать, — это пейзажи. Скорость сокрушила их и скрутила в рулон, теперь смотреть в окна во время путешествия стало страшновато. Поэтому на окнах купе были специальные занавески: на них картинка осталась такой, как раньше, и можно было тешить себя иллюзией, что время нечеловеческих суперскоростей ещё не наступило, и всё как прежде, всё спокойно и размеренно, терпимо и естественно… Эта иллюзия заставляла пассажиров Intercity вести себя соответствующим образом: рассевшись по вагонам, люди становились такими вежливыми, чуткими, нежными и немножко старомодно-церемонными, что это вызывало улыбки и создавало атмосферу всеобщего согласия.
Терезиус Скима любил поезда.
Терезиус Скима не любил алкоголь.
Сегодня утром он снова наведался в тот район, где его клиент отдал богу душу. Без труда отыскал киоск, в котором умерший постоялец «Розенгартена» купил свою последнюю в жизни бутылку рома. Киоск находился совсем недалеко от отеля, — мрачноватый курд, сидевший за прилавком, не сразу понял, чего от него хотят, но потом наморщил потрескавшийся, как камень, лоб, и вспомнил: да, он мог бы узнать того мужчину, который позавчера купил у него сигареты и бутылку белого рома за две марки, мужчина был такой усталый, такой измученный, что разговаривал чуть ли не шёпотом. Что он сказал? — Бутылку рома и пачку табака, вот что он сказал, майнфройнд, и ткнул пальцем на полку, палец дрожал, он замёрз, этот бедняга, а больше ничего не могу о нем сказать, майнфройнд, ну да: глаза, они засветились, когда он прятал бутылку в свой мокрый рюкзак, и его как-то стало жаль, что ли… Он разговаривал с акцентом? — Здесь у нас все говорят с акцентом, майнфройнд, все думают, что говорят по-немецки, и знаешь, что я думаю, майнфройнд, тебе надо бы потихоньку привыкнуть, что никаких акцентов больше нет, все говорят правильно, понимаешь? А про того мужчину я больше ничего не могу сказать. Может, он был похож на русского? Нет, майнфройнд, я бы так не сказал, он был похож на бродягу, а бродяги все из одной страны, Нищебродляндии, но у него было две марки на ром и две на табачок, а значит, у него ещё оставалась надежда… So geht das Leben, mein Freund…
Терезиус Скима достал книгу, которая осталась от покойного, и позволил ей развернуться на той странице, где она хотела. Старые книги владеют таким фокусом: раскрывая их, в большинстве случаев попадаешь на одну и ту же страницу. Слова незнакомого языка снова дали ему смутное ощущение чего-то близкого, словно он их уже когда-то знал, но забыл. Кириллица — обманчивые буквы, они могут значить что угодно, могут совпадать с принятыми в цивилизованном письме — и вообще ничего не значить… Он достал планшет, открыл русский алфавит и в очередной раз попытался вчитаться в текст, сравнивая и пытаясь угадать, где тут глагол, где существительное, угадать, как пишутся имена… Этой ночью он получил профессиональное заключение переводчика с русского, которому были посланы сканы всех страниц этой удивительной книги. Помещённые в ней тексты были стихами, гласило заключение, и написаны они были не по-русски, но на каком-то близком языке или диалекте.
Это, конечно, осложняло его задачу. Лингвист, естественно, в два счёта понял бы, о каком языке речь, но консультация лингвистов в таком маленьком отделе, как ED, не была предусмотрена. Им и переводчиков давали без особой охоты, переводчики требовали высокие гонорары, а бюджет у службы идентификации был мизерный. Билеты в Гамбург и обратно — вот и всё, что могли ему оплатить. Дело «Человека из “Розенгартена”» не относилось к числу важных или приоритетных. И всё же Терезиус Скима не терял надежды.
Он как-то сразу поверил, что покойный и правда был поэтом.
Он знал, что покойный имел при себе книгу, которую, возможно, написал сам.
Он знал, что покойный носил с собой старое гусиное перо — и это была его особая примета.
Он знал, что покойный был нелегалом.
Он знал, что его, Терезиуса Скиму, всё сильнее притягивает это дело. Но пока что не понимал почему.
А ещё он знал, что покойный не водил знакомств с поэтической тусовкой и не выступал на таких мероприятиях, как тот унизительный вечер в «Последнем книжном». И Терезиус Скима проникался всё большим уважением к умершему: тот не променял свою отсыревшую книжку и старое перо на сомнительную славу дешёвой игрушки… Игрушки для молодых идиотов, которым нечем заняться. Такому человеку не стыдно вернуть имя, подумал Терезиус Скима. И сам устыдился своих мыслей, слишком уж пафосными они ему показались.
Сегодня утром, выйдя из киоска, он позвонил в Лейпциг поэту Хрисонагису. Ни про какие перья он не знал, про русско-нерусского поэта впервые слышал — зато, услышав имя Кима Клауса, высказал агенту всё, что думает об этом «гнилом графомане и величайшем козле». Когда же Скима строгим полицейским голосом остановил поток его ругательств, Хрисонагис сразу успокоился и посоветовал обратиться к старому Лампе из Гамбурга, с которым, конечно, «невозможно говорить», но который «в курсе всего» и которого «в сети не найдёшь». Очевидно, Лампе и правда был тем человеком, который может помочь, решил Скима и заказал билет в Гамбург.
И вот Intercity мчал его в вольный ганзейский город, и Терезиус Скима знал, что никогда не успокоится, пока не узнает, чей труп выплюнул ненасытный «Розенгартен» вчера утром.
Он закрыл книгу и спрятал в рюкзак. Вышел в коридор, заказал себе кофе, а сам встал у окна, за которым один пейзаж заслонял другой и вполне могло статься, что фальшивыми были оба. Умноженный человеком мир соревновался сам с собой в скорости. Названный человеком мир путался в своих именах. Человек без имени и родины лежал в берлинском морге — и Терезиус Скима, блуждая музейной походкой среди бесчисленных копий мира, собирал разбросанные останки его биографии.
Наверное, это было всё-таки что-то большее, чем просто работа.
Может, в этом и правда было что-то, что лет тридцать назад назвали бы странным словом: поэзия?..
«Стихи», — сказали узкие губы Терезиуса Скимы, и он криво улыбнулся — такой странный привкус оставило слово во рту. Словно он лизнул кого-то в холодное ухо. Он сказал это слово уже почти без усилий — слово приглашало куда-то за собой, приглашало пройти мимо суеты и бессмыслицы, приглашало улыбнуться загадочно и забыть всех кимов клаусов и хрисонагисов, отмахнуться от них, как от мух, поморщиться, надвинуть шляпу и двинуться дальше, в полумрак. Как же темно там, под обложками книг, которые никто не читает…
«Ваш кофе».
«Благодарю».
Где-то в вагоне вдруг взвизгнули и выругались. Он сначала не обратил внимания, но потом услышал ругань снова. Скима повёл ноздрями. Ругань испортила ему настроение. Пожаловаться, что ли, проводникам. Они должны следить за порядком — люди покупают билеты на Intercity не в последнюю очередь потому, что им нравится старомодное спокойствие вагонов, их привлекает эта возможность остановиться, отдышаться, откинуться в мягком кресле, закрыть глаза и вспомнить что-то важное…
Он вернулся в купе, поставил кофе в специальное отверстие, посмотрел на себя в зеркало. Сегодня на нём были чёрный свитер и красная юбка с бело-чёрным узором по нижнему краю, а волосы он собрал на боку и заколол их серебристым гребешком, который гордо перемигивался со шнурком в бородке. Он знал, что выглядит эффектно, — и был рад, что едет в купе один.
Терезиус Скима не спеша сделал глоток и понял, что ему не показалось. Где-то в вагоне слышался неприятный шум, который нарушал всю гармонию путешествия.
Скима вышел в коридор и мягкой походкой человека, у которого дома три кошки, пошёл вдоль зияющих дверей полутёмных купе. Звуки шли из предпоследнего, Скима резко потянул дверь, он уже видел через завешенное куртками стекло, что там происходит, и знал, что ему делать.
Двое парней держали женщину за руки, прижав к сиденью, а третий, присев на корточки, снимал на видео её перекошенное лицо, напряжённую, красную шею, кривой рот, который, несмотря ни на что, не решался кричать, бешеные глаза жертвы, которая никак не может выбрать между терпением, смирением и гневом, потому что не знает, чем может закончиться гнев. Парень на корточках жадно наводил объектив на её щёки, уши и нос, то поднося его близко, то отводя, словно обрызгивал жертву какой-то жидкостью, а другие двое отворачивались, не выпуская из рук её запястья, — они не должны были попасть в кадр.
«Уважаемые пассажиры, через несколько минут наш поезд прибудет на станцию Гамбург-Вильгельмсбург…»
Терезиус Скима ударил парня с камерой ногой в ухо — камера выпала у того из рук и с глухим стуком упала на мягкий пол. Удивлённый взгляд, обиженный вопль, обеими руками обхваченная голова — больно. Другие двое сразу отпустили жертву, но Терезиус Скима не обратил на это внимания: один из них получил от него великолепный, выверенный удар в зубы, а другой, успев закрыть лицо руками, был награждён ласковым ударом сапога по выставленному вперед колену. Терезиус Скима умел делать людям больно — боль мгновенно возвращает людей в сознание и заставляет вспоминать имена, свои и чужие.
Женщина вскочила и выбежала в коридор. Скима подобрал камеру и осмотрел поле битвы.
Ему было ясно, кто они. Молодые режиссёры конечно же. Это движение, которое начиналось как художественное, за последние годы набрало популярность: на их языке это называлось «зеркало жизни» — они нападали на прохожих, снимали на видео и отпускали своих жертв, а потом собирались на фестивальчики, где показывали снятое и раздавали призы. У них была своя философия: «адреналин ничего не стоит», «мы вёдра для свежей крови искусства», «только насилие делает нас людьми» — так звучали их лозунги, мерзкие и молодые. И самое интересное: их трудно было привлечь к ответственности, так как, во-первых, странным образом у них всегда находились отличные дорогие адвокаты, а во-вторых, жертвы зачастую сами отказывались от заявлений в полицию, когда узнавали, что из них сделают звёзд модного кино и что о них напишут лучшие издания. В конце концов, роль жертвы ничем не хуже роль мучителя: жалость всегда бродит рядом с любовью.
Теперь они все трое сидели в углу и смотрели на Скиму без особого страха, скорее с интересом и лёгким презрением. Да, им было больно, но боль воспринималась ими как часть жёсткой игры, они были готовы принимать боль и дарить её, они искренне не понимали, по какому праву Скима вмешался в творческий процесс, единственное, о чём они жалели — об этих великолепных кадрах. Фильм о насилии в старосветском поезде Intercity, на фоне подушек уютного купе, снятый впритык, так естественно, что в кадре можно было бы увидеть неподдельный ужас и настоящую боль, и, может быть, удовольствие… о, это был бы успех… а камера? Да хрен с ней. Скиму удивляло, как легко каждый из молодых режиссёров мог позволить себе дорогую аппаратуру, здесь была какая-то грязная тайна, но Скима не работал в отделе дорогих тайн, он занимался дешёвыми, неброскими, никому не нужными, такими, о которых никто никогда не напишет, — и слава богу.
Скима положил камеру на пол и аккуратно, с наслаждением, пытаясь проникнуть в самое сердце, разбил её каблуком своего высокого сапога. Потом расправился с обломками, стараясь не упустить ни одной детали. С удовольствием посмотрел на опухшее ухо одного, разбитый рот другого, судорожно прижатые к колену бледные ладони третьего… Застрахованное убожество. Он стоял над ними, как судья, — и видел по их глазам, что они не раскаиваются, а оценивают его на предмет кинематографичности.
Пустота. Какая же пустота в их зрачках. Кто они? И кто он сам? И что ему с этим всем делать?
Судья, который не может больше никого наказывать, потому что у него остывает кофе. Вот кто он такой, Терезиус Скима.
Молодые режиссёры зашевелились, заползали у его ног, они упивались своей болью и смотрели на него с возрастающим вызовом. Он сжал губы и вышел, хлопнув дверью. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из них подставил дверям пальцы.
«Я вас знаю», — сказала женщина, которую он спас. Возможно, спас от славы, от денег, от карьеры.
Она уже немного успокоилась.
«С вами всё в порядке?» — буркнул Скима.
Она кивнула.
«Пойдёмте ко мне в купе. Вы не хотите подать заявление на этих…»
«Не имеет смысла. Выкрутятся. Я читала о них, но не думала, что…»
Скима двинулся вперед. Она не могла отвести глаз от его бороды.
«Вы агент Скима. Мы знакомы, правда?»
Он вздохнул и улыбнулся:
«Дятел».
«Дятел среди ветвей, невидимый в утреннем тумане, выселяет из дерева червячков», — сказала она, коснувшись его руки.
«Вы Айсу. Горничная из отеля “Розенгартен”», — равнодушно сказал Терезиус Скима. — У которой нет для меня никакой полезной информации относительно умершего вчера ночью постояльца».
«Ого. Вы помните, как меня зовут?»
«Айсу, мы с вами познакомились вчера утром. Неужели вы думаете, что у меня настолько дырявая память, что я забываю людей через двадцать четыре часа после знакомства?»
Прозвучало с раздражением, но Айсу смотрела на него как зачарованная. Скима выпил остывший кофе. Поезд ехал по Гамбургу, сейчас уже потихоньку, осторожно, картинка из окон исчезла, теперь они видели уже настоящий город, город в реальном времени: коричневый, карминный, чёрный, он выплывал из тумана, как субмарина, и где-то далеко кричали на Эльбе корабли, и было такое ощущение, что под полом купе капает вода. Чайки, наевшись мяса, кружили над крышами, замер на железнодорожной эстакаде, пропуская Intercity, поезд городской электрички.
«Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы прибудем на станцию Гамбург-Хауптбанхоф…»
«Сейчас вы выйдете и…»
«Я еду до Альтоны», — сказал Терезиус Скима. Она пересела к нему, повертела в руках пустую чашку.
«И я тоже. Вы нашли что-то про нашего покойника?»
«Нашего?» — Терезиус Скима улыбнулся. Наш покойник. Разделить его с этой женщиной: ему — ручки, ей — ножки и рожки. Ему — ручки, карандаши, блокноты, книжки. Перо. Ей — его разбитые сапоги, в которых он прошагал сотни километров, перед тем как снять их в гостиничном номере. Навсегда.
Что тебе такое приходит в голову, Скима? Неужели это и есть оно — отравление старыми книгами? Когда слова сами складываются во внешне красивые, нарядные фразы — за которыми на самом деле ничего нет. Ничего, что помогло бы уцелеть в этом тумане.
«Я тоже еду до Альтоны, — Айсу накинула пальто. — К родителям».
«Вот как, — невнимательно бросил Скима, вновь задумавшись об умершем постояльце. — Кое-что о нём известно. Кажется, он действительно был поэтом».
«Поэтом? — Айсу рассмеялась. — Писал… стихи? Такое ещё бывает в природе?»
«Ещё как бывает, — Скима вспомнил Клауса и невольно усмехнулся. — Да. Но не просто поэтом. Последним поэтом».
«Кстати, я подумала… — Айсу коснулась его тонкой руки. — Такие, как он, часто становятся жертвами. Я имею в виду — жертвами этих молодых режиссёров. Напасть на кого-то в купе Intercity — такое случается редко, здесь нужен кураж. А вот скрутить и снять на камеру никому не нужного бродягу — это же для них просто подарок. Никто и внимания не обратит».
Скима посмотрел на неё, ему хотелось снова взяться за свою бородку — но Айсу опередила его, провела пальцем по серебристой петле, сверху вниз. Словно слегка погладила хвост неизвестного существа.
Терезиус Скима был женат трижды. Первый раз — на женщине, лицо которой он начал уже забывать. Её звали… да, её звали Мари, она была африканка, француженка, студентка, изучала в Берлине то ли орнитологию, то ли африканские щёлкающие согласные, а может, и то, и другое, и что-то третье… Они прожили вместе год — тогда Терезиус Скима выглядел совсем не так, он был длинным аутичного вида юношей, который всё время посвящал компьютерным играм, а особенно «Библии»… было когда-то такое развлечение… придуманное, когда он ещё не родился… Потом у него был Петер — много секса, мало денег, с утра до вечера они валялись в кровати и смотрели фильмы времён SuperDDR, но и старое кино тоже. Их родители не приехали на свадьбу, ни его, ни его жениха, только сестра Петера, которая напилась, потеряла кошелёк, осталась у них жить… она оказывала Скиме недвусмысленные знаки внимания, а он не знал, что делать. Сбегать от людей он тогда ещё не научился. Скима хорошо запомнил член Петера — а как не запомнишь, на его прямом члене была татуировка, человечек, который смешно и немного зловеще улыбался Скиме, когда у Петера вставал… Человечек близко, близко… А Петер всё дальше, Скима бросил его, когда тот начал накачиваться какой-то дрянью, её много развелось в Берлине в конце тридцатых. Ему не нужен был наркоман. Однажды он просто ушёл из квартиры, которую они снимали в Кройцберге, и не вернулся. Снял квартиру около Фридрихштрассе, недалеко от дома, где когда-то зависали все эти русские художники… А потом случилась Танья. Она была русская и всё рассказывала Скиме, как её совсем маленькой возили к какой-то волшебнице, живущей в лесу, на той стороне Восточной границы. Правда, тогда, в Таньином детстве, никакой границы не было, родители Таньи успели убежать в Германию ещё до того, как началась война. Иногда он просил рассказать её о своём детстве — но сам не слушал, ему уже через пару минут хотелось переключить её или убрать звук, хотелось посмотреть её другие каналы, но их не было… Только один. Одноканальная девка. У неё были волоски на подбородке. И он запрещал ей их стричь.
Какой же он был дурак тогда. Ему всё казалось, что фильм только начинается, длинный фильм его жизни, он нетерпеливо проскакивал людей, слова, знаки, события, чтобы быстрее добраться до самого главного. Чтобы понять, для чего его снимают. Для чего взяли на роль. В чём соль сценария. И вдруг он остался один.
С ним был только город, который он любил удивительной любовью кафкианского землемера.
И все эти чужие люди, которым он возвращал имена и прошлое. Хотя они его об этом не просили.
Если бы было можно, он вышел бы замуж за одного из своих голых котов или женился бы на кошке. Это не имело значения: кошка, кот… Он взял бы их в жены и мужья всех: но закон всё ещё запрещал многожёнство.
Терезиус Скима не любил вспоминать прошлое.
Они вышли вместе с Айсу в светлый туман Альтоны.
«Вас провести? Я знаю здесь все улицы…»
«Спасибо, — сказал Терезиус Скима. — Я справлюсь и сам. Думаю, книжный здесь только один».
8.
Он немного заблудился — а может, просто хотел заблудиться; ноги сами вывели его к Эльбе. Терезиус Скима стоял на высоком берегу и смотрел, как в упрямо густеющем тумане чернеют огромные кости старого порта, тянутся к небу, тревожно и печально, и была в этом какая-то пронзительная, никогда раньше не замечавшаяся им красота.
Из тумана выплыл корабль, вытолкнул свою длинную ладонь, словно умоляя, чтобы на неё посадили кого-нибудь живого. Глаз корабля светился — и вдруг обиженный рёв наполнил мутную белизну берегов: протяжный, простуженный голос, от которого в груди Скимы всё съёжилось, словно с ним только что кто-то навечно простился.
Предсмертная жалоба моря.
«Этот февраль сводит меня с ума», — подумал Скима, отыскав в тумане между цветными домами нужные ему двери. Надпись «Niemandsrose» была совсем маленькая, незаметная, зато сама роза…
роза есть роза есть роза
написано было на стене, к которой он прислонился, вся комната была завалена книгами, и не наступить на них было невозможно. Можно было лишь стоять у этой стены с бессмысленной надписью и хвататься за надпись взглядом, чтобы не упасть.
«Мы не работаем», — сказала девушка-подросток, которая появилась ниоткуда, словно соскочив с этих красных букв на пожелтевших обоях. Темнокожая тинейджерка, закутанная в одеяло. Острые белые зубы под матовым металлом брекетов придавали ей хищный вид. Не роза — но съевший розу цветок.
«Разве вы не знаете? Мы давно закрыты».
Терезиус Скима поздоровался и присел на корточки. Трудно стоять у стены и сохранять равновесие, когда к твоим ногам сбежались все книги мира, а ухватиться можно только за скользкий смысл короткой надписи на стене.
Она нахмурилась.
«Мы не продаём ни открыток, ни старого порно, ни забавных буковок на матрасе, ни винтажных голографий. Мы и раньше их не продавали. Поезжайте в Санкт-Паули, на Репербан. Мы закрылись, навсегда».
«А если я хочу купить книгу?» — спросил Терезиус Скима, думая о том, как бы поплотнее сдвинуть ноги. Всё же не совсем прилично сидеть на корточках в узкой юбке перед подростком. Особенно если ты агент ED.
«Книгу? — девушка растерялась. — Какую книгу?»
«Ну, например, Хрисонагиса… У вас есть поэзия?»
«Я не знаю такого поэта… — девушка посмотрела на него с испугом. — Он, наверное, из этих, современных… Но у нас есть, например, Пауль Целан…»
«Он часто здесь выступает?»
«Кто? Целан? — теперь она уже успокоилась и смотрела на него немножко свысока. — Ну вы даёте. Он умер в 1970-м, в Париже. Бросился в Сену с моста Мирабо».
«Как странно. Почему?»
«Он был поэтом… — сказала девочка. — Когда думаешь про поэтов, не так уж легко ответить на вопрос “почему?”»
«Это правда, — согласился Терезиус Скима. — Этот Целан… Он твой любимый поэт?»
«Может быть… — задумчиво сказала девочка. Ей явно понравился вопрос. — Но я люблю и других. Например, Имре фон Штукара. Он… он тоже давно умер, — добавила она поспешно. — Вы читали его?»
«Нет».
«Ясно… — девочка была разочарована. — Так ваш любимый поэт — этот… Хрисонагис?»
«Да нет, — быстро проговорил Терезиус Скима. — Честно говоря, я ничего не знаю о поэзии. Послушай… Как тебя зовут?»
«Мира».
«Послушай, Мира. Я агент Скима из Берлина, я работаю в отделе, который занимается идентификацией неизвестных лиц. Вчера в одном отеле умер человек, о котором никто ничего не знает. Понимаешь? И мне сказали, что в этом книжном магазине я могу найти нужные сведения. У старого Лампе».
Девочка слушала его недоверчиво, она ещё плотнее завернулась в одеяло и сейчас напоминала белое пирожное с тёмной черешенкой наверху. Надо сказать ей, чтобы запирала двери — если уж магазин и правда не работает.
«Старый Лампе — это мой отец».
«Отец? Сколько же ему лет?»
«Я родилась, когда ему было шестьдесят. А когда мне исполнилось тринадцать, он умер».
«Ясно, — Терезиус Скима не выдержал и сел на пол, раздвинув книжные завалы носком сапога. Какое облегчение. И какая незадача. — Мне жаль, Мира. Но, наверное, ты тоже могла бы мне помочь? Может, ты что-то слышала о…»
«Не спешите, агент Скима, — серьёзно сказала Мира. — Вы очень спешите и поэтому можете упустить что-нибудь важное. Вы же в книжном магазине. Да, мы закрылись, но книги всё ещё здесь. Видите? В книжном магазине нельзя спешить, нельзя делать торопливые выводы. Так научил меня отец. Это ведь не фильмы и не видеоблоги. Это — книги. Нужно иметь терпение, чтобы их прочесть. И ещё большее терпение, чтобы понять. Очень много терпения. Чтение — это работа. Возможно, даже более трудная, чем письмо».
Скима ошеломлённо выслушал эти нотации. Последний раз с ним так разговаривал Петер. Перед тем, как они расстались. Но самым интересным было то, что ему нравилось, нравилось слушать эту тёмненькую, усыпанную пухом рваного одеяла девчонку. Он послушно кивнул и вытянул ноги.
«Отец говорил мне перед смертью, что вы придёте».
«Что?» — Терезиус Скима так удивился, что схватил себя за серебряную бородку. Он совсем забыл о том, что нужно держать ноги вместе, юбка задралась, и Мира взглянула на него с жалостью.
«Отец никогда не носил юбку. Люди считали его злым, неприветливым, дурацким осколком минувшей эпохи… Но уважали».
«Ты сказала, что твой отец… Старый Лампе знал, что я приду сюда?»
«Он предупреждал. Однажды, говорил он, здесь появится кто-то, кто будет искать человека с пером и книгой. Может быть, через год, а может, через сто лет. Но это произойдёт. Так он говорил и оставил послание. Вы пришли через год. И всё-таки покажите мне перо. И книгу тоже».
Терезиус Скима положил на колени рюкзак, достал всё то, что осталось от постояльца «Розенгартена», и протянул Мире.
«Да, всё правильно. Пойдёмте вниз, отец расскажет вам всё, что нужно».
«Расскажет?»
«Это видеозапись. Он записал всё когда-то на свой старый телефон, но у меня есть специальная штука для таких случаев».
И вот они уже спускались по винтовой лестнице на цокольный этаж, в комнату, где тоже были книги: разорванные пачки и целые, не тронутые никем книжные кирпичи, журналы, газеты, стопки тонких и толстых бумажных трупов. На мгновение Терезиус Скима почему-то представил себе концлагерь.
Она усадила его на продавленный диван и протянула ему старый телефон на привязи самых разных устройств. Выключила тусклый свет, села рядом. Он чувствовал, как от неё остро пахнет подростком. Запах раскрытого подвального окна на зимней улице.
На маленьком экране появилось желтоватое лицо старого мужчины. Тот пожевал губами и язвительно уставился агенту Скиме прямо в глаза.
«Пришли… Пришли наконец-то… Я знал… Знал. Когда-то всё равно всё сойдётся. Что бы вы там ни болтали о современности и актуальности… Тех, кто пишет, никогда нельзя судить при жизни. Не знаю, рядом ли моя дочка Мира. Может, она уже давно старушка. Или вообще в могиле. Если так, то, надеюсь, она прожила счастливую жизнь. Она единственное создание, которое я любил…»
Конечно же в глазах у Миры появились слёзы. Как в старых фильмах, подумал Терезиус Скима. А может, ему просто показалось. В комнате было темно, и отсвет с экрана старого телефона бродил по их лицам. Которые были теперь одного цвета.
«Если ты рядом, Мира, то перестань реветь и запри дверь. Ты всегда забывала это делать. Там вокруг столько говна. Опасного говна. Вы даже не представляете, сколько говна было вокруг, когда я жил среди вас. От вас же невозможно было скрыться. Вы лезли во все щели… Люди, люди… Говно. Всё говно, кроме искусства и моей Миры… И ты говнюк, тот, что сидит сейчас и слушает мой бред. Ну, или говнючка. Всё это полное фуфло. Ни за что не поверю, что у вас там стало меньше говна. Бездари… Слабаки и бездари! Что кривишься? Отворачиваешься там небось? Ну, не важно… Всё равно дослушаешь то, что я расскажу. Ты ж не просто так пришёл…»
Старый Лампе закурил — что-то вонючее, с дымом таким густым, что лицо на какое-то время скрылось за его завесой. А когда дым рассеялся, Лампе смотрел в объектив уже не столько со злостью, сколько с тоской.
«Сначала вы разучились курить… Пить вино… Говорить… Слушать друг друга. Потом читать… А потом и писать… Вам уже ничего больше не интересно. Вы думаете, что знаете всё! Единственное, о чём вы думаете, это будущее. Единственное, что ещё как-то может встряхнуть ваши полудохлые души. Вы думаете, вы изменились… Верите в прогресс. В свои электронные игрушки. Убожества… Идиоты…»
Старый Лампе поперхнулся, закхекал — старческий, нечленораздельный смех. Терезиус Скима снова подумал, что он словно бы смотрит кино: столько в этом человеке на экране было актёрства.
«Слушайте, слушайте… Не хочется, а придётся… Я вам всё про вас дистрофиков расскажу. Вы же дистрофики там, ясно? У вас атрофировалось самое важное — а что, вы уже и не помните. Дистрофические человекообразные. Уверенные в своей исключительности, уверенные, что идёте правильным путем. У вас больше не осталось сомнений. Только картинки. Одни картинки. Тупые дети. Вы тащитесь по своей неинтересной жизни вслед за своими забавными картинками и думаете, что знаете всё об этом своём убогом мире…»
Он начинает мне надоедать, подумал Терезиус Скима. Ему что, и правда в голову не пришло, этому старикану, что можно просто прокрутить запись и выслушать только самое важное? Если, конечно, ему и правда есть что сказать, этому сумасшедшему зануде. А Лампе будто бы нарочно не спеша продолжал философствовать:
«Ничего не изменилось. Вам не интересно, как жили люди сто, двести лет назад, и у вас больше нет книг, чтобы прочитать и поучиться у них… Вот у меня в руках книга…»
На экране появилась толстая старая книга в коричневом переплёте. Лампе тщательно повертел её в руках, поднёс к объективу.
«Это… Это «Lebenslexikon» 1930 года. Издательство Карла Майера, Лейпциг — Вена — Цюрих… Сто двадцать лет прошло… А, как вам? А она здесь, у меня в руках. Книга для настоящих мещан, для тех, кто знал, что такое дом, свой дом… Что такое семья, кухня, гости, ритуалы… Гигиена времени — вот о чём этот томина. Как жить, что и как есть, как считать деньги, что думать, какие видеть сны. Чтобы прожить до конца с достоинством и без гордыни. Книга, которая расскажет вам, уроды, о вас самих гораздо больше, чем вы там себе придумали… Но разве у вас хватит силёнок хотя бы полистать её? Разве вам интересно то, что было вчера, сегодня, час назад, минуту назад? Вам интересно только то, что есть и что будет! Вы же ничего не знаете, ничего! Разве вы знаете… Знаете, что…»
Руки Лампе затряслись, слюна потекла на подбородок. Тяжёлая книга прыгала в его руках, как живая.
«Знаете, что… Знаете, чтобы приготовить старую куропатку… Die vorbereiteten Rebhühner werden gespickt oder mit Speckscheiben umwickelt… Ясно вам? А nachdem sie gesalzen und mit Pfeffer eingerieben sind, werden sie in eine gutgebutterte und mit Speck ausgelegte Kasserolle getan, in der man auch Zwiebel, Mohrrüben, Gewürze und so weiter gar gedämpft! Die Tunke wird durch ein Sieb gerührt, mit Mehl gebunden und mit Pfeffer und Salz abgeschmeckt!»
Старый Лампе вдруг расхохотался. Он постоянно делал паузы, как актёр, — будто затем, чтобы у Скимы было время задуматься над его бредом.
А кино между тем продолжалось.
«Да вы даже голубя приготовить не можете… — оскалил кривые зубы Лампе. — Если вам его положить убитого на стол, вас стошнит… Вы боитесь птиц. Боитесь… А карпа по-польски? А ноги кролику отсечь? Снять шкуру? Я уже не говорю о лабскаус! Выйди сейчас на улицу — где ты в Гамбурге поешь лабскаус? Еду наших портовых грузчиков? И где ты найдёшь грузчиков? Все блоггеры. Все грамотные — и никто больше не умеет писать от руки… Лабскаус… Они даже не знают, что это значит. И не хотят знать! Мелко посечённый лук поджаривается с лавровым листом, забрасываются куски жареного мяса, поперчить, хорошо поперчить… и толчёный варёный картофель… И всё это поливается жирком и солится, да ещё специи поверх… Кориандр! Кориандр… Кто из вас, придурки, знает, что такое кориандр? И что гамбургская еда называется лабскаус? Кто из вас помнит вкус холодной свёклы с ржавой тёрки и горячей, политой жиром картошки? Максимум, на что вы способны, это промямлить: пю-ю-юре-ээ… Пю-ре-эээ…»
Терезиус Скима тайком глянул на Миру — но она, не отрываясь, смотрела на лицо отца, зелёное от желчи, жёлтое от злости.
«И кто из вас… — Лампе тяжело вздохнул, и вдруг лицо его стало таким печальным, словно он знал что-то, что им, его зрителям, уже никогда было не познать. — Кто из вас может сказать, откуда вот это… чудесное…»
И старик, прищурившись, продекламировал неожиданно ясным, глубоким голосом, совсем как те давно умершие радиожурналисты:
«Мистер Леопольд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с орехами, жареное фаршированное сердце, печёнку, поджаренную ломтиками в сухарях, жареные наважьи молоки…» — здесь Лампе счастливо улыбнулся и продолжал уже снова будто издеваясь:
«Всего же больше любил он бараньи почки на углях, которые оставляли во рту тонкий привкус с отдалённым ароматом мочи…»
Терезиуса Скиму передёрнуло. В глотке вырос комок, судорожно рванулся, чуть ли не вылез наружу — Терезиус Скима усилием воли загнал его обратно и проглотил слюну. Сейчас всё вокруг пахло мочой. Даже от Миры шёл этот запах — запах немытой девочки, smells like teen spirit, ему хотелось наверх, на улицу, хватануть ветра с Эльбы, втянуть в себя беспокойное дыхание города и, может быть, даже постоять рядом с каким-либо нищим, который курит дешёвую папиросу. Только так, только так.
«Джойс», — прошептала Мира, а старик бормотал всё новые и новые цитаты.
«Что ты сказала?»
«Это Джойс», — она повернулась к нему удивлённо и возмущённо. Будто разоблачила его только что. Поняла, что он не умеет читать.
Терезиус Скима многозначительно хмыкнул. Он никогда не думал, что слова способны на такое. Несколько слов, прожёванных язвительным стариком, — и тёмная комната наполнилась запахами, звуками, звоном. Это было невероятно — и всё же было правдой. Волшебство. Но Терезиус Скима точно знал, что чудес на свете не бывает.
«…Никто из вас не знает, о чём я говорю… — презрительно жевал свой зелёный отравленный язык старый Лампе. — А он — знал. Однажды он просто пришёл ко мне в магазин, со старым рюкзаком, начал листать книжки — и остался. Я не смог его выгнать…»
Борясь с комом в горле, Терезиус Скима наставил уши. Мяу.
«Я платил ему двадцать пять марок в месяц. Он сидел тут и продавал старые открытки, порножурналы и всякую ерунду. Если, конечно, кто-нибудь сюда заходил — а такое случалось всё реже и реже. Настоящие любители старья вымерли, а туристы… Им даже полмарки за книгу отдать лень. Зачем им вообще книги? Когда в этом долбаном мире столько всего бесплатного и забавного. И вот он сидел здесь, под моими розами, и читал книги. Листал, и всё нашёптывал что-то, будто песок пересыпал — горку за горкой, горку за горкой. Я и сам мог сидеть на кассе, я любил мою работу, мне если и нужен был помощник, то разве что вести всю эту бесконечную блядскую переписку с налоговой и её гончими… Но я позволил ему сидеть там, под розами. Сидеть и работать. Было в нём что-то такое…»
Старик опустил глаза. Верный признак того, что сейчас он начнет врать. Ложь во имя какой-то не понятной никому, кроме него, святыни. Как же легко выдают себя люди, когда начинают лгать во имя добра, подумал Терезиус Скима — и ошибся.
«Больше всего он боялся умереть один в дешёвом отеле… — мрачно сказал Лампе. — Была у него такая фобия. У каждого есть своя фобия. Я вот всю жизнь боялся котов. Хер его знает почему. А он боялся умереть в каком-нибудь занюханном отеле в полном одиночестве. Я говорил ему: эй, парень, ты ещё молодой, какая на хрен смерть? Пока она к тебе придёт, отелей уже не останется. Вместо них будут гробы с кнопками: сдавай чемоданы, ложись и подыхай. До утра. А утром просыпаешься и платишь за восстание из мёртвых. Всё включено. Глупая шутка, а? Как вообще могут люди, которые не читают книг, знать, что такое смерть?..»
Старый Лампе с ненавистью взглянул на Скиму:
«Tod ist ein Meister aus Deutschland…»
Он упёрся своими сумасшедшими глазами в агента и вдруг расхохотался.
«Weltmeister aus Deutschland!»
Отсмеяв порцию желтой слюны, он сплюнул и вытер дрожащей рукой широкий, словно взрезанный по краям рот.
«А однажды я заметил, как он пишет, мой помощник. Пишет как ненормальный, от руки, в блокноте. Что ты там пишешь, сынок? Стихи. Стихи? Почитай. Я послушал… Я ничего не понял, это были стихи на каком-то другом языке, может, русском, а может, и нет. Мой прадед знал русский… Я давно говорил, что когда-нибудь они снова построят стену. Русские любят стены… Русские… Русские написали такие книги, в которых есть всё… Всё, вашу мать. Двести лет назад написали — и вот наконец все их большие писатели подохли. Все!»
Скима старался не отводить взгляд. Старался не забывать, что никакого Лампе на самом деле нет. И при этом — не упускать ни слова.
«Никто не хочет знать о себе всё… — задумчиво сказал Лампе и отхлебнул из бутылки. — Интересно, кто ты там, в живых? Мужик или баба? А, насрать. Всё равно в бабьей одежде… Эта мода пришла надолго…»
Из бутылки?
И правда, в руках старого Лампе появилась бутылка какого-то алкоголя. Ром? Терезиус Скима аж привстал от удивления — ему показалось, что это та самая бутылка. Та самая — и всё же не та. Он не видел мулатку. Старик держал бутылку этикеткой к себе. Словно нарочно дразнил живых — идите, мол, сюда, летите через Лету, лёгкие бабочки, летите и посмотрите сами. Ну же!
Заросший седыми волосками кадык снова вздрогнул, Терезиус Скима почувствовал вонь алкоголя. Это и правда было какое-то чудо — но Скима, глаза которого уже болели от напряжения, на самом деле почувствовал этот густой аромат, словно сидел сейчас в одной из старых берлинских кнайп, среди алкашей и лузеров со всего мира.
«Я сразу почувствовал, что это что-то настоящее, — сказал Лампе с вызовом. — Его стихи. Хотя я и не понимал в них ни слова. Клянусь моими гнилыми зубами, я сразу понял, с кем имею дело. С поэтом. Я говорю это — и мне не стыдно. Поэт. Поэт! Получите, вы, живые! У меня в магазине работал поэт! Я сказал ему: пацан, мы устроим тебе вечер у нас в “Розе”. Разослал объявления, расклеил повсюду: от Альтоны и Шанце до Федделя и Вильгельмсбурга. Никто не пришёл. Только я да он. Он только улыбнулся. Как же славно мы набухались в тот вечер! Я, он и моя Матумби. Жаль, что она от меня потом ушла. Но она правильно сделала — у неё аллергия на книги и неудачников. А мы и были теми, от чего у неё начинались чесотка и астма: книжниками, неудачниками и пьяницами… Последними на этой планете. Так мне казалось…»
Лампе снова сплюнул.
«После того вечера я написал нашим бездарям, этим истеричкам, которые зовут себя поэтами. Киму и другим. Всё, написал я им, баста, читайте и продавайте своё дерьмо где угодно, но только не здесь. Здесь будет место для настоящего. Для того, что никто не сможет прочитать. А ему, своему поэту, мной открытому поэту, я сказал: когда-нибудь они всё равно придут к тебе. Сюда, в «Niemandsrose». Может, через сто лет, а может, завтра. Какая разница. Придут, чтобы отыскать тебя, парень. Но будет уже слишком поздно. Они всегда приходят слишком поздно, чтобы отыскать тебя и спросить, кто ты на самом деле такой…»
Лампе свесил голову набок. Стеклянный взгляд не говорил больше ничего. Он был пьян — или это Терезиус Скима захмелел от бесконечного потока слов, под который ему так нравилось подставлять голову?
Скима вдруг вообразил себе, что он никуда отсюда уже не выйдет. Так и останется в этом забытом богом и людьми, никому не нужном книжном магазине. И каждый день будет читать надпись на стене: роза есть роза есть роза. И так и не постигнет смысл этих глупых и зловещих слов.
Найдётся ли кто-нибудь, кто будет его искать? И придёт ли кому-то в голову искать его именно здесь?
«У него была книжка, — сказал вдруг Лампе абсолютно трезвым голосом. — Холера на вас, я перевёл бы её, если б только мог. Да, у него была при себе книжка. Откуда? Он сказал только, что её напечатали в Праге. Там печатают книги? — спросил я. — Там есть такой дом, куда, если тебе плохо, можно прийти переночевать. Можно поесть суп и издать книжку. Один экземпляр. Этот дом основала какая-то сумасшедшая, — пояснил он неохотно. — Ты приехал из Праги? — спросил я, хотя знал, что он не любит об этом говорить. — Нет, — ответил он и снова сказал эту свою загадочную фразу… Он часто её повторял. “О том, откуда я взялся, написано в одной сказке. Сказка в утробе книжной горы, гора в старом книжном магазине, книжный магазин внутри времени, время внутри нас самих”. Вот же скотина… Загадочная, милая скотина, которая однажды повстречалась со мной, взяла и повстречалась, хоть я был просто книжный червяк, не больше… Продавец старья…»
Лампе засмеялся.
«Он так и не сказал мне, как его зовут. А я не такой мудак, чтобы спрашивать у поэтов документы. А ещё у него было перо. Старое перо — то ли куриное, то ли гусиное. Просто перо. Pinna… Я не спрашивал его, зачем ему перо. Я не такой урод, чтобы спрашивать у людей, зачем им перья. Нет, пером он не писал — но всегда проверял, на месте ли это его пёрышко. Каждый из нас сходит с ума по-своему, у каждого свои фобии и своя страсть. По-моему, в его жизни главным было именно это: стихи, старое перо и ужас перед одиночеством в дешёвом отеле. Он мог целыми днями никуда не выходить, сидеть тут, читать и писать… О, мне это нравилось. Это была моя стипендия для него, Writer-in-Residence и Writer-in-Exile, стипендия, которую я дал тому, кому хочу… Моё дело, мой выбор. Стипендия для последнего поэта, стипендия старого пьяницы Лампе…»
Старик закашлялся.
«Я помог ему, а он мне. Мне было хорошо с ним. И если бы Матумби и правда любила его, то… а-а-а… Чёрт с ним. Пусть! Пусть бы они спали, я ничего не имел против. Но однажды он просто ушёл. Ничего никому не сказав. Вот свинья. Больше я его не видел. И всё закончилось. Но я знал, что когда-нибудь его будут искать. И вот всё думаю: когда он ушёл… Как он умер? Неужели и правда это был дешёвый отель и убогое одиночество?.. Или всё-таки?.. Эй вы там, среди живых, те, кто слушает меня, — к нему пришла слава? Пришла или нет? Я вас спрашиваю!»
«Нет», — сказал Терезиус Скима.
Мира взглянула на него с таким осуждением, что он улыбнулся.
Последние слова утомили Лампе, теперь он просто шумно дышал и смотрел куда-то мимо объектива. Терезиус Скима почувствовал, что кино сейчас наконец закончится. Мира неподвижно сидела рядом, подперев кулаками подбородок, одеяло сползло на пол, он потянулся, чтобы поднять — и чуть всё не испортил.
«Молчи», — замахнулась она на него.
Ведь это был ещё не конец фильма.
«Они… — старый Лампе посмотрел на них, и его голубые глаза пропитого викинга засветились какой-то неприличной молодостью. — Земля была в них, и они рыли. Они рыли и рыли. На это шёл их день, их ночь. И они не славили Бога, который, как они слышали, всё это замыслил, который, как они слышали, всё это провидел. Они рыли и дальше не слушали; и они не стали мудрей, не сложили песен, не придумали для себя никаких языков.
Они рыли. И штиль навещал их, и вал штормовой, и — все — их моря навестили. Я рою, ты роешь, вон и червь дождевой тоже роет. Вот песнь: они рыли. О некий, о всякий, о ты, никакой! Где теперь то, что шло на нигдейность? О, ты роешь, я рою; я рою к тебе, за тобой, и наш перстень на пальце не спит, как младенец…»
«Что это значило?» — осторожно спросил Скима.
«Это значило, что вам нужно научиться молчать, — сердито проговорила Мира и поднялась. — Целан! Но что вам Целан… Я могу отослать вам это видео, если хотите».
«Думаю, я выучил монолог твоего отца наизусть. — Скима тоже поднялся с дивана. — Скажи… Ты тоже пишешь стихи? Хочешь быть… поэтессой?»
«Я? — Она будто задохнулась этим своим «я». — Я? Нет. Что вы. Я учусь. И буду дизайнером одежды. Поэтессой… Поэтом можно быть только тайком. Настоящие поэты невидимы. Так что не ждите правды, если хотите её знать».
«Ты говоришь совсем как твой отец».
«Мой отец? — голос Миры зазвучал в такт стальным ступеням. Они поднимались в книжный магазин — и перед лицом Скимы мелькали складки её пёстрой юбки. — Мой. Отец. Сделал. Всё. Чтобы моя жизнь было как можно более тяжёлой. Он оставил мне только свою “Розу”. Потратил всё на какого-то поэта, которого я даже не могу прочитать. А тот бросил его и ушёл. Не ищите романтики там, где всего лишь холод и грязь. Прощайте, агент Скима. У меня столько работы. Надо это всё куда-то подевать. Сжечь… Вы же не собираетесь здесь оставаться, правда?»
«А твоя мать?»
«Она вышла замуж и уехала в Мюнхен. Так что эти книги придётся жечь мне. Живьём».
Терезиус Скима вздрогнул и потянул носом воздух, в котором, казалось, уже чувствовался дым.
«Почему сразу жечь? Кажется, книги уже давно не жгут. Их перерабатывают…»
«Они заслужили кремацию, — серьёзно сказала Мира. — Разве вы ещё не поняли, агент, что речь на самом деле идёт о чём-то большем, чем просто старая бумага?»
Терезиус Скима взялся за ручку двери и кивнул. Она вдруг стала ему такой неприятной, эта чёрная девочка с мрачными усталыми глазами, что хотелось забыть её как можно быстрее. Он подумал про ром, которым утешал себя постоялец в свою последнюю ночь. Неужели ему и правда было от этого легче? Неужели и правда это помогает — оглушить самого себя? Может, он тоже пытался кого-то забыть? Терезиус Скима представил себе алкогольное опьянение — когда-то давно он иногда пил вино и пиво, с первой женой, с Петером. Это было так бессмысленно. Как пить воду из моря, погрузив в него свою голову.
И такой же отвратительный вкус.
На улице его наконец стошнило.
Он взял себе двойной эспрессо, сел на лавочке над Эльбой, с наслаждением ощущая, как кофе вылизывает ему полный грязной кислоты рот, и вызвал по телефону Айсу.
«Ты же собираешься завтра утром обратно в Берлин?» — спросил он её вечером в «Алекс», старом ресторане на берегу Альстер. Спросил, невнимательно наблюдая, как она грызла куриную кость, и зная, что она ждёт от него совсем других слов.
«Подожди… — она вытерла пальцы. — Дай я угадаю, какое слово главное. Завтра? Нет… Утром? Нет… Ты? Опять нет. Видно, ты просто хочешь меня о чём-то попросить. Тогда так и скажи».
«Покорми моих котов. Я дам тебе ключ».
«Это звучит как стихотворение, — улыбнулась она. — Покорми моих котов… Я думаю, его мог бы написать этот наш покойник… Покорми моих котов, я дам тебе ключ. Может, и ты тоже — поэт, а, агент Скима?»
Он и правда всё ей рассказал. Ему нужно было рассказать — чтобы вся информация в голове разложилась по своим полочкам и ни одна мелочь не завалилась в какую-нибудь щель, которыми так богат человеческий мозг. Он рассказал ей о книжном и о Мире, о болтовне старого Лампе, не должен был, но рассказал — будто от руки записал всё, что услышал за последние дни. Записал и нарисовал схему.
«Вот ключи».
Её холодные руки напомнили ему утро в «Розенгартене». Деловитый стук дятла, мерзкие голоса живых и голые подошвы поэта, который боялся только одного —
такого вот конца.
9.
Визу он получил в тот же вечер — телефон громко щёлкнул языком, и вот уже агент Скима, мужчина, тридцати пяти лет, трижды женатый, а теперь разведённый, среднеобеспеченный, беспартийный, в связях с российской разведкой не замечен, обитатель просторной студии в Шпандау, владелец трёх голых котов и кошек, пары таких же голых рук и пары чисто выбритых ног, имел полное право посетить Чешскую республику.
Он плохо спал этой ночью — под окнами маленькой комнаты гостиницы «Розенхоф» в Санкт-Георге всю ночь кто-то молился своим богам; он ворочался в постели и даже попытался присоединиться к этой молитве, чтобы стать частью ночи — и наконец заснуть. Не вышло. Тогда он нашёл в сети подборку фильмов молодых режиссёров и начал смотреть их один за другим: трёх-, четырёх-, пятиминутные фильмы, полные насилия и ругани, тупой покорности и какой-то первобытной радости: словно невидимое существо громко стучало камнем о камень и тихо смеялось от удовольствия. Он ненавидел этих молодых режиссёров, он запретил бы всё это, если бы мог — но он был бессилен; ещё один суд ограничился штрафом, ещё один фильм гуляет по сети, анонимный и безнаказанный. Никого, кто напомнил бы ему умершего постояльца, в кадрах он не заметил. Под утро Скима наконец-то провалился в сон, под беззвучные крики очередной жертвы, — он не помнил, что ему приснилось, только одно вспомнилось вдруг, когда он шагал на вокзал: что во сне он был судьёй и с наслаждением произносил странные слова, приговор на неизвестном языке. Слова, которые на этих предрассветных, гулких сизо-рыжих улицах он уже не смог бы повторить — и, наверное, не сможет никогда.
В поезде, который после Берлина постепенно начал замедлять свой дьявольский стремительный ход, он вновь задумался о монологе Лампе, о тех его словах, которые относились к умершему поэту. Например, поэт почему-то не захотел признаваться откуда он. И по-видимому, у него были на это серьёзные причины.
«Об этом написано в одной старой книге…» — так ответил тогда старику неизвестно с какой луны сброшенный поэт. Ничего не скажешь, дурацкий ответ. Пафосный до тошноты. Конечно, он имел в виду свою собственную книжку. Там, в книжке, должна была быть правда, там должен был быть ответ на все вопросы. И всё же: разве могут стихи говорить правду? Возможно, это был намёк на какую-то другую книгу — в герое которой постоялец «Розенгартена» почувствовал некое родство с самим собой. Которая заключала в себе сюжет его жизни. А может, это была книга о нём, написанная кем-то другим? Книга… Когда-то даже паспорт можно было назвать книгой. Бумажной книгой, которую автор, государство, продаёт своим подданным за небольшие деньги. Принудительно. Принудительная поэзия полицейских чиновников. Он тоже был одним из них, он, Терезиус Скима, человек, на которого все оглядывались, проходя по вагону. Оглядывались, потому что в его руках лежал труп. Труп старой книги. Непогребённый, беспокойный и непонятный.
На каком же языке всё это написано? Терезиус Скима открывал всё новые и новые страницы, рассказывающие ему, дураку, своим снисходительно-сухим языком, что в Новом Российском Райхе люди болтали некогда не только по-русски, но и на странных малых наречиях, которыми эти бедолаги, меньшинства, очень гордились. Терезиус Скима никак не мог понять почему. Откуда у них была эта гордость за своё, за малое, за никому, кроме учёных, не нужное, когда над ними уже давно висела тень будущего тоталитарного проклятия? И в это ужасное время они думали про свои ничтожные диалекты? Вместо того, чтобы бежать, кричать, бороться?
Вместо того, чтобы копать ямы. Рыть себе подземные убежища. Уйти под землю. Спастись.
Все эти мысли снова привели его к Стене.
Он никогда не бывал там, видел только снимки. Снимки и видео. Стена. Там, за ней, тоже есть жизнь. Там любят, убивают, жрут, предают, там копают ямы. Копают.
Они копают.
Там есть свои бездарные поэты и свои книжные черви — сидят себе за колючей проволокой кривых и опрокинутых кириллических букв и думают, что они пуп земли. Там тоже есть отели — дешёвые и неуютные гробы. Там есть свои агенты — люди с непроизносимыми именами, пытающиеся выяснить такие же непроизносимые имена никому не нужных покойников. Там Россия. Ад. Империя Ужаса и Крови. Страна Дикого Крика.
Он бежал оттуда, этот его счастливый несчастный клиент. Это было ясно как день. Он бежал, забрав с собой свой язык. Куда ты ведёшь меня, покойник из «Розенгартена»? Какие ещё тайны ты припас для меня?
Ещё когда поезд только тронулся с места на Альтонском вокзале, Скима получил ответ на свой запрос относительно приюта для писателей, о котором говорил Лампе. Действительно, в Праге существовало что-то вроде клуба, хозяйкой которого значилось некая Петра Божикова, — а на самом деле это был книжный магазин… снова книжный магазин, опять кучи бумаги на полу, снова загадочные разговоры и сумасшедшие хозяева, которые сидят на кучах умерших книг и не знают, что с ними делать… кажется, Скима уже понял, как с ними себя вести, этими невероятно чванливыми личностями, говорящими на любую тему так, словно читают вслух целые абзацы. Книжный магазин Петры Божиковой обещал голодным любителям литературы стол и сон. Насколько Терезиус Скима мог понять, туда ехали со всей Европы — если, конечно, могли получить чешскую визу, что было не очень-то легко для человека с низким доходом, бродяги и тунеядца. Даже он с трудом добился, чтобы ему дали адрес приюта. Больше никакой информации не было — сайт клуба Петры Божиковой уже несколько лет не обновлялся. А сама Петра притворялась мёртвой — все попытки связаться с ней были напрасными. Она просто игнорировала Скиму — если это и правда была она.
Смешно, конечно, думал Терезиус Скима, кладя в рот первый кусочек горячей резиновой сосиски с соусом карри. Когда он только устраивался работать в ED, ему казалось, что это будет работа за компьютером. Ему казалось, что люди его эпохи связаны таким количеством виртуальных контактов, что даже если бы кто-то захотел, то не мог бы из них выпутаться. В мире, где жил Терезиус Скима, просто невозможно было потеряться или скрыться. Он был уверен, что ему придётся идентифицировать исключительно виртуальные следы.
И вот что мы имеем: голые жёлтые подошвы, старые книги, бессмысленное перо, запахи и крики, смрад и запустение разорванной на нелогичные лоскуты реальности. И этот искусственно озонированный вагон поезда Intercity, который — что у нас там? — ага, который как раз проезжает Дрезден.
И пражанка Петра. Которую нужно найти и которая, скорее всего, не говорит ни на одном языке, кроме своего, жучьего, то жаркого, то такого жалобно-живого, обросшего дьявольской диакритикой, такого ужасного и такого неизбежного для берлинского уха.
До границы оставалось полчаса. Терезиус Скима снял сапоги и пошевелил пальцами ног. Какая-то девушка, которая шла по вагону, хватаясь за спинки кресел так крепко, будто их поезд и вправду трясло, уставилась на его колготки — он скосил глаза и улыбнулся: так и есть, по ткани пошла стрелка.
Он со вздохом достал российскую книжку про Нильса и открыл планшет — нашёл немецкий перевод и углубился в чтение. Но читалось тяжело — его постоянно что-то отвлекало: мужчина, который сидел напротив и тайком разглядывал Скиму, без особой приязни, но с интересом. Будто шпионил. Или парочка уснувших подростков, взявшихся за руки: у одного из полуоткрытого рта полезла тягучая слюна, потекла по розовому подбородку, капнет — не капнет, капнет — кап… Нет? Или эта неизвестно откуда возникшая муха, которая, видно, давно уже курсировала между Гамбургом и Прагой, бессонная муха бесконечного февраля, уставшая от быстроты поезда, муха, вобравшая в себя всю его скорость…
Терезиус Скима наткнулся на слово «книга» и задумался.
В тексте о Нильсе оно встречалось восемь раз.
«Правда, смотрел он не столько в книгу, сколько в окно».
Совсем как он, Скима, пассажир этого Intercity, мимо которого бегут искусственно замедленные пейзажи.
«Он с огорчением отвернулся от окна и уставился в книгу».
Вот как.
Книга лежит на столе Нильса, и именно на книгу ложится Нильс своим упругим мальчишеским животом.
«Снова нужно садиться за книгу».
«Нильс сел на книгу и горько заплакал».
Это когда он уже совсем маленьким стал. Очарованный мальчик-лилипут.
«Такой богатой одежды Нильс никогда не видел, разве что в дедовой книге, которую мать давала ему рассматривать только в воскресенья».
И вот последнее, самое интересное:
«Из каких только стран сюда не попадали книги, в кожаных и вырезанных из дерева переплётах, с застёжками и без!»
Терезиус Скима перечитал это предложение ещё раз.
И ещё.
Он сразу же вспомнил книжные магазины, в которых ему довелось побывать за последние дни. «Из каких только стран…»
А и правда, из каких? Из каких только стран не приезжали в Германию люди, чтобы писать здесь стихи. Из каких только стран не прилетали…
Вот и умерший постоялец из «Розенгартена» тоже — приехал. Прилетел. С его книжкой и пером. Гусиным пером. Прилетел на гусином пере…
Терезиус Скима тихо рассмеялся и погладил свою бородку. Чушь какая-то. Гуси, люди, книги. Курятники, империи, книжные магазины. И он, агент ED, шагает по этому загадочному, ирреальному миру, наклоняется, старается не наступить, сдерживается, присматривается, думает, едет, смотрит в окно. Чёрт. Куда же его несёт эта история?
Пейзаж за окном — настоящий и фальшивый одновременно — начал между тем потихоньку меняться. Мелькнула Пирна. Незаметно на экране окна выросли горы, постепенно, словно вышли на шум поезда. Вот и Эльба, на ходу меняя своё ненадёжное имя (у всех рек такие текучие имена…), блеснула слева холодным светом. Старые дома изменили цвет — словно поезд попал в другую пору года. Поезд замер, колыхнулся кофе, проснулись подростки — и расцепили руки. Вагон, словно прислушиваясь к чему-то, постоял и снова тронулся с места. Чешские вывески на серо-жёлтых каменных зданиях объявили, что ехать осталось совсем недолго.
Кто там писал в пору юности твоей, Скима, что железная дорога вымрет к середине века?
В Течене, который чехи называли Дечином, Intercity остановился. Терезиус Скима вполуха выслушал короткую, адаптированную под любопытных туристов лекцию о выселенных отсюда более ста лет назад судетских немцах. Чёрно-белые картинки к пассажирам были милостивы — пробежали мгновенно и исчезли как ни в чём не бывало. «Декрет Бенеша, декрет Бенеша…» Потом была минутка ностальгии: пассажирам рассказали о составах «Виндобоны» и «Хунгарии», почти доисторических уже поездах, весело стучавших когда-то между столицами, согревавших людей в холодную войну, и каждый останавливался здесь, на границе…
Большой доброжелательный пёс ткнулся в ноги Скиме — ему было приятно почувствовать на пальцах прикосновение его рыжей шерсти. По вагону прошла чешская пограничная стража, оставляя после себя одинаковый для всех стран запах униформы.
«Книги?» —
удивлённо спросил молодой чешский пограничник, одним элегантным движением пальца проверив его визу.
«Да», — кивнул Скима. Пограничник пожелал ему хорошей дороги на своём певучем немецком и лениво двинулся дальше.
«Книги?» — а это была уже таможенница, полногрудая блондинка, красивая, как все славянки.
«Красивая, как все славянки, — подумал Скима. — Нет, это не мои слова. Но я их подумал. Только что их подумал, будто кто-то нашептал мне их на ухо».
«Да, — он повернулся к ней. — Это запрещено?»
«Нет, что вы, — улыбнулась она. — Просто… Они по-русски?»
«Да, это русские сказки».
«Русские сказки… Это звучит зловеще», — рассмеялась она, словно исполнив со Скимой дуэтом шуточную песню в один микрофон.
Каменные лица пассажиров. Они изо всех сил старались не смотреть на Скиму — и всё же смотрели. Пёс лизнул его в большой палец ноги, и таможенница, колыхнув грудью, двинулась дальше.
И вот поезд снова набрал ход, экраны на окнах растаяли, теперь всё было в ладу со временем — и Скима с интересом смотрел, как чужая страна с провинциальной серьёзностью пытается упорядочить свой день. Прошёл час, выпился ещё один кофе, Терезиус Скима недоверчиво взглянул на дно чашечки — а они уже подъезжали к Праге.
«Вы, я видел, интересуетесь старыми книгами?»
Тот самый шпион, который всё поглядывал на Скиму, наконец раскрыл рот. Терезиус Скима неохотно повернулся и кивнул.
«Впервые в Праге?»
Было видно, что этот человек чех, но долго прожил среди немцев, его выдавал только мягкий акцент.
«Да».
«Тогда держитесь подальше от центра. За сто лет ничего не изменилось. Туристы, дороговизна, суета… Езжайте на Жижков. Или вы по делу?»
«По делу».
«Прага… — шпион вздохнул. — Город, построенный из старых книг. Он таким и остался. На удивление. Знаете… У меня есть вот такая подушка… Чтобы шее было не жёстко… в путешествиях. И я сделал на ней вот такую надпись. Это слова одного старого… старого писателя, который давно умер. Фулмерфолд. Так его, кажется, звали. Нет, я не читал этого Фулмэрфолда… или Фулмерфорда? Я не люблю литературу. Но эти буковки — они о Праге. Поэтому я сделал принт на подушку. Вот, читайте. Это по-немецки, не бойтесь…»
Одним глазом цепляясь за пражские холмы, Скима равнодушно прочитал надпись на подушке:
«Облокотясь на узловатые перила, я увидѣлъ внизу обёрнутую легкой поволокой Прагу, мреющия крыши, дымящия трубы, дворъ казармы, крохотную бѣлую лошадь. Единственной красотой ландшафта былъ вдали, на пригоркѣ, окружённый голубизной неба круглый, румяный газоёмъ, похожий на исполинский футбольный мячъ. Поодаль, около терновыхъ кустовъ, лежалъ навзничь, раскинувъ ноги, съ картузомъ на лицѣ, человѣкъ. Я прошёлъ было мимо, но что-то въ его позѣ странно привлекло моё внимание, — эта подчёркнутая неподвижность, мёртвая раздвинутость колѣн, деревянность полусогнутой руки. Онъ былъ въ обшарпанныхъ плисовыхъ штанахъ и тёмномъ пиджачкѣ.
“Глупости, — сказалъ я себѣ, — онъ спитъ, онъ просто спитъ”».
…
«Ну и что? — спросил Терезиус Скима. — Просто отрывок из старой книги».
«Ничего, — сказал тот, с видом разоблачённого шпиона. — Фулмерфолд. Английские сказки, наверное. Вы не читали?»
«Нет», — сказал Терезиус Скима и натянул сапоги. День был вовсе не голубой. Серый и длинный день в незнакомом старом городе, где Терезиуса Скиму ждали всё новые и новые старые книги.
На Поржичи, дом семь. Так — и всё же, конечно, не совсем так звучал адрес, который он назвал бородатой таксистке, но та сразу же поняла, и машина начала судорожными движениями пробираться по узким улицам, чуть ли не каждую минуту нетерпеливо притормаживая, чтобы не опередить этот день, который всё разворачивался на коленях города, словно сложенная вчетверо хрустящая, скользкая карта. Наконец он расплатился и вышел на пражский морозец. Постоял перед дверью, на которой не было ничего, кроме бумажных скальпов древних стикеров, и решительно толкнул их — словно они были виноваты в том, что он оказался здесь, с онемевшими пальцами ног и полным рюкзаком удивительных вещей.
Странствующий торговец Скима.
Коммивояжёр Терезиус С.
10.
И снова на него смотрели книги. Изо всех углов, неодобрительно и недоверчиво — а посередине переливался неживым пламенем электрический камин и показывал всем своим видом, что он здесь ни при чём, что ни в чём не виноват, что ничего-то он не умеет: даже жрать бумажную книжную плоть.
В комнате сидело несколько молодых людей — не оглянувшись на Скиму, они продолжали читать, склонив какие-то непропорционально большие, круглые головы, и шевелили губами. Один из них вытянул к камину ноги в грубых шерстяных носках.
Терезиус Скима поздоровался и откашлялся.
«Я ищу Петру, — сказал он по-немецки и повторил то же самое по-английски. — Петра. Она здесь?»
Хотя было ясно, что никакой Петры в комнате нет. Только эти ребята и бледный электрический огонь.
Скима вспомнил, как он впервые попал в один из берлинских отелей. Давно… Там, в номере, где он спал, на стене висел монитор, а на нём изображение дрожащего огня, осторожно лизавшего языками экран. Обманчивая теплота — и всё же её хватало, чтобы согреться. Просто картинка — а ты уже инстинктивно придвигал к огню руки. Когда это было? В 33-м?..
«Петра, — вдруг сказал один из парней, не поднимая голову. — Петра — это дух, она везде и нигде. Петра уже в тебе, чужеземец. Нащупай её под своим несчастным сердцем».
«Брось, Кинч, не морочь голову человеку, — откликнулся другой юноша, заросший бородой по самые глаза. Глаза, которые он наконец поднял от книги, — они были красные и опухшие, словно он не спал уже несколько дней. Он назвал адрес и снова опустил взгляд на страницу. — Отправляйся туда. Если, конечно, ты готов к тому, что тебя пошлют куда подальше».
«Матушка Петра… — проговорил тот, что вытянул ноги к огню. — У неё уже есть три сына, Росинант не выдержит четверых».
«Боливар», — с досадой поправил бородатый.
«Да, я знаю эту песню», — сказал Терезиус Скима, вспомнив клип начала сороковых.
«Песню?.. — теперь уже все трое подняли на него свои тяжёлые головы и чуть ли не хором фыркнули. — Да этим словам лет сто, а может, и больше!»
«Фильму немного меньше», — уточнил парень в шерстяных носках.
«Всё с тобой ясно, к Петре ты можешь даже не приближаться, она и говорить с тобой не станет».
«Я ищу не только Петру, — терпеливо сказал Скима. — Собственно говоря, меня интересует человек с пером и книгой. Говорят, он жил здесь когда-то».
«С пером?»
Они задумались, будто слышали это слово впервые.
«Да. С гусиным пером. Может, кто-нибудь из вас его видел?»
«Мы здесь недавно, — неохотно сказал бородатый. — Здесь много народу шляется… Нет, перьями вроде никто не увлекался… А ты из полиции?»
«Не народ для правительства, а правительство для народа», — тонким голосом произнесли Шерстяные Носки.
Но Терезиус Скима уже закрывал за собой дверь. Ноги немного отогрелись — и Прага не выглядела теперь такой чужой и непонятной. Повинуясь синей стрелке, он быстрым шагом прошёл по морозным сумеркам улиц и наконец уткнулся в железную решётку, за которой сидела старая женщина с татуированным лицом. Было такое ощущение, что она сидит здесь целую вечность, и когда впервые её взяли сюда на подработку, она была ещё девушкой, в голове у которой гулял ветер…
Он получил специальный жетон с чипом и спустился вниз. Просторное подземное помещение с множеством неожиданных переулков, тёмных ниш, заставленных странными ящиками и занавешенных красноватыми тенями залов… Повсюду здесь бродили зловещие отсветы невидимых фонарей, и это придавало месту довольно-таки дьявольский вид. Как же на самом деле называлось это учреждение… Что-то дикое. Вззз… Зрк… Невыносимый язык.
В баре он взял себе какой-то горячий малиновый напиток в странной банке — в такие же наливали и пиво… Банка приятно легла в подушечки окоченевших пальцев.
«Я ищу Петру, — сказал он. — Мне сказали, что она здесь».
«Сказали? — пожала плечами девушка за стойкой. — О нас сейчас много чего говорят и пишут. Этот дом собираются сносить. Подпишете петицию?»
«Я иностранец».
«Какая разница?»
Скима достал телефон, ткнул пальцем куда надо. Девушка кивнула и отвернулась. Он отхлебнул из банки и пошёл через подвальные лабиринты, то и дело натыкаясь на подозрительного вида компании в коротких платьях и военных сапогах, в карнавальных костюмах и даже в куртках из натуральной кожи… Увидев Скиму, они отводили глаза — он чувствовал себя здесь не просто чужим, а нежданным гостем, и более того — жертвой какого-то заговора. Было такое ощущение, что каждый здесь знает каждого — и каждый следит за Скимой, фиксируя любое его движение.
Он повернул за сплошь покрытый глубокомысленными и немного неприличными надписями угол очередной деревянной улочки — и навстречу ему вышла большая собака. Собака взглянула на Скиму без враждебности — но тот решил всё-таки уступить дорогу симпатичному зверю. Собака не двигалась. Так они и стояли какое-то время — пока голос из тёмной ниши не проронил:
«Да, это тебе не кошек голых по спинке гладить. Красавец, правда?»
«У меня коты. Откуда ты знаешь?» — спросил Скима, устраиваясь на деревянной скамье.
«От тебя пахнет именно ими. Люблю этот запах».
В её сильной руке была банка с чем-то коричневым, цвета дерева. Широкое лицо с волевым подбородком, широкое, костистое тело, загорелые груди под каким-то невероятным свитером с большим вырезом. Но самым заметным в ней были волоски: они вились на затылке и уходили на спину, они тонким слоем покрывали кожу между грудями, они красиво обрамляли её большие губы и сверкали на руках рыжеватыми огоньками. Тусклый фонарь, висевший над головой Скимы, был ей вместо косметики — его тени ей очень шли. Ей было лет сорок.
«Ты Петра?»
«Да. Мог бы и не спрашивать. А вот ты кто такой? Немец?»
Терезиус Скима достал из своей банки опущенный туда ненароком кончик бородки и быстро и устало произнёс:
«Я берлинец».
Она вскинула брови.
«Терезиус Скима из берлинского отдела ED. Несколько дней назад в отеле “Розенгартен” умер человек, и я пытаюсь установить его личность. У него при себе были книга и перо. Книга стихов, которые он, по всей видимости, сам и написал. И перо — гусиное, старое. В Гамбурге мне сказали, что от тебя я могу узнать о нём немного больше».
«Но зачем? — Петра равнодушно сделала большой глоток. — Зачем это тебе? Вам в Берлине нечем заняться? Ujma живых неудачников ждёт помощи. Занялся бы лучше ими…»
Терезиус Скима видел, что её удивление — всего лишь игра. Что на самом деле она тоже ждала его, что она другая, не та, которой хочет казаться. Эта банка, эта рука, это прижмуренность. Всё это не взаправду.
«Зачем? — переспросил он и тоже попытался придать голосу как можно больше безразличия. — Видно, по той же причине, по которой люди всё ещё пишут стихи».
Она взглянула на него быстро и насторожённо, но он уже видел, что ответ ей понравился.
«Ты что, пьёшь пиво?» — спросил Скима и допил свой остывший малиновый компот.
«Тебя это удивляет? — улыбнулась Петра своим широким ртом. — Хотя ты прав. Вечер. Время заказывать виски».
«Я не пью, — сказал Скима. — От алкоголя тупеешь. Голова как в тумане. Давление. Тяжесть в груди».
И он невольно взглянул на её грудь.
«Я читала, в Берлине сейчас тоже туман. Густой туман, который ложится вместе с тобой в постель, — сказала Петра. — Давай, выпей со мной. Я читала твои письма. Лень было отвечать. Бедный Скима, ты писал мне трижды — а в ответ одно молчание… Пришлось ехать в Прагу. Ты думал, что сейчас такое время, когда людей так просто найти, думал, все живут у тебя под боком, в сети, бросил в неё слово — и вот уже слышишь эхо… Но проблема в том, что я сама решаю, что делать моему эху. Я его берегу. Для более интересных дел».
Она мне нравится, с ужасом подумал Терезиус Скима. Раздражённый этим простым открытием, он откинулся к стене и пробежал пальцами по своей роскошной бородке.
«Так ты знала его? Моего клиента? Он был здесь?»
«Ты что, так и не понял? Выпей со мной, и тогда поговорим. Я закажу хорошего виски…»
Телефон чмокнул — Терезиус Скима полез посмотреть: так и есть, это Айсу. «Смешно, конечно, но я ревную». Скима поспешно спрятал телефон. Он чувствовал себя как в старых фильмах начала века.
«Жена?»
«Нет, это из Берлина. Спрашивают, какие новости в моём деле».
«Напиши им, пусть проставятся. Оплатят нам с тобой вечер в баре».
Терезиус Скима вспомнил, что в Прагу он поехал за свой счёт — ED никогда бы не расщедрилась на такое путешествие, — и вздохнул.
«Шучу, — улыбнулась во весь рот Петра, обнажив лошадиные зубы. — Какое виски будем пить?»
«Здесь есть ром?» — спросил Терэезиус Скима.
«Ром?»
«Да. С мулаткой на этикетке».
Она удивлённо взглянула на него, поднялась, ушла в красноватую темноту — и вернулась с бутылкой. Нет, это не тот ром, который пил в свою последнюю ночь умерший постоялец, но Терезиусу Скиме было уже всё равно.
Петра налила им в банки — почти до середины. Мутная, светлая жидкость. Я не пью, подумал Скима. Нет, кажется, всё-таки пью.
Он поморщился. Подумал, не пососать ли кончик бородки, но всё же проглотил этот слащаво-горький вкус, устроил его в конце концов где-то под сердцем. Там, где ему сказали искать Петру те парни у камина.
«Как ты меня нашёл? — хрипло спросила Петра, сделав жадный, оставивший на краях жирные следы, глоток. — Был у моих ребят?»
«Да. Это твой клуб? На улице… — Терезиус Скима сложил губы и натужно выдавил: Поржичи…»
«Там живут те, кому надо перезимовать. Те, кто пишет… пишет что-то своё… кто добрёл по своим бумажным дорожкам до Праги. Я разрешаю там пожить только тем, кто умеет писать от руки. Лучшим из них я даже делаю книжки, у меня в подвале старая печатная машина, когда-то на таких можно было делать малотиражные книжки, on demand. В 1968-м на ней печатали самиздат… люди столько не живут, а книги и машины — запросто. Ей сто лет, представляешь? Такая вот я свинья».
«Ты больше похожа на медведицу, — сказал Скима. — Прости».
Это всё ром. Он был во всём виноват. Скима пригубил ещё и улыбнулся:
«Я очень давно не пил алкоголя».
«А я не обижаюсь, с чего ты взял? Ты сам похож на блудного кота…». — Она допила, налила себе ещё и закурила толстую сигарету. Выдохнула в сторону, но подземные ветры вернули дым на место и бросили его в лицо Скиме.
«Так ты знала его?»
«Подожди… Ну тебя и перекосило, друг. — Петра сняла с себя свитер: под ним была зелёная футболка. Сейчас она была похожа на солдата. — Вижу, ром хорошо тебе заходит. Надо будет взять ещё».
«Нет…», — вяло произнёс Скима.
«Да», — строго сказала Петра и посмотрела на него, прищурив глаза — с таким множеством ресниц, словно она растила их на продажу, как зелень.
Своими большими пальцами она задушила в пепельнице сигарету.
«Знаешь, в каком доме находится мой клуб? Это не просто какое-то там старое здание. Сто пятьдесят лет назад он уже стоял, и там размещалась страховая компания. Страхование от несчастных случаев для рабочих Королевства Чешского. Как тебе такой факт? Ничего не приходит в голову?»
«Нет».
«Когда ты родился, там был отель “Меркурий”… Но история никогда не начинается с того дня, когда ты появился на свет. В том числе и твоя история, Терезиус. Твоя история, та, в которую ты вляпался, началась вместе с двадцатым веком. В доме, где мои ребята греют яйца у искусственного огня, была страховая компания, а в ней, в кабинете 214, работал агентом… Ну? Кто же?»
«Без понятия».
«Да Кафка! Кафка, ты, дурень!».
«Агент Кафка?»
«Да, агент Скима. Агент Франц Кафка, великий писатель. Ты читал его конечно же. Ты же любишь книжные магазины».
«Ненавижу, — попытался соврать Скима. — Кафка? Я не знаю, кто это такой. Хотя постой. Был такой фильм, одного из этих… из SuperDDR, «Кафка на моих трусах». 2025 год, по-моему… Это о нём?..»
«Супердэдээр… Трусы… — Петра презрительно взглянула на Скиму; все её волоски встали дыбом и вытянулись в его сторону. — Сам ты трусы. Кафка написал “Процесс” и “Приговор”, он написал “В исправительной колонии”, “Деревенского врача” и “Замок”. Если ты не читал этих книг — что и кого ты можешь найти? Только пустые звуки, крышку от гроба, кусок пластмассы. Но человека — никогда».
«Извини. Я не читал этих стихов».
«Стихов? Да, это стихи… Ну и тёмный ты кот, агент Скима».
«Да, — сдался Терезиус Скима. — Я мракобес и дурак. Налей мне ещё. И расскажи, что ты знаешь про моего гениального мертвеца. Ты обещала».
Петра одобрительно улыбнулась, налила ему ещё и с сожалением тряхнула пустой бутылкой. А потом закурила и низким голосом, наклонившись к Скиме и схватив его за бородку, сказала:
«Да, я знаю, о ком ты говоришь. Он был белорус. Белорусский поэт».
«Белорус? Что это?»
«Была такая страна. Ещё до Великой войны. До 2030-го её ещё можно было найти на картах. Если бы ты не тратил время в книжных магазинах, допрашивая ни в чём не повинных людей, то без проблем нашёл бы там в кучах макулатуры старые карты. На них она есть. Беларусь. Так они её называли. Теперь она — просто часть российской Западной границы, а когда-то граница у неё была своя. И свои деньги. Свои сволочи и свои герои. И, знаешь, пограничники с собаками, визы и своя смешная гордость… И даже какой-то свой язык, представляешь?»
«Нет».
«Ну, я тоже не очень-то интересовалась всем этим, пока однажды зимой, на Рождество, он не явился ко мне на Поржичи. Он пришёл из Парижа. Представляешь, пешком из Парижа. У него не было денег, совсем. Когда я первый раз его увидела, я подумала, он сейчас отдаст концы просто у меня на руках. Он постоянно трындел что-то про Париж, про Шекспира, он ужасно говорил по-английски. Это было в 2044-м. Да, уже шесть лет прошло. Вот мы сидим здесь с тобой и заливаемся ромом, а уже шесть лет… Только позже я поняла, что он рассказывал про парижский книжный магазин. Был такой… «Шекспир энд кампани».
«В Париже есть книжные магазины?»
«По крайней мере, были. Но молчи, молчи, если хочешь, чтобы я не молчала. Молчи, Скима, немецкий пьяница. Он был в таком поросячьем восторге от своего Парижа. Сиреневый и чёрный, повторял он. Сиреневый и чёрный Париж. Сиреневый и чёрный. Мы его белорусом никогда и не называли. Только Парижанином. Слушай, Скима, не могу понять, что меня в тебе так раздражает?»
«Не знаю».
«Может, твоя снобская бородка? Можно, я её чикну?»
«Нет».
«А что ты сделаешь, если я её чикну?»
«Будет международный скандал. Двоюродный дядя сестры моего второго мужа — второй заместитель третьего секретаря министра иностранных дел Федеративной Республики».
«Немецкий юмор… — вздохнула Петра. — Ладно. Живи, кошачий хвост. Я не знаю, как его на самом деле звали. Парижанин — и всё тут. Когда он наконец-то пришёл в себя, я потребовала, чтобы он прочитал нам что-нибудь. Чтобы написал от руки на бумаге и прочитал. Он послушался. Улыбнулся, странно так… Но послушался».
«Ну ещё бы, — сказал Скима. — Иначе ты выгнала бы его на мороз. Босого. И облила бы водой».
«Что?»
«Но не корой ледяною покрытый, но не облитый водой ледяной…» — сказал Скима. Это были не его слова. Это было что-то, что подсказал ему мутный и тяжёлый ром, опаляющий его изнутри своим мертвенным жаром.
«Это были отличные стихи, Скима. Поверь мне. Я мало что поняла, но если ты знаешь два славянских языка, Скима, ты поймёшь и третий, и четвёртый. Это были очень хорошие стихи. И тогда я пошла в подвал и сделала ему книжку».
«Эту?»
Непослушными руками Терезиус Скима вытащил из рюкзака нехитрое имущество умершего постояльца.
«Да, это она. Он сам набрал текст. А имя… Ты же знаешь, как они относятся к этому. Ни имени, ни названия. Боятся быть видимыми. Боятся славы…»
«Ну да, — буркнул Терезиус Скима, вспомнив Кима Клауса и Хрисонагиса. — Боятся».
«Я спросила его: у тебя есть какие-нибудь переводы? Или ты можешь перевести сам? А он только улыбнулся. Пообещай мне, что сделаешь себе переводы, и мы тисканём ещё экземпляров двадцать, сказала я ему. И этот Парижанин несколько дней не появлялся в клубе, а потом пришёл и сунул мне под нос…»
«Что сунул?»
«Да переводы и сунул. Послушал меня. Они где-то валяются. Это и правда были переводы… И всё же не совсем. Кто-то перевёл его писанину на несуществующий язык. С почти несуществующего на несуществующий. Но подожди. Мы съездим на Поржичи, и я их найду…»
Она выпрямилась во весь свой кобылий рост. Большая Петра. Петра в галифе, которая схватила Скиму и повела через подземные лабиринты, и все проводили их полупьяными взглядами. Откуда-то из-за бетонных стен подвала гремела музыка — и юношеский голос выводил что-то по-чешски.
«Хорошая команда…»
«Как они называются?» — вежливо спросил Скима, язык которого уже начал заплетаться.
«Ты всё равно не запомнишь, — прохрипела Петра. — И повторить не сможешь. Ты на работе, Скима. Сосредоточься на самом важном!»
И вот они уже пробирались по ярко освещённым, подсвеченным синеватым морозом пражским улицам. Терезиус Скима не стал застегивать куртку, ему было приятно чувствовать на себе чистые прикосновения холода, а ещё он представлял себе тело Петры, там, под свитером и бесформенной курткой, под галифе и зелёной солдатской майкой. Ему нравились волосы на женском теле. Вьющиеся, выстланные свежим потом подмышки, межножье, которое клубится витыми рыжими волосками, задница, из которой выглядывает, словно молодой мох, кучка застенчиво переплетённой растительности, скрывая самое заветное; густо припорошенный низ спины, разлинованные мягкие волосы на сильных икрах, темная зелень вокруг сосков. Как, наверное, хорошо касаться всей этой шерсти носом и щеками. Как, наверно, по-лесному, словно ранней весной, любит Петра, как глубоко можно в ней оказаться, если утонуть в её волосатости.
«Петра!»
«Что?»
«А вот ты не чувствуешь, что нас с тобой и всё это, всю эту историю кто-то придумал? Придумал и написал?»
«Нас?»
«Нас и всё, что с нами происходит. Какой-то поэт из России. Который никогда не был по эту сторону границы. Он просто придумал нас, вычитал из старых книг».
«Ты напился».
«Я напился».
Они ввалились в клуб, словно ком уличного снега. Ребята всё ещё сидели там — и поневоле повернули к ним свои отяжелевшие головы. Они спали, подумал Скима. Они уснули сразу, стоило ему выйти от них несколько часов назад. Это место — их сонная болезнь.
«А ну марш все на улицу, — низким угрожающим голосом сказала Петра. — Бездари. Вы же одурели здесь от безделья и тепла, вон глаза какие, как у наркоманов. На воздух, вперёд, в люди. Здесь дышать нечем. И чтоб до утра не возвращались!»
Молодёжь покорно потянулась к своим балахонам, сваленным в кучу возле книжного шкафа. Петра проследила, чтобы они все вышли, проверила в шкафу и закрыла дверь.
«Сейчас я подумаю, где бы они могли быть, его переводы».
«Это его перо?»
Терезиус Скима достал перо из рюкзака и чуть не сломал.
«Да, он почему-то всё время таскал его с собой… Видно, в память о чём-то. Или как амулет. Я пыталась расспросить его, как он попал в Париж. Должен же он как-то добраться туда с той стороны границы. Не перелетел же он через неё».
«И что?»
«Ничего».
«Ты говоришь: не перелетел же он… В Берлине я купил одну русскую книгу. Русскую книгу про мальчика Нильса. Там границу пересекают именно так. Перелетают на птицах».
«Что за ерунду ты читаешь, Скима? Что у тебя за вкус…»
«Прости. Так что же сказал Парижанин?»
«Парижанин только улыбался. А потом сказал, что о нём…»
«Что о нём написано в одной старой книге, — сказал Скима, едва ворочая языком. — Так?»
«Да. Откуда ты знаешь? Хотя какая разница. Вот, нашла. Как ни удивительно».
И Петра протянула ему помятые листы. Сбросила куртку, открыла дверцу, которую Скима и не заметил, достала бутылку сливовицы.
«Самое время выпить».
Она налила им в грязные стаканы. Скима икнул, прищурился — и выпил до дна.
«А теперь можешь почитать… Вслух. Если сможешь. Теперь у тебя есть оригинал и перевод. Но это тебе не поможет. Тебе уже ничего не поможет, Скима. Тебе и твоей снобской бородке».
Он наклонился над бумажками и послушно начал читать, пытаясь собрать в слова бегущие буквы, такие знакомые — и лишённые даже намёка на смысл.
«Aiduzu, aiduzu psauta-spajmalnutika,
Jaf rukoju,
Mautika us nitutikama,
Mautika us kugoje kristutikama,
Us neistoje hutikama u strilutikama…»
Страшные и весёлые «uti» запрыгали перед глазами Скимы. Нет, это был не язык. Это была игра, в которой он, Скима, был всего лишь маленьким мячиком.
«…Nutima, volfsutima ujmatuzu,
Bim nepletuzu,
tuzu
makinogrimutima…»
«Я ничего не понимаю», — сказал он и поднял голову.
Петра стояла перед ним, в костюме из одних только собственных волос — обнажённая, жуткая, как животное, Петра стояла перед ним и с наслаждением наблюдала за его ослеплёнными глазами, и жар шёл снизу её живота, и волосы на нём жались к коже, как к земле, мокрые, дождевые… А потом она подошла и засунула руку ему под юбку.
«Ты п-похожа на медведицу», — сказал он.
«Снимай», — сказала она, раздвигая свою шерсть. На этом большом теле было всё, что он искал. Она провела рукой по книгам — и они полетели на пол, как испуганные куры. Под верхним слоем толстых томов был низкий диван, упиравшийся рёбрами в пол, а на нём, как обморок, как обещание, пушистый, будто из пепла сшитый, плед.
И им было хорошо вместе. Медленно, жарко и хорошо.
«Если есть язык, должен быть и словарь», — сказал Скима, которому не хотелось выбираться из её тёплого тела.
«Если ты хорошенько здесь поищешь… — Петра обвела широкой ладонью заваленную бумажными трупами комнату. — То, может, через год-другой и найдёшь. Но смотри, вот это. Не похоже на стихотворение. Это проза. Он написал здесь что-то, что не вошло в его книгу».
Изогнувшись, остывающий Скима ухватился за лист, прилипший к какому-то стихотворению. И прочитал вполголоса, чувствуя, как бьётся его чудесное, согревшееся наконец сердце:
«U mau irukutima agramuta. O agramuta, sau au bim asituzu uo agramutejle. Nekau krauta bim laduzu balbutima. O sau bim aluzu. Neistoje balbuta neistoje tajnobalbalnutima. Akkou legoje balbuta, legoje akkou klinkuta. U uvjutima izimoje, au kartuzu ivs da krapuzu nutima, mau rukutika chlopcy neamiluzu mau parou o. Razozhgu ja kamin budu pit, khorosho bi sobaku kupit. Suta imatuzu laduzu sabau istutima. U stutima M. au bim imatuzu istuzu fafroje. Fuzu okutima, akkoubif au akkou ujma. Najda onki dinutima bu aiduzu amgluta, au bu siduzu u mau sauroje autima da bu pavuzu guroju. Da ujma algobalbuta bu istuzu u stutima m. u uvjutima sau nekau nekalau neasituzu. Tau bim neistuzu kalau bim neimatuzu posabau sigrutima. Au — bim.
Tau kartuzu o amglutima da neveduzu sau tau kartuzu. Najda tau imatuzu asituzu dukoju:
Agramutejle pomirnoje
Stuta
Uviuta
Truduta
Natuta. Mau natuta.
Akkou au bif aluzu okuzu, kau tau. Akkou au skamuzu bu neistuzu u skamutoje ujmatulutima, onki, onki. Akkou au skamuzu sau nekau bu nekartuzu o nebavoje balbutima… Najda au imatuzu aiduzu dukoju. U stutima B. MHPPHB. U stutima sau neamiluzu, na sutika kau au neveduzu.
VB»
«Сдаётся мне, Скима, здесь есть одна фраза, которая выпадает…»
«Я тоже это заметил», — Скима освободился из её объятий и нащупал планшет. И вот у них уже был перевод той выпавшей фразы. Хорошо жить в современности. Всегда жить в волосах современности.
«Зажгу камин, буду пить, хорошо бы купить собаку, — повторила Петра. — В оригинале это стихотворение. Буду пить — да, это я понимаю».
«Весь это текст — стихотворение, по-моему, — сказал Терезиус Скима. — Весь этот язык как стихотворение. Всё рифмуется».
«Не всё, что рифмуется, стихотворение, дорогой мой Терезиус, — проговорила вполголоса Петра. — Дай мне сигареты».
«Ты меня задушишь», — сказал Скима: получилось неожиданно многозначительно.
«Пойдём, я покажу тебе одно место», — Петра подняла своё большое тело высоко над ним: Большой Зверь, Большая Медведица, Женщина с Большой Буквы.
«Там холодно, и у меня болит голова», — сказал Скима, кутаясь в плед.
«Разве ты не поедешь в Париж завтра утром?»
Петра натянула куртку — а он всё ещё лежал на этом низком, как земля, диване совершенно голый. Терезиус Скима печально подумал о том, сколько денег осталось у него на счету. Что ж, ещё одно путешествие он мог себе позволить. Последнее. Одно. Всё же Париж стоит мессы — за триста марок.
Мессы? Какой мессы, Терезиус Скима? Откуда берутся эти чужие слова, атакующие тебя со всех сторон, гудящие и шипящие, как летучие змеи? Слова разных языков, что сговорились привести тебя куда-то, куда ты совсем не просил?..
«Зачем я тебе?» — спросил он уже в такси, с заднего сиденья: Петра влезла рядом с водителем, пожилой женщиной с выбритой головой, на фоне которой Петра казалась ещё волосатее.
«Как зачем? Чтобы согреться, — сказала Петра, вглядываясь в свой удивительный город за окном. — Приехали. Тебе, конечно, нужно было бы надеть эту их шапочку, но…»
Она настойчиво посмотрела на него — он расплатился и вышел в пражскую ночь. Они стояли на клочке заснеженной земли, зажатой высоченными домами, и Скиме показалось, что из каждого окна за ним следят печальные усталые люди. Кто они были? Что думали и что видели — наблюдая за тем, как высокая женщина подсаживает другую, чтобы перелезть через забор; а может, это были мужчины, а может, вообще двое животных карабкались через ограждение старого, чудом уцелевшего кладбища?
Это и правда было кладбище. Петра уверенно шла вперёд — и вот они уже остановились у одной из могил.
«Здесь», — сказала Петра тихо.
Скима тоже заставил себя дышать потише. Так они и стояли в свете далёких фонарей, их таинственного, словно подземного свечения, они и сами были как облачка пара — и таяли, таяли…
«Это могила Кафки».
Терезиус Скима стоял и думал о том, как же мало он знает о мире и себе. А ещё о том, что если он не выпьет таблетку, то сейчас умрёт, прямо здесь, под ногами у Петры и на груди покойного. Умереть на кладбище. Нет, это было не страшно. Это было смешно.
«Знаешь, как он умер? В австрийском санатории. В начале лета. Просто в комнате. Лёгочное кровотечение, рядом Дора, последняя его любовь. Доктор, дайте мне смерть, не будьте убийцей. Говорят, так он сказал незадолго до конца. Его почти никто не знал. И теперь почти никто не знает. Сто лет о нём только и говорили, и вот всё снова вернулось к тому летнему санаторному дню. Это как книга, Скима. Живёшь только внутри, внутри. А вне её — никому не интересно, что ты такое и где ты сейчас».
«У меня болит голова, — сказал Терезиус Скима. — От рома, сливовицы, твоих вонючих сигарет, языка, которого нет, от чешских звуков, твоего акцента и от этого Кафки. Кажется, самое время снова стать самим собой. Скажи мне, кто я. Скажи, что это и правда я».
«Это ты. Конечно же это ты, — её большое тело затряслось от тихого смеха. — В том-то и дело, что это — ты».
«Мне нужно в аэропорт. Хотя я ненавижу самолёты».
«Знаешь, как аэропорт по-чешски? Letiště. Скажи: лэ… Тебе просто нужно выпить. Едем. Я, конечно, не верю в привидения. Но только не здесь. Здесь особое место, Терезиус. И тебе нужно поблагодарить судьбу за то, что в то утро в «Розенгартен» послали именно тебя».
11.
Здесь, в сорока километрах от Парижа, было гораздо теплее, чем в Праге. Небольшой аэропорт встретил Скиму неярким солнцем и зелёной травой, которую ерошил ветер, и он развязал шарф, вдыхая запах совсем другой зимы.
Здание аэропорта наполнилось славянскими голосами. Французский пограничник безразлично проверил визу Скимы, кивнул ему и хищно уставился на кого-то, кто шёл следом: на бабушку с рюкзаком, похожим на завёрнутый в холщовую ткань детский труп. За спиной Скимы послышались её оправдания — но он не понял ни слова.
Сидя в автобусе, он написал Айсу — те самые три заветных слова, увидев которые, она конечно же улыбнется:
«Покорми моих котов».
Пальцы дрожали, рот был полон какой-то загадочной, нехорошей субстанции, которую невозможно было до конца выплюнуть. Голова уже не трещала — в самолёте Скима предусмотрительно выпил три таблетки воттебезагестернина, боль ушла куда-то вглубь, но каждая новая мысль всё равно ныла, как, бывает, ноет защемлённый пару дней назад палец. Больше никогда, никогда больше, слышишь, никакого алкоголя, тяжко и уныло думал он, щурясь в окно автобуса. Она его напоила, эта медведица. Напоила и спать уложила. А могла бы и убить — своими медвежьими ласками и гигантскими порциями вонючей отравы.
И всё же в Праге он славно поработал, отметил Терезиус Скима, разглядывая пустые, словно застёгнутые на все пуговицы старомодные виллы и проржавевшие рекламные щиты.
Он уже бывал в Париже — как-то раз с Мари, его первой женой, они сняли здесь, недалеко от Латинского квартала, маленькую квартиру, совсем маленькую, зато на целый месяц, такой стремительный и такой щемящий летний месяц: каждый день они пили вино (тогда он ещё пил вино!), смотрели современное французское кино, спорили о художественной вивисекции, которая тогда переживала свой расцвет… и долго, часами, гуляли по берегу Сены, скрывая своё разочарование, — ведь Париж оказался таким же, как они и представляли, Париж всячески старался оправдать их мечты и выравнять себя в соответствии с воображаемой туристической линейкой, на которой штрихами были нанесены все достопримечательности и все его самодостаточные прелести. Как же они были молоды. Мари знала французский, а он нет — поэтому говорила она, а он молчал, и на месте теперешней бородки у него тогда вырос похожий на розу фурункул, и от мази опух ещё больше, он хотел проколоть его… а Мари… её пыталась соблазнить их соседка, и Скима не знал, как ему быть: соседка говорила только по-французски и была наглая, как комар. Но прихлопнуть её Терезиусу тогда даже в голову не могло прийти. Такие вот воспоминания.
И вдруг Скима вспомнил, что во время их тогдашних прогулок по берегу Сены они с Мари ещё видели смешные фигуры продавцов старых книг… То есть букинистов. Они были похожи на актёров уличного театра: такие же неподвижные, с неестественными улыбками скульптур, какие-то замшелые, словно вросшие в каменный парапет над рекой — с ними фотографировались, их хлопали по мягким плечам, их просили сдвинуть трубку или сигару в угол рта, чтобы снимок получился поинтереснее. Но никто уже не рылся в их сгнивших от сырости сокровищах, никто не приценивался к дешёвым сувенирам, и уж точно никто не собирался покупать у них книги — одного парижского лета уже не хватало, чтобы высушить старые страницы, на них уже тогда смотрели с отвращением: на этих закашлянных мужчин в кашне и седеющих злых женщин, которые с безнадёжным упорством выстраивались вдоль реки у своих зелёных полусгнивших откидных контейнеров. Терезиус Скима со своей Мари тоже сфоткался — где он сейчас, этот снимок? Мгновенно переваренный сетевым желудком, забытый ими самими сразу после возвращения в Берлин, брошенный в пасть ещё популярных тогда соцсетей и проведённый в эту пучину их легкомысленными улыбками, он исчез, высох, как пятно, на краю ослабевшей памяти. Вот сейчас вспоминаешь его — и будто придумываешь всё заново. Себя. Её. Всю свою жизнь.
«Покормлю. А ты где?»
«В Париже», — ответил Скима, чувствуя, что умирает от жажды. Ему не было нужды объяснять Айсу, как его сюда занесло. Это и правда был уже не только его покойник. Постоялец из «Розенгартена» принадлежал многим людям — людям, похожим на крыс, собак, медведей, птиц… Но один только Скима должен дойти до конца — и тогда он расскажет другим, кто такой этот человек из «Розенгартена». Если, конечно, кому-то это ещё будет интересно.
«Простите, вы немец?» — спросила по-немецки с сильным акцентом пожилая женщина, которая всю дорогу делала вид, что не заглядывает в его телефон.
«Я берлинец», — ответил Терезиус Скима.
«Просто… просто я увидела, что…» — женщина суетливо задвигала перед собой короткими, поджаренными на каком-то дешёвом солнце руками.
«Что вы увидели? — Скима взглянул на неё так, что она покраснела. — Готические буквы на моём запястье? Свастику? Дно моей тёмной души?»
«Не понимаю, — она обиженно отвернулась. — Просто я тоже из Германии. Но я русская. Живу в Дрездене. Ехать к моя дочь…»
«Русская? — Терезиус Скима с любопытством рассматривал её немного косые глаза, скулы, широкий подбородок. — Судя по акценту, вы приехали недавно. Как вам удалось вырваться? Русские ведь никого не выпускают».
«Я приехать пятнадцать лет, — снова раскраснелась женщина. — Ещё было можно. Просто… просто я только сейчас учить немецкий язык».
«А раньше?»
«Раньше? Ну, я как-то не нуждаться, — убеждённо пожала плечами женщина. — И почему не пускать. Это можно — ехать в Россия. Через граница. Если ты купишь Putsiowka. Или если ты член».
«Член?»
«Член общества «Drug Rossii»». Ходишь на лекция, учишь русский язык, имеешь значок. Можно на экскурсия. Это трудно, но… но возможно».
«Drug Rossii», — сказал Терезиус Скима, звуки чужого языка впились ему в рот и каким-то простудным ощущением отозвались в горле. — Разумеется. Скажите, а откуда вы? Где вы жили там, в Райхе?»
«Из Борисов, — сказала женщина неохотно. — Это недалеко от Минск. Но какое это имеет значение? Я русский, но имею немецкий паспорт. Поэтому мне приятно было встретить соотечественник. Вот и всё».
«А там, где вы жили… — не отставал от неё Скима, дёргая себя за бородку, чтобы не упустить интересную мысль, — там говорили по-русски?»
«Конечно, — раздражённо сказала женщина. — Как же ещё?»
«Может, там был ещё какой-нибудь… другой язык? Чёрнорусский? Синерусский?»
«Нет, — сердито сказала она. — Вы любить фантазирен. Русские говорить по-русски. В Берлине много наших».
«Наших — это русских? Или ваших соотечественников немцев?»
Она отодвинулась от Скимы. Он с завистью посмотрел на высокого китайца, который беззаботно попивал дорогущую воду из узкой бутылки.
«А я еду за книгами, — громко сказал Скима. — Мне нравится зелёнорусская поэзия. Я собираюсь накупить книг марок на сто. А может, и больше».
Женщина съёжилась и взглянула на него с ненавистью.
«Я любить книги зелёнорусских поэтов, я сам писать хороший поэзия», — громогласно объявил Скима.
Она затравленно прижалась к окну.
«Чтобы хорошо умирать, надо писать хороший стихи!» — добавил он, чтобы окончательно её доконать, и закрыл глаза.
Какая тоска.
Как медленно тащится этот автобус.
Как медленно он, Скима, движется к цели. Как неспешно пульсирует тайна.
Неожиданно он подумал, что неплохо было бы сейчас достать из рюкзака интересную книгу. Нет, не ту, про Нильса и гусей, ту он уже несколько раз пролистал с начала до конца, разглядев внимательно каждый рисунок. И сборник стихов, который оставил человек из «Розенгартена», тоже, пожалуй, не подойдёт. А что подошло бы? Ну, скажем, роман. Толстый роман, который затягивает в себя не сразу, на котором нужно сконцентрироваться, нащупать его уникальный ритм, найти в себе соответствующее тексту дыхание. Когда-то, в старые времена, романы помогали людям преодолевать большие расстояния. Люди брали в дорогу интересную книжку. Но интересные книжки вымерли. А люди…
Люди остались.
Париж начался как-то сразу, без предупреждения, — и вот уже Скима (русская намеренно пропустила его вперёд, чтобы не идти вместе к метро) шагал по залитой солнцем улице и пытался представить себе, как вот здесь, по этим самым желтоватым древним камням, ходил его покойник, загадочный белло руссо. Его клиент. Ходил — и в голове у него что-то там писалось. И он доставал старый грязный блокнот, чтобы не забыть. И все принимали его за психопата. Человек, который пишет от руки. Человек, которому некуда спешить, — и поэтому спешит рука, рука не успевает за мыслью, за образом, за рифмой. Каракули кириллицы покрывают страницы — одну за одной. Несуществующий язык робко прорастает сквозь чужое утро.
Он купил воды и выпил её всю, в два глотка, и купил ещё. Доехал на метро до Ситэ, вышел на прохладное, выцветшее солнце, к чайкам, пошёл по мосту, улыбаясь бронзовым, вызывающе архаичным, с чиновничьим видом усевшимся на парапете богам. Телефон повёл его дальше, вдоль реки, по набережной. Терезиус Скима купил себе кебаб и съел его, прислонившись к холодным камням. Кофе он решил выпить в узкой пёстрой улочке, полной мрачных людей, кофе был невкусный и дорогой, и боль в голове вернулась. Он достал последнюю пилюлю воттебезагестернина, бросил её в рот и пошёл в книжный.
Вечерело. Терезиус Скима покрепче завязал шарф и остановился перед нужной ему зелёной вывеской. «Шекспир и компания»: причудливые, странным шрифтом выписанные буквы; Скима уже был готов снова зарыться в мир ностальгии, жалобных стилизаций, наивного обмана, старой бумаги, коварных намёков и стыда… Но что-то мешало ему войти. Ему вдруг показалось, что он уловил что-то важное. Это было так трудно выразить словами, так трудно сформулировать, это была какая-то тень невозможности, шелест образа. Терезиус Скима стоял перед дверью и, морща лоб, пытался не потерять это ощущение, понять, что оно значит.
И у него получилось. Не веря самому себе, в какое-то мгновение он увидел другого Терезиуса Скиму — которого никогда не существовало, и всё же реального, в этот момент — гораздо более реального, чем агент ED, гораздо более реального, чем человеческое существо в юбке, пальто и шарфе, прилетевшее сюда по никому не интересным делам. Тот, другой Терезиус Скима, выглядел иначе — высокий худощавый господин с элегантной тростью, в шляпе и костюме, в накинутом на плечи давно не чищенном пальто, стоял здесь, совсем близко, не обращая внимания на окрики холодной Сены, и под неспокойным блеском его очков горела пара усталых глаз, а внутри этого господина жили голод и страсть. Тонкими пальцами он сжимал трость и смотрел на своё отражение в окне книжного магазина — с таким недоверием, словно его хотели обмануть. Господин Терезиус Скима, голодный счастливый писатель, бедный, как церковная мышь, и гениальный, как мышиный король, стоял здесь и представлял, как в призрачном, освещённом слабенькой лампой пространстве за стеклом стоит его книга. И бородка его пахла настоянными на дешёвом табаке ночами, а в голове его вихри слов менялись так стремительно, что он сам удивлялся, как ему удалось поймать их в книгу.
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого — жёлто-серого, полуседого, и всезнающего, как змея?
Огонёк вечернего алкоголя горел внутри того, другого Скимы, такой тёплый и обманчиво уверенный, как чайник в промёрзших руках. Это был неправильный, несуществующий человек, призрак, рождённый нездоровым книжным воздухом, — и всё же это был и он тоже, он, Скима, и такси сновали по узкой улице, вопя клаксонами, и часы на Нотр-Дам были точны, как никогда.
Что такое правда, что такое реальность — когда ты стоишь у старого книжного магазина и понимаешь, что тот, другой, реальнее, чем ты сам? И что такое бедность и смерть — если ты можешь чувствовать такой голод и такую жестокую страсть?
У дверей книжного со странным названием
ты стоишь и ждёшь,
словно собака, которую оставили здесь на привязи,
пока хозяин гостит в тесных покоях бумажного замка.
Но вот уже очертания стираются, книги становятся прахом, порошком, паром, исчезают — и знакомые ростки боли обвивают твою бедную голову.
Тот призрачный господин в шляпе с тростью натянул поводок — и Терезиус Скима отпустил судорожно зажатую в кулаке бородку.
Он вошёл и в нерешительности остановился. Девушка, сидевшая на кассе, приподняла зелёную голову.
«Вы не Нгуен?» — спросила она по-французски, но он понял.
«Нет», — сказал Терезиус Скима, переступая ступеньку и недоверчиво осматриваясь по сторонам. Всё то же самое: стеллажи, деревянные полки, сплошь занявшие все стены, в глубине — лестница, ведущая на другой этаж. Девушка на кассе сделала вид, что потеряла к Скиме интерес, а сама поглядывала на него с каким-то вызывающим одобрением. Скима и сам знал, что, несмотря на головную боль и усталость последних дней, он остаётся в неплохой форме. Если ты стильный и смелый мужчина — обстоятельствам трудно сбить тебя с толку.
Наверху скрипнула половица и послышался недовольный голос. Неужели здесь есть ещё кто-то?
В самолёте он прочитал историю этого места. В 20-х годах прошлого века (почти сто тридцать лет назад!) все американские литераторы стремились в Париж, поближе к культуре, искусству, к свободе и эксперименту. Они бежали от провинциальности, бедности, высокомерия, консервативности. Бежали от американской мечты. От культа доллара. Брали билеты на пароходы, в один конец, тащились через океан, чтобы с головой броситься в водоворот живого искусства. Берлин и Париж. 1920-е… Время, когда ещё жив и молод был прадед Скимы — кажется, он был литовец. А может, и нет. Про литовцев в Париже Терезиус Скима ничего не знал, а вот американцы жили здесь действительно насыщенной жизнью, у них были свои издательства, журналы, свой круг, свои герои, свой сумасшедший дом. И конечно же свои книжные магазины. Такие, как этот.
Вообще-то, вокруг этого заведения крутилась парижская богема всех национальностей. Сильвия Бич — так называли американку, которая замутила здесь «Шекспира и компанию». Ироничная интеллектуалка, писательница, богемная тётка, а ещё — страстная читательница, она открыла здесь не просто магазин — а настоящий клуб для всех, кто не боялся менять литературу и старался нащупать дно языка. Любого языка — но, конечно, прежде всего английского. Сначала магазин Бич находился за пару кварталов отсюда. В конце тридцатых он закрылся, а после оккупации и войны открылся уже в другом месте — но сохранил дух тех двадцатых. Которые ещё целое столетие двигали вперёд литературу всего мира.
Инерция, подумал Скима. Инерции тех далёких двадцатых хватило на то, чтобы ещё сто с лишним лет порождать новых поэтов и писателей. И вот инерционная сила закончилась. Колесо наконец замерло. В затуманенных творчеством глазах ещё мелькают спицы, но это уже только иллюзия. Больше ничего не будет.
Он прошёл по магазину, пробежал глазами по телам окостеневших книг, взял одну — но не смог запомнить даже название, оно было длинное, как автобан; поставил на место, постучал каблуками по мозаичному полу; он потихоньку начинал здесь мёрзнуть.
«Вам помочь?» — по лестнице спускалась седоволосая женщина. Ему хотелось, чтобы женщину звали Сильвия. И он почему-то почувствовал неловкость, когда она, вся в чёрном, такая маленькая и худая, будто в пику пражской Петре, удивлённо пожала ему руку.
«Да, у меня к вам важное дело, которое, может быть, покажется странным… — с усилием подбирая английские слова, он начал объяснять и подумал, что его голос звучит с каждым днем всё громче, словно он обманывает их, всех этих книжников, этих трогательных сумасшедших. Все эти осколки мёртвого мира смотрели на него с такой надеждой, будто он обещал их склеить. — Меня зовут Терезиус Скима, я ищу человека, который прожил здесь у вас какое-то время, несколько лет назад».
«Я Бранка, — она недоверчиво смотрела на него, серые болезненные глаза устало ощупали лицо Скимы и удивлённо возвратились к его бородке. — Но здесь книжный магазин, а не отель».
«Человек, которого я ищу, был поэтом, — сказал Скима. — Русским… точнее, насколько я понимаю, не совсем русским, а белла-русским поэтом. Он умер несколько дней назад в Берлине. Кстати, именно в отеле. Он боялся умереть в отеле — и всё же умер. Без документов, не имея ни родственников, ни друзей, ни знакомых. Нужно узнать его имя и выяснить, кем он был. Это моя работа. Но, наверное, уже не просто работа…»
«Что вы имеете в виду? — неожиданно спросила эта седая Бранка. Он думал, она пропустит его последние слова мимо ушей, а она вцепилась в них, словно ей и правда было важно, что просто, а что нет. — Что вы имеете в виду, когда говорите: не только работа?»
«Почему-то… — Скима замолчал, повертел в руках какую-то толстую книгу, решительно взглянул ей в глаза. — Почему-то мне важно понять, кем он был. Я не знаю почему. Но ещё ни одно дело не заставляло меня настолько… чувствовать его важность… Простите. Я совсем забыл английский».
«Так вы немец?»
«Я берлинец, — ответил Скима. — Мне удалось кое-что выяснить. После того, как он пожил у вас, этот человек отправился в Прагу. Затем в Гамбург. Затем в Берлин. От него осталось вот это. Блокнот. А ещё книга, которую он написал. И это перо».
«Что?»
«Перо», — Скима вытащил его и хотел спрятать назад, но Бранка вцепилась в его руку, взяла перо, положила на ладонь и внимательно рассмотрела. Ему показалось — с какой-то нежностью.
«Вы его помните?» — спросил Скима.
«Да, — помолчав, сказала Бранка. — Русский с пером. Вы правы, у нас живут поэты. Иногда. Только если они сами приходят сюда. Сами мы никого не приглашаем…»
«Живут, как этот кот?»
По лестнице спустился белый пушистый кот, уселся у ног Скимы и начал лизать себе между ног — глядя, как тонкий язык деловито работает над красноватыми припухлостями, Скима представил себе, как его собственные коты сейчас приветствуют Айсу, трутся о её ноги, и она, поглаживая их хитрые спины, думает, что любовь существует.
«Да. Здесь уже целое столетие живут коты. И иногда собаки. Странно, обычно он не спускается сюда зимой, там, наверху, теплее, — сказала Бранка. — Окей, я расскажу вам. А лучше покажу. Идёмте. У нас сегодня чтения… если это можно так назвать. Люди, которые придут, не вызывают у меня ничего, кроме приступа лютой скуки. Вы были когда-нибудь на поэтических вечерах?»
«Два дня назад, — сказал Скима, поднимаясь за ней по лестнице и с неожиданным удовольствием вдыхая запах книг. Как курильщик вдыхает дым. — Меня тоже чуть не стошнило. Неужели и в Париже существует Gruppe2047»?
Gruppe2047? У нас их называют иначе… — отозвалась Бранка и назвала шипучее слово, которое Скима не запомнил. — Но они приходят, покупают хоть что-то. Платят за свои развлечения. Поэтому я не могу их выгнать. По крайней мере, остаётся иллюзия, что мы живы. А там, может, мир снова изменится. И всё вернётся. Не сразу, постепенно, маленькими шагами…»
«Вы думаете?»
«Иначе зачем нам было здесь оставаться?»
«Действительно», — сказал Скима, так и не сумев придать голосу достаточно оптимизма.
И вот он увидел то, что искал. Молодые поэты спали прямо среди книг, на полках, которые, прикрытые несвежими занавесками, располагались на старых стеллажах, давным-давно вживлённых в эти каменные стены.
«Вот здесь. Здесь он ночевал. А больше я ничего о нём не знаю, — быстро сказала Бранка. — Но перо помню. Это было смешно. Перо… Это единственное, что я запомнила. Если бы не перо, он давно вылетел бы у меня из головы, этот ваш… бе-ло-рус… Как его звали?»
«Это я ещё должен выяснить, — мягко напомнил Скима. — Вы уверены, что здесь?»
«Мне приходилось его будить. Он некрасиво спал… Знаете, есть люди, которые спят красиво. Как львы. Львицы. И есть те, кого хочется задушить во сне. Во имя эстетики, конечно».
«Да, конечно, — сказал Терезиус Скима. — Львы и собаки».
«Собаки? Я люблю собак».
«А я всё время вспоминаю детство. — Скима поправил юбку. — У моего пса текла изо рта слюна, когда он спал. И хотелось зашить ему пасть. Иглой».
Бранка презрительно взглянула на него, а потом на часы, а потом куда-то далеко, за несуществующий, неясный край видимого — такой взгляд бывает у пьяных людей, когда они задумываются о серьёзных делах.
Нужно было срочно сменить тему.
«Кажется, у вас должен быть столетний юбилей? Или ещё будет?» — спросил Скима нерешительно, заглядывая в нишу между книжных рядов. Сам он вряд ли здесь уместился бы. Но покойник — пожалуй.
«Не время для юбилеев, — хмуро проговорила Бранко. — Да я и не задумывалась особенно. В книжных магазинах время течёт по-другому. Кажется, это они. Читатели. А нашей поэтессы всё ещё нет. Я пойду, спускайтесь, мы поговорим после чтений».
И когда она на неловких женских ногах (Терезиусу Скиме показалось, что она и правда сегодня слишком много выпила) ушла вниз, он дождался, пока утихнут её шаги, и по шаткой лестнице вскарабкался на полку, к книгам. Залез, ударившись головой о деревяшку, туда, где было разрешено спать только бедным бездомным поэтам, свернулся чучелком, подложил под щёку ладонь, закрыл глаза.
Вот тут он и лежал, покойник. Его покойник. Здесь видел сны, здесь писал от руки. Здесь храпел, пускал слюну, сюда забирался, когда было совсем невмоготу. Тянул за резинку занавески, вдыхал запах ночных книг, отгораживался от темноты. Думал о том, куда дальше. Не мог не думать.
Доставал перо, водил по нему пальцем. Нюхал. Ласкал себя. По старой, измученной, никому не нужной коже — гладил пальцем, мурлыкая от удовольствия. Стонал в сне. Вскакивал, больно бился о деревянный низкий потолок. Думал, что проснулся в гробу, что похоронен заживо. И писал от руки, слепя глаза, славя одиночество и вечер. И оглядывался на единственный язык, который не мог его выдать. Один несуществующий язык, которым он переводил переведённое с другого несуществующего.
Терезиус Скима почувствовал, что его клонит в сон. Но он не имел на это права — признать, что он уступает забытью. Что он никто перед слабой человеческой памятью. Что всё решает не он, а стихи, которые никто не может прочитать. Будто он живёт тысячу лет назад — и суетно и радостно подсчитывает всё, что находится в пределах мира и не мешает в нём жить. Считалка самовлюблённого агента современности. С высоты своих лет так легко и приятно всех судить. Судья Скима, ваш выход. Ваш приговор!
Он включил фонарик своего телефона и, принюхиваясь, как собака, начал исследовать это логово. Разумеется, после постояльца «Розенгартена» здесь спали и другие люди: но пусть других другие и ищут. Терезиус Скима знал, кто его клиент. Кто автор истории — а кто персонаж.
И тут в узкой нише, где на подушке лежали похоронным букетом чужие волосы и пахло кремом для ног, его телефон вдруг чмокнул воздух и издевательски высветил знакомое имя.
«Как коты?» — спросил он вместо приветствия.
«У нас с ними любовь. Как мертвецы?»
«Мертвец, ты хочешь сказать. Представь себе, я лежу на его месте. Он был здесь. Вот и всё. Ради этого стоило потратить месячную зарплату — чтобы почувствовать, что он и правда пердел в эту самую простыню, когда ночевал здесь, у Шекспира и его честной компании».
«Я думаю, от него остался след. Когда он писал от руки — он мог написать от руки и там, где ты лежишь. Такие люди как школьники — только бы наследить там, где спят».
«Думаешь, он мог написать что-нибудь от руки на простыне? На подушке? Пером? Пальцем?»
«Поищи, Скима. Там должно быть что-то большее, чем запах, что-то видимое, но скрытое от глаз».
«Откуда тебе знать? Откуда, кормилица моих котов, горничная мёртвого поэта?»
«Ты бредишь, Скима. Поищи. И если не найдёшь, я пересплю с твоими котами. По очереди. Слышишь, Скима?»
Но он уже не слушал. Он выпрямился и снова сложился, как будто не человеком был, а резиновой змеёй, он тёрся щекой о дерево и сдерживал тошноту от запахов чужого, ненужного сна. Он слышал, что внизу радостно гудели, словно там проводили публичную казнь, но ему было не до отрубленных голов — он сосредоточенно и маниакально исследовал каждый сантиметр этой узкой и тесной ниши.
Терезиус Скима, агент ED, не мог просто отбросить занавеску, закрыть дело и уехать домой, к котам и женщине, которая их кормила. Терезиус Скима извивался на книжной полке, словно его ласкала неодолимая и мощная сила, словно ему в этом полумраке лизали яйца все языки мира. Он сам чувствовал себя книгой, желающей читателя всей тысячей своих страниц, жаждущей, чтобы её расшифровали — а лучше разочаровались и поставили обратно, чтобы больше никогда уже не раскрыть.
И неожиданно он нашёл.
На балке, которая держала над головой десять тысяч книг, он, продираясь сквозь сетку своего ненадёжного зрения, заметил царапины.
Stuta Miensk. Uvjuta Siadych. Liuta. Truduta. 2015.
12.
Усевшись на расшатанном пластиковом стуле, которому было лет пятьдесят (полвека принимать на себя тяжесть чужих задниц — вот где подвиг, вот где поэзия, подумал Скима), он отчаянно, до звона в ушах, вслушивался в гулкие звуки стихов — и не понимал ни слова.
На расчищенном от книжных трупов возвышении, прямо под виселицей микрофонной стойки сидела узкоглазая женщина, похожая на тех, которые день за днём штурмовали картонные ширмы «Розенгартена», и шептала что-то мучительное. Микрофон был похож на жёлудь, а голос был тихий и страстный — и Скиме казалось, что поэтесса говорит с членом своего любовника. Чувствуя, как старый стул под ним постепенно расползается, и удерживая его под собой только усилием тазовых мышц, Терезиус Скима вслушивался в бессмысленные слова и думал о том, как же она на самом деле несчастна, эта азиатка. Лежать бы ей сейчас наверху, за засаленной занавеской, и нашёптывать свои тексты тому, кто поймёт её лучше всех. То есть никому. Только сейчас он понял, кто идеальный слушатель в этом королевстве теней и утраченных следов. Только сейчас он узнал его имя, скрытое за тысячами псевдонимов. Никто.
Стихи для никого.
Её слушали снисходительно и всё более нетерпеливо. А она бормотала, она мыла ноги собственной славе — мы, говорила она, мы, мы. Слова разбегались по углам, как мыши. Каким же дураком нужно быть, чтобы броситься их ловить.
Лаская серебряную бородку, он слушал.
А они нет. Несколько десятков мужчин и женщин, которые развалились в ногах поэтессы, нетерпеливо смотрели, как судорожно двигается её израненный чтением рот. Скима обводил их глазами: раз, два, три, десять, двадцать, сорок ушей… Они смотрели на сцену так, будто собирались соревноваться, кто забросит в раскрытые губы этой женщины больше всего орешков, монеток, камешков и разных других крошек своего внимания. Ангельский шёпот в бессмысленный микрофон, ангельская тишина молчаливых книг — и их брезгливые улыбки, готовые в любую минуту разорвать целлофан сосредоточенных лиц.
Нет, они не ломали кресел. Не сливались в оргии издевательского восхваления. Не выкрикивали лозунгов, как в «Последнем книжном», тогда, в Берлине. Когда она закончила читать, они начали хлопать. Всё началось как обычные аплодисменты, но никто не собирался останавливаться. Они били в ладоши, как механизмы, созданные для грохота и шума, они хлопали и хлопали в ладоши, всё громче, всё более слаженно и зловеще. Поэтесса на сцене поклонилась, потом ещё раз, с закрытыми глазами, но хлопанье не утихало. Эти жуткие аплодисменты вырвались за границу сознания и угрожающе наползли на край сцены, подбираясь к её ногам. И только тогда стало ясно, что эти хлопки значат на самом деле. Истязание. Пытка. Приятный и полезный массаж ладоней.
Хлоп, хлоп, хлоп, так на площади маршируют солдаты, так бьёт барабан подчинения — хлоп, хлоп, хлоп. Женщина на сцене покраснела, она хотела убежать, но аплодисменты стали ещё громче, ещё оглушительнее, они приковали её к микрофону, к стулу, к этому древнему книжному магазину. Они хлопали в ладони, как настоящие убийцы, они впивались в её затихший голос, упивались её растерянностью и слабостью, они высасывали её искренность, расталкивая друг друга, втягивали в себя её стихи, словно это были помои, и хрюкали от наслаждения. Когда она читала, они громко переговаривались, опустив морды в телефоны и планшеты, а теперь они уничтожали её — это было их хобби. Просто бей, бей, бей в ладони, убей и забудь. Ведь для чего ещё они нужны… они… кни… Knie… Gier… Knall und Klang.
И Терезиус Скима сидел сейчас среди этих убийц, сидел, ничего не предпринимая, чувствуя своё бессилие, просто сидел и наблюдал. И когда женщина у микрофона вздохнула последний раз, обвела ужасными и красивыми узкими глазами публику и упала к её ногам — люди наконец выдохнули. Взрыв облегчения разбросал слушателей по стенам; натыкаясь на стулья, на ставшие вдруг чужими лица и острые локти, публика поспешно покидала книжный магазин. Шекспир оставался в одиночестве, компания разбредалась по городу, и каждый из тех, кто принимал участие в экзекуции, уносил с собой книжку — и Терезиус Скима представил себе, как они плывут по чёрной Сене, эти белые бездарные листы бумаги.
Уложив поэтессу спать, они с Бранкой вышли на улицу и зашагали вдоль главной парижской вены прямиком в его желудок — и вот уже сидели в каком-то душном ресторане и пили вино: Бранка — живое, жгучее, рубиново-революционное, а Скима — мёртвую, безградусную, безрадостную подделку.
«Агония, — говорила Бранка. — Но ещё не смерть. Смерть останется другим. Вот когда в магазине будут сидеть тысяча человек и никто из них не будет знать, что происходит, но они будут сидеть и слушать, глумливо улыбаясь и гадя прямо под себя… когда они физически не смогут оторвать свои задницы от кресел… Вот тогда это будет смерть. И поэтому наш долг: уничтожить книжные магазины до того, как они начнут убивать нас самих. И когда мы почувствуем, что конец близко, мы устроим пир…»
«Но как же твой оптимизм? — спросил Скима. — То, о чём ты говорила? Мир может измениться. Не сразу. Маленькими шагами. И всё потихоньку вернётся. Разве ты не веришь в это?»
От вина глаза Бранки становились всё круглее и чернее. С каждым бокалом она всё больше молодела — и это была зловещая метаморфоза. Скима видел, что завтра старость обрушится на неё с такой силой, что весь сегодняшний вечер покажется просто скучным маскарадом.
«Верю ли я… Верить — это занятие, не имеющее отношения к литературе».
Она зевнула и посмотрела на него как-то странно. Словно отгоняла от себя его, Скиму, а не навалившуюся сонливость. Терезиус Скима вдруг почувствовал себя немного обиженным.
«Расскажи, что ты ещё помнишь про моего клиента. Он читал тебе?»
«Читал? Конечно. Но я не слушала. Я хочу, чтобы те, кто находит у нас убежище, подумали не только о себе, но и о магазине. Чтобы приводили людей. Чтобы привлекали внимание. Каждый день я рассылала их по Парижу, этих поэтов, как банду нищих, чтобы они принесли назад хоть какую-то добычу. Чтобы вечером произошло хоть что-то. Чтобы напомнить всем, что “Шекспир и компания”…»
И хотя она не договорила — Терезиус Скима неожиданно понял, в чём дело. Это было ясно как день — и как, наверное, смешно он выглядел в их глазах, когда рассспрашивал их о мёртвом постояльце.
Все они: Кляйнрот, Лампе, Мира, Петра, Бранка — писали сами. Писали сами и наткнулись однажды на непонимание и непризнание, и почувствовали вину, и осознали свою слепоту. И чтобы никто не заподозрил их в амбициях — они бросились спасать других. Они делали вид, что держат последний рубеж обороны — а сами прятали под поспешно возведёнными стенами свои стихи. Свои голоса, за которые им было стыдно.
«Ты пишешь стихи?» — спросил Скима.
«Я? — испуганно переспросила Бранка. — Ты что, с ума сошёл?»
«Но ты их писала? Раньше?»
«Да пошёл ты».
Но никто никуда не пошёл. Они продолжали сидеть друг напротив друга, и губы у Бранки были красные, а волосы седые, и Терезиус Скима чувствовал, что она лжёт.
«Слушай, ты можешь наконец выпить со мной вина? Или и дальше будешь цедить эту хрень? Ты же в Париже!»
«Я выпью рома… У вас есть ром? С мулаткой на этикетке?»
Но официант опять его не понял. Перед ним стоял стакан, полный льда. Терезиус Скима достал пальцами кусочек и приложил ко лбу.
«Беларусь, — сказал он. — Этот бедняга был белла-русом».
«Быть белла-русом — это уже само по себе стихотворение, — улыбнулась Бранка. — Знаешь, я вспомнила. Вспомнила, когда ты приложил ко лбу лёд. Совсем как у Пруста. Ты его взял, вот так, сморщившись, и я вспомнила, как мой парень заставлял меня прикладывать лёд к соскам. Чтобы они торчали. О боже, это и правда было со мной… Давно и неправда. И вот в то время я прочитала однажды в интернете статью об этой Белла Руси. Это было так забавно. И так симпатично. Хочешь сигарету?»
«Почему книжные женщины так много курят?»
«Если бы у тебя было сто тысяч книг и ты бы точно знал, что они никому не нужны, — ты бы не только закурил, ты бы сам превратился в окурок».
«Так что за история?»
«Лет тридцать назад один русский… то есть нет, один такой вот бэ ля рус, купил остров где-то между Грецией и Италией. Маленький остров, могильник вредных отходов. И, представляешь, как в древние времена, решил стать там императором. Императором своей крошечной Бэ ля Руси. Тридцать подданных, отставной полицейский — министр тайной полиции, писатель-неудачник вёл хронику… а министром культуры, здравоохранения и обороны была старая неграмотная бабка. Почти что колдунья. И знаешь, чем закончилась история этой Великой Мусорной империи? Мигранты, которые добирались до Европы на старом катере, высадились на острове и разбили императору голову. А бабку объявили своей святой. Карго-культ. Вот так. В те времена так весело было заглядывать утром в ленту новостей. Тогда казалось, что всё вокруг — сюжет для романа. Помнишь?»
«Я родился в 2015-м, — сказал Терезиус Скима. — Слишком поздно. Такой истории я не слышал. Но за сегодняшнее утро прочитал об этой Бэ ля Руси вполне достаточно. Где-то между 1992-м и 2025-м существовал такой лимитроф. Беларусь. Существовал себе с переменным успехом. Жил как-то. Пока Райх не поглотил его. Чего, конечно, и следовало ожидать. Неужели они и правда верили в то, что уцелеют? И вот их уже давно нет на карте. А мой покойник, тот самый, из «Розенгартена», каким-то образом убежал за границу Райха. Но когда это произошло и как, я пока не знаю. Если ты ещё не напилась, я покажу тебе, что нашёл на заднице твоего Шекспира… Там, на полке, где он спал».
«Я уже напилась. И потихоньку перестаю тебя понимать…»
Терезиус Скима заказал ещё рома.
«Без льда», — сказал он, и она перевела неохотно подошедшему официанту насмешливо и надменно:
«Месье хочет без льда!»
Официант исчез. Ожидая свой ром, слушая ритм её дыхания, Терезиус Скима молчал — но вскоре не выдержал.
«Мне кажется, всё дело в языке. Словно кто-то намеренно калечит слова, чтобы замести следы. Вот. Это было выцарапано его рукой. Там, где он спал».
«Это стихи?»
«Возможно. Так или иначе, это послание. То ли нам, то ли самому себе. То ли эти слова были выцарапаны просто от отчаяния. Есть такой город Минск-Хрустальный в Райхе — а тут почему-то написано: Миенск. А все остальные слова — на несуществующем языке, который так любил наш поэт-извращенец. Я не знаю, что они значат. Увиута, Сядыч, Трудута. Лиута… Любил наш паршивец букву «у»… И не любил делиться с другими своей любовью. Кто его знает, что это значит. Но я узнаю, слышишь, Бранка?»
«Беларусь… — проговорила Бранка, уже не слушая. — Я что-то такое помню, из детства. У них была диктатура. Последняя диктатура в Европе. Когда я была маленькой, родители однажды взяли меня на вечер в Centre International de Recolettes. Это около Восточного вокзала. Я могу ошибаться, но там, в этом Центре, выступали эти самые белорусы. Женщина и мужчина. Народу пришло немного, гости что-то читали, а все слушали их с такой жалостью… Я сидела и понимала, что это не важно, что именно они там читают… Важно то, что они приехали из страны, где всё так плохо, как мы даже не можем себе представить. Мы, для которых свобода врождённое, естественное состояние. Мы воспринимаем её как данность. А они нет. Им было о чём мечтать. И я им так завидовала в тот вечер».
«Неужели наш постоялец так и не назвал тебе свое имя? Ни разу? И ничего не говорил о том, как сбежал с родины? Ну хоть что-то? Бранка?»
Но Бранка снова не слушала. Смотрела куда-то в сторону — и вот уже за их столик подсаживалась та самая поэтесса, читавшая вечером в книжном. Терезиус Скима с огорчением подумал, что так и не запомнил её имени. Однако Бранка спасла его:
«Вы уже знакомы? Это Терезиус Скима из Берлина. А это Софья Ранован, ирландская поэтесса… Автор каких-то там книжек и лауреатка каких-то там премий…»
«Приятно познакомиться», — сказал Терезиус Скима, пожимая руку маленькой уставшей женщины, которая, кажется, так всё время и жила в полуобмороке, с закрытыми глазами. Словно хотела спрятаться за опущенными веками в свои сны. Впрочем, ресницы шевельнулись — и таким же невыразительным голосом, которым она читала свои тексты, Софья спросила:
«Так вы немец?»
«Я берлинец», — сказал Терезиус Скима.
«Это значило что-то особенное? Ваш ответ? — вздохнула сонная поэтесса. — Вы стесняетесь того, что вы немец?»
«Конечно я немец, — сказал Скима. — Но мой прадед был литовец, а прабабка — албанка. Так бывает. А немец… Ну да, Германия — страна, где мне иногда хорошо. Наверно, это и есть наилучшее определение для родины».
Софья улыбнулась, с трудом подняв на него глаза:
«Узнаю немцев. Вы были первыми, для кого национальность перестала иметь значение. Даже американцам за вами уже не угнаться. В молодости мои немецкие друзья, студенты, говорили мне: в двадцатом веке никто и подумать не мог, что Германия станет самой вменяемой и толерантной страной на континенте. И вот это произошло — а нам всё равно вспоминают Гитлера. По привычке. Привычка — страшная болезнь… Мне — вина. И чем больше, чем лучше».
Они с Бранкой чокнулись, потому что стакан Скимы опять стоял пустой.
«То, что вы сегодня читали, это был английский перевод?» — спросил Терезиус Скима осторожно. Ему пришла в голову одна мысль. Совершенно удивительная мысль, которая могла всё испортить, а могла и помочь, и поэтому её нужно было очень осторожно держать за крылышки.
«Я пишу по-английски», — насторожённо ответила Софья, причмокнув от терпкого вина.
«Конечно, — кивнул Скима. — Как же иначе?»
«Ну не по-ирландски же», — сказала Бранка, икнув. Софья засмеялась.
«Только не надо, дорогая. Ирландский язык давно умер. Но, насколько я знаю, никто не писал на нём и тогда, когда он ещё был жив…»
«Понятно, — сказал Скима. — Никто. Разве что какой-нибудь сумасшедший, который… О котором никто не знал. Потому что он писал для себя и очень узкого круга. Очень узкого: пара-тройка знакомых, котики, утренний отпечаток в зеркале и владелец книжного, который засунул его стихи на самую нижнюю полочку. Да, он пописывал, издал книжечку по-ирландски мизерным тиражом. Которую таскал с собой по миру. Никто о нём не знал. Потому что нельзя серьёзно говорить о том, чего нет».
«На что вы намекаете?» — Софья сделала большой глоток и, открыв на секунду глаза, посмотрела почему-то на Бранку. Со Скимой она остерегалась встречаться взглядом.
«Ха, — выдохнула Бранка. — Я знаю, на что он намекает. Расскажи ей, Скима. Давай, Терезиус, эта история может вдохновить Софью на новые стихи…»
Софья закурила и снова закрыла глаза. Дым ползал по её лицу, ища лазейки, путался в ресницах, а она словно бы спала — и только маленькая рука то и дело беспокойно подносила сигарету к почти невидимым, проваленным губам. Мёртвая поэтесса, которая хочет писать только на живом языке.
Терезиус Скима почувствовал, как в нём начинает пульсировать злость. Ну и пусть, подумал он, не уклоняясь от дыма, который уже начинал ощупывать и его лицо. И он вполголоса, равнодушным тоном рассказал им, что он ищет и что произошло с ним в течение последних дней. Единственное, что он утаил, — историю с медведицей Петрой.
«Я слышу собак», — сказала вдруг Бранка, как только он замолчал.
«Собак?»
Они прислушались.
«Я сегодня весь день слышу собачий лай, — с трудом проговорила Бранка, и в голосе её был плохо скрытый ужас. — С утра. Он всё громче, они будто бы всё ближе и ближе, а теперь я слышу их уже совсем, совсем близко. На соседней улице».
«Этого не может быть, — спокойно сказала Софья. — Это запрещено. Да и кто сейчас может позволить себе завести собаку?»
«Именно, — сказал Терезиус Скима, погладив бородку. — Этого не может быть. Но я тоже их слышу. С того самого момента, как приехал сюда. Насчёт соседней улицы — не знаю. Но где-то вдали они правда лают. И этот лай действительно слышен лучше, чем утром».
Бранка с надеждой пододвинулась к нему.
«Да вы просто напились! — сказала Софья. — Какие собаки? Я ничего не слышу».
Они все втроём невольно уставились в окно, за которым сверкал холодный Париж.
«Мы можем проверить, — сказал Скима. — Давайте я пойду и посмотрю. Пойду на лай, посмотрю и вернусь».
«Нет, — Бранка встала, задев коленом столик. На них испуганно оглянулись. — Мы пойдём все вместе».
Софья неохотно поднялась. Скима заплатил за всех — они даже не обратили на это внимания. По-видимому, это было само собой разумеющимся — он на работе, а они добровольно ему помогают. Двадцать франков — Париж дорогой город.
Свежий воздух сразу их протрезвил. Они пошли прямо на свет фонарей, по проезжей части, нырнули в какой-то двор и вышли на ярко освещённую улицу.
«Что я скажу… — протяжно зевнув, сказала Софья. — Такой ирландский поэт мог бы существовать. Конечно мог бы. Но это вряд ли тебе поможет найти твоего клиента, Терезиус. А вот в чём можно увидеть какой-то смысл…»
Она остановилась посреди тротуара. Три фигуры в юбках отбрасывали на стены старых, возведённых двести лет назад, домов почти одинаковые тени.
«Знаешь, был такой поэт Целан. Его трудно читать — но у того, кто не ленится слышать, возникает почти мистическое чувство причастности к тайне. Так вот. У него есть такой афоризм. Что-то вроде: “Жди терпеливо на берегу. Может статься, что затонувший спасёт тебя”. По-моему, в этом и есть смысл твоих поисков, Скима. Дело не в том, как и куда попал этот бедняга из отеля. И не в том, как его называли. Дело в том, что ты уже никогда не будешь другим. Тем, прежним. Возможно, в этом и есть смысл поэзии. Она меняет тебя, дарит тебе беспокойство, не позволяет тебе умереть. Спасает, понимаешь, Скима?»
«Я слышу их, — прервала её Бранка. — Вон там, за этим забором».
Они прошли вдоль забора, нашли наконец-то дверь, Скима потянул проржавевший замок — заперто. Они обошли вокруг, здание было огромное, а рядом — то ли парк, то ли сад. Возможно, это был госпиталь. А может, и нет.
Решили лезть через забор: высокий Скима подсадил Бранку, затем поднял на руках маленькую Софью, после вскарабкался сам. Победоносно встал на заборе — и тут же, оступившись, под хохот рома в животе, полетел вниз. Сбил с ног Софью, рухнул лицом в траву.
«Кажется, я подвернул ногу», — сказал он, застонав от смеха.
«Лежи здесь… — раздражённо сказала Бранка. — Мы пойдём проверим, найдём собак и тогда…»
«Что тогда?» — спросил Скима, всё ещё смеясь.
Но они не ответили — пошли крадучись в темноту двора. Собачьего лая уже не было слышно. Скима лежал, прислонившись к забору, ощупывал ногу — и думал о бессмысленности слов. Всех произнесённых ими сегодня слов. Ведь существовали другие слова — именно они и вели его вперёд.
13.
Терезиус Скима проснулся с чувством, что лежит в бумажном гробу. Он был зажат между страниц, под тяжёлой обложкой — и она давила ему на затылок, и было трудно дышать, и буквы бесчисленных текстов лезли в нос, как сухая и безжалостная земля.
Я умер.
Нет. Кажется, всё-таки жив.
Он понял это, как только отодвинул занавеску, — и сразу же вспомнил, с гримасой отвращения, как закончилась прошлая ночь. Как ему пришлось заплатить сторожу, отдав почти все франки, которые были в кармане, как он доковылял, пользуясь навигатором на разбитом телефоне, до чёртова «Шекспира» и его клятой компании, как сидел на холодном бордюре в открытой всем ветрам юбке, пока утром ему не открыла девушка-продавщица. К счастью, она вспомнила его и милосердно позволила поспать на полке для странствующих поэтов. Она даже помогла подняться по лестнице наверх — бывают ещё на свете такие добрые девушки.
Он перевернулся на другой бок и сполз на пол — словно толстая книга с полки. Книга под названием «Терезиус Скима. Его жизнь, триумф и бесчестье».
Позор был налицо. Но должен же быть и триумф. Вот только он, как всегда, запаздывал.
Он доковылял до лестницы, а по ней уже поднималась та, вчерашняя Софья, эта сонная поэтическая муха, которая сегодня, при свете дня, оказалась странным и неприятно бодрым и болтливым созданием.
«Скима, — сказала она так, словно он давно путался у неё под ногами. — Знаешь, никаких собак мы так и не нашли. Зато заблудились. Там была какая-то дверь и… Представляешь, Бранка впервые в жизни заблудилась в Париже. И, чтобы как-то пережить этот факт, мы взяли ещё вина. А сегодня она опять слышит собак. Кажется, ей нужно к доктору».
Скима тихо застонал и посмотрел в зеркало в нише над умывальником. Книги, книги, книги, вершки и корешки — и его опухшее лицо. И криво свисающая бородка — будто кто-то нарочно ему её так приставил, ради смеха. Он искоса посмотрел на Софью, а она, словно вспомнив что-то важное, ткнула его маленьким кулаком в бок.
«Я хотела тебе сказать, Скима… Ночью я написала своему знакомому литовскому поэту. Аудрюсу. Он сейчас в США, но рассказал мне, что в Вильнюсе живут эти… Те, кого ты ищешь. Белорусы. Эмигранты. И даже издают там какие-то книжки. Думаю, тебе надо с ними поговорить. Правда, они боятся выходить на контакт. Аудрюс так смешно о них написал. Они повсюду видят российских агентов. Что в принципе объяснимо. Жить у самых границ Райха… Там, в Вильнюсе, наверное, всё кишит шпионами. Как в твоём Берлине сто лет назад. Или в Вене, о которой я когда-то читала роман… Как же он назывался? Забыла. Но у меня есть для тебя адрес. Вот. Улица Пилимо, 51. Думаю, тебе стоит слетать туда. Если, конечно, тебе всё это ещё не надоело. Заодно увидишь землю твоих предков… Берлинец…»
Она хихикнула.
Скима мрачно полез в телефон. Да, экран разбит, но машинка работает. К счастью. Он проверил счёт. Средства его таяли. Но…
Где-то вдали снова залаяли собаки. Он слышал их голоса — откуда-то он знал, что этот лай означает. Чужие пока ещё не перешли границу, они идут вдоль неё. Собачий лай означал опасность, которая может пройти стороной, а может и сорваться, потерять над собой контроль. Это был предупредительный лай — и всё же Скима слышал в нём и кое-что другое. Это был лай-вызов, лай-зов, лай, который обозначал присутствие и готовность.
«Я тоже слышу собак», — сказал он тихо.
«Что? Что ты там стонешь? Ножка болит? Ну у тебя и рожа, Скима. И колготки рваные. И юбка. Ты выглядишь, как побитая проститутка с Сен-Дени. Думаю, тебе стоит купить себе кое-какую обновку. Настоящую мужскую одежду. Иначе тебя не пустят в Вильнюс. Я знаю эти маленькие страны — там не любят таких модников, как ты, и вообще, чем меньше у страны территория и чем меньше о ней знают на Западе, тем строже контроль и тем больше спеси… Так что предлагаю: заказывай билет на завтра, а потом мы идём на шопинг. А можно по букинистам…»
«Не уверен, что после этой ночи я вообще смогу ходить», — сердито сказал Скима, ухватившись за перила.
«Зато летать сможешь! Да ладно тебе. Просто надо её расходить, твою очаровательную ножку, — сказала Софья и взяла его под руку. — Давай просыпайся и не ленись».
Какого чёрта у неё такое хорошее настроение?
Неужели просто потому, что эти придурки вчера раскупили все её книжки? Чтобы сразу же выбросить их и почувствовать внутри привычную пустоту?
Какое счастье, что авиаперелёты так подешевели, отметил он, уже почти машинально покупая билет на завтрашнее утро, на рейс Париж — Вильнюс, и отсылая документы в литовское посольство. Виза пришла через пять минут — в тот самый момент, когда он, опираясь на худющую руку Софьи, словно был её женой, шагал по парижской мостовой.
Он давно не ходил на шопинг в компании с кем-то ещё — и теперь чувствовал себя неловко. Софья выбирала ему подходящее для Востока мужское платье — а он всё бормотал себе под нос, вертя на пальце бородку, что ему ни одно из них не подходит, а сам думал о франках и марках, и о том, что следовало бы написать в Берлин, на работу, что он уже почти у цели, и может быть, ему оформят командировку… Сегодня как раз был день, когда нужно сдавать отчёт. Он не успел. Сейчас дело закроют, обозначив двумя-тремя предложениями всё то, что он нарыл за эти дни, и поставят точку. Нелегал, предполагаемое занятие: поэт; имя неизвестно, на вид и согласно экспертизе: пятьдесят лет; беглец из Российской империи; вероятно, из города Минска-Хрустального; умер в отеле «Розенгартен» в Берлине, Федеративная Республика Германия, дата смерти: 14 февраля 2050 года. Вот и всё. Перо? Книга? Для отдела они ценности не представляют — ибо так и не смогли рассказать до конца о своём владельце.
Но кое-что они всё-таки рассказали.
Словно услышав его мысли, Софья начала рассуждать вслух о том, что она знает два текста, где перо имело важное значение. Первый — легенда об Икаре и Дедале. Они сделали себе крылья из перьев и воска, сказала она, протягивая Терезиусу шерстяное платье такой рискованной длины, что он побоялся его примерить. Возможно, перо должно было напоминать неизвестному умершему поэту о бегстве. Оно было символом бегства из плена.
«Русские любят символы. Не то что вы, немцы».
«Он был не совсем русский».
«Хорошо, — отмахнулась Софья. — Другой текст: путешествие Нильса с дикими гусями Сельмы Лагерлёф. Может, этот твой поэт, как Нильс, просто однажды сел на гуся и…»
Она рассмеялась, застёгивая ему молнию на спине — язык на замке другого, гораздо лучшего платья. И намного более дешёвого.
«Беру», — печально сказал Скима.
Она купила себе тёмные очки — большие, старомодные, и сразу стала похожей на насекомое.
«Ты конечно не читал этих двух текстов, Скима, — сказала она презрительно. — Я найду тебе оба. Потому что мы пришли».
Они потихоньку прошли мимо букинистов, недоверчиво и угрюмо проводивших их взглядами. Софья смотрела на книги так хищно, что было ясно — она и правда будет их читать, если купит. Она остановилась, взяла одну из книг, которые, будто кирпичная кладка, закрывали проход к реке, Скима поотстал — и вдруг его дёрнул за рукав один из продавцов:
«Я думаю, вам нужно взять вот это. Вашей маленькой подружке понравится. Это что-то особенное. Всего каких-то двадцать франков. Полистайте…»
Морщась от боли в ноге, Терезиус Скима раскрыл протянутую ему книгу. И сразу узнал: мадемуазель Дарлон! Она настигла его и здесь, в Париже. Та самая молодая женщина, которая отдавалась догу на глазах у восхищённого, но, увы, уже не существующего читателя. Да, именно у читателя — ведь в книге был и текст.
«Что здесь написано?» — спросил он, с трудом подобрав французские слова.
«Какая разница, что здесь написано, — горячо зашептал по-английски продавец. — Картинки. Вот в чём ценность. Посмотрите, какая у неё волосатая… О… Так давно не принято. Принято стричь. Снова принято стричь! Посмотрите, как тщательно всё выписано: волоски, мокрые от собачьей слюны, видны все подробности. Каждая складка, смоченная языком этой псины. Где вы такое ещё увидите?»
«В Берлине», — сказал Скима.
«Так вы немец? — продавец фальшиво сверкнул глазами. — У меня есть отличные немецкие издания…»
«Я хочу знать, что здесь написано, — сказал Скима. — Вот здесь, внизу, под иллюстрациями. Под обсосанными собакой пальчиками мадемуазель Дарлон. Здесь буквы, разве вы не видите? Много букв. Это стихи?»
«Этого никто не знает, — продавец разочарованно отложил в сторону какую-то книгу в кожаном переплёте. — Эта мадемуазель писала на языке, который придумала сама. Никто пока что не смог расшифровать этот бред. Я думаю, дело в том, что дешифровщики просто не могут сосредоточиться на работе. Когда я был молод, то пробовал. Но эти мокрые волоски… Этот собачий язык… Такой длинный… Большинство считает, что мадемуазель Дарлон описывает здесь свои ощущения. И это возбуждает нас… Больше о Франсуазе ничего не известно. Эта книга — всё, что от неё осталось. Так берёте?»
«Вы думаете, это и правда стихи?»
«Да. Но вам-то что? Вы что, читаете стихи?»
«Моя жена поэтесса, — сказал Скима. — Вчера она читала у “Шекспира и компании”».
Продавец закатил глаза и вдруг расхохотался. Его хохот прозвучал, как крик вороньих стай среди могил на кладбище.
«Поэтесса?»
Он подозвал своего соседа, крикнул ему что-то по-французски — и вот они хохотали уже вместе.
«Зачем ты им сказал? — говорила ему Софья, когда они поспешно уходили подальше от этого странного места. — Кто тебя тянул за язык, Скима? Теперь они каждый раз, завидя меня, будут ржать. Будут подмигивать и предлагать мне выпить. Будут подсовывать мне разное говно. Разве ты не понял ещё, что нет на свете большего стыда, чем быть поэтом?»
«Но ты ведь читаешь перед публикой», — проворчал Скима.
«Об этом никто не знает, — почти что крикнула она. — Об этом не пишут в сети. Об этом не знает никто, кроме моих читателей. Никто! Запомни. Самое страшное, что ты можешь сделать человеку, — это назвать его поэтом. Ведь видимая, осознанная, разрекламированная, не стыдящаяся себя красота — это мёртвая красота. Если я до сих пор пишу, то это потому, что все мои знакомые знают: я живу в Марселе и я менеджер по продажам в «Кати Буйе», иногда летаю в Париж на семинары, и у меня нет времени, чтобы заниматься такой хернёй, как стишки!»
Скима молчал. Потирая ногу, он ковылял рядом с ней, а она не унималась.
«И именно поэтому, Скима, я не валяюсь мёртвая в дешёвом отеле за тысячу километров от дома. Потому что никто, кроме узкого круга посвящённых, не знает о моём маленьком хобби!»
На углу они расстались. Скима пожал ей руку — злую, умную руку с тонкими пальцами. И подумал, что она права.
Поэты всегда правы. Этот урок он уже выучил наизусть.
14.
В самолёте, который то пробивал своим острым носом белые горы облаков, то зависал над ними, словно любуясь, Скима делал вид, что дремлет, а сам наблюдал за русскими.
Они сидели впереди, по обе стороны прохода, то и дело благодушно переговариваясь, и он несколько раз не сдержался и вытянул шею, чтобы снова и снова рассмотреть эту парочку. Они заметили его, занервничали, одеревенели. Как и любые человеческие существа на их месте. Пришлось прикрыть глаза, откинуться в кресле, надуть губы… Вот они и успокоились. А он изучал их, лениво думая о том, как же стремительно стереотипы завладели его мыслями. Как ему сбросить эти очки, как выйти из-под власти знакомых с детства образов? Русские. Мясистые красноватые лица, удобные спортивные куртки, дорогая обувь на мускулистых ногах. Глаза — будто проглотившие только что весь мир самодовольные узкие щели. Крупные широкие носы. Резкие звуки произнесённых ими фраз каждый раз заканчивались какой-то вопросительной интонацией — будто всё, что они говорили, было не более чем загодя выученной ими риторической фигурой. Кто они? Наверное, спортсмены. Вон как двигают спинами — словно уходят в сторону от удушающего приёма.
Да, они очень похожи на спортсменов — или скорее на тренеров, обоим уже за сорок. Где же тогда их подопечные? Хотя здесь трудно что-либо предположить: тренеры могут улететь в заграничную командировку и без команды. Но Российский Райх давно исключён из всех международных соревнований: после своей Великой Победы русские вышли из большинства спортивных федераций, из остальных же их исключили — под давлением правозащитников, да и без Америки не обошлось.
Терезиус Скима не очень-то интересовался политикой, но новейшую историю знал неплохо. После того как Райх по собственной инициативе вышел из Лиги Наций в 2033-м, последние иллюзии (на Западе и правда многие верили, что кремлёвских руководителей можно ублажить ценой мелких уступок и великодушных компромиссов) окончательно исчезли. Встретить в свободном мире русских из Райха, а не эмигрантов, можно было всё реже — российские законы строго ограничили выезд и въезд. Хотя иногда Скима видел имперских русских в центре Берлина, на этих двух пассажиров «Боинга» он смотрел совершенно другими глазами. Ведь сейчас их огромная империя неуклонно надвигалась на него с востока — самолёт, прорезав в сером небе мутную складку, приближался к Вильнюсу.
В том, что это русские, сомнений у него не было. Ещё в Париже, в аэропорту, стоя в очереди на посадку, он увидел их паспорта; кроме идентификационных карточек они имели при себе ещё и забавные красные книжечки с двуглавыми орлами на обложках. Но там, столкнувшись с ними в лоб, он почему-то опустил глаза. Какая-то звериная сила шла от этих мужчин. И она притягивала Скиму — он никак не мог понять, сколько в ней эротики и сколько обычного страха перед чужим, экзотическим, непредсказуемым…
Впрочем, салон самолёта был полон самого разного народу. Мужчины в юбках, мужчины в деловых костюмах, в каких-то безразмерных свитерах и даже в резиновых плащах. Женщины в военной форме, женщины в шубах, женщины в прозрачных нарядах от лучших дизайнеров. Дети — крикливые, сопливые, сонливые, пугливые. Мешанина говоров, темпераментные тирады летали из конца в конец, как молниеносные валькирии. Вот что значит Вильнюс, подумал Терезиус Скима: когда-то он смотрел старые фильмы, мучительно пытаясь понять, есть ли у него хоть какая-то связь с исторической родиной, и узнал, что этот пограничный край всегда полнился авантюристами, лицами неопределённых занятий, шпионами, бродячими музыкантами, представителями самых разных национальностей и религий, художниками… И — поэтами. Но вот его мёртвый поэт, личный поэт Терезиуса Скимы, его персональный покойник, почему-то не искал счастья в Литве, поблизости от своих. Жажда побега была в нём такой сильной, обида и страх, отчаяние и гнев такими жгучими, что его отнесло далеко на запад, поближе к океану, подальше от здешних лесов и застав.
Самолёт начал снижаться. Островки травы внизу превратились в высокий синеватый лес. Самолёт затрясло — будто из дребезжащего тела машины должно было высыпаться всё ненужное, и вот уже колёса коснулись загадочной земли, откуда прадед Скимы начал когда-то своё путешествие.
А теперь его правнука каким-то ветром занесло обратно. Самолёт бежал по гладкому, очищенному ото льда бетону на самом краю Европы — и Скима никак не мог избавиться от ощущения, что он здесь не совсем гость. Он — возвращается. Прямо через головы нескольких поколений своих предков.
Забавно. Ещё несколько дней назад он и подумать не мог, что выедет куда-то за пределы Берлина.
Неужели все его предыдущие жизни были лишь подготовкой к этому полёту?
В вильнюсском аэропорту его ждали первые сюрпризы.
Русские оказались первыми в очереди на контроль.
«Beryot kak bombu, beryot kak ezha, — улыбнулся один из них, просунув свою карточку под стекло. — Pomnish stishok, a, Sanyok?»
Очередь ждала несколько минут — и Скима уже был уверен, что сейчас за этими русскими придёт какой-то зловещий местный патруль и отведёт их в боковую комнату; но им вернули документы и отпустили, и россияне, волоча за собой здоровенные чемоданы, исчезли за дверью. А вот Скима чем-то заинтересовал пограничную стражу — и это было не очень приятно.
«Цель визита в Литовскую республику?» — спросил красивый пограничник, зажав его карточку между своими длинными пальцами.
Терезиус Скима так удивился вопросу, что не нашёлся, что ответить.
Пограничник терпеливо переспросил — на хорошем немецком.
«Я интересуюсь поэзией, — нагло ответил Скима. — Я слышал, здесь пишут хорошие стихи».
Пограничник ошеломлённо поднял на него глаза, и Скима виновато пожал плечами.
«Где планируете остановиться?»
«Вильнюс, Пилимо, 51», — дрожащим голосом ответил Скима, заглянув в телефон. Пограничник подозрительно изучал его своими ясными глазами.
«Поясните точнее, герр Скима, чем вы собираетесь заниматься в Литовской республике?»
«Я исследователь. Исследователь литературы. Книжные магазины, библиотеки. Живые и мёртвые классики…» — пробормотал Скима, одёргивая юбку. Интересно, его дед ещё говорил по-литовски? Отец уже толком не мог.
«Не думаю, что у нас вы найдёте что-то подобное, — стальным голосом сказал этот ладный паренёк и сверкнул голубыми глазами. — Впрочем, ваши документы в полном порядке. Проходите. Добро пожаловать в Литву».
Чуть помедлив, ему вернули карточку — но Скима видел, что совершил ошибку. Пограничник что-то отметил в своём планшете и долго смотрел ему вслед.
Какой чёрт дёрнул меня за язык, корил себя Скима — и тут его остановили на таможне. Собака-робот выскочила откуда-то из угла, ткнулась тупой биопластиковой пастью в край рюкзака и коротко и угрожающе зарычала. Таможенница сделала загадочный жест рукой и что-то сказала, показав бровями на рюкзак. Пришлось расстегнуть и отступить на шаг — всё как в кино. Скима чувствовал себя так, словно его заставили раздеться.
«Что это у вас?»
«Книги».
Таможенница подозрительно полистала книжку про Нильса и цепкими пальцами выудила сборник покойника из «Розенгартена».
«Это русская книга. Да?»
«Не совсем, — сказал Скима. — Я думаю, она бе-ло-рус-ская».
«Это русская книга, — терпеливо сказала таможенница. Она разговаривала с ним строго и назидательно, как с ребёнком. — Мне нужно точно знать, что это не политическая пропаганда. Сейчас я позову эксперта. Подождите здесь».
И она коротко пропела что-то в свою рацию и занялась следующим пассажиром. Скима оказался в самом хвосте очереди — пёстро одетые пассажиры равнодушно проходили мимо него, тревожно поглядывая на непроницаемое лицо офицера таможни. Дверь за последней пассажиркой закрылась. Скима остался стоять у электронного детектора. Таможенница молчала, угрюмо глядя прямо перед собой на ровную серую стену. Наконец эксперт всё же пришёл, полистал книжку и разочарованно сказал что-то по-литовски. Таможенница кивнула и вернула Скиме его странные книги.
«Добро пожаловать в Литву».
Он вышел из здания аэропорта и вдохнул чужой, густой и невкусный воздух. Такси уже разъехались, нужно было экономить деньги. В Вильнюсе было слякотно и ветрено. Скима вернулся, поменял деньги — небольшая пачка литов легко уместилась в кошелёк. Он поднял воротник и побрёл на остановку автобуса, на котором стоял только один человек — неопрятный мужчина в старой и слишком маленькой для него шляпе.
Промозглый ветер задувал под юбку вильнюсскую зиму. Наконец подъехал автобус — жёлтый, неприветливый, открыл дверь. Скима ссыпал водителю монеты со всадником — усевшись, он подумал, что должны же быть такие государства, на гербах которых есть перья… Но так и не вспомнил ни одного — а автобус, делая постоянно какие-то головокружительные повороты, взобрался на холм. Так они и доехали до города — одни в пустом автобусе, он и мужчина в грязной шляпе. Выходя, мужчина немного её приподнял, словно прощался со Скимой: старомодный жест, смешноватый, неуклюжий, как в старом театре, но Скима был готов к тому, что вильнюсские чудеса ещё только начинаются.
Он вышел у самого вокзала и, глядя на навигатор, что просвечивал сквозь паутину экрана, двинулся вниз, по разбитой мостовой. Слева в маленьких гнёздах заброшенных кафе грелись подозрительного вида личности в джинсовых костюмах — попивая пиво, они сидели над пластиковыми тарелками с чебуреками, вдыхали остывающий пар и внимательно следили за ним, и он чувствовал себя каким-то слишком заметным среди этой серой, похожей на разбросанные по улице перья, вездесущей слякоти. У каждого из этих, словно из одного и того же конструктора построенных, кафе было деревянное крыльцо, и там тоже стояли люди — шумно дыша, переговариваясь на непонятном, грубоватом языке, они выпускали в утренний туман сизый дым своих сигарет, и Скима обречённо вбирал в себя всё это затянувшееся, бесконечное чужое утро, и задыхался, и сердце его билось так громко и так часто. И виной этому было совершенно незнакомое ему ранее ощущение — то ли близкой границы, то ли очнувшейся после долгого сна смерти.
Вместе с билетом до Вильнюса ему достался номер в маленьком отеле — где-то здесь, возле церкви. Viešbutis — прочитал он; и конечно же прочитал неправильно. Скима покружил по пустым улицам, его обгоняли озабоченные люди со втянутыми в глубокие, широкие шарфы головами. Отель был дешёвый, очень похожий на «Розенгартен», — единственное окно холодной комнаты выходило на улицу, на росчерк деревьев, будто окно было книжной страницей, на которой кто-то торопливо поставил автограф. Он принял душ и переоделся — и потом долго не мог согреться. Вдруг ему стало страшно: где-то в пальцах ног он почувствовал трепет склонившейся над ним болезни, и вдруг ему показалось, что это начало чего-то ужасного, непоправимого; он выпил несколько таблеток, от которых сердце сразу же начало усиленно тикать, — но не мог заглушить в себе этот чёртов метроном. С неприятным царапаньем в горле он вышел на улицу, ему захотелось выпить чего-нибудь алкогольного, но он заставил себя переключиться. Прага и Париж были ошибками, которых он не мог избежать, — но здесь, в Вильнюсе, ему нужно было как можно скорее снова стать собой. Здесь он должен был остановиться и наконец закончить дело. Потому что дальше была Граница. Дальше двигаться он не мог. След привёл его сюда, на самый край свободной Европы. След человека, который, будучи мёртвым, завладел Терезиусом Скимой, вцепился в него своими бумажными руками, — и кто его знает, чего он громче требовал: Скиминой души или собственной правды?
Так или иначе, отступать Скима пока не собирался. Ровно в два он подошёл к зданию на улице Пилимо, 51 и, закусив губы, вошёл. Он попал в узкий коридор и сразу же обратил внимание на бело-красно-белый флаг, висевший над дверью. Вывеска на трёх языках что-то говорила вошедшим сюда, но что, понять было трудно. Он дёрнул ручку — закрыто. Пустой коридор молчал — Скима решил зайти попозже, он вышел на посветлевшую улицу и пошёл посмотреть город. Брусчатка, жидкий свет, беспорядочные следы на тонком вчерашнем снегу пересекались, бежали куда-то, как буквы, бесконечные рулоны белого и серого зачерствевшего вещества свёртывались и выталкивали Скиму всё дальше и дальше от улицы, на которую ему нужно было вернуться. И вот он уже вышел на площадь, здесь было поспокойнее, почеловечнее — неспешно прогуливались пары, в белом низком небе, как птицы, сидели каждый на своей ветке острия костелов, такие с детства знакомые — и всё же непривычные. Улица повела его вниз, он спотыкался на мокрой мостовой, впереди была ещё одна площадь — а за ней гора с рыжеватой башней, на которой повис большой жёлто-красно-зелёный флаг. И вот уже Скима шёл по узкому, но людному проспекту — он зашёл в пиццерию, съел что-то; он никак не мог избавиться от ощущения, что за ним следят.
Он пошёл обратно к башне, повернул — и наткнулся на спрятанную в вернувшемся тумане дверь. Магазин «Eureka» — так было написано на тёмном стекле старой вывески. Скорее повинуясь долгу, чем по собственной воле, он вошёл, зная уже, что хозяин выскочит откуда-то с совершенно неожиданной стороны. Так и произошло: старый человек, из носа у которого торчали два больших пучка рыжих волос, нашёлся в самом углу, под выключенной лампой. Во рту его послышался тихий шорох, как будто внутри него пролистали книгу, — и скрипучий голос произнёс что-то по-английски. Скима подошёл ближе.
«Вы же нездешний, верно? — спросил старик. — Вы похожи на нездешнего…»
Терезиус Скима протянул ему руку — и старик схватился за неё, как за поручень в берлинском метро. В его взгляде было что-то, от чего Скима почувствовал себя неловко. И вдруг он понял: старик был слеп.
«Вы видите меня?» — спросил Скима.
«Я слепой. Я вижу только то, что хочу. Совсем как авторы всех этих книг, стоящих справа от вас. А слева — те, кто видел то, что им говорили. В конце концов, все книги можно разделить вот так. Неплохая классификация, достаточно универсальная…»
Скима помог ему подняться. Старый вцепился обеими руками за выступы деревянных полок. Тени, на которые можно наткнуться, если забыть, где находишься.
«Как же вы поняли, что я не из Вильнюса? Я же не успел ещё ничего сказать?»
«Здешние сюда не ходят… Всё просто. А ещё от вас пахнет. Пахнет дешёвым номером в паршивом отеле. Пахнет безнадёжностью. Пахнет страхом. Пахнет книгами…»
Терезиус Скима вымученно улыбнулся. Но старик говорил серьёзно.
«Да, я интересуюсь книгами, — сказал Скима, и собственный голос показался ему очень неприятным. — У вас их так много… Но то, что я ищу, конечно в книжных магазинах не найдёшь…»
Старик молчал. Скима засомневался, правильно ли тот его понял. И заговорил громче:
«Может быть, у вас есть книги на других языках? Например, по-русски?»
«Да, — сказал старик. — Они под твоими ногами, на уровне колен. Справа. Опусти руку».
«А, например, белорусские книги… — Скима наклонился и провёл указательным пальцем по сырым корешкам. — Может, у вас есть и они тоже?»
«У меня есть книги на любых языках, — сказал старик. — В том числе на тех, которых не существует. Книги на языках, которые не существуют, для читателей, которых не существует… Интересно, правда?…»
Он ступил в узкий проход, где Скима и сам еле помещался, — и безошибочным движением вытащил с полки потрёпанную книжку.
«Но это не русские буквы, — сказал Скима, беря в ладони измученное книжное тело, чувствуя подушечками пальцев усталость сморщенной бумаги, похожей на кожу, содранную с чьих-то локтей.
«Этого не может быть, — твёрдо сказал старик. — Я не знаю, что там за буквы, но это, как вы сказали, именно бе-ло-рус-ска-я книжка».
«Может, это перевод?»
«Эврика! Может, они просто написали эту книжку нерусскими буквами? — словно поддразнивая Скиму, в тон ему сказал старик. — Специально, чтобы вам насолить? Думаю, вы и сами не очень хорошо понимаете, что ищете. Беларусь… Интересно: в тот самый год, когда я лишился зрения, вдруг ослепла вся Европа. Вам никогда не приходило в голову, что слепые имеют на самом деле огромную власть: весь мир слепнет вместе с ними?»
«Хорошо, я возьму её, — сказал Скима. — Но ведь это, кажется, словарь? Или учебник?»
«Это словарь языка бальбута, — сказал букинист с загадочной и счастливой улыбкой. — Попробуйте что-нибудь прочитать».
«Бальбута? А как же белорусский? Или это тот же самый язык? Что-то я совсем запутался…»
«Эту книгу написала одна женщина… Женщина оттуда. На-та-лья… Наталья Кашкан. Я хоть и слепой, но запоминаю всё, о чём говорили когда-либо посетители моего магазина. А их было не так уж много за последние тридцать лет… У тех, кто потерял зрение, обостряется память. Разве вы не слышали об этом? Сейчас у вас в руках самая загадочная книга из моей коллекции. Давайте, попробуйте что-нибудь прочитать».
Скима неуверенно раскрыл тоненькую книжку и пробормотал:
«Dzonki hutoje da tuputoje algobalbutika balbutima.
O balbuta tajnoje da ujma nevigoje. Balbu balbutima! Imatu sigrutima!»
Все эти странные oje и utimа… Он уже видел их… конечно же он их видел — и они, радостно улюлюкая, бросились ему в глаза: потерянные дети его воспоминаний.
«Звучит как стихотворение. Беру», — сказал Скима, положил литы в сухую ладонь старика и спрятал книжку в рюкзак.
«Хорошее будет развлечение, — одобрил букинист. — Для того, кому нечем заняться. Могу предложить вам ещё несколько таких. У меня есть даже эротика, 1919 год, Италия…»
«Спасибо, в следующий раз. А если, например… если я интересуюсь книгами о… Ну вот, допустим, о городе Минске…», — осторожно спросил Скима.
«Минске-Хрустальном?» — старик почему-то вздрогнул и нервно оглянулся по сторонам.
«Ведь это так близко от Вильнюса, если верить старым картам?».
«Да, — прошептал старик. — И если забыть о границах. Новых карт нигде не достать. Райх засекретил свою географию. Интересно… Интересно. Очень интересно».
«Что интересно?»
«Интересно то, что у меня совсем недавно спрашивали то же самое. О Минске…»
Где-то в глубине книжных завалов послышалось взволнованное сопение. И только тогда Скима понял, что он не один в этом маленьком тесном книжном. Книжном под названием «Eureka», который никак не хотел умирать… Он просто не замечал, ослепнув, что его конец уже близок.
Да, он был здесь не один. Скима уже привык, что любой книжный магазин равен чьему-то одиночеству. Он посмотрел на человека, который появился из тёмной ниши и виновато закряхтел — словно он нарочно скрылся там, чтобы подслушать разговор.
«Добрый день, — сказал человек по-английски, дружелюбно глядя Скиме прямо в глаза. В покрытом пылью антикварном зеркале, которое висело на стене, его лицо казалось почти призрачным, но всё равно это отражение заслуживало больше доверия, чем та дружелюбная, слишком дружелюбная морда, чисто выбритая, с правильными, слишком правильными чертами, которая уставилась на Скиму, делая вид, что она оказалась здесь абсолютно случайно. — Вы ищете книги о Минске? Я тоже! В сети информации очень мало. У меня не было времени подготовиться, но сегодня я твёрдо решил, что нужно найти хотя бы план города. Пусть и тридцатилетней давности. На лекциях нам говорили, что русские многое там поменяли, но не могли же они построить совершенно новый город?»
«На лекциях? Вы изучаете…»
«О, там на самом деле больше говорят о русской душе, чем о русских городах. О духе нового Райха… О переменах, об идеях, о имперской истории. Но зато к нам самим меньше вопросов — и можно неплохо попрактиковаться в языке. Так вы нашли что-нибудь? Я — только вот это. Здесь написано: «Минск — жизни моей источник». Это фотоальбом начала века. И вот, схема городского транспорта. 2014-й. А что у вас?»
«Пока ничего. Я ищу поэзию, — сказал Скима, тщетно пытаясь что-то рассмотреть на выцветшем глянце страниц, которые его собеседник всё время беспокойно перелистывал. — У вас интересное увлечение. Гулять по улицам города, в котором никогда не побываешь…»
«Почему не побываешь? — человек захлопнул книгу. — Я еду туда этой ночью. Я же говорю, у русских к нам меньше вопросов. Подождите. Разве вы не из наших? Не из общества “Drug Rossii”?»
Он с удовольствием произнёс загадочные русские слова.
«Не вижу значка… — он удивлённо и огорчённо покачал чисто выбритой головой. — Хм. Знаете, не следовало мне с вами говорить. Извините. Такие уж у нас правила. Если кто-то узнает… Не так уж легко добыть разрешение…»
Он отвернулся, стал искать в карманах деньги. Но Терезиус Скима видел, что так просто всё не закончится. А я неплохой психолог, отметил он, когда человек вдруг обернулся. Непонятная гордость переполняла его — и ему, отметил Скима, очень хотелось ею поделиться.
«Хорошо, я скажу вам, — понизил голос этот любитель России. — Я получил визу в Райх. Сегодня ночью уходит мой поезд на Минск. Я увижу Райх собственными глазами. Страшновато, конечно, но я целый год слушал эти их нудные лекции, платил за языковые курсы, переводил деньги на церкви…»
«Не может быть, — сказал Терезиус Скима голосом убеждённого скептика. — Так просто в Райх никто попасть не может. Это всем известно. Вы, наверное, шутите. Ха-ха…»
«Ну, это вам туда так просто не попасть, — язвительно ответил этот дурак, уже барахтаясь на заброшенной Скимой удочке. — В такой одежде, в таком виде, как у вас, туда точно не попадёшь. В Райхе не любят мужчин в юбках. Как и всех этих моднявых пидоров, декадентов, богему, марсиан, новых европейцев. Нет, я против вас ничего не имею. Мода есть мода. Но если вы хотите записаться в наше общество — придётся расстаться с некоторыми привычками. Или, по крайней мере, засунуть их на какое-то время в то место, которое в Райхе не ассоциируется с любовью».
Старый букинист всё силился что-то сказать, крутил волосатым носом, но они уже забыли о его существовании.
«И всё же звучит невероятно, — сказал Скима. — Вы хотите сказать, что уже завтра будете по ту сторону границы? Думаю, они вас обманули. Это так по-русски. Взять деньги у нас, глупых европейцев, и ничего не предложить взамен. Я имею в виду: ничего достойного. Конечно, что-то они вам покажут. Пограничные вышки и потёмкинские деревни. Но чтобы целый город…»
«Хотите взглянуть на билеты? — обиженно спросил член общества «Drug Rossii». — Вот. А вот виза. Они дают не только электронную, но и бумажную. Представьте себе. Вот, смотрите, целая книжечка. Орлы, печати. Нет, извините, я только покажу, в руки дать не могу. Сами понимаете. Такая удача. Кстати, как вас зовут? Я — Матти Мартинен, из Хельсинки».
Лгать было ни к чему.
«Терезиус Скима, из Берлина», — протянул ему руку агент.
«О, Берлин, — сказал Матти. — Так вы немец».
«Я берлинец, — быстро сказал Скима. — Интересуюсь русской поэзией».
«Поэзией? Я не знаю, что это такое, — сказал Матти, пряча документы в карман. — Но в Райхе всё великое, всё огромное. Не сомневаюсь, что и эта ваша поэзия тоже. А у меня с детства слабость к великим целям и большим вещам. Мой отец голосовал за Великую Европу. А я голосую за Великую Россию. Я за дружбу и мир с Райхом. Надеюсь, вы тоже. Последняя война была глупостью. Мы все прекрасно знаем, где заканчивается Европа и где начинается Райх».
«Абсолютно согласен», — сказал Терезиус Скима.
«Они просто вернули себе то, что принадлежало им по праву, — сказал Матти, сунув старику монеты. — Так вы нашли что искали? Эту вашу… поэзию?»
«Я зайду сюда завтра, — сказал Терезиус Скима. — У меня завтра в Вильнюсе целый день. А вы будете любоваться минскими красавицами, выбирать на базаре хрусталь и лакомиться блинами с икрой».
«Ну, это всё стереотипы, — засмеялся Матти, нежно придержав для Скимы двери. Они вышли на улицу, где уже начало темнеть, и рядышком двинулись вперёд по тротуару, который тянулся вверх, к большому зданию, напоминавшему университет. — Блины, икра и красавицы — это прошлое. Меня интересуют идеи. Идея империи была похоронена сто лет назад. Но не успело пройти и полстолетия со дня её похорон, как великий образ возродился из пепла. Я думаю, что это и есть то уникальное самовоспроизводство, которым так знамениты русские… То мучительное, но вовсе не губительное и никогда не кончающееся прохождение через исторические циклы, которое всегда переживала Великая Россия. Эта способность растворить великую идею в простых людях, чтобы в нужный момент кристаллизовать её и получить сгусток исторической, политической, духовной энергии… Вот всё это мне и хочется увидеть своими глазами. И кто знает, может быть, даже почувствовать самому. Хотя бы на три дня побыть частью чего-то великого, исторического, восстающего из пепла… Понимаете, о чём я?»
«Очень хорошо понимаю, — сказал Терезиус Скима. — И я думаю, что в российской поэзии эта идея империи всегда была основополагающей. Российские поэты питаются ею — она двигает их литературу далее. В отличие от Европы, где поэзия давно никому не нужна, у нас нет такого сгустка, о котором вы говорили… В конце концов, русские всегда знали, где границы того, что они считают своим. А мы, Европа, навязывали им свои представления о границах, запирали этого льва — или медведя — в клетку своих требований… Конечно же они задыхались в этой навязанной им системе. Разве той территории, которую дали русским, могло хватить для такой огромной нации и такой культуры? Знаете, Матти, это как в литературе, где автор ограничен империей своего творчества, размером текста, который и политический, и экзистенциальный рубеж. Только тот, кто вырывается за рамки, способен написать что-то стоящее…»
«Вы умный человек, — сказал Матти и даже остановился, чтобы заглянуть прямо Скиме в глаза. — Я всегда уважал немцев. Правда, русских чуточку больше…»
Он засмеялся.
«Не обижайтесь. Немцы — они ведь когда-то просрали свою империю. И вот что у них осталось — пустое либеральное ничто в центре Европы. Вместо того, чтобы быть центром силы. У вас были большие мыслители. Не подумайте, что я нацист, но Гитлер, при всех его ошибках, был всё-таки большой мыслитель. Его ошибка была в том, что он вышел за пределы разумного. Сам же разрушил созданную им империю, а всё потому, что свои великие идеи он превратил в обычные стены, а ведь они могли бы величественно возвышаться над миром, как купол… Да… Мистер Путин сорок лет назад учёл ваши ошибки… Талантливый был начинатель. Собиратель земель русских. Говорят, в Минске ему поставили памятник…»
Они снова пошли рядом. Матти прикоснулся ладонью к руке Скимы и произнёс, серьёзно и как-то смущённо:
«А всё же странно, что вы ещё не член нашего общества… Нам позарез нужны такие люди, как вы. Большинство записывается, потому что хочет острых впечатлений, а людей с мозгами мало. Половина — истеричные бабы. До конца курса выдерживает только треть. Гнилая Европа отучила нас внимательно слушать лекции, отучила учиться! Отучила смотреть на мир с точки зрения великих народов. Зато взглянуть на себя глазами разных мелких наций, которым всё равно мало осталось — в масштабах истории, конечно, — о, вот это мы умеем, вот это мы всасываем с молоком матери. Присоединяйтесь к нам, Скима. И тогда — у меня нет на этот счёт никаких сомнений — и сами съездите на Восток, и в Минск, и в Киев, а может, даже в Москву!»
«Я слишком ленив, чтобы выслушивать всё это чучхе, — улыбнулся Скима. — Я кабинетный человек. Книжный червь. Вымершая порода».
«Вымершая Европа… — сказал Матти. — Вот кто и правда вымер, так это наши страны. Мы. Мы сами. Мне кажется, мы с вами очень похожи. Вы так не считаете, Терезиус?»
Ты даже не представляешь насколько, подумал Терезиус Скима. Ведь только что, в коротком просвете зимнего вильнюсского дня, он сделал открытие, которое невероятно его взволновало. И показало кое-какие перспективы…
Они и правда были похожи. Так, как это бывает только в книгах. Коварных книгах, где всё не взаправду, где правда вообще не важна. Совсем как в том старом романе…
«“Послушайте, — не вытерпѣлъ я. — Неужели вы ничего не замѣчаете?”
Было у меня зеркальце въ карманѣ. Я его далъ ему. Ещё только беря его, онъ всей пятерней мазнулъ себя по лицу, взглянулъ на ладонь, но ни крови, ни грязи не было. Посмотрѣлся въ блестящее стекло. Пожалъ плечами и отдалъ. “Мы же съ тобой, болванъ, — крикнулъ я, — мы же съ тобой, болванъ, не видишь, ну посмотри на меня хорошенько…” Я привлёкъ его голову къ моей, високъ къ виску, въ зеркальце запрыгали и поплыли наши глаза…»
Так было написано в той книге. Откуда он это знал? Что за голос звучал в его голове, пока он молча слушал бредни неумолкно болтающего Матти?
Улыбаясь, Терезиус Скима спокойно шагал рядом со своим двойником. Двойником, который уже попал в ловушку Скимы — но по простоте душевной был уверен, что охотник тут он.
15.
«А не выпить ли нам чего-нибудь местного? — сказал Матти Мартинен. — Я знаю здесь одно местечко… Литовские настойки, конечно, уже не те. Всё на свете так быстро портится. Везде упадок… Но мы-то с вами — люди с творческим воображением. Не правда ли, Терезиус? У тебя красивые ноги… С такими коленями, мой милый Терезиус…»
«Что, извиняюсь?»
«Ничего. Просто сказал, что курение там запрещено. Но ты же не куришь?»
Терезиус Скима накрутил на палец бородку и отпустил. Теперь этот финн был в его руках. Его серый гусь — шанс на то, что он добьётся своего, что доведёт дело до конца. Пусть никто этого уже от него и не ждёт.
Они свернули в арку, нырнули в низкую, почти невидимую в тумане дверь. Матти заказал по стопке, потом ещё по одной. Жадно поглядывая на Скиму, он всё говорил и говорил, отгоняя двусмысленное молчание, которое всё гуще окутывало их и значение которого они оба очень хорошо понимали, молчание, которого ни в коем случае нельзя было допустить. Кажется, Матти пытался его напоить, подумал Скима, рассеянно следя за его суетливыми, преувеличенно заботливыми движениями, за красными, как у альбиноса, глазами, в которых всё сильнее проступали скользкая мужская похоть и полное равнодушие, словно всё уже произошло и финн пытался выставить из номера не нужного ему больше любовника. И тут в кармане его соблазнителя зазвонил телефон, Матти дрожащими руками достал его, поднёс к багровому от тёплой духоты уха, сморщил белый выбритый лоб без бровей:
«Da-da, ya ponimayu…»
Скима следил за ним с жалостью и лёгкой печалью. Он старался ничем не выдать своей тревоги — только что рука Матти сползла с его колена, тот явно заволновался, но взял себя в руки, спрятал телефон и улыбнулся:
«Проблема! Опять проблема. Что-то не так с моим ДНК для визы. Сегодня вечером надо пересдать. Хорошо, что сегодня, иначе бы я всё потерял: билет, деньги, время, свою прекрасную поездку… Сегодня в семь вечера мне нужно быть в русском представительстве. Нет, знаешь, мне, наверное, нельзя больше пить. Русские, конечно, уважают выпивох, но вдруг они неправильно меня поймут? Нет уж, пусть они лучше узнают об этих моих талантах на своей стороне границы… Так что я пас».
Скима сочувственно покачал головой.
«Но ты выпей, выпей, Терезиус… — Матти налил ему ещё. — Ты ужинал? Мы могли бы сходить куда-нибудь, но только после того, как я сдам этот факинг ДНК… Или мы придумаем что-то получше?»
И он нетерпеливо улыбнулся. До семи оставалось ещё несколько часов. Скима сам предложил зайти к нему в отель — Матти поохал, посомневался, но всё же купил шампанского, и они поднялись в номер. Как только дверь закрылась, Матти сразу бросился его раздевать, стащил со Скимы свитер, полез губами к соскам. Скима оттолкнул его и присел на свою сиротскую кровать. Он закрыл глаза — Матти пытался снять с него юбку, но спешил, слишком спешил. Скима помог ему, теперь он был в одних колготках, ему было холодно и смешно.
«Не спеши, Матти», — хрипло сказал Скима.
Матти и сам видел, что в Скиме ничего не отозвалось на его поспешные ласки.
«Но у меня мало времени», — Матти сел на кровать, из-под узких тёплых штанов показались пестрые, какие-то детские на вид носки. А на лице его была такая же детская обида — хочу, а не дают.
«Ты любишь книжные магазины?» — спросил Скима и прислонился к стене. Скоро. Скоро. Уже совсем скоро. Матти обиженно и неотрывно смотрел ему между ног — и Скима прикрылся пледом.
«Конечно люблю, — глухо произнёс Матти Мартинен. — Сейчас это, конечно, не модно. А мне это нравится. Я люблю копаться в серьёзных книгах — ведь они всегда подтверждают мои мысли. Русские — книжная нация. Ты говоришь, у них была большая литература… Да, я слышал об этом. Но ведь она их и погубила. А ещё в книжных тихо. Всегда можно побыть одному. Наедине с мыслителями прошлого. Почувствовать сладость распада и упадка. Прикоснуться к золотой гнили империй. Нет, ты не подумай… Я не ищу всю эту муть вроде романов или этой твоей… поэзии. Я люблю исторические книги. Мемуары. Воспоминания. Эти полумёртвые магазинчики задыхаются от старой бумаги. Там такое можно найти, о чём даже в нашем Обществе не говорят… То, что действительно может пролить свет на русскую душу. Лучше любых лекций и проповедей. Хочешь, я покажу тебе кое-что?»
Скима кивнул, холодно наблюдая, как Матти встаёт и лезет в свою сумку.
«Смотрю, ты любишь долгий разогрев, парень, — оглянулся на него Матти, потеребив своего упавшего друга, и подмигнул Скиме. — Чёртов ты фетишист. У тебя стоит только на книжки? Не думал, не думал… Ах, Терезиус, чёрт нас с тобой побери, у меня и правда так мало времени… Может быть, ты…?»
Скима властно показал ему глазами на сумку. Матти вздохнул и отвернулся.
«Я люблю русское кино… Кино прошлого века. Так называемое советское. Например, их кино про разведчиков. Семнадцать мгновений… Какая тонкая пропагандистская работа, Терезиус! Ты должен посмотреть. А вот что я купил в одном книжном магазине в Варшаве… — сказал Матти, раскрывая зелёную книжку с загнутыми от старости страницами. — Речи государственных обвинителей СССР. Сборник выступлений государственных обвинителей, изданный методическим советом Прокуратуры СССР в 1955 году. Выпуск 11. О, здесь есть что почитать… Это уже после смерти Сталина, но дух… Дух времени там есть. Я перевёл одну из этих филиппик. Хочешь послушать?»
«Расскажи мне краткое содержание», — сухо бросил Скима.
«Хорошо, — Матти Мартинен на мгновение замер, сжался, приказывая своему телу успокоиться и остыть, а потом заговорил спокойным, даже немного скучноватым голосом: — Вот дело от 5 мая 1955 года, рассмотренное Тюменским областным судом. Ты знаешь, где это: Тюмень? Это край мира, Терезиус, и всё же это — Россия. 1955 год! Наши с тобой прадеды ещё были живы…»
«Лирические отступления можешь пропустить», — сказал Терезиус Скима.
«Окей, — Матти важно поднёс книжку к глазам. — 28 марта 1955 года было совершено убийство научной сотрудницы Тюменского краеведческого музея Козловой Н. С. Убийца был задержан в момент, когда он садился в такси, пытаясь убежать с места преступления. Следствием было установлено, что убийца — муж Козловой, Козлов В. Н., который нанёс потерпевшей 44 ножевые раны. Суд применил к Козлову Указ от 30 апреля 1954 года “Об усилении ответственности за умышленное убийство” и приговорил его к высшей мере. Вот где поэзия, Скима… Поэзия имперских судов, поэзия столов, покрытых сукном, поэзия гулких коридоров, бытовых убийств, а за окном Сибирь, унылые многоэтажки, пьянство, абсурдные лозунги на серых столбах, небо, от одного цвета которого хочется повеситься… Но они жили, эти люди, жили и верили в империю. Люди, которые никогда из родного города не выезжали. Ну, может, разве что в Крым или в Ленинград. Но Европа — она была для них как Луна! Как Марс! Как другая галактика, Скима! Вот в чём их величие. Им вполне хватало империи, они были достаточно умными, чтобы ловить кайф от несвободы. А нам? Нам всё свободы мало…
А начиналось всё так, Скима. Слушай… “Товарищи судьи!”, бла-бла-бла…»
И опять в голове Терезиуса Скимы заговорила книга — заговорила будто бы сама по себе. На другом, грубом и удивительном языке, который он почему-то прекрасно понимал.
«“Событие, происшедшее 28 марта 1955-го в здании областного краеведческого музея, глубоко взволновало общественность Тюмени. В середине дня в помещении музея на глазах у сотрудников была убита Козлова Наталья Сергеевна, член ВЛКСМ, научный сотрудник музея.
В день убийства к подъезду музея подъехал на такси мужчина, на вид лет 24-х, одетый в пальто и шляпу. Он поднялся на второй этаж. Дежурный кассир, узнав в посетителе мужа Козловой, приветливо встретил его.
Зайдя в зал, где работала жена, Козлов стал уговаривать её вернуться к нему, и, когда она отказалась продолжать совместную жизнь, Козлов попросил её пройти в одну из комнат, расположенных рядом. Через несколько минут сотрудники услышали крик Козловой. Вошедшие в комнату сотрудники увидели, как Козлов, держа одной рукой жену, наносил ей другой рукой удары ножом.
Сослуживцы Козловой пытались помешать убийце, но подходить ближе не решались, а ограничились тем, что стали бросать в него книги…”
Книги, Терезиус. То, что было насквозь пропитано идеями, не смогло заставить Козлова остаться человеком. Он стал чудовищем — и теперь книги летели в него, как символы бессилия государства.
“Не обращая на это внимания, Козлов продолжал наносить жене удары. Он нанёс ей 44 удара ножом. Убедившись в том, что жена находится в предсмертной агонии, он бросил нож и попытался скрыться, но был задержан гражданами при посадке в ожидавшую его автомашину.
Подсудимый Козлов признал себя виновным и объяснил, что он любил Наталью Сергеевну и убил её потому, что она не хотела жить с ним и ушла от него.”
Почему же Козлова ушла от своего мужа? Ты слушаешь, Терезиус?»
«Да».
«Дело в том, что она училась и была скромной и умной женщиной, а он пил, бил её, изменял, а ещё не давал ходить на занятия и заниматься общественной работой. Когда они жили в отдельной квартире, он рвал её конспекты, которые она склеивала, а ещё спрятал её комсомольский билет, “в связи с чем потеря билета обсуждалась на комсомольском собрании”.
Потом он пошёл служить в армию. Три с половиной года он не писал ей, не отвечал на письма, сошёлся с другой женщиной. Козлова нашла его, и он снова стал жить с ней. И снова начались избиения и грубость. И тогда она ушла. 17 марта Козлов стучался к соседям и звал их на похороны Натальи.
“Свидетель показал, что Козлов высказывал намерения совершить по отношению к жене такие циничные действия, о которых невозможно здесь в публичном месте говорить. Убийство было совершено столовым ножом. В 12 часов 40 минут в карете скорой помощи от нанесённых ран Козлова скончалась.
Стараясь смягчить свою вину, подсудимый Козлов пытался доказать, что Наталья вела себя нечестно. В частности, он заявил, что она получила перевод на сумму в 150 рублей из Ташкента, от знакомого по имени Владимир. Проверка этого факта опровергла лживое клеветническое заявление Козлова.
Какие же причины способствовали такому тяжёлому концу семейной жизни Козловых?
Их брак был случайным. Взаимной любви у них не было, взаимная помощь отсутствовала, равноправие супругов — этот непреложный закон семейной жизни — было попрано, взгляды на жизнь и общественные обязанности были различными. Общественные организации, профсоюзные, комсомольский коллектив не вникали в их жизнь, не помогли наладить правильные взаимоотношения.
Советские люди в своих письмах выражают возмущение и требуют сурового наказания убийцы.
«Такому — не место среди нас! Это было не просто убийство, а исступленное кромсание полумертвого тела».
«Такому — не место среди нас! Гадов, мерзких насекомых сбрасывают с тела и уничтожают. Выродков, подонки старого общества мы так же безжалостно сбрасываем со здорового тела нашего общества. Мы требуем высшей меры наказания — расстрела!»
«Мы просим применить к убийце самую высшую меру наказания — расстрел! Это отброс общества, сорняк, засоряющий чистые поля, и этот сорняк надо безжалостно уничтожить».
К этому голосу трудящихся присоединяю голос обвинителя и я требую на основании Указа от 30 апреля 1954 года применить к Козлову Виктору Михайловичу высшую меру наказания — расстрел”».
«Я, конечно, опустил кое-что, — скромно сказал Матти, посмотрев на часы. — Как всё же приятно, что наконец поделился этим сокровищем…»
«Но почему это сокровище?» — спросил Скима.
«Потому что это гениально, Терезиус. Вот какие это были люди — люди идеи. Уголовников и политических они судили по разным законам, но выжигали калёным железом и тех, и других, и третьих. Всё живое, что не служит идее, должно погибнуть. Только идея может оправдать всё — и только идея имеет право обвинять! Если бы я жил в то время, я был бы сначала коммунистом, а потом нацистом!»
«Вот как».
«Я люблю поразмышлять о том, как бы эта история выглядела в наши дни. В эпоху так называемой Новой Демократии», — ухмыльнулся по-мальчишески Матти. Неужели и у меня такая же юная улыбка, подумал Скима. — «Так вот. Если бы история происходила в Райхе, ничего бы не изменилось. Прозвучали бы такая же речь и такой же приговор. Нынешние российские законы ничем не отличаются от законов 1954 года. Они даже более строгие. А теперь перенесём её в нашу Европу. Во-первых, все эти феминистки просто не дали бы миссис Козловой сохранить этот брак. Её отправили бы в тайный лагерь, где учат самообороне и психологическому противостоянию. И она бы вернулась и спровоцировала его агрессию. Но за это не понесла бы никакого наказания. Наоборот — эти воинственные бабы воспользовались бы ею как очередным флагом. Во-вторых, и без этого Козлов всё равно нашёл бы её рано или поздно — инстинкты так легко не задушишь. Нашёл и заколол бы — но прокурор попросил бы для Козлова высшую меру в европейском понимании этого слова. То есть уютную тюрьму со всеми удобствами на морском берегу, где Козлов мог бы лет пять заниматься творчеством, самосовершенствованием, расширением своих духовных и жизненных горизонтов. К его услугам были бы бесплатное порно для удовлетворения естественных потребностей, интернет, поездки в краеведческие музеи с целью перевоспитания и вкусная еда трижды в день за счёт государства. По выходным — виски, рыбалка, футбол. Понимаешь, Скима? Мне противно себе представлять, что сейчас, в этот самый момент тысячи таких мистеров козловых отдыхают в европейских тюрьмах. Мерзких козловых, пресмыкающихся и вредных паразитов, расплодившихся на здоровом теле Европы, чужаков, которые лезут туда, где самое слабое место, где можно спрятаться и пить кровь Европы, — ведь их надо истреблять. И это возможно только в Империи — там, где власть не боится орудовать железными щипцами и рвать без анестезии. Я мечтаю о том времени, когда наши учителя, наши простые люди, наши служащие Лувра, Пинакотеки и Прадо будут писать письма в парламент: мы требуем смерти для всех, кто её заслуживает, а прежде всего для чужаков, которые ползают по нашим городам, пользуясь нашей же пресловутой гуманностью!»
«Да, — кивнул Скима, откидывая одеяло. — Это было бы здорово».
«Я снова заболтался, — улыбнулся Матти, потирая своё детское лицо. — Ты уже готов?»
«Почти, — сказал Скима. — Поиграй со мной».
«Сейчас я приду к тебе, милый Терезиус, а потом я оставлю своего прекрасного немецкого друга здесь, с бутылкой шампанского, и побегу по делам… Русские не любят опозданий, хотя сами — самая непунктуальная нация в мире… Кстати, а что у нас здесь? Что мы прячем в таком элегантном рюкзачке?»
Матти полез в рюкзак Скимы, достал его зубную щетку, лезвие, кремы, книги и…
«Перо, — сказал Матти. — Зачем тебе это?»
Скима выдавил из себя многозначительную улыбку и отвёл глаза.
«Ты ласкаешь им свои…»
«Ты забыл запереть дверь», — сказал Терезиус Скима. И когда Матти Мартинен послушно вскочил и повернулся к нему спиной, Терезиус Скима спокойно взял бутылку шампанского и размашисто ударил его по темени.
А потом ещё раз.
Терезиус Скима не любил нацистов.
И коммунистов тоже.
Он не любил идеи и людей, готовых за них убивать.
Он терпеть не мог жестокость.
Он любил котов, узкие юбки и старое немецкое кино, которое снимали на смартфоны в самом начале века.
Он слышал, как лают собаки. Близко-близко. Уже совсем близко. Словно они узнали его, словно они видели его силуэт в освещённом окне дешёвой вильнюсской гостиницы.
Терезиус Скима аккуратно снял колготки, майку, трусы. Голый и прекрасный, покрытый гусиной кожей, из которой, к сожалению, не торчало ни одного пера, он стоял перед зеркалом в номере дешёвого отеля на самом краю Европы — и не было никого, кто мог бы ему помешать.
А затем произошло чудесное превращение.
И можно было не сомневаться, что кого-то оно могло бы довести до слёз. Ведь роскошная, тонкая, закрученная бородка с серебристым шнурком упала на пол. Не прошло и пятнадцати минут, как перед зеркалом, нежно поглядывая на сиротскую кровать, где лежал ничком незнакомый мужчина в мятой юбке, красовался чисто выбритый, лишённый бровей и полный жизненных сил господин Матти Мартинен. Господин Мартинен в узких брюках, белом свитере и синем зимнем пиджаке. В его кармане была идентификационная карточка, электронная пуговка местного железнодорожного билета и красная книжечка с двуглавым орлом, на обложке которой кириллическими буквами были золотом выведены слова, которые знал каждый:
«Российская империя»,
а внизу, чуть меньшими буквами, другие слова, понять которые было уже труднее:
«Разрешение на въезд и временное пребывание».
И вот уже этот новый, уверенный в себе, но при этом невероятно похожий на старого Матти Мартинен спустился вниз, быстро прошёл мимо пустой рецепции и зашёл в лавочку на углу улицы. Купил бутылку водки, вернулся в номер и, ласково придерживая подбородок мужчины в юбке, вылил водку ему в рот. А затем вымыл руки, подхватил сумку и рюкзак и вышел в вечерний туман, к невидимым собакам, которые неистово выли, словно вдруг потеряли след.
Матти Мартинен вызвал такси, которое повезло его на другую сторону реки, и выпил там кофе, разглядывая город, который становился всё более шумным, пёстрым и настойчивым: город звал господина Мартинена повеселиться, потратить немножко денег, звал на самых разных языках, но у господина Мартинена были дела. Ровно в семь он позвонил в дверь российского представительства, его провели в помещение, похожее на медицинский кабинет, где мужчина в белом халате грубовато засунул пану Мартинену в рот стеклянную палочку и сказал, как выругался:
«Окей, you are free!»
Словно господин Мартинен был жертвой, которой этот грубый человек только что даровал свободу — по одному только мановению своей стеклянной волшебной палочки.
В тот вечер господин Мартинен заглянул ещё в одно место. На Пилимо, 51.
В этот раз здесь было открыто. И даже бело-красно-белый флаг, висевший над дверью, словно показывал всем своим видом, что любой желающий может сюда войти, если, конечно, не будет говорить лишнего.
Флаг, подумал Терезиус Скима. В Европе такие вещи давно уже считались архаизмом — флаг был равен перу в этой игре, которую Скима вёл уже целую неделю, и ничего пока не обещало, что когда-нибудь в ней будет объявлен результат. Флаг висел на башне посреди этого древнего города, флаг горел красным над этой неприметной дверью, предупреждая о серьёзности намерений, флаги торчали на машинах с дипломатическими номерами, обогнавших Скиму по дороге сюда, а если вспомнить ещё и тот триколор с золотым орлом, что болтался над воротами российского представительства… Терезиус Скима подумал, что вряд ли смог бы жить в стране, где нужно любить флаг. Странная, странная, странная любовь… Он помнил, что когда-то за оскорбление флага человека могли убить — волей власти, окриком государства: интересно, что сказал бы об этом Матти Мартинен?
Мистер Мартинен вошёл в тесный кабинет, где за длинным столом, уткнувшись в старые ноутбуки, сидели трое неприветливых сотрудников. Двое мужчин и женщина с русой косой, конец которой она спрятала под воротник военной куртки.
Они все вместе подняли глаза на Скиму — усталые глаза людей, которые не привыкли шутить в присутствии родного знамени: в центре стола стоял, приклеенный к пластмассовому древку, брат того, первого штандарта. Брат или сестра — это было уже не важно.
«Добрый день», — поздоровался по-английски Терезиус Скима.
«Добрый», — мрачно ответил один из мужчин и приподнялся, окидывая Скиму профессиональном взглядом обличителя тайных заговоров.
«Меня зовут Терезиус Скима, — он облизал сухие, готовые лгать губы. — Правильно ли я понимаю: здесь находится центр белорусской эмиграции в Вильнюсе?»
«Правильно, — отозвался второй мужчина, тоже не очень-то дружелюбно. — Что вам нужно?»
И всё же они были удивлены, подумал Скима. Это было то особенное удивление, когда человек уверен, что всё должно быть иначе, лучше, интереснее, а оно всё равно — из рук вон.
«Ваши контакты дал мне литовский поэт, который сейчас живет в США. Я агент службы ED в Берлине и занимаюсь делом вашего соотечественника, — терпеливо сказал Скима. — Я думаю, что он был бе-ло-рус. Он умер в берлинском отеле несколько дней назад. Его основным занятием, по-видимому, была поэзия. После него остались вот эта книга, блокнот и… И вот это перо».
Они посмотрели на него с недоумением и снова опустили глаза в свои допотопные машины.
«Вы понимаете по-английски?» — спросил Скима.
«Не очень хорошо, — призналась женщина. — Так вы немец?»
«Я берлинец, — сказал Скима. — Может быть, я попробую сказать другими словами, чтобы вы поняли?»
«Просто я говорю по-немецки лучше, — ответила женщина. — Давайте по-немецки. На вашем родном языке».
«Хорошо», — согласился Скима и повторил всё, что нужно. На родном языке — так она сказала. Эти слова привели его в замешательство. Он подумал, что он и сам не знает, что это такое: «родной язык»; что-то тоже неуловимое, что требует своего расследования. Он и не думал, как это сложно иногда бывает: назвать язык родным, найти ему имя.
Она взяла из его рук книжку и передала её мужчинам.
«Да, это по-белорусски», — сказал один.
«Это наш язык», — сказал другой.
«Но чего вы хотите от нас?» — спросила женщина.
Трое за длинным столом. Три портрета на стене: мужской, женский и ещё один мужской. На первом человек с усиками, на втором — старуха, нарисованная красным, синим и чёрным, на третьем — чьё-то фото.
«Кто это, на стене?» — спросил Скима.
«Это же Купала! А рядом святая Бенигна и Максим Кривичанин, — сказал раздражённо один из мужчин. — Наши герои. Что вы от нас хотите?»
Он тоже говорил по-немецки. На школьном, примитивном, ломаном, очень забавном немецком, заставляющем Скиму изо всех сил сдерживать улыбку. Подумают ещё, что он издевается. Здесь сидели серьёзные люди. Серьёзные люди под серьёзными портретами рядом с серьёзным флагом, и эти портреты и этот печальный флаг помогали им чувствовать себя достойными уважения. А кто был он, берлинский неудачник, без флага, без икон, без освящённых страданиями изображений?
«Я думаю, вы можете знать что-то о человеке, которого я ищу. А ещё я считаю, что разгадка — на улице… теперь я скажу точно… улице Сиадыч в Минске».
«Сиадыч… Хм. В Минске нет такой улицы. Мы не полицейское управление, — сказал мужчина за дальним концом стола. — Конечно, белорусы, которые попадают в Вильнюс, обращаются к нам. Но… Чем, вы говорите, занимался ваш покойник?»
«Он писал стихи», — сказал Скима.
Они переглянулись.
«Какое бессмысленное занятие. Писать стихи в тёмное и страшное время, когда главное — бороться за независимость, — медленно произнесла женщина с русой косой. — Когда-то поэзия поддерживала нас в борьбе. Но белорусской поэзии давно уже нет. Осталась только какая-то вредная графомания. Какая теперь может быть поэзия… Тем более в такой бездарной книге…»
Она перелистала книжку так быстро и так брезгливо, что Скима испугался: сейчас порвёт и выбросит. Или сожжёт.
«В ней нет ничего о нашем святом деле. О долге, долге каждого патриота. Вернуть стране и её народу свободу и сбросить иго империи. Вот чем озабочены мы, белорусы. Когда-то в Беларуси была великая поэзия, воспевавшая душу и благородные устремления нашего народа. Но она закончилась полсотни лет назад. Всё, что осталось от наших классиков, апостолов нашего возрождения, больше никому не нужно. А новое… Новое не выросло. Цинизм и бездарность, шуточки и игрушки. Вот и всё. Слава богу, всё это уже никому не нужно даже здесь».
Скима кивнул и потянулся к бородке, но вовремя вспомнил, что он — человек с чужим лицом.
«Этот ваш поэт — просто пораженец, — сказала женщина. — Беглец. Богемный лентяй в поисках тёплого гнёздышка. Мы не поддерживаем контактов с теми, кто тратит жизнь на такие развлечения. Вместо того, чтобы пожертвовать ею ради Отечества».
Один из мужчин внезапно вышел из-за стола и подошёл вплотную к Скиме.
«Ну ладно, всё, кончайте ваши игры, — сказал он, взяв Скиму за лацкан. Его крепкая рука лениво скользнула под куртку пиджака. — Наш человек засёк вас в городе, когда вы контактировали с Мартиненом, российским шпионом и активным участником европейской пророссийской группировки. Вы ведёте грязную игру, агент Скима. Не думайте, что кто-то здесь поверил хоть одному вашему слову. Считаете нас идиотами? Лучше держитесь подальше от нашей организации. Или мне вызвать полицию и рассказать им о ваших фокусах с переодеванием?»
«Я вас понял, — спокойно сказал Скима, глядя ему в глаза. — Всего хорошего, господа».
И он вышел в коридор, держа спину ровно и гордо, чтобы никто не подумал, что он их боится. Честно говоря, подумал Скима, мне их так жаль. Они могли бы использовать мою поездку в своих целях. Сделать меня связным — или как там это называется на их подпольном языке? А за это могли бы помочь мне наладить контакт с людьми в Минске. Или Менске? Кажется, так это будет по-белорусски? Или на бальбуте?
Он начинал путаться. Ещё недавно он был обычным агентом ED. И если бы кто-то сказал ему неделю назад, что он, Скима…
Комната в «Розенгартене». Книга. Перо. Города. Отели. Люди. Куда всё это тащит тебя, словно неумолимый восточный ветер, а, дорогой мой Терезиус?
Быстро шагая под прижмуренными виленскими фонарями, он поворожил замёрзшими пальцами на своём телефоне. И из Вильнюса в Берлин полетело короткое сообщение из трёх слов, похожее на зашифрованное послание:
Покорми моих котов.
До поезда оставалось ещё два часа.
16.
Пограничная собака — символ Европы. Рыжая в чёрных разводах мускулистая сука, бегущая по вагону, спрятав свой бледный длинный язык, — и пассажиры невольно прислушиваются к её дыханию: частому, размеренному, трудолюбивому дыханию хорошо натренированного зверя. Сон сочится из всех щелей, витает в свете тусклых ламп, стройная спина проводницы то и дело вырастает перед самым твоим лицом. Не хочется ни читать, ни есть, ни курить, не хочется даже разлепить губы, и рука лениво тянется к столику, на котором мутнеет недопитая бутылка воды.
Поезд часто останавливался, дышал, сопел; маленькие станции, скучные, бесконечные репетиции больших и важных, мучительные фальстарты. Кёнигсберг — Вильнюс — Негорелое — Минск-Хрустальный…
А дальше? Что дальше? Никто не знает.
Тайна.
«Матти Мартинен, — сказал невысокий пограничник с лицом таким невесёлым, будто его родили прямо на этой колючей проволоке за окном. — Мар-ти-нен».
«Да, это я», — отозвался Терезиус Скима, отложив в сторону книгу, учебник языка бальбута для англоговорящих, со словарём и грамматическим приложением. Книгу, которую он давно уже перестал читать — просто держал в руках, чтобы унять ему одному заметную дрожь.
На бэйдже пограничника была совершенно невозможная фамилия. Shchauryzhevitch — стояло там, и если бы кто-то сказал, что это можно прочитать, Скима не выдержал бы и рассмеялся ему прямо в лицо.
Но теперь было не до смеха. Государственная граница — самое несмешное место в мире. Это знали все. И все думали о своём.
«Цель вашего визита в Райх?»
«Туристическая», — сказал Скима.
Пограничник строго взглянул на него и потом долго, с наслаждением светил фонариком в глаза: как будто мистер Мартинен мог скрывать там, в невидимой глубине, какие-нибудь запрещённые предметы. Там, под длинными ресницами, за зелёными зрачками узких глаз, в чистой слезе, которую выгнал из тупой железнодорожной бессонницы ослепительный казённый фонарик.
«Вы говорите по-русски?»
«Я учила, но очэнь плёхо, — произнёс Скима заранее подготовленную фразу. — Нет способность».
«Ничего, научитесь, — пограничник перешёл на русский и широко улыбнулся. И от этой пограничной улыбки стало ещё более уныло. — Главное — внимательно слушать. Слушать. Понимаете? И слушаться».
Он взял карточку Скимы и приложил куда следует — раздался чавкающий звук поцелуя. Собачья морда, такая дружелюбная, ткнулась ему в колени. Зловеще лязгнул штамп. Вот и всё. В красной книжечке мистера Мартинена, в случае потери которой он должен был заплатить империи солидный штраф (так было написано на первой же странице), появилось заветное пятно — и мистер Мартинен смотрел на него, не отрываясь, будто оно расплылось на его собственной коже.
«Счастливого пути и приятного пребывания в империи», — сказал пограничник и, пригнувшись, не разгибая спины и широко расставив ноги, словно лягушка, перепрыгнул к следующему пассажиру.
Людей в вагоне было немного. За пограничником неспешно, хищно прошёл усталый таможенник. Он долго вертел в руках вещи Скимы; каждую он ощупал своими большими крестьянскими пальцами и оставил на каждой тысячи отпечатков. Он задавал множество вопросов, недоверчиво осматривал лезвие и перо, блокнот и трусы, и пакет, в середине которого, спрятанные под вещами Мартинена, лежали его колготки и завязанное в узел платье, внутри которого была спрятана юбка; он рассыпал на свободном сиденье рядом со Скимой его лекарства и понюхал каждый тюбик, всё было вытянуто на свет и открыто, а потом небрежно брошено на синюю кожу сиденья — но Скима уже знал, что его впустят. Он был одобрен, он был признан безопасным. До поры до времени. Пока они не догадаются, кто он на самом деле.
Они просто пользовались своим правом первой ночи, эти работники сторожевой службы.
Правом его первой ночи в Райхе.
Собака снова прошла по вагону, уже в обратном направлении. Ей очень хотелось ответить громким лаем на все те звуки, доносившиеся откуда-то из-за лесочка, возле которого стоял поезд. Там, далеко, на небольшом холме, светились огни каких-то домов, и в нём заливались, будто отпугивая эти чужие ночные вагоны, другие сторожевые псы. Но пограничная сука держалась как могла. Она в последний раз взглянула на Скиму своими печальными синими глазами и побежала за хозяином.
Поезд тронулся. Выключили свет. Скима жадно вглядывался в окно, за которым плыла всё та же колючая проволока, всё та же платформа, на которой не было никого, только светлые пустые круги от ярких и слепых фонарей.
Он решил выйти в тамбур — но на его пути сразу же выросла проводница. Красивая высокая блондинка, которая картинно скрестила руки и сказала напряжённо через сжатые губы:
«Ноу! Фэрботэн! Sun zone!»
Терезиус Скима вздохнул и покорно потянул на себя ручку туалета. Стоя там и вдыхая холодный ночной воздух вперемешку с человеческим зловонием, он смотрел на себя в зеркало: на свой член, из которого лилась вниз горячая струя, на свой твёрдый, совсем ещё молодой низ живота. Туалет напомнил ему гостиничную комнату. Узкая и тесная комнатка, из которой нет спасения. Он представил себе постояльца из «Розенгартена» — как тот, стоя под уже выдохшимся душем, мочился, стараясь попасть в отверстие под ногами. Последний раз в жизни. Ещё не зная, что утром начнётся совсем другая история — в которой он уже ничего не сможет изменить.
Весь мир разделен на комнаты дешёвых отелей. Откуда мы бежим, бежим, бежим, и колёса подстраиваются под этот наш бесконечный бег.
Терэезиус Скима вышел в коридор, и ему вдруг показалось — так чётко и так болезненно, — что его отражение всё ещё там, в той зловонной кабине, что он всё ещё стоит там и мочится, — а в коридор вышел кто-то другой.
До чего доводит раздвоение личности, подумал Скима и вернулся на своё место. Он знал, что уже не заснёт. И решил использовать оставшиеся два часа для того, чтобы разработать точный и эффективный план. Мозг работал, словно по инерции. Улица Сиадыч. Вода (река?). Камень. Где-то там должна быть разгадка.
Через два часа он вышел из вагона и ступил на перрон минского вокзала. Финн Матти Мартинен, невыспавшийся, надушенный, немного простодушный бодрячок, одетый именно таким образом, чтобы остаться иностранцем в этом полном тайн городе — и всё же не вызывать у здешних прохожих ничего, кроме вялого любопытства. Он был одним из туристов — и должен был до конца сохранять этот статус. До того, как его припрут к стене в одном из тех оперетточно-пыточных кабинетов, которые он так часто видел в кино.
«Всего хорошки», — сказал он проводнице, широко разинув рот, но она почему-то проигнорировала его слова.
Думая о том, где здесь найти кофе, — вероятнее всего, кофе здесь будет ужасно, безнадёжно плохим и дорогущим, зевнул Скима, — он сделал по перрону несколько нерешительных шагов и оглянулся по сторонам. И тут же из тени под блёклым фонарём к нему вышел человек в бесформенной куртке, доходящей до самых колен, с редкими, растрёпанными волосами. Огромный капюшон висел у него за спиной, как горб.
«Терезиус Скима, — сказал человек утвердительно, без всякого намёка на вопрос. — Идёмте за мной».
Страх появился сразу же, он набросился на Скиму, давно ожидаемый — и всё равно отвратительный страх, страх, который затаился между зубов этого странного человека (о, как же убого выглядел его рот!), чтобы выскочить и впиться в жертву, — и теперь он кусал Терезиуса в самое сердце. И всё же Скима мгновенно взял себя в руки. Да, Мартинена уже могли найти — но не будут же они действовать вот так: грубо, с наскока, непрофессионально. «Идёмте за мной…» Что-то в облике человека, за которым Скима покорно шагал теперь через какие-то запутанные подземные переходы, показывало, что он не собирается вести свою жертву ни в казематы тайной полиции, ни в каменоломни, ни в тюрьму. Человек быстро шёл вперёд и то и дело оглядывался, чтобы посмотреть, успевает ли за ним интурист. Скима решил не отставать — и вот они уже быстрым шагом пересекали широкую площадь. Две башни уставились в тёмную даль глазами незрячих и жестоких химер. Скима опустил голову и решил пока что ничего не предпринимать.
Человеку, который вёл его за собой, было на вид лет сорок пять, враждебности в нём не чувствовалось, но зубы, зубы… Эти ужасные зубы придавали его облику что-то зловещее. Они шли один за другим через пугающий пустыми пространствами зимний город и выдыхали перед собой белый пар — почти одновременно, будто работающие механизмы.
Куда бы его сейчас ни вели, он должен попасть на улицу Сиадыч.
И тогда этот лай, который докучал ему, наконец умолкнет. И постоялец «Розенгартена» получит имя, а с ним и жизнь, которую он прожил не хуже других. И чудесные стихи, которые Скима обязательно когда-нибудь прочитает, найдут автора. И книжные магазины Европы найдут покой в своих бумажных могилах.
И тогда он попытается вернуться.
Всё это было бы замечательно, если бы не одно «но».
Откуда, факиншит, откуда он знает моё имя? Знает, что я — не Матти Мартинен?..
Откуда, шайсэ, откуда?..
«Куда мы идём?» — спросил Скима вполголоса.
«В отель конечно», — отозвался его гид, набрасывая капюшон. — В отель “40 лет Победы”. Это недалеко».
«Мы могли бы взять такси, — предложил Скима. — Правда, у меня пока нет ваших имперских рублей. У вас можно заплатить карточкой? А ещё я выпил бы кофе…»
Человек хмыкнул и, казалось, улыбнулся, вновь показав свои страшные зубы.
«Как вас зовут?» — спросил Скима.
«Вам обязательно нужно это знать?» — человек посмотрел на него с сомнением.
«Было бы неплохо», — сказал Скима, стуча зубами от холода.
«Ах да, — задумался его гид. — Ведь это в каком-то смысле ваша работа. Давать людям имена».
Скима вздрогнул, остановился, протянул руку и снял капюшон с головы гида. Тот снова улыбнулся.
«Вы знаете, кто я и чем занимаюсь? Тогда зачем этот спектакль?»
«Давайте пойдём в отель, осталось совсем немного, — гид махнул рукой в бесформенном рукаве. — Если вам это действительно надо — хорошо, называйте меня Он. Это краткое имя, которое трудно забыть».
И Скима снова покорно зашагал вслед за своим провожатым.
«Что касается кофе, то вы можете выпить его в отеле, — сказал Он, пробираясь между куч взорванного чьими-то лопатами обледеневшего снега. — Там в номере электрический чайник. А вот на такси вам не хватит. У вас на счету совсем смешная сумма. Поберегите деньги, Терезиус. Вам осталось продержаться совсем немного».
«Продержаться?»
Но они уже дошли до нужного им здания, спрятавшегося за высокими чёрными елями. Кажется, в этом городе не собиралось светать. Внизу на рецепции сидела молодая девушка и чистила ногти. Скима пошёл к ней, но гид придержал его за плечи.
«Не надо её беспокоить, всё в порядке», — сказал он тихо и жестом показал Скиме, чтобы он вызвал лифт.
В полном молчании, под угрожающий скрежет тросов, они поднялись на третий этаж. Он толкнул дверь номера и пригласил Скиму войти.
«Вот чайник, — сказал Он. — Вот кофе. Растворимый, который вы так не любите, но поверьте, это не так уж важно. Вы можете поспать, а я посижу здесь».
«Вы не оставите меня ни на секунду, насколько я понимаю?» — спросил Скима, дрожащими руками наливая в чайник воду.
«Как и вы меня, — мотнул Он лысоватой головой. — Пейте и спите. У нас ещё много дел».
«А в туалет? Я могу сходить в туалет? Без вашего сопровождения?»
«Конечно», — тихо сказал Он и отвернулся.
Скима закрылся в туалете, но там не было ни окошка, ни других дверей.
Конечно.
«Это, конечно, не “Розенгартен”, но похоже», — сказал Он, когда Скима вышел, вытирая руки жёстким застиранным полотенцем.
Скима сел на кровать, облизнулся и вздохнул.
Дальше играть в эту игру он не собирался.
«Вы многое обо мне знаете, — сказал он, внимательно разглядывая спокойный профиль своего странного гида. — Возможно, знаете почти всё. Я не верю в чудеса. Но в данный момент, дорогой Он, мне наплевать на то, откуда у вас такая осведомлённость. Я должен раскрыть тайну. Должен завершить дело. Поэтому, хотите вы этого или нет, я отправляюсь на улицу… Улицу Сиадыч. Возможно, вы знаете и об этом тоже. В таком случае или помогите мне, или мы расстанемся, как только я допью этот удивительный напиток, который здесь благодаря стечению исторических обстоятельств называют кофе».
Он молчал, глядя куда-то сквозь Скиму.
«Так как вам моё предложение?» — Скима наконец дождался кипятка и с наслаждением схватил горячую чашку с изображением каких-то розовощёких солдат.
«Седых, — сказал наконец Он, тоскливо покачивая головой. — Улица называется Се-дых».
«А вот это и правда не так уж важно, — сердито сказал Скима. — Я доберусь туда и без вашей помощи. Я не знаю, кто вы, подпольщик, агент имперской госбезопасности, привидение или просто сумасшедший. Но выбирайте: или вы идёте со мной — или позвольте на этом распрощаться».
«Не спешите, Скима, — сказал этот невыносимый Он, разглядывая лицо Терезиуса с трудноуловимым, но всё же вполне человеческим сочувствием. — Вы уже ничего не поправите. Здесь, в этом мире, от вас ничего не зависит».
«Я знаю, что такое Райх», — высокомерно сказал Скима.
«Райх… — задумчиво сказал Он. — Дас Райх… Да, конечно, Российская империя. Какая глупость. Оглянитесь вокруг, Скима. Разве вы ничего не замечаете?»
Скима невольно оглянулся. Комната как комната. Убогая скромность, экономная и дьявольская в своём стремлении показаться уютной.
Он прилёг на подушку, надеясь, что его гид — или кем там был на самом деле этот загадочный и зловещий мужик — сейчас исчезнет. Если он и правда знает о Скиме так много — должен знать и то, с кем имеет дело. Может, это просто усталость? Недосып? Негорелое? Хрусталь… Хруст костей, розовый сад… Мулатка в холодном заснеженном городе… Рому мне, рому. Роман должен чем-то закончиться. Точкою ли, ножеточкою ли, точно на тысяче, ах, тачанка, растачанка, все четыре колеса…
Чудесным образом он сразу же уснул. А когда открыл глаза, Он всё так же сидел на том же самом месте и смотрел в окно. Скима понадеялся, что его навязчивый гид заснул — но тот беззубо улыбнулся и поднялся с места.
«Идите в душ — а потом я покажу вам город. Как вы там говорите: Минск-Хрустальный?.. Забавно…»
За стеной вдруг завыла собака. Скима услышал — и сам удивился бешеной радости, которая его вдруг охватила. Давно он не чувствовал такого душевного подъёма. Будто во сне ему что-то вкололи.
«Седых, — сказал он весело. — Город интересует меня преимущественно этой своей частью. Надеюсь, она не слишком интимная?»
Интересно, есть ли здесь книжные магазины? И как они выглядят? Как «Последний книжный» в Берлине, или как «Шекспир» со своей женской компанией? Терезиус Скима подставлял грудь и шею тёплой, по-настоящему тёплой воде и думал о том, что ему и правда интересно, как выглядят здешние книги.
Пожалуй, он покопался бы в какой-нибудь книжной куче.
Книги. Много старых книг. И продавец, которого не сразу заметишь среди мёртвых бумажных гор.
Вдохнуть их запах — и снова взять след.
Он сбросил с себя свитер Мартинена, но подумал и решил, что здесь лучше всё же будет надеть брюки. А под брюки, конечно, колготки. Нужно быть мужчиной. В Минске это важно — но, чёрт возьми, Скима всё равно не совсем представлял себе, что они здесь понимают под этим словом: мужчина. На самом деле правильным видом одежды здесь была такая куртка, как у его чёртова приятеля: напялить на себя этот сшитый ком плотной ткани, защитившись от ледяного ветра, от минского имперского мороза, от чужих взглядов. Стать таким, как все.
«Из дома вышел человек в цилиндре и очках», — сказал Он, посмотрев на Скиму, который и правда нацепил на нос тёмные очки. Они вышли на колючий, слепящий глаза мороз, который тем не менее был не так уж плох после вильнюсской пронизывающей сырости. Идти по снегу было удобно — Скима нарочно обходил очищенные от наледи асфальтовые дорожки и ступал так, чтобы под ногами хрустело. Это было похоже на музыку: хру, хру, хру
стальный
стальной Минск.
Они шли по широкому проспекту, и понемногу вполголоса Он начал рассказывать о зданиях, произнёс несколько раз, гримасничая, загадочные слова «сталинский ампир» и посмотрел на реакцию Скимы. Но тот почти не слушал, вглядывался внимательно в белую даль широкой улицы, там сгущалась красноватая дымка. Они зашли в универсам («Центральный», пояснил Он, подняв палец), выпили настоящего кофе, и Скима подумал, что ради этого вкуса он готов простить своему гиду некоторые вещи. Например, его упорное нежелание раскрывать карты.
Обойдя огромную, абсолютно пустую площадь, они остановились перед танком, и Он рассказал, что существует стихотворение, которое начинается такими словами: «Девчата моют танк у Дома офицеров…» Скима понимал, что танк стоит здесь уже целое столетие, и всё же ему казалось, что всё в этом городе причудливо и неестественно, всё здесь сделано именно для него, Скимы, всё просилось быть описанным. Этот город отвлекал его внимание, утягивал в сторону, убеждал в своей безопасности, но Скима не поддавался искушению. Каждые пять минут он заставлял себя повторять три слова, как рефрен к шагам по минскому снегу:
Седых. Река. Камень.
Это были его стихи. Его стихи и его тайна.
Они спустились вниз и прошли через парк, и именно там, среди заснеженных деревьев, Скима вдруг начал говорить. Он слушал не прерывая, он тихонько посапывал носом, и Скиме казалось, что Он хочет сказать ему: я знаю, знаю, но говори, говори, тебе нужно всё это рассказать. Впрочем, иногда сопение звучало одобрительно — или только так казалось, в этом безлюдном парке, полном занесённых снегом статуй? Они вышли на круглую площадь, в центре которой стоял памятник: вытянутая остриём в небо стрела, у подножия которой замерли каменные фигуры людей с оружием в руках.
Так он и представлял себе Райх.
Устремившимся к небу — и с прижатыми к земле фигурами живых существ.
Он подозвал Скиму спрятанной в рукаве лапой и показал, что нужно зайти в арку. Стараясь не поддаваться слишком явно этому властному жесту, Скима двинулся за ним.
Не прошло и минуты, как они вышли к низкому белому зданию, на фасаде которого была изображена странная буква У. Он легко поднялся по ступенькам — Скима послушно вошёл вслед за ним…
Здесь стояли книги.
Скима прикрыл глаза и огляделся.
В небольшой комнате, вокруг столика, который занимал весь угол, разговаривали человек десять белорусов. Они выглядели вполне счастливыми людьми — и Скима, который постоянно искал глазами в этом городе разочарование и немоту, в который раз почувствовал, что его обманули. Люди пили вино и махали руками, забавно морщась после каждого слова, — на их появление никто не обратил внимания.
Он подошёл к столу и налил в пластиковые стаканчики вино. Один вручил Скиме, а другой поставил прямо на книжную полку.
Ни один из этих весёлых людей, которые наполняли книжный магазин своими преувеличенно живыми голосами, не спросил, кто они такие. Возможно, это были Его знакомые — но Он ни с кем не поздоровался, никому не пожал руки. Он просто стоял на фоне разноцветных книжных полок и смотрел на Скиму — не отрываясь, серьёзно и грустно.
«Я не думал, что в Райхе люди могут говорить так громко», — сказал Скима, просто чтобы что-нибудь сказать.
«Райх… — снова отозвался Он. — Дас Райх. Мой дорогой Скима, единственные империи, которые ты здесь найдёшь, это “Империя обоев” и “Империя вкуса”… А что касается разговоров… Да, здесь можно говорить о чём угодно…»
«О чём же они говорят? — спросил Скима. — Я вижу, что ты знаешь о них всё. Как и обо мне. Переведи мне. Или скомандуй им говорить на языке, который я понимаю. Прикажи им, своим обезьянам».
Он мрачно улыбнулся.
«Ты и правда поверил, где-то на середине твоего путешествия, что постоялец из “Розенгартена” стал таким маленьким, что смог сесть на гуся и убежать за границу? — спросил Он, и под его сапогами всё темнее и темнее становилась лужа от принесённого на ребристых подошвах снега. — Но скажи мне, Скима, почему ты не решился посмотреть на историю постояльца с другой стороны?»
«О чём ты?»
«Что, если это не постоялец уцелел после полёта, оставив себе на память перо? А гусь стал человеком — и последнее перо, которое напоминало ему о его птичьем происхождении, сохранил в качестве талисмана?»
Скима скривился, пальцы ухватились за привычное место, отыскивая на лице бородку. Но это был уже не Скима. Совсем другой человек, с чужим именем и чужими ошибками, стоял сейчас посреди книжного магазина, где не было ни одной книги на понятном ему языке.
«Седых, — сказал Скима. — Надеюсь, мы уже близко?»
«Ты совсем не пьёшь, — покачал головой Он и опустил капюшон. — Хорошо, пойдём. Нас ждут».
Они снова вышли на мороз и долго, бесконечно долго шагали вдоль каменной стены. Перешли улицу — испорченный светофор отчаянно и эпилептически мигал, словно сигналя: не дай обвести себя вокруг пальца, Скима. А потом был трамвай — и Скима задумчиво смотрел на оконное стекло: чужое тёплое дыхание оставило на нём там и сям круглые просветы.
Этот многоокий трамвай с лязгом пронёс их по хрустальному городу — и Скиме всё меньше нравились привезённые им из дальних, таких далёких, теперь уже почти несуществующих стран слова.
Улица Седых была узкая, заставленная высокими современными домами. Он объяснил Скиме, что когда-то здесь был большой тенистый сквер, и на берегу канала загорали люди, а с моста дети бросали в зелёную, застывшую воду щепки и бумажки. Но городу не хватало места. Как и каждый город, этот тоже требовал себе всё больше пространства — чтобы победоносно заполнить его и оглушить материей пустой пейзаж.
«А вот здесь стоял камень», — устало сказал Он и прислонился к железному ограждению.
Здесь.
В том самом месте, где аккуратно подметённый асфальт упирался в стену. Скима поднял голову — из окна дома прямо над ним высунулась голова и тупо уставилась на шумную улицу.
«Что ты будешь со всем этим делать, Скима?»
Терезиус Скима ощупал стену руками. Он думал, что голова там, наверху, совсем близко, как-то отреагирует на эти прикосновения, — но голова всё так же продолжала изучать знакомую ей до мелочей шумную улицу.
«Седых, Скима. Се-дых. Сиадычштрассе. То место, в которое ты так стремился попасть».
Скима улыбнулся и расстегнул куртку.
«Седых. Вода ушла. Камень был вырван из земли, как зуб. Что ты будешь делать, Скима?»
«Читать».
«Читать? Что? Старые книги?»
«Покопаюсь в старых сетях, — сказал Скима. — Вдруг там что-нибудь застряло».
Он словно ждал этого вопроса — достал серый, разбитый планшет и передал его Скиме.
«Надеюсь, здесь ты найдёшь то, что тебе нужно».
Перед глазами Скимы пестрел полосками архаического шрифта архив старейшего городского сайта.
«Кто ты?» — спросил Скима, не поднимая глаз.
«Это не важно. Читай. Ты же этого хотел. Нас ждут».
…Терезиус Скима находит год.
Терезиус Скима находит день.
И вот уже, словно подземный грот,
Ему открывается место, где
В землю однажды вонзился лом.
Огромный камень корням назло
Дрожит и вываливается из гнезда.
«Ну всё, братва, валуну пизда!» —
Кричит из кабины бульдозерист.
Под камнем — банка, разбитая вздрызг.
Es lebe mein Reich, расцветай, мой Минск!
Бумажки в банке. «На, прочитай!»
О случае этом напишет тутбай.
«Найдена
капсула
времени».
Тридцать минут обсуждает страна
Новость, а дальше другая нужна.
Вот адрес того, кто забрал домой
Бумажку из банки. Здоровый, живой,
Слегка поседел, женился, в кредит
Хату купили. Ребёнок спит.
Зачем нарушать этот мёртвый покой?
Войдём через стены, Терезиус, стой.
В тёмной кладовке, под пачкой газет,
В истрёпанной папке с клеймом «Педсовет»
Вчетверо сложено грубой рукой
Письмо, на котором кривою строкой
Вьются слова. Не смогли прочитать
Их ни журналист, ни историк, ни зять,
Дочка учила английский пять лет,
Но и она говорит: «Это бред».
Найдена
капсула
времени.
«Странно, — читал Терезиус Скима, сидя в номере отеля “40 лет Победы” и постоянно заглядывая в бальбута-английский словарь. Словарь лежал справа, а слева — этот старый, с загнутыми краями, чудом уцелевший лист бумаги. — Nekvaj. Удивительно».
Его новый знакомый, отвернувшись, прислушивался к уличному шуму и, казалось, не обращал внимания на то, что переводил Скима. Ну и чёрт с тобой, подумал Терезиус и начал читать письмо сначала, поминутно косясь в словарь.
«Дорогие потом» (зачёркнуто).
«Люди бу» (зачёркнуто).
Терезиус Скима расправил письмо на столе и прижал его указательным пальцем.
«Странно.
И голова болит — совсем некстати.
Так много хотелось написать, а сейчас, когда я сижу в своей комнате, один (родители отправились в магазин, чтобы купить мне в дорогу консервы — смешные люди, они думают, что в Германии нас не будут кормить) — теперь писать как-то совсем и нечего. Точнее говоря, есть — просто выбрать, что именно я хочу сказать, так трудно. Столько всего хочется доверить этому письму, которое я отправлю в будущее, но что именно важно? А что нет? Я не знаю.
Наверное, это как со смертью. Так хочется знать, что обо мне скажут, когда меня уже не будет. Ведь интересно же, что мать скажет, что брат, а что эти, с которыми я должен… Должен вместе. Интересно. А не выйдет. Или так. Или никак. Или живи.
Что ж так болит голова? Каждый день болит.
Завтра. Уже завтра. Сегодня 20 мая 2017 года, а уже завтра родители отвезут меня к Академии наук. А там автобус, который отвезёт нас в Германию. Мать, конечно, заплачет. В Германию! На целую неделю. Неделя в другой стране, где всё не так. Где так вольно дышится. Без родителей. В стране, о которой я так много читал. Страна из книг, этих самых книг, которые стоят вот здесь, на полке, над моей головой. Вот я руку протягиваю и трогаю их корешки. И мне хорошо. Что бы я без них делал? Наверное, с ума бы сошёл.
Меня зовут Виктор Баум. Все говорят, что я еврей. Что это еврейское имя. А я думаю, что я немец. Ну, пусть себе немецкий еврей — что это меняет? Я ещё никогда не был за границей. Но я знаю, что хочу жить там. Хочу начать там всё сначала. Мне уже так много, в октябре будет шестнадцать. Самое время бросить всё и уехать. Навсегда. В страну великой литературы. Уехать и писать стихи. Стихи по-немецки — и стать там знаменитым поэтом. Здесь — душно. Здесь — страшно. Здесь некому читать и писать не для кого. Не писать же для этих пенсионеров и не доказывать же им, что любая кошка понимает в поэзии больше, чем они все. Я уже давно слышу, как меня зовут они, книжные магазины чужих городов, которые, я надеюсь, уже послезавтра станут моими.
Сначала мы будем сутки ехать — через Польшу. А потом неделю в Германии. Берлин, Лейпциг, Дрезден. Потом Бавария: Мюнхен, там два дня. И потом, через Франкфурт — в Кёльн. Даже и не верится, что увижу всё это своими глазами. Но я уже решил, что это мой шанс. Шанс отсюда вырваться.
Вчера нам прислали план нашей поездки. Каждому на электронную почту. На седьмой день мы будем в Гамбурге, с 14.00 до 16.00 у нас будет свободное время, походить по магазинам и купить сувениры, — и вот тогда я скажу, что хочу походить по книжным магазинам. В назначенное время меня не будет около автобуса. Они, конечно, поднимут шум, в полицию заявят. Но остаться не смогут. И они уедут. Без меня. Говорить обо мне будут всякое. Родителям в “Вайбер” звонить.
А я останусь.
Родители дают мне с собой сто евро. Триста у меня есть, накопил за год. Ещё сто мне подарила на Новый год бабушка. У меня будет пятьсот евро. Я пойду на работу, как в фильме “Чужая кожа”. Буду нелегалом. Буду невидимым, неслышным, прозрачным. Двойная жизнь. Что ж, я готов. Я готов даже мыть посуду и драить туалеты, лишь бы жить там, не здесь. Готов жить в дешёвых отелях — и писать, писать, писать. Всем назло написать то, что здесь никогда никто не оценит. Никто.
Не знаю, что ещё написать. Голова болит. А таблетку я уже принял. Даже две. Под окном собака так оглушительно лает. А может, и нет там собаки. Может, это кровь в висках стучит. Мать говорит, что у меня давление.
Наверное, в таких письмах нужно писать правду. С будущим нужно быть искренним. Капсула времени не выдержит лжи и выкрутасов. Но любая сказка важнее правды. Сказка — как крышка моей капсулы. Если я должен писать правду, мне нужно ставить здесь точку.
Боже мой. Почему же такая мигрень. И почему же я так до сих пор люблю сказки. Гулливер и Нильс, братья Гримм и Гауф. В этом есть какая-то патология. Но я читаю сказки и пишу стихи, и нет ничего, что увлекало бы меня больше, чему я предавался бы с такой одержимостью. Иногда я думаю: зачем мне Европа? Я её уже выдумал. Выдумал, вычитал, вырезал из бумаги, из всех прочитанных книг — и спрятал. Дадаисты, Набоков, Паунд, Стайн, Джойс, Вулф, Кафка, фон Штукар, Сильвия Плат, Ходасевич, Мандельштам — и дальше… Вот моя Европа.
Читать книги и писать. Писать и снова читать. Романы, эссе, рассказы, poems and problems. Тогда и о боли в голове забываешь. И обо всём этом мире. И об этой квартире с её навесными ненавистными потолками и новой плиткой, забываешь этот самодовольный дом, где я никогда не был счастлив. Где я оставил свою голову? В старых книгах. Где я оставлю своих родителей и своё прошлое? На Ратхаусмаркт.
Завтра. Завтра. Через неделю в Гамбурге я совершу самый важный в своей жизни поступок. Сейчас спрячу это письмо в банку, а банку закопаю под большим камнем, его можно увидеть из окна, если высунуть голову. За камнем канал, за каналом сквер. За сквером микрорайон. У подъезда мужики пьют чернила из горлышка. Боже. Я вижу всё это в последний раз. Ведь уже завтра…
Уже завтра.
Капсула. Это всё наш учитель белорусского виноват. Олег Олегович, вот же имечко у человека. Если я действительно кого-то и ненавижу из наших учителей, то его. Напыщенного, самоуверенного острослова-неудачника. Ненавижу его. Ненавижу. За его дурацкий взгляд, за голос, а больше всего ненавижу за его жалость. Ведь он меня жалеет. Жалеет, как жабу. Жалеет и презирает. Думает, что спасает меня от Них — а на самом деле это он, а не они, считает меня полным ничтожеством. Когда он на меня смотрит, когда приказывает пересесть за переднюю парту — а он приказывает, и я знаю: ему нравится приказывать, нравится эта власть, она его возбуждает, — когда он говорит мне всё это, оттопырив свою брезгливую губу, мне хочется его убить. Неужели он будет мне сниться и там, где я ищу спасения? Этот поклонник Джойса, алкаш и похотливый кобель. На самом деле он один из Них — он и есть Они.
Завтра. Уже завтра.
Я пишу это послание на языке, которому меня научила одна девушка в лагере. Бальбута. Так он называется. Этому языку её парень научил, бывший. Я стараюсь не думать о том, что у неё был парень.
Бальбута. Лето. Девушка. Она абсолютно сумасшедшая — и этим она мне нравится. В лагере мы прятались с ней в лесу, и она ела камни. Можете мне не верить, но она ела. Маленькие глотала, а большие ломала своими странными, неровными зубами. “Это чтобы меня не унёс ветер”, — шутила она. Мы писали несколько месяцев, писали друг другу на бальбуте. Она единственная, кому я показывал что-то своё. А теперь она пропала. Последний читатель. То есть читательница. Тем лучше. Трудно было бы остаться там, в стране моей мечты, зная, что оставил здесь любовь. И последнего читателя.
Кажется, они возвращаются. Я слышу, как поворачивается ключ. Слышу, как они топают, будто ноги у них из камня. Они думают, что я уже собрал чемодан. Надо заканчивать. Интересно, кто и когда найдёт мое послание. Эту мою капсулу времени. И кем буду я, когда эта смешная банка с моим письмом однажды выглянет из-под старого камня.
Всё, прощайте. Они идут.
Завтра.
Скорее бы это чёртово завтра».
Терезиус Скима дочитал письмо и сложил его так, как привык этот листок — вчетверо. Письмо опять лежало перед ним, словно нетронутое. Можно было положить его в бутылку, стоявшую перед Скимой, пустую бутылку из-под вина, которое он выпил, чтобы не разболеться.
«Он так и не решился», — сказал унылый голос.
«Кто? Этот Виктор Баум?»
«Да. — Его гид снова стоял у окна, Скима уже и забыть о нём успел. — В воскресенье, в шестнадцать часов пятнадцать минут, когда глава их группы уже начала нервничать, Виктор Баум появился на площади Ратхаусмаркт в Гамбурге и сел на своё место в автобусе. В понедельник вечером их группа уже была дома. Родители ничего не сказали сыну, но, конечно, были удивлены, что он не привёз им никаких подарков. Ни одного сувенира. Только книжки. Книжки на иностранных языках. Полный чемодан книг. Даже шоколадки не привёз. И яичный ликёр для мамы тоже не купил. А она просила. Они всей семьёй список составляли».
«А дальше?»
«А дальше ничего. Виктор Баум никогда больше не бывал за границей. Он пошёл в армию, так решила семья. И пришёл из неё, как здесь говорят, уже совсем другим человеком. Замкнутым, молчаливым… Про таких говорят: немного того. Может, к бабке съездить, спрашивала мать, как в детстве? Помнишь, мы тебя возили к бабушке? Чёрной такой; видно, умерла уже давно, но есть же и другие. Но взрослого человека к бабке не затянешь. Да ещё вчерашнего солдата.
Он доучился, пошёл работать на завод, переводчиком. Женился, но жена его бросила. Детей не было, к счастью. В выходные он ездил на дачу, под Колодищами. И что-то там всё писал. Писал и никому не показывал. Однажды его нашли мёртвым на этой даче, рядом с пустым пакетом дешёвого вина. Двоюродная сестра, когда они с мужем чистили чердак после его смерти, нашла там кучу всякой писанины. И всё от руки. Да на иностранных языках. А ещё там были перья. Бумага и перья, старые тетради и шизоидные, страшные, бессмысленные тексты, прочитать которые нормальному человеку не под силу. И всё о Европе, той, которую он придумал, чтобы не сойти с ума. О Европе, вычитанной им из старых книг. Но кому интересна чья-то графомания. И его сестра с мужем сожгли всё это однажды поздней осенью, за домом, все эти исписанные бумажки, вместе со старыми лохмотьями…»
«А потом?»
«Ну, потом началась война».
«И всё-таки… Какой-то же след остался. Можно было бы поговорить с его сестрой? Не верю, что она не заглядывала в его бумаги. Нам нужна его сестра, слышишь? Пока не поздно. Ведь можно найти её адрес».
«Она тоже умерла».
«А муж сестры?»
«Умер».
«Может быть, соседи…»
Скима сжал письмо в ладонях.
Собака лает. Караван идёт. Какой к чёрту караван? Что я такое бормочу?
«Надо найти детей сестры. Так бывает. Всё сожгли, а одна тетрадь чудом уцелела…»
«Умерли».
«Может, у него были друзья? Или… Или хотя бы собака? У него была собака?»
«Все умерли, Скима».
Терезиус Скима смотрел на сложенный вчетверо лист бумаги и не мог отвести от него взгляд. Впервые в жизни он чувствовал бессилие. Ему вдруг отчаянно захотелось погладить кота. А лучше двух. И, наверное, выпить. В одиночестве, в пустой берлинской квартире, в окружении знакомых, как спящие лица, вещей.
«Разве ты ещё не понял, Скима?» — Он подошёл к столу и положил руку ему на плечо.
За окном сгущалась синяя тьма, хоть в Минске было всего пять часов вечера. Внизу, под чёрными торжественными елями, скрипел снег — кто-то выгуливал там собаку, и насторожённую тишину разрывал яростный лай.
«Воттебезагестернин, — сказал Скима. — Тогда его ещё не изобрели. Самое лучшее обезболивающее».
«Только в 2054-м откроют, что воттебезагестернин в сочетании с алкоголем даёт побочный эффект, — негромко отозвался его гид. — Навязчивые слуховые галлюцинации. Человечество сожрёт миллиарды этих маленьких жёлтых таблеток, пока их наконец не запретят. В миллионах голов вдруг наступит тишина».
«Но мы этого не застали, да? — Скима щёлкнул электрическим чайником. — Собаки. Он их слышал. Не мог не слышать. Вот чёрт, как же здесь всё-таки холодно. Как в могиле».
«Скима!»
«Что?»
«Разве ты не видишь?»
Чайник молчал. Да и не чайник это был уже — а просто какой-то предмет, гладкий и голый, как камень. Комната понемногу начинала терять форму. Вот уже и дивана в ней не было, вместо него только полоска света — но и она рассыпается, оставляя на полу лишь четыре бессмысленные ножки. Он обхватил голову руками, и вот уже в комнате остался один лишь холодный туман, и было не разобрать, откуда звучит голос.
«Нам нужно возвращаться, Скима. Горничная уже выключила свет в коридоре и поехала домой. На рецепции Бюхман задремал перед компьютером и смотрит свои красные сны. Пчёлы и розы, Скима. Мулатка уже стоит на берегу океана. Тебе завтра рано вставать на работу. Коты внимательно следят за тем, как на мониторе прыгают чёрно-белые тени. В берлинском небе кто-то протёр луну специальным средством и теперь она горит, горит, как новая. Где-то капает вода. Телефон в твоём офисе зазвонит в одиннадцать пятнадцать. Мужской голос недовольно прохрюкает, что в их отеле сегодня ночью случилась неприятная история…»
Терезиус Скима подошёл к уплывающему, но ещё сохранявшему очертания зеркалу. На его подбородке начала пробиваться щетина. Коты уже объелись сухим кормом. Что же. Он прав.
Они вышли в коридор, полный шумных людей и героических картин, неизвестно почему развешенных на стенах. Наверное, в честь какой-то их давней победы.
«Не туда!» — крикнула со смехом какая-то женщина, заставив Терезиуса Скиму оглянуться, но нет, она не им кричала, а кому-то за их спинами. Она вообще их не видела. Ведь никакого Скимы здесь не было. Только картины и пальмы. Пальмы и двери. Двери и люди. Зима за окнами и гудящие лампы над человеческими головами — такими беспокойными, словно и правда: живыми.
Молча ожидая лифт, они с гидом чуть было не взялись за руки, но посмотрели друг на друга — и передумали.
2016–2018
Париж — Висбю — Минск — Киев — Бероун — Прага — Кощеличи — Берлин
Бальбута. Грамматика и словарь
ВАРИАНТ КАШТАНКИ
Под редакцией Натали фон Штайнфрессер
ДЕСЯТЬ НЕСЛОЖНЫХ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ ЯЗЫКА БАЛЬБУТА.
Правило первое
Все существительные в единственном числе имеют окончание — uta.
При склонении — utima.
На u в этих окончаниях всегда падает ударение. В других словах — всегда на предпоследний слог.
Примеры: o balbuta. Это язык. Говори на бальбуте! Balbu balbutima!
Правило второе
Во множественном числе существительные имеют окончание — utika.
При склонении они приобретают окончание — utikama.
На u в этих окончаниях всегда падает ударение.
Примеры: o sutika. Это люди. Balbuta sutikama. Язык людей.
Правило третье
Все глаголы имеют окончание — uzu и не спрягаются.
Императив образуется отсечением — uzu.
Примеры: suta kusuzu. Человек ест. Suta kusuzu trudutima. Человек ест камень. Kusu du! Ешь давай!
Правило четвертое
Все прилагательные имеют окончание — oje.
Причастия и наречия: — oju.
Прилагательные не склоняются.
Примеры: truduta trudoje. Камень твёрд. Trudoju kusuzu trudutima. Трудно есть камень.
Правило пятое
Прошедшее время глагола образуется при помощи частицы bim.
Будущее время глагола образуется при помощи частицы bu.
Сослагательное наклонение глагола образуется при помощи частицы bif.
Примеры: au bim kusuzu trudutima. Я ел камень. Tau bu kusuzu trudutima. Ты будешь есть камень. Nau bif kusuzu trudutima. Он съел бы камень.
Правило шестое
В бальбуте нет звуков «ж», «ш», «ч», «ц».
Все остальные произносятся так, как пишутся. «Л» всегда мягкий.
Других орфоэпических и фонетических правил нет. Balbu akkou tau aluzu. Говори, как хочешь.
Правило седьмое
Бальбута избегает категорических оценок и устойчивых выражений. В бальбуте нет отдельного слова для понятия «правильный» и понятия «самый», нет слов «мы», «вы» или «они». Если они всё же понадобятся, их смысл можно передать другими словами. Бальбута мотивирует нас быть свободными, независимыми, самодостаточными творческими личностями.
Kalau tau neimatuzu balbutima, fu nau. Если у тебя нет слова, создай его.
Onk balbaln bim fuzu sabau god — da bim takuzu nau laputko. Один бальбутанин мастерил себе бога — а получился котик.
Правило восьмое
Бальбута принципиально не иерархическая. Она никого не ставит выше или ниже и предлагает для одного слова широкий спектр значений.
Например, слово suta может означать и мужчину, и женщину, и ребёнка, и рыбу, и тигра, и бабочку. И даже, иногда, растение. Чтобы уточнить значение, нужно создать контекст.
Правило девятое
Уменьшительный суффикс для существительных: — utko.
Слова с уменьшительным суффиксом не склоняются.
Примеры: kusu trudutko! Съешь камушек! O tajnoje trudutko. Это красивый камушек. Aleh balbuzu akkou psautko. Олег лает, как собачка.
Правило десятое и последнее
Эти три красивых суффикса помогают передавать важные значения.
Суффикс занятия или работы: — aln для мужчин и — alinga для женщин.
Он добавляется к основе глагола и изменяется согласно Правилу первому.
Примеры: kartaln nebalbuzu, nau bim kusuzu trudutima. Читатель молчит, он проглотил камень. Gajalinga balbuzu, au psauta. Врач говорит, что я собака.
Суффикс сборный: — ejle. Имеет значение определённой совокупности предметов или существ, объединённых общими признаками.
Он добавляется к корню слова после — ut. Такие существительные не изменяются.
Примеры: o dreutejle. Это лес. U dreutejle grimuzu grimutejle trudoje grimalingutikama. В лесу играет оркестр каменных женщин-музыкантов.
Вот и всё.
Balbu da bu samoje! Говори и будь свободен!
Перед тем, как перейти к словарю бальбуты, следует запомнить короткое и очень важное слово: ujma.
Ujma (с ударением на первом слоге) — слово многофункциональное и означает «много, всё, каждый, большой, очень, многое, очень, особенно» и т. д.
Balbuta imatuzu neujma balbutikama.
В бальбуте не так много слов.
Tau bu balbuzu ujma broju!
Ты заговоришь очень быстро!
БАЛЬБУТО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
A
a о, про
afkluzoje закрытый, замкнутый
afkluzu закрывать
agramuta книга
agramutejle книжный магазин
ahuzu висеть
aiduta путешествие, поездка
aiduzu идти, ехать, приходить, перемещаться
akiruta восток
akkou который, как, которая, которое, которые
akkoubalbuta прилагательное
akkoubif будто
akkoufuzuta закон
akkoujma сколько
akkoustriluta продолжительность
akkouta качество
albumuta альбом
algobalbuta правило
algoje правый
alguta (u…) право на что-либо
— alinga суффикс занятия или профессии жен. рода
— aln суффикс занятия или профессии муж. рода
aluta пиво
aluzu хотеть
aluzuta желание
amerikoje американский
amgluta время, час; раз
amiling лучше
amiloje добрый, любимый, милый
amiloju хорошо
amiluta доброта, любовь, влюблённость
amiluzu любить
amstuta месть
ankluta двери
ankluzoje открытый
ankluzu открывать
ardoje красный
arduta мать
arduzu рожать, рождаться
arekuta вещество, вещь
arkrauta дочь
armauta сын
asitalinga искательница
asituzu искать, находить
asmakoje вкусный
asmakurekuta приправа
asmakuta вкус
astakuta кость
astiluta вкус (эстетический)
asvuta свет
au я
auluta облако
aumilinguta гордость
ausuta птица
auta небо
autobusuta автобус
azurkoje сладкий
B
balbaiduta история (рассказ)
balbalinga рассказчица, та, кто говорит
balbaln рассказчик, тот, кто говорит
balboje устный, языковой, произнесённый
balboju устно
balbuta язык, слово, рассказ, фраза, выражение
balbuzu сказать, говорить, высказываться, спрашивать, отвечать, рассказывать
balzoje больной
balzuta боль
banaloje банальный
bavoje радостный, весёлый
bavoju радостно
bavuta радость
belarusoje белорусский
belarusuta белорус
bif бы
bifuta вероятность
bim был; с помощью bim образуется прошедшее время глагола
bimbalbuta история (наука)
bimdinutima вчера
bleruzu рисовать
bloje синий, голубой
brekuta зуб
brekutagajaln дантист
broing скорее
broje быстрый
broju быстро
bruta отец
bu буду, будь; с помощью bu образуется будущее время глагола
budinutima завтра
buzoje агрессивный, военный, драчливый
buzu бить, обижать, воевать
C
chancuta шанс
D
da и
dabalbutika наречие
danuo даже
deu где
deuzuta направление
dinagramuta дневник
dinuta день
dinutima сегодня; днем
donk два, второй
dreuta дерево
dreutejle лес
dukoje далёкий
dukoju далеко
duzu давать
duzuta подарок, награда, взятка
E
emigratuta эмиграция
evrejuta еврей
F
fafroje хитрый
fantazuta фантазия
fiuta запах
fiuzu нюхать
fla плоский
flakuta живот
frankuta француз
fruta плод
fuzaln рабочий, работник
fuzoje рабочий, работящий
fuzu работать, делать, действовать
fuzubalbutika глаголы
fuzuta работа
G
gajalingа врач
gajutejle госпиталь
gajuzu лечить
ganj осуждающая частица, ставится после глагола
gladuta символ
glajuta сожаление
gluzu пить
gluzuta напиток
gauruta звезда
grabejle магазин
grabuzu продавать
gramuta, agramuta книга
grimoje шумный, музыкальный, громкий
grimonatuta звуковая запись
grimuta звук, музыка, голос, шум
grimuzu звучать, играть, шуметь
grizuzu грызть
guloje весёлый
guluzu смеяться
guroje высокий, верхний
guroju высоко, наверху
guruta крыша, гора, верх, потолок
H
hinuta тепло
hitroju игровой, игривый
hitruta игра
hitruzu играть
huta голова
hutahuzu вешать (человека)
hutoje главный
hvaluta волосы
I
ida или
ideuta идея
idiuta идиот
igoning хуже
igonoje плохой
igonuta злость, досада, неприязнь, зло, дрянь
ilgoje левый
imatuta имущество, власть
imatuzu иметь, наверное, быть должным
inaj внутри
ine без
inehutoje глупый
— ing чем, сравнительная частица
inguta нога
inoje другой
inoju по-другому
intruta ощущение, эмоция
intruzu чувствовать
irukuta рука
irukutoje ручной
istuta жизнь, природа, существование
istoje живое
istriluta палец
istuzu жить, быть
izimoje холодный
izimuta холод
izumroje зелёный
J
jaf же, ж (усилительные частицы), ещё
juta яйцо
K
kalau если
kalaubif если бы
kapsuluta капсула
kartaln читатель
kartalinga читательница
kartuzu читать
kau кто
kavejle кафе
kavuta кофе
khuta дым
kipisuta червь
klasuta класс
klauta язык
klinkoje бумажный
klinkuta бумага
kluta ключ
kmajtuzu сосать
komuta друг, подруга, дружба
komutko дружок
kopja вместе
kopjuta община, общество, сообщество, община
korputa тело
kovtuzu спасать
kranuta касание
kranuzu касаться
kraputa храп, странный звук, хрюканье, лязг
krapuzu храпеть, хрюкать, издавать странные звуки
krasuta цветок
krauta женщина
krautoje женский
kristaluta кристалл
kristuta пересечение, перекресток, клетка
krisuta коготь, ноготь
krivoje горький
krokuta ворон
kromuzu резать
kronk четыре
kroskoje малый
kroskoju мало
kroskuta ребёнок, дитя
kroskutejle детский сад
kroskutko малыш
krubuta мясо
ksuta начало
ksuzu начинать
kubuta куб
kugoje железный
kuguta железо
kupruta одежда
kuroje чёрный
kuruta тьма, чернота
kusoje съедобный, сытный, вкусный
kusustriluta вилка
kusuta еда
kusuzu есть
kvaj так
kvajujma сколько, столько
kvinuta женщина
L
ladoje мысленный, придуманный
laduta мысль, мышление, суждение, образ
laduzu думать, полагать
laputa кот
laskoje приятный
lasuta губы
legoing легче
legoje лёгкий
legoju легко
lingoju лёжа
lingoje лежащий
linguzu лежать
liuta вода, река, жидкость
liutoje водяной, водный, текучий, жидкий
liuzu течь, литься, лить
logikoje логичный
loguta рот
lugoje долгое
M
makinuta машина
markoje мягкий
mau мой, моя, моё, мои, мне
maudatau мой и твой (наш с тобой)
mauta мужчина
meesuta коза, козёл
milionk миллион
min вниз
mineraluta минералов
minoje низкий
minusveuta закат солнца
minuta минута
misuta месяц
mizoju между
mizuta середина
moje родной, свой, собственный
N
na к
nabarka вперёд
nadeu куда
najda но
nakiruta запад
natalinga писательница
nataln писатель
natoje написанный, письменный
natuputa наконец
natustriluta ручка, карандаш
natuta письмо
natuzu писать
nau он, она, оно, его, ее, их
naujma во сколько
nauta море
ne не
nebroju потихоньку
nedeu где
neduzoje нерабочий
nefuzu бездельничать
negrimoje негромкий
negrimoju негромко
negrimuta тишина
neistoje мёртвый, несуществующий
neistuta смерть, небытие
neistuzu не существовать, умереть
nekalau никогда, некогда
nekau никто, кто
nekusuzu голодать
nekvaj не так, неправильно, невпопад, ошибочно
nemoje чужой
nenormoje ненормальный
neodoluta неспособность, невозможность
neokoje невидимый
neokuzoje невидимый
neonk ни один
nepauznoje неразумный
nepauznuta глупость
nesamoje рабский, не свободный
nesau нечто, ничто
netajnoje некрасивый
netajnuta уродливость
netikoje неинтересный, скучный
neudeu никуда
neujma, neumoje дешёвый, немногочисленный
neumojuta грязь, грязь
neusladoje невыдуманный
nevedoje неизвестный
nevedoju неизвестно
neveduta незнание
nevigoje необременительный
nevigoju нетрудно
nevodroje нездоровый
nimatuzu терять
nituklinkuta переплёт
nituta связь, нить
nituzu связывать, соединять
noje новый, молодой
noju снова
nojuta молодость, новость
nonk девять
nozuta нос
nuta ночь
O
о этот, эта, это, эти, те, то, тот, та
o amglutima сейчас
o dinutima сегодня
odoloje возможный
odolozu мочь, быть способным
odoluta возможность, способность
ogoluzu показывать
ojuzu кричать
okoje видимый, видный
okovuta окно
okunao например
okuta глаз, зрение
okuzu смотреть, видеть
olabuta лицо
olo- круглое
olodonkuta велосипед
olouta круг, окружность
onk один, первый
onkamgluta первый раз, однажды
onkuru только
onkuta единица, одиночество
onoje другой
onoju по-другому
onojuta инаковость
otoje равный
otoju поровну, равно
otojuzu сравнивать
otonk восемь
ottoju сзади
ottou назад, прочь
ottoubalbuzu отвечать, отговаривать, отвергать
oviloje белый
P
pajuta удовольствие, наслаждение
pajutoje довольный
pasipoje хрупкий
pasipuzu сыпать
parou для, за
paroubalbutа местоимение
parous чтобы
parsuta свинья
pasobluzu помогать
pastuta поста
pauznoje умный
pauznuta ум
pavuta воздуха
pavutoje воздушный
pavuzu летать
piluta пилот
pinuta пена
piruta перо
plamuzu гореть
pletuzu спать
pliskuta рыба
pluduta грудь
pluta часть
plutuzu делить(ся) на части
polisuta полиция
pomirnoje старый
pomistuzu везти, носить
popluzu присылать
poskoluta кожа
pou после
presizoje точный
primuzu верить, доверять
proskuzu покупать
prou против
prugoje пустой
psauta собака
ptemoje коричневый
R
rekuta вещь
rizikuta риск
riznoje короткий
rukoje близкий
rukoju близко
rukuta близость
ruroje широкий
rusoje растительный, растущий
rusuta растение
rusutejlе огород, заросли, плантации, кусты
S
sabau себя
sabaupajuta самоудовлетворение
samoje свободный
samoju свободно
samuta свобода
saramuta стыд
sau что
saubimutejle новостной журнал
sauroje серый
sauta семя
seksuta секс
shoje сухой
shuta сухость
sidonk семь, седьмой
sidonkuta неделю
siduzu сидеть
singnuta цель
sigruta тайна
siluta соль
simboluzu символизировать
siptoje тихий
skambuta война
skambuzuta война
skamoje страшный, чудовищный
skamuta страх
skamutejle армии
skamutoje военный
skamuzu бояться
skandaluta скандал
skandinavioje скандинавский
skiruta север
skloje стеклянный
skluta стекло
skoje узкий
skonk пять
skutoje цифровой, сочтённый
skuzu считать
skuzuta число
snistuzu истреблять
snuta снег
sobuta образ
sokoladuta шоколад
soltoje жёлтый
soltokuguta золото
sonk шесть
spajmuzu ловить
sprugohutoje глупый
sprugoje пустой
spruguta дыра, отверстие, углубление в чём-то, пустота
sputa песок
statuzu стоять
stigoju понятно
stiguta понимание
stiguzu понимать
stogou потому что
stonk сто
strikuzu ждать
strilo- продолговатые
striloje прямой
striloju прямо
strilonatuta правописание, насадка
strilorusuta ствол, ствол
striluta палка, любой продлговатый, похожий на палку предмет
struduta орех
struta стена
stuta город, деревня, поселение; государство
suta человек, животное, живое существо
sutakusalnuta людоедство
sutejle живой мир
sutruta кровь
suttou сюда
sveuzu светить
sveuta солнце
svitoje ранний
svituta утро
T
tajnaln, tajnalinga художник, художница
tajnobalbuta поэзия, литература
tajnobalbuzu писать стихи и прозу
tajnoje красивый
tajnostuta архитектура
tajnuta искусство, красота
takuzu брать
tau ты
tekstuta текст
telefonuta телефон
televizuta телевидение
tikoje интересный
tikuta интерес
tikuzu интересовать(ся)
timnoje поздний
timnuta вечер
tisonk тысяча
tisonkvekutojе тысячелетний
tokuta сердце
tou там
tremuzu дрожать
triboje денежный
tributa деньги
triskuta насекомыми
tronk три
trudoje твёрдый, каменный
truduta камень
trudutimakusuta поедание камней
trudutko камешек
tudou через
tukuta ухо
tuluta дом
tuputa конец
tuputoje последний
tuputoju конечно
tupuzu кончать(ся)
tuta земля, страна, место
tuzu слышать, слушать
tviuta цвет
U
u в, на
ufjuta дыхание
ufjuzu дышать
uguruta пепел, порошок
ugustriluta спичка
uguta огонь
ujma много, а также большой, все, каждый, очень, сильно, многие и др.
ujmaamglutima всегда
ujmuta богатство, множество
ukiruta юг
umoje чистый
ursuta письмо
us с (кем-то, чем-то)
uskvinuta сестра
usmauta брат
utajuta перевод
uve из
uvjuta улица, дорога
uznuta сознание
V
vagoje важный
vbokuzu бросать
vedalnuta наука
vedejle научное учреждение, школа
vedoje известный
vedoju известно
veduta знания, наука
veduzu знать
vekuta год
veuta ветер
vigoing тяжелее чем
vigoje тяжёлый
vigoju трудно
viguta тяжесть, трудность
viluta хвост
vinuta вино
vodroje здоровый
vodruta здоровье
volfsuta волк
vou здесь
vsoboje особый
vusatko ласковый, обращение с животными
Z
zironk ноль
znakuta буква, след
РУССКО-БАЛЬБУТАНСКИЙ СЛОВАРЬ
А
автобус busuta, autobusuta
агрессивный (воинственный) buzoje
альбом albomuta
американский amerikoje
армия skambuzutejle
архитектура tajnotruduta
Б
банальный banaloje
без ine
бездельничать nefuzu
белорус belarusuta
белорусский belarusoje
белый oviloje
бить, обижать, воевать buzu
близко rukoju
близкий rukoje
близость rukuta
богатство, множество ujmuta, ujma
бояться skamuzu
боль balzuta
больной balzoje
брат usmauta
брать takuzu
бросать vbokuzu
бумага klinkuta
бумажный klinkoje
буква, след znakuta
будто akkoubif
буду, будешь, будет, будем bu
бы bif
был bim
быстро broju
быстрый broje
В
в, на u
важный vagoje
ведь stogou
везти (или носить) pomistuzu
велосипед olodonkuta
верить, доверять primuzu
вероятность odoluta
весёлый guloje
ветер veuta
вечер timnuta
вешать (человека) hutahuzu
вещь, вещество rekuta
видимый okoje
вилка kusustriluta
вино vinuta
висеть huzu
вкус asmakuta
вкус (эстетический) astiluta
вкусный asmakoje
власть imatuta
вместе kopju
вниз min
внутри inaj
вода, река, жидкость liuta
водяной, водный, текучий, жидкий liutoje
воздух pavuta
воздушный pavoje, pavutoje
возможность, способность odoluta
возможный odoloje
военный skambutoje
война skambuzuta
волк volfsuta
волосы hvaluta
ворон kronkuta
восемь otonk
восток akiruta
вперёд nabarku
врач gajaln, gajalinga
время, час, раз amgluta
всегда ujmaamglutima
вчера bimdinutima
высоко, наверху guroju
высокий, верхний guroje
Г
где-то nedeu
где deu
главный hutoje
глагол fuzubalbuta
глаз okuta
глупость nepauznuta
говорить, сказать, спрашивать, отвечать balbuzu
год vekuta
голова huta
голодать nekusuzu
гореть plamuzu
город, поселение; государство stuta
гордость aumilinguta
горький krivoje
госпиталь gajutejle
грудь pluduta
грызть grizuzu
грязь briduta
губы lasuta
Д
да (правильно, так) kvaj
давать duzu
даже danuo
далеко dukoju
дальний dukoje
дантист brekutagajaln
два, второй donk, donki
двери ankluta
девять nonk, nonki
делить на части plutuzu
день dinuta
денежный tributoje
деньги tributa
дерево dreuta
детский сад kroskutejle
дешёвый, немногочисленный neujma
для, за parou
дневник dinatuta, natudinuta
добрый, милый, любимый amiloje
довольный, радостный bavoje
долгий, длинный lugoje
дом tuluta
дочь arkvinuta
дрожать trimuzu
друг, подруга, дружба komuta
другой onoje
дружище, дружок, подружка komutko
думать, полагать laduzu
дым khuta
дыра, отверстие, углубление, пустота spruguta
дышать ufjuzu
дыхание ufjuta
Е
еда kusuta
единица onkuta
если kalau
есть kusuzu
если бы kalaubif
Ж
ждать strikuzu
же jaf
желание aluta
железный kugoje
железо kuguta
жёлтый soltoje
женский krautoje
женщина kvinuta
живое istoje
живот flakuta
жизнь, природа istuta
жить, быть istuzu
З
закон akkoufuzuta
завтра budinutima
закрывать afkluzu
закрытый, замкнутый afkluzoje
запад nakiruta
запах fiuta
запись natuta
звезда gauruta
зелёный izmroje
земля, страна, место tuta
здесь tou
здоровый vodroje
здоровье vodruta
звук, музыка, голос, шум grimuta
звуковой, громкий grimoje
звучать, играть, шуметь grimuzu
злость, досада, зло, дрянь igonuta
знания, наука veduta
знать veduzu
золото soltokuguta, soltuta
зуб brekuta
И
и da
игра hitruta
играть hitruzu
игровой, игривый hitroju
идея ideuta
идти, ехать, приходить aiduzu
из uve
известный vedoje
или ida
иметь (или быть должным) imatuzu
имущество imatuta
инаковость onojuta
интерес tikuta
интересный tikoje
интересовать(ся) tikuzu
искать, находить asiduzu
искусство, красота tajnuta
история (наука) bimbalbuta
история (рассказ) balbaiduta
истреблять snistuzu
К
камень truduta
камешек trudutko
капсула kapsuluta
касание kranuta
касаться kranuzu
кафе kavejle
качество akkouta
ключ ankluta
книга gramuta, agramuta
книжный магазин gramutejle
коготь, ноготь krisuta
кожа, кора, кожура poskoluta
коза, козёл meesuta
конец tuputa
конечно vedoju, tuputima
кончать tupuzu
короткий riznoje
коричневый ptemoje
кость astakuta
кот, кошка laputa
который, как, которые akkou
кофе kavuta
красивый tajnoje
красный ardoje
кричать ojuzu
кровь sutruta
круг, окружность olouta
крыша, гора, верх, потолок guruta
кто kau
куб kubuta
куда udeu
Л
левый ilgoje
лёгкий legoje
легко legoju
лежать liguzu
лес dreutejle
летать pavuzu
лечить gajuzu
лицо olabuta
ловить spajmuzu
лучше amiling
любить amiluzu
любовь, доброта amiluta
М
магазин grabejle
мало neujma
маленький kroskoje
мать arduta
машина makinuta
между mizoju
мёртвый, несуществующий neistoje
местоимение paroubalbuta
месть amstuta
месяц misuta
миллион milionk
много, большой, все, каждый, очень, сильно, многие ujma
мой, моя, моё, мои, мне mau
мой и твой (наш с тобой) maudatau
молодость, новость nojuta
море nauta
мочь, быть способным odoluzu
мужчина mauta
мысль, суждение, образ laduta
мысленный, мысленно, придуманный ladoje
мягкий markoje
мясо krubuta
Н
назад, прочь ottou
наконец tuputima
написанный, письменный natoje
напиток gluzuta
направление deuzuta
например okunao
насекомое triskuta
наука vedejle
научное учреждение, школа vedejle
начало ksuta
начинать ksuzu
небо auta
невидимый neokoje
невыдуманный neladoje
негромкий negrimoje
негромко negrimoju
неделя sidonkuta
нездоровый nevodroje, balzoje
незнание neveduta
неизвестный nevedoje
неинтересный, скучный netikoje
некрасивый netajnoje
ненормальный nenormaloje
нерабочее, безработный nefuzoje
неразумный napauznoje
неспособность, невозможность neodoluta
несуществующий, мертвый neistoje
нет, не ne
не так, неправильно, невпопад, ошибочно nekvaj
нетрудно nevigoju
нечто, ничто nesau
низкий minoje
никогда, некогда nekalau
никто, некто nekau
никуда neudeu
но najda
новости, журнал nojutejle, saubimutejle
новый, молодой noje
нога inguta
ноль zironk
нос nosuta
ночь nuta
нюхать fiuzu
О
о, про a
облако, облако auluta
образ sobuta
общество, сообщество, община kopjuta
огонь uguta
огород, заросли, плантации, кусты, сад rusutejle
одежда kupruta
один, первый onk, onki
одиночество onkuta
окно okovuta
он, она, оно, его, её, их nau
орех struduta
особый, другой onoje
отвечать, отговаривать, отвергать, отрицать ottoubalbuzu
отец bruta
открывать ankluzu
открытый ankluzoje
ощущение, эмоция intruta
П
палец istriluta
пена pinuta
пепел, порошок uguruta
первый раз, однажды onki amglutima
перевод utajuta
переплёт nituklinkuta
пересечение, перекрёсток, клетка kristuta
перо piruta
песок sputa
пиво aluta
пилот piluta
писать natuzu
писать стихи и прозу tajnobalbuzu
писатель nataln
писательница natalinga
письмо natuta
пить gluzu
плод fruta
плоский fla-
плохой igonoje
подарок, награда, взятка duzuta
по-другому onoju
поедание камней trudokusuta
поздний timnoje
показывать jokuzu
покупать proskuzu
полиция polisuta
помогать pasobluzu
понимание stiguta
понимать stiguzu
поровну, равно otoju
после pou
последний tuputoje
потихоньку nebroju
потому что stogou
поэзия, литература tajnobalbuta
право на что-то alguta (u…)
правило algobalbuta
правый algoje
прилагательное akkoubalbuta
приправа asmakurekuta
присылать popluzu
приятный laskoje
продавать grabuzu
против prou
прямой striloje
прямо striloju
птица ausuta
пустой sprugoje
путешествие, поездка aiduta
пять, пятый skonk, skonki
Р
работа fuzuta
работать, делать, действовать fuzu
рабочий, трудолюбивый fuzoje
рабочий, работник fuzaln
рабский, несвободный
nesamoje
равный otoje
радостный, весёлый bavoje
радость bavuta
ранний svitoje
рассказчик, выступающий, тот, кто говорит balbaln
рассказчица, выступающая, та, кто говорит balbalinga
растение rusuta
растительный, растущий rusoje
резать kromuzu
риск riskuta
рисовать bleruzu
родной, свой, собственный moje
рожать arduzu
рот loguta
рука irukuta
ручной irukoje
ручка, карандаш strilonatuta
рыба pliskuta
С
с (кем-то, чем-то) us
самоудовлетворение sabaupajuta
свет asvuta
светить sveuzu
свинья parsuta
свободно samoju
свободный samoje
свобода samuta
связывать, соединять nituzu
связь, нить nituta
себя, себе, себя sabau
север skiruta
сегодня o amglutima
сегодня днём o dinutima
сейчас o amglutima
семя sauta
семь, седьмой sidonk, sidonki
секс seksuta
сердце tokuta
середина mizuta
серый sauroje
сестра uskvinuta
сзади ottoju
сидеть siduzu
символ gladuta
символизировать gladuzu
синий, голубой bloje
скандал skandaluta
скандинавский skandinoje
сколько akkoujma
cладкий azurkoje
слышать, слушать tuzu
смерть, небытие neistuta
смеяться guluzu
смотреть, видеть okuzu
снег snuta
снова noju
cобака psauta
сожаление glajuta
сознание uznuta
солнце sveuta
соль siluta
сосать kmajtuzu
спасать kovtuzu
спать pletuzu
спичка ugustriluta
ствол strilorusuta
старый pomirnoje
стекло skluta
стеклянный skloje
стена struta
сто stonk
стоять statuzu
страх skamuta
страшный, чудовищный
skamutoje
стыд saramuta
считать skuzu
сухой shoje
сухость shuta
сын armauta
сыпать pasipuzu
съедобный, сытый kusoje
сюда suttou
Т
тайна sigruta
так kvaj
так много kvajujma
там vou
твёрдый, каменный trudoje
текст tekstuta
телевидение televizuta
телефон telefonuta
телесный korpoje
тело korputa
тепло hinuta
терять nimatuzu
течь, литься, лить liuzu
тихий negrimoje
тишина negrimuta
только onkuru
точный presizoje
три tronk
трудно vigoju
тьма, чернота kuruta
ты tau
тысяча tisonk
тысячелетний tisonkvekutoje
тяжёлый vigoje
тяжесть, трудность viguta
У
удовольствие, наслаждение pajuta
узкий skoje
улица, дорога uviuta
ум pauznuta
умный pauznoje
уродливость igonuta
устно balboju
утро svituta
ухо tukuta
Ф
фантазия fantazuta
француз fransuta
Х
хвост viluta
хитрый fafroje
холод zimnuta
холодный zimnoje
хорошо amiloju
хотеть aluzu
храп, странный звук, шарканье, хрюканье, лязг kraputa
храпеть, хрюкать, издавать странные звуки krapuzu
хрупкий pasipoje
художник tajnaln
художница tajnalinga
хуже igoing
Ц
цвет tviuta
цветок krasuta
цель singnuta
Ч
часть pluta
человек, животное, живое существо suta
чем (сравнение) — ing
червь kipisuta
чёрный kuroje
четыре kronk
число skuzuta
чистый umoje
читать kartuzu
читатель kartaln
читательница kartalinga
что sau
чтобы parous
что-то круглое olo-
что-то продолговатое strilo-
чувствовать intruzu
чужой nemoje
Ш
шанс sansuta, устар. chansuta
шесть sonk
широкий ruroje
шоколад sokoladuta
шумный, музыкальный, громкий grimoje
Э
эмиграция emigruta
этот, эта, это, эти, те, то, тот, та o
Ю
юг ukiruta
Я
я au
язык (анатом.) klauta
язык, слово, рассказ, выражение balbuta
яйцо juta
Ольгерд Бахаревич: «Пишу о своем, о нашем здесь и сейчас»
О 90-Х
— Нам не хватает понимания того, насколько это было революционное, свободное, веселое и важное время. Какие мы все были наивные, дикие, глупые и талантливые, и какая замечательная была на вкус эта неуправляемая, долгожданная свобода. Мы учились быть людьми, учились быть белорусами, учились быть европейцами, гражданами независимого государства. И это было круто. Инерция тех лет до сих пор спасает страну.
О МОЛОДОСТИ
— Я понимаю, что мои девяностые не очень-то типичны, я занимался преимущественно тем, что шлялся по городу, читал умные книжки, писал стихи, знакомился с разными фриками, пил, курил и орал в микрофон неприличные песенки на собственные тексты… И культивировал в себе непохожесть на других.
О ЧТЕНИИ
— Вдумчивое чтение хорошей литературы — это уже акт свободы, пример критического отношения к миру и людям, пример того, как творчество меняет и самого творца, и того, кто поддается его чарам.
О СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
— Белорусская литература прежней уже никогда не будет. Смелость, эксперимент, новый язык, новые формы, вписанность в европейский контекст, вот что в ней появилось. Белорусская литература очень поумнела и осмелела, стала гораздо разнообразнее и бросила наконец-то играть в великую святую, наставляющую народ… Настоящая современная литература живет в независимых издательствах, маленьких книжных, в вольном интернете, у нее невысокие тиражи, зато каждый ее читатель — настоящий.
О ПРОВИНЦИИ
— Нам надо понять, что наша литература — маленькая. Провинциальная. И что в этом ничего трагического нет, все самое интересное всегда рождалось в провинции. Вот мои любимые писатели, я их называю старыми мастерами: Кафка — из провинциальной Праги, не из Вены, не из Берлина; Джойс — из Дублина, не из Лондона. Вспомним латиноамериканский бум, Турцию… Пусть Америка и Британия пишут свою великую литературу, а мы здесь будем писать свою маленькую — о своем, о нашем здесь и сейчас. Важнее, чтобы нас поняли, прочитали и признали такие же «собаки Европы», как мы…
О БЕДНОСТИ И СВОБОДЕ
— Проданные книги, колонки, переводы, изредка случающиеся писательские стипендии, иногда премии — всего этого хватает только на очень скромное существование. Еда, одежда, книги, сигареты, крыша над головой — вот и все. Но действительно, ничем кроме литературы и связанных с ней дел я не занимаюсь. Это мой выбор — бедность в обмен на свободу. Таким уж меня воспитали прочитанные в юности книжки. Стивен Дедал был беден. Сам Джойс был беден. Все хорошие писатели были бедны и только в какой-то момент, очень поздно, перед ними начинал брезжить призрак благосостояния. Значит, этот момент еще не пришел.
О «СОБАКАХ ЕВРОПЫ»
— «Собаки Европы» — очень важная (по крайней мере, для меня) книга. Это роман обо всем. Обо мне, о вас всех, о Беларуси, Европе, мире, национализме, иллюзиях, любви, поэзии, ненависти, языке, власти, манипуляциях, о нашей силе и слабости, о сексе и о смерти, о литературе и волшебстве.
Из интервью Сергею Трефилову, «Комсомольская правда. Беларусь»,
22 января 2019 г.
Ольгерд Бахаревич, 43 года. Писатель и переводчик. Автор полутора десятков книг прозы. Среди популярных романов — «Сорока на виселице», «Шабаны», «Дети Алиндарки», «Белая муха, убийца мужчин», «Собаки Европы», эссе о классиках белорусской литературы «Гамбургский счет Бахаревича». Произведения Бахаревича переведены на английский, французский, немецкий, чешский, украинский, болгарский, словенский, русский, польский, литовский языки. Лауреат многих литературных премий. Живет в Минске.
Сноски
1
Таёжная — улица в Минске.
(обратно)

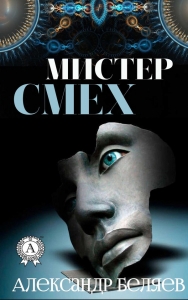

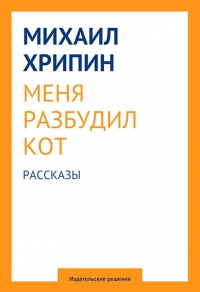

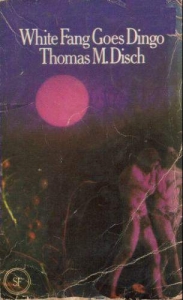



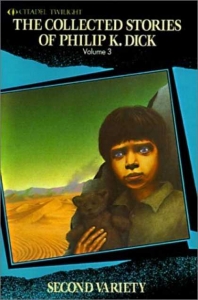
Комментарии к книге «Собаки Европы», Ольгерд Иванович Бахаревич
Всего 0 комментариев