Алан Лайтман Сны Эйнштейна
Alan Lightman
Einstein’s Dreams
© Alan Lightman, 1993
© Перевод. В. Харитонов, наследники, 2018
© Издание на русском языке AST Publishers, 2018
* * *
Пролог
Вдалеке башенные часы бьют шесть раз и смолкают. За столом, навалившись, сидит молодой человек. Он чуть свет пришел в бюро, за ночь сделав еще один рывок. У него спутанные волосы, мешковатые брюки. В руке десятка два скомканных листов, это его новая теория времени, сегодня он отошлет ее в немецкий физический журнал.
В комнате отзываются городские звуки. Звякнула о камень молочная бутылка. Скрипнула маркиза над витриной на Марктгассе. Медленно катит свою повозку зеленщик. В квартире неподалеку приглушенными голосами переговариваются мужчина и женщина.
В неясном свете, затопляющем комнату, конторские столы горбятся смутно, как звери на лежке. Перед молодым человеком лежат в беспорядке раскрытые книги, на других же двенадцати дубовых столах документы разложены аккуратно еще со вчерашнего дня. Через два часа пришедший служащий будет точно знать, с чего ему начинать. Но в эту минуту, в этом неясном свете документы не более различимы, чем часы в углу комнаты или стул секретаря у двери. Все, что можно разглядеть в эту минуту, это призрачные квадраты столов и сгорбленная фигура молодого человека.
Невидимые часы на стене показывают десять минут седьмого. С каждой минутой все новые предметы обретают явь. Вот появилась мусорная корзинка из медной проволоки. Вот объявился календарь на стене. Вот семейная фотография, коробочка с бумажными скрепками, чернильница, перо. Там пишущая машинка, жакет, брошенный на спинку стула. Скоро из ночного марева, обволакивающего стены, выступают стеллажи. На стеллажах папки с патентными заявками. В одной предлагается новое сверло с фаской, уменьшающей трение; в другой – электрический трансформатор, выдерживающий постоянное напряжение на выходе при изменениях питающего напряжения; в третьей – пишущая машинка с бесшумной кареткой. Эта комната полна практических идей.
Снаружи солнце зажигает вершины Альп. Стоит поздний июнь. Лодочник отвязывает на Аре свою плоскодонку и отталкивается веслом, течение несет его вдоль Арштрассе к Гербернгассе, где он продаст свои яблоки и ягоды. В свою пекарню на Марктгассе приходит пекарь, растапливает печь, месит тесто. Любовники обнимаются на мосту Нидегг, задумчиво смотрят на реку. С балкона на Шиффлаубе мужчина обозревает розовеющее небо. Страдающая бессонницей женщина бредет по Крамгассе, заглядывая в каждую темную подворотню, читая объявления в занимающемся свете.
В длинном пенале на Шпайхергассе, в комнате, полной практических идей, сидит, обмякнув на стуле, молодой служащий патентного бюро, опустив голову на стол. За несколько месяцев, начиная с середины апреля, он перевидал множество снов о времени. Сны завладели его исследованием. Сны вымотали его, опустошили настолько, что он уже не может отличить сны от яви. Теперь со снами покончено. Природа времени, во множестве вариантов являвшаяся ему ночами, теперь свелась к одному. И не то чтобы все другие варианты были невозможны. Другие варианты могут существовать в других мирах.
Молодой человек шевельнулся на стуле, он ждет, когда придет машинистка, и тихо мурлычет «Лунную сонату» Бетховена.
14 апреля 1905 г.
Допустим, время – замкнутый круг. Мир неукоснительно повторяется.
Люди по большей части не знают, что они заново проживут свои жизни. Торговцы не знают, что они снова и снова будут заключать все те же сделки. Политики не знают, что в круговерти времени они будут снова и снова возглашать свое все с той же трибуны. Родители благоговейно хранят память о первом смехе своего ребенка, словно никогда не услышат его снова. Любовники, любящие впервые, пугливо раздеваются, дивятся шелковистому бедру, хрупко вылепленному соску. Откуда им знать, что в точности, как в первый раз, они снова и снова и подсмотрят, и потрогают?
Все то же самое на Марктгассе. Откуда знать торговцу, что всякий свитер домашней выделки, всякий вышитый носовой платок, всякая плитка шоколада, всякий хитроумный компас и часы – все вернется на свои места? В сумерках торговцы возвращаются домой, в семью, либо пьют пиво в заведениях, радостно окликая друзей на крытых улочках, лелея каждое мгновение, словно изумруд, данный им во временное обладание. Откуда им знать, что ничто не временно, что все повторится вновь? Муравей, ползущий по краю хрустальной люстры, не больше их знает, что вернется туда, откуда начал ползти.
В больнице на Гербернгассе женщина прощается с мужем. Он лежит и смотрит на нее пустыми глазами. За два прошедших месяца рак, поселившийся у него в горле, поразил печень, желудок, мозг. В углу на одном стуле жмутся его малолетки дети, боясь поднять глаза на отца, увидеть его впавшие щеки, высохшую, старческую кожу. Жена подходит к постели, мягко касается губами его лба, шепчет прощальные слова и быстро уходит с детьми. Она уверена, что это был их последний поцелуй. Откуда ей знать, что время начнется заново, что она снова родится, снова будет ходить в гимназию, выставит свою живопись в цюрихской галерее, снова встретит своего мужа в маленькой библиотеке во Фрибуре, и в некий теплый июльский день они поплывут на ялике по Тунскому озеру, и она родит ему детей, и муж так же проработает в аптеке восемь лет, и однажды вечером вернется домой с комом в горле, и снова все бросит, и будет слабеть, и кончится в этой больнице, в этой палате, на этой койке – в эту самую минуту. Откуда ей все это знать?
В мире, где время – круг, каждое рукопожатие, каждый поцелуй, каждое рождение, каждое слово повторятся в точности. Как повторится минута, когда друзья раздружатся, и день, когда из-за денег распадется семья, и снова выкрикнутся злые слова в супружеском споре, и зависть начальника снова порушит надежды, и обещание снова не сдержится.
И как все повторится в будущем, так миллионы раз все происходило прежде. В каждом городе найдутся люди, которые в своих грезах смутно сознают повторяемость прошлого. У этих людей не задалась жизнь, и они чувствуют, что их заблуждения, опрометчивые шаги и неудачи все имели место на предыдущем витке времени. Глухой ночью эти обреченные борются с простынями, не имея отдыха, мучаясь сознанием того, что не могут изменить ни единого поступка, ни единого движения. Ошибки прошлой жизни в точности повторяются в этой. Эти вдвойне несчастные люди одни только и свидетельствуют о том, что время – это круг. В каждом городе глубокой ночью пустые улицы и балконы наполняются их стонами.
16 апреля 1905 г.
В этом мире время подобно потоку воды, который порою сбивают с пути речные наносы или налетевший ветер. То и дело какая-нибудь космическая пертурбация вынуждает ручеек времени уклониться от главного направления, начать попятное движение. Когда такое происходит, увлекаемые ветвящимися протоками птицы, грунт, люди оказываются снесенными в прошлое.
Отброшенных назад людей легко опознать. Они в темной невыразительной одежде, ходят на цыпочках, стараясь не произвести ни малейшего шума, не потревожить ни единой былинки. Они боятся, что любое нарушение в прошлом может губительно отозваться в будущем.
Вот сейчас, к примеру, такая личность вжимается в темную нишу у дома 19 по Крамгассе. Странное место для пришельца из будущего, но такое она себе выбрала. Прохожие идут, смотрят и удаляются. Она ежится на углу, потом семенит через улицу и оцепеневает на другом темном местечке, у дома 22. Она трепещет при мысли, что может поднять пыль, когда этим днем, 16 апреля 1905 года, в аптеку на Шпитальгассе направляется некий Петер Клаузен. Клаузен в некотором роде денди и не потерпит запачканной одежды. Если на одежду сядет пыль, он встанет и старательно почистится, несмотря на неотложные дела. Если Клаузен порядком задержится, он вряд ли купит мазь для жены, а та уже какую неделю жалуется на боли в ноге. В таком случае жена Клаузена рассердится и может не поехать на Женевское озеро. Если же 23 июня 1905 года она не поедет на Женевское озеро, она не встретит некую Катрин Дэпине, гуляющую на восточной пристани, и не познакомит с мадемуазель Дэпине своего сына Рихарда. В свою очередь Рихард и Катрин не женятся 17 декабря 1908 года, не родят Фридриха 8 июля 1912-го. Фридрих Клаузен не станет отцом Ханса Клаузена 22 августа 1938 года, а без Ханса Клаузена в 1979-м не бывать Европейскому союзу.
Женщина из будущего, без спросу выброшенная в это время и на это место и старающаяся быть невидимой в своем темном углу у дома 22 по Крамгассе, знает историю Клаузенов, как знает тысячу других историй, еще только ждущих своего развития, зависящих от рождения детей, от ходьбы людей по улицам, от пения птиц в определенные минуты времени, от того, как расставлены стулья, от ветра. Она ежится в тени и не поднимает глаза на людей. Она ежится и ждет, чтобы поток времени вернул ее обратно, в ее время.
Когда пришельцу из будущего требуется говорить, он не говорит, а стенает. Он вышептывает страдальческие звуки. Он в отчаянии. Ведь если он что-то изменит в малейшей степени, он может погубить будущее. В то же время он вынужден быть безучастным свидетелем событий, не могущим ничего изменить. Он завидует людям, которые живут в своем собственном времени, могут поступать, как им хочется, не задумываясь о будущем, не ведая последствий своих действий. Он же действовать не может. Он инертный газ, дух, бездушная оболочка. Он утратил индивидуальность. Он изгнанник времени.
Таких вот несчастных людей из будущего можно найти в каждой деревне и в каждом городе, они прячутся под навесами домов, в подвалах, под мостами, в безжизненных полях. Их не спрашивают о грядущих событиях, о будущих браках, рождениях, о денежных делах, изобретениях, о возможных выгодах. Их оставляют в покое – и жалеют их.
19 апреля 1905 г.
Холодное сентябрьское утро, выпал первый снег. На балконе, с четвертого этажа нависающем над белой Крамгассе ввиду фонтана Церингер, стоит человек в длиннополом кожаном пальто. На востоке он видит стройный шпиль кафедрального собора Святого Винсента, на западе – крутые гребни крыш на Цитглоггетурм. Однако человек не смотрит ни на восток, ни на запад. Он смотрит вниз, видит красную шляпку на снегу, он задумался. Надо ли ехать к той женщине во Фрибур? Его пальцы обжимают металлический поручень, отпускают, снова сжимают. Надо ли ехать? Надо ли?
Он решает не видеться с нею. Она женщина властная и резкая в суждениях, она может отравить ему жизнь. Может, он не будет ей вообще никак интересен. И он решает не видеться с нею больше. Так что он держится мужской компании. Он упорно занимается фармацевтикой, практически не замечая своей помощницы. По вечерам он ходит в пивную на Кохергассе, пьет с друзьями пиво, учится готовить фондю. Через три года он знакомится с женщиной из галантерейного магазина в Невшателе. Она прелестна. Она любит его очень медленно – месяц за месяцем. Проходит год, и она переезжает к нему в Берн. Они мирно живут, совершают прогулки вдоль Аре, отлично подходят друг другу, стареют, всем довольны.
В другом мире мужчина в длинном кожаном пальто решает снова увидеться с женщиной из Фрибура. Он едва знает ее, она может оказаться властной, в ее поведении сквозит ветреность, но как мягчеет ее лицо, когда она улыбается, какой у нее смех, какая толковая речь. Да, он должен еще раз увидеться с нею. Он едет к ней во Фрибур, садится с ней на диван, и почти сразу у него начинает бухать сердце, он изнемогает от белизны ее рук. Они любят друг друга шумно и безудержно. Она настаивает, чтобы он переехал во Фрибур. Он оставляет работу в Берне и начинает служить на фрибурском почтамте. Он пылает любовью к ней. Каждый день он обедает дома. Они едят, любят друг друга, спорят, она жалуется, что не хватает денег, он оправдывается, она швыряет в него посуду, они снова любят друг друга, он возвращается на службу. Она грозит бросить его, но не бросает. Он живет для нее одной и счастлив своим страданием.
И в третьем мире он решает снова увидеть ее. Он ее едва знает, она может оказаться властной, в ее поведении сквозит ветреность, но как же она улыбается, как смеется, как толково говорит. Да, он должен увидеть ее снова. Он едет к ней во Фрибур, она встречает его на пороге, они пьют чай на кухне. Беседуют о работе: она – в библиотеке, он – в фармации. Через час она говорит, что ей нужно проведать подругу, прощается с ним, они обмениваются рукопожатием. С опустошенным сердцем проезжает он тридцать километров до Берна, поднимается к себе на четвертый этаж на Крамгассе, выходит на балкон и смотрит вниз на красную шляпку, брошенную в снег.
Все три ряда событий совершаются одновременно. Ибо в этом мире время имеет три измерения, как пространство. Подобно тому как предмет может перемещаться в трех перпендикулярных направлениях, а именно горизонтально, вертикально и в глубину, точно так же он может участвовать в трех перпендикулярных будущих временах. Каждому будущему задано свое направление. Каждое будущее – реальность. Когда принимается решение, поехать ли к женщине во Фрибур или купить новое пальто, мир расщепляется на три мира, в каждом из них те же самые люди, но судьбы у них разные. Время – это бесчисленность миров.
Иные пренебрегают решениями, полагая так: чему быть, того не миновать. В таком мире – как отвечать за свои поступки? Другие считают, что всякое решение должно быть продуманным и обязательным к выполнению, что без обязательств наступит хаос. Эти люди приживаются в несовместных мирах, коль скоро могут обосновать каждый из них.
24 апреля 1905 г.
В этом мире два времени. Есть механическое время – и есть биологическое. Первое время меднолобое, точно тяжелый железный маятник, что раскачивается взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Другое время резвится, как голубая рыба в заливе. Первое неуклонно движется по заданному пути. Второе решает за себя на ходу.
Многие убеждены, что механического времени не существует. Проходя мимо гигантских часов на Крамгассе, они не глядят на них; не слышат они и курантов, отправляя посылки с Постгассе или прогуливаясь между клумбами в Розенгартене. Они носят на запястье часы как украшение или уважая чувства тех, для кого хронометр – лучший подарок. У себя дома они не держат часов. Они прислушиваются к биению своего сердца. Им внятны ритмы их желаний и капризов. Эти люди едят, чувствуя голод; встав ото сна, отправляются на работу в шляпную мастерскую или в аптеку, занимаются любовью во всякое время дня. Этим людям смешна сама мысль о механическом времени. Они знают, что время движется рывками. Они знают, что время с трудом ползет вперед, нагруженное, когда они несут ушибшегося ребенка в больницу или терпят взгляд обиженного соседа. Они знают и то, что время вырывается из поля зрения, когда они закусывают с друзьями, когда их хвалят или когда они лежат в объятиях тайного любовника.
Есть и другие – эти не признают своего тела. Они живут по механическому времени. Встают в семь часов утра. В полдень съедают ланч, в шесть ужинают. Вовремя, по часам, приходят на встречу. Они занимаются любовью между восемью и десятью вечера. Работают сорок часов в неделю. В воскресенье читают воскресную газету, по вторникам играют в шахматы вечером. Когда у них урчит в животе, они глядят на часы – не пора ли есть. Когда их увлекает концерт, они смотрят на часы над эстрадой, чтобы не припоздниться домой. Они знают, что тело не заключает в себе ничего фантастического, оно – конгломерат химических элементов, тканей и нервных импульсов. Мысли не более чем электрическое возмущение в мозгу. Сексуальное возбуждение не более чем приток химических элементов к нервным окончаниям. Грусть не более чем воздействие кислоты на мозжечок. Коротко говоря, тело – это машина, так же послушная законам электричества и механики, как электрон или часы. И обращаться к телу следует на языке физики. Если тело подаст голос, это будет голос рычагов и приложенных сил. Надо не слушаться тела, но повелевать им.
Прогуливаясь по ночному холодку вдоль Аре, убеждаешься в совместности двух миров – в одном. Увлекаемый течением, лодочник ориентируется в темноте, считая по секундам: «Раз – три метра. Два – шесть метров. Три – девять метров». Его мерный голос звучит ясно и четко в темноте. Под фонарем на мосту Нидегг выпивают и смеются два брата, не видевшиеся целый год. Колокол кафедрального собора Святого Винсента бьет десять раз. В считаные секунды в домах по Шиффлаубе гаснут огни – с механической обязательностью, как следуют один из другого выводы в евклидовой геометрии. Лежащие на берегу любовники нехотя поднимают головы, разбуженные от безвременья сна далеким колокольным звоном, озадаченные приходом ночи.
Беда, когда оба времени сходятся. Благо, когда оба времени идут каждое своим путем. Тогда чудесным образом и адвокат, и сиделка, и пекарь обретают мир в каждом времени, но никак не в обоих. У каждого времени своя правда, но это разные правды.
26 апреля 1905 г.
В этом мире сразу отмечается некоторая странность. Ни в долинах, ни на равнине нет домов. Люди живут в горах.
Некогда в прошлом ученые открыли, что по мере удаления от центра Земли время течет медленнее. Эффект крохотный, но чувствительные инструменты его отмечают. Как только об этом явлении прознали, жаждущие остаться молодыми индивидуумы двинулись в горы. Теперь домами заставлены Дом, Маттерхорн, Монте-Роза и прочие высоты. В других местах продать жилье невозможно.
Многим недостаточно просто обитать на горе. Чтобы добиться максимального эффекта, они строят дома на сваях. По всему миру вершины гор обставлены такими домами, словно их обсели стаи долгоногих тучных птиц. Те, кому хочется жить дольше всех, ставят дома на самые высокие сваи. Поэтому некоторые дома тянутся на рахитичных ножках до полумили. Высота определяет положение. Когда человек, подняв глаза, высматривает соседа в кухонное окно, он думает, что у соседа не так скоро, как у него, деревенеют суставы, выпадают волосы, морщинится лицо, не так рано иссякает любовное рвение. Также, глядя на нижний дом, человек склонен расценивать его обитателей как никчемных, слабых, недальновидных людей. Иные хвастают, что всю жизнь живут на вышине, что родились в самом высоком доме на самой высокой горной вершине и никогда не спускались вниз. Они приветствуют свою юность в зеркалах и нагими разгуливают по балконам.
Время от времени настоятельные дела вынуждают людей спускаться, они делают это в спешке, сверзиваясь по высоким лестницам на землю, перебегая к другой лестнице или сбегая в долину, улаживая дела – и скорее, скорее домой либо на какое другое высокое место. Они знают, что с каждым их шагом вниз время убыстряет ход и они быстрее старятся. На земле они даже не присядут. Они бегают, прижимая к себе портфели и сумки.
В каждом городе отыщется группа обывателей, безразличных к тому, что они стареют на несколько секунд быстрее своих соседей. Эти отчаянные люди спускаются в нижний мир, бывает, на несколько дней, полеживают под деревьями, растущими на равнинах, лениво плещутся в озерах, лежащих на теплых высотах, катаются по ровной земле. Они почти не смотрят на часы и не скажут, понедельник сегодня или вторник. Когда мимо них, глумясь, пробегают люди, они только улыбаются в ответ.
Идет время, и люди забывают, почему выше значит лучше. Тем не менее они продолжают жить в горах, избегают низменностей, учат детей, чтобы те остерегали своих детей от низин. Они привыкли переносить холод и принимают неудобства как должное. Они даже убедили себя в том, что разреженный воздух полезен их организму, и, следуя этой логике, перешли на строгую диету, ограничив себя самой легкой пищей. В конечном счете они стали невесомы, как воздух, – кожа да кости, – и состарились до времени.
28 апреля 1905 г.
Ни пройтись по проспекту, ни перемолвиться с приятелем, ни войти в дом, ни поглазеть на витрины под старой аркадой из песчаника не получится в обход тех или иных хронометров. Всюду зримо присутствует время. Башенные часы, ручные часы, церковные колокола делят годы на месяцы, месяцы – на дни, дни – на часы, часы – на секунды, и всякое приращение времени совершается неукоснительным порядком. И мимо всех и всяческих хронометров крепью держит вселенную костяк времени, утверждая закон времени, одинаковый для всех. В этом мире секунда есть секунда всегда. Время шествует вперед с поразительной размеренностью, с одной и той же скоростью во всех уголках пространства. Время – неограниченный правитель. Время – абсолют.
Каждый день бернские обыватели собираются на западном конце Крамгассе. Там без четырех минут три Цитглоггетурм отдает дань времени. На высокой башенке танцуют шуты, кричат петухи, на дудочках и барабанах играют медведи, движения и звуки подчиняя вращению шестеренок, в свою очередь, одушевленных безупречностью времени. Ровно в три часа тяжелый колокол бьет три раза, люди сверяют часы и возвращаются к себе в конторы на Шпайхергассе, в лавки на Марктгассе, на фермы в заречье Аре.
Для людей религиозных время есть свидетельство о Боге. Ибо не может быть совершенства без Творца. Универсальное не может не быть божественным. Все абсолютные понятия суть часть Единого Абсолюта. В ряду с абсолютными понятиями стоит и время. Вот почему философы-моралисты помещают время в центр своей догмы. Время – это та система координат, по которой выверяются все поступки. Время – это ясность, отделяющая истинное от ложного.
В магазине белья на Амтхаусгассе женщина разговаривает с подругой. Та только что потеряла работу. Она двадцать лет прослужила в Бундесхаусе стенографисткой. На ней держалась семья. У нее дочь-школьница и муж, каждое утро тратящий два часа на свой туалет, – и вот ее уволили. Ее густо намазанная, карикатурного вида начальница вошла утром и велела очистить стол к завтрашнему дню. Подруга-продавщица молча слушает, аккуратно сворачивает салфетку, которую та купила, снимает пушинку со свитера свежеиспеченной безработной. Подруги договариваются встретиться завтра и выпить чаю в десять утра. В десять часов. До встречи семнадцать часов и пятьдесят три минуты. Впервые за все эти дни женщина-безработная улыбается. Она воображает свои кухонные часы, отстукивающие секунды между теперешним временем и завтрашними десятью часами – безостановочно, безоговорочно. И воображает такие же часы в доме своей подруги, так же точно идущие. Завтра, без двадцати десять, женщина обмотает шею шарфом, натянет перчатки и пальто и по Шиффлаубе мимо моста Нидегг отправится в кафе на Постгассе. Туда же без четверти десять через центр города из своего дома на Цойгхаусгассе выйдет ее подруга. В десять часов они встретятся. Они встретятся в десять часов.
Мир, в котором время представляет собой абсолютную величину, есть мир, дарующий утешение. Ибо движения людей непредсказуемы, а движение времени предсказуемо. Если люди сомнительны, то время несомненно. Если люди предаются размышлениям, то время стремится вперед не оглядываясь. В кофейнях, в государственных учреждениях, в лодках на Женевском озере люди смотрят на часы и находят убежище во времени. Все знают, что где-то зафиксирована минута, когда они родились, когда сделали первый шаг, когда впервые проснулось чувство, когда попрощались с родителями.
3 мая 1905 г.
Вообразите мир, где причина и следствие меняются местами. Иногда первое предшествует второму, иногда второе – первому. Пусть даже причина всегда лежит в прошлом, а следствие – в будущем: прошлое и будущее взаимосвязаны.
С площадки Бундестеррас открывается поразительный вид: внизу река Аре, выше бернские Альпы. Сейчас там стоит мужчина, он рассеянно опоражнивает карманы и плачет. Без всяких причин его покинули друзья. К нему никто не заходит, не ужинает с ним и не пьет пиво в кабачке, не приглашает к себе. Двадцать лет он был образцовым другом – великодушным, заинтересованным, вникающим, любящим. Что же могло случиться? Неделю спустя этот самый человек пускается во все тяжкие: всех оскорбляет, ходит в зловонном тряпье, скопидомничает, никого не пускает к себе в квартиру на Лаупенштрассе. Что здесь причина и что следствие? Что будущее и что прошлое?
Недавно в Цюрихе муниципалитет одобрил строгие меры. Публике запрещено продавать пистолеты. Банки и торговые дома подлежат проверке. На предмет контрабанды проверяются все приезжие – как пароходом по реке Лиммат, так и железной дорогой от Зельнау. Силы гражданской обороны удвоены. Спустя месяц после принятия этих крутых мер Цюрих сотрясают неслыханные преступления. Среди бела дня на Вайнплац убивают людей, из Кунстхауса крадут картины, в церкви на Мюнстерхоф устраиваются пьянки. На своем ли месте во времени эти правонарушения? Может, новые указы скорее развязали действия, нежели противодействовали им?
В Ботаническом саду у фонтана сидит молодая женщина. Каждое воскресенье она приходит сюда обонять белые фиалки, мускусную розу, матово-розовый левкой. Вдруг ее сердце взмывает, она краснеет, взволнованно ходит, она чувствует себя беспричинно счастливой. Проходят дни, она встречает молодого человека, и ее охватывает любовь. Не связаны ли эти события? Но как же прихотлива эта связь, как извернулось здесь время, как извратилась логика.
В этом беспричинном мире ученые беспомощны. Их предсказания оборачиваются констатацией факта. Их уравнения сводятся к оправданию, логика оказывается нелогичной. Ученые теряют голову и что-то бормочут, как зарвавшиеся игроки. Ученые – шуты, и не потому, что они разумны, но потому, что неразумен космос. А может, не потому, что неразумен космос, но потому, что разумны – они. В беспричинном мире кто скажет, что есть что?
В этом мире художники несут радость. Непредсказуемость дает жизнь их картинам, их музыке, их романам. Они упиваются непредсказанными событиями, случившимися необъяснимо, без прошлого.
В большинстве своем люди научились жить настоящим моментом. Распространено мнение, что если воздействие прошлого на настоящее имеет неопределенный характер, то нет и необходимости размышлять о прошлом. И если настоящее имеет малое воздействие или влияние на будущее, то относительно нынешних поступков не следует прикидывать последствия. Всякое действие есть островок во времени, и судить о нем надо по нему самому. Семья ублажает умирающего дядюшку не ввиду ожидаемого наследства, а потому что в эту самую минуту его любят. Служащих нанимают не по рекомендательным письмам, а потому что они толково провели беседу. Обиженные хозяевами клерки отражают оскорбления, не тревожась о будущем. Этот мир живет спонтанно. Это честный мир. В нем всякое слово говорится по велению минуты, всякий взгляд однозначен, всякое касание не имеет ни прошлого, ни будущего, всякий поцелуй совершается по движению души.
4 мая 1905 г.
Вечер. Две супружеские пары – швейцарцы и англичане – обедают за своим обычным столом в отеле «Сан Муреццан» в Сент-Морице. Они встречаются здесь каждый год в июне, общаются и принимают воды. Мужчинам необыкновенно идут их темные галстуки и широкие пояса, женщин красят вечерние платья. По отборному паркету к ним подходит официант, берет заказ.
– Я полагаю, завтра будет замечательная погода, – говорит женщина в парчовой накидке. – Будет большое облегчение. – Другие кивают. – Принимать ванны приятнее в солнечную погоду. Хотя вряд ли это имеет значение.
– «Легконогий» идет четыре к одному в Дублине, – говорит адмирал. – Я бы на него поставил, будь у меня деньги. – Он подмигивает жене.
– Если вы играете, даю пять к одному, – говорит другой. Дамы разламывают булочки, мажут маслом половинки, аккуратно составляют ножи к масленке. Мужчины не сводят глаз с входной двери.
– Мне нравится тесьма на салфетке, – говорит дама в парчовой накидке. Она берет салфетку, разворачивает ее, сворачивает.
– Ты говоришь это каждый год, Жозефина, – с улыбкой говорит другая. Подают обед. Сегодня у них омары, спаржа, жаркое, белое вино.
– Как твое мясо? – спрашивает дама в парчовой накидке, глядя на мужа.
– Превосходно. А у тебя?
– Специй многовато. Помнишь – как на прошлой неделе?
– А ваше мясо, адмирал?
– От грудинки еще никогда не отказывался, – объявляет счастливым голосом адмирал.
– А по комплекции незаметно, – замечает собеседник. – С прошлого года, как, впрочем, и за последние десять лет, вы не прибавили ни килограмма.
– Вам, может, незаметно, зато ей заметно, – говорит адмирал и подмигивает жене.
– Я, может быть, ошибаюсь, но, по-моему, в этом году в комнатах сквозняки, – говорит адмиральша. Другие кивают, занимаясь омаром и мясом. – Мне всегда лучше спится в проветренных комнатах, но от сквозняков я просыпаюсь с кашлем.
– Накрывайтесь с головой, – говорит другая.
Адмиральша согласно кивает, но смотрит озадаченно.
– Суньте голову под простыню, и сквозняк будет вам нипочем, – повторяет другая. – Со мной это постоянная история в Гриндельвальде. Постель стоит у окна. Его можно оставлять открытым, если натянуть простыню на лицо. Тогда и не простудишься.
Дама с парчовой накидкой ерзает на стуле, переставляет под столом ноги. Подают кофе. Мужчины уходят в курительную, женщины выходят на просторную веранду и опускаются на плетеные качели.
– Как подвинулось дело с прошлого года? – спрашивает адмирал.
– Не жалуюсь, – отвечает другой, прихлебывая коньяк.
– Дети?
– Стали на год старше.
На веранде раскачиваются женщины и смотрят в ночную темь.
И так в каждом отеле, в каждом доме, в каждом городе. Ибо в этом мире время проходит, а случается немногое. И как мало что происходит из года в год, так же мало что происходит из месяца в месяц, изо дня в день. Если время и ход событий одно и то же, то время вообще едва движется. Если время и события не одно и то же, тогда едва движутся люди. Если человек ни к чему не стремится в этом мире, он страдает, не ведая этого. Если человек к чему-то стремится, он страдает – и знает это, но страдает очень не спеша.
Интерлюдия
На склоне дня Эйнштейн и Бессо медленно бредут по Шпайхергассе. Это тихое время. Лавочники опускают тенты и выводят на улицу велосипеды. Со второго этажа мать кричит из окна дочери, чтобы та шла домой и готовила обед.
Эйнштейн объяснял другу, для чего ему хочется понять время. Но про сны он ничего не говорит. Сейчас они придут к Бессо домой. Иногда Эйнштейн застревает здесь на обед, и тогда Милева приходит за ним с наследником на руках. Обычно это случается, когда Эйнштейна захватывают новые планы, как сейчас, и тогда в течение всего обеда он дергает ногой под столом. Сотрапезник он неважный.
Эйнштейн склоняется к Бессо, а тот тоже коротышка, и говорит:
– Я хочу понять время, чтобы быть ближе к Предвечному.
Бессо согласно кивает. Но тут возникают вопросы, и он их ставит. Может статься, Предвечному неинтересно быть ближе к своим созданиям – что разумным, что неразумным. Во-вторых, не факт, что понимать значит быть ближе. И наконец, эта работа над проблемой времени может оказаться не по силам двадцатишестилетнему человеку.
С другой стороны, Бессо считает, что его друг способен на многое. Уже в этом году Эйнштейн закончил свою докторскую диссертацию, написал статью о фотонах и еще одну о броуновском движении. В сущности, и этот его замысел начался с исследований электричества и магнетизма, что требует, как о том объявил однажды Эйнштейн, пересмотра концепции времени. Бессо поражается его запросам.
Пока он оставляет Эйнштейна наедине с его мыслями. Он гадает, что приготовила к обеду Анна, и заглядывает в глубь боковой улочки, где в лучах заходящего солнца поблескивает на Аре серебряная лодка. При ходьбе оба мягко постукивают по булыжнику каблуками. Они знают друг друга со студенческих лет в Цюрихе.
– Из Рима получил письмо от брата, – говорит Бессо. – Приедет погостить на месяц. Анна его любит, потому что он всегда делает комплименты ее фигуре. – Эйнштейн рассеянно улыбается. – Пока будет брат, я не смогу гулять с тобой после работы. Ты не пропадешь?
– Что? – спрашивает Эйнштейн.
– Я не смогу бывать с тобой подолгу, пока тут будет брат, – повторяет Бессо. – Справишься без меня?
– Безусловно, – говорит Эйнштейн. – Не беспокойся обо мне.
Сколько знает его Бессо, Эйнштейн всегда был самостоятельным человеком. Он вырос в семье, которая постоянно переезжала с места на место. Как и Бессо, он женат, но с женою почти не появляется. Даже дома он глубокой ночью сбегает от Милевы на кухню, исписывает страницы уравнениями, которые на следующий день в конторе показывает Бессо.
Бессо бросает на друга любопытный взгляд. Потому что мечта о близости кажется странной для отшельника и погруженного в себя человека.
8 мая 1905 г.
Конец света наступит 26 сентября 1907 года. Все это знают.
В Берне дело обстоит так же, как во всех столицах и городах. За год до конца света закрываются школы. Зачем учиться впрок, когда будущего осталось всего ничего?
В восторге от того, что у них никогда больше не будет уроков, дети играют в прятки в пассажах Крамгассе, бегают по Арштрассе и «пекут блины» на реке, спускают свои монетки на леденцы и лакричные конфеты. Родители им все позволяют.
За месяц до конца сворачиваются все дела. Бундесхаус прекращает свою деятельность. На Шпайхергассе стихает федеральный телеграф. Встают часовая фабрика на Лаупенштрассе, мельница у моста Нидегг. К чему коммерция, зачем производство, когда осталось так мало времени?
Люди сидят в уличных кафе на Амтхаусгассе, прихлебывают кофе и откровенничают друг с другом. Воздух дышит освобождением. Кареглазая женщина, к примеру, жалуется матери, как мало они бывали вместе, когда она была маленькой, а мать работала белошвеей. Они решают съездить в Люцерн. Они вместят обе жизни в этот малый остаток времени. За соседним столиком мужчина рассказывает другу о ненавистном начальнике: тот после работы занимается любовью с его женой в раздевалке и грозит уволить его, если он или его жена поднимут скандал. Но теперь-то чего бояться? Мужчина свел счеты с начальником и помирился с женой. С легким сердцем он вытягивает ноги и уводит глаза к вершинам Альп.
В пекарне на Марктгассе толстопалый пекарь ставит тесто в печь и напевает. В эти дни, покупая хлеб, люди вежливы, они улыбаются и сразу платят, поскольку деньги теряют цену. Они говорят о пикниках во Фрибуре, о незабвенных временах, когда они слушали рассказы своих детей, о долгих дневных прогулках. Похоже, они не возражают против скорого конца света, поскольку всех ожидает одна участь. Мир сроком на один месяц – это мир равенства.
За день до конца улицы взрываются хохотом. Никогда не говорившие друг с другом соседи встречаются подружески, раздеваются и плещутся в фонтанах. Кто-то ныряет в Аре. Наплававшись до изнеможения, люди ложатся на густую береговую траву и читают стихи. Прежде не знавшие друг друга адвокат и почтовый служащий рука об руку гуляют по Ботаническому саду, улыбаются цикламенам и астрам, рассуждают об искусстве и цвете. Что значит их прежнее положение? В мире одного дня они равны.
В сумерках улицы направо с Арбергергассе прислонились к стене мужчина и женщина, пьют пиво и жуют копченую говядину. После она поведет его к себе. Она замужем за другим, но уже многие годы ей нужен этот мужчина, и в последний день мира она утолит свою нужду.
Искупая прошлые злодеяния, кто-то мечется по городу и творит добро. Эти люди единственные улыбаются вымученно.
За минуту до конца света все сходятся перед Кунстмузеумом. Взявшись за руки, мужчины, женщины и дети образуют огромный круг. Никто не двигается. Никто не говорит. В этой абсолютной тишине слышно, как бьются сердца соседей справа и слева. Идет последняя минута. В этой абсолютной тишине, поймав луч света, в саду с исподу вспыхивает пурпурная горечавка, краткий миг она пылает, потом теряется среди других цветов. За музеем под набежавшим ветром трепещет хвоей лиственница. Еще дальше за деревьями парка посверкивает на солнце Аре, на ее зыбкой поверхности крошится его свет. На западе вздымается в небо башня Святого Винсента, красная и хрупкая, ее каменная ажурность подобна прожилкам листа. Еще выше снежные вершины Альп, сплав белизны и пурпура, безмолвные громады. По небу плывет облако. Суетится воробей. Никто не говорит.
В последние секунды, вот так, держась за руки, они все словно бросаются вниз с пика Топаз. Конец приближается, как несущаяся навстречу земля. Их обдает холодный воздух, тела делаются невесомы. Широко раздвигается безмолвный горизонт. Все ближе неохватное снежное одеяло, готовое принять и укрыть телесно-розовое кольцо жизни.
10 мая 1905 г.
День клонится к вечеру, и солнце ненадолго прикорнуло в снежной седловине Альп, огонь ластится ко льду. Косые лучи света обтекли горы, пересекли покойное озеро, поделили нижний город на тень и свет.
Во многих отношениях город представляет собой единое целое. С севера на запад его замыкает проходимая граница еловых, лиственничных и сосновых лесов, а повыше растут огненные лилии, пурпурные горечавки, альпийский водосбор. Ради масла, сыра и шоколада на пригородных пастбищах тучнеет скот. Ткацкая фабричка производит шелка, тесьму, хлопчатобумажное полотно. Звонит церковный колокол. Улицы и проулки наполняет запах копченого мяса.
Однако внимательный глаз выявит мозаичность города. Есть квартал, который живет в пятнадцатом веке. Здесь этажи домов грубой кладки соединяются наружными лестницами и галереями, а верхние щипцы зияют и открыты ветру. В стыках плиточных крыш растет мох. Другой район городишка прямо сошел с картины восемнадцатого века. Бурая обожженная черепица топорщится на вытянутых в струнку крышах. В церкви округлые окна, выступающие крытые галереи, гранитные парапеты. А третий район живет в сегодняшнем дне, здесь аркады тянутся вдоль улиц, на балконах металлические поручни, фасады выложены гладким песчаником. Каждый квартал закреплен за своим временем.
В завершение дня, в эти несколько минут, когда солнце покоится в снеговой седловине Альп, можно присесть у озера и поразмышлять о свойствах времени. Предположительно время может быть гладким и грубым, колючим и шелковым, жестким и мягким. А в этом мире время – липкая материя. Разные части города где-то завязли в истории и дальше не пошли. Так же и люди увязают в каком-то месте своей жизни и уже не могут выдраться.
Вот сейчас в одном из домов предгорья человек беседует с другом. Он рассказывает о годах учения в гимназии. По стенам висят свидетельства его успехов в математике и истории, на книжных полках лежат спортивные медали и стоят кубки. На столе фотография, где он капитан фехтовальной команды, в обнимку с ним другие юноши, которые потом окончили университет, стали инженерами и банкирами, женились. В комоде хранится его тогдашнего, двадцатилетнего, одежда – фехтовальная куртка, твидовые штаны, теперь уже тесные в поясе. Его друг, годами пытавшийся свести его с людьми, вежливо кивает, старается не задохнуться в крохотной комнатушке.
В другом доме человек сидит за столом с двумя приборами. Десять лет назад он сидел так же против отца и не мог сказать, как он любит его, он перебирал в памяти детские годы, ища какую-нибудь минуту близости, вспоминал вечера, когда молчаливый человек сидел одиноко с книгой и он не смог сказать ему, как он его любит, не смог. На столе две тарелки, два бокала, две вилки – все, как в тот последний вечер. Он начинает есть, кусок не идет в горло, он безудержно рыдает. Он так и не сказал, что любит его.
В третьем доме женщина любовно смотрит на фотографию сына – молодого, смеющегося, полного жизни. Она пишет ему по давно не существующему адресу, воображает счастливые ответные письма. Когда сын стучит в ее дверь, она не отвечает. Когда он с распухшим лицом и остекленевшими глазами кричит ей с улицы и просит денег, она не слышит его. Когда сын, нетвердо подойдя к двери, оставляет ей записки, умоляя увидеться, она выбрасывает их потом, не читая. Когда сын с вечера встает под ее окнами, она пораньше ложится спать. Утром она смотрит на фотографию, пишет любящие письма по давно не существующему адресу.
Старая дева видит лицо юноши, любившего ее, в зеркале спальни, на потолке в булочной, на глади озера, в небе.
Трагедия этого мира в том, что все несчастны, завязнув в горе – либо в радости. Трагедия этого мира в том, что все одиноки. Ибо прошлой жизни нечего делать в сегодняшней. Всякий, кто увязнул там, остается там один.
11 мая 1905 г.
Слоняясь по Марктгассе, нельзя не поразиться увиденному. На фруктовых лотках ровными рядами выложены вишни, в галантерейном магазине аккуратными стопками составлены шляпы, на балконах в строгой симметрии подобраны цветы, пол чисто выметен в булочной, насухо вытерт в молочной. Все знает свое место.
Когда подгулявшая компания уходит из ресторана, у столов даже более прибранный вид, чем прежде. Когда ветерок обдувает улицы, он делает уборку, унося на край города пыль и мусор. Когда волна размывает берег, берег потом сам приводит себя в порядок. Когда с деревьев падают листья, они устилают землю углом, как севшие птицы. Когда из облака вылепливается голова, она такой и останется. Когда труба дымит в окно, сажу относит в угол комнаты, воздух остается чистым. Открытые ветру и дождю окрашенные балконы со временем только хорошеют. При звуке грома восстанавливается разбитая ваза, осколки в точности занимают свои места и скрепляются. Душистый запах с коричной тачки со временем не ослабевает, но только крепнет.
Не правда ли, все это выглядит необычно?
В этом мире время несет с собою возрастающий порядок. Порядок суть закон природы, универсальная установка, космическая директива. Если время – стрела, то цель ее – порядок. Будущее – это модель, структура, согласие, сосредоточенность; прошлое – произвол, путаница, разлад, рассеяние.
Философы порешили на том, что без устремления к порядку время утрачивает смысл. Будущее станет неотличимо от прошлого. Последовательность событий предстанет хаосом положений, надерганных из тысячи романов. История представится смутной, как та дымка, что вечерами обволакивает кроны деревьев.
В таком мире обитатели запущенных домов лежат в постелях и ждут, когда природные стихии сметут пыль с подоконников и расставят обувь в чулане. Запустив дела, люди могут бражничать, между тем как дни пойдут своим чередом, сами собой устроятся нужные встречи, оплатятся счета. Можно кое-как покидать в ридикюль губную помаду, кисточки, письма, уповая на то, что все само собою разберется. Не надо подрезать деревья в саду, выпалывать сорняки. На рабочих столах к концу дня отменный порядок. Одежда, брошенная вечером на пол, утром лежит на стуле. Отыскиваются пропавшие носки.
На другой лад нельзя не поразиться увиденному, посетив город весной. Ибо весной жителям наскучивает порядок в их жизни. Весной люди с бешеной энергией захламливают дома. Они наносят грязь, крушат стулья, бьют окна. Весной на Арбергергассе, как на любой другой жилой улице, слышны звуки битого стекла, вопли, стоны, смех. Весной люди встречаются без договоренности, сжигают росписи деловых встреч, выбрасывают часы, пьют ночь напролет. Это горячечное самозабвение продолжается до самого лета, когда люди придут в чувство и призовут себя к порядку.
14 мая 1905 г.
Есть место, где время недвижимо. Капли дождя повисают в воздухе. Маятники часов замирают на мертвой точке. Собаки задирают морды с безгласным воем. Прохожие оцепеневают на пыльных улицах с вздернутой, как у марионетки, ногой. Запахи фиников, манго, кориандра, тмина взвесью стоят в воздухе.
С какой бы стороны ни приближался к этому месту пришелец, он все больше и больше замедляет шаг. Все реже постукивает его сердце, задерживается дыхание, падает температура, съеживаются мысли, покуда он не достигнет мертвой точки и не станет. Ибо здесь циркульная ножка времени. Отсюда время распространяется вовне концентрическими кругами – от состояния покоя в центре все быстрее по мере нарастания диаметра.
Кто посещает средоточие времени? Родители с детьми и любовники.
И точно, тут, где время недвижимо, родители стискивают детей в костенеющем объятии, которое уже не отпустит. Красавица дочь, голубоглазая блондинка, никогда не перестанет улыбаться нынешней улыбкой, не утратит мягкого румянца, не сморщится и не увянет, никогда не понесет обиды, не забудет родительских наставлений, никогда не задумается о том, о чем не ведают родители, не вкусит порока, не скажет родителям, что не любит их, не оставит свою комнату ради заокеанской мечты, никогда не отлепится от них.
Тут же, где время недвижимо, в тени домов целуются любовники, стиснув друг друга в костенеющем объятии, которое уже не отпустит. Любовник никогда не уберет руки, никогда не вернет памятный браслет, никогда не уедет далеко от любимой, никогда, жертвуя собой, не подвергнется опасности, никогда не устанет выказывать любовь, не станет ревновать, не полюбит другую, никогда не погасит жар этого краткого отрезка времени.
Надо еще иметь в виду, что эти фигуры освещаются слабейшим красным светом, поскольку в центральной точке времени света практически нет, колебания волн замедленны, как эхо в каньонах, сила убывает до слабого мерцания светлячков.
Вблизи мертвой точки движение возможно, но так движутся ледники. Год может потребоваться на то, чтобы провести щеткой по волосам, тысячелетие – на один поцелуй. Пока тут обменяются улыбкой, в наружном мире сменятся времена года. Пока стиснут в объятиях ребенка, там перебросят мосты. Пока выговорят прощальные слова, там падут и забудутся города.
Те же, кто возвращается в наружный мир… Дети быстро вырастают, забывают вечность длившиеся объятия родителей – для них теперь это было несколько секунд. Дети становятся взрослыми, живут вдали от родителей, своим домом, учатся жить своим умом, болеют, стареют. Дети клянут родителей за то, что те пытались навсегда удержать их при себе, клянут время за морщинистую кожу и охрипшие голоса. Эти теперь уже старые дети тоже хотят остановить время, вернув его вспять. Они хотят, чтобы их собственные дети примерзли к той центральной точке времени.
Вернувшиеся любовники узнают, что их друзья давно умерли. Шутка сказать, сменились поколения. Они обретаются в неузнаваемом мире. Вернувшиеся любовники по-прежнему обнимаются в тени домов, но теперь это пустые и одиночные объятия. Скоро они забывают вечные обещания, данные, как им кажется теперь, впопыхах. Они ревнуют друг друга даже на людях, бросают друг другу злые слова, теряют жар, разлучаются и одиноко стареют в мире, которого не знают.
Одни говорят, что лучше не подходить к средоточию времени. Жизнь – это сосуд печали, но прожить жизнь – достойное дело, а без времени жизни нет. Другие не соглашаются. По ним, лучше благостная вечность, даже если это оцепенелая и стылая вечность, какую коротает наколотая бабочка в коробке.
15 мая 1905 г.
Вообразите мир, в котором нет времени. Одни образы.
Девочка на берегу, ошеломленная первой встречей с океаном. Женщина на балконе в рассветный час, распущенные волосы, шелковая ночная рубашка, босые ноги, губы. Крутой свод пассажа близ фонтана Церингер на Крамгассе, песчаник и железо. Мужчина в тиши своего кабинета с фотографией женщины в руке, гримаса боли на его лице. Скопа, позирующая в небе, раскинув крылья, лучи солнца пронзают перья. Мальчик один в пустом зале, его сердце частит, словно он стоит на сцене. Следы на снегу, зимний остров. Судно в ночном дрейфе, его смутные издали огоньки похожи на красную звездочку в черном небе. Запертый стеклянный шкаф с лекарствами. Осенний лист на земле, багряно-золотой с бурым, хрупкий. Женщина, притаившаяся за кустами у дома, где теперь живет ее муж, ей нужно с ним поговорить. Под теплым весенним дождиком молодой человек напоследок обходит любимые места. Пыль на подоконнике. Лоток с перцами на Марктгассе – желтыми, зелеными, красными. Маттерхорн, белоснежной зубчатой короной вспарывающий небесную твердь, зеленая долина, бревенчатые домики. Игольное ушко. Роса на листьях, хрусталь, опалы. Рыдающая в постели мать, в воздухе запах базилика. Совсем юный велосипедист на Кляйне Шанце, для второй такой улыбки ему не хватит целой жизни. Высокий восьмиугольник молитвенной башни с открытым балконом – величественный, увешанный гербами. Утренняя дымка над озером. Выдвинутый ящик комода. Два друга в кафе, лицо одного освещает лампа, другой в тени. Кошка следит за букашкой на оконном стекле. Молодая женщина на скамейке читает письмо, в зеленых глазах стоят счастливые слезы. Огромное поле, разлинованное посадками кедра и лиственницы. В окно, сильно присев, заглядывает предвечернее солнце. Упавшее могучее дерево, корни топырятся, кора и ветви еще зеленые. Белая шлюпка идет с попутным ветром, паруса надуты, словно крылья гигантской белой птицы. Отец и сын в пустом ресторане, отец печально уставился на стол. В круглой раме окна скошенные поля, телега, коровы зеленые и багровые на вечереющем солнце. Разбитая бутылка на полу, в щелях бурая жидкость, у женщины красные глаза. На кухне старик готовит внуку завтрак, мальчишка глазеет в окно на крашеную белую скамейку. Потрепанная книга на столе рядом с тусклой лампой. Прибой, ветер рвет на клочки барашки. Женщина с мокрой головой лежит на кушетке, держит за руку мужчину, которого больше не увидит. Поезд с красными вагонами на каменной громаде хрупкосводчатого моста, внизу вода, вдали укромные пятнышки домов. В солнечном пучке от окна веют пылинки. Тонкая кожа на горле – настолько тонкая, что видны толчки крови. Обвившие друг друга нагие мужчина и женщина. Голубые тени деревьев в полнолуние. Вершина горы, напористо обдуваемая, разлегшаяся вокруг долина, бутерброды с мясом и сыром. Дернувшийся от отцовского подзатыльника ребенок, гневно кривящиеся губы отца, ничего не понимающий ребенок. Чужое лицо в зеркале, седые виски. Молодой человек, вцепившись в телефон, отказывается верить услышанному. Семейная фотография, молодые, нескованные родители, смеющиеся дети в галстучках и платьицах. Пробившийся сквозь чащу далекий огонек. Красный закат. Яичная скорлупа – белая, хрупкая, целая. Выброшенная на берег голубая шляпка. Срезанные розы плывут под мостом, за ним поднимается замок. Рыжеволосый любовник – пылкий, бедовый, яркий. Лилово-лепестковый ирис в руке у молодой женщины. Комната: четыре стены, два окна, две постели, стол, лампа, двое с красными заплаканными лицами. Первый поцелуй. Планеты в плену пространства, океаны, безмолвие. Капля воды на оконном стекле. Свернувшаяся кольцом веревка. Желтая щетка.
20 мая 1905 г.
Достаточно бросить взгляд на торговое многолюдье на Шпитальгассе, чтобы уяснить происходящее. Покупатели тычутся от прилавка к прилавку, выясняя, что где продается. Вот табак, а где горчичное семя? Вот сахарная свекла, а где треска? Вот козье молоко, а где лавровый лист? Это не туристы, впервые приехавшие в Берн. Это бернские горожане. Никто не помнит, что два дня назад он покупал шоколад в лавке у Фердинанда, это номер семнадцатый, а мясо в кулинарии Хофа, это номер тридцать шестой. Нужно заново искать, где что продается. У многих в руках карты, ведущие этих картодержателей от одной аркады к другой, – и это в городе, где они прожили всю свою жизнь, на улице, по которой ходили много лет. Многие ходят с записными книжками, отмечая в них все, что узнали, пока это не выветрилось из головы. Ибо в этом мире у людей нет памяти.
Когда в конце работы настает время идти домой, каждый справляется по своей адресной книжке, где он живет. Мясник, за один этот день оскандалившийся с несколькими вырезками, обнаруживает, что он живет на Негелигассе в доме 29. Биржевой маклер, чья краткосрочная память на цены подсказала несколько великолепных инвестиций, читает, что теперь он живет на Бундесгассе в доме 89. Придя домой, всякий мужчина встречает на пороге женщину и детей, представляется им, помогает готовить ужин, читает сказки детям. Таким же образом всякая женщина, вернувшись с работы, получает мужа, детей, диваны, лампы, обои, фарфоровую посуду. Поздно вечером муж и жена не задерживаются за столом, обсуждая дневные дела, школьные успехи детей, банковский счет. Нет, они улыбаются друг другу, в них закипает кровь, тянет внизу, как при первой встрече пятнадцать лет назад. Они идут в спальню, сбивают не важные им сейчас семейные фотографии и проводят ночь в похоти. Ибо только привычка и память делают пресной физическую страсть. Без памяти каждая ночь это первая ночь, каждое утро – первое, каждый поцелуй и касание – тоже первые.
Мир без памяти – это мир настоящего. Прошлое существует только в книгах, в документах. Чтобы знать себя, при каждом имеется его собственная Книга Жизни, в которой содержится его жизнеописание. Ежедневно читая ее страницы, он заново узнает, кем были его родители, и высокого он рождения или низкого, и хорошо учился в школе или плохо, и добился ли чего в жизни. Без своей Книги Жизни человек лишь моментальная фотография, двухмерный образ, призрак. Из густолиственного кафе на Бруннгассхальде доносится страдальческий вопль мужчины, только что прочитавшего о том, что некогда он убил человека; слышатся стоны женщины, только что обнаружившей, что за ней ухаживал принц; разражается похвальбой другая, узнав, что десять лет назад она окончила университет с высшими баллами. Одни проводят вечера за чтением своих Книг Жизни, другие лихорадочно заполняют пустые страницы событиями дня.
Со временем каждая Книга Жизни разбухает настолько, что ее невозможно прочесть целиком. Приходится выбирать. Пожилые мужчины и женщины могут читать начальные страницы, чтобы узнать себя молодыми; либо они читают заключительную часть, чтобы узнать себя зрелыми.
Некоторые вообще перестают читать. Они отринули прошлое. Они решили, что не имеет никакого значения, какими они были вчера – богатыми или бедными, образованными или невеждами, в силе или униженными, влюбленными или никак, – все это такой же вздор, как шевельнувший их волосы теплый ветерок. Такие люди глядят вам в глаза прямо и крепко пожимают вашу руку. У таких людей упругая молодая походка. Такие люди знают, как жить в мире без памяти.
22 мая 1905 г.
Рассветает. Над городом плывет розовый туман, поддуваемый с реки. Солнце медлит за мостом Нидегг, мечет длинные красные стрелы вдоль Крамгассе в гигантские часы, которые мерят время, освещает балконы снизу. Утренние звуки плывут по улицам, как запах хлеба. Ребенок просыпается и криком требует мать. Тихо скрипнув, поднимается навес, отмечая приход шляпника в мастерскую на Марктгассе. Завывает мотор на реке. Негромко толкуют две женщины под аркадой.
По мере того как город избавляется от тумана и остатков сна, отмечаются странные вещи. Вот недостроенный старый мост. Вот дом, сошедший с фундамента. Вот улица переломилась на восток без всякой на то причины. Вот посреди бакалейного рынка поместился банк. Нижние витражи Святого Винсента представляют религиозные сюжеты, тогда как верхние вдруг переключаются на весенние Альпы. Человек быстрым шагом направляется к Бундесхаусу, вдруг останавливается, хватается за голову, возбужденно вскрикивает, разворачивается и спешит в обратном направлении.
Это мир переменившихся планов, подвернувшихся возможностей, неожиданных прозрений. Ибо в этом мире время не течет ровным потоком, но движется прерывисто, вследствие чего люди вспышками прозревают будущее.
Когда матери вдруг открывается, где будет жить ее сын, она передвигает свой дом к нему поближе. Когда строитель провидит будущий торговый центр, он разворачивает дорогу в нужном направлении. Когда девочка мельком видит себя цветочницей, она решает бросить университет. Когда молодому человеку предъявляется образ женщины, на которой он женится, он начинает ее ждать. Когда поверенный узнает себя в мантии цюрихского судьи, он бросает работу в Берне. В самом деле, какой смысл тянуть с сегодняшним, когда известен завтрашний день?
Тем, кто заглянул в будущее, этот мир гарантирует успех. Редкое начинание не увенчается растущей карьерой. Редкое путешествие не окажется судьбоносным. Редкие друзья не останутся друзьями и в будущем. И усилия любви не бесплодны.
Для тех же, кому будущее ничего не подсказало, это мир праздной потерянности. Как поступать в университет, если неизвестен будущий род занятий? Как открывать аптеку на Марктгассе, когда такая же аптека на Шпитальгассе может больше преуспеть? Как любить мужчину, когда он может оказаться неверным? Такие люди спят большую часть дня и ждут подсказки из будущего.
Соответственно, в этом мире, приоткрывающем эпизоды из будущего, мало рискуют. Тем, кто видел будущее, нет нужды рисковать, а те, кто не видел будущего, ждут прозрений и не рискуют.
Небольшое число очевидцев будущего отказываются его принимать и пытаются изменить судьбу его. Увидев себя поверенным в Люцерне, человек определяется садовником при музее в Невшателе. Увидев, что отец скоро умрет от больного сердца, юноша отправляется с ним в требующее сил плавание на паруснике. Молодая женщина позволяет себе влюбиться в некого мужчину, хотя видела, что он будет женат на другой. Такие люди в сумерках стоят на балконах и кричат, что будущее можно изменить, что возможна тысяча вариантов будущего. Со временем садовнику из Невшателя надоедает получать низкую заработную плату и он делается поверенным в Люцерне. Отец умирает от сердца, и сын проклинает себя за то, что не удержал отца в постели. Молодую женщину оставит ее любовник, она выйдет замуж за человека, который к ее боли добавит одиночество.
Кому лучше приходится в этом мире прерывистого времени? Тем, кто видел будущее и прожил только одну жизнь? Или тем, кто не видел будущего и мешкает начинать жизнь? Или, наконец, тем, кто отвернулся от будущего и прожил две жизни?
29 мая 1905 г.
Ввергнутые в этот мир мужчина или женщина должны уметь увертываться от домов и прочих построек. Поскольку здесь все в движении. Поставленные на колеса дома, кренясь, пересекают Банхофплац и устремляются в теснины Марктгассе; при этом жильцы вторых этажей остерегающе покрикивают из окон. Почтамт уже не обретается на Постгассе, он катит через весь город по рельсам, словно паровоз. И Бундесхаус не стоит себе мирно на Бундесгассе. Везде и всюду слышны визг и рев двигателей и собственно движения. Когда на восходе человек выходит из дома, он прыгает со ступеньки, как с подножки, некоторое время бежит, ловит свою контору, там бегает по лестницам вверх и вниз, работает за столом, вертящимся волчком, после работы несется домой. Никто не сядет под деревом с книгой, не уставится в прудик, подернутый рябью, не ляжет на густую траву. Никто не знает покоя.
Почему все помешались на скорости? Потому что в этом мире для людей, находящихся в движении, время идет медленнее. И все передвигаются на высокой скорости – чтобы выиграть время.
Влияние скорости не сознавалось вплоть до изобретения двигателя внутреннего сгорания и начала скоростных перемещений. 8 сентября 1889 года мистер Рэндольф Уиг из графства Суррей в новом автомобиле и на большой скорости повез в Лондон свою тещу. К его удовольствию, он добрался вдвое быстрее ожидаемого, они едва успели разговориться, и тогда он решил рассмотреть этот феномен. После публикации его изысканий люди раз и навсегда прекратили ходить медленно.
Поскольку время – деньги, экономические соображения настоятельно требуют, чтобы каждая биржа, каждое промышленное предприятие, каждая бакалейная лавка неизменно передвигались как можно быстрее, чтобы добиться преимущества перед конкурентами. Такие здания оборудуются гигантскими тягловыми двигателями и никогда не стоят на месте. Их моторы и коленчатые валы производят куда больше шума, чем вся домашняя техника и жильцы.
По тем же соображениям, продавая дома, учитывают не только их размеры и внешний вид, но также скорость. Ибо чем быстрее передвигается дом, тем медленнее идут часы в доме, и у жильцов оказывается на руках больше времени. В зависимости от скорости жилец быстрого дома за один только день может выгадать на своих соседях несколько минут. Эта одержимость скоростью распространяется и на ночь, когда ценное время накапливается или тратится во сне. По ночам улицы ярко освещены, чтобы снующие дома могли избежать неминуемо фатальных столкновений. По ночам люди грезят скоростью, молодостью, перспективами.
В этом скоростном мире, увы, не сразу оценили одно обстоятельство. Вот логическая тавтология: впечатление, относящееся к движению, от начала до конца относительно. Когда двое идут по улице, каждый воспринимает другого в движении, как пассажир поезда воспринимает деревья пролетающими мимо окна. Соответственно, когда двое идут по улице, каждому кажется, что чужое время движется медленнее. Каждому кажется, что другой выигрывает время. Эта повязанность может свести с ума. Хуже того, стоит обставить соседа, как тот наддает тоже.
Разочарованные и подавленные люди перестают смотреть в окна. Они опускают шторы и уже не знают, как быстро они движутся, как быстро движутся их соседи и конкуренты. Они встают утром, принимают душ, едят плетеный хлеб с ветчиной, садятся за рабочий стол, слушают музыку, разговаривают с детьми, живут в свое удовольствие.
Некоторые утверждают, что только гигантские башенные часы на Крамгассе держатся правильного времени – они одни стоят на месте. Другие замечают, что и гигантские часы находятся в состоянии движения, если их наблюдать с реки Аре или с облака.
Интерлюдия
Эйнштейн и Бессо сидят в уличном кафе на Амтхаусгассе. Полдень. Бессо уговорил друга бросить дела и немного продышаться.
– Ты не очень хорошо выглядишь, – говорит Бессо.
Эйнштейн пожимает плечами – отчасти смущенно. Проходят минуты, а может, всего-навсего секунды.
– Я продвигаюсь, – говорит Эйнштейн.
– Я вижу, – говорит Бессо, тревожно вглядываясь в темные круги под глазами друга. Возможно также, что Эйнштейн снова перестал есть. Бессо вспоминает, что сам выглядел так же, хотя по другой причине. Это было в Цюрихе. Неожиданно на пятом десятке умер его отец. Бессо с ним не особенно ладил и потому был убит горем и казнился чувством вины. Он забросил занятия. Тогда, к его удивлению, Эйнштейн забрал его к себе на квартиру и целый месяц опекал его.
Видя сейчас таким Эйнштейна, Бессо хочет как-то ему помочь. Но тот, ясное дело, не нуждается в помощи. Эйнштейн, полагает Бессо, не способен страдать. Он безразличен к тому, что творится с ним и вокруг.
– Я продвигаюсь, – снова говорит Эйнштейн. – Я думаю, тайны раскроются. Ты видел публикацию Лоренца, которую я оставил у тебя на столе?
– Гадость.
– Да, гадость и ad hoc[1]. Весьма маловероятно, что она верна. Электромагнитные эксперименты свидетельствуют о чем-то более фундаментальном. – Эйнштейн скребет усы и жадно грызет крекер.
Некоторое время оба молчат. Бессо кладет в кофе четыре куска сахара, а Эйнштейн уводит глаза на бернские Альпы, они далеко, их едва видно из-за дымки. Впрочем, Эйнштейн смотрит сквозь Альпы, в пространство. Это дальнозоркое смотрение порой оборачивается для него мигренью, и тогда он укладывается у себя на зачехленный зеленый диван и лежит закрыв глаза.
– Анна зовет тебя с Милевой пообедать на следующей неделе, – говорит Бессо. – Если нужно, берите мальчишку. – Эйнштейн кивает.
Бессо пьет вторую чашку кофе, отмечает за соседним столиком молодую женщину, заправляет рубашку в брюки. Он почти такой же неряха, как Эйнштейн, который в эту минуту рассматривает галактики. Бессо, конечно, тревожится за друга, хотя и прежде видел его в таком состоянии. Может, обед его отвлечет.
– В субботу вечером, – говорит Бессо.
– В субботу вечером я занят, – вдруг объявляет Эйнштейн. – Но Милева и Ханс Альберт могут.
Бессо смеется и говорит:
– В субботу в восемь часов. – Прежде всего он не может понять, зачем его друг вообще женился. Эйнштейн и сам не может это объяснить. Он как-то признался Бессо, что связывал с Милевой некоторые надежды на какой-то порядок в доме, но из этого ничего не вышло. Неубранные постели, грязное белье, груды немытой посуды – все как было. А с ребенком работы по дому еще прибавилось.
– Что ты думаешь о заявке Расмуссена? – спрашивает Бессо.
– Бутылочная центрифуга?
– Да.
– Слишком большая вибрация вала не пойдет на пользу, – говорит Эйнштейн, – но идея хорошая. Я думаю, сработает гибкая подвеска, она сама найдет свою ось вращения.
Бессо знает, во что это выльется, – Эйнштейн заново переработает проект и отошлет его Расмуссену, не требуя ни платы, ни даже слов благодарности.
Зачастую осчастливленные им адресаты даже не знают, кто переписал их патентные заявки. При этом нельзя сказать, чтобы Эйнштейну было безразлично признание. Несколько лет назад, увидев выпуск «Annalen der Physik» со своей первой публикацией, он целых пять минут кукарекал петухом.
2 июня 1905 г.
В отбросах находят раскисший бурый персик и кладут на стол, чтобы порозовел. Он розовеет, твердеет, в хозяйственной сумке его относят к бакалейщику, кладут на полку, снимают и пакуют в ящик, относят к дереву в розовом цвету. В этом мире время течет вспять.
В кресле практически недвижимая лежит увядшая женщина. У нее багровое обрюзгшее лицо, скрипучее, как шорох листьев на мостовой, дыхание, она почти ничего не видит и не слышит. Идут годы. Все реже ее навещают. Постепенно женщина набирается сил, начинает больше есть, разглаживаются тяжелые складки на лице. Она слышит голоса, музыку. Смутные тени, плотнея и наливаясь светом, обретают форму: это столы, стулья, лица людей. Женщина делает вылазки из своего домика, ходит на рынок, время от времени навещает подругу, в погожий день пьет чай в уличном кафе. Из нижнего ящика комода она достает спицы и пряжу, начинает вязать. Она улыбается, когда вещь получается удачной. Однажды в дом вносят ее мужа без кровинки в лице. Проходят часы, и его лицо розовеет. Он встает, сутулясь, распрямляется, говорит с ней. Ее дом становится их общим домом. Они вместе питаются, шутят, смеются. Они путешествуют, навещают друзей. В ее седой голове все больше каштановых прядей, в голосе звенят новые интонации. Она идет в гимназию на прием по случаю выхода на пенсию, начинает преподавать историю. Ей нравятся ее ученики, после уроков она спорит с ними. Она читает и за едой, и ночью. Встречается с друзьями, обсуждает историю и текущие события. Она помогает мужу с его бухгалтерией в аптеке, гуляет с ним в предгорьях, отвечает на его любовь. У нее разглаживается кожа, отрастают длинные каштановые волосы, делается упругой грудь. Впервые она видит своего мужа в университетской библиотеке, обменивается с ним взглядом. Она ходит на занятия. На ее выпуске в гимназии родители и сестра обливаются счастливыми слезами. Она живет в родительском доме, часами гуляет с матерью в ближайшем лесочке, помогает готовить. Она рассказывает сказки младшей сестре, ей самой читают на ночь, она совсем маленькая. Она ползает. Сосет грудь.
С эстрады стокгольмского зала спускается средних лет мужчина с медалью в руках. Он пожимает руку президента Шведской академии наук, получает Нобелевскую премию по физике, слушает дифирамбы в свой адрес. Человек невнимательно думает о награде, которую ему сейчас вручат. Его мысли устремляются на двадцать лет в будущее, когда, имея только карандаш и бумагу, он в одиночестве будет работать в крохотной каморке. Он будет работать день и ночь, ошибаясь, заполняя мусорную корзину негодящимися цепочками уравнений и логических следствий. Но в иные вечера он будет возвращаться к столу, уверенный, что узнал о Природе такое, чего не знает никто, что он увидел свет в глухом лесу, обладает бесценными тайнами. В такие вечера его сердце будет колотиться, как у любовника. Предвкушением этого полнокровия, ожиданием времени, когда он будет молод, неизвестен и не убоится ошибок, исполняется он сейчас, сидя на стуле в стокгольмском зале далеко-далеко от слабого голоса президента, выкликающего его имя.
Человек стоит у могилы друга, бросает горсть земли на гроб, апрельский ветер холодит лицо. Но он не плачет. Он предвидит день, когда у друга будут здоровые легкие, когда друг встанет с постели и рассмеется, когда они оба будут пить эль, плавать на лодке, разговаривать. Он не плачет. Он особенно ждет того памятного в будущем дня, когда они с другом будут жевать бутерброды, и он будет стращать себя старостью и сердечным одиночеством, и друг мягко покивает в ответ, и дождь будет течь по оконному стеклу.
3 июня 1905 г.
Вообразите мир, в котором люди живут всего один день. Либо частота сокращений сердца и дыхания убыстряется до такой степени, что весь жизненный круг сожмется до протяженности одного оборота Земли вокруг своей оси, либо вращение Земли замедлится до такой степени, что один ее кругооборот займет весь срок человеческой жизни. Годится любое допущение. В любом случае люди видят только один рассвет и один закат.
Живущим в этом мире не дано видеть смены времен года. Родившийся в декабре европеец никогда не увидит гиацинтов, лилий, астр, цикламенов, эдельвейсов, никогда не увидит багровых, а потом золотых кленовых листьев, никогда не услышит сверчка и певчих птиц. Родившемуся в декабре живется холодно. Так же родившийся в июне никогда не ощутит снежинки на щеке, не увидит хрустально застывшего озера, не услышит скрипа ботинок на выпавшем снегу. Родившийся в июне тепло проживает свою жизнь. О временах года известно только из книг.
В этом мире жизнью распоряжается свет. Родившийся на закате проводит первую половину жизни в потемках, изучает домашние ремесла, такие, как ткачество и часовое дело, много читает, духовно растет, много ест, боится неохватной тьмы за порогом, предпочитает сумерки. Родившийся с восходом солнца учится работам на улице – в поле или на стройке, крепнет физически, избегает книг и умствования, всегда весел и уверен в себе, ничего не боится.
Перемена света сбивает с толку как рассветных, так и закатных детей. Когда наступает рассвет, родившиеся на закате ошеломляются неожиданным видением деревьев, океанов, гор, их слепит дневной свет, они возвращаются в дома, закрывают окна и остаток жизни проводят в полумраке. Когда наступает закат, родившиеся на рассвете оплакивают пропажу птиц на небе, слоистой морской синевы, завораживающего дрейфа облаков. Они отказываются осваивать хмурые домашние занятия, лежат на земле, глядят вверх и тщатся увидеть однажды виденное.
В мире, где человеческая жизнь ограничивается одним-единственным днем, люди осмотрительны с временем, как осторожная кошка, наставившая ухо в потолок. Ибо терять время не из чего. Рождение, школа, любовные увлечения, брак, работа, старость – все должно уложиться в один солнечный переход, в одну перемену света. Когда люди идут по улице, они трогают пальцами шляпы и спешат дальше. Когда люди встречаются в домах, они обмениваются вежливыми вопросами о здоровье и сразу переходят к делу. Когда люди сходятся в кафе, они нервно следят за смещением тени и не засиживаются. Время – огромная ценность. Жизнь – это подгадавшее мгновение. Один снегопад. Один осенний день. Отсекаемая дверью полоска света. Краткая судорога рук и ног.
Когда приходит старость – на свету ли, впотьмах, – человек обнаруживает, что никого не знает. Не было времени узнать. Родители умерли в полдень или в полночь. Братьев и сестер сманили дальние города, скоротечные возможности. Друзья вслед за солнцем остыли. Дома, города, занятия, любовники – все было приурочено к жизни в пределах одного дня. В старости человек никого не знает. Он говорит с людьми, но он их не знает. Его жизнь распалась на отдельные слова, уже забытые отдельными людьми. Его жизнь дробится на быстрые эпизоды с малым числом очевидцев. Он сидит у ночного столика, прислушивается к пущенной воде в ванной и не может решить, существует ли что-нибудь вообще вне его сознания. Материнское объятие – это было? Смешное соперничество со школьным другом – это было? Новизна первой женщины – это было? Была у него любовница? Где они? Где они сейчас, когда он сидит у ночного столика, прислушивается к пущенной воде в ванной, смутно чуя перемену света?
5 июня 1905 г.
Описание рек, деревьев, зданий, людей на своем месте и в своем виде придает им характер общезначимых. Аре сворачивает на восток, редкие баржи везут картофель и сахарную свеклу. Предгорья Альп утыканы соснами, их ветви в шишках загнуты кверху, как лапы канделябра. Трехэтажные, под красной черепицей, со слуховыми окнами дома покойно стоят на Арштрассе, караулят реку. Торговцы на Марктгассе, зазывно маша руками, навязывают прохожим носовые платки, часы, помидоры, кислый хлеб, сладкий укроп. По улицам плывет запах копченого мяса. У себя на балкончике на Крамгассе препираются мужчина и женщина, улыбаясь своему препирательству. Девушка не спеша прогуливается в парке на Кляйне Шанце. Массивная, красного дерева дверь почтамта открывается и закрывается, открывается и закрывается. Лает собака.
Однако всякая пара глаз видит все по-разному. К примеру, мимо женщины, присевшей на берегу Аре, лодки снуют стремительно, как конькобежцы. Для другого зрителя они едва ползут и чуть ли не за полдня одолевают излучину реки. А мужчина на Арштрассе смотрит на реку и обнаруживает, что сначала лодки плывут вперед, потом возвращаются назад.
Эти неувязки случаются сплошь и рядом. Вот, пообедав, возвращается к себе в аптеку на Кохергассе фармацевт и видит такую картину: две женщины проносятся мимо него, они сучат руками и говорят так быстро, что он не разбирает слов. По своим делам спешит через улицу адвокат, дергая головой, как птичка. Мяч, детской рукой запущенный с балкона, просвистывает в воздухе, как пуля, и так же неуследим. Взгляд, мимоходом брошенный в окно дома 82, выявляет, что жильцы мечутся из комнаты в комнату, присаживаются, в минуту разделываются с обедом, исчезают, снова появляются. Облака над городом сходятся, расходятся, снова сходятся в ритме сменяющих друг друга вдоха и выдоха.
С противоположной стороны улицы эту сцену наблюдает пекарь. Он отмечает неторопливый променад двух дам, остановившихся поговорить с адвокатом и проследовавших дальше. Адвокат направляется в свою квартиру в доме 82, садится за обед, подходит к окну, видит падающий на мостовую мяч.
Третьему очевидцу, подпирающему фонарный столб на Кохергассе, события предстают вообще застывшими без движения: две женщины, адвокат, мяч, ребенок, три баржи, интерьер квартиры словно запечатлены рукою художника в яркий летний день.
Так обстоит дело с любой вереницей событий в мире, где время – чувство.
В мире, где время – чувство, подобно зрению или обонянию, последовательность эпизодов может быть быстрой и медленной, вялой и живой, кислой и сладкой, причинной и беспричинной, упорядоченной и случайной – в зависимости от жизненного опыта наблюдателя. В кафе на Амтхаусгассе сидят философы и рассуждают, впрямь ли существует время помимо восприятия его человеком. Кто ответит, скоро или медленно, обусловленные причиной или просто так совершаются события в прошлом или будущем? Кто ответит, происходят ли они вообще – события? Философы щурят глаза и рассказывают друг другу красивые теории времени.
Малое число людей рождается вообще без чувства времени. Вследствие этого у них до болезненной степени развито чувство места. Они лежат в высокой траве, и со всего света к ним лезут с вопросами поэты и художники. Глухих ко времени умоляют растолковать, как стоят деревья весною, как выглядит снег на Альпах, как золотит церковь солнечный луч, как текут реки, где водится мох, каким узором складывается птичья стая. Однако глухие ко времени не способны высказать то, что они знают. Ибо речь – это последовательность слов, и сказать их требует времени.
9 июня 1905 г.
Допустим, люди живут вечно.
И странно, население каждого города разделяется на две категории: люди-после и люди-сейчас.
После объясняют, что не к спеху начинать университетское образование, учить второй язык, читать Вольтера или Ньютона, стараться продвинуться по службе, влюбляться, поднимать семью. Для всего этого есть неисчерпаемый запас времени. Располагая неограниченным временем, все это можно успеть сделать. И посему все это может подождать. К тому же наспех делаются только ошибки. Кто оспорит их логику? После выделяются в любой лавке, на улице. Они ходят парящей походкой, на них просторная одежда. Они глотают любой журнал с любого места, переставляют дома мебель, с легкостью падающего листа вступают в разговор. После сидят в кафе, прихлебывая кофе, и рассуждают о видах на будущее.
Сейчас замечают, что в бесконечной жизни они сумеют осуществить все, что придет им в голову. Они сменят бесконечное множество поприщ, жен, убеждений. Всякий побывает юристом, каменщиком, писателем, бухгалтером, художником, врачом, фермером. Сейчас непрестанно читают новые книги, изучают новые профессии, новые языки. Дабы изведать бесконечность жизни, они начинают рано – и идут поспешая. Кто поставит под вопрос их логику? Сейчас легко опознать. Это владельцы кафе, университетские профессора, врачи и медицинские сестры, политики – эти люди, присев, начинают безостановочно качать ногой. Они поочередно проживают одну жизнь за другой, стремясь ничего не упустить. Когда двое сейчас случайно сходятся у шестигранного пилястра фонтана Церингер, они сравнивают жизненные свершения, обмениваются информацией и смотрят на часы. Когда на том же месте встречаются двое после, они толкуют о будущем и сверху донизу провожают глазами падающую воду.
У сейчас и после есть и общее. К бесконечной жизни полагается бесконечная череда родственников. Деды и бабки, прадеды и прабабки, двоюродные бабки и двоюродные деды и так далее, поколение за поколением вглубь – никто не умирает, все живы и все дают советы. Сыновья никогда не выходят из-под опеки своих отцов, дочери – своих матерей. Никому не дано существовать самостоятельно.
Когда мужчина начинает дело, он почитает себя обязанным обговорить его с родителями, с родителями родителей, и так до бесконечности, учась на их ошибках. Ибо не бывает нового начинания. Какой-нибудь прародитель все это уже начинал. И все благополучно завершалось, между прочим. Но дорогой ценой. Ибо в таком мире прирост свершений отчасти тормозится ослабшим честолюбием.
Так же дочь: когда требуется материнский совет, только им дело не ограничивается. Мать должна спросить свою мать, та – свою, и конца этому не будет. И как раз тогда, когда дети не могут сами принять решение, они не обратятся к родителям за советом. Родители не истина в последней инстанции. Таких истин – миллион.
Коль скоро к любому делу надо миллион раз примериться, жизнь превращается в опытную площадку. Шагнув с берега, мосты обрываются над серединой реки. Дома поднимаются на девять этажей, но стоят без крыш. Бакалейщик обновляет запасы имбиря, трески, соли и мяса по настроению – или слушаясь первого встречного. Фразы не договариваются до конца. Помолвки расстраиваются накануне свадьбы. На проспектах и улицах люди вертят головами, оглядываются назад, высматривая возможного соглядатая.
Такова цена бессмертия. Все ущербны. Все несвободны. Намаявшись, иные решают, что жить можно лишь умерев. В смерти человек свободен от груза прошлого. На глазах милых родственников эти немногие ныряют в озеро Констанс или бросаются с Монте-Лема, обрывая свою бессмертную жизнь. Вот так конечное сражает бесконечное, и миллионы осеней, миллионы снегопадов, миллионы подсказок оборачиваются ничем.
10 июня 1905 г.
Представим себе, что время не количество, а качество, подобно свечению над ночными деревьями, когда восходящая луна достигает верхней границы лесного пояса. Время существует, но его нельзя измерить.
Вот сейчас в центре залитой солнцем Банхофплац стоит и ждет некого мужчину женщина. Некоторое время назад он увидел ее во фрибурском поезде, очаровался ею и пригласил погулять в парке Гроссе Шанце. По настойчивости, с какой он глядел на нее и говорил, женщина поняла, что он хочет скорого свидания. Она ждет его без особого нетерпения, благо у нее с собой книга. Через какое-то время, возможно на следующий день, он приходит, они сжимают друг другу руки, бродят по парку, обходят островками высаженные тюльпаны, розы, лилии, альпийский водосбор, бессчетное время сидят на белой кедровой скамье. Обозначившись переменой света и покрасневшим небом, наступает вечер. Петлистой тропкой, посыпанной белым гравием, мужчина и женщина поднимаются в ресторан на холме. Сколько они пробыли вместе – целую жизнь или одно мгновение? Кто ответит?
Сквозь освинцованные стекла ресторана мать этого мужчины видит его с женщиной. Она ломает руки и скулит, потому что сыну полагается быть дома. В ее глазах он всегда ребенок. Давно ли он был домашний, играл в мяч с отцом, терся об ее спину перед сном? Сквозь освинцованное стекло ресторана мать видит мальчишеский смех при свечах и утверждается в мысли, что все было совсем недавно, что ее сын, ее мальчик – он ее, домашний. Она ждет снаружи, ломая руки, а тем временем в укромности этого вечера, вблизи женщины, которую он встретил, ее сын быстро взрослеет.
Через улицу, на Арбергергассе, двое мужчин пререкаются из-за партии медикаментов. Получатель сердится, что не предназначенные для долгого хранения медикаменты доставлены просроченными и неэффективными. Он ждет их давно, даже ходил ждать на станцию, за это время много раз обернулась по своим делам седая дама из дома 27 по Шпитальгассе, много раз по-разному освещались Альпы, за это время успело похолодать и пошел дождь. Отправитель, невысокий усатый толстяк, чувствует себя оскорбленным. Он уложил препараты у себя на фабрике в Базеле, когда, скрипя тентами, открывался рынок. С момента подписания контракта не успели перестроиться облака, когда он сам нес коробки на поезд. Куда же быстрее?
В мире, где время невозможно измерить, нет часов, нет календарей, нет четких договоренностей. Не время рождает события, но действие других событий. Пока не повезут камень и доски, не начнется стройка. Пока камнетесу не понадобятся деньги, из карьера не доставят камень. Пока дочка адвоката не отпустит шутку насчет его лысины, он не отправится в Верховный суд излагать свои соображения по делу. Пока учащийся не сдаст экзамены, его образование в бернской гимназии не завершено. Пока не заполнятся все вагоны, поезд не уйдет со станции на Банхофплац.
В мире, где время – качество, события метят себя окраской неба, интонацией окрика с лодки, чувством счастья либо страха на пороге комнаты. Рождение ребенка, патент на изобретение не фиксируются во времени раз и навсегда, по хронометру. Наоборот, события протекают пространство воображения, объявляя о себе взглядом, желанием. Так же время между двумя событиями оказывается долгим или кратким на фоне встречных событий, при разной силе освещения, под влиянием игры светотени, в зависимости от угла зрения.
Некоторые пытаются исчислить время, разобрать его на части, разобраться с ним. Такие обращаются в камень. Они застывают на углах улиц холодные, литые, тяжелые. Со временем истуканов отвозят к камнетесу, и тот распиливает их на равные части и продает строителям, когда нуждается в деньгах.
11 июня 1905 г.
На углу Крамгассе и Театерплац расположилось маленькое уличное кафе: шесть голубых столиков, ящик с голубыми петуниями на кухонном окне, – отсюда виден и слышен весь Берн. Люди обходят пассажи на Крамгассе, беседуют, останавливаются купить полотно, или часы, или корицу; выпущенные на перемену восьмилетки из грамматической школы на Кохергассе шеренгой следуют за учителем к реке; над заречной фабричкой лениво курится дымок; в желобах фонтана Церингер журчит вода; огромные башенные часы на Крамгассе бьют четверть.
Если на мгновение отвлечься от городских звуков и запахов, можно наблюдать редкостное зрелище. Двое мужчин на углу Кохергассе не в силах расстаться, словно они никогда больше не увидят друг друга. Они прощаются, расходятся, затем спешат назад и обнимаются. Неподалеку на каменный край фонтана присела тихо плачущая женщина. Перепачканными желтыми руками она с такой силой вцепилась в камень, что из-под ногтей выступила кровь. Она безнадежно глядит себе под ноги. Она являет одиночество человека, убежденного в том, что он один-одинешенек остался во всем свете. Две женщины в свитерах гуляют под руку по Крамгассе и хохочут с таким задором, что делается ясно: их ни в малой степени не занимает будущее.
Он и есть без будущего – этот мир. В этом мире время представляет собою линию, которая обрывается в настоящем – как в реальном смысле, так и умозрительно. В этом мире невозможно вообразить будущее. Вообразить будущее так же невозможно, как видеть цвета справа от фиолетового: что там лежит за видимым краем спектра, органы чувств не постигают. В мире без будущего всякая разлука друзей означает смерть. В мире без будущего всякое одиночество безысходно. В мире без будущего всякий смех звучит в последний раз. В мире без будущего за настоящим лежит ничто, и люди вцепляются в настоящее так, словно под ногами у них разверзается пропасть.
Бессильный вообразить будущее, человек бессилен осмыслить последствия своих действий. Некоторыми овладевает полнейшая апатия. Они день напролет бодрствуют в постели, не решаясь одеться. Они пьют кофе и разглядывают фотографии. Другие бодро встают утром, не заботясь о том, что каждое их действие кончится ничем, что они не могут планировать свою жизнь. Они живут от минуты до минуты, и каждая минута полна. Третьи же подставляют прошлое на место будущего. Они вспоминают все, что запомнилось, всякий сделанный шаг, всякую причину и результат, и они поражаются, каким образом события подвели их к этой минуте, к последней минуте света, к обрыву линии, которая есть время.
В маленьком кафе с шестью выставленными на улицу столами и ящиком с петуниями на окне сидит с кофе и пирожными молодой человек. Он праздно созерцает уличную жизнь. Он видел и двух хохотуний в свитерах, и средних лет женщину у фонтана, и двух друзей, что никак не могут распрощаться. Пока он сидит, на город наползает темная грозовая туча. А молодой человек все сидит. Он может вообразить лишь настоящее, а в настоящем есть потемневшее небо, но нет дождя. Он прихлебывает кофе, ест пирожное, и ему безумно нравится, что с концом света темнеет. Дождя по-прежнему нет, и в тускнеющем свете он косит глазами в газету, стараясь дочитать последнюю в своей жизни фразу. И вот дождь. Молодой человек заходит внутрь, снимает мокрый пиджак, ему безумно нравится, что в конце света идет дождь. Он обсуждает выпечку с поваром, но вовсе не потому, что пережидает дождь: он вообще ничего не ждет. В мире без будущего всякий отдельный момент – это конец света. Через двадцать минут суровая туча уходит, кончается дождь, и небо веселеет. Молодой человек возвращается к своему столику, ему безумно нравится, что с концом света выглядывает солнце.
15 июня 1905 г.
В этом мире время является зримой величиной. Как, глядя вдаль, видишь дома, деревья, горные пики – меты пространства, так, глядя в другую сторону, видишь рождения, браки, смерти – меры времени, теряющегося в дымке отдаленного будущего. И как можно по выбору оставаться на одном месте или сниматься с него, так же можно перемещаться по оси времени. Некоторые боятся далеко уходить от обжитого времени. Они держатся одного временного местонахождения, жмутся к какому-нибудь уже привычному событию. Другие сломя голову устремляются в будущее, не подготовив себя к чехарде налетающих событий.
В маленькой библиотеке цюрихского политехнического института, мирно обсуждая докторскую диссертацию, сидят сам молодой человек и его наставник. За окном декабрь, в белокаменном камине ярко пылает огонь. Молодой человек и его учитель сидят в покойных дубовых креслах у круглого стола, заваленного листами с расчетами. Исследование не из легких. Каждый месяц на протяжении полутора лет молодой человек встречался здесь со своим профессором, просил совета и ободрения, на месяц пропадал с работой, возвращался с новыми вопросами. Профессор всегда предоставлял ответы. Вот и сейчас он объясняет. Пока учитель высказывается, молодой человек засматривается в окно на ель, любопытствуя, как на ней удерживается снег, и гадает, как будет обходиться собственными силами, получив ученую степень. Не сходя с кресла, молодой человек делает нерешительный шажок, на минуту-другую заглядывает в будущее и содрогается от холода и неопределенности. Он дает задний ход. Куда лучше остаться в этом отрезке времени, в тепле камина и расположенного к нему наставника. Куда лучше прекратить свое движение во времени. И молодой человек остается – в этом дне, в этой маленькой библиотеке. Друзья мимоходом заглядывают в окно, видят, что он остается, и уходят в будущее каждый своим шагом.
В доме 27 по Викторияштрассе, это в Берне, лежит в постели молодая женщина. За стеной скандалят родители, она это слышит. Зажав уши, она смотрит на фотографию на столике, где она девочкой присела на берегу, рядом мама и папа. У стены стоит каштанового цвета бюро, на нем фарфоровый умывальный таз. На стенах лупится, идет трещинами голубая краска. В ногах у девушки наполовину собранный открытый чемодан. Она смотрит на фотографию, вглядывается в будущее. Будущее манит ее. Она решается. Так и не собрав вещей, она выбегает из дома, где замешкалась ее жизнь, и прямиком устремляется в будущее. Пролетают год, пять лет, десять, двадцать, и наконец она тормозит. Но она так разбежалась, что остановиться получается только в пятьдесят лет. Она толком даже не разглядела промелькнувших событий. Лысеющий адвокат, от которого она забеременела, потом он ее оставил. Смутный год в университете. Какое-то время квартирка в Лозанне. Подруга во Фрибуре. Редкие наезды к постаревшим родителям. Больничная палата, где умерла мать. Провонявшая чесноком сырая комната в Цюрихе, где умер отец. Письмо от дочери, живущей где-то в Европе.
У женщины перехватывает дыхание. Ей пятьдесят лет. Она лежит в постели, старается припомнить свою жизнь, смотрит на фотографию, где она девочкой присела на берегу, рядом мама и папа.
17 июня 1905 г.
В Берне утро, вторник. Толстопалый пекарь на Марктгассе сердито выговаривает женщине, что она не расплатилась за прошлый раз, машет руками, она же втихомолку складывает в сумку сдобные сухари. За порогом булочной ребенок на роликовых коньках, клацая по камням мостовой, спешит за мячом, брошенным из окна. На восточном углу Марктгассе, на пересечении с Крамгассе, стоят под аркадой, тесно прижавшись друг к другу, мужчина и женщина. С газетами под мышкой мимо проходят двое мужчин. В трехстах метрах к югу над Аре парит птица.
Мир замирает.
Пекарь смолкает на полуслове. Мальчик застывает в шаге, мяч повисает в воздухе. Мужчина и женщина под аркадой застывают в скульптурную группу. Как и двое прохожих, чей разговор обрывается, словно на граммофоне подняли иголку. Птица застывает, повиснув над рекой, как бутафорская.
Через микросекунду мир трогается дальше.
Пекарь продолжает браниться, словно ничего не произошло. Все так же мальчик спешит за мячом. Мужчина и женщина теснее прижимаются друг к другу. Двое прохожих продолжают обсуждать рост цен на мясном рынке. Птица, взмахнув крыльями, завершает круг над Аре.
Идут минуты, и мир снова запинается. Потом срывается вперед. Запинки. Рывки.
Что представляет собой этот мир? В этом мире время не идет сплошняком. В этом мире время прерывисто. Время есть протяженность нервных волокон: издали оно кажется сплошным, вблизи же прерывистым, между волокнами есть микроскопические зазоры. Нервное возбуждение действует в одном отрезке времени, натыкается на обрыв, проскакивает пустоту и возобновляет свою работу в следующем отрезке.
Эти разрывы времени настолько крохотны, что одну-единственную секунду надо невероятно увеличить и поделить на тысячу долей, и потом каждую долю поделить на тысячу долек, и только тогда обнаружится выпавшая крохотуля. Разрывы времени настолько крохотны, что они практически незаметны. С каждым новым рывком времени обновленный мир выглядит таким же, как прежде. В точности как прежде стоят и движутся облака, закладывают виражи птицы, протекают разговоры, мысли.
Отрезки времени стыкуются почти идеально, хотя и не совсем. При определенных обстоятельствах развитие событий может чуть сместиться. К примеру, в этот же самый вторник молодой человек и молодая женщина, обоим далеко за двадцать, стоят под уличным фонарем на Гербернгассе, там же, в Берне. Они познакомились месяц назад. Он безумно влюблен в нее, но поскольку он обжегся раньше, когда без всяких объяснений женщина оставила его, сейчас он боится любви. Он должен быть уверен в этой женщине. Он вглядывается в ее лицо, безмолвно выспрашивает о чувствах, ловит малейший знак, караулит слабейшее движение бровью, легчайший румянец, увлажнение глаз.
В действительности и она его любит, но не умеет сказать это. И она просто улыбается ему, не ведая о его страхах. Пока они стоят у столба, время запинается и трогается дальше. Все так же склонены их головы, в том же ритме бьются сердца. Но где-то на самом дне ее сознания смутно обозначилась какая-то мысль. Молодая женщина тянется за этой новой мыслью в подсознание, и отсутствующее выражение зыбит ее улыбку. Нужно очень внимательно вглядываться, чтобы уловить это мимолетное отсутствие, но молодой человек начеку, и он замечает, и для него это знак. Он объявляет молодой женщине, что впредь не может ее видеть, возвращается в свою тесную квартирку на Цойгхаусгассе, решает переехать в Цюрих и работать у дяди в банке. Молодая женщина отлепляется от столба на Гербернгассе и медленно бредет домой, недоумевая, почему молодой человек не полюбил ее.
Интерлюдия
Эйнштейн и Бессо сидят в лодочке, бросив якорь. Бессо жует бутерброд с сыром, Эйнштейн пыхтит трубкой и ладит наживку.
– У тебя получается что-нибудь поймать здесь, посреди реки? – спрашивает Бессо, впервые отправившийся на рыбалку с Эйнштейном.
– Ни разу, – отвечает Эйнштейн.
– Может, отплывем поближе к берегу, к камышам?
– Можно, – говорит Эйнштейн. – Там у меня тоже ничего не ловилось. У тебя в сумке найдется бутерброд?
Бессо передает Эйнштейну бутерброд и пиво. Он чувствует некоторую вину за то, что упросил друга взять его с собой на эту воскресную прогулку. Эйнштейн рассчитывал порыбачить в одиночестве, подумать без помех.
– Ешь, – говорит Бессо. – Всю рыбу не переловишь.
Эйнштейн опускает на колени Бессо наживку и начинает есть. Некоторое время друзья молчат. Мимо проходит маленький красный ялик, поднимая волну, их лодка ходит ходуном.
Закусив, Эйнштейн и Бессо снимают сиденья и ложатся на дно лодки, подняв глаза к небу. На сегодня Эйнштейн покончил с рыбной ловлей.
– На что, по-твоему, похожи облака, Мишель? – спрашивает Эйнштейн.
– Козел гонится за человеком, а тому не нравится.
– Ты практичный человек, Мишель. – Эйнштейн тоже смотрит на облака. Но в мыслях у него время. Он хочет рассказать Бессо свои сны, но не может решиться.
– Я думаю, у тебя получится с теорией времени, – говорит Бессо. – Когда ты ее выведешь, мы опять пойдем рыбачить, и ты объяснишь ее мне. Когда станешь знаменитым, будешь вспоминать, что первому рассказал ее мне вот в этой лодке.
Эйнштейн смеется, и сотрясенные облака ходят взад и вперед.
18 июня 1905 г.
Вытекая из собора в центре Рима, цепочка из десяти тысяч человек, подобно стрелке гигантских часов, радиально протягивается к окраине города и уходит дальше. Но это не изгнание терпеливых паломников, а, напротив, приобщение. Они ждут своей очереди ступить в Храм Времени. Они жаждут преклониться перед Великими Часами. Дабы посетить это святилище, они приехали издалека, даже из других стран. Паломники тихо стоят, пока цепочка медленно подтягивается с безукоризненно чистых улиц. Кто-то читает молитвенник. Кто-то держит на руках ребенка. Кто-то ест фиги или пьет воду. И пока они ждут, им нет дела до времени. Они не смотрят на часы, потому что у них нет часов. Они не ждут боя башенных часов, потому что башенных часов нет. И ручные часы, и башенные упразднены, остались только Великие Часы в Храме Времени.
Внутри храма кольцом вокруг Великих Часов стоят двенадцать паломников – по одному на каждую часовую отметину в сооружении из металла и стекла. Внутри их кольца, свисая с двенадцатиметровой высоты, ходит массивный бронзовый маятник, отражая огоньки свечей. Песнопения сопровождают каждый мах маятника, каждую отмеренную прибавку времени. Песнопения сопровождают каждую минуту, что вычитается из жизни паломников. Это их жертвоприношение.
Пробыв час у Великих Часов, паломники выходят, и под высокие своды ступают следующие двенадцать. Эта процессия не иссякает уже много веков.
Давным-давно, еще до Великих Часов, время измерялось сменой положения небесных тел: медленная звездная карусель на ночном небе, солнечная дуга и разница в свете, прибывающая и убывающая луна, приливы и отливы, времена года. Также измеряли время частотой сердцебиения, периодичностью сонливости и сна, возвратным чувством голода, менструальным циклом у женщин, продолжительностью одиночества. Потом в маленьком итальянском городке были сделаны первые механические часы. Люди были ошеломлены. Потом их обуял ужас. Творение рук человеческих исчисляет ход времени, с линейкой и компасом вторгается в область желаний, отпускает каждому мгновения жизни. Это было колдовство, это была мука, нарушение естественного права. Но отмахнуться от часов уже было нельзя. Часы надлежало боготворить. Изобретателя убедили построить Великие Часы. Потом его убили, а все другие часы поломали. Тогда и начались паломничества.
В некоторых отношениях жизнь остается той же, что до Великих Часов. Улицы и проспекты городов оживляются детским смехом. Домашние своевременно собираются к столу, едят копченое мясо и пьют пиво. Юноши и девушки обмениваются робкими взглядами из разных концов пассажа. Художники украшают дома и общественные здания своими картинами. Философы мыслят. Но каждый вдох, каждое покачивание ногой, каждый романтический порыв даются с малюсенькой натугой, и это сознается. Всякое действие – не важно, сколь малое, – уже несвободно. Ибо все знают, что в некоем храме в центре Рима раскачивается массивный бронзовый маятник, мудрено связанный с храповиками и зубчатыми колесами, массивный бронзовый маятник, отмеривающий им жизнь. И каждый знает, что рано или поздно он обязан лицезреть свободную паузу своей жизни, обязан преклониться перед Великими Часами. Каждый мужчина и каждая женщина обязаны совершить хождение к Храму Времени.
Посему в любой день и в любой час из центра Рима радиально изливается десятитысячная цепочка паломников, жаждущих поклониться Великим Часам. Они стоят тихо, читают молитвенники, держат на руках детей. Они стоят тихо, но втайне их распаляет гнев. Ибо им надлежит увидеть измеренным не подлежащее измерению. Им предстоит увидеть чеканный ход минут и десятилетий. Свои же пытливость и дерзость уготовили им ловушку. И расплачиваться приходится своими жизнями.
20 июня 1905 г.
В этом мире время – локальный феномен. Двое часов рядышком идут примерно с одной скоростью. Однако на расстоянии друг от друга часы идут с разной скоростью, и чем больше расстояние, тем больше они расходятся. Что справедливо для часов, также справедливо для частоты сердцебиения, ритма дыхания, движения ветра в высокой траве. В этом мире время течет с разной скоростью в разных местах.
Поскольку для торговли нужно временно объединяться, таковая между городами не ведется. Слишком велики расхождения между ними. Если пересчитать тысячу швейцарских франков в Берне займет десять минут, а в Цюрихе один час, то как могут эти города иметь общие дела? Соответственно, каждый город существует сам по себе. Каждый город как остров. Каждый город вынужден выращивать свои сливы и вишни, разводить свой крупный рогатый скот и свиней, строить свои собственные фабрики. Каждый город должен обходиться собственными силами.
Бывает, в городе объявляется пришелец из другого города. Чувствует ли он себя сбитым с толку? На что требуются секунды в Берне, занимает часы во Фрибуре и дни в Люцерне. Пока в одном месте упадет лист, в другом распускается цветок. Пока в одном месте громыхнул гром, в другом полюбили друг друга двое. Пока мальчик вырастет в мужчину, капля воды успевает стечь по оконному стеклу. Но нет, путник даже не подозревает о подобном разнобое. Перемещаясь из одного пространства времени в другое, его тело приноравливается к местному движению времени. Если каждый толчок сердца, каждый мах маятника, каждый взмах крылом баклана согласованы между собой, то откуда путнику знать, что он перешел в другой временной режим? Если иноходь человеческих желаний так же согласуется с зыбью на пруду, то откуда ему знать, что вокруг что-то не так?
Только связавшись с городом, который он оставил, путник осознает, что вступил в иную область времени. Тогда-то он узнает, что за время отсутствия его швейная мастерская невероятно процвела и расширилась, что его дочь давно выросла и уже состарилась, а может, и то, что соседская жена допела песню, которую пела, когда он выходил из ворот. Тогда-то путник понимает, что он изгой – по месту и во времени. В родной город такие уже не возвращаются.
Некоторым очень нравится жить обособленно. Они заявляют, что их город главнее всех прочих и незачем налаживать общение с ними. Где глаже шелк, как не со своей фабрики? Где тучнее коровы, как не со своих пастбищ? Где точнее часы, как не из своей мастерской? Такие люди утром, с восходом солнца из-за гор, выходят на балконы и даже не смотрят в сторону городской окраины.
Другие жаждут контактов. Они засыпают вопросами редкого путника, забредшего в их город, спрашивают, где он побывал, и где какого цвета закаты, и какого роста люди, какой величины звери, и на каких языках говорят, и как ухаживают, и что изобретают. Со временем кто-нибудь из любопытствующих решает увидеть все собственными глазами, узнать жизнь других городов, он уезжает и становится путником. Он не вернется.
Этот мир привязанного к месту времени, мир обособленный, делает жизнь чрезвычайно разнообразной. Ведь раз города не сливаются, жизнь может развиваться на тысячу ладов. В одном люди живут кучно, в другом порознь. В одном одеваются скромно, в другом не одеваются вообще. В одном оплакивают врагов, в другом не имеют ни врагов, ни друзей. В одном ходят пешком, в другом ездят в экипажах замысловатой конструкции. Этим далеко не исчерпывается разнообразие областей, удаленных друг от друга всего на сто километров. Прямо за горой, прямо за рекой лежит другая жизнь. Но эти жизни не находят общего языка. Эти жизни ничем не делятся. Они ничему не учатся друг у друга. Богатства, какие доставляет обособленность, ею же сводятся на нет.
22 июня 1905 г.
В гимназии Агассиса выпускной день. На мраморных ступенях стоят сто двадцать девять мальчиков в белых рубашках и коричневых галстуках и вертятся на солнце, директор школы оглашает их имена. На лужайке перед школой, глядя в землю, нехотя слушают родители и родственники, дремлют на стульях. Выступающий от имени выпускников монотонно бубнит свою речь. Он вяло улыбается, когда ему вручают медаль, и после церемонии забрасывает ее в кусты. Никто его не поздравляет. Мальчики, их матери, отцы, сестры еле тянутся к домам на Амтхаусгассе и Арштрассе либо к скучающим скамейкам у Банхофплац, пообедав, остаются сидеть, играют в карты, убивая время, дремлют. Воскресная одежда складывается и убирается в ящик до следующего раза. В конце лета некоторые мальчики определятся в университеты Берна или Цюриха, другие пойдут в отцовское дело, третьи отправятся искать работу в Германии или Франции. Эти шаги делаются с полным безразличием, механически, подобно раскачиванию взад-вперед Маятника, или как в шахматной партии, где каждый ход – вынужденный. Ибо в этом мире будущее – постоянная величина.
Это мир, в котором время не течет, обтекая событие. Напротив, время – структура жесткая, с хребтом, протянувшаяся в бесконечность спереди и сзади, превращающая в окаменелость как будущее, так и прошлое. Каждое действие, каждая мысль, каждое дуновение ветра, каждый перелет птиц раз и навсегда предопределены.
В репетиционном зале Штадтгеатер балерина пробегает по сцене и взмывает в воздух. Она повисает на мгновение и опускается на пол. Saut, batterie, saut[2]. Ноги скрещиваются и трепещут, руки образуют разомкнутый свод. Сейчас она готовится к пируэту: правая нога уходит назад на четвертую позицию, толчок, посылом рук ускоренное вращение. Она сама точность. Часовой механизм. Танцуя, она думает, что могла бы продлить полет в прыжке, но ей не дано летать, потому что ее движения не принадлежат ей. Действия ее тела относительно плоскости пола и пространства предопределены до миллиардной доли дюйма. Тут нет места полету. Полет свидетельствовал бы о некотором непорядке, между тем непорядок исключается. И поэтому она обегает сцену с обреченностью часового механизма, непредсказанных прыжков не делает, вызова не бросает, ногу опускает точно на меловую черту и даже не мечтает решиться на неположенные кабриоли.
В мире с неизменным будущим жизнь представляет собой бесконечную анфиладу комнат, где в каждый момент времени освещена лишь одна, остальные же погружены во тьму, но они ждут. Мы переходим из комнаты в комнату, заглядываем в освещенную, в сиюминутное, и следуем дальше. Мы не знаем комнат впереди, но мы знаем, что ничего изменить там не можем. Мы зрители собственной жизни.
В свой обеденный перерыв идет по городу фармацевт из аптеки на Кохергассе. Он задерживается у часового магазина на Марктгассе, в соседней булочной покупает бутерброд, бредет дальше – к зелени, к реке. Он должен своему другу деньги, но предпочитает сделать себе подарок. Гуляя, он радуется новому пальто, решает расплатиться с другом в будущем году, а может, вообще не отдавать. Кто пристыдит его? В мире постоянного будущего нет правильного и неправильного. Чтобы знать, что правильно и что неправильно, нужна свобода выбора, но если каждое действие уже подобрано, никакой свободы выбора нет. В мире постоянного будущего нет чувства ответственности. Все комнаты уже распределены. Этими мыслями думает фармацевт, шагая по дорожке через Бруннгассхальде и вдыхая сырой лесной воздух. Он только что не улыбается – так нравится ему принятое решение. Он дышит сырым воздухом и вкушает непривычную свободу личного произвола, он чувствует себя свободным в несвободном мире.
25 июня 1905 г.
Воскресный полдень. В воскресных костюмах отяжелевшие после воскресного обеда люди прогуливаются по Арштрассе, негромко переговариваются под журчание реки. Магазины закрыты. Три женщины идут по Маркггассе, задерживаются у реклам, заглядывают в окна, не спеша идут дальше. Хозяин гостиницы скребет ступени, садится и смотрит газету, откидывается к стене и закрывает глаза. Улицы спят. Они спят под скрипичную музыку.
На столах книги, в центре комнаты стоит молодой человек и играет на скрипке. Он любит свою скрипку. Он выводит нежную мелодию. Играя, он смотрит вниз на улицу, замечает тесно стоящую парочку, смотрит на них глубокими карими глазами и отводит взгляд. Он стоит не шелохнувшись. Его музыка одна движется, музыка заполняет комнату. Он стоит недвижимо и думает о жене и маленьком сыне, они живут в комнате внизу.
Он еще играет, когда другой такой же человек встает в центре комнаты и играет на скрипке. Этот другой выглядывает вниз на улицу, замечает тесно стоящую парочку, отводит взгляд и думает о жене и сыне. И пока он еще играет, третий мужчина встает и играет на скрипке. Будет еще четвертый и пятый – бесчисленное множество молодых людей играют на скрипках у себя в комнатах. Бесконечное множество мелодий и мыслей. И вот этот час, когда молодые люди играют на скрипках, это не один час, но много часов. Ибо время подобно свету между двумя зеркалами. Время скачет взад и вперед, рождая бесконечное множество образов, мелодий, мыслей. Это мир неисчислимых подобий.
Задумываясь, молодой человек чувствует других. Он чувствует их музыку и их мысли. Он чувствует себя тысячекратно повторенным, чувствует эту комнату с книгами тысячекратно повторенной. Он чувствует свои мысли повторенными. Должен ли он оставить жену? Как быть с той минутой в библиотеке политехнического института, когда она взглянула на него с другого края стола? Как быть с ее густыми каштановыми волосами? Но где ее поддержка? Где его уединение сверх этого часа, что он играет на скрипке?
Он чувствует других. Он чувствует себя тысячекратно повторенным, чувствует эту комнату тысячекратно повторенной, чувствует свои мысли повторенными. И какое из этих повторений он сам – подлинный, завтрашний? Должен ли он оставить жену? Как быть с той минутой в библиотеке политехнического института? Где ее поддержка? Где его уединение сверх этого часа, что он играет на скрипке? Его мысли скачут взад и вперед тысячу раз, мечась между его подобиями, с каждым скачком они слабеют. Должен ли он оставить жену? Где ее поддержка? Где его уединение? С каждым новым отражением мысли тускнеют. Где ее поддержка? Где уединение? Мысли совсем гаснут, он уже едва помнит, какими вопросами задавался и ради чего. Где уединение? Он выглядывает на пустую улицу, играет. Его музыка плывет и наполняет комнату, и когда проходит час, вместивший неисчислимое множество часов, он помнит только музыку.
27 июня 1905 г.
Каждый вторник из карьера к востоку от Берна средних лет мужчина везет камни на стройку на Ходлерштрассе. У него есть жена, двое взрослых разъехавшихся детей, брат-туберкулезник в Берлине. Во всякое время года он носит белое шерстяное пальто, в карьере работает допоздна, перекусив с женой, отправляется спать, по воскресеньям возится в огороде. А во вторник утром он нагружает тачку камнями и направляется в город.
В городе он покупает муку и сахар на Марктгассе. Он высиживает покойные полчаса на задней скамье Святого Винсента. Он останавливается у почтамта и отправляет письмо в Берлин. Встречая на улице людей, он опускает глаза вниз. Некоторые его узнают, стараются перехватить взгляд, поздороваться. Он бормочет невнятное и идет не задерживаясь. Даже разгружаясь на Ходлерштрассе, он не смотрит каменщику в глаза. Он глядит в сторону, на вопросы дружелюбного каменщика он отвечает стене и вообще уходит в угол, когда начинают взвешивать его камни.
Мартовским утром сорок лет назад, школьником, он описался в классе. Он не мог сдержаться. Когда это случилось, он не хотел вставать с места, но мальчики увидели лужу и заставили его ходить по классу круг за кругом. Они тыкали пальцами в мокрое пятно на брюках, вопили. В тот день молочное солнце мутно сочилось в окна и заливало половицы. На крючках рядом с дверью висели две дюжины пиджаков. Доска во всю длину была исчиркана мелом – названиями европейских столиц. У парт откидывалась крышка, под ней был ящик. У него в верхнем правом углу крышки было вырезано: Иоганн. От паровых труб воздух был сырым и тяжелым. Большие красные стрелки на часах показывали 2.15. Мальчики вопили, гоняя его в мокрых штанах по комнате. Они кричали: «Дырявый пузырь, дырявый пузырь!»
Эго воспоминание стало его жизнью. Утром он просыпается мальчиком, который описался. На улице он знает, что люди видят мокрое пятно у него на штанах. Он смотрит на штаны и отводит глаза. Когда приезжают дети, он не выходит из комнаты и говорит с ними через дверь. Он мальчик, который не мог сдержаться.
Но что есть прошлое? Может, неотменимость прошлого иллюзорна? Может, прошлое – калейдоскоп образов, узор, преображаемый встряской, порывом ветра, смехом, мыслью? Как знать, ведь все меняется вокруг.
В мире переменного прошлого проснувшийся однажды камнерез уже не мальчик, который не мог сдержаться. То давнишнее мартовское утро было таким же, как все другие. В то забытое утро он сидел в классе, читал стих, когда вызвал учитель, после школы катался на коньках с мальчиками. Сейчас у него каменоломня. У него девять костюмов. Он покупает жене фаянсовую посуду, по воскресеньям они устраивают себе долгие прогулки. Он навещает друзей на Амтхаусгассе и Арштрассе, улыбается, жмет им руки. Он финансирует концерты в казино.
Однажды утром он просыпается и…
Солнце поднимается над городом, и десять тысяч человек зевают и принимается за тосты и кофе. Десять тысяч человек заполняют пассаж на Крамгассе, идут в конторы на Шпайхсргассе, ведут детей в парк. У каждого свои воспоминания: отказавший в любви отец, вечно первенствовавший брат, восхитительно целовавшийся любовник, жульничество на школьном экзамене, покой, нисходящий с хлопьями снега, публикация стихов. В мире переменного прошлого эти воспоминания суть пшеница на ветру, летучие сны, облачная лепнина. Случившись однажды, события утрачивают реальность, их переиначивают взгляд, гроза, ночь. Со временем прошлое оказывается небывшим. Но так ли это? Так ли, что прошлое не такая же незыблемость, как вот эта минута, когда солнце струит лучи поверх Бернских Альп, торговцы напевают, поднимая тенты, а камнетес нагружает свою тачку.
28 июня 1905 г.
– Не переедай, – стучит бабушка по плечу своего сына. – Не то помрешь до меня, и некому будет заботиться о моем серебре. – Семья выбралась на пикник на берегу Аре в десяти километрах к югу от Берна. Девочки, покончив с едой, бегают друг за дружкой вокруг лиственницы. У них начинает кружиться голова, они валятся в густую траву, немного лежат спокойно, потом катаются по земле – опять до головокружения. На одеяле сын с очень толстой женой и бабушка едят копченую свинину, сыр, хлеб с горчицей, виноград, шоколадный пирог. Легкий ветерок набегает на реку, и жующие и запивающие вдыхают сладостный летний воздух. Сын снимает ботинки и шевелит пальцами в траве.
Вдруг над головами проносится стая птиц. Молодой человек подхватывается с одеяла и бежит за ними, не тратя времени на обувание. Он пропадает за холмом. Вскоре к нему присоединяются люди, углядевшие стаю еще на вылете из города.
Одна птичка опускается на дерево. Женщина взбирается по стволу, тянется схватить птицу, но та легко перепархивает на верхнюю ветку. Женщина лезет выше, осторожно садится на ветку, ползет. Птица порхает на прежнюю ветку, ниже. Женщина еще на ветке, а по земле уже скачет другая птица, клюет семена. К ней подкрадываются двое мужчин с огромным стеклянным колпаком. Но быстрая птичка не про них, она взмывает в воздух и вливается в стаю.
Сейчас птицы летят городом. На колокольне Святого Винсента стоит пастор и пытается заманить птиц в арочные окна храма. Старуха в парке Кляйне Шанце видит, как птицы, присев, облепили куст. Она медленно бредет к ним со стеклянным колпаком, заранее знает, что ничего не поймает, роняет колпак на землю и начинает плакать.
И она не одинока в своем отчаянии. Каждый мужчина и каждая женщина страстно желают поймать птицу. Потому что эта соловьиная стая есть само время. Время трепещет, суматошится, скачет в этих птицах. Накройте соловья стеклянным колпачком – и время станет. Уловленное мгновение сберегается для всех людей, деревьев и земли.
Вообще же птицы редко ловятся. Угнаться за птицами могут только дети, а у них нет желания останавливать время. Для детей время и так движется слишком медленно. Они торопят следующий миг, ждут не дождутся дней рождения и новогодних праздников, они не чают перевалить за первую половину жизни. А пожилым отчаянно хочется задержать время, но уже не та прыть и не те силы, чтобы ловить птичку. Для пожилых время скачет намного быстрее. У них руки чешутся присвоить хоть минуту от утреннего чаепития, или те несколько секунд, когда внучка путается в платьице, или тот полдень, когда, отразившись на снегу, солнце заливает светом музыкальную комнату. Но они нерасторопны. Остается только смотреть, как под носом скачет и летит недоступное время.
Когда случается поймать соловья, ловцы не скрывают радости, что заморозили юркое мгновение. Они упиваются сохранностью на своих местах родных и друзей, улыбок, вновь и вновь переживают радость награды, рождения, любви, не могут надышаться запахом корицы и белых махровых фиалок. Ловцы радуются замороженному мгновенью, но скоро обнаруживается, что соловей чахнет, что его чистая переливчатая песня, слабея, смолкает совсем, что пленный миг выдохся и кончился.
Эпилог
Вдалеке бьют восемь раз башенные часы. Молодой служащий патентного бюро отрывает голову от стола, встает, потягивается и направляется к окну.
За окном уже бодрствует город. Жена дает мужу сверток с едой, они препираются. По пути в гимназию на Цойгхаусгассе мальчишки перебрасываются мячом, предвкушают летние каникулы. Две женщины с пустыми сумками спешат на Марктгассе.
Скоро в комнату входит старший служащий, направляется к своему столу и, не сказав ни слова, принимается за работу. Обернувшись, Эйнштейн смотрит на часы в углу комнаты. Три минуты девятого. Он перебирает мелочь в кармане.
В четыре минуты девятого появляется машинистка. Она видит у окна Эйнштейна с рукописью в руках и улыбается. Она уже печатала ему несколько неслужебных работ в свободное время, и он охотно платил ей, сколько она спрашивала. Сдержанный человек, хотя иногда отпустит шутку. Он ей нравится.
Эйнштейн отдает ей рукопись, свою теорию времени. Шесть минут девятого. Он идет к своему столу, смотрит на груду папок, направляется к полке, тянет из кучки тетрадку с записями. Бросив, возвращается к окну. Для конца июня необыкновенно ясный воздух. Над крышей жилого дома он видит вершины Альп, голубые от белого снега. Еще выше крохотной точкой медленно петляет в небе птица.
Эйнштейн возвращается к столу, присаживается на минуту и снова идет к окну. Он чувствует опустошенность. Ему неинтересно писать отзывы на патентные заявки, неинтересно говорить с Бессо, неинтересно думать о физике. Он чувствует опустошенность и без всякого интереса смотрит на крохотную точку и Альпы.
Примечания
1
Букв.: для данного случая (лат.).
(обратно)2
Прыжок, батри (па в балете), прыжок (фр.).
(обратно)

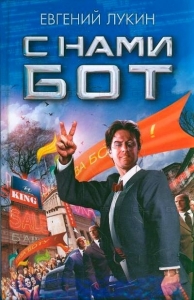

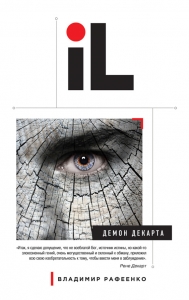




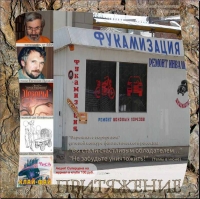

Комментарии к книге «Сны Эйнштейна», Алан Лайтман
Всего 0 комментариев