Андрей Столяров Изгнание беса
Серия «Мир фантастики»
Иллюстрации в тексте и на обложке Сергея Григорьева
© А. Столяров, 2018
© А. Жикаренцев, состав, 2018
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®
* * *
Миллион зеркал
Сурки
Сержант, шедший впереди, поднял руку. Все остановились.
– Что? – одними губами спросил капитан.
– Поляна и дом. – Сержант двумя пальцами отвел ветку от глаз.
– Сурки в дома не заходят, – сказал стажер. Они с доктором подтянулись сзади.
– Тихо, – одернул сержант. – Тихо. Дом на карте обозначен?
– Да. Сторожка лесника, – сказал капитан.
– Жилая?
– Да.
– Не похоже.
– Сурки никогда не остаются в домах, – сказал стажер.
– Тихо! – на этот раз приказал капитан.
Сержант несколько секунд изучал поляну.
– Пойду посмотрю, – сообщил он.
– Стажер вправо, доктор влево. На двадцать метров, – сказал капитан. – Лечь. Автоматы к бою. Стрелять без предупреждения по любому движущемуся предмету. Повторяю – по любому. Ну – без шума.
Без шума не получилось. У стажера трещало под ногами. Ветви, полные листьев, били по лицу. Двадцать метров – это тридцать шагов. Здесь! Он залег. Земля была сырая. Локти сразу намокли. Поляна не просматривалась. Он перекатился боком, как его учили. Перед глазами качалась ломкая сныть[1], дрожали багровые зерна костяники.
Было очень стыдно. Так и не научился передвигаться в лесу. Сержант даже когда бежит, ни одна ветка не шелохнется. А тут – шум, треск. Выговор обеспечен. Ну и ладно. В конце концов он не десантник, не разведчик, его включили в группу как специалиста-зоолога. Он должен дать описание сурков. Если, конечно, здесь есть сурки, что очень сомнительно: третьи сутки в лесу – и ни одного следа. Может быть, они вообще здесь не обитают. Может быть, они за двести километров отсюда. А тут рой землю носом. Если на то пошло, то его задача в группе главная. Он принесет квалифицированные сведения. По существу, все остальные – его охрана.
Капитан залег предусмотрительно – на пригорке, где посуше. Надломил мешавшую ветку, она опустилась с тихим шелестом, упер локти для стрельбы. Кривые, низкорослые березы смыкались над ним, образуя шатер. Поляна была хорошо видна – солнечная, шелковая. Посередине ее за поваленными жердями вросла в землю сторожка. Зеленел мох на крыше. Поблескивало из травы перекошенное окно.
Он не случайно выбрал центральную позицию. Отсюда просматривалась вся поляна. В случае необходимости он мог прикрыть отход сержанта один. На стажера надежда слабая, а доктор – только что название военврач – из десяти выстрелов девять в небо.
Капитан был недоволен. В группу входили всего два опытных поисковика, он сам и сержант. Вот результат компромиссов. Надо было настоять, чтобы дали еще хотя бы двоих из биологического десанта. С десантниками можно работать. Их учат стрелять в прыжке, в кувырке, с закрытыми глазами. С ними можно не бояться даже открытых мест. А зачем, спрашивается, доктор? Первую помощь они окажут и сами. Если же случится что-то серьезное, то оказывать помощь будет просто некому. Не надо забывать: где-то в этом лесу исчезла группа Колица. Сообщили, что вышли на сурков, и все – никаких известий, никаких следов, даже тела до сих пор не обнаружены. А ведь у Колица опыта было не меньше, чем у него. Именно Колиц еще до нападения на зерновые фермы Юга подал докладную об опасности сурков. Он же первый установил, что сурки нападают организованными стаями, и предположил существование центра репродукции.
Капитан не заметил, когда сержант появился на поляне – тот просто возник, постоял секунду и тронулся, держа автомат наготове. Трава доходила ему до колен. Капитан взял прицел на угол.
Было тихо. В лесу не шевелился ни один лист.
Сержант дошел до сторожки, рванул дверь, грамотно отскочил вбок. Дверь повисла на одной петле. Уже безбоязненно он вошел внутрь и сразу появился, замахал руками над головой.
– Вперед, – сказал капитан в микрофон.
Стажер выскочил первый. Пришлось его вернуть: незачем топтать поляну лишний раз. Доктор завозился в кустах, как медведь, вылез помятый, словно спал, автомат болтался на спине.
– Дом пустой, – доложил сержант. – Заброшен месяца два-три назад. Следов нет.
– Привал, – скомандовал капитан. С удовольствием распустил лямки вещмешка. Стажер тут же растянулся на спине, бросил автомат – мальчишка.
– В доме нет никаких продуктов, – сказал сержант. Он один остался стоять.
Капитан поднял голову.
– У нас своих достаточно, – сказал доктор. Достал из мешка банку тушенки, подкинул. – Поделиться можем.
– Забрал лесник? – предположил капитан.
– Я бы не делал здесь привала, – упрямо сказал сержант.
Доктор уронил банку.
– У меня лично уже ноги не ходят, – сказал он.
– А чем это место плохое? – спросил стажер. – Тихо, спокойно.
– Обычно сурки, побывав в доме, забирают все продукты, – пояснил капитан.
– Легенды, – сказал стажер. – Они же травоядные.
– Возможно, – сухо ответил капитан. Сержант, игнорируя остальных, упорно смотрел на него. – Задержимся здесь. Один час ничего не изменят, даже если нас засекли. – Приказал: – Доктор занимается обедом, стажер – наблюдатель. Сержант! Запроси остальные группы, что у них?
Сержант неохотно выкрутил из вшитой рации антенну, защемил мочку наушником, неодобрительно посмотрел на вытянувшегося во весь рост стажера, который браво водил дулом из стороны в сторону.
– Сядь! – Тот сел. – И не крутись: голова заболит. Если они выскочат с того конца, мы их успеем увидеть. Наблюдай ближний лес. И не дергай автомат, еще убьешь кого-нибудь.
Капитан достал карту, отметил привал, глянул на обиженного стажера. Зря сержант одергивает его так грубо. Хотя, с другой стороны, не в детском саду, за ручку водить никто не будет. И с местом он тоже прав. Неудачное место. Открытое. Правда, кто сказал, что сурки любят открытые места? Оба нападения на станции произошли в лесу. И ферму они разгромили на границе лесной зоны. Так что еще неизвестно. О сурках вообще ничего не известно.
Полгода назад зерновые хозяйства Юга сообщили, что на их пограничные фермы регулярно нападают какие-то неустановленные животные, похожие на обезьян, – вытаптывают поля, в больших количествах похищают семенное зерно. Предполагалось, что это Волна – спонтанная вспышка размножения. Центр выслал рабочую группу сразу же: боялись прохлопать. Как прохлопали, например, муравьиную Волну. Спохватились лишь тогда, когда черный, огненный поток хлынул из сельвы, затопляя поля, оставляя за собой выеденную скорлупу поселков. Колонны шли шириною в километр. Капитан видел фотографии. В Южной Америке до сих пор сохранились заброшенные селения, кладбища обглоданных дочиста скелетов животных, города, окруженные кирпичными стенами с бойницами для огнеметов. Сельва на тысячи километров стояла голая – здесь прошли муравьи. Люди дрались за места на пароходах, спасались на плотах, на автомобильных камерах. Вертолеты Красного Креста эвакуировали целые области.
А на следующий год началась воробьиная Волна – миллионы погибших от голода птиц устлали асфальт городов.
И вот теперь – сурки.
Рабочей группе, высланной на Юг, было предписано собрать информацию. Информации оказалось достаточно. В первый же день, развернув стационары, группа перестреляла несколько десятков сурков. А ночью сурки предприняли ответное нападение.
Капитан задержал дыхание, словно и сейчас тошнотворный, сладкий запах крови полез в ноздри. Четырнадцать человек. Некоторых он хорошо знал.
– Есть связь, – доложил сержант.
Капитан открыл глаза. Стационар с беспорядочно лежащими телами исчез. Был полдень. Зеленели клейкие березы. Солнце стояло над головой.
– Запроси обстановку, – сказал он.
Доктор, обжигаясь, вытащил банку из нагревателя.
– Готово.
Сержант свернул рацию.
– Никаких следов, – мрачно сказал он. – Завтра выходят из леса.
Стажер первый полез в банку с тушенкой.
– Ты все-таки присматривай.
Стажер насупился, бросил ложку, взял автомат.
– Эх, братцы, люблю поесть, – сказал доктор. Он удобно устроился на животе.
– Почему их назвали сурками? – спросил капитан.
– Считается, что они генетически связаны с этим видом, – неохотно ответил стажер. Он переживал обиду. – Полагают, что сурки – наши, степные – под влиянием каких-то факторов трансформировались в новый вид. Вообще видообразование процесс длительный, но тут что-то дало толчок. Разумеется, это одна из гипотез, – добавил он.
– Ги-по-те-за, – сказал сержант.
– Их только начали исследовать, – глядя на лес, сказал стажер.
– Эх, жизнь… Таскаешься по лесу, как… как сурок, мокнешь, не спишь.
– Убедился, что съел половину, отставил банку. – Вот послушайте, стажер, а правда, что сурки гипнотизируют людей? Если сурок посмотрит в глаза, то как бы задеревенеешь, не сможешь пошевелиться. А он подойдет и перегрызет горло.
– Тебе, Генчо, тушенка в голову ударила, – сказал сержант.
– Нет, вы как хотите, братцы, а я не согласен попасться этим тварям. Я видел, что они делают на Южных фермах.
– Все видели, – сказал капитан. – Хватит об этом.
– Я слышал насчет «черного взгляда», – сказал стажер. – По-моему, это ерунда. Не надо переоценивать сурков. Они – животные. Правда, профессор Левин говорит о зачатках коллективного разума, но это лишь гип… предположение. Настоящего человеческого разума у них нет, в лучшем случае – организованный инстинкт, как, например, у муравьев. Может быть, в будущем, когда они эволюционируют… тогда… Это будет любопытно.
– Я человек нелюбопытный, – сказал доктор. – И предпочитаю держаться от них подальше. Ты меня защитишь в случае чего? – обратился он к сержанту.
Сержант не ответил: подхватив с коленей автомат, вглядывался в кусты. Доктор проворно перевернулся, щелкнул предохранителем.
– Ну-ка, – сказал сержант.
Капитан кинул туда пустой банкой. Кусты проглотили ее, не шелохнувшись.
– Померещилось. – Сержант опустил автомат. – Надо идти, командир. Не нравится мне этот лес.
– Лес как лес, – сказал доктор.
– Стажер! Говорят, что сурки на своей территории – там, где живут, – истребляют все живое. Или это тоже гипотеза?
– Гипотеза. Но многие животные охраняют свою территорию. Например…
С вышины донесся слабый стрекот. В синем небе плыл крохотный вертолет.
– Наш. Беспокоятся, – сказал сержант. – А чего беспокоиться? Я утром сообщил – все в порядке.
– Дать ему ракету? – спросил доктор.
– Нет, – сказал капитан. – Они нам ничем не помогут. Только привлекут внимание сурков.
– Если здесь есть сурки, – сказал стажер.
– Есть, не беспокойся, – ответил сержант.
Капитан скомандовал:
– Так. Доктор – приборка. Я наблюдаю. Сержант и стажер – быстро обедать. Выходим.
– Нет, это не жизнь, – со вздохом сказал доктор.
Капитан шел замыкающим. Впереди бесшумной тенью скользил сержант, за ним тащились доктор и стажер, этих было слышно за километр, и затем – он.
После того как сержант спросил, он и сам видел, что лес не такой. Мертвый. Не было даже птиц. Тихо стояли осины. Жались друг к другу темные, колючие ели. Сверху прямыми лучами просвечивало солнце. Пустота. Тишь. Словно не лес, а картонная декорация.
Судя по карте, до границы со степью еще двое суток. У них самый северный маршрут. Остальные должны выйти из леса гораздо раньше. И конечно, тоже ни с чем. Кто их придумал – поисковые группы. Они имеют смысл при зарождении Волны: забрасывается несколько групп, они оперативно устанавливают очаг репродукции и ликвидируют его своими силами или вызывают спецкоманду, точно указывая ей район поражения.
Совершенно бессмысленно ставить поисковикам задачу на прочесывание. Что мы можем – пять групп, двадцать человек в тысячекилометровом лесу. А все политика Биоцентра: локализация активных Волн в локусах репродукции малыми силами. Политика сдерживания. Расчет на то, что амплитуда популяций, от которых вот уже сорок лет лихорадит природу, будет уменьшаться. Надежды на постепенную стабилизацию. И, как выясняется, напрасные надежды. Нет, господа, никакой спонтанной стабилизации не будет. Теперь это ясно. Генофонд природы расшатан настолько, что самостоятельно он не нормализуется. А если так, то и выводы надо делать соответствующие. Раз мы вынуждены вступить в войну с природой, то это должна быть именно война. И не надо бояться этого слова, не надо прятаться за термины – точечная регуляция, коррекция генетических аномалий. Война. И она должна вестись именно военными средствами. Не поисковые группы Биологического центра – армия, две армии, три – сколько понадобится. Оцепить весь лес, наглухо блокировать и прочесать, проверить каждую травинку. Уничтожить всех сурков. Всех до единого. Никаких изучений, даже в вивариях, никаких исследований, никакой зоологии, морфологии, этологии – вымести эту мразь до последнего. Земля – для человека. Война до полной победы, до тех пор, пока природа не будет подавлена, подчинена, поставлена на свое место. Только так.
Они шли уже больше часа. Лес мрачнел. Деревья раздавались вширь. Стали попадаться лиственницы с могучими вывороченными корнями, темные пещеры под ними неприятно действовали на нервы, казалось, в черноте их сидит кто-то, скрючившись, блестя осатанелыми глазами, – ждет момента.
Сержант, почти невидимый в пятнистом комбинезоне, остановился меж двух больших деревьев. Группа подтянулась. Доктор хрипел горлом, сразу полез за флягой с водой. Стажер вытирал пот. Последние километры через бурелом дались нелегко.
– Надо выходить из леса, командир, – сказал сержант. – Я что-то совсем сдал. Мерещится всякое. А приглядишься – ничего нет.
– Мы можем повернуть прямо на юг, – сказал капитан. – Тогда до границы будет километров пятьдесят. Завтра выйдем.
– Нет, вызывай вертолет, командир. Вызывай, я зря не скажу. – Сержант быстро повернулся к плотным, низкорослым елям. – Ну вот опять! А, черт!..
И вдруг дал длинную, захлебывающуюся очередь.
С елей полетели верхушки, тоненькое деревце, простонав, наклонилось вперед.
И тут же с высоких лиственниц, с широких вековых лап на них обрушилась горячая меховая визжащая лавина.
Жилистые пальцы схватили капитана за горло, вцепились в подбородок, с невероятной силой потащили его вверх, запрокидывая голову. Карабкались сразу трое, вонзая когти до мяса. Автомат сержанта плюнул короткой очередью и замолк. Краем глаза капитан увидел, что коричневые юркие тела накрыли его, копошащийся клубок покатился по поляне, на секунду показалось лицо…
– Стреляй, командир, стреляй! – …и опять исчезло, захлестнутое обросшими шерстью лапами.
Капитан рвал пальцы с горла – сорвал – тут же вцепились еще. На нем висело пять или шесть сурков. Только бы не упасть. Упадешь – конец. Почему никто не стреляет? Ловушка! Как глупо попались. Где автомат? Почему никто не стреляет? Так же, наверное, попалась группа Колица. И никто не узнает, что с нами случилось. Почему никто не стреляет?
Темное лицо – неправдоподобно человеческое, карикатурное – с желтыми, бездонными от злобы глазами, покрытое фиолетовым мехом, возникло перед ним. Алый рот был разинут в визге.
Капитан все-таки упал – дернули за ноги, задохнулся в горячем, остро пахнущем мехе, его тянули за волосы вверх, он застонал от боли – чудом, невозможным движением вывернул автомат, вслепую дал одну очередь, вторую – вереща, посыпались сурки, он вскочил на ноги, вертясь, как юла, короткими очередями лупил в отскакивающие, дергающиеся тела.
И все кончилось. Сурки исчезли. Трое валялись рядом, шерсть была мокрая от крови, еще один – навзничь – скреб землю когтями, изо рта его шла пена.
Место было незнакомое. Он не мог сообразить, откуда скатился – кажется, оттуда: кусты примяты. И почему так тихо? Не должно быть так тихо. Даже визга не слышно.
Капитан вставил новый магазин. Запасная обойма была в кармане – не так уж плохо. Ветви сбоку чуть заметно дрогнули, он бросился на землю, локоть пронзило током.
– Не стреляй, командир!
Он едва удержал палец. Из узорчатого орешника, пригибаясь, вылез сержант:
– Жив, командир?
– Да, – сказал капитан, поднимаясь, массируя локоть. – У тебя кровь на лице. Где остальные?
Сержант утерся, посмотрел на ладонь:
– Сволочи! Ничего не знаю, командир. Пять сволочей застрелил, так и лежат на поляне. Больше никого. – Он оторвал висящий на нитке рукав, бросил. – Надо вызывать вертолет.
– Ты же таежник, следопыт, – сказал капитан.
– К черту! – сержант длинно выругался. – Там не следы – каша. Вызывай десант. Все равно вдвоем ни хрена не сделаем. – Сел, зубами разорвал индивидуальный пакет. – Давай перевяжу, командир.
Капитан только сейчас заметил, что у него из рукава на траву капает темная кровь…
Стажеру повезло. Во время нападения он оказался в стороне и видел, как визжащая орда накрыла доктора, потащила – только руки мелькнули в воздухе, видел, как вырвался сержант – уложил одного, другого и через секунду снова был погребен под сурками, видел, как покатился командир, сдирая дерн сапогами.
Он словно оцепенел, даже не подумал, что надо стрелять. Сурков были десятки. С деревьев соскакивали новые – ощерившись, кидались в схватку.
А потом сразу трое повернулись к нему, стали заходить кольцом – медленно. На фиолетовых мордах горели янтарные жадные глаза. Стажер закричал, бросил в них чем-то – захлестали ветки. Он бежал, вряд ли сознавая, что делает – зацепился за корягу, растянулся во весь рост, мешок перелетел через голову, на четвереньках пополз, запутался в приземистом ельнике, всхлипывая, выдирался из колючих игл.
Остановился он, когда подкосились ноги. Сел на валун. Сердце выскакивало, в груди не было ни капли воздуха.
Он находился в глубоком овраге. Склоны были без травы – земляные. По дну тек черный ручей. Стажер припал к нему, пил, пока не заломило зубы.
Было невыносимо душно. Кажется, вырвался. Он вдруг вскочил – автомат! Где автомат? Автомата не было. Вещмешок также исчез. Стажер бессильно опустился на холодный камень. Он готов был заплакать. Дурак! Тупица! Потерял автомат. Что он теперь без оружия?
Лиственницы высоко по краю оврага покачивали верхушками в бездонном небе.
Дурак! Ему теперь не выбраться из этого леса. Стажер все-таки заплакал в кулак, тут же испуганно оглянулся.
Карта! Он попытался вспомнить карту. По маршруту до границы со степью нужно было пройти еще сто километров. Это слишком много. Этого ему никогда не осилить. Но капитан говорил – если свернуть на юг, то до границы километров пятьдесят. Так. Уже легче. Пятьдесят километров он как-нибудь пройдет. Он проползет их, если нужно. Стажер опять вскочил. Дурак! Самый настоящий дурак! У него же есть рация!
Он лихорадочно ощупал комбинезон. Рация, вшитая на груди, была на месте. Плотно сел зажим наушника. Он послал вызов. Это было просто – нажимай кнопку, и все. В наушнике появился фон, рация работала. Он давил кнопку, никто не отвечал.
Ну конечно! Личные рации бьют на четыреста метров. А он отмахал километров пять или больше. Его никто не услышит.
Но все-таки рация немного успокоила. В конце концов, все не так страшно. Сержант уже, наверное, связался с базой. Им немедленно вышлют подмогу.
Если только сержант жив.
От этой мысли стажера замутило.
– Ничего, ничего, – сказал он себе и осекся.
В просвете лиственниц на недоступной высоте застрекотал вертолет.
Стажер закричал, замахал руками, полез вверх – сорвался, посыпались сырые комья, опять полез, выбрался. Вертолет скрылся за деревьями.
Он застонал от досады. Надо было выйти на открытое место и ждать. Скорее! Может быть, они еще вернутся. Он кинулся туда, где лес был пореже.
Под широкой, в три обхвата, позеленевшей от времени лиственницей стоял сурок. Жилистые коричневые лапы его с кривыми когтями болтались ниже колен. Желтые глаза по бокам острой морды, не мигая, смотрели на человека.
У стажера опустело в груди. Звонко щелкнула ветка. Он сделал шаг назад. И сурок заверещал, но не неистово, как в схватке, а скорее жалобно, тонко, словно ножом провели по стеклу.
Откуда-то из чащи откликнулись такие же жалобные, тонкие голоса.
Стажер оглянулся. Из-за деревьев вышли еще четверо.
Его втолкнули в хижину. Там было темно. Он сразу же споткнулся обо что-то.
У стены завозились, поднялась неясная фигура, насмешливый голос сказал:
– Веселая собирается компания.
Стажер отшатнулся, но сурки опять толкнули его вперед.
– Из группы «Сунни»? – спросил человек.
– Да.
– Будем знакомы. Я – Колиц.
– Колиц! Из группы Колица?
– Да. Колиц из группы Колица.
– А разве вы не…
– В том-то и дело, что «не». Во всяком случае, пока. Ну-ка, погодите. – Колиц отрывисто свистнул. – Фу, черт, никак не привыкну. – Свистнул еще раз.
В ответ сурки разразились целой какофонией длинных и коротких свистов, то повышая, то понижая тон. Колиц слушал, сильно сморщившись.
– Ни хрена не понимаю, – сказал он и опять свистнул.
Сурки затрясли мордами, и стажер почувствовал, как влажные клыки скользнули по кистям рук сзади. Он дернулся. Его крепко схватили.
– Не валяй дурака, – сказал Колиц. – Тебя развяжут.
Рябиновые прутья соскочили с запястий. Стажер поспешно вытащил руки, избегая мокрых прикосновений.
Сурки посвистели. Колиц свистнул в ответ. Они вышли, закрыли дверной проем плотным щитом.
– Располагайся, – сказал Колиц. – Это, конечно, не курорт, но жить можно. Особенно если жить тихо.
Глаза привыкали. Хижина была небольшая, без окон, с плетеными стенками. Сквозь них пробивалось солнце. Пол – земляной. В углу навалены еловые лапы – постель. Там зашевелились, громко застонали. Колиц нагнулся.
– Кто это? – испуганно спросил стажер.
– Ваш доктор. Принесли полчаса назад. Голова разбита. Наверное, сотрясение мозга – заговаривается.
– Доктор! – обрадованно крикнул стажер.
– Пи-ить… – слабо откликнулись в углу.
Колиц присел, поднял глиняный кувшин.
– Его надо в больницу. Немедленно! – сказал стажер.
– Правильно, молодой человек, – насмешливо ответил Колиц.
– Стажер, где мы? – простонал доктор. – Голова горит…
– Лежи, лежи, лучше всего усни. – Колиц накрыл доктора какой-то тряпкой, сказал сухо: – Он не так плох, как кажется. Ему надо отлежаться, вот и все.
Стажер привалился к стене. Хижина зашаталась.
– У вас оружие есть? – спросил он.
– Что?
– Ну – автомат.
– Есть хочешь? – сказал Колиц.
– Нельзя же так сидеть! – возмутился стажер. – Надо что-то делать.
– Например?
– Бежать. Сообщить на базу. А рации у вас нет?
Колиц положил перед ним большую беловатую лепешку:
– Давай заправься. Вкус у нее, конечно… Но другого, извини, нет.
– А я в Биоцентре слышал чуть ли не легенды о капитане Колице, – зло сказал стажер. – Вы там чуть ли не герой.
– Да? – без интереса сказал Колиц. – Врали, наверное.
Стажер задохнулся, сжимая кулаки, шагнул к щиту у входа.
– Куда? Назад! – Голос Колица прозвучал как выстрел.
Тон его был таким, что стажер повиновался против воли. Сел, спросил сквозь зубы:
– Охрана большая? Кто нас сторожит? Сколько сурков в поселке?
– Не советую, – спокойно сказал Колиц. – Куда ты побежишь? Поймают через пять минут. Они же в лесу как дома. – Добавил неохотно: – Тут сидел один до тебя. С Южных ферм, что ли. Побежал. Знаешь, что они с ним сделали?
– Из вашей группы кто-нибудь остался? – опять сквозь зубы спросил стажер.
– Я один, – не сразу ответил Колиц. – На базе что слышно – никого не нашли? Молчишь? Понятно. – Он вздохнул. – Есть, значит, не хочешь. Ну тогда, извини, я. Рацион здесь того… Такая лепешка на весь день. Хорошо, хоть воду приносят.
– Бежим, бежим… – застонал доктор. – Пустите меня! Командир, где ты?
– Они нас убьют, – сказал стажер.
– Вполне возможно.
– И вы так спокойно говорите об этом?
– Я просто объективен, юноша. Ведь мы первые напали на них.
– Вы сравниваете! Мы и эти – твари, уроды, выродки!
– Они тоже люди, юноша.
– Что?
– Ну не люди. Если не нравится термин – другие разумные существа. Как сурок по-латыни?
– Мармота, – машинально сказал стажер.
– Значит, мармота сапиенс. Сурок разумный. Смешно – ищем иной разум в космосе, а он, оказывается, тут, у нас под боком, на Земле.
Стажер сидел пораженный. Иной разум. Ему и в голову не приходило. Организованный инстинкт, говорил профессор Левин. Зачатки специализации типа «муравейник».
– Меня другое пугает, – задумчиво сказал Колиц. – Уж слишком быстро они развиваются. Я ведь здесь третью неделю. Наблюдаю. Дней десять назад они, по-моему, еще не знали огня. А сейчас появились костры. Человеку на этот путь потребовалось гораздо больше времени. Или взять оружие…
Стажер не слушал его. Сурки – разумные существа. Те, кого человечество ищет уже десятки лет, посылая корабли к звездам, прощупывая космос радиолокацией.
– Они же явные мутанты, – сказал он. – Ошибка природы. Скачок эволюции.
– Среди животных человек тоже мутант, – ответил Колиц. – Тоже скачок эволюции. Не так все просто, юноша. Хотим мы этого или не хотим, но на Земле появился новый вид разумных существ. – Он повторил: – Мармота сапиенс.
– Вы не видели, что эти ваши разумные существа делают с людьми! – крикнул стажер. – Вы не были на Южных фермах. Просто слышать об этом – бесполезно.
В темноте, в углу, зашевелился доктор, громко задышал. Колиц намочил тряпку, положил ему на лоб.
– Я думаю, юноша, что человечеству надо договориться с сурками. И по возможности скорее. Чтобы не было новых жертв. – Он помолчал. За стеной хижины пересвистывались сурки. – А что касается Южных ферм… Я был на Южных фермах. Как вам объяснить, юноша. Представьте, что у вас появился младший брат, и этот брат сделал вам больно – чисто случайно, неосознанно, даже не понимая, что именно он делает, – только потому, что он еще слишком молод. Так вот. Сурки – это наши младшие братья. Жестокие младшие братья.
Колиц вдруг поднял голову. Прислушался. Стажер вскочил:
– Что случилось?
– Тихо! – сказал Колиц.
За плетеной стенкой горохом посыпалась беготня, пересвист стал частым, тревожным, – и мгновенно возник и заколотился в воздухе яростный, леденящий визг, который стажер уже слышал при нападении. Одновременно затрещало, будто разрывали материю.
– Наши, – не веря, прошептал стажер. – Это наши.
Толкнул щит, тот повалился, выбежал на пыльную улицу. Вдоль нее по обеим сторонам стояли десятка два таких же плетеных хижин. Из них, вереща, выскакивали сурки.
– Назад, стажер! – загремел Колиц.
Было уже поздно. Толпа сурков навалилась на них, потащила. Стажер локтями закрыл горло, свирепые когти взбороздили кожу. Он закричал. Длинная пулеметная очередь насквозь прошила улицу. Сурки рассыпались. Стажер вскочил. Рядом никого не было – метнулся за ближайшую хижину.
Усиленный мегафоном голос капитана проревел:
– Людям лечь на землю! Людям немедленно лечь на землю!
И сейчас же снова затрещали выстрелы. Откуда-то выбежали двое сурков – покатились в пыли, дергаясь, оставляя кровяные отпечатки. На краю поселка низкорослые фигурки метались между деревьями, падали.
За хижиной лежал Колиц. Горло у него было разодрано.
– Людям лечь на землю! – ревел мегафон.
Стажер попятился.
Кто-то вцепился ему в комбинезон. Небольшой сурок прижимался к ноге, скулил. Стажер пнул его. Сурок откатился, согнув сухие лапы, поднял острую фиолетовую морду. Он держал совсем маленького, голого детеныша, пытался закрыть его. Детеныш был слепой: тыкался головой в грудь.
Глаза у сурка были жалобные, пронзительные. Он тонко засвистел и пополз к стажеру, волоча перебитую ногу.
– Мармота сапиенс. Младший брат! – безумно сказал стажер. Выглянул из-за хижины. По улице мели пыльные фонтанчики. Сурок свистел, упорно полз ближе.
– Людям лечь!
Стажер глубоко вздохнул и шагнул вперед, на улицу, прямо в эти низкие, пляшущие фонтанчики – поднял руки над головой.
– Не стрелять! – закричал он, срывая голос.
Пули чмокались около ног. Сурок за хижиной свистел все громче.
– Не стреля-ать!
Наступила тишина.
Учитель
Я расплатился с шофером. Он сунул деньги в карман, весело оскалился:
– Получайте ваш Неустрой. Если захотите выбраться, так вечером пойдет автобус. А то – до завтрашнего дня. – Сел поплотнее. Облепленный грязью грузовик прокрутил на месте колесами, бросил назад ошметья глины и тронулся, разделяя неимоверную лужу.
На другой стороне площади, справа от магазина, в тени под яблонями сидели на деревянной скамейке несколько женщин.
Обогнув лужу, я подошел к ним:
– А здравствуйте, товарищи колхозники.
– А здравствуйте, – охотно ответили женщины.
– Это что же, у вас церковь – действующая? – Я показал туда, где из густых садов выплеснулось к небу белое здание с широким синим куполом.
– Веруете? – с напускным участием сказала самая молодая. – Или попом к нам направили? Нам без батюшки, конечно, не прожить: прости, Господи, сколько уж не исповедовалась, грехов-то, грехов…
– Будет, Мария, – сказала та, что постарше. – Человек невесть что подумает.
– Так он же интересуется.
– Я в основном по школьным делам, – сказал я. – А церковь – для разговора.
Тут магазин открылся, сразу стало людно, женщины заторопились.
– А школа, она вон там, справа от церкви, по улочке, – обернувшись в дверях, сказала молодая.
Я пошел мимо правления, свернул. Улица была широкая, пыльная. Аккуратные одноэтажные дома серого кирпича с белыми занавесками на окнах были окружены садами. Под глянцевыми листьями, сгибая ветви, наливались яблоки. Малина перемахивала через забор.
Я мог бы и не спрашивать дорогу. Деревню со странным именем Неустрой я знал наизусть. Позавчера оперативная группа под видом геодезистов сфотографировала ее вдоль и поперек. Окрестные леса в радиусе пятидесяти километров уже вторые сутки фиксировались авиаразведкой. Я ночь просидел над снимками и теперь мог идти с завязанными глазами.
Улица спускалась к деревянному мостику. На обкатанных камешках пенилась вода. Я как бы невзначай оглянулся. Из кустов вылезла сонная собака, через силу тявкнула на меня, легла мордой в толстую пыль. Слежки не было. Во всяком случае явной. Да и глупо было бы ожидать, что станут следить за каждым приезжим. Оперативники, работавшие два дня, говорили, что на них никто не обращал внимания. Они вообще не заметили ничего подозрительного. Деревня как деревня – полторы сотни домов, четыреста жителей, клуб, школа.
Но еще вчера, перед самой моей заброской, утвердили план: блокировать область воинскими частями, высадить в ключевых пунктах десантные группы и сходящимися концентрическими кругами выйти на Неустрой.
От речки веяло сыростью. Ободранные жерди моста чуть подрагивали. Могучие лопухи, вздев малиновые цветы в колючках, победным потоком сбегали вниз. Под их широкими листьями, у самой воды, в тугой тишине трещали синие стрекозы. Я шевельнулся, и они исчезли.
Школа находилась на пригорке – белое здание с большими окнами. Я поднялся на второй этаж. Директор – полный, сурового вида мужчина с глубокими залысинами кивнул мне, качнув головой в сторону дивана. Сам он сидел за столом без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами.
Перед ним, понурив стриженые головы, стояли два школьника пятого-шестого классов.
– Я слушаю, Вохминцев, – сказал директор.
Тот школьник, что пониже, еле слышно произнес:
– Мы пошли посмотреть…
– В час ночи, – уточнил директор. – Дальше.
– А он засветился.
– Кто «он»?
– Привидение.
– Ага, привидение. – Директор выразительно посмотрел на меня.
– И Петька побежал, и я побежал…
– Врешь, это ты побежал, – сказал школьник повыше.
– До тебя еще дойдем, Иванов, – пообещал директор. – Потерпи немного. – Указал мне на них. – Вот полюбуйтесь: чудо двадцатого века. У обоих пятерки по физике – верят в привидения. Три дня назад пошли выслеживать. Ночью. В лесу. Разумеется, заблудились. Искали их всем поселком. Сколько людей пришлось оторвать от работы. К летчикам обращались за помощью.
Оба «чуда» донельзя опустили головы.
– Это Петька, – сказал школьник пониже. – Если бы он не побежал… Что я – Харлама боюсь?
– Врешь все, – не очень убедительно возразил высокий.
– Каково? Привидения! – сказал директор. – Ты, Вохминцев, может быть, и в Бога веришь?
– Бога нет, – сказал школьник и шмыгнул носом.
– А что есть?
– Материя.
– Привидения – это очень интересно, – произнес я.
Директор изумленно уставился на меня. Он, видимо, обращался ко мне в чисто педагогических целях, как к взрослому, не ожидая никакого ответа.
– Простите, я что-то не припомню, – сказал он.
Я назвался. Директора это не обрадовало. Он смотрел недоверчиво.
– Вот мои документы. – Я протянул удостоверение, где черным по белому было написано, что Соломенцев Игорь Игнатьевич является инспектором областного отдела народного образования.
– Что вы, зачем вы, я вам верю, – сказал директор, но удостоверение взял. Распорядился: – Иванов, Вохминцев, быстро на урок. Завтра – с родителями.
– Минутку, – остановил я извиняющимся голосом. – Это же так интересно – привидения. Я вот сколько живу, ни разу их не видел. Позвольте расспросить?
– Пожалуйста, – неохотно сказал директор. Ему явно не хотелось разбирать эту историю в присутствии инспектора облоно.
– Ребята, – сказал я. – Значит, вы видели привидение. Удивительно. И какое же оно собой?
Школьники переглянулись. Тот, что пониже, сказал:
– Известно какое… Синенькое.
Он вообще был посмелее.
– Синенькое. Светилось, значит?
– Да.
– И сильно светилось?
– Нет. Так – чуть-чуть, между деревьев. А когда по улице шло, то почти и не видно, – сказал школьник, впервые подняв лицо.
– Это что же, был скелет? – шепотом спросил я.
– Зачем скелет? – недоверчиво спросил школьник.
– Так уж положено привидению. Оно должно появляться в виде скелета, закованного в цепи, – греметь ими и дико завывать.
Я подмигнул директору, но он моей шутки не принял – страдая, вытирал лоб платком.
– Ничего там не завывало, – решительно заявил низкий школьник. – Правда, Петька? – Петька кивнул. – Он тихо шел. А в лесу два раза застонал, жалобно так. Нормальный Харлам, только синенький.
– Кто? – не понял я.
– Харлам.
Директор неловко пояснил:
– Тут недалеко от поселка, километра четыре, стоит избушка. Харламов скит. Говорят, что лет двести назад там жил монах-отшельник – Харлам. Будто бы был страшный разбойник: купцов проверял на большой дороге, ну а потом, к старости, раскаялся, построил скит и ушел замаливать грехи. Оттого и зовется – Харламов скит. Говорят еще, что этот Харлам, перед тем как раскаяться, зарыл награбленное в землю, а где – не помнит. Вот теперь, после смерти, ходит, ищет зарытое. Чепуха, конечно. Но избушка в самом деле древняя – наполовину в землю ушла. Я так думаю, что ее промысловики поставили, еще до революции. А Харлама уже потом приплели.
– А ты как думаешь? – спросил я низенького школьника. Он упрямо дернул головой:
– Чего – думать. Харлам и есть. Ищет свое золото. – Директор хотел что-то сказать, даже открыл рот, но сдержался. – А мы с Петькой, значит, решили подсмотреть, где он золото спрятал, и, значит, выкопать.
Мне, вероятно, следовало немедленно разоблачить религиозный дурман, но я не был педагогом и поэтому спросил только:
– Страшно было ночью?
– Подумаешь, – сказал школьник. – Что я, Харлама боюсь, что ли? Это вот Петька.
– Ладно, идите, ребята…
Школьники обрадованно затопали к выходу, в дверях низкий обернулся:
– Пойдете Харлама выслеживать?
– Да вряд ли, зачем он мне, – сказал я.
– Не спугните его, – серьезно предупредил школьник. – Он всего боится. От нас с Петькой так и зачесал в другую сторону.
– Не спугну, – пообещал я. – Он когда выходит на промысел?
– Да в двенадцать.
– Каждый день?
– Когда неделю его нет. А когда дак каждый…
Дверь за школьниками закрылась, и директор развел руками:
– Откуда это? И ведь учатся оба неплохо. Занимаются в кружке – в авиамодельном…
– А вы в детстве никогда не искали кладов? – спросил я. – Вы не лазали по подвалам, по чердакам, не хотели обнаружить потайной ход к спрятанным сокровищам?
– Я в их возрасте уже работал, – сухо сказал директор. – Тогда была война. Я пошел на завод учеником слесаря. – Он спохватился. – Вы только не подумайте, что у нас запущена атеистическая работа. Напротив. И мы этот случай не оставим без внимания: проведем лекцию о суевериях… и… что-нибудь о космосе…
– Удостоверение, – напомнил я.
– Что? Ах да! – директор вернул удостоверение, которое до сих пор вертел в руках. – Простите. Так что вас, собственно, интересует?
– Так сказать, вообще, – ответил я.
– Учебные планы?
– Да.
– Идеологическая, культмассовая работа?
– Разумеется.
– Факультативы?
– Конечно.
– Побываете на уроках?
– Хотелось бы.
Наверное, я отвечал как-то не так, потому что директор поглядывал на меня очень странно.
– Только месяц назад у нас была областная инспекция, – задумчиво сказал он. – Вадим Борисович остался доволен.
– Он болеет, – твердо сказал я, отсекая все вопросы о неведомом мне Вадиме Борисовиче.
– Опять печень, – посочувствовал директор.
– Да, печень.
– Или, кажется, сердце?
– Кажется, сердце, – уже несколько раздраженно сказал я.
Директор всплеснул руками:
– Впрочем, что я? Ведь у него обширнейшая язва желудка.
Не люблю, когда из меня делают идиота. Я демонстративно постучал удостоверением по столу.
– Ваше право, – сказал директор. – Чем мы займемся в первую очередь?
– Уроки.
Я чувствовал, что мало похожу на инспектора. Это и не удивительно: на подготовку легенды у меня была всего половина дня. Я едва успел зазубрить структуру облоно и некоторые общие принципы педагогики.
– Я могу говорить с вами откровенно? – вдруг спросил директор.
– Разумеется.
Он включил вентилятор, внимательно посмотрел на белый полупрозрачный круг и повернулся ко мне всем телом:
– Вас интересует учитель Зырянов?
Надеюсь, что на моем лице ничего не отразилось. Да, меня интересовал учитель Зырянов. Но директору не следовало знать об этом. Никому в поселке не следовало об этом знать.
– Я так и думал, – сказал директор. – В конце концов, я буду жаловаться. Если сам Зырянов не будет, то буду я. Дайте же человеку спокойно работать. Ну да – он дает материал сверх программы. Много материала. Но вы посмотрите – его ученики берут грамоты на всех областных олимпиадах. А двое – даже на всесоюзной. Я понимаю, были времена, когда любое отклонение от программы… Я и сам… Но ведь все уже позади. В позапрошлом году Зырянов получил звание заслуженного учителя.
– Очень рад за него.
– А вы знаете, что его приглашали в Москву, на кафедру? Говорят, что его метод – это готовая докторская.
– Неужели?
– Отказался, – торжествующе сказал директор. – Не поехал ни в какую Москву. Потому что – Учитель. – Директор так и произнес это слово – с большой буквы. – Мы, конечно, все учителя, что там говорить, – он махнул рукой, – я, например, вот вы. Но Зырянов – именно Учитель. Вы слышали о Крапивине?
– Ну как же…
– Его ученик. А Дементьев, а Логачев, а Болдин…
Директор называл имена, не подозревая, что мне они прекрасно известны. Совсем недавно я тщательно изучил длинный список этих имен. Причем против каждого из них стояло очень высокое звание.
– Его ученики любят, – почему-то шепотом сказал директор. – Вы преподавали?
– Немного.
– Ну все равно. Это очень трудно, чтобы ученики любили. Меня, например, не любят. Честное слово. Меня только уважают, боятся, а его – любят.
– Несколько дней назад я даже не слышал о Зырянове, – вполне искренне сказал я.
– Я хочу, чтобы его оставили в покое, – сказал директор. – Есть же обычная деликатность. Вы не поверите: после каждой комиссии, после каждой проверки он день-два болеет. Да. Мне приходится переносить уроки. Он и так часто болеет.
Директор посмотрел на меня, словно ожидая, что после этих слов я извинюсь и уйду. Но я сидел.
– Хотите побывать на уроке у Зырянова? – безнадежно сказал он.
– Да.
Он вздохнул:
– Хорошо, я провожу вас. Но одна просьба: понимаете, в детстве Зырянов попал в аварию… Едва выжил… У него сейчас несколько… необычный вид. Мы-то привыкли; а вы человек новый…
– Я все понял.
– Фу… какая жара, – сказал директор, дополнительно к вентилятору обмахиваясь руками. – Сколько здесь живу, не помню такого жаркого октября. Печет, как на юге. Да вы оставьте пиджак – совсем распаритесь, повесьте вот тут, на стуле.
– Спасибо, мне не мешает, – сказал я.
Это было не так. Но под пиджаком, поверх рубашки, сбоку, в кобуре на ремнях, у меня висел тяжелый двенадцатизарядный армейский пистолет с навинченным глушителем.
Мы прошли по пустому солнечному коридору. У дверей в класс директор как-то заколебался, но постучал. Школьники дружно встали. Директор назвал меня, попросил разрешения присутствовать.
– Пожалуйста, – клекочущим, как у птицы, необычайно высоким голосом сказал некто, сидящий за учительским столом.
Я прошел в задние ряды. Головы поворачивались мне вслед. Не знаю, в чем дело, но я сразу почувствовал острую враждебность. Меня не хотели. Весь класс не хотел. Это было странно. Я специально долго устраивался: достал авторучку, блокнот, на чистой странице крупно, чтобы видел окаменевший сосед по парте, написал число, номер школы, фамилию учителя. И не ошибся: неприязненные взгляды отклеились один за другим.
– Продолжай, Егоров, – проклекотал учитель.
У доски, испещренной непонятными символами, стоял длинный нескладный парень. Он в раздумье почесал нос – запястья далеко высунулись из рукавов, – отрешенно поглядел на доску, сказал ломающимся баском:
– Топологические пространства, являющиеся подпространствами хаусдорфовых бикомпактных пространств, называются вполне регулярными, или тихоновскими, пространствами. – Он запнулся, опять почесал нос и зачастил, будто прорвало: – Их тоже можно охарактеризовать некоторой аксиомой отделимости, а именно: аксиомой, требующей, чтобы для любой точки и любого не содержащего ее замкнутого множества существовала непрерывная функция, равная нулю в икс и единице на эф.
Я осторожно посмотрел по сторонам – не валяют ли дурака. Класс напряженно слушал. Кое-кто быстро писал в тетради. Мой сосед по парте морщил лоб и беззвучно шевелил губами – повторял.
Оставалось думать, что с тех пор, как я окончил школу, преподавание математики сильно шагнуло вперед.
– А топологические пространства, являющиеся открытыми подпространствами хаусдорфовых компактных пространств, можно считать локальными компактными пространствами, – частил парень.
На меня больше никто не обращал внимания. Меня это устраивало. Я смотрел на учителя.
Директор ошибался. Вид его не был необычным. Это был просто другой вид. Учитель походил на первоклассника – маленький и худой. Если бы он встал, то ненамного возвышался бы над партами. И на этом детском теле сидела непропорционально большая, очень круглая, шишковатая голова с редкими волосами – череп казался голым. Но когда учитель поворачивался, то белесые, как у новорожденного, волосы вдруг вспыхивали мелкими разноцветными искрами, словно были сделаны из хрусталя.
Глаза его по-лягушечьи резко выдавались вперед и казались еще больше из-за очков с сильными стеклами – зрачок растекался во всю линзу, а тяжелые веки периодически смыкались, будто створки раковины. Безгубый рот до ушей звонко чмокал, вздувая в углах зеленые пузыри.
Он был похож на какое-то земноводное животное. Я поднял ручку, словно рассматривая перо, сфотографировал его несколько раз.
Парень у доски тем временем замолчал, пригладил желтые космы. Учитель, не оборачиваясь, выгнул за спину руку без костей, зачеркнул что-то на доске, искрошив мел.
– Вот так будет правильно, – пискляво сказал он. Спросил: – Сам?
– Сам, – подтвердил парень.
– Свистит он, Яков Иванович, – сказали из середины класса. – Вычитал в «Проблемах топологии».
Парень набычился, сказал сквозь зубы:
– А когда я врал? Вы не верьте ему, Яков Иванович. Я давно хотел додумать подпространства Хаусдорфа. И додумал. Вчера копал свеклу на огороде и все время думал. А никакую топологию я не смотрел.
Терминология, которой он пользовался, очень не вязалась с его внешностью – соломенными волосами и носом картошкой. Ему бы работать на тракторе, а не рассуждать о каких-то там подпространствах.
Мой сосед по парте сказал себе в нос: «Есть!» – и поднял руку.
– Слушаю, Антипов, – просвистел учитель.
– Я думаю, что локальные компактные пространства в классе хаусдорфовых пространств, – звенящим голосом сказал мой сосед, – можно охарактеризовать тем, что каждая их точка обладает окрестностью с компактным замыканием. – Он споткнулся, мучительно сморщился, проговорил торопливо: – Сейчас, сейчас. – В классе стояла мертвая тишина. Выпалил: – Пример – евклидово пространство. То есть любое такое пространство дополняется одной точкой до компактного. Пример – присоединением одной точки из плоскости получается сфера комплексного переменного, а из эр – эн сфера эс – эн.
Он внезапно замолчал. Учитель пошлепал огромным ртом:
– Молодец, Антипов. Это правильная характеристика.
Мой сосед сразу сел, попытался сдержаться, но улыбка расползлась у него во все лицо.
Класс загудел. Взметнулся лес рук. Кто-то говорил, что он дополнил аксиому Хаусдорфа для каких-то особых случаев, толстяк справа от меня, похожий на батон, прямо стонал, что нельзя же замыкаться: нехаусдорфовы пространства еще интересней, а очень стройная девушка со строгим лицом, по внешности типичная отличница, встав, попросила разрешения рассказать о каких-то гомотипических классах, так как она считает, что можно изучать лишь гомотипически инвариантные функторы.
Несколько голосов закричали ей, что алгебраическая топология будет на следующем уроке. Девушка заспорила, сдвинув непримиримые брови.
Прозвенел звонок.
Учитель поднял тонкую руку. Кожа на ней блестела, будто лаковая. Шум мгновенно стих. Только запоздалый голос умоляюще протянул:
– Давайте поговорим на перемене, Яков Иванович…
– Мы не одни, – сказал учитель.
Все повернулись ко мне, и я снова ощутил нетерпеливую, острую неприязнь в ожидающих лицах.
– У вас есть какие-нибудь вопросы? – просвистел учитель. Расширенные зрачки его впервые обратились на меня: будто воткнули в сердце ледяную иглу.
– Благодарю за урок, – сказал я и встал.
Школьники тут же хлынули к столу. В суматохе пронзительных голосов самого учителя не было слышно.
Директор уже шел по коридору мне навстречу:
– Ну как?
– Завидую, – ответил я. – Я математику терпеть не мог. А учителя просто ненавидел.
– Все так говорят, – печально сказал директор. – А потом приходит бумага из облоно, или из гороно, или еще выше – с распоряжением: учесть и больше не повторять.
– Бумаги не будет, – пообещал я.
– Хорошо бы, – сказал директор. Он мне не поверил, взял под руку. Школьники младших классов носились как угорелые – приближаясь к нам, неестественным усилием переходили на шаг. Мы шли в тихом кольце.
– Какие у вас планы. Еще один урок? – спросил директор. – Педсовет мы на сегодня не назначали, но если вы считаете нужным…
– Не стоит, – сказал я. – Лучше завтра. Или послезавтра. Успеется.
– Тогда вам лучше отдохнуть. У нас есть квартира для приезжих. Я провожу вас. Это недалеко.
Воздух на улице обдал нас банным жаром. Выступил пот. Ноги утопали в густой пыли.
Директор вяло рассказывал о школе. Я оглядывался с безразличным любопытством приезжего. Деревянные изгороди, заросли крапивы, канавы, наполненные лопухами.
Месяц назад в створе этой деревни сгорел боевой английский спутник типа «Ангел» – полуавтономный спутник слежения, снабженный всеми новейшими системами обороны. Он вспыхнул на высоте сорока тысяч километров и сразу же начал падать: орбита была нестабильной. Я видел фотографии останков. Если это можно назвать останками. Специалисты единодушно утверждали, что горела даже титановая броня. С другой стороны, они не менее единодушно не понимали, как такая броня вообще может гореть.
Впрочем, о деревне, называемой Неустрой, речи тогда не было.
Но еще через неделю в этой же зоне сгорели четыре американских «муравья». Они шли серией, в пределах визуальной локации, и вспыхивали один за другим, с интервалами в пятнадцать секунд.
А на следующий день сгорел второй английский спутник.
Довольно быстро выяснилось, что орбитальные системы поражаются в одном и том же секторе над территорией СССР в промежутке от нуля до двух часов ночи.
Начались осложнения. Ряд западных правительств поспешили обвинить Советский Союз в применении нового оружия космического масштаба. В ответ Советский Союз предложил создать международную комиссию для расследования инцидентов – нам скрывать было нечего. Одновременно одиннадцать советских спутников были перемещены на орбиты, пересекающие сектор поражения. Все одиннадцать сгорели за две ночи, но успели передать в центр наблюдения данные об излучении огромной силы. Природа его была неясна – нечто вроде гравитационных всплесков, пакетов тяготения. Был уточнен створ, стержнем которого оказалась обычная сибирская деревня с печальным именем – Неустрой.
Что означало появление излучения такого рода, все понимали. План военной блокады области был разработан с впечатляющей быстротой…
Дом действительно оказался недалеко. Квартира находилась на первом этаже – стандартная однокомнатная.
– Располагайтесь, – сказал директор. – Столовая – по улице и налево.
– А кто соседи? – полюбопытствовал я, кивнув на стенку.
– Зырянов, – с запинкой сказал директор. – Имейте в виду, он очень не любит, когда его беспокоят. Если вам что-нибудь понадобится, лучше обратитесь ко мне – вон тот дом с синими наличниками. И вообще в любое время – милости прошу: вы мой гость.
Я принял это к сведению. Мы попрощались. Первым делом я распахнул окно – воздух в квартире был застоявшийся. Затем разделся, повесил сохнуть насквозь мокрую рубашку и принялся за работу.
Вряд ли здесь могла оказаться микроаппаратура, но рисковать я не хотел и поэтому добросовестно прощупал обои, простукал шкаф, лазал под тахту, собирая на себя многомесячную пыль.
Разумеется, я ничего не обнаружил. Впрочем, микрофоны, поставленные специалистами, я бы обнаружить и не смог. Оставалось надеяться, что их просто нет.
После душа я отдернул занавески на окне. Кусты в палисаднике поникли. Солнце вжало их в землю. На утрамбованной площадке торчали одинокие качели. Шаркая в пыли, прошествовала женщина с тяжелой сумкой.
Трудно было представить, что скоро по этой тихой улице пойдут наглухо завинченные, посверкивающие самонаводящейся оптикой, приземистые, покрытые маскировочными разводами штурмовые танки «черепаха» – замрут на перекрестках, подрагивая невыключенными моторами, а над ними в плотном воздухе через каждые пятьдесят метров зависнут тяжелые армейские вертолеты, и десантники в пятнистых комбинезонах, придерживая на груди автоматы, будут прыгать в горячую пыль.
– Пойдешь или нет? В последний раз спрашиваю, – сказал мальчишеский голос за углом.
– Не знаю, – протянул второй.
– Один пойду. Найду Харлама, и все будет мое. Тебе ни золотинки не дам.
– Поздно очень. Меня дома знаешь как караулят…
По голосам я узнал ребят, которых видел у директора в кабинете.
– Ты что, трусишь, да? Трусишь?
– Ничего не трушу, а заругают.
– Ты же обещал. Берешь слово назад?
– Ничего не беру. Мы же заблудились. Если бы не заблудились, тогда ничего. А так весь поселок смеется, говорят: Монте-Кристо.
– Ну тогда я пойду один, – пригрозил первый. – А всем скажу, что ты струсил Харлама.
– Ничего не струсил. А вот опять заблудимся.
Разговор зашел в тупик. Я громко сказал:
– Ребята! – За углом замерло. – Ребята, сегодня носа из дома не высовывать. Сидеть и смотреть телевизор. Поняли? – Мне никто не ответил. – Вечером зайду и проверю, – предупредил я.
Не раздалось ни одного звука, кусты не дрогнули, пылинка не шелохнулась в воздухе, но уже через секунду в конце улицы я заметил обоих. Они бежали сломя голову, низкий оглядывался.
Я достал из пиджака рацию, повалился на нагретую солнцем тахту и вызвал штаб. Ответили без промедления. Я доложил обстановку и данные на Зырянова.
– Это он, – сказал я.
– Ты уверен? – спросили меня после паузы.
– Почти.
На другом конце подумали.
– Ладно. С Зыряновым никаких контактов. Чистое наблюдение. Смотри не спугни его там.
Я спросил насчет операции. Мне ответили, что операция начнется завтра к вечеру. Для задержания Зырянова мне будет придана специальная группа.
Таким образом, в моем распоряжении были еще сутки. Я дал отбой.
Что ж, деревня как деревня. Обычная деревня. А в деревне существует школа, которая славится своими учениками. Среди них три академика, двое – с мировым именем, и более двадцати докторов наук по математике и физике, некоторые в перспективе также академики. Причем все эти знаменитости учились у одного и того же человека – Якова Ивановича Зырянова. Он окончил Томский педагогический институт, добровольно приехал в этот поселок и преподает здесь непрерывно уже двадцать пять лет.
Но самое интересное, что, по нашим данным, Яков Иванович Зырянов ни Томский, ни какой-либо другой педагогический институт не кончал.
Более того, двадцать пять лет назад Яков Иванович Зырянов вообще не существовал. Он нигде не родился. Семья его неизвестна, он не жил ни в одном городе, он не учился ни в одной школе, он нигде не работал, он не служил в армии. Его просто не было. Он возник ниоткуда.
Вот каков удивительный человек Яков Иванович Зырянов.
Я спрятал рацию. Следовало немного поспать – ночью мне предстояла работа.
Проснулся я, как и заказывал, – в десять. Было уже темно. Прошел дождь, из открытого окна тянуло сырой свежестью – запахом листьев и земли. Острые крыши домов казались серебряными. От столбов с погашенными фонарями тянулись через дорогу черные тени.
Рядом, где жил Зырянов, горел свет за плотными шторами.
Я махнул в сад прямо через окно. Постоял, послушал. Согнувшись, побежал к ограде. Кусты малины окатили меня теплой водой. Под ногами хлюпало. Вслед, передавая меня как эстафету, затявкали собаки.
Лес начинался сразу за поселком. Луна из фольги приклеилась над зубчатой, нарисованной кромкой его. Боюсь, что первые полчаса я производил довольно много шума. К лесу надо привыкнуть. Это дается не сразу. Но скоро я привык и быстро понял, что за мной кто-то идет. Человек двигался, когда двигался я, и останавливался вместе со мною. Он не был профессионалом: каждый раз опаздывал на какую-то долю секунды.
Оглядываться и прислушиваться в таких случаях последнее дело – только спугнешь. Я поступил иначе. Я растворился. Так, как нас учили. Нырнул за низкие ели и, прикрываясь ими, без единого звука отошел назад по дуге.
Все оказалось правильно. Он стоял между мною и луной – в синеватом мертвенном свете, у ствола, вцепившись в белую бороду лишайника.
Но это был вовсе не тот, кого я рассчитывал увидеть. Рослый, плечистый мужчина в тренировочном костюме и тяжелых ботинках. Мое исчезновение, видимо, обеспокоило его. Он выдержал недолго – тронулся от дерева к дереву, облитый луною.
Я бесшумно последовал за ним, соображая, что делать. Уйти можно было запросто, но не хотелось оставлять позади себя неизвестного. В конце концов я решил, что поскольку это не Зырянов, то контакт с ним мне не запрещен, и, когда человек приблизился к пушистым елям, в которых я исчез, и наклонился, всматриваясь, я на него прыгнул.
Прыгнул я хорошо, но реакция у него оказалась еще лучше. Он успел выставить локоть, мой удар пришелся по кости. Мы оба вскрикнули: я от боли, он от неожиданности, повалились в колючие ветви, меня будто молотком стукнули по виску – на долю секунды в голове вспыхнули разноцветные пятна. Этой доли хватило. Когда я очнулся, он уже сидел на мне, выламывал руку, надсадно дыша и приговаривая:
– А вот так не хочешь? А вот так не нравится?!
Я лежал, уткнувшись в сухие иголки. Сильно пахло смолой. Боль в скрученной руке вынимала душу. В таком положении мало что можно было сделать, но я все-таки сделал, и мы покатились, поочередно оказываясь наверху. Мужчина был тяжелым и сильным, но, на мое счастье, не умел драться грамотно, я лишь ждал, когда он раскроется, – он раскрылся, и сразу все кончилось.
Мне потребовалось целых пять минут, чтобы отдышаться. Он лежал без сознания. Я достал фонарик и осветил его лицо.
Это был директор. От света крупные веки его дрогнули.
– Не надо шума, – сказал я и осветил себя.
Больше всего я боялся, что он закричит. Харламов скит находился где-то рядом, и если бы он закричал, то на наблюдении можно было бы поставить крест.
Но он не закричал – дернул щекой, спросил:
– Вы? Откуда?
Шепотом я объяснил, кто я такой и откуда, разумеется, не упоминая о задании.
– Пустите меня, – сказал директор.
Я погасил фонарик. Директор сел, покрутил головой:
– Фу, черт!.. Вы сломали мне шею. – Сильно растер ее ладонями. – Между прочим, я сразу понял, что вы не из облоно.
– Что вы делали в лесу? – спросил я.
– Выслеживал Харлама.
– Привидение?
– Да. Решил, что нужно самому посмотреть, какие тут у нас завелись призраки.
– Видели его?
– Нет.
– А зачем пошли за мной?
– Я же не знал, что это вы, – сердито сказал директор.
Я думал: отправить его обратно или взять с собой. Мне не нравились оба варианта.
– А вы вообще этого Харлама когда-нибудь видели? – спросил я.
– Да.
– Когда?
– Например, сейчас вижу, – хладнокровно сказал директор.
Я обернулся. Между деревьями, недалеко от нас, передвигалась мерцающая тень. Я быстро прикрыл директору рот рукой. Тень была мне по грудь и напоминала карикатурного человечка, как его рисуют дети – круглая голова, а вместо тела, рук и ног – черточки. Свет от нее исходил фосфорный, голубовато-белый, ничего не освещающий. Смотреть было жутковато. Я расстегнул кобуру.
– Пойдем за ним? – высвободившись, прошелестел директор.
Я колебался всего секунду. Кем бы это привидение ни было, упускать его было нельзя.
– Без моего приказа ничего не делать.
Директор в знак того, что понял, сжал мне руку.
Мы двинулись следом.
Привидение вовсе не плыло по воздуху, как мне сперва показалось, оно то и дело спотыкалось, неразборчиво бормотало – шуршали иглы, иногда хрустела ветка. Это меня успокаивало: меньше шансов, что нас услышат.
Идти пришлось недолго. Деревья поредели. Лунный свет, как вода, встал между ними. Появилась поляна – небольшая, круглая, в высокой голубой траве. Из нее, как из озера, поднималась черная покосившаяся избушка, крытая дерном. Крыша ее съезжала до земли.
Привидение пересекло поляну – почти невидимое в голубой траве, – вспыхнув в проеме, прикрыло дверь. Ни искры не мелькнуло в низких оконцах.
– Будем брать? – предложил директор. – Теперь он от нас никуда не денется.
Я молчал. Взять привидение сейчас, неожиданно, представлялось очень заманчивым. Конечно, деться ему было некуда. Но я не имел на это разрешения. И сомневался, что получу его, связавшись со штабом. У штаба была своя правота: в такой операции нельзя рисковать ничем, а идти в одиночку, даже вдвоем, против того, кто мог оказаться в избушке, было все-таки рискованно.
Директор нетерпеливо покашлял.
– Когда вы уходили, где был Зырянов? – спросил я.
– Зырянов? При чем здесь Зырянов? – удивился он. – Наверное, дома. Он по вечерам не выходит.
– Вообще не выходит?
– Да. У него причуды. Он боится темноты. Каждый вечер запирается в квартире.
– А к нему кто-нибудь заходил вечером?
– Нет, он этого не любит.
Разговор мы вели торопливым шепотом, не сводя глаз с избушки. Я прикинул расстояние и окончательно решил, что туда мы не пойдем: в голубой траве, под ясной луной нас бы сразу заметили.
– Объясните, при чем здесь Зырянов? – сердито сказал директор.
Ответить я не успел. Из избушки раздался звук, будто нажали клавишу рояля. Мы переглянулись.
– Вперед? – сказал директор.
– Нет, – сказал я.
– Пять секунд, и мы там.
– Нет.
Звук повторился, такой же одинокий, тоскующий, повис в воздухе. Из трубы избушки поднялся очень тонкий, ослепительно-белый луч, как вязальная спица, воткнулся в небо, постоял и заметался, выписывая сложную фигуру.
Звуки – все на одной ноте – посыпались дождем, слились в жалобный стон и погасли. Луч беззвучно плясал над крышей. Я заметил, что белая часть его вовсе не достает до неба – она была очень короткой, свечение заканчивалось внезапно, словно упираясь в невидимую преграду. Директор смотрел как зачарованный.
– Ну и Харлам, – протянул он.
В тишине над светлой поляной возник очень чистый, детский голос, выводящий какую-то странную мелодию. Я никогда не слышал такой музыки: отчаяние времени, космическое, звездное одиночество звучало в ней. Луч метался в такт переливам. Трава пошла волнами, хотя ветра не было. На голубых метелках ее появились крошечные розовые огоньки. Директор обхватил липкий еловый ствол, застыл. Подрагивали плечи. У меня поддались пальцы ног, кожа пошла пупырышками, словно по телу поползли сотни холодных, скользких мокриц.
Мелодия была чужой, совсем чужой, нечеловеческой. Она раздирала меня изнутри, скручивала каждый нерв, каждую клетку.
Дико закричал директор, замахал руками, побежал прочь, похожий в лунном свете на большую черную бабочку. Розовые огоньки на траве вспыхнули желтым, ослепляющим. Прямо в глаза. Я опомнился, остановился. От сумасшедшего бега сердце комом стояло в горле. Кругом было темно и тихо. У меня стучали зубы. Я весь был словно в клейкой паутине, хотелось вместе с кожей содрать ее с себя.
Рядом застонали. Я сразу присел, вытащил пистолет:
– Кто?
– Я, – сказал директор.
Он сидел в неглубоком сыром овраге, обеими руками сжимая колено, раскачивался, подворачивал губы от боли.
– Что это было? – спросил он. И, не дожидаясь ответа: – Проклятая музыка! Омерзительная! – Коротко застонал: – О, черт! Посмотрите, я, кажется, вывихнул ногу.
По-моему, это был не вывих, а закрытый перелом. Во всяком случае, идти он не мог.
Я связался со штабом и доложил о случившемся. Сообщение принял сам генерал.
– Харламов скит, говоришь. – В наушниках было слышно, как он разворачивает карту. – Есть такой. Значит, луч и музыка?
– Мне кажется, это попытка связи, – сказал я. – Очень мощные позывные. В них и горят спутники.
– Еще как горят, – сказал генерал. – Уже четыре сгорели. Хорошие дела! Как считаешь, он вас заметил?
– Не знаю.
Генерал долго молчал, а потом сказал:
– Операцию я переношу на сегодня, – прокряхтел в микрофон. – Ничего же не готово! Начнем в четыре, когда рассветет. К этому времени ты должен выйти из леса. Группу захвата получишь немедленно. Задача прежняя – взять его любой ценой.
Я ответил: «Есть!» – и отключился. Директор по-прежнему держался за колено, поймал мой взгляд, сказал, морщась:
– Идите в поселок. Я подожду здесь – пошлете кого-нибудь. Идите – я же вижу, что вам нужно!
Я не стал возражать. Мне было действительно нужно. Я только предупредил, чтобы он оставался на месте.
Когда я вышел к деревне, воздух уже посинел. Неотчетливо проступили сырые, темные дома. Светилось лишь одно окно – мое.
Дверь в квартиру была открыта. Я вошел. На тахте, под торшером, не доставая короткими ногами до пола, сидел учитель Яков Иванович Зырянов.
– Я вас ждал, – своим тонким, клекочущим голосом сказал он.
– Физкульт-привет! – сказал я и просунул руку под пиджак, на кобуру.
Было около четырех. Группа захвата могла появиться с минуты на минуту.
– Вы были в лесу, – сказал учитель.
Он не спрашивал. Он утверждал. Я посмотрел на свои заляпанные грязью ботинки и выключил свет. Сразу же на тахте возникло карикатурное изображение человечка из белых фосфорных линий. Я включил свет.
– Садитесь, – спокойно сказал учитель.
Я сел.
– Вы следили за мной? – спросил он.
– Да.
– Вы знаете, кто я?
– Да.
– С каких пор?
Я сказал – с каких.
– Трое суток… Установили по ученикам?
– Первоначально по спутникам.
Он не понял. Я объяснил, что спутники горят в створе поселка. Он сидел напротив меня – щуплый, с непомерной головой. На дне выпуклых лягушечьих глаз вспыхивали зеленые искры.
– О спутниках я не подумал, – сказал он. – Действительно. Вы наблюдали мою связь в лесу?
– Да.
– Что вы теперь собираетесь предпринять?
Я не имел права говорить. Я не хотел говорить. Но зеленые искры стали гуще, и я сказал.
– Две армии против одного человека, – горько повторил он. – Неужели я так мешаю? Я ведь совершенно не вмешиваюсь в вашу жизнь – ни в политику, ни в экономику. Я лишь чуть-чуть, совсем несущественно ускоряю прогресс.
Я не в силах был отвести глаз от его зрачков. Смотрел до того, что комнату окутал белый туман, в котором проступали лишь два этих громадных, влажных, поблескивающих шара. Я сказал прямо в них:
– Человечество не может допустить, чтобы кто-то чужой тайно, с неизвестной целью направлял его развитие.
– В основах земной морали я разбираюсь, – сказал он.
– Вам следовало прийти открыто, – сказал я. – При Контакте допустимы лишь равноправные отношения.
Зеленоватые искры потускнели, клекот стал глуше.
– Мы не виноваты, – сказал он. – Была авария. Мы не собирались высаживаться. Мы не собирались входить в Солнечную систему. Была авария. Я попал к вам случайно.
Губы у него двигались, как у куклы в мультфильме, – не в такт словам.
– Я здесь один, – сказал он. – Я даже не специалист по Контактам. Я рядовой инженер. Я не имею права. Были случаи, когда Контакт кончался планетным шоком для одной из сторон. Цивилизация должна быть подготовлена. Я вообще не уверен, что будет решение о целесообразности Контакта с вами.
Он вздохнул:
– Нужно идти. Если я сейчас исчезну, меня станут разыскивать?
– Да, – сказал я.
Он встал. Глаза погасли. Поправил толстые очки.
– Не надо меня разыскивать. Постарайтесь объяснить это тем, от кого зависит. Ваши спутники в безопасности: у меня больше нет энергии для связи. Если сигнал услышали, меня заберут. А если нет… Следующее поколение учеников проявит себя лет через десять-двенадцать. Я не доживу.
Зеленые зрачки его качнулись в тумане и пропали. Я тоже хотел встать. Тело не повиновалось. Туман сгустился, стал как молоко – хлынул в лицо.
Лес горел. Насколько хватал глаз. Широкий густой дым волновался под нами, как море в непогоду. При порывах ветра волны распахивались, и показывалось дно, наполненное желтым бушующим огнем.
Даже в вертолете ощущался сильный запах гари.
– Мы над местом, – сказал пилот, оборачиваясь от штурвала.
Генерал показал ему ладонью – вниз.
– Опасно, товарищ генерал.
– Приказываю садиться!
Тон у генерала был металлический. Пилот прильнул к штурвалу. Пол начал проваливаться у нас под ногами. В кабину пополз дым. Окна ослепли. Вертолет окунулся в белый туман.
– Седьмой передает: в квадрате никого не обнаружено, – сказал майор из группы захвата. На мочке у него висел наушник, на коленях лежала развернутая карта.
Рядом сидели еще пятеро – такие же высокие, плечистые, чем-то похожие друг на друга.
Машину вдруг кинуло куда-то вправо. Я вцепился в ускользающий подлокотник. Совсем рядом, в метре от кабины, пронеслась облитая пламенем, корчащаяся, машущая ветвями ель. Вертолет сильно ударился колесами – раз, другой. Меня чуть не выбросило из кресла. Генерал морщился. Широкоплечие ребята сидели как влитые. Майор продолжал разглядывать карту.
Тряхнуло еще, но уже слабее. Умолк надсадный мотор. Винт со свистом замедлял вращение.
Пилот повернул к нам серое мокрое лицо:
– Прибыли, товарищ генерал.
– Второй докладывает: в квадрате никого нет, – сказал майор.
Оперативники упруго спрыгивали на землю.
Снаружи оказалось гораздо спокойнее, чем можно было предполагать, глядя на пожар из облаков. Поляна была почти не тронута. Огонь трехэтажной лавой обтекал ее. Лава дышала жаром, в ней бушевало, трещало, рушилось, но сюда огонь не перекидывался. Дым проносился над головами. Дышать было можно.
По границе поляны, почти в самом пламени, редкой цепью чернели люди в огнеупорных комбинезонах. Они держали на бедрах короткие и толстые противопожарные пушки с расширяющимся дулом. Время от времени пушки отрывисто бухали, и пламя в направлении выстрела разом опадало, рассыпаясь на багровые тлеющие угли. Выступали стволы, покрытые коростой сажи.
Недалеко от вертолета в непринужденных позах лежали на земле трое, одетые в костюмы усиленной защиты. Шлемы у них были отвинчены.
Подбежал человек в мундире с желтыми нашивками на плече. Начальник пожарной команды. Отдал честь. На закопченном лице его блестели одни глаза.
– Что? – спросил генерал.
– Возвратились, – сказал начальник пожарников. Четко повернулся на пол-оборота к лежащим.
Те медленно, словно нехотя, поднялись. Стало видно, что под ними все выгорело. До корней. И к пылающему лесу тянулись цепочки черных дымящихся следов.
Один из них, видимо командир, помотал головой:
– К Харламову скиту не пройти, товарищ генерал. Горит земля. И плавится. Невозможно. Защита не выдерживает.
У генерала между бровей легла глубокая складка. Тогда командир стащил с руки толстую перчатку, бросил. Перчатка, упав на землю, развалилась по шву. Трава под ней сразу же вспыхнула, торопливо побежали веселые желтые огоньки.
Майор осторожно потрогал перчатку носком сапога.
Здоровенная ель, проскрипев, легла на поляну, раскидав головешки. Буря искр пронеслась в воздухе. Ребята из группы захвата поспешно отряхивали себя и генерала. Мне стрельнуло угольком прямо в ладонь. Неожиданно и очень больно.
– Вам лучше вернуться в поселок, товарищ генерал, – сказал майор. Рукав его комбинезона слегка дымился.
Генерал посмотрел на него и вдруг рявкнул:
– Что там со связью? Почему вы мне не докладываете?!
У майора потемнели глаза. Он сказал очень официально:
– Только что отметились все десять групп, товарищ генерал. Результаты нулевые, товарищ генерал. Зырянов не обнаружен, товарищ генерал.
– Продолжать поиск!
– Нам его все равно не найти, – сказал я, дуя на обожженную руку. – Нам не обнаружить его, пока он сам этого не захочет.
Генерал повернул ко мне гневное лицо. Не находил слов. Раздувал ноздри.
Начальник пожарных тревожно оглядывался.
– Кончаются заряды, – сказал он.
Цепь людей в пламени медленно пятилась. То один, то другой бросал бесполезные пушки. В бреши жадно устремлялся огонь.
– Может быть, он погиб в скиту? – предположил майор.
Все посмотрели в ту сторону. Полнеба закрывали дымные мечущиеся языки.
– Вряд ли, – отчетливо сказал генерал.
Я подумал, что весь наш поиск бесполезен. Наверное, сейчас где-то уже далеко за границей области в обычном поезде едет маленький, тихий, похожий на подростка человек, шевелит безгубым ртом, круглыми, лягушечьими глазами провожает зеленые леса чужой ему планеты.
Завтра он сойдет на какой-нибудь крохотной станции и постучится в любой дом.
– По машинам! – сказал генерал.
Огонь подступал вплотную.
Чрезвычайная экспертиза
Комиссия состояла из четырех человек. Сам Астафьев, его заместитель Воронец, генерал, фамилию которого Астафьев не разобрал, и помощник генерала – полковник, подтянутый, в новом обмундировании.
Ехали на армейском вездеходе. Астафьев чувствовал себя неважно. Конечно, в других условиях он бы ни за что не согласился на подобный полет – возраст не тот и положение обязывает: если он нужен, пусть обеспечат нормальную поездку. Но просьба министра была очень убедительна. Собственно, это была даже не просьба, а приказ. И возражать здесь было неуместно.
На сборы дали всего час. И это ему – директору института, профессору, лауреату. Потом – черная «Волга», бешено промчавшаяся по городу, военный, непривычно пустынный аэродром, летчик, молодой, веселый, ухмыляющийся на просьбу лететь потише, и низкое серое небо над аэродромом, в которое гражданские самолеты не выпускаются.
И шестичасовой перелет, и заложенные уши, и бледное, напряженное лицо Воронца. А вечером, вернее, уже ночью – комната в офицерской гостинице одна на двоих. Астафьев уже много лет не делил комнаты еще с кем-нибудь: ему предоставляли отдельный номер.
И бессонная ночь. Воронец ворочается, посапывает, а он лежит в темноте и не может уснуть. И поднимается злость на Воронца, который сопит, на себя – зачем согласился, на неизвестного администратора, не подумавшего о том, что им надо где-то жить, и запихавшего его, Астафьева, в эту душную тесную комнату.
А потом рассвет – быстрый, яркий, с горячим солнцем, завтрак – Астафьев выпил только кофе, и вот они трясутся в вездеходе по степи.
Но что волновало серьезно – это погода. Уже сейчас, в восемь утра, пекло невыносимо. Кондиционеров здесь явно не предвидится. Правда, есть надежда, что закончат они быстро. Может быть, и делать ничего не придется – посмотрят и обратно. И вечером он будет дома, в Москве.
А жара все-таки ужасная.
Мотор звучал ровно, негромко. Колеса подминали траву. Она была по колено, источала одуряющий запах. За машиной оставались две колеи.
На небе, очень синем, не виднелось ни одного облачка. Воздух над степью дрожал, поднимался вверх. В невероятной высоте, раскинув крылья, выписывала медленные круги черная птица. Попадались какие-то приземистые цветы – горели красным среди травы.
Астафьев думал, что вся эта поездка, весь этот скоропалительный перелет напрасны. Скорее всего, пустяки. Что-нибудь напутали, не разобрались, и кончится все большим конфузом для военных. Наверное, Воронец это понимает. Вон какое у него недовольное лицо.
А Воронец думал, что совсем необязательно было посылать Астафьева: стар, давно не ведет самостоятельной работы. И вообще не тот человек – желчен, нетерпим, совершенно не понимает дипломатии: что думает, то и говорит. Из-за этого могут быть неприятности. На месте происшествия, конечно, ничего нет, и Астафьев, разумеется, выскажется перед этим спокойным генералом. И будет конфликт. Больших последствий он, видимо, не повлечет, они здесь всего лишь в качестве экспертов, но – мнение создастся. И мнение не только вокруг Астафьева, которому в конечном счете плевать на все мнения – он сидит прочно и выше не поднимется, – но создастся мнение вокруг него, Воронца. И вот это мнение будет рассеять очень трудно. Воронец думал, что сам он намного лучше справился бы с задачей. И это сыграло бы определенную роль. Надо, чтобы знали – есть такой человек, Воронец, – аккуратный, исполнительный, который всегда понимает, что от него требуют. Но вот поди ж ты – раз комиссия, да еще на таком уровне, то обязательно подавай имя, звание, заслуги. А какое у Воронца имя? В пределах своей специальности и то больше известен как администратор. И еще Воронец подумал, что надо будет очень тонко, осторожно отмежеваться от Астафьева. Чтобы те, кому следует, поняли: Астафьев – это одно, а он, Воронец, совсем другое.
Утром он уже намекал генералу, что не придерживается крайних точек зрения. Что понимает – все люди, у всех бывают ошибки. Он выразился мягче – недочеты. Но генерал сидел, как глухой, даже бровью не повел. Слишком уверен в себе. Подождем, на месте будет виднее.
А генерал действительно был уверен в себе. Из всех членов комиссии он один точно знал, что их ожидает, и теперь лишь прикидывал, как поступить, если вызванные эксперты подтвердят догадку. Наверное, придется писать чрезвычайный рапорт, давать объяснения и в штабе, и на самом верху. Но в любом случае он был уверен, что авиачасть действовала правильно. И если бы еще раз возникла подобная ситуация, то все повторилось бы точно так же. Неприятен был лишь предстоящий разговор с учеными, которые, конечно же, поднимут шум и, не разбираясь в специфике, начнут требовать того, другого, третьего, чего, разумеется, делать будет никак нельзя. А полковник не думал ни о чем. Он всю жизнь выполнял приказы. И никогда не сомневался в их правильности. Исход экспертизы его совершенно не волновал.
Всю дорогу они молчали. Только раз Астафьев спросил, есть ли поблизости населенные пункты, и генерал пожал плечами: мол, какое это имеет значение. А полковник, подождав, пока генеральские плечи опустятся, вежливо и тихо сказал:
– Совхоз «Красные зори» – шестьдесят километров.
И Астафьев понял, что полковник выполняет при генерале те же функции, что при нем Воронец, то есть все знает и может ответить на любой вопрос.
Прошло еще полчаса. Становилось все жарче. Воздух раскалился, обжигал горло. Астафьев уже хотел попросить остановиться – ломило в висках, сильно хотелось пить, – но тут полковник, поднявшись с сиденья, сказал:
– Вон лагерь.
Впереди, у самого горизонта, белели палатки и между ними высокий тонкий шест с флагом.
Машина прибавила скорость.
В километре от лагеря стояло оцепление. Шофер притормозил. Солдаты переминались с ноги на ногу. Лица их были коричневые от загара. Капитан средних лет аккуратно приложил руку к фуражке.
– Комендант лагеря. Ваши документы.
– Вам что, не сообщили о нашем прибытии? – спросил генерал.
– Виноват, товарищ генерал, – сказал капитан. – Имею приказ. Прошу предъявить документы.
Воронец нагнулся и прошептал Астафьеву в самое ухо:
– Бдительность. А ведь, кроме нас, сюда все равно никто не приедет.
Полковник сидел с равнодушным лицом. Автоматчики оцепления поглядывали на них с любопытством. Генерал пожал плечами и предъявил документы. Капитан брал залитые в пластмассу фотографии на твердом картоне и всматривался в лица. Воронец иронически улыбался. Наконец капитан сказал:
– Все в порядке. – Крикнул: – Пропустить! – встал на подножку.
Машина въехала за оцепление.
– Мы поставили вам две палатки, – сказал капитан. – Извините, оборудовать стационарное помещение не было времени.
Вездеход остановился. Впереди было еще одно оцепление, тоже из автоматчиков.
– Дальше пешком, – сказал капитан и чуть виновато добавил: – Входить во внутреннюю зону можно только со мной. Таков приказ, товарищ генерал.
– Понятно. Приехали, товарищи!
Все вылезли из машины. После двухчасового сидения Астафьеву было приятно размяться. Место ему нравилось – открытая ровная степь в сочной траве; зеленый ковер и синее небо.
Капитан о чем-то шепотом докладывал генералу. Воронец растирал затекшую ногу. Солдаты во втором оцеплении не таращились на приезжих, а смотрели безучастно, насквозь, словно не замечая.
Затем капитан пригласил следовать за ним. Прошагали метров триста, и он сказал:
– Вот.
Перед ними лежала груда искореженного, перекрученного, дымного металла. Ослепительно сверкало битое стекло. Чувствовался запах горелой пластмассы, вывороченные плитки с желтыми переплетающимися схемами обуглились.
Все это было сплющено, словно по механизму со страшной силой ударили тяжелым молотом.
Трава вокруг сгорела. Земля была в саже, местами спеклась в твердый полупрозрачный шлак.
– Взорвалось еще в воздухе, – сказал капитан. – Разброс обломков четыре километра. Но основная часть здесь. Крупные детали вчера убрали.
Генерал сдвинул брови.
– Нет-нет, никакой органики там не было. Техники все тщательно просмотрели.
– Ну и что это значит? – сердито спросил Астафьев. – Для чего нас сюда привезли?
Генерал сказал:
– Позавчера нашей… э… э… системой… был сбит неизвестный аппарат. Предполагалось, что это иностранный разведчик – аэросъемка, телетрансляция и так далее. На месте падения было обнаружено вот это.
Он кивнул капитану.
– Прошу. – Капитан подвел их к низкому походному столику. На столике, на круглом металлическом подносе, лежал разбитый, обгоревший череп.
– Это пилот, – объяснил генерал. – Вернее, все, что от него осталось.
Череп был расколот. Прилично сохранилась лишь лицевая часть и отдельно – вогнутая крышка, вероятно из затылка.
Астафьев брезгливо взял его в руки.
– Вот здесь, здесь, – возбужденно сказал Воронец, тыча пальцем. Но Астафьев уже видел сам. Над пустыми глазницами шли ясно выраженные костные валики, а на крышке черепа виднелись гребни. Но главное, выше глазниц, круглых, странно больших, находилась третья – в лобной кости, значительно меньших размеров, с неровными, будто обгрызенными краями.
Астафьев быстро перевернул череп. Следы борозд на внутренней части были хорошо заметны. Он никак не ожидал. Министр не сказал ничего определенного. Просто – чрезвычайная экспертиза. И генерал за завтраком уклонялся от ответа, лишь намекал на что-то необычайное.
– Мозг, мозг! – воскликнул Астафьев.
Генерал сказал:
– Внутри все выгорело, вывалилось и, видимо, тоже сгорело. Что-то там собрали, сейчас в формалине.
Астафьев осторожно, кончиками пальцев провел по третьей глазнице. Края были упругими. Воронец значительно посмотрел на него.
– Собственно, потому мы вас и пригласили, – сказал генерал. – Странный какой-то пилот. И эта дыра – пробило во время взрыва?
– Это не дыра, – медленно сказал Астафьев.
Воронец тут же нагнулся, пощупал края.
– Это третий глаз – лобный.
Генерал озадаченно посмотрел на него. Полковник подошел ближе.
– Та же самая форма, – пояснил Астафьев. – Края кости гладкие, ровные. Сохранились кожные наросты, они, видимо, прикрывали яблоко.
– И кто же это, по-вашему? – шепотом спросил полковник.
– Вообще-то есть животные с тремя глазами, – сказал Астафьев.
– Гаттерия, – добавил Воронец.
– Да, гаттерия…
– Гат… как? – спросил генерал.
– Гаттерия. Класс пресмыкающихся, отряд клювоголовых. Всего один вид – гаттерия. Это, пожалуй, единственный сохранившийся до нашего времени родственник динозавров.
– И у нее три глаза? – спросил генерал.
– И она… динозавр? – одновременно с ним спросил полковник.
– Конечно, это не динозавр, – сказал Астафьев. – Она всего около метра длиной. Похожа на крупную ящерицу. Но у нее действительно три глаза, третий на темени, прикрыт кожной пленкой.
– И видит?
– Нет, только светоразличение. Предметов не воспринимает. Ощущает лишь интенсивность и, возможно, направленность света. Видите ли, у рептилий температура тела не постоянная. Она колеблется в зависимости от температуры воздуха. И вот с помощью такого третьего глаза гаттерия может ориентироваться по отношению к солнечным лучам, то есть в какой-то мере регулировать температуру своего тела.
Он чувствовал, что говорит излишне подробно, но надо было привыкнуть к тому, что лежало перед ним на низком походном столике.
– Значит, гаттерия, – задумчиво сказал генерал.
Астафьев указал на череп:
– Нет, к этому гаттерия не имеет никакого отношения.
Генерал поднял бровь:
– Череп принадлежит млекопитающему. Это несомненно.
– Позвольте, – сказал генерал, – но третий глаз…
– Повторяю: млекопитающему, – громче сказал Астафьев. – Череп принадлежит двуногому прямостоящему и прямоходящему примату.
– Но это… человек, – подал голос полковник.
– Я сказал: примату!
Воронец быстро и очень вежливо пояснил:
– Профессор имеет в виду отряд приматов. В этот отряд входит не только человек, но и обезьяны.
– Ах, обезьяны, – сказал генерал. Достал платок и вытер лицо. – Обезьяны – тогда все понятно. Дрессировка там и так далее…
– Да не бывает обезьян с тремя глазами! – крикнул Астафьев.
Полковник вздрогнул и вытянулся, как при команде. У генерала рука с платком застыла на полпути к карману. Капитан, стоя чуть позади, слушал серьезно.
– Александр Георгиевич, – осторожно сказал Воронец. – Позвольте мне объяснить товарищам…
Астафьев сдержался. Ему всегда было трудно говорить, когда не понимали, казалось бы, очевидных вещей.
Воронец с достоинством откашлялся.
– Профессор имел в виду то, что по ряду неоспоримых признаков: размер и форма черепной коробки, расположение глазниц, носовых костей и других, я не буду вдаваться в специальные детали, – по этим признакам череп, несомненно, принадлежит животному из отряда приматов, а возможно, и человеку.
Он обернулся к Астафьеву. Тот кивнул.
– Человек с тремя глазами, – сердито сказал генерал.
– Но наличие третьего глаза, – терпеливо сказал Воронец, – не позволяет отнести его именно к этой группе.
– Вот теперь ничего не понимаю, – сказал генерал и спросил полковника: – А вы?
– Тут нечего понимать, – резко сказал Астафьев. Воронец предостерегающе поднял руку. – Оставьте, Анатолий! – продолжил спокойнее. – Мой помощник выразился осторожно. Я могу сказать прямо. Этот череп принадлежит гуманоиду, но не человеку.
– Как? – спросил полковник.
– Это – не земной человек, – внятно сказал Астафьев.
– Вот оно что, – протянул генерал. Он, казалось, был удовлетворен.
– Конечно, для такого заключения нужна более представительная комиссия. Но я уверен, она придет к тем же выводам.
– Вы уверены твердо? – спросил генерал.
– Абсолютно, – несколько вызывающе сказал Астафьев.
– Профессор немного заостряет, – тактично вмешался Воронец. – Действительно, некоторые признаки указывают… но…
– Абсолютно, – повторил Астафьев.
Воронец умолк, выразив лицом сожаление.
Генерал повернулся к капитану, который пока не произнес ни слова:
– Я полагаю, что сейчас самое время пообедать. Где-нибудь в тени.
– Все готово, товарищ генерал.
– Как обедать? – изумился Астафьев.
Генерал пожал плечами:
– Вы осмотрели череп, мы выслушали заключение.
– Похоже, вы и сами все знали, – остывая, сказал Астафьев.
– В какой-то мере… – Генерал прищурился. – Но требовалось подкрепить мнением специалистов.
Астафьев вдруг почувствовал, какая стоит жара.
– Возражений против обеда нет? – спросил генерал.
Обедали под тентом, в душной тени, ели ледяной свекольник, заливное мясо, пили молоко. У Астафьева аппетита не было. Он не понимал ни этого обеда, ни вялой безразличной тишины. Как будто ничего не случилось. Как будто только что не произошло событие, о котором должны кричать все газеты мира. Он полагал, что после его заключения посыплются вопросы, поднимется тревога, полетят телеграммы, – и вдруг обед: свекольник, мясо, молоко. Словно каждый день на Землю прилетают жители других миров. Наконец он не выдержал и отложил вилку:
– Не понимаю вас.
– Вы это о чем? – миролюбиво спросил генерал.
Астафьев кивнул туда, где в полукилометре виднелась цепь солдат.
– А… – сказал генерал и продолжил есть.
– Совершенно ясно, что это не земной человек! – (Генерал кивнул.) – Установлен факт огромного научного и общественного значения, – немного вспыльчиво сказал Астафьев.
Воронец опустил глаза, подчеркивая, что он тут ни при чем, что, будь его воля, все прошло бы тихо и спокойно. Так, как скажут.
– Я ведь понимаю, о чем вы думаете, – сказал генерал. – Мол, сидит такой солдафон. Ать-два левой! Не знает ничего, кроме уставов. Мозги у него деревянные. Даже не представляет, что он открыл. Одно умеет – подать команду голосом.
Он усмехнулся добродушно.
– Нет, я совсем не о том, – смущенно забормотал Астафьев. – Вы совершенно напрасно, у меня и в мыслях не было…
– Профессор намеревался сказать совсем не это, – предупредительно пояснил Воронец. – Он лишь хотел привлечь ваше внимание, так сказать, к масштабу события…
Генерал неожиданно посмотрел на Воронца как на провинившегося рядового. Тот даже выпрямился, будто по стойке смирно, невразумительно пробормотал еще что-то и замолк.
– Я могу принести извинения, если в моих словах… – нерешительно начал Астафьев.
– При чем тут извинения, профессор. – Генерал тоже отложил вилку, посмотрел ему в лицо темными глазами, подумал и сказал медленно: – Два месяца назад, примерно в мае, американцы передали, что их противовоздушной обороной в пустыне одного южного штата был сбит советский разведывательный аппарат. Возможно, вы видели опровержение в газетах. – Астафьев покачал головой: не видел. – Как вы знаете, если есть хоть малейший повод, то сразу же поднимается невероятный шум в зарубежной прессе. Советская военная угроза и так далее. – Он помолчал. В траве трещали сотни кузнечиков. Воронец застыл с булкой в руке. – Так вот. Никакого шума не было. Вернее, он начинался, и вдруг замолчали радио, газеты, как по команде.
– Представитель госдепартамента выступил с опровержением, – сказал полковник.
– Да. Даже опровержение было. Хотя в других, гораздо более сомнительных, случаях опровержения не последовало.
Астафьев спросил напряженно:
– Вы думаете?..
– Никаких разведывательных аппаратов мы туда не посылали, – сказал генерал.
Опять наступило молчание.
– Но это… это… – сказал Воронец.
Генерал спокойно ответил:
– Это значит, что мы имеем дело уже со второй попыткой.
– Минутку, минутку, – сказал Астафьев. – И в первый раз тоже, значит, сбили. И во второй?
– Видимо.
– Неужели нельзя было договориться, подать сигнал! – фальцетом закричал Астафьев. Полковник, который до этого внимательно ел, уронил вилку. – Это же вам не маневры. Не игра в солдатики! Вы понимаете, что вы наделали?
Генерал подождал, пока он замолчит, и ответил еще спокойнее:
– Договориться мы пытаемся уже много лет. Не наша вина, если до сих пор нет почти никаких результатов. Что же касается данной ситуации, то здесь все предельно ясно. Пеленгаторы засекли неизвестный объект в воздухе. Двигался он со стороны границы вглубь страны. Скорость ниже ракетной. На запросы не отвечал. На приказ садиться не отреагировал – лез прямо сюда. Ну, а там дальше… – Он мотнул головой назад. – В общем, допустить его туда мы не могли.
– И конечно, первым делом – стрелять!
– Вы полагаете, мы каждый день ждем звездолеты или как их там называют, – холодно ответил генерал.
– Но надо было еще посигналить… дать ракету… ну что там у вас… – беспомощно сказал Астафьев.
Генерал мгновенно улыбнулся, видимо, предложение показалось ему глупым, – он ответил терпеливо, как школьнику:
– Существует инструкция, профессор. Приказ. Понимаете – приказ.
– Летчики действовали правильно, – сказал полковник.
– Но вы хоть внимательно все осмотрели? Вдруг что-нибудь осталось, кто-то спасся?
Генерал вздохнул:
– Профессор. Здесь – армия. Все уже осмотрено и с вертолетов, и поисковыми группами. Вы поймите: попадание ракетой «воздух – воздух». Он падал одиннадцать километров. И все это время горел. Спецкоманда прибыла к месту падения только через два часа. И эти два часа он тоже горел. А возможно, и взрывался. Это еще не установлено. И еще час его тушили, а он все равно горел – под ним земля сплавилась. Удивительно, что вообще что-то сохранилось.
– А у американцев? Может быть, им удалось…
– Не думаю, – сказал генерал. – Техника у них примерно такая же, значит, и результаты будут аналогичные. Вряд ли. Мы еще ждали, пока он снизится.
– Александр Георгиевич, – сказал Воронец. – А ведь нет полной уверенности. Вы вспомните – надглазничные валики, продольный гребень… Правда, висцеральный череп отсутствует, но лобный отдел невысокий…
Генерал спросил очень жестко:
– Что это значит?
– Это значит, – ответил Астафьев, – что мой помощник дает вам возможность погасить всю историю. Так сказать, с честью выйти из неприятной ситуации.
– Александр Георгиевич! – обиженно сказал Воронец.
– Признаки, которые он перечислил, характерны для обезьян, обезьянолюдей, для ископаемого человека. Что ж, это прекрасный выход. Напишите – обезьяна, и дело с концом. Потом возразить будет трудно.
Воронец откинулся на спинку походного стула. На лице его было выражение незаслуженной обиды.
– Понятно, – сказал генерал. – С обедом все?
Ему никто не ответил.
– Профессор, вы еще будете осматривать череп?
– Необходимо сделать подробное описание. Ведь вы нам его не отдадите? Нет? Тогда тщательное описание: внешний вид, размеры, анатомия, до мельчайших деталей…
– Это потом, – сказал генерал. – Описание потом. Сейчас требуется только заключение. Ясное и однозначное. Вы можете это сделать?
– Да.
– Тогда прошу всех в машину. Возвращаемся в поселок.
Полковник тотчас поднялся. Неизвестно откуда, из пустоты, возник капитан, замер, глядя на генерала.
– Машину!
Капитан крикнул в даль, в солнце:
– Машину!
Заурчал мотор.
Астафьев пошел вперед. Генерал взял его под руку:
– Завтра начнется разборка остатков. Если обнаружится еще что-то, вас немедленно известят.
– Жаль. Как все-таки жаль, – сказал Астафьев.
– И потом, профессор… Сообщений в газетах, вероятно, не будет. Если мы сообщим, то придется допустить к аппарату зарубежных специалистов, в том числе американцев. А они этого не сделали.
– Нелепо. Все нелепо, – сказал Астафьев.
Полковник и Воронец шли сзади. Полковник внимательно смотрел под ноги.
– Что теперь будет, – вздохнул Воронец как бы про себя.
Полковник несколько помолчал, а потом сказал:
– Ничего не будет.
– Совсем ничего? – спросил Воронец.
– Совсем.
Глаза их встретились. Воронец приятно улыбнулся:
– Я понял вас – правильно.
Потом они долго ехали обратно. Солнце поднялось в зенит и стояло, как приклеенное. Медленный густой, знойный ветер лизал траву. Трава пошла волнами.
Всю дорогу молчали. Только когда вездеход остановился перед казармами, Астафьев, вылезая, негромко спросил генерала:
– Как вы думаете, они еще прилетят?
Генерал лишь прищурился, а полковник, обернувшись с переднего сиденья, ответил:
– Я бы на их месте не рискнул.
Дверь с той стороны
1
Поиск реципиента. Глубокий зондаж. Стабилизация канала связи. Фокус акцепции. Передача сигнала.
Когда выступает Серафима, можно отдыхать. Мазин так и сделал. Толкнул переднего: «Подвинься». Нырнул за его спину, положил щеку на ладонь.
Было хорошо. Спокойно. Серафима, забыв о времени, журчала на одной ноте. Кивала гладкой седой головой. Безобидная старушенция. Выступает на каждом собрании и с серьезным лицом уверяет всех, что опаздывать на работу нельзя.
В комнате, куда набились со своими стульями, сидели очень тесно. В некотором обалдении.
Звенела муха в верхних рамах, и от звона было скучно. В передних рядах таращили глаза, сглатывали зевоту.
Мазин получил отличное место – между двумя кульманами, у открытого окна. Поднятые доски заслоняли надежно. В окно летел пух. Это был первый этаж. Проходили люди, натыкались взглядом на разморенные физиономии – с испугом прибавляли шаг. На другой стороне, за деревьями, уныло переплетались огороженные решеткой, засыпанные коричневым шлаком железнодорожные пути. Каждые пять минут, со стоном уминая воздух, проносилась электричка.
Серафима вытирала губы платком, поправляла эмалевую брошь, стянувшую платье. Чувствовалось, что это надолго. Мазину передали записку: «Не храпи, мешаешь думать!» Ольга, видимая в проходе, показала, как он спит: сложив руки и высунув язык.
Обернулся Егоров, спросил:
– Видел еще что-нибудь?
– Нет, – сказал Мазин.
Врать в духоте и оцепенении было легко.
– Я пришел к выводу, что Они транслируют некоторую обойму информации, – не двигая губами, сказал Егоров. – Последовательно знакомят с различными аспектами их жизни.
– Эпизоды повторяются, – лениво сказал Мазин, также не двигая губами.
– Повторяются? Да? Я этого не продумал. Вероятно, Они дублируют наиболее важные сообщения.
– Я четыре раза видел «Поле с урнами». В ушах стоит это чавканье.
– Поле? – Егоров был озадачен. – Ну… нам пока трудно судить, что Они хотят сказать этим… А на кого был похож зверь?
– На крокодила. Только с крыльями.
– Алексей, – строго сказал Егоров. – Ты обязан подробно записывать каждую передачу.
– Бред!
На них оглянулись. Мазин сделал такое лицо, будто ничего не говорил. Не хватало только, чтобы Серафима приняла восклицание на свой счет.
– А может быть, твой крокодил – это и есть Они? – не оборачиваясь, в ладонь прошипел Егоров.
– Отстань, – сказал ему Мазин.
Откуда-то из-за разбегающихся путей поползли многоярусные тучи с черной изнанкой. Закрыли небо. Сразу потемнело. Кто-то зажег худосочный электрический свет. В комнате зашевелились. Серафима журчала. На лицах было покорное отчаяние.
Налетел ветер. Потащил скомканную газету. Столб листьев и соломинок, закрутившись над люком, поднялся выше окна. Как прибой, зашумели полновесные тополя.
Две школьницы, в хрупких бантах, в праздничных белых фартуках, с опаской посмотрели на небо и припустили через улицу, держа портфели на голове.
Упали первые крупные капли – щелчками. Заколотили серые точки в пыльный асфальт.
Чесануло дробью – хлынуло, загрохотало, охапками сбивая с деревьев широкие зеленые листья.
Мазин, высунувшись, потянул рамы на себя. В лицо ударило водой. Синяя ветвистая молния располосовала небо. Где-то далеко, на окраине города, обвалилось – тяжело и долго.
Поднявшиеся садились, кряхтя, будто на гвозди. Кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Мазин смотрел поверх голов. Потолок был нечистый, в трещинах. Мел осыпался. Лампа в скучном пластмассовом абажуре надрывалась – одна на всю комнату. За окном была темь, полная дождя. Шипело в водосточных трубах. По пузырящейся мостовой бежали мокрые люди.
Рядом с лампой появилась крохотная белая искра. Горела отчетливо. Мазин сморгнул. Искра осталась. Словно в потолке была дырочка и сверху в нее направили прожектор.
Он закрыл глаза. Искра светила под веками. Как маяк. Мазин понял, что это.
– Ты совсем заснул, – прошептали спереди.
– Знак, – сказал Мазин, не открывая глаз.
– Что?
– Знак. Звезда на потолке. Слева от лампы.
– Ничего там нет, – сказал Егоров.
Мазин поднял веки. Искра горела – тихая, пронзительная. Вокруг нее, как при большом напряжении глаз, расползалась серая дрожащая дымка, заслоняя собою лица, ряды, кульманы и шлепающую губами Серафиму.
2
Устойчивый Контакт. Синхронизация изображений. Передача первичного понятийного ряда.
Сначала это были невнятные, как бы моментальные, зарисовки, словно киноленту разрезали на мелкие куски, а потом склеили как попало. Кадры прыгали и наслаивались. Иногда картина была заштрихована вертикальными царапинами или пульсировала, расплываясь в нерезком тумане.
Первый связный сон был таким.
…Болото. Коричневая вода подернута радужной бензиновой пленкой. Из нее высовываются гнилые кочки в черной траве. Обгорелыми спичками вразнобой торчат редкие чахлые сосенки. Мазин бредет, выдирая ноги из чавкающей жижи. Идти трудно. Засасывает. В глубине, под пружинящим дерном, зыбкая и бездонная пустота. Жарко. Воздух едок и густ. Соленый пот щиплет глаза. Автомат с массивными магнитными кольцами на коротком дуле оттягивает плечо. Пахнет машинным маслом, соляркой. Вместо неба над головой висит тяжелый мазутный дым. Плавает в нем бледный круг солнца. Мазин хватается за стволы бородавчатых сосенок, отдергивает руку: стволы железные и горячие, словно трубы парового отопления. Иглы на них металлические, с вороным отливом. Он трогает пружинистую кочку – трава тоже железная, горячая. Под ржавыми, скрежещущими листьями брусники гроздьями висят никелированные ягоды. От коричневой воды поднимается пар. С чмоканьем лопаются громадные пузыри, разбрасывая жирную нефть. На высокой кочке, поджав одну ногу, стоит тощая цапля, покрытая медными тусклыми перьями. На лысой голове ее – проволочная щетина. Цапля вытаскивает ногу из гремящих перьев, чешет голову – будто ножовкой пилят железо. Распахивает красные в белых пленках глаза. Это очень опасно. Смертельно опасно. Сердце сдавливают твердыми пальцами. Мазин выводит автомат из-за спины, остановившись, сразу уходит по колено в вонючую воду. Цапля приоткрывает длинный клюв и шипит, как змея. Зубы в клюве шевелятся. Стремительно выкатывается тонкий, раздвоенный на конце язык. Мазин стреляет дважды. Лиловая вспышка. Клочья мазута. Коричневый пар со свистом уносится вверх. На том месте, где стояла цапля, – ровная твердая площадка. Словно на болото положили асфальтовый лепесток. Края площадки похрустывают, остывая. На них, выцарапывая искры, карабкается цапля. Перья ее вишневые от термического удара. Цапля стряхивает брызги горящей нефти и, взъерошенная, шипящая, растопырив облезлые крылья, бежит к Мазину, разевая клюв. Злобой горят рубиновые глаза. Мазин опять стреляет дважды…
Но чаще возникала другая картина.
Бескрайняя равнина, поросшая короткой шелковистой пепельной травой. В траве ровными рядами, как ульи, стоят невысокие серые ящики с плоскими крышками. Мазин назвал их урнами. Урны тянутся до самого горизонта. Это напоминает кладбище. Вереницы аккуратных надгробий. Сумерки. Небо темно-синее, но видно хорошо: воздух прозрачен и тих. От ящика к ящику неуклюже ползет животное, похожее на крокодила: длинная бугристая морда с выступающими глазами, зеленая чешуя, гребенчатый стучащий о землю хвост. Желтое брюхо волочится по земле. На спине у крокодила перепончатые крылья алого цвета. Он с треском, как голубь, бьет ими. Он какой-то ненастоящий: глаза у него голубые. Крокодил подползает к урне, шаркая мордой, не сразу откидывает крышку. Волна кисловатого запаха обдает Мазина. Внутри находится оранжевая студенистая масса, напоминающая слипшуюся икру. Крокодил выковыривает эту массу. Она, как тесто, шлепается в траву. Уминает лапами – икринки лопаются, шурша, словно пузыри в лимонаде. Он отрывает кусок, жует, жмуря от сладости фарфоровые глаза, чавкает громко, на всю равнину, слюна длинными каплями падает с челюстей. Кисловатый запах усиливается. В нем есть что-то притягательное. Бесконечные ряды урн светятся в темноте деревянными щеками. Покончив с одной, крокодил захлопывает крышку и, продолжая жевать пустым ртом, ползет к следующей. Так – час за часом, всю ночь: темное выстывшее небо, уходящая за горизонт равнина, пепельная трава, неторопливое движение чешуйчатого тела, смачное чавканье, трескотня алых перепончатых крыльев.
Иногда Мазин летал среди блестящих алюминиевых облаков, которые на его глазах набухали и проливались, но не дождем, а серебряными монетами, или брел по улицам пустого, очень светлого города. Мостовая была стеклянная, стоэтажные дома были стеклянные, каждая улица выводила на площадь, и на каждой площади стояла стеклянная же, налитая светом ветряная мельница, вращалась, позвякивая привязанными колокольчиками, и солнце вспыхивало на прозрачных лопастях.
После таких снов Мазин просыпался в поту. Пугала реальность увиденного. Он еще несколько секунд чувствовал на плече тяжесть автомата, втягивал ноздрями едкую вонь кипящего мазута или слышал унылое мокрое шуршание раздавленной толстыми лапами икры.
Сны были не его. Чужие. Он не мог их видеть. И все-таки он видел их каждую ночь.
3
Устойчивый Контакт. Передача первичного понятийного ряда. Расширение зоны Контакта за счет новых реципиентов.
Говорит Серафима. Не любят. Чувствую, знаю, улавливаю в неприязненных голосах. Не любят. Шеф, возвращая отчет, косится в сторону. «Надо переделывать. Согласно последней рубрикации. Вы не вполне учли». Ему стыдно. Он краснеет и злится на самого себя. Потому что ничего переделывать не надо. Согласно рубрикации. Все давно учтено. Не любят. Звонит Караслава: «Больше не приходи ко мне, никогда тебе не прощу». Что, почему, зачем – бесполезно выяснять, короткие гудки в трубке. Не любят. Бородатые институтские мальчики хихикают: Серафима совсем рехнулась, стоит посреди коридора и насвистывает гвардейские марши. Это не свист, это плач. Откуда наползает чужая мрачная тень? Не любят. Мать шевелит из угла синими беспомощными губами. Как пощечина. Нельзя подать стакан воды: не возьмет. Будет мучиться, а не возьмет. Придет дочь с работы – тогда. Дочь. Вздернутые брови, изумленные глаза, нарочито бестолковые жесты. Полное и абсолютное отчуждение. Будто впервые видит. Не могла умыть старуху. А старуха не хочет. Вся дрожит, если подойдешь к ней. Взгляд мутный от страха. Отравили. Запрешься у себя в комнате и сидишь, слушая, как вытекает время из будильника. Словно пленка легла на мир. Никогда такого не было. Не любят. Накапливалось незаметно, по крупице, день за днем, бесшумно, как седеют волосы: однажды посмотришь в зеркало, а голова уже белая. Или это возраст? Причуды старости? Молчит телефон. Кривятся знакомые. В автобусе отодвигаются, словно вся перепачкана мазутом. Одиночество. Другое измерение. Будто уже не человек. Иногда тонкие, далекие, невнятные голоса. Странным холодом веет от них. Что-то объясняют, а не разобрать. Что-то очень важное, мучительно-знакомое. Галлюцинации? Бьешься, как муха, в невидимой паутине и только хуже запутываешься. А посредине липких теней притаился кто-то – бледный, невыспавшийся, помятый, равнодушный, непричесанный, с оттопыренными ушами. Он сутулится за своим столом и чертит, выставив худые локти, – даже не обернется, ни звука не издаст, но хрупкие настороженные нити протянулись именно от него и с каждым днем все крепче. Ерунда какая-то. Мистика. А вот не ерунда. Так, наверное, дикие племена ощущали приближение чудовищного бога с песьей головой и человеческим телом. Леденеют суставы на пальцах. Перехватывает горло. Чужая гипнотизирующая воля проникает в сознание. И начинаешь смотреть как бы со стороны, издалека и другими глазами. Мать – капризная старуха, вздорная пустая склочная умирающая женщина, дочь – глупая и злая курица, думающая только о себе, муж ее – самодовольный болван, шеф идиот, а мальчики с козлиными бородками – ранние циники, карьеристы, собиратели дешевых сплетен, у которых ничего нет за душой. Даже страшно становится: ведь не так же на самом деле, ведь абсурдно и не может быть, ведь неправда все это…
Говорит Егоров. Прежде всего, Академия наук. Там есть Паша Молчакин, обратиться к нему, он подскажет. Нужны специалисты. Нужны математики, нужны лингвисты, нужны этологи, которые смогут грамотно расшифровать сообщение. Наверняка уже существует комиссия по Контакту. Хватит самодеятельности. Можно упустить единственный шанс и безнадежно погубить всякую возможность понимания. Это не для дилетантов… Во-вторых. Он никуда не пойдет. Он просто боится. У него нет сердцевины, внутреннего волевого стержня, который заставляет идти наперекор всему и наперекор всему побеждать. Он как петух, отыскавший жемчужину. Случайность. Удар молнии. Дуракам везет. Только потому, что среди миллиардов нервных волокон в мозгу именно у него несколько штук сцеплены чуть-чуть иначе. Только потому, что нет внутреннего сопротивления. Только потому, что он никто – мягкая глина, пустышка, чистая доска, на которой можно писать все что угодно. Сочетание маловероятных факторов. Только поэтому. Даже нельзя взять за руку и отвести силой. «Здрасте, вот это чучело, которое мямлит и запинается, видит необычные сны». Ну и видьте себе на здоровье. Кто вам запрещает и при чем тут Академия наук? Нет никаких доказательств… И в-третьих. Главное. Будто чужой человек поселился под кожей. Будто слабый и почти неощутимый, но уже тянет к себе, настойчиво убеждает, нашептывает. Это не диалог. Диалог допустим лишь при абсолютном равноправии сторон. Хотя бы опорные элементы культуры должны быть едины, без этого невозможно доверие. Если же идет тайное просачивание на Землю, целенаправленная диффузия культуры, то ни о каком доверии не может быть и речи. Это не диалог. Это нечто иное. Лучше уж вообще отказаться от Контакта. Вплоть до крайних мер. Может быть, устранить саму материальную основу межзвездной связи – те несколько нейронов, которые сцеплены чуть-чуть иначе. Ужасно будет, если придется сделать это. Но чаши весов ощутимо неравновесны: на одной стороне – он, а на другой – все остальное человечество.
Говорит Ольга. У Геры, кажется, кто-то есть. Точно, разумеется, ничего не известно, не настолько он глуп, чтобы болтать, но определенно кто-то есть: он не боится поссориться. И вот эта невысказанная, но отчетливо угадываемая готовность расстаться – лучше всяких доказательств. Значит, здесь что же? Значит, здесь все. Пустой номер. Не бегать же за ним, как кошка. Дает обратный эффект. Уже есть опыт. Боже мой, сколько опыта! Лучше всего видеться как можно реже. Но не ссориться. Ни в коем случае не ссориться. Нет ничего противнее скандальных женщин. И не оставлять у себя. Только в исключительных случаях. Пусть добивается. Ценишь ведь только то, чего добиваешься. Но если Гера действительно отпадает, тогда это серьезно. Тогда вокруг холод и пустота. Тогда отпадает вся милая семейка: и Надин, и Валька, и Сержик, и придурковатый Аверьян. Потому что это его компания. Если они почувствуют, то больше – никаких приглашений, никаких сборищ, никаких лодок, никаких загородных увеселений. Через год они будут вспоминать, что была такая Олечка, которая без ума от нашего Геры. И будут заговорщически подмигивать. А Гера будет делать непроницаемое лицо и косить глаза на очередную подругу. Вот что противно: будут искренне думать, что без ума. А тут просто: пугающая безнадежность, двадцать восемь лет, и никого нет рядом. Ведь нет же никого. Свободные одни придурки. А как не хочется придурка. Боже мой, как не хочется, до смертной тоски. Люди, где вы? Если Гера отпадает, тогда остается только он. Он, он и он. В единственном числе. Тянется уже три года – вяло и без перемен. Тоже придурок. Но – свой, ласковый, домашний придурок. Как ручной хомяк. Когда улыбаешься ему – не часто, – то он на седьмом небе от радости. Прямо слюни пускает. Он, конечно, будет носить на руках и сдувать пылинки. Но ведь – придурок. Будто из творога сделанный. Сны какие-то дурацкие видит. А вдруг он со сдвигом? Эти тихие – с ними не угадаешь. Можно серьезно вляпаться. Вообще, странная ситуация: не люблю, не нравится, даже легкое отвращение к нему, а все равно притягивает. Какая-то душная черная сила. Особенно последние дни. Почему-то все время должна его видеть. Непонятно почему. Должна, и все. Если не увижу, хотя бы случайно, потом хожу как больная. При том, что абсолютно не хочу. Неприятнейшее ощущение. Словно не сама решаешь, как жить, а кто-то за тебя. Словно гипноз. Словно висишь на пальцах у кукольника, и прозрачные нити, уходящие вверх, властно дергают тело, заставляя двигаться в нужном направлении. Ужасно неприятно. Идешь как во сне, и колдовское облако окутывает голову.
4
Расширение зоны Контакта. Неустойчивый Контакт с основным реципиентом. Смена донорской группы.
Навалилась летняя жара. Ртуть ушла за двадцать. Тени не было. Асфальт размяк. Кирпичные стены испускали обжигающие волны. Трескалось стекло. Город словно прожаривался на каменной сковородке. Загустевала медленная вода в каналах. Небо стало фиолетовым. Изнемогающие тополя выбрасывали охапки белого призрачного пуха, он лежал на карнизах, плыл по воде, невесомыми шарами парил над раскаленной мостовой.
Мазин боялся, что сойдет с ума. Голова болела и распухала. Он не читал мысли, это было невозможно, но он каким-то образом мгновенно понимал, чего хочет каждый, и это понимание облекалось в форму непрерывного монолога, звучащего прямо в мозгу. Избавиться от него было нельзя. Точно кто-то невидимый мерно, безостановочно, не сбиваясь ни на секунду, страницу за страницей читал ему чужие души, и некуда было укрыться от тихого проникающего голоса.
Мир рушился. Не было ни одного человека. Ветер с песком ударил в лицо. Он не мог видеть скрупулезно аккуратную Серафиму: под редкой сединой, под белой мраморной кожей старческого черепа расплывалось отчаяние. Подходила Ольга. Вспыхивали серые глаза. Кончик языка краснел между сахарными зубами. Мазин отворачивался, стискивал пальцами виски. Голос в мозгу звучал непрерывно. Строгий и внимательный взгляд Егорова преследовал его. Требовательные зрачки напоминали о долге перед человечеством.
Сидеть на работе стало невыносимо. Мазин уходил с утра – ему было наплевать, что подумают, – часами шатался по горячим улицам, наматывая пыльные километры, глотал сухой, обдирающий горло мутный воздух, чтобы невероятным зноем и духотой оглушить лихорадочный мозг.
Ему некуда было идти. Не с кем говорить. Пух, как сон, затопил город. Подошвы прилипали к асфальту. Деревья в агонии трубочками свернули вялые листья. Пахло бензином. Раздутые автобусы выбрасывали синие клубы.
Искра продолжала гореть. Мазин видел ее все время. Даже рядом с блистающим солнцем. Даже под зажмуренными веками. Даже затылком. Он мог ночью сквозь всю толщу Земли сказать, где она. В библиотеке он достал атлас звездного неба и, пользуясь еще школьными знаниями по астрономии, попытался определить ее. Кажется, это был Денеб, альфа Лебедя: светимость в пятьдесят одну тысячу раз больше, чем у Солнца, расстояние от Солнца – пятьсот парсеков.
Он больше не сомневался. Это был не бред. Сны приходили каждую ночь яркие и пугающие. Он не понимал их. В человеческом мире не было подходящего адеквата. Сознание, как калейдоскоп, лепило случайную картину. Она могла не соответствовать. Его звали. Его спрашивали на неизвестном языке. От него ждали ответа. Он не знал: какого? Тонкая ниточка протянулась к Земле из громадной пустоты. Конец ее был в руках Мазина. Мгновенное понимание других, которое заставляло его избегать людей, тоже было знаком.
От него требовали. И требование это с каждым днем становилось все настойчивее.
Ему было страшно. В черной и тихой глубине Пространства, в невообразимой дали его, только для него одного непонятно зачем горела чужая звезда.
Мазин поднимал к ней лицо и, щурясь в жидком солнце, сухими губами говорил: «Не хочу…»
Голос был слабый и неуверенный.
5
Неустойчивый Контакт. Усиление сигнала. Развертка элементарной семантики.
Это был железнодорожный тупик. Точнее, не тупик, просто рельсы здесь упирались в земляной бугор и поросли травой. Она пробивалась сквозь песок, засосавший черные шпалы.
Трава была светло-серого цвета в белых прожилках. Цвета пепла.
Мазин оглянулся.
Справа, вплотную к рельсам, тянулся старый накренившийся забор с выломанными досками, за ним находился пустырь; слева, через несколько блестящих действующих путей, желтело продолговатое здание паровозного депо. Оттуда неслись тревожные гудки и лязг сдвинувшихся колес.
Он наклонился. Трава была шелковистая и такая холодная, словно изо льда. На шпалах пузырями выступала смола. Песок был в угольной крошке. Мазин сглотнул, чувствуя во рту вкус шлака. Он ожидал чего-то подобного. С ходу зачастило сердце. Сзади возник и мгновенно вырос до неба громыхающий железный стук. Оглушительно свистя, между ним и депо пронеслась электричка. Окна ее слились в одну огненную черту.
Трава охватывала бугор, куда упирались рельсы. На деревянных ногах Мазин прошел за него и остановился. Вытащил из сбившегося кармана мятый платок. Вытер лоб. Платок сразу стал мокрый. За бугром вся земля поросла пепельной травой. Рельсы сияли в ней стальными ручьями. А между ними вереницами на одинаковом расстоянии друг от друга стояли приземистые деревянные урны с плоскими крышками. Будто ульи. Или надгробия. Это было похоже на кладбище. Мазин уронил платок. Трава сразу же пронизала его серыми остриями, зашевелилась, растягивая, обрывки ткани секунду белели и растаяли. Лишь стебли на этом месте стали гуще – пучком.
Мазин кашлянул. Будто подавился. Хотелось бежать отсюда сломя голову, кричать и размахивать руками. С грохотом в каком-то метре от него пролетела еще одна электричка. Стук ударил в уши. Пахнуло горячим ветром. Шелковая трава пошла волнами, и в ней, в ледяных корнях ее, родился густой и низкий звук. Словно тронули басовую струну.
От желтого здания депо к Мазину прыгал по шпалам человек. Суматошно вскидывал руки. Мазин в тоске пнул землю, поросшую чужой травой. Земля была как камень. Басовая струна угасала.
Человек добежал и схватил его за рукав:
– Тебе что?.. Тебе жить надоело?.. А вот оштрафую… Покажи документы!
От бега и от жары лицо у него было вареное. Он задыхался.
– Нет у меня документов, – сказал Мазин. – Не кричите. Я уйду.
Наверное, вид у него был странный, потому что человек мигнул мешками глаз.
– Или что-нибудь случилось?
Он был в форме. На лацканах пиджака, на зеленых выпушках, перекрещивались шпалы.
– Вон, – только и выдавил Мазин, показывая на ровные ряды урн.
– Ну что «вон»? Ну ТТР, – сказал железнодорожник. Сдвинул выгоревшие брови на красном лице. – Откуда здесь ТТР?..
Присел. Со всех сторон оглядел ближайшую урну, постучал по стенкам. Звук был деревянный. Обернулся к Мазину:
– Это что же, а?.. Это откуда они взялись?.. Я же утром тут проходил. Ты что-нибудь понимаешь, парень?
– Вторжение, – мертвыми губами сказал Мазин, до боли в веках расширяя глаза.
Вколачивая рельсы в землю, опять пронеслась электричка. Закрутило горячий воздух. Из травы выплыл низкий поющий бас.
– Гудит что-то, – сказал железнодорожник. Снял фуражку с зеленым околышем. Открылась багровая лысина в свалявшемся детском пухе.
Мазин смотрел на нее как зачарованный. Вдруг показалось, что он тоже оттуда, этот человек.
– Поглядывай, поглядывай, парень, – строго сказал ему железнодорожник, – попадешь под колеса – мне голову оторвут.
Фуражку, лежащую рядом с ним, пронзили пепельные травинки. Материя беззвучно расползлась. Околышек лопнул. Мгновение – и лишь одна жестяная кокарда блестела в траве.
Железнодорожник подсовывал лицо под крышку урны:
– Тэк-с… А вот тэк-с… – Напрягся. Морщинистая шея налилась кровью. Ноги поехали по траве. Крышка поднялась с ужасным скрипом. «Не делайте этого!» – хотелось крикнуть Мазину. Он не мог.
Железнодорожник заглянул внутрь и отпрянул. Из урны, как тесто, выперла оранжевая влажная масса. Все было словно во сне. Масса походила на слипшуюся икру. Мазин сделал шаг назад – бежать. Волна кисловатого притягательного запаха обдала его. Железнодорожник затрепетал широкими ноздрями. Ему, видимо, тоже стало не по себе.
Замедляя ход, прошла электричка к городу. Требовательно прогудела. Вдали, на узких платформах, были видны люди.
– Это что такое, парень? – быстрым шепотом спросил железнодорожник.
– Пойдемте отсюда, – попросил Мазин.
Железнодорожник потыкал пальцем в оранжевую массу. Икринки лопались с тихим шелестом. Он сосредоточенно понюхал палец. Мазин зажмурился. В голове гудело. Ослепительная белая искра горела внутри нее. Денеб. Альфа Лебедя. Донеслись странные каркающие звуки.
Он открыл глаза.
Стоя на четвереньках, содрогаясь всем телом, хлопая по траве растопыренными ладонями, железнодорожник выворачивал содержимое желудка.
Мазин подхватил его под мышки.
– Гадость!.. Гадость!.. – давясь слюной, прохрипел железнодорожник.
Оранжевая масса, набухая, переваливалась через край ящика. Шлепнулся один мокрый кусок, другой. Травинки вокруг них задвигались, на глазах вытягиваясь вверх.
Знакомый треск крыльев донесся из-за урн. Мазин выпустил железнодорожника. Тот мягко сел. По проходу между рядами урн, стуча хвостом, полз крокодил, покрытый крупной зеленой чешуей. Волочился желтый живот. Метались на спине алые перепончатые крылья. Голубые кукольные глаза неподвижно смотрели на Мазина.
– Мать моя женщина!.. – кашляя в прижатую ладонь, сказал железнодорожник.
Крокодил открыл пасть. Ребристое нёбо было черное, а язык коричневый и бархатистый.
6
Неустойчивый Контакт. Развертка элементарной семантики. Совмещение локуса развертки и локуса реципиента.
– Идем быстрее. Неужели ты не можешь идти быстрее? – сказала Ольга.
– Слишком светло, я ничего не вижу, – сказал Мазин.
– Смотри изнутри.
– Это как?
– Боже мой, просто смотри изнутри.
– Я не могу.
– Ладно, я сейчас сделаю.
Она повернула его к себе. Ладони были жесткие, пластмассовые. Коснулась обоих висков – погрузила внутрь суставчатые пальцы. Что-то там умяла, исправляя. Натягивались и с тихой болью рвались какие-то нити. Свет изменился. Точно поставили фильтр. Вернулось зрение. Они шли по улице. Воздух сиял. Как над болотом, миллионами слабых искр переливался редкий солнечный туман. Мостовая поросла пепельной травой. Сплошь – низко поющим ковром. В летней тишине цепенели дворы, пустые и светлые, – колодцы без воды. Зияли черным нутром распахнутые окна. Мазин заглянул в первый этаж. Дохнуло горячим мазутом. Пола в квартире не было. Была трясина – коричневая вода, подернутая радужными бензиновыми хлопьями. Шкаф, диван и четыре стула, как при наводнении, ножками окунались в нее. Жирно булькало и сипело. Выходил газ. На ржавых обжигающих кочках блестели никелированные кустики брусники. Вытягивая из топи длинные ноги, гремя медными перьями, в проеме дверей появилась цапля, звонко щелкнула клювом, зашипела, вращая красный зрачок, замигала пленками. Мазин отшатнулся.
– Ну что ты останавливаешься? – нервно сказала Ольга. – Здесь нельзя останавливаться. – Потащила его за руку.
– Почему нельзя? – спросил Мазин.
– Боже мой, да иди же ты быстрее!
– Куда мы идем?
– Не бойся, все будет хорошо.
– Я не боюсь, но я хочу знать, – сказал Мазин.
Трава под ногами шептала басом – леденеющая, неземная. В покинутых дворах, в белизне пустынных улиц, на выпуклых широких перекрестках бесконечными вереницами стояли урны – светились деревянными щеками.
Ольга откинула ближайшую крышку:
– Ешь!
Выперла икра.
– Я не буду, – сказал Мазин.
– Ах, не спорь, пожалуйста!.. Делай, что тебе говорят…
Она зачерпнула оранжевую массу, ела с ладони, как кошка, жмуря нетерпеливые глаза. Икра была теплая и очень сладкая. Походила на мед. Таяла во рту. Легко закружилась голова. Мазин вдруг понял: это счастье. Как он раньше не догадывался. Настоящее счастье – вдыхать кисловатый запах, млеющим языком уминать вязкое податливое тесто, чувствовать на нёбе трепетное щекотание лопающихся икринок. Он заметил, что у других урн тоже стоят люди. У каждой по человеку. Откуда только взялись. Жуют – молча и сосредоточенно. Лица у них оранжевые от налипшей икры. Мерное чавканье роится в полуденном воздухе.
– Хватит, больше нельзя, – с сожалением сказала Ольга, облизав пальцы. Заторопила его: – Нас ждут…
– Хочу еще, – глухо, с набитым ртом, сказал Мазин.
– Захлебнемся в информации – пойдут сразу несколько текстов.
– Очень вкусно…
– Нет, – сказала Ольга. – Уже пора.
Посредине улицы, взявшись за руки, застыли шестеро мужчин без одежды. Тела их из дымчатого стекла просвечивали: переплетались нервы и сосуды.
– Не смотри, они не любят, – опустив голову, прошипела Ольга. – Что ты все время глазеешь?
– Кто это? – спросил Мазин.
– Они так думают, – ответила Ольга. – Общая нервная система. Да не смотри ты на них, ради бога…
Мужчины, будто почувствовав, медленно и синхронно повернули к ним головы – синеватый ореол мерцал над морщинистой, как грецкий орех, поверхностью каждого мозга.
– Вот видишь, – сказала Ольга. – Теперь они увяжутся. Но это не опасно, успеем…
Мужчины провожали их взглядами, пока головы двух задних не повернулись на сто восемьдесят градусов. Тогда вся группа, не расцепляясь, так же синхронно – шаг в шаг – тронулась за ними. Задние ступали пятками вперед, и сквозные лица их – зубы, уши, глаза, скрепленные невидимым каркасом, – висели над полупрозрачными лопатками.
– Идут, – сказал Мазин.
– Ничего, уже недолго, – сказала Ольга. – Только не оглядывайся ты, пожалуйста… И пошли быстрее. Не давай им коснуться. Ты как неживой, в самом деле…
– Я читал все твои мысли, – сказал Мазин.
– Ах, ерунда…
– Я действительно читал.
– Прибавь шагу. Держись за меня, можно провалиться, тут есть такие места…
– Ты меня обманываешь…
– Ах, ничего ты не понял. Это как звонок в квартиру. Один – второй – третий. Пришли гости. Тебя хотят видеть. Надо просто встать и отпереть дверь.
– А что за дверью?
– Откуда я знаю? Не останавливайся, вот бестолковый.
На перекрестке, зарывшись в траву, стоял автобус без колес. Стекла по всему борту были выбиты, бампер мятый, задняя дверца открыта.
– Уф… наконец-то, – сказала Ольга. – Забирайся.
– Зачем?
– Как все-таки с тобой трудно, – вздохнула она.
Мужчины, держась за руки, приближались: враз поднимут правые ноги, помедлят немного – опустят, поднимут левые. Прозрачные мышцы хрусталем высверкивали на солнце. Мазин поднялся по ступенькам. Дверь закрылась одной створкой.
Внутри на облезших креслах сидели люди. Смотрели в окна. Как истуканы. Никто не шелохнулся. Лица были знакомые. Мазин увидел Серафиму: брошь под жилистым горлом, гладкие седые волосы. Она продолжала смотреть. Даже не шевеля губами, строго произнесла:
– Вы всегда опаздываете, Алексей.
Два места были свободны. Ольга быстро уселась.
Егоров, облокотившийся на половинку разломанного руля, сказал:
– Давай причаливай, сейчас поедем.
– Он же без колес, – сказал Мазин.
– Ну и что?
– Разве можно без колес?
– Еще как! – сказал Егоров.
Дал длинный гудок.
Автобус закачался, как на волнах. Вниз ушли придвинувшиеся вплотную стеклянные лица мужчин. Они летели. Повернулись гигантским кругом крыши как ломаная черепица, сеть улиц с темными точками урн. Накренилась и утонула под блистающими облаками зеленая карта Земли.
Ольга, глядя в окно, окаменела наподобие остальных.
– Послушай, я хочу тебя спросить, – в затылок ей сказал Мазин. – Эта… дверь… Она не может как-нибудь отвориться сама?
– Не отвлекайся, – сказала Ольга. Егоров вдруг захохотал как сумасшедший.
– Только вперед!
Рулил быстро и беспорядочно – невпопад. Автобус швыряло зигзагами. Пассажиры вросли в кресла – пылинка не шевельнулась. Синий цвет неба истончился и лопнул. В пустой черноте зажглись звезды. Громадная луна, сквозя провалами «морей», выплыла откуда-то справа – рукой достанешь.
– Тебя уволили! – крикнул Егоров. – Глава седьмая! Продолжение следует!
Серафима тоже засмеялась – дребезжащим голосом. Запустив пальцы в голову, как парик с куклы, стащила свои седые волосы. Круглый блик вспыхнул на голой коже.
– Я родилась вчера, – доверительно сообщила она. – И теперь буду жить сто пятьдесят тысяч секунд…
7
Спорадический Контакт. Усиление сигнала. Репликация элементарной семантики в зоне Контакта.
На кухне было душно. Горячий линолеум потел солнечной испариной. Хлюпало в раковине: чок!.. чок!.. Слабо гудел работающий холодильник.
Мазин растер лицо. Сколько он спал – минуту, две? Всего лишь прикрыл глаза. Вполне достаточно. После каждого сна где-нибудь на Земле появлялся еще один кусочек чужого мира. Этот мир сочился на Землю, как вода из крана: чок!.. чок!.. – неумолимо и безостановочно. Он вспомнил людей, согнувшихся над урнами. Блаженные и бессмысленные лица, перепачканные оранжевым. Вот, значит, как будет дальше. Теперь он знает как. Это хорошо, что он знает.
По столу были рассыпаны кофейные зерна. Мазин разгрыз сразу два. Содрогнулся от вкуса. Хотелось икры. Включил радио.
Поля пепельной травы медленно распространялись вглубь Австралии и Новой Зеландии. Япония в спешном порядке перекапывала побережья, создавая на островах кордон мертвой, пропитанной сильнейшими гербицидами земли. Одобрена общегосударственная программа глобального анализа флоры с обязательным уничтожением всех неизвестных растений. На Американском континенте проникновение началось в бассейне Амазонки и уже захватило обширные площади сельвы к востоку от Риу-Бранку. Взяты первые пробы. Применение современных методов исследования приводит к мгновенному распаду сложных органелл икры на молекулярные компоненты. Появление крылатых крокодилов. Попытки отловить. Стальные тросы, наброшенные на панцирь, рвутся, как паутина, – крокодил продолжает движение от урны к урне. По предварительным подсчетам, масса каждого животного превосходит массу земного шара. Бронебойные пули отскакивают от чешуи. Напалм прогорает на ней, не оставляя следов. «Наблюдаемые изменения животного и растительного мира возникли, вероятно, в результате мутаций и не представляют серьезной опасности», – заключил диктор.
Чок!.. чок!.. – хлюпала вода в кране.
«Не представляет серьезной опасности», – повторил Мазин.
Чок!.. чок!..
Он посмотрел на часы. Стрелки показывали шесть. Это могло быть и шесть утра, и шесть вечера. Времени не существовало.
По радио заиграла музыка. Мазин выдернул шнур. Кухня была тесной. Стены давили. Холодильник щелкнул и замолк, будто умер. Что-то еще оставалось. Да, убедиться самому. Он встал. Твердая корка хрустнула под ногами.
Лестница была пуста. Двор был пуст. Плотная тишина до краев заполняла его. Наверное, все-таки шесть утра. Хорошо бы сейчас поспать часов восемьдесят. Чугунные веки тянуло вниз. Царапало сухую роговицу.
Он вышел на улицу. Дрожало голубое марево. Солнце сияло в плоских окнах. Метрах в пяти от подворотни начиналась трава – светло-серая в белых прожилках, цвета пепла. Мазин, как автомат, ступил на нее. Сразу почувствовал лед сквозь подошвы.
«Не представляет серьезной опасности», – сказал он.
Впереди, на середине мостовой, асфальт вспучился горбом и раскололся. Деревянная урна вылезла из земли. Трава сейчас же бесшумно обступила ее широким кольцом.
«Пожалуй, пора», – сказал Мазин.
Посмотрел в небо. В синеве растворялись тонкие перистые облака. Звезда горела.
«Мы слишком разные, – подумал он. – Может быть, это и не Вторжение, но мы слишком разные. Нельзя ездить без колес. Мы никогда не поймем друг друга».
Повернул обратно. Пересек двор. На лестнице опять никого не встретил. Дверь была открыта. Он забыл про нее. Квартира дохнула жаром. Паркет в комнате скрипел. Окно распахнулось, содрав засохшую краску. У него был шестой этаж. Далеко внизу, в квадратике двора, уже появилась стеклянная мельница. Вращалась, позвякивая колокольчиками. Солнце весело вспыхивало на прозрачных лопастях.
Пора.
Он залез на подоконник. Сдвинутый поникший цветок упал на пол и разбился. Наружный карниз был грязный. В голубином помете. Очень хотелось икры. Мельница, разбрызгивающая по стенам солнечные зайчики, вдруг остановилась как вкопанная.
«Все правильно, – подумал Мазин. – Запереть дверь. По крайней мере, это я могу сделать».
И, закрыв глаза, помогая себе руками, перевалился через карниз.
8
Потеря всей зоны Контакта. Потеря пространственных координат. Полное уничтожение семантики. Выход из зондажа. Отключение донорской группы.
Миллион зеркал
1. Данные на Злотникова А. П.
Родился 12 августа 1950 года в Ленинграде. Роддом № 5 Куйбышевского района («Снегиревка»). Родители: Дугина Екатерина Васильевна, экономист, и Злотников Петр Андреевич, начальник цеха. До трехлетнего возраста воспитывался дома. Конкретных данных по этому периоду нет. Затем был отдан в детский сад № 11 Октябрьского района. В группе ничем не выделялся. Физическое и умственное развитие соответствовала возрасту. Поведение находилось в рамках стандартных детских реакций. Болел обычными болезнями – коклюш, корь, ветрянка. В возрасте пяти лет без последствий перенес легкий фронтит. Это важно, это первая индивидуальная метка. Учился в школах № 191 и 280 Ленинграда. Отклонений не было. Развитие соответствовало возрасту. Преобладающая оценка – четыре. В старших классах проявил заметную склонность к математике. Член школьного клуба «Тензор». Был достаточно общителен, имел друзей. Отмечалась некоторая импульсивность, эмоциональная неровность – в пределах нормы. Летом 1968 года на каникулах в деревне, неудачно спрыгнув с обрыва, сломал себе ногу. Это вторая индивидуальная метка. Перелом несложный – гипс, постельный режим. В период вынужденной неподвижности пытался рисовать. Третья индивидуальная метка. С окончанием болезни тяга к живописи исчезла.
В 1967 году поступил в Ленинградский электромеханический институт на факультет автоматики. Успеваемость средняя. Отклонений не было. Принимал участие в студенческом научном обществе. Проявил определенные технические способности: совместно с другими создал модель шагающего экипажа, получившую грамоту Всесоюзного смотра изобретателей. После окончания института распределен на работу в НИИЦАФ. Отличался аккуратностью и точностью выполнения заданий. Характеризуется положительно. Отношения в коллективе товарищеские. Через пять лет переведен на должность старшего инженера. Подал заявку на включение собственной разработки в диссертационный план института. Заявка отклонена в связи с изменением тематики исследований. Перешел на работу в НИИЦФА на должность ведущего инженера. Заведовал сектором кабельных энергоприводов. Предложил несколько оригинальных проектов энергоприводов узкоцелевого назначения. В 1975 году женился на Пасечниковой Ларисе Анатольевне (1952 г. р. Образование высшее. Окончила ЛЭМИ по профилю «автоматика управляющих систем». Работает в НИИЦАФ инженером. Индивидуальных отклонений нет. Родители Пасечниковой Л. А. специального интереса не представляют). Отношения в семье нормальные. В 1976 году родилась дочь Светлана. Имя здесь важно, появляется возможность сопоставления. Конституция, размеры и вес ребенка в пределах стандарта. Больше детей не было. В 1983 году внезапно развелся с женой и разменял квартиру. Причины развода неясны. Биография целиком укладывается в известный социальный стереотип и не дает материала для самостоятельного анализа.
В настоящее время проживает в Ленинграде, на проспекте Металлургов, занимая комнату в трехкомнатной квартире. Работает в НИИФЕЦ, куда перешел год назад. Заведует аналогичным сектором. Состоит членом Общества книголюбов. Поддерживает контакты с бывшей женой. Регулярно видится с дочерью. Характер неровный, излишне замкнутый. Явных увлечений нет, круг друзей ограничен сослуживцами.
Утром шестого сентября 1984 года ориентировочно в восемь часов пятнадцать минут был сбит легковой автомашиной на срединной части проспекта Металлургов. Обстоятельства происшествия исключают умышленные действия шофера. (Перебегал проспект вне зоны перехода, не видел «жигули» за проходящим автобусом, водитель не мог предотвратить наезд.) В бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Обследование показало, что переломов и трещин нет, внутренние органы не повреждены. Прогноз благоприятный. Довольно быстро пришел в себя. Сначала не понимал, где находится, – выпадение памяти. Когда понял, то потребовал немедленно вызвать к нему сотрудника милиции. Не слушал никаких возражений. Нервничал, пытался подняться, началась рвота и сильное головокружение. Отказался принимать лекарства. Настаивал, что у него есть сведения чрезвычайной важности, от которых зависит жизнь многих людей. Состояние ухудшалось. Позвонили в ближайшее отделение. Через полчаса приехал следователь.
Произошел следующий диалог, зафиксированный в протоколе и засвидетельствованный врачом.
Следователь. Я следователь двадцать седьмого отделения милиции Калининского района Румянцев Николай Дмитриевич. Вы хотели сообщить…
Злотников. Запишите фамилии: Гамалей, Черняк, Опольский, Климов, Цартионок…
Следователь. Записал.
Злотников. Запишите их телефоны…
Следователь. Записал.
Злотников. Покажите мне.
Следователь. Пожалуйста.
Злотников. Все правильно. Найдите этих людей, расскажите им, что со мной случилось, – они могут погибнуть каждую минуту.
Следователь. От чего?
Злотников. Скажите им, что предупреждает Пятый Близнец.
Следователь. Пятый Близнец?
Злотников. Да.
Следователь. Что это значит?
Злотников. Им грозит опасность.
Следователь. Какая?
Злотников. Здесь нет преступления. Я обратился к вам, потому что… Сотруднику милиции они поверят.
Следователь. Не могли бы вы изложить подробнее, если самочувствие вам позволяет…
Злотников. Найдите их срочно, сейчас же, немедленно, я прошу вас!
По требованию врача беседа была прервана.
Далее состоялся разговор следователя с врачом, также зафиксированный в протоколе.
Следователь. Каково положение Злотникова в настоящий момент?
Врач. Сотрясение мозга средней тяжести и сопутствующие факторы: головокружение, рвота, частичная амнезия. Опасности для жизни нет.
Следователь. Но он выздоровеет?
Врач. Разумеется. Нужен только покой, длительный покой.
Следователь. Вы слышали сообщение Злотникова. Насколько можно верить его словам? Не являются ли они следствием происшедшего с ним несчастного случая?
Врач. Вероятно, названные лица очень дороги Злотникову. В момент наезда Злотников испытал сильнейший испуг, шок… Вполне возможно, что произошло совмещение пережитого с воображаемым прогнозом для близких ему людей. Такие случаи известны…
Согласно показаниям водителя «жигулей» Воропаева Ю. С., он не был знаком с пострадавшим и никогда не встречался с ним ранее.
2. Тени наедине
Станция называлась Ижболдино. По ту сторону железнодорожного полотна пестрела малиновая россыпь домишек, стиснутых ухоженными садами. Домишки сгрудились прямо в поле, среди желтой травы, и, несмотря на осенний тусклый день, выглядели приветливо. Из кустов, где лежал Черняк с биноклем, было хорошо видно: сквозные улицы, одинокие головы подсолнухов, белые гроздья яркой кислой антоновки в пышных ветвях. Топая по длинным лужам, пробежали мальчишки с портфелями. Наверное, из школы. Через темную, похожую на ручей, воспаленную глинистую Ижболду были переброшены мостки, и на них, раскорячив сумки, балансировала женщина в платке, сошедшая с последней электрички. Больше никого не было. Ни души. Он бы не пропустил; тропинка от станции к откосу, где он лежал, просматривалась целиком. Прошло уже два часа. Видимо, хватит. Черняк поднялся и отряхнул прилипшие оранжевые листья. Засунул бинокль в кармашек рюкзака. Ужасно глупо и напоминает дешевый детектив, но зато теперь он уверен, что за ним никто не идет. Кажется, ему удалось вырваться из Круга. Хорошо, если… С мокрым стоном налетел товарняк и, обдав воздух гарью, навсегда утянулся в безрадостные просторы полей. На товарняке они не приедут. Он вскинул громоздкий рюкзак и зашагал по тропинке. Рюкзак был тяжелый. Туда свалено все нужное, не очень нужное и совсем ненужное. Что подвернулось. Собирался-то впопыхах, в страшной спешке, каждую секунду ожидая, что сейчас все рухнет. Цартионок и Злотников. Чья теперь очередь? Смертельный сквозняк потянул в Круге, выдувая одного за другим. Опольский, Климов и Гамалей. Надо же. Самый центр. Еще неизвестно, сколько придется отсиживаться. Вероятно, месяц, не меньше. Злотников и Цартионок. Потрескивает многотонная кровля над головой. Меньше нельзя. Обстоятельства должны измениться настолько, чтобы биографии близнецов успели существенно разойтись, тогда он по-настоящему выпадет из Круга. Уже окончательно. Дай-то бог. Тоже, конечно, риск – вне Круга. Непредсказуемые действия дают непредсказуемые результаты. Людмила плакала не переставая. Разбила тарелку. Притащила из магазина шестьдесят пакетов сухого супа. Совсем потеряла голову, когда погиб Цартионок. До вокзала шли чуть не целый час, хотя сто метров, загодя огибали прохожих, через улицу перевела, как ребенка, поднятой рукой остановив машины, и на платформе оберегала. Укутала и посадила в вагон. Ждала до отправления, бежала по длинному перрону. Не хотела расставаться, еле убедил, что совершенно незачем торчать на сквозняке вдвоем.
Тропинка спускалась вниз и ветвилась, отщепляя многочисленные тропки. Он забирал влево. Старуха говорила, что надо все время забирать влево, будет болотце, низина, а за ней – дом лесника. Туточки недалеко. Лесник сдает комнату. Это лучшее, что можно придумать, – в чащобе, в глуши, на случайной станции. Ткнул пальцем в карту. Подальше от всего. Ему вдруг показалось, что в лесу кто-то есть, он шарахнулся – из осыпающихся кустов, из жухлой редкой перепутанной травы выпорхнула птица и, шелестя острыми крыльями, унеслась в чащу. Нервы ни к черту. Исчез Злотников. Вышел из дома и не пришел в институт. Он позвонил Цартионку, чтобы сообщить. Злотников откололся, но был не чужой. Трубку взяла Лидия и каким-то распадающимся голосом сказала, что Олег умер. Несчастный случай. Два часа назад. Абсолютно дикая история: побежал за хлебом – нет его и нет. Лидия думала, что задержался в очереди; вдруг перепуганная соседка звонит в дверь… Вот тогда потянуло сквозняком. Точно голый на морозе… Он тронулся дальше, оглядываясь. Мутный свет сквозил в паутине ветвей, полыхали багровые осины, пахло горькими корешками, осенним холодом и крепкой грибной сыростью. Из разноцветных листьев, покрывших землю, высовывались трухлявые пни, опушенные ломкими кривоногими опятами. Наверное, уже близко. Завтра он напишет Людмиле, что все благополучно, иначе она с ума сойдет. Лора, Лариса, Людмила, Лидия и снова Лариса. Лариса-вторая. Пять имен на «Л». Кажется, Гамалей впервые обнаружил это совпадение. Сразу после скандала в ВИНИТИ, когда начали разбираться. Невероятный был скандал. Клекотацкий до сих пор простить не может, он же рекомендовал и просил побыстрее. Черняк вспомнил тот жуткий день, когда получил письмо: «Уважаемый товарищ! Предложенная Вами работа не может быть депонирована в хранении по причинам…» И причины были указаны такие, что он сломя голову побежал в библиотеку и прочел резюме в сигнальном экземпляре, а потом всеми правдами и неправдами через полузабытых однокурсников в НИИФЕЦ достал полный текст статьи. Совпадение было убийственным, вплоть до названия: «Некоторые характеристики осевых энергоприводов в условиях…» – и так далее, буква в букву. Первая реакция – горячий стыд: что скажут? Лишь через неделю узнал о шести повторах. Уникальный случай. Только потому и замяли.
Серая тень метров на тридцать впереди него бесшумно, как привидение, вплыла в такой же серый просвет между елями, исчезла за их жесткими зелеными лапами, а потом появилась опять, плотная и бесформенная, словно сгусток дождя. На ней был плащ, отливающий сыростью, болотные сапоги и пузатый рюкзак. Наверное, тяжелый. Черняк присел на ослабевших ногах. Еще мгновение он надеялся, что это кто-нибудь из местных, может быть, сам лесник. Рюкзак решил все. Он был как две капли похож на рюкзак Черняка, вероятно, и бинокль лежал в среднем кармашке. Удивительно, что они не столкнулись на тропе. Вполне могли бы. Или на станции. Он отполз в сторону – руками по лиственной мокроте, потом, сильно согнувшись, перебежал куда-то вбок, тень растворилась в дождевом тумане. Накрапывало. Глухо шуршало по иглам. Черняк, не разбирая дороги, перепрыгивал через осклизлые стволы. Он не видел лица. Это мог быть Климов, который сорвался еще вчера неизвестно куда. Это мог быть исчезнувший Злотников. Это мог быть осторожный Штерн, тоже решивший отсидеться. Наконец, это мог быть Опольский. Нет, Опольский выше и прямее. Но это мог быть Сайкин, или Фомичев, или Зимин, или кто угодно с периферии Круга, потому что на периферии тоже, пронизывая душу, задул смертельный сквозняк, и братья-близнецы начали пугаться друг друга.
Под ногами хлюпало. Рушились ледяные капли с ветвей. В этой части леса будто пронесся ураган. Деревья были вывернуты, и косматые чудовищные земляные плиты корней торчали из торфяной воды, пронизанной стрелолистом. Стемнело. Летели в небе прозрачные черные хлопья. Шипел тугой ветер по верхушкам дерев. Скрипели фиолетовые сосны. А у разлапистого голого седого ствола, погруженного в бурую нежить, скинув рюкзак и держась за острый сук, стоял, дергаясь всем телом, Гамалей. Он был в темном плаще с капюшоном, и прорезиненная ткань блестела.
– Сапог увязил, – хрипло сообщил Гамалей. – Никак не вытащить.
– Я помогу, – освобождая лямки, сказал Черняк.
– Только не увязни сам, очень топкое место, – предупредил Гамалей.
Они вытащили сапог, но при этом Черняк все-таки увяз обеими ногами и когда вылезал из сосущего теста, то зачерпнул воды, пришлось разуваться, и выливать, и отжимать шерстяные носки. Вода припахивала гнилью. Сеялась надоедливая тонкая морось. Одежда холодила и липла. У Гамалея багровела ссадина поперек ладони, он здорово ободрался.
– Погиб Цартионок, несчастный случай, – сказал ему Черняк.
– Я знаю, – непонятно оскалясь, ответил Гамалей.
– И еще Фомин в больнице, отравился консервами.
– Я знаю, – сказал Гамалей.
– А Злотников исчез, нигде его нету.
– Он не исчез, он попал под машину, мне звонил следователь, – объяснил Гамалей.
– А Климов уехал, – упавшим голосом сказал Черняк.
– И Зеленко уехал, – отозвался Гамалей. – Расползаемся, как тараканы. Ты знал Зеленко, он с периферии?
– Нет, не знал, – ответил Черняк. – Мне кажется, что мы больше не люди, а тени людей. Вернее, одного человека, который и не думает о нас, потому что кто же будет думать о своей тени?
Они достали сигареты. У Черняка отсырели. И у Гамалея отсырели тоже. Головки спичек крошились на коробке. Вокруг зиял неподвижный бурелом, синие пальцы стрелолиста лежали на торфяной воде.
– Почему Ижболдино? – спросил Черняк.
– Разве Ижболдино? Я сошел в Нерчиках, – ответил Гамалей.
– Это Ижболдино, дом лесника, – сказал Черняк.
– Меня подвезли со станции, и шофер посоветовал, – сообщил Гамалей.
В это время из дождевого нерезкого сумрака, чавкая по жиже болотными сапогами, прямо на них вынырнул высокий и худой человек в плаще и с рюкзаком, сбоку от которого торчал мослатый приклад ружья. Остановился, неприятно пораженный. Как лошадь, задирая голову, втянул воздух горячими ноздрями и замахал растопыренной судорожной пятерней, будто отгоняя кошмары.
– Вот и Опольский, – хладнокровно отметил Гамалей. – Удивительно совпадает время. Здравствуй, Вадим.
Опольский все тряс руками и свистел носом, а потом сдернул ружье, переломил его и одним движением вбил патрон в неумолимую черноту.
– Не подходи! – пискнул он фальцетом совершенно отчаявшегося человека.
– Напрасно, Вадим, – сказал Гамалей, – мы ведь не караулим тебя специально.
– Не подходи! – крикнул Опольский. Начал отступать спиной, держа их на прицеле. Все выше задирая голову. Ударился о ствол дерева, сел, уронил ружье и закрыл лицо ладонями – заплакал. Гамалей бросил окурок, тот коротко просипел в воде. Невесомая влага лилась с неба. Было зябко.
– Это безнадежно, – сказал Черняк. Гамалей кивнул.
– Я возвращаюсь, от себя не убежишь, – сказал Черняк. Гамалей кивнул.
– Когда ближайшая электричка? – поднимаясь, спросил Черняк.
– Подожди немного, – отозвался Гамалей, – пусть придут остальные.
– А они придут? – спросил Черняк.
– Придут. Куда они денутся, – тоскливо ответил Гамалей.
3. Показания свидетелей
7 сентября 1984 года в одиннадцать часов тридцать пять минут утра грузовой машиной ГАЗ-51, фургон, номерной знак 88–97 ЛОН, оборудованной для перевозки ТРЖК, на проезжей части проспекта Металлургов, в районе дома 84, был сбит неизвестный мужчина. Время и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия точно зафиксированы дежурной ПМГ и не подлежат сомнению. Достаточно быстро, путем опроса свидетелей, удалось установить личность пострадавшего. Им оказался некто Цартионок Олег Николаевич, тридцати трех лет, проживающий по адресу: Ленинград, проспект Металлургов, д. 84, кв. 289, в настоящее время работающий заместителем директора по науке НИИЦФА. В связи с аналогичным происшествием, зарегистрированным в том же районе сутками раньше – 6 сентября 1984 года, помимо обычной экспертизы ГАИ, было проведено дополнительное расследование.
Водитель автомашины ГАЗ-51, фургон, номерной знак 38–97 ЛОН, шофер первой автобазы г. Петродворца Ветрунь А. Г., показал, что он совершал рейс Петергоф – Ленинград, имея целью получение жидкого азота на заводе «Химгаз» Ленинграда. Подобные поездки он совершает два раза в неделю, во вторник и четверг, для обеспечения непрерывного цикла технологических работ. Маршрут следования вписан в путевку. Машина полностью оборудована для перевозки танка с жидкими газами. Рейс в один конец занимает около полутора часов. В этот день из-за ремонта дороги на участке Стрельна – улица Маршала Жукова машина была направлена в объезд по Пионерской улице, по улице Глопина и дальше на проспект Металлургов. Скорость движения не превышала шестидесяти километров в час – у перекрестка Металлургов и Новоталлинской проезд машины зафиксировал инспектор ГАИ, об этом же свидетельствуют данные экспертизы по длине тормозного пути. Примерно на середине проспекта Металлургов (дом 84) он заметил пешехода на осевой линии проезжей части. По словам водителя, пешеход без особой спешки пересекал проспект. Ничего странного в его поведении не было. На всякий случай Ветрунь А. Г. осветил его фарами, чтобы поторопить. Дистанция была приличной. Через несколько секунд пешеход опять возник в полосе движения. Абсолютно неожиданно. Точно он вдруг попятился обратно. Выглядело это именно так. Водитель Ветрунь вторично осветил его фарами, а затем подал звуковой сигнал. Это подтверждается показаниями очевидцев происшествия. Пешеход вторично двинулся к тротуару. Оснований для беспокойства не было. Ситуация не казалась аварийной. Машина шла во втором ряду. По встречной полосе надвигался рейсовый автобус, а справа находилась черная «Волга» (автобаза Академии наук). Она ехала довольно медленно, и, по оценке Ветруня, совпадающей с оценкой водителя ПМГ, пострадавший вполне мог успеть проскочить до тротуара, но по непонятным причинам не сделал этого. Вероятно, растерялся, внезапно повернул и очутился в опасной близости от машины. Соседние полосы были заняты. Водитель Ветрунь А. Г. немедленно затормозил, асфальт был мокрый, груженую машину занесло, и она ударила в борт автобуса.
Согласно заключению экспертизы ГАИ и данным предварительного расследования, обстоятельства дорожно-транспортного происшествия исключают умышленные действия со стороны шофера. Водитель Ветрунь А. Г., по его словам, не был знаком с пострадавшим и ранее никогда не видел его. Сравнительный анализ обоих происшествий (от 6 сентября и от 7 сентября 1984 года), несмотря на ряд совпадающих признаков, не дает оснований для выявления связи между ними. До обнаружения новых фактов оба случая следует рассматривать изолированно друг от друга. Необходимо отметить, что медицинская экспертиза не нашла в крови пострадавшего никаких следов алкогольной интоксикации. Можно полагать, что в момент происшествия Цартионок О. Н. находился в здравом рассудке и полностью отвечал за свои действия.
Свидетель Синельников И. М., пенсионер, показал, что 7 сентября, примерно в половине одиннадцатого утра, совершая обычную прогулку, он обратил внимание на незнакомого мужчину, стоящего на кромке тротуара. Мужчина затравленно озирался по сторонам и осторожно, как холодную воду, пробовал ногой мостовую, словно не решаясь ступить. Улица была совершенно пустынна. Продолжалось это минут десять. Самого происшествия свидетель не видел и не может утверждать, что замеченный им мужчина и пострадавший (Цартионок О. Н.) – одно и то же лицо.
Свидетельница Вехтина Т. А., учительница, показала, что 7 сентября в начале одиннадцатого утра в парадном дома номер восемьдесят четыре по проспекту Металлургов она увидела мужчину, который стоял около входных дверей, прислонившись лбом к стене и, кажется, закрыв глаза. В мужчине она узнала Цартионка О. Н., проживающего в квартире 239 на той же лестничной площадке, что и она. Между ними состоялся примерно следующий диалог:
– Олежек, вам плохо?
– Что?
(Цартионок оборачивается.)
– Вы заболели, Олежек?
(Он смотрит, не узнавая.)
– Может быть, вас проводить до квартиры?
(Он долго думает.)
– Тамара Афанасьевна, у вас нет ощущения, что жизнь уже закончилась? Прямо сейчас, через несколько минут… Дунет черный ветер, и вас не станет. Навсегда.
– Бог с вами, Олежек, что вы такое говорите? Вы совсем больны. Вам ни в коем случае нельзя выходить на улицу.
– Черный ветер, сквозняк… Лида просила – за хлебом…
– Бог с ним, с хлебом, я вам дам…
(Он думает.)
– Добровольное заточение тоже не выход.
– Я не понимаю вас, Олежек…
(Он открывает дверь.)
– Очень не хочется идти, Тамара Афанасьевна. Просто жутко не хочется.
– Олежек, постойте!
Свидетельница Вехтина Т. А. утверждает, что пострадавший выглядел чрезвычайно странно, она хотела задержать его, но не смогла. По ее словам, Цартионок О. Н. еще некоторое время стоял на тротуаре у проезжей части, словно не зная, куда ему деваться.
В пиджаке пострадавшего обнаружено неотправленное (и, вероятно, недописанное) письмо следующего содержания: «Второй! Ты, конечно, слышал, что происходит с близнецами? Это оборотная сторона медали. Мы слишком повязаны друг с другом – один, сорвавшись в пропасть, тянет за собой остальных. Пока это коснулось лишь Пятого, но скоро захлестнет и нас. Я уезжаю, советую тебе сделать то же самое. Сегодня…»
Гражданка Цартионок Л. В., жена пострадавшего, показала, что в среду вечером ему позвонили. Кто звонил, она не знает. Разговор был короткий, но его будто ударило. Он стал сам не свой. Например, не спал всю ночь. Например, сидел на кухне и курил. Например, наорал на Светлану (дочь) – она сунулась к нему с учебником. Например, утром не пошел на работу. Например, сказал, что болен, хотя врача не вызывал. Например, был угрюмый и раздражительный. Точно все время напряженно думал о чем-то. Позже объяснил, что получил известие о несчастном случае со Злотниковым А. П. Тот лежит в больнице, и состояние тяжелое. Объявил, что должен срочно уехать. Все равно куда, лишь бы подальше. Мотивировал это невнятно. Рок, судьба, навис беспощадный меч. Абсолютное копирование личности влечет за собой абсолютное наложение биографий. Моменты жизненных кульминаций совпадают по всем координатам. Тождество полное. Возникает биографический повтор. Что-то в этом роде. Гражданка Цартионок Л. В. не уверена, что она передала точно. У них произошел небольшой спор. В конце концов согласились, что он возьмет отпуск за свой счет. Ленинградская область, две-три недели. Он стал собираться. Не оказалось хлеба. Ему почему-то очень не хотелось идти. Но он пошел. Вот и все. Через полчаса постучала перепуганная соседка. По поводу найденного письма гражданка Цартионок сообщила, что, скорее всего, оно адресовано Гамалею Ф. И., коллеге по институту.
Близнецами называют себя несколько близких друзей пострадавшего, которые учились вместе с ним и сейчас работают в одной организации (НИИЦФА). Гражданка Цартионок заявила, что ее мужу никто не угрожал, врагов у него нет, и категорически отрицала, что он может быть замешан в каких-либо противозаконных действиях, влекущих за собой уголовную ответственность.
Скорая помощь, вызванная по радио дежурной ПМГ, доставила пострадавшего в двадцать восьмую больницу Калининского района. У него были обнаружены множественные тяжелые повреждения внутренних органов, разрывы, кровоизлияния. Несмотря на срочно принятые меры, Цартионок О. Н. скончался через два часа, не приходя в сознание.
4. Попытка № 2
Сзади просигналили, и Климов взял вправо, освобождая ряд. Громыхающий самосвал, бросив в стекло струю мутной воды, резко ушел вперед. Торопится, подумал Климов. Стрелка плотно сидела на девяноста. Было слегка неприятно – мокрое шоссе, опавшие листья. Он подруливал быстрыми движениями рук. По обеим сторонам размазывалась осенняя пестрота. Если все пойдет нормально, то через двенадцать часов он будет в Москве. Пять часов езды. Час отдыха. Снова пять часов езды. Один час в резерве. П. И. ждет его к восьми вечера. Немного удивился, когда Климов позвонил и попросился на три дня. Хорошо иметь родственников в Москве. Да еще на Шаболовке. Он включил дворники. Свистнула из-под колес какая-то труха. Взрывались лужи. На шестнадцатом километре был пост ГАИ. Инспектор, вытянув полосатый жезл, показывал: остановиться. Тот самый заляпанный грязью самосвал тормозил у обочины. Доездился, удовлетворенно отметил Климов. Вдавил педаль газа. Мелькнула гранитная скамья, поворот на Колпино. Потянулись унылые поля Московской Славянки, где мерзлыми бороздами лежала в обмороке желтая трава… Началось с письма из ВИНИТИ: «Уважаемый товарищ…» Тогда было всего шесть человек, шесть близнецов. Они потом стали центром Круга. Гамалей нашел и собрал всех. Оказывается, одноклассники, оказывается, сходные факультеты, оказывается, единая специализация – теперь везде занимаются осевыми энергоприводами. У всех – дочери, у всех – Светланы. Будто отражение в зеркалах. А может быть, не только мы? Интересно бы поискать. Миллион зеркал. Давайте поищем. Нашли Штерна, нашли Сайкина, нашли Фомичева. Штерн раскопал Зеленко, Опольский – Висигина. С восторгом устанавливали: все собирают книги, все ходят на лыжах, у женщин испанский язык и эпидемия аэробики. А вдруг и в самом деле родственники? Какое-нибудь тихое отдаленное родство, седьмая вода? Теория наследования овладела умами. Генетика Менделя и внехромосомная ДНК. Гамалей не вылезал из архивов. Выяснилось, что Лора и Лариса-вторая – троюродные сестры. Вот видите. Но с остальными не подтвердилось. И не надо. Все равно вместе. Великое дело, когда тебя понимают… Будто читали мысли друг друга. Даже иногда жутко. Вот сейчас ты думаешь о том-то. И угадывали. Назвали себя: «Братья-близнецы». Так весело все начиналось. Позже Цартионок поставил на деловую основу. А теперь Цартионка нет… Климов нервно переложил руль. Небо, как туманное зеркало, высовывалось из елей. Впереди висел «зигзаг». Он не понял, что случилось. Колеса словно отделились от асфальта. Наверное, листья. Баранка стремительно ускользала. Он навалился всем телом. Неожиданно быстро возник второй поворот. Машина плыла в воздухе, налитая жидким непослушным свинцом. Он жал на тормоза, уже чувствуя, что поздно. «Жигули» развернуло поперек дороги, и белые столбики ограждения внезапно придвинулись совсем близко…
Сзади просигналили, и Опольский взял вправо, освобождая ряд. Громыхающий самосвал, бросив в стекло струю мутной воды, резко ушел вперед. Торопится, подумал Опольский. Стрелка плотно сидела на девяноста. Выло слегка неприятно – мокрое шоссе, опавшие листья. Он подруливал быстрыми движениями рук. По обеим сторонам размазывалась осенняя пестрота. Если все пойдет нормально, то через двенадцать часов он будет в Москве. Пять часов езды. Час отдыха. Снова пять часов езды. Один час в резерве. Рома С. ждет его к восьми вечера. Немного удивился, когда Опольский позвонил и попросился денька на три. Хорошо иметь друзей в Москве. Да еще на Арбате. Он включил дворники. Свистнула из-под колес какая-то труха. Взрывались лужи. На шестнадцатом километре был пост ГАИ. Инспектор, покачивая полосатым жезлом, втолковывал что-то шоферу, который, надвинув на глаза кепку, сокрушенно чесал в затылке. Тот самый заляпанный грязью самосвал стоял у обочины. Доездился, удовлетворенно заметил Опольский. Вдавил педаль газа. Мелькнула гранитная скамья, поворот на Колпино. Потянулись унылые поля Московской Славянки, где под серым немощным солнцем лежала в обмороке мерзлая трава… Цартионок быстро поставил все на деловую основу. Если существуют моменты абсолютного тождества различных людей и таких моментов много, значит в сходных ситуациях близнецы смогут реализовать себя сходным образом. Грубо говоря, где хорошо одному, там хорошо всем. Сам он уже заведовал сектором в НИИЦФА, то есть опередил по служебным показателям. Следовательно, надо концентрироваться в НИИЦФА. Статья вышла под шестью фамилиями. Тут повезло Гамалею: «Гамалей и др.». Через полгода получил сектор он, Опольский, а еще через полгода – Климов Значит, оправдывало себя. Позже стало ясно, что не обязательно торчать в одном институте, аналогичные ситуации возникают где угодно. Важно найти их. Это обнаружил Штерн. И он же назвал их Кругом. Но все равно. Работалось необычайно легко. Будто читали мысли друг друга. Вот сейчас ты думаешь о том-то. И угадывали. Даже иногда жутко. Отличная получилась кормушка. Стоило одному нащупать оптимальный вариант, как все близнецы тут же использовали его. Цартионок стал замдиректора по науке, а Черняк – ученым секретарем. Золотое было времечко… Опольский нервно переложил руль. Небо, словно туманное сырое зеркало, высовывалось из острых елей. Впереди висел «зигзаг». Он не понял, что случилось. Колеса будто отделились от асфальта. Наверное, листья. Баранка стремительно ускользала. Он навалился всем телом. Неожиданно быстро показался второй поворот. Машина плыла в воздухе, налитая жидким свинцом. Он бы справился. Он почти выровнял ход. Но поперек шоссе, напрочь загораживая дорогу, стоял серый «жигуль». Опольский давил на тормоза, чувствуя, что уже поздно. Машину занесло, и белые столбики ограждения внезапно придвинулись совсем близко…
Сзади просигналили, и Гамалей взял вправо, освобождая ряд. Громыхающий самосвал, бросив в стекло струю мутной воды, резко ушел вперед. Торопится, подумал Гамалей. Стрелка плотно сидела на девяноста. Было слегка неприятно – мокрое шоссе, опавшие листья. Он подруливал быстрыми движениями рук. По обеим сторонам размазывалась осенняя пестрота. Если все пойдет нормально, то через двенадцать часов он будет в Москве. Пять часов езды. Час отдыха. Снова пять часов езды. Один час в резерве. В. Л. ждет его к восьми вечера. Немного удивился, когда Гамалей позвонил и попросился на неделю. Хорошо иметь приятелей в Москве. Да еще на Пушкина. Он включил дворники. Свистнула из-под колес какая-то труха. Взрывались лужи. На шестнадцатом километре был пост ГАИ. Шофер в кожаной куртке, размахивая зажатой кепкой, что-то сокрушенно объяснял инспектору, который неумолимо покачивал полосатым жезлом. Тот самый заляпанный грязью самосвал стоял у обочины. Доездился, удовлетворенно заметил Гамалей. Вдавил педаль газа. Мелькнула гранитная скамья, поворот на Колпино. Потянулись унылые поля Московской Славянки, где в стылых бороздах ждала первого снега обморочная трава… Прежде всего – кто мы? Обыкновенная случайность? Маловероятно. Слишком много совпадений, и слишком они однозначны. Пришельцы? Откуда-то извне? Маловероятно. Близнецы и в центре, и на периферии Круга вполне реальные земные люди. Групповое сознание? В процессе развития человечество подошло к той черте, когда для движения вперед индивидуального разума уже недостаточно, поэтому закономерно возникает коллективный разум, чтобы в конечном счете объединиться в разум всепланетный? Отказ от себя во имя всех? Маловероятно. В том-то и дело, что отказ от себя есть, а «во имя» отсутствует. Конвергенция? Внутривидовая консолидация гомо сапиенс? Нивелирование аморфной личности, быстрый рост социальной энтропии, сведение человеческого многообразия к минимальному набору простых черт, типизация индивидуума? Вполне возможно. Вероятно, это понял Злотников, когда попытался резко выйти из Круга – сменил работу и развелся с женой. Только из Круга не уйдешь так просто. Все равно прохватило сквозняком, лежит в больнице. Можно было заранее предвидеть этот тупик. Зеркальное подобие близнецов неизбежно влечет за собой совмещение их социальных координат. Они находятся в одной и той же нише существования, эта ниша, естественно, ограничена, соответственно ограничены возможности ее освоения. Сюда же добавляется эндемия катастроф, которая вспыхнула так остро, потому что протекает в узком локусе и на однородном материале… Гамалей нервно переложил руль. Небо вогнутым кривым зеркалом отражало ели. Впереди висел «зигзаг». Он не понял, что случилось. Колеса словно отделились от покрытия. Наверное, листья. Баранка стремительно ускользала. Он навалился всем телом. Неожиданно быстро показался второй поворот. Кабина плыла в воздухе. Он справился, хотя больно хрустнуло в костях. Колеса вновь схватили асфальт. Но поперек шоссе, загораживая всю проезжую часть, стояла разбитая машина. Он жал на тормоза, чувствуя, что уже поздно. «Жигули» занесло, и послышался скрежет сбивающегося тонкого металла…
5. Оперативная разработка
Внимание! Городским управлением внутренних дел Ленинграда активно разыскиваются следующие лица, проходящие по делу «Близнецы» (от 8.9.84 г.): 1. Гамалей Федор Иванович, 1950 г. р., проживающий по адресу: Ленинград, пр. Металлургов, д. 2, кв. 619, работающий ученым секретарем НИИЦФА. Приметы… 2. Климов Сергей Никанорович, 1950 г. р., проживающий по адресу: Ленинград, пр. Металлургов, д. 131, кв. 1, работающий ведущим инженером НИИЦФА. Приметы… 3. Опольский Яков Ростиславович, 1950 г. р., проживающий по адресу: Ленинград, пр. Металлургов, д. 106, кв. 58, работающий заведующим сектором энергоприводов НИИЦФА. Приметы… Перечисленные лица находились в Ленинграде до 7 сентября и в течение части суток 8 сентября сего года. Есть основания полагать, что указанные лица выехали из Ленинграда утром 9 сентября сего года, предположительно на личном автотранспорте, предположительно в сторону Москвы. Более точные сведения отсутствуют. Данные о местонахождении их в настоящее время отсутствуют. Внимание! Всем постам ГАИ! Немедленно задержать легковые автомашины марки «Жигули» ВАЗ-2101 с номерными знаками: 16–98 ЛДГ, 45–46 ЛДГ и 20–63 ЛЕА. Установить идентичность личности водителей с фигурантами розыска ГУВД Ленинграда. Ознакомить граждан Гамалея Ф. И., Климова С. Н. и Опольского Я. Р. с выдержкой из оперативной сводки ГАИ от 8 сентября 1984 г. «…На проезжей части Пионерской улицы недалеко от пересечения ее с проспектом Металлургов грузовым такси Лентрансагентства был сбит мужчина, согласно обнаруженным документам – Черняк Игорь Александрович, 1950 г. р., сотрудник НИИЦФА. В настоящее время Черняк И. А. находится в специализированной больнице Калининского района, опасности для жизни нет, состояние удовлетворительное». Внимание! Всем постам ГАИ! Предложить указанным гражданам немедленно вернуться в Ленинград и по возвращении отметиться у дежурного районного отделения милиции Калининского района. Внимание! Учитывая высокий риск дорожно-транспортных происшествий для указанных лиц, предложить гражданам Гамалею Ф. И., Климову С. Н. и Опольскому Я. Р. вернуться в Ленинград пригородной электричкой по ветке Октябрьской железной дороги, соблюдая в пути максимальную осторожность, оставив личные автомашины на посту ГАИ под присмотром инспектора ГАИ. Рекомендовать им по прибытии в Ленинград временно не покидать свои квартиры и не появляться в местах, связанных с риском ДТП. Внимание! В случае отказа кого-либо из разыскиваемых подчиниться требованию инспектора ГАИ разрешается произвести задержание любого из перечисленных граждан на срок до одних суток, для чего связаться с районным управлением внутренних дел. При появлении указанных лиц или при получении каких-либо сведений о них немедленно сообщить дежурному ГУВД Ленинграда.
Внимание! Начальнику районного отделения милиции Калининского района Ленинграда. В дополнение к приказу от 8 сентября 1984 г. по делу «Близнецы» сообщаем вам, что ядро группы особого риска, условно именуемой «Круг», состоит из шести человек. Список прилагается. Трое «близнецов» (Злотников А. П., Черняк И. А. и Цартионок О. Н.), упомянутые в предыдущей сводке, пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в течение последних семидесяти двух часов. Местонахождение остальных фигурантов розыска в настоящее время неизвестно. Предполагается, что они выехали за пределы Ленинграда. Постам ГАИ и областным отделениям милиции даны соответствующие распоряжения. Согласно показаниям Злотникова А. П. («Пятый близнец»), помимо группы особого риска, образующей «ядро Круга», существует довольно обширное число лиц, представляющих собою так называемую «периферию Круга». Список из восемнадцати человек прилагается. Все эти люди (за небольшим исключением) проживают в пределах Калининского района Ленинграда и относятся к категории лиц повышенного риска с возможной реализацией последнего достаточно быстро и в коротком интервале времени. Прилагаемый список, видимо, не исчерпывает всей глубины периферии. Внимание! По словам А. П. Злотникова, периферия имеет резко выраженную неоднородность персонификации и непостоянный состав. Заявитель обращает внимание на то, что качество риска здесь может быть существенно иным, чем в ядре Круга. Это подтверждается зарегистрированными в течение последних суток фактами несчастных случаев с гражданами Фоминым А. В. (пищевое отравление) и Зеленко Ю. С. (бытовая травма средней тяжести). Следует ожидать проявления аналогичных инцидентов в самое ближайшее время и в непредсказуемой форме. В связи с этим приказываю:
1. Немедленно установить местонахождение лиц категории повышенного риска (периферия Круга), перечисленных в упомянутом списке. Путем тщательного опроса их установить полный состав периферии.
2. Указанные лица должны быть подробно проинформированы о несчастных случаях от 6, 7 и 8 сентября с фигурантами ядра Круга и о несчастных случаях с Зеленко и Фоминым.
3. Указанные лица должны быть ясно, недвусмысленно, самым серьезным образом предупреждены о повышенной опасности, которой они подвергаются, находясь на периферии Круга, и о возможных формах проявления ее.
4. Необходимо предложить всему составу периферии соблюдать в ближайшие дни максимальную осторожность как в рабочей обстановке, так и в бытовых условиях, особенно – в местах, связанных с риском ДТП.
О ходе операции сообщайте дежурному ГУВД Ленинграда каждые два часа, а в случае каких-либо чрезвычайных происшествий – немедленно. Дополнительная информация будет вам предоставляться по мере ее поступления.
Внимание! Сравнительный анализ материалов по делу «Близнецы», проведенный экспертной группой ГУВД, позволяет заключить следующее. Все близнецы появились на свет в течение 1950 г. Обстоятельства рождения стандартные. Параметры новорожденных стандартные. Нейрофизиологические характеристики стандартные. Вариабельность родителей достаточно высока и не свидетельствует об изначально однородном генетическом материале. Принципы воспитания стандартные. Последовательно прошли ясли, детсад, начальные классы. Поведенческие реакции стандартные. Спектр детских болезней стандартный. Врожденные способности стандартные. Экспертная группа ГУВД полагает, что биографический повтор, отмечаемый в раннем периоде, не является дифференцирующим для Круга и представляет собой обычный набор элементов внеличностного характера… Все близнецы окончили школу № 280 Ленинграда. Успеваемость в старших классах стандартная. Характеристики стандартные. Аттестаты стандартные. По данным гороно, школа № 280 выпускает средний, но крепкий контингент учащихся. Личные качества стандартные. Уровень общительности стандартный. Проявляли склонность к математике. Направление интересов стандартное. Все близнецы поступили в технические вузы. Факультеты сходного профиля. Специализация по кафедрам. Кафедры сходного профиля. Защита дипломов. Дипломы сходного профиля. Общественная работа. Все – редакторы стенгазет. Распределение в ленинградские НИИ. Институты сходного профиля. Служебное продвижение: инженер, старший инженер, ведущий инженер. Все – в течение восьми лет. Разброс по времени непринципиальный. Отдельные вариации не достигают уровня значимых индивидуальных различий. Регистрация браков на протяжении 1975 г. Рождение дочерей – 1976 г. Обстоятельства рождения стандартные. Параметры новорожденных стандартные. Нейрофизиологические характеристики стандартные. Других данных по второму поколению нет. В настоящее время близнецы работают в сходных НИИ. Распределение должностей стандартное. Темы инженерных разработок стандартные. Рабочие характеристики стандартные. Проживают на проспекте Металлургов Ленинграда. Бытовые условия стандартные. Структура семей стандартная. Установленный образ жизни стандартный.
Внимание! Основываясь на материалах дела, экспертная группа ГУВД считает, что в интервале 1982–1984 гг. происходило сознательное и целенаправленное нарабатывание личного тождества (инициатор – Гамалей), которое привело к абсолютному копированию близнецов в бытовом, социальном и психологическом планах. Внимание! Анализ частоты совпадений по ключевым моментам биографий свидетельствует о полном их наложении. Близнецы индивидуально не различаются. Внимание! Анализ несчастных случаев свидетельствует о чрезвычайной степени риска для каждого члена Круга. Прогноз однозначно неблагоприятен. Внимание! Все члены Круга, независимо от их координат, должны быть отнесены к категории лиц особого риска с исключительно высокой вероятностью осуществления. Внимание! Конкретных рекомендаций по выходу из Круга и разрыву экспоненты личных катастроф экспертная группа ГУВД предложить не может.
6. Шоссе Ленинград – Москва
Они сидели на багажнике «жигулей». Передок был смят, а багажник целый. Утреннее дождевое небо текло меж верхушками елей, дрожало, струилось, и рыхлая амальгама его выбелила шоссе. Пленки молока застряли в еловых лапах. Мутный воздух светлел. Лишь у второго поворота, где дорога понижалась, скопилась в канавах и рытвинах ночная мокрая тень.
– Повезло, – сказал Гамалей.
Он курил, глубоко и часто затягиваясь.
– Повезло, – согласился Климов, трогая сплошь перебинтованную голову. – Ну, перепугался я, когда вы начали выскакивать, будто чертики из коробки…
– Повезло, – сказал Опольский, слегка задыхаясь. – Это, вероятно, последняя жертва.
На редкоствольной прогалине, не доезжая до поворота, умяв сквозной тальник и паутину сухих кострецов, колесами вверх валялась машина Климова. Белые столбики ограждения, как выломанные зубы, были разбросаны вокруг нее. Гамалей смотрел на бесстыдно обнаженное днище в комковатых потеках грязи.
– Не уверен, – медленно произнес он.
– Что?
– Не уверен.
Опольский вздрогнул и проглотил табачную горькость во рту.
– То есть как это?
– А не уверен.
Несколько секунд Опольский, как помешанный, не видя, смотрел на него, моргая белыми ресницами, а потом резко повернулся и зашагал в лес, ни слова не говоря, будто журавль, переставляя бамбуковые ноги.
– Куда? – не повышая голоса, спросил Гамалей.
Тогда Опольский вернулся и снова сел на багажник, мелко дрожа простуженными плечами.
– Все равно уеду. Надо было сразу договориться и разъехаться в разные стороны.
Правая бровь его, крест-накрест заклеенная пластырем, все время подергивалась.
– Какая разница, попадешь ты под трамвай во Владивостоке или под автобус в Махачкале, – неохотно объяснил ему Гамалей.
И Опольский закрыл безнадежные глаза:
– Мы все обречены…
Реактивный гул расколол небо, придавил низкие облака и упругой волной перекатился дальше, за горизонт. Гамалей задрал голову. Ничего не было видно в тягучих ртутно светящихся переливах.
– Всю жизнь хотел стать летчиком, – мечтательно сказал он.
– Ну?
– Думал: возьмут в армию – обязательно попрошусь в летные части.
– Ну?
– Еще мальчишкой бегал на аэродром. Это, между прочим, типичная индивидуальная метка.
– Ну?
– Ну! Все ринулись поступать в политехнический – и я, дурак, поперся…
Упали первые капли дождя.
– Индивидуальная метка, – ежась, сказал Климов. – В девятом классе я простым ножом вырезал черта из корневища, здорово получилось – медовая стружка, запах смолы, прожилки на сосне – теплые…
– Ну?
– У меня отец профессор, – задумчиво сказал Климов. – Отец профессор, а сын, например, краснодеревщик. Впечатляющая картина социальной деградации. Мать легла на пороге и не давала перешагнуть.
Он щелчком отбросил сигарету, она скользнула в траву. Было удивительно тихо. Невидимая птица чирикала в гулких осенних недрах, и от стремительного перещелка ее раздвигалось сырое пространство.
– Но что же мне делать, если я не знаю, чего я хочу! – тонким отчаянным голосом закричал Опольский. – Я могу быть инженером, и только! Что же мне теперь – погибать из-за этого?!
Испуганная птица в лесу умолкла.
– Не профессиональная принадлежность замыкает человека в Круг, – тихо ответил Климов.
– Знаю!
– И не среда обитания.
– Знаю!
– Тогда не кричи, – посоветовал Климов.
На свежих бинтах его проступало слабое розовое пятно.
И Гамалей сказал:
– Человек становится личностью не благодаря обстоятельствам, а вопреки им.
Вдруг осекся, прислушиваясь.
Ясный рокот мотора выплывал из-за леса. На повороте показался самосвал, заляпанный грязью по самую кабину, и, громыхая железом в кузове, мощно устремился вперед. Скорость была километров восемьдесят.
– Сейчас его занесет – и прямо на нас, – замерев с сигаретой у рта, изумленно бледнея неподвижным лицом, прошептал Опольский.
У Гамалея начали расширяться угольные глаза. Климов зачем-то быстро-быстро ощупывал свои карманы.
– Тот самый, – щурясь, сказал он.
– Тот самый.
– Тот самый.
Все трое выпрямились, будто пронзенные, и Опольский застонал, раскачиваясь.
– Ничего не выйдет… Мы, как попугаи, повторяем одно и то же… Судьба… – замотал головой.
Тогда Гамалей поднялся и шагнул на шоссе.
– Куда ты?
– Пусти!
– С ума сошел!
– Говорю: пусти!
– Отпусти его, – спокойно сказал Климов. – Теперь каждый сам выбирает свою дорогу.
Опольский разжал судорожные пальцы. Он видел, как Гамалей, вытянув руки, точно слепой, пошел прямо наперерез громыхающему, неудержимо летящему самосвалу. Он не хотел этого видеть. Он до боли зажмурился. Поплыли фиолетовые пятна. Ужасный визг тормозов резанул уши. Даже не глядя, Опольский до мельчайших подробностей чувствовал, как шофер, мгновенно покрывшись лошадиным потом, пружиной разогнув тело, безумно жмет на педаль, как скользят в непогашенной скорости колеса по мокрому асфальту, как трехтонную железную махину заносит и грузовик боком, туповатым крылом своим, сминает внезапно выросшую перед ним человеческую фигуру.
Коротко просипели шины. Все стихло. Падали звонкие костяные щелчки в глубине леса. Он открыл пластмассовые веки.
Гамалей стоял у кабины – целый, невредимый – и что-то втолковывал взбудораженному шоферу.
– Жив? – не веря, спросил Опольский.
– Конечно, жив, – сухо ответил Климов, поднял воротник плаща. – Все. Кажется, к дождю. Зеркало треснуло. Круг распался. Надо выбираться отсюда.
Он сунул руки в карманы и, небрежно кивнув, побрел прочь по сырому, светящемуся мутным блеском, холодному изгибающемуся шоссе.
Аварийная связь
Локаторы засекли стаю вечером. Оператор прибавил увеличение, удивленно сказал:
– Птицы!
– А ты ожидал нападения с воздуха? Готовность «ноль» в секторе поражения? – спросил его помощник.
– Большая стая, – откликнулся оператор. – Интересно. Сейчас не время для перелетов.
– Думай лучше, как отыграться, – посоветовал помощник. – Пусковики чистят нас, как хотят. Лично я больше не намерен выкладывать по десять монет на каждом покере.
– Такие стаи – признак, – сказал оператор. – Птицы зря не полетят. Они чувствуют бедствия. Будет засуха или землетрясение.
– Землетрясение в степи?
Подошел дежурный офицер.
– Птицы, сэр! – доложил оператор. – Большая стая направлением на базу. Будут над нами через двадцать минут.
– Отлично, – сказал офицер, вглядываясь в колеблющийся черный треугольник на экране. – Проведем учебную тревогу. Объявить: ракеты противника в квадрате три, сектор четырнадцать, сближение по локатору.
Операторы переглянулись.
– Вы-пол-нять! – с тихой непреклонностью произнес офицер, не сгибая ног, зашагал к командному пункту.
– Наш покер, кажется, накрылся, – резюмировал оператор.
– Выслуживается, сволочь, – боязливо прошептал помощник, включая микрофоны.
Над головами их замигала красная лампочка – тревога. Надрывая сердце, завыла сирена. Грохая по кафелю коваными сапогами, побежал взвод охраны…
Когда завыла сирена, часовой на вышке снял предохранитель с карабина. Сверху ему было хорошо видно, как на пустынном полигоне дрогнули массивные стальные крышки – поднялись, и из черных шахт, словно змеи, выглянули красные головки ракет. Как допотопные ящеры, выползли из ангаров самоходные установки, настраиваясь на цель, завертели решетчатыми локаторами.
По рации ему приказали наблюдать западную часть неба. Солнце уже село, но горизонт светился. Бледную зелень его рассекали фиолетовые тучи. Из-за них часовой не сразу заметил стаю. Она быстро перемещалась. Как журавлиный клик – треугольником. Верхушки наземных ракет, упершись в нее, тихо поползли, держа траекторию, готовые в любую секунду рвануться в небо.
Стая увеличивалась. Птиц в ней было – сотни. Она нырнула – раз, другой, словно воздух не держал ее, и вдруг плещущим, живым одеялом накрыла шахты.
Снова дико, короткими гудками, захлебываясь, закричала сирена. Вспыхнули зенитные прожекторы. В их голубоватом свете часовой увидел, как по бетонным плитам к шахтам побежали черные фигурки, поехал джип, захлопали игрушечные выстрелы, прожужжала очередь, вторая, и раздраженно, над самым ухом, захрипели тяжелые пулеметы.
Словно спугнутая этой паникой, стая поднялась – белая, сверкающая, неправдоподобная в слепящих прожекторах, – стянулась воронкой и винтом ушла вверх.
Часовой не верил своим глазам: вместо аккуратных красных головок межконтинентальных ракет из шахт торчали серые, неровные, будто изъеденные кислотой тупоносые тела.
Сирена продолжала кричать. В голубом свете метались люди, сталкивались, падали. Часовой уронил бинокль, трясущимися руками нащупал спусковой крючок карабина и стал садить в небо патрон за патроном, пока не кончилась обойма.
Ночью разбудили президента. Он, в халате, вслед за дежурным охранником по полутемному коридору прошел в рабочий кабинет.
Его ждали. За столом переговаривались военный министр в начальник генерального штаба. Напротив молча курил советник по международным вопросам.
Четвертый человек, на диване, молодой, неприветливый, в тяжелых роговых очках, был ему незнаком.
Президент, смущаясь своего вида, сел, убрал голые ноги под стол.
– Мы бы не стали будить вас, Гиф, – сказал военный министр, – но обстоятельства чрезвычайные.
– Догадываюсь, – сказал президент.
– Во-первых, мы поймали «Летучего Голландца». Поймали, конечно, громко сказано, но, во всяком случае, удалось его отснять.
Начальник генштаба притушил свет, нажал кнопку на плоской коробочке проектора.
– Изображение плохое, съемки велись на пределе, – сказал он.
На экране в густоте синего цвета появилось черное каплевидное пятно, границы его были нерезкие, колебались, будто капля пульсировала.
– Западная Атлантика, триста километров от Бермуд, – пояснил военный министр.
Черная капля подрожала несколько секунд и исчезла. Экран погас.
– Это все? – скривив губы, спросил президент.
– По крайней мере мы теперь знаем, что «Летучий Голландец» существует, – сказал военный министр. – До сих пор доказательств не было. Кроме того, параллельно обычной съемке велась другая – в инфракрасных лучах. Пожалуйста.
Опять зажегся экран. Теперь фон был белым и капля отчетливо выделялась на нем.
– Если инфракрасная съемка, то, значит, что-то живое? – предположил президент.
Военный министр повернулся к человеку на диване:
– Профессор?
– Мне такое животное неизвестно. – Сидящий даже не поднял головы, рассматривал перламутровые ногти под миниатюрной настольной лампой.
– Профессор Малинк, наш крупнейший зоолог, – представил его военный министр.
Президент кивнул. Профессор тоже кивнул.
– Профессор придерживается несколько странных политических убеждений…
– Не трогайте мои убеждения, генерал, – быстро, неприятным голосом, сказал профессор.
– Но тем не менее является, пожалуй, единственным специалистом, к которому мы можем сейчас обратиться, – невозмутимо закончил военный министр.
– Что же это за убеждения? – осведомился президент.
– Я сторонник социализма, – вызывающе сказал профессор.
Президент опять кивнул. Этот человек ему не нравился. И вовсе не из-за социализма. В конце концов, все эти высокооплачиваемые эксперты – социалисты только на словах, бог с ними. Президент знал, что профессор презирает его. И в первую очередь за то, что он, не имеющий ни ученой степени, ни званий и абсолютно не разбирающийся во всей их науке, волею случая занял этот пост.
– Кто-нибудь нам скажет определенно: животное это или нет? – неожиданно высоким голосом спросил начальник генштаба.
– Достаньте приличные снимки – скажу, – отрезал профессор. И откинулся обратно, под настольную лампу.
Военный министр и начальник генштаба посмотрели на президента. Они уже вторые сутки смотрели на него вот так – как голодные волки. Президент знал, чего они хотят, опустил глаза.
– Может быть, меня поставят в известность? – глядя в пространство, сказал советник по международным вопросам.
Президент спохватился:
– Простите, Дэн, мы недавно занимаемся этим делом. Генерал, проинформируйте советника.
Военный министр сказал:
– Сутки, точнее – тридцать часов назад, в водах Атлантического океана была обнаружена подводная лодка неустановленной государственной принадлежности. Она получила условное название «Летучий Голландец». Внешний вид, размеры и скорость, с которой лодка уклоняется от контактов, позволяют предположить, что мы имеем дело с новой конструкцией огромной мощности, способной резко изменить сложившийся баланс сил. Интересно, что лодка, упорно уклоняясь от сближения с нашими кораблями, не менее упорно держится в определенной акватории – западнее Бермуд.
Министр указал на карте красный квадрат:
– Это район, где производится захоронение отходов ядерного производства. Мы сделали съемку мест захоронения.
На экране возникла серебристая шевелящаяся каша.
– В настоящий момент все затопленные контейнеры окружены громадными стаями рыб неизвестного вида, – сказал военный министр.
Изображение подалось вперед. Перебирая плавниками, из сумрака выплыла длинная рыба с расщепленным хвостом, повисла над какой-то ровной, бурой поверхностью. Вокруг нее мелькали тени. Рыба вильнула хвостом и вошла безглазой мордой прямо в эту бурую поверхность.
– Проходит стенку контейнера, – бесстрастно сказал военный министр. – Титановый сплав особой прочности. Теперь вы понимаете, Гиф?
– Профессор, что это за рыбы? – резко спросил президент.
– Это не рыбы.
– Вот как?
– Профессор полагает, что «Летучий Голландец» не что иное, как космический корабль, – недовольно сказал военный министр. – Так сказать, звездные гости.
– Забавно, – уронил президент.
Профессор вздернул голову.
– Эти так называемые рыбы и птицы не имеют аналогий ни с одним живым существом на Земле, – надменно сказал он. – Судя по снимкам, они полностью лишены зрения, у них нет рта, зубов. Вообще непонятно, как они ориентируются в пространстве.
– Э… спасибо, профессор.
Профессор осекся на полуслове, с ненавистью поглядел на президента, потом на генерала, отвернулся, стал демонстративно рассматривать ногти.
– А вот съемки наземных баз, – сказал военный министр.
Сменяя друг друга, потянулись однообразные бетонные полигоны. Из открытых шахт торчали ракеты с изъеденными носами. Лохматился тусклый металл.
– В настоящее время мы потеряли тридцать процентов стратегических ракет и до сорока – тактического ядерного оружия, – продолжил военный министр. – При таком темпе через сутки армия лишится возможности наносить эффективные удары.
Он выпрямился:
– Решайтесь, Гиф.
– Гиф, вы запрашивали русских? Что у них? – быстро спросил советник.
– Нет, – нерешительно сказал президент.
– Почему?
Военный министр высоко поднял брови, как всегда, если разговаривал с гражданской администрацией.
– Мы не можем сообщать русским о потере боеспособности. Это равносильно измене.
Советник искривил губы:
– Генерал, я не хуже вас понимаю свой долг.
– Есть конкретный план, Гиф, – раздельно сказал военный министр.
– Гиф, я прошу вас – никаких поспешных действий, – воскликнул советник. Умоляющий голос его не вязался с холодным высокомерным лицом.
– Начальник генерального штаба! Доложите! – провозгласил военный министр.
Начальник генштаба встал.
– Я предлагаю, – сказал он, и голос его зазвенел, – первое: немедленно объявить тревогу всех сухопутных войск, военно-воздушного и военно-морского флотов. Второе: немедленно сосредоточить Седьмую, Восьмую и Девятую эскадры атомных подводных лодок по периметру района западнее Бермуд, двинуть их к центру и, невзирая на потери, уничтожить «Летучего Голландца». Третье: немедленно поднять в воздух Первую особую дивизию истребительной авиации, поставив ей задачу на уничтожение всех обнаруженных стай. Частям охраны ракетных баз отдать приказ расстреливать без предупреждения любой объект, приближающийся к системе базирования.
Он перевел дыхание, наклонился к президенту, сказал в упор:
– Четвертое: если данные меры в ближайшие часы окажутся неэффективными, то обеими дивизиями стратегических бомбардировщиков нанести массированный ядерный удар в квадрате пребывания «Летучего Голландца».
– Боже мой! – ошеломленно сказал советник.
Наступила тишина. Все смотрели на президента.
– Решайтесь, Гиф, – повторил военный министр.
– Командир, наблюдатели передают: большая стая – триста километров на юго-запад. Направление на «Лотос», – сказал радист.
– Отвечай: «Вас понял. Иду на сближение». – Командир включил микрофон.
– Всей эскадрилье: разворот на юго-запад, курс шесть-девять, высота прежняя.
– Отдохни пока, я поведу, – предложил второй пилот.
– Не стоит, уже заканчиваем. Да и не хочется пропускать развлечения: никогда не стрелял по птицам.
– А почему, собственно, такая паника вокруг этих птичек? – спросил радист. – Или они несут ядерные заряды?
– Свяжись с базой, – вместо ответа приказал командир. – Передай наш курс и предупреди, чтобы не вздумали стрелять, Знаю я наземников. Не хватало получить попадание от своих.
– В самом деле, командир, – сказал второй пилот, – почему им придается такое значение?
– А ты следи за курсом.
Второй пилот тоже отвернулся.
Они шли над облаками. Командир смотрел на снежные горы. В кабине молчали. Экипаж обиделся. Но что он мог сказать, если сам знал ровно столько же. Он мог лишь повторить приказ: «Патрулировать район баз „Лотос“ и „Дракон“, уничтожать все птичьи стаи, встреченные в этой зоне. Соблюдать максимальную осторожность».
Молчание длилось минут двадцать. Потом второй пилот сказал:
– Сближение – сто. Они идут ниже облаков, командир.
– Снижаемся. Всей эскадрилье – снижение до тысячи.
Окна кабины застлала белая пелена. Летели словно в молоке. Затем пелена лопнула, открылась земля – коричневая и зеленая с серыми прожилками дорог.
– Сближение восемьдесят, – сказал второй пилот. – Вот они!
Против дымного солнца темнела длинная изогнутая черточка.
– Прошьем с двух сторон, – сказал командир. – Первое звено, за мной. Второе – Джордж, зайдешь справа. Стреляем вперекрест. Залп по команде. После залпа уходим в облака и выныриваем через двадцать километров.
– Есть, командир!
Шесть истребителей отделились и, как приклеенные друг к другу, пошли вправо.
– Готовность три минуты, – сказал командир.
Второй пилот включил таймер, начал отсчет.
– Две сорок… две двадцать… две…
Стая стремительно вырастала – алая в утреннем солнце, вытянутая, переламывающаяся.
– Детский сад, – сказал командир. – Не понимаю, зачем понадобились особые части.
– Одна тридцать… одна двадцать… – повторял второй пилот.
– Командир! – крикнул радист. – Прошли над «Лотосом». Они требуют, чтобы мы ни в коем случае не возвращались с юго-запада, чтобы описали дугу и вышли в район старым курсом.
– Перестраховщики, – сказал командир. – Вот за что всегда не любил противовоздушные войска – за перестраховку.
– Пятьдесят… тридцать… десять… пять… Ноль, командир!
– Залп!
Мгновенно самолет тряхнуло, вспыхнул белый дым, отлетел назад. Далеко справа сверкнуло ослепительное облако – выстрелило второе звено.
– Вверх! – приказал командир.
– Жаль, не увидим попадания, – сказал второй пилот. – Наверное, красивая картинка.
В кабине громко хрустнуло, будто раскусили орех.
– Черт возьми, свет! – закричал командир. – Почему нет света?
Наружные стекла почернели.
– Падаем, командир! – сообщил второй пилот.
Командир вслепую – не светилась даже приборная доска – потянул штурвал на себя: его словно приварили к корпусу. Самолет затрясся, заскрежетал рвущийся металл, и через расходящиеся трещины в кабину хлынуло пламя.
Наблюдатели наземной службы видели, как сближались стая и эскадрилья. Видели, как отделилось второе звено, четко, словно на параде, пошло вправо. Затем от каждого самолета рванулись белые шлейфы – залп ракетами «воздух – воздух». А затем они увидели, что все двенадцать самолетов лучшей в полку эскадрильи разом вспыхнули, как картонные, и закувыркались в светлеющем небе.
Новости поступали ежеминутно. Машина, прямым кабелем соединенная с телетайпом, извергала бесконечную ленту. Президент сидел за столом все еще в халате; лицо его за ночь пожелтело, под глазами появились мешки. Он молча просматривал ленту, перебрасывал ее через стол – советнику.
…От командующего Первой особой дивизией истребительной авиации:
Первый полк особой дивизии истребительной авиации в шесть часов пятнадцать минут вышел этажеркой на объект «Птицы» в районе 17–11 (Харлан). Имея приказ на уничтожение объекта, полк произвел послойный ракетный залп системами «воздух – воздух», после чего связь с ним была прервана. По сообщениям наблюдателей, ракеты, пройдя объект поражения «Птицы», не взорвались. Самолеты полка через десять секунд после выстрела были атакованы с применением неизвестного оружия. Из ста восьми человек летного состава в живых остались двое. В настоящее время в зоне инцидента ведется интенсивный поиск уцелевших. Одновременно предпринимаются попытки выяснить судьбу невзорвавшихся ракет системы «воздух – воздух».
…От командующего Первой особой дивизией истребительной авиации:
Второй полк особой дивизии, последовательно с первым выйдя на объект «Птицы» и открыв огонь с предельной дистанции, потерял в первые же секунды боя до шестидесяти процентов машин. Оставшимся экипажам приказано немедленно вернуться на базу. Уточняю потери в первом полку: погибло девяносто человек, судьба еще десяти неизвестна. В связи с имеющимися потерями прошу подтвердить приказ о продолжении атаки на объект «Птицы».
…От командующего Вторым Атлантическим подводным флотом:
Сегодня к шести часам Седьмая, Восьмая и Девятая эскадры атомных подводных лодок сосредоточились в указанном районе (западнее Бермуд) и начали продвижение к центру возможного пребывания «Летучего Голландца». В восемь тридцать командиры эскадр сообщили о появлении цели. В восемь тридцать две связь была прервана и не восстанавливается уже в течение часа. Самолеты ВМФ обнаружили в этом районе множество плавающих обломков. Принимаются меры для спасения экипажей подводных лодок. Четвертой, Пятой и Шестой эскадрам отдан приказ аварийным ходом выдвинуться в указанный район (западнее Бермуд).
– Гиф, – сказал советник, держа ленту в дрожащих руках, – это надо немедленно прекратить. Мы останемся без армии.
Костюм советника был помят, галстук развязан, безупречные волосы рассыпались.
Президент перевел на него ничего не выражающий взгляд.
…От командующего вооруженными силами в Европе:
Английская истребительная авиация при атаках объекта «Птицы» потеряла около половины всех самолетов. Эсминец «Оксфорд», высланный в район западнее Бермуд для произведения глубинного бомбометания, пропал без вести. Итальянский генеральный штаб заявил, что Италия прекращает боевые действия. Западногерманские летчики после гибели полка «Вестхоф» отказываются совершать вылеты.
…Справка от группы военных экспертов:
Немедленному уничтожению подвергаются лишь те самолеты (подлодки), действия которых представляют непосредственную опасность для объекта «Птицы» («Рыбы»).
…От командующего Первой особой дивизией истребительной авиации:
Прошу срочно подтвердить приказ о продолжении атак на объект «Птицы». В случае неполучения ответа военные действия прекращаю.
– Очнитесь, Гиф. Надо остановить бойню, – сказал советник. – Гиф, вы понимаете меня?
Шаркающей походкой вошел военный министр, повалился в кресло, поднял на президента венозные глаза.
– Конец, – прохрипел он.
Железного генерала было не узнать: из-под расстегнутого кителя выбилась мятая рубашка, лицо обросло седой щетиной.
«Он совсем старик», – с удивлением отметил президент.
Военный министр достал из кармана флягу, открутил колпачок.
– Не желаете? А мне надо. – Сделал глоток. Ощутимо запахло спиртным. – Все. Разбиты. Разгромлены. Уничтожены. Капитулируем на милость победителя. А вы знаете, что передают русские? Они передают, что давно предлагали разоружиться. – Он сделал еще глоток. – Интересно, нас всех убьют или часть поселят в зоопарках? Я лично согласен на зоопарк. Буду бегать на четвереньках и рычать.
Прогудел зуммер. Президент взял трубку, послушал:
– Давайте.
Загорелся экран на стене. Возникла уже знакомая картина: ракетный полигон, черные шахты, атомные головки, накрытые белым, шевелящимся одеялом.
– Пытаются отловить «птиц», – сказал президент.
– Птички, птички, – спотыкаясь на согласных, произнес военный министр.
– Всегда ненавидел птиц. У нас дома была канарейка. Однажды, когда все ушли, я свернул ей голову. Я тогда был маленький, – добавил он, подумав.
– Возьмите себя в руки, генерал, – очень холодно сказал советник.
Военный министр повернулся в его сторону, долго изучал, сказал горлом:
– Презираю, – и замолчал.
Президент смотрел на экран. Над полигоном появилась четверка легких вертолетов. Они несли мелкоячеистую металлическую сеть. Зависли над шахтами, поплыли вниз, на секунду коснулись земли и тут же прыгнули обратно. Сеть накрыла стаю.
«Птицы» на это никак не реагировали. Изображение застыло. Прошла минута. Стая взлетела. Сеть осталась лежать. Под ней ничего не было.
– Все? – спросил президент в селектор.
– Момент, сейчас дадим крупным планом, – сказал молодой голос.
Вернулся кадр: сеть на «птицах». Ячейки придвинулись – копошился белый шар с нелепыми короткими крыльями. Он прошел сквозь сеть, проволока разрезала его, но части слиплись – миг, и целая птица замахала культями, полетела.
Тот же молодой голос вдруг взволнованно сказал:
– Президент, они уходят.
– Что? – президент выпрямился.
– Они уходят. Случайное сообщение. Аргентинский траулер оказался в зоне. Экипаж видел их взлет. Четыре часа назад.
– Четыре часа! – крикнул президент.
– У нас нет кораблей в зоне, – на тон ниже сказал голос.
Над президентом кто-то стоял. Он поднял голову. Стоял военный министр. Он был застегнут на все пуговицы, тверд, молод.
– Запросите КС, – лязгнув голосом, сказал он.
Президент потянулся к спецсвязи, но, опережая его, на пульте зажглась лампочка, резкий голос произнес:
– Сообщение службы космического наблюдения. Четыре часа назад космический корабль неизвестной государственной принадлежности пересек орбиты спутников-наблюдателей и вышел в открытое пространство.
– Почему не доложили раньше? – подхлестываемый взглядом военного министра, яростно спросил президент.
– Корабль пеленгацией не фиксировался, – невозмутимо ответил голос. – Определили по косвенным признакам. Проверяли. В момент прохода орбит корабль выбросил спутник.
– Ну?!
– Спутник в течение трех часов ведет непрерывную передачу. Текст дешифрован. Слово профессору Лундквисту.
Сухой академический голос сказал:
– Здравствуйте, президент. Собственно, дешифровка не доставила особых трудностей. Язык очень прост. Нечто вроде вашего эсперанто. Создается впечатление, что он сознательно упрощен, чтобы была возможность использовать его в качестве универсального для различных языковых сообществ.
– Текст! – металлическим тоном сказал военный министр.
– Пожалуйста. Не расшифрованы лишь специальные термины. Значит, так… М…м…м… Всем кораблям Круга. Система звезды. – Дальше координаты. – Третья планета. Белковая жизнь. Разумная форма. – Дальше термин. – Техническая цивилизация. Первый ядерный уровень. Противостояние социальных систем. Контакт запрещен. Повтор. Противостояние социальных систем. Контакт запрещен. Кризис экологии. Полная очистка планеты. – Дальше термин. – Беспилотный аварийный корабль. – Дальше термин, предположительно, имя собственное. – Регулярная очистка каждые пятьдесят лет. Это все, президент. Дешифровать термины мы не сможем. Сообщение передается с интервалом в пять минут. У меня есть определенные соображения…
– Изложите их в письменной форме, – приказал военный министр. Выключил селектор.
Президент оглянулся на советника. Тот облизал сухие губы. Военный министр сверху вниз смотрел на них обоих.
– Все не так плохо, Гиф, – снисходительно сказал он. – У нас есть целых пятьдесят лет.
Давайте познакомимся
Его привезли поздно – в двенадцатом часу.
Старшая сестра постучала в дверь.
– Иду, иду, – сказал Полозов.
Очень не хотелось вставать. Глаза слипались. Так всегда в первую половину дежурства. Он затянулся в последний раз, бросил окурок.
Коридор был пуст. Двери в палаты открыты. Окна зияли чернотой. По холодной лестнице Полозов сбежал вниз, к операционной. Варвара уже ждала его – затянутая в халат, со сжатыми губами: злилась, что приходится дежурить в ночь.
Вторая сестра, совсем молоденькая, нерешительно стояла поодаль. Он ее на знал. Вероятно, из новеньких.
Пол в предбаннике был кафельный, белый. Нестерпимо светили лампы под потолком. Полозов сунул руки под кран в кипяток, начал тереть щетками.
Варвара за спиной держала полотенце – молчала.
– Ну что там? – наконец спросил Полозов.
– Мужчина. Лет двадцать пять – тридцать, – сухо ответила Варвара. – Попал под грузовик. Перелом ноги. Сломаны два ребра. Кровотечение. Трещина в черепе. Пьяный, конечно…
– Просто несчастный случай, – вдруг сказала вторая сестра. – Ведь мог быть просто несчастный случай.
– Ты, Галина, еще навидаешься, – сказала Варвара. – А я знаю – напьется и лезет напролом. Море ему по колено.
«Ее зовут Галя», – отметил Полозов.
– Нальется так, что глаза врозь, а нам работа – заделывать…
Полозов скреб руки. Варвара бурлила. Все это он слышал уже тысячу раз. Ворчать она умела. Что, впрочем, не удивительно: разведенная, за сорок лет, никаких перспектив.
Галя ответила чистым голосом:
– Медицина, Варвара Васильевна, помогает вне зависимости от социального, юридического или психологического состояния больного.
«Она, наверное, студентка, – подумал Полозов. – Излагает, как по учебнику».
Зато Варвара просто вскипела:
– А вот я – будь моя власть – и не лечила бы таких. Напился – подыхай на панели!..
Это было уже слишком. Полозов приказал:
– Полотенце.
Варвара фыркнула, но замолчала. Полозов вытирал руки…
В операционной неистово светил рефлектор. Привезенный лежал на столе, на тонкой блестящей пленке. Грудь у него выступала. Гладкая, будто полированная, кожа натянулась на ребрах. Багровели длинные ссадины. Ниже, под бинтами и ватой, громадным пятном запеклась кровь. Голова у него была запрокинута, подбородок торчал вверх.
– А молодой, – вдруг сказала Варвара. – Жаль, когда молодой.
Полозов одним взглядом прогнал ее на место.
Анестезиолог – шапочка у него съехала, халат был мятый – сообщил:
– Пульс пятьдесят пять, падает. Наполнение слабое.
– Крови потерял много? – спросил Полозов.
Анестезиолог равнодушно пожал плечами.
– Я спрашиваю: он много потерял крови?
– Порядочно, – сказал анестезиолог. Глаза у него были воспаленные, усталые.
– Группа?
– Вторая.
– Есть у нас вторая группа?
Анестезиолог опять пожал плечами.
– Я вас выгоню, – с бешенством сказал Полозов. – Я вас завтра же – на утренней конференции…
– Безобразие, – добавила Варвара.
Галя ничего сказать не решилась, но глаза у нее возмущенно сверкали.
– А это не мое дежурство, – спокойно объяснил анестезиолог. – Я уже отмотал сколько положено. Сменный заболел. Я бы вообще мог не оставаться.
Полозов сдержался. Что тут поделаешь. Формально он прав. Его смена закончилась. А что остался на вторую – подменить коллегу, так это даже благородно.
– Виктор Борисович, – сказала Варвара. – У нас есть два литра первой. Правда, консервированная…
Полозов только дернул головой – она заторопилась к холодильнику.
Несколько секунд все молчали. Полозов пытался успокоиться. Работать с таким настроением нельзя. Это он знал по опыту. Если сразу не заладится, то и дальше пойдет наперекос.
В операционной было тихо. Привезенный парень, судорожно дыша, лежал под рефлектором. Кожа на груди то натягивалась, то опадала.
Спокойствие давалось трудно. Анестезиолог отвернулся – мол, меня это не касается, я свои обязанности выполняю, остальное – дело ваше.
Галя смотрела то на одного, то на другого.
Вернулась Варвара.
– Полтора литра, – сообщила она.
– Хорошо, – сказал Полозов. – Будем делать. – Шагнул к столу. Варвара сразу же стала напротив. Галя робко подошла сбоку.
– Петр Сергеевич, – сказал Полозов анестезиологу. – Я вас прошу – пульс, сердце и вообще.
Анестезиолог пожал плечами. Варвара возмущенно мотнула головой, хотела что-то сказать, Полозов быстро остановил ее:
– Начинаем!
Картина была отвратительная. Перелом – черт с ним. От переломов еще никто не умирал. Нога обождет. Трещина в черепе? Еще неизвестно, есть ли она. Написать все можно. Ударился он, конечно, сильно: все-таки самосвал – не велосипед, но определить трещину на улице – это вряд ли. Во всяком случае, с головой тоже горячиться не следует. А вот грудная клетка и полость – сплошной кошмар. Два ребра сломаны. Концы их ушли внутрь и, наверное, проткнули диафрагму. Кишечник, конечно, тоже задет, сосуды порваны – вон сколько крови потерял. И брюшная стенка – в клочья, одни лоскутья. Вероятно, сперва его сшибло, отсюда трещина в черепе, а потом грузовик наехал на ногу и на грудь.
Полозов выпрямился. Варвара одним движением вытерла ему лоб. В операционной было жарко.
Хуже всего, что дыра бог знает какая. Грязи – центнер. Пока приехала «скорая», да пока перевязали… Перитонит обеспечен. Если даже этот парень и перенесет операцию… Так или иначе, работы здесь часов на шесть. Не меньше.
Он снял бинты. Сразу же пошла кровь – обильно, широко. Варвара ловко убирала ее, не давая стекать внутрь.
– Пульс пятьдесят пять, – сказал анестезиолог. – Учащается.
– Приходит в себя, – предупредила Варвара.
Действительно, спекшиеся губы на белом лице дрогнули, распахнулись глаза – большие, серые, недоуменные, из горла вылетел слабый хрип.
– Наркоз, – приказал Полозов.
Варвара обернулась, но, к счастью, промолчала. Анестезиолог нехотя взял маску. Полозову казалось, что он двигается нарочно медленно.
Парень все пытался что-то выговорить, оторвал голову, с натугой мигнул раз, другой, но тут маска закрыла лицо.
Полозов медлил. Ему очень не хотелось вскрывать стенку. Два ребра и кровотечение. Можно представить, какая там каша. Он вообще не любил операций на брюшной полости. И места вроде много, и поле крупное, а чуть что не так – воспаление, острый процесс, и вся работа насмарку.
Но делать было нечего.
Варвара сосредоточенно смотрела на его руки – ждала. Анестезиолог убрал маску, вернулся на свое место, спина его ясно выражала – а провалитесь вы все. После Полозова он был здесь самый опытный, но при таком настрое вряд ли можно было ожидать от него серьезной помощи. Ну а Галя – что Галя? – студентка. Побледнела вся, напряглась. Наверное, в первый раз на операции. Того и гляди самой станет плохо.
В общем, рассчитывать можно только на Варвару. У нее стажа – дай бог. Ну и на себя, конечно.
Варвара подняла на него удивленный взгляд.
– Вскрываем, – сказал Полозов и взял ножницы.
Он взрезал кожу, расслоил мышцы. Внутри было, как и думал. Каша. Прорвались крупные сосуды. И вероятно, прорвались уже давно, еще при наезде – кровь частично свернулась, диафрагма висела лохмотьями, к кишечнику страшно было прикоснуться.
Варвара посмотрела на него. И Полозов понял, что она хотела сказать. Бесполезно. Никаких шансов. Проще оставить как есть. Полозову тоже этого хотелось. На мгновение он даже пожалел, что парень не умер по дороге в клинику. Ему самому было бы лучше.
– Пульс сорок. Наполнение слабое, – неторопливо сказал анестезиолог.
Полозов вздохнул, и работа началась.
Сначала все шло хорошо. Полость удалось очистить быстро. Варвара в таких случаях была просто незаменимой. И повреждений, особенно в кишечнике, оказалось меньше, чем он ожидал, – поражение все равно было смертельным, но работа не такая тяжелая. Полозову удалось довольно быстро закрыть слизистую, теперь за желудок можно было не опасаться, и Варвара это оценила, кивала одобрительно, но потом вдруг что-то сдвинулось, дернулось, он даже не успел понять – что, все сместилось, хлынула кровь – густо, горячо. Варвара замелькала отсосом, даже Галя пыталась что-то сделать тампонами – ничего не помогало: кровь выходила толчками, заливала полость. Наверное, прорвало воротную вену. Да – «вена порта». Скорее всего, она уже была повреждена, стенка держалась чуть, и теперь, когда Полозов начал копаться, лопнула. Он сунулся с лигатурой, ничего не было видно, нитки крутились в держателе, Галя не вовремя лезла под руки. Полозов про себя ругался черными словами. Пот заливал глаза. Он усиленно моргал, помогало это плохо.
– Пульса нет, – вдруг сказал анестезиолог.
Полозов поднял голову.
– Сердце стоит.
– Адреналин, – хрипло сказал Полозов.
Варвара будто ждала – подала шприц. Игла вошла меж ребер. Поршень медленно пополз вниз.
– Ну?
– Стоит, – сказал анестезиолог.
– Дефибриллятор!
Варвара покачала головой:
– Виктор Борисович…
– Быстро! – гаркнул Полозов. Он и сам знал, что бесполезно. – Запускай!
Анестезиолог щелкнул тумблером. Сердце дернулось. Тут же он сказал:
– Остановка.
– Еще раз!
– Остановка.
– Еще раз!
Анестезиолог пожал плечами – мое дело маленькое, приказывают, я выполняю.
Так продолжалось минут десять. Запустить сердце не удалось. Реакция была все слабее и слабее. Варвара покашливала. Анестезиолог откровенно морщился.
– Ладно, все, – сказал Полозов. – Все. Закончили.
Стащил перчатки. Варвара сунула чистую марлю – вытер лицо, подумал: «Сделать-то все равно ничего было нельзя».
Сильно хотелось курить.
– Он умер? – нерешительно спросила Галя.
Ей никто не ответил. Анестезиолог свертывал провода. Полозов все-таки достал сигарету. Варвара смотрела неодобрительно – прямо в операционной.
– Он умер? – снова спросила Галя.
– Надо будет заполнить историю болезни, – сказал Полозов.
Варвара закивала:
– Да-да, Виктор Борисович, я помогу.
В лице ее не чувствовалось никакой усталости. Железная была женщина.
– Смотрите, смотрите! – вдруг сказал анестезиолог.
Все обернулись.
– Сердце!
– Что – сердце?
– Есть сердце!
– Что за ерунда… – начала Варвара. Полозов, отстранив ее, шагнул к экрану. В темно-серой стеклянной глубине вспыхивала серебряная звездочка.
– Я уже хотел выключать, – возбужденно сказал анестезиолог. – Вот уже за ручку взялся, и вдруг – заработало.
– Дышит! – воскликнула Варвара. – Виктор Борисович, дышит!
– Это обморок был, – сказала Галя.
Полозов даже не обругал ее за глупость – натягивал перчатки, пусть не стерильные, теперь не до этого.
В груди было холодно. Ничего себе – так залететь. Принять живого за мертвого. Может быть, шок? Хотя вроде не с чего. Или аллергия к наркозу? Он слыхал о таких случаях: некоторые не переносят. Вплоть до летального исхода. Вдруг и здесь – дали маску, отключился. В любом случае это позор. Грубейший промах. Выговор обеспечен. А могут и вообще погнать. Слава богу, еще заметили. А если бы очнулся в морге?
У Полозова даже в горле перехватило.
– Наркоза больше не давать! – крикнул он. – Следите за пульсом.
Варвара замерла у стола. Лицо у нее было какое-то странное.
– Шевелись! – закричал Полозов. – Отсос, лигатуру! Галя, тампоны – живо!
Галя мотнулась к столику с инструментами.
– Не надо, – спокойно сказала Варвара.
– Что не надо? С ума сошла!
– Посмотрите, Виктор Борисович, – так же спокойно сказала Варвара.
Полозов посмотрел. Кровь больше не текла.
– Ну и что, – сказал он. – Тромб. – Поторопил ее: – Не стой, Варвара, не стой.
– Вы глядите, глядите, – сказала она.
Кровь не просто остановилась, а как бы спеклась, ссохлась, ее вдруг стало меньше.
– На желудок посмотрите, Виктор Борисович.
Полозов не верил. Там, где он с такой быстротой и блеском зашил порез, теперь появился рубец – плотный, бугристый, надежно схватывающий края, словно операция была сделана не полчаса, а по меньшей мере месяц назад.
Суматошно подлетела Галя с тампонами. Полозов, не глядя, поймал ее за руку.
– Пульс пятьдесят. Ровный. Наполнение среднее, – сказал анестезиолог.
– И здесь, – Варвара осторожно показала пальцем.
Диафрагма, которая только что висела клочьями, вдруг начала зарастать. Именно зарастать. Лохмотья еще остались, но сморщились, съежились, прилипли к ткани и потихоньку рассасывались. Между ними прямо на глазах появлялась молодая розовая пленка.
– Вы помните Анциферова? – шепотом спросила Варвара.
Полозов быстро повернулся. Варвара смотрела напряженно, желая сказать и не решаясь при посторонних.
Он, конечно, помнил. Еще бы!
Пленка закрыла всю диафрагму. Она была тонкой, просвечивающей, в нее миллиметр за миллиметром вползали капилляры.
– Что это такое? – очень тихо спросила Галя где-то за спиной.
– Приходит в себя, – предупредила Варвара.
Парень открыл глаза, повел по сторонам, с трудом сглотнул – сейчас заговорит.
– Наркоз! – рявкнул Полозов.
Анестезиолог подскочил:
– Вы же запретили.
– Наркоз! Наркоз! Быстрее!
Маска легла на лицо. Анестезиолог прижимал ее обеими руками, поглядывая с некоторым испугом.
– Он, значит, живой, – шепотом сказала Галя.
Диафрагма совсем заросла. Ясно проступали мышцы и сухожилия. Рубец на желудке рассосался – никаких следов. И кровь, заливавшая полость, исчезла: отдельные черно-красные сгустки с каждой секундой бледнели и таяли.
– Ох, так и растак, – сказал анестезиолог. Он заглянул через плечо.
Варвара уничтожающе посмотрела на него. Он крутил головой.
– Ох, этак и разэтак.
– Надо зашивать, – нарочито громко сказала Варвара.
Полозов очнулся:
– Да-да, конечно…
– Виктор Борисович, – протянула Галя, – я ничего не понимаю.
– Я тоже, – мрачно отозвался он.
– Ох, так-так и еще раз так, – сказал анестезиолог.
Зашили быстро, хотя Полозов не торопился – накладывал стежки машинально.
Потом он бросил держатель, задумчиво стащил перчатки:
– Остальное – сами.
Варвара понимающе кивнула.
– И снимите повязку с ноги. Она ни к чему. – Взгляд его остановился на лице парня. Тот дышал спокойно, ровно. – Голова, я думаю, в порядке. Трогать не надо. Варвара Васильевна, закончите – зайдите ко мне.
– Елки-палки, – сказал анестезиолог, видимо, исчерпав словарный запас.
Затем они сидели в дежурке. Полозов курил. Варвара принесла чай. За окном была плотная ночь. На столе под лампой лежала история болезни.
Молчали долго. Наконец Варвара спросила:
– Что будем писать, Виктор Борисович?
Он вяло ответил:
– А что писать? Характер травм, характер операции в полости и на конечностях.
– Он уже завтра будет ходить, – сказала Варвара. – Вспомните Анциферова.
Полозов прищурился. Варвара поспешно добавила:
– Нет-нет, фамилия другая. Я смотрела. И, кроме того, Анциферову за сорок, а этот совсем молодой.
Полозов криво усмехнулся:
– Значит, так. Запишем полость… Запишем, что голова в порядке. Ошиблись на «скорой». А перелом… Запишем не перелом, а вывих…
Варвара отхлебнула чай:
– И правильно, Виктор Борисович. Хватит с нас Анциферова. Три объяснительных. Четыре комиссии. Рентген, анализы, протоколы… И кто поверил?
– Я бы на их месте ни за что не поверил, – сказал он.
– Только… Мы были не одни…
Полозов махнул рукой:
– Обойдется. Эта… Галя… вообще отпадает. Кто она? Студентка?
– Да.
– Ну вот… А тот фрукт… – Он сморщился. – Ну расскажет, ну потреплется в курилке, будет клясться. Поболтают и перестанут.
Помолчав, помешал ложечкой в стакане.
– Интересно, кто-нибудь еще видел нечто подобное? Или только вам везет? Надо будет осторожненько порасспрашивать.
– Я вот что думаю, – сказала Варвара. – А ведь их, наверное, много – таких. Ведь за два года – второй случай. И опять у нас. А если и у других хирургов? А сколько больниц в городе? Нет, этих людей много, Виктор Борисович.
– Это не люди, – устало сказал Полозов.
– А кто? – она спросила испуганно.
– Не знаю, – сказал Полозов. – Не знаю. Но только это – не люди…
Галя шла по тихому коридору. Свет был притушен. Больница спала. За столиками клевали носами ночные сестры.
Сегодняшний случай не выходил у нее из головы. Странная какая-то история. Ничего не понять. И Виктор Борисович не объяснил. Тоже – врач, принял живого за мертвого. Называется, практика.
Она повернула за угол.
У окна стоял парень. Тот самый, которого оперировали. Курил в форточку, сильной струей выдувая дым.
Увидел ее, подмигнул:
– Спокойной ночи, доктор.
У него было очень приятное лицо – серые глаза, прямой нос, шапкой светлые волосы. Рослый, плечистый. Наверное, спортсмен, может быть, даже мастер.
Но удивительно: тяжелейшая операция, а он ходит.
– А здесь нельзя курить, – сказала Галя.
– Да? – Он улыбнулся беззаботно. – Я только одну, напоследок.
– И вам нужно лежать, – сурово добавила Галя, вспомнив про операцию.
Он бросил окурок в форточку, засмеялся:
– Почему вы такая строгая? Не надо… Вы еще дежурите?
– Да, – сказала Галя.
Он опять подмигнул – весело:
– Вот и хорошо. Давайте познакомимся.
Чистый город
Около указателя машина остановилась. На квадратной табличке белело: «Озерное – 8 км».
Васька просунулся в дверцу и сказал:
– А может, он там?
– Что ему там делать? – спросил Павел.
Аня ответила неуверенно:
– А вдруг он в самом деле в Озерном? Ну – заехали. Не удалось купить продуктов в городе или…
– У тебя вообще слова нет, – сказал Павел. – Тебя для чего взяли?
Аня надула губы и привалилась к кабине:
– Подумаешь, начальник…
– А у меня в Озерном братан, – сообщил Васька. – Можно было бы… – Он щелкнул пальцем по горлу. – И заночевать. Нет?
Васька был местный, ничего не боялся и ездил в любом состоянии.
– Какие будут указания, шеф?
– В город, – коротко распорядился Павел.
– Эх… – разочарованно вздохнул Васька. Видно было, как ему не хочется тащиться тридцать километров до города, а потом еще девяносто обратно.
Машина, горячо урча, двинулась – ушла колесами в воду, завалилась набок. Аня напряженно вцепилась одной рукой в борт, а другой – Павлу в рубашку.
– Нет, я точно выпаду. Держи меня, Паша…
Павел обхватил ее за плечи и, вывернув запястье, посмотрел на часы. Время шло к обеду. Ясно, что вернуться сегодня не удастся. Придется ночевать в городе.
Это было плохо: ребята вторую неделю сидели на одной каше – без соли и хлеба. Отказали батарейки у приемника. Кончался бензин. Десять дней назад Павел отправил Кирьяка в город – запастись необходимым и дать телеграммы в институт, как идет работа. Отправил на двое суток, и с тех пор – ни слуху ни духу.
– А может, он заболел? – сказала Аня.
– Не балабонь, – ответил Павел, сползая на дно задравшегося к небу грузовика.
– Или не перевели деньги. – Аня сползла вслед за ним. Все это – заболел, сломалась машина, не отпускают продукты с базы – обсуждалось не один десяток раз.
– Или сломалась машина, – сказала Аня. – Наверное, сломалась, если бы заболел, то прислали бы Петра. А то – ни того, ни другого.
Петр – второй шофер, который повез Кирьяка.
– Ты зачем поехала? – спросил Павел. – Зачем? Сидела бы в лагере. А поехала – молчи. Без тебя тошно.
– По-о-жа-алуйста, – сказала Аня и отпустила его. Тут же стукнулась локтем о борт. – Ой, Пашка! Я все-таки буду за тебя держаться. Ужас… Наверное, по всему телу синяки.
Теперь они оба лежали на дне кузова. Хорошо, что захватили спальники. Машину качало, как на волнах. Даже сквозь шум мотора было слышно, какие слова произносит Васька в кабине.
Павел думал, что если они не возвратятся быстро: сегодня-завтра, то дело может обернуться плохо. В длительных экспедициях вообще трудно до самого конца удержать ровные отношения. А в этих условиях тем более. Ребята на пределе. Последние дни ходят – огрызаются. Вчера Михай сцепился с Витькой – орали, размахивали руками. Еле их развели. И главное, из-за чего – из-за ерунды: кто больше выдавил репеллента. Чем кончаются такие истории – известно. Тайга, четыре палатки, карабины. Постреляться, конечно, не постреляются, на это ума хватит, а вот устроить грандиозный мордобой могут вполне. А это – ЧП, которое отразится прежде всего на Павле. Ведь как бывает: раз поцапались в полевых условиях, два – и пошли разговоры. И уже вызывают в дирекцию. И режут группу. Оглянуться не успеешь, как придется выезжать одному.
– А может, его срочно вызвали в институт? – сказала Аня.
– Ты хоть думаешь, что говоришь? Что он – все бросил и уехал?
– А может… – начала Аня.
– А может, наконец помолчишь? – сказал Павел.
Затормозили у бензозаправки на самом краю города. Васька вылез и поскреб затылок:
– Вот это да-а…
Станция была пуста – ни одной машины. Темно поблескивало стекло кабины под козырьком. Справа и слева стояли два ярко-красных счетчика. Асфальт был залит солнцем.
Павел тоже слез – размяться, подал руку Ане, она лихо прыгнула вниз.
Васька барабанил по стеклу:
– Маруська!.. Хватит спать! – Пояснил: – Маруська Кобышева меня знает, и неоднократно… – Застучал снова: – Маруська!..
За стеклом было тихо.
– А какой сегодня день?
Аня пожала плечами:
– Чтоб я знала…
– Неужели воскресенье? – сказал Павел. – Не может быть, чтобы воскресенье. Вчера считали – двадцать шестое, понедельник. И календарь есть.
Васька загрохотал по раме в полную силу:
– Ау!.. Есть кто живой? – Обернулся к Павлу: – Ни хрена никого нет. Какая будет команда, шеф?
Павел задумался.
– Имей в виду – обратно бензина не хватит. Один бак пустой, а во втором на дне.
– В крайнем случае стрельнем у шоферов…
– Это, конечно, можно, – с сомнением сказал Васька. – Шакалы они здесь… – И полез в кабину.
Машина выехала с заправки. По обеим сторонам потянулись дома – невысокие, четырехэтажные, серого кирпича. Тротуар был обсажен хилыми тополями. Они имели унылый, засохший вид. Даже вчерашний дождь не смыл пыль с жестких листьев.
На улицах никого не было. Это удивило Павла. Предположим, сегодня все-таки воскресенье и городок небольшой, но чтобы – ни единого человека…
– Как пусто, – сказала Аня. – Они тут вымерли, что ли…
Наверное, та же мысль пришла и Ваське, потому что он неожиданно дал громкий и длинный гудок. Белые занавески в окнах не шелохнулись. Из парадных никто не выглянул.
Машина вылетела на площадь – большую, пыльную. В центре ее высился памятник, отливающий металлом, флаг на здании с колоннами обвис – ветра не было. Вплотную к тротуару стояли три легковые машины без водителей, и еще один «москвич», развернувшись, загородил проезжую часть – Васька погудел возмущенно.
Они свернули за угол и остановились у техникума. Здесь была их база. Васька сразу же выскочил, закричал:
– Видали, видали!
Павел спрыгнул, чувствительно ударился подошвами об асфальт, спросил:
– У вас здесь всегда так людно?
– Понимаешь, елки-палки! – возбужденно сказал Васька. – Понимаешь: ничего не понимаю… Куда все подевались? Субботник какой-нибудь в колхозе? Или что – елки-палки…
– А не наша ли машина? – спросил Павел.
Дальше по улице, метрах в пятидесяти, стоял грузовик.
– Наш, елки-палки! ОМН-42-41. – Васька кинулся туда, добежал, прильнул лицом к стеклу и замахал руками – никого нет.
– Я слезаю, – сказала Аня.
– Подожди, – ответил Павел. Васька вернулся.
– Ну дела, елки-палки!..
– Ты хоть бы потише, – сказала Аня, – я все-таки женщина.
– Виноват, елки-палки, – сказал Васька и схватил Павла за рукав: – Ты смотри, смотри, шеф, резина у него какая – видишь, колеса просели, на одних костях стоит. Довели «зилок». Ну, Петруха… ну шоферила…
– Сейчас все выясним. – Павел приказал Ваське: – Пойдешь со мной… – Ане: – От машины не отлучаться.
– А вы надолго?
– Ни в магазин, ни в парикмахерскую – никуда!
– Не очень-то командуй, – сказала Аня.
Павел толкнул дверь, она была открыта. Васька пошел за ним, крутил головой:
– Ну напарничек у меня, елки-палки… Ну водила безрогий…
Аня не решалась слезть с машины, так и сидела в кузове. Увидела их, обрадовалась:
– Ой, ребята, наконец! Я так боялась, так боялась… Кругом – никого. Тишина какая-то противная. Честное слово, показалось, что вы тоже уйдете и больше уже не вернетесь…
Тут она разглядела их лица, спросила тише:
– Что случилось, ребята?
– Дай-ка закурить, – сказал Павел Ваське. Васька полез в карман – не тот, полез в другой – опять не тот, вытащил мятый «Беломор», пальцы не могли схватить папиросу, сказал:
– Надо сваливать. Слышишь, шеф, надо рвать отсюда…
– Ну что случилось? – Аня перевесилась через борт. – Вы мне скажете или нет, Паша!
– Не кричи, – посоветовал Павел. Васька с испугом посмотрел на него и завертелся, озираясь.
– Мальчики… – жалобно сказала Аня.
– Там никого, – ответил Павел. – Вообще никого. Ни дежурного, ни вахтера… Радио молчит, телефоны не работают…
У Ани расширились глаза.
– Сегодня воскресенье, – шепотом сказала она. – Вот, поэтому…
Павел сморщился, как от лимона. Васька все вертелся.
– Прекрати! – Тот дернулся, лязгнули зубы, но ничего – остановился, напряг голубые глаза.
– Все. Едем, – сказал Павел.
– Куда?
Павел мотнул головой на здание с колоннами.
– Ага! – Васька кинулся в кабину.
– Стой! – Павел показал на передний грузовик. – У него бензин есть?
Васька посмотрел в ту сторону и сказал:
– Я один не пойду.
– Что же это такое? – сказала Аня. – Что же тут происходит?..
Бензин все-таки налили. В грузовике оказался полный бак. Через площадь ехали медленно. Казалось, что гул мотора разносился по всему городу.
Аня сказала, что пойдет с ними – не может сидеть одна. Павел махнул рукой – ладно.
Вестибюль был тих, темен, лампочка не горела. По мраморной лестнице они поднялись на второй этаж. Аня вскрикнула – на площадке лежали две кучки серой тонкой пыли.
– Замолчи, – сквозь зубы сказал Павел и, видя, что ее трясет, приказал грубо: – Заткнись, тебе говорят!
Это подействовало. Аня замолчала. Только старалась держаться к ним поближе – за спиной.
– Там, в техникуме, тоже такие, – сдавленно сказал Васька. Они прошли по длинному коридору. Из больших окон лилось горячее солнце. Воздух был душным, неживым. Все двери были распахнуты, все комнаты пусты. Везде – аккуратные, ровные конусы серой пыли.
Коридор кончался приемной: по стенам стояли стулья, справа от дверей находился столик с телефоном. Павел поднял трубку. Там была тишина. Ни гудка, ни слабых тресков, показывающих, что аппарат работает, – ничего.
– Что-что? – спросил Васька.
Павел пощелкал выключателем на стене:
– Нет тока.
Аня сразу же закусила кулак, дышала громко.
– Надо найти междугородную, – сказал Павел. – Или ехать прямо на станцию.
Васька вдруг дернул щекой, повернулся и, как деревянный переставляя ноги, двинулся к выходу. Павел окликнул его. Васька не оглянулся, не ответил – зашаркал по лестнице. Ботинки у него были в пыли. Аня тянула Павла за рукав:
– Я боюсь, боюсь, боюсь…
Он смотрел – что еще можно сделать. Аня тащила:
– Пойдем, Паша, пойдем…
Тишина действовала на нервы. Они вышли на улицу. Аня держала его за руку, дрожала, Васька стоял, прижавшись спиной к стене, дышал через нос – глубоко, кадык бегал по горлу. Было очень солнечно.
– Надо ехать на станцию, – сказал Павел. Васька замотал головой.
– Нет-нет-нет, – сказала Аня.
– Только без истерики, – сказал Павел.
Васька полез в кабину, остервенело хлопнул дверцей:
– Садись!
– Дура, куда собрался? – сказал Павел.
– Садись!
Видно было, что он уже ничего не соображает – нагнулся вперед, вцепился в баранку.
Аня уже забралась в кузов. Павел подумал и тоже сел. В конце концов без машины оставаться нельзя.
Грузовик с грохотом полетел по улице. Дома стояли тихие, пустые. На тополях не шевелился ни один лист. Проскочили бензоколонку, выехали на тракт. Павел ничего не сказал. Васька смотрел вперед стеклянными глазами. Соломенные волосы его слиплись от пота.
К Озерному подъехали уже вечером. Деревня открылась в низине, прижатая лесом к белой, дымящейся воде.
Васька внезапно затормозил на спуске – Павел даже стукнулся головой – протер стекло, вглядываясь, выскочил одним движением.
Солнце, уже багровое, остывающее, садилось на горизонте в черную кромку. Небо темнело. По озеру протянулась малиновая дорожка.
– Ну что вы? – крикнула Аня сверху.
До Деревни было метров двести. Прекрасно различались широкая, чистая улица с одноэтажными домами, палисады вокруг них, кирпичное здание правления.
Васька вдруг хватил кулаком по дверце. В кабине забренчало.
Деревня была совершенно пуста. В домах не было света.
– Сволочь, сволочь, – невнятно сказал Васька. Павел почувствовал озноб.
Аня слезла, спросила тихо:
– Почему остановились? – прижалась к его спине: – Паша, Паша…
В деревню их не затащишь, понял Павел. Ночевать в лесу тоже не годится. Так. Будем осторожно, очень осторожно пробираться к лагерю.
– Я боюсь, ребята, – сказала Аня. – Давайте уедем отсюда.
Аня молча большими глазами смотрела в сторону пустой деревни. Васька выругался длинно и тоскливо, повернулся к Павлу:
– Это что же… это же, значит, везде так… А?.. Везде?..
– Откуда я знаю…
– Нет, ты скажи: что же мы, одни остались?..
Лицо у него дергалось. Он взял Павла за рубаху – крепко, не вырваться.
– Это – бомба. Бросили бомбу. И все люди в порошок. Я читал: люди погибают, а дома целые.
Павла замутило, он сказал зло:
– Надо возвращаться в лагерь.
– Ой, смотрите, смотрите! – крикнула Аня, показывая на лес.
Солнце село. Как-то сразу стало темно. И лес засветился слабым, голубоватым сиянием. Им были пропитаны земля, стволы елей, воздух над острыми верхушками. Глина на дороге светилась. Дома в деревне стояли в холодном ореоле.
– Все! – одним горлом сказал Васька. – Все. Конец.
Рубаха на нем сияла. Он стал снимать ее – отскакивали пуговицы. Стащил – показалась голубая кожа. Дико посмотрел кругом, сказал: – Сволочь, сволочь! – и побежал вниз, к озеру. Споткнулся, упал, всхлипнул, побежал дальше – к голубой воде.
– Уедем отсюда. Паша – не молчи! – попросила Аня. Она подняла к глазам мерцающие пальцы.
– Сейчас, Аня, сейчас, – торопливо сказал Павел. Тоже побежал к озеру по белой траве.
Васька стоял по колено в воде, пригоршнями захватывал со дна песок, тер им руки, грудь, поднял голову:
– Не отходит, сволочь…
– Надо ехать, Вася, – сказал Павел. Аня что-то кричала от машины.
– Куда ехать? – прохрипел Васька. – Везде, везде – так!
Руки до локтей у него были ободраны, из ссадин в ртутную воду сочилась светящаяся голубоватая кровь…
Мечта Пандоры
Мечта Пандоры
1
Вернув документы, лейтенант угрюмо откозырял:
– Ничего не могу поделать. Отгоните машину к дому и ждите.
У него было темное, обветренное лицо. Он не говорил, а выдавливал из себя слова. За спиной его от канала через всю улицу тянулась цепь солдат – ноги расставлены, на груди автоматы, в петлицах – серебряные парашюты.
Я достал удостоверение. Если оно и произвело впечатление на лейтенанта, то внешне это никак не выразилось.
– Хорошо, – так же угрюмо сказал он. – Вы можете пройти. Но я бы советовал обождать.
Он помолчал, видимо, рассчитывая, что я соглашусь. Набережная за оцеплением была пустынна, солнечна. Доносилась стрельба – справа, из середины квартала…
– Хорошо, я дам сопровождающего. – Лейтенант стал еще угрюмей. Мотнул головой. Вразвалку подошел сержант в пятнистом полевом комбинезоне. На шее у него болталась прозрачная пластинка величиной с ладонь.
– Проведешь, – сказал лейтенант. – Я сообщу по рации.
Сержант окинул мгновенным взглядом мой светлый, выутюженный костюм, прищурился на галстук:
– Испачкаетесь, сударь.
Я знал, как обращаться с десантниками, и поэтому уверенно двинулся вперед, как бы не сомневаясь, что он последует за мной. Так оно и оказалось.
Мы пошли по набережной.
– Вы все-таки держитесь сзади, – уже нормальным голосом сказал сержант, догоняя. – И ни в коем случае не отходите от меня.
– Что тут у вас происходит? – спросил я.
– Операция.
Больше он ничего не добавил.
Мы свернули во двор – узкий, извилистый. Стены в черных подтеках смыкались вверху, вдавливаясь в небо. Все время казалось, что мы сейчас упремся в тупик, но неожиданно открывался новый проход. Отовсюду слышалась стрельба. Сдвоенно выстрелил карабин; затем, сплетаясь в едином звуке, хлестнули автоматные очереди, и, наконец, солидно застучал тяжелый пулемет, судя по звуку – «гокис», пули у него размером с небольшой огурец…
Это было уже серьезно. В последний раз я слышал «гокисы» год назад во время мятежа в Порт-Хаффе. Тогда сепаратисты из «Феруза» внезапно, в считаные минуты профессионально положив напалмовые кассеты вдоль пригорода и блокировав огненным полукольцом войска МККР, двинули танки по шоссе прямо на Ролиссо, где находились международные армейские склады. Если бы они захватили оружие, то могли бы отрезать весь север и держать жесткую оборону этой территории по крайней мере несколько месяцев. Главнокомандующий вооруженными силами страны то ли растерялся, то ли действительно был связан с сепаратистами, как говорили потом: он, вместо того чтобы подорвать склады, выслал наперехват артиллерийскую школу – недоученных курсантов, подкрепив их саперным батальоном из резерва. Штурмовые танки «Мант» прошли сквозь них, как сквозь масло, – я уже потом, после гибели Аль-Фаиза, видел на шоссе месиво исковерканных орудий и тел, в котором копошились подразделения Красного Креста и добровольные санитарные дружины.
Нас выбросили на исходе ночи. Небо начинало светлеть. Десятки капсул неспешно, одна за другой вываливались из пузатых с маленькими крыльями, неуклюжих на вид транспортных самолетов и долго, уменьшающимися точками летели вниз и у самой земли эффектно распахивали зонты – пружинили на воздушной подушке.
Сверху все было отлично видно. И огненный, голубой полукруг, опоясавший порт, и серебрящуюся спокойную Ниссу, и артиллерийские вспышки за мостом, который уже был захвачен сепаратистами, и ближе к земле – пропитанные флюофором светящиеся зеленые знамена передового полка «Меч пророка», чьи танки на лобовой броне несли изречения девятого калифа Али.
Мы садились прямо на склады. Вдали ухали разрывы, но мы все-таки надеялись здесь закрепиться – у нас были податомные базуки, которые в случае попадания если и не пробивали броню, то вынуждали «мантов» остановиться на минуту-две для смены оплавившейся оптики, а за это время можно было навести канальную мину. И вот, когда мы начали выпрыгивать на сырую бетонную площадку перед складом, оттуда, со сторожевых вышек, тяжелыми басами заговорили «гокисы». Оказывается, Аль-Фаиз еще за четыре часа до выступления выслал вперед ударную группу; она без шума вырезала охрану и заняла ключевые посты. Но мы узнали об этом потом. А в тот момент занявшаяся огнем капсула вызвала наши крики предостережения. Мы разворачивались к вышкам так, чтобы там увидели голубые нашивки на наших робах. И командир десанта, югославский майор, приказал осветить прожектором его форму с надписью «Международные войска», – но вторая очередь, выкинувшая его из луча и свалившая прожектор, поставила все на свои места.
Я очнулся тогда только утром в госпитале, когда Аль-Фаиз и двенадцать его имамов, окруженные в здании аэровокзала, покончили счеты с жизнью, выбросившись на мостовую.
…Двор вывел нас на боковую улицу. Тут слабо, но ощутимо пахло чесноком. Я покосился на прозрачную пластинку. Это был противогаз.
– Теперь осторожно, – предупредил сержант.
И сразу же над нашими головами раздался звук – будто пилой по дереву. Мы отшатнулись. Чуть выше, над нами в темном кирпиче появился десяток красных лунок со сколотыми краями.
– Весело тут у вас, – сказал я, отряхивая кремовый пиджак.
Сержант блеснул зубами сквозь кирпичную пыль:
– Это ничего – пугают. А вот у них есть один с карабином, так бьет, подлец, как в тире.
– Откуда у них «гокисы»? – спросил я. – Или это ваши стараются?
– У них все, что хочешь, есть. – Сержант вытер лицо, оставив на нем красные полосы. – Надо перебираться на ту сторону. Видите подворотню?
До подворотни было метров сорок.
– По одному и – быстро, – приказал сержант. Выскочил и, будто нырнул, почти падая, перебежал улицу. Запоздало ударила очередь, выбила искры из асфальта, зазвенело стекло. Я кинулся, не дожидаясь, пока очередь кончится. По мне не стреляли.
– Вот мы и на месте, – сказал сержант. Он закурил.
– Хороший автоматчик уложил бы вас запросто.
– Под хорошего автоматчика я бы и не полез.
Он открыл обшарпанную дверь на первом этаже. В квартире царил хаос. Мебель была перевернута, на полу сверкали сотни зеркальных осколков. Полированную стенку наискось прочерчивала пулевая дорожка. По бокам выбитого окна стояли капитан-десантник и совсем молоденький лейтенант. У обоих на шее висели пластинки противогазов. Очень сильно пахло чесноком.
– По приказу начальника охраны… – шагнув вперед, начал докладывать сержант.
Капитан резко повернул к нему белое, засыпанное известкой лицо и крикнул сорванным голосом:
– К стене!
Мы едва отскочили. Автоматная очередь прошла по полу, брызнули зеркальные фонтаны.
– Засекли все-таки, сволочи, – сказал капитан.
Лейтенант ежесекундно вытирал лицо ладонью.
– Надо менять позицию.
– Поздно, уже поздно, – проговорил капитан и опять навис над рацией: – Хансон, слышишь меня? Хансон! Что там у вас?
– Заняли чердак, – донеслось в ответ. – Через минуту начинаем. Я сообщу.
– Балим! – закричал капитан. – Через минуту закроешь окна. Плотно закроешь, понял? Чтобы носа не могли высунуть!
– Не высунут, капитан, ничего не высунут. – Неторопливый голос был с сильным южным акцентом.
– Видишь, где у них пулемет?
– Вижу.
– Вот. Чтоб больше ни я, ни ты его не видели.
– Понял, капитан. Все будет в ажуре, капитан!
Капитан повернулся к нам:
– Ну?
Сержант доложил.
– Какой Август? Август на той стороне, – капитан с неприязнью посмотрел на мой злополучный костюм, ужасно сморщил лицо. – Сейчас туда не пройти. И здесь вам делать нечего. Отправляйтесь во двор. Он не простреливается.
Я достал удостоверение. Капитан не успел даже взглянуть на него – рация, казалось, накалилась:
– Начинаем, капитан!
И он в ответ весь напрягся:
– Балим! Балим! Огонь!
Впереди бешено стучали десятка два автоматов. Капитан скомандовал:
– Пошли!
Мой сержант перекинул автомат в руку, лег, раскинув ноги, у соседнего окна.
Переулок хорошо просматривался – широкий, пустой. Стены его домов были исцарапаны пулями. У тротуара дымилась покореженная легковая машина. Ветер переворачивал зеленые бумажки, застилавшие асфальт. На углу, из высокого дома с зарешеченными окнами выдавалась узкая, в два этажа полукруглая башенка, пронизанная солнцем.
Стреляли по ней.
На крыше дома появился человек – во весь рост. Замахал руками. Слева выскочил взвод десантников и побежал мимо догорающей машины.
– Быстрей, быстрей! – застонал капитан в рацию.
И вдруг откуда-то сверху, перекрывая автоматную суету, отчетливо застучал «гокис». Пули его с визгом рикошетировали от мостовой. Обрушился пласт штукатурки. Поднялась белая пыль. Двое бегущих сразу упали, остальные, помешкав секунду, нырнули в ближайший подъезд. Один десантник то ли растерялся, то ли еще почему, но на какой-то миг застыл на середине переулка. Когда он опомнился, момент был упущен. «Гокис» отсек его от подъезда. Десантник рванулся в другую сторону. Вжался там в глухую стену спиной, глядя, как быстро-быстро по асфальту приближаются к нему выщербленные лунки.
Сержант у окна выругался, автомат в его руках заколотился нескончаемой очередью. Я заметил, что сжимаю пистолет – когда только успел его вытащить? – и сунул его обратно под мышку.
– Балим, я тебя расстреляю, – страшным голосом прорычал капитан.
– Они перешли на третий этаж! – закричал Балим.
Десантник у стены наконец решился – прыгнул вперед, надеясь перескочить через смертельные лунки. Очередь поймала его в воздухе. Он переломился надвое.
– Балим, что же ты, Балим, – горловым шепотом сказал капитан.
И вдруг все стихло. Только сержант бил и бил вверх по башенке. Я потряс его за плечо, он очумело оглянулся, бросил автомат, высморкался на пол.
– Капитан! Хансон передал – они уже в квартире!
– Ага! – Капитан, соскальзывая, выбрался через окно, зашагал к дому с башенкой. Лейтенант молодцевато выпрыгнул за ним. У меня оборвалось сердце, но выстрелов не было. Я тоже вылез. Отовсюду появившиеся десантники смотрели на башенку. Ждали. Негромко переговаривались. Некоторые поднимали зеленые бумажки – купюры по сто крон каждая. Высокий черный человек что-то темпераментно объяснял капитану, помогая себе руками. Капитан его не слушал.
Все расступились. Пронесли двоих на носилках, все в бинтах. Один непрерывно стонал и плакал.
Подошел Август. Я не сразу узнал его застывшее лицо.
– Одного все-таки взяли, – сказал он.
– Ведут, ведут, – пронеслось среди десантников. Они подались вперед.
Из парадной дома с башенкой двое в комбинезонах волокли третьего – коленями по мостовой, он бился в их руках и кричал.
Август увидел меня, моргнул голыми веками:
– Ты? Ну слава богу!
И тут же забыл про меня.
2
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ДОКЛАДА ПОСТОЯННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ ПО КОНТРОЛЮ НАД РАЗОРУЖЕНИЕМ (МККР) ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ОБЪЕКТА 7131 (БИОЛОГИЯ), НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЗОНТИК», ШТАТ АРИЗОНА, США
Основание для инспекции – заявление профессора Чарльза Ф. Беннета, Принстонский университет, о характере научных работ, которые велись в комплексе «Зонтик» и которые шли вразрез с частью пятой «Декларации о разоружении» – «Медицински неоправданное воздействие на психику человека физическими, химическими или иными средствами с целью модификации его поведения» – и вразрез с частью второй «Декларации прав гражданина» – «Насильственное изменение индивидуальных качеств личности».
…Инспекцией научно-технического комплекса «Зонтик» установлено наличие проводящихся в нем в настоящее время исследований химического воздействия на психику человека препаратами группы «Октал» с целью модификации поведения по типу реакций «Страх».
…Шестая лаборатория объекта (бывший руководитель – профессор Ф. С. Нейштадт), на которую указывал заявитель, в настоящее время не восстанавливается, в планах реконструкции не значится, и тематика ее исключена из предполагаемого направления исследований.
…Суммируя вышеизложенное, комиссия подтверждает наличие в данном комплексе исследований, нарушающих вышеуказанные пункты «Декларации о разоружении» и «Декларации прав гражданина», и рекомендует МККР:
1. Полностью расформировать научный персонал комплекса «Зонтик».
2. Демонтировать оборудование комплекса и передать его МККР.
3. Привлечь директора комплекса «Зонтик» профессора Г. Р. Микоэлса и руководителей лабораторий профессоров Н. Ф. Липкина и У. Ч. Олдингтона к судебной ответственности в рамках Международного гражданского права по статье «Личная ответственность за создание и разработку запрещенных систем вооружений».
ПРИЛОЖЕНИЕ
(выдержки из заявления профессора Чарльза Ф. Беннета)
…Обращаю особое внимание МККР на исследования в шестой лаборатории комплекса «Зонтик», руководитель – профессор Ф. С. Нейштадт. Я лично не был знаком с профессором Нейштадтом, но примерно за год до подписания «Декларации о разоружении» у меня состоялась доверительная беседа с одним из его сотрудников, моим близким другом, имени которого я здесь не привожу по этическим причинам. Мой друг сообщил мне, что профессором Нейштадтом разработан принципиально новый способ модификации психики человека. Речь идет о создании в коре головного мозга, в среде уже существующих нейрофизиологических связей локального, совершенно автономного блока управления с четкой реализацией записанной в нем программы. В отличие от существующих к настоящему времени способов модификации эмоциональных или логических функций коры головного мозга, которые влекут за собой частичную деформацию психики, новый метод позволяет полностью сохранить сложившуюся к моменту воздействия психофизиологическую картину личности с ее мировоззренческим, социальным или бытовым содержанием. При этом явления амнезии или диффузии психики не наблюдаются. Способ, которым производится запись программы, мне неизвестен. Включение программы осуществляется индивидуальным или общим словесным шифром.
Мой друг, в искренности которого я не сомневаюсь, сообщил мне, что профессором Нейштадтом в сотрудничестве с научным отделом Министерства обороны создается техника серийной записи подобных блок-программ. Она может быть использована в соответствующих целях среди военнослужащих или гражданского населения. Первые опыты в этом направлении на добровольцах из ВВС прошли успешно. По словам моего друга, профессор Нейштадт обладает гипертрофированным честолюбием, не признает никаких моральных категорий и одержим стремлением к личной власти.
Считаю своим долгом человека и гражданина сообщить эти сведения МККР и просить МККР провести тщательное расследование по делу профессора Нейштадта.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОКАЗАНИЙ ПРОФЕССОРА Г. Р. МИКОЭЛСА, БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЗОНТИК», В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ В ГААГЕ
(верховный судья процесса Э. Штритмайер (ФРГ)
Вопрос. Подсудимый, знали ли вы, что исследования, которыми занимался ваш комплекс, запрещены «Декларацией» и могут проводиться только с особого разрешения и под контролем МККР?
Ответ. Мы никогда не ставили перед собой военных целей. Наши исследования носили сугубо медицинский характер. Они необходимы для изучения и лечения некоторых шизоидных и параноидных состояний психики человека.
Вопрос. Подсудимый, вы не ответили на вопрос.
Ответ. Да, знал. Но я хочу подчеркнуть, что исследования проводились исключительно на добровольцах. Все испытуемые предварительно знакомились с программой эксперимента и его возможными последствиями. В настоящее время все они чувствуют себя удовлетворительно и получили оговоренную правилами денежную компенсацию.
Вопрос. Что вы можете сказать о работах шестой лаборатории, руководимой профессором Нейштадтом?
Ответ. Мне об этом ничего не известно.
Вопрос. Не кажется ли вам странным, подсудимый, что, будучи директором комплекса, вы не знали о характере работы подчиненной вам лаборатории?
Ответ. Шестая лаборатория только формально входила в комплекс. Фактически она подчинялась не мне, а непосредственно Министерству обороны. У лаборатории были собственные средства, она самостоятельно закупала оборудование и самостоятельно планировала исследования. Профессор Нейштадт имел право увольнять или принимать на работу любого сотрудника. Я не знал даже приблизительно о направлениях работы шестой лаборатории. Мельком слышал, что испытуемых там называют фантомами.
Вопрос. Почему?
Ответ. Да потому, что все отчеты шестой лаборатории, минуя меня, шли сразу в Министерство. Могу только сказать, что профессор Нейштадт был безусловно очень талантливым ученым и понимал свою ответственность перед человечеством. Мы все сожалеем о его гибели. Он никогда не позволил бы себе ничего противозаконного.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОКАЗАНИЙ ГЕНЕРАЛА А. Д. КРОММА, БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ, В МЕЖДУНАРОДНОМ СУДЕ В ГААГЕ
(верховный судья процесса Э. Штритмайер (ФРГ))
Вопрос. Подсудимый, научно-технический комплекс «Зонтик» находился в ведении вашего отдела?
Ответ. В определенной мере.
Вопрос. Поясните суду ваши слова.
Ответ. Мой отдел действительно контролировал некоторые институты, но в подавляющем большинстве случаев мы лишь предоставляли дотации научным центрам для выполнения необходимых нам исследований. И по отношению к ним я осуществлял только общее руководство работами, не вдаваясь в детали.
Вопрос. И комплекс «Зонтик» не был исключением?
Ответ. Да.
Вопрос. Что вы можете сказать о шестой лаборатории?
Ответ. О ней я узнал только после происшедшей там катастрофы. Ее исследования не входили в компетенцию моего отдела. С профессором Нейштадтом знаком не был.
Ответ. Вы здесь слышали показания профессора Микоэлса. Он утверждает, что шестая лаборатория подчинялась Министерству обороны и доклады о результатах ее исследований получал непосредственно ваш отдел.
Ответ. Я могу повторить: о деятельности шестой лаборатории я ничего не знал. Если такие доклады и существовали, то я их не видел.
Вопрос. Что вы можете сказать о причинах гибели шестой лаборатории?
Ответ. Сразу после катастрофы мы провели расследование. У экспертов нет единого мнения.
Вопрос. А ваше личное мнение?
Ответ. Я не эксперт.
Без Указания Источника
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРЕ Ф. С. НЕЙШТАДТЕ, БЫВШЕМ РУКОВОДИТЕЛЕ ШЕСТОЙ ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЗОНТИК»
Фредерик Спенсер Нейштадт родился в 1961 г. По окончании Гарвардского университета (штат Массачусетс) получил диплом по специальности «биология» («нейрофизиология»). Уже в первые годы учебы проявил незаурядные научные способности и склонность к экспериментальной работе. Пять лет работал в лаборатории профессора Н. М. Хэйла (недостоверно, профессор Хэйл умер в 1997 г., данные о штате лаборатории в архиве университета отсутствуют). Направление исследований – «Патофизиологические состояния головного мозга человека» (недостоверно, данные о плановой тематике в архиве университета отсутствуют). С 1994 г. работал в научно-техническом комплексе «Зонтик». С 1998 г. – руководитель шестой лаборатории этого комплекса.
Предполагаемое направление исследований – волновые резонансные регуляции психики человека. Открытые публикации по результатам исследований отсутствуют. Данные о сотрудниках лаборатории отсутствуют. Осенью… года (за две недели до прибытия инспекции МККР) в лаборатории профессора Нейштадта произошел взрыв выраженной силы, сопровождавшийся интенсивным многосуточным горением нетушащихся зажигательных смесей типа напалм-кремний. В этих условиях восстановить документы или оборудование лаборатории оказалось невозможным. Человеческие останки не идентифицировались. Предположительно, профессор Нейштадт и его сотрудники погибли в момент взрыва.
Без Указания Источника
ГИПОТЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ (ФАНТОМОВ), КОДИРОВАННЫХ В ШЕСТОЙ ЛАБОРАТОРИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ЗОНТИК»
Попытка переворота в Парабайе
В ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое июля часть офицеров генерального штаба Парабайи, опираясь на взводы охраны, арестовала и расстреляла весь руководящий состав генштаба и военного министерства. Были подняты по тревоге гарнизон города и офицерское училище. От имени расстрелянного военного министра танковому полку, находящемуся в летних лагерях, был отдан приказ войти в столицу. К утру двадцать седьмого июля мятежники блокировали президентский дворец, захватили радиостанцию и обратились с воззванием к армии и народу. Мятеж был поддержан частью офицеров ВВС, которые, не посвятив в свои планы рядовой состав, подняли в воздух подчиненные им подразделения и барражировали небо над столицей. Утром двадцать седьмого июля после отказа президента страны сложить с себя полномочия и сдаться дворец был подвергнут интенсивному артиллерийско-пулеметному обстрелу. Основная часть войск не поддержала мятежников. Рядовые ВВС и курсанты офицерского училища, выяснив обстановку, заявили о своей верности правительству. Командование принял на себя начальник оперативного управления генштаба. К вечеру двадцать седьмого июля мятежники были рассеяны; руководители мятежа, будучи окружены в здании генштаба, покончили жизнь самоубийством. По данным Министерства обороны Парабайи, офицеры, возглавившие мятеж, в разные сроки проходили подготовку в США.
Виндзорский инцидент
Девятого августа группа военных техников станции слежения и обороны второго пояса Солнечной системы «Виндзор» (Марс, Эритрейское море), расстреляв большую часть обслуживающего персонала, в том числе командира станции слежения полковника Нигата (Япония), захватила пульты управления ракетами «земля – космос» и в течение четырех дней требовала передачи под свой контроль всех станций слежения и обороны Марса, а также эвакуации с планеты международных сил, угрожая начать ракетный обстрел крупнейших столиц Земли. Переговоры с террористами оказались безрезультатными. Боевой крейсер «Хант» (СССР), высланный Советом безопасности МККР, получив прямое попадание ракетой «земля – космос», тем не менее сумел игловыми радиолучами парализовать работу систем наведения и высадил десант, который после двухчасового боя захватил станцию слежения «Виндзор». Часть террористов была уничтожена во время перестрелки, трое, блокированные в диспетчерской, покончили с собой, около десяти человек на бронетранспортерах прорвались на космодром и, захватив пассажирский лайнер «Мико», вышли в открытое пространство, предположительно к границам Солнечной системы. Интенсивный лучевой поиск корабля оказался безрезультатным. Лайнер «Мико», захваченный террористами, относится к типу малогабаритных пассажирских лайнеров, вооружения не несет и опасности для Земли и передовых станций не представляет.
3
Замысловатым ключом я открыл дверь и присвистнул: по квартире словно прошел смерч. Громили ее долго и тщательно. Мебель предварительно разбирали на детали и каждую часть ломали по отдельности. Из дивана были выдраны все пружины, и они были разбросаны по всей квартире. От люстры осталось белое пятно. Как сахар. Непонятно, как был достигнут такой эффект. Книги, вероятно, сначала разрывали по корешку, а потом выдирали все страницы. Обои висели печальными языками, обнажив ноздреватую штукатурку. Кухонный агрегат был превращен в груду мятого металла.
На такую работу потребовалось много времени и энергии. Она вызывала уважение.
В одной из комнат точно посередине стояла совершенно целая низкая лакированная тумбочка – странно аккуратная среди разгрома. На ней лежал лист бумаги. От руки печатными буквами крупно было написано одно слово – «убирайся». Вместо подписи стоял значок – полукруг с поперечными черточками.
Я сел на тумбочку. У меня было несколько версий. Первая – здесь всем предоставляют такие квартиры. Так принято. Эта версия была удобна тем, что разом все объясняла.
Версия вторая – хулиганство. Версия третья – маньяк. Версия четвертая… Версия пятая… Версия сто сорок шестая – звездные пришельцы. Изучали земную жизнь.
Я тяжело вздохнул, так как знал, что мне сейчас предстоит. Я разделся, повесил одежду на сохранившийся гвоздь и принялся за работу.
Обыск занял ровно три часа. Я перемазался известкой, выпачкался машинным маслом, разодрал себе локоть чем-то острым и поранил колени осколками стекла. Но в итоге через три часа на тумбочку легли два серых тонких кружочка с выпуклостью в центре – наподобие кнопки.
И, с некоторой оторопью глядя на эти высокого класса, сверхчувствительные дистанционные микрофоны, я вдруг понял, что ни одна из версий не подходит.
Я оделся и поехал в Дом.
Дом стоял на тихой зеленой заасфальтированной улице. Вход в него украшали шесть колонн, по которым, ослепительно вспыхивая, бежали вверх хохочущие и плачущие лица, встающие на дыбы кони и написанные разноцветными буквами короткие и загадочные слова.
Я не сразу понял, что это афиши.
Навстречу мне вывалилась радужная стайка молодежи. Они шли, будто плясали, высоко подпрыгивая. Одна из девушек, оступившись, ударилась о колонну, и та лопнула с печальным звоном, обнажив блестящий, решетчатый круг в асфальте. Все захохотали. Упавшая вскочила, визжа повисла на высоком парне. Над кругом задымился голубой туман: колонна восстанавливалась.
С некоторым сомнением я потрогал свой галстук, но потом подумал, что для инспектора строгий и чуть старомодный вид даже обязателен.
На этаже, где помещалась администрация, народа оказалось неожиданно много. Здесь сновал все такой же молодняк. Меня они не замечали, друг друга – тоже. И все они двигались как бы пританцовывая. На гудящих воздушных карах проплыла пустая рама для мнемофильмов. Ее поддерживали мужчины в синих халатах. Бородатые ребята, по пояс голые, лоснящиеся, работали у стен с декорационными фломастерами, пена которых застывала, образуя причудливую лепку.
У двери с надписью «Дирекция» невероятно тощий, изнуренный человек, как ветряк, размахивал руками. Одет он был наподобие новогодней елки – цветные тряпочки, бляшки, зеркальца; сквозь них просвечивали желтые ребра. Его собеседник пятился назад на коротеньких ножках.
– Нет, нет, нет! – фальцетом кричал тощий. – Кто у нас режиссер? Я режиссер! И я не позволю! Никаких драконов – ни трехглавых, ни огнедышащих! Сугубый реализм. Учтите это! Я так вижу!
– Витольд, – пытался убедить его собеседник. – Ну совсем маленький дракончик. Вроде ящерицы. Пусть себе летает…
Тощий его не слушал:
– Ни драконов, ни ящериц, ни морских змеев. Запомните!
И потряс пальцем перед носом толстого собеседника. Тот воззвал:
– Бенедикт, хоть ты скажи…
Третий участник разговора – высокий и громоздкий – только сонно прикрывал веки, думал о своем. На обращенные к нему вопли солидно кивнул.
Тощий застыл с поднятым пальцем.
– Ни одной запятой не дам переставить. Все. Я – сказал, – высокомерно уронил он и пошел по коридору так, будто все его суставы были на шарнирах.
– Могу я работать в таких условиях, Бенедикт? – театрально воскликнул толстый.
– М-да… – подумав, изрек высокий. Заметил мой взгляд: – Вы ко мне?
Я назвался.
– Вот, очень кстати, – сказал высокий. – Инспектор из Столицы. По вопросам культуры.
– От сенатора Голха? – растерянно спросил толстый.
– Не только. Возникла необходимость общей инспекции, – туманно ответил я.
– Боже мой! Это же нелепо! – Толстый всплеснул руками. – Какой инспектор? Зачем нам инспектор? Я вчера говорил с… Он ни словом не обмолвился об инспекторе.
– Герберт, – предостерег высокий. – Инспектор разберется сам. – Повернулся ко мне. – Разрешите представиться, директор Дома – Бенедикт, – вежливой улыбкой поднял верхнюю губу, показал крепкие зубы. – Наш финансовый бог – советник Фальцев.
– Очень, очень приятно, – расшаркался советник. По лицу его было видно, что он испытывает совсем другие чувства.
– Как здоровье сенатора? – заботливо спросил директор.
– Неплохо, – отрезал я.
– Как же так… – растерянно начал советник.
Директор его перебил:
– Прошу вас. – Он указал на дверь и распорядился: – Герберт, пришли Элгу.
Финансовый бог поперхнулся. У меня возникло ощущение, что я ляпнул что-то не то.
В кабинете директор усадил меня за обширный стол-календарь, исписанный множеством пометок.
– Итак, господин Павел?
– Может быть, без господина? – предложил я.
– Отлично, – с готовностью согласился директор. – Я для вас просто Бенедикт.
– Меня интересует ваш Дом. Хочется познакомиться поближе. Гремите.
– Да, Дом у нас замечательный, – сказал директор. – Уникальный Дом. К нам приезжают специально из других стран, чтобы принять участие в Спектакле. Знаете, в Италии есть фонтан Грез: если бросишь туда монетку, то обязательно вернешься. Так и у нас. Кто хоть один раз участвовал в Спектакле, тот обязательно приедет еще.
Директор все время улыбался, а глаза его оставались холодными. Мне это не нравилось. Он вполне мог быть фантомом. Впрочем, торопиться не следовало. Фантомом мог оказаться кто угодно. Даже я сам.
– Разумеется, это далось не сразу, – продолжал директор. – Кропотливая работа. Пристальное изучение вкусов молодежи. Ее духовного мира. Вы знаете, у молодежи есть свой духовный мир! Что бы там ни писали наши социологи!
Мне очень хотелось прочитать заметки на столе. Такие торопливые записи могут сказать о многом. Я скосил глаза. Но директор как бы невзначай нажал кнопку, и поверхность стола очистилась.
– Чрезвычайно интересно, – промямлил я.
– Мы ведь не просто копируем историю, – все усердствовал директор. – Мы воссоздаем ее заново. Разумеется, в чем-то отступая от действительности – но в рамках. Иного я бы и не допустил. – Он поднял широкие ладони. – Какой смысл рассказывать. Сегодня у нас ввод нового Спектакля. Надеюсь, вечер у вас свободен?
– В какой-то мере, – уклончиво ответил я.
– Обязательно приходите! – с энтузиазмом воскликнул директор. – Мы ставим восемнадцатый век. Морское пиратство. Я распоряжусь, чтобы вам оставили марку.
В это время в кабинет вошла светловолосая женщина. Чрезвычайно сексапильная.
Директор обрадовался:
– Элга! Наконец-то! Познакомьтесь, Павел – Элга. Она как раз занимается этой… культурой.
Элга обещающе улыбнулась. Ее короткая юбка едва доходила до середины бедер, декольте на блузке располагалось не сверху, а снизу, открывая живот и нижнюю часть груди.
– Элга вам все покажет, – директор был сама любезность. – Тем более, что она специалист. У меня, извините, Павел, ни одной свободной минуты.
– Буду рад, – сказал я, поднимаясь.
– Пойдемте, – предложила Элга и посмотрела на меня многозначительно.
Я поймал взгляд директора – тоже многозначительный. Очевидно, предполагалось, что теперь новый инспектор поражен в самое сердце.
В коридоре топтался мрачный парень в синем халате. Челюсть у него выдавалась вперед. Увидев директора, он произнес голосом чревовещателя:
– Бенедикт…
– Я уже все сказал, – пресек его директор.
Парень посмотрел на Элгу, потом с откровенной ненавистью на меня и высказал свою точку зрения:
– Ладно. Монтировать камеру – Краб. Записывать фон – Краб. Ладно. Вы Краба не знаете. Вы Краба узнаете.
– Я занят, – еле сдержался директор.
Парень напирал грудью.
Я хотел дослушать этот захватывающий диалог, но Элга увлекла меня вперед. Мы прошли мимо бородатых ребят, занимающихся лепкой. Один из них присвистнул и произнес довольно явственно:
– Элга опять повела барана.
Бараном был, конечно, я.
– Кто это? – спросил я.
– А… художники. Хулиганят – непризнанные гении. – Элга фыркнула. У нее это получилось на редкость привлекательно.
– Нет, вот этот парень с лицом гориллы.
– И верно, похож. – Она легко рассмеялась. – Это Краб, мнемотехник. Странный какой-то человек. Все время что-то требует. Бенедикт устал с ним.
Я оглянулся. Мрачный парень весьма агрессивно втолковывал что-то директору. Тот, морщась, кивал. Вид у него был затравленный. Бенедикт действительно устал.
– Что бы вы хотели осмотреть, господин Павел? – спросила Элга.
– Все.
– Благодарю. – Она прямо-таки обдала меня синевой. Я подумал, что радужка глаз у нее подкрашенная.
– Все – это очень много, Павел. Может быть, мы сначала посидим где-нибудь, Павел?
Мое имя таяло у нее во рту.
– Сначала немного посмотрим, – извиняясь, сказал я.
Элга передернула плечиком:
– Вот режиссерская. Там готовят сегодняшний Спектакль.
Режиссерская представляла собой громадную комнату без окон. Под светящимся потолком были развешаны десятки волновых софитов для стереокраски, а в центре на разномастных стульях сидели около шести человек. Режиссер, похожий на елку, жестикулировал. Сбоку от него я увидел Кузнецова. Гера задумчиво курил. Он то ли не обратил внимания на открытую дверь, то ли играл свою роль – по легенде мы были незнакомы.
Больше я ничего заметить не успел. Режиссер повернул к нам изъеденное до костей лицо и спросил, срываясь на крик:
– В чем дело? Я занят, занят, занят!
Элга закрыла дверь, словно обожглась.
– Ввод Спектакля, – смущенно пояснила она. – Витольд всегда так нервничает.
Я промолчал. Я думал: как хорошо, что в паре со мной работает Кузнецов. Спокойный и рассудительный Гера Кузнецов, на которого при любых обстоятельствах можно положиться даже больше, чем на самого себя.
Элга повела меня в техотдел. Я не разбираюсь в голографии и тем более в волновой технике, но, по-моему, оборудование у них первоклассное, выполненное в основном по специальным заказам. Там же, в зале, в прозрачном кресле, возведя черные глаза к потолку, полулежал парень в шикарном тренировочном костюме; он затягивался тонкой, как спица, сигаретой, а выпускал зеленый дым. Парень даже не посмотрел на нас, но сигарета замерла в воздухе, и я понял, что он слушает разговор самым внимательным образом. Выходя, я равнодушно обернулся и поймал его пронзительный и сразу погасший взгляд.
Вообще Элга оказалась неплохим гидом, особенно когда забывала о своей задаче – обольстить инспектора из Столицы. Я искренне был заинтересован ее рассказом, и поэтому она говорила много и охотно. В результате я узнал, что ей двадцать семь лет, что она не замужем – все попадались какие-то хухрики, что она хотела бы иметь самостоятельную работу, а ее держат ассистентом, что она давно бы ушла, если бы не Спектакли, что все в Доме держится на Витольде, а директор в искусстве – ни дуба не варит, что он, директор, уже не раз делал ей определенные предложения, но она в гробу видела этого зануду, что директор и Витольд ненавидят друг друга, но почему-то работают вместе, хотя давно могли бы и разойтись, что Элге приходится выполнять некоторые особые поручения, какие – она не уточнила, и поэтому многие относятся к ней плохо.
Из всего этого в какой-то мере можно было составить общую картину, но ничего существенного понять при этом было невозможно. Элга была очень мила, и мне приходилось ежесекундно напоминать себе, что фантом, пока не включена программа, ничем не отличается от обычного человека.
Кроме того, у меня не выходил из головы погром в моей квартире. Сомнений не было – я засветился. Но каким образом? Ведь я появился в городе только вчера и о моем прибытии знали три, от силы четыре человека? А если громить квартиру, то при чем тут микрофоны? Получалась какая-то ерунда.
Сдавленный хрип донесся из-за низенькой двери слева. Так хрипят загнанные лошади. Я посмотрел на Элгу. Она пожала плечами. Я потянул дверь. В маленькой, похожей на кладовку комнате, где стояли рулоны бумаги и высокие бутыли коричневого стекла, угрюмый Краб, оскалясь, стиснув квадратные зубы, душил зажатого в угол советника Фальцева. Финансовый бог уже посинел, слабыми пухлыми руками рвал кисть, сдавившую горло.
– Отпустите, – сказал я.
Краб повернул заросшее лицо:
– Чего?
– Вполне достаточно.
– Исчезни, – посоветовал Краб.
– Я ведь могу вызвать полицию, – пригрозил я. – Есть двое свидетелей.
Отпущенный советник стал кашлять, давиться слюной, сгибаться, насколько ему позволял живот. Лицо у него из синего стало багровым. Вдруг он замахал руками:
– Оставьте нас! Пожалуйста! Я вас прошу!
И опять согнулся, выворачивая легкие в кашле.
Мы пошли дальше. Я деликатно молчал. У Элги был такой вид, словно ее осенило.
Мы спустились в библиотеку. Она располагалась в подвале. Светился матовый потолок. Уходили вдаль деревянные стеллажи. Было очень тихо. За барьером у раскрытой книги сидела девушка, с таким печальным лицом, словно она всю жизнь провела в этом подвале.
Элга меня представила.
– Анна, – сказала девушка. Она была в сером платье с белым кружевным воротничком – как в старом фильме.
– У вас, вероятно, много читателей? – спросил я. И мне вдруг стало стыдно за свой бодрый тон.
– Нет, – сказала она. – Сейчас мало читают, больше смотрят видео. А с тех пор, как начались Спектакли, – тем более.
Я перевел взгляд на раскрытую книгу.
– А я привыкла, – сказала она. – С детства читаю. Это отец меня приучил.
Элга фыркнула. Теперь мне это не показалось привлекательным. Я смотрел на Анну. Она – на меня. Я спросил о чем-то. Она что-то ответила. Элга начала нетерпеливо пританцовывать.
Послышались шаркающие шаги.
– А вот и папа, – сказала Анна.
Из-за стеллажей появился согнутый старик в вельветовой куртке, поправил старинные роговые очки.
Мы немного поговорили. Я явно не был в ударе – вдруг забыл, какие вопросы следует задавать инспектору. Кажется, этого никто не заметил.
Старик любовно гладил корешки:
– Книги – это моя давняя страсть. У меня и дома неплохая библиотека. Старая классика. Есть издания прошлого века. Конечно, сейчас принято держать звукозаписи – знаете: группа артистов читает «Войну и мир». Не спорю, есть удачные трактовки, но я привык сам. А мода – бог с ней, с модой.
Я все время смотрел на Анну. И она тоже смотрела, без смущения. Элга прекратила улыбаться.
Когда молчать дальше стало неудобно, я обратился к старику:
– Сегодня у вас новый Спектакль?
Он вздохнул:
– Не любитель я этих Спектаклей. Но директор требует, чтобы присутствовали все. Так сказать, на месте изучали дух молодежи.
– А вы там будете? – спросила Анна.
– Обязательно, – заверил я.
– Я приду, – сказала она.
Мы вышли. Элга обиженно молчала. У нее исчезло все оживление. Мы поднялись на второй этаж. Она грустно посмотрела на меня:
– Вот так всегда. Разные хухрики липнут, а стоит познакомиться с серьезным человеком, как он смотрит только на нее.
– Я не серьезный. Я веселый и легкомысленный, – отозвался я.
– И ничего в ней нет, – уверила меня Элга. – Подумаешь, книги…
Мы расстались. Я не назначил Элге свидания, и она ушла разочарованная.
4
Днем было проведено короткое радиосовещание. Я доложил о квартире. У Августа мое сообщение восторга не вызвало.
– Случайность? – буркнул он. – Ладно. Разберемся. Подключим полицию. В конце концов, по документам ты – гражданин. Пусть обеспечат твою безопасность как гражданина.
Я выразительно молчал. Конечно, полиция могла бы кое-что выяснить, но, с другой стороны, тут же начались бы ненужные расспросы – кто? зачем? почему?
– Ладно, – проницательно посмотрел на меня Август. – Посмотрим. Это я беру на себя. Как ты считаешь, имеет смысл менять квартиру?
– Нет. Я засветился еще до входа в операцию. Утечка информации где-то на самом верху.
– Что еще?
Я рассказал о своих впечатлениях от Дома, сделав акцент на директоре и черноглазом парне, которого видел в танцевальном зале.
– Значит, ничего нового, – подытожил Август. Покашлял. – Работа по раскрытой группе тоже ничего не дала.
– Вы же одного взяли, – напомнил я.
– Как ты помнишь, включенные фантомы в случае провала кончают самоубийством, – сказал Август.
– Но ваш – жив.
– Пока жив. Была попытка выброситься из окна, попытка разбить голову о стену. Сейчас его держат в специальном помещении под непрерывным контролем. И конечно, он молчит. Это тоже в программе. И будет молчать. У МККР пять живых фантомов, они молчат уже полгода.
Он опять покашлял и сказал жестко:
– Плохо работаем. Прежде всего нам нужен старший группы. Не фантом. Не блокированный. Старший, который знает код включения программы.
– Или слово власти, – добавил я.
– Нам нужен старший, – как бы не слыша меня, повторил Август.
Потом мы немного поговорили с Кузнецовым. Он был настроен гораздо оптимистичнее, хотя и не объяснил почему. Мне показалось, что он чего-то недоговаривает, и я прямо сказал ему об этом.
– Терпение, Паша, – засмеялся Кузнецов. – Мне самому многое неясно. Не хочу тебя сбивать: смотри свежими глазами.
Я немного подумал и решил, что он ничего не знает. Просто морочит мне голову.
Вечером я поехал на Спектакль.
Говоря о популярности Дома, директор не преувеличивал. Уже за несколько кварталов до него движение было закрыто. Улицы заполняла разноцветная и удивительно тихая толпа. Я плечом раздвигал покорные спины. Когда вглядывался в лица, то видел, что в глазах у всех стояла глубокая тоска.
При входе дежурила полиция. Между оцеплением и толпой было метров десять свободного пространства. Чувствуя, как на мне фокусируются взгляды, я пересек его, назвал свою фамилию. Мне открыли турникет, и в это время из толпы выскочил длинный парень в комбинезоне с сотнями молний. Лицо у него было раскрашено флюофорами – правая щека мерцала красным, левая – желтым. Он пронзительно закричал: «И меня! И меня!» – и, растопырив ладони, кинулся в проход. Его перехватили. Он вырывался из рук, взметая синие волосы. Толпа смотрела безучастно. Полицейские изредка переговаривались.
Я поднялся наверх.
Зала как такового не было. В три несуществующие стены его било море. Тяжелые, отсвечивающие изнутри зеленью волны обрушивались на песок. Дул порывистый, пахнущий йодом ветер. Соленые брызги летели в лицо. Море простиралось до горизонта и сливалось там с синим южным небом. В центре тянулась широкая песчаная отмель. Ее окружали джунгли – буйное переплетение узловатых стволов корней и глянцевых листьев. Скрипуче кричали невидимые птицы. Доносился перекатывающийся рык тигра.
По отмели прогуливались зрители, поглядывали на часы. Некоторые забредали в воду, долго смотрели на горизонт.
Сбоку от вдающейся в море песчаной косы тяжело покачивалось на волнах, скрипело старинное судно с двумя мачтами, на одной из которых бился на ветру черный флаг с черепом и костями. Борта его, украшенные причудливой резьбой, побелели от воды, медная обшивка позеленела, из квадратных амбразур выглядывали масляные дула пушек. На его носу деревянная женщина с распущенными волосами подалась вперед, открыв рот в беззвучном крике.
Меня окликнули. Особняком стояла группа людей во главе с директором.
– Как вам нравится? – спросил он.
– Чудесно, – ответил я.
На директоре был черный плащ до пят и черная же шляпа с большими полями. Такой же костюм был и на советнике, в котором тот походил не на пирата, а на толстого, всем довольного средневекового лавочника.
– Маскарад необязателен, – пояснил директор. – Это для лучшего вживания в роль.
– Ну что они тянут? – сморщила губки Элга. Красное бархатное платье ее переливалось жемчугом. По-моему, настоящим.
– Я не знаком со сценарием, – сказал я.
– И не нужно! – воскликнул директор. – Это же не стереофильм. Там – да – требуется знать сценарий, выучить реплики. А здесь вся прелесть в том, что сценарий неизвестен. Даже я его знаю только в общих чертах. У нас зритель – активное лицо сюжета. Он сам создает его.
– Что я должен делать?
– Что хотите. Абсолютная свобода! И к тому же учтите: при любой, самой острой ситуации вам гарантируется полная безопасность. Поэтому что взбредет в голову, то и делайте. Вот Герберт, например, – он обнял советника, – Герберт в прошлый раз женился на африканской принцессе и был объявлен королем Сесе Секе Омуа Первым. Ему вставили в нос кольцо и воткнули перья в разные части тела. У него родилось шестеро детей.
Директор захохотал, сильно запрокинув голову назад. Советник сердито высвободился из объятий.
– Вечно ты, Бенедикт, выдумываешь. Какая женитьба: я взрослый человек. – Расправил плащ на толстых, покатых плечах.
– Он у нас любит изображать огнедышащих драконов, – как бы по секрету сообщил мне директор. – Просто страсть какая-то. Хлебом не корми – дай дохнуть огнем. Правда, Геб?
Советник буркнул что-то и отвернулся.
– Но могу дать совет, – продолжал уже серьезно директор. – Если вам не понравится тот сюжетный ход, в который вы попали, то вы можете легко перейти в другой. Просто делайте шагов десять-пятнадцать в любую сторону. На стены, море, прочий антураж внимания не обращайте.
– Ну когда они начнут, – простонала Элга. Взяла меня под руку, так, что я ощутил ее ноготки.
Сильная волна докатилась до наших ног и отхлынула, оставив шипящую пену. Я с удивлением обнаружил, что брызги на лице настоящие.
С нашего места хорошо просматривалась вся отмель. Я быстро нашел черноглазого парня. Он стоял в венчике хохочущих золотоволосых девушек. Недалеко от них Кузнецов озабоченно разговаривал со стариком-библиотекарем, хмурился. Я скользнул по ним равнодушным взглядом.
Тут же стояла Анна – в коротком белом платье, одна.
– Если хотите пройти сюжет еще с кем-нибудь, – многозначительно сказал директор, – то держитесь ближе к партнеру: будет большая суматоха.
На бриге ударил колокол – медным голосом. Все зашевелились. Элга сильно сжала мою руку. На верхней палубе появился человек в черном камзоле, махнул кружевной манжетой.
– Пошли, – двинулся вперед директор. – Удачи вам, Павел.
Я кивнул на прощание, и его тут же заслонили чьи-то спины. Элга потащила меня к бригу. Толкались. Было очень тесно. Я оглянулся: лицо Анны мелькнуло и пропало в толпе.
– Скорей, – торопила Элга и дернула меня совсем не вежливо.
По липкому, смоляному трапу мы вскарабкались на борт. Остро запахло морем. Палуба оказалась неожиданно маленькой. Я опасливо огляделся – где мы тут все разместимся? Зрители лезли один за другим.
Второй раз ударил колокол. Кто-то восторженно закричал. Крик подхватили. Колокол торжественно ударил в третий раз. Бриг закачался сильнее, застонало дерево, выгнулись паруса. Берег начал отодвигаться.
Я неоднократно участвовал в голографических фильмах и прекрасно знал, что это имитация: мы никуда не плывем, бриг стоит на месте, да и самого брига нет – на какой-то примитивный каркас наложено объемное изображение.
Но здесь что-то произошло: странное ощущение легкости и веселья вошло в меня. Я как бы забыл обо всем, что знал раньше.
Мы находились в открытом море. Кругом, насколько хватало глаз, была вода. Ветер крепчал, срывал пенные гребни, волны перехлестывали через палубу, корабль заваливался с боку на бок. Я схватился за ванты, на губах была горькая соль. Элга повернула ко мне мокрое счастливое лицо, шум волн заглушал ее голос. Я поцеловал ее. Она чуть откинулась назад. «Веселый Роджер» плескался над нами.
– Па-арус! – закричали сверху.
На капитанском мостике стоял человек. Длинный шарф его рвал ветер. Кажется, это был директор. Вытянутой рукой он показывал в море. Там, за волнами, ныряли белоснежные паруса.
Элга завизжала, забарабанила меня по спине.
– К орудия-ам!
Полуголые, повязанные цветными платками пираты побежали по скобленой палубе, ловко откинули замки пушек, закрутили винты. Я не увидел вокруг ни одного знакомого лица. Более того, я не знал ни одного из тех зрителей, что стояли на отмели.
– Ого-онь!
Дула дружно выбросили пламя и плотные клубы дыма. Запахло гарью. Элга не выдержала – кинулась к свободной пушке. Я ей помогал. Ядро было тяжелое. Мы забили заряд. Элга, зажмурив синий глаз, наводила. Пушка дернулась, пахнула в лицо раскаленным дымом. На паруснике впереди вспучился разрыв, забегали темные фигурки. Элга все время кричала. На ней теперь было не красное бальное платье, а разорванная тельняшка, брезентовые брюки, сапоги с широкими отворотами. Я не понимал, когда она успела переодеться. Мы заряжали, прицеливались и стреляли, сладко ожидая очередного разрыва. С парусника отвечали реже. Ядро ворвалось на нашу палубу, оглушительно лопнуло – пират рядом с нами схватился за горло, хрипя, осел к мачте, между пальцев потекла кровь.
Корабли быстро сближались. Из трюмов нашего брига высыпалась абордажная команда – небритые, смуглые, свирепые флибустьеры горланили, перегибались через борт. Одноглазый верзила взял в зубы кортик, ощерился – темная струйка потекла из порезанного рта.
Капитан повел над головой короткой саблей. Издал клич:
– На аборда-аж! – и побежал вниз, на палубу.
Корабли сошлись с катастрофическим треском. На паруснике повалилась мачта, накрыв команду белыми крыльями. Наш борт оказался выше, пираты спрыгивали на палубу чужого судна.
Элга билась внизу с офицером в серебряном мундире, ловко уклоняясь от ударов. Вспыхнув клинком, снесла ему эполет. Офицер схватился за плечо, и тут одноглазый пират, рыча, вращая желтым зрачком, погрузил кортик ему в грудь. Офицер всплеснул руками – покатился.
Я тоже оказался на паруснике. Рубил, кричал. Вокруг хрипели яростные лица, плясала сталь, но ни один клинок не задевал меня. Мы теснили. Команда парусника отступала к рубке – падал то один, то другой. Их капитан палил с мостика из двух пистолетов – метко брошенный кортик, блеснув рыбкой, воткнулся ему в горло, и он повис – руками на поручнях.
Палуба очищалась. Наш капитан, потеряв плащ и шпагу, выкрикивал короткие команды. Элга восторженно вопила, глаза у нее были бессмысленные. Она наскакивала на щуплого матросика, который, забившись за бухту каната, с ужасом в лице сжимался под ее ударами. Я обхватил Элгу за пояс. Она яростно вырывалась. Матрос перевалил птичье тело на борт. Элга оторвалась – бледная, сияющая, высоко подняла саблю.
Из кают послышались крики. Выбежали несколько женщин, заметались по палубе. За ними гнались пираты. Одноглазый сгреб одну из них, она отбивалась ногами, взметая вверх подол пышной юбки, потом вырвалась, прижалась к борту – растрепанная, испуганная. Одноглазый подошел неторопливо, сильным движением разорвал на ней платье – от горла вниз. Женщина прижала руки к голой груди, застонала. Одноглазый довольно заурчал. Пираты захохотали.
Я увидел Анну. Она стояла у другого борта – тонкая, презрительная.
– Боже мой, какая скука, – сказала она. – И вы – тоже. И вы – как все.
Я посмотрел на свою окровавленную саблю – кого я убил? Ощущение веселья пропало. Была грязная, затоптанная палуба, небритые рожи пиратов, потные, латаные мундиры. Длинными шагами, расталкивая команду, прошел капитан, остановился у женщины в разорванном платье. Она крепче прижала руки. Он широкой пятерней взял ее за волосы. Женщина запрокинула голову, заблестели сахарные зубы.
Анна вздрогнула.
– Уйдем отсюда, – сказал я.
Она пошла, отворачиваясь. Я не знал, куда идти. Я вспомнил слова директора: десять-пятнадцать шагов в любую сторону. Я знал, что море не настоящее, но прыгнуть за борт не мог. Из кают доносились пьяные крики. На палубу ввалился матрос с черпаком и стал пить из него, обливая себя красным вином. Я считал шаги – девять, десять, одиннадцать.
На двенадцатом шаге – как будто лопнула струна. Свет на секунду померк. Мы оказались в полутемной каюте. Было душно. Трещали трехрогие свечи на стенах. За неоструганным столом сидело человек десять – в завитых париках, в камзолах с крахмальными отворотами. На столе лежала большая, лохматая карта, прямо на ней стояли кубки с вином и высокая серебряная фляга, изображающая льва, поднявшегося на задние лапы.
Мы сели на резные стулья. Анна уронила голову на руки. На нас никто не обращал внимания. Холеный человек без парика вел ногтем по карте. На смуглом равнодушном лице его поблескивали светлые глаза.
– До Картахены двести миль, – негромко и властно говорил он. – При благоприятном ветре мы придем туда утром. Войдем в залив и высадимся на холмах, против города. Вот здесь самое удобное место.
Грузные люди следили за пальцем, сопели. Среди них я увидел черноглазого парня. Он вдруг незаметно подмигнул мне и, сделав озабоченное лицо, склонился над картой.
– Город со стороны залива не защищен, – продолжал главный. – Нам придется иметь дело только с гарнизоном. Пушки покрывают расстояние от города до залива: нас поддержат корабли.
– Капитан Клайд забыл, что при входе в залив сооружены два форта по двадцать пушек в каждом, – язвительно сказал толстый человек, очень похожий на советника.
– Мы их подавим, – небрежно ответил капитан Клайд. – Два фрегата, восемьдесят орудий, час хорошей бомбардировки.
– Перед фортом мели, близко не подойти, – не сдавался толстый.
– Гром и молния! – дернул головой его сосед с фиолетовым шрамом от лба до подбородка. – Высадим десант на шлюпках. Мои ребята пойдут первыми. Черта с два их кто-нибудь остановит! – Стащил парик, тряхнул рыжими волосами.
Толстый что-то зашипел в ответ. Я не слушал: у меня на груди, под рубашкой слегка закололо – вызывала «блоха». Я незаметно сжал ее – вызов принят. Парики, склонившись над столом, рычали друг на друга. Рыжий стучал кулаком, текло вино. Капитан Клайд, откинувшись на спинку стула, надменно поднимал бровь.
На меня не смотрели. Вместе с платком я захватил в кармане микрофон. Голос Кузнецова внятно произнес:
– Повторяю: Великие Моголы. Великие Моголы… – И затем другим тоном: – Что? Нет. Сейчас, – и короткий стон, сдавленный и отчаянный.
Свободной рукой я безуспешно сжимал «блоху» под рубашкой. На вызов никто не отвечал. Черноглазый парень беспокойно заерзал. Наши глаза встретились. Он поспешно опустил веки. Я шепнул Анне:
– Нужно идти.
– Идите, – не поднимая головы, ответила она.
У дверей застыл негр в тюрбане с саблей наголо. Блестели молочные белки. Я не знал, где искать Кузнецова, пошел по коридору между каютами. Двое пиратов, жадно разглядывавшие золотой браслет, расступились, пропуская меня.
В этот раз переход произошел на четырнадцатом шаге. Был полдень. Неистовое солнце. Дрожащий от зноя воздух и белая пыль, покрывавшая булыжник. Улица уходила в гору. Снеговая вершина ее плыла в небе. По обеим сторонам улицы стояли низкие серые дома с окнами-бойницами. Старый камень их крошился от жары. Из проломов глухих стен пробивались ватные, пряно пахнущие цветы.
Я подал вызов еще несколько раз. «Блоха» молчала. Я зашагал по пустынной улице. Насколько я понимал технику переноса, простая ходьба мне ничем не грозила: чтобы перейти в другой сюжет, надо было этого захотеть.
Город словно вымер. В горячей пыли копошились облезлые куры. Пробежала собака – скелет, обтянутый шерстью. Откуда-то доносились редкие пушечные залпы. Улица вывела меня на площадь – знойную, выгоревшую. Часть ее обрывалась вниз громадным спуском. Там было море. По неправдоподобной синеве его, как игрушечные, передвигались кораблики с раздутыми парусами, время от времени они окутывались клубами выстрелов. С берега, при входе в залив им лениво отвечала крепость. Она была как на ладони – обе башни ее обваливались, из продолговатых строений в центре валил черный дым, прорезаемый язычками пламени. Через стены упорно, как муравьи, лезли крохотные фигурки.
Я понял, что смотрю действие с другой стороны, из Картахены. И еще я понял, что судьба города решена: корабли подавят форт, войдут в залив и начнут бомбардировку.
Метрах в двухстах подо мной на кремнистой тропе от моря карабкался отряд пиратов человек в тридцать. Блестели пряжки на амуниции. Я толкнул камень. Он покатился вниз. Меня заметили. Один из пиратов поднял руку, раздался слабый хлопок выстрела. До площади они должны были добраться через полчаса.
Я пошел обратно в город, думая, как найти Кузнецова. Навстречу мне хлынула толпа – солдаты с алебардами, растерянные горожане, женщины с детьми. Она вмиг подхватила меня. Кто-то чувствительно ударил в спину. По крикам можно было догадаться, что пираты ворвались в город. Вероятно, бой с фортом был обманным: он стянул к себе весь гарнизон, а капитан Клайд тем временем высадил десант и ударил с тыла.
Остановиться было невозможно. Работая локтями, я пытался вырваться из объятий толпы. Какой-то офицер без кирасы, придерживая лоскут кожи на щеке, срывающимся голосом звал солдат. Его не слушали. Меня прижало к дому, я вцепился в дверную скобу. Толпа схлынула. Бежавшие в хвосте стали перелезать через стены. Появились пираты – ободранные, злые – с гиканьем понеслись по улице. Все были с мешками. Двое тащили деревянный ящик, полный золотых монет, кряхтели, ругались.
Меня не видели. Я пошел узкими, кривыми переулками. Окна сюда не выходили. Из-под домов дерзко торчал во все стороны жестокий чертополох. Тревожный, частый набат плыл над городом, взывал к пустому небу. Слева за домами поднялось пламя. Пополз жирный, коричневый дым.
Из-за угла, воздев руки, запрокинув лицо и хохоча, шла женщина в черном монашеском одеянии.
– Элга! – закричал я.
Женщина опустила руки.
– Кто? – повела безумными зрачками. Узнала. – Павел! – и захохотала опять.
Я схватил ее за плечи:
– Элга, опомнись!
Она поцеловала меня, клацнув зубами о зубы. Сказала спокойно:
– Вот ты где. Я тебя искала.
От нее пахло вином.
– Элга, где Кузнецов? – Она не понимала. – Кузнецов, практикант из Советского Союза? – Я решил наплевать на конспирацию.
Элга пожала плечами:
– Здесь где-то. А я вот захотела тебя увидеть и увидела.
– Элга, мне нужен Кузнецов, – внятно сказал я, сжимая ее запястье.
Она скривилась.
– Элга, где он?
– Пусти, – попросила Элга.
Я отпустил ее.
– А ты совсем не тот, за кого себя выдаешь, – погрозила мне пальцем. – Мне еще Бенедикт сказал: таинственный инспектор. Кузнецов тебе нужен. В телецентре Кузнецов, где ж ему быть. Они сейчас всей бандой впрыскивают нам молодежный отдых.
– Идем, – приказал я.
Элга повисла у меня на руке. Мы пересекли улицу. Она тыкала пальцем:
– Туда. – И лепетала: – А ты мне нравишься. Хоть Бенедикт и сказал, что ты… чур, молчу… ты мне все равно нравишься.
Мы остановились перед одноэтажным домом, окна которого закрывали железные ставни.
– Здесь, – сказала Элга. – Только туда нельзя. Пока идет трансляция, туда никому нельзя. Даже Бенедикту нельзя.
Дверь была заперта. Я постучал. Мне никто не ответил.
– Пойдем выпьем, – сказала Элга. – Не будь таким скучным.
Я рванул дверь. Замок отлетел. Внутри было темно. Мерцали экраны настройки – палуба корабля, горящий город, горящий форт. Я нащупал выключатель. Вспыхнул бледный свет. Комната была небольшая. Все четыре ее стены представляли собой пульты со множеством кнопок и тумблеров. Не в лад мигали десятки зеленых глазков. На полу, прорвав сплетение проводов, опрокинув табуретку, лицом вверх лежал Гера Кузнецов. Стеклянные глаза смотрели в потолок.
Элга заглянула через плечо.
– Пьян вдребезги, – сказала она и захихикала.
5
Кузнецов был убит примерно за час до моего прихода. В клинике скорой помощи ему заменили сердце, провели регенерацию сосудов и нервов, аэрировали мозг. Все было бесполезно. Он пролежал слишком долго.
Подробности я выяснил по «блохе». Стреляли болевой иглой, вызывающей паралич сердечной мышцы.
Я знал эти болеизлучатели – легкие, компактные пистолетики, стреляющие волновыми разрядами. Они применялись в медицине для интактных операций – блокировали нерв в точке укола. Превосходное оружие, совершенно бесшумное (можно стрелять в толпе), не оставляющее следов.
Август запретил мне вмешиваться в это дело. Было ясно, что Кузнецов раскрылся и убит кем-то из фантомов, поэтому мне следовало быть предельно осмотрительным. Расследования решили не проводить. По официальной версии, смерть наступила от сердечной недостаточности. Несчастный случай. Мне предписывалось продолжать работу.
Я доложил о последней связи.
– Великие Моголы? – переспросил Август. – А ты не ошибся?
– Он повторил два раза очень отчетливо.
– Ладно. Разберемся. – Август помолчал. – Прошу тебя, Павел, будь осторожней – без самодеятельности.
На похоронах я появиться не мог. Я понимал, что конспирация необходима, но было очень горько. С Герой мы дружили давно – вместе кончали Школу, четыре года наши кровати стояли в одной комнате, каждый день в шесть утра он стаскивал с меня одеяло и гаркал в ухо: «Вставай, защитник планеты». Я тогда очень гордился своей профессией и считал, что именно мы, сотрудники МККР, обеспечим Земле спокойствие и безопасность.
К тому же у меня было свидание с Анной. Я пытался убедить себя, что это нужно для дела. Получалось не очень убедительно: для дела была необходима встреча не с ней, а с Элгой, чтобы выяснить, почему директор не поверил в мою легенду.
В конце концов я махнул рукой и направился в городскую библиотеку. Там мне выдали толстенный том по средневековой истории.
Оказалось, что Великие Моголы – это династия царей Индии, которые правили с шестнадцатого до середины девятнадцатого века. Так их назвали европейские путешественники в семнадцатом веке.
Наибольшего расцвета Великие Моголы достигли при Шах-Джакане. Государственное их устройство представляло собой централизованную феодальную монархию. В семнадцатом веке оно включало в себя почти всю Индию и Кабул. Однако уже в то время, несмотря на внешнее могущество, в стране стал назревать внутренний кризис, приведший в итоге к усобице и распаду государства. Власть Великих Моголов ослабла. К середине восемнадцатого века эта династия владела фактически только Дели и прилегающими районами, а к концу восемнадцатого века Великие Моголы стали простыми марионетками в борьбе князей Северной Индии. Этим воспользовались англичане и в 1803 году захватили Дели. Формально Великие Моголы продолжали считаться правителями Индии до 1858 года, когда английские колониальные власти упразднили династию. Далее перечислялись представители Великих Моголов.
Вот что я выудил из книг. Какое отношение все это имело к фантомам? На всякий случай я выписал основные факты и запомнил их.
Потом я поехал к Анне.
На перекрестке, где мы договорились встретиться, куря красную сигарету, лихо топталась девица – из тех, что ищут партнера на один вечер. Каблуки ее звякали при каждом шаге, из сережек неслась популярная мелодия. Анны не было. Я посмотрел на часы.
– Павел, – позвала девица.
– Да… – глубокомысленно протянул я, окидывая ее взглядом.
Анну было не узнать. Волосы она зачесала вверх, столбом, – ультрамодная прическа «Нефертити», косметика светилась: на глазах – синим, на губах – зеленым, вместо обычного платья она надела переливавшуюся радугой футболку и джинсы, на которых вспыхивали живые картинки.
– Вам не нравится? – Анна медленно покраснела, бросила сигарету.
– Очень эффектно. – Я взял ее под руку. – Куда мы пойдем?
Анна закусила губу:
– Вы не подумайте, это я в первый раз так. Потому что надо быть как все. А то меня пригласит кто-нибудь – посмотрит и больше не показывается.
– Вам не требуется быть как все, – искренне сказал я.
– Правда?
– Правда.
Она обрадовалась:
– Я сбегаю, переоденусь. Я тут недалеко живу. А то словно это и не я…
– Не надо, – остановил ее я. – В следующий раз.
– А будет следующий раз?
– Вы хотите этого?
– Да. А вы?
Я кивнул.
Последние фразы мы произнесли шепотом, остановившись. Рядом никого не было. Только какой-то мужчина в блестящем, будто металлическом костюме читал новости на стене, время от времени нажимая кнопку, чтобы сменить кассету.
Я сказал нарочито весело:
– Так куда же мы направимся? В концертном зале сегодня гала-представление. Билетов не достать, все равно что к вам на Спектакль, но, используя свое положение инспектора…
Грохот барабана заставил нас оглянуться. В улицу втягивалась длинная колонна. Шли ровными рядами – по десять человек. Плечом к плечу. Все в черных галифе, в зеленых рубашках с закатанными рукавами. Единым махом вбивались в мостовую сотни увесистых сапог: трум!.. трум!..
По бокам колонны не в ногу шагали равнодушные полицейские.
– «Саламандры», – без выражения сказала Анна. – Фашисты.
– Фашистская партия у нас запрещена, – возразил я.
– Разве дело в названии? – Она процитировала. – «Призовем молодых, призовем жестоких, призовем тех, чья вера – нация, чей долг – нация, чья совесть – нация». Как там у вас в Столице с верностью нации?
– У нас потише. Все-таки Столица.
Перед колонной несли склоненное знамя – тяжелое, с золотыми кистями. На черном бархате травяным соком зеленела громадная буква «С». Из нее вырывалось пламя.
Эту букву я уже видел. Она стояла под запиской, которую я нашел в своей разгромленной квартире. Так. Значит, мной занимаются «саламандры». Или некто похуже. Допустим, сенатор Голх. Тот самый сенатор, по чьему поручению я якобы произвожу инспекцию.
Я почувствовал себя неуютно.
– Если «саламандры» кого-нибудь убивают, то полиция никогда не находит преступников, – сказала Анна.
– Вот как? – Я знал это не хуже ее.
– Вы же не инспектор, Павел.
– А кто?
Она пожала плечами:
– Не знаю.
Трум!.. Трум!.. – отбивали свой жесткий ритм сапоги. Невидимые палочки поддерживали его на барабане. Молодые, каменные лица смотрели вперед. Только вперед. Трум!.. Трум!.. Сегодня нам принадлежит эта страна, а завтра весь мир!
– А вы знаете, что Краб – «саламандра»? – взглянула на меня Анна. – Он у них даже какой-то начальник. И Элга им очень интересуется. Бегает на собрания. Истеричка. Напрасно я устроила ее к нам в Дом.
– Вы не любите Элгу? – спросил я.
– Это моя сестра, – сказала Анна.
Темнело. Зажглись голубые панели на домах. В кромке тротуара проступила сиреневая линия. Мы шли вдоль улицы. Дул слабый ветер. Деревья шелестели, словно бумажные. Прозрачные, хрупкие такси бесшумно проносились над мостовой, в их желтой скорлупе сидели люди, беззвучно смеялись.
– Элга, конечно, наврала, что она инженер, – сказала Анна. – Работает у нас всего полгода, но удивительно вписалась. Словно рождена для Спектаклей. А вот я нет. У меня все получается не как у других. И не нарочно. Просто не выходит. Наверное, я не ко времени. Мне бы родиться в двадцатом веке…
– Время не выбирают, – ответил я чисто машинально, так как в этот момент оглянулся и заметил того же мужчину в посверкивающем металлическом костюме. Он шел за нами.
Случайность или слежка? В подобных ситуациях я закуриваю. Зажигалка, разумеется, не сработала.
– Сел аккумулятор, – объяснил я Анне. Стал заряжать вручную, нажимая рычажок большим пальцем. Анна что-то рассказывала. Мужчина приближался. Подзарядка аккумулятора – дело длительное. Когда он проходил мимо нас, я его хорошо рассмотрел.
– …Очень странные сны, – говорила Анна. – Большой сад. Тропический. Пальмы, магнолии, орхидеи. Да-да, так просто растут орхидеи – распускаются по ночам. Песчаная дорожка. Я бегу по ней, спотыкаюсь, падаю, плачу. Меня поднимает женщина. У нее злое лицо. Мы идем с ней к морю. Она держит меня за руку. Больно. Море очень теплое, а песок горячий. Вам приходилось видеть непонятные сны? Такие, что даже не знаешь, откуда они взялись?
– Нет, – сказал я, краем глаза следя за улицей. Как я и ожидал, мужчина немного прошел вперед и свернул в первую же парадную. Все стало ясно: за мной следили, причем примитивно – визуальным способом.
Разумеется, это могли быть наши сотрудники. Вряд ли бы меня пустили без всякого прикрытия. Но я сильно сомневался, чтобы люди Августа работали так прямолинейно. Во всяком случае, портрет мужчины зафиксирован в зажигалке и завтра его личность установят.
– …Самая настоящая пустыня, – говорила Анна. – Это ведь странно – я никогда не была в пустыне. Ровная, как стол. Барханов нет. До горизонта – серый песок. Дует ветер, и песок змеится под ногами. Шипит. А потом – вскидывается столбиком. И далеко, у самого неба, – озеро, чистое-чистое, серебряное. Там – вода. И мне кто-то говорит сзади: «Мираж». И голос очень знакомый.
Мы прошли за парадную метров сто, и мужчина вынырнул, приклеился сзади. Я решил больше не обращать на него внимания.
– Правда, не могут сниться такие сны нормальному человеку? – сказала Анна.
– Вполне обычное явление, – немного невпопад ответил я.
– Я читала, что сон – это небывалая комбинация обыденных фактов. Но не могу же я видеть во сне то, чего никогда не видела в жизни. Нет. Это ненормально. Сейчас никто не видит снов. Вы знаете, я ходила к врачу. Он провозился со мной целый день. Надел шлем, и вижу – то свет, то тьма, то пятна цветные плавают. И я должна была говорить, что вижу. Совсем меня замучил. А потом сказал, что это – воспоминания о детстве. А какие могут быть воспоминания, если я родилась здесь, в городе, и всю жизнь жила только в нем.
– Вы могли видеть такие картины в ваших Спектаклях, – сказал я. – И потом, во сне они преобразовались…
– Нет! – Анна возмущенно тряхнула головой. – Нет! При чем здесь Спектакли? Ненавижу наши Спектакли!
– Вчера было очень интересно, – сбитый ее горячностью, пытался переубедить ее я. – Даже трудно отличить, где голограмма, а где – реальность.
– Там все ненастоящее, – уже спокойно сказала Анна. – От первой нитки до последней. Вот вы сначала чувствовали, что это выдумка?
– Да.
– А потом вдруг – поверили. Не до конца, но поверили. Я следила за вами.
– В какой-то мере, – помедлив, ответил я: странная мысль пришла мне в голову.
По пустынной улице навстречу друг другу неслись два такси, набитые дергающимися юнцами. Водители рулили лоб в лоб. Сближались они стремительно. Анна прижалась к моему локтю. За несколько метров до неминуемого столкновения включились автопилоты, и машины, резко вильнув в стороны, прошли буквально в сантиметре друг от друга. Отлетев в противоположные концы улицы, такси развернулись и опять, наращивая скорость, понеслись навстречу.
Захватывающее развлечение – ведь всегда существует хотя бы миллионная вероятность, что автопилот не сработает.
Анна отвернулась и проговорила сквозь зубы:
– Не переношу. А еще знаете, что делают? Надевают антигравы и прыгают с телевизионной башни. У кого откажет. И я прыгала. Что с вами, Павел?
Оказывается, я стоял с открытым ртом. Я опять ощутил ту легкость и веселье, которые я испытал в Спектакле.
– Ненавижу убожество, – еле сдерживалась Анна. – Спектакли! Картонные люди и картонные декорации. Куклы на пружинах. Взрослые младенцы развлекаются пустышками. И словно никто не видит. В газетах – слюни, по радио – идиотская патока. Приезжают инспекторы, вот вы например, – одобряют. Бенедикт как-то уламывает. Он всех уламывает, Павел! Взяли бы и запретили!
– Это не так просто, – почти не слушая, ответил я.
В позапрошлом году мы вели дело «Нищих братьев». Они организовали несколько общин в Канаде – около десяти тысяч человек. Руководители общин, духовные отцы Саймон и Арпангейль, называвшие себя архангелами, кстати, оба выпускники технического колледжа, магистры наук, частью купили, частью смонтировали сами волновой генератор для направленной передачи эмоций. Им удалось составить коды различных экстатических состояний и довольно чисто вложить их в усилители. Каждый вечер проводился час молитвы. Я и сейчас будто вижу, как тысячи людей стоят на коленях на залитой водой плантации, в расползающейся, мокрой земле и, дергаясь, словно эпилептики, воздев руки к небу, возносят восторженную молитву задрапированному под часовню генератору с золотым крестом на вершине, а два архангела в белых мантиях, куда была вшита иридиевая мозаика для изоляции, упираясь головами в низкое, кровавое солнце, торжественно и величаво благословляют покорную паству.
Чтобы попасть на час молитвы и испытать благодать Божью, люди были готовы на все – жили в землянках, работали по двадцать часов в сутки без еды, в грязи, в ледяной воде, окучивая голубые марсианские маки, которые громадными партиями шли на экспорт в Китай, расценивались на вес золота. Они отдавали жен, детей, могли убить кого угодно, чтобы испытать еще раз – хотя бы один-единственный раз – блаженство Господней любви.
И вот, когда мы шли между молящимися, а они хрипели и бились, как слепые, и грязь текла по бескровным лицам, вот тогда я испытал точно такое же чувство легкости и веселья, а вслед за этим – огромного, всепоглощающего, нечеловеческого счастья.
– Вы не слушаете меня, Павел, – обиделась Анна.
– Я слушаю, слушаю, – отрешенно сказал я.
Мы пошли дальше. Впереди сиял проспект. Над домами в чутком ночном воздухе, задевая крыши, вращались два исполинских серебряных шара. Оттуда лилась музыка.
– Значит, у них в Доме стоит волновой генератор, – подумал я. – Надо же, с ума сойти – волновой генератор.
6
Всю ночь я писал доклад, стараясь сделать его убедительным, а уже в пять утра вышел из дома. Встречу назначили на квартире у Августа, и я хотел избавиться от наблюдателя, кем бы он ни был. Поэтому я взял такси и поехал в Южный район. Вчерашнего мужчины на улице не было, но какой-то ранний прохожий сел вслед за мной в машину, и она, следуя в некотором отдалении, стала повторять мой маршрут. Фотографировать на таком расстоянии не имело смысла.
Южный район был столь велик, что физически представлял собой самостоятельный город с собственными предприятиями, больницами и кинотеатрами. Стодвадцатиэтажные дома, разделенные садами через каждые шесть ярусов, поднимались на горизонте. Утреннее оранжевое солнце стояло над ними. На вершинах пирамид посверкивали башенки связи. Подрулив к их подножию, я вошел в лифт и через десять минут оказался на площадке междугородной аэробусной станции.
Тотчас передо мной вырос дежурный внутренней службы:
– Ваш билет?
– Начальника станции! – потребовал я.
Дежурный, видимо, понял, с кем имеет дело, потому что без промедления прошептал что-то в наружный карман.
– Вы подождете здесь? – спросил он.
– Да.
Дежурный исчез. Бетон был влажен. Стояли два пустых аэробуса, похожие на громадные серебряные капли. Начинало припекать. С пятисотметровой высоты город, затянутый утренним туманом, не проглядывался.
Небо прочертила огненная точка – покидал атмосферу рейсовый лунник. Позади меня на стене красовался стереоплакат – молодой парень, подняв щиток шлема, шагал по красной пустыне. Брови его были сдвинуты, непреклонные глаза устремлены вдаль. Перед ним, смешно подпрыгивая, пробуя песок длинным клювом, перекатывался чибис.
Плакат призывал работать в Аркадии. Он был лишним. Желающих попасть в марсианскую Аркадию хватало: отбирали одного из десяти.
…Тогда в этой самой Аркадии я просидел две недели на базе у Дягилева – сразу после появления песчанок, которых сгоряча объявили разумными обитателями Марса. Бактериологи, направленные в пустыню высаживать штаммы для освобождения кремний-связанной воды, клялись, что через двадцать лет в Аркадии появится настоящее озеро, а через пятьдесят – на всем Марсе можно будет дышать без шлема, как тот парень на плакате. Потом, в карантине, я четыре дня рассказывал им о своей работе, они слушали, разинув рты, а я им завидовал: они занимались большим и чистым делом, они работали в будущем Земли, я же – в ее прошлом.
Мне стало грустно. По роду своей деятельности я редко сталкивался с нормальной жизнью. На мою долю выпадали в основном эксцессы…
Подошел начальник станции, со значительным выражением на лице. Я объяснил, что мне нужно. Значительное лицо вытянулось.
– Это невозможно, – развел он руками. – Только рейс на Париж.
– Я вас очень прошу, – ледяным тоном сказал я.
– Но…
– Очень.
Зачастую правильно выбранный тон действует лучше, чем любые удостоверения. Через пять минут я стартовал – в рулевой кабине стоместного междугородного аэробуса. Пилота я попросил закинуть меня в Северный район. Он был предупрежден, и возражений не последовало.
Теперь я был спокоен. От визуальной слежки я избавился, а запеленговать аэробус, выявить место его посадки или выслать хотя бы патрульный вертолет за такое время не успели бы и в Управлении полиции.
– А правда, что у нас высадились пришельцы? – кося глазом, спросил пилот.
– Не слышал.
– Ну да – скрываете. Говорят, высадились по всей планете. И маскировочка – не отличить от людей. Ходят, наблюдают. А если пришелец посмотрит тебе в глаза – то падаешь мертвым. Говорят, на днях одного таки взяли. Целое сражение было: пушки, пулеметы, лазеры. Дивизию солдат пригнали. Значит, не слышали? – недоверчиво переспросил он.
Я откинулся в мягком кресле. Мы засекречиваем все подряд, боимся потревожить людей – и вот к чему приводит дефицит информации.
Мы приземлились на Северной станции, я взял такси и поехал к Августу.
Он открыл мне сам. Как всегда пробурчал:
– Опаздываешь.
На нем была мятая рубашка и такие же брюки. Словно он спал одетый. Под глазами мешки. В комнате сидели трое. Молчаливый Симеон – офицер полиции для связи с местными органами, незнакомый мне строго одетый человек с мертвыми от контактных линз глазами и третий – тот самый черноглазый парень из Дома. Он, как всегда, курил с отсутствующим выражением лица, выпуская аккуратные кольца зеленого дыма.
– Познакомься, – представил Август. – Жан-Пьер Боннар, сотрудник МККР, работает параллельно с тобой. После гибели Кузнецова назначен старшим группы.
– С приятным свиданием, – Боннар протянул мне руку.
Я пожал ее и сел. Боннар свободно закинул ногу на ногу. Пиджак на нем переливался радугой при каждом движении. Он ногтем постучал по часам:
– Давайте начинать, господа. Не знаю, как вы, а у меня времени нет. Утреннее свидание с дамой.
Я думал, Августа хватит удар, но он сдержался, помалиновев тяжелыми щеками.
– Плохо работаем, – сказал Август. – Непрофессионально. Потеряли Кузнецова. Глупо потеряли. Даже непонятно, на чем. Обидно. Что дальше?
Он поочередно оглядел всех. Все молчали. У Боннара на лице была разлита скука. Август сел в сразу раздавшееся кресло:
– Прошу вас, Симеон.
– Даю справку, – отчеканил Симеон. – Политическая организация «Саламандра» создана примерно пять лет назад. В настоящее время насчитывает около сорока тысяч членов и около двухсот тысяч сочувствующих. Имеет два места в парламенте. Представителем организации в правительственных учреждениях является сенатор Голх. Политическая платформа организации – «возрождение нации» – в социальном плане не конкретизируется. Деятельность организации протекает в основном в рамках закона.
– Это все? – вскинул глаза Август.
– Все.
– Дорогой… Симеон, – ласково сказал Август. – Не считайте, что в МККР одни дураки. В МККР знают, что делают. Там выбрали вашу страну не случайно. Предыдущие действия фантомов не носили целенаправленного характера. МККР склонен думать, что имело место изолированное, спонтанное включение программы.
– Дорогой… Август, – в том же тоне начал Симеон. – Я согласен, что ограбление банков, шантаж с радикальными последствиями, политические убийства, то есть организующая деятельность фантомов происходит именно у нас. Я могу вас заверить, полиция сделает все, что в ее силах.
– Дорогой Симеон, меня интересуют два вопроса. Первый. Как засветили моего сотрудника? Второй. Почему им заинтересовалась «Саламандра»?
– Дорогой Август, у «Саламандры» бывают очень неожиданные интересы.
Август яростно скреб ногтями голый череп. Симеон барабанил пальцами по столу. Развивался обычный конфликт между МККР и местными властями. Шла обычная игра в вежливо-язвительный словесный пинг-понг. Местная власть всегда считала, что МККР позволяет себе слишком много. У МККР, разумеется, было противоположное мнение.
Я почему-то вспомнил Столицу – как двое десантников волокли бьющегося об асфальт фантома из дверей Центрального банка.
Сказал:
– За мной хвост.
Они оба замолчали.
– Я ведь работаю без прикрытия? – осведомился я.
Август перекатил зеленые глаза на Симеона.
– Без, – подтвердил тот.
Я достал фотографию человека в стальном костюме.
– Не мой, – определил Симеон.
– А сегодня с утра был еще один, я его не смог сфотографировать.
Боннар дунул на свои перстни, пересел к Симеону на диван. Наморщил лоб.
– А может быть, они какое-то время наблюдают каждого новичка? – предположил я.
Август перевел взгляд на Боннара. Тот подтянул длинные ноги:
– Нет. Ничего подобного. За мной – чисто.
Август продолжал смотреть из-под голых век.
– Я бы заметил, – занервничал Боннар. – У меня квалификация первого класса. Нет. Не думаю.
Тон его мне не понравился.
– Хорошо, – наконец подал голос Август. – Будем рассматривать обе версии.
Симеон изучал фотографию. Чуть ли не нюхал.
– Готов поклясться, что этот тип из второго отдела, – внезапно сипло сказал он.
Август повернулся к нему всем телом:
– Военная контрразведка?
– Да.
– Мне кажется, дорогой Симеон, будто вы жалеете, что связались с нами.
– Вы не знаете, что такое второй отдел, – нахмурился Симеон. Бросил фотографию. Предупредил: – На меня больше не рассчитывайте.
– Только не надо драматизировать ситуацию, – сказал Август. Симеон ушел в размышления, прикрыв глаза.
– И еще новость. – Я рассказал о своих ощущениях во время Спектакля и подробно изложил историю «Нищих братьев», проведя обнаруженную мной аналогию.
– Волновой генератор? – с сомнением произнес Август.
– Здесь, пожалуй, что-то есть, – задумчиво сказал Боннар. – Я не знаком с материалами по «Нищим братьям» и не сталкивался с направленной передачей эмоций. Но то, что вы рассказали, напомнило мне об ощущениях, которые я испытал в Спектакле. Сначала – неприятие происходящего вокруг, а потом вдруг полное приятие всего этого, сопереживание. Находишься будто в центре событий. Эмоциональный фон – легкость, веселье, вседозволенность.
– Ваше мнение, доктор? – обратился к человеку с мертвыми глазами Август. Представил. – Доктор Або, нейрофизиолог, специалист по блок-записям, занимается медицинской стороной фантомов…
Тот кивнул.
– Доктор, есть ли какие-нибудь медицинские средства, чтобы отличить обычного человека от фантома? – перебил я.
– Пока нет. – Доктор сплел бледные пальцы. – Мы сейчас работаем над этой проблемой.
– А нельзя ли подобрать спектр – волновой, фармацевтический, который бы выключал или стирал программу?
– Не отвлекайся, Павел, – остановил меня Август. – Если медицина даст результаты, ты узнаешь об этом немедленно. Мы слушаем вас, доктор.
– Я не думаю, что в Спектакле существует передача эмоций, по крайней мере в том виде, как ее изложил ваш коллега. Волновой генератор – установка чрезвычайно сложная и дорогая, собрать ее частным образом без молекулярных микросхем, без биодатчиков, которые выращиваются только индивидуально, по заданным параметрам и требуют громадного количества времени, невозможно. Скорее всего, указанный эмоциональный фон был создан атмосферой Спектакля. Зрительные образы чувственны сами по себе и, апеллируя к уже существующему эмоциональному резерву, вызывают соответствующее переживание.
Доктор говорил округлыми фразами, внушительно; видно, поднаторел на конференциях. Я понял, что убедить его не удастся.
– Что касается «Нищих братьев», то я знаком с материалами. Они имели самый примитивный передатчик и транслировали очень узкую часть экстатического спектра, примерно одну сотую, правда, при большой интенсивности. Если бы что-нибудь подобное имело место в Спектакле, то вы просто не смогли бы участвовать в нем – лежали бы в состоянии острой эйфории, – доктор расплел руки, положил их на острые колени. Замер.
– Ладно. Работаем дальше. – Август по-прежнему был собран. – Боннар, ставьте вашу ленту.
– Я не согласен, – сказал я.
Август поморщился.
– Да, я не согласен. Я единственный из присутствующих, кто испытал действие генератора, и поэтому заявляю со всей ответственностью: генератор там есть. Вы даже не представляете, какая это опасная штука – волновой генератор эмоций.
Боннар усмехнулся. Август почесал лоб, доктор слушал спокойно, готовя возражения.
– Да! Наши фантомы – детская игрушка по сравнению с ним. В конце концов, что могут фантомы – убить, взорвать… Они просто роботы. Их немного против всего мира. А генератор не изменяет человека, он лишь предлагает ему наслаждение в тысячу раз более сильное, чем в обычной жизни. Фактически он саму жизнь заменяет иллюзией – более яркой и радостной. И вкусивший плод может не захотеть отказаться от него, это становится своего рода манией.
– Чего же ты хочешь? – проворчал Август.
– Закрыть Дом, изъять аппаратуру, выявить всех людей, участвовавших в Спектаклях, провести обязательную психотерапию. Через МККР взять под контроль аналогичные Спектакли в других странах.
Боннар присвистнул.
– Дискуссию прекращаю, – прервал меня Август. – Дом будет открыт до начала операции. Там посмотрим.
– Я вынужден подать официальный рапорт, – сказал я и положил перед ним папку со своим ночным докладом.
– С вами, русскими, невероятно трудно работать, – вздохнул Август. – Вы вечно все усложняете.
– Мы можем послать кого-нибудь из технического отдела – осмотреть аппаратуру под видом плановой профилактики, – безразлично сказал Симеон, не открывая глаз.
Август с кислым видом отодвинул мою папку:
– Ладно. Максимум два человека. Всякие расспросы, выяснения, расследования – категорически запрещаю. Даже если обнаружится этот… генератор. Что ты улыбаешься, Павел? Имей в виду: фантомов мы должны взять в кратчайший срок. Боннар, у вас все готово? Включайте. Доктор! Уберите свет – там, справа.
Все смотрели запись, сделанную Боннаром на Спектакле. Она была очень забавна. Лента фиксировала лишь то, что было на самом деле, без достройки деталей, произведенной нашим сознанием. Так, оказалось, что борт корабля настоящий, а на палубе стоят два фанерных куба – грубая имитация капитанского мостика и кают. Пираты – голографическое изображение – были словно восковые, не раскрашенные, и передвигались вдвое медленней, чем мне тогда казалось. Вместо пушек лежали толстые металлические трубы, время от времени независимо от заряжающих их людей извергающие клубы пара.
Совещание пиратов во главе с капитаном Клайдом проходило в современной комнате, лишь чуть-чуть тронутой голограммами. А улица города и площадь его были весьма удачно наложены на коридор Дома, который вел в дирекцию.
И среди этих примитивных декораций особо нелепо выглядели бегущие, падающие, сражающиеся с невидимым противником фигурки зрителей в модных костюмах. Несколько раз я видел на экране себя: нелепо дергаясь, как картонный, я прыгал по палубе, и лицо у меня было глупо-восторженное. Мне было стыдно. Август смотрел на экран бесстрастно.
Потом мы прокрутили мою ленту. Я увидел точно такого же Боннара и успокоился.
Обе ленты в основном совпадали, кроме конца. Боннар не был в осажденном городе. Он высадился с десантом и карабкался с ним по тропе к площади – я снял их сверху. Мой показ завершался комнатой настройки в телецентре, где мертвый Кузнецов смотрел вверх остановившимися глазами.
Зажгли свет.
После паузы Август сказал:
– Мы, конечно, постараемся идентифицировать каждого зрителя, попробуем установить их присутствие в районе телецентра. Но это вряд ли что-нибудь даст. Ведь участвовало более двухсот человек.
– А лента Кузнецова? – спросил Боннар.
– Там не было ленты.
– Зондаж мозга?
– Сплошные помехи, – ответил Август. – Чернота. Смерть наступила внезапно. Он ни о чем не думал.
В комнате стало тихо. Жужжал невыключенный проектор. Август потрогал себя за массивную щеку, словно у него болел зуб:
– Кто такие Великие Моголы, теперь представляете?
– Да, – сказали мы с Боннаром.
– Специалисты, – кивок в сторону доктора, – полагают, что одно из имен в том или ином сочетании может быть словом. Вводит Моголов Павел. Боннар – наблюдатель.
– Можно еще раз посмотреть середину второй пленки? – неожиданно попросил доктор. – Там есть одно любопытное место. Сразу после совещания, когда вы выходите…
Я погнал назад ленту, фигуры на экране заметались, как сумасшедшие. В нужном месте я притормозил. В кадре показалось надменное, брезгливо сморщенное лицо капитана Клайда, парики, склоненные над картой, Анна, уронившая голову на руки. Август увидел, как Боннар подмигнул мне и недовольно кашлянул.
Потом изображение запрыгало: я вышел в коридор. Там стояли два пирата. Один протягивал другому золотой браслет.
– Стоп! – сказал доктор. Он упер палец в браслет. – Синергетический блокатор нервных волокон, АСА-5, многоразового пользования, проще говоря – болеизлучатель.
– Крупно! – гаркнул Август.
Я повернул ручку. Предмет заполнил экран. Сомнений не оставалось.
– Время?
– Двадцать один одиннадцать.
– Значит, через четыре минуты после убийства, – сказал Август. – Дай лица. Вот они, фантомы!
Оба лица были усатые, в париках. Совершенно незнакомые. Мне в них что-то не понравилось.
– Ну и глаз у вас, доктор, – уважительно отозвался Боннар.
– Вот этот, левый, убил Кузнецова, – сказал Август. – Почему они в маскараде? Это ведь не голограмма.
Я понял, что мне не нравится, и разозлился:
– Мы их не определим. Это люди, одетые под голограмму. Они в биомасках.
– Свет! – бесцветным голосом сказал Август.
7
Зал походил на оранжерею. По стенам его тянулся вверх узорчатый плющ. Его прорезали огненные стрелы бегоний, усыпанные мелкими фиолетовыми цветами. В длинных аквариумах, в зеленой воде над полуразвалившимися пагодами висели толстые, пучеглазые рыбы, подергивали шлейфами плавников.
– Очень рад, что вы нашли время, – сказал директор. – Элга, поухаживай за гостем.
Элга налила мне в узкий бокал чего-то лимонно-желтого, плотным слоем всплыла коричневая лопающаяся пена. Я пригубил. Это был приправленный специями манговый сок со слабыми признаками алкоголя. Такой же напиток стоял и перед остальными. Режиссер сидел с опущенной головой и покачивал в руках бокал с прозрачной жидкостью, изредка отпивая из него.
Даже на полу росла трава. Я нагнулся. Трава была настоящая. Я оглядел зал. Боннар сидел недалеко от меня; как воробей, вертел головой, смуглыми пальцами чертил воздух. Три симпатичные девушки за его столиком переламывались надвое от смеха.
Анна была с отцом. Встретила мой взгляд – Элга как раз положила мне руку на плечо – отвернулась. Какой-то долговязый тип горячо говорил с ней, взял за кисть, поцеловал кончики пальцев. Волосы его, меняя окраску, непрерывно шевелились. Будто черви.
– Мы потанцуем? – спросила Элга на ухо.
Сегодня она была одета удивительно скромно – в серую накидку с прорезями для рук.
– Обязательно, – сказал я.
– Наш Спектакль, – говорил директор, – является не частью искусства, как иногда полагают, а скорее синтезом всех искусств. Ничего подобного не было прежде, разве что на заре цивилизации, когда музыка, слово, движение были единым целым. Я вижу в этом глубокий смысл: мы повторяем то, что уже было найдено человечеством, но на ином уровне – отобрав лучшее, органически сплавив его в Спектакле и создав тем самым некую высшую и, возможно, совершеннейшую из существующих форм искусства.
Режиссер хрюкнул в бокал. Директор бросил на него непонятный взгляд. Советник, поедавший сразу из двух тарелок тушеное мясо с грибами, изрек желудочным голосом:
– Я лично без Спектаклей не могу, – и уткнулся носом в подливку.
– Ваше мнение, Павел, было бы чрезвычайно интересно, – обратился ко мне директор.
Все впились в меня глазами.
– Вообще мне понравилось, – осторожно начал я. – Реалистично. Ярко. Действие захватывает – не успеваешь вдуматься.
– В ваших словах слышится большое «но». – Директор раздвинул губы – улыбнулся.
Советник не донес мясо до рта. Капал соус. Элга прошептала мне в ухо:
– Ну говори, Павел…
Я щекой чувствовал ее дыхание. Мне казалось, что они все чего-то от меня ждут.
Зал вдруг раздвоился, как в неисправном телевизоре. Оба изображения подрожали и медленно, с трудом совместились.
Я помотал головой. На меня смотрели.
– Да, – подтвердил я. – Простите за прямоту. Я усматриваю в ваших Спектаклях большую опасность.
Действие моих слов было неожиданным. Советник уронил мясо в тарелку, отвалил мягкую челюсть. Режиссер дернул бокал так, что из него плеснула жидкость. У Элги остановилось дыхание.
Впрочем, все тут же опомнились.
– Не совсем понимаю вас, – спотыкающимся голосом сказал директор.
Внезапно я увидел, что он боится. Пытается скрыть это, облизывает темные губы.
– Вы соединяете различные искусства, – сказал я.
– Так…
– Берете из каждого наиболее сильную компоненту и на основе их создаете новый мир. То есть вы используете не само искусство, а лишь часть его. Эссенцию. Эссенция входит в искусство, но заменить его не может.
Режиссер открыл было рот, но ничего не сказал.
– И поэтому мир вашего Спектакля – суррогат. А опасность в том, что этот суррогат – намного ярче и доступнее обычного мира. Главное – доступнее. Потому что ваш мир человек в какой-то мере создает сам, согласно своим потребностям. Далеко не каждый может эти свои потребности – в том числе и неосознанные – контролировать. Не каждый может отказаться от них во имя достаточно абстрактных этических принципов.
И тут что-то произошло. Они перестали меня слушать. Напряжение спало. Элга расслабленно вздохнула. Режиссер потянулся к бокалу. Советник занялся салатом.
Словно от меня ждали чего-то совсем другого и, не дождавшись, обрадовались.
– Я не говорю, что вы обращаетесь к низменным инстинктам, – сказал я. – Но вы заполняете сферу между ними и сознанием; заполняете настолько плотно, что сознание уже не способно контролировать их.
– Очень оригинально, – вежливо отреагировал директор.
Он лишь делал вид, что слушает. Режиссер помахал кому-то, сказал рассеянно:
– Искусство во все времена являлось суррогатом, как вы говорите, – начиная с ритуальных танцев первобытных людей, где участвующие впадали в транс, кончая современными гала-мистериями на сто тысяч человек.
Он глотнул своей жидкости – поморщился. Сверху зазвучала тихая, вязкая музыка, она обволокла зал. Свет изменился, стал серебряным. Элга тянула сок. Хрупкие полупрозрачные стебли откуда-то сверху свешивались ей на плечи. Она обрывала их, бросала – тут же отрастали новые.
Подошел парень, похожий на гориллу, кажется Краб, наклонился, прошептал настойчиво. Элга сузила глаза:
– Уйди! И больше не подходи ко мне сегодня.
Парень скрипнул зубами, отошел. Из-под густых век упер в меня ненавидящий взгляд.
У меня звенело в голове. Зал покачивался, словно в опьянении. Я чувствовал, что говорю слишком много, но как-то не мог остановиться:
– В любом виде искусства право выбора принадлежит человеку. Он волен принять предлагаемую ему сущность или отвергнуть ее. А ваши Спектакли порабощают полностью: выбора не остается. Человек может лишь варьировать навязанную ему конструкцию.
Директор благодушно кивал. Лицо у него было отсутствующее. Я разозлился:
– Вы навязываете свою культуру, насильно внедряете ее в сознание, руководствуясь при этом лишь собственными критериями. Это рабство. Это тирания культуры. Она ничем не отличается от исторических тираний – фараонов, Чингисхана или Великих Моголов.
Слово было сказано. Я продолжал спокойнее:
– Раньше человек жил под экономическим диктатом. Или под диктатом политическим. Сейчас вы хотите навязать ему диктат культуры – более опасный, потому что он неявный. Под властью вашего Спектакля хуже, чем под властью Великих Моголов, – повторил я.
И опять ничего не произошло. Свет в зале потускнел. Музыка заиграла громче. Появились танцующие – они стояли неподвижно, обнявшись. Анна с долговязым тоже встали, прильнули друг к другу.
Из черноты выплыло лицо режиссера – деревянное, в перекрученных мышцах: оно отклонялось то влево, то вправо, как маятник. Донесся вялый голос:
– Кто это вам рассказал о Великих Моголах?
– Не помню, – ответил я, пытаясь удержать в поле обзора эту качающуюся маску.
– Витольд, – предостерег директор.
Режиссер неожиданно оттолкнул бокал, ощерился.
– На-до-ело, – сквозь зубы отчеканил он. – Я хочу ставить Великих Моголов, и я буду ставить Великих Моголов.
Запрокинув голову, допил до дна. Кадык бегал по худой шее.
– Не понимаю вашего тона, – сказал я.
Темнота вокруг сгущалась, становилась осязаемой. Непрозрачный воздух уплотнялся и как бы замуровывал меня.
– А идите вы все! – вскочил на ноги режиссер, зашагал между окаменевшими парами – худой, взъерошенный, в нелепой одежде из переплетенных лент.
Элга потянула меня танцевать. Свет струился с потолка мягким серебром, ничего не освещая. Цветы казались черными. Я обнял Элгу – под ладонями было голое тело. Элга смотрела насмешливо: серой накидки не существовало. Это была сложная фигурная запись, – мои руки вошли в ткань. Элга была безо всего. Подняла лицо, губы ждали.
Глупо оглянувшись, я поцеловал ее. От нее пахло душной сиренью. Она мне очень нравилась. Мне все очень нравилось. Мне все очень нравились. И директор, и советник, и долговязый режиссер. Он странно одевается. Но это ведь ничего. Может же человек странно одеваться. И напрасно они меня боятся. Это совершенно незачем. Они боятся, потому что ты не инспектор, сказала Элга. А почему я, собственно, не инспектор? Откуда известно, что я не инспектор? А потому что Бенедикт все Министерство наизусть знает. Ну и правильно, я не инспектор. Может же человек не быть инспектором? Они решили, что ты специалист-психоэмоциолог или волновик. Боялись, что запретишь Спектакли. Ну и глупости, почему я должен запретить их? Там эмоциональный фон выше нормы. Вот они и перетрусили. Дураки. Они же тут все идиоты – и Бенедикт, и этот гениальный Витольд, и толстый Герберт. Подумаешь, фон выше нормы. Это еще не причина, чтобы запрещать такие чудесные Спектакли. Может же фон быть выше нормы? А собственно, почему он выше нормы? Этого я не знаю. Ладно, пусть он будет выше нормы. Я разрешаю. Все равно они мне все нравятся. И Анна мне очень нравится. Я наверное ее люблю. То есть тебя я тоже люблю. Я поцеловал Элгу. У меня кружилась голова. Она же дура, сказала Элга. Истеричка. Упросила, чтобы я устроила ее в Дом. А разве не она тебя устроила? Я же говорю: она тебе все наврала. Дура. Связалась с «саламандрами», бегает к ним на собрания. А что плохого в «саламандрах»? Это прекрасные ребята. Они немного заблуждаются, но может же человек немного заблуждаться? И потом у нее такой приятный отец. Он ей такой же отец, как я тебе… И кто он тогда? Муж. Ей зачем-то понадобилось выйти за него. Муж? Как странно. Значит, она замужем? Но я все равно ее люблю.
Мы стояли на террасе. Терраса была громадная, темная, окутанная зеленью. Элга нажала кнопку, передняя стена опустилась до половины. Хлынул прохладный воздух. Город внизу был черен. Мерцали крыши. Светлячками ползли такси. Вдали, в новостройках подымались пирамиды света. Обещали дождь с десяти до десяти ноль трех, сказала Элга. Тропический ливень. Я люблю дождь. И я люблю дождь, сказал я. Я вас всех люблю. И еще я люблю Августа. Он вытащил меня из воронки для пауков в Синей пустыне. Ты видела когда-нибудь воронки для пауков? А самих пауков ты видела? У них восемнадцать ног. Я лежал два дня без воды и думал, что уже конец. Они сидели вокруг и ждали. У меня губы растрескались. И я люблю Кузнецова. А ты знал Кузнецова? Конечно знал. Мы четыре года жили в одной комнате, каждый день в шесть утра он стаскивал с меня одеяло и гаркал в ухо. Или я это уже рассказывал? Нет, ты этого не рассказывал. Нет, мне кажется, что я все-таки рассказывал. Ну все равно. Гера – мой друг. Жаль, что его убили. Его убили? Говорили – сердце. Да, его убили, какие-то сволочи, фантомы, нелюди. И еще жаль, что он ошибся. Весь Дом говорит о Великих Моголах, и ничего не происходит. Придется отказаться от этой версии. Но тогда нам даже не за что зацепиться. Должен же человек за что-то зацепиться? Вот вы зацепились за Спектакли. Кстати, у вас в Доме есть волновой генератор? Нет у нас генератора, генераторы запрещены. У вас есть волновой генератор. Я это знаю. Если ты меня любишь, ты должна сказать, что у вас есть генератор. Но у нас в самом деле нет генератора.
Разверзлось небо – зашумело, затрещало, загудело и рухнуло ревущим водопадом, сплошной стеной сумасшедшей воды. Струи захлестывали веранду. Элга протянула обе руки в дождь. Волосы ее прилипли к лицу.
– Здорово! – крикнула она.
Метался мокрый плющ на стене. Я ртом ловил воду. Меня мутило. Стремительно тяжелела голова. Из желудка поднимался тошнотворный комок.
Грохот оборвался. Струи дождя растворились в сыром воздухе. Было тихо, лишь капало с крыш.
Элга вытерла лицо.
– Ну и ливень – красота, – сказала она, отжимая волосы. – Пойдем сушиться.
– Слушай, Элга, – не сдавался я. – Так у вас в Доме есть волновой генератор?
– А? Что? Не знаю – мокрая насквозь.
Я пощелкал по стеклу аквариума. Пузатые рыбы устремились к пальцу, таращили пустые глаза. Элга взяла меня за руку:
– Пошли.
Между нами в зеленом стекле аквариума совершенно бесшумно появилась аккуратная круглая дырка – вода мгновенно хлынула оттуда струей.
И сразу же рядом возникла вторая – такая же круглая. Я толкнул Элгу в бок, подставил ногу. Мы упали. Я старался прикрыть ее сверху. Кобура была под мышкой. Элга барахталась, мешала. Я ждал новых выстрелов, их не было. Наконец, я вытащил пистолет, дулом фиксировал дверь. Спросил:
– Где включается свет?
– Там, – слабо показала она, так ничего и не поняв.
Свет вспыхнул неожиданно резко. В дверном проеме никого не было.
– Вставай, – сказал я.
Элга с трудом поднялась, дико посмотрела на аквариум: на обнажившемся золотом песке били хвостами, растопыривали жабры толстые, уродливые рыбы.
8
Я велел Элге ехать домой и молчать. Она только кивала. Ушла, оглядываясь.
Затем я вызвал Боннара. Он явился элегантный, веселый, в облаке пряных духов. Увидел дырки, присвистнул:
– Забавная история. Ты видел, кто стрелял?
– Нет.
Боннар дугой поднял бровь:
– Это точно?
Я не стал отвечать. Меня мутило все сильнее. Бровь опустилась на свое место. Боннар ощупал края аквариума, потрогал влажный песок, сказал задумчиво:
– Стреляли из «кленового листа», в крайнем случае – «Элизабет», армейская серия.
Я не спорил.
– И стрелял лопух: промахнулся с десяти метров.
Я опять согласился. Он соизволил обратить внимание на мой вид:
– Тебе плохо?
– Подсыпали какой-то дряни.
Боннар сочувственно причмокнул. Спросил:
– Великие Моголы?
– Да! – уверенно ответил я, хотя только что был так же уверен в обратном.
– Значит, мы ходим где-то близко, – сказал Боннар. – Вероятно, тебе имеет смысл постоять здесь – он вернется.
Я показал на дверь:
– Иди, пока нас не засекли вместе.
– Я мог бы приказать, – напомнил Боннар.
– Мог бы.
Боннар прищурил южные глаза, черные, как маслины. Казалось, сейчас он воспользуется своим правом, но он сказал:
– Хорошо. Работай сам. Контроль через «блоху». – И ускользнул в темный проем.
Я больше не мог терпеть. Меня выворачивало. Горло запечатал комок, отдающий желчью. Натыкаясь на стулья, я проскочил зал, где слабый свет серебрил головы и плечи неподвижных пар, в коридоре пошел медленнее: я чувствовал себя сосудом, до краев наполненным водой, – боялся расплескать.
Чем меня напоили – «сыворотка правды»? Или что-нибудь вроде роценона, который вызывает неудержимую болтливость? Надо будет тщательно проанализировать разговоры – кому это было надо? Но все-таки хорош этот Боннар – оставить меня как подсадного, пусть стреляют. Впрочем, винить его трудно: так принято работать у нас в МККР – если для успеха операции надо пожертвовать сотрудником, то жертвуют, не задумываясь. Считается, что мы знаем, на что идем, и нам за это заплачено.
Я столкнулся с этим уже в первый год работы, когда меня направили на Орбитал Венос – станцию во Внеземелье, где исчезли контейнеры с геофагом. Там в меня стреляли три раза в день – утром, днем и вечером. Ночью я отсыпался, замкнув свою каюту личным шифром. А по окончании операции выяснилось, что меня еще до прибытия на Орбитал сознательно засветили, рассчитывая, что группа Эрлаха, вывозящая геофаг в малые страны для использования в локальных войнах, постарается меня убрать и тем самым обнаружит себя. В конечном счете так оно и случилось, но я получил два пулевых ранения и вдобавок недоверие к оперативному отделу МККР на всю жизнь.
Так что Боннар был не так уж и неправ. Включенный фантом нацелен на реализацию программы. Стрелявший действительно мог вернуться. Но нам нужен был не он. Брать рядового фантома не имело смысла. Кузнецов каким-то образом вышел на Великих Моголов. Это – ключ. Но мы не знаем, как этим ключом пользоваться. Работаем вслепую. Фантомы проявляют себя только в действии. Значит, нужно вызвать их на действия. А это может лишь старший. А он не будет этого делать, пока не получит реальных шансов захватить власть. Да, конечно, я бы на его месте так и поступил – сидел бы очень тихо, затаился, забился в щель, ждал бы, пока подчиненные фантомы не пройдут наверх достаточно далеко, в МККР например. Да, затаиться и ждать. Никакой активности.
Меня все-таки вытошнило. Прямо на пол. Я едва успел согнуться – кашлял и давился, выталкивая изнутри горчайшую зеленую пену. Нет, это не «сыворотка правды» и не роценон, от них, как я знаю, не бывает последствий. Это что-то другое. Желудок содрогался в болезненных спазмах.
– Стоп! – сказал я себе. – Но ведь кто-то же убил Кузнецова? И стрелял в меня. Значит, активные действия они все-таки ведут. Почему? Может, потому, что Кузнецов нашел ключ? Нет. Чихали они на этот ключ. Он ничего не отзывает.
Концы не связывались. Я зашел в тупик. Оставалось последнее: а если Кузнецов нашел не ключ, а ниточку от клубка всей этой истории – слабую такую ниточку, – а теперь и ее стараются оборвать. Что тоже проблематично: они не могут не знать, что имеют дело с государственной организацией – все факты, добытые мной или кем-то другим, немедленно передаются в центр. Нас просто не имеет смысла убивать. И все-таки нас убивают.
Во рту жгло так, словно язык обсыпали перцем. Неимоверно хотелось пить. Я двинулся в конец коридора, к душевым. Звонко щелкнула дверца лифта – и сразу же за поворотом кто-то побежал.
Я нащупал под мышкой рифленую рукоятку пистолета.
Шаги приближались. Бежал пожилой человек, и это ему давалось нелегко: он тяжело дышал. Вылетел из-за угла, остановился в растерянности.
Это был советник.
Я шагнул к нему, не убирая руки из-за пазухи:
– Еще раз здравствуйте, господин Фальцев.
Радужная оболочка его глаз пропала от испуга.
– Куда-нибудь торопитесь? – заботливо спросил я.
– Я… я искал вас, – срывающимся голосом сказал советник.
– Пожалуйста.
– Мне очень нужно сказать вам – так, чтобы никто не знал. Тайно, понимаете, тайно.
Я оглянулся. Коридор был пуст. Я убрал руку. В конце концов, даже если он фантом, то за моей реакцией ему не успеть: пока он вытаскивает пистолет, я его голыми руками положу четыре раза.
Советник загадочно покивал лицом в красных пятнах:
– Я хочу вам сказать, что я ничего не знаю.
– Очень содержательное сообщение. А о чем именно вы ничего не знаете?
– Ни о чем. Честное слово? Мое дело – финансовое. Я перевожу деньги, я оплачиваю счета и больше ничего. Они все решают сами.
– Кто они?
– Бенедикт и Витольд. И еще этот… Краб, техник.
– У вас в Доме есть волновой генератор? – пошел я напрямик.
– Не знаю, – испугался он. – Похоже, что есть. Наверное, есть. Знаете, ощущение очень близкое…
– Господин Фальцев, мы же все равно установим, если вы имели дело с волновыми наркотиками.
Советник выпустил воздух со свистом, как проколотая надувная игрушка.
– Я пробовал «веселый сон», – обреченно сказал он.
Я недоверчиво посмотрел на него. История с «веселым сном» была мне известна. Эти аппараты предназначались для общей анестезии. Считалось, что они должны полностью снимать болевые явления при операциях, вызывая вместо них ощущение легкой радости. Но уже в процессе испытания опытных образцов было обнаружено, что они обладают наркотическим действием с длительным привыканием к наркотику. Аппараты вернули на доработку – меняли спектр, резонансную частоту – деталей я не помнил. Пострадало человек двадцать – в слабой форме.
– Почему сразу не заявили? – спросил я.
– Я… мне сказали, что во второй раз не излечивается… – упавшим голосом ответил советник. – И ведь я контролировал Дом через городской совет. Мог быть скандал. Но я хотел прекратить, я серьезно говорил с Бенедиктом…
– А «саламандры» дали вам понять, чтобы вы не вмешивались?
Советник осекся и, как черепаха, втянул голову.
– Смелее, Фальцев, – сказал я. – Вы же сообщаете мне это не из любви к согражданам. Вы хотите, чтобы мы избавили вас от «саламандр». Так? Кто конкретно вас доил?
– Краб, – еле слышно ответил советник. – Но, наверное, есть и другие. Я не обращался к местным властям, потому что…
– Понятно. Это все?
– Все! – Он впервые поднял на меня затравленные глаза. – Чистая правда.
– Идите, – приказал я.
– Я могу быть уверен?..
– Да, – сказал я. – Закон гарантирует анонимность заявителя.
– Спасибо.
Он побрел – весь мятый и поникший, шаркая ногами.
Я устремился к душевым. Меня не интересовал советник Фальцев. Пусть рэкетом занимается городская полиция. В основном ясно – генератор в Доме выявят, а Дом закроют. Их не спасет ни Бенедикт, ни «саламандры», ни сам сенатор Голх. Тут – закон. Это хорошо. Значит, я могу больше не тратить время на Спектакли. Только главное: искать старшего группы. Нам нужен старший.
Дверь в душевую была заперта, но я сообразил это, лишь сорвав хлипкую задвижку. Влетел внутрь. Внутри было очень уютно. Посредине душевой, там, где каменный пол понижался к зарешеченному стоку, двое незнакомых мне ребят с сильно развитой мускулатурой держали под мышки обвисшего, согнувшего колени библиотекаря. Измученное лицо его было в свежих ссадинах, зрачки – глубоко под веками, в углах губ трепетала кровяная слюна. Видимо, шел крупный разговор. Как раз в тот момент, когда я влетел, третий человек неторопливо и сильно ударил библиотекаря тяжелым ботинком под ребра. Умело ударил. Привычно. Библиотекарь екнул нутром, качнулась неживая голова, изо рта выпал сгусток крови.
Я все понял. Было удивительно, как я не догадался об этом раньше! Зачем-то мягко и бережно прикрыл дверь. Защемило в груди – их было трое.
Тот, который бил, обернулся. Так и есть – Краб.
– Надо же, еще один, – без удивления отметил он.
Его напарники сразу же отпустили библиотекаря. Он мешком повалился на мокрый пол. Начали придвигаться ко мне с боков.
Шумела вода. Почему-то все души у стен были включены. Мелькнула мысль о пистолете – но одно дело фантомы и совсем другое – мелкие шантажисты. Я был в этой стране частным лицом и вовсе не хотел превратиться в центральную фигуру шумного процесса на тему «сотрудник МККР расстреливает мирных граждан». У нас в отделе не одобряли скоропалительных огневых контактов. Из такого процесса меня могли и не вытащить.
– Не бойся, – ласково обратился ко мне Краб, встряхивая обросшие волосами кисти рук. – Мы тебя не убьем. Мы тебя только изувечим.
Он еще не кончил говорить, как я, нырнув, ударил его головой в челюсть. Краб вскрикнул. Но настоящего удара не получилось. На мне уже повисли. Стало душно и тесно. Грязные пальцы с обкусанными ногтями попытались выдавить мне глаз, но я тоже был не новичок: поймал их зубами – раздался придавленный стон. Каждый из этих ребят был вдвое сильнее меня, но они совершенно не владели боевой техникой и только мешали друг другу. Они вцепились в меня и тут же отпрянули. Я стоял у стены. Мой пиджак лопнул по шву, а рубашка лишилась всех пуговиц сразу. Болел бок, и ныла шея. Это были пустяки. Я еще мог работать. Тем более что обстановка не подходила для расслабления. Правда, один из моих противников сидел на полу, раскачивался и баюкал сломанную руку, но двое других вполне прилично держались на ногах. Если бы они были профессионалами, то мне пришлось бы трудно. Но это были дилетанты. Краб, раздув и без того широкие ноздри и хрипя, сплевывал кровь из прокушенного языка. Второй парень – низкий и квадратный – смотрел на меня с явной опаской.
Дух их был сломлен.
– Убирайтесь. – Я пнул ногой дверь.
– Ну, мы тебя еще встретим, – невнятно пообещал Краб, морщась от боли.
– Давай, давай, – сказал я.
– Мы тебя поприветствуем…
Они подхватили сидящего и, не обращая внимания на его жалобные всхлипы, потащили в коридор.
Я сунул голову под ближайший душ, в холодную воду. Пил, чувствуя, как оседает внутри горькая пена. Боль в боку усиливалась. Наверное, сломали ребро. Славный денек выдался. Веселый. Я утерся ладонью и вызвал Августа.
У него даже голос пресекся от новостей:
– Ты уверен?
– Да. Библиотекарь.
– Дай бог, – сказал Август. – Я сейчас свяжусь с полицией, пусть произведут задержание – согласно всем правилам. Как ты себя чувствуешь?
– Жив пока, – ответил я, удивленный такой заботой.
Он и сам, видимо, смутился, потому что торопливо сказал:
– Полиция будет минуты через три-четыре. Не волнуйся, Павел. Теперь уже все.
Я и не думал волноваться. Операция шла к концу. Сейчас приедут и заберут библиотекаря. Он несомненно старший. Он даст нам ключ и назовет остальные группы. Может быть, он скажет нам и слово власти.
В животе все еще горело. Я зачерпнул воды. Из соседнего душа торчали ноги. Косясь на неподвижного библиотекаря, я заглянул за кафельную перегородку. Там лежал Боннар, мелко и часто дышал открытым ртом, скребя пальцами по кафелю.
Меня словно толкнуло. Я пошарил у него за пазухой, вытащил пистолет. «Элизабет» – армейская серия. Из дула попахивало свежей, кисловатой пороховой гарью, а в обойме не хватало двух патронов.
Вот, значит, как. Была попытка к бегству. Неудачная попытка. Вот, значит, какая получается каша. Контрразведка и «саламандры». И еще фантомы. Ну что же, теперь ясно. Разгром моей квартиры – это «саламандры». А вот микрофоны – это уже второй отдел. И час назад на террасе Боннар стрелял не в меня. Он стрелял в Элгу.
– Получается, что ты фантом, Боннар, – сказал я тихо.
Боннар сразу же ужасно застонал, не открывая глаз, пощупал волосы:
– Сволочи, всю голову мне разбили! – Оторвал руку. Она была в крови.
– Потерпи немного, сейчас будет врач, – сказал я ему. Осторожно передвинул его – чтобы голова оказалась на возвышении.
– Где он, да где же он? – в беспамятстве бормотал Боннар.
Мне было жаль его. В конце концов, он не был виноват ни в чем.
Теперь следовало заняться библиотекарем. Он лежал лицом вниз, обтекаемый спокойной водой. Я его перевернул. Ни документов, ни оружия не оказалось. Мокрая одежда неприятно липла. Мне не нравилось его неподвижное лицо. Я оттянул веко над синеватым белком.
– Поднимите меня, – ясным голосом сказал библиотекарь.
Я посадил его. Он открыл глаза – злые, внимательные. Негнущимися пальцами полез в нагрудный карман.
– Помогите мне. Кто вы – разведка, МККР?
Я достал из кармана ампулу, выкатил белый шарик ему на язык. Библиотекарь почмокал облегченно. Вдруг мигнул:
– Послушайте, надо уходить. Они вернутся?
Я придавил его плечи. Он сучил ногами по полу. Упер холодную, мокрую ладонь мне в подбородок:
– Они же нас всех убьют! Вы что, не понимаете?
Оттолкнул меня, пополз на четвереньках. Я схватил его за шиворот, и он ткнулся лицом в струящуюся воду. Сопел, пускал пузыри. Внятно сказал:
– Идиот! Боже мой, какой идиот!
– Мне нужен код включения программы, – сказал я.
Библиотекарь чудом вывернул расплющенное лицо. Смотрел мимо меня. Я тут же хотел оглянуться. Но не успел. Что-то тяжелое и темное обрушилось сверху. Чудовищная боль пронзила затылок. Вспыхнули разлетающиеся искры. Чуть обернувшись, я еще успел заметить темную фигуру Боннара. Он, оскалившись, поднимал надо мной сжатые, дрожащие руки. Потом руки опустились и свет погас.
9
ТЕЛЕТАЙПНЫЕ СООБЩЕНИЯ ПО ВТОРОМУ КАНАЛУ СПЕЦСВЯЗИ
(МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ)
1699. (Правительственное сообщение.) 2 сентября. Правительство республики Ассиаб сообщило, что в ночь на второе сентября произошло вооруженное выступление сепаратистов в провинции Махатан. Оно было поддержано некоторыми частями национальной армии. К утру второго сентября мятежники овладели главным городом провинции. Днем второго сентября главарь сепаратистов полковник Сагеш выступил по местному радиовещанию с заявлением об отделении провинции Махатан и образовании самостоятельного государства Маха. Полковник Сагеш обратился к главам государств с призывом признать его правительство. Одновременно в Совет безопасности МККР направлена просьба ввести войска МККР на территорию провинции Махатан для разъединения правительственных и сепаратистских частей. Просьба обсуждается в Совете безопасности. Наблюдатели МККР выехали в Ассиаб.
1700. (Отдел информации МККР.) 2 сентября. В настоящее время большинство глав государств отказалось признать правительство сепаратистов, возглавляемое полковником Сагешем. Группой малых стран выдвинуто предложение о проведении в провинции Махатан плебисцита под эгидой МККР с целью определения ее государственной принадлежности.
Президент республики Ассиаб П. Шион заявил, что, по имеющимся у него данным, население провинции Махатан не поддерживает мятежников. Законное правительство прочно контролирует основную территорию страны. Политические партии республики осудили действия сепаратистов. Утром третьего сентября правительственные войска, сконцентрировавшись в долине р. Апша, нанесли удар по мятежникам и захватили плацдарм на противоположном берегу. Согласно последним сообщениям, войска сепаратистов в беспорядке отступают вглубь провинции.
Особое внимание!
1704. (Сообщения зональных агентств.) 2 сентября. Второго сентября в республике Бальге был совершен государственный переворот. В нарушение Международного права группа лиц, пришедшая к власти, не обнародовала своей политической и социальной программы, не сообщила о составе сформированного правительства и не отвечает на запросы отдела информации МККР. Телефонная, телеграфная и телексная связь вплоть до каналов МККР прервана. Аэродромы закрыты. Железнодорожное сообщение отменено. Посольства и представительства, аккредитованные в республике Бальге, контактов со своими правительствами не имеют.
1705. (Отдел информации МККР.) 3 сентября. Самолет с наблюдателями МККР, посланный в республику Бальге, был встречен над ее территорией военными истребителями, которые, открыв предупредительный огонь, вынудили его покинуть воздушное пространство Бальге.
1712. (Отдел информации МККР.) 4 сентября. Совет безопасности МККР отклонил просьбу главы сепаратистов полковника Сагеша о введении войск разъединения в провинцию Махатан и предложил сепаратистам прекратить военные действия с целью разоружения под контролем наблюдателей МККР.
Президент республики Ассиаб П. Шион заявил, что мятежники отвергли ультиматум правительства о капитуляции. Правительственные войска продолжают наступление на столицу провинции. Президент Шион заявил также, что в освобожденных районах отмечены множественные случаи зверских расправ сепаратистов с мирным населением.
Особое внимание!
1717. (Отдел информации МККР.) 4 сентября. Самолет с наблюдателями МККР, вторично после официального извещения посланный в республику Бальге, был встречен над ее территорией истребителями ВВС республики. В ответ на радио- и световые сигналы с самолета по международному коду истребители открыли огонь на поражение, в результате чего загорелись оба ведущих мотора. В пятнадцать двадцать две по Гринвичу связь с самолетом прервалась. Пограничные посты воздушного наблюдения сообщили, что самолет упал в джунглях на северо-востоке страны. Судьба представителей МККР и членов экипажа неизвестна.
Особое внимание!
1719. (Оперативный отдел МККР. Только для служебного пользования!) 5 сентября. В ночь на пятое сентября оперативный отдел МККР с помощью боевых вертолетов «облако» высадил на территорию республики Бальге две поисковых группы в составе пяти человек каждая с целью сбора информации о положении в стране. Командиры групп – капитан Ж. Майоль (Франция) и капитан М. Волков (СССР). Обе группы в настоящее время продвигаются к столице республики.
1720. (Правительственное сообщение.) 5 сентября. Государственная радиостанция республики Бальге передала сообщение, что в результате народного восстания против олигархической диктатуры к власти в стране пришло правительство национального спасения во главе с доктором Моисом Шуто. Цель его – установление в республике демократических свобод и преодоление экономического кризиса.
Доктор Моис Шуто заявил, что государственный переворот был поддержан подавляющим большинством населения республики. В настоящее время обстановка в стране налажена. Одновременно доктор. Шуто заявил, что его правительство не потерпит никакого вмешательства во внутренние дела страны. Любые попытки пересечения государственной границы Бальге воинскими частями или отдельными лицами будут беспощадно подавляться. Доктор Шуто призвал все государства мира признать возглавляемое им правительство как единственно законное и выражающее волю народа Бальге.
1722. (Агентство АТН.) 5 сентября. Глава сепаратистов полковник Сагеш опроверг сообщение, что правительственные войска продвигаются к столице провинции Махатан. Он сообщил, что доблестные войска независимого государства Маха прочно удерживают позиции западнее городов Шомол и Барба.
1723. (Агентство Рейтер.) 5 сентября. Рейтер сообщает, что на стороне сепаратистов провинции Махатан, имеющей общую границу с республикой Бальге протяженностью более четырехсот километров, сражаются воинские подразделения республики Бальге.
Особое внимание!
1724. (Оперативный отдел МККР.) Справка. Доктор Моис Шуто, президент республики Бальге. Год рождения неизвестен. Предположительный возраст сорок восемь – пятьдесят лет. Окончил институт нейромедицины в Сорбонне (Франция) по специальности «нейрофизиология». После окончания института около четырех лет работал в государственном нейрофизиологическом госпитале. Данные о научных работах за этот период отсутствуют. Длительное время работал в шестой лаборатории (руководитель – профессор Нейштадт) научно-технического комплекса «Зонтик», объект 7131 (биология), штат Аризона, США. Был заместителем профессора Нейштадта. До настоящего времени считался погибшим во время катастрофы в лаборатории.
Особое внимание!
1734. (Отдел информации МККР.) 6 сентября. Две станции слежения близнецы 11 и 12 внешнего пояса безопасности Солнечной системы внезапно захвачены группой неизвестных лиц. Захват осуществлен изнутри. Акт захвата установлен техником системы О’Доннелом (Ирландия), который при попытке приблизиться к обеим станциям на одноместном катере Т-2 был обстрелян из легких пулеметов. На запросы МККР станции не отвечают.
Отдел безопасности космоса МККР отдал приказ всему персоналу станций-близнецов внешнего пояса Солнечной системы оставаться на местах, заблокировать выходы в пространство и не принимать никаких средств космического сообщения, за исключением тех, о которых будет особо объявлено отделом безопасности МККР. Командирам станций-близнецов отдан секретный, не подлежащий обсуждению приказ разрушить головки синхронизаторов наведения ракетных систем.
Эксперты считают, что ракетные системы станций-близнецов могут быть вручную, силами персонала станций переориентированы на Землю со значимой вероятностью поражения (10–12). В связи с этим боевому крейсеру «Скальд» отдан приказ выйти на орбиту внешнего пояса и предложить лицам, захватившим станции, сдаться, а в случае отказа или начала боевых действий с их стороны – уничтожить станции-близнецы 11 и 12 внешнего пояса системы.
1735. (Агентство Сана.) 6 сентября. Глава сепаратистов провинции Махатан полковник Сагеш официально заявил, что возглавляемое им независимое государство Маха подверглось неспровоцированной агрессии со стороны республики Ассиаб. Исчерпав все возможности мирного урегулирования конфликта, правительство государства Маха обратилось к соседнему дружественному государству Бальге с просьбой оказать ему военную и экономическую помощь. Полковник Сагеш подтверждает, что сейчас между обеими странами ведутся переговоры о включении государства Маха в состав государства Бальге в рамках федерации, так как этническая общность обоих народов не подлежит сомнению.
Особое внимание!
1741. (Оперативный отдел МККР.) 6 сентября. Сообщение К. Клодта, генерального представителя МККР в республике Бальге.
…обстановка жесточайшего террора. Не соблюдаются ни гражданские, ни международные законы. Все члены прежнего правительства и многие секретари расстреляны. Военный министр убит в момент переворота. Министр труда застрелен у себя дома, убита его жена. Министр культуры укрылся во французском посольстве, солдаты вытащили его оттуда и, несмотря на протесты посла, расстреляли у дверей посольства. Английское и мексиканское посольства, пытавшиеся укрыть беженцев, разгромлены. Судьба американского посла неизвестна. Убивают всех иностранцев. Погибли шведский режиссер Олафсон, итальянский спортсмен, чемпион мира по прыжкам в высоту Лациани, группа бразильских туристов. По улицам столицы непрерывно курсируют танки и бронетранспортеры. Солдаты стреляют без предупреждения. Вчера под нашими окнами убили женщину, стреляли на спор, она бежала по улице – убили с третьего выстрела. Запрещены все политические партии, профсоюзы, собрания, демонстрации. Запрещено собираться группами более трех человек. Идут повальные обыски, конфискуют радиопередатчики. Сжигают книги. Меня прячут знакомые, если найдут – их расстреляют. Комендантский час с семи вечера до семи утра. Идет поголовная чистка в государственных учреждениях, любой заподозренный исчезает бесследно. О судьбе арестованных не сообщают. Два дня назад…
Примечание. Передача велась с гражданской или медицинской рации направленного действия, усиленной, видимо, вручную, на передачу узким лучом. Начало и конец передачи не фиксировались.
Особое внимание!
1743. (Сообщение Интерпола.) 7 сентября. Вчера в международном аэропорту Орли (Франция) при попытке вывезти за границу медицинское оборудование, подлежащее обязательной регистрации, задержан гражданин Голландии А. Фогт. Багаж общим весом в четыреста килограммов содержал аппаратуру, по мнению экспертов, аналогичную той, которая использовалась в шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик». Задержанный А. Фогт признался, что указанная аппаратура изготовлена по особому заказу фирмой «Медико» (Франция). Заказчиком ее является гражданин республики Бальге доктор Реджинальд Камма. Фотороботы доктора Р. Камма с вероятностью в 78 % совпадают с портретом Моиса Шуто, который возглавил государственный переворот в республике Бальге 2 сентября сего года.
Особое внимание!
1746. (Отдел информации МККР.) 7 сентября. Группа лиц, захвативших вчера станции-близнецы 11 и 12 внешнего пояса безопасности Солнечной системы, провела радиопередачу на международных волнах. Лица, захватившие станции, утверждают, что ими уже (якобы за сутки) большая часть ракетных систем переориентирована в сектор Земли. Руководитель террористов некто Ораган заявил, что отныне обе станции находятся в полном подчинении у доктора Моиса Шуто, возглавившего новое правительство республики Бальге. В случае применения Международным сообществом каких-либо санкций в отношении республики Бальге или в отношении доктора Шуто, а также в случае нападения на станции-близнецы 11 и 12 обе станции обстреляют сектор Земли ракетами планетного типа.
Примечание: Эксперты МККР считают такую быструю переориентацию ракетных систем станций-близнецов маловероятной.
10
– По сводке на десять утра группа неизвестных лиц захватила Международный экономический центр, – прямо с порога начал Август. – Угрожают разрушить систему согласования цен. Полный хаос экономики Земли!
Он сел – напротив меня, через стол. Симеон в черном полицейском мундире, перетянутом белыми ремнями, очнулся, как лошадь, мотнул длинной головой, фыркнул, отгоняя сон.
– Для начала они отключили линии учета валют, – сказал Август. – На биржах паника. Каждый час простоя линий обходится в сто миллионов долларов.
– Чего они хотят? – спросил я.
Август открыл рот, и тут зазвонил телефон. Он взял трубку, молча выслушал и так же молча положил.
– Они заявили, что будут подчиняться только доктору Моису Шуто, президенту республики Бальге.
– Я поеду, – почернел Симеон. Встал – худой, истомленный бессонницей.
– Куда? – с интересом спросил Август.
Симеон подумал и сел – очень прямо. Ремни на нем скрипнули.
– Не понимаю, почему выступления начались именно сейчас, – сказал я.
– Логичней было бы подождать, накопить сил…
Август достал из своей папки фотографию, бросил на стол:
– Полюбуйся.
На фотографии был снят библиотекарь в своем вельветовом пиджаке, галстук бабочкой. Мне стало тоскливо.
– Внимательно смотри, – сказал Август. Он был зол и не скрывал этого.
Фотографию покрывала тонкая штриховая сетка, короткие стрелки в углах ее указывали на разные части головы и лица. А под ними мелко, от руки были вписаны цифры.
– Фредерик Спенсер Нейштадт, профессор нейрофизиологии, бывший руководитель шестой лаборатории научно-технического комплекса «Зонтик», – отчеканил Август. – Данные антропометрической экспертизы подтверждают наши догадки. Идентификация полная. Вы объявляли его в розыск, Симеон?
– Считалось, что он погиб, – вяло проговорил Симеон. Прикрыл мягкие фиолетовые веки.
У него был какой-то отсутствующий вид.
– Если они получат государственную базу, ну это… – Август щелкнул пальцами, – Бальге, то за год, пожалуй, смогут закодировать два-три миллиона человек.
Я сидел оглушенный.
Опять зазвонил телефон. Август послушал.
– Ну вот. Специальный представитель МККР вылетел для переговоров с доктором. Шуто. А тот, конечно, поставил предварительное условие: прекратить все операции против фантомов – не выявлять, не арестовывать. Вы меня слышите, Симеон?
– Слышу, – сказал Симеон, не поднимая век.
– Эти… в МККР согласились. Как же – угроза Земле. – Август хлопнул себя по колену. – Я прямо скажу: есть ли фантомы в МККР, я не знаю, но я знаю, что некоторые приветствовали бы фантомов с радостью. Да! Ты, Павел, не в курсе – уже сутки, как руководство по операциям против фантомов взял на себя Совет МККР. Минуя все отделы. Чертова говорильня! Теперь шагу нельзя ступить без их разрешения.
Симеон открыл один глаз:
– Кто вас информирует, Август? Если это не секрет.
Август посмотрел на него долгим взглядом и наконец сказал:
– Меня информирует консул Галеф. А что?
– Ничего. – Симеон закрыл глаза.
– Профессор от нас не уйдет, – сказал Август. – Полиция проверяет город – негласно. Междугородное движение такси отменено. Частные машины – их сохранилось немного – на учете. Из четырех аэробусных станций – три на ремонте, одну мы оставили в качестве ловушки.
– Он может прийти в биомаске, – напомнил я.
– Хоть в двух! Из города ему не выбраться. Не пойдет же он пешком.
– Почему «саламандры» его не убрали… – задумчиво протянул Симеон.
– Это вопрос? – Август поднял бровь.
– Мысли вслух.
– Ага! – Август повернулся ко мне. – Мы также ищем остальных – Элгу, Анну, Краба. Все они исчезли. Это, между прочим, твоя вина, Павел. Зачем тебе понадобилось лезть в драку? Ничего бы ему не сделали. Ты должен был сказать: «Извините», – и закрыть дверь. Голову тебе починили?
– Все в порядке, – неловко сказал я.
– Плохо работаем, – голос Августа опять стал жестким. – Сны, о которых тебе рассказывала Анна, это приманка. Блесна. Она не фантом. У нее охранные функции.
– А зачем нужно охранять профессора? – спросил Симеон.
– Мысли вслух? – осведомился Август.
– Нет, вопрос.
Август смотрел, не мигая, громадными глазами.
– Послушайте, Симеон, вы очень не хотите сотрудничать с нами?
– Да, – сказал Симеон.
– Боитесь военных?
– Я всего лишь полицейский. И за моей спиной не стоит МККР.
Август подумал. Пожевал толстыми губами. Принял решение:
– Ладно. Дальше. Специалисты исследовали аппаратуру в Доме. Волнового генератора там нет.
Этого я не ожидал.
– Вы говорили с советником, с Фальцевым?
– Да.
– Нет, о Спектаклях?
– О Спектаклях не говорили.
Я коротко изложил свой разговор с советником. Август слушал без интереса.
– Все это хорошо, Павел, – нетерпеливо перебил меня он, – но отношения к делу не имеет. Честное слово, если бы там и оказался генератор, то я все равно не позволил бы распылять наши силы. Есть главное, и есть второстепенное.
– Пошлите кого-нибудь на Спектакль, пусть замерят эмоциональный фон.
Август заворочался так, что кресло застонало:
– В конце концов, я начинаю думать, что у тебя идефикс, Павел…
– Я прошу вас…
– Ладно.
Я видел, что он не пошлет. И я чувствовал, что мне не доказать ему, что тихая зараза, которая, как болотный туман, расползается из обычного Дома, гораздо опаснее всех фантомов.
Я подумал, что в принципе возможно вообще не выходить из искусственного мира Спектакля: включить в него производство, науку – как его элемент, и тогда люди будут ездить на работу, полагая, что они находятся не в такси, а в боевой колеснице Древнего Египта, и что диссертация – это не диссертация, а средневековый трактат Фимилона Аквитанского «О природе и происхождении демонов». Ведь в каждом человеке живет страсть к Игре, и если снять ограничения, сознательно наложенные на себя человечеством в своем долгом и трудном пути, то Игра – всплеск безудержного веселья, романтики и приключений. Но тогда суррогат знания и чувства захлестнет мир.
Снова раздался звонок. Август поднял трубку и забыл ее положить.
– Пожалуйста, – растерянно сказал он. – Станция-близнец одиннадцатая произвела показательный выстрел в сектор Земли. – Голос его окреп. – А эти болтуны, эти паникеры из МККР настолько перетрусили, что приказали международным частям покинуть территорию Бальге.
– Это не трусость. – Симеон так потер лицо, словно хотел содрать кожу.
– На орбите Марса десяток тяжелых крейсеров, на самом Марсе две станции ближней защиты, – наливаясь кровью, говорил Август. – А эти… мало того что вывели войска, они еще завернули «Скальда» – ему оставался один день полета, завтра раскатал бы близнецов по всему пространству. Нет, вы послушайте – Шуто потребовал, чтобы профессора Нейштадта целым и невредимым доставили к нему. И сейчас они серьезно обсуждают этот вопрос. Кроме советского, кажется, только французский представитель против. Вместо того чтобы поднять по тревоге дивизию «призраков», накрыть всю Бальге куполом радиопомех, высадить десант и через два часа доставить этого Шуто в тюрьму МККР, они, видите ли, вступают с ним в переговоры. Паникеры!
– Они не паникеры, – снова возразил Симеон.
Август несколько секунд бешено глядел на него. Рявкнул:
– Знаю! – и положил трубку.
Телефон тут же позвонил.
– Да! Да! Делаем все, что можем. Нет, гарантировать не могу. А вот не могу, и все. Так и передайте. Помощь? Требуются детекторы генетических кодов – двести или триста штук. Их можно снять с аэродромных опознавателей. Ну так получите разрешение! Нажмите на правительство!
Бросил трубку, повернулся массивным телом:
– С кем вы, Симеон?
Тон был чрезвычайно опасный. Я выпрямился.
– Я ни с кем. Я наблюдатель, – внешне спокойно ответил Симеон.
Они прямо впились друг в друга глазами. Я был готов ко всему. Я знал Августа. Если он решил стрелять, то он будет стрелять. Его не остановят никакие законы, никакие процессы, никакие скандальные сообщения в газетах. Поэтому он и занимался особыми акциями. Но Август, вероятно, решил, что стрелять еще рано, – как-то потускнел, сказал брюзгливо:
– МККР запрашивает, можем ли мы гарантировать, что возьмем профессора в течение двух суток. На это время они собираются растянуть переговоры. Понял, Павел, почему начались выступления? Теперь профессор не в коробке у «саламандр». Теперь он работает на себя. И очень торопится – пока его не захлопнули снова.
Я молчал. А что было говорить? Ведь именно я, пусть невольно, способствовал освобождению профессора Нейштадта.
– По-настоящему, следовало бы тебя отстранить. – Август не смотрел на меня. – Но нет людей. И нет времени. – Сделал внушительную паузу, придавая вес своим словам. – Займемся Боннаром. Сегодня утром его обнаружили. Симеон, у вас готова кассета? Давайте!
Симеон притушил свет. На экране возникло лицо Боннара. Он улыбался. Рядом мигала дата.
– Ему было двадцать девять лет, – зачем-то сказал Август.
Я подумал, что мне тоже двадцать девять. Совпадение не радовало.
Фотографию Боннара сменила длинная улица для промышленного транспорта. По обеим сторонам ее поднимались гладкие стены из непрозрачного стекла. Камера показала их ничего не отражающую поверхность, потом – цифровой индекс под выпуклым глазом осветителя.
– Восточный район города, – сказал Август. – Заводской сектор, самая окраина. Линия скоростных перевозок. Не представляю, как его туда занесло.
Я тоже не представлял. На автоматических линиях, за исключением ремонтных бригад, людям было запрещено появляться: поток шел с громадной скоростью, защитная автоматика не гарантировала безопасность случайного пешехода. Только очень серьезная причина могла заставить Боннара забраться в эту путаницу туннелей, где каждые две секунды с ревом пролетал над землей громадный грузовой контейнер.
– Внешняя охрана его пропустила, – сказал Август. Почему – этого у автомата не спросишь. Внутренний контроль зафиксировал присутствие человека на полосе. Прибыл дежурный – уже поздно. Сразу вызвали нас.
Боннар лежал на мостовой, ничком, выкинув вперед руки. Над ним согнулись полицейские.
– Самоубийство? – спросил я.
– Самоубийство, – сказал Август. – Он бросился между контейнерами.
– Все-таки он фантом?
– Да. Здесь мы ошиблись. Мы были обязаны предвидеть тот случай, когда кто-то из нас окажется фантомом. – Попросил, не оборачиваясь: – Симеон, будьте любезны, поставьте зондаж.
На экране появился город – старые, еще кирпичные дома бесшумно исчезали, наезжая друг на друга.
– Это, вероятно, ретроспекция, – сказал Август. – Скорее всего, детство. Конец двадцатого века.
Дома раздвинулись, образуя улицу. По гнутым рельсам прополз смешной железный трамвайчик, скрылся за углом. Из низкой подворотни, размазывая слезы по круглым щекам, выбежал мальчик лет десяти. Огляделся, сморщился, плача, – уткнулся в стенку. Пошел косой дождь – сильный и загадочный в своей беззвучности.
У мальчика подрагивали плечи под мокрой рубашкой. На стене были процарапаны детские каракули.
Мне хотелось отвернуться. У меня было предубеждение против посмертного зондажа головного мозга: словно подглядывают за человеком в замочную скважину. Все равно он мало что давал – редко кто мыслит ясными зрительными образами, обычно получается каша, которую невозможно анализировать. Правда, ходили слухи, что с помощью зондажа удалось раскрыть несколько весьма запутанных дел. Но я бы не хотел, чтобы после моей смерти из мозга вытаскивали то, что я видел и чувствовал в свои последние минуты.
– Возьми «память», сидишь как глухой, – сказал Август.
Я без особой охоты надел браслет, прилепил на виски кристаллы, интенсивность эмоций поставил на самую низкую.
На экране под осенним ветром яростно метались деревья – буря мокрых листьев. Временами они становились прозрачными, и тогда открывалась река – широкая, пустая, в сетке дождя. По ней, отчаянно дымя, плыл курносый буксир. Река без всякого перехода сменилась местом, где умер Боннар. Качались непрозрачные стены. Словно он был пьян. На экране сменяли друг друга то небо, то бетон – Боннар закидывал голову. И тут бесконечное, острое, смертельное отчаяние охватило меня. Были в этом отчаянии и жалость к себе, и стыд, и страх, и полная безнадежность, и что-то еще такое, чего определить было нельзя.
Снова появилась улица. Мальчик. Каракули на стене. Что-то вроде «Ау». Плечи вздрагивали от рыданий. Пахло гарью и смертью. Все погибло, не было пути назад. Вот сейчас стены качнутся в последний раз и рухнут…
Зажегся свет.
– Впечатляет, – кивнул Август. – Чрезвычайно острая передача эмоций. У вас, Симеон, отличная лаборатория.
Я сидел неподвижно. Неужели Август ничего не понял? Или, наоборот, он понял все, но не хочет говорить при Симеоне. У меня перед глазами стояла отсыревшая, темная штукатурка старого дома, на которой камешком, слабой рукой, вкривь, было процарапано нелепое и древнее имя – Аурангзеб.
– Полагаю, что часа через два мы получим необходимую аппаратуру, – сказал Август. – Ведь у профессора лучевой передатчик? Как вы думаете, Симеон, мы сможем воспользоваться армейской базой?
– Я думаю… – начал Симеон.
И замер с открытым ртом.
В прихожей гулко, часто затопали сапоги. Дверь распахнулась с треском – от удара. В комнату, толкаясь, ввалились солдаты в синих мундирах. Мгновенно по двое стали около каждого из нас – автоматы на изготовку. Чувствовалась хорошая школа.
– Сидеть! – гаркнули мне в ухо.
Жесткие руки легли на плечи. Я упал в кресло, ощущая противную пустоту в груди. Напротив меня, схваченный за локти, медленно опускался на стул Август.
Звонко, неторопливо щелкая каблуками, слегка покачивая блестящим стеком, вошел офицер. На плече у него были нашиты желтые молнии. Козырнул, резко откинув два пальца от высокой фуражки. Оглядел нас, сказал, высокомерно растягивая гласные:
– Должен быть еще один. Четвертый.
К нему сунулся сержант, зашептал в ухо. Офицер брезгливо кивал.
Август опомнился:
– Сударь, что это значит?
– Привезите его, – приказал офицер сержанту.
Тот опрометью бросился из комнаты.
– Сударь, – холодно повторил Август, – соизвольте прекратить это. Я сотрудник Международного комитета по контролю над разоружением.
Офицер с подчеркнутым вниманием вперился в него.
– Неужели? – Он картинно поднял брови. Хлестнул стеком по сияющему, черному голенищу. – Выведите их!
Я впервые видел, как Август растерялся. Он теребил пуговицу на пиджаке – оторвал и бросил ее.
Двое солдат подняли Симеона. Он был бледен до синевы. Спокоен. Смотрел в пол. На скулах его горели красные пятна.
Август, с трудом выдавливая из себя звуки, спросил его:
– С кем вы, Симеон?
Симеон обернулся в дверях.
– Я ни с кем. Я – наблюдатель, – сказал он.
Его толкнули в спину.
11
Видимо, заранее было решено отвезти меня сюда, потому что в квартире было прибрано, в ней стояла новая мебель. В комнате работал телевизор. Напротив него в мягком кресле сидел уже знакомый мне человек – в стальном костюме и смотрел на экран. Тот, что выслеживал. Когда я вошел, он даже не обернулся.
Я отправился на кухню. Второй охранник – белобрысый, что-то жующий, отклеившись от косяка, последовал за мной. Я заварил кофе. Настроение было кислое. Мне ничто не угрожало. Меня просто изолировали на некоторое время. Пока не найдут профессора. Через пару дней отпустят. В крайнем случае здешнее правительство извинится. Если только правительство поставлено в известность.
Кофе был горький.
Августу тоже ничто не угрожало. Его тоже отпустят. Он, наверное, в бешенстве. Вышагивает комнату, заложив кулаки в карманы. Лицо у него малиновое. Он скребет череп ногтями – ищет выход.
Что касается Симеона… Очень плохо, если он расшифровал слово власти. Нет, еще хуже, если он передал его второму отделу. А мог он расшифровать слово? Вполне. Оно держалось на экране целую секунду. А передать военным? Не знаю. Может быть.
Тонкая чашечка треснула у меня в руках. Кофе потек по столу. Белобрысый охранник, как пружина, выпрямился на звук. Увидел – достал из коробочки леденец, зачмокал.
Значит, военные. Второй отдел. Контрразведка. Они, конечно, с самого начала знали, кто мы такие и чем занимаемся. Они нам не мешали: они просто ждали, пока мы не выйдем на профессора. А потом нас отстранили. Вероятно, юристы роются сейчас в каталогах, ища оправданную законом формулировку. Так. Теперь «саламандры». Как это сказал Симеон? Он ведь очень интересно сказал. Почему они не убили библиотекаря? Ну, прежде всего «саламандры» не знали, что он – это профессор Нейштадт. Они считали его рядовым фантомом. Или старшим группы. Иначе бы они вытрясли из него все. Хорошо. Но они и так из него все вытрясли. По их представлениям. Он им просто не нужен. Однако его берегли, убирали каждого, кто к нему приближался. Например, Кузнецова. Значит, он им все-таки нужен. Зачем?
Не хватало какой-то детали, какой-то мелочи, чтобы все встало на свои места.
По радио читали сводку новостей. В самом конце текста диктор сообщил, что группа полномочных представителей Совета безопасности МККР достигла предварительного соглашения с новым президентом республики Бальге доктором Моисом Шуто. Подробности соглашения не передавались.
Я выключил радио. Я желал доктору Моису Шуто провалиться ко всем чертям. Воздух за окном синел. Стиснутый домами, полз двухъярусный поток желтых, прозрачных такси. По тротуару торопились редкие пешеходы.
Мне нечем было заняться. Я принял душ и лег спать. Белобрысый охранник сел на стул около кровати. Надолго. Бросил в рот еще леденец.
Проснулся я от грохота. Уже рассвело. Прямые лучи пересекали комнату. На полу блестело множество осколков. Оба моих стража с пистолетами в руках стояли у окна. Оно было разбито, и в раме его застряло тяжелое длинное копье.
Давя стекло ногами, я подошел к окну. Охранники оглянулись. Было такое ощущение, что сейчас они заговорят. Но старший лишь мотнул мятым лицом, и белобрысый исчез. Я выглянул. По улице удалялся конский топот. Из домов выбегали люди. Собралась изрядная толпа. Белобрысый влез в самую середину, расспрашивал.
Я втащил копье в комнату. Оно было настоящее, деревянное, с треугольным металлическим наконечником, к шейке его был привязан пук разноцветных лент. Где они его взяли? Разве что в музее.
– Ала-а!.. – раздался слитный, многоголосый крик.
Из-за поворота вылетел с десяток всадников. Нагибаясь к гривам, понеслись вдоль улицы. Каждый держал несколько пылающих факелов: швыряли их в окна – звон стекла и гудящее пламя вырывалось наружу.
Толпа на мостовой секунду стояла в оцепенении. Вдруг все закричали.
– Ала-а!.. – вопили всадники.
Люди полезли в парадные, вышибали рамы первого этажа. Улица мгновенно опустела. Белобрысый остался – один посередине мостовой. Всадники приближались. Он помахал передним пистолетом. Кажется, выстрелил. Передний конник в шляпе с красным пером коротко гикнул и проскакал мимо – белобрысый лежал навзничь, из груди его торчало древко.
Я не помню, как очутился внизу. Второй охранник кубарем скатился вслед за мной. Всадники исчезли. Большинство домов пылало. Валил жирный дым. Улица заполнялась людьми. Женщины выбегали, прижимая детей к груди. Мужчины торопливо выбрасывали вещи, какие-то медные котлы, сундуки, обитые железом. Полетели перья из треснувших перин.
Первым делом я занялся белобрысым. Он лежал, вцепившись в древко посиневшими пальцами. Копье глубоко ушло в грудь. Руки у него были еще теплые, а лицо в грязных пятнах – неподвижное.
Требовались срочные меры. Я схватил за рукав второго охранника. Он в это время взваливал на спину здоровенный холщовый мешок.
– Есть аптечка? Позвоните в «скорую» – из любой квартиры!
– Пусти! Пусти! – с неожиданной злобой закричал охранник. Лицо его перекосилось. Он замотался всем телом: – Пусти, тебе говорят!
– Ваш коллега умер, – как можно внятнее произнес я. – Вызовите «скорую», я пока восстановлю сердце.
– Да пусти же, так тебя и так! – Охранник рванулся.
Тонкая материя легко разошлась. Он по инерции сделал шаг назад, упал. Мешок лопнул. Полилось белое пшеничное зерно. Охранник охнул и стал торопливо собирать его пригоршнями, плача от злости.
– Здесь есть врачи? – громко спросил я.
Два-три бледных, испуганных лица обернулись ко мне на мгновение. Все что-то делали: тащили, увязывали, складывали. Воздух гудел от раздраженных голосов. Плакали дети. Я заметил, что одежда на людях какая-то странная – матерчатые грубые куртки, полосатые широкие панталоны, кожаные сапоги, туфли с металлическими пряжками.
Улица вместо силиконового асфальта была вымощена булыжником, кривые дома из неоштукатуренного камня тесно лепились друг к другу, а в раскисших канавах текла зеленая омерзительная вода. Оттуда доносился невыносимый смрад.
Это был средневековый город.
Худощавый человек во вполне современном костюме протолкался ко мне, показал плоскую металлическую коробочку, пристегнутую к запястью.
– Вы звали на помощь? Я врач. Что случилось? – Тут же присел над мертвым, потрогал веки. – Держите! – Упершись в грудь, сильно дернул копье. Обильно пошла кровь. Он достал из коробочки безыгольный инъектор, залил рану пенистой жидкостью. Она быстро уплотнилась, порозовела. Затем он сделал еще одну инъекцию – рядом.
Ноздри белобрысого дрогнули.
– Все, – сказал человек, выпрямляясь. – Все, что могу: глубокий сон. Остальное в клинике. Черт! Какая сейчас клиника! – Повернул ко мне нервное лицо. – Наконец-то вижу хоть одного нормального. Вы можете сказать, что произошло? Все словно с ума посходили. Маскарад какой-то. Или это – временной сдвиг и мы перенесены куда-нибудь в четырнадцатый век?
Он постучал по стеклу медицинского браслета:
– Вот – ни одна больница не отвечает.
Я хотел ему объяснить – не вышло. Высокий женский голос испуганно сказал:
– Ах! – И все умолкло. В гнилом воздухе повисла тишина. И в этой тишине, перекатывая цокот копыт по булыжнику, метрах в двухстах от нас на перекресток выехал конный отряд. Всадники были в сверкающих на солнце латах, с опущенными забралами. Железные доспехи покрывали грудь и головы коней. Предводитель их с пышным черным султаном на шлеме поднял руку в металлической перчатке. Остановились. Осмотрели. Охранник, собиравший зерно, разогнулся, пшеница посыпалась у него с ладоней.
– Господи, спаси и помилуй! – отчетливо, на всю улицу сказал кто-то.
Предводитель махнул рукой – вперед. Всадники вразнобой опустили тяжелые копья – ниже удил и затрусили к нам, убыстряя ход.
– Безобразие! – громко сказал врач за моей спиной.
Вдруг стало невероятно тесно. Меня сдавили так, что я не мог вздохнуть. Толпу крутануло водоворотом. Кто-то застонал, кто-то упал под ноги.
– Да бегите же, идиоты! – изо всех сил закричал я.
Бежать было некуда. Люди лезли друг на друга. Цокот нарастал. Я чудом уцепился за карниз, подтянулся, перевалился в окно второго этажа. Стон поплыл между крышами. Квартира горела. Сквозь разбитую раму выходил дым.
То, что внизу казалось мне хаосом и паникой, отсюда таковым вовсе не выглядело. Плакали и метались где-то сзади. А перед разряженной толпой десятка три мужчин энергично наваливали в кучу шкафы, колеса, железные треноги. Росла баррикада. Женщины, оставив детей, помогали. Врач, скинувший пиджак, распоряжался, стоя на бочке, – топор посверкивал у него в руке.
И у многих тоже появились топоры, колья. Толпа ощетинилась. Передние всадники, доскакав до баррикады, замялись. В них полетели камни, палки. Булыжник задел предводителя с черным султаном. Шлем с него свалился. Второй булыжник ударил ему в лицо, брызнула кровь. Предводитель взмахнул железными руками и пополз с седла. Лошади ржали, вставая на дыбы.
Мне здесь делать было нечего. Кашляя от дыма, я перебрался на противоположную сторону комнаты и спрыгнул вниз из окна.
Переулок был пуст. Накренилась, попав в яму, телега с отвалившимся колесом. В оглоблях стояла низенькая мохнатая лошадь. У клешневатых ног ее лицом вниз валялся человек, опутанный соломой.
Итак, это был Спектакль. Спектакль, который затопил весь город. Вероятно, в Доме сняли экранировку и поставили аппаратуру на полную мощность. Не нужно было спрашивать, зачем это понадобилось: в таком хаосе никому не было дела до фантомов. Профессор Нейштадт спасал себя – открыв шкатулку Пандоры. Тысячи людей проснулись сегодня в раннем Средневековье и, не рассуждая, включились в дикую, безумную игру. Мне стало страшно. В представлениях, шедших в стенах Дома, погибали не люди, а голографические изображения их – этим объяснялась вседозволенность, но в городе игра шла всерьез: вон одна из жертв ее лежит недалеко от меня – лошадь косилась на труп и негромко ржала.
Никто из участников Спектакля не мог посмотреть на все это со стороны: созданный мир был слишком реален. Вероятно, сознание сохранили те немногие, кто, как и я, уже участвовал в Спектаклях, или те, кто в силу профессионального долга обязан был контролировать себя очень жестко, как, например, тот врач.
– Минуту, – сказал я себе. – А почему, собственно, я вижу средневековый город? Конечно, его достраивает мое воображение – согласно сюжету. Но я-то знаю, что его нет.
Тупая ноющая боль возникла в голове, кровь толчками застучала изнутри в череп. Грязные уродливые дома дрогнули, посветлели, заблестел силиконовый асфальт, появились огни дневных реклам. Боль нарастала. Я терпел. Я теперь знал, что мне делать.
Вместо лошади с телегой у кромки тротуара стояло такси. Дверца его была отломана. У меня в глазах плыли разноцветные круги, но я кое-как втиснулся в кабину и нажал адрес.
Больше можно было не сдерживаться. Я отдался Спектаклю. Боль тут же исчезла. Я скакал на коне по разграбленному, дымящемуся городу. То и дело попадались убитые. В шапках дыма и взметывающихся искр проваливались крыши, пылающие головни перелетали через меня.
К счастью, автопилот был лишен эмоций, следовал точно по маршруту и затормозил в конце его.
Дом сегодня представлял собой высокую круглую башню из грубого кирпича. Ее штурмовали сотни людей – они лезли по лестницам, срывались вниз, забрасывали вверх канаты с крючьями на концах. Сверху, меж зубцов, по ним стреляли из луков и лили кипящую смолу. Стоял ужасный шум.
Ценой сверлящей боли я увидел Дом и вышел из такси.
Внутри Дома был рай.
Густое синее небо куполом накрывало горы, поросшие пушистыми елями. На вершинах растопыренными лапами лежал снег, внизу, под ногами зеленела горячая трава. Кое-где блестели озера – круглые, черно-синие, сказочные.
Я пошел, вдыхая чистый запах смолы. Налетел ветер, зашуршали иглы. Пестрая птица, клевавшая шишку, упорхнула вверх. Вдалеке, на открытом склоне был виден хутор – два кукольных домика, окруженных забором. Из труб вертикально подымался сизый дым.
Тропинка вывела меня на поляну. Там, взявшись за руки, по пояс в траве плясали тролли в смешных островерхих колпачках – трясли белыми бородами, выбрасывали колени. Заметили меня и попрятались в ельнике, высовывая испуганные рожицы.
Впереди раздавался лязг металла. Я продрался туда, безжалостно обламывая ветви. Лес кончился. На опушке его яростно тяжелыми двуручными мечами не на жизнь, а на смерть рубились директор и режиссер. Директор явно брал верх, выкрикивал «хэк! хэк!» – наступал. У режиссера по лбу текли струйки пота. Он приседал под страшными ударами.
– Прекратить! – командным голосом крикнул я.
Они оба обернулись. И тут коварный директорский меч описал блестящий полукруг – и режиссер, схватившись за виски, покатился под вывороченные корни.
Надсадно дыша, директор шагнул ко мне.
– Кто таков? – грозно спросил он.
– Проводите меня в техническую и немедленно отключите аппаратуру! – приказал я.
– Чей ты раб? На колени, собака! – раздался громовой раскат. Глаза у директора побелели от гнева.
– Потрудитесь выполнять, – сказал я. – Вы рискуете сесть. И не на один год.
– А кровью своей упиться не желаешь? Вот он, огненный меч Торгсвельда!..
Интеллигентной беседы у нас не получилось. Директор то предлагал мне склонить голову перед владыкой своим, то грозился изрубить меня на куски, то начинал хвастливо расписывать свои подвиги в дальних странах, где он сражался с великанами и шинковал трехглавых драконов.
Он, видимо, начитался приключенческих романов. Я смотрел в его породистое надменное лицо и испытывал сильное желание ударить болевым шоком.
Но тут невесть откуда набежала толпа крестьян в холщовых рубашках. Все дружно стали на колени и начали громко славить доброту и ум своего хозяина. Миловидные крестьянки на вышитых рушниках протягивали хлеб, соль и тонизирующие напитки. Директор пил и отдувался.
Я пошел дальше. Техническая была где-то рядом: возвращение в реальный мир сопровождалось все возрастающей болью. Ели сомкнулись темным шатром и разошлись. Передо мной лежало бездонное озеро. Белесые мхи отражались в черном зеркале его. Напротив его сжатый холмами поднимал свои узкие башни замок – мрачный приют тишины и забвения.
В замок можно было попасть только вплавь. Обходить слишком долго. Я знал, что это голограмма, но не решался. Озеро выглядело зловеще.
Странное старческое кряхтенье раздалось сзади. Прижимая к груди широкий светлый меч, из леса вышел сгорбленный карлик, одетый во все красное. С ужимкой, будто танцуя, приблизился ко мне. Печально звенели бубенцы на мягкой шляпе. Протянул меч. Сморщил гнилое лицо. Захихикал. Я взмахнул клинком. Полыхнула беззвучная молния. Озеро разошлось. Я побежал по скользким от бурых водорослей камням между водяных стен. Пахло сыростью и терпким йодом.
Замок рос на глазах, пока не уперся игольчатыми башнями в самые облака.
Я ударил в кованые ворота. Они загудели медным басом. Встревоженные тучи ворон с пронзительным криком понеслись по небу. Чистый и долгий звук вплелся в их гам. Я опустил руки. Ясный, радостный голос пел Третью сонату Герцборга – будто протягивал в синеве хрустальную нить.
Высоко у открытого окна сидела женщина.
– Рапунцель! – крикнул я.
Женщина выглянула. Золотой дождь хлынул вниз, солнечными брызгами расплескался на замшелых валунах, закипел у моих ног. Я полез, хватаясь за горячие пряди. Волосы пахли летом, медом, скошенной травой.
За окном был тесный коридор из неотесанных, грубых каменных плит. Коптили железные факелы, воткнутые между ними. Навстречу мне, грузно ступая, шел дикий зверь с безумными глазами. Голова у него была медвежья, а тело, как у ящерицы, покрыто коричневой чешуей. Он протянул длинные синие когти с запекшейся кровью под ними, утробно заурчал – я остановился, он алым языком облизал толстые губы. Глаза без зрачков были затянуты бельмами.
В этот раз мне будто завинтили в висок раскаленный штопор – я узнал советника.
И он тоже узнал меня.
– Инспектор? Зачем вы здесь, инспектор?
– Дорогу! – потребовал я.
В узком коридоре было не разойтись. Советник улыбнулся. Так могла бы улыбнуться жаба:
– Не лезьте в наши дела, инспектор. Не надо. Тем более что генератора в Доме нет. Нет его! И значит, нет нарушения закона!
– Договорились с «саламандрами», Фальцев? Пропустите меня! – крикнул я, чувствуя, что больше не выдержу.
Советник с неожиданным проворством поднял затянутые в чешую лапы, наклонил выпуклый фиолетовый лоб. Передо мной опять был зверь.
– Мяса сладкого хочу! – прорычал он.
Я не успел увернуться. Лапы его сомкнулись на мне. Когти раздирали одежду, дохнуло смрадом – я отчетливо увидел близкое ребристое небо, – напрягся и вырвался из объятий. Зверь шел на меня, переваливаясь, выкатив молочные глаза.
Я поднял светлый меч. Зверь прыгнул. Удар пришелся в голову. Она распалась надвое. Хлынула темная ядовитая кровь. Вывалился серый мозг – дымящийся, похожий на гречневую кашу. Я переступил через дергающееся тело.
Коридор казался бесконечным – поворот за поворотом. Копоть от факелов забивала горло. Я впал в отчаяние. На обитой железом двери висела табличка – «Технический отдел». Внутри что-то гудело и вспыхивало. Мне словно залили в виски расплавленное железо. Глаза заволакивал туман. Я нащупал в углу среди прочего барахла тяжелый лом и с размаху ударил им по ближайшему, сверкающему стеклом и никелем звенящему мерцающему агрегату.
12
Толпа двигалась все медленнее и наконец совсем остановилась. Я наступал на чьи-то пятки. На меня сзади тоже напирали.
– Почему стоим?
– Проверяют документы.
– Нашли время наводить порядок! Тут все с ума посходили, а они – документы.
– Господин офицер! Когда нас пропустят?
– Не могу сказать, сударь.
– Полиция – так ее и растак!
Меня теснили спинами и локтями. Площадь не вмещала народ. Сюда собрались, наверное, со всех окраин. И не удивительно – Спектакль шел уже чуть ли не полдня.
Проверка документов меня не радовала. Несомненно, искали нас. Я скосил глаза на профессора. Он сильно осунулся, под слезящимися веками в морщинистых мешках скопилась синева.
– Отпустили бы вы меня в самом деле, – устало сказал он. – Я старый человек, я этого не выдержу. Слово власти вам известно. Ну дадут мне пожизненное заключение – что толку?
На левой руке, чуть ниже плеча у него запеклась кровь: зацепил кто-то из «саламандр».
– Давайте-ка, я вас лучше перевяжу, – сказал я.
Он поморщился:
– Ах, оставьте ради бога!
Продолговатый пупырчатый, как огурец, вертолет с растопыренными лапами на брюхе прочертил небо. Тысячи поднятых лиц проводили его.
– Военные, чтоб их подальше, – сказал кто-то.
Вертолет приземлился на крышу Дома. Она еще слегка дымилась. В верхнем этаже чернело оплавленное отверстие – попадание податомной базукой. Они, «саламандры», оборонялись очень упорно. Поставили на чердаке два пулемета с автоматической наводкой и плотно, веерным огнем закрыли все пространство над Домом. Десантники сунулись было сверху – и потеряли две машины. Один вертолет стоял сейчас на краю крыши – помятый, уткнувшись винтом в ребристое железо. Другому не повезло совсем. Он рухнул на асфальт, вспучив облако пламени, раскидал вокруг горящие обломки и тела. Кажется, из команды никто не спасся. И два взвода, ринувшиеся через пустую улицу к входной двери, сразу же откатились назад, встреченные автоматами. Оставили убитых на мостовой. Правда, военные быстро опомнились и повели бой по всем правилам: заняли крыши, подвезли базуки, непрерывным послойным огнем запечатали окна первого этажа. Непонятно, на что рассчитывали «саламандры», ввязываясь в бой с регулярными частями. Может быть, они надеялись на фантомов – портативная радиостанция непрерывно передавала в эфир труднопроизносимое слово из одних согласных. Но улицы были уже перекрыты. Базуки первым же ударом проломили стену, расшатав здание, а вторым напрочь снесли часть крыши вместе с пулеметным гнездом. И в то время, как последний пулемет, торопливо захлебываясь, держал небо, десантники ринулись в образовавшийся проход.
После выстрела базуки я не устоял на ногах: опутанная проводами мнеморама сшибла меня, и, пока я мучился, выдирая контакты из клемм, профессор навалился сверху, пытаясь разбить мне голову какой-то железякой. Я легко стряхнул слабое тело. Он завозился, как червяк, среди проводов. И тут Анна, которую ранее не было слышно за стрельбой и криками, приказала мне: «Руки! К стене!» Ее всю корчило. Рот кривился. Платье было порвано. «Брось автомат, тебя повесят», – сказал я. Она, как сумасшедшая, трясла дулом: «К стене! К стене!» Я подошел и вырвал автомат из сведенных судорогой пальцев. Магазин был пуст. Разумеется. Иначе бы она выстрелила сразу – без дурацких команд. Профессор опять попытался меня ударить, и я опять стряхнул его. У него не хватало сил. «Уходи отсюда, дурочка», – сказал я Анне. Она села прямо на пол, закрыла лицо ладонями, заплакала. И тут ударила вторая базука – по чердаку. Стены качнулись. С визгом пронеслись осколки кирпича. Показалось белое полуденное небо. И дальше был только дым, ныряющие в нем неясные согнутые фигуры и надоедливая автоматная трескотня.
– Почему Аурангзеб? – спросил я.
Профессор вздрогнул.
Это была случайность. Выплеск памяти. Детская привязанность к великим властителям прошлого. Он разглядывал книжку с картинками и видел там человека на троне. В чалме, с алмазным пером. А тысячи других людей лежали перед ним ничком. И слоны стояли на коленях. И алмазное перо он тоже хотел иметь. И дворец с белыми колоннами. И миллион рабов. Он вырос. Казалось, так и будет. Оставалось совсем немного. Но все рухнуло. Разоружение. «Декларация». Лаборатория погибла. И тогда он ошибся. Он связался с «саламандрами». Они сразу взяли его за горло. Они его так держали, что он едва мог дышать. Он отдал им всех фантомов в этой стране. Просто счастье, что они не догадывались, кто он такой. И они потребовали, чтобы он собрал установку. И он сделал это. Но он знал, что в первую очередь закодируют его самого.
Профессор замолчал и растерянно улыбнулся. Кожа на лице его собралась множеством суетливых складок.
Он был очень старый.
Мужчина в пижаме, плотно притертый к нам, посмотрел на его плечо:
– Пулевое ранение?
– Да, – сказал я тоном, не допускающим дальнейших расспросов.
Мужчина воспринял мой тон по-своему, сказал сочувственно:
– Озверел народ. И откуда они, скажи на милость, берут оружие. Что им надо? Живем – слава богу.
Мужчина сильно пихнул локтем какого-то веснушчатого гонца, который, вставая на цыпочки, вертел цыплячьей, в пухе, головой.
– Ну ты, подбери сопли!
Юнец охнул, схватившись за бок.
– Уматывай, говорю. – Мужчина пихнул его еще раз.
У юнца выступили слезы в синих глазах. Все отворачивались. Он побоялся возразить – полез назад, раздвигая стоящих острым худым плечом.
– Дом тебе нужен? Пожалуйста, муниципалитет построит. Машина? Любой марки на заказ, – как ни в чем не бывало продолжил мужчина. У него было хорошо откормленное лицо, выдающиеся скулы и квадратный подбородок. – Скажи на милость, чего им не хватает? Вот мне если власть и нужна, то только чтоб всех этих профессоров, писателей пострелять в первый же день. Самая муть от этой сволочи. Ученых там разных, инженеров. Это они такую заваруху придумали. – Говоря это, мужчина недобро поглядывал на профессора, на его очки. Тот будто не слышал.
– Порядок нужен. Чтоб как только кто высунулся – самый умный, – так его сразу палкой по голове. Чтоб, значит, не высовывался…
– Заваруху эту устроили не от избытка ума, а скорее от его недостатка, – сказал я.
Мужчина запнулся, хотел сплюнуть – было некуда, проглотил слюну. Спросил, не глядя:
– А ты, значит, из этих?
– Из этих, – подтвердил я, жалея, что мы здесь не одни. Я бы с ним поговорил.
– Ладно, – после раздумья сказал мужчина. – Запомним. Еще придет время. Передавим всех. Никого на развод не оставим. – Толкнул соседа. – А ну пусти! – И уполз в толпу.
Было жарко. Солнце перевалило через зенит. Пахло потом и горячими телами. Какой-то женщине стало плохо. Она закатила глаза.
– Расступись, расступись! – донеслись повелительные голоса.
Черепашьим шагом, облепленный стоящими на подножках военными, проехал санитарный автобус с низкой посадкой. На крыше его в мундире с лейтенантскими погонами сидела Элга – курила и стряхивала пепел на головы. Я не прятался, вряд ли она могла различить нас в толпе. За автобусом, поблескивая металлическими эмблемами на зеленых рубашках, плотно окруженные солдатами, шли «саламандры» – руки на затылке. Я узнал Краба, сумрачного, перевязанного. Он усмехался.
– А если я сейчас закричу? – сказал профессор.
Я пожал плечами. Что он – в самом деле ненормальный, чтобы кричать. Военная контрразведка – это ему не «саламандры» с их дилетантскими штучками. Военные выпотрошат его в два счета, выжмут из него слово власти, а потом ликвидируют.
– Если бы знать, что установка даст такую интенсивность, – тоскливо сказал профессор. – Я же как снял ограничитель, так больше ничего не помню.
– То есть Спектакли – это побочный эффект кодирования? – пытался угадать я.
– Нет, – неохотно ответил он. – Это и есть кодирование. Первая ступень – без фиксации программы.
– Разве так бывает?
– Бывает.
– А зачем нужна сублимация сознания?
– Боже мой, вы же все равно не поймете, – раздражился профессор.
– Кто еще знал о наркотическом эффекте Спектаклей?
– Все знали.
– И директор? И режиссер?
– Да. Я же говорю: все.
Вот так, подумал я. Все знали и молчали. Страшная вещь – честолюбие, лишенное морали. Я решил, что позволят мне или нет, но я займусь Спектаклями сразу после фантомов. Если, конечно, останусь жив.
Последнее было весьма сомнительно. Силы безопасности слишком быстро перекрыли район. При проверке меня, безусловно, опознают. Так же как и профессора. У нас нет ни малейших шансов. Пробиться назад сквозь тысячное скопление людей невозможно. И наверняка там тоже ждут.
Проще было сдаться. Я не понимал, чего я тяну. Шаг за шагом мы приближались к оцеплению. Улицу перегораживали два бронетранспортера. На каждом был смонтирован стационарный генетический детектор. Между ними сочился узкий ручеек людей. Вот один из бронетранспортеров отъехал, освобождая дорогу санитарному автобусу. Я видел лица солдат – усталые, хмуро-напряженные. За оцеплением в пустом пространстве, как журавль, выхаживал длинноногий офицер в синей форме. Вспыхивали желтые молнии на плечах. Какая-то женщина, одетая, несмотря на жару, в норковую шубу, ловко поймала его за рукав:
– Господин капитан, у меня муж в территориальных войсках. Полковник Галеркамп.
– Ничего не могу поделать, сударыня, – вежливо ответил капитан.
– Но у меня сегодня гости! Доктор Раббе, действительный советник Пори…
Она возводила частокол из имен.
– Весьма сожалею, сударыня. Таков приказ.
Капитан пытался освободиться от назойливых пальцев. Он совершил ошибку, вступив в объяснения, чего бы никогда не допустил полицейский офицер, обученный тактике действий на улице. Толпа почувствовала слабину. Вскипели возбужденные голоса:
– Господин офицер! Да что же это такое? Мы уже четыре часа стоим!
– Мне нужно немедленно пройти, немедленно!
– Приказ, сударь.
– А я не желаю подчиняться вашим приказам!
– Господин капитан, я член муниципального совета!
– Это издевательство, я на ногах не стою!
– Хорошие вещи позволяет себе полиция!
– А это не полиция.
– Тем более!
– В порядке очереди, господа! Прошу соблюдать спокойствие!
– У меня нет документов. Какие могут быть документы, когда черт знает что происходит!
Капитан попятился. К нему, придерживая дубинку, заторопился полицейский офицер в черном мундире. Было уже поздно. Цепь солдат выгнулась, подрожала секунду, как тугая струна, и лопнула, прорванная человеческой волной. Полицейский офицер благоразумно отскочил. Левый бронетранспортер попытался закрыть проход, заурчал мотор. Его тут же облепили сотни людей. Покатые бока в грязных маскировочных разводах качнулись раз, другой – под общее ликование бронетранспортер перевернулся на бок, еще вращая колесами. Из него на корточках выбирались солдаты.
– Назад! Назад! – тонким голосом закричал капитан, потрясая пистолетом.
Он, видимо, привык к беспрекословному подчинению в казармах и не обратил внимания, что полицейские сразу же побежали, даже не пробуя никого остановить. Пистолет мелькнул над головами, хлопнул выстрел, и фигуру в синем смяли. Пробегая мимо, я увидел неподвижное тело на сером асфальте.
Вырвавшись, волна потекла медленнее: будто не верили тому, что сделали, – разговаривали нарочито громко.
– Я как выбежал на улицу в пять утра, так больше и не был дома. Может быть, мои сейчас стоят где-нибудь там. Или – кто знает… Я такое видел…
– Бью, бью его о ступеньку, он уже хрипеть начал, а потом гляжу – господи, это же мой сосед с верхнего этажа, я ж его знаю, мы же с ним в прошлое воскресенье надрались в «Ласточке». А у него весь затылок разбит, кровь течет – думаю: господи, что же это я…
– Так оставлять нельзя. Все подпишемся. Эксперименты, видите ли. Люди им как мусор.
– И прямо к мэру.
– Чихал я на мэра! Президенту пошлем. Или пусть наводят порядок, или я стану презирать это правительство.
Я все время держал профессора за запястье. Он сказал, хватая воздух посиневшими губами:
– Пустите меня. Я не убегу. Некуда мне бежать.
Я его отпустил. Он сильно помассировал левую часть груди – сердце:
– Ну зачем вы тащите меня с собой? Я могу умереть каждую минуту.
Ему было плохо. У него складками обвисла кожа на лице землистого цвета. Дрожали пальцы.
– Пошли! – велел я.
– Нас все равно не выпустят, – безнадежно сказал он, через силу шагая рядом.
К сожалению, он был прав. Впереди, на перекрестке, уже сели два вертолета, и из пузатого нутра горохом посыпались солдаты. Еще два вертолета заходили на посадку. У меня не было никаких иллюзий. Улица шла прямая, как стрела. Подворотни были закрыты пластмассовыми щитами с надписью «Полиция». Кое-кто из бежавших пробовал ломиться в парадные – бесполезно. Район был блокирован по всем правилам. Вырваться я и не рассчитывал. Все, чего я хотел, – позвонить. Мне обязательно нужно было позвонить и сказать одно-единственное слово.
– Они нас убьют, – сказал профессор. И вдруг засмеялся, засвистел слабым горлом.
Я испугался – думал, он задыхается.
– Ничего, ничего, – сказал профессор. – Просто вспомнил. Очень смешно. Вы знаете, что сенатор Голх – фантом? Да-да, сенатор Голх, глава «саламандр». Я сам его кодировал. Правда, смешно? Быть в подчинении у собственного фантома.
– Сенатор Голх? Почему же вы его не…
– Он до дьявола осторожен. Представьте, я его ни разу не видел. То ли он догадывался о чем-то, то ли просто так – не хотел рисковать. Но правда смешно?
И снова засвистел горлом – на одной ноте. Замолчал. Дорогу перегораживал новый кордон.
Лейтенант в синей форме громко сказал:
– В городе объявлено чрезвычайное положение. В случае беспорядков имею приказ стрелять. Проходи по одному!
Солдаты держали оружие на изготовку. Злые и решительные. Чувствовалось, что стрелять они будут. Толпа покорно затихла. Подходили задние, им боязливым шепотом объясняли, в чем дело.
– Вот и все, – сказал мне профессор. – Жаль, что так получилось. Завидую вам: вас убьют сразу. А меня начнут потрошить. Прощайте, что ли.
Очередь шла быстро. Лейтенант смотрел документы, если они были, потом человека ставили перед детектором. Мигал зеленый индикатор, и его выталкивали за оцепление. Мною овладело какое-то тупое равнодушие: действительно, скорее бы уж все кончилось.
Лейтенант кивнул профессору: следующий.
Он беспомощно оглянулся на меня. Из толпы вышел мужчина, тот самый, который – палкой по голове. Что-то сказал лейтенанту. Лейтенант поднял брови:
– Интересно. Взять его!
Солдат толкнул профессора вправо, где стоял большой военный фургон с непрозрачными стеклами.
– Я протестую, – еле слышно сказал профессор.
Солдат лениво и сильно ударил его кулаком в лицо. Мотнулась голова, из угла губ побежала струйка крови.
– Этого тоже, – сказал лейтенант, показывая на меня.
Меня подхватили под руки.
– Стой! Куда! – раздался злой голос.
Профессор, оттолкнув солдата, бежал по пустынной улице. Он бежал мешковато, медленно, хватаясь за сердце. Непонятно, зачем он это сделал. Ему все равно было не уйти.
– Стоп! Стрелять буду! – крикнул солдат. Вскинув автомат, дал очередь в небо. Профессор упал как подкошенный. К нему подошли двое, перевернули: мертв.
Появился полицейский офицер, подтянутый и строгий.
– Что за стрельба?
– Вот эти, – махнул лейтенант.
Офицер обернулся. Это был Симеон. Наши глаза встретились.
– Пропустите его, – сказал Симеон.
– Нарушение законов чрезвычайного положения… – начал лейтенант.
– Пропустите, я знаю этого человека.
– Пропустить! – неохотно приказал лейтенант. Предупредил: – Всю ответственность, капитан, вы берете на себя.
– Разумеется, – кивнул Симеон.
Лицо у него было каменное.
Я прошел за оцепление, каждую секунду ожидая, что меня окликнут. Лейтенант сил безопасности мог и не подчиниться капитану полиции.
– Его даже не проверили на детекторе, – сказал кто-то сзади.
Я старался не убыстрять шаги. Ай да Симеон! Для него это может кончиться очень плохо.
Метрах в ста от меня зеленела телефонная будка. Солдаты за руки и за ноги потащили профессора к фургону. Я подумал, что его, наверное, можно спасти, если срочно заменить сердце. Мысль мелькнула и пропала. Мне нужно было пройти эти сто метров.
Телефон, к счастью, работал. Онемевшими пальцами я набрал номер. Трубку схватили на первом же звонке.
– Консул Галеф!
– Это я, – сказал я.
– Наконец-то! Где ты? Я сейчас приеду! – закричал Галеф.
Из будки мне было видно, как лейтенант ожесточенно спорит с Симеоном. Симеон с чем-то не соглашался, но лейтенант махнул рукой, и трое солдат побежали в мою сторону.
– Слушай меня внимательно. – Я торопился. – Я получил слово. Это шестое имя в нашем списке. Понял – шестое.
– Шестое. – Голос у Галефа изменился. – Слава богу. Тут такая каша…
– Меня сейчас арестуют, – сказал я.
– Пускай, – ответил Галеф. – Не вздумай сопротивляться. С этой минуты ты – иностранный подданный. Потребуй связи с посольством или со мной. Все! До встречи!
Я отпустил трубку. Она закачалась на шнуре. Мне было плохо. Из меня словно выдернули стальной стержень. Я вдруг вспомнил, что двое суток ничего не ел, только вчера – чашку кофе. По мостовой, стягивая с плеча автоматы, бежали солдаты. Я открыл ставшую почему-то очень тугой дверь будки и пошел им навстречу.
Искушение
Я хорошо помню, как началась эвакуация. Солнце уже до половины опустилось за горизонт, и малиновая дорожка от него протянулась через все озеро, догорая в стеклах белого трехэтажного здания Института. Отблески краснели на куполах Базы и даже на потной негодующей физиономии Степы Гамбаряна, который вывалился из флайера и клокочущим голосом, точно обращаясь к заклятому врагу, прохрипел:
– Поздно!.. Штуммер лежит в бассейне, кожа наполовину растворилась – он уже не дышит!.. Что вы на меня уставились?! Или я должен был нырять вслед за ним?!.
Я помню, как пошатнулся Валлентайн, как скрипнул зубами, и кровь отхлынула от его щек:
– Колонию мы оставляем здесь…
Я хорошо помню тишину, воцарившуюся на космодроме, когда появился Мемлинг. Он пришел со стороны заката, холодная серебряная пленка озера прогибалась под ним. Выглядело это зловеще. Хотя я знал, что внешние эффекты здесь ни при чем. Мемлинг был старым колонистом. Я заметил, как один из моих монтажников выронил шлямбур, и в руках его неизвестно откуда возник чешуйчатый десантный автомат.
– Не стрелять! – тихо сказал Валлентайн.
На месте Мемлинга я бы остановился. Но у колонистов какие-то странные представления о жизни и смерти. Вот и Мемлинг, будто ничего не случилось, выпрыгнул на берег. Толстый, белобрысый, веснушчатый, известный математик, погруженный в дебри топологических структур. Только настоящий Мемлинг не приседал бы так нелепо при каждом шаге, стараясь удержать гуманоидную форму.
Так что это был не Мемлинг. Парламентер. От спарков.
Он сказал: «На Валдае. Генрих Кролль».
Колонисты не употребляют больше одного семантического знака на единицу речи. Поэтому я спросил:
– Живой?
– Нет.
– Мертвый?
– Нет.
Он сказал: «Уходить. Надо».
И провалился. Даже пыль не дрогнула на том месте, где он только что стоял.
Наверное, пройдет вереница лет, и в конце концов я начну постепенно забывать многое из того, что когда-то составляло мою жизнь. Будут пропадать события, исчезать ненужные люди, целые куски прошлого провалятся в тихое небытие. Но я никогда не забуду свой последний полет над «Валдаем».
Я думал о Земле и представлял, какая кошмарная суматоха кипит сейчас на планете. Наше последнее сообщение они получили. Это было еще до потери связи. Вероятно, заседает Совет. Срочно отзываются из дальних рейсов тяжелые десантные звездолеты, оснащенные мюонными прерывателями; мощные инверторы полей изымаются сейчас из лабораторий и на базовых станциях выдвигаются к границам Солнечной системы; фотонные тяжеловозы местных линий в спешном порядке переоборудуются под космические заградители, способные искажать метрику пространства.
Как всякий транспортник, я плохо представлял военные возможности Земли. Наверное, есть секретное оружие. Только все это напрасно. Спарков не остановить никакими инверторами.
Я до сих пор не знаю, как мне удалось найти это место. Только чудом.
Кролль лежал неподалеку от реки, на сухом пригорке, луговые метелки покачивались над ним, и небольшая пирамидка из неизвестного желтого пористого материала горела в изголовье. Будто надгробие. А может быть, это и было надгробием. Что мы знаем о спарках?
Руки у Кролля были прижаты к телу, он был одет в свой обычный черный костюм, а на лице застыла та же самая презрительная гримаса, с которой он кинулся навстречу спаркам. Он был как живой. Тело его покрывала прозрачная, плотно облегающая пленка. Словно жидкое стекло. Я порылся в карманах и, найдя цанговый карандаш, положил его рядом с пирамидкой. Хоть что-то от меня.
Гера была открыта экспедицией Гольдбаха. Это было время широкой экспансии в глубины Космоса. Черные пустоты галактик перестали пугать своей необъятностью, сияющая Вселенная распахнулась перед нами, и звезды вплотную придвинулись к Земле. Экспедиция Гольдбаха должна была отыскать планеты, пригодные для промежуточных транспортных станций.
Гера идеально подходила для этих целей. Масса ее составляла 0,95 земной, вращалась она вокруг желтого карлика, во многом аналогичного Солнцу, и, главное, обладала атмосферой, пригодной для дыхания.
Гольдбах назвал планету Герой. Она походила на Землю. Даже материков было шесть, и очертания их отдаленно напоминали земные.
Планета удивительно соответствовала назначению. В Совете даже поднимался вопрос о ее частичной колонизации, но уже становилось очевидным, что население Земли стабилизировалось, интерес к расселению в Космосе резко упал, и желающих не нашлось. Была лишь создана типовая станция, а также организован Институт по изучению местной биосферы. Его возглавил Валлентайн.
Около пяти лет все шло нормально. А затем Васильев обнаружил спарков.
Утром, в один из ярких дней августа, он решил окунуться в заливчике недалеко от Базы. Это не запрещалось. Плавал он, наверное, с полчаса, а когда вышел из воды, то увидел, что прямо на том месте, где лежала его одежда, переминается неуклюжая обезьяноподобная фигура. Это был спарк.
Первоначально спарки довольно-таки неумело принимали человеческий облик, и у них зачастую получались самые жуткие существа. Неудивительно, что Васильев опомнился только на территории Института – без одежды и без передатчика.
На место происшествия вылетела группа заинтригованных ученых, но там уже ничего не было, кроме следов на песке, и Васильеву пришлось пережить неприятные дни насмешек, пока Зоммер тоже не натолкнулся на спарков.
Планету немедленно закрыли. По решению Совета была назначена Комиссия. В состав ее входили крупнейшие специалисты из различных областей знаний (председатель – Валлентайн). Спарки к тому времени начали относительно часто возникать на Базе – правда, на короткое время. Выяснилось, что они непонятным образом уже изучили универсальный язык Земли.
Комиссия развила бурную деятельность. Первый же появившийся спарк был приглашен в здание Института, начиненное соответствующей аппаратурой, и Янь Сишань, лучший оратор Земли, произнес перед ним пламенную речь о целях и задачах человечества. Спарк молчал. Провал был полный. Комиссия предприняла еще множество попыток установить Контакт, но спарки с поразительным упорством их игнорировали. Кажется, с тех пор они вообще не замечали Комиссию.
Впрочем, деятельность ее скоро приняла совсем иной характер, потому что спарки появились на Земле.
Мы все как бы очутились под рентгеном. Было что-то унизительное в том, как спарки с бесцеремонным любопытством ощупывают человеческую культуру, ничего не предлагая взамен. Будто они напрочь не признавали за людьми права на настоящий Контакт. Это было чрезвычайно неприятно. Уже одно то, что спарки осуществляли транспорт индивидуально, без использования сложнейших технических средств, свидетельствовало о многом. И не меньшее значение имела их способность к пластической адаптации: умению придавать своему телу любую структурную форму с любыми биохимическими или морфологическими качествами. Видимо, здесь был реализован иной, небелковый, субстрат существования. Пропасть, таким образом, углублялась.
Первый спарк был зарегистрирован в Центральном Генофонде Земли уже через неделю после появления их на планете. Он возник в амбулатории, напугав дежурного оператора, затем двинулся по срезу кольцевого коридора, штопором опоясывающего подземелье, миновал кварцитовые стенки Хранилища и, наконец, исчез, – как всегда, с громким хлопком. А вместе с ним из бассейна номер девять исчез эмбриогенный материал на стадии созревания в количестве, достаточном, чтобы полностью протезировать трех взрослых людей. Это был единственный случай, когда спарки взяли что-то на Земле.
Ровно через сутки весь материал был возвращен на место – в той же массе и в том же биогенетическом состоянии, но знаменитая фраза Валлентайна: «Спарк есть спарк и поступает, как спарк» – уже облетела материки. Поведение спарков нельзя было предсказать. Нам были непонятны их цели. Даже то, что спарки через несколько дней в полном составе покинули планету, не могло остудить страсти.
Я хорошо помню, как увидел его в первый раз.
«Аргус» причалил в полдень, была самая жара, и на полузасохших кленах, посаженных еще Гольдбахом, лежала мягкая пыль.
– Здравствуйте! Моя фамилия Кролль. Я буду у вас работать.
Странную он являл собой картину: жесткие вихры, нелепый черный костюм, какие, наверное, носили гробовщики в прошлом веке, – белая рубашка и галстук. Галстук меня особенно раздражал. В общем, он мне не понравился.
Телеграмма с Земли, которую я получил вчера, гласила: «Примите Генриха Кролля дублер-диспетчером. Основание: Распоряжение ВАТЭК № 174946». И все.
– Вы впервые в глубоком Космосе?
– Да, – сказал он.
– Работали на станциях Приземелья?
– Нет.
Отвечая, Кролль смотрел не на меня, а в окно за моей спиной, и колючие глаза его сужались и расширялись, как у зверя перед прыжком.
А от ремонтного корпуса по каким-то своим делам шествовал спарк, и длинный хвост его задумчиво подметал пыль. Кажется, это был Хрос. Впрочем, не знаю. Мне никогда не удавалось отличить их друг от друга.
Они появлялись у нас чуть ли не каждый день и уже давно не вызывали любопытства. Поэтому я снисходительно спросил:
– Интересуетесь братьями по разуму?
– Интересуюсь.
– Попробуете установить Контакт?
Это было любимое занятие всех новичков.
– Нет, – сказал он.
– Тогда в каком аспекте?
Кролль обернулся, и я увидел капельки пота на переносице.
– Я их ненавижу, – тихо ответил он.
Странно, но в эти секунды я не испытал ни малейшего чувства тревоги. Наверное, я не пророк.
Я хорошо помню эти страшные сухие, опаленные блистающим солнцем дни. Все лето стояла оглушающая жара, дождей не было. Степь вокруг Базы пожелтела до самого горизонта. Меня рвали на части, и в такой сумасшедшей обстановке совершенно некогда было заниматься Кроллем. Я приставил его к Гамбаряну, на подхват. Степа, кажется, был доволен. Разумеется, я отметил, что Кролль держится слишком обособленно. Работы у него было немного, и нередко в диспетчерской выпадали абсолютно пустые дни. Обычно он проводил их в библиотеке. Причем заказывал не беллетристику, а серьезные научные исследования по эволюции человека, по психологии общества и так далее. Но гораздо чаще сразу же после дежурства Кролль брал флайер и улетал в степь. Что он там делал – на гарях и пустошах – оставалось загадкой. Однажды я спросил его, и он ответил:
– Беседую со спарками.
Я воспринял это как издевательство. Он беседует со спарками! Целый институт не может с ними договориться, десятки специалистов годами торчат на Гере без каких-либо ощутимых результатов, а тут приехал новичок и – готовое дело – беседует. Мне, вероятно, следовало вызвать его на откровенность или немедленно отправить с планеты под любым благовидным предлогом. Я же не предпринимал ни того, ни другого и ждал, когда все образуется само собой. Но само собой ничего не образовалось, а вскоре была найдена Колония.
Я хорошо помню вечер, когда Кролль нерешительно заглянул ко мне. Он был все в том же торжественном костюме, поражавшем своей нелепостью.
– А вы знаете, что мы на планете не одни?
Вопрос был идиотский.
– Я не говорю о спарках, – объяснил он.
Тогда я лениво вытянулся в кресле:
– Значит, третья цивилизация? Конечно, гуманоиды? Конечно, разумные? Конечно, технологическая культура? Вы, конечно, наблюдали их лично и абсолютно убеждены в существовании?
После каждого вопроса Кролль едва заметно кивал, до предела поднимая брови.
– Отлично, – сказал я. И зевнул. – Гуманоидная цивилизация – это как раз то, чего нам явно недостает. Составьте, пожалуйста, подробный рапорт. Вы, наверное, уже вступили в Контакт? Превосходно. Заодно опишите способ, методы, цели – все, что полагается в данном случае.
– Это не шутка, – надменно сказал Кролль.
И я вдруг понял, что он говорит правду.
– Где?
– В «Карелии». Озеро Синее. Вероятно – поселок…
– И сколько их?
– Человек пять – я видел… Хотите убедиться сами?..
Я помню болото, я помню маслянистые лужицы плазмы, я помню жесткий темно-зеленый игольчатый гусиный мох на кочках, он шевелился, будто живой. Это был не мох. Это была питательная среда для новорожденных колонистов – трофобласт, здесь они отлеживались сразу после трансформации, пока не стабилизируется энергетический обмен. Флайер мы оставили на окраине, за таволговыми кустами. Кролль сказал, что ближе подходить нельзя. Я помню серое низкое небо, рыхлое от дождевого тумана, который окутывал горизонт. Я помню дождь – мелкий, нудный, теплый, безостановочный, сводящий с ума. Чувствовалось, что идет он уже не первый день и, возможно, не первый месяц, а может быть, даже и не первый год. После ослепляющей жары на территории Базы это было удивительно. Словно все дожди планеты собрались в одном месте. Вероятно, так оно и было. Для морфологической перестройки организма требовалась влажная парниковая атмосфера, и спарки действительно стягивали к Колыбели все осадки континента.
Я помню, как Кролль повернулся ко мне и процедил сквозь зубы, что надо ждать. Глаза у него были навыкате, он закусил нижнюю губу, и крылья носа раздулись. Я помню пологий склон, я помню серые валуны, я помню продолговатое ртутное озеро, обрамленное бледными камышами. Неподвижная гладь. Я тогда не знал, что в озере была не вода, а соленый органический гель, близкий по составу к плазме человеческой крови. Да – это была Колыбель. Камыши выполняли функции легких. Я помню низкий туман, ватными клубами ползущий из камышей. За туманом находилась Колония: глиняные конические термитники, круглый бассейн с цитоплазмой, каменные ванночки для деформации мозга. Я помню, как из тумана, грузно и неуверенно, переваливаясь, точно медведь на задних лапах, выдвинулся человек и неторопливо направился к озеру. Я чуть не закричал. Он был высок, плотен и одет в какие-то ужасающие лохмотья. Когда он приблизился, я понял, что все тело его облеплено кусками сырого теста, видимо, оно предохраняло эпидермис от высыхания. Я отчетливо помню, что сразу же узнал его.
– Мемлинг! – изумленно сказал я.
– Молчите! – прошипел Кролль.
Человек неуклюже повернулся в нашу сторону, массивные веки были закрыты, но мне казалось, что он видит меня. Конечно, это был Мемлинг. Он уже давно превратился в колониста.
Я помню, что Кролль вдруг вытянул руку и, несмотря на сгущающийся сумрак, увидел у него в побелевших пальцах десантный пистолет.
– Вы с ума сошли!
– Нам нужна точная информация, – закричал Кролль.
Мы возились в горячей луже, я никак не мог разогнуть на рукоятке его сведенных железной каталепсией пальцев. Мемлинг уходил все дальше в озеро. «Вода» поднималась ему до колен, потом до пояса, затем лизнула подбородок, и через мгновение жирная гладь сомкнулась.
Кролль сразу же перестал сопротивляться, и пистолет выскользнул из ослабевших рук. Я поспешно засунул его в карман.
– Вы завтра же будете высланы с планеты.
По-моему, он не слышал меня. Я помню его лихорадочное лицо, я помню закушенные коричневые губы, я помню сведенные в булавочный укол черные непроницаемые сумасшедшие зрачки, когда он почти радостно сказал:
– Но вы по крайней мере убедились, что больше этого терпеть нельзя?..
Той же ночью Мемлинг явился к Валлентайну. Он выглядел как обычный человек – безо всяких наростов из коллоидного теста. На нем даже был комбинезон – правда, лишенный швов и застежек, точно выращенный целиком.
Беседа продолжалась около шести часов. Сведенная воедино из весьма специфической лексики и немедленно переданная в Совет, она получила название «Ультиматума Мемлинга» – хотя, конечно, Мемлинг не ставил никаких условий, ничем не угрожал и не предъявлял никаких требований.
Он сообщил, что Колония основана три года назад – сразу после того, как спарки покинули Землю. Членом Колонии может стать абсолютно любой землянин – генетических, профессиональных или социальных противопоказаний нет. Достаточно устного заявления. Группа старых колонистов, полностью овладевшая навыками индивидуального транспорта, периодически посещает Землю и выявляет людей, желающих разорвать цепи биологического постоянства.
Мемлинг особо подчеркнул, что морфологическая трансформация – дело сугубо добровольное, спарки не используют ни малейшего принуждения: каждому кандидату говорят, что избираемый им способ существования анизотропен (обратного пути не будет), каждого предупреждают, что он утратит все связи с близкими ему людьми (из-за инверсии психики), каждому объясняют, что отныне Земля станет для него лишь крохотной частицей в океане мироздания – ничем не выделяющейся в ряду других.
Сама трансформация занимает не менее пяти лет, что, впрочем, для спарков, живущих практически вечно, не играет роли. Совершается она путем внутриядерной перестройки всего организма («маскарад кварков»). К настоящему моменту в Колонии находятся более шестидесяти человек на разных стадиях превращения.
Мемлинг дважды отметил, что спарки не имеют единого филогенетического древа: все они возникали постепенно из представителей самых различных космических культур. Он заявил, что биологическая эволюция земных белковых форм уже исчерпала себя. Дальнейшая экспансия в открытый Космос будет сопровождаться резкой гипертрофией технических средств, которые станут все больше отдалять человека от природы.
Спарки представляют собой высшее звено филогенеза – некий галактический вид – наиболее приспособленный к жизни во всей обозримой Вселенной. Переход к нему абсолютно неизбежен.
Мемлинг совершенно не касался психологии спарков или их социального устройства. Он объяснил, что в рамках ограниченной земной культуры правильно истолковать ни первое, ни второе не представляется возможным. Мемлинг недвусмысленно дал понять, что колонисты не собираются вмешиваться в земную жизнь, изменять ее или навязывать какие-либо советы. Единственное, о чем Колония просит, – это широко оповестить человечество о наличии альтернативы и ничем не препятствовать тем землянам, которые захотят идти дальше по лестнице эволюционного совершенства.
В семь утра Мемлинг, переваливаясь на мягких ногах, покинул кабинет. В семь пятнадцать после стремительного совещания в дирекции Валлентайн отправил длиннейшую телеграмму на Землю. А уже в восемь утра Совет на внеочередном заседании принял чрезвычайный закон о блокаде Геры. Она начиналась немедленно.
В тот же вечер на общем собрании персонала Валлентайн, сильно нервничая, говорил о том, что все мы, оказавшиеся сейчас на Гере, должны помнить, что помимо свободы выбора, которую никто не отнимает, у нас есть еще и обязанности перед Землей – перед родиной, перед семьей людей, перед обществом, которое нас воспитало. Он просил не совершать опрометчивых поступков и отложить все решения до тех пор, пока Федерация не выскажет своего мнения о спарках. Он говорил долго, убедительно, и все присутствующие согласились с ним.
Но через сутки обнаружилось, что исчезли двое молодых навигаторов со «Стрелы». А потом каждый день, проводя обязательную радиоперекличку в полдень, мы регулярно недосчитывались одного-двух человек. Они уходили ночью, до Колонии было всего полчаса лету, затем пустой флайер возвращался. Это походило на кошмарный сон, когда среди обступающих призраков чувствуешь свое полное бессилие.
Позже выяснилось, что в Колонию ушло не так уж много людей, но в те наполненные степными пожарами дни мне казалось, что погибает чуть ли не вся Земля. Я уже видел ее пустой и забытой – с тихими солнечными городами, с ржавеющими машинами, с дикими лошадьми, бродящими по обочинам дорог, с остановившимися заводами, со звездолетами, рассыпающимися в серый прах на пустынных и заброшенных космодромах – гудит ветер в скелетах зданий, выкатываются на песок хрустальные чистые волны – нигде никого.
Я помню, что на исходе второй недели, после того как исчез заместитель Валлентайна по науке и растерянность достигла апогея, очнувшись внезапно посередине ночи, я с испугом услышал чужое прерывистое дыхание и неуверенные шаги – кто-то двигался медленно и осторожно, видимо, стараясь не разбудить. Вдруг он налетел на что-то.
Вспыхнул свет, и у письменного стола я увидел Кролля, держащегося за колено. Даже сейчас, в три часа ночи, он был при галстуке.
– Что вам здесь нужно?
Голос мой прозвучал не слишком любезно, но Кролль не обратил на это внимания, а поспешно выпрямился и сказал:
– Почему на Гере нет разума?.. Космогонически она старше Земли, океан ее биоморфен: жизнь зародилась здесь в положенные сроки и в положенные сроки вышла на сушу, сформировав необходимое для эволюции разнообразие видов. А разум так и не появился. Почему?
Он не ждал ответа. Он разговаривал сам с собою.
– Мне вставать в пять утра, зачем вы меня разбудили? – хмуро спросил я.
– Вы слышали о раскопках Скирмунта?
– Конечно.
В прошлом году Скирмунт из АРХО обнаружил в «Передней Азии» остатки каких-то древних загадочных сооружений и с большой помпой объявил их культурным центром ранней гуманоидной цивилизации, которая якобы существовала на Гере еще до спарков.
– Так я вам скажу, – прошептал Кролль. – Все жители планеты превратились в спарков…
– Такая гипотеза уже выдвигалась, – морщась, объяснил я. – У вас есть принципиально новые аргументы? – напишите докладную записку в Совет.
Я до сих пор жалею, что не выслушал его той ночью – вероятно, все еще можно было остановить. Помню, как Кролль изогнул дугой бровь, а потом четко повернулся и пошел к выходу, на секунду задержавшись в дверях.
– А все-таки жаль, что вы тогда не дали мне выстрелить, – с непонятной усмешкой сказал он.
Я плохо помню утро следующего дня. Оно развалилось на части, и в памяти остались лишь комки событий, не связанные друг с другом. Гха!.. Гха!.. – надрывалась сирена, натягивая нервы. Боевая тревога! Я помню, как в первых белесых лучах солнца увидел бегущих через площадку полуодетых людей, – по сигналу тревоги команды звездолетов должны были обеспечить стартовую готовность. Я помню звук бьющегося стекла, помню, как я прыгал на полу, не попадая ногой в штанину, и тщетно гадал, что это – нападение спарков, внезапная катастрофа или просто Валлентайн решил хоть чем-нибудь занять томящиеся от скуки экипажи?
Все перепуталось в этот трагический день. Утренний слоистый туман, какие бывают на Гере, висел над космодромом, и я, ныряя сквозь узкие холстины его, видел, как, словно сонные гиппопотамы, выдвигались влажные от росы темнеющие массивные туши звездолетов. Они готовились к обороне.
Двое незнакомых десантников, обнажив пистолеты, вели под руки взъерошенного аналитика Вайзенброда, почему-то одетого в скафандр пилота. В последнее время он сошелся с Кроллем. Их часто видели вместе. Я не знал, что он арестован по приказу Валлентайна после неудачной попытки поднять на орбиту крейсер «Мидас», но я отчетливо помню ту брезгливую жалость, которая волной охватила меня, когда он неожиданно попробовал улыбнуться – виноватой, вымученной улыбкой.
– Иди-иди! – сказал ему правый десантник.
Я помню кабинет Валлентайна, где скопилось множество людей, помню свое неровное дыхание, помню, что все почему-то расступались передо мной, точно боясь прикоснуться, и я, как зачумленный, шел по образовавшемуся проходу и никак не мог дойти до стола. А когда все-таки дошел, то Валлентайн, глядя мимо меня, неторопливо произнес:
– Они заперлись в Арсенале, предъявите ваш ключ!
Машинально ощупывая секретный кармашек в комбинезоне, где лежала рифленая коробочка дешифратора, именуемого универсальным ключом, я вдруг понял, что ее там нет. Так вот зачем приходил Кролль сегодня ночью! Я помню, как повернулись ко мне десятки изумленных лиц и на них одновременно, будто нарисованное невидимым художником, проступило именно то выражение брезгливой жалости, с которым я сам только что смотрел на арестованного Вайзенброда.
Это было не нападение спарков, и не катастрофа, и уж, конечно, это была не учебная тревога. Я помню растерянный шепот Степы Гамбаряна, который тянул меня куда-то в сторону, подальше от внимательных глаз. Сегодня ночью, пользуясь похищенным у меня универсальным ключом, Кролль и оператор Левицкий тайно проникли в Арсенал. Последний занимал в Институте скромную должность оператора-наладчика, и такой прыти от него никто не ожидал. Скорее всего, парень просто попал под влияние Кролля. Вероятно, план операции был отшлифован заранее, потому что охранная сигнализация не сработала. Позже выяснилось, что экранированный стеклокабель, связывающий Арсенал с Базой, пережжен лазерами, а ремонтные киберы отключены.
А немного позже Вайзенброд, передав в Мозг заведомо ложную информацию о неполадках в навигационной системе «Мидаса», получил разрешение и поднялся на борт, имея при себе карт-команду на взлет, которую достал неизвестно где. Кролль, вероятно, рассчитывал, что у него будет, по крайней мере, четыре часа в запасе, чтобы успеть разобраться в системе управления Арсеналом. Но он ошибся. Первая серьезная осечка произошла с кораблем, который должен был страховать их действия с орбиты. Вайзенброд успел перевести автопилот в режим «земля – атмосфера», но так и не сумел запустить главные двигатели звездолета – для этого требовался подтверждающий кодированный сигнал из диспетчерской, а она к тому времени уже была разрушена – наверное, чтобы исключить всякую помощь с Земли.
Вторая осечка произошла в самом Арсенале. Несомненно, что Кролль намеревался осуществить большую часть операции еще до рассвета и, таким образом, поставить дирекцию Института перед свершившимся фактом, но он, естественно, не догадывался, что наводка гравитонных артиллерийских систем автоматически сопровождается общим сигналом тревоги. Сирена завопила около шести утра, и с этого момента все пошло наперекосяк.
Поднять «Мидас» им не удалось. Вайзенброд, застигнутый врасплох, был арестован. В Арсенале оставались Кролль и Левицкий, дальнейшие планы их были неясны. Из-за повреждения стеклокабеля связь с Арсеналом отсутствовала. Арсенал был предназначен для чрезвычайных обстоятельств по обороне Базы, там было сосредоточено практически все тяжелое оружие, имеющееся в нашем распоряжении, один залп которого способен был превратить в пустыню значительную часть «Европы». Мы могли противопоставить ему только бортовое вооружение крейсеров – сила, разумеется, внушительная, но ориентированная на операции в открытом Космосе.
Рассыпались предупреждающие звонки, и два звездолета, «Стрела» и «Лидия», колыхнувшись, легли на щербатый пыльный бетон. Смотровые люки на них откинулись, и оттуда, точно сама смерть, выглянули черные стеклолитовые жерла орудий. Звездолеты ничем не могли нам помочь: даже при минимальной мощности импульса полоса уничтожения превратила бы Базу в пар.
Валлентайн понимал это. Но выхода не было. Вероятно, он и не собирался стрелять, а лишь демонстрировал готовность пойти для ликвидации мятежа на любые меры. Это была психологическая атака.
Я помню, как обозленные техники, волоча за собой кабель, подкатили из мастерских сшитый на живую нитку уродливый монитор узконаправленного действия. Монитор выстрелил – багровое облако искр окутало Арсенал, а когда оно рассеялось, в дверях капонира зияла овальная выплавленная дыра с желто-лимонными краями. Десантники с карабинами наперевес побежали внутрь.
Арсенал отчаянно сопротивлялся, выполняя программу пассивной обороны. Я помню, как мы пробились в центральную рубку. Энергия там была, работала автономная подпитка, и при свете индикаторов пульта я сразу заметил неоновые концентрические круги, плывущие по стене, – вызванивая, сходились штриховые координаты: Кроллю все-таки удалось разобраться в схемах наводки, и гравитоника была подготовлена к ведению огня. А навстречу нам, озаренный землистым экраном, на подгибающихся ногах вышел человек в металлизированном халате – бледный, трясущийся, с безумным выражением лица – и прокричал, чуть не плача:
– Я не могу, не могу, убейте меня!..
Это был Левицкий.
На экранах боевой наводки дрожало озеро, поросшее камышом, окруженное унылой кочковатой топью, над которой висело рыхлое небо и лил нескончаемый дождь. В качестве мишени Кролль избрал Колыбель – место, где происходило превращение людей в спарков. Он, вероятно, полагал, что, уничтожив запасы органической плазмы, ему удастся остановить процесс, по крайней мере, на несколько лет, пока на Земле не найдут другого решения.
Я помню собственную удивительную неприкаянность, я помню жуткое одиночество в толпе, я помню, как бродил среди оживленных радующихся людей и словно не существовал для них. Разумеется, меня не отстраняли от должности и никоим образом не ограничивали мою свободу, но Валлентайн упорно игнорировал меня, а, неожиданно поворачиваясь, я вдруг ловил косые неприязненные взгляды. Даже Степа Гамбарян, краснея, неловко отводил глаза. Вероятно, многие думали, что я намеренно передал ключи Кроллю и меня следует судить вместе с остальными.
Я помню зыбкий раскачивающийся коридор, я помню оплавившийся косяк с выдавленной дверью, я помню пыльную площадку перед Институтом – она была пуста, только двое техников не торопясь везли на тележке растерзанного кибера. Кролль, ушедший из Арсенала через аварийный ход, стоял, прижимаясь к выступу правого крыла, и я не сразу заметил его, зато я сразу увидел спарка в облике мохнатого бабуина, который брел через эту площадку, опираясь о землю фалангами пальцев.
Я еще подумал, что он напрасно явился сюда, сегодня не стоило приходить, но больше ни о чем подумать не успел, потому что Кролль вытянул руку, и в то же мгновение прошипел сухой разряд, какой бывает при стрельбе на поражение.
Я помню тугую звенящую тишину, помню изумленно обернувшихся техников, я помню спарка, лежащего ничком среди пыльных разрозненных былинок.
Кролль сказал неизвестно кому:
– Я все-таки сделал это.
Будто услышав его слова, начали бесшумно возникать спарки – из ниоткуда, быстро заполонив собою площадку, так что я невольно попятился. Здесь были ящерицы, драконы, обезьяны, рыбы, покрытые перьями, птицы в акульей чешуе, единороги, кентавры и другие, совершенно загадочные существа. Я еще сумел заметить, как Кролль, бросив ненужный пистолет и одернув черный костюм, будто с обрыва в пропасть, шагнул им навстречу, а затем весь сумасшедший маскарад сомкнулся и безнадежно заслонил его…
Я помню возвращение на Землю. Мы уходили последними. Никто из колонистов не пришел проводить отбывающий корабль. Впрочем, мы и не ожидали этого. Валлентайн недовольно сказал: «Все!» Пассажирский люк захлопнулся, полыхнула сиреневая вспышка.
Через полчаса на обзорных экранах возникла Гера, выглядящая с орбиты совсем как Земля: голубая и зеленая, покрытая темными промоинами океанов, в белых переливающихся воздушных тяжах атмосферы. Я знал, что больше мы никогда не вернемся сюда.
Я еще помню ту долгую мучительную минуту, когда стоял у флайера, прежде чем взлететь. Вероятно, я буду помнить ее до конца жизни. Сгущались вечерние сумерки, шипела на камнях спадавшая от великого зноя река, медленный усталый ветер горячими волнами перетекал над безлюдной низменностью «Валдая». Кролль лежал на сухом пригорке, будто коконом, покрытый чуть искрящейся прозрачной пленкой, – луговые остистые метелки качались над ним, светилась в изголовье желтая, как сыр, люминофорная пирамидка. Я думал: зачем приходил Мемлинг? Неужели они хотят, чтобы мы забрали Кролля с собой? Я думал: наверное, его можно оживить, еще не все потеряно, – но не сделал ни одного шага обратно.
Я знал, что Кролль ошибается. Цель не оправдывает средства. Никогда. Спарки – это лишь очередное искушение, вставшее перед человечеством. Мы преодолели уже множество искушений, гораздо более соблазнительных, чем это, и, конечно, сумеем преодолеть еще одно. Не страшно. Надо только верить в человека. Я думал, что Кролль явно недооценивал людей, иначе бы он не взял на себя роль одинокого мессии. Его погубило неверие. Я думал, что не так уж много землян захотят изменить свою биологическую сущность.
Пройдет много лет, минут века, может быть, целые тысячелетия, история эта забудется, исчезну я сам, исчезнут другие люди, знающие о ней, Земля непредсказуемо изменит свой облик, – а Кролль все так же будет лежать на «Валдайской» низменности, посередине «Европы» – ни жизнь, ни смерть – так же будет светиться в темноте желтый столбик указателя, будут шелестеть под ветром горькие степные травы, и будет неторопливо стекать мимо него тягучее непобедимое время. Вечно.
Пусть он покоится на равнине как странный памятник человеческой нетерпеливости и позорного недоверия к людям. Так будет справедливо. Я помню, как захлопнул дверцу флайера. Желтой искоркой мелькнула внизу пирамидка. Это воспоминание до сих пор мучает меня – потому что приговор, в конечном счете, вынес именно я, и отменять его было уже некому.
Третий Вавилон
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ
Сегодня в 5:55 утра по местному времени четверо неизвестных лиц, вооруженных автоматами и ручными гранатами, захватили самолет «Боинг-747» американской авиакомпании «Пан-Америка», выполнявший рейс Бомбей – Карачи – Франкфурт – Нью-Йорк с 359 пассажирами на борту. Террористы в форме сотрудников службы безопасности подъехали к самолету на похищенной ими автомашине с номерными знаками администрации аэропорта.
Париж. Несколькими выстрелами в упор здесь был убит президент – генеральный директор машиностроительной фирмы «Рено» Жорж Бесс. Группа неизвестных поджидала Ж. Бесса около его дома, когда он возвращался с работы. Убийцы скрылись.
С очередным признанием огромных масштабов, которые приняла в стране наркомания, выступил президент Рейган. Он обратился с речью к присутствовавшим в Белом доме послам США в ряде государств с призывом принять участие в борьбе против общенационального бедствия.
Израильская артиллерия вновь подвергла обстрелу южноливанские селения, расположенные вдоль северной границы так называемой «зоны безопасности», незаконно созданной захватчиками на ливанской территории. Под огнем агрессора оказались населенные пункты Хумин, Султания, Джарджуа, а также ряд деревень в южной части долины Бекаа.
1. Четыре минуты
На ступеньках при выходе я споткнулся и кубарем покатился вниз. Но не упал: Ивин, как на тренировке, точным движением направил меня – я мешком плюхнулся на сиденье, толкнув головой шофера. Тот крякнул, сухо щелкнула дверца, машина описала по двору визжащий полукруг, отъехали сплошные железные ворота, в рыхлом свете зарешеченной лампочки мелькнула напряженная фигура часового, который медленно, будто во сне, опускал полусогнутую руку, и мы вырвались на улицу – во мрак и зябкую осеннюю морось.
Я возился, пытаясь повернуться и при этом не задеть руль.
– Ты что – спал? – спросил Ивин, наблюдая.
– Немного.
– Оно и видно.
– Ступеньки тут у вас…
Я уселся.
– Канада, – доложил Ивин. – Северо-Западные территории. Двести километров к востоку от Шинакана. Климон-Бей. Химическое производство средней мощности. Спецификация неизвестна. Завод не зарегистрирован в «Индексе».
Я присвистнул:
– Военный объект?
– Наверное.
– Боевые ОВ?
– Судя по всему.
– Дальше!
– Неуправляемый синтез в реакторе, резкое повышение температуры, неисправность систем охлаждения. Опасность взрыва и выброса отравляющих веществ. Рядом – городок на тысячу двести жителей. Представляю, какая там сейчас паника. Охранная автоматика не сработала.
– Конечно. Иначе бы Нострадамус не возник. Прибавь, Володя, – попросил я, хотя полуночные тихие дома и так размазывались от скорости.
– Не надо, – сказал Ивин. – Успеем.
– Тогда дай закурить.
– Ты же бросил.
– Ладно. Бросил так бросил. Откуда он звонил?
– Телефон-автомат на углу Зеленной и Маканина. Это напротив «Яхонта».
– Однако, – сказал я.
– Самый центр.
– Да.
Машина неслась по пустынной набережной. Сиреневые фонари лягушками распластались в лужах. Блестела в реке чернильная вода. На другой стороне, высоко, под самыми тучами, ныряли красные огни телебашни.
– Там, на Маканина, проходной двор, – глядя в проваливающийся под колеса черный асфальт, сказал шофер. – Длинный такой сквозняк с выходом и на Зеленную, и на Разовскую, и в Бойцов переулок. Я помню, когда гнали пацанов, которые залезли в «Радиоаппаратуру», ну, в прошлом году…
Я откинулся на сиденье и прикрыл нетерпеливые глаза. Наконец-то. Я уже боялся, что Нострадамус не объявится никогда больше. В последний раз он звонил дней десять назад – Регистр СССР – советский сухогруз «Нараян» во время шторма получил сильную течь и тонул в Атлантике. Между прочим, в том же квадрате находилось английское торговое судно. Миль тринадцать к югу. Капитан утверждал, что сигналов «SOS» они не принимали, рация была неисправной. Обычная история. Погибло пять человек. Западные агентства молчали. Пять человек – это не цифра. Вот если бы пятьсот человек. Или пять тысяч… Был процесс в Гааге. Капитана, кажется, оправдали. В таких случаях ничего доказать нельзя. Эсминец «Адмирал Крючков» спас команду, сетками выхватывая полуобморочных людей из кипящей воды.
Сто шестьдесят семь членов экипажа.
Четырнадцать женщин…
Ивин слушал сводку.
– Опоздание две минуты, – сказал он.
– Ого!
Я открыл глаза.
Две минуты – это было много.
– Канада, – глубокомысленно объяснил Ивин. – Пока прозвонили компьютерами Американский континент, пока вышли на Европу через спутники связи, пока ответила Евразийская телефонная сеть…
Я взял трубку и нажал несколько клавиш.
– Это Чернецов. Закройте район, примыкающий к сектору. По плану «Равелин». Да – тоже… Стяните туда ближайшие ПМГ. Пусть ищут Нострадамуса. Пусть качественно ищут. Сколько их?.. Отзовите из соседних районов – под мою ответственность.
– Уже, – недовольно сказал дежурный.
Я порядком осточертел им своим Нострадамусом.
Зеленые стрелки часов показывали половину четвертого.
– Да ты не волнуйся, – сказал Ивин, демонстративно закуривая. – Мы его найдем. Не призрак же он в самом деле.
Я не волновался. Призраки не пользуются телефоном. У них другие методы. Я мысленно видел карту города и на ней – сектор, обведенный жирным красным карандашом. Сектор Нострадамуса. Район, откуда он звонит. Совсем небольшой район. Нострадамус почему-то никогда не выходил за его пределы. Будто привязанный. Я видел, как сейчас, поспешно изменив направление, синие вспышки ночных патрулей стекаются к этой красной черте и идут внутрь, неожиданно пронизывая фарами туманные дождевые недра. Я не волновался. Операцию репетировали много раз, в ней не было ничего сложного. Чтобы плотно замкнуть кольцо, требовалось четыре минуты. Всего четыре. Нострадамусу будет некуда деться – ночь, пустые улицы. Разве что он живет в этом районе. Хотя маловероятно. Глупо звонить оттуда, где живешь. Он ведь не может не понимать, что мы его усиленно разыскиваем. Я не волновался изо всех сил, но попробуйте не волноваться, если уже две недели подряд, как проклятый, ночуешь у себя в кабинете, рассчитывая неизвестно на что. Хорошо еще Ивин подменял меня время от времени. Не слишком часто. И Валахов тоже подменял. Правда, Валахов не верил в Нострадамуса.
Приглушенно заверещал телефон.
– Слушаю, – сказал я.
Докладывал дежурный по городу. В секторе прочесывания были обнаружены двое: работник хлебозавода Васильев, возвращающийся со смены, и гражданин города Орла некто Шатько, который торопился на вокзал с огромным чемоданом. Это было явно не то. Васильев только что вышел из ведомственного автобуса, водитель подтвердил, что везет его непосредственно от ворот предприятия, а что касается Шатько, то – пожалуйста, у нас никому не запрещается, экономя на такси, тащить чемодан самому, пешком, через весь город, даже в такую погоду.
У меня упало сердце. Я, конечно, не думал, что первым же задержанным окажется именно Нострадамус, но всегда есть слабая надежда – а вдруг?
Четыре минуты уже истекли.
– Кто курирует «Храм Сатаны»? – покашляв, неожиданно для самого себя спросил я.
У Ивина поползли изумленные брови.
– Но ты же не собираешься…
– Кто в настоящий момент курирует «Храм Сатаны»? – скрипучим неприятно официальным голосом повторил я.
– Я курирую, – таким же официальным голосом сообщил Ивин.
– Результаты? – официальным голосом спросил я.
– Нет результатов, – официальным голосом ответил Ивин, скучно глядя вперед.
– Какое у них следующее мероприятие?
– Черная месса.
– Когда?
– Послезавтра.
– Где?
– Шварцвальд, у Остербрюгге. Ведьмы и голодные демоны. Вурдалаки. Я тебе не советую: там каждый раз бывают якобы случайные жертвы.
– Ты же работаешь в контакте с полицией…
Ивин молчал.
– Разве не так?
– Потому и нет результатов, что я работаю в контакте с полицией, – неохотно сказал он.
– А «Звездная группа»?
– Это Сиверс.
– И что?
– Умер Херувим.
– Убийство?
– Пока неясно…
– Ладно.
Я покусал ноготь на большом пальце.
– Подъезжаем, – сказал шофер.
По обе стороны мрачного гранитного углового дома на уровне второго этажа причудливой вязью неоновых трубок горела надпись: «Яхонт». В красных бликах ее, как памятники, неподвижно стояли двое – мокро блестя.
Сиверс шагнул мне навстречу:
– Обнаружили еще экземпляр – Халидов, студент университета, пьяный и без документов. Говорит: был в компании. Он тебя интересует?
– Нет, – сказал я.
Сиверс хмуро кивнул.
– Мы его задержали – пока.
– Отпечатки? – спросил я.
– Каша, – лаконично ответил Сиверс. – Особо не рассчитывай.
Я и не рассчитывал.
– Где Валахов?
– Крутится.
– Еще не закончили?
– Там некоторые сложности…
– Пошли!
Я просто не мог стоять на месте. Предчувствие неудачи угнетало меня.
Мы прошли темный двор, где на задниках магазина уныло мокли груды деревянных ящиков, и через низкую арку проникли во второй – узкий, как колодец, – вымощенный булыжниками. Сеялся невидимый комариный дождь. Было холодно. Сиверс ладонью отжимал воду с костлявого лица: – Дорога разрыта, машина не пройдет, зачем ты приехал, отрываешь от дела, сидел бы себе в кабинете и прихлебывал чай… – Он был прав. Мне следовало сидеть и прихлебывать. Ивин ядовито похмыкивал сзади. – Как твои «звездники»? – в паузе спросил я. – «Звездники» на месте, – буркнул Сиверс. – Кого проверили? – Весь «алфавит». – Даже так? – У них большое радение: восходит Козерог. – А кто проверял? – Верховский. – Понятно. – Я перепрыгнул через лужу, в которой желтела консервная банка. У меня не оставалось никакой надежды. Верховскому можно было верить. Если он говорит, что «алфавит» на месте, то «алфавит» на месте. «Звездная группа» отпадает. Девяностолетний туркмен, носитель мирового разума, сидя на молитвенном коврике, прикрыв больные глаза и раскачиваясь, выкрикивает в старческом экстазе бессмысленные шантры на ломаном русском языке, а покорный «алфавит», буквы мироздания, – инженеры, медики, кандидаты наук, окружающие его, – склоняются и целуют полы засаленного халата, искренне веруя, что Великий Космический Дух низойдет с небес и просветлит их грузные томящиеся души. Трое убитых за последние полтора года – ушедшие к звездам. Ритуал посвящения в избранные, отречение от всего земного, культ наготы и безволия. Махровая уголовщина. Хорошо, что не придется влезать в эти дела. Я поежился и глубоко вдохнул холодный, насыщенный влагой воздух. Значит, полный провал. Значит, вся операция к черту. Нострадамус опять испарился бесследно. В одиннадцатый раз. Он умеет испаряться бесследно. Значит, метод исчерпал себя. Четыре минуты – это наш предельный срок. Меньше нельзя.
– Налево, – сказал Сиверс.
Пригибаясь под аркой, мы выбрались в тесный переулок, один конец которого был перерыт траншеей. У раскрытого телефона-автомата, присев на корточки, копошились люди в резиновых накидках. Вдруг – ощетинились голубыми фонариками.
– Уберите свет! – приказал невидимый Валахов. – Это гражданин Чаплыгин.
Гражданин Чаплыгин был в плаще поверх полосатой пижамы и в незашнурованных ботинках на босу ногу.
– У меня бессонница, – пробормотал он. – Я курил в форточку, гляжу – милиции много…
– Вы кого-нибудь видели здесь?
– Никого.
– Припомните хорошенько: кто-нибудь звонил из этого автомата?
Гражданин Чаплыгин выпучил глаза.
Будто филин.
– Телефон уже неделю не работает…
– Как не работает?
Произошло быстрое движение на месте. Головы повернулись. Один из сотрудников Сиверса носовым платком осторожно снял трубку и послушал.
Лицо его приобрело туповатое выражение.
– Не работает, – растерянно подтвердил он.
Я посмотрел на Сиверса. Сиверс задумчиво моргал, и вода капала с его редких пружинистых ресниц.
Я отвернулся.
В машине Ивин сказал:
– Ничего не понимаю. Мы ошиблись – бывает. Но компьютер указал именно на этот автомат. Европейский ВЦ… – Закурил очередную сигарету. – О чем ты думаешь?
Шелестели шины. Морось ощутимо усиливалась. Набухли туманные шары света под проводами. Я расслабленно лежал на сиденье. Проносились черные окна. Мигали светофоры на безлюдных перекрестках. Где-то здесь, в сердцевине дождя, одинокий и неприкаянный, бродил загадочный Нострадамус, и жестокие глаза его, будто рентген, пронизывали город.
– Я думаю о докторе Гертвиге, – сказал я.
Ивин ошарашенно повернулся:
– Кто такой, почему не знаю?
– Доктор Гертвиг умер в семнадцатом году.
– Когда?!
– В январе тысяча девятьсот семнадцатого, незадолго до Февральской революции.
– Парадиагностика?
– Да.
– Погружение в историю?
– Да.
– Ну ты даешь, – после выразительного молчания сказал Ивин.
2. Доктор Гертвиг и студент
Луна была яркая и большая, просто невозможная была луна. Резкой чернью обдавала она булыжник на мостовой, битый череп фонаря, синюю листву сада. Как мертвый ящер, ощетинясь оглоблями, лежала поперек улицы растерзанная баррикада. Напротив нее, у здания рынка, зияющего каменным многоглазием, будто приклеенные, стояли Кощей и Тыква. Кощей гоготал и длинно сплевывал, а Тыква подкручивал свои дурацкие намыленные усы. Прямо зло брало: давно ли бегали, как куропатки, – теперь гогочут.
Человек, невидимый в низкой подворотне, шевельнулся, и лунный свет упал на фуражку, какие носят студенты. Ну – слава богу, тронулись, пошли к площади, во мрак собора. Тыква переваливался, а Кощей придерживал шашку. Говорят, это он убил Сапсана, зарубил во дворе участка, еще в июне. Садануть бы по ним из револьвера – нельзя, нет револьвера, зарыт дома, в сарае, под поленницей. Не такое сейчас время, чтобы разгуливать с револьвером.
Погрузив кулаки в карманы тужурки, упрятав лицо в поднятый воротник, человек быстро пересек улицу и прильнул к чугунной ограде. Взялся за железные прутья и, легко переломившись в воздухе, махнул прямыми ногами на ту сторону.
Тотчас, заколачивая в землю булыжник, из Кривого переулка вывернул конный отряд и поплыл в бледном сиянии – призрачные лошади, призрачные люди.
Казаки дремали в седлах.
Человек с головой ушел в синюю листву. Разогнулись ветви. Он знал, куда ему идти, – к двери на стыке двух глухих стен. Он достал ключи. Ключи у него были. Застучало сердце. Ай да Абдулка, медный котел! Не обманул все же, подлец, дурацкая рожа! – Зачэм рэзать такой бедный доктор, совсем нищий… Плохо живет – слуга нету, жена нету, сам ноги моет… Или другой этаж – баба живет, фабрика имеет… шибко толстый, богатый, деньги в подушку зашил – золото, Абдулка знает… Ее рэжь – бабу не жалко… Убей, пожалуйста, – дай Абдулке пятисот рублей… Абдулка хитрый – пьяный был, ничего не видел…
Сотню взял за ключи, пузатая сволочь.
В тусклом гробовом свете паутинного окна угадывалась черная лестница. Он поднялся на второй этаж и чиркнул спичкой. Лезвие ножа просунулось в щель, звякнул сброшенный крючок – все! Он проскользнул пахнущее аптечными травами междудверье, миновал светлую кухню, где цепенели тарелки, кастрюли и раздутый, сияющий медалями бок самовара. В коридоре было хоть глаз выколи, но он помнил, что дверь в библиотеку третья направо. Об этом рассказывал Сапсан. Гертвиг почему-то доверял ему. Именно ему. Правда, Сапсана больше нет. Исчез после провалов в организации, я даже имени его не знаю – просто Сапсан. Он первый понял, что это означает: врач, который не ошибается в диагнозе. Вообще не ошибается. Даже не осматривает пациентов. Мистика, не иначе. Оккультные знания. Что-то по ведомству госпожи Блаватской.
Он стоял посередине библиотеки. Луна струилась в широкие окна, и корешки книг за стеклом налились жирным золотом. В простенке громоздился резной стол с секретером. Дай бог, чтобы это оказалось здесь. Потому что может быть тайник, сейф, абонемент в банке. Где еще хранить миллионное состояние? Но не деньги же мне нужны. «Медицина часто утешает, иногда помогает, редко исцеляет…» Записки какие-нибудь, протоколы наблюдений, просто лабораторный дневник… Он не замечал, что бормочет себе под нос, – руки уже сами выдвигали верхний ящик, наполненный бумагами. Пальцы дрожали от нетерпения. Страховой полис, поручительство, векселя на имя господина Констанди – не то, на пол… Старые документы, аккредитив, кипы желтых акций – не то… «Немецкий банк развития промышленности», «Гампа», «Товарищество железных дорог Юго-Востока России»… Ящик был пуст… Он вдруг испугался, что двойное дно, и перевернул его. Бронзовый подсвечник в виде обнаженной нимфы нерешительно качнулся на краю зеленого сукна и звякнул по ковру. Он обмер, закусив пальцы. Боже мой, нельзя же так, он же все погубит этой спешкой.
Внутри квартиры распадались неопределенные шорохи. Или кажется? Дно чистое, простое, без тайника… Дальше, – фотографии на ломком картоне, остолбеневшие лица, женщины со вздернутыми плечами, мужчины в касках, – на пол, давно умерли… Диплом медицинского факультета Санкт-Петербургского Императорского – не то… Письма, груды писем… Опустившись на колени, он разбрасывал их. Третий ящик – ага! История болезни. Поближе к свету, хорошо, что луна яркая… Господин Мохов Евграф Васильевич, пятидесяти трех лет, купец первой гильдии, житель города Саратова, обратился по поводу… Крохман Модест Сергеевич, сорока девяти лет, мещанин, житель Санкт-Петербурга, обратился по поводу… Грицюк Одиссей Агафонович… Быстрый Яков Рафаилович… Дымба Мустафа… Двести диагнозов. Палладину потребовался год, чтобы повторно собрать их… Чисто научные интересы – любезный господин Палладин, который все понимает… Обещал помочь с документами, потому что нынешние документы – барахло, дрянь, на грани провала… Четвертый ящик – истории болезни – некогда, на пол… Дно простое, без тайника… Теперь с другой стороны, тоже четыре ящика… А затем секретер из множества отделений…
Тетради! Тетради с заметками! Наконец-то!.. Он листал серые клетчатые страницы. Ужасно много времени уходило, чтобы разобрать пляшущий почерк… «Симптомы, кои при наружном осмотре позволяют определить…» «Повышение температуры не есть признак болезни, но всегда признак ненормального состояния организма…» Одна, две, три, четыре – восемнадцать тетрадей. Придется захватить все. И наверное, есть еще. Конечно, еще – оба нижних ящика. Как я их унесу? Первый же городовой кинется на прохожего, который тащит узел в три часа ночи. Надо идти дворами, отсюда – вниз, через дровяные склады, мимо барж на канале, по Сименцам и Богородской протоке. В крайнем случае – отсидеться, в Сименцах есть такие притоны, Господь Бог не найдет…
Желтый колеблющийся свет озарил комнату.
– Руки вверх! – нервно сказали у него за спиной.
Доктор Гертвиг стоял в дверях. Оказывается, были другие двери, ведущие прямо в спальню. Проклятая спешка! На докторе был малиновый халат, расшитый драконами, в левой руке, – отставя, чтобы видеть, – он держал керосиновую лампу, а в правой сжимал плоский вороненый пистолет.
Бульдожьи щеки у него дрожали.
– Руки вверх!
Человек, сидящий на полу, выпрямился.
– Не подниму, – угрюмо ответил он.
Доктор Гертвиг отступил на шаг и потерял туфлю без задника.
– П-п-почему?..
– Потому что я не вор, – сужая зрачки, сказал человек в фуражке. – Потому что я хочу взять то, что вам не принадлежит. Потому что должна быть в мире хоть какая-то справедливость!..
– Ах, это вы, – с громадным облегчением вздохнул доктор Гертвиг. – Я вас узнал: студент-медик… Упорный молодой человек, я мог бы и выстрелить нечаянно… Боже мой, какое время!.. – Он нащупал туфлю, прошлепал к креслу, раскорячившему витые лапы, грузно сел, поставив лампу на широкий подлокотник, и поправил съехавший на ухо ночной колпак. Сказал брюзгливо: – Ну и кавардак. Вам бы лучше уйти, господин Денисов. Удивляюсь, как вы этого не понимаете.
– Я никуда не уйду, Федор Карлович.
– Боже мой, ну что мне с вами делать? Передать полиции? Вы звоните мне, вы посылаете мне письма, вы врываетесь ко мне в приемную и устраиваете скандалы. Вы меня измучили. Хотите, я дам вам денег? Хотите, я дам вам шесть тысяч? Это все, что у меня есть. Только уходите, честное слово, я вас не обману…
– Нет, – сказал студент.
– Конечно! Вы желаете обладать миллионами, – потея от ненависти, проскрипел доктор Гертвиг. – Что вам больной старик?..
– Деньги меня не интересуют.
Студент стоял боком, а теперь повернулся, и расширенные глаза его искрами, как у рыси, отразили лампу.
– Я помню, помню: вы собираетесь облагодетельствовать человечество…
– Не надо смеяться, Федор Карлович…
– Элементарная гигиена даст в тысячу раз больше, чем все ваши замысловатые потуги! Да! Идите в коломенские кварталы – кипятите воду, сжигайте нечистоты в ямах, отбирайте у младенцев тряпочку, смоченную сладкой водой!
– Я все знаю, доктор, – опасным тоном, разевая напряженный рот, сказал студент.
– Конечно, славы здесь не будет и денег тоже. – Доктор Гертвиг обессилел. И вдруг закричал: – Нет у меня ничего! Поймите вы это! Я даже не представляю – как… Я смотрю и вижу! Я не могу научить, я пробовал, это все без толку!
Он осекся и тревожно поворотился к темному проему спальни. Сказал шепотом:
– Ко мне ходил ваш настойчивый коллега – Ясенецкий. Он, кажется, убедился.
– Сапсан? – спросил студент.
– Что?
– Его звали Сапсан?
– Вы нелегал? Не желаю знать ваших кличек! – Доктор Гертвиг сердито запахнул халат на животе. – Уходите, прошу вас, вы все выдумали.
– Я не выдумал, – тем же ровным и опасным тоном сказал студент. – Я смотрел ваших пациентов – двести случаев…
– Ну это вы врете. Откуда?
– Мне помог господин Палладин. – Студент приветливо улыбнулся.
– Статский советник Палладин? Секретарь Всероссийского общества народного здоровья? – У доктора Гертвига побагровели отвисающие щеки. Он, как птица, замахал малиновыми рукавами. – Вы с ума сошли! Палладин служит в охранке, это же всем известно!
Студент мучительно опустил веки:
– За Хрисанфа Илларионовича я убить могу…
– О! Вы не понимаете, молодой глупец!
– Фон Берг. – Студент неловко чмокнул деревянные костяшки на пальцах.
– Вы из гессенских фон Бергов, – благосклонно кивнула старуха. – Я знавала вашего деда, Гуго фон Берга, Лысого…
– Муттер, вы бы пошли к себе прилечь, у вас начнется мигрень, – плачущим голосом сказал доктор Гертвиг, поддерживая ее за локоть и осторожно вынимая свечу. – Мне еще нужно осмотреть молодого человека.
Старуха вздернула костяной подбородок.
– Не забывай, Теодор, я урожденная Витценгоф, мы в родстве с Бисмарками… Мой бедный муж и твой отец привез меня сюда шестьдесят лет назад. «Кляйнхен, мы будем очень богатеть», – говорил он… Мой бедный муж – его обманули и обобрали, он умер в нищете, вспоминая родной Пупенау… «Ах, зачем я покинул фатерлянд и приехал в эту ужасную грубую страну?» – таковы были его подлинные слова перед смертью. – Она повернулась. – Теодор, предложи молодому человеку бокал настоящего рейнвейна.
С несчастным видом доктор Гертвиг открыл инкрустированный шкафчик, внутри которого блеснуло стекло.
– Не беспокойтесь, гнедиге фрау, – растерянно сказал студент.
– Слава богу, в этом доме еще найдется настоящий рейнвейн, – сказала старуха. – Теодор пошел по стопам своего бедного отца. Представьте: является нищий русский учитель, и Теодор бесплатно лечит его, приходят пьяные русские мужики, и Теодор дает им денег…
– Ах, муттер…
– Кто сказал, что нужно лечить нищих? Он хочет, чтобы я пошла в церковь и стояла с протянутой рукой: «Подайте урожденной Витценгоф…» О! Это будет грустная мизансцена…
Доктор Гертвиг незаметно, но энергично кивал студенту:
– Уходите.
– У вас прекрасное вино, гнедиге фрау, – послушно кланяясь, сказал студент.
Где-то в черноте коридора кашлянули басом, и тут же, бухая сапогами, в комнату ввалились четверо жандармов во главе с ротмистром, как оса, затянутым ремнями.
– Па-апрошу не двигаться, – сказал ротмистр.
Из-за спины его, прижимая к груди облезлый малахай, выбрался Абдулка и боязливо указал черным пальцем.
– Вот этот, начальника… в фуражке… Говорил – домой пусти, старика резать буду, бабу резать буду… Деньга мне обещай, сто рублен… Абдулка денег не взял, Абдулка честный…
– Ладно, ладно, оставь себе, – брезгливо сказал ротмистр. Перекатил на студента черные бусины глаз.
– Моя фамилия Берг, – скучно сказал студент. – Фон Берг. Вот мои документы.
Ротмистр смотрел на него еще какую-то секунду и вдруг расплылся в широчайшей улыбке.
– Батюшки-светы, Александр Иванович! Какими судьбами? А мы-то вас ищем…
– Не имею чести, – очень холодно возразил студент.
Ротмистр даже руками развел:
– Ну какой же вы, голубчик мой, фон Берг? Стыдно слушать. Денисов Александр Иванович, член запрещенной Российской социал-демократической партии, – эти слова ротмистр выговорил отчетливо и с особенным удовольствием. – Были сосланы в Пелым, потом бежали, я же допрашивал вас в пятнадцатом году, неужели не помните?
– О майн гот! – сказал доктор Гертвиг. Тяжело повалился в кресло и прижал ко лбу ладонь, похожую на связку сарделек.
– Господа, минутку внимания, – прощебетала старуха, по-прежнему не открывая глаз. – Господа, я спою вам любимую песню моего бедного мужа.
Она присела в страшном реверансе и запела по-немецки:
Мое сердце, как ласточка, Улетает в небеса. Там оно будет жить, Вечно счастливое…– Уберите старую дуру, – ласково сказал ротмистр, любуясь студентом. – Если бы вы знали, Александр Иванович, как я вам рад, вы даже представить не можете…
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ
Минувшей ночью пакистанские «командос» произвели штурм самолета «Боинг-747», захваченного в аэропорту Карачи группой неизвестных террористов. Во время штурма террористы бросили дымовые шашки и открыли огонь, в результате двадцать пассажиров убиты, около сотни получили ранения.
Самолеты иракских ВВС подвергли бомбардировке военные и промышленные объекты в городах Бахтаран и Исламабаде-Гарб, а также нанесли серию ударов по районам концентрации войск противника на различных участках фронта. Иранская дальнобойная артиллерия обстреливала жилые кварталы в городах Хинакин и Басра, имеются жертвы среди населения.
14 рабочих погибли в результате катастрофы на золотых приисках ЮАР. По сведениям властей, горняки задохнулись под землей из-за скопившегося в шахте газа.
Обостряется обстановка в предгималайском районе штата Западная Бенгалия – Дарджилинге. В минувшую пятницу сепаратисты из «фронта национального освобождения гуркхов» сожгли 13 домов и школьное здание.
Соединенные Штаты провели очередное ядерное испытание на полигоне в Неваде. Мощность взрыва под кодовым названием «Белмонт» составила от 20 до 150 килотонн. Нынешнее испытание стало уже 22-м со времени введения Советским Союзом одностороннего моратория на все ядерные взрывы…
3. Северо-западные территории
Вертолет пошел вниз, и молочные языки тумана проглотили его.
– Садимся наугад! – крикнул пилот.
– Хорошо!
Бьеклин повторил мне, не разжимая потных нечеловеческих зубов:
– Под вашу ответственность, сударь…
– Хорошо!
– Нет связи! – обернувшись, крикнул пилот.
Шасси неожиданно ударилось, и вертолет подпрыгнул, чуть не перевернувшись. Тряхнуло. Разлетелось лобовое стекло. Пилот приподнялся в кресле, будто готовясь выскочить, и упал обратно, оттянутый ремнями. Левая рука его безжизненно повисла вдоль тела. За стихающим шумом винта выстрелов не было слышно, но в каких-то сантиметрах от меня металл борта вдруг загнулся блистающими лохмотьями, образовав дыру, словно его продавили железным пальцем.
– Все из машины!
Я стукнулся пятками, отбежал и растянулся на взлетной полосе. Бетон был ровный, ноздреватый и влажный от утреннего холода. Ватные полосы тумана переливались над ним. Отчетливо пахло свежими, мелко нарезанными огурцами. Я невольно задержал дыхание. «Безумный Ганс» начинает пахнуть огурцами на стадии водяной очистки. Детоксикация. Кажется, в этом случае он уже совершенно безвреден. Или нет? Метрах в пятидесяти от меня копошилось нечто, напоминающее скопище гигантских ежей: из торчащих зазубренных иголок, ядовито шипя, выходил тяжелый пар, застилая собой округу. Это была система общей дегазации, сброшенная с воздуха. И наверное, не одна. Теперь понятно, почему нет связи. «Безумный Ганс» поглощает радиоволны.
Полковник из Центра ХЗ с седыми висками, топорща погоны канадских ВВС, чертил карандашом по карте:
– Связи еще нет, но, по данным на восемь утра, пожар перекинулся в левую цепь, взорвалась батарея газгольдеров, поселок не задет. Облако отнесло на Север. Оно постепенно рассеивается. Метеорологическая обстановка благоприятная, но я бы советовал немного подождать…
– Опасности никакой?
– Опасности никакой.
– Тогда я лечу.
Полковник пожал плечами.
Приблизительная информация – это кошмар современного мира. Никто ничего не знает точно. На запястье у меня болталась кассета с пристегнутым противогазом. Я немного поколебался, но не стал ее надевать. Если я отравился, то уже отравился. Нейролептики впитываются моментально. Цокнула шальная пуля, ощербатив бетон. Наш вертолет нехотя задымил. По периметру аэродрома метались прожекторы, и нездоровые желтые мечи их коротко рубили туман. Ныряя под ними, перебегали и падали расплывчатые фигуры. Сыро тукали карабины. Было непонятно, кто стреляет и в кого стреляет. Разворачивался какой-то кровавый и бессмысленный хаос. В сообщении Нострадамуса ничего не говорилось об этом. Я боялся, что взорвутся бензобаки. Рядом со мной ничком лежал человек. Я перевернул его – абсолютно незнакомое бледное неподвижное лицо с тонкими губами и орлиным носом. На синем хитоне, чуть ниже плеча, серебряно блеснули три полумесяца в окружении золотистых звезд. Это был не Бьеклин. Это был демиург. Судя по количеству нашивок – Демиург Девятого Круга, полностью посвященный, один из Великих Мастеров, член Верховной ложи, ардамант черной магии, повелитель духов, земное совершенство, наперсник тайных сил и прочая и прочая. Если я правильно определил чин. Я плохо разбираюсь в современной геральдике. Тут требовался специалист. Иератическая геральдика – это целая наука. Я только не понимал, как демиург (член Всемирной организации масонов и экстрасенсов) мог попасть на совершенно секретный военный полигон, затерянный среди чахлых пространств приполярной тундры.
Осторожная рука тронула меня за плечо, и Бьеклин сказал одними губами:
– Внимание!
В цепких пальцах его чернел пистолет.
От призрачных зданий аэропорта к нам бежали люди. Много людей. Я расстегнул кобуру под мышкой. Я искренне надеялся, что мне не придется стрелять. Я был здесь чужой и находился лишь по соглашению о совместном расследовании.
Весьма неопределенный статус.
Но стрелять не пришлось, все было гораздо серьезнее.
В вестибюле больницы прямо на полу, под разбитым окном, сидел человек в пижаме и, удовлетворенно морщась, вел щепотью поперек лица. Будто чесался. Лишь когда хлынула неожиданная темная кровь, я осознал, что он режет себя бритвой.
Главный врач ногой запахнул мешающую дверь:
– Встретимся на том свете, если только Господь Бог удосужится вновь создать наши растерзанные души. Честно говоря, я не представляю, из чего он будет их воссоздавать, – материала почти не осталось. Ну да Господь Бог умелец не из последних.
Он быстро перешагивал через расстеленные на полу матрацы.
– Значит, вы отказываетесь выполнить предписание правительства? – на ходу спросил Бьеклин, и вокруг его глаз, под тонкой кожей, собралось множество мелких костей, как у ископаемой рыбы.
– У меня всего два исправных вертолета, – ответил врач. – Полетят те, кого еще можно спасти. Ваш оператор будет отправлен с первой же колонной грузовиков – все, что я могу обещать.
– Где начальник гарнизона? – сухо спросил Бьеклин.
– Убит.
– А его заместитель?
– Убит.
– Вы сорвали операцию чрезвычайной важности, – сказал Бьеклин. – Я отстраняю вас от должности, вы предстанете перед судом по обвинению в государственной измене.
Главный врач поймал за рукав черноволосого подростка, который, как мантию, волоча за собой халат, извлекал изо рта длинные тягучие слюни, – сильно оттянул ему оба нижних века и заглянул в красноватый мох под ними.
– Белки уже зеленеют, – пробормотал он. – Не будьте идиотами, господа. У меня здесь восемьсот человек, половина из них хлебнула газа. Им грозит сумасшествие. Если они узнают, кто вы и откуда, то вас расстреляют немедленно, без суда. Я даю вам двадцать минут для беседы с оператором. Потом отправляется первая походная колонна. Можете сопровождать его, если хотите. В сущности, он безнадежен, уже началась деформация психики, он больше не существует как личность. Кстати, я советую вам принять пару таблеток тиранина – для профилактики.
– А тиранин помогает?
– Нет, – сказал врач.
Коридор был забит. Лежали в проходах. Мужчины и женщины ворочались, стонали, жевали бутерброды, спали, разговаривали, плакали, сидели оцепенев. В воздухе стоял плотный гомон. Чумазые ребятишки лазали через изломанные теснотой фигуры. Я смотрел вниз, стараясь не наступить кому-нибудь на руку. За два часа до нашего прибытия взорвалась вторая батарея газгольдеров, и пламя погасить не удалось. Метеорологическая обстановка была совсем не такая, как об этом докладывал полковник. Ветер понес облако прямо на городок. Санитарная служба успела сбросить несколько ловушек с водяным паром, но их оказалось недостаточно. «Безумный Ганс», перекрутившись бечевой, пронзил казармы. Солдаты, как по тревоге, расхватали оружие. Сначала они обстреляли административный корпус, а потом, выкатив малокалиберную пушку, зажгли здание электростанции. Захваченный пленный бессвязно твердил о десанте ящероподобных марсиан в чешуе и с хвостами. Марсианами они, вероятно, считали всех штатских. Полчаса назад патрули автоматчиков начали методичное прочесывание улиц. Добровольцы из технического персонала завода пока сдерживают их. Хуже всего то, что солдаты отрезали подходы к зоне пожара, – огонь никто не тушит, под угрозой взрыва третья батарея газгольдеров. Тогда не спастись никому.
Я придвинул табуретку и сел у кровати, где на ослепительных простынях выделялось изможденное коричневое подергивающееся лицо.
– Когда он позвонил? – спросил я.
Оператор поднял руку с одеяла и беззвучно шевельнул губами.
– Это те, кого вы хотели видеть, – объяснил врач.
– Я умираю, доктор?
– Вы проживете еще лет двадцать, к несчастью, – сказал врач. – Я говорю правду. Лучше бы вам умереть, но вы будете жить еще очень долго.
Рука упала.
– Записывайте, – сказал оператор. – «Поезд шел среди желтых полей. Был август. Колыхалась трава. Человек в габардиновом костюме, держась за поручень, стоял на подножке и глядел в мутноватые отроги хребта: Богатырка тупым острием поднималась к небу, и упирал воздух безлесый покатый лоб Солдыря. – Какая жара, – сказал ему проводник. Человек кивнул. – Хлеба опять выгорят, – сказал проводник. Человек кивнул. – Сойдете в Болезино? – спросил его проводник. – Нет, здесь. – Станция через две минуты, – сказал проводник. – Мне не нужна станция. – Это как? – А вот как! – Человек легко спрыгнул с подножки в сухую шелестящую мимо траву. – Куда? – крикнул возмущенный проводник. Но человек уже поднялся и помахал вслед рукой. Трава доходила ему до колен, а густая небесная синь за его спиной стекала на верхушки гор…»
– Записывайте, записывайте, – лихорадочно сказал оператор. – Его зовут Алекс… Алекзендр… не могу точно произнести…
– Он вам назвался? – быстро спросил я.
Бьеклин подался вперед.
– Нет.
– Откуда же вы его знаете?
– Знаю, – сказал оператор. – Директор говорил, что это очень важно…
Я оглянулся на врача. Тот пожал плечами. Это было безнадежно. На лбу у оператора выступили крупные соленые капли, он дышал редко и с трудом. Тем не менее Бьеклин напряженно крутил верньеры на портативном диктофоне, проверяя запись. У меня возникло неприятное ощущение, что он вычерпывает из разговора колоссальное количество информации.
– Где сейчас директор? – поинтересовался он.
– Директор занят.
– Я спрашиваю: где сейчас директор?
– Директор вас не примет, – нехотя сказал врач. – Директор сейчас пишет докладную записку во Всемирную организацию здравоохранения; просит, чтобы, учитывая его прежние заслуги, ему бы выдавали бесплатно каждый день четыре ящика мороженого и две тысячи восемьсот шестьдесят один сахарный леденец. Именно так – две тысячи восемьсот шестьдесят один. Он все рассчитал, этого ему хватит.
Протяжный, леденящий кровь, голодный и жестокий, зимний волчий вой стремительно разодрал здание – ворвался в крохотную палату и дико заметался среди нас, будто в поисках жертвы.
Врач посмотрел на дверь:
– Это как раз директор. Наверное, ему отказали в просьбе… Заканчивайте допрос, господа, у меня больше нет для вас времени.
Тогда Бьеклин наклонился и прижал два расставленных углом пальца к мокрому лбу оператора.
Элементарный гипнопрессинг.
– На каком языке говорил Нострадамус? – очень внятно спросил он.
– На голландском, – сказал оператор.
– Вы уверены? – изумился я.
Бьеклин был поражен не меньше.
– Я голландец, – сказал оператор, теребя складки одеяла. – Записывайте, записывайте, пожалуйста… «Ангел Смерти… Си-нэл-ни-коф и Бе-ли-хат… Это пустыня: безжизненный песок, раскаленный воздух, белые отполированные ветрами кости… Войны не будет… Вскрывается королевский фланг, и перебрасываются обе ладьи. Двенадцать приговоров… Бе-ли-хат умер, Си-нэл-ни-коф покончил самоубийством… Черные выигрывают… Записывайте, записывайте!.. Войны не будет… Ангел Смерти: ладони мои полны горького праха… Схевенингенский вариант… Надо сделать еще один шаг… Один шаг… Один…»
Я поднялся и отошел к окну. Я не боялся что-либо пропустить, мой диктофон работал – ярко зеленела индикаторная нитка на пластинке корпуса. Я слушал назойливый, штопором впивающийся голос оператора и глядел, как внизу, из железных ворот больницы, выворачивает грузовик, словно живая клумба, накрытый беженцами. На подножках его, на кабине и просто на бортах кузова, свесив ноги, сидели люди в штатском с винтовками наперевес. Началась эвакуация. Этой колонне предстояло пройти шестьсот километров по раскисшей осенней тундре. Шестьсот километров – более суток непрерывной езды. Если их раньше не заметят с воздуха. Я посмотрел на часы. Я не мог терять целые сутки. Завтра меня ждали в «Храме Сатаны». Шварцвальд, у Остербрюгге. Им пришлось согласиться с тем, что я имею право присутствовать в качестве наблюдателя. Точно так же, как им пришлось согласиться, что я имею право произвести допрос оператора совместно с Бьеклином. Катастрофа в Климон-Бей – это третья международная акция Нострадамуса. Ноппенштадт, Филадельфия и теперь Климон-Бей. Интересно, как ему удалось позвонить сюда, через океан, из сломанного телефона-автомата на углу Зеленной и Маканина. Ему надо было пройти городскую станцию, затем союзную, потом международный контроль на МАТЭК, затем всю трансокеанскую линию и далее через Американский континентал выйти на местного абонента. Машинный зал вообще не соединяется с городом, только через коммутатор. Правда, можно подключиться непосредственно со спутника, но тогда следует признать, что Нострадамус способен контролировать системы космической связи. У нас еще будут неприятности с этой гипотезой. Я подумал, что не зря ко мне приставили Бьеклина и не зря полковник из Центра ХЗ разрешил лететь при неясной обстановке. Видимо, они рассматривают ситуацию как предельно критическую. И не зря была организована утечка информации в прессу, и не зря последнее время усиленно дебатируется вопрос о пришельцах со звезд, скрываемых от мировой общественности.
– Насколько я понял, было предупреждение об аварии, – сдавленно сказал врач.
– Тише, – ответил Бьеклин.
Мы шли по копошащемуся коридору.
– И это не похоже на бред, – сказал врач.
– Тише, – ответил Бьеклин.
– А магнитофонная запись дежурства уничтожена при пожаре…
– Обратитесь в госдепартамент. Я не уполномочен обсуждать с вами сугубо секретные сведения, – высокомерно сказал Бьеклин.
– Так это правда? – Врач неожиданно повернулся и взял его за выпирающий кадык. – Вы ведь американец? Да? И база находится под эгидой правительства Соединенных Штатов? Да? Значит, испытание оружия в полевых условиях? Да? А мы для вас – подопытные кролики?!.
Он кричал и плакал одновременно.
– Пустите меня, – двигая плоскими костями лица, косясь на обожженные, перебинтованные, розово-лишайные, стриженые, бугорчатые головы, вдруг повернувшиеся к ним, прошипел Бьеклин. – Вы же знаете, что я не решаю такие вопросы…
– Ну и сволочи! – сказал врач. Вошел в кабинет и вытер блестящие злые глаза. – По-настоящему, вас следовало бы отдать сейчас этим людям, которых вы погубили, – сказал он. – Бог мне простит… Отправляйтесь с первой же колонной, чтобы больше вас здесь не было… Не вы решаете, вы не решаете, потому что решаете не вы, ибо решение всех решений есть решение самого себя…
Он отодрал руки от лица и испуганно посмотрел на них, а потом медленно, перед зеркалом, оттянул себе нижние веки. Я вдруг заметил, что белки глаз у него мутно-зеленые.
– А вы знаете, господа, откуда произошло название – «Безумный Ганс»? Изобретатель этого милого продукта Ханс-Иогель Моргентау сошел с ума, случайно вдохнув его. Вот откуда название…
– Успокойтесь, доктор, – холодно сказал Бьеклин, – возьмите себя в руки, примите таблетку тиранина…
– Я почему-то думал, что у меня еще есть время, – вяло сказал врач. – Идите вы к черту со своим тиранином. Бог мне простит…
Он отдернул штору на окне, раскрыл широкие рамы, втянул ноздрями мокрый белый туман, пахнущий свежими огурцами, забрался на подоконник и, прежде чем я успел вымолвить хоть слово, тряпичной куклой перевалился вниз.
– Ну и ну, – сказал Бьеклин, осторожно нагибаясь. – А вон, слышите? – вертолет. Наверное, за нами.
Я не стал смотреть. Все-таки это был четырнадцатый этаж.
4. Здесь погиб Сапсан
Все было кончено.
Поезд шел среди полей, придавленных золотым августовским зноем. Было душно. Фиолетовые тучи выползали из-за Богатырки и сырой мешковиной затягивали безлесый покатый лоб Солдыря. Сумеречная тень бежала от них по бледной пшенице, догоняя вагоны. Денисов стоял на подножке и, ухватившись за поручень, глядел в синеватые отроги хребта. – Третий месяц без дождей, – сказал ему проводник. Денисов кивнул. – Хлеба опять выгорят, – сказал проводник. Денисов кивнул. – Сойдете в Болезино? – спросил его проводник.
– Нет, здесь. – Станция через две минуты, – сказал проводник. – Мне не нужна станция. – Это как? – А вот как! – Денисов легко спрыгнул с подножки в сухую шелестящую мимо траву. – Куда? – крикнул возмущенный проводник. Но Денисов уже поднялся и помахал вслед небрежной рукой.
Все было кончено.
Фамилия Сапсана была Ясенецкий. Он родился в Москве в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, учился в Медицинском институте на отделении хирургии, вступил в РСДРП, вел кружок, был членом боевой дружины, участвовал в боях на Пресне, после поражения перебрался в Петербург, в девятьсот тринадцатом году был арестован охранкой, при аресте отстреливался, был тяжело ранен, вопреки слухам выжил, приговором военного суда сослан на десять лет в Зерентуй, оттуда бежал в Маньчжурию, изучал тибетскую медицину, через два года объявился в Швейцарии, практиковал как врач, участвовал в издании антивоенных листовок, в ноябре семнадцатого года через Стокгольм вернулся в Россию, работал в Наркомпроде у Шлихтера, по мобилизации ушел на Восточный фронт, был комиссаром полка, погиб в девятнадцатом году, в июне, в городе Глазове.
Из Глазова он прислал записку в самодельном пакете – несколько строк, на куске обоев, торопливым почерком: «Дела наши идут неважно, но настроение бодрое… Колчак выдохся – я так вижу… Скоро он покатится с Урала… Обязательно найди Гертвига, помоги ему, надо довести до конца… После окончательной победы приеду в Питер… Передай привет Верочке… Она меня помнит?.. Сапсан».
Все было кончено.
Фиолетовая тень догнала его и побежала вперед, гася собою желто-зеленое разноцветье. Потрескивая, ломались кострецы под ногами. Хрустел дерн – как стекло. Отчаянно звенел полоумный кузнечик, единственный на все поле, – Великая Сушь выжгла оба берега, и со дна Чепцы перед Солдырем проступили длинные песчаные острова. Денисов шагал к обглоданным ракитным кустам, за которыми тянулись бараки.
Все было кончено.
Позавчера Губанов сказал:
– Мы не можем допустить, чтобы в нашем университете проповедовались идеалистические взгляды.
– Мир устроен так – как он устроен. И никак иначе, – ответил Денисов.
Губанов кивнул.
– Поступило заявление от группы студентов: вы излагаете теорию Сыромятина не так, как это делается в утвержденном курсе лекций.
– Сыромятин ошибается.
– У вас есть факты?
– Чтобы опровергнуть Сыромятина, не требуется фактов, достаточно элементарной логики.
– Ученый опирается прежде всего на факты, – равнодушно перекладывая папки, сказал Губанов. – Ваш «прокол сути» – мистицизм чистейшей воды. Подумайте, Александр Иванович. Мы твердо стоим на материалистических позициях и – никому не позволим.
Все было кончено.
Письмо Сапсана он получил чуть не полгода спустя: после госпиталя, дрожа от озноба и слабости, сидел на ящике у окна, забитого фанерой, и держал в несгибающихся пальцах мятый клочок бумаги. Особенно поразила его фраза: «Я так вижу». Значит, у Сапсана получалось. Выходит, занимался не только тибетской медициной. Вьюга свистала на улицах Петрограда по горбатым мертвым фонарям. Сапсана к тому времени уже не было – контрудар Сибирской армии белых, второго июня захвачен Глазов, комиссар полка погибает на окраине города. Потом, уже значительно позже, когда Денисов собирал сведения по крупицам, выяснилось – да, занимался не только тибетской медициной. Ординарец полка рассказывал: – Был случай, когда увидел нового бойца и прямо заявил, что тот подослан белыми. Так и оказалось. Два или три раза очень точно предчувствовал, где ударит противник, хотели даже забрать в штаб армии.
Были еще штрихи. Значит, не просто диагноз и лечение. Денисов об этом догадывался. Тогда же, в девятнадцатом, кинулся искать Гертвига. Дом стоял заколоченный, трещал мерзлый паркет, с могильным шорохом текла белая крупа за стеклами. Крысы проели допотопное кресло. Здесь танцевала безумная старуха. Какой он тогда был дурак – полез, словно вор, ночью, надеялся найти. А господина Палладина Хрисанфа Илларионовича расстреляли за контрреволюцию. Тетради, конечно, исчезли, пахло нежилым. Так и сгинул доктор Гертвиг – где, когда? – спросить не у кого…
Все было кончено.
Темный фиолетовый напряженно пульсирующий свет лился через занавески, где на подоконнике рдела огненная герань. Белели синеватые подушки, и отчетливо тикали кошачьи зрачки в ходиках, опуская гири.
Гроза все-таки настигла его.
Все было кончено.
Вера, изумляясь, теребила пуговицу у горла:
– Какие документы?.. Какие дневники?.. Ты не представляешь, что здесь творилось – паника, разгром… Меня спрятали местные жители… Ничего не знаю… Неужели ты приехал только ради этого?.. – Она отступила вглубь комнаты. – Прошло одиннадцать лет…
– Ладно, – сказал Денисов. – Я тебя увезу, мы больше не расстанемся. Мне обещали место у Глебовицкого в Ленинграде. Сам Глебовицкий обещал. Я все-таки неплохо разбираюсь в эволюционной систематике.
Тогда она остановилась:
– Бедный путешественник… Так и будешь метаться из института в институт, нигде не задерживаясь подолгу?
– Отряхни прах городов, – процитировал он, – отряхни прах незнакомой речи, прах дружбы и вражды, прах горя, любви и смерти. О, свободный человек, избравший свободу! У тебя есть только ветер в пустыне!
– Галеви?
– Ибн Сауд. «Скрижали демонов».
Вера вздохнула.
– Хорошо, – нетерпеливо сказал он. – Я тоже останусь. Наверное, тут нужны учителя, я могу вести математику, физику или биологию в старших классах.
Она засмеялась:
– У нас нет биологии, и у нас тем более нет старших классов…
– Хорошо, я буду вести чистописание. – Денисов взял ее за кружевной твердый учительский воротничок, облегающий слабую шею, и притянул к себе. Все было кончено. Лиловая опушь мерцала на предметах – электричеством грозы. В «Скрижалях демонов» сказано: «Каждый имеет свой час, но час этот никому не ведом, ибо длится он только мгновение и проходит, едва начавшись…»
– Мне нужно видеть это место, – уже совсем другим голосом произнес он.
– Боже мой…
Вера тут же встала.
Они вышли на улицу. Фиолетовый сумрак сгустился между заборами, из-под которых торчала жилистая крапива. Пустые проволочные ветви яблонь, как живые, скребли по доскам, а дальше за ними вздымались бревенчатые пугала домов.
Стояла чудовищная тишина.
– У вас здесь все вымерли, что ли? – напряженно спросил Денисов.
Вера ощутимо вздрогнула:
– Не понимаю…
На перекрестке из тени засохшей ивы навстречу им выбежал запыхавшийся человек с кобурой на кожаной куртке, в широком галифе и в совершенно стоптанных рваных сапогах – преграждая путь, махнул рукой:
– Документы!..
Денисов, удивляясь, достал паспорт, но человек упорно смотрел куда-то за спину.
– Документы, граждане!..
Беззвучная синерукая молния располосовала небо, на долгую секунду выхватив – седые разнобокие крыши, черную корчу сплетенных ив, собаку, чешущую в пыли больное розовое брюхо.
– А где он? – растерянно спросил Денисов.
Человек исчез.
– Не знаю, – сказала Вера и передернула плечами. – Мне это не нравится.
Рухнул запоздалый гром и, словно по сигналу его, неизвестно откуда, двинулся неторопливый густой мощный ветер, выше заборов накручивая пылевые столбы. Денисов щурился. В деревянных переулках перебегали какие-то тени. Колотил сторож далекой палкой. Пыль скрипела на зубах. Все было кончено. Лука Давид писал: «Суть вещей постигает лишь тот, чья душа стремится к чистому знанию». В двадцать восьмом, изучая тупики гносеологии, роясь в архивах Государственной библиотеки, стирая плесень с фолиантов из бычьей кожи, он прочел эти слова. Три года назад. Был июль, поздний субботний вечер, окно библиотеки было открыто, шелестела темная листва в Екатерининском саду, и праздничные толпы народа стекались к подсвеченным прожекторами колоннам Большого театра. Он сидел, будто оглушенный. В абсолютной чистоте знания было нечто незыблемое. Нечто от первооснов мира. От галактических сфер. Ведь законы природы не зависят от наблюдателя. Это был путь – «прокол сути», как говорил Сапсан. Но путь этот никуда не вел. Или уже не хватало сил и терпения.
Все было кончено.
От горизонта до горизонта полыхнуло бледным огнем, и рухнуло прямо над головой, сотрясая небосвод. Улица странно накренилась. Желтые мгновенные червяки, извиваясь, брызнули с одежды, а у Веры в поднявшихся волосах послышался резкий сухой треск.
Она пошатнулась:
– Давай вернемся!
– Ни за что! – весело сказал Денисов.
– Ты с ума сошел…
– Мне это и требуется…
– Нас убьет молнией…
Тогда он прижал ее к себе и, несмотря на сопротивление, поцеловал в твердые губы:
– Я люблю тебя!
И Вера подняла тонкую руку:
– Здесь…
Он заметил наверху мост с обрушившимися перилами, под коротким пролетом которого медленно и лениво, обнажая скользкую тину на камнях, струилась черно-зеленая Поганка. Это была именно Поганка, он узнал. Полчища сонных широких лопухов стекались к ней. На другой стороне, как ведьмины метелки, торчали голые ветви, и в мертвенной неподвижности их было что-то пугающее. Он уже видел все это. Хотя – нет! Конечно! Это была ложная память, мираж, фактор, сопутствующий «проколу сути». Огромный валун серым затылком высовывался из воды. Хватит выдумывать, сказал он себе. Нет никакого «прокола сути». Нет никакого «внутреннего зрения». Ничего нет. Обман. Одиннадцать лет потеряны впустую. Надо стряхнуть с себя остатки дремучих грез и начинать жить снова. Пора. Мне тридцать три года.
Все было кончено.
Вера сильно тянула его:
– Пойдем…
– Ты прости, я приехал – иди, иди, дождь, страшно, я потом – завтра или не приеду… – быстро, неразборчиво пробормотал он. Оторвал ее пальцы и по глиняной насыпи вскарабкался на мост. Останки перил шелушились краской. Дерево было горячее. Грохотало уже непрерывно. Вся мощь небесных сил низвергалась на землю. Лопухи при вспышках казались черными. Вера стояла внизу и махала руками. Это было здесь – второго июня. Много лет назад. Денисов не знал, чего он ждет сегодня. Наверное, чуда. Чуда не происходило. Видимо, следовало приехать сюда именно второго июня. Или совмещение календарных времен не так уж важно? Молния разорвалась, кажется, прямо в лицо. Он на секунду ослеп. А когда схлынули красные и сиреневые пятна, плавающие в глазах, то в полумраке, оцепенело окутавшем мир, он увидел, что по мосту, пригибаясь, бежит человек с винтовкой и кричит что-то, разевая безумный жилистый рот. На человеке была старая залатанная гимнастерка и башмаки, перевязанные обмотками. Он вдруг споткнулся, упал и больше не двигался. Два темных пятна расплылись на его спине. Видно было удивительно ясно, как под рентгеном. И еще несколько человек побежали по мосту, оборачиваясь и вскидывая винтовки. Денисов вдруг услышал выстрелы – хлесткие, пустые. Это вовсе не сторож колотил в колотушку. А от здания гимназии, от железных ворот с вензелем, четко, будто внутри головы, затыртыкал пулемет. Денисов даже нагнулся, пугаясь. Кто-то из бежавших толкнул его, кто-то вскрикнул. Упала к ногам простреленная фуражка. Сапсан, как и все – в гимнастерке и обмотках, – появился на середине моста, размахивая маузером. – Ложи-ись!.. Ложи-ись!.. – Часть бойцов залегла, и дула ощетинились из лопухов, но большинство побежало дальше с матовыми размазанными от беспамятства лицами. Их было не остановить. Денисов почему-то оказался внизу, он не помнил, где его столкнули, и в бледном пузыре света видел, как, изогнувшись, занеся маузер, оседает Сапсан – метрах в пяти от него, на мосту. Все происходило очень замедленно, точно со стороны. Ухнула пушка вдоль Сибирского тракта, и на другом берегу Поганки вспучился земляной разрыв. Тогда даже те, кто залег в лопухах, побежали дальше. И Сапсан остался лежать. Денисов опять вскарабкался наверх. Черная пыль выедала глаза. Лицо Сапсана было в крови – осунувшееся, жесткое, быстро отвердевающее лицо с разводами потной грязи. Зрачки его закатывались голубоватыми белками. Шевельнулись разбитые губы. – По-бе-да… – прошептал Сапсан. Денисов, как мог бережно, поддерживал его тяжелую голову. Из пустоты появилась Вера и, взяв за плечо, умоляюще сказала:
– Пойдем отсюда…
Танцевали вертикальные молнии, и гром перекатывал чугунные болванки за облаками.
На мосту уже никого не было.
– У меня галлюцинации, – слабо ответил он, дикими расширенными глазами поводя окрест.
– Пойдем, я тебя уложу, ты совсем больной…
Все было кончено.
Вера подхватила его и повела. Денисов шел, покорно переставляя ослабевшие ноги. Грохот уносило куда-то в сторону, молочные вспышки бледнели, гроза отступала, на раскаленную потрескавшуюся землю не упало ни одной капли дождя.
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ
Новое кровавое преступление совершено протестантскими экстремистами в Северной Ирландии. Неизвестные лица ворвались вчера в небольшой домик в местечке Баллинаич (графство Даун) и в упор расстреляли 31-летнего Терри Маллэна и его 76-летнюю мать Катрин. Представитель королевской ольстерской полиции, ведущий расследование, заявил, что преступников обнаружить не удалось.
Сильный пожар вспыхнул на складе швейцарского химического концерна «Сандос» в Базеле. Он вызвал значительные разрушения и сопровождался серией взрывов и выбросом в атмосферу мощных облаков ядовитых веществ.
Слезоточивый газ и резиновые пули были пущены в ход израильскими оккупантами, чтобы разогнать демонстрацию палестинских студентов на оккупированных арабских территориях. Волнения начались в связи с 40-й годовщиной резни в деревне Кфар-Касем, сорок девять жителей которой были убиты израильскими солдатами в первый день тройственной агрессии.
Имена двенадцати прогрессивных чилийских журналистов фигурируют в списке «приговоренных к смерти», который распространен в Сантьяго в виде коммюнике ультраправой террористической группировкой «7 сентября».
Вооруженное нападение на детский приют в провинции Маника (Мозамбик) совершила банда из так называемого «мозамбикского национального сопротивления». В административном пункте Кафумпе террористы похитили 18 детей дошкольного возраста…
5. Месса в «Храме Сатаны»
– Сейчас пустят свиней, – сказал Бьеклин.
– Откуда вы знаете?
– В программе указано Харконово стадо.
– Причащение?
– Да. Будет большая суматоха, смотрите, чтобы вас не покалечили.
– Постараюсь, – ответил я.
Шестипалая когтистая лапа горела над лесом, и неоновые капли крови стекали по ней. – А-а-а!.. У-у-у!.. – голосила толпа. Бледно-зеленые тени метались вокруг дубов, и лица у всех были как у вставших из гроба.
– Упыри, – сказал Бьеклин.
Валахов мрачно подмигнул мне. Суматоха была бы очень кстати. Мне надо было во что бы то ни стало избавиться от наблюдения. Бьеклин уже третий час ходил за мной как привязанный, фиксируя каждый шаг. Я был уверен, что он записывает меня на видео. Я не возражал, это была его работа – Валахов занимался тем же, и в договоре о совместных операциях был обусловлен самый жесткий взаимный контроль. Так что я не мог жаловаться. Я лишь хотел бы знать, где проходят границы полномочий Бьеклина. Каковы секретные инструкции? Например, может ли он меня убить? А если может, то при каких обстоятельствах? Я не сомневался, что такие инструкции существуют. Это было не праздное любопытство: месса продолжалась третьи сутки, позавчера ночью погиб Ивин. Он действовал в одиночку и, согласно заданию, не был обязан поддерживать регулярную связь с группой, – тревога поднялась только утром, когда он не отметился в представительстве. Его нашли на берегу Озера Ведьм (Остербрюгге), безнадежно мертвого, с двумя пулями, выпущенными в спину. Мне следовало соблюдать максимальную осторожность. Я висел на ниточке. Тем не менее от Бьеклина требовалось избавиться – карман мне жгла записка, прочтенная полчаса назад при свете факелов погребальной процессии (несли Харкона, покровителя свиней), всего четыре слова на крохотном клочке бумаги: «Остербрюгге, полночь. Ищу брата». Я не заметил, кто сунул ее. Во время похорон, когда завывали гнусавые рога архаров, когда пищали мокрые бычьи пузыри, когда отверзлась электрическая преисподняя и запахло серой, сжигаемой на железных противнях, а внуки Сатаны – голые волосатые атлеты – с криками: «Ад!.. Ад идет по земле!..» – целыми пригоршнями начали разбрызгивать вокруг себя консервированную обезьянью кровь (фирмы «Медикэл пьюэ донорз»), я вдруг ощутил быстрое слабое прикосновение к ладони, и пальцы мои непроизвольно сжались. Но когда я обернулся, то на меня вновь уставились радостно-бессмысленные хари: демон-искуситель, и демон-вампир с трубчатым ртом, и демон-младенец, и Дракула, и Гонзага, и Кинг-Конг, и пара горбатых домовых, обросших паутиной, и семейка вурдалаков – родители с детишками, и веселая компания оживших мертвецов, которые, двигая челюстями, жаждали сладкой человечины. Я не мог определить, кто из них секунду назад был возле меня. Синие хитоны демиургов перемешивали этот оживший гиньоль. Демиургов было слишком много. Я надеялся, что Бьеклин также не заметил – кто? Во всяком случае, на лице его не дрогнул ни один мускул, и он брюзгливо сказал:
– Начинается…
В то же мгновение истошный поросячий визг прорезал холмы Шварцвальда. Толпа завыла. Сквозь просветы тел я увидел, как на поляну хлынуло что-то черное, уродливое, колотящееся. Свиньи были опоены водкой, а шкуры их безжалостно подпалены. Истерзанные болью и страхом, они, как безумные, сшибались неповоротливыми жирными тушами. Впрочем, люди были не лучше. Десятки торопливых рук потянулись вниз. – Я буду сатаной!.. – отчаянно завопил кто-то. Свиней хватали и раздирали на части – живых, трепещущих. Когтистая лапа на небе сжималась и разжималась, оглушительно выстреливая пучками фосфорических искр. Картина была нереальная. Я увидел женщину, счастливо размахивающую оторванным колечком хвоста, и толстого добродушного человека, по внешности – бухгалтера, который, зверски исказив лицо, пожирал рваный ломоть сырого темного мяса. Считалось, что в черных свиней после осквернения мессы вселяются черти, а причастившийся мясом черта приобретает сверхъестественные качества. Меня подташнивало. Человек в наше время все чаще хочет быть не человеком, а кем-то иным. Словно можно уйти от самого себя. Морок и тщета инстинктов. Я этого не понимал. Жуткое людское варево неумолимо вращалось, выталкивая меня на периферию. Лупили в грудь и в спину. Патлатая ведьма вдруг ринулась ко мне с явным намерением укусить за нос, а малосимпатичный вурдалак припал к моей шее, чмокая и пытаясь найти сонную артерию. Я ожесточенно работал локтями. Я намеренно не искал Бьеклина, но боковым зрением видел, как его постепенно отмывает в сторону, – несмотря на все усилия, а Валахов, будто бы пытаясь помочь, на самом деле оттесняет его еще дальше. Рослые оборотни заслонили их. Все было в порядке. Меня выбросило в кусты. Я быстро перебежал метров пятьдесят и замер.
Лес в гладком зеленом свете стоял – чистый, выцветший и неподвижный, как на старинном гобелене. Широко раскинулись дубовые ветви. Я хорошо представлял себе холмистую равнину Шварцвальда. Точно на карте. До Остербрюгге отсюда было километра два – вдоль ручья, мимо Старой Мельницы. По программе там происходили Пляски Дев. За ближайшим дубом я достал из сумки невесомый пластиковый комбинезон и переоделся. Конечно, я сегодня проверял свой костюм, и Валахов проверял его тоже, но за последние три часа, которые мы провели рядом, Бьеклин вполне мог всадить мне микрофон размером с маковое зерно или какой-нибудь портативный передатчик, по сигналам которого меня запросто определили бы на расстоянии. Я не хотел рисковать. Ивина убили именно в Остербрюгге. Наверное, тоже вызывали запиской. Это вторичное приглашение туда здорово походило на ловушку. Западня для дураков. Но ведь не бывает таких глупых ловушек? В любом случае, следовало идти. Я не имел права упускать даже слабый шанс. Я сориентировался по «Храму Сатаны», где на рогатой башне дрожали синие шлейфы костров, и зашагал вперед. Я хотел прийти немного пораньше, чтобы осмотреться на местности. Всегда полезно осмотреться и наметить возможные пути отхода. Неизвестно, что меня ждет. В игру включены очень крупные силы. Я вспомнил аршинные заголовки сегодняшних газет. Нострадамус требовал срочно задержать экспресс Вапуту – Габа, так как железнодорожный мост через каньоны Бье заминирован сепаратистами. Нострадамус предупреждал, что «Боинг-707», следующий рейсом на Токио, который через три часа должен был взлететь с аэродрома Саммерлайф, имеет серьезную неисправность в моторе. Нострадамус давал знать, что крупная банда диверсантов пересекла границу Никарагуа и направляется к Эстели. На этот раз он обратился в представительства крупнейших информационных агентств – видимо, учитывая историю с «Безумным Гансом», когда не было принято никаких мер. Мне это не нравилось: целых три передачи прошли менее чем за сутки. Ранее Нострадамус не проявлял подобной активности. Вероятно, что-то случилось. Что-то из ряда вон выходящее. Во всяком случае, теперь сведения о Нострадамусе открыто попали в прессу, и газеты просто захлебывались от восторга. Я представлял, под каким колоссальным давлением окажемся мы все в ближайшие же дни: «Иджемин бэг» недвусмысленно обвиняла СССР в создании нового информационного оружия. В короткой справке, которую я получил вчера по своим каналам, указывалось, что все три звонка были сделаны на терминалах Европейской телефонной сети, причем задействованы были прежде всего западные линии Советского Союза. Сейчас координаты абонента устанавливаются. Судя по всему, Нострадамус включился непосредственно в главный Европейский коммутатор. Как это ему удалось осуществить, пока неясно.
Черный ручей пересек мне дорогу. Я свернул и пошел по его топким хлюпающим берегам. Вода блестела, как ведьмино зеркало, – ничего не отражая. Беззвучная летучая мышь шарахнулась у меня над головой и пропала за деревьями. Главный Европейский коммутатор транспонирует сигналы телефонных сетей в Западной и Восточной Европе, а также в значительной части Азии. Чтобы включиться в него, необходимо иметь десять восьмизначных совершенно секретных телефонных кодов – в восходящей иерархии. Я сомневался, что во всем мире найдется хотя бы пять человек, которым они доступны в полном объеме. Впрочем, это еще предстояло проверить. Хотя проверка была бы чисто формальной. Я был убежден, что эти пять человек абсолютно ни при чем. Я просто кожей чувствовал, что традиционные версии здесь бессильны. Требовался рывок сознания. Мы столкнулись с неким явлением, выходящим за рамки обыденных фактов. А именно: мы столкнулись с врожденной или приобретенной способностью вычерпывать громадное количество информации, когда угодно и откуда угодно без всяких запретов и ограничений. Насколько я понимаю, речь шла о профессиональном ясновидении. (Если, конечно, исключить возможности использования мощнейших компьютерных систем, доступ к которым в последние недели строжайше контролировался.) Почему, собственно, нет? У нас были определенные данные по ясновидению. Например, доктор Гертвиг (парадиагностика). Например, «Храм Сатаны» с его приступами группового безумия. Например, «Звездная группа», в которой работает Сиверс. Профессиональное ясновидение – это штука серьезная. Пожалуй, самая серьезная из всего, с чем до сих пор сталкивалось человечество. Нострадамус пробивает любые расстояния, для него практически нет тайн и секретов, нам неизвестны его цели – весь мир может оказаться под рентгеном холодных и внимательных глаз.
Это действительно оружие.
Катаклизм предстоит глобальный.
Легкий стон раздался за ореховыми кустами. Я сразу же присел и включил фонарик. Видимо, напрасно. На свет очень удобно стрелять, если меня ждали. Но меня не ждали – беловатый конус выхватил из темноты – косматый затылок, рубище, босые исцарапанные ступни в ручье.
– Воды…
Я набрал пригоршню и плеснул ему в лицо.
Человек затрепетал мятыми веками, под которыми искривилась полая и неподвижная влага.
– Изыди, сатана, – пробормотал он, – душа твоя – смрад, плоть твоя – гноище, помыслы твои – черви в горячей земле… Приидет Сын Божий, и распадется царствие твое, како роса при лучах солнца…
Он весь дрожал. Это была религиозная горячка. «Синдром Спасителя».
– Имя твое из шести имен: Азраил – Астарет – Вельзевул – Люцифер – Саваоф – Ганиал – твое имя…
Я оставил его. Ему ничего не грозило. Разве что простудится на земле. Но это уже не моя забота. До полночи было еще пятнадцать минут. Лес расступился, отбросив назад гнетущие бородавчатые стволы, и открыл равнину, где над расширившимся серебром ручья махала скрипучими крыльями черная ветряная мельница, а у костров возле нее под костяной пересып барабанов плясали обнаженные женские фигуры. Девы уже начали свой очищающий ритуал. Было их человек пятьдесят. На ровной площадке перед плотиной в красноватом жаре углей они выделялись очень рельефно. Я знал, что смотреть на Пляски категорически запрещено. Нарушение запрета карается смертью. Девы крадут мужчин и прячут их под землей в карстовых пещерах. Оттуда уже не вырваться. Я пошел вдоль опушки и довольно быстро обнаружил первый сторожевой пост – обнаженная девушка лет восемнадцати дремала на корточках, прислонившись к стволу, и на коленях ее лежал скорострельный автоматический карабин. Я тихонько растворился во мраке. Будем надеяться, что этот пост единственный со стороны леса. Я миновал его, пересек небольшую бобровую запруду, усеянную хатками, и в этот момент меня негромко окликнули:
– Кто там?
– Ищу брата, – сказал я.
– Я ваш брат.
Он стоял в черноте орешника, и сине-зеленые пятна теней скрадывали его очертания. Даже рост было не определить.
– Не зажигайте света, – сказал он. – Незачем. Вы готовы записывать?
– Да, – сказал я.
– Приступим. – Невидимый мне собеседник сразу же начал диктовать, быстро и внятно выговаривая каждую букву. – Создана группа, условное название «Ахурамазда», приблизительный состав – около шестидесяти человек. Основное ядро – демиурги из Ложи Мастеров. Руководитель группы – Трисмегист, псевдоним, настоящее имя неизвестно, демиург. Научный руководитель группы – Шинна, псевдоним, настоящее имя неизвестно, демиург. Технический руководитель группы – Петрус, псевдоним, настоящее имя неизвестно, демиург. Отбор кандидатов в группу – совместная операция разведки и демиургов. Финансирование группы – через секретные фонды разведки. Постоянная база группы – Оддингтон, Скайла. Задача группы – семантическая акупунктура. Расшифровка термина неизвестна. В работе используются сильные возбуждающие и наркотические вещества. Через военное ведомство заказано некоторое количество отравляющего газа ХСГ-18…
– «Безумный Ганс»? – спросил я.
– Не перебивайте, – властно сказал собеседник. – У вас диктофон не в порядке? За последние трое суток семь человек из группы погибли при неизвестных обстоятельствах. По официальной версии – нуждаются в отдыхе и отправлены в горы. На самом деле после вскрытия тайно, под чужими именами, похоронены на кладбище в Скайла. Еще четверо увезены в специальную клинику. Диагноз – шизофрения. Конкретное содержание работы строго засекречено. По некоторым данным, Трисмегист усиленно занимается вопросом о действиях русских партизан под Минском в интервале: август – октябрь тысяча девятьсот сорок второго года, заказаны все мемуары по этому поводу, заказаны карты местности, заказаны документы из немецких архивов. Обращаю особое внимание на то, что два дня назад создана так называемая «Шахматная секция». Помимо демиургов туда включены три настоящих шахматиста в категории мастера спорта. Фамилии установить не удалось. Один из шахматистов – участник международного турнира в Аделаиде (Австралия) в мае прошлого года…
Что-то треснуло над «Храмом Сатаны», и оттуда к черному небу, раздвигая сырую темень, взлетели огненные красные шары, заливая лес фотографическим светом.
Началась месса.
– Отступите в тень, – приказал мне собеседник. – Вы слишком на виду.
Он был в синем хитоне с нашивками низших степеней, а лицо – хищное, крючковатое, птичье.
– Так вы демиург? – спросил я.
– Не перебивайте. Трисмегист усиленно собирает мозаику. Цитирую: «Нострадамуса можно установить путем прямого экстрасенсорного контакта по биографическим признакам». Принцип «слепого адресата». Расшифровка принципа неизвестна. – Демиург перевел дыхание. – Еще раз подчеркиваю: сорок второй год, леса под Минском. Все. Теперь вопросы.
– Один вопрос, – сказал я. – Почему вы решили передать эти сведения?
– Вы не поймете.
– А все же?
Демиург сморщил резко заостренный нос:
– Меньше боли, меньше невыносимого суицида, меньше смертельной правды – некоторое оздоровляющее начало, это как лекарство. Истина убивает… – Он раздраженно отмахнулся рукой. – Хватит. Следующая встреча – на Святую Вальпургию. Раньше мне не вырваться. Я ухожу первый, не пытайтесь выяснить мое имя – вы все погубите…
Опять вспыхнуло, и шары затрещали. Когтистая лапа сатаны давила их в небе. Я увидел, что демиург повернулся, но почему-то не уходит, – он стоял странно покачиваясь, будто пьяный, а потом упал лицом вперед, и хитон его задрался, обнажив мускулистые ноги в плетеных римских сандалиях, какие обязан носить каждый посвященный. Я нагнулся над ним и попытался поднять. Зрачки его закатились. Он был мертв.
От леса, от сплетенных пурпурных теней, отделился Бьеклин с пистолетом в руке и тоже посмотрел, – собирая в мелкие складки кожу вокруг глазниц.
– А ведь я даже не успел выстрелить, – растерянно сказал он.
6. В лесах под Минском
Гауптштурмфюрер похлопывал стеком по черному сияющему голенищу.
– Хильпе! Вы уверены, что за ночь ни одна собака не выскочила из этой паршивой деревни?
– Так точно, господин гауптштурмфюрер! Я лично проверял караулы.
Староста, мнущий картуз поодаль, подтверждая, затряс клочковатой, сильно загорелой яйцеобразной головой:
– Нихт, нихт… Все по хатам…
– Что он бормочет?
– Он говорит, что все жители деревни на месте, господин гауптштурмфюрер!
– Смотрите, Хильпе, вы головой отвечаете за секретность операции.
– Так точно, господин гауптштурмфюрер!
Маленький полный Хильпе тянулся на носках, но едва доставал до подбородка офицеру СС.
– Вы двинетесь через час после нас. Направление – деревня Горелое. Там ссадите людей, скрытно выйдете к Мокрому Логу и займете позиции на краю леса, перекрыв выход из болот. У вас будет три пулемета. Кажется, вам что-то неясно, Хильпе?
– Болото непроходимо, господин гауптштурмфюрер. – Низенький Хильпе даже взмок от того, что приходилось возражать начальству. Но гауптштурмфюрер благосклонно кивнул:
– Правильно, Хильпе. Непроходимо. Именно поэтому Федор поведет свой отряд туда.
– Есть там тропки, герр комендант, – подобострастно сказал староста, напряженно прислушивающийся к гортанным звукам чужой речи. – На карте оно правда что не того, а тропки есть, – местные ходят… Проведем вас, можете не сомневаться…
– Ваша задача, Хильпе, сдерживать партизан до тех пор, пока не подойду я с двумя ротами. Мы прихлопнем Федора на окраине болот. – Гауптштурмфюрер поднял одутловатое с прозеленью бессонницы лицо к озаренным верхушкам берез и длинно вдохнул прохладу хрящеватым носом. – Какое утро, Хильпе! Да у вас тут просто санаторий… Перед выходом деревню сжечь!
– Слушаюсь, господин гауптштурмфюрер!
Утро в самом деле было чудесное, и когда машины, скрежеща на проваленной дороге, пятнистыми тушами зарылись в лес, то солнце уже вытекло из горизонта и теплое туманное золото его обволокло воздух. Вспыхнули сухие иглы на соснах. Загомонили птицы. Пестрая сорока, выдравшись из ветвей, уселась на самую макушку и заверещала, напрягая все свои мелкие силы. Связной отряда, примостившийся в развилке могучих лап, вздрогнул и чуть не выронил бинокль.
– Тьфу ты, зараза! – в сердцах сказал он.
Отсюда, со всхолмленной высоты, грузовики казались безобидными навозными жуками, которые едва-едва скребут лапами по желтой глине. Но за ними в хрупкую и прозрачную сентябрьскую голубизну поднимался черный столб дыма.
– Что делают!
Обдирая колени, связной скатился вниз и побежал по хвойному склону в распадок – там его ждала лошадь. Через полчаса – охлюпкой, подпрыгивая на острой спице, – он ворвался на поляну в красном сосновом бору и, бросив поводья, растягивая губы вдоль десен, соскочил у бревенчатой землянки:
– Пропусти к командиру!
– А зачем тебе командир?
– Говорю: пропусти – срочное донесение…
И когда вышел коренастый бородатый человек, одергивающий гимнастерку за широким ремнем, то связной фыркнул, как кот, – одной фразой:
– Идут, товарищ командир, четыре грузовика на Горелое, сам видел, деревню подожгли, сволочи…
Командир задумчиво, будто не видя его потное, взъерошенное, возбужденное лицо, кивнул: – Хорошо, отдыхай, – и вернулся в землянку, где мигала редкими хлопьями коптилка на стене, а посередине, отъединенный пустым пространством, горбился на шершавой табуретке человек в изжеванном городском костюме.
– Как выглядит этот офицер?
– Гауптштурмфюрер Лемберг? – высокого роста, бледный, худощавый, отечный, волосы белые, неприятно щурится все время, – сразу же, не задумываясь, ответил человек. – Хильпе, комендант, – низенький, толстый, суетливый, подстрижен бобриком…
– Ну, коменданта он мог видеть в Ромниках, – сказал привалившийся в углу комиссар. Поправил ватник на ознобленных плечах и отхлебнул ржавый брусничный чай из помятой кружки.
– А староста? – спросил командир.
Человек на табуретке опустил набрякшие веки. Он опять до осязания зримо увидел продолговатую тесную комнату, в неживом полумраке которой угадывались комод и громоздкий шкаф, а на вешалке подолами и рукавами теснилась одежда. Он никогда раньше не видел этой комнаты. Он мог бы поручиться. Шаркнула дверь – неуверенно, как больная, появилась женщина, закутанная до самых глаз в толстый платок, подошла к окну и не сразу, несколькими слабыми движениями отдернула плюшевые шторы. Проступил серый тревожный отсвет, крест-накрест перечеркнутый полосками бумаги. А за ними город – город и река в гранитных берегах, подернутая шлепаньем дождя.
– Что с вами, Денисов?
Он очнулся:
– Извините, я не спал трое суток… Староста – лет пятидесяти, среднего роста, почти лысый, на голове – клочья бумажные, очень темное лицо, щербатый, все время улыбается, облизывает губы…
– Дорофеев это, больше некому, – определил комиссар. – Увертливый, сволочь, никак до него не дотянуться.
– Ты вот скажи: проведет твой Дорофеев сотню человек через болота или не проведет? – спросил командир.
– Проведет.
Тогда командир выложил на стол пудовые кулаки с надутыми узлами вен.
– Немцы двумя ротами вышли из Новоселка и движутся сюда по лесной дороге, – сообщил он.
У Денисова ввалились небритые щеки.
– Ну что же сделать, чтобы вы поверили мне!..
– Вообще-то лучше, чем Бубыринские болота, места не придумаешь, – неторопливо сказал комиссар. – Колдобина на колдобине, сам черт увязнет. Но если проводником будет Яшка Дорофеев… Он тут лесничил и каждый омут не хуже меня знает…
Командир с досадой впечатал кулаками по оструганным доскам.
– Задача!.. Это же только сумасшедший пойдет через Марьину пустошь – голое место, бывшая гарь, укрыться негде, перестреляют, как рябчиков. У нас – лошади, обоз, трое раненых… – Он пересилил себя и крикнул громовым басом: – Сапук! Спишь, Сапук, чертова коза, цыган ленивый!
– Никак нет, товарищ командир!
– Посмотри внимательно, Сапук, очень внимательно посмотри: может быть, узнаешь старого знакомого?
Молодой рослый боец ощупал Денисова быстрым и неприязненным подергиванием бровей.
– Никак нет, товарищ командир, не из этих. Роменковских полицаев я хорошо знаю. И прихлебателей тоже. Нет, не попадался.
– Ладно, Сапук, бери его в хозяйственное, покорми немного, – глаз с него не спускать! – Командир поднялся и решительно оправил гимнастерку. – Боевая тревога! Дежурное отделение ко мне!..
Через час тяжело груженный обоз, визжа несмазанными колесами и застревая на вывороченных корнях, тронулся из соснового сквозняка вдоль распадка по направлению к болотам. Денисов шагал за телегой, груженной мешками с мукой. Его мотало при каждом шаге. – Иди-иди, цыца немецкая! – однообразно покрикивал Сапук, и скучная злоба звучала в его голосе. Разжиженный утренний туман стоял между красноватых стволов, трещали шишки, и от густого чистого запаха смолы слипались угнетенные мысли. Далеко позади бухали редкие винтовочные выстрелы, накрываемые автоматной трескотней, – дежурное отделение, не вступая в открытый бой, тормозило продвижение немцев. Солнце уже начинало припекать. День обещал быть жарким. «Я не дойду, – подумал Денисов. – А если дойду, то Хильпе с пулеметами ждет нас на той стороне болота. Отвратительный низенький и толстый Хильпе, намокший от пота, – исполнительный служака». Он знал, что сейчас Хильпе трясется в кабине переднего грузовика. Это был третий «прокол сути». В тридцать шестом году, читая о боях на подступах к Овьедо, он вдруг увидел красную колючую землю, черные камни и плоские синие безжизненные верхушки гор. Над всей Испанией безоблачное небо. «Прокол» не содержал позитивной информации. Просто картинка. Воспроизвести ее не удалось. А критерий существования любого материального явления есть воспроизводимость. Кажется, еще Лэнгмюр писал об этом. «Наука о явлениях, которых нет». Подтверждение он получил три года спустя, когда беседовал с летчиком, побывавшим у Овьедо, тот подробно описал местность – узнавалось до мельчайших деталей. Интересно, что все три «прокола» были с интервалами в шесть лет: тридцатый, тридцать шестой и сорок второй годы. Откуда такая периодичность? Или случайное совпадение? Она явно не связана с масштабом событий – начало войны, например, он просто не почувствовал. Может быть, периодичность имеет внеземной источник? Но это предположение заведет слишком далеко. Во всяком случае ясно, что для «прокола сути» необходима предельная концентрация сознания. Как тогда – на мосту. Это можно достичь путем тренировки. Скажем – обычная медитация. Скажем – самогипноз. «Иисусова молитва», «экзерциции», «логос-медитация», «путь суфиев» – и так далее. Впрочем, теперь это не нужно.
Широкая пятерня взяла его за плечо, и Сапук все с той же скучной злобой в голосе сказал:
– Иди-иди, оглох? – комиссар зовет.
Комиссар лежал на белых мешках, укрытый ватниками, и при свете дня было видно, какое у него заострившееся лихорадочное лицо.
– Простудился некстати, – сказал он, выдыхая горячие хрипы. – Совсем плохо, не время бы болеть… Сапук, оставь нас…
– Командир приказал охранять.
– Ты и охраняй – отойди на пять метров. – А когда Сапук, передав вожжи, отошел: – Что скажете, Александр Иванович?
– Сейчас Хильпе подъезжает к Горелому, – вяло ответил Денисов. – Там он высадит гарнизон, проведет его к Мокрому Логу и положит на Бубыринской гриве, развернув пулеметы в сторону болот.
– Помогите мне сесть…
Денисов передвинул тяжелые мешки, и комиссар взгромоздился, откинувшись, глядя в золотое небо.
– Вот что, Денисов, – спустя долгую, наполненную шуршанием ломких игл секунду, сказал он. – Неделю назад в Ромниках провалилась группа Ракиты – четыре человека, это подполье…
– Никогда в жизни не был в Ромниках, – ответил Денисов.
– Их арестовали одновременно, в ночь на восемнадцатое. Может быть, предатель?.. Группа занималась железной дорогой, и теперь мы как слепые…
Денисов тряхнул вожжами.
– Вы же не верите мне, – устало сказал он.
Комиссар, будто не слыша, смотрел вверх на румяные от солнца лохмотья сосен.
– Их содержат в гарнизонной тюрьме совершенно изолированно. Внутренняя охрана состоит исключительно из немцев, наши люди не имеют доступа. А допрашивает Погель – усатая крыса… Вы, конечно, правы, Александр Иванович, я не могу приказывать вам. Позавчера в город пошел связной и не вернулся.
– Ракита – ваша дочь?
– Да. Ракита – кличка.
– Но я же не могу включаться в любую минуту, – чувствуя подступающую ярость, сказал Денисов. – Вы думаете, это так просто: закрыл глаза и посмотрел?
– Хорошо, – сказал комиссар и подтянул сползающий ватник. – Хорошо. Не волнуйтесь. Мы отправим вас на Большую землю, там разберутся.
Ему было очень плохо. На разные голоса скрипели тележные оси. Осенняя муха, жужжа, выписывала сложные круги перед глазами.
– Сколько человек в группе? – отрывисто бледнея, спросил Денисов. – Их имена, фамилии, как выглядят, где живут. Вкусы, привычки, наклонности…
– Даже если бы я верил вам, то все равно не имел бы права рассказать, – ответил комиссар.
– Так что же вы от меня хотите?!
Тут же подскочил Сапук и начал тыкать прикладом в грудь.
– А ну прекрати!
– Уберите его отсюда!
– Сапук, отойди!
– Он – вон что вытворяет…
– Отойди, Сапук… – Комиссар некоторое время молчал, а потом сказал неуверенно: – Что, если подойти со стороны немцев? Насколько я понимаю, надо просто извлечь определенные сведения? Правильно? Вам же не важен, так сказать, конкретный носитель этих сведений? Немцы наверняка знают. Гауптштурмфюрер Лемберг, например.
Денисов закрыл глаза. Голова сразу же поплыла. Он действительно не спал трое суток. Его охватывало бессилие. Они думают, что он все может, а он ничего не может. Ведь молния не ударит еще один раз. Он сглотнул царапающую сухость во рту. Почти тотчас же возникла та самая незнакомая продолговатая комната – комод и шкаф, женщина отдергивала шторы, проступил неясный сумрак, шлепал дождь за окном, она была в толстом платке, так что лица не различить, – осторожно присела у самодельной железной печки, труба которой упиралась в форточку. Застыла. Денисов пытался избавиться от этого видения. Он его не понимал. Оно ужасно мешало. Женщина перебирала какие-то изгрызенные щепки на полу. Это была Вера. Гауптштурмфюрер Лемберг вошел в комнату. Мундир чернел под опухолью лица. Денисов старался приблизиться к нему, но это не удавалось. Прозрачные губы шевельнулись. Гауптштурмфюрер говорил что-то неуловимое. Денисов изо всех сил разгребал слои времени и пространства, разделяющие их. Он задыхался. Давили минувшие сутки. Он протискивался сквозь них, как жук в земле. Ощущение было такое, что раздираешь на себе живую кожу. – Нет-нет, – сказал Гауптштурмфюрер. – Не преуменьшайте своего вклада. Вы дали нам практически все подполье. Если мы и держим часть из них на свободе, то затем лишь, чтобы не подставлять под удар вас. – Он послушал. Денисов очень ясно видел сквозь него, как Вера, уронив собранные щепки, подняла голову и слабо сказала: – Саша! – короткая тупая боль проникла из пустоты сердца. Будто сдвоили удары. Он вдруг понял, что это было. Слюдяные пластинки времени раздвинулись. – Теперь наша задача – обезвредить отряд Федора, – сказал гауптштурмфюрер. – Я надеюсь, что мы ее выполним, с вашей помощью. Вас ждет хорошая карьера и серьезные большие деньги, Самоквасов. Мы ценим людей, которые готовы искренне служить нам. – Гауптштурмфюрер заколебался, словно водоросли на течении. И вдруг исчез. Вообще все исчезло. Остался лишь приступ тошноты, жара, запах липкой смолы, телега, переваливающаяся по гладким коричневым корням. Сосны останавливали свое болезненное вращение.
– Самоквасов, – хрипло сказал он. – Вам знакома фамилия – Самоквасов?
И испугался, потому что лицо у комиссара налилось синей венозной кровью.
– Повторите!
– Самоквасов. Это он продает подполье.
– Нет, – сказал комиссар. – Нет, не может быть!.. Я знаю Игнатия пятнадцать лет… Мы вместе… мы с ним… я за него…
Сапук бросил винтовку:
– Врача!
Комиссар открыл лихорадочные глаза:
– Вы или провокатор, Денисов, или…
– Или, – сказал Денисов.
Тупая боль вывинчивала сердце и пригибала к земле. Он ухватился за качающийся борт повозки.
– Что с вами, Александр Иванович?
– Ничего особенного, – сказал он. – Все в порядке. У меня умерла жена.
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ
Акт террора совершили сикхские экстремисты в индийском штабе Пенджаб. Вчера вечером четверо террористов захватили рейсовый автобус на шоссе к северу от города Джаландахар и хладнокровно расстреляли 24 пассажира, принадлежащих к индуистской общине. Одиннадцать пассажиров были ранены.
Британское министерство сельского хозяйства заготовило 56 миллионов карточек на продовольственные товары для использования их англичанами «после ядерной войны». В секретном докладе министерства устанавливается процедура получения карточек и отоваривания их.
40 человек погибло и более 100 ранено в ходе ожесточенных боев между подразделениями шиитского движения «Амаль» и палестинцами, которые продолжаются в районе южноливанского города Сайда и южных пригородах Бейрута. Палестинцам удалось установить контроль над деревней Магдуше. Однако отряды движения «Амаль» сумели вернуть этот населенный пункт.
Как сообщил официальный военный представитель Ирака, минувшей ночью в один из жилых районов Багдада попала иранская ракета класса «земля – земля». 48 мирных жителей погибли и 52 получили ранения, разрушено несколько домов. По сообщению радио Тегерана, Иран нанес ракетный удар по Багдаду в «ответ на бомбардировки Ираком иранских городов».
В Джакарте официально объявлено о казни еще девяти деятелей коммунистической партии Индонезии. Несмотря на широкие протесты во всем мире, смертные приговоры приведены в исполнение…
7. Работа с документами
В восемь утра поступило сообщение из МИДа: Нострадамус предупреждал, что в северо-западной части Мексики на глубине около двадцати четырех километров возник очаг напряжения земной коры. Вероятность землетрясения более девяноста процентов, предполагаемая сила землетрясения – одиннадцать баллов по шкале Рихтера, начало реализации – от четырех до шести часов с момента сообщения, эпицентр землетрясения приходится на Сан-Бернардо – двести пятьдесят тысяч жителей. Нострадамус позвонил президенту Да Палма и предложил немедленно эвакуировать город. Разговор происходил по-испански. Начата обработка линии связи. Мексиканское правительство по официальным каналам срочно запрашивало нас, насколько можно верить этим сведениям.
В восемь тридцать мне принесли историческую справку. Ясновидение впервые было описано Якобом Беме, придворным астрологом герцога Лауэрштейнского. В книге «Свод хрустальный» он рассказывает о женщине по имени Зара, которая «могла видеть сквозь стены из доброго камня и тем производила великое удивление в знатных людях». Зару сожгли. В семнадцатом веке некто Готтхард из Целмса, находясь в родном городе за сотню километров от театра военных действий, подробно описывал сражение при Зюбингене, за что и был заключен в тюрьму. В восемнадцатом веке прославились братья Самюлэ – они лечили от всех болезней, снимали колдовство, уводили сглаз, мор и чуму, отверзали хляби небесные. В частности, они предрекли солнечное затмение 1765 года и предсказали эпидемию оспы во Флоренции. Впрочем, последнее относится к проскопии (видение будущего). В девятнадцатом веке был известен Жан из Пьесси («амьенский пророк»). Наполеон тайно содержал его при своей ставке – этот неграмотный крестьянский парень очень точно угадывал перемещения войск противника. Далее упоминается Эфраим Хальпес, португальский географ, нанесший на карту Антарктиду в ее современных очертаниях (Антарктида была открыта Беллинсгаузеном только через пятьдесят лет, а изучена значительно позже). Затем – надолго забытые прозрения Хевисайда; Менделеев, который увидел во сне Периодическую систему элементов; Симгруссон – разбегающиеся галактики; Антон Глечик – соотношение модулей в колоне вращения. И так далее, и тому подобное. Справка представляла собой талмуд в четыреста папиросных страниц, приводились сотни фамилий и тысячи противоречивых фактов со ссылками на десятки тысяч источников.
Отдельно был приложен заказанный мною материал. Доктор Гертвиг Теодор Карлович родился в 1860 году в Петербурге, в семье обрусевшего немца, получил медицинское образование, дополнительно прослушал курс сравнительной зоологии на биологическом факультете Санкт-Петербургского университета, учился в ординатуре, занимался частной медицинской практикой, имел научные труды, пользовался большой известностью как первоклассный клиницист широкого профиля, характер заболевания устанавливал методом бесконтактной диагностики (парадиагностика – это частный случай ясновидения), при проверках на консилиуме или при патологоанатомическом исследовании диагноз обязательно подтверждался. Остались многочисленные свидетельства. Например – А. И. Шиманский, «Записки русского врача». Например – «Труды Санкт-Петербургского общества биологии и медицины». Умер он в январе 1917 года от воспаления легких, причем сам себе поставил диагноз и предсказал ход развития болезни. Кажется, это был единственный строго документированный случай профессионального ясновидения. Библиография к нему, с указанием на сохранившиеся в архивах источники, составляла около десяти страниц сплошного машинописного текста.
Это было серьезно. Данные по Гертвигу можно было положить в основу при создании информационного муляжа. Так сказать, нижняя граница мозаики.
В девять утра поступило второе сообщение от Нострадамуса: существует неисправность в системе регулирования и подачи топлива рабочей части космического челнока «Скайлэб», возможно смещение фокуса сгорания смеси за пределы камеры сгорания, необходимо отложить планирующийся полет. Звонок в Управление НАСА был сделан из красного сектора, и вокруг него начали сжиматься кольца патрульных милицейских групп.
Операция «Равелин».
В девять пятнадцать терминал моего компьютера выдал дешифровку первого эпизода по материалам из Климон-Бей (безумный оператор Ван Гилмор): Солдырь и Богатырка представляли собой средние отроги Уральского хребта, находящиеся на территории Удмуртской АССР в районе города Глазова (перегон Глазов – Болезино). Судя по косвенным признакам, указанный эпизод имел место в период 1930–1931 годов или 1957–1958 годов (засуха в Поволжье). Более точная временна́я привязка пока невозможна.
Это была вторая координата для мозаики. Третьей координатой можно было считать сектор Нострадамуса. Если Нострадамус действительно живет там.
Ладно.
В девять пятнадцать Сиверс начал повторные допросы участников «Звездной группы» – всего восемнадцать человек. А в десять часов поступили данные по «Храму Сатаны». Первое. Полицейская сводка из Остербрюгте, составленная в неопределенно-официальной форме, извещала, что Ивин был убит около полуночи двумя выстрелами в спину из пистолета системы «Маникан», смерть наступила мгновенно. Данное оружие по своим индивидуальным характеристикам не значится в полицейских картотеках Европы и Америки. Свидетелей происшествия нет. Подозреваемых нет. Установлено, что за два часа до смерти Ивин контактировал с неизвестным лицом, одетым в хитон Пятого Круга. Ведется проверка всех зарегистрированных демиургов. Второе. Мужчина, тело которого было обнаружено на опушке Шварцвальда неподалеку от Остербрюгте, является гражданином ФРГ Петером Клаусом, владельцем фирмы музыкальных инструментов в Кёльне. В каталоге зарегистрированных демиургов он не значится. Месяц назад Петер Клаус внезапно, без каких-либо особых причин, крайне поспешно передал права на фирму старшему сыну Гансу Клаусу и уехал в длительное путешествие по Африканскому континенту. Место пребывания его в последнее время неизвестно. Предполагалось, что он был похищен. Заявления от родственников не поступало. Официальный розыск не осуществляется. Смерть наступила естественным путем: острый инсульт и кровоизлияние в мозг с мгновенной потерей сознания. Полиция квалифицирует этот инцидент как несчастный случай и не намерена проводить специальное расследование. Третье. В сводке содержались запрошенные нами данные на Бьеклина. Ничего существенного – возраст (тридцать пять лет), место рождения (Лапис, Айова), специальность (информатика), военная специальность (перехват PC), состав семьи, место жительства, последнее место работы (отдел по борьбе с наркотиками), звание (майор), служебные награды и поощрения. То есть полный ноль. Видимо, основные сведения о нем были засекречены.
Для мозаики это ничего не давало.
В одиннадцать утра Нострадамус через трансокеанскую сеть связался с Революционным Советом Обороны республики Пеннейские Острова и предупредил капитана Геда, что на шесть утра по местному времени назначен путч офицеров высшего командного состава армии. Он подробно изложил график-план мятежа, продиктовал полный список заговорщиков и поддерживающих их частей, назвал номера секретных банковских счетов, на которые поступали деньги из-за океана. Связь с Пеннеями продолжалась целых четыре минуты – последнюю треть ее Сиверс недоуменно взирал все на тот же пустой испорченный телефон-автомат на углу Зеленной и Маканина, откуда якобы происходил разговор. Операция «Равелин» окончательно провалилась. Капитану Геду из «Движения молодых офицеров» было двадцать девять лет – военное положение в республике было объявлено немедленно. А еще через полчаса мне позвонили по красному телефону и очень вежливо осведомились, когда я собираюсь взять Нострадамуса.
– Скоро, – ответил я.
– Вы уверены, что его вообще можно обнаружить? – деликатно спросили в трубке.
– Конечно, – ответил я.
Я действительно был уверен. Вычислить можно практически любого человека. Информационный муляж – это чрезвычайно мощное средство. Трудно даже представить, каким громадным количеством совершенно загадочных, незримых нитей соединены мы с этим миром. Следы всегда остаются. Остаются карточки роно, остаются записи в поликлиниках, остается учет строгого отдела кадров, остаются друзья, остаются непредсказуемые очевидцы, остается память. Все эти сведения можно извлечь – при определенных усилиях. Так возникает мозаика: биографическая сетка координат, которая выделяет в себе информационный муляж – пространственно-временное, условное подобие разыскиваемого человека. (Принцип «слепого адресата» – сбор абсолютно всех существующих данных.) Я не зря летал в Климон-Бей и не зря двое суток варился в бесовской отвратительной гуще Черной мессы – кое-какие координаты мы выловили. Теперь следует уточнять их и жестко привязывать друг к другу.
Это уже вопрос техники.
Около часа дня произошло землетрясение в Мексике. Сейсмическая аппаратура зафиксировала три протяжных толчка силою до одиннадцати баллов каждый. Согласно приборам, эпицентр землетрясения приходился точно на Сан-Бернардо. Город был разрушен до основания. Погибли восемь человек из числа тех двухсот, которые не захотели эвакуироваться.
Одновременно я получил письмо из Центрального военного архива. Старший научный сотрудник отдела Великой Отечественной войны кандидат исторических наук полковник Хомяков В. А. отвечал, что в указанный период в районе Минска и Минской области действовало более трех десятков регулярных партизанских отрядов и великое множество мелких партизанских групп. Прилагался список чуть не из сотни наименований. Многие были условными. Количество, численность и состав партизанских соединений непрерывно изменялись. Полковник Хомяков В. А. вполне обоснованно отмечал, что запрос составлен в слишком общей форме и потому нельзя точно сказать, о каком именно отряде идет речь.
Я и сам не знал – о каком? Это была четвертая координата для муляжа. Довольно хлипкая координата.
Пятой координатой было имя.
Александр.
В четырнадцать часов состоялось заседание Экспертного Совета, который разрабатывал проекты по направлениям – «Гость» и «Человек Новый». В результате острой дискуссии было установлено: 1. Действия Нострадамуса целиком укладываются в категории земной логики («закрытой» семантики нет). 2. Нострадамус использует технические средства, не выходящие за рамки земной технологии (исключая сам ридинг-эффект: непосредственное считывание информации). 3. В целях концентрации усилий только на реальных направлениях следует категорически отвергнуть версию «Гость» – о внеземном источнике Нострадамуса. Ладно. Далее выступил профессор Сковородников (Институт эволюционной физиологии АН СССР). Мы ни в коем случае не должны рассматривать Человека Нового как результат внезапного видообразования, сказал он. Homo novis не есть другой вид. Это есть лишь очищение некоторых уже существовавших качеств внутри прежнего эволюционного материала. Ридинг-эффект, вероятно, сродни «ощущению сторон света» у перелетных птиц или «чувству географии» у определенных видов насекомых. Наличествует элемент прогностики. Человек получает здесь третью степень физической свободы. Ранее он ориентировался во времени и в пространстве, а теперь он будет так же уверенно, без отгораживающего посредничества компьютеров, ориентироваться в бесконечно разнообразном мире информации…
И так далее.
Я едва высидел до конца заседания.
В пятнадцать десять Управление НАСА коротко сообщило, что двадцать минут назад с космодрома на мысе Канаверал после проверки топливных систем был произведен очередной запуск космического челнока «Скайлэб» с экипажем на борту. Первые семьдесят шесть секунд характеристики полета были устойчивыми и отчетливо совпадали с расчетными. На семьдесят седьмой секунде произошел взрыв, связь с кораблем прервалась, по данным телеметрических наблюдений, капсула экипажа перестала существовать – обломки ее рухнули в Атлантический океан. Службы ВВС США и военно-морские соединения, находящиеся в данном районе, производят интенсивный поиск остатков. Шансы на спасение людей минимальные.
Через три минуты я начал отработку Ангела Смерти – дешифровка второго эпизода по материалам из Климон-Бей (безумный оператор Ван Гилмор).
В пятнадцать сорок пять ЮСИА сообщило о волнениях на Пеннейских островах: части путчистов удалось затвориться в казармах столичного гарнизона, там была радиостанция – и в течение последующего часа, вместо того чтобы работать, я был вынужден принимать копии протестов, передаваемых нам из МИДа: западные специалисты по международному праву квалифицировали ридинг Нострадамуса о Пеннеях как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Дискутировалось предложение – временно заблокировать трансокеанскую линию и отключить синхронизацию спутников связи – то есть изолировать материки. Обстановка сгущалась. К исходу этого часа мне вторично позвонили по красному телефону и довольно настойчиво попросили всемерно ускорить поиск.
Выхода не было.
К семнадцати часам я вчерне собрал мозаику и передал ее на ВЦ. Муляж был смонтирован по пяти координатам: доктор Гертвиг, Удмуртская АССР, леса под Минском (1942 год), имя и красный сектор Нострадамуса, – за исключением последнего это были все недостоверные позиции. Я не ждал никаких результатов. Муляж начинает жить, если масса исходных сведений оказывается способной к логической самоорганизации – для этого необходимо достаточно большое количество информации. Или – если координаты фокусируются в очень узком пространственно-временном локусе, – «обжимая образ». Здесь же разброс был громадный. Оператор на ВЦ так и резюмировал:
– Ничего не выйдет.
– Делайте! – приказал я.
Следующие два часа были посвящены демиургам. На официальный запрос мы получили такой же официальный ответ: «Правительству США ничего не известно о существовании секретной группы „Ахурамазда“, перечисленные в запросе личности: Трисмегист, Шинна и Петрус – не фигурируют в полицейских картотеках страны, в названном районе – Оддингтон (Скайла) – находится частная психиатрическая больница, не имеющая отношения к государственным учреждениям США». Были приложены фотоснимки: уютные одноэтажные домики, утопающие среди ярких роз, чистые асфальтовые дорожки между ними, прозрачная стена из орогласса с колючей проволокой наверху. Вот так. Я не сомневался, что сейчас там действительно частная психиатрическая больница. Это была оборванная нить. Группа перебазировалась. Видимо, речь шла о попытке достичь ридинг-эффекта у наиболее одаренных экстрасенсов (демиургов) за счет насильственного искажения психики. Скорее всего – глубокий гипноз, наркотики и постоянная обработка психотропными анаболиками. В сообщении Клауса не случайно упоминался «Безумный Ганс». Судя по тому, что я наблюдал в Климон-Бей, этот блокатор нейронов из группы боевых ОВ действительно может вызвать нечто похожее на ридинг, – правда, при полной деформации психики, за пределами сознания.
Для нас этот путь был закрыт.
Несомненно.
В девятнадцать ноль-ноль мне позвонили с ВЦ и сообщили, что муляж развалился.
– Мы можем запустить его еще раз, если хотите, – скучно заявил оператор. – Но без новых координат результат будет точно такой же.
– Запускайте, – велел я.
В девятнадцать тридцать было принято предложение Бьеклина о проведении следственного эксперимента со «Звездной группой».
Я не видел в этом никакой пользы.
В двадцать часов мне сообщили, что муляж развалился вторично.
До двадцати пятнадцати я предавался унынию.
В двадцать двадцать пять начали поступать первые обрывочные данные по Ангелу Смерти.
А примерно через полчаса снова ожил красный телефон, и деревянный, сухой, белый от старости голос в пластмассовом нутре его тягуче произнес:
– Алексей Викторович? Добрый вечер. Пожалуйста, уделите минутку – у меня к вам небольшая просьба. С вами говорит Нострадамус…
– Слушаю вас, – леденея кончиками пальцев, очень спокойно ответил я.
Я действительно не волновался.
Был двадцать один час – ровно.
8. Ангел Смерти
Ночью позвонил Хрипун. Денисов лежал в натопленной комноте и слушал, как протискивается из мокрого рокота дождя нудное проволочное дребезжание. Я не подойду, подумал он. Я здесь ни при чем. Ну его к черту! Колыхались шторы, фиолетовые провалы в пустой беззвездный мир чернели на простынях. Аппарат надрывался, как сумасшедший. Денисов выругался и встал. Надо было тащиться в другой конец коридора – обогнуть парамоновский сундук, велосипеды близнецов, детскую коляску и, главное, не зацепить ненароком опасно держащуюся на кривом гвозде железную оцинкованную ванночку Катерины. Катерине оставалось жить два года. Сказать или не сказать? Атеросклероз. Бляшки на стенках сосудов. Лечить уже поздно. Ему показалось, что дверь в ее комнату слегка приоткрылась, – пахнуло сонной теплотой, разогретыми подушками. Так и есть. Завтра будет разговор о том, что ни одну ночь нельзя будет провести спокойно.
Он сорвал раскаленную трубку.
– Идиот! – сказал он.
– Все подтвердилось, – не обращая внимания, захлебываясь слюной, прошипел Хрипун. – Только что. В два часа ночи. Мне сообщила Серафима. Поздравляю. Теперь все они у нас – вот так!
Было похоже, что Хрипун поднял стиснутый пухлый кулак и ожесточенно потряс им.
– Идиот! – повторил Денисов.
– А чего?
– Ничего!
– На вашем месте, Александр Иванович, я бы не ссорился, – примиряюще и одновременно с угрозой в голосе произнес Хрипун. – Ведь Болихат умер? Ведь так? И Синельников тоже умер? Ну – увидимся завтра в институте…
– Идиот! – сказал Денисов в немую трубку.
Вытер соленую мокроту со лба. Коридор желтой адской кишкой изгибался за угол, и вереница масляных дверей изгибалась вместе с ним. Идиот! Он вспомнил, как такой же мелкой и густой испариной покрылось вчера внезапно побледневшее лицо Болихата, как тот грузно опустился на заскрипевший стул и зачем-то перелистнул календарь, испещренный заметками. – Значит, сегодня ночью? – Сегодня Арген Борисович. – Точно? – Точно. Простите меня, – сказал Денисов. Он был выжат, как всегда после «прокола», и не соображал, что надо говорить. – Да нет, чего уж, – ответил погодя Болихат и поморщился, как от зубной боли. – Неожиданно, правда. Но это всегда неожиданно. Хорошо, что сказали. Спасибо. – Денисов поднялся и вышел на цыпочках, оставив за собой окаменевшую фигуру в коричневом полосатом костюме со вздернутыми плечами, в которые медленно и безнадежно уходила квадратная седая остриженная под бобрик шишковатая директорская голова. Их было двое в кабинете, и он мог бы поклясться, что Болихат не вымолвит ни полслова, но уже через час обжигающие слухи, будто невидимый подземный огонь, начали растекаться по всем четырем этажам кирпичного здания института.
Приговор, подумал Денисов. Десятый приговор. А может быть, двенадцатый. Я устал от приговоров. У меня нет сил. Но блестящее лезвие светит в воздухе, раздается удар, и голова откатывается с плахи. Напрасно я затеял все это. Зря. Я ведь не палач. Он повернул выключатель. Жуткая кишка исчезла, проглоченная темнотой. Выступил фиолетовый квадрат окна. Дома напротив были черные. Искажая мир, слонялся вертикальный дождь по каналу. Низко над острыми крышами, чуть не падая, пролетел самолет, и стекла задрожали от его свирепого гула. Войны не будет. На превращенной в лужу набережной, в конусе фонаря, прилепившись к чугунному парапету, горбилась жалкая фигура в плаще под ребристым проваленным зонтиком. У Денисова шевельнулось в груди. Это был Длинный. Конечно – Длинный. Три часа ночи. Брр… Неужели так и будет стоять до утра? Дождь, холод… Он раздраженно задернул штору. Пусть стоит! Двенадцать приговоров. Хватит! Достаточно! Он зажег свет. Было действительно три часа ночи. Все-таки время он чувствовал превосходно. И не только время – все, связанное с элементарной логикой. Цифры, например. Две тысячи девятьсот пятьдесят четыре умножить на шесть тысяч семьсот тридцать два. Получается девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста двадцать восемь. Он сел за стол и на листке бумаги повторил расчет, стараясь забыть о дрожащем человеке на набережной. Девятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста двадцать восемь. Все правильно. Хоть сейчас на эстраду. Щелчком ногтя он отбросил листок и придвинул шахматную доску, где беспорядочно, словно продолжая жить деревянной условной жизнью, замерли испуганные фигуры. Все равно не заснуть. Чертов Хрипун! Пухлая детская мордочка! Денисов смотрел на сжатую, будто пружина, позицию черных. Что тут было? Партия Хломан – Зерницкий, отложенная на тридцать седьмом ходу… Привычно заныли болевые точки в висках, заколебались и стекли, как туман, цветочные обои, обнажая пропитанный дождем мир. Сицилианская защита, схевенингенский вариант. Ферзь уходит с горизонтали, белые рассчитывают образовать проходные на левом фланге, здесь у них явный фигурный перевес, но – ведь так! – следует жертва слона, и выдвинутый вперед слишком растянутый центр стремительно рушится, погребая под собою королевский фланг, перебрасываются обе ладьи, строится таран, удовлетворительной защиты нет, фигуры белых отрезаны собственной пешечной цепью, они не успевают, самый длинный вариант при корректной игре – мат на одиннадцатом ходу, конем, поле «эф один». Победа. Только Зерницкий не заметит. Скорее всего, будет долго и нудно маневрировать и сведет вничью. А победа близка. Удобная вещь – шахматы: простая логическая система с конечным числом вариантов, доступная анализу в самых формальных признаках, – «видишь» насквозь.
Наверное, я мог бы стать чемпионом мира.
Опять пролетел самолет и задрожали стекла. Как это самолеты умудряются летать в такую погоду? Хотя – чрезвычайное положение, блокада Кубы, американский флот в Карибском море, инциденты с торговыми судами, призваны резервисты США, военные приготовления во Флориде. Заявление советского правительства от 24 декабря 1962 года – вчерашняя «Правда». Войны не будет. Я так вижу. Денисов поднял голову. Творожистая рассветная муть лилась через окно, обессиливая электричество. Боже мой – половина девятого! Шаркала тапочками Катерина, и на кухне лопались утренние возбужденные голоса. Он опять забылся! Это «прокол сути», как пещерный людоед, пожирает сознание. Будто проваливаешься в небытие. Отключение полное. К одиннадцати часам его ждут в институте: но надо, конечно, прийти пораньше, чтобы уяснить обстановку. Обстановка на редкость скверная. Умер Синельников, и умер Болихат. Время! Время!.. Дождь слабел, но еще моросило, и день был серый. С карнизов обрывались продолговатые капли. Когда он пересекал улицу, то из подворотни отделилась совершенно мокрая ощипанная фигура и, как привязанная, двинулась следом.
Денисов повернулся – чуть не налетев.
– Не ходите за мной, – раздражаясь, сказал он. – Ну зачем вы ходите?..
– Александр Иванович, одно ваше слово, – умоляюще просипел Длинный.
– С чего вы взяли?
– Все говорят…
– Чушь!
– Здесь недалеко, четыре остановки… Александр Иванович!.. Вы только глянете – магнетизмом…
У Длинного чудовищно прыгали синие промерзшие губы, не выговаривая согласных, и кожа на лице от холода стиснулась, как у курицы, в твердые пупырышки. Он хрипел юношеским тонким горлом. Воспаление легких, сразу определил Денисов. Самая ранняя стадия. Это не опасно. В автобусе, прижатый к борту, он сказал, с отстраненной жалостью глядя во вспухшие мякотные продавленные золотушные глаза:
– Я ничего не обещаю…
– Конечно, конечно, – быстро кивал Длинный, роняя печальные капли с носа.
Старуха лежала на диване, укрытая пледом, и восковая серая голова ее, похожая на искусственную грушу, была облеплена редкими волосами. Она открыла веки, под которыми плеснулась голубая муть, – высохшей плетью подняла руку, словно приветствуя. Денисов поймал узловатые пальцы. Сейчас будет боль, подумал он, напрягаясь. Заныли раскаленные точки в висках. Заколебалась стиснутая мебелью комната, где воздух был плотен из-за травяного смертельного запаха лекарств, упирающегося в салфетки. Длинный что-то пробормотал. Рассказывал о симптомах. – Помолчите! – раздраженно сказал ему Денисов. Виски просто пылали. Сухая телесная оболочка начала распахиваться перед ним. Он видел хрупкие перерожденные артерии, бледную кровь, жидкую старческую бесцветную лимфу, которая толчками выбрасывалась из воспаленных узлов. Уже была не лимфа, а просто вода. Зеленым ядовитым светом замерцали спайки, паутинные клочья метастазов потянулись от них, ужасная боль клещами вошла в желудок и принялась скручивать его, нарезая мелкими дольками. Терпеть было невмоготу. Денисов крошил зубы. Зеленая паутина сгущалась и охватывала собой всю распростертую на диване отжившую человеческую дряхлость.
– Нет, – сказал он.
– Нет?
– Безнадежно.
Тогда Длинный схватил его за лацканы и вытащил в соседнюю комнату, такую же душную и тесную.
– Доктор, хоть что-нибудь!
– Я не доктор.
– Прошу, прошу вас!..
– Без-на-деж-но.
– Все, что угодно, Александр Иванович… Одно ваше слово!..
Он дрожал и, точно в забытьи, совал Денисову влажную пачечку денег, которая, вероятно, всю ночь пролежала у него в кармане. Денисов скатился по грязноватой лестнице. Противно ныл желудок, и металлические когти скребли изнутри по ребрам. Медленно рассасывалась чужая боль. Странно, что при диагностике передается не только чистое знание, но и ощущение его. Это в последний раз, подумал он. Какой смысл отнимать надежду? Лечить я не умею. Трепетало сердце – вялый комочек мускулов, болезненно сжимающийся в груди. На сердце следовало обратить особое внимание. Три года назад Денисов пресек начинающуюся язву, «увидев» инфильтрат в слизистой оболочке. А еще раньше остановил сползание к диабету. Сердце так же можно привести в порядок – ходьба, массаж. «Я, пожалуй, проживу полторы сотни лет, – подумал он. – А то и двести. Профилактика – великое дело». Еще два стремительных самолета распороли небо и укатили подвывающий грохот за горизонт. Войны не будет. Идут переговоры. Серый дождь затягивал перспективу улиц. Денисов поднял воротник, старательно перепрыгивая через лужи. «Вот чем надо заниматься, – подумал он. – Войны не будет. От спонтанного „прокола сути“, который возникает только в экстремальных условиях, надо переходить к сознательному считыванию информации. Частично это уже получается. Я могу считывать диагностику. Все легче и легче. Доктор Гертвиг был бы доволен. Но патогенез воспринимается лишь при непосредственном контакте с реципиентом – ограничен радиус проникновения. Настоящие „проколы“ редки: Войны не будет. Теперь надо сделать следующий шаг. Решающий. Надо увеличивать радиус. И главное, надо научиться привязывать увиденную картину к реальному миру. Необходим колоссальный тезаурус: до сих пор если кому-нибудь и удавалось прозреть нечто определенное, то такой носитель истины просто не мог объяснить, что именно он видит, не хватало предварительных знаний. Отсюда хаос и туман знаменитых пророчеств древности – Сивилл, Апокалипсиса и самого подлинного Нострадамуса. Я могу наблюдать те или иные процессы, кажется, в мире элементарных частиц, но я совершенно не способен установить координаты увиденного в структуре современной физики… Две синие пульпочки образуют одну зеленую и при этом жалобно пищат, проникая друг в друга, а зеленая пульпочка – не совсем пульпочка, а пульпочка и кренделек, она не существует в каждый отдельно взятый момент времени, но вместе с тем наличествует как сугубо материальный объект, порциями испуская суматошные вопли, чтобы привлечь к себе такие же пульпочки-непульпочки и образовать с ними нечто, представляющее собою дыру в ничто… Вот в таком роде. Невозможно логически интерпретировать картинку. Хлопов пожимает плечами: пульпочки, которые испускают вопли… Чтобы разобраться в деталях, надо сначала досконально освоить новейшую физику и соотнести „образы сути“ с уже известными представлениями. Работы на десять лет. А потом окажется, что это вовсе не элементарные частицы, а рождение и гибель галактик или соотношение категорий в типологических множествах».
Он шел по свежему, недавно покрашенному коридору второго этажа, и впереди него образовывалась гнетущая пустота, словно невидимое упругое поле рассеивало людей. Встречные отшатывались и цепенели. Кое-кто опускал глаза, чтобы не здороваться. Все уже были в курсе. «Это пустыня, – подумал он. – Безжизненный песок, раскаленный воздух, белые отполированные ветрами кости. Мне, наверное, придется уйти отсюда. Болихат умер, и они полагают, что это я убил его. Сначала Синельникова, а потом Болихата. Дураки! Если бы я мог убивать!» Неизвестно откуда возник Хрипун и мягко зацепил его под руку, попадая в шаг.
– Андрушевич, – осторожно, как чумной сурок, просвистел он, пожевав щеточку светлых пшеничных усов. – Андрушевич…
– Лиганов.
– Лиганов, – тут же согласился Хрипун. – Андрушевич, Лиганов и Старомецкий. Но прежде всего Андрушевич. Он самый опасный.
Денисов остановился и выдрал локоть.
– Я не сразу сообразил, – потрясенный невероятным озарением, сказал он.
– Андрушевич, Лиганов и Старомецкий. Это все кандидаты в покойники? Вы их уже приговорили – я вас правильно понял?
– Не надо, не надо, вот только не надо, – нервно сказал Хрипун, увлекая его вперед. – При чем здесь покойники? Это люди, которые мешают мне и мешают вам. Так что не надо демонстрировать совесть. Поздно. И потом, разве я предлагаю?.. Нет! Совершенно не обязательно. Можно побеседовать с каждым из них в индивидуальном порядке. Намекнуть… Достаточно будет, если они уволятся…
Задребезжали стекла от самолетного гула. Войны не будет. Уже идут переговоры.
– Я, наверное, предложу другой список, – сдерживая больное колотящееся сердце, сказал Денисов. – А именно: Хрипун, Чугураев и Ботник. Но прежде всего – Хрипун, он самый опасный.
У Хрипуна начали пучиться искаженные, будто из толстого хрусталя, глаза, за которыми полоскался страх.
– Знаете, как вас зовут в институте? Ангел Смерти, – сдавленно сказал он. – Сами по уши в дерьме, а теперь на попятный? Испугались? И ничего вам со мной не сделать – кишка тонка…
Голос был преувеличенно наглый, но в розовой натянутой детской коже лица, в водянистых зрачках, в потной пшеничной щеточке стояло – жить, жить, жить!..
Казалось, он рухнет на колени.
Денисов толкнул обитую строгим дерматином дверь и мимо окаменевшей секретарши прошел в кабинет, где под электрическим светом сохла в углу крашеная искусственная пальма из древесных стружек, а внешний мир был отрезан складчатыми маркизами на окнах. Лиганов сидел за необъятным столом и, не поднимая головы, с хмурым видом писал что-то на бланке института, обмакивая перо в пудовую чернильницу серо-малинового гранита.
– Слушаю, – сухо сказал он.
Денисов молча положил на стол свое заявление, и Лиганов, не удивляясь, ни о чем не спрашивая, механически начертал резолюцию.
Как будто ждал этого.
Наверное, ждал.
– Мог бы попрощаться, – вяло сказал ему Денисов.
– Прощай.
Головы он так и не поднял.
Все было правильно. Дождь на улице опять усиливался и туманным многоруким холодом ощупывал лицо. Текло с карнизов, со встречных зонтиков, с трамвайных проводов. Денисов брел, не разбирая дороги. Рябые лужи перекрывали асфальт. «Двенадцать приговоров, – подумал он. – Болихат умер, Синельников покончил самоубийством, Зарьян не поверил, Мусиенко поверил и проклял меня. Это пустыня. Кости, ветер, песок. „Скрижали демонов“. Я выжег все вокруг себя. Благодеяние обратилось в злобу, и ладони мои полны горького праха. Ангел Смерти. Отступать уже поздно. Надо сделать еще один шаг. Последний. Войны не будет. Суть вещей постигает лишь тот, чья душа стремится к абсолютному знанию. Остался всего один шаг. Один шаг. Один». Он свернул к остановке. Шипели рубчатые люки. Намокали тряпичные тополя. Подъехал голый пузатый автобус и, просев на правый бок, распахнул дверцы.
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ
Сегодня временному поверенному в делах Пакистана в ДРА был заявлен протест в связи с обстрелом с пакистанской территории афганского населенного пункта Барикот. По нему было выпущено 38 реактивных снарядов – в результате четыре мирных жителя убиты и восемь человек ранены.
Еще два взрыва раздались минувшей ночью во французской столице. Один заряд был установлен около представительства частной авиакомпании «Минерва», а второй – рядом с отделением национального управления по иммиграции Иль-де-Франс. Ответственность за эти преступления взяла на себя левацкая экстремистская группировка «Аксьон директ».
Оружейный концерн «Мессершмитт-Бельков-Блом» создал новый тип оружия для усмирения полицией демонстрантов. Это оружие, похожее на фаустпатрон, имеет три вида снарядов: миниатюрные ракеты, которые могут проламывать черепа, шарообразные снаряды из твердой резины и алюминиевые коробки, взрывающиеся в воздухе контейнеры с раздражающим газом.
Под тяжестью неопровержимых улик верховный суд Йоханнесбурга признал виновными трех белых граждан ЮАР в зверском убийстве африканца. Обвиняемые набросились на него на окраине города Грюкерсдорп и, избив, вышвырнули из автомашины на полном ходу. Затем они вернулись, облили африканца бензином и подожгли. Как показало медицинское освидетельствование, пострадавший в это время был еще жив.
9. Следственный эксперимент
Первая очередь была пристрелочной, она зарылась в чистом застылом серебряном зеркале осенней воды, взметнув глухо булькнувшие фонтанчики, – вроде далеко, но уже вторая легла совсем рядом, по осоке возле меня, будто широкой косой смахнув с нее молочную, не успевшую просохнуть росу. И тут же ударили шмайссеры – кучно, хрипло, распарывая натянутый воздух. Я присел. Вдруг стало ясно ощущаться тревожное пространство вокруг, открытое и болотистое, поросшее хрупким рыжеватым кустарником.
– Наза-ад!.. – закричал командир.
Ездовые поспешно разворачивали повозки. Передняя лошадь упала, взрыднув, и забилась на боку, выбрызгивая коричневую жижу. Посыпались мешки с мукой.
Сапук яростно рванул меня за плечо:
– Продал, сволочь!
Комиссар, уже на ногах, успел поймать его за дуло винтовки.
– Отставить!
– Продал, цыца немецкая!..
– Отставить!
Мы бежали к горелому лесу, который чахлыми стволами криво торчал из воды. Две красные ракеты взлетели над ним и положили в торфяные окна между кочками слабый розовый отблеск.
– Дают знать Лембергу, что мы вышли к Бубыринской гриве! – крикнул я.
У меня огнем полыхал правый бок и подламывались неживые ноги. Во весь лес тупо и безучастно стучало по сосновой коре, будто десятки дятлов безостановочно долбили ее в поисках древесных насекомых. Это пересекались пули. Я потрогал саднящие ребра. Ладонь была в крови.
– Ранен? – спросил комиссар, переходя на шаг.
– Немного…
– Прижми пока рукой, потом я тебя перевяжу… Сейчас надо идти, мы просто обязаны выбраться отсюда – ты нам еще пригодишься… Слышишь, Сапук? – головой за него отвечаешь!..
– Слышу…
– Поворачивай на Поганую топь…
– Обоз там не пройдет, – сказал командир, догоняя и засовывая пистолет в кобуру.
– Обоз бросим… Оставим взвод Типанова – прикрывать. Есть еще время. Раненых понесем – должны пробиться…
– Попробуем… Собрать людей!
– Есть собрать людей! Сто-ой!.. Все сюда!.. Разбиться повзводно!..
Местность повышалась, на отвердевшей почве заблестели глянцевитые выползки брусники. У меня звенело в ушах, и неприятная слабость разливалась по всему телу.
Я еще раз потрогал бок.
– Болит?
– Не очень…
– Давай-давай, нам нельзя задерживаться…
Сапук слегка подталкивал. Ноги мои при каждом шаге точно проваливались в трясину. Я хотел уцепиться за край повозки – пальцы соскользнули, редкоствольный сосняк вдруг накренился, как палуба корабля, и похрустывающая корневищная хвойная земля сильно ударила меня в грудь. Я протяжно застонал. Меня перевернули. Из тумана выплыло ископаемое глубоководное лицо Бьеклина.
– О чем он говорил с тобой?
– Кто?
Бьеклин повторил – внятно, шевеля многочисленными рыбьими костями на скулах:
– О чем с тобой говорил Нострадамус?
– Он спросил: нельзя ли приостановить расследование? На пару дней…
– И все?
– Он сказал, что скоро это прекратится само собой, он обещает…
– Не верю!
– Провались ты! Все подробности – в моем рапорте, можешь прочесть…
Тогда Бьеклин взял меня за воротник, будто собираясь душить:
– Ну – если соврал!..
Я лежал на кухне, на полу, и перед глазами был грязноватый затоптанный серый линолеум в отставших пузырях воздуха. Справа находился компрессор, обмотанный пылью и волосами, а слева – облупившиеся ножки табуреток. Бок мой горел, словно его проткнули копьем. Мне казалось, что я немедленно умру, если пошевелюсь. Пахло кислой плесенью, застарелым табаком и – одновременно, как бы не смешиваясь, – свежими, только что нарезанными огурцами, запах этот, будто ножом по мозгу, вскрывал в памяти что-то тревожное. Что-то очень срочное, необходимое. Болотистый горелый лес наваливался на меня, и по разрозненной черноте его тупо колотил свинец. Это была галлюцинация. Я уже докатился до галлюцинаций. Собственно, почему я докатился до галлюцинаций? Следственный эксперимент. Сознание мое распадалось на отдельные рыхлые комки, и мне было никак не собрать их. Янтарные глаза Туркмена горели впереди всего лица: – Глина… Свет… Пустота… Имя твое – никто… Каменная радость… Ныне восходит Козерог… Вырви сердце свое, подойди к Спящему Брату и убей его… Ты – песок в моей руке… Ты – след поступи моей… Ты – тень тени, душа гусеницы, на которую я наступаю своей пятой… – Голос его, исковерканный сильным акцентом, дребезжал от гнева. Он раскачивался вперед-назад, и завязки синей чалмы касались ковра. Ковер был особый, молитвенный, со сложным арабским узором – тот самый, который фигурировал в материалах дела. Наверное, его привезли специально, чтобы восстановить прежнюю обстановку. На этом настаивал Бьеклин – восстановить до мельчайших деталей. Именно поэтому сейчас, копируя прошлый ритуал, лепестком, скрестив босые ноги, сидели вокруг него «звездники», и толстый Зуня, уже в легком сумасшествии, с малиновыми щеками, тоже раскачивался вперед-назад, как фарфоровый божок: – Я есть пыль на ладони твоей… Я есть грязь на подошвах… Возьми мою жизнь и сотри ее… – И раскачивалась Клячка, надрывая лошадиные сухожилия на шее, и раскачивались Бурносый и Образина. Это был не весь «алфавит», но это были «заглавные буквы» его. Четыре человека. Пятый – Туркмен. Они орали так, что в ушах у меня лопались мыльные пузыри. Точно загробная какофония. Радение хлыстов. Глоссолалии. Новый Вавилон. Я не мог проверить – читают ли они обусловленный текст или сознательно искажают его, чтобы избежать уголовной ответственности. По сценарию, текстом должен был заниматься Сиверс. Но машинописные матрицы были раскиданы по всей комнате, а Сиверс, вместо того чтобы следить за правильностью, нежно обнимал меня и шептал горячо, как любимой девушке: – Чаттерджи, медные рудники… Их перевезли туда… Будут погибать один за другим, неизбежно – Трисмегист, Шинна, Петрус… – Почему? – спросил я. – Слишком много боли… – Речь шла об «Ахурамазде», американская группа экстрасенсов. Я почти не слышал его в кошмарной разноголосице голосов. – Вижу, вижу, сладкую божественную Лигейю! – как ненормальная вопила Клячка, потрясая в воздухе растопыренными ладонями, худая и яростная, словно ведьма. Бурносый стонал, сжимая виски, а Образина безудержно плакал и не вытирал обильных слез. Лицо у него было смертельно бледное, нездоровое, студенистое. Наступала реакция. Сейчас они все будут плакать. В финале радения обязательно присутствуют элементы истерии. Я смотрел, как перевертываются стены комнаты, увешанные коврами. Меня шатало. Светлым краешком сознания я понимал, что тут не все в порядке. Эксперимент явно выскочил за служебные рамки. Нужно было срочно предпринять что-то. Я не помнил – что? Врач, который должен был наблюдать за процедурой, позорно спал. И Бьеклин тоже – вытаращив голубые глаза. Будто удивлялся. – Прекратить! – сказал я сам себе. Отчетливо пахло свежими огурцами. Голова Бьеклина мягко качнулась и упала на грудь. Он был мертв.
Бьеклин был мертв. Это не вызывало сомнений, я просто знал об этом. Он умер только что, может быть, секунду назад, и мне казалось, что еще слышен пульс на теплой руке. Ситуация была катастрофическая. Сонная волна дурноты гуляла по комнатам. Мне нужен был телефон. Где здесь у них телефон? Здесь же должен быть телефон! Я неудержимо и стремительно проваливался в грохочущую черноту. Телефон стоял на тумбочке за вертикальным пеналом. Какой там номер? Впрочем, не важно. Номер не требовался. Огромная всемирная паутина разноцветных проводов возникла передо мной. Провода дрожали и изгибались, словно живые, – красные, синие, зеленые, – а в местах слияний набухали шевелящиеся осьминожьи кляксы. Я уверенно, как раскрытую книгу, читал их. Вот это линии нашего района, а вот схемы городских коммуникаций, а вот здесь они переходят в междугородние, а отсюда связь с главным Европейским коммутатором, а еще дальше сиреневый ярко светящийся кабель идет через Польшу, Чехословакию и Австрию на Апеннинский полуостров.
– Полиция! – сказали в трубке.
– Полиция?.. На вокзале Болоньи, в зале ожидания, недалеко от выхода с перронов, оставлен коричневый кожаный чемодан, перетянутый ремнями. В чемодане находится спаренная бомба замедленного действия. Взрыв приурочен к моменту прибытия экспресса из Милана. Примите меры.
– Кто говорит? – невозмутимо спросили в трубке.
– Нострадамус.
– Не понял…
– Нострадамус.
– Не понял…
– Учтите, пожалуйста, – взрыватель бомбы поставлен на неизвлекаемость. В вашем распоряжении пятьдесят пять минут…
Отбой.
Я опять был на кухне, но уже не лежал, а сидел, привалившись к гудящему холодильнику, и телефонная трубка, часто попискивая, висела рядом на пружинистом шнуре. У меня не было сил положить ее обратно. Куда я собирался звонить? Кому? Еще никогда в жизни мне не было так плохо. Пахло свежими молодыми огурцами, и водянистый запах их выворачивал меня наизнанку. Точно в Климон-Бей, «Безумный Ганс» начинает пахнуть огурцами лишь в малых концентрациях, на стадии паровой очистки. Я видел двух бледных, длинноволосых, заметно нервничающих молодых людей в джинсах и кожаных куртках с погончиками, которые, поставив чемодан у исцарапанной стены, вдруг – торопливо оглядываясь – зашагали к выходу. Болонья. Вокзал. Экспресс из Милана. Это был ридинг, «прокол сути», самый настоящий, – глубокий, яркий, раздирающий неподготовленное сознание. Теперь я понимал, почему Бьеклин так упорно настаивал на следственном эксперименте. Ему нужна была «Звездная группа» – если не вся, то по крайней мере горстка «заглавных букв».
Он безапелляционно потребовал:
– Все должно быть точно так же. Я сяду вместо покойника, и пусть они целиком сосредоточатся на мне.
Покойником был Херувим. Он погиб на прошлом радении, месяц назад, во время медитации и попытки освободить свою душу от мешающей телесной оболочки. Инсульт, кровоизлияние в мозг. Больше никаких следов. У него была гипертония, и ему было противопоказано длительное нервное напряжение. Эксперты до сих пор спорят – было ли это сознательное убийство или нечастный случай. Бьеклин, видимо, рассчитывал на аналогичные результаты. В смысле интенсивности. И поэтому, когда Туркмен, смущаясь присутствием оперативных работников, запинаясь и понижая голос, неуверенно затянул свой монотонный речитатив о великом пути совершенства, который якобы ведет к ледяным и суровым вершинам Лигейи, то Бьеклин почти сразу же начал помогать ему, делая энергичные пассы и усиливая текст восклицаниями в нужных местах. Он хорошо владел техникой массового гипноза и, наверное, рассчитывал, отключив податливую индивидуальность «алфавита», создать из него нечто вроде группового сознания – сконцентрировав его на себе. «Звездники» были в этом отношении чрезвычайно благодатным материалом. Он, видимо, хотел добиться мощнейшего, коллективного «прокола сути» и таким образом выйти на Нострадамуса. Или получить хоть какие-нибудь сведения о нем. Силы его собственного ридинга для этого не хватало. Вероятно, сходные попытки предпринимал и Трисмегист (отсюда методика), но безуспешно: судя по имеющимся данным, коллективное сознание «Ахурамазды» распадалось почти сразу же. А вот со «звездниками» можно было рассчитывать на результат. Особенно если вывести сознание их за пределы нормы – в экстремум, с помощью специальных средств. Я видел, как он без особого труда, «буква за буквой» переключает «алфавит» на себя и они смотрят ему в глаза, как завороженные кролики, но я не мог помешать: в этом не было ничего противозаконного, формально он лишь помогал проведению следственного эксперимента. Только когда застучали первые отчетливые выстрелы и захлюпала торфяная вода под ногами, я неожиданно понял, к чему все идет, но остановить или затормозить действие было уже поздно, Бьеклин распылил газ, стены затянуло сизым туманом, захрапел врач, упал обратно на кресло встревожившийся было Сиверс, мир перевернулся, погас – и начался бой на болоте, где выходил из окружения небольшой партизанский отряд. Сорок второй год. Сентябрь. Леса под Минском…
У меня дребезжали зубы от слабости. Оказывается, я уже находился в комнате. Что-то случилось со временем: бесследно вываливались целые периоды. Горячий и торопливый шепот волнами обдавал меня. Я вдруг стал слышать. – Идет дождь и самолеты летают над городом, – раскачиваясь, бессмысленно, раз за разом, как заведенный, повторял Туркмен. Клячка шипела: – Вижу… вижу… вижу… Ангел Смерти… Тебе остается жить два с половиной года… – Судороги напряжения пробегали по ее впалым щекам. – Разве можно предсказывать будущее, Александр Иванович? – тихо и интеллигентно спрашивал Зуня, разводя пухлыми руками, а Образина, зажмурившись, отвечал ему: – Будущее предсказывать нельзя. – А разве можно видеть структуру мира? – Это требует подготовки. – А например, долго? – Например, лет пятнадцать… – Они пребывали в трансе. Насколько я понимал, текст относился к Нострадамусу. Бурносый, как лунатик, далеко отставя указательный палец, невыносимо вещал: – Слышу эхо Вселенной, и кипение магмы в ядре, и невидимый рост травы, и жужжание подземных насекомых… – Зрелище было отталкивающее. Не зря при вступлении в группу человеческое имя отбирали, а вместо него давалась кличка – Гамадрил, Утюг… Меня колотил озноб. Диктофон стоял на столике в углу, светился зеленым индикатором. Значит, все в порядке, запись идет. Рамы на окне не поддавались, разбухнув от дождей, я локтем выдавил стекло, и оно упало вниз, зазвенев. Хорошо бы кто-нибудь обратил внимание. Резкий холодный ночной воздух ударил снаружи, выветривая огуречную отраву. Бьеклин был мертв – голубые глаза кусочками замерзшего неба покоились на лице. Мне не было жаль его. Это он убил Ивина. Теперь я знал точно. В кармане его пиджака я обнаружил легкий, размером с палец, баллончик распылителя, а рядом – стеклянный тубус, наполненный крапчатыми горошинами. Транквилизаторы. Они горчили на языке. Я запихал по одной в каждый мокрый слезливый рот. Туркмен, очнувшись, слабо сказал: – Спасыба, началныка… – Давать повторную дозу я не рискнул. Я очень боялся, что короткий интервал просветления кончится и я ничего не успею сделать. Больше ни на кого рассчитывать было нельзя. Сиверс лежал в кресле – руки до пола – и шептал что-то неразборчивое. Врач безмятежно храпел. Кажется, только я один частично сохранил сознание. Наверное, я невосприимчив к гипнозу. Или, в отличие от других, я был психологически подготовлен: я уже видел действие «Безумного Ганса» – интуитивно насторожился, и это помогло удержаться на поверхности. Правда, недолго. Я чувствовал, что опять проваливаюсь в черную грохочущую яму, у которой нет дна. Мы все здесь погибнем. «Ганс» приводит к шизофрении. Нужна оперативная группа. Или я уже вызывал ее? Не помню. Телефонная трубка выпадала у меня из рук. Появился далекий тревожный голос. Я что-то сказал. Или не сказал. Не знаю. Кажется, я не набирал номера. Угольная чернота охватывала клещами, я проваливался все глубже. Двое волосатых парней в джинсах и кожаных куртках бежали по брусчатой мостовой, и вслед им заливалась полицейская трель. Вот один на бегу вытащил пистолет из-за пояса и бабахнул назад. Завизжала женщина. Режущая кинжальная боль располосовала живот. Терпеть было невозможно. Меня несли на брезентовой плащ-палатке, держа ее за четыре угла. – Пить… – шлаком спекалось все внутри. Посеревший, тяжело дышащий, обросший трехдневной щетиной Сапук хмуро оглядывался и ничего не отвечал. Поскрипывали в вышине золотые верхушки сосен, и медленно проплывали над ними белые хвостатые облака. Сильно трясло. Каждый толчок отдавался ужасной болью. Вот дрогнула и беззвучно осела боковая песочная стена, за ней – другая, провалилась внутрь крыша, с треском ощерились балки, и на том месте, где только что стоял дом, поднялся ватный столб пыли. Солнечный безлюдный Сан-Бернардо исчезал на глазах. Змеистая трещина расколола пустоту базара, шипящие серные пары вырвались из нее и обожгли мне лицо. Я задохнулся. Навстречу мне по мосту бежали люди с мучными страшными лицами.
– Стой!.. Ложи-ись!.. – Часть бойцов залегла на другом берегу, выставив винтовки из лопухов, но в это время от белого в кружевном купеческом камне здания женской гимназии прямой наводкой ударила пушка, и земляной гриб вспучился на середине Поганки. Тогда побежали даже те, кто залег. – Пойдем домой, – умоляюще сказала Вера. – Ты совсем больной. – Я не был болен, я умер и валялся на расщепленных досках с горячим металлом в груди. Доктор Гертвиг обхватил затылок руками, похожими на связку сарделек, а ротмистр в серой шинели, перетянутой ремнями, приятно улыбался мне. Долговязый мрачно спросил: – Он вам еще нужен, мистер? – Меня пихнули, затопив огнем сломанные ноги. Фирна. Провинция Эдем. Корреспондент опустил камеру и равнодушно покачал головой – нет. Тогда мичано, тихо улыбаясь, вытянул из ножен ритуальный кинжал с насечками на рукоятке. Было очень жарко. Я даже не мог пошевелиться. Я знал, что меня сейчас убьют и что я больше не выдержу этого. Как не выдержал Бьеклин. Человек должен умирать только один раз. Но мне казалось, что я умираю каждую секунду – тысяча смертей за одно мгновение. Катастрофически рушились на меня – люди, события, факты, горящие дома, сталкивающиеся орущие поезда, шеренги солдат, земляные окопы, капельки черных бомб, тюремные камеры, электрический ток, дети за колючей проволокой, полицейские дубинки, нищие у ресторанов, ядерные облака в Неваде, корабли, среди обломков и тел погружающиеся в холодную пучину океана. Слишком много боли, сказал мне демиург у Старой Мельницы. Шварцвальд, Остербрюгге… Я захлебывался в хаосе. Это был новый Вавилон. Третий. Столпотворение. Я и не подозревал раньше, что в мире такое количество боли. Он как будто целиком состоял из нее. Бледный водяной пузырь надувался у меня в мозге. Я знал, что это финал, – сейчас он лопнет. Взбудораженное лицо Валахова зависло надо мною. Оно слабо пульсировало, искажаясь, и толстые губы еле слышно шлепали друг о друга:
– Жив?
– Жив…
Длинная игла вонзилась мне в руку на сгибе. Сделали укол. Вдруг начала ужасно разламываться голова.
– Скорее! Скорее! – обретая сознание, прошептал я. – Специалиста по связи! Прямо сюда!.. – Я не был уверен, что выживу. Третий Вавилон. Под черепом у меня плескался крутой кипяток, и я боялся, что забуду разноцветную схему проводов, откуда тянулась тонкая, едва заметная жилочка к Нострадамусу. Фирна. Провинция Эдем. – Скорее! Скорее! У нас совсем нет времени!..
10. Фирна. Провинция Эдем
Сестра Хелла стояла у окна и показывала, как у них в деревне пекут бакары. Она месила невидимое тесто, присыпала его пудрой, выдавливала луковицу – вся палата завороженно смотрела на ее пальцы, а Калеб пытался поймать их и поцеловать кончики.
– А у меня мама печет с шараппой, – сказал Комар, – чтобы семечки хрустели.
– С шараппой тоже вкусно, – ответил Фаяс.
Только Гурд не смотрел. Он был нохо – и не мог смотреть на женщину с бесстыдно открытым лицом. Он лежал, зажмурившись, сомкнув поверх простыни темные ладони, и монотонно читал суры.
Голос его звенел, как испуганная муха.
Фаяс сказал ему:
– Замолчи.
Муха продолжала звенеть.
Сестра Хелла приклеила на стекло две лепешки, и Калеб издал нетерпеливый голодный стон, будто бакары и в самом деле скоро испекутся, но сестра Хелла забыла оторвать руки – вдруг прильнула белой шапочкой к окну, и он тоже прекратил смеяться – нелепо разинул рот, словно хотел проглотить целый хлеб.
На рыночную площадь перед больницей выкатился приземистый массивный грузовик в защитных разводах – чихнул перегретым мотором и замолк. Какие-то люди торопливо выскакивали из кузова. Неожиданно стукнул короткий выстрел, еще один, загремела команда, и истошно, как над покойником, завыли старухи-нищенки.
Тогда сестра Хелла медленно, словно без памяти, попятилась от окна и закрыла потухшие глаза. А Калеб прижался в простенке, и серебряный бисер влаги выступил у него на коричневой распахнутой груди.
– Солдаты, – крупно дрожа, выговорил он.
Железный ноготь чиркнул по зданию, оглушительно посыпались стекла. Фаяс хотел подняться, и ему удалось подняться, он даже опустил на пол загипсованную ногу, но больше ничего не удалось – закружилась голова, и крашеные доски ускользнули в пустоту, он схватился за спинку кровати. Тоненько заплакал Комар: – Спрячьте меня, спрячьте меня!.. – Ему было пятнадцать лет. Калеб, точно во сне – бессильно, начал дергать раму, чтобы открыть, – дверь отлетела, и ввалились потные грязные боевики в пятнистых комбинезонах.
– Не двигаться! Руки на голову!
У них были вывернутые наружу плоские губы и орлиные носы горцев. Их называли мичано – гусеницы.
Фаяс поднял опустевшие руки. Он подумал, что напрасно не послушался камлага и поехал лечиться в город.
Теперь он умрет.
Была неживая тишина. Только Гурд шептал суры. Он тоже встал, но руки на затылок не положил. Капрал замахнулся на него прикладом.
– Нохо! – изумленно сказал он. – Ты же нохо! – Прижал левую ладонь к груди. – Шарам омол!
– Шарам омол, – сказал Гурд, опустив веки.
– Как мог нохо оказаться здесь? Или ты забыл свой род? Или ты стрижешь волосы и ешь свинину? – Капрал подождал ответа, ответа не было. Он сказал: – Этого пока не трогать, я убью его сам.
Черные выкаченные глаза его расширились.
– Женщина!
Сестра Хелла вздрогнула.
Отпихнув солдат, в палату вошел человек с желтой полосой на плече – командир.
– Ну?
– Женщина, – сказал капрал.
Командир посмотрел оценивающе:
– Красивая женщина, я продам ее на базаре в Джумэ, там любят женщин с Севера. Всех остальных…
Он перечеркнул воздух.
Гурд, стоявший рядом с Фаясом, негромко сказал:
– Мужчина может жить как хочет, но умирать он должен как мужчина.
Он сказал это на гортанном диалекте, но Фаяс понял. И капрал тоже понял, потому что прыгнул, плашмя занося автомат. – Поздно! – Худощавое тело Гурда, как змея, распласталось в воздухе – командир схватился за горло, меж скребущих кожу, грязных ногтей его торчал узкий нож с изогнутой ритуальной рукояткой.
Каждый нохо имел такой нож.
– Не надо! Не надо! – жалобно закричал Комар.
Капрал надул жилистую шею, командуя.
Обрушился потолок.
Фаяс загородился тощей подушкой. Ближайший солдат, выщербив очередью стену, повернул к нему горячее дуло. Сотни полуденных ядовитых слепней сели Фаясу на грудь и разом прокусили ее…
Прицел на винтовке плясал, как сумасшедший. Он сказал себе: – Не волнуйся, тебе незачем волноваться, ты уже мертвый. – Это не помогло. Тогда он представил себя мертвым – как он лежит на площади и мичано тычут в него ножами. Прицел все равно дергался. Тогда он прижал винтовку к углу подоконника. Он терял таким образом половину обзора, но он просто не знал, что можно сделать еще. Видны были двое – самые крайние. Он выбрал долговязого, который поджег больницу. Он подумал: – У меня есть целая обойма, и я должен убить шестерых. – Долговязый вдруг пошел вправо, он испугался, что потеряет его, и мягко нажал спуск.
Нельзя было медлить, но все же долгую секунду он смотрел, как солдат, переломившись, валится в глинистую пыль. Затем острыми брызгами отлетела щебенка, и он побежал. Стреляли по нему, но они его не видели. Он выскочил на опустевшую улицу и перемахнул через забор, увяз в рыхлых грядках фасоли – выдирал ботинки, давя молодую зелень. За сараем был узкий лаз, и он спустился по колючим бородавчатым ветвям. Красные лозы ибиска надежно укрыли его. Пахло древесным дымом. Скрипела на зубах земля, и казалось, что это скрипит ненависть.
Откуда они взялись? До границы было почти двести километров. Мичано никогда не забирались так далеко. Крупная банда и отлично вооружены – зенитные ружья, базуки… Два дня назад произошло столкновение у Омерры: группа диверсантов пыталась взорвать электростанцию. У них тоже были базуки. Охрана не растерялась, подоспел взвод народной милиции. Вот откуда они – от Омерры. Думали, что они откатились к границе, ждали их там, а они пошли на Север.
Он пригнул лозу, и красный цветок неожиданно рассыпался, оголив зеленую плодоножку. Жизнь кончилась. Сад был пуст. Он перебежал через сад. Хорошо бы успеть до почты, должна быть рация на милицейском посту. Он спрыгнул в проулок. Навстречу ему шли два мичано. Они шли вразвалку, попыхивая толстыми сигарами. Он выстрелил, передернул затвор и опять выстрелил, как на учениях, – левый мичано даже не успел снять с плеча автомат. Но правый – успел – раскаленным прутом ударило по бедрам. Он упал на твердую землю. Выстрелов больше не было. Второй мичано тоже лежал, загребая руками пыль, будто плавая. Надо было забрать автоматы, но он боялся, что на выстрелы прибегут, – пролез через дыру в плетне. По коленям текло расплавленное железо. Он шел, цепляясь за ветви деревьев. На почте был разгром: скамьи перевернуты, сейф вскрыт, коммутаторы разбиты. В соседней комнате, где был пост, раскидав на полу ненужные ноги и обратив глаза в другой мир, лежал мертвый Гектор. На груди его, на зеленом сукне мундира, засох багровый творог, а из левой брови был вырезан кусочек мяса – «черная сигфа», ритуал. Кисло пахло кровью. Рация извергала пластмассовое нутро. Он осторожно опустился перед окном, заметив краем глаза, что от двери через всю комнату тянется к нему мокрая полоса. Он подумал: «Я, наверное, потерял много крови». Он знал, что отсюда уже не уйдет и останется рядом с Гектором.
Из окна была видна площадь – полукруг деревянных лотков и утоптанное пространство в центре. Стояли мичано с желтыми нашивками, а перед ними – трое стариков в праздничных синих пекештах. И еще одна синяя пекешта лежала на земле. Высокий человек, обвешанный зеркальными аппаратами, отходил, приседал, пятился, поднося к лицу камеру, похожую на автомат, но короче и толще.
– Корреспонденсо, – сказал он сквозь зубы.
Опять положил винтовку на подоконник. Винтовка весила тонну, руки больше не дрожали, наплыл серый туман. Он выстрелил в шевелящиеся неясные тени. Выстрел булькнул очень тихо. Он не видел, попал он или нет, и выстрелил еще раз. Тут же упорный свинцовый дождь глухо заколотил по стенам. Горячая капля ударила его в плечо, обожгла и отбросила. Он услышал слабые крики и понял: к нему бегут. У него оставался еще один патрон. Он ничего не видел, что-то произошло с глазами. Он просунул каменную винтовку вперед и потянул за спуск. А когда они добежали до него, то он был уже мертв…
Корреспондент сказал:
– Дети – это всегда трогательно. Наши добрые граждане прослезятся, увидев детей, и начнут обрывать телефоны своим конгрессменам, требуя срочной помощи.
Шарья попытался спрятаться, но жесткие пальцы ухватили его за ухо, больно смяли и вытащили из толпы.
– Маленький разбойник, все-таки как он вас ненавидит, капрал…
Корреспондент был высокий, на паутинных ножках, между которыми перекатывался выпуклый живот. Будто кузнечик. Фотоаппараты его блистали на солнце.
Капрал швырнул старикам праздничные пекешты:
– Одевайтесь!
Старый Ория, помедлив, натянул синий балахон. Глядя на него, надели и остальные.
Испуганная женщина подала железный лист со свежими, еще дымящимися бакарами. Противоестественный запах хлеба ударил в ноздри. Капрал переложил лепешки на расписное глиняное блюдо и накрыл веткой мирта.
– Ты преподнесешь мне это, – отчеканивая каждую букву, сказал он. – И не забудь, что ты должен все время улыбаться, падаль…
Старый Ория даже не согнул рук, чтобы взять.
Тогда капрал, не удивляясь, позвал:
– Сафар!
Один из солдат картинно вытянулся и щелкнул тяжелыми каблуками.
– Есть!
Они бросили Орию на землю и положили под правую ногу чурбан, и Сафар прыгнул на эту ногу. Ужасный мокрый треск раздался на площади. Заскулили старухи в задних рядах. Солдаты перетащили чурбан под левую ногу. Старый Ория замычал, прокусив губу, и из сморщенных подглазьев его потекли слезы. Затем они сломали ему обе руки. Они работали споро и быстро. Это была все старая гвардия, прошедшая многолетнюю муштру в столице – легионы смерти. Сафар наступил на волосы и, блеснув узким ножом, вырезал «сигфу». Осклабился перед камерой, держа этот кусочек в щепоти.
– Уникальные кадры, – волнуясь, сказал корреспондент. – Перережь ему горло, я дам тебе пять долларов.
Старый Ория дышал, как загнанная лошадь. Сафар наклонился и чиркнул ножом по кадыку – засвистела, запузырилась кровь, выходящая из гортани.
Старухи завыли в голос.
– Молчать! – приказал капрал, и плач был мгновенно задавлен. Он сунул блюдо старому Ларпе: – Улыбайся, шакал и сын шакала!
– Простите меня, люди, – сказал старый Ларпа. Взял блюдо.
Руки его мелко дрожали.
– Я заставлю тебя жрать собственное дерьмо, – зловеще оскалясь, процедил капрал. – Ты подаешь их задом, ты оскорбляешь меня?!.
Корреспондент махнул рукой:
– Наплевать… Никто не знает, где тут зад, а где перед. Наши добрые граждане посмотрят на счастливые радостные лица и увидят, как простой народ приветствует борцов против коммунистической тирании… Улыбайся, сволочь, – велел он старому Ларпе.
Ларпа улыбнулся, и улыбка его была похожа на гримасу боли.
На Шарью никто не смотрел. Он отступил на шаг, потом еще на шаг и вдруг, быстро повернувшись, побежал через площадь к ближайшим домам. Босые ноги стрекотали в пыли. За спиной его крикнули: – Назад! Стой, червяк!.. – Грохнул выстрел, сбоку распух небольшой пыльный фонтанчик, спасительные дома были уже близко – острый раскаленный гвоздь воткнулся ему в спину пониже лопатки. Шарья упал, перекатился через голову, стукнулся пятками о землю, пополз – почему-то обратно – и застыл на половине движения, скрутившись, как прошлогодний лист.
– Никогда не видел, чтобы по детям, – сказал взволнованный корреспондент. Его мутило. Он помял себе лицо. – Странное ощущение вседозволенности…
Капрал равнодушно пожал плечами.
В это время выстрелили со стороны почты.
Солдаты, как один, попадали ниц и облили распахнутые окна плотным автоматным огнем. Начали перебегать – умело, на четвереньках. Трескотня была оглушительная, и поэтому второго выстрела никто не услыхал, только корреспондент недоуменно взялся за свой выпирающий живот, отнял руки – они были испачканы красным – не веря, поднес к самым глазам, смотрел, стремительно бледнея, и вдруг издал долгий, жалобный, тревожный, пронзительный заячий писк…
Навстречу им попались носилки – раненый держался за бок, кряхтел и постанывал. Дальше, у самых домов, лежал мертвый мальчик. Сестра Хелла споткнулась, ударившись о его стеклянный взгляд. Мичано толкнул в спину: – Иди! – Учительница впереди нее ступала, как слепая, а продавщица из магазина, придерживая порванное платье, плакала навзрыд, она до смерти боялась нохо.
Школа состояла из трех больших помещений – бывший дом откупщика. Их загнали в кабинет для младших классов. Там уже были двое солдат и две девушки. Одну сестра Хелла знала – из магистрата, вторая была незнакомая. Девушки стояли у доски, закрываясь трепещущими руками, а солдаты сидели на сдвинутых к стене партах и курили сигары.
Они отдыхали.
– Пополнение, – сказал мичано, который привел их. – Эта учительница. Ты, Чендар, любишь образованных.
Их поставили рядом с девушками у доски. Сестра Хелла не могла дышать, горло запечатал жесткий комок. Звуки застревали в воздухе. Чендар, у которого топорщились хищные кошачьи усы, лениво подошел. Долго смотрел, попыхивая сигарой. Под его немигающим взглядом учительница отодвигалась, пока не уперлась спиной в доску. Тогда Чендар положил ей руку на грудь, она ухватилась за эту короткопалую руку, чтобы отвести, и он с размаху влепил ей пощечину – мотнулось белое лицо. Расстегнул пуговицы и просунул ладонь под платье. Жмурился, длинно причмокивая. Учительница быстро-быстро беспомощно моргала, держа на весу шевелящиеся пальцы.
– Годится, – наконец решил Чендар и за волосы потащил ее к двум сдвинутым партам, у которых были отломаны спинки, так что образовался широкий лежак. Толкнул ее туда и навалился сверху.
Ботинки лягали потный воздух.
Другой солдат сказал:
– Я возьму – пока эту…
Продавщица в разорванном платье зарыдала еще сильнее – сама, не дожидаясь команды, мелко семеня, покорно встала перед ним, и солдат одним нетерпеливым движением сдернул с нее одежду.
Кто-то заслонил окно с улицы – неразличимо темный против солнца.
– Развлекаетесь?.. Журналист умер. Псург просто взбесился: велел поджигать все дома подряд, так мы до ночи провозимся. – Утерся рукавом. – Оставьте мне, какую помоложе, я скоро…
И провалился в солнечный туман.
Мичано, который привел их, потрогал бедра у одной из девушек, оглядел вторую – велел: – Расстегнись! – Смотрел, как она, всхлипывая, поспешно обнажает грудь. Перевел взгляд на сестру Хеллу: – И ты тоже! – Сестра Хелла думала, что не расстегнется, пусть лучше убьют, но увидела его бесцветные, как у всех горцев, ничего не выражающие глаза и, будто в обмороке, взялась за пуговицы.
– Ты мне нравишься, – сказал мичано. Ощерился, показав испорченные неполные зубы. Тронул ее за плечо, она пошла, не понимая – куда и зачем. Ноги сгибались, как резиновые. Гулким колоколом бухала кровь в пустой голове. Со всех сторон возились и сопели. Она ждала, что треснет земля и поглотит ее.
Она хотела умереть.
Вместо этого в дверях возник запыхавшийся молодой солдат и, отчаянно жестикулируя, прокричал что-то. Обрывки фраз доходили до нее с опозданием.
– Патруль… народная армия… на двух машинах…
Выскочил из-за парты Чендар – на кривых ногах, и поднялась ошеломленная учительница, но почему-то сразу упала. И одна из девушек упала тоже. И продавщица забилась в угол между партами и осталась там. Раздавались какие-то слабые хлопки. Зачихал снаружи мотор грузовика. Вторая девушка беззвучно открывала рот, светлую блузку ее наискось испятнали спелые раздавленные ягоды. Мичано, залитый искристым солнцем, очень медленно вставлял свежую обойму в рукоять автомата.
Сестра Хелла отпустила пуговицы. Она поняла, что сейчас ее убьют, и обрадовалась…
СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТ
Израильские вертолеты нанесли вчера новый ракетно-бомбовый удар по окрестностям южноливанского города Сайда, где расположены лагеря палестинских беженцев. Имеются убитые и раненые.
70 тысяч полицейских блокировали основные магистрали южнокорейской столицы, чтобы не допустить манифестации против антинародного режима Чон Ду Хвана. Демонстранты были встречены дубинками, слезоточивым газом и залпами резиновых пуль. Только по предварительным данным, арестовано 635 человек.
Как сообщает агентство ПТИ, за сутки, прошедшие со времени зверского убийства 24 пассажиров автобуса в округе Хошиярпур, еще десять человек погибли от пуль террористов. Вооруженные нападения совершены одновременно в нескольких местах.
Соединенные Штаты произвели очередной ядерный взрыв на полигоне в Неваде. Это уже 23-е американское ядерное испытание с момента введения Советским Союзом в одностороннем порядке моратория на все ядерные взрывы, соблюдаемого и по сей день.
В Соуэто, крупнейшем гетто Южной Америки, банда расистских молодчиков промчалась на автомобиле по улицам, обстреливая прохожих. Несколько человек убито. Неизвестными террористами оказались полицейские, угнавшие автобус.
Кровавую расправу над безоружными людьми учинил в Боготе бывший американский солдат, участник войны во Вьетнаме Элиас Дельгадо. От его рук погибли 29 человек. Находясь под воздействием наркотиков, этот обезумевший «ветеран» застрелил собственную мать и пятерых девушек-студенток, проживающих по соседству, а затем открыл стрельбу по посетителям в ресторане…
11. Настанет день…
Спасти его не удалось.
Как ни странно, потребовалось довольно много времени, чтобы соотнести увиденную мною схему телефонных соединений с реальной городской сетью. Поэтому когда оперативная группа прибыла по адресу, то в аккуратной, очень строгой и чистой, наполненной влажными сумерками комнате, где блестели длинным стеклом книжные стеллажи, она застала человека, – сидящего за письменным столом и уронившего седую голову на разбросанные в беспорядке бумаги.
Фамилия его была – Денисов.
Александр Иванович.
Он был очень стар.
Он родился в Петербурге, получил диплом врача, участвовал в революции, женился, воевал, был ранен, работал в различных институтах, защитил диссертацию, написал две монографии, заведовал кафедрой, вышел на пенсию, оставался консультантом по проблемам биологии.
Последние двадцать лет он занимал комнату в большой коммунальной квартире в Павелецком переулке. Недалеко от Маканина.
Комната была метров двенадцать.
Телефон – свой.
Медицинская экспертиза, произведенная немедленно, установила, что смерть наступила сегодня, двадцать девятого ноября, около шести часов утра. Причиной ее явилось резкое кровоизлияние в мозг – геморрагический инсульт. Видимо, он был чрезвычайно острым, внезапным и сопровождался разрушением нервных тканей.
Экспертиза отметила, что в организме пострадавшего совершенно отсутствуют признаки гипертонии и сопутствующих ей явлений, на фоне которых мог бы развиться инсульт такой интенсивности.
Он был удивительно здоров для своего возраста.
Скорее всего, гипертонический криз и связанное с ним поражение мозга имели в своей основе необычайно сильное эмоциональное переживание: внезапный испуг, ужас, горе.
Экспертиза полностью исключила возможность насильственной смерти.
Соседи показали, что жил он на редкость замкнуто, большую часть времени проводил дома и, видимо, не имел в последние годы близких друзей или знакомых.
Его никто не навещал.
Это было понятно: невозможно дружить с человеком, который знает о тебе все.
Родственников у него не было.
Вот так.
Остались многочисленные записи, остались дневники, остались протоколы наблюдений. Все это было изъято. Дело о Нострадамусе мы закрыли.
Краем уха я слышал, что было проведено несколько ответственных совещаний, где анализировались все аспекты внутреннего зрения. Было выяснено, что «прокол» не представляет собой принципиально нового биологического свойства. В неявной форме он присущ некоторым высшим животным и даже насекомым. В чистом виде «проколом сути» (ридинг-эффект) является, например, так называемое озарение у ученых, в момент которого они сразу, минуя все промежуточные этапы, видят конечный результат исследования, или близкое к нему вдохновение, свойственное художникам и писателям, когда автор очень ясно, до тончайших нюансов ощущает все свое новое, еще даже не написанное произведение.
Так что это факт известный.
Вероятно, ограниченным внутренним зрением в какой-то мере обладают все опытные врачи.
Или инженеры.
Или геологи.
Это называется интуицией.
Наверное, в дальнейшем оно станет одним из основных инструментов познания.
Я надеюсь.
Надо сказать, что участники совещаний пребывали в некоторой растерянности: с одной стороны, метод Нострадамуса имел громадную стратегическую ценность, фактически преобразуя наше видение Вселенной, но с другой – освоение его требовало полутора или двух десятков лет напряженной и самоотверженной работы, а по достижении первых же значимых результатов приводило к быстрой и неизбежной гибели реципиента.
Не знаю, кто бы согласился пойти на это. Я бы не согласился.
Я хорошо помню свои ощущения во время «прокола». Это было настоящее столпотворение ужасов и катастроф.
Третий Вавилон.
Я едва выжил.
Ничего не поделаешь.
Таков наш мир.
Конечно, он не состоит из одной лишь боли. Скорее наоборот. Основой его являются позитивные гуманистические идеалы. В мире много радости и счастья. Но человеческое счастье есть чувство естественное. Я бы сказал, что это есть норма, и оно воспринимается как норма – будто воздух, которым дышишь, не замечая. Это необходимый жизненный фон. А социальная патология, которая, пузырясь, захлестывает нашу планету, уродливыми формами своими настолько вываливается из фона, что при настоящем «проколе» ощущаешь прежде всего ее – очень ярко и в полном объеме.
Одно связано с другим, и действительное «проникновение в суть» обязательно сопровождается спонтанным восприятием черного хаоса современности.
Они неразделимы.
Нельзя видеть только часть правды.
Нострадамуса убила Фирна. Или что-то последовавшее за ней.
Я не знаю – что?
Судя по записям в дневнике, он уже начинал догадываться об этом. Картины финальных страниц невыносимы. Но останавливаться было поздно, он добился успеха – началось непрерывное озарение, и вся боль мира хлынула в него.
Третий Вавилон.
Единственное, что он успел, – это попытаться хоть как-то помочь людям.
И то немного.
Я думаю, что метод действительно появился слишком рано. Я читаю газеты и смотрю телевизор: мир полон таких самоубийственных событий, что невольно возникает сомнение в разумности земной цивилизации. Человеку, который непосредственно воспринимает жестокость и кровь, текущие по континентам, просто невозможно существовать в наше время.
Я думаю, что это дело будущего.
Когда-нибудь исчезнут войны и насилие, о геноциде, терроре и расовой дискриминации будут читать только в книгах по истории. А любое преступление против отдельной личности или против общества в целом будет рассматриваться как явный симптом сумасшествия, требующий экстренного и радикального лечения.
Тогда можно будет вновь обратиться к дару, который заложен в нас неистощимой природой.
Я уверен, что такое время наступит…
Послание к Коринфянам
Изгнание беса
Воздух горел. Как и положено в преисподней. И кипел смоляной пар в котлах – с мотоциклетным урчанием. Желтые волны огня бороздили пространство. Накрывали лицо. Внутри них была раскаленная пустота. Жар и сухость. Лопалась натянутая кожа на скулах. «Пить… – попросил он, не слыша себя. Где-то здесь, поблизости должна была быть Лаура. – Воды…» В горле надсадно хрипело. Деревянный язык царапал рот. До крови – которой не было. Она превратилась в тягучую желчь и пламенем растекалась по телу. Он знал, что так теперь будет всегда. Тысячу лет, бесконечность. Пламя и желчь. И страх. И кошачьи когти, скребущие сердце. Темная фигура отца Герувима, по пояс в колышущихся лепестках огня, торжественно поднимала руки. Звенела яростная латынь. Соскальзывали к плечам широкие рукава сутаны. Жилистые синеватые локти взывали к небу. Око свое обрати на мя, и обрету мир блаженный и вечное успокоение!.. Небо безмолвствовало. Вместо него был дым от горящей серы. Душный, непроницаемо-плотный. Радостные свиные морды выглядывали оттуда. Похожие на полицейские вертолеты – он как-то видел такие во время облавы. Хрюкали волосяные рыла. Морщились пятачки с дырами смрадных ноздрей. Они – жаждали, они ждали, когда можно будет – терзать. Он принадлежал только им. Бог уже отступился. Они протягивали звериные крючковатые когти. Крест отца Герувима был последним хрупким заслоном.
– Пить…
Лаура была где-то рядом. Он чувствовал едкое облако ненависти, исходящее от нее. Воды она, конечно, не даст. И отец Герувим тоже не даст воды. И никто не даст – огненное мучение никогда не закончится.
Это наказание за грех. Плач будет слезами и кровью!
Он сжался – голый и худой мальчик на грязном полу. Впалый живот дрожал под дугами вздутых ребер. Жирные, натертые сажей волосы забивались в рот. Он ждал боли, которая раздавит его, передернет корчей, заставит биться головой о паркет и, сломав горло, выть волчьим голодным, леденящим кровь воем.
Незнакомый голос громко сказал: – Подонки!.. – И второй, тоже незнакомый, сказал: – Спокойнее, Карл… – Посмотри, что они с ним сделали!.. – Карл, спокойнее!.. – Послышались шаги, множество торопливых шагов. Двинули чем-то тяжелым, что-то посыпалось на пол – тупо позвякивая. – Во имя Отца и Сына! – крепко сказал отец Герувим. Мальчик съежился. Но боли, вопреки ожиданиям, не было. Не было совсем. И пламя опадало бессильно. – Тебя убить мало, – яростно сказал первый. – Спокойнее, Карл… – Они все садисты, эти святые отцы!.. – Вы мешаете законоразрешенному обряду, я вызову полицию, – это опять отец Герувим. – Пожалуйста. Лейтенант, представьтесь, – властно и холодно произнес второй голос. Щелкнули каблуки. – Лейтенант полиции Якобс! Инспекция по делам несовершеннолетних. – Второй, холодный, голос повесил в воздухе отчетливую угрозу: – Вам известно, что экзорцизм допускается законом только с разрешения родственников и в присутствии государственного врача? – Во имя Отца и Сына и Святого Духа… – Лейтенант, приступайте! – Но благословение Господне! – воскликнул отец Герувим. – В тюрьму сядешь со своим благословением! – Спокойнее, спокойнее, Карл. Доктор, прошу вас…
Чьи-то руки осторожно подняли его, понесли, опустили на диван, скрипнувший продавленными пружинами: – Бедный мальчик… – обыкновенные руки, совсем человеческие. У отца Герувима словно яд сочился из пальцев, после прикосновения выступали красные пятна на коже. А Лаура подкладывала ладонь, как кусок льда, – немел и тупо ныл промерзающий лоб. – Бедный мальчик, ему, наверное, месяц не давали есть… – Не месяц, а две недели, мог бы возразить он. Или, может быть, три? Он точно не помнил. Струйкой полилась вода в запекшееся горло. Сладкая и прохладная, как сама жизнь, имеющая необыкновенный вкус. Он открыл глаза. Как много их тут было! Черные тени в маленькой, скудно освещенной комнате. В отблесках призрачного, адского, стеклянного пламени. Высокий с властным голосом, сразу чувствовалось, что этот человек имеет привычку командовать, и другой – нервно сдавливающий виски пальцами, и доктор с толстостенным стаканом, где что-то плескалось, и разгневанный отец Герувим, и Лаура, которая беззвучно разевала и схлопывала рыбий рот, и еще кто-то, и еще, и еще. Он боялся, когда сразу много людей. Много людей – это почти всегда плохо. Их было много на холме. Ночью. Светили дикие автомобильные фары. Голубой туман, будто лед, лежал на вершине. Его привела туда мать и сильно держала за руку, чтобы он не вырвался. А вокруг, точно выкопанные из земли, – стояли. Лица бледные, вываренные, но не от диких фар – просто от страха. Страха было много; он чувствовал это, и его мутило. А некоторые были, кроме того, в матерчатых балахонах. Еще страшнее – белые островерхие капюшоны с прорезями для глаз. Жевали табак. Поднимая край ткани, сплевывали едкую жижу на землю. Потом проволокли того – связанного, без рубашки. Босые ступни в крови, а мягкая выпуклая спина будто свекла – так его били. Он на всю жизнь это запомнил. Кто-то предложил хрипловато: – Давайте подсажу мальца, пусть поглядит на одержимого… – Спаси вас и сохрани, добрый человек, – благодарно ответила мать. Он не хотел, он весь напрягался, но его все-таки подняли и подсадили. Открытый холм, залитый голубым, и на вершине – неуклюжий крест из телеграфных столбов. Того, со свекольной спиной, уже прикрутили проволокой к перекладинам. Свесилась голова, потянув за собой слабые плечи. Казалось, человек хочет нырнуть и никак не решается. Он смотрел, забывая дышать. Страх пучился зыбким тестом. Рядом крестились изо всех сил. И мать тоже крестилась: дрожала и вытирала с лица цыганистый пот. Возник рядом с крестом главный в сумрачном балахоне, что-то провозгласил, подняв к небу два копотных факела. Все как-то уныло запели: «Господу нашему слава»!.. И мать пела вместе со всеми, прикрыв от восторга глаза. Завыло будто в трубе, хлестануло искрами; длинный гудящий костер уперся в звезды. Стало вдруг ужасно светло. Фары выключили, и машины начали отъезжать. Заячий, тонкий, как волос, крик вылетел из огня. Запели, как по команде, громче, видимо, чтобы его заглушить. Страх поднялся до глаз и потек в легкие. Он тоже кричал, – не помня себя, бил острыми кулаками в небритую, толстую, странно бесчувственную физиономию. Приторный дым относило в их сторону…
Его спросили:
– Ты можешь подняться?
Он, опираясь на руки, сел. Кружилась мутная голова, и тек по лопаткам озноб, оттого что слишком много людей. Хотя озноб был всегда – после геенны.
Громоздкий человек в двубортном официальном костюме уронил на него взгляд – кожа и кости, живот, прилипающий к позвоночнику.
– Доктор, он может идти?
– Да, выносливый мальчик.
– Тогда пусть одевается. – И повернулся всем телом к Лауре. – Я его забираю. Прямо сейчас.
Лаура отклячила рыбью челюсть:
– Но… господин директор…
– Документы на опеку уже оформлены? – приятно улыбаясь, спросил отец Герувим. Тот, кого называли директором, посмотрел на него как на пустое место. – Если еще документы не оформлены, то я обращаюсь к присутствующему здесь представителю власти.
Лейтенант полиции Якобс с огромным вниманием изучал свои розовые, как у младенца, холеные ногти.
– Закон не нарушен, – сдержанно сообщил он.
– Надеюсь, вы «брат наш во Христе»? – очень мягко, заглядывая ему в глаза, спросил отец Герувим.
– «Брат», – ответил лейтенант Якобс, любуясь безупречным мизинцем. – Все мы, в полиции, разумеется, «братья», но – закон не нарушен.
Нервный человек, который до этого, как от мигрени, сжимал виски, подал рубашку. Больше мешал ему – рукава не попадали. Человек морщился, злился и усиленно моргал натертыми, красноватыми веками.
Вдруг процедил неразборчивым шепотком:
– Доктор, у вас есть что-нибудь… от зубной боли? – У того растерянные зрачки прыгнули на отца Герувима. – Да не вертитесь, доктор, никто на нас не смотрит.
– А вы что, из этих? – еле слышно прошелестел врач.
– Так есть или нет?
– Я не могу, обратитесь в клинику, – сказал врач.
– А ну вас к черту с вашей чертовой клиникой!
– Я всего лишь полицейский чиновник, – виновато сказал врач.
– А ну вас к черту, чертовых полицейских чиновников, – отрывисто бросил нервный.
У него крупно, будто в истерике, дрожали руки.
– Сестра моя, – с упреком сказал Лауре отец Герувим. – Я напоминаю о вашем христианском долге…
– Простите, святой отец…
– Я обращаюсь прежде всего к вашему сердцу…
Лаура растерянно теребила клеенчатый вытершийся передник.
Тогда директор раздраженно ощерился и поднял брови.
– Ради бога! Оставьте своего ребенка при себе, – высокомерно сказал он. – Ради бога! Верните задаток.
Отец Герувим тут же впился в Лауру темными ищущими глазами.
– Ах нет, я согласна, – торопливо сказала Лаура. – В конце концов, у меня есть свидетельство об усыновлении.
– Деньги, – горько заметил отец Герувим. – Всегда деньги. Проклятые сребреники.
Улыбка его пропала, будто ее и не было на лице. Он раскрыл плоский кожаный чемоданчик, наподобие медицинского, деловито собрал сброшенные на пол никелированные щипчики, тисочки, иглы. Уже в дверях, благословляя, поднял вялую руку:
– Слава Спасителю!
– Во веки веков!.. – быстро и испуганно отозвался врач. Только он один, никто более. Директор, дернув монолитной щекой, отвернулся. Лаура кусала губы – крупными, как у кобылы, зубами.
– Я вам еще нужен? – скучая, спросил лейтенант Якобс.
– Нет, благодарю, – коротко ответил директор.
Лейтенант с сожалением оторвался от созерцания безымянного пальца.
Легко вздохнул:
– Я бы советовал вам уезжать скорее. По-моему, он вас узнал.
– Да?
– Так мне кажется.
– Ах! – громко сказала Лаура.
Вышли на лестницу. Серый свет еле сочился сквозь узкую бойницу окна. Второе окно было заложено кирпичами. Карл наткнулся на помойное ведро и выругался, когда потекла жижа.
Мальчик искривил губы.
– На лифте не поедем, – как бы ничего не заметив, сказал директор. – Не будем рисковать. Они обожают взрывать лифты.
Он оглядывался.
– Пристегни его, – посоветовал Карл. – А то убежит. Звереныш какой-то.
– Не убежит. – Директор тронул мальчика за плечо. – Ты будешь жить недалеко отсюда, за городом. Там хорошее место, у тебя будут друзья. – Мальчик, вывернувшись вбок и вниз, освободился от прикосновения. – Если не понравится, мы отвезем тебя обратно домой, – пообещал директор.
Он опять как бы ничего не заметил.
– Ты меня слышишь?
Мальчик не отвечал. Тер щеку. Лаура чмокнула его на прощание дряблыми, жалостными губами, и теперь кожа, смоченная слюной, немела от холода.
– Как тебя зовут?
– Герд.
Это было первое, что он произнес – скрипучим голосом старика.
– Конечно, звереныш, – сказал Карл. – А может быть, нам и нужны такие, звереныши. А вовсе не падшие ангелы. Чтобы у них были зубы и были когти, и чтобы они ненавидели всех, нас в том числе… Кстати, ты обратил внимание на его голос, гормональное перерождение? М…м…м… – Он потерся подбородком о грудь, видимо не сдержавшись. – Послушай, дай мне таблетку… голова раскалывается… Что-то я сегодня плохо переношу слово Господне…
Директор протянул ему хрустящую упаковку:
– Тебе давно пора научиться жить без таблеток. Когда-нибудь прихватит по-настоящему здесь, в городе – кончишь на костре.
Карл неожиданно крутанул головой.
– Да не хочу я учиться! – с прорвавшейся злостью сказал он. – Ты что, не понимаешь этого? Не понимаешь? Пускай они нас боятся, а не мы их.
– Они и так нас боятся, – сказал директор. – Если бы они не боялись, все было бы гораздо проще.
На лестнице шибало кошачьей мочой, жареной салакой и прокисшим дешевым супом. Неистребимый запах. Герд наизусть знал тут все треснутые ступени. Сколько раз, надломив ноги, он кубарем летел вниз, а в спину его толкал кухонный голос Лауры: «Упырь!.. Дьявольское отродье!..» Убежать было бы здорово, вот только – куда? Везде то же самое: страх, и липкие подозрения, и курящиеся приторным дымом чудовищные клумбы костров. Хорошо бы – где никого нет, на остров какой-нибудь в океане. Такой маленький, затерянный среди водной пустыни остров. Ни одного человека, лишь терпеливые рыбы…
Свет на улице был колюч и ярок. Машина с покатым туловищем жука поджидала у тротуара.
– Надеюсь, нам не подложили какой-нибудь сюрприз, – осведомился Карл, открывая дверцу. Директор кивнул ему на полицейского, который, расставив ноги, следил за ними из-под надвинутой каски. – А… блюститель, тогда все в порядке… – Машина прыгнула с места. Карл небрежно, как профессионал, доворачивал руль. – А этот, лейтенант Якобс… Он, кажется, вообще ничего. Порядочный, видимо; полицейский, и на тебе – порядочный человек. Сейчас редко кто осмелится возразить священнику. Нам бы с ним, наверное, надо…
– Я хорошо оплачиваю эту порядочность, – сказал директор.
– Платишь? Да? Я и не знал, что у нас есть связи с полицией.
– Какие там связи. – Директор поглядывал в правое зеркальце, вынесенное на держателе. – Плакать хочется, такие у нас связи. То ли мы их потихонечку покупаем, то ли они нас тайком продают.
Карл сморщил извилистый, как сельдерей, заостренный нос.
– Чего я не понимаю, так это позицию президента. Он семейный человек? Он нас поддерживает? Тогда почему?.. Все жаждут прогресса… Ты объясни ему, что это – самоубийство. Между прочим, у него есть дети?
Директор кивнул, не отрывая взгляда от зеркальца.
– За нами хвост, – напряженно сообщил он.
– Да? Сейчас проверим… – Машина, круто взвизгнув, вошла в поворот, качнувшись на двух колесах. – Сейчас увидим!.. – Снова визг бороздящих по асфальтовому покрытию шин. – Действительно хвост. И хорошо держатся – как привязанные. Я так догадываюсь, что это – «братья во Христе»? Подонки со своей дерьмовой благодатью! – Карл быстро поглядывал то вперед, то в верхнее зеркальце. – За городом мы от них оторвемся. Я ручаюсь, у нас мотор – втрое…
Громко щелкнуло, и на ветровом стекле в окружении мелких трещин возникли две круглые дырочки. Хлестнуло осколочной крошкой. Карл резко пригнулся к баранке.
– А вот это уже серьезно, – сказал директор. – Это они совсем распустились – стрелять на улице. Будь добр, притормози у ближайшего участка. Потребуем полицейского сопровождения. Обязаны дать. Ты слышишь меня, Карл?
Карл лежал на руле, и ладони его, как у сонного, тихо съезжали с обода. Машина опасно вильнула. Директор откинул его на сиденье, голова запрокинулась. Над правой бровью в белизне чистого лба темнело отверстие. И вдруг из него толчком выбросило коричневую густую кровь. – Ка-арл… – растерянно протянул директор. Свободной рукой судорожно ухватился за руль. Поздно! Машина подпрыгнула, боком развернувшись на кромке, у самых глаз прокрутились – газетный киоск, витрина, стена из неоштукатуренного кирпича. Герд зажмурился. Грохнуло и рассыпалось. Его ужасно швырнуло вперед. Больно хрустнули ребра, сиреневые слепые круги поплыли в воздухе. Он мешком вывалился из машины. – Вставай! Да вставай же!.. – яростно дергал его директор. Лицо у него было мелко сбрызнуто кровью. Они побежали, хрустело стекло, директор немного прихрамывал. Машина их, уткнувшись в киоск, топорщилась дверцами, как насекомое на булавке. Вторая, стального цвета, затормозила, едва не врезавшись в бампер. Выскочили из нее четверо, в шелковых черных рубашках навыпуск. На груди – восьмиконечные серебряные кресты. Один тут же нелепо растянулся, видимо обо что-то споткнувшись, но остальные трое упорно бежали за ними. Передний, не останавливаясь, вскинул сведенные руки. Вжик – вжик – вжик!.. – чиркнули о мостовую пули. Целились они, кажется, в ноги. – Мы им нужны живыми!.. – на бегу крикнул директор. Свернул в низкую и угрюмую подворотню ближайшего дома. Проскочили один двор, другой – там на мокрых веревках хлопало от ветра белье. Женщина, испуганно растопырив локти, присела над тазом, как курица над цыплятами. Ввалились в какую-то парадную, в дурно пахнущий сумрак. – Да шевелись же!.. – совсем по-звериному рычал директор. Лестница была тусклая и крутая. Герд подумал, что если они доберутся до чердака, то спасутся. Он-то уж точно, по чердакам они его не догонят. Со двора доносились дикие возгласы, их искали. Жахнула внизу дверь, истошный голос завопил: – Сюда! Здесь они!.. – Чердак был заперт. Здоровенный пудовый замок смыкал собою две железные полосы. Герд зачем-то потрогал его. Замок даже не шелохнулся.
– Ничего, ничего, обойдемся и так, – невнятно сказал директор. Ногой, с размаху, выбил раму низенького окна. Она ухнула глубоко во дворе. Достал блестящие никелированные наручники.
– Летать умеешь?
Герд отчаянно затряс головой и попятился.
– Пропадешь тут, – с сожалением сказал директор. Ловко поймал его твердыми пальцами и защелкнул браслет. Герд молча впился зубами в волосатое жилистое запястье.
– Ох!.. – отвратительно проскрипел директор, кривясь от боли. – Дурак ты, дурак, звереныш, не понимаешь, они же тебя убьют!.. – На лестнице, уже совсем близко, бухал каблучный бег, умноженный эхом. – Только не бойся, ничего не бойся и держись за меня. – Он перевалил Герда за подоконник, из которого жутко торчали кривоватые гвозди. Герд – рухнул, стальная цепочка тенькнула, чуть не выломав плечо из сустава. Директор немедленно протянул ему вторую руку. – На! – Герд безнадежно, как утопающий, вцепился в ладонь.
Они поднимались – медленно и тяжело, над ребристой с пятнами ржавчины крышей.
Далеко, на дне квадратного дворика, женщина плескала руками.
– Крыша нас заслонит, – объяснил директор. – Они сюда не выберутся.
Он дышал прерывисто, и на лбу его вздулись темные вены. И текла по скуле кровь с гнилостным зеленоватым оттенком. Подтянул Герда к себе и ухватил под мышки, сцепив на груди крепкие пальцы. Ветер сносил их на другую сторону дома. Город распахивался внизу дремучим, паническим хаосом крыш и улиц.
Жгли послед черной кошки. Кошка только что родила и была тут же, в корзине, на подстилке из разноцветных тряпок, протяжно мяукала, светя ярко-зелеными жалобными глазами. Кто-то поставил неподалеку блюдечко с молоком. Трое мокрых котят, попискивая, тыкались ей в живот бульдожьими мордочками. Она вылизывала им редкую шерсть. Еще трое родились мертвыми и теперь были выложены на подносе, рядом с треногой, под которой задыхался огонь. Герду их было жалко до слез: половина, а то и больше приплода рождались безжизненными. Это закономерно, говорил учитель Гармаш, трудолюбиво помаргивая. Инбридинг, близкородственное скрещивание, они ведут чистую линию уже несколько поколений, летальные мутации выходят из рецессива – следует неизбежное вырождение и смерть… – Герд уже понемногу начинал разбираться в этой механике. Очень трудно, например, достается материал. Черных кошек повсеместно ловят и уничтожают. Считается, что именно в кошек черного цвета переселяются бесы. Глупость невыносимая. И точно так же уничтожают черных свиней на фермах. А черных собак, по-видимому, вообще уже нигде не осталось. Популяция малой численности в наше время просто обречена. Кстати, сколько их тут, в санатории, человек шестьдесят, вместе с учителями? Тоже, если смотреть правде в глаза, малая популяция. Герд вчера спросил об этом учителя Гармаша, и учитель Гармаш ничего ему не ответил. Опустил глаза и ушел, болезненно сгорбившись. Нечего ему было ответить. Чистая линия. Вырождение, смерть.
Его чувствительно ущипнули сзади. – Ой!.. – Обернулись нечеловечески карикатурные рожи. Герд сразу же сделал внимательное лицо, чтобы они не смеялись. Учитель Гармаш пинцетом поднял послед над разогретой до вишневого накала решеткой: плацента, свойственная плацентарным млекопитающим… – Препаровальной иглой тыкал куда-то в оборванную пуповину. Он был близорук, двояковыпуклые очки его съехали на нос. Герд не слушал, он знал, что вспомнит все это, если понадобится. Притиснувшаяся Кикимора уставилась на него фасеточными, как у стрекозы, глазами. Он показал ей язык. Нечего тут подмигивать. Кикимора отвернулась, скорчив обиженную гримасу. Обезьяна! И мордочка у нее именно обезьянья! Герд ее презирал, как, впрочем, и всех остальных мартышек тоже. В спину ему отчетливым искаженным голосом прогнусавили: – Кто хочет увидеть уродство их, пусть берет послед кошки черной и рожденной от черной, первородной и рожденной от первородной, пусть сожжет, смелет и посыплет себе в глаза, и он их увидит… Или пусть берет просеянную золу, никогда же осиновую, но от березы или от ясеня, и посыплет у кровати своей, а наутро увидит следы их – наподобие петушиных… – Гнусавил, разумеется, Толстый Папа. И ущипнул его в первый раз тоже он. Герд осторожно показал ему кулак за спиной. Толстый Папа хихикнул и забубнил, опять нарочно гнусавя: – Шесть качеств имеют бесы: тремя они подобны людям, а тремя ангелам: как люди, они едят и пьют, как люди, они размножаются, и, как люди, они умирают; как у ангелов, у них есть крылья, как ангелы, они знают будущее, как ангелы, они ходят от одного конца мира и до другого. Они могут принимать любой вид и становятся невидимыми… – Герд потряс кулаком, обещая надавать после уроков. Его – задело. Правда, Толстому Папе не особенно надаешь. Он тебе сам надает так, что держись. Герд помнил, как Толстый Папа, беснуясь по случаю новолуния, плюясь жгучей слюной и выкрикивая, впрочем не слишком опасные, заклинания, в одну секунду скрутил Поганку, который сунулся было его успокаивать. В обруч согнул – даже не притрагиваясь, одним только взглядом. А ведь Поганку не так просто скрутить. Поганка – изумительный «дремник». В два счета усыпит кого хочешь, хоть самого учителя Гармаша. Вот он и сейчас стоит у него за спиной в своей плоской как блин, заношенной соломенной шляпе – дурацкая у него шляпа, но он ее никогда не снимает, даже ночью завязывает на подбородке специальные тесемочки; говорят, что у него под шляпой, в черепе, дырка размером с кулак, плещется жидкий мозг, но я хотел бы посмотреть на того, кто ему скажет об этом, – вот он стоит и ощупывает всех по очереди красными, как угли, глазами; узреешь такой взгляд в темноте – и дух вон; вот кто подлинный бес, вот кому бы пошептать на ухо – из Черной Книги Запрета.
Лампы дневного света гудели и чуть-чуть помаргивали. Масляные блики от них дробились в кафельной облицовке секционного кабинета. Окна были занавешены от пола до потолка плотными шторами. Директор категорически приказал закрывать окна во время уроков. Боялся, по-видимому, что могут снять их всех телеобъективом. А что тут снимать: как учитель Гармаш трясет мокрым последом? Или кривенькую рожу Кикиморы? Или Толстого Папу? Странно, что такой человек – и боится… Герда снова чувствительно ущипнули сзади.
– Убью, – пригрозил он в ответ страшным шепотом.
Толстый Папа хихикнул и внятно произнес:
– Давка людей – от них, усталость колен – от них, что платья людей потерты – от их трения, что ноги сталкиваются – от прикосновения их пальцев…
Голос его уплывал куда-то. По углам интенсивно дымились жаровни с размолотой серой. Герд втягивал ноздрями раздражающий сухой дым. Продирало горло и восхитительно, сотнями мелких иголок, впивалось в беззащитные легкие. Раньше он жутко кашлял при этом, но постепенно привык. Сера была время от времени необходима. Физиотерапия – объяснял на прошлом уроке тот же учитель Гармаш. Обязательные процедуры, иной тип обмена. И пить воду, настоянную на головастиках, тоже нужно, по крайней мере один стакан в день. И жевать сырую, холодную, кладбищенскую черную землю. Перемешав ее с толченой известкой и паутиной, взятой от пауков с крестообразными выростами на спинах. Тогда не будет расти шерсть на лице, как у Кикиморы. И расплющенные пальцы ног не собьются в твердые, костяные копыта, как у Ляпы-Теленка. Герда просто передергивало всего, когда Ляпа перед сном стаскивал круглые, особо пошитые кожаные ботинки. Ведь, что ни говори, настоящие козьи копыта – толстые, роговые, раздвоенные, с отставленной позади косточкой. Или Крысинда опять же, на которого посмотреть – и то дрожь пробирает. Вот учитель Гармаш его поманил, и Крысинда пошел, будто гусь, при каждом шаге заваливаясь из стороны в сторону. Ему, разумеется, неудобно ходить по линолеуму на птичьих лапах. И конечно, всегда уж так получается, что Крысинда оказывается перед глазами. Трудно не заметить такое, мордочка у него – острая, серая, с усиками, действительно как у крысы, ушки изнутри розовые, стоят торчком, а на спине, выше макушки, – горбы черных, кожистых крыльев, вздрагивающих перепонками. Вылитый вампир; и зубки у него – плоские, режущие, как у вампира. Правда, сейчас половина зубов у Крысинды отсутствует. Выбили Крысинде зубы на ферме, где он проживал. Угораздило его, видите ли, начать превращаться на ферме. Фермеры – все тупые, грязные, оскотинившиеся в своей глуши. И главное, что неприятно, верят напропалую. Били Крысинду насмерть, осиновыми кольями. Всем уже известно, что против вампиров осиновые колья – самое надежное средство. Или уж – по серебряной пуле в каждый глаз. К счастью для Крысинды, у них там, на фермах, серебро в большом дефиците. Его Поганка, полуживого, коченеющего уже от потери крови, вытащил из оврага. У Поганки прямо-таки сверхъестественное чутье на своих. Шатался тогда по дорогам, от одной фермы к другой, попрошайничал, показывал нехитрые фокусы с гипнозом, заговаривал свищи, ломоту в костях, зубную боль. Его тоже били, но редко – он умел уходить, когда становилось опасно. И вот не побоялся, полез в овраг – в крапиву, в жилистую лебеду, в сырой змеевник. Спасибо Поганке: не вздыхал бы Крысинда по ночам печальными вздохами и не держал бы сейчас в когтистых руках бронзовые щипцы с последом черной кошки. Вот Крысинда, глупец, не хочет жевать землю, и у него – крылья. Нет, уж лучше пусть будет кладбищенская кисловатая грязь, пусть с души воротит, пусть слабость потом и испарина по всему телу, зато – никаких аномалий, крепкий, устойчивый фенотип. Хотя учитель Гармаш считает, что дело тут не только в превентивной химиотерапии, а в том еще и прежде всего, насколько ты пропитался так называемой благодатью. Очень трудно потом вытравить благодать. Кладбищенская земля тут мало чем помогает. И сок белены – тоже, и ядокорень, и даже вода с головастиками. А порошок из пауков-гнилоедов не помогает вообще. Зря Кикимора жрет его за обедом целыми ложками. Давится, чавкает за столом, противно сидеть рядом. Ей бы не этот вонючий порошок лопать, а натереться ядом Королевы змей. Сильная это штука – яд Королевы змей. Пожалуй, самое действенное из всего, что известно учителю Гармашу. Даже фиолетовые бородавки, которыми обязательно, каждое воскресенье, за десять верст чувствуя колокольный звон, с ног до головы покрывается Толстый Папа, можно было бы вывести. И свести конскую гриву у Буцефала. И размочить копыта у Ляпы-Теленка. Средство, говорят, изумительное, правда, где его нынче достанешь – яд Королевы змей. Королева выползает из своей норы один раз в год, в полнолуние, когда небо чистое и три рубиновые звезды цветком распускаются над горизонтом. У нее золотое кольцо на горле, под капюшоном. Девять черных кобр охраняют ее. Надо знать слово, чтобы пройти между ними, и надо знать еще одно слово, чтобы Королева не глянула тебе в глаза, и надо знать третье слово, чтобы она плюнула ядом в чашу из малахита. Поганка хвастает, что знает такое слово. Дед ему якобы рассказал перед смертью. Дед у него был знаменитейший чернокнижник. Врет, разумеется, – знал бы слово, давно бы сбежал отсюда куда подальше. Никакая благодать была бы ему не страшна. Герду повезло, между прочим, что он не пропитался благодатью до такой степени. Вовремя его нашли. И кстати, нашел не кто иной, как тот же Поганка. Директор иногда берет его с собой в город. Единственного из всего этого проклятого санатория. Они ездят по улицам, Поганка смотрит и говорит: вон тот… – никогда не ошибается. И хорошо, как выяснилось теперь, что нашли. Потому что еще два-три месяца – и начал бы у него расти коровий хвост с кисточкой, или кожа – лупиться на твердую чешую, как у ящериц, или прорезалось бы еще одно веко над пупком, как, например, у Трехглазика. Тогда – все, тогда – точно костер. А сейчас ему ничего подобного не грозит. Сейчас у него даже кровь нормальная. Брали на той неделе, доктор сказал, что редко у кого видел такую нормальную кровь: коричневую с зелеными эритроцитами. Просто отлично, что эритроциты в крови уже зеленые. Это значит, что перерождение завершилось, благодать на него не сойдет. Благодать уродует только тех, кто еще полностью не устоялся. Пытается повернуть развитие вспять. Отсюда – тератогенез, фенотипические аномалии. Здесь было что-то связанное с биополями. Что-то невероятно сложное, Герд не понимал до конца, не хватало знаний.
Пламя в треноге фыркнуло и зашипело. Он и не заметил, как Крысинда бросил туда мокрый послед. Черная тряпочка извивалась на раскаленных прутьях, и во все стороны от нее летели продолговатые тонкие искры. Точно электрический разряд. Впрочем, наверное, это и был разряд. Никто ведь толком не знает, что представляют собой все эти наговоры и заклинания. Какой-то, вероятно, специфический вид энергии. Дышать стало легче; как после грозы, очистился воздух. Учитель Гармаш делал ладонями быстрые круги над треногой, и после каждого пасса зеленоватое пламя потрескивало. Герд ждал, что будет. И все ждали – в обморочном нетерпении. Замирая, дымилась сера на широких жаровнях. Крысинда с тихим шорохом развернул крылья. У Поганки загорелись малиновые глаза, как индикаторы у приемника. – Не гляди, дурак! – бешено прошептали сзади; толкнули, Герд обернулся в неожиданно прорвавшейся злости. Прямо в лицо ему уткнулась гигантская жабья морда, изъязвленно-болотная, со слизью в складках студенисто-глянцевой кожи. Выпученные глаза мигнули, подернувшись на секунду белесыми пленочками. – В землю смотри, дурак! Сожру с костями!.. – Герд оторопел. Он никак не мог привыкнуть к подобным метаморфозам. Когда это, понимаете, Толстый Папа успел превратиться? У жабы надувалась и втягивалась пятнистая кожа на горле. Она так дышала. Где-то впереди звонко заверещала Кикимора. Вдруг – подпрыгнула, схватилась цепкой рукой за портьеру и по-обезьяньи проворно, помогая себе хвостом, полезла вверх. У Герда, точно при высокой температуре, менялось зрение. Стены секционной заколебались и стали будто из толстого бутылочного стекла. Он мутно увидел сквозь них расплывчатое блеклое небо, тени гор, площадку перед домом, посыпанную пережженным песком. По площадке прошел директор с кем-то ужасно знакомым. С кем именно, не разобрать – просто две, как под водой, изменчивые фигуры. – Смотри, дурак, в землю! Ослепнешь, дурак!.. – квакнула жаба. Герд поспешно, вспомнив наставления учителя Гармаша, опустил глаза. Здесь в самом деле можно было ослепнуть. Пол был тоже прозрачный, он видел двутавровые железные балки и перекрытия. Теневыми контурами выделялись в земле – обломки камня, полуистлевшие щепочки, комки бурой ржавчины. Под извилистым корнем дерева шевелилось что-то, небольшое и темное, наверное крот. Слабая резь, как от бессонницы, разогревала веки. Он знал, что долго это не продлится; сеанс – не более тридцати секунд. Очень сильная концентрация, можно свихнуться, случаи уже были. Крысинда, панически шурша крыльями, носился под потолком, задевал стены, срывал плакаты с изображением анатомии человека. Поганка, склонившийся над треногой, редко и глубоко вдыхал зеленоватое пламя, а потом, разогнувшись, выдыхал обратно длинные трепещущие языки. Кто-то залаял по-собачьи, кто-то перекатил угрожающе низкий тигриный рык. Сразу два петуха разодрали воздух серебряным криком. Веки болели сильнее, Герд щурился и смаргивал едкие слезы. Оставалось уже совсем немного. Учитель Гармаш высоко вскинул руки, как бы уминая пространство, шевелил пальцами, успокаивал, снимал напряжение. Сейчас все закончится. – Дурак! Глаза береги! – снова квакнула жаба. Герд только отмахнулся не глядя. Сейчас-сейчас-сейчас!.. Ему никогда в жизни не было так весело.
«Были арестованы две женщины. Их обвинили в том, что с помощью дьявола они вызывали град. На третий день обе, после суда, сожжены. В Трирской области иезуит Бинсфельд сжег триста восемьдесят человек. Иезуит Эльбуц в самом Трире – около двухсот. В графстве Верденфельде с февраля по ноябрь казнили пятьдесят одну ведьму. В Аугсбургском епископстве шестьдесят восемь – за любовную связь с дьяволом. В Эльвангене сожгли сто шестьдесят семь ведьм. В Вестерштеттине – более трехсот. В Эйхштете – сто двадцать две…»
Из открытого окна библиотеки виднелись синеватые, как на картинке, далекие горы. Меж зазубренных пиков белела во впадинах и на склонах глазурь, вспоротая темными венами рек. Снег в горах таял, и пенистый, мутный поток, переворачивая валуны, низвергался в долины. Даже сюда долетала его водяная свежесть. Дышалось легко. Можно уйти в горы, лениво подумал Герд. Там не найдут. И кому это надо меня искать? Построю шалаш над рекой: трава, горячие камни, маки цветут. В реке против течения стоит форель. Ее можно руками выбрасывать на берег. Отражается солнце. Журчит вода в перекатах. Ничего, проживу… А здесь, по-видимому, все скоро рухнет. Частный санаторий для туберкулезных детей. Жалкий обман, который никого не обманывает. Я один знаю, что здесь все скоро рухнет. Больше никто не знает. У меня какое-то десятое чувство. И я не могу предупредить никого, потому что не знаю – когда и как.
Он безо всякой охоты перелистнул страницу. Солнце падало на раскрытую книгу, и отглянцованная бумага слепила. Будто муравьи, шевелились в строчках мелкие буквы. Генрих Инститорис и Яков Шпренгер; булла Иннокентия VIII, «Суммис дезидерантис». «Не без мучительной боли недавно узнали мы, что очень многие лица обоего пола пренебрегли собственным спасением, и, отвратившись от истинной веры, впали в плотский грех с демонами, и своим колдовством, заклинаниями и другими ужасами, порочными и преступными деяниями причиняют женщинам преждевременные роды, насылают порчу на приплод животных, на хлебные злаки и плоды на деревьях, равно как портят мужчин и женщин, сады и луга, пастбища и нивы, и все земные произрастания…» Генрих Инститорис представлялся ему похожим на отца Герувима – высокий, худой и яростный. А Шпренгер, напротив, – голубоглазым толстячком с пухлыми губами, голая, в складках жира, голова которого лоснится, будто намазанная вазелином. «В городе Равенсбруке не менее сорока восьми ведьм в течение пяти лет были нами преданы огню…»
С площадки под окнами доносились громкие голоса. Толстый Папа показывал свой коронный номер. Он присел на корточки – этакая квашня раскоряченная, и на него взгромоздились сразу человек восемь, цепляясь кое-как друг за друга. – Встаю!.. – загудел Толстый Папа. И вдруг – поднялся, вроде бы даже не напрягаясь. – У-у-у!.. – загудел кто-то. – Ах, ах, ах!.. – тоненько и восторженно запищала Кикимора. У нее задралась юбка, обнажив тощие, будто швабра, икры. Розовая кайма трусиков. Герд неприязненно отвернулся. Под сопящей кучей-малой упирались в землю слоновые ноги Толстого Папы.
Чья-то тень упала на ослепительную страницу. Герд вздернул глаза и тут же вскочил как ошпаренный.
– Здравствуйте, – сдержанно сказал он.
Директор еле заметно кивнул. Как всегда – будто не Герду, а кому-то за его спиной. Зато Карл рядом с ним был явно в приподнятом настроении.
– Здравствуй, звереныш, – весело откликнулся он. Потрепал Герда по голове, шутливо прищелкнул пальцами по макушке. – Как дела? Говорят, показываешь зубы?
– Да, – сказал Герд.
И Карл убрал руку:
– Ого!..
Герд пялился на него без стеснения. Это его он видел вчера с директором, на площадке, сквозь якобы прозрачную стену. Но он вчера не поверил. Он слишком хорошо помнил, как из дырочки в чистом лбу выплеснулась на переносицу коричневая густая кровь. Теперь на этом месте было сморщенное пятно размером с двухкопеечную монету.
Так он живой или нет?
– Как смотрит, – тем временем сказал Карл директору. – Как смотрит, ты только погляди – настоящий волчонок.
Директор несколько брезгливо взял в руки увесистый кожаный том. – «Молот ведьм», – бросил его обратно на стол. Перевернул обложку второй, раскрытой книги. – Вальтер Геннингсгаузен. «Подлинная история дьявола». – Сказал, почти не двигая презрительными губами: – Интересуешься? Есть более свежие данные…
«В графстве Геннеберг были сожжены сто девяносто семь ведьм. В Линдгейме после трех церковных судов – тридцать. В Брауншвейге ежедневно сжигали человек по десять-двенадцать… В то время как вся Лотарингия дымилась от костров, в Падеборне, в Бранденбургии, в Лейпциге и его окрестностях совершалось также великое множество казней. Епископ Юлиус за один только год сжег девяносто девять ведьм. В Оснабрюке сожгли восемьдесят человек. В Зальцбурге – девяносто семь. Фульдский судья колдунов Бальтазар Фосс говорил, что он сжег семьсот людей обоего пола и надеется довести число своих жертв до тысячи…»
Деликатно ступая на паркет заскорузлыми сапогами, вошел с веранды человек в брезентовом комбинезоне на лямках и остановился поодаль, стискивая в кулаке яркую кепочку.
На него оглянулись.
– Я вижу, вы подумали, Глюк, – сухо сказал директор.
Человек помялся, но упрямо выставил вперед обветренный подбородок.
– Прошу прощения…
– Я вас, разумеется, не держу, Глюк, – сказал директор. – Вы можете покинуть санаторий когда угодно. Ведь вы уходите? Зайдите в бухгалтерию и получите – сколько там причитается…
Образовалась короткая пауза.
Глюк перекрутил кепочку, как будто хотел ее порвать.
– Конечно, спасибо вам, господин директор, – ответил он наконец. – И вам тоже, господин Альцов, убили бы меня тогда, если бы не вы… Да только сдается, что лучше бы мне не брать этих денег… Вы уж простите, но только говорят, что нечистые это деньги…
– В каком смысле? – резко спросил директор.
– В том, простите, что обрекают потом на страдания вечные…
Директор, не выдержав, отвернулся.
– Жарко, – сказал он, демонстративно обмахиваясь ладонью.
Человек в комбинезоне для него уже не существовал.
– А вы знаете, Глюк, что вас ждет дома? – очень тихо спросил Карл.
Глюк кивнул, и глаза его на обветренном деревенском лице вдруг просияли.
– Так ведь три года прошло, господин Альцов… У меня там жена оставлена и ребятишки. Что же хорошего – врозь… Пойду прямо в церковь, патер Иаков меня с детства знает, я ему яблони подстригал каждое лето… Грех на мне? Ну грех – отмолю как-нибудь…
Они молча смотрели, как Глюк неторопливо вышел из дома, постоял на солнце, по-видимому, чтобы в последний раз оглянуться, вздохнул полной грудью, натянул кепочку, а затем пересек площадку, обсаженную по краям горными кактусами, и открыл чугунную калитку в углу.
Карл быстро потер сморщенное пятно на лбу.
– А ты почему не играешь вместе со всеми, звереныш? – спросил он.
«Фома Аквинский писал: „Демоны существуют, они могут вредить своими кознями и препятствовать плодовитости брака… По попущению Божию они могут вызывать вихри в воздухе, подымать ветры и заставлять огонь падать с неба…“» В Ольмютце было умерщвлено несколько сот ведьм. В Нейссе за одиннадцать лет – около тысячи. Есть описание двухсот сорока двух казней. При Вюрцбургском епископе Филиппе-Адольфе Эренберге были организованы массовые сожжения: насчитывают сорок два костра и двести девять жертв. Среди них – двадцать пять детей, рожденных от связей ведьм с чертом. В числе других были казнены самый толстый мужчина, самая толстая женщина и самая красивая девушка…»
– Ты почему не играешь с ними? Ты их презираешь, звереныш? – Карл снова поднял руку, чтобы потрепать Герда по голове, не решился, и ладонь нелепо зависла в воздухе. – Напрасно ты их так ненавидишь. Они не злые, они всего лишь несчастные. Просто тебе повезло, тебя не успели изуродовать… Не смотри на меня волком. Это правда. Мы все тут такие, и с этим ничего не поделаешь…
Частые, тревожные свистки донеслись с площадки. Директор высунулся в окно, и Карл тоже – из-за его плеча. Свистел, конечно, Поганка, он надувал дряблые щеки и, как плетьми, размахивал руками над головой: – Скорее!.. Скорее!.. – Все тут же побежали, сталкиваясь. Крысинда упал, его подхватили. Топот ботинок прокатился по коридору, рассыпался и затих – вразнобой хлопнули двери.
– Опять, – мрачно сказал директор. Не оборачиваясь, нетерпеливо, с костяным звуком пощелкал пальцами. Карл сунул ему в ладонь короткий бинокль, наподобие театрального, и вдруг стремительно выбросил вдаль указательный палец – как выстрелил:
– Вот они!..
Откуда-то из-за гор, из синей дымки, покрывающей ледники, медленно, будто в кошмаре, вырастала черная точка. Распалась на зрительные детали. Стал виден хвост, оттопыренные шасси, полупрозрачный круг винта над кабиной. Вертолет, лениво накренившись, вошел в поворот над зданием санатория.
– Мне это не нравится, – сказал директор, отнимая бинокль от глаз.
– Гражданский? – уточнил Карл. – Если гражданский, шарахнуть бы его из пулемета.
– Да, частная компания.
– Почему бы военным в таком случае не дать нам охрану?
– Мы их не интересуем, – сказал директор, слушая удаляющийся шум мотора. – Ты же знаешь, у них своя группа, засекреченная, и они не хотят работать с детьми.
– Но ведь есть же страны, где ароморфоз осуществляется постепенно, безболезненно и практически всеми!..
Директор резко повернулся к нему – крупным телом.
– Попридержи язык.
– А что? – немедленно спросил Карл.
– Я тебе советую никогда и никому не говорить об этом…
«В Наварре судом инквизиции было осуждено сто пятьдесят ведьм. Их обвинили две девочки: девяти и одиннадцати лет. Архиепископ Зальцбургский на одном костре сжег девяносто семь человек. В Стране Басков казнили более шестисот ведьм. Во Франции сожгли женщину по обвинению в сожительстве с дьяволом, в результате чего она родила существо с головой волка и хвостом змеи. Профессор юриспруденции в Галле Христиан Томмазий сосчитал, что до начала просвещенного восемнадцатого века число жертв инквизиции превысило девять миллионов человек. Сожжения продолжались и позже…»
– Санаторий скоро разрушат, – внезапно сказал Герд. Он не хотел говорить, но его словно толкнули: – Санаторий разрушат, и мы все погибнем.
Голос был, как всегда, по-старчески сипловатый.
– Верьте мне, пожалуйста, верьте!.. Я не знаю, как объяснить это, но я – чувствую…
Пару мгновений директор внимательно изучал его, а потом дернул щекой и тут же, чтобы не повторилось, прижал ее пальцами.
– Еще один прорицатель, – сказал он устало и безо всякого удивления. – Странно. Откуда вы только беретесь? – Немного подумал, отпустил щеку, провел по ней языком изнутри. Посмотрел на Карла. – Вот что… Глюк ведь пройдет через Маунт-Бейл?
– Да, – с запинкой, очень не сразу ответил Карл.
– Позвони туда… Только не от нас, на станции слушают наши переговоры. Позвони из поселка, кому-нибудь из «братьев», так будет надежнее. Анонимный звонок не вызовет подозрений…
– Мы же обещали, – быстро и нервно, отводя глаза в сторону, напомнил Карл.
– Ну нельзя ему домой, нельзя, – морщась, сказал директор. – Ты думаешь, что мне очень хочется? Он же расскажет – и кто мы, и где мы, и чем тут занимаемся… А потом его все равно сожгут. Лучше уж тогда «братья» – сразу и без вопросов.
Он упорно глядел на Карла, а Карл в свою очередь на него – побледнев и, по-видимому, утвердившись в своем решении.
Пауза, казалось, никогда не кончится.
Директор не выдержал первый.
– Ладно, я тогда сам позвоню, – сказал он, пошевелившись и тем сняв напряжение. – Ладно. Не надо. Живи с чистой совестью.
Вышел, и через две секунды басовито заурчал мотор. Знакомая, серая, похожая на жука машина выкатилась из гаража. Заблестела на солнце свежей, после ремонта, краской.
– Пойти напиться вдрызг, – задумчиво сказал Карл. Вдруг заметил Герда, который, подрагивая, жался в углу – глаза как две сливы. Привлек его сильной рукой, уже без страха. Герд неожиданно всхлипнул и, как щенок, тыкнулся в грудь. А Карл именно как щенка потрепал его за ухо.
– Ничего, такая уж у нас жизнь, звереныш…
«Женевский епископ сжег в три месяца пятьсот колдуний. В Баварии один процесс привел на костер сразу сорок восемь ведьм разного возраста. В Каркасоне сожгли двести женщин, в Тулузе – более четырехсот. Некий господин Ранцов сжег в один день в своем имении, в Гольштейне, восемнадцать колдуний. Кальвин сжег, казнил мечом и четвертовал тридцать четыре виновника чумы. В Эссексе было сожжено семнадцать человек. С благословения епископа Бамбергского казнили около шестисот обвиняемых, среди них дети от семи до десяти лет. В епархии Комо сжигали более ста ведьм ежегодно. Восемьсот человек было осуждено сенатом Савойи…»
Ночью он, как от толчка, проснулся. Потолок был в серых тенях, точно обметанный паутиной. Сияла в окне луна, и мертвый отблеск ее подергивал инеем синеватые простыни. Множественные мелкие звуки бродили по спальне. Печально вздыхал Крысинда, уткнувшийся в подушку на соседней кровати. Кто-то, наверное Толстый Папа, ворочался и бормотал, подшлепывая губами. Кто-то сопел, кто-то сдерживал сонные слезы и хлюпал носом. Стрекотало невидимое насекомое. У дверей на округлом столике светился коренастый гриб лампы.
Буцефал, конечно, отсутствовал. Он, наверное, бродил сейчас по двору и, шалея, наслаждаясь редкостным одиночеством, жевал камни, забыв обо всем на свете.
Герд сел, как подброшенный, задыхаясь. Редко чмокало сердце, и кожа по всему телу сбивалась в плотненькие пупырышки.
Что это было?
…Ногтями скреблись в окна и показывали на пальцах бледному, расплющенному лицу – пора! Они сразу же шагали в ночь, им не нужно было одеваться, они не ложились. Жена подавала свечу, флягу и пистолет, крестила на счастье. Воздух снаружи пугал горным холодом. Горные вершины протыкали небо, от края до края усыпанное тусклыми углями. Вскрикивала сумасшедшая птица: сиу-у!.. – отдавалось эхом. Сбор был назначен на площади, перед местной церковью. Там приглушенно здоровались, прикасаясь к твердым полям шляп. Вспыхивал говорок, тут же рассыпаясь на кашель и натужное хмыканье. Торопливо закуривали, кое-кто уже приложился и теперь отдувался по сторонам густым винным духом. Вышел священник и взгромоздился на специально поставленный для этого табурет. Свет из желтого дверного проема положил от него на землю узкую тень. Проповедь была энергичной. Все и так было понятно. Господь пребывал среди них и дышал вместе с ними пшеничной водкой. Прикладывался к той же фляге, попыхивал такими же сигаретами. Зажгли свечи – будто стая светляков опустилась на площадь. Обвалом ударил вверху колокол: буммм!.. Священник благословил; пошли – выдавливаясь с площади в тесную улицу. Она поднималась в гору, к надрывным звездам. Кремнисто, будто зачарованная, посверкивала под луной. Герд видел разгоряченные лица, повязанные на шею платки, кресты на смоленых шнурах поверх матерчатых курток. Они проходили сквозь него, точно призраки. Он сидел на кровати в ночной длинной рубашке, босой и дрожащий, а они выныривали из мрака один за другим. Процессия духов: шляпы, комбинезоны, тяжелые сапоги. Казалось, им конца не будет, столько их на этот раз собралось…
Он торопливо, подгоняемый сердцем, хватал одежду. Стискивал зубы, уронил на пол ботинок и – замер, чутко прислушиваясь. Все было тихо. Почмокал во сне Крысинда – летал, наверное, и ловил мышей. Да в непроизвольной тоске, замученно вздохнул Ляпа-Теленок. Более – ничего. Надо было скорее бежать отсюда. Герд дергал и дергал запутавшиеся, как назло, шнурки. Порвал наконец и связал обрывки узлом. Встал – кровати парили в умопомрачительном лунном свете. Пол, затоптанный днем, казался серебряным. – Ну и пусть, так даже лучше… – не открывая глаз, сказал Толстый Папа. Герд вдруг засомневался – ведь он их больше никогда не увидит. Но он же предупреждал их. Он ни в чем не виноват. Он предупреждал, а его не захотели слушать. И он вовсе не собирается пропадать здесь вместе со всеми.
Дверь была очерчена угловатой пентаграммой. Постарался, разумеется, Буцефал, чтобы не шастали взад-вперед, пока он филонит на свежем воздухе. Малиновая окантовка горела, как аргоновые трубки в рекламе. Герд, толкая пятернями, прошел через нее с некоторым усилием. Он уже неплохо умел проходить через пентаграммы. Ничего особенного – словно прорываешь тонкий полиэтилен. Пентаграмма – это для новичков или для слабосильных, как, например, Ляпа-Теленок. Невидимая пленочка чавкнула, замыкая дверной проем. На желтом, яблочном пластике пола сидел мохнатый паук. Он был величиной с блюдце – расставил кругом себя шесть хитиновых лап, покрытых колючками. Шевелились пилочки жвал, и на них влажно мерцали темные слюнные выделения. Герд с размаху пнул его ногой в брюхо. Паук шмякнулся плоским телом о стенку и заскреб когтями по пластику. Пауки, между прочим, нападают и на людей. Яд их смертелен – так, по крайней мере, считают. И рассказывают жуткие истории о съеденных заживо в горных пещерах: паук за ночь бесшумно затягивает вход паутиной, которую не берут никакие ножи, и затем просто ждет, когда добыча ослабеет от голода. А еще говорят, что они опустошают даже небольшие деревни. Поганка в своих странствиях раз набрел на такую: сквозь булыжник пробивается нехоженая трава, и дома от земли до крыши оплетены мелкоячеистой сетью. Потом лупил через лес, рассказывал, пока совсем не задохся.
Конечно, нас ненавидят, истребляют, как волков или как крыс, переносящих чуму. Потому что мутагенез усиливается именно в нашем поле. Там, где много одержимых, например в санатории, обязательно происходит взрыв мутаций. И тогда появляются пауки размером с блюдце, или гекконы, которые выедают внутренности у коров и овец, или мокрицы, могущие проточить фундамент дома, как мыши сыр. В общем, разумеется, ничего странного…
В коридоре горели всего две лампы – одна в начале и другая в самом его конце. А между ними провисала потусторонняя темнота. Вынырнул из нее второй паук и потащился следом. Я не человек, вот он и не нападает, мельком подумал Герд. Хотя пауки, как ни странно, на меня все-таки реагируют. Значит, еще сохранилось во мне что-то от человека. На других, на Поганку скажем, они вовсе не обращают внимания. Он спустился по лестнице на второй этаж. В окне, будто нарисованные белилами, застыли фосфорические седые горы. Шалаш у реки – это, конечно, глупость. И вообще все глупость, зря он это затеял. Бежать ему некуда, разве что в вечную мерзлоту Антарктиды. Но и толочься здесь, дожидаясь местной Варфоломеевской ночи, тоже глупо. Тогда уж проще сигануть с крыши прямо на дворовой булыжник. Покончить сразу со всем.
Кто-то пошевелился в углу лестничной клетки. Буцефал? Нет, старина Буцефал сейчас во дворе, слюнявит щебенку. И Поганка, который иногда тоже наводит порядок, дрыхнет без задних ног. А учителя – так вовсе носа не высовывают по ночам: метаморфоз у взрослых протекает мучительно – и галлюцинации у них, и невозможные боли, и обмороки.
– Ты куда собрался? – спросили из темноты тонким, девчоночьим голосом.
Герд чуть не подскочил от досады.
Надо же – Кикимора. Она-то что делает тут в такое время?
– Уходить собрался? – Маленькая коричневая рука уперлась ему в грудь, пальцы, как у мартышки, лоснились короткой шерстью. – Я так почему-то и думала, что ты сегодня захочешь уйти. Я почувствовала тебя и проснулась. Я тебя все время чувствую, каждую минуту, где бы ты ни был. Учитель Гармаш говорит, что это биполярная телепатия. Мы с тобой составляем пару, и я – реципиент… Интересно, а ты меня чувствуешь?..
Пищала она на редкость противно.
– Пусти, – с ненавистью сказал Герд.
Кикимора дернула стрекозиными, покрывающими лоб глазами:
– Ты мне очень нравишься – нет, честное слово, правда… Наши прозвали тебя Рыбий Потрох, потому что у тебя кожа – холодная. И вовсе она не холодная. Они тебе просто завидуют. Потому что ты похож на настоящего человека. Ты мне сразу же понравился, с первого дня, я теперь каждую твою мысль улавливаю…
– Вот надаю сейчас по шее, – нетерпеливо сказал Герд.
– Куда тебе идти и зачем? Подумай… Тебя убьют, я видела, как убивают таких – кольями или затаптывают. Нет у тебя места, где жить. Ты хоть и похож на человека, а все-таки наш, они это поймут сразу…
Герд шагнул, но она загородила лестницу, цепко держа его за рубашку. Уходили драгоценные секунды. Скоро – рассветет.
– Дура, я тебя из окошка выброшу, – сказал он торопливо. – Я тебе морду разобью, оборву космы, пусти, макака! Руку тебе сломаю, если не пустишь!
Никак не удавалось ее оторвать. Гибкие и вместе с тем жесткие пальцы скрутили ткань намертво. Она прижала его к перилам. Герд безуспешно отталкивался: – Иди ты знаешь куда!.. – Вдруг почувствовал, как вторая рука, горячая, меховая, ловко расстегнув пуговицы, проскользнула ему на грудь. И тут же Кикимора, привстав на цыпочки, толстой трубкой вытянув губы, поцеловала его: – Не уходи, не уходи, пожалуйста, не уходи!.. – Пахло от нее кошками или чем-то таким же. Герд, не глядя, изо всех сил ударил локтем и одновременно – коленом, стараясь угодить в мягкий живот, и потом еще кулаком сверху – насмерть. Кикимора мешком шмякнулась в угол. Так же три минуты назад шмякнулся паук в коридоре. Герд – подался, выставив перед собой сведенные кулаки:
– Ну что, еще хочешь?
– О…о…о!.. – простонала Кикимора, слепо шаря ладонями по полу и по стене. – Какой ты глупый… сумасшедший… Не уходи, пожалуйста, я умру тоже… Почувствую твою смерть, и сразу – всё…
Герд сплюнул, не слушая. И чуть ли не до крови проскреб губы ногтями.
Она его поцеловала!
Кошмар!
– Если пойдешь за мной, я тебе ноги выдерну, обезьяна!
– О…о…о… Герд… Мне больно…
Кажется, она плакала. По едва заметным ступеням Герд скатился вниз, к выходу. Просторный вестибюль был темен и тих. Он прижался к ноздреватой стене из древесных плит. Прислушался. Вроде бы она от него отстала. Хватило ей, значит. Но все равно, надо бы подождать пару минут. Постоим немного, не может же он вывалиться вместе с ней в объятия Буцефала.
Надо ждать, говорил Карл – еще там, после вертолета, в библиотеке. Терпеть и ждать. Затаиться. Никак не проявлять себя. Нам требуется просто выжить, чтобы сохранить наработанный генофонд. Это будущее человечества, нельзя рисковать им, нельзя растрачивать его, как уже было. Ты же знаешь, ты читал в книгах: процессы ведьм, инквизиция и костры – сотни тысяч костров, сумеречное от копоти небо Европы. Около девяти миллионов погибших – как в Первую мировую войну от голода, фосгена и пулеметов. Оказывается, религия – это не только социальный или психологический фактор. Религия – это еще и строгая регулировка филогенеза. Это адаптация. Общий механизм сохранения определенного вида. Мы ломали голову, почему человек больше не эволюционирует, мы объясняли это прогрессом и возникновением социума: дескать, биологическое развитие завершено, теперь развивается общество. Глупости; просто человечество охраняет себя как вид, консервируясь и жестко элиминируя любые физиологические отклонения. Наверное, это правильно. В истории известны случаи, когда народы в силу особых причин проскакивали, к примеру, рабовладельческий строй или от раннеплеменных отношений – рывком – переходили прямо к индустриальным (правда, как учит та же история, ценой утраты индивидуальности), но никогда не было ни одного государства, ни одной нации, ни одного племени без религии. Природа долго и тщательно шлифовала этот социогенетический механизм, тьму веков – от каменных идолов палеолита до нынешнего экуменизма, от родовых тотемов, хотя бы формально враждебных друг другу, до вселенских соборов и непогрешимости вещающего с амвона. Конечно, вслепую – природа вообще безнадежно слепа, эволюция не имеет цели, нельзя искать в ней смысл, это приводит к провиденциальности, и тем не менее подобный механизм все-таки создан. Более того, он прочно вошел в структуру общества. Это экстремальный механизм биологического сохранения человека. Посмотри, какой ураган поднялся за последние годы на континенте. Мрак и ветер, вакханалия метафизического пуританства. Разумеется, это не просто так: механизм включается на полную мощность тогда, когда, сдвинутая напором истории, колеблется генетическая основа «человека разумного», когда утрачено представление о границах вида и когда возникают предпосылки нового скачка эволюции. Например, в европейском Средневековье, известном религиозным безумием. Или сейчас, когда, видимо, осуществляется вторая попытка. А может быть, и далеко не вторая. Ничего не известно. Наверняка уже что-то такое случалось в прошлом. Ислам, буддизм, конфуцианство, зороастризм древних персов – совсем нет данных, мы только начинаем их понемногу осмысливать. Причем самые крохи, которые лежат на поверхности. Мы не знаем, почему благодать, например, действует на одержимых и как именно она на них действует, мы не знаем, почему нам противопоказаны евхаристия, крещение и прочие святые таинства, мы работаем, разумеется, есть лаборатории, программы, ведущиеся уже многие годы; не хватает химиков, не хватает генетиков, не хватает вообще квалифицированных специалистов – специалисты просто боятся к нам идти, мы лишь недавно установили, что сера – атрибут дьявола – облигатна в некоторых дыхательных процессах: у нас иная цепь цитохромов – двойная, это колоссальное преимущество, но именно потому нам необходимы лимфа ящериц и глаза обыкновенных пятнистых жаб – там содержатся незаменимые аминокислоты; это понятно, однако мы до сих пор не знаем, почему колокольный звон, например, приводит к потере сознания и припадкам эпилепсии, иногда с летальным исходом. Требуется время для исследований, и потому надо ждать. Надо выжить и понять самих себя – что мы такое. Прежде всего, нас очень мало. Нас невероятно мало в этом огромном мире. Несколько санаториев, разбросанных по враждебной стране, несколько закрытых школ, секретные военные группы, частные пансионы – искры в ночи, задуваемые чудовищным ураганом. Ты прав: малая популяция обречена, в конечном счете, на вырождение, и тем не менее мы должны попробовать, мы просто обязаны: а вдруг нынешняя трагедия – это последний всплеск великого преображения, нам никогда больше не представится возможность идти дальше, вдруг теперешний вид гомо сапиенс – тупик эволюции, остановка, постепенная деградация, как когда-то с неандертальцами, и если мы сейчас отсечем ветвь, которая слабой, еще зеленой почкой набухает на дереве, то в ближайшем будущем, захлебнувшись в отходах собственной цивилизации, исчерпав генетические возможности вида и утратив элементарную жизненную активность, мы исчезнем так же, как и они – навсегда, с лика земли, память о нас останется лишь в виде хрупких и пыльных находок в мертвых, заброшенных обитателями, погребенных временем городах.
Тишина была в вестибюле, как, впрочем, и на всех этажах санатория. Обычные шорохи ночи: поскрипывания какие-то, загадочные дуновения. Кикимора наверху, по-видимому, успокоилась. Герд толкнул тугую стеклянную дверь и оказался снаружи. Вымороченная луна светила меж двух острых пиков. Двор походил на озеро – стылый и будто наполненный ртутью. Как базальтовая скала, лежала в нем изломанная тень здания. Скрипел под ногами песок, рвалось дыхание. Казалось, что за ним следят изо всех окон.
– Гуляешь? Самое подходящее время, чтобы гулять, – сказал Буцефал.
Откуда он только взялся? Вроде бы не было никого, и вдруг – стоит, ноздри на конце вытянутой морды раздуты, уши, как у жеребца, прядают в густой гриве.
– Говорю: чего сюда вылез?
– Ухожу, – тихо ответил Герд.
– Куда – позволь поинтересоваться?
– Куда-нибудь…
Буцефал поднял зажатый в кулаке плоский камень, откусил – смачно, с продолжительным хрустом, как яблоко. Начал жевать, и камень запищал, перемалываемый зубами.
– Ну и правильно, – с набитым ртом, неразборчиво сказал он. – Давно, знаешь, пора. Я так сужу: на кой черт ты нам сдался, Рыбий Потрох?.. Тоже – человек, у тебя, небось, и кровь – красная? – Оглядел Герда с ног до головы лошадиными, неприязненными глазами. – Мы тут все конченые, нам другого пути в жизни нет, а ты виляешь – то к нам, то к ним. Лучше, конечно, тебе уйти. Ребята – злые, могут получиться из этого огромные неприятности. В общем, задерживать тебя не буду… – Он искривился, видимо раскусив горечь, сплюнул, будто пальнул, кремневой жеваниной. Она шрапнелью хлестнула по облицовке стены. – Тьфу, гадость попала… А это еще с тобой кто?
Герд даже оборачиваться не стал. Вздулись желваки – все-таки прокралась, мартышка, мало ей было на лестнице.
– Я так понимаю, что это Кикимора, – высказался Буцефал, нюхая чернильную тень. – Как хочешь, а Кикимору я с тобой не выпущу. Пропадет девчонка, жалко ее. Тебя, извини, мне не жалко, хоть ты удавись, Потрох. А Кикиморе среди людей ни к чему, да и не сможет она.
– Я все равно убегу, – тоненько сказала Кикимора, невидимая в нише фасада.
Буцефал испустил совершенно конское, тягучее ржание:
– От кого ты убежишь? Ты от меня убежишь? Ну – насмешила… – Распахнул калитку, муторно проверещавшую железными петлями: – Давай, Рыбий Потрох, собрался уходить – не томи. Только, знаешь, ты обратно сюда не возвращайся, не надо. Запомни эти мои слова: тебе здесь будет очень нехорошо, если вернешься…
Сторонясь лошадиной морды, бочком-бочком Герд проскочил в калитку. По другую сторону остановился и перевел дух – обошлось. А могло и не обойтись, Буцефал зря говорить не будет. Дорогу вниз словно облили льдом – такая она была светлая. Кусты на склонах казались приготовившимися к прыжку зверями. Через Маунт-Бейл он, конечно, теперь не пойдет. Он же не идиот – он знает, что его ждет в городе. Директор туда позвонит. Или даже сам Карл позвонит туда. А вот на половине спуска есть, говорят, тропочка в обход долины, узенькая такая тропочка, ниточка, одни козы по ней, говорят, и ходят…
Сзади бешено завозились, и придушенный голос Кикиморы прошипел: – Пусти, мерин толстый… – Ну, не дергайся, не дергайся, дурочка… – это уже Буцефал. – Пусти, говорю, мерин. Убери лапы!.. – Можно было не беспокоиться, от Буцефала действительно еще никому вырваться не удавалось. Необыкновенная горная тишина закупоривала уши. Тысячи ярких звезд сверкали и предвещали свободу. Океаном прохлады, вмещая в себя весь мир, открылась ночь, и на дне ее, видимая так ясно, что Герд даже вздрогнул, извиваясь удавом, ползла вверх, к санаторию, колонна из переливающихся огненных точек. Он сначала не понял, но вдруг догадался, что это свечи, которые держат в руках.
И сейчас же, ослабленный расстоянием – дзинь! дзинь! дзинь! – наплыл колокольный звон из долины.
Герд отступил на шаг.
– Ну чего ты стоишь? – отрывисто сказал Буцефал за спиной. – Или ты хочешь, чтобы я кликнул нашего общего Папу? Он тебя – закопает где-нибудь неподалеку…
Огненный удав упрямо повторял извивы дороги. Герд как зачарованный видел: платки, кресты на шнурочках, шляпы…
Хоровод призраков. Грубые и веселые лица.
Спасения уже не было.
– Они идут, – упавшим голосом сказал он.
Моталось и выло разноцветное пламя – горели реактивы. Красные, синие, зеленые фейерверки, взрываясь, вылетали из окон. Лабораторный корпус пылал, будто новогодняя елка. Его закидали термитными шашками, когда колонна еще не подошла к санаторию. А потом передовая группа «братьев» побежала к главному зданию, чтобы продолжить работу, и полегла на площадке перед ним – все пять человек, раскиданные автоматным огнем. Ветер трепал черные шелковые рубашки с нашитыми на плечах крестами.
– Они идут, – упавшим голосом повторил Герд.
На него никто не обратил внимания. Только директор как ужаленный обернулся и пару мгновений соображал – кто бы это мог быть.
Затем тряхнул головой.
– Ты ляг, ляг на пол, – снова опускаясь на корточки, сказал он. Показал нетерпеливой рукой – мол, ляг вон там и лежи. Тут же отвернулся к Поганке, который, расставив колени и страшновато сведя к переносице малиновые зрачки, привалился в углу между бронированным сейфом и шкафом: – Ну напрягись, я тебя очень прошу!.. – Я напрягся, – не шевеля губами, как лунатик, ответил Поганка. – Бесполезно, там никто не подходит. – Ну включись в другой номер. – Я звоню по обоим сразу. – Ну тогда попробуй муниципалитет. – Хорошо, – ответил Поганка, – попробую держать все три номера. – Челюсть у него отвисла, слабые щеки ввалились, бескровный язык как тряпочка свисал из мокрого рта.
– Хорошо хоть дым не в нашу сторону, а то задохнулись бы, – сказал Карл. Он прижался с краю от распахнутого окна, уставя вниз автомат. И еще трое учителей, тоже с автоматами, одетые кое-как, стояли у других окон. Герд их не знал, они вели занятия в младших классах. – Ты присядь, присядь все же, звереныш, а то заденут, – посоветовал Карл. – А еще лучше – уходи к остальным, они в физкультурном зале. Может, и отсидитесь. Не хочешь? Тогда ложись. И не расстраивайся, звереныш, мы все это знали, уже давно знали, ты здесь не один такой прорицатель, я не хуже тебя чувствую…
– Представляешь, что мне ответили, когда я позвонил в Маунт-Бейл? Ну – по поводу Глюка, – вновь обернувшись, сказал директор. – Они мне ответили: «Не беспокойся, парень, он уже горит, твой чертов родственничек. А скоро подожжем и тебя – со всем отродьем».
Карл вытер нос, оставя под ним следы черной смазки:
– А ты думал? Они же нас наизусть выучили… – Выдвинулся из проема и быстрой очередью прошил во дворе что-то невидимое… – Перелезть сюда хотел, гад… Эй, кто-нибудь! Киньте мне еще магазин!
– Я звоню… Никто не подходит… – бесчувственно сообщил Поганка.
Герд, как ему было велено, лежал на полу. Звенело в ушах, и глаза начинали болеть от беспощадного света. «Братья» еще в самом начале повесили над санаторием четыре мощные «люстры», и они, выжигая тень, заливали окрестности мертвенным, ртутным сиянием. Он уже немного жалел, что вернулся. Надо было немедленно, как только увидел огненного удава, бежать в горы. Сейчас он был бы уже далеко. А теперь что? Теперь он тут погибнет вместе со всеми.
Сильно пахло какими-то незнакомыми едкими химическими веществами. Пол подрагивал, как будто по первому этажу разгуливало стадо слонов. Снаружи непрерывно кричали – в сотни здоровенных глоток.
– Нам сейчас требуется хороший шторм, – заметил директор. – Или даже ураган – баллов эдак в двенадцать, с дождем и молниями. Чтобы всю нечисть отсюда выскребло… Фалькбеер! Как там у нас насчет урагана?
– Мы делаем, делаем, – раздраженно отозвался один из учителей, голый по пояс, с веревкой, пропущенной через петли, по-видимому, треснувших джинсов. – Что вы от меня хотите? Я тащу циклон с самого побережья.
Директор на него уже не смотрел. Он смотрел на дверь, бабахнувшую по стене словно от динамита. Привалившись совершенно без сил к косяку, давя в грудь ладонями, словно для того, чтобы не лопнуло сердце, стоял там учитель Гармаш в рабочем балахоне и тапках на босу ногу, открывал рот – беззвучно и часто, как когда-то Лаура.
– Полицейский участок Маунт-Бейл слушает, – абсолютно чужим, спокойным и громким голосом сказал Поганка. Директор тут же отчаянно замахал руками на учителя Гармаша: – Молчи, молчи!.. – Алло, полицейский участок Маунт-Бейл. – Полиция? – торопливо подался вперед директор. – Говорит директор и главный врач санатория «Роза ветров». Мы подверглись нападению вооруженных бандитов! Прошу немедленно выслать сюда ваших людей и по экстренной связи передать сообщение на базу ВВС в Харлайле… – Он перевел дыхание. – Алло, говорите, я вас не слышу, – тем же громким и чужим голосом повторил Поганка. – Полиция! Полиция! Это санаторий «Роза ветров»! – закричал директор. – Алло, у нас неисправен аппарат, – сказал Поганка. И, по-видимому очнувшись, добавил уже своим голосом: – Повесили трубку.
– Вот подлецы! – с большим чувством сказал директор.
– Обычная история, – снова проведя пальцем под носом, ответил Карл. – Они пришлют патрули, когда все уже будет кончено, а потом свалят на аварию в телефонной сети.
Директор немного подумал.
– Можешь напрямую соединиться с Харлайлем? – спросил он.
Поганка развел малиновые зрачки:
– Чересчур далеко…
Учитель Гармаш наконец набрал в себя достаточно воздуха.
– Мы не смогли пройти… – мятым, неразборчивым голосом сообщил он. – Дорога на Маунт-Бейл перекрыта… У них там автоматы и святая вода… Поставили переносной алтарь напротив ворот… У детей – судороги… Два класса все же пытаются сейчас отойти в горы… Повела Мэлла… но там, куда они двинулись… там тоже стрельба… – Пуля, наверное, из окна, впилась в притолоку над его головой. Учитель Гармаш даже не дрогнул веками. – Боюсь, что наткнулись… «братья во Христе»… замучились… не пробиться…
Директор все еще, как грибник, сидел на корточках. На него поглядывали, но, кажется, уже без особой надежды. Герд почувствовал, что лежать дальше глупо, и тоже сел.
В конце концов решение было принято.
– Сколько у нас летунов? – спросил директор.
– Шестеро, не считая тебя.
– Всех – на крышу!
– «Люстры», – напомнил Карл.
Директор повернул голову:
– Фалькбеер!..
Полуголый учитель вздохнул и выпрямился, явно нехотя. Кожа его лоснилась, как Герд заметил, а из петли джинсов свисала на двуцветном шнуре небольшая золотая печатка.
Директор сказал очень вежливо:
– Фалькбеер, уберите свет – прошу вас…
Что-то глухо и сильно ударило внизу, в вестибюле. Здание покачнулось, перебрав кирпичи, стронутое чуть ли не до сердцевины. Фалькбеер деловито перезарядил автомат и, ни слова не говоря, не поглядев даже, убрался из комнаты. – Вот и нет Фалькбеера, – сказал тут же один из учителей. – Он заговоренный от пуль, печать видел? – возразил второй. – Это ему не поможет. – Наоборот, отлично действует, жаль я, дурак, не заговорился, когда предлагали. – Посмотри, – сказал тогда первый учитель. – Что это? – Серебро. – Аргентум? – Они стреляют в нас серебряными пулями. – М-да, тогда конечно, – разочарованно сказал второй учитель. – Так что соображай… – Интересно, кто все же их надоумил?..
Герд видел, как первый учитель бросил расплющенную пулю в окно. Серебро… его подташнивало от одного этого слова. Директор опять безжалостно теребил Поганку: – Попробуй, не так уж далеко, они снимут нас вертолетами… – Ба-бах!.. – вдруг оглушительно лопнуло в небе. Град жестоких осколков чесанул по крыше. За стеной санатория бешено, как припадочные, закричали. Ба-бах!.. Вжик-вжик-вжик!.. – лопнуло еще раз. – Молодец Фалькбеер, сразу две люстры вырубил, – сказал Карл. Свет теперь шел только откуда-то из-за здания. Четкие, как на фотографии, тени располосовали двор. Слепящий туман померк, выступили абрисы гор и бледные, равнодушные звезды между ними. – Есть Харлайль, только побыстрее, – измученным голосом сказал Поганка. – Харлайль? Дайте полковника Ван Меера, – захрипел директор. – Полковник Ван Меер слушает! – Алло, Густав, срочно вышлите звено вертолетов к «Розе ветров». Надо снять шестьдесят человек. Срочно! Почему молчите?.. – Свист помех, завывания, воспроизведенные обморочным Поганкой. А потом тот же голос, но уже значительно тише: – Мне очень жаль, Хенрик… – Алло, Густав, что вы такое несете? Пять транспортных вертолетов к «Розе ветров»!.. – Очень жаль, Хенрик, но час назад сенат принял закон об обязательном вероисповедании. – Они с ума сошли! – Если бы я даже отдал такой приказ… – Густав! В конце концов, нас тут убивают!.. – Опять завывания, хрипы… – Мне жаль, Хенрик, но поступило специальное распоряжение командования ВВС…
Директор от возмущения прикрыл глаза.
– Больше не могу, – обычным человеческим голосом сказал Поганка. Обмяк, как тряпичный, соломенная шляпа сползла на лоб, глаза помутнели.
Один из учителей дернул подбородком – отгоняя невидимое.
– Вот мы и накрылись, – с непонятной интонацией резюмировал Карл.
Снова – высоко в небе: ба-бах!..
– Третья «люстра», молодчага Фалькбеер…
– Извините, директор, – сказал учитель, у которого дергался подбородок. – Извините, но я не хочу гореть на костре – очень больно…
Вывернув автомат, он упер его дулом себе в грудь. Протыртыкала очередь. За спиной учителя на стене возникли сползающие кровяные разводы. Он согнулся и упал на колени – лицом вперед. Никто даже не пошевелился. У Герда вместо сердца был кусок пустоты.
Глухо ахнуло во дворе, и, будто эхо, заныло рассаживаемое железо.
– Взорвали ворота, – безразлично сообщил Карл.
Директор похлопал себя по карманам, достал сигареты как под гипнозом и закурил. Движения у него были замедленные. Встретился взглядом с Гердом, спокойно сказал ему:
– Забери автомат – у этого… Стрелять умеешь?
– Разберусь, – кивнул Герд, стараясь не смотреть на лежащего.
Автомат был горячий и очень тяжелый.
– Ну что ж, – сказал Карл, закидывая на плечо оружейный ремень. – Пойти поглядеть, что ли, как там с Фалькбеером? Не хочешь прогуляться со мной, звереныш?
Директор неожиданно вскинул руки:
– Назад!..
Два рубчатых металлических мячика перелетели через подоконник, ударились о линолеум и зашипели как змеи, выбрасывая из себя серый дым.
– Газ, – мышиным голосом доложил Карл.
Последний учитель нагнулся поспешно, чтобы схватить вращающиеся игрушки, вдруг сложился, точно креветка, и повалился на бок, в судороге ударил по полу – головой, ногами, из оскаленного рта пошла пена.
– Наза-ад!..
Карл тащил Герда по незнакомому коридору. В коридоре был сумрак и даже не пахло, а удушало жженой резиной. Дымились свисающие с потолка плети проводки. – На чердак, на чердак!.. – крикнул прикрывающий им спины директор. Они побежали по стиснутой голым бетоном пожарной лестнице. Тянуло холодом из выбитых стекол. Ужасно, как «летающая тарелка» горела последняя «люстра». Навстречу им выкатился плачущий и кричащий поток. Сталкивались, расшибались и, как тараканы, ползали на четвереньках, закручивались, прижатые к стенам, пытались затормозить о перила. Учитель Гармаш, на голову выше других, скрещивал над головой руки. Почти невозможно было разобрать что-либо в паническом гаме: «братья» высадились на крыше… у них вертолеты… Фалькбеер погиб… Паал, Дэвидсон, Валленбах взлетели, но, кажется, сбиты… Олдмонт, лучший из учителей-летунов, пропал… – Герда тоже как щепку закрутило в этом водовороте. Давили неимоверно. Гнулись ребра, и по коленям больно стукало чем-то железным. Он спускался вместе со всеми, проваливаясь на каждой ступеньке. Толстый Папа, ощеренный на полчерепа, пытался достать его могучей рукой: – Ты, падаль, навел их сюда!.. – Ему, к счастью, было не дотянуться.
Вцепившийся в перила директор еще каким-то чудом удерживался на месте. Лицо его побагровело.
– Я вас прикрою, бегите!..
– А Крысинда наш улетел, – басом сообщил Галобан, задумчиво ковырявший в носу, словно на скамеечке в парке. – А мы смеялись над ним, а он в окно выпрыгнул и – тю-тю… А Трехглазика убили, попали ему пулей в голову. А Ляпу-Теленка сбрызнули святой водой, с него вся шкура облезла…
– Убери локти, глаза мне выбьешь, – яростно прошипел Герд.
Толстый Папа дотянулся все-таки до него и, ухватив за ворот, скрутил на горле мертвым узлом:
– Ну – падаль, падаль, гнилая человечина!..
Лестница неожиданно кончилась. Высыпались в коридор, как картофель из продранного мешка. Герд упал, и Толстый Папа тоже упал – на него сверху. На площадках, до самой крыши, стреляли и топали. Он увидел, что директор безжизненно свешивается со ступенек и, решительно наступая на тело, бегут вниз люди в черных рубашках. Пули цокнули по каменному полу и с визгом ушли в стороны. Толстый Папа все почему-то лежал и припечатывал Герда слоновой тушей. Дышать под этой тяжестью было нельзя.
Снова откуда-то появился Карл и перевернул Папу на спину:
– Готов, оттаскивай!..
– Я никуда не пойду с вами!.. – в лицо ему крикнул Герд.
Рвануло под мышкой, и раскаленным напильником ободрало ребра. Карл с колена поливал лестницу из автомата, пока тот не умолк. Люди в черных рубашках от неожиданности споткнулись.
– В подвал!.. – Он ногой вышиб низкую дверь и нырнул в темноту.
Скатились куда-то, как цуцики, по бетонному желобу. Герд так звезданулся лбом, что брызнули искры. Забрезжил впереди тусклый свет. Выступили справа и слева литые углы.
Это был склад, заставленный громоздкими пластмассовыми контейнерами. Бросилась в глаза предупреждающая маркировка: «Внимание! Огнеопасно!» Лампы на облупившемся потолке еле теплились.
– Ну хорошо, сначала отдышимся, – предложил Карл. Остановился, опершись локтями о трубы в липкой испарине. – Как, жив, звереныш? А ты, я гляжу, молодец, автомат не бросил…
Герд посмотрел с удивлением – так вот что всю дорогу било его по ногам. Ремень, оказывается, захлестнулся на руке выше запястья, и тяжеленный приклад колотил в коленную чашечку.
Карл между тем с деловитым видом оглядывался.
– Тут где-то должен быть люк, – объяснил, мужественно преодолевая одышку. – Канализационная система – идет метров на триста вниз. Ничего, выберемся. До побережья не так уж и далеко. И тогда – к чертовой матери эту страну!.. Уедем за океан – есть в мире места, где можно жить совершенно открыто. Ты еще научишься смеяться, звереныш. А здесь дело гиблое – средневековье…
Он поднял голову. Под потолком были узкие оконные щели, вытянутые горизонтально. Стекла в них отсутствовали, вероятно, еще с начала времен, и теперь слышно было, как там свистит, рокочет, шлепает по земле громадными водяными губами, капает, просачивается, вскипает водоворотами. Мутная, как из-под крана, струя ворвалась оттуда в подвал и раздробилась на мелкие струйки и лужицы, подернувшись пылью. Молния толщиной с дерево разомкнула небо.
Карл просиял.
– Ураган, – не веря, видимо, еще этому счастью, сказал он. – Надо же, наконец-то. Ах Фалькбеер, какая умница… – Протянул сложенные ладони, набрал влаги из шипящей струи. Выпил одним глотком. – Ну, теперь они потанцуют, теперь им не до нас, звереныш…
Снаружи рухнуло и загрохотало, как будто само небо повалилось на санаторий.
– Надеюсь, что поток пойдет вниз и смоет к черту этот их паршивый Маунт-Бейл…
Из-за выдвинутых контейнеров, из темноты бокового отсека, где лампочки уже давно не горели, пригибаясь и блестя стеклами золотых очков, выбрался человек. Он был мокр, и с грязной обвислой одежды его текло. Волосы прилипли ко лбу, на шее багровела свежая ссадина. Выглядел он, однако, уверенно, потому, вероятно, что сжимал в руке пистолет с толстым стволом.
– Очень хорошо, что я вас нашел, – торопливо проговорил человек. – Меня зовут Альберт, просто Альберт, будем знакомы. – Свободным пальцем он поставил на место сползающую к кончику носа дужку. – И мальчик с вами? Ах, как неприятно, что и мальчик с вами. Ну что же, ничего не поделаешь, придется тогда – и мальчика…
Он дергал веками, наверное, из-за того, что под них затекала вода. Морщины пробегали по шизофреническому лицу и немедленно расправлялись. Не сводя с него глаз, внимательно слушая и даже кивая, Карл, как во сне, потянулся к оставленному на соседнем контейнере автомату.
Пальцы не достали приклад и заскребли по пластмассе.
– Не трогай, не надо, – сразу же сказал человек. – Я же вас специально искал, чтобы убить. И уже одного убил – который в таком балахоне… Выстрел милосердия, вот из этого самого пистолета. Все-таки лучше, я полагаю, чем на костре – наши дуболомы обязательно потащат вас на костер: не переношу мучений… Но я хочу за это спросить: вот вы победили, и куда потом деть пять миллиардов людей, которые до конца жизни не смогут переродиться? Куда – в резервацию или в заведения для прокаженных?.. Пять миллиардов… А дети их, которые тоже родятся обыкновенными человеками? – Он застенчиво посмеялся: хи-хи-хи… – пистолет задрожал в руке. – Не подумали над этим вопросом? Вопрос, знаете, заковыристый. Тот, что в балахоне был, кстати говоря, не ответил… Вот почему я не с вами, а с ними, я – инженер, человек образованный, с этой скотинистой и тупой толпой обывателей…
– Мальчика отпустите, – неживым голосом сказал Карл.
Человек в очках вздрогнул:
– А?.. Мальчика?.. Что?.. Нет, мальчик, к сожалению, вырастет. И запомнит, кто такой был Альберт. Альберт – это я, просто Альберт, будем знакомы…
Карл рывком подтянул автомат и – вскинул. Он успел – Герд ясно, как на экране, увидел палец, давящий на спусковой крючок. Раз, и еще раз, и еще раз – впустую.
Выстрел из пистолета тявкнул как-то очень негромко. Видимо, пластмассовые контейнеры поглощали звук.
– Все, – прошептал Карл и уронил автомат.
Человек постоял, шевеля губами, будто беззвучно молился, потрогал висок – как на тесте, остались неглубокие вмятины, – затем осторожно приблизился и вытащил оружие из-под неподвижного тела. Передернул затвор, отломил ручку-магазин, сказал неестественно бодрым фальцетом: – А?.. Нет патронов… – усмехнулся одной половиной лица, точно в судороге. – Вот как, оказывается, бывает, мальчик. Бога, конечно, нет, но иногда начинаешь думать – а вдруг…
Хорошо, что ремень захлестнулся выше запястья. Герд согнул руку, и масляный автомат сам лег на колени. Держать его как положено не было сил. Я не смогу выстрелить, подумал он, нащупывая изогнутый крючок спуска. Ни за что на свете, у меня не получится. А что, если и здесь кончились патроны?
Тем не менее он выпрямился, не вставая.
– Эй! – растерянно сказал человек, застыв на месте. Потрогал пояс; пистолет был недосягаем, в заднем кармане. – Ты что, мальчик, мне тут шутки шутишь… Брось эту штуку! Я тебе кости переломаю!..
Он шагнул к Герду – бледный, страшный и какой-то уже неживой. Дохнуло перегаром, сырой одеждой, подвальной земляной плесенью. Вероятно, так и должна пахнуть смерть. Герд изо всех сил зажмурился и нажал спуск. Человек в очках прижал к животу ладонь, словно опасаясь за содержимое, и как стеклянный опустился на ближайший контейнер, помогая себе другой рукой.
– Надо же, – сказал он, высоко от глазниц отжав твердые брови.
И вдруг повалился на бок, как будто в нем враз что-то выключилось.
Герд поднялся и, прижимаясь к стене лопатками, обогнул лежащего. Ног он не чувствовал и шел как по вате, которая бесстрастно заглатывала шаги. За поворотом, где лампы полопались, вывалились из перекрытия кирпичи – сюда попала граната. По мокрым обломкам он кое-как выкарабкался наружу. Выл ветер, хлестала вода, размалывающая кипящий воздух, земля постанывала, истерзанная бешенством атмосферы. И по стонущей этой, раскалывающейся в тесных недрах земле, озаряя сумрачно-фиолетовым светом пузырчатые водяные стебли, лениво, на подламывающихся ногах, как пауки-сенокосцы, бродили голенастые молнии. Дрогнула обводненная почва. Прогоревший лабораторный корпус распался – двумя наружными стенами. Герд едва устоял. Он дрожал от холода. Автомат ужасно оттягивал руку, и он его бросил…
Дорога раскисла. В лужах из жидкой глины проглядывало запотевшее небо. Втекал в него и сразу же размывался ручей, полный пены; в горах еще шли дожди.
– Я боюсь, – девчоночьим, писклявым голосом сказала Кикимора.
Герд дернулся и нетерпеливо потряс ладонями:
– Помолчи!..
Он всматривался в открывшуюся перед ним картину. Это, кажется, был тот самый приветливый городок, куда он стремился: долина в прозрачной дымке, россыпь игрушечных домиков на обоих склонах, асфальтовые дорожки, чисто подметенная площадь перед торговым центром. Шторм, пронесшийся неподалеку, его, по-видимому, не задел. Черепичные крыши краснели нетронутыми чешуйками. Проворачивался ветряк на ажурной башенке.
– Давай превратимся хотя бы, – снова попросила Кикимора. – Нельзя так идти. Нас же узнают…
– Нет.
– Ненадолго, я тебе помогу…
– Пожалуйста, помолчи!
Герда передернуло. Превратиться в уродливого зверя – спасибо.
Он, пытаясь сосредоточиться, прикрыл глаза. Должна быть калитка, и за ней – дом из силикатного кирпича, крыльцо с полукруглым навесом, на окнах – занавески в горошек. Судя по всему, придется искать. Чрезвычайно плохо, что он здесь с Кикиморой. Конечно, узнают – если у нее глаза во весь лоб, даже под волосы загибаются.
– Поправь очки. За километр ясно – кто ты и откуда…
Улица вела, наверное, прямо к центру. Они прошли мимо яблонь, которые перевешивали через ограду тяжелые намокшие ветви. Воздух был сыроват. Кикимора вязла в глине и утомительно отставала. Непрерывно бормотала что-то про санаторий на юге. Есть, оказывается, такой санаторий, ей рассказывал Галобан. Якобы там вылечивают любые, самые запущенные аномалии. Две-три операции, медикаментозный курс, физиотерапия. Надо подаваться на юг, а не бродить по поселкам, где их каждую минуту могут узнать… Заткнулась бы она со своим санаторием. Герд старался не слушать. Хватит с него. И вообще… – Люди кончились, – говорил директор, как бы в рассеянности пролистывая томик с вытянутым готическим шрифтом. – Их время исчерпано, наступает эпоха одержимых. Чем скорее произойдет смена поколений, тем лучше… – Люди не кончились, – так же, как бы в рассеянности, рассматривая гравюры, возражал ему Карл. Просто мы имеем дело с сильными генетическими отклонениями. Изуродованный материал. Это не есть норма… – Мне смешно, – говорил директор. – Давай не будем тешить себя иллюзиями. Кто из одержимых сохранил человеческий облик? Ну – ты, ну – я, ну – еще десятка два человек. Незавершенный метаморфоз – вот и все… – Люди только начинаются как люди, – говорил Карл. – Человек меняется, но остается по-прежнему человеком. Просто он приобретает новые качества. – Не надо закрывать глаза, – говорил директор. – Идеалом жабы является именно жаба, а не человек… – Но идеалом человека является человек, – отвечал Карл. Это и есть, мне кажется, тот путь, по которому… – Ты имеешь в виду «железную дорогу»?.. – Да, я имею в виду «железную дорогу»… – Ах, глупости, – говорил директор. – Ты и сам, наверное, в это не веришь. Жалкая благотворительность, ну – спасут несколько одержимых… – Нет, это серьезные люди, – говорил Карл. – Они не очень образованные, возможно, но суть они поняли: человек должен остаться человеком… – Так ты их знаешь?.. – Да… – Ты очень рискуешь, Карл… – Только собой… – И главное, совершенно напрасно: либо люди, либо одержимые – третьего пути нет…
У забора, опасно прислонившись к штакетнику, под углом, как подпорка, которая уже поехала, коротал бесцельное утро некий человек – ботинками прямо в луже. Безразлично жевал табак, сдвинув на лоб примятую шляпу. Под широким поясом у него висел нож в чехле.
Он открыл один глаз, когда они проходили мимо, повернул им, как будто заключая пришельцев в невидимую сферу сознания, неожиданно открыл и второй глаз тоже и вдруг сплюнул на середину дороги янтарную жвачку.
Кикимора тут же взяла Герда за руку.
– Не подпрыгивай, ничего страшного, – прошипел он в ответ. – Успокойся, пожалуйста. Ты так дрожишь, что любой дурак догадается.
– А ты посмотри. Он идет за нами…
Герд как бы невзначай посмотрел. Человек, жевавший табак, действительно шагал вслед за ними, оттопырив кулаками карманы широченных штанов.
Ботинки его ощутимо почавкивали.
– Отправился по своим делам, – сказал Герд напряженно. – Не бойся, мы ничем особенным внешне не выделяемся. Брат и сестра ищут работу – таких много…
Они свернули, и человек тоже свернул, как привязанный.
– Вот в-видишь, – сказала Кикимора. – Т-теперь мы об-бязательно п-попадемся…
Герд даже поскользнулся:
– Не каркай!..
Втащил ее в узкий, не предназначенный для ходьбы переулочек. Потом – в другой, в третий, тянущиеся, по-видимому, вдоль всей окраины. На продавленных тропках чернела застойная земляная вода. Яблони над ними смыкались, давая ощущение сумерек. Рушились с ветвей крупные холодные капли. За кустами, правда в некотором отдалении, раздавалось мерное – чмок… чмок… чмок…
Кикимора заметно дрожала…
Герд вдруг увидел – калитка, знакомая до последней щербинки, и дом, как ему положено быть, из силикатного кирпича. Добротный полукруглый навес над крыльцом.
Стукнуло сердце. В горле образовался плотный комок.
– Б-бежим отсюда, – жалобно пропищала Кикимора.
Калитка заскрипела, казалось, на весь город. Какая-то женщина во дворе склонялась к клумбе с пышными георгинами. Увидела их – развела испачканными в черноземе руками.
– Господи боже ты мой…
– Вы не дадите нам чего-нибудь поесть. Пожалуйста, – неловко попросил Герд. – Мы с сестрой идем из Маунт-Бейл, нас затопило.
Женщина смятенно молчала, переводя растерянные глаза с него на Кикимору.
– Чмок… чмок… чмок… – доносилось откуда-то, уже совсем близко.
– Извините, – сказал Герд и повернулся, чтобы уйти.
– Куда вы? – тут же шепотом сказала женщина; оттолкнув его, быстро закрыла калитку. Настороженно оглядела асфальтовую пустую улицу, осветленную лужами. – Пойдемте, – провела их в дом. Смахнув грязь с пальцев, тщательно задернула занавески. – Посидите здесь, только не выходите – упаси бог…
Исчезла и загремела чем-то на кухне.
– Мне тут не нравится, – оглядываясь, сказала Кикимора.
– Ты можешь идти куда хочешь, – сквозь зубы, неприязненно ответил Герд. – Что ты ко мне привязалась, в конце концов, я тебя не держу. – Сел и сморщился, осторожно массируя коленную чашечку.
– Болит? – Кикимора тоже накрыла ладонью его колено. – Жаль, что я тогда сразу не посмотрела тебе эту ногу. У тебя кровь так текла – я испугалась. Честное слово, я завтра подтяну связки, я уже, пожалуй, смогу…
Она нашла его почти неделю назад, когда Герд лежал на склоне горы, мокрый и обессилевший. Отыскала пещеру, скрытую от посторонних взглядов, и затянула ему рану в боку, потеряв сознание к концу сеанса. Трое суток она кормила его кисло-сладкими, дольчатыми, как чеснок, дикими луковицами (где только их доставала?), пока он не смог ходить.
Он бы погиб без нее.
В пещере он и увидел, как в наваждении, и городок этот в долине, и этот дом, и даже комнату, где они сейчас находились: светлые чистенькие обои, герань на окнах.
– Ты все-таки лучше бы шла на юг, – сказал он. – Вдвоем труднее, и мы слишком разные…
– Не надо, – попросила она.
Вернулась женщина и сунула им теплые миски и по ломтю хлеба: – Ешьте, – сгибом пальца провела по покрасневшим глазам.
– Спасибо, – ответили они не сговариваясь.
Суп был фасолевый, очень густой, с волокнами мяса. Челюсти сводило – до чего вкусный суп. Герд мгновенно опорожнил свою миску. Хлеб он есть не стал, а завернул в салфетку и спрятал в карман. Мало ли что.
– Как там в Маунт-Бейл? – тем временем поинтересовалась женщина.
– Все разрушено.
Женщина вздохнула:
– Господи, какие тяжелые времена… Ну ничего – Бог вас простит…
Подняла руку, чтобы перекрестить, – опомнилась и несколько торопливо забрала у них миски:
– Что ж, поели – и ладно…
Кикимора судорожно поправила сползающую дужку очков. Дужка пока держалась, там где Герд скрепил ее проволокой. Счастье еще, что завернули на ту помойку. Хорошие раскопали очки – большие, дымчатые, закрывают половину лица.
– Вы нам поможете? – напрямик спросил он. – Нам некуда идти. Ведь это «станция»?
Женщина откинулась и пальцами прижала испуганный рот. Заскрипели тяжелые половицы в прихожей. Пожилой плотный мужчина в брезентовом комбинезоне вошел в комнату, сел и выложил на стол руки, темные от загара. По тому, как он это сделал, чувствовалось, что – хозяин.
– Ну? – спросил не очень любезно.
– Мне о вас рассказывал Карл Альцов.
Эту ложь Герд, чтобы было проще, придумал заранее.
– Какой такой Альцов?
Герд объяснил.
– Не знаю, не слышал, – сурово отрезал хозяин.
Кикимора сейчас же толкнула его ногой под столом – мол, пошли.
– Вы с «подземной железной дороги», – сказал Герд. – Я это точно знаю. «Проводник» или, может быть, даже «начальник станции». Вы спасаете таких, как мы…
– Да ты, парень, бредишь.
Хозяин был по-фермерски непоколебим.
– Ладно, – сказал Герд, пытаясь, несмотря на отчаяние, держаться спокойно. – Ладно, значит, вы не «проводник» и не «начальник станции»? Ладно, тогда мы отсюда уйдем, конечно. Но сперва я, пожалуй, вызову сюда дежурный причт «братьев». Пусть окропят дом святой водой. Бояться вам нечего…
– Господи боже ты мой! – так же, как во дворе, ахнула женщина.
Взялась за притолоку, замерла, точно боялась упасть.
Хозяин резко повернул к ней голову: – Цыть! – Раздул ноздри, как показалось Герду, набитые жесткими волосами. – Ну-ка выйди на улицу, посмотри – там, вокруг.
– Они – что придумали…
– Выйди, говорю! Если заявится этот… ну – заверни, значит. Как хочешь, а чтобы духу его тут не было!
Женщина послушно выскользнула.
– Сын у меня записался в «братья», – как бы между прочим сообщил хозяин. – Револьвер вот такой купил, свечей килограмм – сопляк… Так что за благодатью теперь далеко ходить не надо. – Вдруг, протянув руку, сорвал с Кикиморы дымчатые очки, повертел выразительно и бросил на стол – сильней, чем надо. Оправа переломилась. Кикимора вскрикнула и закрыла руками выпуклые фасеточные глаза.
– Ну? Кого ты собираешься звать, парень?
Герд молчал. Неприветливое было лицо у хозяина. Чугунное, как утюг, шершавое, в выветренных мелких оспинках.
– Когда сюда шли, видел вас кто-нибудь? – спросил тот.
– Видел, – Герд, как получилось, описал человека в помятой шляпе.
– Плохо, – сказал хозяин. – Это брат Гупий – самый у них вредный.
Он задумался, глядя меж прижатых к столу больших кулаков. Не поможет, решил Герд про себя. Наверное, побоится. Хотя бы переночевать на разок пустил. Надоело – голод, и грязь, и промозглая дрожь по ночам в придорожных канавах. Они мечутся по долинам от одного крохотного городка к другому.
Как волки.
– И между прочим, – сказал хозяин, – вчера у нас такого, без благодати, уже поймали. Из «Приюта Сатаны», как я понимаю. Худущий такой, с красными глазами, в соломенном блинчике… Не знаешь случаем?
– Нет, – похолодев, ответил Герд.
– Ну, дело твое… Длинный такой, оборванный. Притащили его прямо к церкви. Отец Иосав сказал проповедь: «К ним жестоко быть милосердными…»
– Пойдем, пойдем, пойдем!.. – Кикимора, даже подвывая как-то, дергала Герда за край рубашки.
Рубашка, обнажая тело, вылезала из джинсов.
– Цыть! – хозяин громко засадил ладонью в столешницу. – Сиди где сидишь! Не рыпайся!.. – Посопел, пересиливая очевидное раздражение. Спросил после паузы: – А чего не едите? Ешьте! – Сходил на кухню и снова принес две полные миски. Некоторое время смотрел, как они работают ложками. – Вот что, парень, оставить тебя здесь я не могу. Сын у меня, и вообще – что-то присматриваются. А вот дам я тебе один адресок и – что там нужно сказать.
– Спасибо.
– А то ты тоже – сунулся: здрасьте, возьмите меня «на поезд». Другой бы, не я, скажем, мог бы тебя – и с концами… – Он отломил хлеба, посыпал солью и бросил в широкий рот. Жевал, перекатывал бугорчатые узлы на скулах. – Господин Альцов, значит, погиб? Дело его, конечно, не захотел к нам насовсем… Да ты ешь, ешь пока, не расстраивайся… Толковый был мужик, кличка у него тут была – Профессор. Мы с него, знаешь, много пользы имели… Правда, не наш. Это уж точно, что гуманист, – добавил он с отвращением. Отломил себе еще корку хлеба. – Ты вот что, парень, поедешь по «станциям» – не возражай, делай, что тебе говорят. У нас, парень, с порядком, знаешь, не хуже, чем у «братьев» заведено. Дисциплина еще та, строгая, знаешь… – Скосил глаза на Кикимору, которая, прислушиваясь, затихла как мышь. – Девчонку что, тоже с собой возьмешь?
– Это моя сестра, – не донеся ложку до рта, сказал Герд.
– Сестра? Дело твое… Трудно ей будет, но, парень, это уже твое дело… Мы ведь как? Нам, знаешь, чужих не нужно. Который человек – поможем, но чтобы только свой до конца. И так как крысы живем, каждого шороха опасаемся. И этих, и тех. Дело твое, парень… Я к тому, чтобы ты понял – не на вечеринку идешь…
– Я понял, – серьезно кивнул Герд.
– А понял, и хорошо… Теперь адресок, значит, что говорить и прочее… – Хозяин наклонился к Герду и жарко зашептал, тыча в ухо губами. Потом выпрямился. – Запомнил, парень, не перепутаешь?.. Ты вот еще мне скажи, ты же из «Приюта Сатаны», что там думают: мы все переродимся теперь или как?
– Не знаю…
– Не знаю… – Он скрипнул квадратными, как у злодея, зубами. – Тоже, знаешь, не хочется, чтобы у меня вот тут – перепонки. Человеком родился, и лучше, чтобы так оно до смерти и оставалось…
Дверь неожиданно распахнулась, и возникла в проеме растрепанная смятенная женщина.
– Слышите? Звонят!..
Где-то далеко, тревожно и часто, как на пожар, выбрасывал перетеньки визгливый колокол.
У Герда начало стремительно проваливаться сердце.
– Вот он, брат Гупий…
Они с Кикиморой поспешно вскочили.
– Не туда! – строго распорядился хозяин.
Быстро провел их через комнату в маленький темный чуланчик. Повозился, открыл дверь, хлынул внутрь садовый сырой воздух.
– Задами, мимо амбаров и в поле!.. Ну, может быть, парень, когда-нибудь еще свидимся. Стой! – тяжелыми руками придавил Герда за плечи. – Поймают – обо мне молчи и адресок тоже забудь – как мертвый. Понял? Ты не один теперь: всю цепочку за собой потащишь…
Он отпустил Герда. Женщина махала им уже с другой стороны дома:
– Скорее!..
Послышались крики – пока в отдалении… Бряканье по железу… Пистолетный выстрел…
Кинулись в небо испуганные грачи.
– Я понял, – сказал Герд. – Я теперь не один.
– Удачи, парень!
– Спасибо.
Бледная, испуганная Кикимора, захлебываясь, тащила его на улицу…
Первым добежал брат Гупий. Подергал чугунные ворота амбара – заперто. С грохотом ударил по замку палкой.
– Здесь они!
Створки скрипнули. Вытерев брюхом землю, выбрались из-под них два волка – матерый с широкой грудью и второй, поменьше, с галстучком белой шерсти – волчица.
Брат Гупий уронил палку.
– Свят, свят, свят…
Матерый ощерился, показав величину диких клыков, и оба волка ринулись через дорогу, в кусты на краю канавы, а потом за амбары и дальше – в поле.
Разевая горячие рты, подбежали еще трое с винтовками.
– Ну?.. Где?.. Что?.. Ворон ловишь!..
– Превратились, – постукивая зубами, ответил брат Гупий. – Пресвятая Богородица, спаси меня и помилуй!.. Превратились в волков – оборотни…
Главный, у которого на плечах нашито было по три светлых креста, вскинул винтовку. Волки неслись через поле, почти сливаясь с кочковатой травой. Вожак оглядывался, волчица стелилась за ним, точно не касаясь земли. Главный, ведя дулом и опережая матерого, выстрелил. Застыл, будто статуя, секунды на две, щуря глаза.
– Ох ты, видение дьявольское, – мелко крестясь, пробормотал брат Гупий. Подбегали другие, яростные и обозленные люди. Многие тоже – с винтовками. – Ну как ты? Попал?
Главный сощурился еще больше и вдруг в сердцах хватил прикладом о землю.
– Промазал, так его и так! – с сожалением сказал он.
Было видно, как волк и волчица, невредимые, серой тенью скользнув по краю поля, нырнули в овраг…
Некто Бонапарт
Прежде всего он повернул ручку на подоконнике, и стекла потемнели, становясь непрозрачными. Он не хотел, чтобы его видели, если они следят. Потом зажег матовый свет и осмотрел квартиру – встроенная стандартная мебель, плоский шкафчик, крохотная стерильная кухня с пультом через всю стену.
Кажется, ничего не изменилось.
Надсадно лопнуло ядро, воткнувшись в берег. Содрогнулись опоры, полетела коричневая земля. Солдаты, смятые ударной волной, попятились. Пули сочно чмокали в груду сбившихся тел. Заволокло пороховой гарью, раздуло ноздри. Знамя упало на дымящиеся доски пролета. На другой стороне, за жарким блеском полуденной воды, визжала картечь. Была одна секунда. Только одна секунда в порохе и смерти, среди ревущих ртов – под белым небом, на Аркольском мосту. Он нагнулся и, ничего не видя вокруг, поднял знамя. Он был еще жив. Он кричал что-то неразборчивое. И вокруг тоже кричали. Ослепительное солнце разорвалось в зените, и солдаты нестройной толпой вдруг обогнали его…
Он подошел к компьютеру и торопливо перебрал клавиатуру. Серебристый экран был мертв. Информация не поступала. Память была заблокирована. Это давало точку отсчета. Из сети его отключили в самом конце июня.
Ректор тогда сказал:
– Мне очень жаль, Милн, но в вашу группу не записалось ни одного студента. Никто не хочет заниматься классической филологией, слишком опасно. И дотаций на ваши исследования тоже нет.
– Я мог бы некоторое время работать бесплатно, – запинаясь, ответил он.
Ректор опустил глаза, полные страха:
– Вы слышали, что пропал Боуди? Сегодня утром его нашли, опознали по отпечаткам пальцев – так изуродован…
– Но не филологи же виноваты, – с тихим отчаянием сказал он.
– Мы получили предупреждение насчет вас, – объяснил ректор. – Мне очень жаль, у меня нет для вас денег, Милн.
Помнится, он, не прощаясь, поднялся и вышел из чужой пустоты кабинета и пошел по чужой пустоте коридора, а встречные прятались от него, как от зачумленного.
Значит, июнь уже истек.
Это плохо. Он рассчитывал на больший запас времени. Примерно через месяц он получил приглашение от Патриарха, но следить за ним начали, видимо, гораздо раньше. Главное – выяснить, сколько ему осталось. Он потянулся к телефону и отдернул руку, обжегшись. Телефон, конечно, прослушивается. Если он будет справляться о дате, то они сразу поймут, что произошел повтор. И тогда его отправят в Карантин, откуда не возвращаются. Авиценна предупреждал об этом. Де Бройль попал в Карантин и уже не вернулся. И Дарвин тоже попал в Карантин. И Микеланджело не вернулся из Карантина.
Лестница была пуста. Он спустился на цыпочках и взял газету из ящика. Газеты ему доставляли, он уплатил за полгода вперед. Бэкон смеялся над ним, когда он выписал, единственный на факультете. А вот пригодилось.
Где теперь Роджер Бэкон? Говорят, что это был удачный запуск. Нет никаких доказательств – слухи, сплетни, легенды… Письмо Монтесумы никто не видел. Может быть, оно вообще не существует. Мистификация.
Газета была от девятнадцатого числа. Он облегченно вздохнул. Патриарх позвонит только двадцать шестого. Есть еще целая неделя. Он успеет, если только не наделает глупостей.
Первую страницу занимали сообщения с фронта: Помойка неожиданно прорвала линию обороны сразу в двух местах на Севере и сходящимися клиньями отсекла Четвертую группу войск сдерживания от основных сил. Контрудар специальной армии Хаммерштейна захлебнулся у Праты, глюонные лазеры, на которые возлагалось столько надежд, оказались бессильными. Командующий Четвертой группой докладывал, что своими силами он пробиться не сможет, ведет ожесточенные бои по всей линии окружения. Эвакуация с утраченных территорий уже началась. Сообщалось, что число пораженных чумой невелико, но несколько больше обычного. Потери при эвакуации – двенадцать транспортных вертолетов. Соседняя статья, исполненная официальной бодрости, в тысячный раз поднимала вопрос о нанесении ядерных ударов по болевым точкам Помойки. Обсуждалась гипотеза «второй цивилизации», и приводился снимок аборигена, как всегда, очень плохого качества: лохматый, оборванный человек совершенно фантастической внешности – двухголовый и трехрукий, – согнувшись, обнюхивал консервную банку.
Он отбросил газету. Он уже читал ее – девятнадцатого июля. На счете обнаружилось немного денег, и он снял их все. Достал паспорт, нерешительно повертел и бросил в утилизатор. Паспорт ему больше не понадобится. Он все время боялся, что откроется дверь и войдет Двойник. Правда, Авиценна клялся, что Двойника не будет: весь отрезок несостоявшейся биографии выпадает нацело, и проживаешь его снова, как бы с чистой страницы. Но кто знает? Никто не знает. Сам Авиценна не уходил в повтор.
На улице горел костер из книг и стульев, награбленных в покинутых домах. Какие-то бродяги явно призывного возраста жарили крыс, нанизанных на шампур. Крысы были здоровенные, как кошки, а бродяги – злые и наглые, небритые, воспаленные, готовые на все дезертиры. Он прибавил шагу, на него недобро покосились, но – пронесло. Зато с ближайшего перекрестка навстречу ему развинченной походкой наркоманов выплыли два юнца лет пятнадцати – контролеры мафи, оба в дорогих желтых рубашках навыпуск.
Он вспомнил. Это было именно девятнадцатого июля. Ему тогда выбили два зуба и сломали ребро. Ничего не поделаешь. Он обреченно вынул жетон на право хождения по району. Однако на жетон они даже не посмотрели.
– Плата за год, – лениво потребовал старший.
Он покорно достал жесткую карточку и глядел, как они, подсоединив ее к своему счету, перекачали все, что там было.
– А теперь в морду, – цыкнув на асфальт пенной слюной, сказал второй.
«Государство не гарантирует правозащиту тем гражданам, которые подрывают его основы».
Прилипающий шелест оборвался сзади. Остановилась машина, и кто-то, невидимый изнутри, поманил контролеров пальцем. Оба вытянулись. Милн пошел, напряженно ожидая оклика. Свернул за угол. Он весь дрожал. Это была «вилка». С этого момента события развивались не так, как раньше. Он не знал, хорошо это или плохо. Но все сразу же осложнилось. У него не осталось денег. А чтобы выбраться из города, надо пройти три района мафи и всюду платить.
Он нырнул в таксофон и оглянулся. За ним никто не следил. Тогда он набрал номер.
– Да! – на первом же гудке, отчаянно, как утопающая, крикнула Жанна.
Милн сказал в горло пластмассового аппарата:
– Вчера.
Это был пароль, о котором они договаривались.
– Завтра! Завтра! Завтра!.. – так же отчаянно выкрикнула она.
Что означало: приходи немедленно.
Он испугался – столько страха было в ее голосе. Может быть, там засада? Но в таком случае Жанна не позвала бы его. Кто угодно, только не она. Он побежал мимо кладбища нежилых домов, мимо горелых развалин, мимо пустырей, заросших колючими лопухами, и заколотил ладонями в дверь, и дверь немедленно распахнулась, и Жанна выпала ему на грудь, и, сломавшись, обхватила его детскими руками, и уткнулась в грудь мокрым лицом.
Она непрерывно всхлипывала, и он ничего не мог понять. Повторял:
– Зачем ты, зачем?..
Она вцепилась в него и втащила в квартиру, и там, уже не сдерживаясь, захлебнулась обжигающими слезами, тихонько ударяясь головой о его подбородок:
– Тебя не было два месяца, я хотела умереть… всех выселили, ходили санитары и сразу стреляли… я спряталась в подвале… пауки, крысы… я боялась, что ты позвонишь, пока я в подвале… я лежала и слушала шаги за дверью… почему, почему тебя не было так долго?..
– Не плачь, – сказал он, целуя кожу в теплом проборе волос. – Тебе нельзя плакать. Как ты поведешь французскую армию на Орлеан? Добрый король Карл не поверит тебе.
Это была шутка. К сожалению, слишком похожая на правду. Она слабо улыбнулась – тенью улыбки.
– Полководцы без армий. У тебя впереди «Сто дней», Ватерлоо и остров Святой Елены. А у меня – бургундцы, папская инквизиция и костер в Руане… Возьми меня с собой, я хочу быть там и первой пасть в самом начале сражения!
– Я назначу тебя своим адъютантом, – пообещал он. – Ты поскачешь на белом коне и принесешь мне весть о победе. Это будет самая блистательная из моих побед.
Налил на кухне воды. К счастью, вода была. Жанна выцедила мелкими глотками и успокоилась. Она умела быстро успокаиваться.
– Мы, кажется, спятили, – сказала она. – Я здесь целых два месяца и каждую секунду жду, что они приедут за мной. Но теперь – все. Мы уйдем сегодня же, да?
– Да, – сказал он. – У тебя есть деньги?
– Долларов десять, я последние дни почти не ела. – У нее вся кровь отхлынула от лица, сделав его как из мрамора. – Это очень плохо, что у меня нет денег?
– Надо пройти три района мафи – значит, три пошлины.
Она отпустила его и зябко передернула обнаженными просвечивающими плечами. Сказала медленно:
– Для женщин особая плата. Я могу расплатиться за нас обоих. – Увидела в его руках телефонную трубку. – Куда ты? Кому? Зачем?..
– Патриарху, – застревая словами в судорожном горле, ответил он. – Лучше уж я сразу попаду в Карантин. – Бросил трубку, которая закачалась на пружинном шнуре. Посмотрел, как у нее медленно розовеют щеки. – Выберемся как-нибудь, не плачь, Орлеанская дева. Пойдем ночами, ночью даже мафи прячутся от крыс…
– Я тебя люблю, – сказала Жанна.
Он накинул куртку ей на плечи, потому что она дрожала.
– Слежки не было?
– Нет.
– Никто не заходил – ошибочно, не звонил по телефону?
– Как в могиле…
Тогда он тоже улыбнулся – впервые.
– Конечно. Им и в голову не придет. Надо поесть чего-нибудь, завтра утром мы будем уже далеко, я тебе обещаю.
Они прошли на кухню, такую же стандартную, как у него. По пути он осторожно отогнул край занавески. Залитая солнцем улица была пустынна.
Жанна держала в руках банку с яркой наклейкой.
– У меня только консервированный суп, – жалобно сказала она. – Но я могу заказать по автомату, хоть на все десять долларов.
– Не стоит, – ответил он. – Будем есть консервированный суп…
Машина с синим государственным номером – «пропуск всюду!», которая спасла его от мафи, приткнулась за поворотом и поэтому не была видна из окна. В ней терпеливо, как истуканы, сидели четверо, очень похожие друг на друга. Когда он забежал в парадную, то человек рядом с шофером негромко произнес в рацию:
– Оба на месте. – Послушал, что ему оттуда приказывают. – Хорошо. Понял. Прямо сейчас.
Махнул рукой.
И все четверо вылезли из машины.
Ночью бежали Пракситель и Чингисхан. Они бежали не в повтор и не в преисподнюю по «черному адресу» – после катастрофы с Савонаролой, где совместились два образа, и установка, заколебавшись, как медуза, растворилась в пучине времени, запусков больше не было. Они поступили проще: в полночь, когда охрана до зеленых звезд накурилась биска, а дежурный офицер был пьян и спал беспробудным сном, Чингисхан, вспомнив навыки инженера, устроил лавинное замыкание в сети компьютера и отключил электронные шнуры, опоясывающие Полигон. Они спустились из окна по скрученным простыням, перерезали колючую проволоку и ушли в сторону станции, где след их терялся. Станцию еще в прошлом году распахали свои же бомбардировщики, и среди хаоса вздыбленной арматуры спрятаться было легко.
Патриарху сообщили об этом только под утро. Он поднялся с невесомостью измученного бессонницей человека. Его не волновал Пракситель – какой толк от скульптора? И Чингисхан его тоже не волновал: конечно, полководцы были нужны позарез, но он лично никогда не верил, что этот нервный, запуганный, суетливый человечек может встать во главе монгольских орд. Бессмысленный побег – тому доказательство. На станции среди камня и голого опаленного железа долго не выдержишь, а за пределами ее их будут ждать военные патрули, контролеры мафи, шайки дезертиров, которые, несомненно, включатся в охоту. Дезертирам надо ладить с властями.
Гораздо больше его волновал вопрос об охране. Это был уже не первый случай, когда биск неведомыми путями просачивался на Полигон. И всеобщее повальное пьянство давно стало нормой. Трудно было удержать в рамках фронтовые части, отведенные на короткий отдых и знающие, что через месяц-другой они снова будут брошены в гнилую кашу, кипящую на границах Помойки. Он позвонил генерал-губернатору, с удовольствием вытащил его из постели и, надавливая начальственным тоном, потребовал немедленно организовать поиски.
Толстый дурак, который, как говорили, потерял руку не на фронте, а врезавшись на своем лимузине в танк во время маневров, долго кряхтел и надсадно откашливал прокуренные легкие (наверное, тоже вчера накачался биском), а потом важно заявил, что правительство, избранное волей народа, не может сотрудничать ни с мафи, ни с дезертирами. Мы, собственно, демократическая страна или кто? Патриарх не стал с ним спорить, а связался с государственным секретарем, с не меньшим удовольствием разбудив и его. Секретарь сразу все понял и пообещал неофициально переговорить с руководителями каморр.
– Вам они нужны живыми или мертвыми? – уточнил он.
– Мертвыми, – сказал Патриарх. – Хватит с нас публичных казней.
Затем он предложил расстрелять несколько человек из охраны – для назидания. Секретарь замялся, попробовал сослаться на ужасающую нехватку людей, на усталость, на зараженность частей пораженческими настроениями, но в конце концов уступил и дал санкцию. И, почувствовав вследствие этого некоторый перевес, поинтересовался, как обстоят дела с Поворотом, скоро ли приступят к реализации, потому что обстановка на фронте исключительно напряженная, честно говоря – дьявольски скверная обстановка, да и внутреннее положение страны нисколько не лучше, гидропонные станции не справляются, воды нет, через полгода начнется всеобщий голод.
– Скоро, – раздраженно бросил ему Патриарх.
Все они жаждали быстрых и действенных результатов, как будто так просто было повернуть становой хребет истории. Емкость ее оказалась просто фантастической, выше всяких расчетов; запуск следовал за запуском, число опорных точек росло, а финального насыщения системы не происходило. Деньги, люди и энергия проваливались в бездонную яму. Иногда Патриарх с тревогой думал, что, вероятно, ошибся: для решающего Поворота потребуется замещение всей массы когда-либо живших на Земле индивидуумов, а это практически неосуществимо. Наличными силами можно лишь переломить сюжет в одной точке, и тогда вся новейшая история будет сметена невиданным ураганом.
На сегодня у него было несколько дел, но в первую очередь он ознакомился с диагнозом, который принес улыбчивый санитар – палач с лицом херувима. Бонапарт находился в Карантине уже трое суток. Были назначены гомеопатические процедуры с элементами устрашения. Наблюдающий врач рекомендовал еще интенсивную психотерапию, но Патриарх воспрепятствовал, продублировав запрет письменно, – предосторожность не лишняя, когда имеешь дело с бандой садистов. Он знал, к чему приводит интенсивная психотерапия, ему нужен был живой человек, а не кукла, прыгающая на шарнирах. Судя по анамнезу, пациент находился сейчас в требуемом состоянии: напряженно-подавленном, близком к панике – лихорадочно искал выход из ситуации. Любой выход.
Он подписал диагноз:
– К двенадцати подадите его сюда.
– Процедуры? – ласково осведомился санитар.
– Без процедур. – Патриарх поймал недовольный взгляд голубых фарфоровых глаз. – Вам крови мало? Идите!
Улыбка погасла, и санитар вышел, не козырнув. Патриарх подавил жаркий гнев, вспыхивающий последнее время все чаще и чаще. Одна ошибка – и я сам окажусь в Карантине, подумал он. Мельком просмотрел сводку. Государственный секретарь был прав. Обстановка не радовала. Помойка, накопив силы, перешла в наступление по всему фронту. Армии отходили с затяжными боями. Следовало ожидать, что скоро придется оставить Хэмптон – его заводы уже эвакуировались, – а на левом берегу Праты создавался новый рубеж обороны. Четвертая группа войск, угодившая в котел неделю назад, после нескольких неудачных попыток прорыва и деблокирования получила приказ рассредоточиться и пробиваться мелкими соединениями. Потери в личном составе были чудовищные. Командующий группировкой пропал без вести. Появилась новая разновидность чумы, стойкая к аутобиотикам. В разделе секретной информации сообщалось, что наступление Помойки началось после того, как в один из ее предполагаемых мозговых центров была сброшена нейтронная бомба. На акции настоял Объединенный комитет штабов.
Патриарх коротко выругался. Как будто первой атомной бомбардировки было недостаточно! Он переключил компьютер и надиктовал записку в правительство, где категорически возражал против употребления в борьбе с Помойкой методов, продуцирующих сильные технические следы, в том числе радиационное заражение. Совершенно очевидно, что Помойка представляет собой некий организм, возникший путем цепной самосборки в результате накопления промышленных отходов до критической массы. Источником пищи для нее являются экскременты цивилизации: пластики, соли тяжелых металлов, радионуклиды. Бессмысленно пытаться уничтожить агломерат с помощью тех средств, которые лишь стимулируют его рост и размножение. Ничего более идиотского придумать нельзя. Он не смягчал выражений. Он надеялся, что хотя бы их резкость заставит военных задуматься. В конце сводки скупо сообщалось, что вчера была предпринята очередная попытка установить связь с аборигенами, однако обе группы, заброшенные за линию фронта, исчезли. Еще более скупо сообщалось, что в Азиатском и Тихоокеанском регионах Помойка проявляет длительную пассивность, это связывалось с широкой натурализацией производства.
– Конечно, – пробормотал он.
На очереди была докладная секции Исторического Террора. Докладная была отпечатана на бумаге, в обход компьютера – вероятно, чтобы усилить впечатление. Руководство секции полагало, что ситуация катастрофически ухудшается, медлить более нельзя, необходимо срочно осуществить запланированные теракты в интервале семнадцатого – девятнадцатого веков в количестве от двухсот пятидесяти до трехсот единиц.
Он скомкал бумагу и бросил ее в утилизатор. Секция была создана год назад и отражала безумный замысел Управления военной разведки – что сплошной одномоментный террор, осуществленный в опорных точках истории, может привести к желаемому результату.
– Покончить самоубийством мы всегда успеем, – вслух сказал Патриарх.
Далее он принял отцов-пилигримов. Отцы-пилигримы волновались и требовали скорейшего запуска. Это были лучшие его кадры, удивительным образом сохранившие веру в первоначальные идеалы страны. Зелень, ожесточившиеся романтики. Патриарх отвечал неопределенно. Запуск имеет смысл, когда темпор – место персонификации – отработан до мельчайших деталей, иначе не произойдет замещения исторической личности. А материалов по «Мэйфлауэру» практически не было. Не удалось реально биографизировать ни один образ. Вся эта группа была обречена. Скорее всего, их просто разбросает по вектору истории, и они навсегда пропадут в толще веков. Он объяснил им это. Они были все равно согласны.
– Письмо Монтесумы, – напомнили ему.
Это был сильный аргумент, и он отпустил их, обещав сделать все возможное.
Письмо Монтесумы было обнаружено еще в начале века в тайнике храма при раскопках бывшей столицы ацтеков – Теночтитлана (современный Мехико) англо-французской экспедицией: Флеминг, Жоффр и Тюзе. Написанное на иератике, оно не поддавалось машинному переводу. Только недавно, в связи с организацией Полигона, когда начались систематические поиски в музейных хранилищах и архивах, было установлено, что текст его зашифрован личным кодом Патриарха.
Монтесума очень сжато излагал ход событий. Замещение личности произошло не совсем гладко: ему потребовалось симулировать психическую болезнь, чтобы ближайшее окружение императора не заподозрило подмены. Особенно трудно было с языком, оказавшимся весьма далеким от того, которому его учили. Тем не менее все обошлось. Монтесума, он же Джон Герфтон из Кембриджского университета, сразу же начал проводить чрезвычайно жесткую политику на завоеванных территориях, фактически целенаправленный геноцид. И когда Кортес вторгся в империю, угнетенные племена выступили против центральной власти, развалив боевую мощь ацтеков. Монтесума, как и было запланировано, сдался в плен, а затем призвал своих подданных покориться испанцам. Дальнейшее хорошо известно: ацтеки восстали, Монтесума был зверски убит, сопротивление испанцам возглавил Куаутемок, но было уже поздно – Кортес захватил Теночтитлан, и освоение Америки произошло на полвека раньше, соответственно, раньше началось развитие ее северной части.
Ровно в двенадцать привели Милна. Санитар толкнул его к стулу и, повинуясь нетерпеливому жесту Патриарха, снял наручники. Выглядел Милн неплохо, только у глаз вымученными тенями скопилась чернильная синева. Он положил ногу на ногу. Патриарх испытывал сильнейшее раздражение, видя перед собой этого невысокого плотного юношу с резкими чертами молодого Бонапарта. Страна агонизировала. Солдаты на фронте тысячами захлебывались в вонючей пене, разлагались заживо и сходили с ума, тронутые «обезьяньей чумой». Шайки дезертиров наводили ужас на города. Правительство было бессильно. Отцы-пилигримы, лучшие из лучших, элита нации, готовы были завтра же безоговорочно идти на верную смерть, чтобы хоть немного отдалить наступление Ночи. А в это время кучка высоколобых интеллектуалов, вскормленных, между прочим, на бюджетных ассигнованиях – мизер в масштабах государства, – заумно рассуждает о том, что существующая политическая доктрина давно исчерпала себя, сгнила, провалилась внутрь социума и низвергла цивилизацию в недра гигантского природного катаклизма. Чушь, болтовня – вредная болтовня, прибежище для отчаявшихся и опустивших руки.
Патриарх спросил грубо:
– Видели Карантин?
– Да, – сказал Милн.
И ничего не добавил, потому что добавлять было нечего.
– Ну что? Будете работать?
– А почему бы вам не направить меня в армию? – предложил Милн. – Там я принесу больше пользы, чем растрачивая время и силы в дурацких маскарадах.
Патриарх сдержался. Все-таки перед ним сидел Наполеон. Этот замкнутый, высокомерный юноша с изумительной легкостью победил в четырех военных играх, начисто разгромив коллективный разум генштаба.
– Вы думаете, Милн, что у вас нет дублера? – прищурившись, спросил он.
– Думаю, что нет, – спокойно ответил Милн.
Он был прав. Легко заместить Спинозу: многим ли даже в то время был известен скромный шлифовальщик стекла? В крайнем случае соседи удивятся, решив, что нищий философ окончательно спятил. И очень сложно заместить полководца, который постоянно находится под прицелом тысяч внимательных глаз, чьи привычки, вкусы, наклонности изучены тщательно и до предела. Здесь мало одной внешности, внешность можно скопировать, это нетрудно. Но здесь должен быть темперамент Наполеона, и честолюбие Наполеона, и главное – грандиозный военный талант Наполеона, иначе кандидат проиграет первое же сражение и все полетит к черту.
Патриарх сказал:
– Незачем направлять вас в армию, Милн. Поздно. Лет тридцать назад это, возможно, имело бы какой-то смысл, но не теперь. Война проиграна. Впрочем, и тридцать лет назад тоже не имело смысла: событиями тогда вершили не полководцы, а политики и дипломаты.
Милн пожал плечами:
– Помойка не есть артефакт развития. Помойка есть неизбежный порок нашей цивилизации. Вы осуществите ваш Поворот истории, «великий скачок», и она возникнет на сто лет раньше – только и всего.
На запястьях его краснели следы от наручников.
– Ладно, – миролюбиво заметил Патриарх. – Вы, конечно, меня переспорите. Вы научились дискутировать у себя в университете. Я хочу сказать другое: с вами была девушка, Милн, подумайте о Жанне. – Он посмотрел, какая будет реакция. Реакции не было. Милн сидел по-прежнему – нога за ногу. – Мы можем отправить ее в Карантин или на фронт с эшелоном «веселых сестер». «Сестры» неплохо зарабатывают – солдаты щедры, потому что не знают, будут ли они живы завтра…
Милн сухо ответил:
– Разве я отказываюсь работать на вас? Я не отказываюсь. Но Жанна пойдет со мной.
– Жозефиной Богарнэ? – ядовито спросил Патриарх. – Нет, Милн, Жанна останется здесь. Тогда мы будем уверены, что вы обойдетесь без самодеятельности. Обещаю вам, с ней ничего не случится.
Милн немного подумал.
– У меня вопрос, – сказал он.
– Пожалуйста.
– Что происходит с теми людьми, которых мы замещаем?
Патриарх выпятил нижнюю губу:
– Вы играли в бильярд, Милн? Шар бьет по шару. Мы вышибаем их дальше в прошлое. Если хотите – да! – в определенном смысле уничтожаем их!
Они помолчали.
– Хорошо, – наконец сказал Милн. – Но давайте быстрее. Надоело, честное слово. И не думайте, что вам удастся меня обмануть. Пока я не буду уверен, пока я не буду уверен, что все идет именно так, как надо…
– Не беспокойтесь, – устало сказал Патриарх. – Получите свою Жанну.
Он был разочарован. Неужели они ошиблись? Настоящий генерал Бонапарт при упоминании о Жанне просто пожал бы плечами. Что такое любовь, когда речь идет о власти и славе?
– Завтра же начинайте подготовку, – приказал он.
– Сегодня же, – ответил ему Милн.
Обоих привезли вечером, когда остывающее светило уходило, потрескивая, в длинные темно-зеленые тучи на горизонте и багровые тени протянулись от ворот через весь казарменный двор. Чингисхан сдался сам, не выдержав жажды, и его прикончили дезертиры, а Праксителя загнали на верхотуру вокзала, под дырявую арку, у него был пистолет, он отстреливался, а когда патроны кончились, бросился с пятиметровой высоты на бетонную площадь.
Милн сидел у окна и видел, как черный пикап с кровавыми, грубо намалеванными крестами въехал во двор и санитары в синих халатах выкатили из него носилки.
– Скорая помощь, – сказал кто-то.
Все побежали. И Милн побежал тоже. Однако в коридоре пропустил других и, прижавшись к пластиковой стене, кося по сторонам, прочел записку. Записку только что сунул раздатчик – не глядя, торопливым движением. «Встретимся в преисподней». Подписи, разумеется, не было. Он скатал крохотный замасленный шарик и проглотил его.
Преисподняя!
Механизм запуска был таков, что кандидат обязательно должен быть идентичен темпору. Месту своей будущей персонификации. Это возможно в двух случаях: если уходишь в повтор – в собственное прошлое, тогда совмещаешься с самим собой, идентичность полная. И второе – когда идешь по программе и замещаешь реальное историческое лицо, безусловное подобие которому достигается в результате подготовки.
Вот и все. Третьего пути нет. Третий – преисподняя.
Он спустился во двор и вместе со всеми подошел к тому, что глыбилось на носилках.
Авиценна, немного впереди, сжимал слабые кулаки.
– Зачем уродовать? – тихо твердил он. – Зачем и кому это надо? Убили бы просто…
Старший санитар, закуривая, охотно объяснил:
– А чтобы тебе, например, веселее было смотреть. Ты сбежишь, и с тобой будет то же самое…
– Мразь. Серое мужичье, – сказал Авиценна.
Между кучкой санитаров с автоматами и толпой было метра три неживого пространства.
Непреодолимый барьер.
– Превратили страну в Помойку, а теперь – что? Витаминами вас кормить? – спросил старший.
Санитары поглядывали исподлобья. Как голодные волки. Крикни им только, прикажи – разорвут. Их набирали из фермеров, и они люто ненавидели городских за то, что земля не родит, за то, что сын в армии, за то, что пришлось бросить распаханную отцовскую ферму и перебираться в город на благотворительные подачки.
Милн взял Авиценну за локоть и утянул в задний ряд:
– Не связывайся.
– Ладно, – сказал Авиценна. – Пойдем ужинать.
Грюневальд, стоявший рядом, наклонился к ним:
– Австриец что-то затевает. Весь третий сектор сегодня пропустил тренировку.
– Наплевать, – сказал Авиценна. – Хоть бы они сдохли, шакалы. Ненавижу. Ты-то, Милн, что здесь делаешь?..
И пошел через двор – тощий, нескладный, метя́ пыль полами стеганого халата.
– Не нравится мне это, – продолжал бубнить Грюневальд. – Ты слышал, Милн, что изменили план запусков?
– А разве изменили?
– Вчера…
– Я иду вне очереди. Меня это не касается. Извини, Грюн, мне пора. – Он догнал Авиценну и насильно повернул его за угол, где была глухая стена. – Слушай, Авиц, постой, что такое преисподняя?
У Авиценны почернели глаза на худощавом горбоносом лице.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю, – уронил Милн.
– Это старт в ничто, полное уничтожение, оттуда не возвращаются…
Хлопнуло над крышами, зашипело, и в темное небо взлетел красный комок ракеты. За ним – еще один, и еще. Диким воспаленным трехглазием повисли они над Полигоном. Все сразу же исказилось. Хлынул неровный свет. Закричало множество голосов. Побежали какие-то люди – вправо и влево.
– Кажется, финал, – сказал побледневший Авиценна.
Прямо на них выскочил Калигула, окруженный сенаторами. У каждого поверх тоги с пурпурной каймой был накинут короткий тупой автомат.
– Вот и ты, голубчик, давно пора! – сказал запыхавшийся, шлепающий губами Калигула. Выстрелил с пояса. Авиценна выше лба задрал угольные восточные брови, опрокинул лицо: – Ах вот оно что… Зачем?.. – Мягко сел на асфальт, голубая чалма размоталась. Тогда Калигула с размаху ударил его ногой: – Получи, голубчик!.. – Обратил светлые, с кипящей слезой, яростные глаза на Милна: – Проходи, проходи, не задерживайся, филолог!..
Милн пошел по колеблющемуся бетону. Сзади, точно стадо гусей, загоготали сенаторы. Прыгало и двоилось в глазах. Здание административного корпуса переваливалось с боку на бок. Перед ним качалась дверь, ведущая неизвестно куда. Оттуда густо повалили отцы-пилигримы. Тоже вооруженные, с винтовками, с карабинами. Его грубо толкнули: «Нализался, не мог потерпеть…» Каким-то образом он втиснулся внутрь. Он ничего не понимал. Неужели началась плановая ликвидация? Он слышал о таком: убирают всех, не оправдавших надежд. Но почему Калигула? Он же рядовой кандидат, ждущий запуска.
Надо было срочно найти Патриарха. Коридор изгибался блестящей пластиковой кишкой. Милн ускорял шаги. Патриарх обещал, что его обязательно вернут обратно, выдернут со Святой Елены, уже есть методы. И Жанна будет ждать его здесь. Опять обман. Жанна, оказывается, в преисподней. Это смерть. Правда, не для него. Для Жанны. Хотя, пожалуй, и для него тоже. Он почти бежал и потому чуть не споткнулся о человека, который лежал поперек коридора. Чуть не наступил на вытянутую к плинтусу руку. Человек был в новенькой форме, один из охранников Патриарха. Он умер недавно. Милн решительно перешагнул через него и открыл дверь.
В кабинете Патриарха, куда никто не приходил сам, а куда людей приводили в сопровождении и откуда людей уводили в сопровождении, а бывало, что лишь приводили и человек исчезал навсегда, за обширным компьютерным полукругом, заваленным бумажными секретными документами, сидел черноволосый Австриец, и его знаменитая прядь, как всегда в минуту крайнего возбуждения, прилипла ко лбу. Он быстро-быстро перебирал желтые бланки, которые грудой топорщились перед ним. Личный сейф Патриарха был распахнут, и нутро его вывернуто с подчеркнутой беспощадностью. Одновременно Австриец хмыкал, чмокал, удовлетворенно цыкал зубом, ковырял синим карандашом в ушах и как припадочный болтал обеими ногами. Чесал потную щеточку усов под носом. На нем был военный китель без погон с солдатским железным крестом времен Первой мировой войны.
– А… Милн… – сказал он приветливо, продолжая цыкать и ковырять. – Хорошо, что зашел. У нас тут небольшая чистка. Пора навести порядок. Я полагаю, что ты любишь, когда порядок? Я так и думал. Я всегда говорил, что военные должны держаться друг друга. Я и в проскрипционных списках отметил тебя особо, чтобы не кокнули. Но ты все-таки лучше посиди у себя в комнате, мало ли что. Санитары на нашей стороне, так что не беспокойся.
– Я и не беспокоюсь, – напряженно сказал Милн.
– Вот и отлично. У тебя когда запуск?
– Послезавтра, вне очереди…
– Мы тебя запустим – можешь не сомневаться. Я в тебя верю, Милн. А сейчас иди, мне надо работать…
Милн неловко повернулся, чтобы уйти, но сейчас же в кабинет, расшибая головы, втиснулись отцы-пилигримы вперемежку с сенаторами – красные, взволнованные, с пистолетами и ножами, а кое-кто и просто с ножками от табуреток.
– Ушел! – закричал Калигула. – Обманул!.. У него потайной ход в комнате!..
Милн пошел прочь сквозь расступающихся отцов. Ему кивали: «Вот и Милн с нами…» – «А куда ж ему? Он же не сумасшедший…» – «Правильно, Милн, молодец…» – Он старался выбраться побыстрее.
За спиной набухал взрывной лай Австрийца:
– В этот исторический момент, когда вся нация в железном единстве, отбросив сомнения, сплотилась вокруг идеи Великого Поворота…
И резкий фальцет Калигулы:
– Не время, Адольф…
Это был переворот. Дворцовый мятеж. Смена правителя. Тотальная оккупация истории обернулась банальной оккупацией Полигона. Ящерица сожрала свой хвост. Теперь будет не Патриарх, а Австриец. Он точно учел момент, и на его стороне санитары. Интересно, как к этому отнесется правительство? Хотя правительству все равно, лишь бы получить результаты. Значит, теперь у нас Австриец. Этого и следовало ожидать.
Загородка у перехода в отсек темперации была опущена. Он постучал. Дежурный санитар шевельнул автоматом:
– Пропуск!
– У меня приказ, – соврал Милн.
– Ничего не знаю. Пропуск!
Пришлось осторожно, под прицелом, отступать от загородки обратно. В соседнем коридоре была крышка аварийного люка. Он налег на никелевую крестообразную рукоять. Уныло завопила сирена, но он не обратил на это внимания. Сейчас им было не до него. Люк открылся, и Милн протиснулся в затхлую пасть трубы. Освещения по оси не было. Угадывались мелкие скобы, идущие вверх. Он полез, чувствуя спиной пульсирующие кабели, добрался до развилки и пополз по другой трубе, стараясь не сбиться, – свернул влево и через полсотни метров опять влево. Потом спустился. Он почему-то не подумал, как выйдет отсюда, уперся в крышку люка, и она подалась. Слава богу, была снаружи отвинчена. Он спрыгнул в редкую темноту и по гулкости удара понял: кабина настройки.
В левой секции немедленно крикнули:
– Кто?..
Он увидел Патриарха, сидящего на корточках около конического Цихрона. Кожух был снят, и обнажена внутренность спрута, вмороженная в льдинки микропроцессоров. Одной рукой Патриарх держал пистолет, а другой копался в белых кристалликах. Лысина его блестела. Он сразу же выстрелил, и пуля чпокнула по резиновой шине у трансформатора.
Милн отшатнулся за фарфоровую перегородку.
– Не будьте идиотом, – сказал он. – Нас услышат.
И, будто в подтверждение этих слов, заверещал телефон на стене.
Милн поднял трубку.
– Одно слово, и – стреляю, – пугающим шепотом предупредил Патриарх.
– Да, – сказал Милн, не обращая внимания. – Нет, – сказал он через секунду. Водрузил трубку на место. – Вас ищут. Я ответил Калигуле, что здесь никого, но он, по-моему, не поверил.
Патриарх покусал дуло ощеренными зубами.
– Давно надо было отправить этих параноиков в Карантин. Поздно… Выбросили меня за ненадобностью. Генерал-губернатор ответил, что не вмешивается в дела Полигона. Каково? Не вмешивается!.. – Он коротко хохотнул. – Мальро когда-то писал, что мы – единственная страна, которая стала великой державой, не приложив к этому ровно никаких усилий. А почему, Милн? Потому что ей расчистили исторический путь… Я – расчистил…
– Мне нужна Жанна, – внятно сказал Милн.
– Жанна? Жанна в изоляторе. – Патриарх быстро мигнул. – Знаете что, Милн, идите к Жанне, забирайте ее, живите с ней, они вас не тронут. А я исчезну. Раз и навсегда, будь оно проклято! – Говоря это, он, почти не глядя, втыкал кристаллы в узкие разнокалиберные гнезда, ошибся – чертыхнулся и переставил. Вдруг закричал тем же шепотом: – Вы что, не понимаете, они меня на части порубят!..
– Мне нужна Жанна, – повторил Милн. – Жанна, или вы не уйдете отсюда.
– Жанну запустили позавчера, – обреченно сказал Патриарх. – Конечно, я обманул вас, Милн, но не я отдавал приказ, меня заставили…
– Хорошо, – сказал Милн. Он теперь убедился. – Значит, мне нужна преисподняя. Мы уйдем туда вместе. Преисподняя… Что это означает на практике?
– Это смерть! – зашипел Патриарх. И по судороге шипения стало ясно, что он в истерике. – Запуск без темпора, без конкретного исторического адресата! Я же объяснял вам основы движения внутрь потока! Выброс может произойти где угодно, еще до образования Земли, в пустом Космосе!
В дверь позвонили, и сразу же забарабанили по железу нетерпеливые кулаки, и Калигула требовательно позвал:
– Откройте, Милн!
Патриарх, пристанывая, порхал длинными пальцами над клавиатурой. Будто пытался исполнить на пианино нечто недоступное человеку. В такт нажимам загорались и разбегались по стенам зеленые концентрические круги.
Милн вышел из-за плиты и положил руку на пульт:
– Мне нужна преисподняя.
– Вы что?.. – Патриарх поднял трясущийся пистолет.
– Я успею разбить пару датчиков, – спокойно объяснил Милн. – Ради бога! У нас мало времени.
Он действительно не волновался.
– Откройте, Милн!
В дверь ударилось что-то грузное, и она затрещала.
Вышли вечером и шли всю ночь до рассвета. Табор вел Апулей. Он один умел ориентироваться по звездам в этом гнетущем пространстве, где на тысячи километров, стиснув землю кожистым одеялом, распласталась толстая коричневая губка. Было очень важно не сбиться и выйти к Синим Буграм, куда собирались остальные колонии: левее, за Пратой, шевелил холодные пальцы лишайник, жрущий любую органику, а на восток, по-видимому до самого океана, простирались необозримые топи, которые, накапливая энергию для выброса пены, булькали и кипели живой плазмой. Там было не пройти. Позади, за темной линией горизонта, как при безумном пожаре, отсвечивали по небу блеклые розовые сполохи – колония Босха принимала удар на себя. Босх отдал им всех своих лошадей, и уже из этого становилось ясным, как он оценивает исход предстоящего боя. Получилось восемь повозок – неуклюжих, тяжелых, из остатков дерева и металла, не поглощенных Помойкой. У той, где лежала Жанна, были автомобильные колеса без шин. Трясло, разумеется, невыносимо. Горьковато дымились бездонные родники. Голые оранжевые слизни размером с корову упорным кольцом окружали табор. Изредка тот, что поближе, сворачивал к людям, точно проверяя на бдительность. Тогда навстречу ему выходил Вильгельм Телль и натягивал звонкий лук. Стрела, ядовито пискнув, впивалась в основание рожек-антенн, слизень вскрикивал, как ребенок, по студенистому телу пробегала мелкая торопливая дрожь, и немедленно низвергались на гору мяса жадные птицы.
К рассвету начался дождь, шепотом пробирающийся из одного конца бескрайней степи в другой. Кинулись запасать воду – в глиняные горшки, в чашки, просто в ладони. С водой в таборе было плохо.
Милн держался за край повозки и видел, как Жанна ловит ртом редкую дождевую морось.
– Я принесу тебе попить, – сказал он. Дернул за повод Пегого, у которого кузнечными мехами раздувались бока от запального бега, пошел вдоль табора. Его спрашивали без всякой надежды: ну как? Он не отвечал. Оглядывался на сполохи.
Парацельс спал в самой последней повозке, под армейским брезентом. Милн растолкал его, и Парацельс, продрав слипшиеся веки, тоже спросил:
– Ну как?
– Плохо, – ответил Милн, не вдаваясь в подробности. – Плохо, а будет, вероятно, еще хуже… Слушай, у тебя вода есть? – Принял нерешительно протянутую флягу. – Брезент я, пожалуй, тоже заберу, – добавил он.
– Сутки хотя бы продержитесь? – тоскливо спросил Парацельс.
– Сутки? Вряд ли…
Милн вернулся и осторожно укутал Жанну. Положил флягу рядом с ней, под руку, чтобы легко было достать.
– Есть хочешь?
Жанна покачала головой. Говорить она не могла. Милн все-таки, присмотрев участочек помоложе, вырезал ножом губочный дерн и подал его, перевернув желтой съедобной мякотью. Жанна лизнула приторный сок.
– Вчера, – сказала она.
– Завтра, завтра, – ответил он. – Не разговаривай, тебе надо беречь силы.
Жанна дышала со свистом. Она никак не могла выздороветь. К Помойке надо привыкнуть: слишком уж отличаются составы биоценозов. Милн сам болел неделю после прибытия. И другие тоже заболевали. Но у Жанны адаптация протекала особенно тяжело.
Патриарх, едва волокущий ноги, сказал:
– Этот мир уже умер. Мы присутствуем на его похоронах, – вяло махнул рукой на унылую вереницу повозок, тянущихся сквозь дождь. – Прощальный кортеж… Плакальщиков не будет… Там… там… та-рам… там… та-рам…
– Хотите пить? – спросил его Милн, доставая флягу. – Вы должны довезти ее. Вы мне обещали.
– Хочу, – сказал Патриарх. – Но до привала не стоит. И не считайте меня лучше, чем я есть, Милн. Мы все – мертвецы, затянутые преисподней.
Милн опять обернулся, ему не нравились сполохи. Они жидкой цветной гармошкой растянулись вдоль горизонта. Края гармошки оплывали к земле. Это могло означать только одно: хлипкая оборона Босха прорвана, и ударные подразделения Хаммерштейна устремились на Север.
Его место было – там, в гуще битвы.
– Наверное, Помойка создает хроноклазм, нечто вроде воронки, компенсируя наши перемещения во времени, – сказал Патриарх.
– И что из этого следует?
– То, что все мы постепенно будем ею затянуты…
– Все?
– До последнего человека…
На другом краю неба, точно отблеск еще одного проигранного сражения, занимался день. И тревожный гул его катился по степи, нарастая.
– Воздух! – закричал Апулей.
В тот же момент Милн увидел четкие самолетные звенья, выплывающие прямо на них. Передние штурмовики уже клюнули вниз.
– Ложись!..
Люди как сумасшедшие выпрыгивали из повозок. Первая серия бомб, визжа осколками, перечеркнула табор. Вздыбились щепастые доски. Дико заржала кобыла, проваливаясь на задние ноги. Прокатилось сшибленное колесо и – упало, подскочив на оглобле. Укрыться в голой степи было негде. Милн придавливал Жанну к земле – к теплой губке, от которой исходил приторный горький запах. Запах смерти и разложения. Он видел, как взрывной волной подбросило Апулея и тот, выставив руки, медленно крутанулся в воздухе. Бежать было некуда. Их всех тут перестреляют! Легла серия зажигалок, разбросав вокруг тучи фосфорных искр. Губка вяло обугливалась, но не горела. Дым ел глаза. Кто-то панически дернул Милна за локоть. Рукав был взрезан. Вероятно, осколок. Привязанный к повозке Пегий пятился и храпел. Парацельс, встав во весь рост, размахивал нацепленной на оглоблю белой рубахой:
– Сдаемся!..
– Дурак! Здесь в плен не берут! – крикнул ему Милн.
Парацельса перебило наискось красной пулевой плетью. Оглобля упала. Жанна, обнимая Милна за шею, целовала бессмысленно и горячо:
– Мы умрем вместе? Да? Я так и хотела!.. – К щеке ее прилипла веточка мха.
Заходило на бомбежку следующее звено. Это был конец. Он видел дырчатые решетки пушек, нацеленные в него. Ближайший родник вдруг выплюнул вверх зеленую струю плазмы. Длинный жабий язык слизнул с неба целое звено самолетов. И еще дальше – заплескались такие же мокрые зеленые языки. Целый лес. Точно в бреду алкоголика. Уцелевшие штурмовики, надсаживая моторы, свечками вонзились в зенит. Небо очистилось.
Наступила невероятная тишина.
– Мы живы? – спросила Жанна. Она не верила. – Мы живы, живы, живы…
Милн, оглаживая хрипящего Пегого, прыгал – ногой в пляшущем стремени. Оттолкнулся от плоского камня и животом перевалился в седло.
Пегий шарахнулся.
– Я умру без тебя! – крикнула Жанна.
Она лежала среди кошмарно раздробленных повозок и тел. Кое-кто уже начинал шевелиться. Курились воронки. Дождь раздражающей щекоткой тек по лицу. Милн знал, что все равно опоздает, но вонзил шпоры в бока Пегого. Он не ожидал, что сопротивление лопнет так быстро. Требовались еще сутки по меньшей мере, чтобы уйти вглубь Помойки, под прикрытие бездонных болот. Теперь этих суток у них не было. Позавчера Хаммерштейн, собрав на южном выступе фронта кулак из трех армий, нанес рассекающий внезапный удар, имеющий целью, по-видимому, выход на рубеж Праты. Они хорошо подготовились, артналет перепахал оборону практически на всю глубину, новые лазеры выжигали почву в луче шириной до двух километров. Противопоставить этому было нечего, Помойка находилась в ремиссии: маслянистая жирная плазма поблескивала в родниках и трясинах. Фронт был разрезан на десять кровавых кусков, танки вырвались на оперативный простор, а вслед за ними в образовавшиеся бреши, закрепляя успех, хлынули грязно-серые колонны пехоты. Выбора не было. Милн, как горстку песка, швырнул в ослепительное кипение лазеров колонию Босха, лучших сенсоров, способных выжать плазму даже из камня, а Симон Боливар, забрав остальных, пошел на Север, чтобы активировать тамошние болота.
Теперь колония была опрокинута, и ничтожная щепоть людей рассеялась по равнине, прикрытой светлеющим небом. Было их всего ничего, и за спинами их, на горизонте, вспухали земляные грибы, из которых выползали один за другим белые, приплюснутые керамические жуки.
Первым добежал генерал Грант и схватился за стремя, обратив вверх размытое пятно вместо лица. Голос у него скрипел как железный. Все пропало. Запасы активной плазмы исчерпаны. Помойка дремлет и не реагирует ни на какие команды. «Кентавры» как помешанные прут вперед. Хаммерштейн, вероятно, решил не считаться с потерями. Надо срочно спасаться, уходить в дальние топи. Гумбольдт и Геродот знают проходы… Милн возвышался над ним, будто гранитный памятник. Он ни слова не отвечал, ждал, пока добегут остальные. А когда они добежали и прокричали ему то же самое, мокрые и слабые под дождем, он надменно, с сознанием величия, отделяющего его от простых смертных, спросил:
– Где вы бросили Босха?
Босх остался гореть. И с ним еще пятеро. Это их слегка отрезвило, и генерал Грант побежал обратно. Пришлось его завернуть, впрочем, как и всех остальных. Позади были обрывистые холмы, где губка уже состарилась, потрескалась и сползла, обнажив глиняные верхушки. Милн развернул сенсоров цепью, их было всего человек двенадцать. Полоса блистающего огня стремительно надвигалась. Босх, конечно, погиб, поскольку сполохи сомкнулись в непрерывную ленту. Если их не остановить, то они пойдут вглубь Помойки – разорвут ее на две части, а потом на четыре, заблокируют танками и сожгут каждую часть отдельно. И будет Великая Гарь, и будет пустыня, и земля уже навсегда задохнется без почвы и кислорода. Но, конечно, прежде всего они истребят аборигенов. Девять колоний не успеют дойти до Синих Бугров.
Милн сказал им это, и они цепью затрусили к холмам. И снова – густо, солоно задымились болотные родники, и зеленые мокрые языки выплеснулись оттуда навстречу ослепительному биению лазеров и сомкнулись в тонкую, но быстро набирающую массу волну, и тревожный фиолетовый пар вспенился на ее гребне. Он не чувствовал Помойку так, как чувствовали ее сенсоры, прожившие здесь долгие годы, но он с абсолютной точностью знал, что нужно делать в каждую секунду боя. Он это знал, и потому они его поняли. Они утолщили волну и послали призыв вглубь всей территории, которую охватывали своими полями. И там тоже пришли в движение родники, и запенились взваром топи, и биогель, ощутив сладкую пищу, потек оттуда сюда. Они очень слаженно отработали эту часть активации. Но Хаммерштейн не хуже него понимал, что исход боя решит именно первый удар. Приказ, вероятно, был отдан незамедлительно. Сплошной фарфоровой массой тронулись вездеходы – жирные, как гусеницы, сливочные, с пылающими звездами лазеров между фар. Полей уже не хватало, и тогда по склону холма скатился Улугбек в полосатом халате, и скатился вслед за ним Бруно – к границе плазмы. И вездеходы сразу увязли в липучей каше; и шипастые их колеса замерли, прочавкав в грязи, и лазеры, шумно хакнув, выпустили бессильный дым. А Улугбек и Бруно остались лежать около плазмы. Но это, разумеется, было еще не все. Потому что левее, по ложбине у незащищенных холмов, узким сверкающим клином ударила бригада «кентавров». Офицеры торчали из люков, как на параде, золоченые шлемы их сияли в бледных лучах рассвета. Они шутя прорвали оборону там, где ее держал Хокусай, и Хокусай погиб, собирая клочья волны и бросая их на керамическую броню. Но туда сразу же побежали и Кант, и Спиноза, и Леонардо да Винчи. У Леонардо было очень сильное поле. Он выскреб ближайшие родники, обнажив нежное, розовое материнское дно. Они вместе построили горбатый вал и обрушили его на бригаду. Танки таяли в пузырчатой пене, будто сахарные. Но «кентавры» потому и назывались «кентаврами»: они ломили вперед, невзирая ни на какие потери. Хаммерштейн, как и предупреждал, расстреливал отступающих, и они прошли вал насквозь и вынырнули на другой его стороне – скользкие, мутные, сплавившиеся, как молочные леденцы. Их было пока немного, наверное машин двадцать, но они очистили всю ложбину и оказались в относительной безопасности, забросали гранатами родники – полетели ошметки розового нежного мяса – и пулеметами отсекли Вазу, который пытался отдать туда часть своих сил. И Кант погиб, и погиб Спиноза, и Леонардо погиб тоже, накрытый огненным взрывным облаком.
Опасны были не эти два десятка танков, угнездившихся в ложбине, опасно было то, что к ним по пробитому коридору все время подтягивались подкрепления. И «кентавры» постепенно расширили свою зону и снова пошли вперед, протискивая между холмов фарфоровые гладкие клинья. Милн ничего не мог с этим сделать. Равнину заволокло удушливым дымом, взвывали моторы, он не чувствовал рядом с собой никого из сенсоров. И в дыму возник Патриарх, вымазанный сажей и грязью, и почти беззвучно сказал, что его зовет Жанна. Прорвались «кентавры», ответил Милн, за ними идут пожарные с огнеметами, их надо остановить… Она умирает, сказал Патриарх, она просит, она хочет видеть тебя в последний раз… Я не могу, в отчаянии ответил Милн, я здесь один, я должен выиграть это сражение… Ты готов был погубить весь мир ради любви, сказал Патриарх, а теперь ты намерен убить любовь ради чужого мира… Мир погубил не я, возразил Милн, мир погубили другие, кому до него не было дела. Помойка пройдет по земле, очистив ее, пожрав озера кислот и хребты шлаков, – умрет без пищи, издохнет, распадется, осядет и превратится в питательный перегной, и просочится им в почву, и окончательно перепреет, и миллиарды семян очнутся от смертного оцепенения.
И они вдвоем с Патриархом смотали всю трепещущую нить обороны и слепили из нее безобразный шевелящийся ком, и никак не удавалось сдвинуть его, и тогда Жанна помогла им издалека, отдавая скупое последнее дыхание своей жизни. И они обрушили эту колышущуюся жуть на «кентавров», и фарфоровые махины остановились, временно ослепленные и беспомощные. И все сенсоры стянулись к Милну, потому что им больше нечем было сражаться, и он послал их обратно, на вершины холмов, чтобы их видели в бинокли и стереотрубы. Это для них была верная смерть. Но они вернулись туда – и Декарт, и Лейбниц, и Гумбольдт, и Ломоносов. И Шекспир, и Коперник, и Доницетти, и глуховатый Бетховен… Должно было пройти какое-то время, пока Хаммерштейн догадается, что все их резервы исчерпаны. И Хаммерштейн, разумеется, догадался, однако какое-то время уже прошло. И должно было потребоваться еще большее время, чтобы заставить идти армейские части, панически боящиеся аборигенов. И Хаммерштейн, разумеется, их заставил, однако какое-то время опять прошло. Время для них было сейчас самое главное. И когда пехотные штурмовые колонны, извергая по сторонам жидкий огонь, наконец втянулись в ложбины и удавом начали обтягивать холм, где Милн находился, глубоко в тылу, на границе болот, уже выросли плазменные горячие волны высотой с многоэтажное здание, и немного покачались, ища осевую опору, и накренили гребни, и неудержимо покатились вперед. Они были чисто-зеленые, темнеющие к подошве, и кипящие радужные разводы весело пробегали по ним снизу вверх.
И тогда Милн прижался к земле и почувствовал, как обжигающая, тяжелая плазма наваливается ему на спину. И он дышал ею, как воздухом, и глотал ее, потому что иначе было нельзя. А потом он решительно встал и стряхнул с себя лопающиеся, звонко шуршащие пузыри. Слабое, чуть выпуклое солнце Аустерлица уже взошло над равниной, и в прозрачном тумане видны были разбросанные по ней обглоданные костяки вездеходов, леденцовые оплывшие танки, гаубицы и муравьиные тела между ними. И он пошел прочь отсюда, проваливаясь в орыхлевшую губку. И его догнал Боливар и сказал, что было очень трудно активировать Северные болота: сезонная летаргия очагов, плазма в периоде восстановления, Хиндемит сунулся было в трясину и утонул с головой. Милн смотрел на шевелящиеся губы и почти не разбирал слов. Он безумно спешил. Жанна лежала на разбомбленном склоне, лицом в мокрый дерн. Он подумал, что она умерла, как все остальные, и осторожно тронул ее за плечо. Но она была жива – мотыльковые веки дрогнули.
Милн задохнулся.
– Отнеси меня наверх, – попросила она.
Милн поднял ее и понес на вершину холма. Жанна была тяжелая, и он боялся споткнуться. Он добрался до плоской макушки, уже подсушенной солнцем, и положил Жанну там, и сам опустился на землю.
И Жанна прижалась к земле щекой и тихо сказала ему:
– Жизнь…
Милн сначала не понял, он решил – это остатки пены, ризоиды, гнилая органика, но глаза у Жанны остекленели, и тогда он нагнулся – из коричневых трещин земли, из глины, из душных глубин, ломая корку, вылезала на свет первая, молодая, хрусткая, зеленая, сияющая трава.
Послание к Коринфянам
1. От Матфея
Взяли меня ночью, где-то около четырех часов. Операция готовилась очень тщательно: все пространство вокруг моего дома было заблокировано, улицы – перекрыты транспортерами с десантниками ВВС, на крыше дома сидело подразделение «Бета», причем в распоряжении его находился специально оборудованный вертолет, взвод химической обороны подготовил мониторы дезактиваторов, а по лестнице и в саму квартиру вошла так называемая Группа Ц, двенадцать советских ниндзя, включая командира, в масках, в защитных комбинезонах, сливающихся с темнотой, кстати, я не уверен, что о существовании этой группы известно правительству, – впрочем, это не мое дело. Разумеется, у них имелся дубликат ключей, дверной замок к тому времени был уже обследован и смазан, также уже негласно была проверена вся квартира, было точно известно, что я в это время буду спать, поэтому никаких усилий от них не требовалось, им надо было просто войти, изготовиться и разбудить меня. Что они, собственно, и сделали. Между прочим, помимо обычного оснащения – ну там пистолеты, как полагается, ножи – у них были еще специальные осиновые колышки, нечто вроде дротиков с заостренными концами, и когда один из них зажег свет, то остальные сразу же направили эти дротики на меня, готовые метнуть их при первых же признаках опасности. То есть были учтены все возможные варианты.
Правда, лично я ни о каких вариантах не подозревал, я узнал о них значительно позже, а тогда, разбуженный светом и прикосновением к своему голому плечу, лишь ошеломленно таращился на жутковатых непонятных людей, с головы до ног замотанных черной тканью, которые, застыв полукругом, молча взирали на меня, а в руках у них белели эти самые осиновые дротики. Впечатление было кошмарное. Главное – внезапность. До сих пор не понимаю, как у меня не разорвалось сердце. В общем, если они добивались психологической капитуляции, то они ее добились, я начисто перестал соображать, и когда некий человек – не обмотанный черной материей, будто мумия, а нормальный, в обычном сером костюме, с открытым лицом, видимо сопровождающий «Группу Ц», выйдя из-за их спин, небрежно махнул перед моим носом малиновым удостоверением и, представившись капитаном Таким-то, заявил, что я арестован, то я испытал прямо-таки облегчение. Честное слово, я испытал облегчение, потому что я понял, что это не бандиты, не сумасшедшие, не ожившие мертвецы, а просто органы госбезопасности – свои, родные, – и, следовательно, меня не будут сейчас убивать, меня не будут душить или закапывать живьем в землю, меня просто-напросто арестовывают. Арестовывают, и более ничего. Я даже обмяк. Я настолько обмяк, что поинтересовался: а в чем, собственно, дело? Почему меня – разбудили посреди ночи? Почему арестовывают? Разумеется, я не рассчитывал на какие-либо объяснения. Когда это у нас органы госбезопасности что-либо объясняли гражданам? Я спрашивал скорее для морального успокоения и поэтому вполне удовлетворился сдержанным, суховатым ответом капитана Такого-то, что вот, мол, санкция прокурора, одевайтесь, гражданин, следуйте за нами.
Мне и в голову не пришло протестовать. Мне только было неловко одеваться под внимательными, пристальными взглядами тринадцати человек, тем более что капитан Такой-то сначала очень тщательно ощупывал каждую мою вещь и лишь потом дозволял мне надеть ее на себя. А как только я застегнул последнюю пуговицу на рубашке, так он сразу же, мягко взяв меня двумя пальцами за запястье, попросил немного вытянуть руку, и сейчас же вокруг моего запястья сомкнулось кольцо наручников, а другое кольцо их защелкнул себе на запястье один из ниндзя. И точно так же они пристегнули мою левую руку. Я оказался как бы слегка растянутым. А по моему затылку вдруг зашелестело чье-то дыхание, и, на мгновение обернувшись, я вплотную увидел толстое бабье растерянное лицо, которое стремительно отшатнулось. Позже я узнал, что это был врач, в случае чего обязанный вколоть мне дозу пенбутала, отключив таким образом часа на полтора, шприц-пистолет был у него наготове, но все это я узнал гораздо позже, а тогда заметил лишь рыхлое, умывшееся серым потом, испуганное лицо, мокрые, прилипшие к нему, редкие крысиные волосы и зрачки – цвета жидкого кофе, которые растекались буквально по всему глазному яблоку.
– Не двигаться! – хрипло сказал капитан.
И я вдруг понял, что все они дико меня боятся. Даже ниндзя, хоть они и закутаны в черный материал, надежно скрывающий эмоции, – боятся, и ненавидят, и желают только одного: чтобы это все поскорее закончилось. Любым способом. Даже ценой моей смерти. Впрочем, в данное мгновение ненависть их относилась не ко мне, в данное мгновение они, неуловимо развернувшись, смотрели в угол, где из-под вороха газет доносилось отчетливое шуршание, – газеты там зашевелились, будто живые, а поверх них вылез мой Велизарий и, приткнувшись задом к стене, несколько удивленно обвел нас зелеными бесовскими глазами. Он, наверное, был озадачен появлением в комнате такого количества народа, однако быстро пришел в себя, сощурился и потянулся – выгибая спину, поднимая шикарный напружиненный хвост.
– Мя-я-я-у-у-у!..
– Господи, спаси и помилуй!.. – выдохнули у меня за спиной.
Наверное, врач. Голос был как у приговоренного к смерти. Я заметил, что дротики ниндзя обращены теперь в сторону Велизария.
Казалось, что они сейчас полетят.
– Кис-кис-кис! – торопливо позвал я.
И сразу же все кончилось. Напряжение спало. Никто из присутствующих не шевельнулся, никто не произнес ни слова, но вдруг стало ясно, что напряжение спало. Что осиновые дротики уже не полетят.
Капитан Такой-то крякнул и, вытирая лоб, повернулся ко мне.
– Виноват… Кошечку с собой возьмете?.. – неловко спросил он…
Самое интересное, что у меня сегодня было предчувствие чего-то такого. Еще прошлой ночью меня мучил кошмар: будто я спасаюсь от какого-то чудовищного медлительного насекомого. Будто бы оно, как танк, неумолимо подползает ко мне, а я карабкаюсь по гладкой черной стене и все время беспомощно соскальзываю обратно. Поэтому проснулся я в холодном поту и даже не сразу сообразил, сколько сейчас времени. В это утро у меня вообще все валилось из рук: я разбил тарелку, непонятно каким образом выскочившую из сушилки, опрокинул на себя чашку с кофе, который, к счастью, уже достаточно остыл, очень больно саданулся бедром об угол кухонного буфета, а уже на улице, торопясь к автобусной остановке, неожиданно поехал на скользком осеннем листе и, пытаясь сохранить равновесие, встал на четвереньки чуть ли не посередине лужи. То есть день был с самого начал несчастливый. Неудивительно, что у меня возникло некое предчувствие обреченности. Наш конструкторский отдел находился в старинном здании, окна его были обращены в громадный исторический парк, погода в это утро стояла сумрачная, но где-то около полудня неожиданно проглянуло солнце, и вот когда оно тронуло верхи деревьев, загоревшиеся медью редкой листвы, когда оно согрело коричневатую осыпь, устилающую пустые аллеи, когда выступили из утренней мути черные стволы деревьев и засквозил между ними белесый мокрый туман, то, уставившись на все это гибнущее осеннее великолепие, я вдруг ощутил болезненный укол в сердце, будто солнечный проблеск таинственно сообщил мне, что я тоже погибну – что судьба моя предначертана и спасения нет.
Предчувствие это было настолько острым, что я чуть было не застонал, схватившись руками за подоконник, а затем, словно движимый некой потусторонней силой, ни секунды не колеблясь, вышел в коридор и, позвонив Мархен, сказал, что сегодня я не смогу с ней увидеться.
Вероятно, в эти минуты у меня что-то случилось с голосом, потому что Мархен узнала меня не сразу, а узнав, не стала против обыкновения обидчиво выпытывать, что да почему, лишь растерянно промычала, а потом спросила после секундной заминки:
– С тобой все в порядке?..
По-моему, у нее тоже что-то случилось с голосом. Во всяком случае, он ощутимо дрожал и в нем проскакивали какие-то безумные интонации. Точно она была на грани истерики. Позже я догадался, что Мархен к этому времени уже разрабатывали и что, может быть, именно в эту минуту у нее находились люди из соответствующего подразделения и, изматывая неопределенностью, методично, неторопливо вытягивали информацию обо мне – переспрашивали по нескольку раз, нажимая тем страхом, который испытываешь при столкновении с органами госбезопасности.
Но насчет разработки я догадался значительно позже, а тогда лишь мимоходом отметил, что Мархен, наверное, серьезно обиделась на меня, и мгновенно забыл о ней, уже через минуту опять пронзенный болезненным ощущением, что наступили последние дни.
В общем, некоторое предчувствие трагедии у меня все-таки было. Я только не ожидал, что эта трагедия примет такие масштабы. Честно говоря, я вообще не ожидал никакой трагедии. Первоначально я думал, что произошло явное недоразумение.
В этом меня убедил и довольно-таки странный, наполненный обиняками разговор со следователем. То есть сначала, конечно, был не разговор, сначала меня долго и нудно везли из моего района в центр города, причем я, разумеется, не могу поручиться, что именно в центр: машина была специальная, с непрозрачными стеклами, разглядеть за ними что-либо было невозможно, лишь по времени переезда получалось, что – в центр, но с таким же успехом это могли быть и отдаленные новостройки. Тем более что мне больше не удалось попасть на улицу, потому что когда машина в конце поездки остановилась и нам всем предложили выйти наружу, то выяснилось, что она находится в полностью закрытом помещении типа гаража, со сплошными бетонными стенами в декоративных потеках. Вдоль которых уже картинно, точно в боевике, застыли ниндзя. А из гаража мы шагнули в лифт, который открылся прямо в кабинете следователя. Окон там тоже не было, так что окружающего мира я практически не видел, впрочем, принципиального значения это не имело, я вообще перестал гадать, где я нахожусь, потому что следователь, сделав знак, чтобы меня освободили от наручников, и дождавшись, пока сопровождающие гориллы скроются в соседнем помещении, наклонился над своим столом и, весь буквально потянувшись ко мне, тихо и доверительно произнес:
– Садитесь, Матвей. Учтите: этот наш с вами разговор нигде не фиксируется. Вы меня поняли? Всю записывающую технику я отключил. Не надолго, но две-три минуты можете говорить свободно…
При этом он очень многозначительно посмотрел на меня. Лицо у него было стертое, незапоминающееся, а слепые выцветшие глаза – будто заполнены серым клеем.
– Я бы хотел заключить с вами Сделку, – сказал следователь. Слово «Сделка» он так и произнес – как бы с заглавной буквы. А затем повел себя довольно странно: вытащил из кармана маленький перочинный нож и, зажав между другими указательный палец левой руки, быстро и сильно сделал на нем разрез – видимо, достаточно глубокий, потому что на подушечке пальца сразу же выступила большая малиновая капля крови. Следователь несколько брезгливо посмотрел на нее и перевел взгляд на меня. – Ну что ж, я готов…
Разумеется, все это была туфта, игра на психологии, позже я об этом, конечно, догадался, но одновременно я догадался, что это, возможно, была и не совсем туфта и что неизвестно еще, как бы развернулись события, если бы я сразу же врубился и понял, что он имеет в виду. Вероятно, тогда события развернулись бы совсем иначе. Но я никуда не врубился – только ошалело взирал на палец, заплывающий кровью, и, наверное, даже по моему лицу было ясно, что я ничего не понял, потому что следователь как-то разочарованно вздохнул и, заклеив ранку пластырем, видимо приготовленным заранее, с ощутимым унынием произнес:
– Ладно, тогда будем разговаривать по-другому…
И сразу же после этих слов с треском распахнулась дверь, за которую ушли ниндзя, и оттуда, на ходу снимая пиджак, буквально выпрыгнул невысокий, но, кажется, очень крепкий, энергичный широкоскулый человек и, оставив сдернутый пиджак на диване, неожиданно развернулся, оказавшись со мною лицом к лицу.
– Ну что, молчит, сволочь? Ты что, сволочь, молчишь? Я тебе, сволочь, башку оторву!..
– Яша! Яша! – предостерегающе сказал первый следователь.
Однако тот, кого называли Яшей, не слушал его – махнул рукой, будто артиллерийский снаряд попал мне в ухо, мою голову дернуло, действительно чуть не оторвав, я опомниться не успел, как очутился на полу и расплывчатый зеленый ворс ковра, словно фантастическая трава, распустился перед глазами.
Но залеживаться мне не дали. Тот же Яша, схватив меня короткими, но совершенно стальными руками, с натугой поднял в воздух и, опять усадив на стул, свел у моего горла кулаки, вцепившиеся в рубашку:
– Будешь говорить, сволочь? Я тебя, сволочь, в последний раз спрашиваю!..
Бешеные зрачки его сужались и расширялись, как у сумасшедшего, и, как у сумасшедшего же, подергивались в тике мускулы на правой щеке.
Эта половина лица как будто танцевала.
Мне стало дурно.
– Лейтенант Цугельник! – вдруг железным командирским голосом сказал первый следователь. – Лейтенант Цугельник! Немедленно прекратите!
Но Яша уже и так приходил в себя, пелена в его глазах немного рассеялась, он весь как бы выскочил из напряжения, протянул назад руку и, пощелкав пальцами, попросил:
– Ну-ка дай фотографии…
А затем, разодрав от нетерпения бумажный пакет, бросил мне на колени несколько небольших глянцевых снимков:
– На, смотри, сволочь! Смотри внимательно!.. – после чего отошел и повалился на диван с видом совершенно опустошенного человека.
Даже глаза прикрыл – словно задремав.
Кое-как я просмотрел фотографии. Судя по качеству, все они были сделаны профессиональным фотографом и касались одного и того же дорожно-транспортного происшествия. Во всяком случае, я увидел трехтонку, врезавшуюся в фонарный столб – радиатор гармошкой, выбитые передние стекла, увидел человека, лежащего на мостовой, – вероятно, мертвого, сбитого этой самой трехтонкой, увидел сотрудников ГАИ, которые, растягивая рулетку, делали соответствующие обмеры, а затем снова – сбитого человека: уже на носилках, прикрытого простыней. Запрокинутое лицо его было мне незнакомо, однако на другой стороне фотографий были сделаны мелкие карандашные пометки, и когда я их разобрал, поднеся к глазам, то сразу же все понял.
И невзрачный следователь тоже увидел, что я все понял. Потому что посмотрел на меня несколько соболезнующе.
– Да-да, – немного покивав, сказал он. – Это вы, Матвей, можете не сомневаться. Вы погибли вчера, вас сбил пьяный водитель. Глупая, нелепая смерть, но – зафиксировано милицией…
Я уронил фотографии.
– Вчера вечером меня видели еще соседи по дому. Между прочим – живым и здоровым…
– Кто, простите, видел? – спросил следователь.
– Соседи по дому…
Тогда следователь откинулся и посмотрел на меня как на идиота.
– Ну и что? – проникновенно сказал он…
Теперь они взялись за меня по-настоящему. Невзрачный следователь повернул настольную лампу – так, чтобы свет от нее бил мне в лицо, а коротенький Яша, освежившийся, вероятно, двух-трехминутным отдыхом на диване, энергично поставил стул слева от меня и, усевшись, подался вперед плотным крепеньким корпусом, как бы изучая меня сбоку. Локти рук его, упертых в бедра, были отставлены, темные глаза сощурены, причем невзрачный следователь, представившийся в начале беседы капитаном Пархановым, цедил свои вопросы медленно и неразборчиво, так что я иногда с трудом понимал их смысл, в то время как Яша (лейтенант Цугельник), напротив, буквально выкаркивал громоподобные фразы, подкрепляя их выражениями типа «убью, сволочь!..» или «что ты, сволочь, мямлишь, башку оторву!..». Эти выражения очень оживляли беседу. Правда, по-моему, в них не было никакой надобности. Как не было надобности и в тех угрозах, которые время от времени высказывал невзрачный следователь. Дескать, имейте в виду, Матфей, официально вы больше не существуете, вы уже умерли, это зарегистрировано инстанциями, мы теперь можем делать с вами все что хотим. После таких заявлений капитан Парханов выдерживал многозначительную паузу. Вероятно, предполагалось, что допрашиваемый сам вообразит себе всяческие ужасы. Камеру пыток, например, виселицу и так далее. Однако мне почему-то никакие ужасы в голову не приходили, а наоборот – все эти недомолвки, все эти паузы и другие ухищрения следователя вызывали только раздраженную злость – только бешенство и желание сопротивляться.
Прежде всего, я не понимал, в чем, собственно, дело? Почему все-таки меня арестовали и чего в настоящий момент добиваются? Вопросы они мне задавали самые идиотские. То есть, разумеется, часть из них была вполне обычной для любого формального допроса: где и когда вы родились, кем работаете, чем в настоящий момент занимаетесь? Хотя и в этих вопросах ощущалась некая подковырка, этакий смутный подтекст, но тем не менее было по крайней мере ясно, для чего они задаются. Зато другие не лезли ни в какие ворота. Например, помню ли я обстоятельства, при которых погибли мои родители, почему данные обстоятельства сложились именно таким образом и какими явлениями эти обстоятельства сопровождались? Или, например, куда исчезла черная собака по кличке Тофа, которая долгое время обитала в нашей семье, и откуда в этой же связи возник кот по имени Велизарий? Или, скажем, как вы лично относитесь к числу тринадцать? Так называемая чертова дюжина? И так далее, и тому подобное. Одновременно их интересовало: не было ли у меня каких-либо странных видений, почему я, когда задумываюсь, складываю пальцы «венецианским крестом» (кстати, я впервые услышал этот термин) и не буду ли я так любезен поджечь лист бумаги, но не спичками, а просто – внимательным взглядом? В общем, я в жизни не слышал подобной белиберды. Ну и отвечал на нее соответственно: дескать, о гибели своих родителей ничего сказать не могу, потому что мне тогда было всего шесть месяцев, никакой собаки по кличке Тофа в нашей семье, по-моему, не было, Велизария я подобрал на помойке, взяли, сволочи, моду выбрасывать на помойку котят, о числе тринадцать, чертовой дюжине, никогда не задумывался, что же касается поджигания взглядом и прочей чуши, то единственным странным видением в моей жизни было появление сегодня ночью каких-то кретинов, которые в нарушение советского законодательства арестовали меня и теперь, наверное уже третий час, допрашивают о всякой чертовщине. Вот это – действительно видение. И других видений у меня в жизни не было.
Так мы и разговаривали: они – прямо и сбоку от меня, а я – перед ними, ослепленный маревом пятисотваттной лампы. Впрочем, лампу невзрачный следователь вскоре отвернул, потому что она, вероятно, исчерпала свои функции, и по уху меня тоже больше не били – точно оба следователя выполнили какой-то неприятный казенный долг, выполнили чисто формально и решили больше к этому не возвращаться. Или, может быть, такова была заранее продуманная тактика допроса. Не знаю. Но с определенного момента я вдруг стал вести себя гораздо агрессивнее, чем они. Главное, я действительно не понимал, чего они от меня хотят, если бы я понимал, то все было бы намного легче, но я абсолютно не понимал и поэтому лишь раздражался, когда у меня выпытывали, на мой взгляд, совершенно бессмысленные подробности моей прошлой жизни, – причем раздражение это принимало самые дикие формы, вплоть до того, что я запустил в невзрачного следователя настольным календарем, а потом сшиб лампу, и она громко ахнула на полу стеклянным разрывом – вероятно, ниндзя, ожидавшие в соседней комнате, уже готовы были ворваться сюда, в кабинет; в общем, вел я себя исключительно непотребно, однако следователи почему-то сносили все это: подняли лампу, собрали рассыпавшиеся листочки календаря, а когда я выходил из себя и орал на них, называя подонками и гестаповцами, то они мне даже не отвечали – просто терпеливо ждали, пока я выдохнусь и успокоюсь.
Трудно сказать, сколько все это продолжалось, часы у меня отобрали еще при входе, разглядеть циферблат на запястье у невзрачного следователя не удавалось, окон в кабинете, как я уже говорил, не было, плоская зарешеченная люстра на потолке горела мертвящим светом, у меня скоро исчезло ощущение времени, позже я узнал, что меня продержали на допросе около шести часов, но тогда мне казалось, что прошло несколько суток, – свет горел и горел, вопросы сыпались и сыпались; в конце концов я совершенно обессилел и, обмякнув на стуле, севшим, сорванным голосом решительно заявил, что пока меня не накормят и не дадут отдохнуть, я с ними ни о чем разговаривать не буду, и – замолчал, тупо взирая куда-то в пространство. Оба следователя к тому времени, вероятно, уже тоже выдохлись, потому что в отличие от прошлых моих ультиматумов, которые я предлагал в великом множестве, даже не попытались мне возразить – устало сидели, поглядывая то на меня, то друг на друга, – а затем капитан Парханов вздохнул, снял с прилепленного на столике аппарата телефонную трубку и, не набирая никакого номера, негромко произнес:
– Первая стадия. Безрезультатно. – Некоторое время слушал, что ему отвечают, а потом кивнул невидимому собеседнику. – Хорошо, товарищ Четвертый, будет выполнено. – После чего сказал мне с какой-то подкупающе искренней интонацией: – Вы все-таки, Матвей, подумайте, это для вашего же блага. И если что-нибудь надумаете, то вызывайте меня. В любое время дня и ночи. Немедленно. Не задумываясь. Ну все, я вам тоже – еще позвоню.
– А о чем думать? – вяло спросил я.
И тогда капитан Парханов подмигнул мне, словно мы о чем-то договорились.
– О себе, Матвей. О себе, – сказал он.
Дальше произошел мелкий, но достаточно характерный эпизод, чрезвычайно сильно подействовавший на меня. Заключался он в том, что когда меня отправили в камеру и ниндзя, по-прежнему замотанные до глаз черной тканью, окружая со всех сторон, вывели меня из лифта и повлекли по скучному казенному коридору к лестнице, спускающейся, по-видимому, на нижние этажи, то в конце коридора, около жестяного бака с питьевой водой, нам навстречу попалась большая группа заключенных. Ну, может быть, не очень большая, однако по крайней мере человек пять-шесть, бредущих гуськом друг за другом.
Вероятно, здесь возникла какая-то накладка. Я не думаю, что мне можно было сталкиваться с другими заключенными. Скорее всего, категорически нельзя. Я даже думаю, что на этот счет существовало специальное указание. Но указание указанием, а жизнь – жизнью. Накладки всегда возможны. В общем, охранники скомандовали им: «Стой! Лицом к стене!» – и все они повернулись лицами к стене, но я почувствовал, что они тайком наблюдают за нами, и вот когда мы поравнялись с ними, протискиваясь, потому что коридор был довольно узкий, то крайний заключенный – лысый, с похожей на потемневшую редьку головой – неожиданно крикнул: «Годзилла!..» – и в ту же секунду все они бросились на меня.
Разумеется, у них ничего не получилось: лысый заключенный успел ударить меня по скуле, так что лязгнули зубы, а еще кто-то – мельком, промахиваясь – рванул за ворот рубашки, но тут же вмешались ниндзя, быстро и очень жестоко восстановив порядок, я практически не пострадал: нападавшие скорчились, меня подхватили под локти и – бегом-бегом пронесли по лестницам в камеру, но я ясно почувствовал ненависть в криках «Годзилла!..» – меня хотели убить, и этот незначительный эпизод потряс меня гораздо больше, чем шесть часов, проведенных в кабинете у следователя.
Потому что он объяснил мне – кто я такой.
Годзилла!..
Этот истерический крик еще звенел у меня в ушах, когда бесшумно затворилась толстая железная дверь. Причем, говоря «бесшумно», я нисколько не преувеличивал: дверь затворилась именно бесшумно, не было ни скрежета ключа, поворачивающегося в огромном замке, ни визжания металлических несмазанных петель, ни грохота засова, для пущей верности накладываемого снаружи; камера вообще походила не на камеру, а на номер в хорошей гостинице – с первоклассной кроватью вместо ожидаемых мною нар, с отворотами чистых крахмальных простыней под атласным одеялом, с ярким цветастым паласом, накрывшим собою весь пол, с душем и явно несоветской сантехникой за загородкой. На красивой тумбочке рядом с кроватью поблескивал телефонный аппарат без диска, а у противоположной стены – лакированный шкафчик, уставленный рядами книг. Корешки их отливали богатым тиснением. То есть все было очень благопристойно. Только телекамеры, пчелиными глазками подсматривающие за мной из каждого угла, да бетонные серые стены, страдающие хронической ноздреватостью, напоминали о том, что это все-таки место заключения, и еще напоминало об этом все то же отсутствие окон, даже на дверях не было обычного глазка для надзирателя: масляно сияла тусклая литая броня, а неподалеку от нее над полированным столиком так же тускло сиял броневой квадрат, вероятно, отверстие для передачи пищи: открыв его, я обнаружил чистенькую продолговатую нишу, в которой находился никелированный поднос, уставленный судками и множеством разной посуды. То есть морить меня голодом они явно не собирались.
Впрочем, данная проблема меня не очень интересовала. Гораздо больше меня заинтересовали книги, заполнившие собой весь шкаф, книги и рисунки, сделанные на бетоне, по-видимому, прямо от руки. Книги были такие: «Явление Сатаны» Ваззбоддера, «Антихрист в числах и предзнаменованиях» Гоккера и Норихиро, «Моление мое есть Дьявол» фон Лауница, «Благочестие как тайный порок» некоего отца Араматова. И так далее, и тому подобное. Здесь же наличествовали труды по истории и астрономии, но, насколько я мог понять, все они так или иначе относились к упомянутому вопросу. То есть к пришествию Сатаны. Некоторые моменты, таким образом, прояснились. Что же касается рисунков, то сделаны они были густой, бугристой и, по-моему, даже фосфоресцирующей краской, чрезвычайно небрежно, как будто рисовал ребенок, и представляли собой примитивные, видимо до предела стилизованные изображения различных предметов. Можно было угадать значок солнца, ощеренную собачью голову, однако большая часть рисунков была мне непонятна, тем более что прямо поверх яркой малиновости такой же грубой и мощной краской, но уже интенсивно-синего цвета были сделаны какие-то загадочные надписи. Шрифт, конечно, был не славянский, и даже не латинской графики, а скорее восточный, с отчаянными завитушками – может быть, арабский, а может быть, древнееврейский; разумеется, я был не в состоянии постичь его смысл, и однако же, едва глянув на кривоватые разнокалиберные строчки, ползущие от пола до потолка, я сразу же, в каком-то озарении, догадался, что это заклятия против нечистой силы.
В данном случае – против меня.
Годзилла.
И поэтому я нисколько не удивился, когда, прикоснувшись к стене, ощутил сильный удар, как от электротока, стена была точно раскалена, но, превозмогая боль, я прижимал и прижимал к ней свои ладони, и, лишь почувствовав, что сейчас потеряю сознание, с трудом оторвал их, и тогда увидел то, что и предполагал.
Два черных, вдавленных в бетон отпечатка.
Причем каждый из них был увенчан пятью небольшими дырочками – словно лунками от звериных когтей.
Лунки эти немного мерцали.
Вдруг запахло в воздухе горящей серой.
Тогда я отступил на шаг и зажмурился.
Все было понятно.
– Годзилла… – шепотом сказал я.
И в ту же секунду, будто очнувшись, пронзительно зазвонил телефон.
2. От Марка
Марк сидел в громадной, пронизанной бледным солнцем, светлой президентской приемной и, переполняясь раздражением, ждал, когда его вызовут к Самому. Приемная была совершенно стандартная, неприветливая, отделанная псевдодеревянными плитами, какие встречаются на вокзалах, с канцелярским столом, за которым горбатился референт, похожий на пеликана, и с унылыми кожаными диванчиками вдоль стен – для посетителей, два окна ее, полуприкрытые шторами, выходили на площадь, ограниченную забором нескольких промышленных зон, а дальше – за хозяйственными дворами, за подсобками, опутанными коленами труб, и за гаражами, где ржавело скопище брошенной техники, – поднимались разномерные, но однообразные по архитектуре здания столицы: хрупкое мерзлое солнце невысоко висело меж ними, и коричневатые края его размывала дымка. То есть пейзаж за окнами тоже был – совершенно стандартный. Приемная вообще была лишена какой-либо индивидуальности, словно хозяин ее хотел показать, что ему некогда заниматься всякой ерундой – он работает, на ерунду у него нет времени, – некоторое своеобразие ей придавали лишь двери по обоим сторонам, распахнутые в длиннейшие анфилады комнат: оттуда доносился ужасающий треск машинок, панические телефонные звонки, раздраженные голоса, сплетающиеся в лихорадочную какофонию, непрерывно сновали люди с озабоченным выражением лиц, пробегали курьеры, уверенной походкой проходили военные – словом, клубилась атмосфера напряженной государственной деятельности. Наверное, она производила соответствующее впечатление на посетителей, однако Марк знал, что вся эта суета на самом деле несколько показная – то есть лапша, театральная режиссура, – просто один из помощников внешнего Президента, озабоченный, так сказать, его образом в преддверии надвигающихся выборов, распорядился закрыть оба служебных хода, и поэтому бурлящий неуправляемый поток, который раньше рассеивался по секторам канцелярии, теперь устремился сюда – перехлестываясь через приемную и практически парализуя работу в дневные часы.
Декорации, всюду декорации, подумал Марк. Впрочем, его это не касалось. Он лишь прикидывал, ухудшит ли данная особенность его собственное положение. Получалось, что пятьдесят на пятьдесят. Разумеется, он принял определенные меры, чтобы остаться сегодня незамеченным, – например, утром отпустил машину, сказав шоферу, что пойдет пешком, и шофер не удивился, потому что он так уже несколько раз делал, а затем, прошествовав неторопливым шагом пару кварталов, свернул в кофейную, находящуюся на перекрестке. И машина наблюдения спокойно остановилась неподалеку от входа. Никто за ним не последовал. Потому что он уже тоже – несколько раз заходил в эту кофейную. Наблюдение к этому привыкло. Но, зайдя в нее сегодня, он не стал брать чашку мутной бурды, которую здесь выдавали за кофе, а, небрежно бросив полусонной тетке за прилавком: «К директору!» – быстро прошел в приоткрытую заднюю дверь, а потом, разумеется, не заглядывая ни к какому директору, выскочил через другую дверь во двор и оттуда, как и рассчитывал, – на соседнюю улицу, где уже ждала машина, присланная Павлином. Все получилось отлично. Примерно так он и предполагал, когда еще летом, постепенно приучая свою охрану к пешим прогулкам, методично обходил ближние кафе и магазины, пока не заметил в одном из них открытую дверь во двор. План сложился мгновенно. Правда, тогда он еще не мог предполагать, что, достаточно просто выскользнув из-под наблюдения, он, как идиот, застрянет здесь, на самом последнем этапе. Все-таки, наверное, что-то произошло. Павлин договорился, что его примут в десять, сейчас уже около одиннадцати, то есть разыскивают его примерно так минут сорок пять, рано или поздно кому-нибудь придет в голову заглянуть в рабочую приемную Президента. Просто так, для очистки совести. Может быть, и хорошо, что здесь такое количество народа. При таком количестве народа легче затеряться. Однако и попасть в приемную – тоже легче. Скажем, элементарно – войти, окинуть взглядом. Кстати говоря, может быть, это уже и сделано.
Интересно, что они предпримут, если обнаружат меня здесь, подумал Марк. Стрельбу в секретариате Президента они, конечно, поднимать не станут. Или все-таки рискнут? Может быть, они выдадут меня за террориста? Нет, последствия могут быть самые непредсказуемые. Шум, скандал, независимое расследование. Тем более что Павлин уже успел передать часть документов. Значит, ниточки потянутся к самому Полигону. Вряд ли они пойдут на такой отчаянный риск. Скорее всего, здесь надо ожидать чего-то бесшумного. Электроразрядник, например, или шприц со снотворным. Больше всего мне следует опасаться соседей. Соседи – это моя смерть.
Стараясь не привлекать внимания, он осторожно посмотрел на своих соседей. Помимо него приема дожидались еще четыре человека: генерал в полной форме, от погон до пояса скрепленный полосками орденов, двое общественных деятелей, непроспавшихся, неприязненно косящихся друг на друга, и еще некто в штатском, тоже со знакомым лицом, то ли артист, то ли народный депутат, Марк никак не мог вспомнить его фамилию, во всяком случае, было ясно, что опасности он не представляет: прежде всего из-за преклонного возраста.
В общем, кажется, пока можно было сидеть спокойно.
Тем не менее Марк встрепенулся, потому что вальяжной, неторопливой походкой, чрезвычайно любезно раскланиваясь по сторонам, в самом деле словно некая птица, обученная церемониям, из другого конца приемной приближался сюда Павлин, и на гладком холеном лице его расплывалась улыбка. К нему подходили какие-то люди, и он кивал им или бросал пару слов, а иногда останавливался, принимая в плоский портфельчик бумаги, но тем не менее продвигался все-таки в сторону Марка, а приблизившись почти вплотную, наклонился, чтобы включить в углу телевизор, и, не оборачиваясь, потому что по легенде они были между собой незнакомы, процедил еле слышно, краешком губ:
– Минут через пятнадцать-двадцать. Имей терпение…
После чего выпрямился и, довольно-таки тупо взглянув на экран, где, выбрасывая коленки, подпрыгивали девушки в красных купальниках, как ни в чем не бывало двинулся дальше – за невидимый барьер, отгораживающий приемную от президентских апартаментов.
И охранник – в форме, с оттопыренными галифе – сноровисто прикрыл за ним дверь.
Несколько секунд Марк сидел буквально ослепленный бешенством. «Минут через пятнадцать-двадцать. Имей терпение!» Он едва удерживался, чтобы не уйти. Павлин обращался с ним словно с назойливым посетителем. Точно это Марку было нужно: передавать информацию о «Пришествии», отрываться от наблюдения, которое установила за ним служба государственной безопасности, снимать копии документов, рисковать жизнью, в конце концов! Начальствующее хамье! Привыкли, что все вокруг прыгают перед ними в ожидании подачек. Гнусная штука – власть! Одним прикосновением она делает из людей лакеев. Ладно, наплевать! Главное сейчас – добиться приема. Главное – добиться приема, а там уж он в свою очередь даст им как следует по мозгам.
Марк вздохнул пару раз, чтобы успокоиться. Внимание его привлекла картинка, сменившаяся на экране телевизора. Судя по заставке, сейчас должен был последовать обзор новостей. И действительно, через секунду появилась знакомая, осточертевшая до тошноты, малоинтеллектуальная, подкрашенная физиономия диктора, которая, точно рыба, некоторое время беззвучно открывала и закрывала рот, а затем словно взорвалась, и сквозь истаявшую ее мозаику проступили чудовищные внутренности какого-то предприятия: трубы большого диаметра, оборванные висящие провода, груда бетонных плит, растрескавшихся и перевитых железными прутьями, – все это скалилось катастрофическими изломами, прогибалось, сминая производственные этажи, ядовито коптило, обугливалось, выстилая землю кудрями сизых дымов, – язычки огня еще трепетали на оголившихся балках, между которыми, как марсиане, бродили пожарные в шлемах и огнеупорных костюмах. Вероятно, произошла очередная авария. Двадцать пятая или, может быть, тридцать первая в этом году. Марк уже отворачивался, не особенно интересуясь, как вдруг краем глаза уловил нечто очень знакомое. Нечто странное и пугающее. Нечто такое, чего здесь никак не могло быть. Его даже подбросило. Чисто машинально он наклонился вперед и, забыв о всякой осторожности, закрутил ручки телевизора – вырвался звук; «создана государственная комиссия, размеры трагедии уточняются», сказал невидимый комментатор, а затем камера повернулась и он опять увидел взборожденную огненным протуберанцем площадку, на отвалах которой еще багровели угли и головни, словно в этом месте легла на землю когтистая пятерня и – прожгла ее и сплавила дьявольской температурой. Она держалась на экране всего несколько мгновений, но Марк успел разглядеть ее очень хорошо: страшные вдавленные очертания, виденные им при подобных обстоятельствах уже не один десяток раз. Он давно научился распознавать их. Сомнений не оставалось. У меня совсем нет времени, мельком подумал он. Это распространяется по всей Земле. Как зараза. Как эпидемия Смерти. Может быть, само «Пришествие» – дело нескольких суток. Если так, тогда я, конечно, не успеваю. Но даже если я не успеваю, я все равно обязан попробовать. Потому что – это наш единственный шанс. Все. История человечества завершается, и другого такого шанса может просто не быть…
Картинка на экране телевизора опять сменилась, новости кончились, возникло зеленое футбольное поле, по которому неторопливо бежали за мячом несколько игроков, но Марк этого уже не видел, он видел тихие, безжизненные кварталы Поронежа, где, отливая на солнце зеленью, толстым слоем между пятиэтажными домами лежала так называемая хвоя (на самом деле не хвоя, а сине-зеленые иголочки жгучего полимера: взорвался химический цех на заводе, облако реактива соединилось с чем-то пока не установленным, двое суток шуршал над городом дождь, обжигающий кожу), и в этой пушистой рождественской зелени, будто след динозавра, красовался точно такой же отпечаток гигантской когтистой лапы: края его немного дымились. И Марк видел вымерший подмосковный лес, тронутый уже осенней желтизной – редкий, прозрачный, как будто выточенный испугом, – один из немногих лесов, сохранившихся на этой территории: деревья по всей северной его части легли как трава, а на измочаленных стволах в центре полегания щепками и продавленностью бурелома вырисовывались сразу два растопыренных отпечатка. Заметить их можно было только с вертолета, но они все-таки были замечены и сфотографированы. И еще он видел рыжую голую тундру километрах в двухстах от Сыктывкара (его привезли туда вместе с группой экспертов), мох здесь на огромных площадях был сдернут, пестрела льдистыми проплешинами вечная мерзлота, и сатанинский отпечаток набухал – неровными желтыми вспученностями, словно его выталкивала сама земля. Вспученности же были образованы ископаемым ледником, вопреки всем законам природы поднявшимся на поверхность, трудно было понять, что заставило его сделать это, но он все-таки поднялся и теперь медленно, жутковато оттекал на солнце, порождая, однако, не воду, а графитовую жирную массу, пахнущую горящей серой. Марк как будто снова почувствовал этот химический запах, от которого першило в горле и кашлем выворачивало легкие, он опять находился в тундре, под белым полярным солнцем, кругом простиралось нечеловеческое безмолвие, догорал вертолет, неожиданно вспыхнувший уже после посадки, лежало завернутое в доху тело сопровождавшего их гляциолога, пятилась охрана, вывертывая по сторонам автоматы, и было ясно, что у них нет никаких шансов выбраться отсюда, они так и останутся здесь, среди вечной мерзлоты, – завтра прилетит группа спасателей и найдет их трупы, окостеневшие от холода и безнадежности.
Это все было настолько ясно, что Марк даже не сразу почувствовал руку на своем плече и не сразу услышал нетерпеливый, видимо уже повторяющий приглашение, недоуменный голос Павлина: – Пойдемте, господин Арбитман, вас ждут… – Обернулся, заметив неприязненное лицо генерал-полковника, вероятно негодовавшего из-за того, что всякую шушеру пропускают вне очереди, а затем охранник, уже державшийся за массивную лапу из бронзы, отступил в сторону и открыл перед ними дверь.
– Ну? – едва они переступили порог, резко спросил Президент.
Он сидел за громадным столом, утыканным ручками и телефонами, справа от него, точно зеркало, поблескивал экраном огромный дисплей, а слева, протянув к столу ноги и поигрывая пистолетами, очень демократично развалились на низком диванчике трое личных охранников – при галстуках, но без пиджаков. По слухам, недавно на Президента было совершено очередное покушение, и после этого команда его настояла, чтобы он ни на секунду не оставался без прикрытия. Впрочем, Марка это вполне устраивало. Потому что он и сам таким образом попадал под защиту. По крайней мере, можно было ненадолго расслабиться.
– Ну так в чем дело? – между тем еще более резко спросил Президент. – Я вас слушаю. Ну? Вы что, онемели?
Он не поздоровался и даже не поднял глаз от бумаг, которые просматривал с похвальной скоростью, только вдруг наморщился мощный, бугристый лоб. О его фантастической грубости ходили легенды. Говорили, что Президент способен даже на рукоприкладство. Во всяком случае, по отношению к своим ближайшим сотрудникам. Впрочем, Марка это тоже устраивало. И поэтому, почувствовав, как Павлин подталкивает его локтем в бок, что, дескать, не робей, держись веселее, он свободно пересек кабинет, оказавшийся, к счастью, не таким уж обширным, сел на стул, положил ногу на ногу и, немного сдвинув перекидной календарь, мешающий удобно поставить локоть, сказал очень наглым, самому себе неприятным тоном:
– Нет, это я вас слушаю! – А когда Президент, подняв голову, вздернул от неожиданности большие светлые брови, добавил с теми же неприятными, но приковывающими внимание интонациями: – Надеюсь, вы мою записку читали? С документами, переданными вам, ознакомились? Тогда оставьте, пожалуйста, ваши бумаги. Речь идет об очень серьезном деле!
Воцарилась томительная пауза. Только слышно было, как полузадушенно пискнул Павлин где-то далеко за спиной да охранники, перестав вертеть пистолеты, с некоторым любопытством воззрились на посетителя.
Вероятно, в этом кабинете к таким интонациям не привыкли.
А сам Президент, по-видимому, даже слегка растерялся, но сейчас же массивные, хозяйственные черты его лица пришли в движение, приоткрылись черные глазки, до сих пор заслоненные наплывами толстых век.
Он недобро усмехнулся:
– Ты откуда взялся такой умный? Университет, что ли, кончал? За дураков нас тут принимаешь? Ну ты глянь, тудыть, до чего докатилась интеллигенция: если, значит, человек из народа, так они его уже и за человека не считают. Быдло, значит, для них, серая скотина… – Президент с трудом, как будто ему мешал тугой воротник, покрутил головой на бычьей шее, щеки у него несколько отвисали, а так называемая партийная стрижка придавала черепу зализанные очертания. Больше никто не шевелился, даже Павлин за спиной у Марка перестал дышать, словно умер. – Я тебе, значит, так скажу, – продолжил Президент. – Не ты и никто другой указывать мне не будут. Вот у меня где советчики, вот тут, на шее, понял? Интеллектуалы долбаные! Все бы вам гипотезы сочинять. Я сам знаю, что нужно народу. Я сам – народ, понял?..
Крупное лицо его наливалось кровью, брови надвигались и надвигались, пока гневными валиками не встали над переносицей, нос, отекший грушей, еще больше раздулся. Вероятно, такая мимика должна была внушать подчиненным уважение и страх, но Марк вдруг подумал, что, судя по всему, Президент отрабатывал ее вполне намеренно: репетируя перед зеркалом, советуясь со специалистами. И от этого она стала ему еще более ненавистна.
Он сказал:
– Давайте не будем тратить времени. Учтите: меня сейчас разыскивают по всей Москве. И если обнаружат в вашем кабинете, то обязательно уберут. Устранят физически. И вас уберут – тоже. И всех присутствующих…
Тогда Президент вдруг расслабился, словно у него кончился весь запас ярости, – сел поудобнее и, достав американские сигареты, закурил, пуская дым подвернутыми мужицкими губами.
– Да? – брюзгливо и недоверчиво спросил он. – Говоришь, уберут? Ну это, знаешь ли, не так просто. – Обернулся и посмотрел на свою охрану, которая немедленно подтянулась, а крайний справа, видимо старший, значительно покивал, что, мол, не беспокойтесь, хозяин, через нас, мол, и на танке не пройдут. Снова повернулся к Марку и сказал уже серьезно, без актерской игры: – Теперь по поводу твоего доклада. Интересный доклад, читал – прямо не оторвешься. Но ведь, если подумать, то – бред собачий. Какой Дьявол, к этакой матери, какой Сатана?! Ведь меня же, к такой матери, примут за идиота. Ведь твоя же интеллигенция и заклюет: журналисты, писатели там, академики всякие… Это же какой тогда поднимется вой; мракобесие, мистика, игра на темных инстинктах. А с другой стороны, конечно, наоборот: дескать, Президент, оказывается, во власти жидомасонов. Ты тем более собираешься работать по лагерям – то есть нам придется как-то подключать уголовников. – Президент, останавливая возражения, сделал протестующий жест: – Подожди, подожди, ты сначала меня послушай… Я тебя понимаю, что это – армия Сатаны. Но попробуй объясни это нашим придуркам. Ведь придется кое-кого из уголовников отпускать? Или что, ликвидировать их после этого? Нет, по-моему, здесь у тебя ерунда. Вы же сами придумали всякие права человека. Нет, как хочешь, но все-таки – полный бред. А быть может, и хуже, чем бред, – политическая провокация. Так сказать, выстраиваешь на меня компромат. Мы сейчас у Павлинова спросим по этому поводу. Расскажи нам, Павлинов, кого ты сюда привел? Что-то, знаешь, все это мне не очень нравится…
За спиной у Марка началось какое-то шевеление, покряхтывание – наверное, Павлин готовился извлечь из себя голос. Сейчас продаст, подумал Марк, заранее напрягаясь; он был совершенно уверен, что Павлин продаст, и вдруг с изумлением, даже не поверив в первую секунду, услышал:
– За этого человека я ручаюсь…
– Чем ручаешься? – немедленно спросил Президент.
– Головой…
И Президент, как бы отметив про себя что-то существенное, соглашаясь, кивнул:
– Головой – это серьезно.
После чего опять воцарилась пауза.
Вот тебе и Павлин, потрясенно подумал Марк. Говорили – Павлин, Павлин… Павлин продаст ни за грош. А Павлин – это, оказывается, личность. И друзей Павлин, оказывается, не продает…
Его затопило теплое чувство благодарности. Однако радоваться было преждевременно, и поэтому он спросил, пользуясь благоприятным моментом:
– Извините, Сергей Николаевич, вы в Бога верите?
Президент даже крякнул от неожиданности. Тем не менее, передернув плечами, ответил с достоинством:
– Православный как будто… – А затем, немного подумав, добавил: – Крестили в детстве. – И еще немного подумав: – Креста не ношу…
При этом он неожиданно улыбнулся, и вдруг стало ясно, что никакой это не Президент, а простой русский мужик: темный, ограниченный, заскорузлый в своих примитивных воззрениях, инстинктивно не верящий никому, кто умнее его, и вместе с тем – очень хитрый, злопамятный, цепкий, именно мужицкой своей прямотой протаранивший себе дорогу к власти и теперь не собирающийся делиться ею с кем бы то ни было.
То есть как раз то, что мне нужно, подумал Марк. Я, по-видимому, не ошибся. Если такой поверит, то он не остановится ни перед чем, потому что речь идет именно о его власти. Надеюсь, что он это понимает. Ему может быть наплевать на будущее, скорее всего ни в какое будущее он не верит, ему может быть наплевать на страну, потому что как настоящий мужик он в первую очередь думает прежде всего о себе, в конце концов, ему может быть наплевать на народ, из которого он якобы вышел, вероятно, народ для него – понятие абстрактное: те, кто трудится, и те, кто рукоплещет на митингах, но ему, конечно, не наплевать на власть, потому что власть – это он сам, и он будет драться за нее хоть с чертом, хоть с дьяволом. Главное, что он ничего не боится. Он переломает все, что можно, в пределах этой страны, он не моргнув глазом угробит кучу народа, он превратит землю вокруг себя в выжженную пустыню, но он победит и остановит Его. Да, я, по-видимому, не ошибся.
Вслух он сказал:
– Если вы православный, то вы должны верить тому, что написано в Книге книг: «Исполнятся сроки, и края земли приподнимутся над самой землей, и оторвется от земли небо, так что образуется щель как бы в разорванной ткани, и потечет оттуда Черный Свет, каковой озарит землю, и Во Свете явится на землю Он, и соберется вокруг Него все Его воинство…» – Цитату он выдумал – ничего соответствующего в голову не приходило, однако продолжил: – Сроки, по-видимому, уже исполняются. Я представил вам достаточно обширный фактологический материал, и вы можете проверить его с помощью своих сотрудников. Только не затягивайте, пожалуйста, эту проверку. Потому что сроки действительно уже исполняются. Совпадают все известные из пророчества знамения. Между прочим, одних только «пастырей» мы набрали уже шесть человек. И наверное, вдвое больше – остались нам неизвестными. А ведь каждый «пастырь» может стать основой для воплощения. Потому что в каждом из них присутствует соответствующее зерно. И оно может проклюнуться при определенных условиях. Я не так уж много у вас прошу: просто требуется четкая общегосударственная программа обследования, разумеется, лучше, если она будет проводиться втайне, вы уже сами подумайте, как ее следует закамуфлировать: эпидемия там или профилактические мероприятия, можете в данном случае сослаться на Петербург – в Петербурге, если не ошибаюсь, настоящая эпидемия? Вот, пожалуйста, – это прекрасный повод. И я хочу, чтобы вы уяснили один важный момент: дважды Антихрист приходил на землю, и дважды он был изгнан отсюда. Неужели мы позволим ему победить в этот раз? Воцарение Сатаны – это, как вы понимаете, гибель для человечества, я ручаюсь, что ни вы и ни я Антихристу не понадобимся…
Марк замолчал, потому что той обострившейся интуицией, которая появилась в нем за последнее время, понял, что говорить дальше не имеет смысла: он уже либо убедил этого хамоватого, грузного, хитрющего мужика, прикидывающегося слугой народа, и тогда тот пойдет с ним, несмотря ни на какие препятствия, либо, точно так же, уже не убедил его, и тогда все дальнейшие аргументы бесполезны. Не стоит и продолжать. Он очень ясно понял это, он только не понял, убедил он или не убедил, и поэтому просто ждал приговора, и первые же слова Президента повергли его в смятение.
Потому что Президент, подняв толстую бровь, осведомился у Павлина:
– А вот ты отвечаешь у меня за связь с прессой, скажи: удастся сохранить такую операцию в тайне? Нет? Конечно. Вот и я так думаю. И скорее всего, свои же – заложат. Информация сейчас в цене: выборы на носу. И фамилия твоя – Арбитман, ты – еврей, получается?
Данный вопрос, судя по всему, подводил под разговором черту.
Вероятно, решение уже было принято.
Марк сказал, с тихим бешенством глядя в тупую мужицкую рожу:
– А Иисус Христос был – кто?
– То есть как это кто? – удивился Президент. – Христос – это… наш человек… Что ж он, немец, по-твоему, что ли? – Президент хохотнул сильным басом, вероятно, эта мысль показалась ему очень забавной, он даже оглядел присутствующих, как бы приглашая их присоединиться к веселью (охранники на диване с готовностью заулыбались), но вдруг осекся и побагровел – внезапной, мучительной, стыдной брезгливостью, какой багровеют люди, чрезвычайно болезненно относящиеся к своему авторитету.
Видимо, до него дошло.
Потому что он негромко прихлопнул ладонью по бумагам, лежащим у него на столе, и, вероятно сдерживая клокочущую внутри ярость, хрипловато произнес:
– Все! Поговорили!..
И сейчас же Павлин, точно идол, с каменным выражением лица выросший слева от Марка, чуть нагнулся к нему и одновременно склонил голову в сторону двери, показывая, что аудиенция окончена.
И охранники, прекратившие возню с пистолетами, тоже насторожились. Для них могла возникнуть сейчас некоторая работа.
Но она не возникла.
Марк – без возражений поднялся и суховато, как равный, кивнул на прощание Президенту.
– Не буду вас больше задерживать, – сказал он. – Очень жаль, что мы не договорились. Но мне кажется, что моей вины в этом нет. Я оставляю вам документы и фотографии, подумайте. Во всяком случае, вы знаете, где меня искать…
Ему мешал говорить какой-то звук, доносящийся с улицы. Что-то похожее на электродрель, только мощнее. Он даже чуть-чуть прищурился, чтобы лучше слышать. Павлин, настойчиво дотрагивающийся до локтя, прошептал ему:
– Господин Арбитман, – судя по всему, уже вторично приглашая к выходу.
А охранники еще больше насторожились. Двое справа даже начали демонстративно подниматься.
Но Марк уже понял, что означает этот нарастающий звук, который слышал, по-видимому, только он один, и поэтому, вытянув руку к окну за спиной Президента, срывающимся детским голосом крикнул:
– Покушение!..
Все происходило будто во сне.
Окно, на которое он указывал, наверное метра в четыре шириной, задрапированное по бокам белоснежными сборчатыми шторами, выходило все на ту же площадь – на унылые в своей обшарпанности хозяйственные дворы, на ржавеющие гаражи, на разнокалиберный частокол уплощенных, покрытых антеннами узких зданий столицы, зябкое осеннее солнце едва поднималось над ними, золотился, чуть скрадывая очертания, утренний редкий туман, серая пелена накапливалась уже вдоль неба, и вдруг из этой пелены, точно градина, выпала тусклая металлическая загогулина и, как бы провалившись сначала почти до земли, стала быстро и неуклонно подниматься оттуда – увеличиваясь на глазах. Показались растопыренные шасси, блестящий на солнце полупрозрачный круг винта.
Тяжелый боевой вертолет заходил для атаки.
– Покушение!..
Охранники медленно, очень медленно поворачивались к окну, и так же медленно поворачивался Президент – одновременно немного приседая.
Было ясно, что они ничего не успеют.
Под брюхом вертолета сверкнуло.
Тогда Марк вытянул к окну вторую руку и, открыв ладони, словно бы уперся ими в нарастающий вертолетный гул, мякоти ладоней сразу же закололо, тупая горячая тяжесть начала упорно давить на них, сгибая руки, удерживать ее было чрезвычайно трудно, и Марк знал, что долго он так не простоит, но он также знал, что если эта тяжесть продавится в кабинет, то разорвется здесь – скорее всего, переломив здание пополам. Противопоставить ей можно было только свою внутреннюю силу, Марк почти никогда не пользовался этой силой, и поэтому он боялся, что у него не получится, тем более что боль в ладонях стремительно нарастала, но он все-таки, стиснув, прогнувшись, стоял на месте – весь дрожа, клокоча от напряжения вздувшимся горлом; и когда его руки, слабея, стали немного поддаваться, а боль в сожженных ладонях достигла предела терпимости, то невероятная тяжесть, навалившаяся на него, вдруг мгновенно лопнула, как мыльный пузырь, и ему стало легко и свободно, точно он попал в невесомость: огненным шаром распух над площадью взрыв ракет, так и не долетевших до здания, и, выбитые волной воздуха, посыпались на паркет оконные стекла.
Сразу же накатилась суматоха и дикий панический крик. Буквально за две-три секунды кабинет был забит народом. Все невыносимо орали, пытаясь протиснуться поближе к Президенту, и даже опомнившаяся охрана не могла на первых порах сдержать этот натиск. Работали коленями и локтями. Щелкали вспышки ворвавшихся журналистов. Марка беспощадно отшвырнули куда-то в сторону – закрутили, как куклу, и притиснули в угол, где по светлой стене распласталась ворсистая пальма с жесткими листьями. Силы его оставили. Пока такая суматоха, надо уходить, подумал он. Надо уходить, в суматохе меня никто не заметит. Но невозможно было пробиться сквозь прущий ему навстречу галдящий людской поток. Даже непонятно было – откуда столько народа?
Вдруг – все посторонились.
И по проходу, расклиненному охраной и добровольцами, быстро, словно взмыленный конь поводя налитыми бешеными глазами, тяжело проследовал Президент, окруженный частоколом поднятых кверху дулами пистолетов.
А дойдя до зажатого в углу Марка, остановился. И ужасно дернул щекой, по-видимому узнавая.
– Ладно. Я тебе верю, – сказал он.
3. От Луки
Ночью был сильный ветер, он гудел в перекрытиях второго этажа, выдувал труху, брякал там жестью и кусками толя, крупной дробью швырял в потолок крупные дождевые капли, а затем наваливался на фанеру, которой было заколочено окно, и то продавливал ее внутрь, выгибая с опасным треском, то оттягивал наружу, грозя сорвать за размахрившиеся от непогоды края. Словно громадный невидимый зверь, терся боками о ненадежную раму. Это и в самом деле мог быть зверь: последнее время ходили слухи о каком-то гигантском фантастическом бегемоте, обитающем в подмосковных лесах, якобы он, как кабан, подрывает дома и, разворотив кирпичные стены, пожирает трясущихся от страха и ненависти обитателей.
Впрочем, Лука в эту легенду не верил. Точно так же он не верил и в то, что вурдалаки из кремлевской охраны ровно в полночь покидают свои посты и через проломы, так и не заделанные после Голодного бунта, расползаются по всему городу, где проникают в квартиры и пьют свежую кровь. Ерунда это все. Досужие вымыслы. Зачем вурдалакам пить кровь тайком, если они могут делать то же самое вполне официально: у заключенных, содержащихся в кремлевских подвалах, или у доноров-добровольцев, например. Доноров-добровольцев, говорят, тоже – хватает. Потому что каждому хочется иметь привилегии. Так что, скорее всего, это не вурдалаки. Скорее всего, это какие-нибудь одичавшие упыри, дефективные какие-нибудь, не примкнувшие ни к той стороне, ни к этой, и звереющие потому от одиночества и тоски – именно такими ветреными ночами. Но одичавшие упыри ему не страшны. Одичавшие упыри сюда не полезут. А если все-таки полезут, то у него есть чем их встретить.
Лука протянул руку, и пальцы его сразу же коснулись деревянной гладкой рукояти топора, положенного так, чтобы было удобно схватить. Ему даже показалось, что отбеленным краем блеснуло в темноте остро заточенное лезвие. Или, может быть, это блеснула молния, распластавшаяся по небу? Может быть, и молния. Похоже было, что снаружи бушует поздняя октябрьская гроза. Он подождал грома – лежа в темноте и считая секунды. Но грома не было. Был только ветер, барабанная резкая дробь усилившегося дождя, громыхание жести, выгибающейся под напором мокрого воздуха, бряканье чего-то тупого (впрочем, тут же прекратившееся), жесткие шорохи, стоны, завывания – то есть все то, что сопровождает ненастье; Лука слышал это чуть ли не каждую ночь, и все-таки именно сегодня почему-то не мог уснуть: ворочался под тряпичным, сшитым из разных лоскутков одеялом, поправлял подушку, набитую обрезками поролона, считал до тысячи, представляя себе каменистую выжженную пустыню, тянущуюся до горизонта, – все было напрасно, сон не шел, иногда вдруг охватывало сознание легкое забытье, но под первым же порывом оно трескалось, точно хрупкий, непрочный лед, и тревожная явь снова возвращала его в реальность.
Он так и проворочался до рассвета.
А когда ранним утром – хмурый, невыспавшийся, точно весь обвисший на прелых сухожилиях – натянув обрезки валенок, он, поеживаясь, выбрался в холодную осеннюю муть, то первое, что он увидел в промозглых сумерках, были – отчетливые золотые следы.
Они тянулись от калитки, за которой чернели развалы битого кирпича, через весь огород, по рыхлой, причесанной граблями, сырой земле и, точно набросав ярких листьев перед хозяйственными закутками, исчезали за дверью дровяного сарая: отпечатки узких босых ног, словно выкрашенные изнутри желтой краской. Лука даже не очень удивился, увидев их. Честно говоря, он ожидал чего-то такого. Ведь не зря же брякала ночью скоба на сарае, и не зря дул жестокий ветер, пронизывающий дома, и не зря хлестал дождь, омывая весь мир черными непрозрачными струями. Все это было не напрасно. Лука только боялся, что кто-нибудь заметит эти следы, и поэтому, схватив прислоненные к тому же сараю, оставленные после вчерашней работы грабли, принялся лихорадочно загребать черноземом тускло блестящее, страшное, нечеловеческое золото – начав эту работу от калитки и постепенно продвигаясь через огород к старому дровянику.
Он очень торопился и не замечал ни холодной сырости, пронзившей его в первый момент до костей, ни пудовой осенней грязи, глинистыми тяжами наматывающейся на валенки, ни светлеющего края неба, на рассветном фоне которого уже проступал зубчатый силуэт Кремля, – ему было не до того, он лишь мельком отметил некую странность в пейзажах, словно за ночь знакомые очертания изменились, и с облегчением убедился, что за калиткой золотых следов нет: ветер, вероятно, дул со стороны Толковища, и теперь толстая известковая пыль закрывала собой тропинку, протоптанную в развалинах. Между прочим, серые языки извести кое-где выплеснулись и в огород, но сейчас он отгребать их не стал, – он, как заведенный, работал граблями, подтаскивая, разбивая и заравнивая липкие мокрые комья, сердце у него стучало от перенапряжения, узкой судорогой сворачивался мускул в левой руке, но зато когда из-за стен Кремля показался краешек черного солнца и лучи его, словно кипящими чернилами, спрыснули весь небосвод, эта работа была окончена, и он с облегчением прислонил грабли обратно к сараю, вытирая рубахой пот и пядь за пядью просматривая забороненную мелкими рядами землю. Кажется, он ничего не пропустил.
И в этот момент его окликнули.
Жутко заскрипела дверь, ведущая в тень подвала, из провальной темноты ее появился Чукча, с ног до головы замотанный разноцветными тряпками, и, оглядев уже начинающее светлеть городское пространство – потянувшись, громко хрустнув суставами, – как обычно, приветственно помахал ему культей свободной руки:
– Здорово, приятель!.. – А затем, навалившись на остатки забора, представляющего собой границу между двумя участками, чиркая капризничающей бензиновой зажигалкой, бешено пыхтя трубкой, торчащей сквозь нечесаную бороду, добавил, неопределенно кивая куда-то назад, откуда, стрекоча винтом, уже выплывала на вертолете патрульная служба: – Как, приятель, спалось? Кровососы не беспокоили? А я слышу ночью грохот, думаю: все, отверзается преисподняя, молись кто умеет – ан нет, просто министерство рассыпалось, ну, думаю, и хрен с ним, так им и надо…
Лука понял, в чем заключается отмеченная им странность: оказывается, громадное серое здание, еще времен Дровосека, псевдоготическими остриями устремлявшееся куда-то вверх, за ночь полностью развалилось и громоздилось теперь целым холмом мусора, из которого торчала одна нелепая башенка, вот откуда взялись в таких количествах известь и пыль и вот почему так хорошо виден сегодня дьявольский силуэт Кремля: черные луковичные купола, вытянутое яйцо аэростата, привязанного к Спасской башне, вообще вся московская панорама – обветшалые трехэтажные домики в центре, далее – поваленные новостройки, тусклая извилистая лента реки, а за нею – узенькая черта синего туманного леса. Сполохов над ним видно не было: то ли их растворила сатанинская густая зелень, заполыхавшая вдруг по небу от края до края, то ли последние официальные сводки не врали и фронт действительно отодвинулся далеко на восток – так, что теперь даже дыхание Богородицы не поднималось над горизонтом; скорее всего, второе, потому что еще вчера какое-то зарево там слегка просматривалось. Значит, фронт отодвинулся.
Лука вздохнул.
Однако Чукча, уже раскуривший щербатую трубку, понял этот вздох по-своему.
– А я слышу: ты с утра возишься, – весело сказал он. – Картошку, что ли, по четвертому разу выкапываешь? Вот ведь Голод застрял в костях: и знаешь, что ничего нет, и все равно копаешь. Брось! Не надрывайся! Заморозки какие были: если даже что и оставалось, уже давно сгнило. А вообще с землей мы, по-моему, лопухнулись: камни, мусор… Крапива – и та не растет. Я думаю взять расчистку на соседней улице, асфальт там потрескался, снимать будет легко, особенно если вдвоем – не хочешь войти в долю?
– Надо подумать, – неопределенно ответил Лука.
В словах Чукчи был, конечно, определенный резон. И даже немалый. Земля им действительно попалась плохая, урожай в этом году получился сам-три, надо бы, пока не поздно, поменять участок. Но идти в долю с соседом? В долю с Чукчей, который убьет тебя после первого же урожая? Нет, это слишком опасно.
– Жениться бы тебе надо, – уходя от темы, сказал он. – Возьми себе женщину со Страстного бульвара, на Страстном бульваре много приличных женщин. Вот вдвоем и поднимете целину…
Чукча посмотрел на него и презрительно сплюнул:
– Чтоб я взял проститутку?.. Плохо ты, приятель, обо мне думаешь… С проститутками пусть вурдалаки живут. А я – человек…
– Но ведь не все женщины на Страстном – проститутки, – примирительно сказал Лука.
Чукча сильно прищурился.
– Для меня – все, – веско сказал он. – Лубянку они прошли? Прошли! Вурдалаки из кремлевской охраны с ними спали? Спали! Значит – все. Проститутки…
Он обернулся на животные повизгивания и хрипы, донесшиеся с дороги, и долго, нехорошим взглядом смотрел на телегу, запряженную шестью черными свиньями, которая, просыпая солому, влекла на себе несколько голых людей обоего пола, выкрашенных прямо по коже в красное и в синее – будто клоуны. Люди эти, привалившиеся друг к дружке, невыносимо зевали, почесывались и, видимо, чтобы согреться на пронизывающем ветру, то и дело прикладывались к толстой, громоздкой бутыли коричневого стекла, на боку которой были нарисованы череп и кости. А на коленях у них, сверкая лаком, багровели электрогитары самых причудливых форм: торчали грифы, завивались кверху оборванные струны, холодно отражали солнце большие медные тарелки, лежащие на соломе.
– В Кремль, значит, поехали, – задумчиво сказал Чукча. – На концерт, значит… Каждый день, видишь ли, у них концерт…
И сейчас же над черными кремлевскими куполами, еще год назад приспособленными под стационарные усилители, поднялся в хрустальную зелень неба красный столб дыма – перевитый, подсвеченный солнцем, растворяющийся где-то в стратосфере, – и отрывисто, будто лопнув, прозвучала басовая струна. Затем – вторая, третья: звонкий красивый аккорд, полный силы и пугающей темной радости, точно мыльный пузырь, надулся над силуэтом Кремля.
Грохнули завывающие цимбалы.
Тогда Чукча перегнулся через ограду и жарко, оглядываясь по сторонам, прошептал:
– Не тех мы тогда затоптали, не тех… Промашка вышла на Толковище… Других бы следовало – хрясь, хрясь по морде!.. Вот теперь и расплачиваемся…
– Ну я, предположим, не топтал, – холодно возразил Лука.
– Не топтал? Ну – умный!..
И Чукча, отвернувшись, зашагал через огород – увязая в грязи, балансируя, чтобы не упасть, короткими растопыренными руками…
Лука снова вздохнул.
Все это время, пока они разговаривали, он осторожно, чтобы не заметил сосед, косил глазом на слегка приотворенную осевшую дверь сарая. Чтобы закрыть дверь до конца, ее следовало немного приподнять на петлях, а тот, кто находился внутри, конечно, не знал об этом: черная широкая щель хорошо вырисовывалась на фоне сосновых досок, однако признаков жизни за ней не чувствовалось, и поэтому сначала, поколебавшись немного, он вернулся к дому, снял с него ставни, представляющие собой крепкие деревянные щиты, обтянутые фанерой, прошел внутрь, где дневной резкий свет, пробиваясь через окна, составленные из накладывающихся друг на друга кусков стекла, освещал казарменную убогость жилого помещения: нары под тощим матрасом, холодный земляной пол, плесень на стенах, от всего этого веяло привычной, незамечаемой бедностью, – сел за грубо сколоченный стол, протянув руку, положил перед собой луковицу в фиолетовой кожуре, кусок темного окаменевшего хлеба, налил теплой бурды из чудом сохранившегося термоса и начал жевать, с некоторым напряжением перемалывая хлебную твердость, через силу сглатывая и смывая едкий луковый сок желудевым кофе.
И так он ел, механически двигая челюстями, уставившись в пространство невидящим долгим взглядом, – пока, потянувшись в очередной раз за хлебом, вдруг не обнаружил вместо него лишь мелкие колючие крошки. Луковица к тому времени тоже кончилась.
Тогда он опять вздохнул.
А затем, нашарив на полке другую луковицу и другой кусок хлеба, впрочем такой же твердый от давней засохлости, завернул все это в чистую тряпку, поставил рядом термос и, чуть-чуть поразмыслив, добавил сюда же теплые войлочные тапки, сделанные, судя по всему, из верха валенок.
– Ладно, – сказал он самому себе.
И, прихватив узелок, энергично вышел наружу. Солнце к этому часу поднялось уже достаточно высоко и, разогнав туман, царило над стылым миром: круглая черная капля в зеленом небе, совершенно непроницаемая для взгляда, – непонятно было, за счет чего образовался дневной свет; выглядело все это довольно дико, тем более что над Кремлем теперь поднимались уже два дымных столба – красный и синий; аэростат зловещим темным яйцом покачивался слева от них, звонкие гитарные аккорды сливались в тяжелый ритм, и, перекрывая его, плавал над верхушками колоколен наглый бесовский хохот.
То есть все было как обычно.
За ним никто не следил.
Однако стоило ему взяться за железную скобу двери и уже было напрячься, чтобы, оторвав ее от земли, протолкнуть внутрь, как мальчишеский ломкий голос, немного запыхиваясь, произнес:
– Здравствуйте, господин учитель!..
Он едва не уронил драгоценный термос: хмурый высокий подросток, как оборотень, возник перед ним и смущал его неприветливым упорством взгляда. Был он в светлой холщовой рубашке, перетянутой солдатским ремнем, и в холщовых же шароварах, заправленных тоже в валенки, которые понизу, видимо вручную, были облиты резиной, так что получилось нечто вроде галош, а под мышкой его кожаным благородством коричневела потертая, но еще роскошная министерская папка, совершенно не сочетающаяся с домотканой одеждой. И еще не сочеталась с ней круглая черная шапочка еврейского образца, будто приклеенная на самой макушке: желтые патлы, выбивавшиеся из-под нее, были похожи на солому.
– А… это ты… – напряженно сказал Лука. Ему не понравился собственный голос, который предательски дрогнул. – Здравствуй… Разве мы на сегодня договаривались?..
Подросток переступил с ноги на ногу.
– Так ведь суббота, господин учитель, – почтительно напомнил он. – Я вот – географию, арифметику подготовил. Папаша мне еще вчера говорили: дескать, обязательно передай привет господину учителю, засвидетельствуй, мол, перед ним мое уважение… Умный, мол, человек господин учитель, побольше бы нам таких…
И подросток склонил голову.
Однако в почтительности его было что-то хамоватое. Словно он заведомо считал себя выше Луки, но по каким-то неясным соображениям играл в подчиненного. Причем играл не очень умело. Луку это всегда пугало. Но еще больше его пугало то, что подросток упорно разглядывает узелок и термос у него в руках. Лука попытался перехватить их – так, чтобы упрятать за спину. Но у него не получилось.
Поэтому он сказал:
– Видишь, приболел я что-то… Кашель, температура… Наверное, простудился… Ты это, если не против, давай – на завтра… День, правда, рабочий… Но, может быть, вечером?.. Значит, арифметика, география… Договорились?..
Ему было неприятно от своих заискивающих интонаций. Но подросток воспринял их как должное, потому что степенно и важно кивнул:
– Разумеется, господин учитель, как вам будет удобно…
Вдруг прозрачно-бесчувственные глаза его явно дрогнули. Он как будто догадался о чем-то. Поклонился по всем правилам – в пояс, коснувшись рукой земли – и, как деревянный, задумчиво зашагал по направлению к калитке. Отчетливо выделялась кобура, пристегнутая к ремню, и болтался в чехольчике нож с изогнутой костяной рукояткой.
Вероятно, трофей от какого-нибудь инородца.
– Привет папаше!.. – облегченно крикнул Лука.
Надо было поторапливаться. Золотые следы, вероятно, видел не он один, трудно было предположить, что Пришествие осуществилось именно у него на огороде, мессия, скорее всего, уже исходил половину города, информация о следах, наверное, давно ушла в Кремль, вряд ли ее там оставили без внимания, соответствующие меры, конечно же, уже принимаются. У него есть час или полтора, не больше.
Лука толкнул дверь и сначала ничего не смог разглядеть, очутившись во внутренней темноте, рассеиваемой лишь малым оконцем под самыми стропилами, но глаза постепенно привыкли, и, протянув руку, чтобы не налететь на доски просевшей кровли, он пробрался в дальнюю часть сарая, и там, за загородкой, где у него в прошлом году содержалась коза, на соломе и слежавшихся твердых стружках он увидел человека в белом хитоне, который безмятежно раскинулся вдоль всех ясель. Глаза у него были закрыты, а грудь чуть заметно вздымалась под легким дыханием.
Надо же, спит, с удивлением подумал Лука. Его ищут, а он спит как ни в чем не бывало. Ну и ну – человек. Утомился, значит…
Он протиснулся через загородку в ясли и только тогда заметил, что человек в белом хитоне не спит, а, напротив, открыв глаза, внимательно наблюдает за ним – впрочем, тут же усевшись и подогнув под себя босые ноги. Лука успел заметить металлизированный блеск подошв, которые отразили его точно в зеркале, а на подстилке, где чиркнули пятки мессии, образовались капли – словно от расплескавшейся ртути. И судя по всему, эти капли были горячими, потому что солома вокруг них, обугливаясь, потемнела. Лука некоторое время не отрываясь смотрел на их блестящее точечное созвездие, а затем тоже присел и осторожно поставил свой термос и узелок рядом с краем завернувшегося хитона.
– Давно пришел? – поперхнувшись от сухости в горле, спросил он.
Однако человек, сидящий в яслях, не ответил, а все так же смотрел на Луку – гневными, черными, как маслины, божественными немигающими глазами.
Легендарной кротости там не было и в помине.
Молчание затягивалось.
– Понятно… – наконец сказал Лука. – Значит, скорбишь по нам, переживаешь всем сердцем?.. Интересно, тогда зачем ты явился?..
Не дожидаясь ответа, он развязал узелок, отвинтил крышку-стаканчик с китайского термоса и, налив в нее бурого желудевого кофе, жестом предложил угощаться. А поскольку человек в хитоне опять-таки не пошевелился, с невыносимой тщательностью разглядывая его, то Лука, поколебавшись, положил ему хлеб в открытую, темную изнутри ладонь, и загорелые пальцы рефлекторно сомкнулись.
– Ешь и уходи отсюда, – сказал он. – Извини, но оставить тебя здесь я не могу. Все равно найдут. По таким приметам – дурак найдет. И тогда меня распнут вместе с тобой. Только я в отличие от тебя – не воскресну…
Он помолчал, прислушиваясь, и вдруг резко, насторожившись, дернул лицом. «Ква!.. Ква!.. – приглушенно, но очень отчетливо раздалось в отдалении. И через секунду опять: – Ква!.. Ква!..» – словно очнулась от летаргии гигантская ископаемая лягушка.
Тогда Лука сказал:
– Чувствуешь? Это тревога. Сейчас начнутся прочесывания, облава… Но не волнуйся: полчаса у тебя есть – пока они еще сюда доползут… На вот, надень, чтобы не было главной приметы… – кончиками пальцев он подпихнул к человеку в хитоне взятые с собой войлочные туфли. Честно говоря, ему было жалко этих туфель: крепкий отличный войлок, где теперь такой достанешь, но он подавил сожаление – до туфель ли было, когда сама жизнь висела на волоске. Только сказал неожиданно дрогнувшим голосом: – Зря ты все-таки явился, помочь ты уже не сможешь, а мешать – мешаешь, сколько людей теперь из-за тебя погибнет…
Однако дальше – сдержался. Бесполезно было говорить все это тому, кто, обретаясь в вечности, взирал на людей как на земную пыль. Бог есть любовь, быстро подумал он. Он, конечно, умер за нас, но его никто не просил об этом. Тем более что он потом все равно воскрес. И воскреснет опять – завтра, наверное, в десятый раз.
– В седьмой, – вдруг негромко сказал человек в хитоне. Голос его оказался удивительно мягким, но Лука все равно чуть было не подпрыгнул от неожиданности. – В седьмой раз я прихожу сюда и в седьмой раз вижу одно и то же: дух растоптан, люди превратились в говорящих животных, воцарилось безверие, страшно и неумолимо ликует Сатана, церковь – пала, умолкают во тьме последние праведники – Армагеддона не будет, потому что никто уже не хочет идти в Царство Божие…
Человек в хитоне умолк, и глаза его стали еще темнее, словно в них погас некий внутренний свет. Сладкий запах исходил из умащенных волос и от бороды – и было в этом запахе что-то безжизненное. Точно благовония, которыми натирают умерших.
– Но ты же сам в этом виноват, – сказал Лука. – Ты не любишь людей, которых и вызвал к жизни. Ты сделал человека оружием в борьбе между собой и Дьяволом. Бедный, несчастный человек! Что бы ни случилось, он все равно проиграл. Победит Сатана – и он лишится блаженства небесного, победишь ты – и блаженство земное превратится в непрекращающуюся юдоль страданий. А почему, собственно, мы должны быть на чьей-то стороне? Почему мы должны вмешиваться в чужую битву? Цели этой битвы нам непонятны, существа, ведущие ее, чужды нам по своей природе, достается, между прочим, и от того и от другого: то гнев Божий, то козни Дьявола – неудивительно, что человек в конце концов махнул на все это рукой: делайте что хотите, только оставьте меня в покое. Лично я считаю, что это самая правильная позиция, во всяком случае, наименее уязвимая, позволяющая человеку сохранить собственное достоинство. Что же касается власти Дьявола, то тебе следовало бы явиться к нам несколько раньше, только и всего. Не теперь – седьмой раз подряд, а – раньше. Если бы ты пришел раньше, то, возможно, занимал бы сейчас то же место, какое занимает у нас Князь тьмы – если только он действительно Князь тьмы, если он не самозванец, чего у нас в мире тоже хватает…
– Да, – сказал человек в хитоне. – Наверное, ты прав. Я даже думаю, что ты абсолютно прав. Но ты прав именно как человек. Понимаешь, есть правота отца и есть правота сына, есть правота плоти и есть правота духа, возвышающегося над ней, есть правота Бога и есть правота Человека, я нисколько и ни за что не осуждаю тебя, в том-то и беда, что мы оба – правы… – Он с натугой, как будто ему не хватало ширины смуглых век, неторопливо моргнул и добавил, явно через спазм выталкивая слова из узкого горла: – Ты не хочешь, чтобы я оставался здесь; не волнуйся – для тебя все обойдется благополучно. Правда, сейчас тебе лучше удалиться отсюда – потому что свершается, потому что они идут. Они идут за мной – я это чувствую…
Человек сглотнул, двинув кадыком под нежной просвечивающей кожей, и Лука вдруг понял, что он – боится. Может быть, он, конечно, и всемогущ – тогда, когда царит над Вселенной, но сейчас он – просто человек, и как человек он подвержен самому худшему. Он – боится. Он боится боли, которая образует его крестный путь, он боится страданий, ждущих его в момент распятия, он боится смерти, несмотря на то, что выйдет из нее обновленным. И конечно, он хотел бы избежать всего этого. Он был настолько несчастен и одинок, что Лука чуть было не схватил его за руку и не крикнул: «Уйдем отсюда вместе! Я помогу тебе!..» – но все-таки перед ним сидел не человек, а Бог, принявший облик человека, и поэтому он ничего такого не сказал, а лишь выпрямился и довольно сухо кивнул на прощание.
А человек в хитоне вытянул руку – чтобы перекрестить. И вдруг рука его остановилась.
– По-моему, ты не нуждаешься в благословении?
– Нет, – ответил Лука.
Он вышел из сарая и прикрыл за собой дверь, приподняв ее и затворив до упора. Можно было еще навесить замок, но это было уже слишком. Поэтому замка он вешать не стал, он лишь бросил лопату и грабли – как будто в сарай давно не заходили, он догадывался, что не успеет, и он действительно не успел – потому что он только еще подходил к своему подвалу, чтобы укрыться, как из улицы, идущей к центру Москвы, налетело жуткое звериное хрюканье, копытный топот, и, как тараном снеся калитку металлическими намордниками, прикрывающими свиные рыла, ворвались на подворье два бешеных кабана и затормозили – выбросив из-под ног взбитую землю, а с могучих спин их, из мягких кожаных седел, соскочили два мертвеца с коричневыми подгнившими лицами и, по привычке выставляя перед собой заточенные суставы пальцев, визгливо, вразнобой прокричали:
– Где он?!
Лука не стал им ничего говорить, он вдруг решил: будь что будет, пускай, он к этому непричастен, но мертвецы, на которых, как будто дотлевая, немного дымились лохмотья одежды, по-видимому, не ожидали ответа – сразу же, едва не разнеся в щепки дверь, рванулись во тьму сарая, и к тому времени, когда на подворье, переваливаясь на ухабах и выплескивая из-под колес жидкую грязь, въехал газик, доставивший низкорослого кудрявого чертика в военном мундире, они уже выволокли из яслей человека в хитоне и, заламывая ему локти, держали – сами вытянувшись и поедая глазами начальство.
А кудрявый худенький чертик в пенсне – перетянутый ремнями, с портупеей на тощей заднице – осторожно поставил в грязь сияющие бутылки сапог и, привычно вздернув костяной подбородок, фальцетом скомандовал:
– Молодцы, товарищи командиры! Ведите его!
А откуда-то из-за забора, разгораживающего два участка, вдруг донеслось:
– Здорово, Петруня!.. – Оказывается, Чукча тоже выбрался посмотреть, что происходит на свете, и теперь торопился через огород, расставляя руки, явно намереваясь кого-то обнять. – Петруня, тудыть-твою-растудыть!.. Да ты че, не помнишь, как мы с тобой громили гидру контрреволюции? А?.. Веселые были деньки!..
Но кудрявый чертик отступил на шаг, и пенсне его блеснуло округлой белесостью.
– Не имею чести знать вас, товарищ, – надменно сказал он.
И сейчас же за спиной его вырос третий мертвец, сидевший до этого за рулем.
Вероятно, охранник.
Чукча даже остановился.
– Да ты че, Петруня?.. – проникновенно сказал он. – Может, ты с перепоя? Это же я – Шопейкин… – Он все еще держал руки открытыми для объятий. Вдруг – до него дошло: – Ах ты сволочь!.. Значит, решил не признавать старых приятелей?..
И, набрякнув от возмущения, сжав могучие кулаки, двинулся к чертику, который уже усаживался на заднее сиденье газика.
Щеки у него страшно раздулись.
Но мертвец-охранник выбросил вперед растопыренные жесткие пальцы, и заточенные костяшки их воткнулись Чукче в лицо, погрузившись до основания и выскочив своими алыми кончиками на затылке.
– Ох! – как будто удивившись, негромко сказал Чукча – и вдруг, лишенный опоры, потому что мертвец выдернул костяшки пальцев обратно, надломился и рухнул, обняв руками чуть вспененный, забороненный Лукой чернозем.
– Пет-ру-ня…
Кудрявый чертик даже не посмотрел на него, снова – блеснув пенсне – откинулся на кожаном сиденье:
– Поехали…
Зафырчал мотор, газик дернулся коротким кургузым телом, немного прошел юзом, оставив в грязи гладкую полосу, и наконец, схватив колесами почву, медленно пополз по разжиженной черной улице, проваливаясь в колеи почти до самого носа, а позади него, уже скованный наручниками, от которых тянулись две тонкие никелированные цепочки, шагал человек в хитоне, так и оставшийся босым, и, тускло поблескивая пленкой расплющенного металла, тянулась за ним вереница золотых следов – ездовые кабаны фыркали, воротя морды, а один из едущих на них мертвецов, будто стельки, накалывал эти отпечатки на пику и затем ссыпал в притороченный к поясу грубый холщовый мешок.
Вот и все, подумал Лука. Вот и все, и достаточно. И, повернувшись, чтобы уйти в свою конуру, чуть не натолкнулся на четвертого мертвеца, который совершенно неслышно, наверное крадучись, приблизился к нему сзади. Было непонятно, откуда взялся этот мертвец – вроде бы его не было вместе со всеми, но он откуда-то взялся и теперь отшатнулся немного, когда Лука обернулся к нему.
И Лука сразу же понял, что сейчас произойдет. Но еще раньше, чем мертвец успел выбросить вперед свои страшные темные пальцы с заточенными костяшками, откуда-то сбоку раздалось звонкое мальчишеское: «Стой!..» – и через ограду перепрыгнул подросток, приходивший к Луке сегодня утром.
Он размахивал руками, оскальзывался на раскисшей земле, едва не падал и вообще, судя по всему, очень торопился, а подбежав вплотную, еще раз крикнул срывающимся, не привыкшим к команде голосом:
– Стой! Этого не надо!.. Не надо, говорю, приказ верховного!.. Все! Свободен! Иди отсюда!.. – А когда мертвец, как автомат, развернулся и размеренно зашагал по топкой унылой улице куда-то к центру Москвы, то подросток оборотился к Луке и, все еще дико волнуясь, не умея справиться с бурным хрипящим дыханием, несвязно проговорил: – Извините, господин учитель, чуть было не опоздал… Путь не близкий: пока до Кремля, пока обратно… Да еще не сразу пустили, пришлось вправлять мозги дежурному… Куда же вы, господин учитель, минуточку…
Он очень искренне переживал случившееся. Лука отвернулся от него и, слыша за спиной растерянный оклик: «Так, значит, до завтра, господин учитель!..» – тоже как мертвец, совершенно бесчувственно прошагал к себе в дом и, заперев дверь, сел на табурет у стола, сколоченного из грубых неоструганных досок. Руки он положил на колени, а взгляд устремил в окошко, заваленное кусками стекла.
Так он сидел – не шевелясь, ни о чем не думая, пока свет за окном вдруг не померк и не сгустились в комнате плотные сумерки, – хотя жестяной будильник, стоящий на полочке у самой плитки, показывал черными стрелками всего лишь начало первого.
Тогда он встал и окинул комнату последним взглядом: стол, плита, топчан под пестрым одеялом. Больше он ничего этого не увидит.
«Тьма сделалась до часа девятого», – подумал он.
Значит, у него в запасе имелось около шести часов.
Жаль было уходить отсюда.
Сердце у него защемило.
И даже когда – часа, наверное, через полтора, – выбравшись кривыми переулками за пределы столицы, он на вершине какого-то холма оглянулся и увидел Кремль, подсвеченный снизу красными дьявольскими прожекторами, то в горле у него еще ворохнулись горячие слезы.
Но он проглотил их и зашагал прочь…
4. От Иоанна
В общем, они его уговорили, я уж не знаю – запугали они его или заставили: по крайней мере, неделю он провел в подвалах на Лубянке, а об этих подвалах ходили самые неприятные слухи: будто бы там и психотропные средства, и тайная лоботомия, правда, сам я в лубянских подвалах не был, сломался на первом же допросе, да и что мне было отстаивать, я же не фанатик, не революционер, не борец за права человека, наверное, даже неправильно говорить, что я – сломался; я же не изменял каким-либо своим убеждениям, я никого не предавал и ни от чего не отступался, я просто сразу же согласился со всем, что мне предложили, – конечно, это был страх: кто же у нас в стране не боится органов госбезопасности, но это было и сознание долга, и одновременно желание помочь, чего я, к моему большому сожалению, не мог сделать, потому что довольно быстро выяснилось, что взяли меня по ошибке: были определенные штришки в биографии, были достаточно странные совпадения (когда я, например, очень точно предсказал в одной из статей Августовский мятеж), но все эти совпадения, все эти странности и отклонения от нормальной жизни на самом деле оказались действительно совпадениями, никакого настоящего сатанизма во мне не было – совершенно обычный, задерганный и бестолковый советский человек, вымотанный ежедневной сутолокой и мечтающий только о том, чтобы отоспаться, то есть, конечно, проскальзывали некоторые детальки, тот же самый Августовский мятеж я, например, обрисовал с уникальными подробностями, такие подробности насторожили бы кого угодно (они, между прочим, и насторожили), или, скажем, я мог абсолютно точно предсказать номер трамвая, который сейчас подойдет к остановке (причем именно трамвая, а не троллейбуса и не автобуса), но это были именно детальки, просто мне кажется, что вся наша жизнь последних лет неуклонно соскальзывала в какую-то фантасмагорию, точно зловещая тень легла на страну, мелкие черты бесовства проявлялись во многих людях, неудивительно, что они в определенной мере обнаружились у меня, но, к счастью (или, наоборот, к сожалению), настоящего сатанизма во мне все-таки не было, – так, предрасположенность, шелуха; обнаружилось это при первом же испытании, может быть, поэтому оно и лучше, что я сразу же сломался, потому что все дальнейшие мучения оказались бы напрасными, мне только было немного стыдно: другие держались дольше и смогли выторговать себе более льготные условия, но, в конце концов, ничего особенного здесь нет, просто одни люди устроены так, что могут торговаться даже со смертью, им это ничего не стоит, а другие – торговаться не могут вообще, я вот, например, вообще не могу, для меня лучше остаться без всего, чем по мелочам хитрить и выгадывать, мне это как-то противно, зато не пришлось познакомиться с «Сектором Б» в лубянских подвалах, поэтому я и не знаю, что там правда, а что там выдумка (те, кто знает, молчат – и правильно делают), но я думаю, что действительность еще хуже, чем слухи, слава богу, что я не столкнулся с действительностью, однако и отпустить меня они тоже уже не могли, слишком многое было сказано на первом же допросе, я ведь тоже не дурак, о каких-то моментах начал догадываться, в общем, зачислили меня в технический персонал, кое-чему наскоро обучили – припугнули, взяли подписку о неразглашении, перевели на казарменное положение (о чем я, впрочем, не особенно сожалею) и пообещали, что Родина меня не забудет. В последнем я нисколько не сомневался и поэтому вел себя тише воды и ниже травы, рассчитывая, что память у Родины все-таки окажется несколько слабее, чем они думают.
Так что уговорить его могли в знаменитом «Секторе Б», где способны были уговорить кого угодно. Однако я так лично не считаю. Я видел людей, прошедших через «Сектор Б», у них у всех есть какая-то невидимая надтреснутость, какая-то робость, какая-то внутренняя хрипота, я эту хрипоту очень хорошо чувствую – так вот в нем ее абсолютно не было, когда я впервые увидел его на Полигоне, он был весел и очень раскован, нервничал, конечно, но, знаете, любой будет нервничать в такой ситуации, ситуация была паршивая, а надтреснутости в нем все-таки не ощущалось, поэтому я и думаю, что через лубянские подвалы он не прошел, в этом мы с ним были одинаковы, скорее всего, его действительно уговорили, он же, как и я, был нормальный советский человек, а нормального советского человека уговорить ничего не стоит, надо только объяснить ему, что это – для счастья других людей или, еще лучше, что это – для их спасения, что предотвратить трагедию может только он, что иначе – обвал и что надо собой пожертвовать. Они, наверное, особенно упирали на слово «пожертвовать», потому что это слово для нас прямо-таки мистическое, если советский человек слышит, что надо собой пожертвовать, то он немедленно отвечает: «Есть!» – вероятно, именно здесь его и зацепили, показали, наверное, соответствующий материал. Материал, надо сказать, был впечатляющий. Я кое-что слышал об этом материале и даже видел кое-какие фотографии. Разумеется, далеко не все: большая часть документов была строго засекречена, собственно говоря, засекречен был весь этот документальный массив, однако степень секретности по разным его частям была неодинакова: Пермскую колонию показывали, например, всем новичкам, зато о так называемой Кровавой Дуне я знал только по слухам, я вообще не уверен, что такая Дуня существовала и что она действительно уничтожила целый полк в тайге (слишком уж все это было мерзко, слишком уж неправдоподобно), но я думаю, что основной материал был, конечно же, подобран соответствующим образом и у всякого, кто видел скрюченные, обугленные тела, ритуальной картинкой разложенные по территории Пермской колонии, или в оцепенении взирал на почти полуторакилометровую панораму Новобалкацкого металлургического комбината (вернее, того, что от него осталось), или, содрогаясь, смотрел, как, покрытый рыжеватыми волосами, эпилептический Чертов Стул пляшет – сначала по улицам вымершего городка, разбивая машины, сворачивая фонарные столбы, а затем, словно бешеная мясорубка, превращает в ужасное месиво более чем двухтысячное поголовье свиней на ближайшей ферме, – так вот, у всякого, кто это видел, – разумеется, соответствующим образом прокомментированное и снабженное душераздирающим музыкальным сопровождением, – возникало вполне однозначное представление о том, что Дьявол или нечто, ему аналогичное, совершенно остервенело прорывается в наш мир – то здесь, то там, – испытывая его на прочность, и что если он все-таки прорвется, неважно – в России или в какой-нибудь другой стране, то вот тогда и наступят – и Апокалипсис, и Армагеддон, и Светопреставление, и вообще – конец человечества.
Неудивительно, что они его уговорили. При таком материале уговорить было нетрудно. Особенно если учесть жуткие слухи, ползущие из Петербурга, где, даже по невнятным официальным сообщениям, творилось черт знает что, или то воздействие, которое обычно оказывает на читателя так называемое Евангелие от Луки, то есть документ, обрисовывающий наше будущее под властью Дьявола (лично я считаю его, Евангелие, чистой мистификацией). В общем, все это далось, наверное, без чрезмерных усилий. Гораздо труднее, по-моему, было убедить его в том, что предполагаемый способ действий является единственно возможным. Я, например, человек неверующий, и даже события последних месяцев не заставили меня усомниться в скучном материализме Вселенной; видимо, я так устроен, я просто не могу представить себе, что некое сверхъестественное и всемогущее существо мановением жезла сотворило Землю и Человека и теперь ведет его согласно своим промыслам. По-моему, это просто глупо. Чушь какая-то. Ерунда. Не говоря уже о кричащих противоречиях любой религии, объясняемых обычно тем, что пути Господни неисповедимы. Это уж, на мой взгляд, вообще нелепость! Кстати, ни в какого Дьявола я тоже не верю. И тем не менее даже мне, при всем моем непоколебимом атеизме, было ясно, что если уж и пытаться остановить Сатану, то делать это надо теми средствами, которые были неоднократно испытаны временем, то есть – молитвой, святым крестом, соответствующими псалмами и заклинаниями, здесь все очень просто, не надо ничего выдумывать; если и в самом деле предположить, что Сатана уже неоднократно прорывался в наш мир, даже захватывая на какое-то время отдельные территории или целые страны, то все равно способы борьбы с ним давно известны – разумеется, если их рассматривать в исторической перспективе, потому что Сталин, например, являющийся, согласно одной из гипотез, воплощением Сатаны, правил реально немногим более двадцати лет: срок, ничтожный для Времени, но охватывающий собой целое поколение, – правда, как раз против Сталина традиционные методы оказались бессильными (или их систематически не применяли), так что вопрос до некоторой степени дискутабелен, и однако же не настолько, чтобы, отталкиваясь от этой дискутабельности, идти вразрез с уже устоявшейся практикой. Между прочим, я лично опять-таки считаю, что ни Сталин, ни Гитлер никакими воплощениями Сатаны (так сказать, «черными ботхисатвами») в действительности не являлись, это были самые обыкновенные люди, к тому же, по моему мнению, весьма заурядные и пропитанные сатанизмом, демонические судьбы их просто продемонстрировали, до какой жестокости может дойти обыкновенный человек, не отягощенный в результате воспитания ни совестью, ни моралью. То есть Сталин – это не показатель. Я вообще думаю, что если Сатана и в самом деле время от времени является в этот мир, то является он вовсе не как диктатор, которые все на одно лицо, а скорее как философ, незаметным влиянием своим порождающий неслыханные преступления, как писатель, нравственно эти преступления оправдывающий, как художник, эстетизирующий ненависть и насилие. Сатана, по-моему, мудр, а не нагл. Я, конечно, могу ошибаться, но даже в этом случае остаются непонятными все те странные действия, которые были предприняты, чтобы остановить его. Выглядели они по меньшей мере нелепо. В отдельные моменты мне даже казалось, что нелепость эта какая-то слишком уж нарочитая, что за ней определенно что-то стоит, что она призвана заслонить собой нечто более важное – ну не могут же взрослые люди не понимать, что так делать нельзя, – однако каждый раз я довольно быстро убеждался, что – могут, что это – именно нагромождение нелепостей, а не специально разработанный план и что роковое сочетание их, выглядящее как злой умысел, на самом деле является лишь продолжением того дурацкого фарса, в который уже давно превратилась вся наша жизнь.
Начать хотя бы с Полигона. Какой идиот решил организовать Полигон под самой Москвой, всего в полутора часах езды от Красной площади, – это отдельный вопрос, как раз здесь мне кое-что понятно, то есть мне понятно, что в данном случае соображения доступности возобладали над всеми остальными, даже над таким важным, как обязательная секретность. Мы ведь существовали не в безвоздушном пространстве – проект оплетало множество самых разнообразных интересов, главными, конечно, здесь были интересы органов госбезопасности, к тому же они имели определенные преимущества перед другими, потому что человек, которого мы все знали под именем Марк (настоящее его имя так и осталось мне неизвестным), первоначально обратился именно к ним, и, начав разработку первыми, они теперь имели ощутимую форму, сказывающуюся в большем знании, однако затем произошла утечка информации (или не утечка, а просто на должной высоте в работе против своих же оказалась военная разведка), прошли стремительные переговоры, в результате чего госбезопасности пришлось потесниться, а образовавшуюся нишу занял генерал Котрох со своими сотрудниками, и уже в самое последнее время сюда каким-то образом втиснулось собственно правительство, я имею в виду Президента и его команду, неясно, как они тут оказались, ходили слухи, что к Президенту обратился непосредственно Марк (вероятно, рассчитывая таким способом получить некоторую свободу маневра) – не знаю, нам, техническому персоналу, об этом не докладывали, – но факт остается фактом: каждый из этих кланов следил за двумя другими, подозревал – и не без оснований – в попытках незаметно его оттеснить, и в таких условиях, разумеется, не хотел выпускать проект из поля зрения, особенно самый слабый из них – президентский клан, который, как мне кажется, и настоял на Подмосковье. Центральная идея, конечно, была ясна: провести вочеловечивание под жестоким неослабным контролем и затем уже договариваться с тем, кто в результате этого процесса образовался. А не договорившись, без сожаления – уничтожить. Повторяю: все это было понятно и до некоторой степени объяснимо. Необъяснимо было другое. Почему за квадратом, в котором находился Полигон, не было налажено элементарное наблюдение со спутников и сигнал о появлении вертолетов без бортовых номеров не был сразу же передан в соответствующий центр, а сами вертолеты не были опрокинуты назад ракетами «земля – воздух», будто перья дикого лука торчавшими по периметру Полигона? Почему на Полигоне не оказалось аварийной электросети – аварийная сеть монтируется в подобных комплексах автоматически; тогда террористы, еще с воздуха расстрелявшие электростанцию, не смогли бы, как нож сквозь масло, пройти от рабочей диспетчерской до испытательного пятачка, подрывая по ходу дела казармы и заставы охраны? Почему заранее не предусмотрели такую простую вещь, как дублирование радиосвязи, и, когда рабочий стационар был также подорван, оказались фактически без контактов со своим руководством. Я знаю, что один из офицеров имел портативную рацию (которую, между прочим, пронес на Полигон нелегально) и сразу же в момент нападения пытался связаться хоть с кем-нибудь из соответствующей группы контроля, но пока он нашел укромное место (рация все-таки нелегальная), пока установил более-менее рабочую связь с дежурным, находившимся на приеме (мощности рации не хватало), пока, путаясь и десять раз повторяя сказанное из-за плохой слышимости, пытался объяснить, что именно у нас происходит (к тому же сам не слишком в этом разбираясь), время было уже упущено, «интервал ожидания», предназначенный именно для таких случаев, завершился, соответствующие команды были немедленно переданы в подразделения, и такие же вертолеты, но – обыкновенные, с обозначенными бортовыми номерами, – прыгнули в воздух и сходящимися армадами обрушились на Полигон.
Говорят, что зрелище было чрезвычайно эффектное: они выныривали из темноты, давали ракетный залп, сбрасывали длинные кассеты с напалмом и, не нарушая строя, уходили вверх, оставляя после себя слепящие огненные озера. Этакие стрекозы смерти, этакие железные всадники Апокалипсиса: сполохи, по информации МВД, наблюдались километров за сорок от Полигона, – пришлось оправдываться, говорить об аномальных явлениях, сам я всего этого, конечно, не видел, в тот момент я был парализован совсем другим зрелищем, и, однако, я до сих пор не понимаю, почему сравнительно небольшая группа террористов была направлена для решения этой серьезной задачи, я ничего не имею против этих людей, все они погибли ужасной мучительной смертью, я до некоторой степени им сочувствую, я не знаю ни кто они, ни какой из кланов организовал данную акцию (мне кажется, что установлено это уже никогда не будет), но я все-таки не понимаю, каким образом десяти-пятнадцати десантникам, пусть даже прошедшим специальную подготовку, но столкнувшимся ведь с не менее подготовленным и сильным противником, удалось наломать такое количество дров: тут и связь, и электростанция, и разбитые в крошево несколько взводов охраны, – ведь они практически достигли цели, собственно, не их вина, если они ее все-таки не достигли, и одной внезапностью такую удачу не объяснить, поневоле возникают мысли о заговоре, но я думаю, что искать виновных не стоит, заговора попросту не было, а было, вероятно, все то же нагромождение нелепостей – хаос, бессмыслица, – которые и привели к трагическому результату. Идиотизм стал нормой жизни, мы его уже не замечаем. И поэтому лишь удивляемся впоследствии: как так могло получиться? А – никак. Просто – идиотизм.
Между прочим, отсутствие разума очень хорошо ощущалось техническим персоналом. Это только кажется, что низовые исполнители ничего не понимают, поскольку они, так сказать, не охватывают замысел целиком, а на самом деле они понимают гораздо больше, чем принято думать. Не зная цели, они зато видят средства, которыми эта цель подготавливается. Возникает – ощущение. И такое ощущение, как правило, соответствует действительности. Так вот, с самого начала этого «запуска» у меня присутствовало ясное ощущение обреченности. Зародилось оно еще тогда, когда, прибыв на Полигон, мы вдруг с изумлением обнаружили, что приказ о расконсервации объекта не отдан, а если и отдан, то не доведен до непосредственных исполнителей – во всяком случае, местная группа о нем ничего не знала, и поэтому никакие коммуникации не были подключены. Само по себе это было не страшно: мы всем составом тотчас же врубились в работу, и нулевой подготовительный цикл был завершен лишь с трехчасовым опозданием, но, как можно догадаться, выполняя чужую работу, мы не занимались своей, а когда наконец занялись, то обнаружили, что в пиротехническом реквизите отсутствует целый контейнер с оснасткой для «черной магии». Это было уже серьезнее, без контейнера мы лишались примерно трети так называемого балагана, не говоря уже о том, что, по мнению изготовителя, контейнер был нам официально передан. Здесь попахивало скандалом, похищением, утечкой информации; в конце концов контейнер был найден, но это стоило нам еще трех часов, а к тому же сломалась машина, оборудованная для доставки контейнеров такого рода, ждать ее пришлось невероятное количество времени. Словно какой-то рок тяготел над Полигоном. Может быть, это и в самом деле был некий рок – во всяком случае, я не помню такого количества мелких неприятностей: прорвало водопроводную трубу в одном из коттеджей, замкнуло релейную цепь в системе оповещения, дважды ни с того ни с сего включалась сирена тревоги, и прикрытие в составе трех рот, матерясь, выскакивало, ища невидимого противника, было два самопроизвольных выстрела (один – даже с легким ранением), было несколько ушибов, падений и травм; в общем, к тому времени, когда нулевой и первичный циклы предварительной подготовки были закончены, то персонал, включая и местную довольно значительную команду, был настолько измотан, что, конечно, ни о какой качественной работе не могло быть и речи, все едва дышали, лучше всего, разумеется, было бы вообще отменить «запуск», но, естественно, где тот смельчак, который будет говорить об этом с начальством, тем более что начальство было тоже чрезвычайно раздражено – и накладками, и, наверное, всеми противоречиями ситуации, соваться к нему было просто-напросто небезопасно, правда, мое положение несколько отличалось от других: я как наблюдатель, владеющий некоторыми элементами предвидения, мог бы достаточно официально дать неблагоприятный прогноз, выдумав, например, дурной сон или сославшись на то, что у меня чешется левая пятка, но для этого надо было проявлять инициативу, а за четыре месяца работы на Полигоне я неоднократно видел, как люди, проявившие хоть какую-нибудь инициативу – пусть даже незначительную, пусть даже необходимую для общего дела, – через некоторое время после этого исчезали бесследно: может быть, это было связано с борьбой кланов, а может быть, с особой секретностью – как бы подразумевалось, что технический персонал не должен знать ни о чем, то есть я сильно сомневался насчет того, чтобы вмешиваться, а увидев Марка, появившегося на Центральном пульте в сопровождении телохранителей (которые, по-моему, не столько охраняли его, сколько надзирали за ним), окончательно понял, что я ни во что вмешиваться не буду, ну их к черту, пусть они сами обо всем позаботятся, в конце концов, кто они такие, чтобы им помогать, – благодетели? Спасители человечества? В душе-то я надеялся, что все обойдется, это был по меньшей мере четырнадцатый «запуск», техника таких «запусков» была давно отработана, исполнение операций доведено до автоматизма, ни в одном из предыдущих «запусков» не случалось ничего сверхъестественного, можно было и в этот раз надеяться на благоприятный исход, я к тому же вообще не очень верил во все эти каббалистические ухищрения, мне казалось, что они представляют собой очередную лапшу – просто способ создания себе новой кормушки, поэтому я махнул рукой на свои предчувствия и, как наблюдатель сидя в стеклянном фонаре, несколько выдвинутом из Центрального пульта для лучшего обзора, устало смотрел, как начинает гореть тусклая неоновая пентаграмма, ограничивающая собственно Полигон, как появляются из темноты и выламываются в заклинаниях жутковатые клоунские фигуры «балагана», как зажигаются вонючие костры из серы и птичьих перьев и как здоровенный, прямо-таки фантастический по своим размерам, угольно-черный котище (кажется, по имени Велизарий), безобразно откормленный и накачанный наркотиками, лениво выходит на середину испытательного пятачка и глаза его разгораются действительно сатанинским светом.
Интересно, что самого нападения я толком не видел. Честно говоря, после всей дневной суматохи, после переживаний, связанных с потерей контейнера, и после бестолковщины на Полигоне, которая вымотала всех нас, я позволил себе немного расслабиться. Кажется, я даже слегка задремал, хоть это и грозило мне крупными неприятностями. Во всяком случае, в дальнейшем, когда я был вынужден по памяти восстанавливать все подробности этой кошмарной ночи, то я с некоторым испугом обнаружил, что помню лишь начальные стадии каббалистического действа, то есть я помню, как вслед за Велизарием появился на пятачке нынешний испытуемый, одетый в балахон и мохнатую шапку с желтыми рожками, помню, как поставили чан на костер и как замахали вокруг него горящими метлами, помню всепроникающий запах серы и круговорот вороньих перьев, плывущих над пятачком, я даже помню визг внезапно пробудившегося кота – то ли доза на этот раз оказалась недостаточной, то ли ситуация уже тогда начала незаметно выходить из-под контроля, точно не знаю; к сожалению, дальше у меня какой-то провал в воспоминаниях, впрочем, ничего удивительного здесь нет, вряд ли следует обвинять меня в недостаточной внимательности, потому что для меня это была привычная, рутинная, уже порядком надоевшая, утомительная работа, выполнял я ее, по всей вероятности, в четырнадцатый раз, никаких неожиданностей сегодня не предвиделось, то есть особой вины я за собой не нахожу, жалко, конечно, что я пропустил фазу вочеловечивания, но я думаю, что она не была слишком эффектной, иначе бы я сразу же проснулся, а так я пробудился только тогда, когда она фактически уже завершилась, – от того, что раздался грохот и что-то посыпалось. Позже, когда мне пришлось секунда за секундой реконструировать события, я догадался, что это, вероятно, ударили по Центральному пульту из гранатомета (нападавшие расчищали себе коридор на входе), но непосредственно в то мгновение я, разумеется, ничего не понимал, тем более что электростанция уже была взорвана и освещение вырубилось, я лишь ошалело таращился в черноту у себя за спиной, где безумно чиркали спички и, как свечечки молящихся за упокой, колебались слабые бесцветные огоньки зажигалок; кто-то дико щелкал тумблерами на пульте управления, кто-то матерился сквозь зубы и, судя по звукам, вскрывал коробку распределительного щита; на мгновения я увидел лицо Марка, прильнувшего к иллюминатору, – резкое, словно вырезанное из камня, – больше я никогда Марка не видел, он, конечно, погиб вместе с остальными, но гримаса, которая вдруг от подбородка до лба перекосила его, поразила меня до глубины души, я стремительно обернулся: тихий, однако явно усиливающийся свет какого-то мертвенного ртутного оттенка разгорался на пятачке, там, бесспорно, что-то происходило, но что именно, мне разглядеть не удалось, потому что в эту секунду – и, вероятно, из того же гранатомета – ударили прямо по фонарю.
Правда, сейчас я уже совершенно не уверен, что стреляли именно по мне, скорее всего, не так, иначе бы я просто не остался в живых, но в то мгновение мне показалось, что снаряд (или там – граната) разорвался прямо у меня в животе – меня ослепила вспышка, каким-то бледным, чахоточным воспоминанием запечатлелся в сознании фонарь, отваливающийся от Центрального пульта, вероятно, взрывной волной меня выбросило наружу, позже выяснилось, что у меня сломаны два ребра и вдобавок – трещина в затылочной кости; впрочем, я считаю, что еще легко отделался, а когда я, оглушенный ударом о землю, видимо сильно контуженный, с разламывающейся звенящей головой приподнялся на локтях и, мало что понимая, повел вокруг себя безумным, истерическим взглядом, то под колоколом света, будто придавившим меня к испытательному пятачку, я сразу же увидел – Его.
Мне сейчас трудно объяснить, как я понял, что это именно Он, внешне он совершенно не отличался от человека, разве что был абсолютно голый и производил какое-то мерзкое впечатление, потому что кожа его блестела, словно он был перемазан влажной слюной, а под липкой невысыхающей пленкой ее, если присмотреться, заметны были неровные пятна – будто старая кожа с него сползала и проглядывала новая – розовой детской нежностью, – то есть он как бы еще и линял, волосы, дыбом стоящие на голове, по-моему, медленно шевелились, впрочем, я не могу поручиться за последнее, у меня не было времени, чтобы как следует разглядеть его, к тому же я просто физически не мог этого сделать, вероятно, сказывалась контузия: я воспринимал окружающее с некоторым опозданием, почему-то не испытывая ни страха, ни особого удивления, видимо, я был похож на слабоумного, который не только не убегает от пожара, а, напротив, с мальчишеским любопытством лезет прямо в огонь, как я теперь догадываюсь, именно это меня, наверное, и спасло, но даже будучи некоторое время как бы слабоумным, я тем не менее все равно ясно чувствовал, что передо мной – не человек, и поэтому даже не пытался окликнуть его, а лишь отрешенно смотрел, как он неторопливо (так, во всяком случае, мне показалось) поворачивается к выбегающим на него из темноты террористам.
Все это было видно чрезвычайно отчетливо, метрах в двухстах-трехстах от меня горела электростанция, желтые, какие-то студенистые языки огня терзали небо; мрак, скопившийся между ними и мной, казался от этого еще чернее, летели искры, шумели невидимые деревья, стрельба и крики перекатывались где-то далеко в стороне, здесь же почему-то царило относительное затишье, а посередине испытательного пятачка – дико, неправдоподобно, противопоставляя себя окружающей жуткой ночи, неподвижно стоял яркий, строго ограниченный колокол света – будто скрестились в данной точке наведенные прожектора, только, конечно, никаких прожекторов не было и в помине, был просто колокол света, и Он находился внутри него – блестя мокрой кожей, разведя руки, поднятые на уровень груди; террористы, до глаз обмотанные экипировкой ниндзя, точно зайцы, выпрыгивали к нему из темноты, застывая на мгновение в стандартно-угрожающих позах, у каждого из них высовывался из-за спины ствол пристегнутого автомата, но пока никто не стрелял, видимо, они намеревались взять его живым, и поэтому, наверное, некоторые ниндзя держали в руках свернутые, как лассо, белые шелковые веревки; дальше все происходило достаточно однообразно: он, как бы даже не торопясь (но тем не менее всегда успевая), поворачивался к очередному ниндзя, пристально смотрел на него, оценивал – пальцы на разведенных руках его рефлекторно подрагивали, одутловатые каплевидные подушечки немного пульсировали, набухая (странно, но я различал даже вспыхивавший на них папиллярный рисунок), – у ниндзя начинала стремительно пузыриться одежда по всему телу, они как будто вскипали изнутри, миг – и, разорвавшись, летели драные клочья, черный тряпичный мешок валился на землю.
Продолжалось это, по-видимому, секунды две или три, не больше, но за эти две-три секунды обстановка вокруг нас существенно изменилась: точно огненное цунами прокатилось по Полигону, вспыхнули дымные грибообразные взрывы, целое озеро лавы окружило низкие корпуса мастерских, корчились и мгновенно сгорали, как факелы, стонущие деревья, бешеный напор пламени срывал крыши с коттеджей, воздух, пропитанный светом, невыносимо блистал, мы словно попали внутрь атомной гекатомбы – это, видимо, ударили по Полигону подразделения «ликвидаторов»: потому что связи с Контрольной группой не было, «интервал ожидания» уже завершился, и теперь все, находящееся в секторе испытаний, подлежало уничтожению. Так что катаклизм образовался потрясающий. Правда, нас это как бы не касалось: мир горел, рушился, выворачивался наизнанку, а под колоколом, отлитым сиянием пустоты, было по-прежнему спокойно и тихо, огненная лава, вдруг изменив направление, стремительно обошла его, ни один выплеск пламени, ни одна искра не проникла внутрь, даже звуки, судя по ситуации, ревущие и лопающиеся снаружи, доносились сюда резко ослабленные, как сквозь толстое сплошное стекло, превращаясь в невнятные шорохи и потрескивания (я, например, слышал собственное дыхание, рвущееся из горла), и это противоестественное тупое спокойствие было ужаснее всего, словно мы находились вне времени и вне пространства, мне казалось, что сейчас, после ниндзя, он, конечно, примется за меня, я лежал сбоку от него, почти за спиной, но я чувствовал, что он знает о моем присутствии, однако он почему-то меня не тронул, не думаю, что забыл, скорее всего, ему просто не было до меня дела, как, например, человеку нет дела до муравья, панически бегущего по асфальту: человек может наступить на данного муравья, но специально он делать этого не будет, попросту не обратит на него внимания, – так же и Он не обратил на меня внимания, только мельком глянул, как бы отмечая, что я все-таки существую, а затем, точно собака, поведя носом по воздуху, легкой, беспечной походкой двинулся куда-то направо – я еще успел подумать: куда это он? – как вдруг колокол света погас, что-то треснуло, и меня чудовищно отшвырнуло в сторону…
Теперь о главном. В «Послании к Коринфянам» сказано: «Ибо… послал меня не крестить, а благовествовать». Это – обо мне. Я не знаю, сколько мне еще остается жить, наверное, недолго – свидетели, подобные мне, долго не живут, слишком многое я, к сожалению, знаю и слишком о многом, к сожалению, догадываюсь, чересчур большое количество людей хотело бы, чтобы я навсегда замолчал, такова ситуация, и поэтому я думаю, что меня просто не выпустят из больницы – подготовят, назначат соответствующее лекарство, – и однажды утром я не проснусь, выглядеть это будет вполне правдоподобно, потому что меня сильно покалечило на Полигоне, две или три сложные операции сохранили мне жизнь, но и сейчас она еле теплится, поддерживаемая капельницами и уколами, так что никто не удивится, если эта тонкая ниточка будет оборвана, удивляться скорее пришлось бы обратному, у меня практически нет шансов выжить, я полагаю, что меня убьют, как только выкачают из меня всю необходимую информацию, собственно для этого меня и вытаскивают из небытия, это очевидно; следователь, который каждый день приходит ко мне в палату, ведет со мной долгие и неторопливые беседы, раз за разом мне приходится рассказывать обо всем, что я помню: фиксируется каждая мелочь, сопоставляется и анализируется каждая интонация, но, видимо, скоро это все закончится, они убедятся, что я ничего от них не скрываю, и тогда будет принято окончательное решение – потому может показаться странным, что я не оттягиваю всячески этот неприятный для себя момент, выдавая, например, информацию очень малыми дозами (что, конечно, могло бы значительно продлить мне существование), а напротив – подробно и чрезвычайно охотно делюсь с ними всем, что знаю, однако именно следователь в минуту откровенности рассказал мне, что когда меня нашли – обгоревшего, с переломанными костями, то, несмотря на ужасную истерзанность, долго не могли успокоить – я бился как эпилептик и кричал: «Он – жив!.. Он – жив!..»; так вот, Он действительно жив, никакие официальные опровержения не убедят меня в обратном, я видел Его сам, своими глазами, и я помню Его взгляд, мельком брошенный на меня, одного этого взгляда было достаточно: даже сейчас, по прошествии трех недель, я не могу объяснить, что я увидел в нем, – вероятно, человеческий язык здесь бессилен, разумеется, в нем был – холод, и разумеется, в нем была – смерть, и разумеется, в нем было – всеобщее запустение, но это был не просто холод, а – Вселенский Холод, и это была не просто смерть, а – Мерзкая Смерть, и это было не просто запустение, а – Запустение Всего Сущего. Вот что я прочитал в его взгляде. И поэтому, выплескивая остаток своей жизни, в последние секунды перед темнотой я говорю вам: «Найдите Его, убейте Его, а если Его невозможно убить, то изгоните Его из нашего мира, иначе придут вечные – Холод, и Смерть, и Запустение…» – это моя предсмертная просьба, это мое «Послание к Коринфянам», и даже я, неверующий, молю всех богов, чтобы оно было услышано…
5. Деяния апостолов
С утра у него состоялась неприятная встреча с лидерами Патриотического фронта. Лидеров на этот раз было трое, и явились они, к счастью, не в ситцевых навыпуск косоворотках, которые Президент не переносил, считая одеждой лавочников, и не во френчах защитного цвета, каковыми они любили щеголять на митингах и собраниях, от френчей Президента тоже воротило, а в обычных темных костюмах при галстуках, достаточно дорогих и сидевших на их мужиковатых фигурах несколько топорно.
И то было хорошо.
Четвертым же на встрече почему-то присутствовал священник – в черной сутане и с довольно характерной, знакомой внешностью, вероятно тоже примелькавшейся на митингах и в аудиториях. Выражение лица у него было неприятно-отеческое. Словно он собирался проповедовать – снисходя до окружающих. Впрочем, данное впечатление сглаживали тяжелые мешки под глазами.
Этот-то еще тут зачем, удивился Президент. О священнике ему не докладывали. Однако первым он поздоровался именно с ним, подчеркнув тем самым свое уважение к исторической вере народа. Вслед за этим расселись, и тощенький идеолог, похожий на провинциального адвоката, в круглом, как у товарища Троцкого, революционном пенсне произнес небольшую речь, отражающую, так сказать, дух времени.
Если отбросить шелуху, то сводилась она к трем главным позициям.
Во-первых, поскольку патриотическое движение за последние месяцы приобрело поистине всенародный характер, и в связи с тем, что до следующих выборов остается еще два с половиной года, лидеры фронта просили ввести их представителя в нынешнее правительство, в частности, они хотели бы получить Министерство внутренних дел. Во-вторых, выражая серьезную озабоченность нравственным здоровьем народа, непрерывно растлеваемого прессой и телевидением, оглушаемого сатанинской рок-музыкой и дезориентируемого призывами безответственных политиков, лидеры Патриотического фронта считали необходимым незамедлительно снизить, как они выразились, негативный потенциал, для чего – ввести моральную цензуру, которая, по их мнению, будет с одобрением воспринята передовой частью общества. Что такое моральная цензура, они не объяснили, но и так было понятно, что речь прежде всего идет об ограничениях на телевидении и в изданиях газет демократической направленности. И в-третьих, как можно было догадаться по некоторым намекам, если не будут выполнены первые два требования, то Патриотический фронт начнет интенсивную кампанию противодействия – за отставку правительства и досрочные парламентские выборы.
Собственно, предъявлялся ультиматум, все присутствующие это прекрасно понимали, и хамоватая, со злорадными интонациями речь идеолога лишь подчеркивала данное обстоятельство. Президент еле сдерживался, чтобы не хватить кулаком по столу. Ранее «патриоты» не позволяли себе разговаривать подобным образом. Однако за последние месяцы их позиции действительно укрепились, согласно опросам, все большее количество избирателей предпочитало лозунги национализма, и не считаться с этим прискорбным фактом было нельзя. Тем не менее все равно – противно. Особенно его раздражала демагогия, которой была оснащена речь идеолога. Демагогия – это сильнейшее оружие, Президент и сам пользовался ею в определенных дозах, но нельзя же строить на демагогии всю программу, надо же что-то конкретное, что можно пощупать, вообще – при чем здесь нравственное здоровье народа?
Он чуть было так и не брякнул, что, мол, хватит словоблудия, переходите к делу, но все-таки пересилил себя и отвечал хоть и резковато, но сдержанно – в том духе, что да, конечно, эти вопросы давно назрели, он и сам думает, что в правительстве должны быть представлены патриотические силы общества, не его вина, что эти силы получили на последних выборах мизерное количество голосов, однако ситуация действительно меняется, народ тоже требует перемен, и в этих условиях он согласен на соответствующую реорганизацию власти. Про себя Президент решил, что – ладно, одно место он им, так уж и быть, отдаст, но не МВД, разумеется, это жирно будет, а вот, к примеру, Министерство здравоохранения, на здравоохранении они свою популярность потеряют в два счета, и не подкопаешься – заботьтесь о здоровье народа. Второй пункт речи, насчет цензуры, он вообще пропустил, как будто его и не было, а по поводу намеков на внеочередные выборы сказал им просто и ясно: хотите попробовать – пробуйте. Но учтите, что за последний год народ уже три раза ходил к избирательным урнам, и пойдет ли в четвертый раз – никому не известно. Скорее всего – не пойдет…
Свою ответную речь Президент, как ему и рекомендовали, произнес, обращаясь не ко всем трем лидерам сразу, а как бы лишь – к одному, простоватому на вид, по слухам, основателю движения, и, конечно, отметил неприязненные взгляды, которыми царапали основателя его соратники. Видимо, разногласия в руководстве движения достигли апогея. Это было хорошо. Президент даже немного повеселел и в конце своей речи жестковато добавил, что поддержка на митингах, когда толпа скандирует лозунги, – это одно, а поддержка при голосовании – совсем другое. При голосовании избиратели начинают думать. Пусть со скрипом, но все-таки начинают. Опыт прошедших выборов это доказывает.
Ссылка на последние выборы, как и в прошлый раз, была встречена каменным выражением лиц, а когда Президент положил ногу на ногу и уселся свободнее, давая понять, что вопрос исчерпан, то, к его удивлению, заговорил не основатель движения, который сегодня вообще непоколебимо молчал, и не секретарь фронта, позволявший себе иногда отдельные реплики, – заговорил почему-то священник, и голос его, будто медленное сверло, вошел в мозг:
– Какие будут приняты меры, чтобы предотвратить поджоги церквей?
Здесь они его зацепили. Президент даже чуть-чуть поежился. Впрочем, как он надеялся, незаметно. Поджоги действительно были самым уязвимым местом. Церкви пылали по всему Северу, сгорело уже штук двадцать или несколько больше, а согласно вчерашнему сообщению, которое он уже просмотрел, сразу четыре пожара было зарегистрировано в центральных областях России. Значит, район аномалии постепенно расширяется. Интересно все-таки, что это такое? Это ведь, наверное, не сумасшедший, преследующий свою – непонятную – цель. Сумасшедший просто не сумел бы охватить такие громадные территории. Разве что массовое безумие? Тоже – маловероятно. Здесь, скорее всего, действует какая-то особая группа. Классные специалисты. Знатоки своего дела. Ведь ни одной улики! Церкви горят, как свечи, а улик – никаких. Кажется, нет даже ни одного подозреваемого. Пусть – случайного, задержанного на пустяках. Или здесь все-таки работает госбезопасность? В этом случае понятно, почему нет подозреваемых. Но зачем госбезопасности это нужно? Имитация жидомасонского заговора? Чушь. Дестабилизация обстановки? Есть более простые средства. В общем – непонятно, пугает, будоражит умы. Или может быть, это действительно как-то связано с Полигоном? Президент вспомнил письмо, которое он получил вчера. Собственно, он про него и не забывал. Это письмо, как заноза, сидело у него в сознании. Никакие «патриоты» были не в состоянии заслонить его. Потому что письмо это означало немедленную катастрофу. Гибель России, а быть может, и всего человечества. Жаль, что нельзя сейчас сказать им об этом. Интересно было бы посмотреть на их лица. Но – нельзя. Не время. Срок еще не пришел. А жаль.
Вслух он скрипуче произнес:
– Предпринимаются все… необходимые… действия… – а поскольку священник молчал, подавшись вперед и буквально пылая жуткими яростными глазами, то немного коряво объяснил ему, что образована особая следственная группа при Прокуратуре России, туда вошли лучшие кадры работников, объективность и профессионализм их не вызывают сомнений, генеральный прокурор России взял дело под свой контроль, уже имеются определенные вещественные результаты, однако он, к сожалению, не может говорить о них, поскольку это противоречит интересам следствия…
– Известно ли уже, кто виновен в поджогах? – каким-то перехваченным голосом спросил священник.
После некоторых колебаний Президент признался, что – нет. Но – имейте в виду – это не для печати. И тогда священник тем же перехваченным голосом заявил, что может назвать его сам. Дескать, здесь не нужна особая следственная группа. Президент хотел сказать, что не надо, что ему уже все уши прожужжали насчет заговора сионистов, что все это – чушь собачья, что у него больше нет времени, но не успел произнести даже первую фразу, потому что священник, не слушая его, вскочил и – неумолимый, клокочущий – выкрикнул только одно короткое слово:
– Дьявол!..
После чего, будто полностью обессилев, повалился обратно в кресло, и костлявые желтые руки его свесились почти до паркета.
А один из ногтей – даже слегка царапнул.
Трое патриотических лидеров тут же уставились на Президента.
И тогда он вспомнил, почему лицо священника показалось ему знакомым. Это был довольно известный отец Исидор, «неистовый Исидор», как его окрестила пресса, один из деятелей так называемой Активной церкви, проще говоря, раскольник, втайне осуждаемый Патриархом. Президент испытал даже мгновенное облегчение: это все-таки не официальный представитель церковных кругов, «активники» могут кричать сколько угодно, но авторитетом они не пользуются. На них можно просто не обращать внимания.
Он так и сделал – слегка приподнявшись, отрывисто кивнув головой и пробормотав что-то насчет дипломатического приема. Лидеры намек поняли и после ритуального пожимания рук, после сладких улыбок и заверений в готовности сотрудничать направились к выходу, а священник (единственный не попрощавшийся), точно духовный пастырь, шествовал впереди. И как только двери за ним закрылись, Президент всем корпусом повернулся к своему секретарю, совершенно неслышно присутствовавшему за спиной в течение разговора:
– Почему этот, – кивок в сторону двери, – не был указан в списке?.. Сколько говорить?.. Я требую, чтобы меня заранее предупреждали!..
Голос его хрипел от негодования.
Однако смутить секретаря было непросто, цепкая жилистая рука его вознеслась над столом, на секунду замерла, будто что-то разглядывая, и вдруг безошибочно выдернула нужную бумагу из пачки документов.
– Вот, пожалуйста, еще вчера внесли изменения, вы – расписались…
Президент ужасно побагровел:
– Ладно. Иди!
И секретарь, очень быстро положив перед ним плоский бумажный сверточек, перетянутый крест-накрест суровой ниткой, и прошелестев на прощанье что-то извиняющееся, выскользнул из кабинета.
Тогда Президент дал волю ярости.
Сначала он разодрал на клочки злополучный список, где на полях действительно красовалась его небрежная закорючка, и следовательно, он был с этим списком ознакомлен, затем ударом ладони сшиб на пол пачку документов, из которых данный список был секретарем извлечен, и наконец так саданул кулаком по не вовремя зазвонившему телефону, что клееная трубка треснула и пластмассовые половинки ее разошлись. Телефон, правда, продолжал звонить, и тогда Президент дернул за шнур, выдрав его из вилки, по-видимому намертво заклинившейся в штепселе на стене. В эти минуты он почти не владел собой. Мало того что ему подсунули какого-то церковного диссидента, жаждущего, наверное, светской власти, и теперь придется объясняться с Патриархом, который очень болезненно относится к своим прерогативам, но по существу они ведь еще и правы. Вот что раздражает больше всего. То, что эти демагоги, сами не верящие тому, что твердят, эта серость, почувствовавшая, что пахнет вселенским разбоем, эта едкая пена, вынесенная наверх волной народного недовольства, – что они, к сожалению, правы. Самому себе можно признаться. Они же – правы. Точно проклятие лежит на этой стране. Не удается ничего из задуманного, тщательно проработанные планы повисают в воздухе, бешеная энергия рассеивается, не приводя ни к каким результатам, самые благие намерения остаются пустой болтовней, все тонет в словах, которым уже никто не верит, победа оборачивается поражением, сила – бессилием, уникальное везение – провалом, из которого потом не знаешь, как выбраться не замаравшись; точно кисель, расползается все, к чему ни притронешься, живешь будто среди колышущегося студня, ну – что, что еще можно сделать? Мы, наверное, действительно прокляты – прокляты и обречены, никому не избежать предначертанной участи.
Черт его знает, так – фаталистом станешь.
Взгляд Президента упал на сверточек, положенный аккуратным секретарем, и, еще не остыв от ярости, он содрал с него плотную бумажную обертку, и когда разорвал желтый полиэтилен, точно так же, как и бумага, тщательно перевязанный крест-накрест, то на ладонь ему выпала увесистая черная обойма для пистолета – совершенно обычная, только головка верхней пули поблескивала в ней светлым металлом.
Потому что она была серебряная.
Вот так, подумал Президент. Теперь я готов. Дьявол не Дьявол – посмотрим.
Он открыл личный сейф, замаскированный под полку с книгами, и, достав оттуда новенький, блеснувший гладкими щечками, длинный двенадцатизарядный пистолет, заправил в него обойму, которая легко вошла, а сам пистолет сунул в кожаный, специально пришитый изнутри карман пиджака. Вот так, еще раз подумал он. Значит. Посмотрим. Он ни на секунду не забывал о письме и поэтому, закончив с пистолетом, достал из того же сейфа сложенный вчетверо, серый, довольно мятый листок, на котором, по-видимому красной тушью, было толсто и неровно начертаны всего два слова: «Я иду». Это было уже третье письмо, полученное им на этой неделе; как и первые два, оно оказалось в его личной почте, которую секретарь не имел права распечатывать, – в обыкновенном конверте, с разборчиво надписанным обратным адресом, правда, адрес этот был заведомо фальшивым: во всех трех случаях указывался старый дом, абсолютно пустой, находящийся на капитальном ремонте, впрочем, при чем тут адрес, если даже не удалось установить, как это письмо попало в его личную почту, откуда, например, отправитель знает его персональный индекс, почему на конверте нет ничьих отпечатков пальцев – хотя какие там пальцы, там, наверное, не пальцы, а – лапа…
Президент, вероятно, слишком долго и пристально смотрел на письмо, потому что ему вдруг показалось, что буквы, коряво выведенные красными чернилами, немного дрожат – как бы набухая и поблескивая чем-то влажным. Из любопытства он тронул их кончиком мизинца, и на мизинце осталась крохотная красная капелька. А другая капля, заметно крупнее, скатилась вниз по листу, словно прикосновением своим он прорвал некую поверхностную пленку, удерживающую кровь. Да, это было – так. Буквы набухали кровью. Несколько секунд Президент ошеломленно взирал на нее, а потом руки его дико запрыгали – согнулся один палец, за ним – другой. Но Президент не зря славился своей выдержкой – он лишь немного приподнял светлую бровь, неторопливо, даже как будто сонно повернулся к никелированной портативной печке для сжигания документов, сгибом судорожного пальца ткнул в кнопку включения и, открыв щелкнувшую запором дверцу, бросил письмо на краснеющую электрическим жаром, толстую, начинающую мелко дрожать решетку. Дверцу он закрывать не стал и поэтому видел, как мгновенно потемнела бумага, как, точно из расплавленного металла, заблистали на ней жидкие неровные буквы, и как далее пепел, пережеванный зубцами решетки, ссыпался в темный поддон. Только после этого он прикрыл печку. Но он все еще чувствовал некоторый озноб и потому, достав из стола коробку с коричневыми кубинскими сигаретами, прикурил одну из них – вдохнув пахучий, обжигающий легкие, резкий ароматический дым. Курил он чрезвычайно редко и только в полном одиночестве. А затем, докурив, опять же из сейфа, но уже из нижнего, особого его отделения, вытащил три пухлых папки с материалами по «Воплощению».
Кроме папок был еще видеофильм, снятый с трех разных точек Полигона и смонтированный из той пленки, которая уцелела после катастрофы, однако даже многократное ее восстановление не дало существенных результатов, разобрать там что-либо внятное было практически невозможно, к тому же у него не было уверенности, что после восстановления ему выдали именно всю пленку (может быть, и не всю), поэтому видеофильм он доставать не стал, зато жестко и въедливо, как всегда, когда требовалось за короткое время усвоить большой массив информации, просмотрел материалы всех трех папок – вместе с графиками, приложениями и неудобочитаемыми заключениями экспертов. Разумеется, здесь также не было уверенности, что материалы присутствуют в полном объеме (часть наиболее интересных данных могли утаить как военные, так и госбезопасность), однако письменным сообщениям он почему-то верил больше, чем видеозаписи, это было чисто интуитивно, по-видимому возрастная особенность, – в общем, почти два с половиной часа он разглядывал фотографии, изображающие либо пламя, либо выгоревшие до неузнаваемости, обглоданные руины, вгрызался в показания немногочисленных очевидцев, находившихся в основном на периферии Полигона и поэтому ничего толком не видевших, пытался извлечь хоть какую-нибудь крупицу смысла из противоречащих друг другу, путаных мнений специалистов (создавалось впечатление, что специалисты врут, как сговорившись), он очень жалел, что в «Воплощении» погиб именно Марк, потому что Марк во всем этом до некоторой степени разбирался, и к тому же Марку, наверное, можно было верить – не то что всем этим экспертам, каждый из которых уже, по-видимому, дважды куплен военными или госбезопасностью, а если не куплен, так запуган до мозга костей, а если не запуган, то до такой степени заморочен своими собственными представлениями о мире, что просто не способен объективно разобраться в каком-либо вопросе; да, чрезвычайно жаль, что нет Марка…
Президент связал тесемками на папках и забросил материалы обратно в сейф, после чего опять достал сигарету и пустил вверх струю синеватого дыма. Так что же мы, собственно, имеем? Собственно, мы имеем то же самое, что и раньше: в таком катаклизме, при такой чудовищной катастрофе, когда оплавилась даже сама земля, а от лабораторий остались бетонные прожаренные скелеты, вряд ли могло уцелеть какое-нибудь живое существо, безразлично – человек или нечто иное, не говоря уже о том, что не имеется никаких более-менее веских доказательств реального «вочеловечивания» – так называемое Евангелие от Иоанна (впрочем, как и так называемое Евангелие от Луки) представляет собой, скорее всего, плод больного воображения. Кто такой Иоанн (в миру – Иван Болдырев, физико-химик)? Жутко обгоревший, ослепший, еле дышащий человек, с очевидными психическими аномалиями, короче говоря – сумасшедший, проживший после катастрофы всего две недели и – в минуты просветления – успевший наговорить несколько диктофонных пленок. Насколько ему можно верить? Насколько вообще можно верить тому, что сейчас происходит? Не на Полигоне, конечно, вокруг которого, ясное дело, концентрируется громадное количество вранья, а вообще – в стране и даже, наверное, в целом мире? Опыт показывает, что ничему верить нельзя. Ни одному сообщению, сколь бы достоверным оно ни выглядело, ни одному человеку, как бы дружески близок он к тебе ни был. Нельзя верить никому и ничему. Однако тот же опыт показывает, что, с другой стороны, надо быть ко всему готовым. Потому что сбывается, как правило, самое худшее. Именно так: ничему не верить, но быть ко всему готовым. Именно так и – никак иначе!
Решение было принято.
Президент энергично кивнул самому себе, как бы подчеркивая таким образом его необратимость, – чтобы расслабиться после рабочего дня, встряхнул кисти рук, глубоко вздохнул – три раза, как рекомендовали врачи, и, нажав клавишу селектора, сказал томящемуся в приемной секретарю:
– Машину!..
Сегодня он поехал не на «семейную» дачу, где по случаю субботы находились его жена и дочь со своим очередным мужем, а на так называемую рабочую (или «дальнюю»), оборудованную специально для того, чтобы можно было подумать в спокойной обстановке. Президент не любил эту дачу, однако для нынешних его целей она подходила лучше всего – в уединенном месте, окруженная озерами и заповедным лесом, можно было, не вызывая подозрений, тайно прикрыть ее дополнительными частями охраны, наверное одного батальона хватит, наверное, хватит, в конце концов глупо: не вызывать же для этих целей дивизию ВДВ, да дивизия и не поможет, здесь, скорее всего, потребуется не число, а умение, так что батальона спецвыучки будет вполне достаточно, надо только предупредить их, чтобы не поднимали стрельбу раньше времени, интересно все-таки было бы поговорить – побеседовать, открываются разные варианты, ведь сама идея была чрезвычайно перспективная: не ждать, пока Сатана вочеловечится неизвестно где, а подготовить для него соответствующую оболочку, так сказать, пригласить, провести операцию под жестким контролем, может быть, в дальнейшем – договориться о некотором сотрудничестве, в общем, побеседовать было бы очень интересно…
Президент смотрел из окна машины на старые, покрытые копотью здания неопределенного цвета, на весеннее рыхлое небо, грозящее дождями из проползающих туч, на раскисшие глинистой землей боковые переулки и улицы, где стояла в канавах темная оттаявшая вода, – кажется, уже вся Москва была зверски перекопана, называлось это реконструкцией городского центра, трубы, доски и проволока, брошенные ремонтниками, наводили тоску, по обочинам луж бродили встопорщенные от грязи голуби. Президент подумал, что не надо никакого Сатаны: все и так погибнет года через полтора – через два, само собой оползет, треснет и развалится на трухлявую арматуру, видимо, сделать ничего не удастся, эта страна действительно проклята, проклята ее столица, проклят ее ленивый, никчемный народ, проклят он сам – засосанный липкой трясиной власти; между прочим, и этот приход Сатаны, скорее всего, провокация – хотят его скомпрометировать, поставить в глупое положение.
Данная мысль показалась ему вполне убедительной, и поэтому на дачу он прибыл заранее недовольный, в плохом настроении, тем более что по пути от главного шоссе непосредственно к даче, когда машина свернула на асфальтированный проселок, закрытый для обычного транспорта, и распахнулись вдруг холодные сырые поля, чуть подсохшие, с темнеющим лесом на горизонте, он, как ни вертел головой, не заметил никаких особенных приготовлений к встрече: то ли они были тщательно замаскированы, то ли попросту еще не начались, потому что приказ провести их в силу обычного бардака застрял где-нибудь на середине дистанции. Президент склонялся к тому, что второе более вероятно, и с некоторым удовольствием думал, что он все-таки кое-кому открутит голову – лучше всего кому-нибудь из ближайшего окружения, что-то разболтались они в последнее время, что-то стали совершать подозрительные телодвижения; окружение вообще надо иногда менять: и народу нравится, когда падает «генерал», и у молодых появляются шансы на продвижение, отчего служат они более рьяно, и, кроме того, – профилактика, вывод возможной вражеской агентуры; так или иначе, но голову кое-кому открутить придется, хорошо бы, конечно, сделать это прямо сейчас, но сейчас не удастся – они будто нюхом чуют: ни к чему придраться нельзя.
Ему нужна была определенная разрядка: накричать на кого-нибудь, выплеснуть скопившийся гнев, но на даче уже действительно почувствовали его настроение, потому что дежурный офицер на заставе как-то особенно четко вздернул шлагбаум, пропуская их, а наружная охрана из пяти человек как-то особенно четко откозыряла, когда он проходил мимо, и даже горничная, встретившая его в прихожей, будто не замечая грозных бровей, улыбалась ему особенно мило и ласково, то есть громыхнуть молнией не удалось, однако в течение обеда, длившегося вместе с коньяком и вечерним просмотром газет почти полтора часа и закончившегося уже в мартовских синих сумерках, гнев и раздражение его постепенно рассосались и сменились равнодушием к тому, что может случиться: в конце концов, не все ли равно?
Президент знал, что равнодушие его в итоге пройдет, надо только переломить себя, взяться за работу, тогда апатия прорастет вдруг привычной энергией и оживлением, но почему-то сегодня никак не мог ни на что решиться: все сидел и сидел, потягивая теплый коньяк, ощущая, как безудержно надвигается полночь, как снаружи приникает к оконным стеклам непроницаемая темнота и как начинает гудеть в деревьях страшный, пронизывающий леса, ошалелый ветер: «У-у-у!.. У-у-у!..» – ветки дуба, растущего неподалеку от дома, царапают шифер. И вот тогда, сидя среди загородной тишины, глядя в сад, где, облитые жидкой лунностью, мотались, как будто водоросли, кроны деревьев, слушая царапанье сучьев по шиферу и скрипенье чего-то – непонятно чего, словно перетиралась какая-то половица, – он вдруг с ужасающей ясностью понял, что обречен, ему не поможет ни охрана, ни батальон спецслужбы, ни особая группа, расположившаяся сейчас в хозяйственных помещениях, не поможет и пистолет, заряженный серебряными пулями, потому что и охрана, и пистолет – это все против человека, а то, что явится сюда сегодня, вовсе не человек – вселенская тьма, черная душа мира; глупо было бы стрелять в эту тьму серебряными пулями: пули пройдут насквозь, не причинив ей вреда, это судьба, и не надо дергаться перед ней, не надо суетиться, и не надо ее ни о чем просить, а надо просто встать и встретить ее лицом к лицу – какой бы она ни оказалась…
И еще он вдруг понял, что идея, конечно, перспективная, но она имеет один существенный недостаток: нельзя заигрывать с Сатаной. Сатану можно изгнать из этого мира, ему можно продать свою бессмертную душу, но заигрывать с ним нельзя, потому что тогда невольно становишься его апостолом и деяниями своими способствуешь воцарению Ночи. И в итоге действительно остается лишь – встать перед судьбой.
Президент в самом деле встал и, протянув руку, включил свет, чтобы разогнать ужасные душные сумерки, – вернее, попытался его включить, потому что люстра после щелчка выключателя не зажглась, что сразу же его отрезвило, и он мгновенно отпрянул к двери – собранный, напряженный, готовый к бою, уже сжимающий в правой руке вытащенный из кармана пистолет, – осторожно спустил предохранитель и толкнул ногой приотворенную дверную створку.
– Эй! Кто-нибудь!.. – хрипло сказал он.
Никто не отозвался.
Тогда Президент с неожиданным для своего грузного тела проворством перепрыгнул в соседнюю комнату, предназначавшуюся для охраны, и так же прижался сбоку от косяка дверей, очень быстро и нервно поводя дулом пистолета из стороны в сторону. В сумраке, пробиваемом все-таки слабым лунным сиянием, он увидел знакомую ему обстановку: два дивана, буфет, стеклянный экран телевизора. А за круглым столом, обрисованным мерцанием полировки, чернели мешковатые, какие-то осевшие фигуры его телохранителей.
Их опущенных лиц видно не было.
– Эй!.. – снова сказал Президент.
Ни одна из сидящих фигур не пошевелилась, а когда он, вытянув свободную руку и уже сам пугаясь молчания и темноты, тронул ближайшую из них за плечо, то она вдруг, как потерявший равновесие мешок с картошкой, очень мягко и очень безжизненно повалилась на пол, и, ударившись, словно бы – разъединилась на части.
Президент отшатнулся.
Он уже чувствовал сквозняк холодного зимнего воздуха, тянущийся по ногам, и, пройдя через комнату, выглянув затем в коридор, обнаружил, что двери, ведущие в сад, распахнуты настежь: в черно-белом контрастном проеме их виднелась дорожка, усыпанная гравием, и какие-то суставчатые голые прутики, точно живые дергающиеся от резкого ветра.
Что-то японское было в этой картине: гравий и прутики.
– Так-так-так, – негромко сказал Президент.
Смутить его было нелегко, однако он понимал, что внешняя охрана, скорее всего, тоже вырублена, об этом свидетельствовало отсутствие света в саду и прожекторов, обычно вспыхивающих время от времени за оградой дачи. И правительственная связь, по-видимому, также не работала. То есть он остался один. Хорошо еще, что луна светила. Ему было очень не по себе. Тем не менее он заставил себя перебежать на цыпочках по коридору и закрыть наружную дверь. Автоматический замок в ее толще тихонько щелкнул. Надо было немедленно уходить отсюда, только, разумеется, не через дверь, которая уже была кем-то подготовлена, а через окно – туда, где лес подступал вплотную к ограде. Самое трудное – выбраться на шоссе, а там уж он поймает какую-нибудь машину.
Президент перевел дыхание и уже хотел – так же, на цыпочках – осторожно отойти от двери, когда из сада вдруг донеслись отчетливые приближающиеся шаги. Это были именно шаги: характерное, однообразное поскрипывание гравия. И сразу же стало ясно, что бежать никуда не надо, все решится здесь, сейчас, строго между ними обоими. Впрочем, Президент и не мог бежать – в теле его была какая-то звенящая пустота, он был даже не в состоянии набросить на дверь металлическую цепочку, лишь стоял и слушал, как скрип гравия сменяется скрипом половиц на крыльце, как вдруг раздается откуда-то протяжное кошачье мяуканье и как затем спокойный и странно-веселый голос с уверенностью произносит:
– Я пришел!..
Он не мог пошевелиться, но все же каким-то чудом поднял затекшую руку с пистолетом и, нажав на курок, с удивлением увидел рваную страшную дыру, мгновенно появившуюся в обивке. Самого выстрела он почему-то не слышал, но, ничуть не раздумывая, нажал на курок снова – и стрелял, и стрелял до тех пор, пока не кончилась вся обойма…
6. Бегство в Египет
Советник был молод, сухощав и чрезвычайно сдержан. Ни слова не говоря, он пожал руки обоим мужчинам, с волнением встречавшим его, и, даже не обернувшись на вертолет, лопасти которого снова начали набирать ускорение, зашагал через луг к машинам, вразнобой поставленным на шоссе: начальник городской милиции взял под козырек еще издали. А когда Советник приблизился к дороге и, легко перепрыгнув через канаву, выбрался на обочину, прибитую недавним дождем, то начальник милиции, искажая лицо непривычной для себя улыбкой, с деревянным подобострастием произнес:
– Погода-то какая… Говорю, с погодой вам повезло, товарищ генерал!..
Он, по-видимому, рассчитывал, что Советник пожмет ему руку, так же как и всем остальным, и даже начал поднимать ладонь с короткими, сильными пальцами, однако Советник, лишь на секунду задержав на нем взгляд внимательных глаз, холодно и равнодушно ответил:
– Я не генерал, – после чего согнулся и сел на заднее сиденье машины, положив на колени дипломат и спокойно, без всяких эмоций глядя перед собой. Больше он ничего не добавил, а на вопрос мэра: «Все в порядке? Поехали?» – просто кивнул, даже не повернувшись и, хотя бы из вежливости, не посмотрев на говорящего.
Такое начало обескураживало, и начальник милиции, растерянно потоптавшись на месте, как-то очень по-детски развел руками, а потом обиженно затрусил к канареечно-желтой патрульной машине, стоящей несколько поодаль и исполняющей, видимо, функции сопровождения.
– Зря вы так, – вдруг огорченно сказал мэр.
– Что зря? – после паузы переспросил Советник.
– Вообще – зря, Петр Николаевич…
Тогда Советник все-таки повернулся и посмотрел на мэра. Скучное начальственное лицо ничего не выражало, не дрогнула на нем ни одна жилка, но мэр тут же сник и заторопил окаменевшего водителя: «Трогай!.. Трогай!..» – а когда машина набрала ход и помчалась меж ярких летних лугов, обрызганных желтыми одуванчиками, то, собравшись с силами, добавил – уже другим, официальным тоном:
– Мы подготовили вам гостиницу, разумеется – люкс, гостевую квартиру в здании горисполкома, квартиру в обычном доме: две комнаты, центр города, и небольшую дачу в пригородной зоне. Извините, но из телеграммы не было ясно, что именно вам потребуется…
– Мне потребуется квартира в обычном доме, – объяснил Советник.
– Квартира в вашем распоряжении…
Более ничего сказано не было; минут через пятнадцать машина подъехала к зданию горисполкома, они поднялись на второй этаж, и только там, в кабинете мэра, когда был подан чай с бутербродами и конфеты в роскошной коробке, когда были наглухо закрыты все двери, а секретарша предупреждена, что пускать никого не следует, Советник взялся за спинку стула, стоящего перед ним, и, отвергая радушную, приглашающую сесть жестикуляцию мэра, произнес казенным, скрипучим и неприятным голосом:
– Господа, я привез вам совершенно секретное правительственное распоряжение.
После этих слов мэр перестал улыбаться и немного ссутулился, будто на плечи его лег невидимый груз, а начальник милиции, наоборот, распрямился и, как ванька, завертел головой. Сельское простое лицо его вдруг налилось кровью. Только лейтенант ГБ никак не отреагировал: молча сидел и ждал, что последует дальше.
Дальше последовало вот что: Советник изложил директивы – пункт за пунктом, достаточно монотонно, но чем дольше он говорил, тем большее напряжение ощущалось в кабинете. Словно становилось нечем дышать. А когда он закончил, то мэр даже развел руками от возмущения:
– Ну это уж слишком… Сумасшествие какое-то… Вы уверены, господин Павлинов, что эта болезнь так опасна?..
И начальник милиции добавил – вдруг тоненьким бабьим голосом:
– Народ нас не поймет.
Затем произошла некоторая дискуссия. Мэр придерживался той позиции, что означенные меры очень жестоки, бесчеловечны и отдают временами тоталитаризма, которые, слава богу, уже позади, а начальник милиции, напротив, считал, что данное мероприятие осуществить можно, только объяснять его надо как-то иначе, а то, что болезнь, – подумаешь, болезнь, чем мы только за последнее время не болели… Они даже поспорили, мягко препираясь друг с другом. Все это было пустое. Советник и не думал в чем-либо убеждать. Он просто дождался, пока они выскажутся и замолчат, а тогда, нагнувшись, спросил с равнодушной угрозой:
– Вы намерены выполнять распоряжения правительства?
И нисколько не удивился, услышав ответное «да». Ничего другого он и не ожидал.
Далее они обсудили план ближайших действий. Причем здесь Советник старался не вмешиваться: все необходимые директивы он уже изложил, а привязка к местным условиям – это не его забота, он лишь высказал два-три мелких пожелания, могущих, по его мнению, облегчить задачу, а почувствовав, что теперь обойдутся и без него, сказал, что на сегодня, пожалуй, достаточно. И, отклонив предложение поужинать вместе, попросил отвезти его на квартиру.
– Завтра мне потребуется свободный день, – предупредил он.
Его заверили, что беспокоить не будут.
– Отлично, – сказал Советник…
На квартиру его отвез лейтенант ГБ, который сам сел за руль и всю дорогу молчал. Лишь остановив машину перед невзрачным четырехэтажным зданием из пыльного кирпича, он, не поворачивая головы, очень сдержанно сказал:
– Разрешите обратиться?
– Да? – мгновенно насторожившись, сказал Советник.
– Насколько я понимаю, все участники этой… акции… будут впоследствии ликвидированы… как свидетели… чтобы избежать последствий… это естественно… – Здесь лейтенант сделал явную паузу, однако Советник не возразил ему. – Так вот, я бы попросил вас взять меня с собой: я умею работать, я вам еще пригожусь.
Несколько мгновений в машине стояла тишина, а затем Советник причмокнул и кивнул в спину так и не обернувшегося лейтенанта.
– Гут, – сказал он. – Я подумаю.
В квартире Советник довольно-таки небрежно осмотрел обе комнаты, уставленные импортными гарнитурами, кухню, где сопел холодильник, забитый продуктами и питьем, зажег свет в ванной и в туалете, после чего повалился в кресло у столика с телефоном и, набрав какой-то необычайно длинный номер, состоящий, наверное, не менее чем из двадцати цифр, напряженно сказал:
– Это из третьей палаты, соедините меня с терапевтическим отделением, – и тут же, как бы преобразившись, пропел совершенно другим, радостным и веселым голосом: – Зинуля? Это ты, Зинуля? Ну – у меня все в порядке! Говорю, дела идут превосходно! Очень такой приятный городок, хорошие люди… Нет, сестру пока еще не нашел. Не нашел, говорю, только приехал!.. Но мероприятия все равно проводить буду. Говорю, буду проводить мероприятия!.. Ты что, плохо слышишь? Так передай Гедончику, пусть готовится. Ну – привет, Зинуля? Привет! Целую в носик!..
Он положил трубку и несколько секунд сидел неподвижно – точно борясь с тошнотой. Даже черты лица у него заострились, как у больного. И только, наверное, через полминуты он облегченно выдохнул: «Фу-у-у!..» – уже спокойно снял трубку, привычными, уверенными движениями разобрал ее на отдельные составляющие и, увидев в микрофонной коробке тонкий продолговатый жучок, удовлетворенно хмыкнул, а потом, ничего не меняя, снова свинтил эту трубку и бережно, как-то даже заботливо положил ее на рычаги.
– Ладно, – сказал он сам себе.
Прошел на кухню и из бумажного пакета, взятого на дверце холодильника, налил себе молока в сияющий, отмытый до блеска тонкостенный стакан. Молоко было очень свежее и очень вкусное. Советник пил его, стоя у окна. Штору он отдернул, и поэтому в легких сумерках было видно, как дрожит загорающимися огнями вечерний город.
Собственно, не город, а – два завода, распластавшиеся на равнине.
И – звезда, которую сегодня не было видно.
Впрочем, это не имело значения.
Потому что город был обречен, и обреченность его чувствовалась даже в летней прохладе, которая вливалась сейчас через открытую форточку.
Причем чувствовалась – неприятно.
Поэтому Советник снова задернул штору и допил молоко. А затем тщательно, как он привык это делать, вымыл стакан и поставил его на сушилку.
Настроение у него было хорошее…
Спал Советник – чутко, прислушиваясь к звукам на незнакомом месте, но тем не менее выспался и проснулся, как и заказывал сам себе, в семь часов, когда солнце уже било сквозь занавески яркими утренними лучами. Комплексная зарядка (Советник следил за своим здоровьем), душ и легкий необременительный завтрак заняли ровно час, и в начале девятого он уже вышел на улицу – сразу же сощурившись от хлынувшего на него океана света. Света было слишком много, и поэтому он не сразу разглядел немолодого, довольно полного человека, который привалился к стене на другой стороне улицы и обмахивался панамой, потому что ему было жарко, – а когда разглядел, то зашел в ближайший телефон-автомат и по карточке, данной ему в горисполкоме, набрал служебный подчеркнутый номер лейтенанта.
Он нисколько не сомневался, что лейтенант уже на работе. Так оно и оказалось. И Советник, услышав его голос в трубке, недовольно сказал:
– Это я. Уберите от меня наблюдение…
А затем, больше ничего не добавляя, даже не дожидаясь ответа, высунулся из будки и жестами показал полному пожилому человеку, что, мол, подойди. А поскольку тот не понимал, то оставил телефонную трубку висящей на шнуре и пошел дальше.
Он был уверен, что наблюдение за ним снимут, и поэтому более не стал проверяться, а, сев в нужный автобус, номер которого знал назубок, проехал четыре остановки и, сойдя на набережной желтой реки, уселся на третью по счету деревянную скамейку, где уже пребывал в задумчивости некий мужчина, судя по грубому комбинезону, электрик или строитель.
Впрочем, задумчивость его была кажущейся. Потому что едва Советник уселся рядом, как мужчина без предисловий сказал ему:
– Здравия желаю! – а потом, не слишком конспирируясь, протянул плоский, аккуратно заклеенный синий конверт. – Вот. Здесь то, что вам нужно. В единственном экземпляре. Разрешите отбыть? – после чего нырнул в следующий подошедший к остановке автобус.
Кажется, Советник даже не заметил его исчезновения: длинными жесткими пальцами он обрывал кромку конверта, доставая оттуда фотографии, изображающие различных женщин с детьми. Первую из этих фотографий он, изучив, задумчиво отложил в сторону, такая же участь постигла и вторую фотографию, зато третью, едва взглянув на нее, он отдернул – и сам, точно обожженный, вздрогнул, а затем, откинувшись на скамейке, прикрыл глаза и сидел так некоторое время, шевеля губами, как будто молился.
Но молитва эта продолжалась недолго, потому что уже через несколько секунд Советник, очнувшись, внимательно изучил пометки, сделанные на обороте третьей фотографии, торопливо спрятал ее в карман, карман застегнул, а остальные снимки, в том числе и не просмотренные, сгреб в одну пачку и, оглянувшись по сторонам, бросил ее в ближайший мусорный ящик; вслед за этим, как и человек в комбинезоне, нырнул в подошедший автобус.
Проехал он те же четыре остановки и сошел неподалеку от своего дома, но в квартиру не пошел, а вместо этого быстро завернул за угол и спустился по улице, идущей между стандартными пятиэтажками, окутанными веселой зеленью, свернул еще раз и, постояв секунду, как бы соображая, направился в одну из парадных. Дверь ему открыла женщина в халате с закатанными рукавами и с волосами, стянутыми в пучок на затылке, – словно она мыла пол или вообще убиралась в квартире, – посмотрела испуганно, тут же, впрочем, опомнившись и попытавшись приветливо улыбнуться.
– Да?..
– Я из собеса, – сказал Советник. И, без приглашения войдя на кухню, увидел жалкую поцарапанную мебель, наверное купленную в комиссионке, кастрюлю на газовой конфорке, в которой что-то бурлило, ситцевые дешевые занавески и, главное, – крупного, довольно упитанного младенца, в чепчике и белых ползунках, сидящего в детском стуле и сосредоточенно рассматривающего незнакомца. Взгляд его темных глаз был внимателен, а в углу мягких губ вдруг надулся и быстро опал слюнный пузырь.
Советник сразу же отвернулся.
– Кажется, я ошибся, – сказал он. И встретился с таким же темным, но – беспомощным и опять полным испуга взглядом хозяйки. – Простите ради бога… Мне нужен дом шесть, квартира одиннадцать…
– Это дом семь, – слабо сказал женщина.
– Простите… Простите еще раз… – Советник даже попятился, его тянуло снова посмотреть на младенца, однако он не посмотрел – точно во сне вышел обратно на лестничную площадку и начал спускаться, не сразу схватившись промахнувшейся рукой за перила.
Очнулся он только тогда, когда, уже на улице, неожиданно звезданулся о какое-то препятствие и, безумно вытаращив глаза, увидел вдруг перед собой облупившуюся железную перекладину.
Детские качели во дворе.
Советник посмотрел на них с изумлением.
– Отлично, – сказал он…
С этого момента Советник стал как бы несколько рассеян. Словно у него не осталось в городе никаких важных дел. Он стал несколько рассеян, небрежен в движениях и даже время от времени принимался насвистывать сквозь зубы нечто несоответствующее.
Будто мысли его сейчас витали где-то далеко.
Он походил на отдыхающего.
Так, насвистывая, он довольно долго бродил по городу: заходил в магазины, рассматривал вещи, лежащие на прилавках (купил, впрочем, только забавный брелок в виде чертика), пообедал в обычной столовой на берегу реки, отстояв перед тем громадную жаркую очередь, и, судя по тому, что съел практически все, обед ему очень понравился. Или, может быть, он просто не замечал, что ест? А после обеда он позвонил куда-то из автомата, прилепленного на углу столовой, и сказал, что завтра ему потребуется машина.
– Нет-нет, – пояснил он, – номера пусть будут областные. Поставьте ее, где условились, и положите документы на мое имя. Вот-вот, после этого можете уезжать…
Разговаривая, Советник улыбался, а покончив с разговором, взял в местном кинотеатре билет на ближайший сеанс и честно высидел его до конца, взирая на что-то комедийно-музыкальное. Пару раз он даже засмеялся – однако невпопад, – так что с переднего ряда на него оглянулись.
Но Советника это не смутило.
В квартиру он вернулся около восьми часов и, дождавшись, пока пропищат сигналы точного времени, снова набрал тот самый длиннейший, состоящий, по-видимому, из двадцати цифр номер.
– Зинуля? – так же весело, как и вчера, сказал он. – Ну, у меня все в порядке, Зинуля! Новостей пока никаких нет, и я, знаешь, не очень рассчитываю, что они появятся. Мне, Зинуля, кажется, что здесь все-таки ошибка в диагнозе – ну, поторопились эксперты, захотели выслужиться, – я не думаю, что надо проводить всю акцию, достаточно профилактики. В общем, я еще позвоню, передай Гедончику, чтобы не волновался…
Советник опустил трубку и секунды две посидел замерев, с улыбкой, похожей на оскал сумасшедшего, но затем, как бы опомнившись, вновь начал насвистывать: просмотрел бутылки, стоящие в зеркальном баре, поколебавшись, выбрал одну из них, залепленную по всей длине красочной иностранной этикеткой, налил в бокал жидкости – примерно наполовину, бросил туда кусок льда из холодильника и, указательным пальцем ткнув клавишу телевизора, повалился в мягкое, обитое гобеленом, музейное кресло. Даже звонок, раздавшийся в эту минуту, не испортил ему настроение – потому что открыл он все-таки улыбаясь, а увидев за дверью боязливого мэра, кажется, нисколько не удивился, а предложил заходить.
– Располагайтесь, – приветливо сказал он. – Немного вермута? Очень освежает…
Но от вермута мэр отказался. И располагаться надолго тоже, по-видимому, намерен не был: присел на краешек стула – как бедный родственник – и шепотом, будто открывая государственную тайну, подавшись вперед, произнес:
– А пастухи все-таки были. Да-да, точно как описано: явился ангел и возвестил… Это недалеко отсюда, за старицей… там теперь даже трава несколько иного цвета… Ну а что никто не знает, так ведь они не идиоты, чтобы болтать… тоже – соображают, какое время… Племянник у меня там… двоюродный… Я ему велел: никому ни слова…
Мэр судорожно сглотнул и замолчал. Как обрезало. Вдруг – стиснул ладони коленями.
– Ну и зачем вы мне это сообщаете? – приветливо спросил Советник.
Мэр даже вздрогнул.
– Мне показалось, что вы порядочный человек. Неужели вы и в самом деле – устроите избиение младенцев? Да, конечно, называется это по-другому, но я же – догадываюсь…
Он снова замолчал.
Тогда Советник, позвякивая льдинками в темном вермуте, сделал крохотный, чисто формальный глоток и поставил бокал на столик, расположенный рядом с креслом.
– Знаете, в чем ваша слабость? – спросил он. – Ваша слабость в том, что вы верите первому впечатлению. А ведь первое впечатление, как правило, обманчиво. Вот и сейчас вы тоже ошиблись, я совсем не тот человек, которому можно верить… – Все так же приветливо улыбаясь, Советник поднялся, показывая, что разговор окончен, покивал немного, довольно-таки благосклонно мигнул, а затем, сопровождая побледневшего мэра, прошел с ним в прихожую и открыл дверь. – Всего хорошего… – но, когда мэр уже оказался на площадке и, наверное от волнения плохо владея собой, стал нащупывать ногой первую ступеньку, чтобы спуститься, вдруг – одной рукой быстро прикрыл дверь, а другой так же быстро повернул к себе мэра и одну-две секунды смотрел на него любящим братским взглядом.
– Всего хорошего… – повторил он.
Спал Советник, как и в прошлую ночь, очень чутко, вместе с тем не просыпаясь и не вздрагивая из-за пустяков, но когда поднялся, разумеется опять же в назначенный час, то у него возникло ощущение, что он вообще не спал: лишь закрыл вчера глаза, а потом сразу же открыл. Ощущение было не из приятных: кружилась голова и в теле чувствовалась болезненная разбитость. Тем не менее зарядку он сделал, а в виде уступки самому себе завтракать не стал – хотя день предстоял тяжелый, – вместо этого выпив лишь чашку кофе, куда, опять-таки в виде уступки, добавил ложечку коньяка (и кофе после этого стал невкусным), а выпив его, надел тот самый костюм, в котором сюда приехал, – завязал модный галстук и какое-то время смотрел на себя в зеркало, точно не узнавая.
– Все будет в порядке, – сказал он.
И уже хотел, подхватив дипломат, выйти из квартиры на улицу, как почувствовал в глубине прихожей некое шевеление – шевеление, шорохи, осторожный щелчок замка, – а вслед за этим, отрезая выход, из прихожей появился взъерошенный потный лейтенант и оперся о стену, другой рукой прижимая к поясу вытащенный из кобуры пистолет.
Вид у него был совершенно отчаявшийся.
Этого еще не хватало, подумал Советник. Однако вслух, демонстрируя недовольство, сказал:
– Хорошо, что вы появились, лейтенант, вы мне нужны. Где вы носитесь, черт побери, я звоню вам все утро? – Он подождал, пока на лице лейтенанта проступит нормальное осмысленное выражение, и добавил – значительно тише, стараясь придать голосу отеческие интонации: – Что случилось, Володя? Вы на себя не похожи…
У лейтенанта немного прояснели глаза. А в голове бултыхнулось, словно перевернувшийся мозг встал на место.
Он вдруг шмыгнул носом:
– Вы – мне звонили?
– Разумеется, – спокойно ответил Советник. – Мы, в конце концов, договорились сотрудничать. Вот. Теперь мне есть что вам предложить. Только сначала выпейте: придите в себя…
Он смотрел на лейтенанта строго, но вместе с тем очень доброжелательно, сделал, как вчера мэру, приглашающий светский жест – мол, располагайтесь, чувствуйте себя как дома – и, дождавшись, пока лейтенант действительно придет в себя, и убрав оружие, повернулся к бару, чтобы достать напитки, в свою очередь быстрым, почти неуловимым движением выхватил из внутренней кобуры пистолет и, не целясь, навскидку, выстрелил ему в мягкий затылок.
После этого все пошло каким-то обвалом.
На улицу Советник попал не сразу, потому что силы как будто оставили его, он был вынужден еще чуточку выпить, а потом сполоснуть лицо холодной водой, чтобы сознание прояснилось. Но когда он все-таки выскользнул из дверей парадной – напряженный, готовый стрелять в первого встречного, – то, к великому его облегчению, оказалось, что лейтенант, по-видимому, пришел один, во всяком случае засады около дома не было. Советник спокойно уселся в оставленную колесами на тротуаре служебную лейтенантскую машину и спокойно же, правда оглядываясь, не висит ли хвост, доехал до знакомой ему низинной улицы, где торчали под куполами орешника белые стандартные пятиэтажки.
Только здесь у него появилось ощущение, что за ним следят.
Ощущение было мимолетное, но очень сильное.
«Гедон! Гедон!» – вдруг подумал Советник.
Больше всего он боялся, что ему не поверят, что ему придется объяснять что-то – доказывать и угрожать пистолетом, но когда дверь на его звонок почти мгновенно открылась и снова выглянула женщина в домашнем халате, то оказалось, что объяснять ничего не требуется: он просто сказал, что им надо немедленно уходить, и она кивнула так, словно именно этого и ожидала, – буквально за пять минут переоделась, натянув тонкий свитер, джинсы, короткие сапоги, накинув сверху коричневый, изрядно поношенный блейзер. Она будто заранее готовилась к бегству – указала Советнику на две толстых матерчатых сумки с продуктами и вещами: «Берите!..» – а сама, мгновенно прикрыв одеялом, подхватила на руки спеленутого, перевязанного белой лентой младенца. Младенец спал, причмокивая во сне пустышкой, темнобровое лицо у него было довольное и безмятежное, впрочем, Советник не решался присмотреться внимательнее, его одолевали сомнения, и он, внутренне содрогаясь, спросил: «Вас ведь зовут Мария? Правда?» Однако женщина лишь блеснула чернотой ветхозаветных бездонных глаз. «Пошли», – сказала она.
По лестнице они спустились вполне благополучно, но на улице неожиданно выяснилось, что мимолетное ощущение, что за домом следят, не обмануло Советника – потому что едва они появились из зева парадной и размашистым, торопливым шагом, пересекая дворовый сквер, двинулись к машине, стоящей у тротуара, как с другой стороны двора пронзительно взвизгнули тормоза и, проламывая орешник, заполонивший собой пространство между домами, выскочили трое или, может быть, четверо молодых людей и, крича, размахивая руками, яростно устремились за ними.
Они не стреляли, хотя оружие у них, конечно, имелось, они просто кричали, приказывая остановиться: это, вероятно, были сотрудники местного отделения госбезопасности, вызванные наблюдателем; вот почему лейтенант явился к нему один – потому что он с этой стороны немного подстраховался, Советник это уже понимал, но он также понимал, что им с Марией теперь не отбиться, руки у него были заняты, он даже не попытался достать свой пистолет, но одновременно нисколько не удивился, когда вдруг увидел, что между ними и бегущими молодыми людьми, которых было не четверо, а все-таки трое, внезапно, как из-под земли, вырос мэр и, стремительно выпростав обе руки из карманов, начал сосредоточенно, будто в тире, стрелять сразу из двух пистолетов. Советник не видел, попал он в кого-нибудь или нет, здесь решала удача и доли секунды, он лишь отметил, как мэр, отпрянув и переломившись по поясу, падает на затоптанную сухую землю, как он ворочается, словно гусеница, и кричит: «Дайте мне только взглянуть на него!..» – но они уже сидели в машине. Зарычал мотор, лязгнуло выжатое сцепление, Советник сразу же дал полную скорость – дернуло, существенно занесло, – на переднем стекле появилась дырочка в окружении мелких трещин, но жигуль уже, выкатившись вдоль улицы, свернул за угол, и Советник облегченно вздохнул.
Правда, радоваться здесь было особенно нечему. Советник об этом догадывался. И он догадался еще, что дело тут вовсе не в лейтенанте. Лейтенант – это мелочь, чрезмерное честолюбие. Дело здесь было совсем в другом человеке. Если только можно было назвать его человеком. Он вдруг вспомнил чуткие, неестественно выпуклые глаза Гедона, мраморные, литые белки его, прошитые веточками артерий. Как он привстает в мягком кресле и, ухватившись когтями за подлокотники, говорит рокочущим низким басом, проникающим как будто до самого сердца: «Я тебе верю…» А глаза его вспыхивают и смотрят, кажется, прямо сюда…
Советник даже сощурился.
Значит, это Гедон.
Не зря загорелась звезда, и не зря восходила она над городом.
Значит, Гедон.
Больше никаких иллюзий у Советника не было, и поэтому, выскочив на шоссе и заметив стоящий поперек дороги серый пятнистый бронетранспортер, окруженный солдатами, а неподалеку от него – легковушку и фигуру человека с поднятыми кверху руками, он не растерялся, как можно было ожидать, но – лишь выругался и стиснул крепкие зубы.
Он теперь знал, что ему делать, и, остановив машину метрах, наверное, в двухстах от зловещего бронетранспортера, резким, не терпящим возражений голосом приказал Марии: «Беги!..» – сам же, открыв дипломат и достав оттуда изделие довольно странного вида, наставил его через ветровое стекло и, дождавшись, пока Мария выберется наружу, плавно спустил курок.
Стрелять он умел: огненная, перевитая дымами гроздь вздулась там, где только что скопились военные, полетели обломки, рвануло, наверное, вспоротый бензобак. Тогда Советник бросил бесполезное уже ружье и, вслед за Марией перебравшись через канаву, оказался на всхолмленном небольшом лугу, отчеркнутом от основного массива выступом березовой рощи. За рощей находился проселок, а дальше – спрятанная в условном месте автомашина с новыми документами. Но Советник знал, что это не для него. Он вовсе не обольщался победой. И действительно, только он, успев найти подходящее место и вытащив из-под мышки свой собственный пистолет, распластался на возвышении, из-за которого просматривалась вся дорога, как от горящего бронетранспортера, чуть ли не из дыма, чуть ли не из пламени, опадающего по краям, начала растягиваться цепь людей в черных комбинезонах.
Видимо, какая-то специальная группа.
Они двинулись вперед, и в руках у них сразу же затрещали горячие автоматы.
Советник вжался в землю. Он не хотел, чтобы его зацепило раньше времени. Потом – пожалуйста, но только не сейчас. Он видел сияющий хор берез, будто выточенных из горного снега, и видел, как Мария, отчаянно прижимая младенца, плывет к этим березам через яркий шелковый луг, и видел, как расплескиваются вокруг нее малиновые соцветия иван-чая, – то есть, конечно, видеть этого он не мог, потому что он лежал, плотно прижавшись к земле, но он все-таки видел это, и на лице его расплывалась робкая святая улыбка…
Цвет небесный
Альбом идиота
Глава 1
Я расскажу все как было – ни о чем не умалчивая и ничего не добавляя от себя.
Шторы были задернуты. Трепетала зелень на индикаторах магнитофона. Гитара, изнемогая от любви, выщипывала гортанные перезвоны: «О, прекрасная донна, подари мне эту розу!.. О, прекрасная донна, я навсегда сохраню ее!.. Подари эту розу как память о нашей встрече!.. О, прекрасная белая роза!.. О, как она свежа!..»
Голос обволакивал собою пространство. Сладость, нега и безразличие пропитывали его.
Анпилогов поднялся и медленно скрипнул зубами.
– Я исчезаю, с меня хватит, – сдавленным, нехорошим голосом сказал он. – Зубри текст, Александр. Шестого ты обязан петь как соловей.
– Соловей из меня хреновый, – ответил Игнациус. – К тому же до шестого еще надо дожить.
Тогда Анпилогов неприятно сощурился.
– Тебя что-нибудь беспокоит? – спросил он.
– Да все то же, – вяло ответил Игнациус.
– Грун?
– Конечно. Мне кажется, мы торопимся.
Анпилогов нагнулся и обеими руками взял его за кончики воротника:
– Никакого Груна не существует. Не было, нет и никогда не будет. Я советую: выбрось все это из головы. Крысятник уже давно шебуршится. Ты же знаешь, какой у них жуткий нюх. Если кто-нибудь где-нибудь вымолвит хотя бы полслова… Александр!.. Все это может обрушиться…
Он буравил Игнациуса прищуренными глазами.
– Порвешь рубашку, – мрачно сказал Игнациус.
В комнате стоял цветной полумрак. Одинокая ленивая пара танцевала посередине гостиной – изгибаясь и тесно прильнув друг к другу. Было видно, что – Эмма и кто-то еще. Багровела, спускаясь до пола, суставчатая бегония. Низенький, скучный, насупленный Эритрин, прислонившись к книжному стеллажу, обкусывал бутерброд с серой семгой. Борода его двигалась вверх и вниз, а желтушная кожа на лбу собиралась морщинами. Игнациус тоже хотел есть. Семгу, однако, купили не для него. Он знал об этом. Сеньора Валентина под апельсиновым немецким торшером оживленно беседовала с двумя плечистыми лакированными молодыми людьми, которые, подрагивая вытянутыми ногами, поспешно жрали маслины. Разговор, по-видимому, шел об Испании. Всплывало – идальго и акапулько… Валентина смеялась и после каждой фразы трясла мелко завитой розовой головой. Увидев Игнациуса, картинно воздела руки:
– Представляешь!.. Они недавно ходили по Эспланада дель Косо!
– Неужели в этих самых ботинках? – изумился Игнациус, опускаясь на корточки и внимательно разглядывая подошвы.
Лакированные юноши, оторопев, назвали себя Кенк и Пенк, – из вежливости перестав жрать. Он не понял – это клички или фамилии.
Громко поцеловал жену в лоб:
– О, белая роза!.. О, как ты свежа!..
– Вы закончили? – нервно сказала сеньора Валентина. – Тогда, пожалуйста, присмотри за Пончиком. Что-то он мне сегодня не нравится…
Подошел тоскующий Эритрин и, дожевывая скупые волокна на хлебе, как о чем-то само собой разумеющемся, попросил:
– Разменяй сто рублей.
– Откуда? – пожал плечами Игнациус.
Эритрин, как гиена, проглотил последний кусок.
– Понимаешь, этот жмудик клянется, что нет мелких денег. Он мне десятку должен. Ведь замотает, я его знаю…
– Где находится Сонная улица? – спросил Игнациус.
– На Фонтанке, около Репина, – ответил озабоченный Эритрин. – Ты вот что, не суйся туда, сожрут с потрохами…
– Это – как?
– А вот так. Сожрут и не поперхнутся… Слушай, может быть, дашь мне полтинник до вторника? Я честно верну, я – не Жека…
Эритрин был исключительно деловой. Впрочем, сегодня Игнациус на него чихал. Он до боли, до судорог выворачивал шею. Аня сидела на диване в углу, и ее бодро теснил какой-то редковолосый, облизанный, как червяк, скользкий гуттаперчевый тип, закинувший руку на спинку – полуобнимая. Шептал что-то мокрыми шлепающими губами. Она, отогнув край шторы, глядела в снежную пустоту.
Это, вероятно, следовало прекратить. Игнациуса потянули в пузатое кресло. Черноглазая разгоряченная Эмма приблизила к нему овечье лицо. Он внимательно посмотрел – а кто же танцует? Танцевала теперь, оказывается, сеньора Валентина. Причем – точно так же, безудержно прижимаясь. Он тихо присвистнул. Эмма, отвлекая, схватила его за ладонь:
– У меня к тебе оч-чень серьезная просьба…
– Эмма Арнольдовна! Товарищ Булкина! – перекрывая сладкую музыку, сказал Игнациус.
Эмма дернулась, точно ошпаренная. Она терпеть не могла, когда ее называли официально. Говорят, что Жека скрывал свою фамилию до последней минуты, все анкеты в ЗАГСе заполнил сам. Она услышала ее только при регистрации. Потом неделю рыдала.
Прежнее имя, конечно, звучало мощнее – Эмма Неголая.
– Давай твою просьбу, – сказал Игнациус.
– Мы с Валентиной хотим серьезно заняться языком, – обиженно протянула Эмма. Тронула бриллиантовые висюльки в ушах. – Я договорилась со Стасом, он водит испанцев. У него настоящее каталонское произношение. Будем брать уроки два раза в неделю, это недорого.
– Ты уверена, что вам нужен именно испанский? – спросил Игнациус. – Не суахили, не древневерхненемецкий? Вы же собирались голодать по системе Бронц-Мюллера. А до этого, я помню, реставрировали иконы. Между прочим, паркет я до сих пор не могу отмыть.
– Алекса-андр!.. – умоляющим голосом воскликнула Эмма.
– Честно говоря, питаться дафниями – спокойней.
– Ну Алекса-андр!..
Задыхающийся Игнациус отодвинулся.
– Ладно, сдаюсь… Объясни мне только, где находится Сонная улица?
– На Голодае, – мгновенно ответила Эмма. – Я жила неподалеку целых два года. Ужасный район. Переулок Каховского, Сонная, дальше – Проезд…
– А кто такой Стас?
– Тот, что танцует.
Игнациус посмотрел, как пара по центру комнаты сливается в некоем действии, мало похожем на танец.
– Каталонское произношение, значит… А если попросту, без затей, дать ему в морду?
– Ты с ума сошел, все так танцуют…
– Правильно, я чокнутый, – сказал Игнациус.
– Стас – серьезный каратист, – предупредила Эмма.
– Ну и что?
– Куда тебе против него.
Игнациус задумчиво произнес:
– Помнится, у Жеки был среди инструментов небольшой ломик. Новенький такой, как раз – мне по руке…
Эмма тут же исчезла, и появилась сеньора Валентина, которая процедила, улыбаясь всеми зубами, чтобы не привлекать внимания:
– Ты можешь вести себя нормально?
– Когда я вижу этих ребят, у меня уши сворачиваются трубочками, – сказал Игнациус.
– Пожалуйста, никаких историй.
– Никаких историй не будет.
Он засмеялся. Ему было весело. Из-за дверей, ведущих в детскую, доносились дикие возгласы. Игнациус просунулся в щель. Пончик и Ботулин, разворотив постель, лупили друг друга подушками. Они визжали и прыгали от восторга. Летал белый пух, торчали ножки перевернутых стульев. А из опрокинутой керамической вазы, державшей камыш, натекла вдоль паласа извилистая черная лужа. Оба вдруг замерли, увидев его: возбужденные, потные, испуганные, взъерошенные.
– Обливаться чернилами намного интереснее, – сказал Игнациус.
Прикрыл легкую дверь.
Сразу же возник тот тип, что пытался обнимать Аню.
– Никакого просвета, как глухая, наверное, лесбиянка, – доверительно сообщил он. – Я уже нарывался на таких, ну ее в задницу. Проще снять вон тех дур, сами разденутся. Морды, правда, у них керосиновые. Хрен с ним, в темноте не видно.
Он явно принимал Игнациуса не за того. От бесцветных, липких волос его разило духами.
– Пошел ты – туда-сюда, – довольно вяло сказал Игнациус.
Тип отвалил челюсть:
– А чего?
– Ничего.
– Выступать будешь?
– Просто тошнит.
– Ногами давно не били?
– Договорились, – сказал Игнациус. – Подожди меня на улице, я – сейчас…
Немедленно вынырнул откуда-то запаренный ушастый Жека.
– Говорят, ты сегодня на всех кидаешься? Это – Леша Градусник, он мне трехтомник Лондона сделал… Слушай, твоя улица, оказывается, находится на Петроградской. Точно выяснил – в справочнике ее нет. Где-то возле трамвайного парка, пересекается с Маркова. Знаешь что?
– Что?
– Федя Грун спрашивал о том же самом.
– Удалось что-нибудь выяснить?
– К сожалению, нет… Имей в виду, Александр, шестого все должно быть на высоком идейно-художественном уровне. Я иду вслед за тобой. Есть договоренность. Ты – понял? А теперь – разменяй сто рублей…
– Откуда? – вторично пожал плечами Игнациус.
– Представляешь, этот жмудик клянется, что – нет мелких денег. Он мне должен червонец. Ведь замотает, я его знаю. Или, может, одолжишь полтинник до вторника?
– Выгони ты их всех к чертовой матери, – сказал Игнациус.
– И в самом деле кидаешься, – удивился Жека.
«Я гляжу на эту печальную розу и думаю о тебе», – возвещали колонки. Игнациус пересек душную комнату и сел рядом с Аней.
– Мы не виделись три недели, – пробормотал он.
Она обернулась:
– Двадцать два дня.
– Ты тоже считаешь?
– Конечно.
Игнациус слабо кивнул.
– Никто не знает, где находится Сонная улица, – сказал он.
– Вот и хорошо.
– Телефона у тебя тоже нет?
– Разумеется, – ответила Аня.
– Как же я тебя найду?
– А ты уверен, что надо?
Игнациус даже вздрогнул.
– Тогда найдешь, – сказала Аня приветливо.
– А она вообще существует, эта Сонная улица?
– Я там живу, в доме четырнадцать.
– А квартира?
– Лучше все-таки не приходи…
Игнациус отодвинулся. Опять то же самое. За отогнутой шторой взмахивал крыльями фантастический густой снегопад. Вязь снежинок крутилась и – вдруг замирала. Танцевали крупные хлопья. Было ясно, что жизнь на сегодня заканчивается. Эмма, объятая Стасом, смотрела на них, распахнув злые глаза. Валентина, напротив, демонстративно не замечала. Лакированные юноши, присев перед ней, вскрывали громадную коробку конфет. При этом тоже – оглядывались. Игнациус чувствовал, что проигрывает важные семейные баллы. Вероятно, теперь придется соглашаться на Стаса. Впрочем, наплевать.
– Сигарету? – предложил он.
– Нет, – ответила Аня. – Но если ты хочешь позвать меня, скажем, на кухню и попытаться поцеловать, то это можно сделать без всякого надуманного предлога.
– А ты позволишь? – поинтересовался Игнациус.
– Разве об этом спрашивают?..
Тогда Игнациус взял на подоконнике воздушную чашку с дутым золотистым лотосом на боку, безразлично повертел ее перед собой и – разжал пальцы.
Чашка звонко разбилась.
– Я бы хотел, чтобы тебя никогда не было, – сказал он.
– Я бы тоже этого хотела, – сказала Аня.
Сеньора Валентина уже поднялась, раздувая хрящеватые ноздри, уже выгнула брови и твердо шагнула вперед, по-видимому собираясь вмешаться, но в это время раздался грохот и возбужденные голоса в прихожей. Беспощадно отдернули шторы. Блистающая громадная снежность ошеломила комнату. Всхлипнув, разом заткнулся выключенный магнитофон. Замерли серые вспученные фигуры – недосогнув руки и туловища. Оказывается, Градусник, устав ждать на улице, вернулся и дал по физиономии Эритрину, который как раз надевал в прихожей дубленку. Дал очень сильно. Но не попал. Вместо этого залепил в цветное бра на стене и своротил его, выдернув с корнем шурупы. Эритрин не остался в долгу и ударил ботинком. В результате перестала существовать тумбочка под телефоном. Кстати, сам телефон – тоже. Вдруг стало тесно. Все сгрудились, словно в бане, на двух квадратных метрах прихожей. Толкались и говорили одновременно. Жека, посверкивая потной макушкой, объяснял, что так приличные люди не поступают. Они – у него дома. А у него дома так приличные люди не поступают. В свидетели он призвал Игнациуса. Игнациус подтвердил, что так приличные люди не поступают. Они – у него дома. Ну и так далее… Градусник, увидев его, попытался облапить и радостно завопил: «Поехали к женщинам, Иннокентий!.. Куда ты меня притащил – козлы тут всякие…» – Его с трудом оторвали и вытолкали на лестницу. Потом вытолкали вдогонку побледневшего Эритрина. Тот не хотел уходить, а, очутившись все-таки на площадке, устремился не вниз, как положено, а вверх, к чердаку.
– Пошли домой, – не разжимая презрительных губ, сказала сеньора Валентина.
Она была уверена, что все это подстроил Игнациус.
– Сейчас, – пробормотал он. Не обращая ни на кого внимания, очень быстро и крепко взял Аню за плечи. Она была теплая. Вытекал белый пар из форточки. – Я тебя найду, я обязательно разыщу тебя… Пожалуйста, не торопись, не решай ничего – сию же минуту…
– Только громче стучи, там звонок не работает, – сказала Аня.
Жека интеллигентно оттеснил ее в сторону:
– Собирайтесь, собирайтесь, ребята…
Сеньора Валентина меж тем уже извлекла откуда-то Пончика, разрисованного чернилами. Он был как индеец – в вихрастом налепленном пухе. Подушку они все-таки разодрали. Пончик ныл, что еще очень рано и что надо бы еще поиграть – хоть чуток. А сеньора Валентина пихала его и шипела, явно сдерживаясь при посторонних. Зато Эмма не сдерживалась – всадила здоровую оплеуху, и обиженный Ботулин заревел, как стадо диких слонов.
– Дура, – сказал ей Игнациус.
Лакированные юноши с интересом наблюдали за сценой, какую не встретишь на эспланадах, а высокий Стас, отстранившись и как бы не замечая, элегантно курил, держа сигарету за кончик фильтра.
Аня почему-то стояла к нему вплотную.
На улице Валентина сказала Игнациусу:
– Ты вел себя отвратительно. Собрался доклад репетировать, так репетируйте. Анпилогов твой даже не поздоровался – тоже интеллигент… Перестань! – крикнула она Пончику, который, увлеченно жужжа, загребал снег сапогами.
До метро был целый квартал. Жека обитал на краю города. Яркое малиновое солнце висело меж зданий из крепкого инея. Свежий снег был истоптан глубокими синими тенями. Клубился пар над отдушинами люков. Саженцы на бульваре безнадежно оцепенели до самой весны.
– А завтра Валерка приедет к нам? – спросил Пончик.
– Не приедет, – отрезала Валентина.
– Я хочу, чтоб приехал, у него там – пистоны, – привычно заныл Пончик. – А ты когда еще обещала купить и не купила…
Они втиснулись в поезд метро. Народу было столько, что Игнациуса слегка сплющило. Сеньору Валентину прижало к нему. Даже сквозь шубу чувствовалось, что состоит она из одних костей. У нее дергалось морщинистое напряженное веко и на скулах горели два красных мятых пятна. Игнациус старался на нее не смотреть. Она была очень недобрая.
Глава 2
Дальше было так.
Созоев распахнул голубые младенческие глаза, где – в сиянии – не было ничего, кроме искренней радости.
– Александр!.. Александр!.. Просто – Саша! – вскричал он. – Как чудесно, что вы заглянули, мой дорогой!.. Проходите же!.. Проходите, не стойте!.. – слегка подталкивая сзади, пригнал его в комнату, увешанную цветастыми блюдцами, темными, громоздкими, давящими картинами и различными фотографиями в вычурных деревянных рамках. – Мара! Мара!.. Посмотри же, кто к нам пришел!..
Появилась заспанная, всклокоченная, испуганная Марьяна, у которой из-под халата торчала нижняя юбка, и, как курица, злобно уставилась на Игнациуса.
– Здравствуйте. Извините меня, – неловко сказал он.
– Чаю нам! Чаю!.. – кричал Созоев.
Он стремительно хохотал, словно булькал водою, и делал массу лишних движений. Элегантный костюм сидел на нем как на арбузе. Округлившись, без складок. Галстук броско алел на выпирающем животе. И блистали граненые запонки на манжетах. Игнациус, проваленный в кресло, зажал ладони между колен. Он всей кожей ощущал, что будут серьезные неприятности. Потому что иначе не стали бы его вызывать. Время было скандальное – воскресенье, восемь утра. Или, может быть, объявился блудный сын? Не похоже. У него неприятно и сильно заныло в груди. Полчаса назад он звонил Анпилогову. К счастью, Геннадий уже проснулся. Некоторое время причмокивал в трубке, туго соображая, а потом, вдруг опомнившись, сформулировал приговор: «Старик совсем спятил. Это у него – возрастное. Ничего не бойся и держись нагляком. Как известно, он при этом теряется». Совет был мудрый. Но не очень. Поэтому Игнациус на всякий случай отмалчивался. Делал вид, что спросонья не понимает. Впрочем, так оно на самом деле и было. Мгновенно, дохнув летней мятой, возник крепкий чай, в меру горячий и в меру густой, с аккуратными твердыми дольками желтеющего лимона. Совершенно ненужный был чай.
– Я еще вчера говорил Маре: хорошо бы Саша нас навестил, побеседовали бы с ним, посмеялись… Кладите песок, Саша. А почему так мало? Кладите больше!
– Я пью без сахара, – нервно сказал Игнациус.
– Да вы не стесняйтесь! – бурлил Созоев. – Еще одну ложечку, прошу вас! Ну – еще одну… Уже четыре? Зачем их считать? Сколько надо, столько и кладите! Мара, Мара, а где давешнее печенье?
Марьяна так же злобно потыкала Игнациусу в плечо мелкой хрустальной вазочкой. Он взял сразу шесть песочных розеток, чтобы наверняка отвязаться. Все-таки ему было чрезвычайно не по себе.
Осчастливленный визитом Созоев дул в чашку.
– Как ваши дела, Саша?
– Вроде бы неплохо, – сказал Игнациус.
– Как здоровье?
– Дня три еще проживу.
– Как ребенок?
– Ребенок – парализованный.
– А жена?
– Утверждают, что – делириум тременс.
– Хе-хе-хе… Вы все шутите, Саша…
Но Игнациус отнюдь не шутил. Зима в тот год выдалась голая и сухая, какие бывают раз в десятилетие. Очень рано ударили морозы, стиснув небо светлеющей синевой. Почернела сырая листва в садах. Остекленели реки. Ночью свистал ветер по мерзлым щелям и царапала камень редкая крупяная пороша. В конце ноября пропал Грун. Он никого не предупредил и не оставил записки. Просто исчез, без следа растворившись в толчее четырехмиллионного муравейника. Это была катастрофа. Потому что защита его была назначена на январь. Все уже было готово. И документы оформлены. Жека дважды, как цуцик, мотался к нему домой. Выяснилось, что Грун переехал и новые жильцы не знают – куда. Там был сложный, многоступенчатый, жуткий обмен. Больше его никто не видел. Через две недели по почте пришло заявление об увольнении. Администрация взвыла. У Созоева был сердечный приступ. На кафедре многозначительно переглядывались. Игнациус, как больной, равнодушно и вяло бродил по ободранным коридорам, натыкался на шумных студентов, отвечал невпопад, неумело закуривал чужие вонючие сигареты, – все валилось из рук: в узких, стиснутых приборами кабинетах, в невозможных курилках и в моечных закутках под усмешки, под звяканье скальпелей – решалась его судьба. В декабре начались снегопады и роскошной, жаркой периной укутали дворовую наготу. Будто гейзеры, вспучились яркие сугробы. Побелевшие улицы воспрянули чистотой. Что-то изменилось в мире, сдвинулось на волос. Смущая слабые души, прошел ученый совет. Игнациуса сдержанно поздравляли и жали руку. Рогощук – улыбался. Мамакан – благосклонно кивал. Обнаружились силы, зовущие в сладкую пустоту. Между тем морозы слабели. Очищалось к полудню громадное солнце, и загорался над крышами огненный рыжий туман. Вдруг затенькали тоненькие сосульки. Жизнь была удивительна.
– Андрей Борисович, – напрямик сказал Игнациус. – Вы меня срочно вызвали час назад. Я же не мальчик. И давайте не будем обходиться намеками.
Созоев замигал, как пулемет.
– Я?! Вас?! Вызвал?! Не может быть!!! – Обернулся к Марьяне, которая хищно сощурилась и повела крючковатым носом: – Марочка, принеси нам… м-м-м… что-нибудь. – А когда Марьяна, буркнув в усатую губу, недовольно вышла, привалился к столу, насколько позволял полный живот. – Никогда не посвящайте жену в свои дела, Саша. Никогда, никогда, никогда! – и откинулся, очень довольный собою. – Значит, я вас вызывал? Интересно. А вы, Саша, не знаете, зачем я вас вызывал?
Игнациус сломал ноготь о подлокотник:
– Чтобы исполнить «Гоп со смыком». По-видимому. На два голоса.
Ему страшно хотелось запустить печеньем в мягкое, улыбчивое, пухлощекое лицо напротив. А потом взять что-нибудь потяжелее, типа лома, и вдребезги сокрушить лаковые дверцы шкафов, за которыми прятались журналы прошлого века, смести торжественные картины со стен, порвать фотографии, перевернуть стол и на мелкие кусочки раздробить рогатую малахитовую чашу в углу.
– Правильно! – воскликнул Созоев, избегая смотреть ему в глаза, белотелым мизинцем вылавливая из чашки чаинку. – Отлично, что вы вспомнили, Саша. А у вас, Саша, талант – я давно замечаю…
Три морщины перечеркнули его гладкий лоб.
– Андрей Борисович, – подавив раздражение, сказал Игнациус. – Ведь мы заранее обо всем условились. Ну давайте выбросим эту диссертацию к чертовой матери. Ну давайте выбросим и навсегда забудем ее.
Он готов был немедленно сделать это.
– Превосходное исследование, – по инерции протянул Созоев. И вдруг поднял совиные, толстые, круглые веки, покрытые желтизной. И глаза его как-то тревожно блеснули. – Понимаете, Саша, вчера вечером я получил письмо…
Игнациус вздрогнул…
Стояли жесткие, ветреные, пустые дни. Окна зарастали ледяной коркой. Игнациус поднимался в шесть утра, выцарапанный из сна жестяными судорогами будильника. Шлепал босой на кухню и, не открывая воспаленных глаз, с отвращением жевал что-то – липкое, упругое, резиновое. Потом возвращался в комнату и зажигал электричество. Резкий ламповый круг замыкал собою весь мир. Время останавливалось за черными стеклами. Записи, вырезки из реферативных журналов, протокол наблюдений, мельчайший академический шрифт, сведение в целое, торчат хвосты, рассыпающийся лабораторный дневник, контроль отсутствует, дикие иероглифы картотеки, контроль найден, сведение в целое, выпал абзац, клей и ножницы, брякающая машинка, две страницы, тезис Шафрана – не соответствует, картотека, журналы, назад – в предисловие, клей и ножницы, сведение в целое. Свет желтой пленкой залепливал ему ресницы. От напряженной многосуточной позы скручивались мышцы в спине. Он ложился за полночь, когда Валентина уже дышала в подушку. Еще минут пятнадцать не мог заснуть: бешено сталкивались выгнутые шелестящие строчки. Ему казалось, что он муравей, грызущий горный массив. Он натыкался на свое отражение между штор: бледное, зеленоватое лицо с искусственными волосами. Лицо неудачника. Человек с таким лицом никогда не сделает ничего толкового. Не стоит и пытаться. Тем не менее каждый вечер ставил будильник ровно на шесть утра. Отступать было некуда. В середине месяца неожиданно посветлело. Засияли строгие рамы. Проникающий серебряный блеск озарил всю комнату. Игнациус как будто очнулся. Была середина дня. Лампа горела тускло. Валентина квакала о чем-то над самым ухом. Он поднял голову и увидел, что из форточки вырывается и мгновенно тает над батареями – крупный веселый снег. Тогда он собрал все написанное в серую папку и накрепко завязал тесемки. Он сделал все, что мог, и прибавить сюда было нечего.
А теперь вдруг поникший Созоев тревожно глядел на него.
– Понимаете, Саша, вчера я получил письмо, – еле слышно сказал он. Развернул листок бумаги в клетку, вероятно выдранный из школьной тетради. – Почерк очень плохой, я вам прочту, вот здесь… «Я не прошу извинений, все происшедшее со мной слишком бессмысленно, чтобы извиняться. Ведь не извиняются же за ураганы и землетрясения. Одно могу сказать твердо: обратно в институт я не вернусь. Это просто невозможно сейчас. Мой материал передайте Саше Игнациусу. Или кому угодно, если он откажется. Меня скоро не станет, но я ни о чем не жалею и ничего не хочу изменить. Жизнь заканчивается, и я принимаю ее такой, какая она есть. Федор Грун».
Одинокий листочек затрепетал у него в руках.
– Адрес! – не своим голосом потребовал Игнациус, подпрыгивая вместе с креслом.
– Без адреса, – испуганно ответил Созоев. Аккуратно сложил этот жалкий листочек и убрал в карман. – Знаете, Саша, я подписал его заявление. Я тянул до последнего, но теперь просто не остается другого выхода…
У Игнациуса отлегло от сердца. Он разжал побелевшие пальцы, и искрошенное печенье ссыпалось обратно в вазу. На синеватых снежных рассветных ветвях за окном сидели нахохлившиеся воробьи. С чего это Генка взял, что старик спятил? Вовсе не спятил, ну – самую малость. Вполне нормальный доброжелательный старикан.
– Андрей Борисович, можно я вас поцелую? – ласково попросил он.
– Одну минуту, – ответил Созоев. Как-то неохотно вылез из-за стола и побрел через комнату, шаркая тапочками по грубому вытертому ковру. Задержался зачем-то в дверях. – Подождите меня одну минуту…
Махнул короткой рукой.
Тут же ввинтилась Марьяна, уже переодетая в мутно-складчатое платье неизвестной эпохи, и, косясь на проем лошадиным продолговатым глазом, точно бешеная змея, прошипела:
– У Андрея Борисовича температура. Тридцать восемь и две десятых. Он болен.
– Ухожу, – пообещал Игнациус.
Марьяна испарилась. Только воздух закрутился на месте, где она стояла секунду назад. А из этого вихря неторопливо выплыл Созоев и положил перед Игнациусом знакомую пухлую папку, перевязанную тесемками.
– Здесь ваши материалы, Александр. Я их не читал. И, по-видимому, читать не буду. Так что можете забрать их с собой. – Ему было трудно разговаривать, он словно одеревенел. Со стен пялились многочисленные фотографии: Созоев и Калманов, Созоев и Шредер, Созоев и Ламеннэ. – У меня нет к вам никаких претензий, Саша. Вопрос уже решен. Если шестого все пройдет нормально, то защита будет назначена в течение месяца. Я подпишу необходимые бумаги и выступлю как положено. Но читать это я не желаю.
По-прежнему стоя, он передвинул папку Игнациусу, и Игнациус, также поднявшись, безжизненно принял ее:
– Хорошо.
– Но имейте в виду, что Бубаев, наверное, выступит против.
– Вы так думаете… – начал Игнациус.
– Бубаев будет против, – пустовато глядя поверх его головы, повторил Созоев. – И Рогощук будет против. Это тоже имейте в виду.
– Но почему, почему? – спросил Игнациус очень глупо и растерянно.
Созоев пожал плечами:
– Не надо совершать поступки, запрет на которые накладываешь ты сам. Это – совесть… Александр, объясните мне честно: зачем вам степень?
На короткой шее его вдруг прорезались ниточки жил. А широкие плоские брови куда-то поехали.
Надо терпеть, подумал Игнациус, стискивая папку. Главное сейчас – не сорваться. Он ведь ждет, что я непременно сорвусь. Я не имею права сорваться сейчас.
– Затем, что мне двадцать семь лет, – медленно, сдавленным от ненависти голосом сказал он. – Затем, что защищаются все, кому не лень. Затем, что нужно быть круглым идиотом, чтобы не защититься. Затем, что я не хочу быть как дурак среди остальных. Затем, что жить на сто двадцать рублей невозможно. Затем, наконец, что вы сами прекрасно знаете все эти «зачем»…
Он запнулся, не находя убедительных слов. Но, по-видимому, большего от него и не требовалось. Потому что Созоев вдруг вежливо и непреклонно оборотился к дверям:
– Я все понял. Я понял вас. Достаточно, Саша.
И румяные, сдобные пальцы его – указали…
Игнациус выкатился на улицу и в остервенении пнул сугроб, отвалив порядочную ледяную глыбу. Посмотрел на заиндевелые рамы второго этажа. Кирпичом, что ли, по ним шарахнуть? Только где тут достанешь кирпич? Уже рассвело. Малиновая краюха солнца плыла над антеннами и наливала пламенем подслеповатую кривизну чердаков. Дул сырой ветер. Ноздреватый снег стонал при ходьбе всеми своими суставами. Совесть, видите ли, у него. С чего бы это? Потолок на башку рухнул? Где он был раньше, когда обо всем договаривались? Совесть. Конечно, я использовал данные Груна, особенно при анализе: страницы девяносто вторая – сто четырнадцатая, но иначе бы я просто не успел. Попробуйте накатать диссертацию за месяц, начав с нуля, с гладкого ничего. И, между прочим, кто предложил их использовать? Между прочим, Андрей Борисович Созоев, собственной персоной: «Возьмите эти материалы, Саша, включите их как-нибудь в свою работу, а то пропадут». Декабрьский вечер, семинар у радиологов, случайный разговор в пустой гулкой аудитории. И пропали бы. Точно. Никто не станет оформлять для печати чужое исследование.
Игнациус замер в недоумении. Впереди была набережная незнакомой вьюжной реки: гранитные столбики в шапках по пояс, оснеженная вязь перил между ними, дикий нетронутый хаос льда, а на другом, приземистом, берегу – глухие, убогие, занесенные по самый шифер, длинные дощатые бараки. Наверное, склады. Скукой и запустением веяло от них. Игнациус выругался. Ко всему, он еще свернул не в ту сторону. Теперь придется пилить обратно. Наверное, целый километр. Видимо, лучше – через переулок. Через переулок, наискосок и – к автобусной остановке. Он вдруг распахнул подозрительно легкий, болтающийся дипломат. Так и есть, папку он забыл у Созоева. Надо же, как получается. Одно к одному. Ну и черт с ней! Чтоб она совсем провалилась!
Он прибавил шагу. Переулок изгибался дугой. Было жарко. Шлепались с низких крыш набрякшие комья снега. Совесть, видите ли, у него. С чего бы это? Игнациус тяжело дышал. Именно Созоев добился на ученом совете, чтобы сняли Груна и вписали Игнациуса. Что было весьма чревато. Именно Созоев непрерывно теребил и подталкивал его все это время. Именно Созоев буквально выжал из него готовый текст. А теперь, пожалуйста, – читать не буду. Наверняка что-то случилось: слишком внезапно, слишком сразу, слишком без явных причин. Еще вчера все было нормально. Он свернул за угол и увидел ту же – в горбатых шапках, оглохшую под сугробами, забытую, нетронутую набережную. Неужели опять напутал? Не должно быть никакой набережной. Над низким зевом подворотни, чудом не падая, висела отодранная табличка. «Сонная улица 12» – было написано на ней. Вдруг ужасно стемнело – за две секунды. Громадными охапками повалил мокрый снег. Дальний конец переулка пропал в мутной пузырчатой пелене. Закружилась метель. Не в картах, так в любви, подумал Игнациус, закрываясь ладонью. Внутренне он уже был готов ко всему. Четырнадцатый номер приходился на совершенно сказочный, причудливый особняк с выпяченными по бокам детскими витиеватыми башенками, стоящий за чугунной оградой в пустынном, сером, пронизываемом липкими хлопьями, редком саду. Скорее всего, там располагалось какое-нибудь учреждение. Вот и остаток вывески на сквозных воротах. Игнациус попытался разобрать треснувшее название, но не смог. Не хватало больше половины. Тогда он взялся за массивный изогнутый прут и толкнул калитку.
Глава 3
Через сад, вероятно, никто никогда не ходил. Рыхлый наст, шурша, проваливался под ногами. Снег жестоко лупил и творожистой гущей стекал по коже. Хор деревьев махал призрачными ветвями. Перед дверью, защищенной треугольным карнизом, стояли двое в промерзших кирасах, в шлемах, увенчанных острыми шишаками. Как по команде, скрестили беловатые от холода алебарды.
– Прочь! – сказал им Игнациус.
Грохнул кулаком по филенке так, что задребезжало с другой стороны. Щурясь во вьюжную мокроту, выглянул некто, маленький и лысый, как груша, в пестром облегающем трико арлекина:
– Вас ждут, сударь, – и попятился.
Уходили наверх парадные ступеньки из гладкого мрамора.
– Не сюда, – поспешно сказал Арлекин. Завернул Игнациуса в темные боковые коридорчики. – Как добрались, сударь? Вас кто-нибудь видел? Слежки не заметили? Будьте осторожны, Ойкумена кишит лазутчиками.
– Куда мы идем? – спросил Игнациус.
– Тс-с-с… – Арлекин погрузил щеки в кружевной воротник. – Милорд Экогаль распорядился проводить вас прямо в железную комнату. Ради бога, сударь, – ни звука! Даже страшно подумать, что будет, если Тайный Совет вдруг узнает о вашем присутствии…
Игнациус ничего не понимал, но находил все вполне естественным. Как во сне. Они миновали сумрачные площадки, затянутые паутиной, спустились по невидимым лестницам, которые угрожающе визжали на разные голоса, пригибаясь, пролезли сквозь пыльную портьеру с кистями и оказались в душном безвыходном закутке, где вдвоем было не повернуться. Арлекин постучал особенным образом:
– Прибыл гость, милорд!
Желтый свет на мгновение ослепил Игнациуса. В дверях, держась за эфес длинной шпаги, стоял высокий, плотный, бритоголовый, наверное, очень сильный мужчина в черном плаще. На широком и властном лице его двигались хищные, как у кота, усищи.
– Клянусь Звездным Кругом и Тремя Радиантами его, вы не торопитесь, сударь! – прорычал он. – Как будто у нас в запасе целая Вечность!
Распространяя восковую сушь, горели по стенам толстые свечи. Аня, прижавшись к мелкому узорчатому железу, которым до потолка была обита клетушка, радуясь и не веря, обеими руками коснулась сияющих глаз.
– Ах! Ты нашел меня, я предупреждала – не надо…
– Мадонна, – сурово сказал бритоголовый. – Полночь уже близка. Я проскакал двести верст и загнал четырех лошадей вовсе не ради ваших возвышенных чувств. Мне нужен Человек – из плоти и крови.
– Вы его погубите, – умоляюще сказала Аня. – Вы уже погубили Персифаля. У вас нет сердца!
Бритоголовый нагнулся к ней, уперев локти в медный стол. Подскочившая шпага его задрала плащ, расшитый золотыми скорпионами.
– Вы хотите жить среди людей? Вы хотите повернуть зубцы Круга, чтобы стать наконец свободной? Или вы намерены ждать, пока Фукель отравит Звездочета, как он отравил когда-то вашего отца, и затем повернет Круг в обратную сторону?.. Моя голова полетит первой, не сомневаюсь, но ваша – следом, мадонна.
– Ах-нет! – воскликнула Аня.
Бритоголовый обернулся к Игнациусу:
– Любите ли вы ее, сударь?
– Да, – без колебаний сказал Игнациус.
– И готовы на великие жертвы?
– Да, – сказал Игнациус.
Черты бритоголового немного смягчились.
– Вы отвечаете, как подобает Человеку, мадонна не ошиблась. – Торжественно поднял руку в красной замшевой перчатке с раструбом. – Даю слово Экогалей: если вы повернете Круг, то я обвенчаю вас, чего бы мне это ни стоило. – Он откупорил серебряный флакончик, сильно запахший цветами, и налил в бокалы тягучую маслянистую жидкость зеленого цвета, в которой мерцали искры. – Выпьем! Выпьем Эликсир Ночи! Единственный напиток вечно странствующих!
Игнациус осушил свой бокал одним глотком, и крепкий звездный вкус обжег ему нёбо.
– А теперь поцелуйтесь, – сказал бритоголовый.
Аня прильнула к Игнациусу. Он ощутил сладкие от эликсира, мягкие, горячие губы. – Мы теперь будем вместе, – шепнула она. В ту же секунду дверь разлетелась в щепки и выплеск обнаженных шпаг пронзил воздух. Комнату заполнили приземистые бочонкообразные жуки, будто панцирем облитые хитиновыми крыльями. Самый важный из них, с алмазной перевязью поверх желтых члеников брюшка, прошипел, смыкая на подбородке множество крючковатых жвал:
– Из-ме-на!
У милорда Экогаля поплыли на лоб квадратные брови.
– Гусмар, названый брат мой, – ласково сказал он Арлекину, жмущемуся у стены. – Мы росли в одном доме, и одна женщина воспитала нас.
Арлекин, торжествуя, сверкнул угольями из мохнатых ресниц.
– Эта женщина, милорд, давала вам сахарный хлеб, а мне – только пощечины. Вы жили в замке, окруженный слугами, готовыми исполнить любой ваш каприз, а я каждый день возвращался к себе в конуру, где скреблись крысы и кашляла больная мать. Вы били меня во время игр, а я не смел ответить вам тем же. – Он перевел дух и заключил с едкой иронией: – Мы и теперь не равны, милорд: вы умрете, а я получу дворянство и орден Тьмы из собственных рук Его Святейшества.
– Что ж, – хладнокровно сказал бритоголовый. – Значит, не осталось в мире чести и благородства. Что ж, прощайте, мадонна, храни вас бог, мы не увидимся более… – Он поддернул перчатки и ободряюще кивнул Игнациусу: – А вы, сударь, постарайтесь умереть достойно.
Цепкие лапы схватили их. Игнациус попытался освободиться, но его будто спеленали. Как две птицы, мелькнули широкие рукава Аниного платья.
– Встретимся на Млечном Пути, где цветут папоротники небытия!.. – звучно крикнул милорд Экогаль, круша кулаками неповоротливые пластинчатые черепа.
Вырваться из жестких объятий было нельзя. Игнациуса притащили в громадный каменный зал, грубые своды которого терялись в темноте. Ржавый свет факелов плясал по скалистым ребрам, и цепь шестируких стражников, озаренная им, мрачно выставляла короткие пики. За бескрайним низким столом, скрестив лапки перед чернильницами на зеленом сукне, окруженные почтительными секретарями, сидели три жука, сплошь увешанные регалиями. Средний, у которого ветвились жестяные рога на затылке, сразу же приподнялся.
– Вы обманули нас! – скрипучим, как железо, канцелярским голосом произнес он. – Вы тайком проникли в Ойкумену, чтобы разрушить механизм часов. Жалкая попытка! Неужели вы хоть на секунду могли помыслить, что мы оставим без внимания дочь Мариколя? Вы сочли нас глупыми и коварными. Но мы не глупы и не коварны. Мы милосердны к друзьям нашим, мы щедро платим тем, кто верой и правдой неутомимо служит великой цели, но врагов и предателей мы караем беспощадно: память о них исчезает в темных водах Овена.
Жук качнул своими рогами – приказывая.
Семеня короткими ножками, изогнув верхнюю часть тела, выползла из темноты одутловатая, щетинистая гусеница высотой в человеческий рост и развернула перед белыми, будто незрячими глазами свиток пергамента, украшенного сургучной печатью на плетеном багровом шнурке. Игнациус с удивлением узнал в ней Градусника – срезанная челюсть и редкие, липнущие от одеколона волосы.
– Неусыпным наблюдением попечителей за дочерью Мариколя установлено, – загнусавила гусеница, упершись носом в пергамент, – что во время пребывания в человеческом мире, каковые пребывания были ей милостиво разрешены членами Тайного Верховного Совета, дочь Мариколя допускала нежелательные и вредные знакомства среди людей, каковые знакомства превосходили степень обязательности, милостиво разрешенной ей членами Тайного Верховного Совета, каковая дочь Мариколя скрытно сблизилась и многажды беседовала на неизвестные темы с неким Игнациусом, пребывающим здесь, каковой Игнациус по представлению Геральдической комиссии происходит из проклятого рода Знающих, каковой род был милостиво запрещен к проживанию в Ойкумене членами Тайного Верховного Совета и осужден на вечное изгнание, каковое знакомство перешло в преступное расположение и дружбу, нарушив тем самым закон о неприближении к дочери Мариколя, каковой Игнациус вероломно обманул попечителей Тайного Верховного Совета и вступил в злодейский заговор с вероотступником и отщепенцем милордом Экогалем, каковой милорд Экогаль неоднократно возмущал граждан наших прискорбными речами о двойственности мира и разделенности его на радости и печали, каковая печаль в природе не существует, а каковая радость милостью членов Тайного Верховного Совета и во веки веков пребывает только в Ойкумене, каковой Игнациус по приглашению милорда Экогаля прибыл в Ойкумену с целью смещения Звездного Круга и Трех Радиантов его, каковые незыблемы, в чем и обличен полностью, неоспоримо и клятвенно подтверждено благонамеренными гражданами в количестве трех, каковые пребывают в неизбывной радости…
– Ваше Святейшество, они обручены, – внятно сказал Арлекин, делая шаг вперед.
Рогатый жук плюхнулся в кресло и задвигал всеми шипастыми ножками: вва… вва… вва… – в полной беспомощности. Чешуя из наград на его груди забренчала. Другой судья, похожий на носорога, бугорчатый и неуклюжий, резко подался к Арлекину, словно желая пронзить его костяным бивнем, и прохрипел, надувая у рта ядовитые пузыри:
– Кто посмел?!
– Милорд Экогаль, – отчетливо сказал Арлекин и, сделав шаг назад, пропал во мраке.
Трое судей уставились на Игнациуса бархатными непроницаемыми глазами. Я не боюсь, чувствуя противный озноб, подумал он. И повторил очень громко:
– Я не боюсь!
Тотчас же из-за спины его, изящно перебрав сухими ногами, совершенно бесшумно вынырнул громадный, подтянутый крапчатый богомол и неуловимым для глаз движением скрестил над головой метровые заточенные пилы. Беловатая жидкость с шипением сочилась по ним.
Это был Стас.
Игнациус отшатнулся.
Тогда третий жук, с хитиновыми ушами как у слона, махнул лапкой, и гусеница опять торопливо загнусавила:
– Каковой Игнациус приговаривается ко всеобщему и окончательному пожранию, каковое пожрание осуществится в полночь сего дня, при ясной луне, каковая полночь будет объявлена праздником во время боя часов… Каковой милорд Экогаль приговаривается ко всеобщему и окончательному пожранию, каковое пожрание осуществится в полночь сего дня, при ясной луне, каковая полночь будет объявлена праздником во время боя часов… Каковая дочь Мариколя милостивым решением членов Тайного Верховного Совета приговаривается к заключению на срок до боя часов, а затем – к замужеству, каковое замужество определит милостивая воля членов Тайного Верховного Совета…
Игнациуса тащили в гробовой темноте, которая остро пахла плесенью и гниющим деревом, душный запах этот перемешивался с кислой вонью, исходящей от стражников. Света не было совсем. Сыпалась сухая земля за шиворот. Железными клыками лязгнула дверь. – Не туда, – сказал кто-то могучим прокуренным басом. – Туда, туда, сегодня у них брачная ночь, – пискляво объяснил другой. Надрываясь, заржали, зачмокали. Смертельно взвизгнул засов. Игнациус обо что-то споткнулся. – Кто здесь? – быстро спросил он. – Я, – жалобно ответила Аня. Осторожно притянула его к себе и обняла, спрятав лицо на груди. – Мы погибли, милорд Экогаль схвачен, в полночь тебя казнят. – Не плачь, мы выберемся, – сказал Игнациус. Она вдохнула горячие легкие слезы. – Завтра я стану женой Фукеля. Бедная Ойкумена! – Неужели ничего нельзя сделать? – целуя ее в висок, шепнул Игнациус. Аня покачала головой. – Они завладели печатью Гнома, это власть над всеми полнощными душами. – Глаза уже стали привыкать. Из окошка в толстой стене пробивался фиолетовый тусклый луч. Камера была совсем крошечная. Вероятно – мешок. Игнациус ощупал цементную кладку без единой щели, подергал чугунные мощные прутья. Не выломать. Жизнь кончалась – в дурацкой подземной тюрьме. Где-то далеко ударило тяжелым медным звоном. – У нас есть еще целых шесть часов, – прислушиваясь, сказала Аня. Игнациус опустился перед ней на корточки. – Зачем мы вместе? – Нужен ребенок, – тихо сказала Аня. – Ребенок? – спросил Игнациус. – Я – дочь великого короля, потом Фукель убьет меня и станет регентом. – Скотина, – сказал Игнациус. Аня засмеялась счастливо: – Подумаешь! Иди ко мне. Иди ко мне и – будь что будет! – У нее редко и сильно стучало сердце. На губах сохранился тревожащий вкус эликсира. Непрерывно шуршало. Наверное, бегали крысы в коридоре. Быстро и глухо звякнул какой-то металлический предмет у дверей. Игнациус подхватил его – связка ключей! – Старый добрый Персифаль! – радостно сказала Аня. С неожиданной силой надела ему что-то на мизинец. – Если спасешься – вот кольцо Мариколя… Звездочет в Главной Башне… Покажешь ему… Надо повернуть Звездный Круг… Поклянись мне! – Клянусь! – сказал Игнациус. Осторожно приложил ухо к дверям. Все было спокойно. Он вставил нужный ключ, и дверь отошла.
– Помоги нам Овен, – отчаянно прошептала Аня.
Стены действительно были земляные, а с потолка свисали холодные голые корни. Как мышиные хвосты. Значит, тюрьма находилась под садом. Горели какие-то шевелящиеся пятна над головой. Игнациус мазнул пальцем – это были светляки. Открыли еще одну дверь. В грязной, обшитой трухлявыми досками караульной перед кувшином с отбитыми ручками, пригорюнясь на маленький кулачок, из которого торчал рыбий скелет, сидел тюремщик. – Слюни текли по оливковой бляхе у подбородка. – А тово-етово, етово-тово… – нетвердо удивился он, пытаясь подняться. Ноги у него разъезжались. Видимо, здорово наклюкался. Игнациус без промедления ударил его в челюсть, и жук опрокинулся на спину, вяло заскреб воздух всеми шестью конечностями. Но – пронзительно заверещал. И мгновенно откликнулись – близкие писки и возгласы. Игнациус, нагнувшись, вытащил шпагу из ножен.
– Скорее! – стонала Аня.
Они проскочили запутанный коридорный лабиринт и ворвались в небольшой зал, целиком ограненный узкими зеркалами.
– Отсюда – потайной ход!
Она вдавила завиток оправы – призматический край отъехал, обнажив люк в густой волосатой ржавчине. Его не отпирали, наверное, лет двести. Игнациус не попадал прыгающими ключами. Заливалась тревога, и слышались возбужденные голоса. Наконец прикипевшая крышка с трудом поддалась. Овальная дыра пахнула могильной почвенной сыростью. Теньк! – одновременно повернулись боковые зеркала. Изо всех щелей, как клопы, бестолково полезли стражники. Двое ловко и бережно подхватили Аню, а другие кинулись на Игнациуса. Он неумело махал шпагой. Вдруг она уперлась во что-то жесткое и с трудом вошла. Один из жуков рухнул, дергаясь половинкой тела, остальные – отпрянули.
– Беги! Тебя ждет Звездочет! – крикнула Аня, выгибаясь в хрустящих лапах.
Стражники надвигались. Игнациус, угрожая клинком, протиснулся в мокрую черноту земли и со звоном ударил крышкой. В нее сразу же заколотили. Побежал – невозможно сутулясь. Потолок был шершавый и низкий. Мешала шпага. Впереди вдруг забрезжили неясные контуры дня. Шевеление, выступы, очертания. Он нажал из последних сил. Это был выход. Ступеньки, ведущие к свету, охраняли два хлипких жука с папиросами. Оба ахнули и в ужасе присели, побросав алебарды. Игнациус сшиб их с размаху калеными лбами. Сзади вырастал панический топот. Люк, по-видимому, уже сломали. Он взбежал по ступенькам и вывалился наружу. Был двор, стиснутый домами без окон, окруженный глухой кирпичной стеной, верх которой лизали желтые сугробы до плеч. Под одинокой вздрагивающей лампочкой свистел снег. Узкая тропинка вела к полуоткрытым воротам. Дворник в тулупе, разгребающий створки, поспешно загородился лопатой.
– Привет, Эритрин! Как отсюда выбраться? – задыхаясь, спросил Игнациус.
У того робко выползла макушка из глубины поднятого воротника.
– Ага! Откуда ты взялся? Я же тебе говорил: не лезь! – натолкнулся взглядом на шпагу и мелко попятился.
Ожесточенный писк выстреливал из распахнутого подвала.
– Связался с этой бабой! – испуганно сказал Эритрин. – На кой она тебе сдалась, она же ненормальная, хочешь, я тебя познакомлю: в сто раз лучше и совсем недорого… Постой, постой, подожди секундочку!..
Игнациус оттолкнул его и выбежал из ворот.
На вечерней улице искрились пушистые тротуары. Спешили прохожие, занятые своими послерабочими делами. Прокатился безлюдный заиндевелый трамвай, а вслед за ним – два пыхтящих грузовика. Почему-то все выглядело как обычно. Он обернулся. Эритрин под роящимся конусом лампочки, держа лопату наперевес, объяснял что-то двум приземистым темным фигурам. Объяснение было трудное. Игнациус быстро пошел и свернул за угол. Черно и жирно блестели парящие полыньи на Фонтанке. Это была именно Фонтанка. Он узнал. Площадь Репина. Выпуклый сквер посредине. Мост с четырьмя цепными башенками. Ему было жарко. Он расстегнул пальто. Насквозь пронзил снежный колючий ветер. Шапку и портфель он, разумеется, потерял. Встречные шарахались от него. Он заметил, что до сих пор сжимает в руке серебристую шпагу. Тогда он бросил ее на мерзлые рельсы, и она зазвенела.
Глава 4
Елка сверкала веселой мишурой, и густой запах хвои наполнял комнаты. Пестрели гирлянды. – Хочу колбасу, – немедленно заявил Пончик и, получив ее, слопал вместе с кожурой. – Хочу вон той рыбы, – и тоже мгновенно слопал. – Хочу пирожное… – Игнациус примерился, чтобы дать ему по отвислым пухлым губам, но пирожное возникло будто ниоткуда, и Пончик смолол его в ноль секунд, а потом, уже благосклоннее, высказался в том духе, что пора бы перейти к лимонаду. Мама Пузырева умилялась: – Весь в дедулю. – Папа Пузырев, одобряя, кивал министерскими седыми морщинами. Разумеется, Пончик был весь в дедулю. По уму, по характеру. Не в отца же, в конце концов. Игнациусу вообще казалось, что он здесь вроде мебели: передвинули в одну сторону, потом в другую, а затем очень мягко, но решительно усадили под еловые лапы, чтобы не торчал на проходе. – Изобрази счастливое лицо, сегодня праздник, – шепнула Валентина в самую сердцевину мозга. Будто воткнула иглу. Игнациус даже дернулся. Они не разговаривали уже неделю. Перегнувшись, он заглянул в трюмо: бледное сырое непропеченное тесто, две угрюмых изюмины вместо глаз и оттопыренные пельмени ушей. Зрелище малопривлекательное. Он изобразил на лице радость. – Перестань гримасничать! – сразу же шепнула сеньора Валентина. Он – перестал. Было скучно. Из телевизора лилось нечто задушевное. Мигали разноцветные огни и склонялись к рампе немолодые грудастые девушки в сарафанах. Игнациус незаметно убавил звук, но мама Пузырева, потянувшись за хлебом, как бы невзначай прибавила его снова. Тогда он начал жрать маринованные помидоры. Он накалывал вилкой дряблые пустые морщинистые тела и целиком запихивал их в рот. После чего жевал – с тупым усердием. Пламенеющий сок стекал по подбородку. Из-под вилки вырывались неожиданные фонтанчики. Он был здесь совершенно чужой и поэтому словно отсутствовал. Горы желтого салата закрывали его. – Саша скоро защищается, – напряженно сказала сеньора Валентина. Знакомые красные пятна появились у нее на лице. – Я вас поздравляю, – ответила мама Пузырева, улыбнувшись прозрачному заливному. – Это было очень непросто, но Саша добился. – А когда именно? – поинтересовался папа Пузырев, доставая запотевшую бутылку шампанского. – Шестого, в понедельник, – сказала Валентина. И голос у нее зазвенел. – Так быстро, какой молодец, – похвалила мама Пузырева, глядя в рокочущий телевизор. – Шестого лишь репетиция, – сумрачно пояснил Игнациус, – если все пройдет нормально, тогда… – Мама, я хочу курицу, – объявил Пончик, намазывая крем на селедку. – Съешь сначала рыбу, потом получишь. – А я хочу сейчас. – Не капризничай, – сказала сеньора Валентина. – Я не капризничаю, я хочу курицу. – Возьми, возьми, вот этот кусочек, – сказала мама Пузырева, переправляя в тарелку Пончика четыре раздутых ноги. – Мама, слишком много, – недовольно сказала Валентина. – У ребенка прекрасный аппетит, пусть кушает, сколько хочет… – Папа Пузырев забыл про шампанское. – В шестьдесят восьмом году, когда я работал в институте, у нас защищалась некая Капелюхина, – хорошо поставленным басом сказал он. Все незамедлительно отложили вилки. Даже Пончик, который, по-видимому, слегка осовел. Папа Пузырев любил рассказывать поучительные истории. Он их знал великое множество. Игнациус с тоской посмотрел на часы. Время уже приближалось к двенадцати. Жизнь мучительно уходила по капле, минута за минутой сочась с циферблата.
К счастью, спасительно задребезжало в прихожей, и он сломя голову ринулся к телефону, боясь, что опередят.
– Да!
– Это – я, не бросай трубку, – предупредил Эритрин. – Мне обязательно нужно с тобой поговорить.
Игнациус выругался вполголоса и ногой прикрыл дверь, чтобы его не слушали.
– Оставь меня в покое, – раздраженно сказал он. – Я же тебе объяснял – пятьдесят шесть раз…
– Нашлись твои вещи, – жалобно сказал Эритрин. – Шапка, дипломат, можешь забрать их.
– Выброси на помойку, – посоветовал ему Игнациус.
– Я не могу…
– Ну тогда продай – с небольшой наценкой.
– Ты ничего не понимаешь, – сказал Эритрин. В голосе его прорвались безумные панические нотки. – Это же – кошмарные люди, оборотни…
– Надоело, – сказал Игнациус.
– Они способны на все…
– Посмотрим.
– Верни кольцо, – умоляюще попросил Эритрин. – Они готовы заплатить. Сколько ты хочешь?
– У меня его нет.
– Любую разумную сумму. Я с ними договорюсь…
– У меня его нет.
– Не обманывай, не обманывай, – жарко и беспомощно сказал Эритрин. – Она отдала кольцо тебе, есть свидетели. Ты даже не представляешь, чем мы рискуем…
– Хорошо, – сказал Игнациус. Испуг, колотящийся в телефонных проводах, как удавка, отчетливо стискивал горло. – Хорошо. Пусть она придет за ним сама. Она выходит из Ойкумены, я знаю.
Эритрин сорвался на крик:
– Ты с ума сошел!.. Забудь!.. Ничего этого не было!..
Почему-то казалось, что он стоит у телефона босой – полуголый, растерянный, очень потный.
– Хорошо, – опять повторил Игнациус. – Тогда не звони мне больше. И передай этим – кто тебя послал, – чтобы они катились к чертовой матери. Понял? – Не дождавшись ответа, нетерпеливо подул в трубку. – Рома? Алло! Эритрин! Куда ты исчез?
На другом конце линии невнятно завозились, что-то рухнуло, бурно посыпалось на пол, и вибрирующий, полный страха, растерянный голос Эритрина произнес: «Не надо, не надо, я ни в чем не виноват… – а затем, чуть попозже, захлебываясь тоской: Что вы делаете?.. Оставьте!.. Пустите!..»
Разорвался, как будто его отрезало.
– Рома, Рома, – механически повторял Игнациус, чувствуя, как ужасно немеет сердце. – Что случилось, Рома? Почему ты не отвечаешь?
Мембрана тупо потрескивала. Из гнутой пластмассы, из круглой, внезапно онемевшей слуховой дыры будто потянуло ледяной струей. Игнациус бережно, как гранату, положил трубку на рычаги и на цыпочках, тихо пятясь, отступил в привычную кухню. Ерунда, ерунда, подумал он, успокаивая сам себя. Выдвинул ящик серванта. Папа Пузырев уже давно не курил, но держал для гостей хорошие сигареты. Пальцы не могли сорвать целлофан. А потом – протиснуться в набитую пачку. За окном до самого горизонта, светлея однообразной бугристой равниной, простиралась новогодняя ночь: твердый звездяной отблеск и чахлые ивовые кусты, ободранные вьюгой. Мрак. Унылая пустошь. Отчаяние. Когда они с Валентиной поженились, то родители ее отдали им свою квартиру и построили себе кооператив на Черной речке. Следовало помнить об этом. Он чиркнул спичкой, и кончик сигареты уютно заалел. Тут же, придерживая на груди стопку тарелок, в кухню, как утка, вплыла мама Пузырева и потянула воздух расплющенным пористым носом. Игнациус поспешно открыл форточку. – Дует – сказала мама Пузырева в пространство. Тогда он закрыл форточку. – Извините, Саша, я давно вам хотела сказать… – Не стоит, – морщась, ответил Игнациус. Мама Пузырева сгрузила тарелки в раковину. – Вы плохой отец, – все-таки сказала она. – Наверное, – согласился Игнациус. – Вы погубите ребенка. – Такова моя скрытая цель, – согласился Игнациус. – Мальчик буквально пропадает. – От обжорства, – согласился Игнациус. – Ростислав Сергеевич обещал вам помочь, но вы же не хотите. А в четыреста пятнадцатой школе – преподавание на английском и чудесный музыкальный факультатив, виолончель. – Она явно сдерживалась. Проглотила какой-то колючий комок. На плите в кипящей промасленной латке булькало что-то вкусное. – Я терпеть не могу виолончель, – объяснил Игнациус. – Когда я слышу виолончель, я с ног до головы покрываюсь синенькими пупырышками.
Он бросил ватную сигарету. Ему надоело. Этой осенью Пончик пошел в первый класс, и с тех пор дискуссия о школах не прекращалась. Толку от нее, правда, не было никакого. Одна маета. – Сергей будет учиться рядом с домом, – подводя итог, нетерпеливо сказал он. – Но почему, почему?! – Потому что ближе. – Я могу ездить с ним, – предложила мама Пузырева, вытираясь полотенцем. – Спасибо, – вежливо сказал Игнациус. – И Ростислав Сергеевич может с ним ездить. – Спасибо, – сказал Игнациус. – В конце концов, главное – это Сержик. – Разрешите пройти, Галина Георгиевна, – страдая, попросил Игнациус. Мама Пузырева вдруг шатнула к нему несчастное распаренное лицо, на котором кривились дрожащие губы. – За что, за что вы меня оскорбляете?! – Игнациус даже испугался, что она его ударит. Но она не ударила, по-гусиному вытянула шею в розовых лишайных пятнах. – Вы жестокий, вы самодовольный эгоист, вы презираете нас, мы же видим, вы даже разговаривать не хотите, зачем вы женились на Вале? Вы мучаете ее, потому что она умнее вас, я не позволю! Да, умнее и лучше, вы не можете простить ей свою ограниченность!.. – Галина Георгиевна!.. – выдавил ошеломленный Игнациус. – Вы – злой, вы – злой, вы – лицемерный человек. – Мама Пузырева упала на стул и закрылась скомканным полотенцем. – Простите, Саша, а сейчас – уйдите, пожалуйста, я прошу вас, я не могу вас видеть… – Голые плечи ее вздрагивали, она теребила слезы в мягком носу. Игнациус боялся, что кто-нибудь некстати вопрется. Сделать ничего было нельзя. Никогда ничего нельзя сделать.
Он скользнул в ванную и заперся на задвижку. Включил оба крана – как можно сильнее. Завыли водопроводные трубы. Неделя протекла спокойно. Игнациус развез рукописи оппонентам и подготовил автореферат. Договорился насчет обязательных для защиты рецензий. Обстановка на факультете благоприятствовала. Созоев при встречах здоровался вежливо и непринужденно. О Груне никто не вспоминал. Прошло заседание кафедры. Бубаев – хвалил вопреки всем прогнозам. Рогощук – отмалчивался, в слепоте змеиных очков. Город готовился к празднику, и из магазинов торчали кипучие нервные очереди. Валентина впервые провела испанцев. Ей подарили балалайку, купленную в «Сувенирах». Правда, она утверждала, что это – севильская мандолина. Игнациусу было все равно. Утихали метели. С утра до вечера падал крупный мохнатый снег и взлетала поземка на перекрестках. Прохожие слонялись, выбеленные, как призраки. Машины упирались голубыми фарами в роящиеся облака. Громадная, увешанная пластмассовыми игрушками ель высилась перед Гостиным Двором, и переливчатые огни стекали по ее ветвистым лапам.
Ничего необычного больше не произошло. Хрипела в шарфах и кашлях декабрьская простуда. Дважды звонил Эритрин и орал как помешанный – перемежая мольбы с идиотскими тупыми угрозами. Речь все время сводилась к кольцу Мариколя. Игнациус нажимал на рычаг и прикладывал трубку к пылающему лбу. Сонная улица, четырнадцать. Он не знал, было это с ним или не было, но он не хотел забывать. Ойкумена существовала рядом, как изнанка древнего мира. Как рогатая тень, как загадочная и древняя сущность его. Там скрипели деревянные лестницы и били куранты на ветряной башне, там, шурша коготками, бродили по тесным переходам уродливые панцирные жуки, там, меряя шагами клетку, ожидал казни яростный Экогаль и Аня томилась в подземной тюрьме, где царил тлен корней и попискивающий крысиный сумрак. Огненный Млечный Путь был распахнут над Кругом во всем своем ярком великолепии, и блистающий холод его лежал на цепях и зубчатых колесах. Полночь еще не наступила. Из внутреннего кармана он достал кольцо Мариколя и протер его. Гладкий, спокойный нездешний металл. Сначала он думал, что это серебро, но один знакомый сказал – платина. На кольце была печатка в виде скорпиона, голову и тело которого составлял кровавый бриллиант. Оно едва налезало на мизинец. Игнациус поднес его к лампе, и скорпион зашевелил нитяными лапками.
Будто живой.
В дверь требовательно постучали.
– Что у вас произошло с мамой?
Валентина смотрела в упор, прожигая немигающим коричневым взглядом.
– Ничего, – ответил Игнациус. – Все то же.
– Пойди и извинись перед ней.
– Не за что.
У нее надулись страшные желваки на скулах.
– Иди немедленно!
Игнациус легко отстранил ее. Женятся не потому, что любят. Женятся, потому что пришло время жениться. Бывают такие дни, когда от весеннего солнца, от растрескавшихся горьких почек, от свежего запаха воды над гранитной набережной сладко кружится голова и особенно горячо звенит кровь в натянутых жилах. Сияет хрупкое небо, подпертое шпилями. Слепят блики из чистых окон. Жизнь вращается, как пестрая карусель. Начинается эйфория. Совершаешь необъяснимые поступки. Пленка нереальности обволакивает сознание. Потом она распадается, и в остром недоумении замечаешь неровную вялую кожу, извилистый нос и три черных волосатых родинки под ухом на влажной щеке.
Он прошел в комнату.
В комнате перед вопящим скрежещущим телевизором сидел Пончик – как сытый клопик: барабанный живот и раздвинутые кривые ножки. Глаза у него слипались. Папа Пузырев, уже свекольного цвета и поэтому любящий все человечество сразу, увидев его, очень обрадовался.
– Так вот, Капелюхина, – занюхивая корку хлеба, сказал он.
Игнациус обреченно сел. Эта Капелюхина исследовала прочность куриных яиц. Сложность здесь заключалась в том, что скорлупа должна была быть достаточно твердой, чтобы не биться при перевозках, а с другой стороны – достаточно тонкой, чтобы обычный цыпленок мог сразу проклюнуться. Она заказывала яйца в совхозе и кокала их молотком – с разной силой и под разными углами. Сначала сама, а потом ей выделили лаборанта. Вместе они перебили около миллиона штук. Лаборант не выдержал и ушел в аспирантуру. А Капелюхина стала писать диссертацию. Она писала ее двенадцать лет и все двенадцать лет ела яйца три раза в день – на завтрак, на обед и на ужин. И муж ее питался исключительно яйцами. И все родственники – тоже. А дети настолько привыкли к яйцам, что не могли употреблять в пищу ничего иного. Тем не менее они выросли уважаемыми людьми.
Папа Пузырев назидательно выпрямил палец и опустил локоть в тарелку с салатом. В институте он заведовал АХЧ. Как и полагается отставному ответственному работнику. Теперь должна была последовать густая мораль. Дескать, и от науки бывает польза. Но мама Пузырева, слегка приседая, внесла дымящееся блюдо, на котором вываренный сахарный рис был обложен погребальной зеленью, и грохнула его на середину стола. – Ты – выпил, – сказала она, окаменев желтым подглазьем. – Нисколько. – Папа Пузырев с достоинством вынул пиджачный локоть из хлюпнувшего салата. – А я говорю: ты выпил! – Совсем чуть-чуть. – А я тебе запрещаю! – Ну и что тут такого? – А то, что я тебе запрещаю! – Они ненавидели друг друга давно и спокойно. Игнациус, который никак не мог привыкнуть к таким отношениям, глухо пробормотав: «На минуточку», – начал выдираться из-за стола. Деться ему было некуда. На кухне гремела кастрюлями сеньора Валентина. Он потоптался в прихожей и набрал номер Анпилогова. Гудки на той стороне долго падали в безвоздушное слепое пространство.
Наконец трубку сняли.
– Ну ты даешь, я уже спал, – недовольно буркнул Геннадий.
– Так ведь – Новый год, – сказал Игнациус.
– Подумаешь.
– Я хотел поздравить тебя.
– Это необязательно.
– А во сколько ты лег? – поинтересовался Игнациус.
– Как всегда, в одиннадцать. Будто не знаешь, – уже по-настоящему рассердился Анпилогов.
Игнациус ему позавидовал. Хорошо вот так, изо дня в день, ни на миллиметр не отклоняясь, идти к определенной цели. Он знал, что и завтра Геннадий встанет точнехонько в семь утра и поедет в пустом автобусе на работу, смотреть препараты. У него был пропуск на все праздники.
Он дал отбой, и телефон зазвонил тут же – тревожно, нетерпеливо, как междугородняя, словно дожидаясь этого мгновения.
Игнациус крикнул:
– Прачечная номер шесть слушает!
– Александр Иванович? – не удивляясь, осведомились в трубке.
– Он самый.
– Добрый вечер, Александр Иванович. Я говорю с вами по поручению Фукеля.
– Не знаю такого, – мгновенно похолодев, ответил Игнациус.
– Александр Иванович, – сказали в трубке, твердо, по-иностранному выговаривая слова. – Александр Иванович, не надо валять дурака. Вы должны вернуть это кольцо. Безусловно. Оно вам ни к чему. Кстати, я уполномочен предложить за него вполне приличную компенсацию.
– Нет, – сказал Игнациус.
– Александр Иванович, не упорствуйте, – терпеливо посоветовали в трубке. – Не упорствуйте, не вынуждайте нас применять крайние меры. Это будет чрезвычайно неприятно для обеих сторон.
– Идите к черту, – сквозь зубы сказал Игнациус.
– Вам, конечно, нужны доказательства? Естественно. Расспросите своего друга, когда он очнется…
– Что?
В трубке деловито сообщили:
– Ваш друг, Роман Вескин, лежит сейчас около дома сто пятьдесят четыре по улице Полярников. Это в Купчино, слышали? Где кафе «Уют». Как видите, мы настроены очень решительно. Советую вам вызвать скорую помощь, а потом побеседовать с ним, если разрешат врачи.
– Вы с ума сошли, – прошептал Игнациус.
Он вдруг поверил.
– Поторопитесь, Александр Иванович, а то он не сможет разговаривать вообще. Ну, я еще позвоню.
И раздались короткие сомкнутые гудки.
Игнациус замер – с трубкой. Будто пружинистая, мохнатая шестипалая лапа легла ему на затылок. Звонко цокнули зубы. В проеме дверей появилась Валентина – белые овечьи скулы под завитыми кудряшками.
– Мы тебя ждем!
– Зачем? – не понял Игнациус.
Валентина отчетливо покрутила пальцем у виска. Исчезла. Он, как сквозь вату, услышал скомканные далекие голоса, перешарк многих стульев, быстрый хлопок шампанского, и вслед за этим – протяжный, гулкий торжественный бой курантов.
Наступил Новый год.
Глава 5
Аудитория была битком набита. До самого потолка поднимались ряды очумелых расплывчатых лиц. Игнациус даже остановился. Откуда столько народа? Не должно быть столько народа. Очень плохо, что столько народа. Он поклонился, как паяц на шарнирах, и гомон утих, сменившись вдруг зловещей натянутой тишиной. Воткнулись любопытные взгляды. Его бросило в жар. Настенные часы в блестящей металлической шине показывали половину четвертого.
– Ты рехнулся, – отчетливо и зло прошептал Анпилогов справа.
Был весь крысятник: Бубаев-старший, взбивающий пальцами раздвоенную холеную бороду, и Бубаев-младший – согнутый, как интеграл, и крыса-Хипетин в халате, катающий между губ не зажженную тонкую сигарету, и крыса-Молочков, расчесывающий корни белобрысых волос.
Элеонора, придерживая ладонями крылатый шиньон, будто фурия, вбежала в аудиторию:
– Ах, Саша, вы – здесь! А я ищу вас по всему институту!..
И гадючник тоже собрался полностью: крепкая, сухая, посаженная на длинную шею, плоская голова Рогощука сияла гипнотическими очками, и вокруг нее, словно оберегая материнское гнездо, ядовитым цветком покачивались такие же крепкие, сухие, приплюснутые, осторожные, слабо шипящие головы. А за кафедрой, перед школьной доской, испачканной мелом, смежив раскосые янтарные глаза, как воскресший коричневый Будда, посапывал во сне лично Мамакан – жевал пустоту мягким трехслойным подбородком.
И Созоев постукивал карандашом по графину:
– Бу-бу-бу-бу… – что-то неразборчивое о планах кафедры на этот год.
Жека толкнул локтем в бок:
– Я сегодня был у него, он не хочет тебя видеть…
– Ладно, – переживая за свое опоздание, сказал Игнациус.
– Странно, но так и велел передать: я его больше не знаю…
– Ладно, – переживая, сказал Игнациус.
Эритрин находился в больнице. У него была повреждена челюсть и сломаны два ребра. Кроме того – сотрясение мозга. Похоже, что его били кастетами. Он пролежал на морозе около двух часов и здорово простудился. Опасности для жизни не было никакой. На другой день явился следователь, но не смог выяснить ничего существенного. Эритрин торопился в гости, а на перекрестке Полярников и Новостарской у него попросили закурить. Кажется, их было трое. Он точно не помнил. Когда полез во внутренний карман за сигаретами, то высокий, в расхлюстанной лисьей шапке, ударил его под дых. Без какого-либо предупреждения. Дальше была только боль. Омраченье. Удары. Искры, сыплющиеся из глаз. Деньги и вещи остались в целости. То есть, видимо, не ограбление. Внешность нападавших он описать не сумел. Все произошло слишком быстро. Однако утверждал, что никого из них раньше не видел. Адрес и фамилию приятеля, к которому шел, назвать отказался. Дескать, не имеет отношения к делу. Хулиганство, о чем еще говорить. В последнее время он ни с кем не ссорился, врагов у него нет, и он никого не подозревает. Вот такая история. Было только странно, почему пострадал Эритрин, а не сам Игнациус. Он вчера ездил на Сонную улицу – подняв воротник и сутулясь, чтобы не узнали, прошел вдоль чугунной ограды: ворота в оглохший сад были заперты и перевязаны цепью, а двери под треугольным козырьком заколочены крест-накрест – широкими толстыми досками.
И никаких следов на хрупкой корочке наста.
Вероятно, все нити были оборваны. И Созоев уже перестал бубнить.
– А позвольте вопрос? – сразу же сказали в середине аудитории.
Бубаев-старший огладил раскидистую бороду.
– Вопрос самый элементарный: зимой и летом – одним цветом?
Крысятник восторженно запищал, и звериные хищные мордочки повернулись к кафедре.
Но Созоев не растерялся.
– Патефон, – чрезвычайно спокойно ответил он.
– Почему патефон?
– А – патефон, и все.
И Бубаев подавленно шлепнулся на скамью.
– А тогда позвольте другой вопрос? – Рогощук, даже не вставая, далеко над сиденьем вытянул свое гуттаперчевое тело. Будто кобра. Прорезались жилы на шее. – Без окон, без дверей, полна горница людей?
И сверкнул по рядам бифокальными мощными линзами.
– Патефон, – опять ответил Созоев. Неприятно набычился, снизу оглядывая аудиторию. – Еще есть вопросы?
И Рогощук тоже втянулся обратно. А гадючник венчиком сомкнулся над ним, и – шур-шур-шур – задымилось участливое шипение.
– Ну, старик сегодня в ударе, под корень рубит, – восхитился Жека.
Две навозные мухи вдруг закружились над макушкой его. И одна из них весело пискнула:
– Привет, ребята!..
Аудитория загудела.
– А тогда позвольте выступить! – опомнившись, закричал Бубаев. И, не дожидаясь разрешения, бодренько покатился вниз. Голый крысиный хвост высовывался у него из разреза пиджака и, как проволока, хлестал по скамьям.
Игнациус инстинктивно поджал ноги.
– Мне это не нравится, – довольно громко заявил Анпилогов, убирая журнал на английском, который читал.
Встала Элеонора и отряхнула роскошную рыжую шерсть вдоль предплечий.
– Даю справку по процедуре заседания, – невыносимо растягивая слова, произнесла она. Открыла толстенную книгу, переплетенную в дерматин, перелистнула несколько папиросных страниц и продекламировала, как в первом классе, тоненьким, очень старательным голосом:
– В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Зайчишка-зайка серенький под елочкой скакал, порою волк, сердитый волк, под нею пробегал!..
Аудитория загудела еще сильнее.
Игнациус ничего не понимал. Лишь таращился – до боли в распяленных веках. Осторожно, украдкой пощупал себе лоб – холодный. Придавил, загибая, мизинец о край стола. Кажется, ничего не изменилось.
Обезумевший Жека с размаху заехал ему по спине:
– Не робей, Александр! Матросы не плачут!
А навозные мухи немедленно подтвердили:
– Ништяк!
Между тем неутомимый Бубаев все-таки взгромоздился на кафедру.
– Я не позволю вам профанировать! – яростно фыркнул он, поводя из стороны в сторону нежными розовыми ноздрями. – Вы не имеете права, я все равно скажу! – И, подняв пятерню, загундосил, как будто из бочки: – На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной… Кто ты будешь такой?
Вопрошая – как демон, уставил зрачки на Игнациуса.
Игнациус зашевелился.
– Не отвечай, не отвечай, – громко и высокомерно посоветовал ему Анпилогов, кладя ногу на ногу. – Не надо дискутировать, он на это и рассчитывает.
– Не буду, – согласился Игнациус, поднимаясь.
Желтый амфитеатр крутанулся вокруг него.
– Ты куда?
– Ухожу.
Его схватили с обеих сторон:
– Саша!..
– Не валяй дурака!..
– Они специально затеяли!..
– Бубаев хотел пропихнуть сына!..
– Поэтому!..
– У них ничего не выйдет!..
– Есть решение ученого совета!..
У Игнациуса неудержимо плыла голова. Свет из облепленных снегом окон шел – тусклый. Серые прозрачные перья роились в воздухе. Аудитория жужжала, как гигантский улей. Созоев, продолжая бормотать, снял очки и втянул голову под черепаший панцирь. Оцепенел – на годы. Мамакан величественно спал, булькая и вздувая мыльные пузыри на губах. Рогощук, неведомым образом очутившийся внизу, будто ветряк, мельтешил руками, выкрикивая: – Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик погулять! Вдруг охотник выбегает! Прямо в зайчика стреляет! Пиф! Паф! Ой-ёй-ёй! Умирает зайчик мой!.. – А вот это ты видел? – спокойно отвечал ему Бубаев, поднося к самому носу здоровенную красную фигу. В свою очередь задирал обе лопатообразных руки, беззастенчиво дирижируя: – Жили у бабуси два веселых гуся! – И весь крысятник, как по команде, подхватывал: – Ай люли, ай люли! Два веселых гуся!.. – топали ногами в пол, барабанили по скамьям ладонями. Зинаида, отчаянно скрежеща, вращала ручку списанного арифмометра. Фонтаном пенились цифры. Бубаев-младший вместе с Хипетиным забрались на парту и оглушительно свистели в два пальца, приседая, по-видимому, от натуги. Как упившиеся соловьи-разбойники. Крамм, из гадючника, не выдержав их наглого торжества, разорвал зубами реферативный журнал, очень быстро скатал увесистый ком бумаги и запустил им в Хипетина – точно по лбу: – Схлопотал, крыса белая?!. – В ответ Хипетин плюнул, и у Зинаиды потекла тушь на ресницах. Девицы из ее лаборатории пронзительно завизжали, и Хипетин в мгновение ока оказался погребенным под острыми топочущими каблуками – взлетели манжеты, пуговицы, белые клочья халата. Злобный Ковырнос, тоже принадлежавший к гадючнику, ухватил Молочкова за галстук и, дергая, начал колотить его носом о парту, зверски приговаривая: – Сдохнешь – не прощу! Сдохнешь – не прощу!.. – Умира-а-аю!.. – блеял гибнущий Молочков. – Заступи-и-итесь, члены ме-е-естного комите-та!.. – Коричневая доска, как стена судьбы, нависала над кафедрой. Странные нечеловеческие знаки были начертаны на ней. Элеонора, обжигаясь, стирала их кончиком лисьего хвоста, но они загорались вновь – зелеными неоновыми трубками. – Наша взяла!.. – завопил Рогощук и, подпрыгнув к квадратному подбородку Бубаева, вцепился ему в бакенбарды. Тогда Бубаев без долгих размышлений дюбнул его кулаком по уху, и Рогощук, не выпуская бороды, описал круг в воздухе, задев подметками Мамакана.
– Я – здесь! – глубоко из нутра отозвался дремлющий Мамакан. С чмоканьем разлепил веки: – Тэкс! – Не торопясь принял у Элеоноры тяжелый том в дерматиновом вытертом переплете, немного подумал: – Тэкс! – и шандарахнул им Бубаева прямо по черепу.
– Выходили гуси, кланялись бабусе… – перекосившись, видимо на остатках разума, просипел выключенный Бубаев. Покачался и шмякнулся как бревно. Ботинки у него слетели, а сквозь драные носки засветились мозолистые тупые пятки.
– Не надо, не надо! – жалобно простонал Рогощук, извиваясь, защищая себя локтями. Но пятьсот страниц «Правил и комментариев» уже всей массой обрушились на него, и змеиная голова провалилась в плечи, оставив между ними идеально ровную пустую площадку.
– Регламент, – солидно объяснил Мамакан, просыпаясь и держа увесистый том наготове. – А еще кто будет выскакивать – башку проломлю!
Порядок кое-как восстанавливался.
Из крысятника тихонечко спустились трое и, взяв Бубаева за ноги, потащили его наверх. Очумевший, истерзанный Хипетин собрал ботинки. И еще двое, теперь уже из гадючника, понесли обезглавленного Рогощука, который провисал между ними, будто гибкий резиновый шланг.
А внутри у него что-то булькало.
– Ну, это уж слишком, теперь моя очередь, – побурев до ногтей, стервенея, сказал Анпилогов. Громко скрипя суставами, сильно кренясь вперед, прошагал на кафедру, отодвинул вновь задремавшего Мамакана. Игнациус с испугом увидел, что он весь – деревянный, занозистый, с кольцевыми разводами сучков на щеках. А вместо волос – темная картофельная ботва.
– Общая проблема, рассматриваемая здесь, – ощутимо злясь и оттого отчеканивая каждую букву, произнес Анпилогов, – сводится к ряду экстремальных задач на условный минимакс. Согласно Позднышеву и Браве, наилучшей конформной проекцией сознания для данной области знания является та, крайняя изокола которой совпадает с контуром очерченного сознания. – Помолчал и строго посмотрел в аудиторию. Там ошарашенно притихли. – Верно? – спросил он. – Верно, – вразнобой ответили из рядов. – Но тогда, как следствие, сознание наименее отклоняется от нуля при максимальной кривизне воображения, – сухо заключил Анпилогов. Опять помолчал и отрывисто, резко кивнул: – Благодарю за внимание.
После чего возвратился на место и нервно сказал Игнациусу:
– Извини, Александр, я обязан был выступить. Я даже не тебя защищаю. Просто некоторые вещи нужно говорить прямо и грубо – как они есть, иначе о них будут забывать.
– Я понимаю, – с тоской ответил Игнациус, глядя в деревянные потрескавшиеся глаза.
Жека с другой стороны, обнимая его, как в пивной, не смущаясь, заталкивал в ухо пузырящийся дружеский шепот:
– Эмма мне все рассказала, ты – просто чокнутый, я не знаю сейчас, кто из вас прав, Валентина, конечно, тоже не подарок, но ведь глупо бросать налаженную семью, потому что потом придется буровить все сначала: квартира, дети, – если возникает что-то на стороне, то совсем необязательно информировать об этом жену, наоборот, – жизнь становится гораздо приятнее, Эмма не спрашивает меня, куда я иду, а я не спрашиваю ее, мой тебе совет: наплюй, Валентина – хорошая баба, осточертело в КБ, бегает по выставкам, свихнулась на испанцах – ладно, пусть водит группы, бывают сдвиги похуже, конечно – дура, но зачем ломать навсегда – немного внимания, подарок к празднику, и она тебя обожает, главное – никаких забот; ты улавливаешь мою мысль, Александр?
Игнациус улавливал. Советы хороши для того, кто их дает. Ошарашенный внезапной паузой, он выпрямился. Почему-то все смотрели на него. Тишина в аудитории стояла жуткая, как в подземелье.
– Прошу вас, Александр Иванович, – нетерпеливо повторил Созоев.
Видимо, уже не в первый раз.
В полном одиночестве, протыкая молчание шагами, Игнациус поднялся по трем ступенькам. Намокающий воздух загустел от злобы и неприязни. Тем не менее он почти не волновался. Волноваться ему было незачем.
Все это не имело никакого значения.
– Мой доклад посвящен некоторым вопросам прямого взаимодействия гарбонов с точечными марками при делении цикариоля, – сказал он.
– Ого! – выдохнули под потолком.
Аудитория остолбенела.
Очень обыденно вошел Грун и сел на свободное место. Он был в своем неизменном черном свитере, растянутый ворот которого открывал ключицы, и в выцветших джинсах. Он нисколько не изменился. – Здравствуй, Федор, – сказал Игнациус. – У меня сегодня предзащита. Говорили, что ты умер, а ты нисколько не изменился. – Здравствуй, Саша, – ответил ему Грун. – Не переживай насчет моих данных, мне теперь уже все равно, я давно об этих данных забыл. – Почему ты ушел из института, мы очень волновались? – спросил Игнациус. – Со мной произошла странная история, – ответил Грун, – я потерял себя, вся жизнь переломилась, вероятно, я должен был отсюда уйти. – Со мной тоже произошла странная история, – сказал Игнациус, – сегодня я вдруг опоздал на заседание кафедры: я пришел вовремя и вдруг выяснилось, что я – опоздал. – Ты живешь в двух временных измерениях, – сказал Грун, – они сталкиваются и порождают хаос, от которого меркнут звезды. – Два времени? – спросил Игнациус. – Два времени, – подтвердил Грун. – И еще вокруг меня какое-то черное безумие, – сказал Игнациус, – все говорят и поступают так, словно они сошли с ума. – Это Ойкумена, – не сразу ответил Грун. – Ойкумена? – Я тебе не мешаю, Саша, ты ведь должен читать доклад? – Нет, – объяснил Игнациус, – я выучил доклад наизусть, я повторил его пятьдесят раз и могу говорить механически. – Это Ойкумена, – опять сказал Грун, – по невидимым порам она бесшумно просачивается в мир и обволакивает тебя, засасывая в глухую полнощную топь, ты уже частично принадлежишь ей. – Что же делать? – запинаясь спросил Игнациус. – Отдать кольцо и забыть. Как тебе советовали, – сказал Грун, – это – единственный выход. – Я не хочу, – сказал Игнациус, – я люблю ее, я искал ее всю жизнь, я ее нашел, никакая Ойкумена не заставит меня отказаться от нее. – Победить или умереть? – спросил Грун. – Победить или умереть, – подтвердил Игнациус. – Ну, мне пора, – сказал Грун, – сейчас начнется небольшой ералаш, старик уже машет руками.
– Подожди, я с тобой, – попросил Игнациус.
Но Груна не было. Была знакомая кошмарная аудитория, залитая худосочным электричеством, в искристо-желтом туманном нутре которого, будто водоросли, колыхались нерезкие фигуры.
И Созоев действительно махал руками:
– Хватит-хватит, вы переутомились, Саша!.. Хватит-хватит, вам надо отдохнуть!..
Жека и Анпилогов, оба с вытянувшимися лицами, почему-то заботливо поддерживали его под локти, а перепуганная Элеонора совала стакан мутной воды:
– Пожалуйста, Александр Иванович…
Игнациус не понимал – при чем тут стакан, но, робея, послушался. И когда он пил теплую, затхлую позавчерашнюю воду, то десятки глаз с жалостью и плохо скрываемым удовлетворением любопытно ощупывали его.
– Я вас отпускаю, вы можете не ходить на работу, пока не поправитесь, – громогласно объявил Мамакан. – Правильно, Андрей Борисович? – Созоев сдержанно покивал. – А от себя рекомендую: каждый день перед сном растираться подогретой кошачьей мочой. Я таким образом вылечил застарелую грыжу. У вас кошка есть?
Игнациус повернулся и как лунатик – не видя – пошел на расступающиеся перед ним одинаковые серые колеблющиеся фигуры.
Было ясно, что все теперь – позади.
– Знаешь, что ты сделал? – догоняя его в коридоре, спросил бледный от гнева Анпилогов. – Ты вместо доклада исполнил песню «По диким степям Забайкалья…».
Игнациус вырвал руку:
– Пусти меня!
– Нашел время забавляться…
– Пусти!
Их толкали спешащие куда-то студенты.
– Неостроумно, – сказал подоспевший Жека. – Ну обиделся на этих крыс, ну идиоты они. Но зачем же самому себе при этом вредить? – Он осекся. – Или, может быть, ты все-таки болен?
– Да пошли вы – туда-сюда… – несправедливо сказал Игнациус.
Он боялся, что брызнут из глаз позорные слезы.
– Ты прежде всего нас подвел, – процедил Анпилогов ему в спину.
– А у тебя – ботва на голове, – обернувшись, сказал Игнациус ломающимся голосом.
Как-то по-дурацки.
Жека ненатурально захохотал.
– А зато у тебя нет слуха!..
Игнациус сбежал в вестибюль, натянул пальто и одним ударом нахлобучил потертую кроличью шапку. Чего они хотят от него? Он никому ничем не обязан. Пусть они катятся ко всем чертям!
Институтская дверь простуженно скрипнула.
Под заснеженными, обомлелыми деревьями в черно-белом контрасте двора переминался с ноги на ногу человек, выдыхая пар из расстегнутой собачьей дохи.
– Слава бессмертному Кругу! – воскликнул он. – Я уже боялся, что пропустил вас в потоке. Честно говоря, я жду вас здесь более двух часов. Как всегда, вы не торопитесь, сударь. Идемте!..
Это был Экогаль, запорошенный инеем по кошачьим оттопыренным жестким усам.
– Как раз вы мне и нужны, – сказал ему Игнациус, бешено глядя в осколки желтого янтаря с вертикальными воспрянувшими зрачками.
– Осторожнее, – предупредил Экогаль. – По-моему, за нами следят.
Он мотнул головой.
Меж сосульками мерзлых кустов, дробящих фонарный свет, шевельнулись какие-то неясные тени.
Игнациусу было все равно. Экогаль потащил его прочь из сквера. Набережная была завалена перелопаченными сугробами, а канал – до парапета – глыбами жуткого льда. Не попадалось ни одного встречного. Дома, уходящие за поворот, выглядели нежилыми. Крылатые грифоны стискивали в зубах цепи, на которых висел ажурный мост.
– У меня к вам записка, я рассчитываю на ваше благородство, сударь, – сказал Экогаль. – Не оглядывайтесь, пустяки, их всего-навсего человека четыре. Кстати, я слышал, что вы хорошо владеете шпагой?
– Давайте записку, – сказал Игнациус.
– Но не здесь же.
– Давайте!
Он вдруг остановился. На спуске с моста, за опасными мелкими ступеньками у шершавого парапета, как ночные ханыги, сгрудились еще четверо: нахохлившиеся, руки в карманах. И один из них – Градусник. Игнациус сразу узнал его. А второй – это, по-видимому, Стас, в растрепанном лисьем малахае.
И Экогаль остановился тоже.
– Все. Живыми они нас не отпустят, – хладнокровно сказал он.
Глава 6
Снег перестал. Очистилось небо в крупных звездах. Умытая яркая луна тихо выплыла над стрелой подъемного крана и через разваленную крышу заглянула внутрь – остовы стен, как челюсти, смыкались вокруг нее. Проступили бритвенные лохмотья труб, концы балок, висящих в воздухе, двери, обои, раковины и ощеренные доски в скелетах бывших квартир. Света было много, даже слишком много. Перчатка, в которую уткнулся Игнациус, казалась серебряной.
– Стоит? – шепотом спросил Экогаль сзади.
Ему было не видно.
– Стоит, – так же шепотом ответил Игнациус, осторожно вытягивая шею.
На заснеженном светлом прямоугольнике парадной отпечаталась растопыренная тень.
Человек ждал и не собирался уходить.
Путь был закрыт.
– Знать бы, где остальные, – сказал Экогаль. – Мы тут, пожалуй, замерзнем.
– А сколько их?
– Десятка полтора.
– Всего?
– Не так-то просто выйти из Ойкумены. – Экогаль вдруг стремительно зажал нос рукой и чихнул – внутрь себя. – Фу-у-у… Некстати. С этим мы, конечно, справимся, если он один…
– Зашумит, – сказал Игнациус, противно сглатывая.
– Не зашумит.
Тонкий и длинный стилет высунул жало из рукава.
– Не надо…
– А говорят, сударь, что вы закололи троих из дворцовой охраны? – недоверчиво хмыкнул Экогаль.
– Там были жуки.
– А здесь кто?
– Все равно нам не спуститься, лестница разбита, – сказал Игнациус.
Они лежали на площадке третьего этажа. Пахло горелым, старым и нежилым. Сквозь пальто уже чувствовался проникающий каменный холод. Свешивались заизвесткованные жилы кабеля. Внутренняя часть дома была сломана для ремонта, и лестница, ненадежно прилепившаяся к стене, пролетом ниже обрывалась в колодезную пустоту – на груды битого кирпича и перекореженную арматуру. Сумрачно сияли осколки стекла в рыхловатом грязном снегу. Я не хочу здесь лежать, подумал Игнациус. Я ужасно боюсь. Я весь пропитался страхом. Ойкумена понемногу обгладывает меня, оставляя незащищенное живое сердце. Я боюсь этих таинственных чудес и превращений. Я боюсь неповоротливых и беспощадных жуков. Я боюсь сладко-вкрадчивых людей-гусениц. Я боюсь подземного мрака, который медленно разъедает мою жизнь. Я боюсь даже Ани. Даже ее я боюсь. Мы с ней виделись всего четыре раза: понедельник – голый сквозняк ветвей, утро пятницы – последние скрученные листья, воскресенье – на площади, Исаакий в сугробах, и опять воскресенье – черное шуршание на Неве. Она не хотела говорить, где живет. Я поцеловал ее в Барочном переулке. Вот чем это кончилось – замызганная чужая лестница, развалины, чадящие дымом и смертью, смятый окурок перед глазами и банда оборотней, рыщущая по стройплощадке в поисках крови.
– Значит, каждый раз, когда я попадаю в Ойкумену, я что-то теряю в своем мире? – спросил он. – Значит, с каждым шагом моим обрывается какая-то ниточка?
Экогаль дернул плечом:
– Нашли время!
И в разгромленном кирпичном колодце, прямо над их головами, отчетливо раздалось:
– Эй!.. Вроде никого…
– А ты посвети, посвети, – гулко посоветовали из парадной.
Кто-то зажег газету и бросил ее. Пламя, разворачиваясь на лету, пачкая воздух клочьями огня, вспыхнуло и озарило угрюмые покинутые пещеры, беззубые зевы которых подавились морозом. Тени на гигантских ходулях шарахнулись до самого неба.
– Ни души, – сказали в колодце.
– Все обыскать, поджечь подвалы!..
Розово-темные неверные блики освещали Стаса в проломе четвертого этажа. Он свешивал малахай – разглядывая хаос внизу.
А из-за спины его высовывалась охрана.
– Сейчас бы арбалет, – простонал Экогаль. – Я снял бы его первой же стрелой.
Газета вспыхнула и догорела. Он потянул Игнациуса за рукав. Игнациус понял и пополз обратно. Ползти было крайне неудобно. Задирающееся пальто сбивалось в комок. Он уперся ногами во что-то мягкое.
– Осторожно, вы расплющите мне нос!
Они вернулись в комнату, где каким-то чудом сохранились почти все стены, и Экогаль, придерживая разноголосье пружин, осторожно опустился на полосатую, ободранную, без ножек, тахту, из которой немедленно вытекла трухлявая струйка. Совершенно бесшумно вонзил свой стилет в переборку над головой.
– Очевидно, мы все-таки влипли, сударь. Как в мышеловке. – Гладкий бритый череп его блестел. Узловатые пальцы выдергивали из тахты нитку за ниткой. – Впрочем, будем надеяться, сударь, что еще не все потеряно. Еще есть выход. Нам бы добраться до Галереи, там – мои люди. Они не могли поставить оцепление по всему району. У них не так много лазутчиков, способных принимать человеческий облик. В крайнем случае, переждем ночь здесь, место – вполне укромное…
– Покажите записку, – сказал Игнациус.
– Что? Ах, записку… – Экогаль порылся в обмерзшем меху и протянул на грубой ладони плоскую малахитовую гемму с женским профилем. Иронически смотрел, как Игнациус вертит ее так и сяк – безуспешно.
– Кольцо у вас с собою?
– Да.
– Давайте!
Игнациус отвел нетерпеливую руку.
– Правильно, – сказал Экогаль и засмеялся, приглушенно заперхал, натянув кожу вокруг широких зубов. – Правильно, сударь, никогда и никому не давайте это кольцо – ни на одну секунду, ни за какие клятвы. Имейте в виду, что отнять силой его нельзя, оно потеряет свои волшебные свойства… А чего вы, собственно, ждете?
Скорпион обхватил профиль на гемме, и слабый янтарный свет просиял в нем изнутри.
– Нет никакой надежды, – сказала Аня невыносимо хрупким, пустым, бесчувственным, как стекло, голосом. – Наступает полнолуние. Время нашей судьбы на исходе. Непрерывно заседает Тайный Верховный Совет. Поднята гвардия, отряды ночной стражи перекрыли дороги. Сохнет трава, и птицы падают замертво. Фукель будет властвовать над Ойкуменой… Нет никакой надежды. Из тюрьмы меня перевели в Башню – это камера Дев. Отсюда видно только небо. И слышен четкий, безостановочный стук металлических шестеренок. Идут часы Круга. Персифаль не знает, что я здесь. Когда на празднике Звездных Дождей под плач двенадцати флейт и рокочущие завывания литавров мне придется давать вечный Обет Супруги, я высыплю в свой бокал зернышко маллифоры, спрятанное в ладанке на груди: разорвутся все цепи, тень моя отправится в бесконечное странствие по россыпям Млечного Пути… Нет никакой надежды. Мятеж птицеглазых подавлен. Герцогу удалось бежать, но войска его разбиты. Заколочены ставни домов. Идут обыски и казни. Черная пыль поднялась над Ойкуменой. Стонут колокола и рдеют в вечерней мерклости сонные иглы чертополоха… Нет никакой надежды. Полночь уже близка. Один из тюремщиков согласился передать эту записку. Я не знаю, попадет она по адресу или нет, но вспомни обо мне, когда наступит праздник и Зеленые Звезды, шелестя, прольются над городом. Я говорю тебе «прощай», – потому что у нас не осталось ничего, кроме этого короткого печального слова…
Раздался щелчок, и скорпион замер, бессильно обвиснув лапками.
– Выходит, что Персифаль не знает, – загадочно произнес Экогаль. Он внимательно слушал. Зрачки его, белыми точками отражая луну, сужались и расширялись, как у пантеры. А на скулах проступили деревянные желваки. – Это меняет дело. По слухам, он при смерти, тоже отравлен… Может быть, и лучше, если мадонна обвенчается с Фукелем, это сохранит ей жизнь. Подумаешь, старый муж… Зато – новый Звездочет и молодой любовник. Мы в бараний рог согнем весь Тайный Совет… – И он вдруг охрип, уколотый в задранную гортань игольчатым жалом. – Пус-ти-те-вы-с-ума-со-шли! – Сел, растирая большой угловатый кадык. – Ну и рука у вас, сударь, железная… Успокойтесь, я не стану вас предавать, на мне слишком много грехов, Фукель меня не помилует.
Игнациус бросил стилет.
– Значит, я могу проникнуть в Ойкумену в любое время и в любом месте? – спросил он.
– Конечно, – Экогаль, как копье, выкинул вперед багровую замшевую перчатку. – Вот она, Башня Дев…
Над омертвелым цинком крыш, над переплетением проводов, над рогами щетинистых мрачных антенн, облитая звездным трепетом, плыла шестиугольная суставчатая каланча, огороженная снежным барьером по острой верхушке. Ватное, хвостатое облако уцепилось за голый флагшток ее, ни одной искры не было в узких, погашенных, надменных окнах.
Игнациус попятился и сел на тахту. Бахнула пружина из лопнувшей обшивки.
– Т… д… б… д… – судорожно сдавливая ему плечо, просипел Экогаль.
И точно в ответ на это, сказали очень ясно, в пугающей близости:
– Они здесь, клянусь вечным Кругом! Я просто чувствую, что они здесь. Шевелитесь, пожиратели дерьма, вы будете искать их всю жизнь, пока не сдохнете!
Этажом ниже трещала кирпичная чешуя под крадущимися шагами.
Игнациус окостенел. Если они нас поймают, то обязательно убьют, подумал он, щурясь от напряжения. Просто так они нас, разумеется, не оставят. Или отнимут кольцо Мариколя. Что, впрочем, одно и то же. Потому что тогда мы расстанемся уже навсегда. Но ведь должен же быть здесь хоть какой-нибудь выход. Башня находится на Невском или где-то поблизости, за Гостиным Двором. Надо, по-видимому, идти в Ойкумену. Если победа возможна, то – только там. Это хорошо, что я научился бояться. Раньше я совсем ничего не боялся и у меня была не кровь, а тягучая белая лимфа, как у лягушек. Он шевельнулся, забывшись, и пружины тихо звякнули, а пальцы герцога, будто гвозди, вонзились в плечо. Экогаль оскалился. Со своей бритой головой и ярким густым румянцем он был похож на целлулоидную куклу. На очень большую и очень опасную куклу. Игнациус оторвал жесткую пятерню. Лунный холод царил в комнате. Изморозь осыпала пол и стены. Вплотную у проема зажигались белые звезды. Нас сейчас обнаружат, снова подумал он, прислушиваясь к хрустящим шагам. Надо идти в Ойкумену и пробиваться к Башне. Там стоят гвардейцы, я не представляю, как справиться с гвардейцами. А в коридорах – жирные тюремные крысы. И сквозь них тоже надо пройти. И еще, говорят, заколдованная каменная дверь: требуется печать Гнома, чтобы отпереть ее. И надо добраться до Главных Часов, и разомкнуть цепь в механизме, и освободить масляную пружину, и перевести стрелки часов на двенадцать. Тогда реальная земная полночь совместится с полночью Ойкумены. Добрый путаник Мариколь, остановивший время, чтобы укрыть свою страну от враждебного мира, – он не знал, что в межвременье вольготно живут лишь одни насекомые. Или люди, готовые стать насекомыми. Такие всегда найдутся.
Что-то тяжелое обрушилось в конце коридора, и сейчас же снизу спросили:
– Ну что там?
– Куча дурацкого барахла, – буркнули из соседней комнаты. – Нужен кому-нибудь чайник без ручки? А сломанный торшер?
Пересекая несуществующую дверь, вспыхнул фонарик.
Игнациус не успел даже моргнуть: массивная стремительная фигура Экогаля, обведенная в темноте резким фосфором, прижалась сбоку от косяка, и тонкий смертельный блеск высунулся из перчатки. Запахло гарью – наверное, подожгли подвалы. Горький сырой дым потек наверх. Игнациус просто ждал. Делать ничего было не надо. Голубой луч фонарика ощупал заиндевелые балки, дранку, крылья обоев, натолкнулся на белый косяк и внезапно прыгнул ему в лицо. Ослепленный, он даже не шелохнулся. Он знал, что незачем. Мгновенный хрип, больше похожий на кашель, прозвучал в комнате – легко отлетела чужая жизнь. Свет вывернулся наизнанку, и в глазах начали сталкиваться фиолетовые густые пятна. Заскрипело в углу, будто опустили туда мешок с картошкой. Экогаль сказал возле уха, одним дуновением:
– Все. Теперь нам нельзя здесь оставаться. Да не сидите как неживой, сударь!
Ноги, обутые в меховые унты, лежали поперек дверей. Игнациус, стараясь не смотреть, кое-как перешагнул через них.
– Значит, в полночь, когда восстановится связь времен, Ойкумена погибнет? – спросил он.
Вместо ответа Экогаль выругался во весь голос:
– Назад!
А из дыры в потолке радостно завизжали:
– Ко мне!.. Ко мне!.. Скорее, господин начальник стражи!.. Я первый их обнаружил!..
Они побежали по лестнице. Ступени содрогались, и зигзагообразная трещина вдоль стены увеличивалась прямо на глазах. В квартире уже громко топали. Сыпалась штукатурка. Пустая коробка дома вдруг загудела от воплей. Экогаль, съехав животом по краю площадки, повис на руках. – Прыгайте, сударь! – и ухнул в пропасть. Отломился кусочек бетонной плиты. Игнациус разжал пальцы – ударила твердая земля, кривовато швырнуло, боль в правом колене пронзила до крупных слез. Из подворотни, бросая тени на гладкий снег, бежали какие-то люди в распахнутых черных дубленках. Он захромал в сторону, нога у него совсем не сгибалась. Накатило пронзительное отчаяние. Экогаль, прижатый к стене, яростно отмахивался стилетом. Несколько человек суматошно дергались вокруг него – угрожая, но не решаясь приблизиться.
Появившийся Стас нехотя разгибался после прыжка.
– Ну привет, – обыденным голосом сказал он. И поправил сбившийся рыжий малахай с большими ушами. – Верни кольцо и можешь идти домой, я тебя отпускаю…
Он нисколько не волновался. Дело было совсем пустяковое. За спиной его, разминая кисти, ухмылялись довольные Кенк и Пенк. Почему-то они слегка закатывали глаза. Игнациус машинально прижал карман. Не хватало воздуха. Слезы текли по морозным щекам, и болезненная слабая пустота распирала сердце. Надо было отдать кольцо, все равно изобьют и отнимут. Стас был сильнее его, наверное, раз в десять. Он и сам не понимал, почему мотнул головой:
– Нет…
– Я же из тебя котлету сделаю, – пообещал Стас и лениво ударил.
Игнациус, будто во сне, увидел, как медленно выпрямляется его страшная, жесткая, натренированная рука и приближается мозолистым ребром своим, чтобы, разрубив горло, наполнить все жилы парализующей болью. Он посторонился, и ладонь пролетела мимо, врезавшись в стенку.
– А-а-а!.. У-у-у!.. – завыл Стас, крутясь на месте. – Ну, теперь я тебя изувечу!..
Двигался он удивительно медленно – по сантиметру, как на рапиде. Можно было закурить, пока он кидался. Игнациус отступил опять, и воющее, изломанное в прыжке тело бревном шмякнулось о кирпич.
– Отлично! – крикнул Экогаль.
Свора, треплющая его, отпрянула, а один заскулил, как дворняга, и сел на корточки, баюча распластанный мокрый рукав.
– Пробивайтесь на Галерею, сударь!..
Скучно дымились подвалы. Малиновые сполохи перекатывались по истоптанному снегу. Сияла сумасшедшая, шальная луна. Я еще жив, удивляясь, подумал Игнациус. Удивляться было особенно некогда. Кенк и Пенк, враз отбросив ухмылки, деловито ринулись на него. Они были натренированы, вероятно, не хуже, чем Стас, но двигались почему-то еще медленнее него. Игнациус мог рассмотреть в отдельности каждый крохотный жест: вот сгибается локоть, морщиня рукав, вот, закрючиваясь, сводятся воедино пальцы, вот откинутая рука заносится для удара, а бойцовая тяжесть тела перемещается на ступню. Он толкнул Кенка в плечо, и Кенк рухнул как подкошенный – заелозил по снегу разомкнутыми клешнями. А Игнациус, уже смелее, уклонился от Пенка, который с остервенелым лицом погружал кулаки – в место, где он только что находился, и, не думая ни секунды, по-женски толкнул и его, и Пенк тоже рухнул – рассыпавшись, как поленница. Отлетел, будто пробка, тяжелый рифленый кастет. Зазвенела какая-то мелочь из вывернутых карманов. Царапнул сзади когтями пришедший в себя Стас, но Игнациус лягнул наугад, и отброшенный Стас согнулся в три погибели: о-о-о!.. Двое из окружения Экогаля обернулись, в руках у них были ножи. Первый сразу же получил в челюсть – изумленно попятился и пятился до тех пор, пока не споткнулся о торчащую железяку. А финка второго, сверкнув дугой, порхнула назад, и сам он устремился по воздуху вслед за нею. Еще двое чернели на снегу в неестественных раздавленных позах, а Экогаль возил за шиворот третьего, дико ругаясь и осыпая его увесистыми тумаками.
– Пощадите, пощадите, милорд… – стонал избиваемый.
Из подворотни на помощь ему торопились, повизгивая, человек пятнадцать – все в хитиновых панцирях, вытаскивая на бегу шпаги.
– Мы что, в Ойкумене? – задыхаясь и дрожа, спросил Игнациус.
– Давно уже…
Хорошим пинком Экогаль опрокинул лазутчика. – Живи, гусеница!.. – а затем, мгновенно оценив обстановку, вышиб заколоченные створки у себя за спиной. Они скатились куда-то под лестницу. Игнациус с размаху шандарахнулся лбом о поперечный брус – только искры посыпались.
Герцог ломал замок на жестяной крышке подвала.
– Скроемся под землей, в древних лабиринтах, – сказал он. – Нам бы добраться до Галереи, есть еще верные люди. Еще заполыхает – с четырех сторон. – Стальная дужка не поддавалась. – Это перстень Мариколя оберегает вас, сударь, а я думал – легенды…
– Потому и хотели его отобрать?
Экогаль лишь подвернул напряженные злые губы, вытаскивая замок вместе с гвоздями.
Брякнули отодвигаемые засовы. Из подвала повалил густой серый дым. На улице уже орали: – Куда они делись?! Струсил! Повешу, сволочь!.. – Вероятно, Стас приводил свое воинство в порядок. Раздумывать было некогда. Игнациус набрал воздуха и нырнул прямо в черную, зловещую квадратную яму. Гудела голова, и колено разламывалось при каждом шаге. Плотный дым выедал глаза. Ничего не было видно в душной и жаркой темноте. – Сюда, сюда, – приглушенно звал герцог. Непонятно откуда. Игнациус брел, как слепой, ощупывая горячие, влажные трубы. Поворачивал в какие-то узкие закутки, спотыкался о ящики, разбросанные вдоль прохода. Всякое направление он уже потерял. – Где вы, милорд? – Ответа не было. Тонко пищала вода, и перекликались комариные голоса – глубоко в перепутанных клетях. Немного посветлело. Выступили из мрака углы. Он вскарабкался по невысоким ступеням и с наслаждением вдохнул полной грудью. Сердце у него бешено колотилось. Кажется, выбрался. Но где милорд Экогаль? Милорда Экогаля не было. Вероятно, не было и Стаса с его панцирными насекомыми. Плоский солнечный луч, переливая в себе остатки дыма, рассекал парадную. Упирался в почтовые ящики, в которых белели газеты. Задерживаться здесь, конечно, было нельзя. Игнациус толкнул дверь и вдруг пошатнулся, неожиданно оглушенный снежным, холодным, блистающим великолепием.
Глава 7
– Сколько времени?
– Без пяти.
– Без пяти – чего?
– Три.
– А день?
– Не понял…
– Какой сегодня день?
– Воскресенье…
– А число?
– Двенадцатое… двенадцатое января. Извините, пожалуйста, я тороплюсь…
Прохожий побежал дальше и не выдержал – оглянулся. Вероятно, его поразил вид Игнациуса. Игнациус поспешно свернул и пошел по Перинной, где меньше народа. Он был ошарашен. Двенадцатое января! Получается, что он пробыл в Ойкумене шесть дней. Почти неделю. Ничего себе образовалась прогулочка! День был яркий. Башня Звездочета на углу Невского и Перинной тупым шестигранником упиралась в небесную синь. Легкий живой туман дрожал в перспективе улиц. Капали сосульки. В первой же подворотне он отряхнул пальто: сажа и ржавые полосы, – захватив носовым платком снега, тщательно вытер лицо.
Сойдет до дома.
Шапку он опять потерял.
К счастью, тут было недалеко: Тербский переулок, Садовая, Апраксин двор. Что он скажет теперь Валентине? Отсутствовал целых шесть дней. Ладно, что-нибудь скажет. Спать… спать… спать…
Он засунул руку в карман. Ключей не было. Тоже, видимо, потерял.
Но сегодня же – воскресенье.
Посмотрим.
Он нажал кнопку звонка, и через секунду выглянул молодой, бородатый, красивый мужчина в тренировочном теплом костюме на молниях.
– Вам, товарищ, кого?
Удар!
Этого человека Игнациус никогда не видел. Он отступил на шаг и проверил номер. Номер был тот. Да и дверь он знал наизусть – свежий полукруглый затес на краске, это когда меняли замок.
– Ошиблись адресом? – спросил бородатый.
– Нет, – сказал Игнациус. – Дом девятнадцать, квартира двадцать один…
– Правильно…
– Улица Низовская…
– Правильно.
– Я здесь живу, – сказал Игнациус.
Кровь внезапно бросилась ему в лицо. Ситуация была анекдотическая: возвращается муж из командировки…
Все смеются.
Кроме мужа.
– Это я здесь живу, – возразил бородатый. – Уже целых три дня. Вам кого-нибудь из прежних жильцов? – Вдруг наморщил желтоватый угристый лоб, вспоминая. – Ах, да… Александр Иванович?
– Он самый.
– Валя предупреждала, что вы можете сюда зайти. Мы ведь с ней поменялись три дня назад. Так сказать, разъехались и съехались – по нынешним ценам. Валя говорила, что вы не будете возражать. Разменяться сейчас – громадная непростая проблема… Так не будете возражать?
Удар!
– Не буду, – сказал Игнациус.
– Она вам и ключи оставила, – обрадовался бородатый. – Айн маленький момент!
Он скрылся в квартире, и Игнациус слышал, как он сказал кому-то внутри. – Нет-нет, мамхен, это не милиция, не волнуйся, пожалуйста, у нас все в порядке. – Возник со связкой ключей. – Вот, держите.
– Адрес?
– Свечной, пять, семьдесят девять – это недалеко. Центр, как полагается, все удобства: отличная комната, большое окно, малонаселенная квартира, еще одна старушка – тихая, по нынешним ценам…
– До свидания, – сказал Игнациус.
– Ага, – сказал бородатый. – Не забудьте, пожалуйста, четвертый этаж…
Снег, наверное, валил все эти шесть дней, потому что безукоризненными слоями лежал на проводах, на карнизах, на придавленных голых ветвях. Солнце ярко краснело над белыми трубами. Игнациус взлетел на четвертый этаж. И чуть не сбил помойное ведро перед дверью.
– Так, – сказал он.
Было очень неловко отпирать чужую квартиру, и в прихожей он громко кашлянул. Коридор, где двоим было не разойтись, освещался тлеющей лампочкой – наверное, ватт десять, не больше.
Посередине него тихо образовалась щель.
– И кто там?
– Новый сосед.
Звякнула одна цепочка, потом вторая, затем третья, и, наконец, сухая, маленькая, как воробей, старуха показалась из комнаты, держа наготове альпинистский топорик.
– Росту среднего, пальто коричневое, грязное, лицо – брюквой, уши оттопыренные, – сказала она. – Вроде все совпадает… Меня Анастасией Никодимовной кличут. Значить, распорядок у нас такой: места общего пользования, убираемся через день, и нужник – обязательно тоже, счетчики у нас разные, табак свой дыми на улице, мой выключатель который пониже, кобелей вонючих не заводить, сейчас, значит, моя лампочка надрывается, андресоль свалилась, стульчак текет и шатается, кранты книзу не перегибай, в ванне дыра, штикатурка – сыпется, ходи на цыпках, крановщика не дозовешься, газ два раза взрывался, на кухне протечка, исподники на колидоре не вешать, встаю я в пять, ложуся соответственно, должна быть тишина по конституции, если там девки пьяные или компании, то здеся не общежитие, безусловно жалоба участковому – в ЖЭК и по месту работы, я двоих уже выселила за аморалию, тараканов – мало, клопы все сдохли, ведро с дерьмом выносить каждый день, стол твой на кухне который в углу, а полочка – моя, моя полочка, будешь у меня котлеты воровать – подам в суд, вплоть до высшей меры…
– Подружимся, – сказал Игнациус.
Открыл свою комнату. Она была как пенал – полутемная, а окно – со спичечную коробку. Из мебели стояли шкаф, тахта и пара продавленных стульев.
– Приходили к тебе шаромыжники, – сказала старуха из-под руки. – Я чужим, между протчим, не открываю. Так швыряли писульки, а у меня поясница – чтоб нагибаться…
Была записка от Жеки: «Заходил десять раз, куда ты делся, идиот проклятый?» И была записка от Анпилогова: «Александр, немедленно позвони, дело очень серьезное». И была записка от Валентины: «Все твои вещи перевезла, думаю, что так будет лучше для нас обоих».
Удар!
– Телефон здесь найдется? – спросил он.
– Ни к чему мне телефон. И который был, я его сняла и сдала по закону.
Игнациус подмигнул со скрипом:
– А что, Анастасия Никодимовна, раз уж мы подружились, дайте мне три рубля в долг. А лучше все пять, я верну завтра, я – честный.
Старуха посмотрела на него так, будто оправдывались ее худшие предположения.
– Небогатая я, живу на пенсию, капиталов для тебя не скопила…
– Залог оставлю.
Игнациус расстегнул часы.
– Тута не лонбард!
Она бухнула дверью.
Где-то звонко тикало. Наверное, жестяные ходики с тяжелыми гирями. Игнациус хотел уже плюнуть на все и уйти, но старуха появилась опять, зажав в суровом кулаке две измятые бумажки.
– Четыре рубля здеся. И вот рубель мелочью. Не отдашь – по судам затаскаю.
– Спасибо…
– А в девять часов запруся на крюк и лягу, стучи не стучи! – крикнула старуха вдогонку.
Первый автомат не работал, второй тоже не работал, а в третьем, оледенелом по уши, выстроились унылой чередой пятнадцать длинных гудков.
Трубку сняла мать Жеки:
– Их нету дома, они ушли к Македону, вернутся поздно, кто им звонил, что передать?
– Передайте горячий привет, – сказал Игнациус.
– От кого?
– От Менделеева.
– Сейчас запишу…
У Македона телефона не было. Игнациус морожеными пальцами набрал другой номер.
– Это я, – нервничая, сказал он.
– Добрый вечер…
– Ты меня не узнаешь?
– Хорошо, что вы позвонили, как ваше здоровье, я уже волновался за вас, – очень ровным искусственным голосом ответил Анпилогов.
– Ты что – не один? – спросил Игнациус.
– Да.
– И разговаривать неудобно?
– Да.
– Видишь ли, со мной произошла странная история. – Игнациус вдруг осекся, потому что именно эти слова употреблял когда-то Грун.
– Я вас слушаю, – напомнил Геннадий.
– Как там на работе? Надеюсь, меня не уволили?
– М-м-м…
– Что?!
– Позавчера, – сказал Анпилогов.
– Ты серьезно?
– Конечно.
– Я сейчас приеду.
– Хорошо, я буду ждать вас завтра, прямо с утра, – очень вежливо, но непреклонно сказал Анпилогов.
Удар!
Напротив автомата была закусочная – три притиснутых столика в тусклом подвале. Игнациус взял курицу, подернутую зеленоватым жиром, хлеб и мутный кофе в кружке с отбитой ручкой.
– Стакан дать? – лениво спросила буфетчица.
– Пока не надо…
Он сел и отхлебнул коричневой жижи, которая огнем потекла в желудок. Сразу же навалилась усталость. Спать… спать… спать… Время стекало с него, как сухой порошок. Курица была совсем деревянная. Она, вероятно, сдохла в прошлом году, а перед этим долго болела и покрывалась язвами. Такая у нее была судьба. На не вытертом столике блестели разводы. Вечер в окне быстро синел и загустевал чернотой. Кажется, Игнациус куда-то проваливался. Он брел по безжизненной, кремнистой, раскаленной полуденным зноем земле, которая плоской равниной уходила за горизонт. Земля была – уголь пополам со стеклом и шлаком. Дымный нагретый воздух дрожал над нею. – Я устал, я больше не хочу идти, – хныкал Пончик, обвисающий на руке. Пожелтевшие глаза у него закатывались. – Надо идти, уже немного, – отвечал Игнациус. – Зачем надо? – спрашивал Пончик. – Затем, что будет река. – А когда будет? – Не знаю. – Ты ничего не знаешь… – ныл Пончик. Загребал сандалиями серый шлак. Почва справа от них с горячим металлическим скрежетом вмялась, будто наступил невидимый мамонт, осталась лунка метра полтора в диаметре. А затем с таким же скрежетом вмялась еще, но уже левее: попадания были неприцельные. Пончик сел на землю и скорчил плаксивую рожу. – Я дальше не пойду, – сказал он. – Тогда загнемся, – сказал ему Игнациус. – Почему? – Потому что здесь жить нельзя. – А почему нельзя? – Потому что нельзя. – Это тебе нельзя, а мне можно, – возразил Пончик. Выковырял из шлака толстое бутылочное донышко, откусил сразу половину него и довольно захрустел стеклом на зубах. – Очень вкусно, хочешь попробовать? – предложил он. – Очень вкусно, – повторил Игнациус.
Буфетчица незлобиво толкала его в плечо:
– Давай-давай, закрываемся… Дома проспишься. Живешь-то далеко?
– Рядом, – сказал он, поддерживая чугунные веки.
На Лиговке, высвеченная снегом, шуршала людская беготня и летали над асфальтом красные тормозные огни. Было около восьми. Голова разламывалась на дольки. У продовольственного магазина остановилось такси и вышла веселая пара. Игнациус придержал дверцу.
– Свободны? Проспект маршала Блюхера… Угол с Ведерниковой…
Он позвонил, но ему не открыли. Тогда он сказал, отгибая обивку у косяка:
– Галина Георгиевна, я знаю, что вы дома, я видел свет на кухне, откройте, пожалуйста, иначе мне придется стучать ногами.
Дверь распахнулась.
– Если будете хулиганить, я вызову милицию, – заявила мама Пузырева.
Она была бледна и решительна.
– Где Сергей? – спросил Игнациус.
– Его нет.
– Где он, я спрашиваю…
– Сережик у Вали…
Ее выдала интонация.
– Сергей! – крикнул Игнациус. В глубине квартиры что-то бренчало.
– Суд определит те дни, когда вы будете встречаться с ребенком, – ненавидя, но пытаясь остаться спокойной, сказала мама Пузырева.
Игнациус подался вперед:
– Пропустите!
– Мальчик травмирован всей этой историей…
– Какой историей? – тоже наливаясь ненавистью, спросил Игнациус.
Мама Пузырева поджала губы:
– Вам лучше знать…
Прежде чем она успела сообразить хоть что-либо, Игнациус нырнул под ее руку и, миновав крохотную прихожую, ворвался в комнату, где, раскалываясь, гремел телевизор. Пончик тупо сидел перед экраном, расставив клопиные ножки, и жевал не стекло, а пупырчатый шоколад – щеки были в коричневой вязкой слюне. По правую руку от него, на тумбочке, стояла полная ваза конфет, а по левую – корзинка с янтарными мандаринами.
– Здра-авствуйте, – неловко поднимаясь, протянул ошеломленный папа Пузырев.
Он был в пижаме.
– Сергей! – позвал Игнациус. А когда оцепеневший Пончик обернулся, велел ему: – Подойди-ка сюда!
Несколько секунд, тягостно вспоминая, Пончик как на чужого смотрел на него и вдруг залился отчаянным ревом: а-а-а!.. – весь затрясся, будто в припадке, затопал ногами, мандарины посыпались на пол.
Мама Пузырева мгновенно подхватила его и спрятала на груди, как наседка.
– Ростик, вызывай милицию!!!
Папа Пузырева виновато развел руками.
Тогда Игнациус повернулся и пошел обратно по своим расползшимся мокрым следам.
Удар!
Бесконечная улица упиралась прямо в чернеющий лес. Дурацкие бетонные фонари горели вдоль широкой пустоты ее. Проезжали машины. Скрипел рыхлый снег. Он добрел до метро и погрузился в огромные желтые недра. Там было тепло. Вагон слегка покачивало. Голова уходила в туман, и налипшие веки смыкались. Спать… спать… спать… К себе на четвертый этаж он забрался, словно таща неимоверный груз на плечах. Ключ почему-то не отпирал. Игнациус подергал дверь и понял, что накинут крючок.
Он длинно позвонил.
– И кто там? – минут через двадцать пять спросила старуха.
– Сосед…
– Какой сосед?
– Новый.
– Не открою!
– Почему? – через силу спросил Игнациус.
– А ночь на дворе. Откель я знаю – может, ты шаромыжник…
– Так посмотрите.
– И смотреть не буду.
– Анастасия Николаевна…
– Вона! – обрадовалась старуха. – Имени моего не знаешь. А тот, которому въехал, я сама сказала…
– Ну – перепутал, ну – Ни…кодимовна…
– Все равно не открою!
– Куда ж мне деваться?
– А куды хочешь!
– Ну я выломаю дверь.
– Ломай!
Он раздраженно дернул за ручку.
– Грабю-ют!.. Убива-ают!.. – пронзительно завопила старуха, и крик ее ополоснул крышу.
Игнациус отпрянул. Будто током подбросило.
– Люди-и-и!.. На помо-о-ощь!..
Не чувствуя ног, он скатился по лестнице. В доме уже хлопали растревоженные квартиры.
Удар!
Он тащился по темной, пустеющей Лиговке и боялся, что упадет – лицом на сиреневый снег. Покрепчавший мороз ощутимо пощипывал уши. Денег оставалось не больше рубля. И, по-видимому, не оставалось надежды. Метро снова разинуло перед ним свою гулкую желтую пасть. Побежал эскалатор. Игнациус явно пошатывался. Будто мячик, его перебрасывало по городу – из конца в конец. Ехать надо было на «Богатырскую», с двумя пересадками. Восемь станций, а там – автобусом до кольца.
Он опять позвонил – наверное, в сотый раз за сегодня.
Мать открыла без всяких вопросов. Она была тщательно завита и накрашена, словно собиралась в театр. Нитка кораллов пламенела на синем тяжелом платье. Сколько Игнациус помнил, она всегда была такой. Главное – не распускаться с возрастом. Тогда не состаришься.
– Простите? – подняв дугой подведенную бровь, сказала она.
– Мам, я у тебя заночую? – попросил Игнациус. Он не хотел вдаваться в подробности. – Понимаешь, дурацкий случай. Валентина уехала на три дня, а я потерял ключи. Черт его знает, где выронил, хоть на тротуаре ночуй. Ты меня не прогонишь?
– Уважаемый товарищ, – сказала мать отчетливо и громко, как она говорила с больными у себя в поликлинике. – Не находите ли вы, уважаемый товарищ, что сейчас слишком позднее время для шуток?
– Мама… – сказал Игнациус.
– Я не мама, я вам в жены гожусь.
– Но мама…
Игнациус растерялся.
– Уважаемый товарищ, – с той же веселой непринужденностью ответила мать. – Неужели вы думаете, что я не узнаю в лицо собственного сына? Я не настолько глупа.
Она коротко хохотнула.
Игнациус все понял.
– Извините, – сказал он.
– Я только прошу вас, уважаемый товарищ: второй раз звонить не надо!
– Конечно, – сказал Игнациус.
На улице был мрак, снег и ветер. Бульвар тянулся далеко за овраг, к деревянным разметанным избам. Поперек него разворачивалось такси с ярким зеленым огоньком. Игнациус поднял руку. Но сразу же опустил. Ему некуда было ехать.
И главное, не к кому.
Это был полный обвал.
Глава 8
Это был обвал. Мир распадался прямо на глазах. Ни к чему нельзя было притронуться. На Московском вокзале, в огромном, душном, запотевшем от сотен влажных дыханий зале ожидания он нашел половину свободного сиденья, занятого холщовыми мешками. Кепастые хозяева мешков что-то недовольно бундели на своем гортанном пугающем языке, когда он втискивался. Но Игнациус не обращал внимания. Спать… спать… спать… Высохшие глаза слипались, и голова из жаркого чугуна падала в темноту. Но как только она падала, Игнациус вздрагивал и просыпался. Потому что заснуть по-настоящему было нельзя. Немели затекшие икры. Каждые десять минут по радио объявляли отправление. Или прибытие. Или: «Гражданин Дибульник, вас ожидают у семнадцатой кассы!» Оловянный бесчувственный голос долбил мозг. Громыхали сцепления меж вагонов. В мешках, видимо, были кирзовые сапоги, они больно врезались пятками. Примерно через час подошел милиционер и негромко спросил, что он здесь делает.
– Встречаю, – сказал Игнациус.
– Кого?
– Поезд.
– Какой?
– С колесами…
– Документы! – сказал милиционер.
Документов, конечно, не было. Игнациус в упор не представлял, где сейчас находится его паспорт. Скорее всего, Валентина убрала его куда-нибудь в шкаф, под стопку белья. У него даже появилась мысль – сходить домой вместе с сержантом, чтобы старуха пустила, но тот мотнул жестяной кокардой – пройдемте! Под одобрительное цоканье кепок вывел Игнациуса в гулкий вестибюль, где светился один – весь стеклянный – аптечный киоск, и без лишних слов указал на высоченные уличные двери, обитые медью:
– Вон туда. А увижу еще раз – заберу в отделение.
К счастью, метро пока ходило. Игнациус перебрался неподалеку, на Витебский, и первым делом посмотрел расписание. Поезд из Краснодара, имеющий прибыть в ноль пятьдесят пять сего числа, опаздывал на шесть часов. Это его вполне устраивало. Он отстоял очередь в тесном медлительном дежурном буфете и все-таки заставил себя проглотить пупырчатую куриную ногу. Наверное, это была та самая курица, которую он уже пытался есть в забегаловке на Свечном. Она, как наждак, оцарапала ему горло, а затем долгое время тревожно плескалась в желудке, вероятно, не желая смириться с судьбой. Но в конце концов успокоилась. Впрочем, Игнациусу было не до того.
Витебский вокзал был меньше, и людей тоже было меньше. Он ввинтился между двумя тетками в грубых платках, одна из которых, поглядев на него, сразу же пересела, а вторая цепко ухватила перевязанный веревками чемодан. «Не надо бояться, я не человек, я – призрак», – сказал ей Игнациус. Вторая тетка испарилась вместе с чемоданом. Он передвинулся на ее место и привалился к стене. В зале простуженно кашляли. Это был полный обвал. Надрывались динамики. Окна заросли бородатым инеем. Лопнули все нити, связывающие его с прежней жизнью. Он действительно, как призрак, бродил по границе небытия, разделяющей оба мира. Сумеречные тени задевали его своими больными крыльями. Шелестела сухая кровь. Четырехмиллионный город ворочался по темным квартирам, сопел в подушки, дико всхрапывал во сне, просыпался, таращился, пил из-под крана хлорную воду, ссорился, мирился, предавался любви, и не было ему дела до человека, скрючившегося в тупом оцепенении на деревянной скамейке зала ожидания.
Мы никому не нужны.
Никогда.
Никому.
Это был полный обвал.
Мир распадался на части.
Анпилогов как-то удивительно брезгливо моргал поросячьими короткими белыми ресницами. Ситуация была чрезвычайно неприятная. С работы его пока не уволили, но в ученый совет поступило заявление о том, что младший научный сотрудник А. И. Игнациус использовал в своей диссертации данные, ранее полученные Груном, сотрудником той же лаборатории. Заявитель обращал внимание на факт научного плагиата. Были приложены протоколы экспериментов Груна. Анпилогов сам произвел сравнительный анализ. Совпадение было убийственное, вплоть до отдельных фраз. В ученом совете разводили руками. Бубаев рыл землю. Сразу во все стороны. Покалеченный Рогощук требовал крайних мер. Была назначена комиссия. Факты подтвердились. Гадючник открыто торжествовал. Полетели письма в инстанции. Созоев отлеживался дома. Говорили, что его уберут – и с кафедры, и с лаборатории.
– Это, конечно, чересчур, – добавил Геннадий.
От него пахло кофе и свежим крахмалом. Жилистую худую шею сдавливал безупречный воротничок.
– Кто написал заявление? – мрачно спросил Игнациус.
Заявление написал Жека. Он сделал это сразу же после заседания кафедры. Его нельзя было осуждать. Потому что все-таки – плагиат. А Жека висит в воздухе. Его ставку могут забрать в любую минуту. И теперь, наверное, заберут. Лично он, Анпилогов, не понимает, зачем Игнациусу это понадобилось. Материала на диссертацию вполне хватало. Предварительная договоренность? Чтобы спасти работу Груна? Лично он, Анпилогов, о такой договоренности не помнит. Нет! Не помнит! И вряд ли бы он согласился. Есть границы, которые не следует переступать. Возможно, Игнациус действительно хотел как лучше – тогда надо было оформить соавторство. И уж, во всяком случае, посоветоваться заранее, подготовить весь коллектив. А теперь обстановка на кафедре – раскаленная. К сожалению, уже дошло до Москвы. Оттуда запрашивали. Мамакан рвет и мечет, пытаясь выяснить, кто заложил. А зачем выяснять? И так все ясно. В общем, Игнациусу не простят. Особенно после этой дурацкой выходки на предзащите. Как это могло угораздить его? Разве что Игнациус сильно болен. Болен он или нет? Выглядит он чрезвычайно плохо. Будто постарел этак лет на пятнадцать. Но ведь не болен? Тогда из института придется уйти. Других вариантов не видно. Анпилогов уже думал об этом. Он знает, что НАГИМу требуется сотрудник, владеющий цифровыми методами. Конечно, НАГИМ – не бог весть что, но если Игнациус хочет, то он как ученый секретарь института… Короче – вот ручка, бумага, пиши: «Директору НАГИМ профессору А. К. Потникову от сотрудника ВНИИМЭ заявление…» Это все, что Анпилогов пока может сделать.
Костлявое лицо его плавало в сером тумане, наполнявшем комнату. Туман был густой, липкий и, как в кривом зеркале, искажал предметы: стены были вогнутые, паркет на полу колебался, а старый письменный стол распух, словно надутый воздухом. Игнациус сжимал виски, чтобы унять в них саднящую винтовую боль.
– У тебя когда-нибудь была хоть одна знакомая женщина? – спросил он.
– При чем тут это?
Геннадий оттянул галстук и мучительно покраснел – до корней стеклянных волос.
– Ты обязательно станешь академиком, я тебе предсказываю, – искренне пообещал Игнациус.
Это был полный обвал. Раскачивались пролеты лестниц. Извивались перила и падали новые этажи. Безудержно вращались окна. Синий звездный блеск переливался по Млечному Пути. Тротуар прогибался, как будто резиновый. Жутко ломило затылок. Он не спал уже двое суток. Горький снег лежал в переплете улиц, будто город засыпали толченым аспирином. Жека был необычайно занят. Он поэтому даже взял отгул на сегодня. Македон предложил ему стереосистему за три штуки. Нечто абсолютно замшевое, только что оттуда, какой ни у кого нет. Система напоминала четыре ящика из-под картошки, криво поставленных друг на друга. Там мигало множество огоньков, змеились компьютерные экранчики и прямо в форточку, рождая глухую зависть соседей, вырывался и плыл над зимними крышами сладчайший голос Монтегю Барта – необыкновенной чистоты и силы. Звенел, резонируя, хрусталь в серванте. Сам Жека, полыхая оттопыренными ушами, тихо, радостно и любовно гладил зеленые клавиши. Губы его причмокивали от полноты бытия. Потому что теперь все умрут от зависти. Колупаев – умрет. Градусник – умрет тоже. Эритрин – окочурится, когда узнает. Гордость обладателя боролась в нем с ощущением, что его все-таки надули: можно было заплатить рублей на двести меньше. Так считала Эмма. Которая присутствовала при сем. Тебя надували, надувают и будут надувать. Потому что ты – пальцем сделанный! Эмма ядовито блеяла, маникюря ногти перед раскладом трюмо. Запах лака и ацетона гулял по комнате. Она вчера завилась в парикмахерской и еще больше походила на стриженую овцу. Игнациуса она упорно не замечала. Он прирос под стеллажами, куда, как дрова, были плотно забиты книги, и снова почувствовал, что стальные острые коготки Ойкумены легонько ощупывают сердце.
– Постарайся больше не делать подлостей, – деловито посоветовал ему Жека, перебирая кассеты. – Постарайся не делать подлостей, иначе мне будет трудно общаться с тобой…
Игнациус даже удивился:
– Кто их делает?
– Ты, – сказал Жека.
– Я?!
Эмма настороженно выпрямилась.
– Я постараюсь, – покорно кивнул Игнациус.
– И тебе надо извиниться передо мной.
– Хорошо, – покорно кивнул Игнациус.
– При всех извиниться.
– Я – понял…
– Тогда я, может быть, тебя прощу.
Жека был чрезвычайно доволен. Он нажал кнопку, и послышался звук спускаемой в унитаз воды. Вступила рок-группа «Сортир».
Это был обвал.
– Дай мне чаю, – попросил Игнациус.
Жека даже не обернулся.
– Или хотя бы воды…
– Возьми на кухне.
Игнациус выпил целую чашку пузырящейся мутной воды, а потом произнес – раздвигая словами все ту же туманную серость:
– Я сегодня занимаюсь предсказаниями. Я предскажу тебе, как ты умрешь. Ты умрешь в возрасте пятидесяти восьми лет от сердечного приступа, который случится, когда Македон построит дачу на один этаж выше, чем у тебя…
Это был полный обвал.
Что-то кричала Эмма. Что-то визгливое, жалкое, истеричное. Махнула кровавыми вытянутыми ногтями – чашка вдребезги… Не позволю, я у себя дома!.. Его, кстати, никто не приглашал!.. И давно следует разобраться!.. Ты должен быть мне благодарен!.. Разменяться сейчас практически невозможно!.. Это лучший из того, что есть, вариант!.. Я заплатила две тысячи!.. Не подпрыгивай, пожалуйста, деньги дала мне мама!.. Разумеется. Конечно, вернешь… – и так далее, и тому подобное. Впрочем, почему – Эмма? Это говорила Валентина. Они ехали по Невскому. Автобус переваливался, как корабль, ползущий по морю. Игнациус жался рядом с ней на краешке мягкого кресла. Было жарко: солнце протекало сквозь стеклянную крышу. Уплывали назад – «Баррикада», широкий Народный мост. И Казанский собор, словно древняя птица, загребал комья снега массивными крыльями колоннады. Валентина гундосила что-то по-испански: дырл-дырл-дырл… Туристы позади нее, как болванчики, дружно крутили головами. Дырл-дырл-дырл… Пончик будет пока у моих… Дырл-дырл-дырл… Ты все равно не справишься… Дырл-дырл-дырл… Заявление на развод я подала… Дырл-дырл-дырл… Обещали сделать в апреле… Дырл-дырл-ырл… Получается, что раньше никак… Дырл-дырл-дырл… У них громадные очереди… Дырл-дырл-дырл… Я живу в Красногвардейском районе… Дырл-дырл-дырл… Однокомнатная квартира… Дырл-дырл-дырл… Никаких – опять или снова… Дырл-дырл-дырл… Совсем другая жизнь… Дырл-дырл-дырл… Мы – чужие, разные люди… Дырл-дырл-дырл… Ну, ты меня понимаешь… Дырл-дырл-дырл… В общем, есть один человек… – она была оживленна и говорлива. Она брызгала искренним ярким весельем. Пожалуй, она была даже симпатична сейчас: рыжие волосы, смоляные глаза, распахнутая длинноворсая шуба из ламы. Водитель автобуса, до зубов джинсовый, искоса поглядывал на нее. Будто по частям раздевал. Дырлдырл-ырл… Она перешла в горэкскурсбюро… Дырл-дырл-дырл… В КБ ужасно осточертело… Дырл-дырл-дырл… Ей обещают зарубежные маршруты… Дырл-дырл-дырл… Надо серьезно готовиться… Дырл-дырл-дырл… Попробуем остаться друзьями… Дырл-дырл-дырл… А ты – как будто бы постарел… Дырл-дырл-дырл… Побледнел и даже осунулся… Дырл-дырл-дырл… Наверное, сильно переживаешь?.. Дырл-дырл-дырл… Ты все-таки не переживай… Дырл-дырл-дырл… Теперь уже ничего не изменишь… Дырл-дырл-дырл… Обязательно позвони мне на днях… Дырл-дырл-дырл… Мы ошиблись, и надо вместе исправить… Дырл-дырл-дырл… Вот тебе мой телефон… Дырл-дырл-дырл… Только не потеряй бумажку…
У Лавры автобус затормозил. Туристы выходили, щурясь на близкое солнце, сквозившее меж серебряных куполов. Каждый мужчина, прощаясь, галантно целовал руку сеньоре Валентине и произносил звучный, раскатистый, но непонятный комплимент. Валентина сияла. Закуривший шофер перебирал ее всю опытным долгим взглядом. Чувствовалось, что – уже годится.
– Дырл-дырл-дырл, amada![2] – сказал Игнациус.
Повернулся и чуть не сшиб Стаса, который инстинктивно попытался закрыть себя глухой боевой стойкой. Правда, стойка была хреновая: под глазом у него размякал чудесный фиолетовый синяк, ободранная щека была заклеена пластырем, а правая – ударная – рука висела на бинтах в муфте.
– Болит? – участливо спросил Игнациус, касаясь муфты мизинцем.
– Болит, – хрипло ответил Стас.
Он явно перепугался.
– И будет болеть, – сказал Игнациус.
Стас немедленно отступил, но сеньора Валентина, быстро вклинившись между ними, уже толкала Игнациуса в плечо:
– Ты шел? Ну и иди себе…
Это был полный обвал.
Игнациус брел по серому, бесконечному, прямому как стрела, ледяному, заснеженному проспекту. Шелестели пустые автобусы, пролетая к метро. Комковатые тени пересекали тротуар. Ветер сдувал с крыш метельные загнутые хвосты. Я больше не могу, думал он, трогая пылающий лоб. Я даже не уверен, что люблю ее. Я боюсь уйти в Ойкумену и боюсь оставаться здесь. Я не могу. Я потерял все, что у меня было. Это слишком много для одного человека. Нельзя жертвовать сразу всем. Кольцо Мариколя оберегает мою жизнь, но не мою судьбу. Я теперь никто. Интересно, если я выброшусь с десятого этажа, оно спасет меня? Он знал, что не выбросится. Вечер полосовал лицо хрупкой морозной пылью. Ужасно болела голова. Два чуждых друг другу времени сталкивались в нем и раздирали сознание, перемешивая мир как в калейдоскопе. Путались причины и следствия, события сплетались в бессмысленный клубок, где невозможно было понять, что происходило раньше, а что – теперь.
Одряхлевший Созоев крикнул в живую дышащую темноту портьер:
– Мара! Принеси нам чего-нибудь!
Появилась неизменная ваза с печеньем. Игнациус, как и в прошлый раз, сгреб целых шесть штук и начал жевать, мучительно наслаждаясь крошащимся песочным тестом.
Пальцы у него постепенно отогревались.
Все равно – это был обвал.
– Я, пожалуй, верю вам, – задумчиво произнес Созоев. Он скрестил пухлые белые ладони на животе. – Конечно, звучит это предельно фантастически, но кое о чем мне намекнул Федя Грун перед тем, как исчезнуть, правда, самые крохи – так ведь я ученый, я привык создавать целостную картину по отдельным разрозненным фактам. Скажите, Саша, вы его там случайно не видели? Нет? Очень странно. По законам невероятных совпадений, вы должны были обязательно столкнуться с ним. Причем в самый кульминационный момент. Это было бы очень логично. А природа любит внезапную логику. Сколько это субъективно продолжалось?
– Час или немногим больше, – неудержимо проваливаясь в сон, сказал Игнациус.
– А вернулись вы через шесть суток. М-м-м… Замедление времени почти в полторы сотни раз. Очевидный хроноклазм. И у вас нет провалов в памяти? Вы отчетливо помните всю цепь событий? Да, это не артефакт, не рыбий ложный мир, создаваемый больным воображением. За шесть дней беспамятства вас бы, несомненно, задержали. – Он откинулся в тень из круга настольной лампы. – Отдыхайте, Саша, вы совершенно измучены. А кольцо Мариколя у вас с собой? Любопытное колечко, на вид самое обыкновенное… – Созоев чуть-чуть помолчал. – Знаете, Саша, я не пытаюсь дать Ойкумене какое-либо рационалистическое обоснование. Вероятно, оно и не требуется. Тут, разумеется, можно выдвинуть ряд красивых гипотез – к сожалению, чисто умозрительных, – можно построить великолепную теоретическую конструкцию о взаимном балансировании миров на весах Времени или о Вселенной, вывернутой наизнанку, где само Время незыблемо, а Пространство имеет вектор движения, прокалывающий его… Я не стану этого делать. Я скажу вам другое. – Он, еще больше откидываясь, восторженно всплеснул руками. – Я вам завидую, Саша! Нет-нет, не перебивайте! Я, конечно, величина в нашей области, у меня есть несколько интересных работ, моя монография переведена на девять языков, и готовится второе издание, на меня ссылаются, меня постоянно цитируют… Если честно, то – ерунда все это… Труд, труд и труд. Ежедневный труд. Железная самодисциплина… Я бы все отдал, лишь бы рядом сейчас была не Мара, а совсем иная женщина. Иная, забытая, запрещенная к воспоминаниям… Человек не может без любви. Отверженность – это удел гигантов. А я не гигант, Саша. И вы тоже не гигант. Я говорю это вам совершенно искренне и определенно…
Он притиснул короткие руки к груди. И вдруг замер – разглядывая что-то невидимое.
– Мне негде жить, – вяло, из теплой тяжелой дремы сказал Игнациус. – Я сейчас вернусь домой, и окажется, что меня выселили как тунеядца. Или старуха уехала в деревню и заколотила квартиру. Или сгорел весь этот проклятый дом. У меня нет денег, я два дня ничего не ел. Кроме куры, которая до сих пор шевелится…
– Ну, это просто, – махнул ладонью Созоев. – Переночуете у меня, завтра что-нибудь придумаем вместе.
Он исчез за портьерой, и шаги его сразу затихли. Навалилась горячая, душная, дьявольская тишина. Страшно пялились окна. Паутинные шорохи летали по кабинету. С другого конца земли доносились невнятные пререкающиеся голоса. Передвинули мебель. Свалилось что-то громоздкое. Конечно, было неудобно ночевать здесь. Но куда еще идти? Игнациус не мог пошевелиться. Лампа выхватывала открытую книгу и ворсистый малиновый полукруг на ковре. Глухо били часы. Наверное, в Ойкумене. Очень тонко пищала кровь, стиснутая в висках. Опять передвинули мебель. Жизнь иссякала. Хотелось проснуться, и чтобы все стало как раньше. Изменить ничего уже было нельзя. Сдавленный протяжный хрип, как питон, выполз из мрака. Он тянулся без конца, на одной нечеловеческой дикой ноте, и в нем была боль, которая отделяет душу от тела. Комната вдруг опрокинулась. Игнациус слепо шарил по обоям в коридоре. Где тут у них выключатель?.. Ни черта не видно!.. Что за дурацкая привычка гасить свет?! Ба-бах! – ударила случайная дверь. Была спальня, и была разоренная пустая кровать, и валялась у входа заломленная подушка, и был опрокинутый таз, и чернилами растекались две лужи, сплетая щупальца, и махровое полотенце свисало с обвода стола, и смертельно разило лекарствами, и торчали из кресла-качалки венозные босые ноги, и Созоев опять прижимал ладони к груди, и рубашка на нем была напрочь расстегнута, и отставшая прядь волос приклеилась у него на лбу.
– Уже все, уже все, уже все… Не пугайтесь, Саша, со мной бывает в последнее время…
Марьяна ставила чашку на круглый поднос. Обернулась, и глаза ее просияли. Игнациус даже не понял, что она сделала: что-то очень короткое, какой-то неуловимый жест, – но он сразу же вдруг очутился в прихожей, а затем на лестнице, держа в охапке свое пальто.
Тихо щелкнул замок.
Это был хаос, обвал, распад материи. Ойкумена ни на секунду не отпускала его. Скрипел оседающий под ногами снег. Черный купол в пожаре звезд медленно поворачивался над ребристыми крышами. Впереди была набережная незнакомой реки: гранитные столбики в шапках, оснеженная вязь перил между ними, а на другом, приземистом, берегу – убогие, занесенные по самый шифер, дощатые длинные бараки. Наверное, склады. Скукой и запустением веяло от них.
Игнациус остановился как вкопанный.
Еле различимая табличка белела над подворотней. «Сонная улица, 12» – было начертано на ней.
– Нет! – сказал он.
Быстро пересек улицу и рванул дверь телефона-автомата. Выудил из кармана номер, который дала ему сеньора Валентина. К счастью, бумажка не потерялась.
– Слушаю, – тут же ответил Стас.
– Приезжай и забери кольцо, – испытывая ненависть к самому себе, процедил Игнациус.
Стас пресекся.
– Отдаешь?
– Да.
– Точно?
– Ты же не глухой, дубина!
– Стой на этом месте и никуда не уходи! – волнуясь, крикнул Стас.
Игнациус бросил трубку.
Кончили! Хватит!
С него достаточно!
Что-то изменилось вокруг. Что-то с освещением. Зеленоватое радостное сияние озарило снег. До мельчайших подробностей проступили – трещинки на стенах, белое нутро сугробов, подагрические деревья в саду.
Он поднял голову.
Высоко над спящим городом – бесшумно, точно в сказке, – напоминая о несбыточном, сыпался яркий звездный дождь.
Глава 9
Ойкумена пылала с четырех сторон. Горела Соленая Гавань, где отряд Жукоеда разгромил портовые кабаки и разбил бочки с янтарным рыбьим жиром. Горел квартал Уродов, который подожгли сами жители – одноногие, безухие или слепые обитатели городского дна. Жарко трещали склады сукна в Казенном ряду – пламя раскинулось воющей стеной, и звероватые шишиги, выползшие из притонов, тащили узлы с награбленным. Величаво, грозно, торжественно перекатывал коричневые барханы дыма плоский Тараканий Чертог на Гниловодье, продолговатые искры, шипя, стреляли через парапет в зловонную сукровицу канала. Дул горячий ветер. Огненные клубы, испепеляя одним прикосновением, бродили по улицам. До небес вздымались хлопья тяжелой копоти. Шершни-убийцы, как вертолеты, гудящие над головой, задыхались в ней и шлепались на мостовую, ломая перепончатые слюдяные крылья. Багровая мгла окутала город. Люди ныряли в нее и растворялись без следа. Красный надрывный зрачок луны, словно приклеенный, висел над Башней. Валялась пустая хитиновая скорлупа – это Медный Палец прошел по Галерее, беспощадно вырезая дозорных. Зловеще и тихо светились в обморочных переулках пурпурные иглы чертополоха. Чертополох цветет, если корни его напитаны кровью. Без четверти двенадцать, когда с шестигранника Башни упали девять гулких звенящих ударов, Громобой и Палец пошли на приступ Чертога и были отброшены копейщиками из дворцовой охраны – откатились, устилая холщовыми рубахами булыжник перед дворцом. «Вперед!!!» – заглушая рыдающий вой огня, неумолимо ревел Экогаль. Четверо телохранителей – здоровенных, тупых, привычно-озлобленных деревенских парней, одетых в мелкую до колен кольчугу, – окружали его, а тонконогие, как гончие псы, адъютанты переминались кучкой в ожидании приказов. Ордена и золотые перевязи сияли на их нетронутых мундирах.
– Милорд, пошлите туда птицеглазых, – мучаясь, сказал Игнациус.
– Вперед!!! – по-слоновьи ревел Экогаль.
Серые толпы, ощетиненные топорами и дрекольем, снова двинулись на ворота. «Наследник с нами!.. Наследник Мариколя!..» – то и дело выкрикивали из колонн. Игнациус замечал, как при этих криках перешептываются офицеры, как бледнеет от ярости лицо Экогаля, как он кусает твердые губы и решительно, гневно стискивает фигурную рукоять меча.
– Милорд, пошлите туда птицеглазых…
Личная дружина герцога, закованная в панцири и кольчуги, отливая синевой щитов, стояла на безопасном расстоянии, и желтые квадратные штандарты с вышитым глазом орла гордо реяли над ней.
– Я вас умоляю, милорд…
Серые толпы в панике катились обратно. Медный Палец, крутясь, как щепка в водовороте, пытался остановить их. Его быстро смяли. Оглушительно разрывались пороховые горшки. Арбалетчики, невидимые в узких бойницах, выкашивали целые ряды бегущих. «Мужичье, воевать не умеют, лапотники», – презрительно сказал Экогаль. Адъютанты почтительно засмеялись. Тогда Игнациус стиснул зубы и, спотыкаясь на деревянных ногах, побежал через пузатую площадь, испятнанную буграми распластанных тел. Он задыхался от копоти: воздух сгорел до пустоты. Но он высоко поднимал руку с кольцом, чтобы его узнали. Скорпион, как звезда, сверкал в багровом пульсирующем мареве.
– Наследник!.. Наследник с нами!.. – Десятки прицельных глаз уперлись в него, стрелы звякали о булыжник, рвануло манжету на рукаве – сзади уже нарастал грозный камнепадный топот. Холщовые рубахи, дохнув резким потом, обогнали его. Оглянувшись, он увидел, что стремительный синий клин, будто облако, приближается к Чертогу. Экогаль все-таки двинул туда птицеглазых. Значит, подействовало. Мародеры! Насильники! Игнациус отскочил. Крутобокая бомба жахнула по земле, и шипящая чугунная смерть распорола воздух. Он упал, его подхватили. Ворота были сбиты с опор. Перемешанные отряды хлынули на широкое дворовое пространство. Брызнули стекла первого этажа. Покачнулась и рухнула в бассейн рогатая статуя Жука-самодержца. Все было кончено. «Мариколь!.. Мариколь!..» – раздавалось повсюду. Игнациус отталкивал жалкие мозолистые ладони, тянущиеся к нему за благословением. Все было кончено. Еще отчаянно рубились разрозненные звенья стражи – не прося пощады, зная, что пощады не будет, еще чадили сцепленные телеги, под прикрытием которых Громобой подошел к Чертогу, еще, поскрипывая, вращалась на сорванных петлях лепная половинка ворот, еще пищали гусеницы на мозаичном полу – корчась в судорогах, истекая творожистой лимфой, еще визжал приколотый к панелям прыщавый юнкер-бананоед, и начальник дворцовой охраны, топорща хитиновое крыло, еще вяло, со слабеющей силой отмахивался коротким мечом, еще забегали вперед телохранители, расчищая дорогу, принимая случайные стрелы – на себя, еще задушенно хрипели в ответвлениях коридоров, еще метались по картинным лаковым залам перепуганные горничные и лакеи, еще дымилась подожженная крыша и медным басом лупил набат на пожарной каланче – но все уже было кончено. Взбудораженный Экогаль, ухватив за клинышек бородки старого таракана в лиловом придворном камзоле, расшитом золотом, возил его по зеркальному паркету:
– Где Фукель?.. Говори, скотина!.. Где Цукерброд?.. Где мерзавец Лямблия?..
У таракана тряслись свекольные щеки и брызгала слюна из распахнутого ужасом фиолетового рта. Он едва выговаривал мутные фразы. Тайный Верховный Совет бежал… объявлен Звездный Интердикт… Его Святейшество наложили запрет на вход в Башню… погашены все три Радианта… ждут подхода туземцев и гвардии… праздник отменен… посланы гонцы на края Ойкумены к диким племенам тарантулов… не убивайте меня, милорд… я буду верно служить вам!..
Экогаль бросил его и пнул ногой:
– Эй, кто там? Закройте двери. Пошевеливайтесь! Мне – вина!.. – Адъютант развернул перед ним полотняную цветную карту города. Зажгли десятирожковый подсвечник. Восковая сушь изжелтила лица. Экогаль, склонясь у карты, выставил железные шипы на локтях. – Удержать Гавань… корабли… Один батальон… Арсенал… это – главные силы… Прежде всего – Арсенал… Городские заставы… Чертог… Казначейство… Среди сенаторов много оборотней… Клятва нового магистрата… Тарантулы боятся кипящей смолы… Хюммель! Как со смолой?..
– Человек послан, милорд!..
– Смена караулов… Тюрьма… Затопить лабиринт… А фаланги боятся беркутов, которые выклевывают им глаза… Хюммель!..
– Десять ручных беркутов, милорд! Сторожит Птах, сокольничий вашей милости!..
Экогаль жадно прихлебывал горячее сардэ, заправленное специями. Игнациус без ног лежал в кресле. Он был полностью измочален. Хилый дрожащий кузнечик подал ему на подносе курящуюся паром фарфоровую чашку. Он отмахнулся. Небо сочной зеленью светилось над багровым туманом Ойкумены – шелестел звездный дождь.
– Надо пробиваться в Башню, пока там не опомнились, – устало сказал он. (Экогаль с досадой пожал плечами.) – Один хороший удар – и мы там. – (Экогаль иронически хмыкнул.) – Дайте мне птицеглазых, я протараню вам путь…
– Идет гвардия, – ответил ему Экогаль, не разгибаясь. – Идут полчища тарантулов, идут сонмы ядовитых фаланг, это вы понимаете, сударь? Под городом два гнезда ос, сейчас их отпугивают пожары – но что потом?.. – У него болезненно дергалась щека.
Один из адъютантов прошептал за спиной Игнациуса:
– Сударь, вы сидите в присутствии его светлости.
– Ну и что? – удивился Игнациус.
Офицер тонко улыбнулся подстриженными усами:
– Это не полагается по этикету, сударь…
– Идите вы к черту, – сказал Игнациус. Взял с подноса горячую чашку и немного отпил. Наперченное вино обжигало. – Милорд, дайте мне отряд Жукоеда; наконец, дайте мне просто две сотни из ополчения, мы нанесем удар в самое сердце!.. – Он не слышал себя. За окном шумел целый лес голосов: «Наследник!.. Наследник с нами!..»
Экогаль раздраженно выплеснул остатки вина в камин.
– Эй, кто там? Выставить охрану у подвалов с королевской казной! Все разграбят, мужичье сиволапое!.. – Лиловый таракан ползал перед ним и хватал за глянцевые сапоги, норовя поцеловать носок. – Жизнь!.. О, только жизнь, милорд!.. – Но, вдруг осмелев, просвистел что-то снизу вверх: неразборчивое, быстрым дыханием. Экогаль замер. – Ну да? Ну, если соврал! – Обернулся к портьере, застилающей половину громадного резного окна, слегка покачался на каблуках, видимо, предвкушая, и одним властным движением сорвал ее. – Ах! – Невысокий грушевидный человек в пестром костюме арлекина прижался за занавеской. Он даже не пошевелился, оцепенев зрачками на мучном лице.
– Гусмар! Названый брат мой! – радостно воскликнул Экогаль. – Какая встреча!.. Брось кинжал, червяк, я же в латах, или ты забыл наши детские игры? – Кинжал стукнул о дерево. Подскочили очухавшиеся адъютанты.
– Злодейское покушение!.. Разрешите, я прикончу подлеца!.. Вы не ранены, милорд?.. Какое счастье!..
– Заткнитесь, – сказал им Экогаль, любовно разглядывая Арлекина. – А я, признаться, думал, что ты сбежишь вместе с Тайным Верховным Советом. Или тебя не взяли, Гусмар? Предателей не любят. Есть все-таки справедливость в этом мире! Я повешу тебя на площади с барабанным боем – ты теперь дворянин. Уведите его!.. – Двое вытянутых офицеров приняли под руки бледного, как мел, обомлевшего, не дышащего Арлекина, который так и не проронил ни единого слова. За окном неожиданно грянуло: – Моя милашка милее всех! У ней рубашка короче всех!.. – Сермяжное воинство расползалось в пьяном угаре.
– Если вы, милорд, не дадите мне людей, то я пойду один и сам переведу стрелки, – с тихим бешенством, приподнимаясь, сказал Игнациус.
На часах было без десяти полночь. Экогаль обратил к нему крупное бритое лицо в разводах черной пыли.
– Не забывайтесь, сударь. Командую здесь все-таки я!.. – Он ощерился, показав лошадиные зубы. Мощно отпихнув караульных, в залу ввалился Громобой – истерзанный, волосатый, забрызганный кровью по кожаной куртке ремесленника. В немой ярости разевал пасть. Щурясь на него, Экогаль, будто приняв некое решение, лениво опустился в кресло и отхлебнул вина.
– Я вас слушаю, друг мой, – приветливо сказал он, поведя ладонью.
Громобой задыхался.
– Ваши люди, милорд… Они убили Бобра, они арестовали Вертлягу и Коршуна, они ставят своих офицеров командовать нашими отрядами, они разбили в подвалах бочонки с брагой и опаивают моих мужиков, сейчас они намереваются повесить Лисицу, который первым ворвался в Чертог!.. – Громобой дернул на груди истлевшую рубаху и вытащил из-за пояса грубый помятый свиток с печатями. – Вот ваши привилегии, написанные вашей собственной рукой, милорд! Я плюю на них! Я увожу своих собратьев из города, и меня больше не обманут никакие ваши посулы и обещания!.. – Он повернулся и прорычал на телохранителя, загородившего двери: – Прочь с дороги!.. – но тут же странно крякнул и попятился, как сумасшедший, нелепо размахивая руками: а-а-а… – сел в камин на груды угля и пепла. Из горла его, в розовой ямке между ключицами, торчала рукоять ножа.
– Вы с ума сошли, – одними губами сказал Игнациус, потому что отчетливо прозрел вдруг свою судьбу. И действительно, трое других телохранителей мгновенно зажали его в плотные жесткие тиски – не шелохнуться. – Что это значит, милорд?!.
– Вы мне мешаете, – мельком ответил Экогаль, изучая карту. – Вы слишком популярны среди черни. Наследник!.. Плохо, когда на одном теле сразу две головы. Хотите вина? Не беспокойтесь, сударь: посидите в подвале, подумаете… Кольцо Мариколя охраняет вашу жизнь, но не вашу свободу.
Длинным змеиным шипением закатился очнувшийся Арлекин. Он смеялся, надувая толстые губы.
– А вы думали, сударь, что герцог и в самом деле намеревается повернуть Звездный Круг и разрушить Ойкумену? Вы наивны, сударь… Кем он тогда будет управлять, где будет его империя? Нет, сударь, герцогу нужна власть и только власть – люди, насекомые – ему все едино. – У него текли через пудру бессильные жалкие слезы. Грушевидное тело заколыхалось. Экогаль взял его за пышные сборки воротника так, что материя затрещала.
– Ты умен, Гусмар. Ах, как ты умен… Я хоть сейчас назначил бы тебя своим сенешалем. Но ты слишком умен, чтобы оставаться в живых…
Глаза его стремительно расширились: приседая и мучаясь, в дверях привалился распаренный Жукоед и с трудом выталкивал из горла сипящий перегоревший воздух.
– Мы разбиты, милорд!.. Мой отряд разбит!.. Гвардия вошла в город!.. Мужики бегут!.. На улицах резня!.. Нет сил удержать!.. Спасайтесь, милорд, пока это возможно!.. – Жукоед был всклокочен, в космах его застряли репьи. А вдоль скулы протянулась кровавая свежая рана. Игнациус почувствовал, как ослабли сдавившие его мускулы. Пороховой высверк внезапно покачнул здание, вылетели свинцовые рамы, пугающее каменное ядро вкатилось в залу из багрового уличного полыхания.
– Проклятье!.. – звучно сказал Экогаль и блестящим полукругом меча разрубил инкрустированный столик…
Все действительно было кончено. Огненный туман струился по улицам Ойкумены. Рыхлые перья пожаров метались в нем. Закручивалась столбом ядовитая черная пыль. С шумом ложились волны искр на плоских крышах Чертога. Игнациуса толкали со всех сторон. Он боялся упасть. Густое людское варево, перемешиваемое паникой и отчаянием, кипело на площади. Хлестали по глазам вытянутые руки. Орали волосатые рты. Горячий пепел сыпался с неба. Он спотыкался на расплющенных мятых телах. Колебалась земля, и карусель искаженных лиц опрокидывалась на него. Танцевал канкан свихнувшийся писарь с гусиным пером в патлах. Грязные пятки утонувшего торчали из бочонка с брагой. Двое ремесленников, тряпично-пьяных, голых по пояс, бессмысленно резались на крохотном пятачке между телегами, видимо сводя старые счеты. Экогаль, как бешеный мамонт, ревел в самое ухо:
– Надо пробиваться в Гавань!.. Ждет каравелла!.. Команда – верная!.. Мы переплывем Море Мрака, омывающее Ойкумену… И затеряемся среди тысяч коралловых островов на другой стороне ночи!.. Мы еще вернемся!..
Игнациус еле выдрался из-под костяных пальцев:
– К черту!
Над хлопьями дыма, над облаками черной пыли, застилающими город, стрекотал яркий зеленый дождь. Толпа разъединила их. Экогаль все ревел и тянулся, безумно оскалясь:
– Убейте!.. Убейте его!..
Телохранители, заламывая ему руки назад, тянули прочь. Легли поверх голов первые раскаленные стрелы. Площадь завыла. Игнациус, выдавленный на чугунную тумбу у ветхих домов, видел, как из конца улицы неумолимо надвигается закованная в хитин, расцвеченная бликами пожара, вороненая сплошная стена гвардии. «Вжик!.. Вжик!.. Вжик!..» – при каждом шаге богомолы выбрасывали перед собой страшные зазубренные пилы. Кто-то ухватил его за рукав и стащил вниз.
– Надо выбираться отсюда, держитесь за меня, я вам помогу, сударь!.. – пискляво прокричал Арлекин. Игнациус пихнул кулаком отвратительную сдобную рожу.
– Продадите Фукелю? Да?..
Деваться было некуда. Их с неимоверной силой прижало к стене. «Вжик!.. Вжик!.. Вжик!..» – падало на площадь. Арлекин совал ему под нос жеваный клочок бумаги:
– Звездочет… обязательно передать… последняя наша надежда…
В багровых сумерках Игнациус едва разобрал каракули: «Александр, пробивайся к Башне, дорога каждая секунда. – И знакомая, жирно обведенная подпись: – Федор Грун».
– Грун? – ошеломленно сказал Игнациус.
– Звездочет, сударь, – объяснил Арлекин.
– Грун?!
– Это Персифаль, сударь.
– Грун!!!
– Поспешим, сударь, – сказал Арлекин и буквально клещами выдернул его из толкотни под какую-то низкую арку. – Верьте мне, верьте. Есть ходы, о которых важные господа не знают: есть кухни, есть дворницкие, есть черные лестницы, куда не заглядывает даже ночная стража…
Они протиснулись в узкую каменную щель и оказались на параллельной улице. Улица была безжизненная, словно нарисованная на холсте: малиновая пленка облегала дома, и выше заколоченных ставен взметывались из утрамбованной земли мясистые листья чертополоха. Мутно светили трехпальчатые фиолетовые цветы.
– Замрите, сударь, – шепнул Арлекин.
Через покатое плечо его Игнациус видел, как, еле звеня по булыжнику быстрыми копытами, чрезвычайно легко, будто призраки, пронеслась над мостовой кучка всадников в развевающихся длинных плащах – человек десять, не больше – и растаяли в густом огневище.
– Милорд Экогаль, сударь, – прошептал Арлекин, странно улыбаясь. – В прошлый раз ему помог спастись сам Фукель. Не удивляйтесь: Фукелю нужен реальный и сильный враг, чтобы противопоставлять его насекомым. Он же знает, что Экогаль не собирается разрушать Ойкумену.
– А разве Фукель – человек? – спросил Игнациус.
– Конечно, сударь. Насекомые не способны править самостоятельно.
– Все равно я вам не верю, – сказал Игнациус.
Они пролезли сквозь сухую траву, меж колючими толстыми стеблями, и долго бежали по скудно освещенным то земляным, то дощатым, то облицованным сырым, не отделанным камнем узким, извилистым, путаным переходам с угрожающими потолками, прыгали в невероятные лазы – подсаживая друг друга, карабкались из тесных тупиков на следующий ярус.
Игнациус потерял всякое представление о том, где они находятся. Капала вода. Сыпался древесный мусор. Задавленно пищали крысы под живыми сгнившими половицами.
– Скорее, скорее, до полуночи всего три минуты, – задыхаясь, шипел Арлекин. В желтых щелях неожиданно открывались захламленные чуланы, кладовки с крупой и банками, длинные пеналы, завешанные дряблым бельем, страшноватые пахучие кухни, в которых какие-то полуодетые люди, отдуваясь и ухая, швыркали чай из блюдец, поставленных на растопыренные пальцы. В одной из них Игнациус с изумлением обнаружил Валентину: поддергивая пышные кринолиновые юбки, она сердито отчитывала пожилую женщину в переднике, горько стоящую перед ней.
– Прау Жужелица, – бросил через плечо Арлекин, – самая злобная из мегер, близка Фукелю.
Валентина сгинула. Словно не было никогда. Щели кончились. Коридор пошел вверх и распахнулся мраком, о необъятности которого свидетельствовало гигантское эхо шагов. Арлекин ступил на железную винтовую лестницу без перил, уходящую куда-то во тьму, под купол.
– Мы в тайниках Башни, сударь.
Игнациус поднимался вслед за ним, судорожно балансируя расставленными руками. Оказывается, победить очень просто, надо только решиться, подумал он. Надо решиться, и тогда ничего не страшно. Лестница мелко дрожала. Спицы лучей протыкали гулкую темноту, и в постепенном истаивании их чувствовалась безразмерность пространства. Забил крыльями голубь – далеко, в слуховом окне. Железные ступени уперлись в известковую кладку.
– Перстень, сударь!
Игнациус приложил кольцо Мариколя, и скорпион засиял. Кованая дверь отошла с протяжным вздохом.
Звездная прозрачная зелень хлынула оттуда.
– Зажмурься, – шепнула Аня, – можно ослепнуть, это камера Дев.
Теплая рука осторожно потянула его. Щурясь от быстрых уколов, он искал знакомые губы.
– Осталось пятьдесят секунд, – простонала Аня, откидываясь. – Ты безоружен, возьми вот это.
Игнациус сдавил рифленую рукоятку. Заскрипели ржавые петли. Целым букетом ахнули снаружи визгливые голоса. Высверлила уши тревога. Звонко столкнулся металл. Точно буря, обрушились отовсюду гудящие рубящие удары. Сквозь туманные уколы звезд Игнациус различил надвигающиеся на него хитиновые пилы и отточенные резцы жвал. Он заехал кинжалом. Богомол опрокинулся. Кажется, это был Стас. В суматохе не разобрать.
– Звездочет ждет нас! – тянула его Аня.
Глаза привыкали. Богомол лежал ничком, так что лица видно не было. Пара жуков-стражников шевелила лапками, вероятно в агонии. Тихо оседал распластанный по стене Арлекин, и короткое пестрое древко торчало у него между лопаток:
– Ойкумена должна погибнуть…
Они помчались наверх, перепрыгивая через ступеньки. Игнациус царапал спекшееся горло ногтями. Впереди была еще одна кованая железная дверь. Также запертая, массивная, неприступная. Витиеватый иероглиф, как неоновый, пылал на ней. Стрелы шлепались справа и слева о шершавый камень. Было странно, что до сих пор не задели. Он безуспешно дергал литую старинную ручку из бронзы. Так и этак. Перстень здесь почему-то не помогал.
– Печать Гнома, – сказала Аня. – Гном воздвиг Ойкумену, потом его отравили. – Игнациус поддел иероглиф и сорвал его. – Нарушивший печать Гнома потеряет все, – глухо сказала Аня.
– Посмотрим, – невнятно ответил он. Ручка стукала, как будто стреляла. Дверь все равно не поддавалась. Как мертвая. Снизу приближался противный крутящийся визг.
– Поцелуй меня напоследок, – жалобно попросила Аня.
Игнациус поцеловал.
Аня достала из выреза крохотный золотой флакончик.
– Это зернышко маллифоры, настоянное в вине. Оно дает забвение. Ты снимешь перстень, и мы уйдем вместе. Бедный отец…
Остатки иероглифа корчились, словно огненные змеи. Скрежет когтей затопил лестницу. Дверь вдруг начала медленно, очень медленно отворяться. Изможденный старик в балахоне и островерхом двухцветном бархатном колпаке возник на пороге:
– Пришли?
– Старый добрый Персифаль, – сказала Аня. Наклонилась и поцеловала его пергаментную руку.
Дверь легко закрылась за ними.
– Кольцо при вас? – прошамкал старик.
– Да, – сказал Игнациус. – Да!
– Идемте…
Они поднялись в круглую комнату, где предметы угадывались только по их лунным очертаниям. На столе, заваленном свитками, книгами и причудливыми инструментами, жужжала сфера из семи планет.
– Ты все-таки пришел, Александр, я уже отчаялся ждать тебя, – опершись о нее, сказал старик.
– Грун? – неуверенно спросил Игнациус. Нечто странно-знакомое было в костяных, отбеленных возрастом, заостренных чертах кривоватого слепого лица. – Природа любит внезапную логику, – пробормотал он.
– Что? – спросил Грун.
– Это я – так…
Грун, схватившись за сердце, с трудом перевел дыхание.
– Надо торопиться, Саша, я очень болен, и мне осталось совсем немного. – Он опять с трудом перевел дыхание. – Легенда гласит, что запустить ход времени в Ойкумене может лишь человек из мира людей, которого полюбит мадонна, обручится с ним и отдаст ему перстень короля Мариколя.
– Я люблю его, – тут же сказала Аня, – прости меня, бедный Персифаль.
Она вся дрожала. Огромные медные шестерни стучали над ними, поворачиваясь с каждым стуком на один зубец. Маслянела пружина. Свисали огромные цепи. Грун отчетливо щелкнул пальцами – и раздвинулись створки на потолке. Ожерелье из крупных угловатых звезд мерцало в глубокой черноте над дымящейся Ойкуменой. Даже не верилось, что бывают такие чудовищно крупные звезды. При космическом, неземном свете их Игнациус увидел длинные стрелки часов: они показывали без минуты двенадцать. Он снял с безымянного пальца кольцо Мариколя и поднял его.
– С этой секунды ты становишься смертен и уязвим, – сглатывая на каждом слове, слабо предупредил Грун.
Игнациус отмахнулся. Кольцо легло точно на часовую ось. Что-то заскрежетало, сцепилось и тронулось внутри старинного механизма. Звякнул дугообразный анкер. Громовой удар до основания потряс Башню. Прокатилось землетрясение. Шатались пол и стены, сыпался потолок, разворачивались свитки с дикими нечеловеческими письменами. Казалось, они проваливаются в преисподнюю.
Грун, хватая ртом воздух, лежал в деревянном кресле.
– Тебе плохо? – спросил Игнациус.
– Нет, просто я умираю…
Три… пять… семь… – грозно отбивали куранты. Игнациус прижал к себе Аню.
– Значит, все правда, значит, мы победили, – шептала она.
Девять… десять… одиннадцать… – Сдвинулся целый мир. Комната вокруг них тряслась и стонала. Звезда за звездой рушилась изнанка Вселенной. Треснул упор часов, посыпались шестеренки. Натянулась и дернулась кверху железная цепь. Раскатились колесики: полночь! Ослепительно и больно, бриллиантами миллионов огней засиял Звездный Круг над их головами. Вдруг – лопнул. Все закрутилось. Совместились горячие недра времен. Ойкумена погибла и снова вынырнула из пучины. Проявился какой-то трепещущий свет. В последний момент Игнациус заметил, как, взмахнув крыльями балахона, проваливается в багровую черноту остекленелый Грун и как, начиная с флагштока, словно от удара молнии, медленно и страшно расщепляется пополам суставчатая Башня Звездочета.
Глава 10
Я расскажу все как было – ни о чем не умалчивая и ничего не добавляя от себя.
У нее имелась отвратительная привычка: когда она пила, то обязательно стукала чашкой о блюдце. Звук был очень противный – холодный и резкий. Будто стукал один фарфоровый зуб о другой. Игнациус заранее напрягался. Невозможно любить женщину, которая так стукает чашкой.
Вообще невозможно было любить.
– Я вчера не слышал, как ты пришла, – раздраженно сказал он.
Аня выпрямилась и хрустнула пальцами.
– Мы ходили в театр, – сказала она.
– Кто это – «мы»?
– Весь отдел.
– Двадцать восемь человек?
– Ну конечно…
И она покраснела. Она не умела врать.
– Ты не умеешь врать, – сказал Игнациус. – Впрочем, теперь это – все равно. Был скандал с Горгоной, что не запираем дверей. Она будила меня четыре раза. До трех ночи. Я же просил тебя…
– Я ходила в театр, – упрямо повторила Аня. Звонко стукнула чашкой и спохватилась. – Пожалуйста, извини… Как ты думаешь, могли бы мы поменяться? Комната на комнату. Или еще как-нибудь? – Она придавила мизинцем синеватую дрожащую жилочку на виске. – Вчера Горгона выдумала, будто я отсыпаю у нее манную крупу из шкафчика. И повесила амбарный замок. А сегодня ворчит, что ночью у нее откусили половину котлеты.
– Порядочные девушки не жрут по ночам чужих котлет, – сказал Игнациус. – Порядочные девушки возвращаются домой как положено. И заботятся о семье. – Он запнулся. – Ну что ты на меня смотришь?
– Ой, забыла, забыла!.. – воскликнула Аня.
Чрезвычайно легко поднялась и выбежала из комнаты. Чрезвычайно легко и чрезвычайно поспешно. Игнациус даже, не выдержав, застонал. В свою очередь тоже поднялся и дернул разбухшую форточку. Ворвалось бормотание, ударило мокрым снегом. Утро наступало пронзительное, ветреное, сырое – в грохоте обрывающегося льда и в шипении мутной, летящей с поребрика крыш, обезумевшей талой воды. Тс-тс-тс, сказал он себе. Потому что накатывало обычное бешенство. Комната была узкая, тесная, и жить в ней было совсем невозможно. Вообще невозможно было жить. Голая лампочка надрывалась над клеенчатым липким столом, где – которые сутки уже – засыхал в хлебных крошках изогнутый ломтик сыра. Он терпеть не мог сыр. Ничего нет противнее сыра. Неопрятная, брошенная, развороченная тахта желтела неостывшим сном. Валялась скомканная рубашка. Игнациус намотал в пальцы угол простыни и стащил ее на пол – со всеми делами. Нельзя любить женщину, у которой плесневеет в тарелке вчерашний ужин и целыми днями распахнута мелко измятая пустая постель.
Он уже говорил об этом – тысячу раз.
Аня примчалась обратно и замахала руками:
– Ой, ты представляешь, я чуть было не сшибла Горгону! Ползет себе по коридору, я – тоже бегу… Еле-еле затормозила…
Она попыталась улыбнуться.
– Я опаздываю, – напомнил Игнациус.
– Сахара, оказывается, нет, и – у меня кончились деньги…
С деньгами было совсем плохо.
– Сколько тебе нужно? – спросил он.
– Рублей двадцать.
– Подумаем…
Ему было стыдно. Аня посмотрела на сброшенные подушки и ничего не сказала. Она ничего не говорила в таких случаях. Будто не замечала. Все-таки надо сдерживаться. Он стал слишком раздражителен. Это ужасно. Это старческое перерождение психики. Он знал об этом. И все-таки надо сдерживаться. Мелочи. Быт. Суета. Она очень старается.
– Неужели же ты не могла все как следует рассчитать! – вдруг взорвавшись, запальчиво сказал он.
Накатила горячая, душная, болезненная волна.
Часы показывали семь тридцать пять. Было обычное сердцебиение. Правда, немного сильнее. И была обычная неприятная сухость во рту. А еще вдобавок, чего раньше не наблюдалось, медленно плыла голова, и он никак не мог остановить вращающуюся вокруг него комнату.
Аня прятала виноватые жалобные глаза.
– Сегодня у одной из наших сотрудниц – день рождения…
– Конечно, иди, – сказал Игнациус.
– А ты – как?
– У меня срочный перевод, я буду долго работать вечером.
Это была неправда. И они оба знали об этом. Игнациусу хотелось ударить самого себя.
Аня вдруг наклонилась, как кукла, и прижалась лбом к его плечу.
– Ну зачем ты, зачем? – очень быстро, с проскакивающими в голосе слезами сказала она. – Ну давай я никуда не пойду? Они мне не нужны – только ты… Но я же не могу целый день сидеть в жутких стенах и задыхаться от твоего бесконечного молчания.
– Действительно, – согласился Игнациус, поймав наконец зрачками мутный, прыгающий рисунок обоев. От волос ее терпко припахивало эликсиром, и он поморщился. Запах был неприятный. И еще ему было неприятно, что она прижимается. – Конечно, иди. И – не думай, не мучайся – ты мне ничем не обязана.
– А ты очень меня не любишь? – спросила она.
– Очень, – сказал Игнациус.
– Это Ойкумена, – сказала она.
– Нет, это – я сам, – сказал Игнациус.
Нельзя любить женщину, которую не любишь. Потому что тогда начинаешь ненавидеть каждый ее жест, каждую интонацию, каждое ее неосторожное слово. Он сидел в сквере напротив своего института и глядел, как меняются зеленые цифры на табло при входе. Время и температура. Температура и время. Был март. Отсырели и стекли за горизонт дряхлые выдохшиеся морозы. Клочья синевы продрались к полудню из мокрых туч. Хлынули на город потоки рыжего света. Дул резкий ветер с залива, и под тревожным упорством его оседал ноздреватый прогревшийся снег в сугробах. Чернели поперек тротуаров первые неуверенные ручьи. Пучился грязный наст в каналах. Сладкие тягучие соки распрямили артерии тополей и, дойдя до их самых конечных, до самых их тонких веточек, с болью и наслаждением отщепили коричневые почки на них. Прояснившийся воздух стал горек.
У Игнациуса совершенно не было сил.
Капелюхина встретила его нервно и раздраженно:
– Вы опять опоздали, – сказала она.
– Да, – подтвердил Игнациус.
– Это уже не первый случай.
– Я знаю.
– Так больше продолжаться не может.
– Разумеется, – сказал он.
– Я была вынуждена пропустить начало конференции, чтобы лично включить прибор. Я предупреждаю вас самым серьезным образом…
Игнациус, спасаясь, уткнулся в смотровое окошечко. Прибор назывался «ДМЗ» – дестабилизатор механической защиты. Его изобрела сама Капелюхина: обруч, проложенный войлоком, зажимал куриное яйцо, а пульсатор (заостренный на конце молоточек) тюкал его под заданным углом и с заданной силой. В обязанности лаборанта входило снимать разбитое яйцо и ставить новое. Капелюхина особо следила, чтобы использованные яйца не пропадали. Она уже защитила докторскую и шла прямиком на профессора. Игнациус накинул халат. Сотрудники лаборатории косились на него с острым и нескрываемым любопытством. Он был легендарной фигурой: увольнение, плагиат, скандалы.
– А знаете, Александр Иванович, – обратился к нему кудрявый Гоша, – в Южной Америке обнаружили целый неизвестный народ? Несколько тысяч человек на стадии средневековья. Сплошные загадки. Они появились непонятно откуда, обликом явно европейцы и говорят на языке древних белгов.
Игнациус пожал плечами. Ойкумена не интересовала его. Нельзя любить женщину, которая тебя обожает. Обожание утомительно, оно будто клейкая паутина опутывает человека – хочется немедленно освободиться. И уйти навсегда. Любить можно только безответно. А взаимная любовь – это абсурд. Он нажал кнопку. Пульсатор качнулся и острым клювом тюкнул по скорлупе.
После работы он снова спустился в сквер и уселся на ту же отдельную мокрую, покосившуюся скамейку. Делать ему было абсолютно нечего. Дожидавшийся Анпилогов немедленно подошел к нему, протягивая чистенькие, без морщин, купюры:
– Вот тебе – двадцать рублей.
– Теперь будет – ровно сто. Плата за слепоту и безразличие.
– Не понял, – сказал Анпилогов.
– Я ведь не отдам, – признался Игнациус, улыбаясь и пряча деньги в карман.
– Пожалуйста, – Геннадий равнодушно кивнул. Он был без шапки – худой, хрящеватый, с бледным замерзшим редковолосьем на голове. – Не стесняйся в дальнейшем. Если тебе понадобится еще…
– Ладно, – сказал Игнациус.
– Старик уже звонил к вам в институт – они отрегулируют твою Капелюхину.
– Ладно, – сказал Игнациус. Повернулся и с интересом посмотрел на него – снизу вверх, из ветвей, обнесенных ледяшками. – Значит, ходили в театр? Цветы, шампанское?.. Наверное, поцеловал ей руку?..
Анпилогов покраснел так, что бесцветные волосы его стали казаться чужими.
– Если ты думаешь, что я способен…
– Способен, способен, – сказал Игнациус. – И правильно, что способен. Привет – Геннадий…
Он пошел на другую сторону улицы. Запрещая, горел светофор, и машины, негодующе разбрызгивая слякоть, шарахались от него. Обрывались сосульки. Часто капало с крыш. Красное вечернее солнце растекалось в зеркальных витринах универмага. Бурлили у метро зловещие толпы народа. В половину неба пылал над черными трубами холодный желтый закат. Там, по-видимому, догорала Ойкумена. И в агонии корчились злобные панцирные жуки. Месяца три, не больше, подумал Игнациус. Предположим, он доживет до семидесяти. Это в лучшем случае. Значит – март, апрель, май. Начало июня. Нельзя любить женщину, если – март, апрель, май. Начало июня. В лучшем случае. Вообще невозможно любить. Он механически топтал скользкую ледяную кашу. Трамваи отбрасывали с рельсов фонтаны воды. В конце проспекта на шелковом полотнище неба темно-синей трехглавой громадой теснились широкие купола собора. Время было как этот закат. То есть – красного цвета и желтого цвета. И такое же, как закат, холодное. Беспощадным потоком своим оно пронизывало его – вымывая всю жизнь, оставляя пустую ненужную скорлупу.
Он свернул вдоль собора. Валентина уже поглядывала на часы. Изнывающий Пончик буквально подпрыгивал.
– Папа, ты только недолго, – противно загудел он, приседая и дергая Игнациуса за рукав. – Десять минут погуляем и ладно? А то мы собрались в кино…
– Какое кино?
– Про пиратов…
– Он давно просится, – объяснила Валентина. – А на завтра сеансов не было.
– Не хочу с тобой гулять, – ныл Пончик. – Ты меня водишь-водишь по улицам – скучно… А Серегин папа купил ему настоящее большое ружье. Ну, не настоящее – стреляет пробками. Ка-ак даст!.. Ну, давай не пойдем гулять сегодня, а то в кино не успеем…
Валентина тряхнула его за мокрый воротник:
– Помолчи!
– Ну, чего – я? Я только хотел…
Валентина еще раз тряхнула его:
– Помолчи!
– Тогда до свидания, крокодил, держи корягу, – с облегчением сказал Игнациус и протянул пятерню.
Пончик шлепнул по ней:
– Взаимно!
Валентина, однако, не уходила.
– Мы могли бы пойти вместе, – наконец сказала она. И на скулах ее зажглись знакомые мятые пятна. – Я купила по случаю три билета – на всех…
Игнациус моргал в изумлении. Желтые полосы заката утягивались за собор, небо быстро темнело, и горький прозрачный воздух наливался губительной чернотой.
Он отчетливо произнес по-испански:
– Возьми все что хочешь, сказал бог. Возьми. Но заплати за все.
Жутковато, как будто из другой галактики, прозвучали гортанные переливы на вечерней мартовской капающей и текущей улице.
– Ну и дурак, – высокомерно сказала Валентина. Застегнула перламутровые пуговицы на шубе и как фурия обрушилась вдруг на неповинного Пончика. – Что ты ноешь?.. Ты замолчишь наконец?..
Игнациус смотрел, как они идут вдоль проспекта, к далекой трамвайной остановке: жужелица-Валентина заколачивала каблуки в асфальт, а светлячок-Пончик подпрыгивал, не успевая за нею.
Честно говоря, он был только рад.
Нельзя жить в мире, от которого сохранились одни развалины: призраки, пепелища, сладкий дурманный ветер над скелетами голых руин.
Он вздохнул. В автобусе его стиснули так, что тупая заржавленная игла, давно уже появившаяся в груди, беспокойно заныла – приближаясь к сердцу. И до сердца ей оставалось совсем немного. Был час пик. Не хватало пространства. Майский жук в роговых очках давил на него распухшим портфелем, две вертлявые, тощие стрекозы, прихорашиваясь, терлись о спину, а молодой джинсовый паучок больно упирался в ребра острыми костяными локтями. Копошились гибкие крючки и жвалы. Ойкумена все-таки настигла его. Победить, оказывается, невозможно. Реальны только поражения. Пустыня может быть полна людей и все-таки оставаться пустыней для того, кто пересекает ее. Идущий за миражом гибнет.
Он немного постоял на площадке и открыл дверь. Горгона караулила его в прихожей.
– Краля твоя опять сортир не вымыла, – просипела она. – Я ей говорю: насыпь хлорки в горшок, вонять не будет, а она не сыпет. И коклету мою, обратно, слопала. Она думает, если ночью пришла и на цыпках по колидору пробегла, так ее и не слышно. А я чутко сплю, дергаю одним ухом: вышла – кто там шебуршит? А это она посередине кухни – босая, в исподнем, сиськи торчат – и коклету мою, обратно, лопает. Я ей вежливо говорю: зачем мою коклету лопаешь, паскуда? Я больными ногами иду в магазин, покупаю собачьего фарша за двенадцать копеек, жарю его на малгарине, поливаю купоросом, чтобы не отравиться, и делаю себе коклеты для организма. А ты мои коклеты нахально лопаешь посреди ночи. Так ее думала пристыдить, думала, совесть у нее найдется. Куда там! Поворачивает тараканьи свои бельмы, нагло дожевывает и говорит: у вас, говорит, гальюнации, Анастасия Никодимовна… Какие-такие гальюнации? Сроду у меня гальюнаций не было… А живет, говорит, в нашем доме человек по имени Клопедон. Никто его не видел, и квартира его неизвестно где. А только, значит, живет. Вот этот самый Клопедон – ему сто лет. Он еще до революции здесь дворником служил и все ходы знает. Днем Клопедон спит, а ночью бродит по лестницам, палец у него железный – отпирает любую дверь. Людей он не трогает, а где чего съестного найдется, вмиг заберет и стрескает. Это он вашу коклетку утындырил. Я, говорит, когда на этаж поднималась, он мне навстречу попался: здоровенный такой мужик, голова, как котел, – пустая, рожа – красная, обваренная, вместо волос – швабра, и глаза светятся. Вообще, говорит, он смирный, но если, например, кому коклету жалко, то может и убить. Потому что ему тогда стыдно делается за свой аппетит. Аппетит у него – страшный. От стыда и убивает. Так что вы, Анастасия Никодимовна, по вопросу о коклете громко не выступайте, а то Клопедон услышит и, значит, – того…
– Как фамилия? – переспросил Игнациус, стараясь протиснуться мимо нее к дверям.
– Клопедон, – таинственно понижая голос, повторила Горгона. – Вот гальюнация так гальюнация, я теперь заснуть не могу – вижу: стоит мужик в шароварах, сам голый, голова, как чугунный котел, перевесилась, и мне пальцем грозит: у-у-у, старая!.. – Горгона обидчиво шмыгнула. – Уж, казалось бы, месяц живем, подружились, вон ты давеча мне кошачьей шерсти в кастрюлю настриг, так я ничего – выловила и обратно к вам…
– Хорошо, – сказал Игнациус. – Я завтра поговорю с ним, я его знаю, действительно – Клопедон, он у нас в институте вахтером работает. Вдумчивый, серьезный товарищ. Не переживайте, Гор… Анастасия Никодимовна, лично к вам он больше заходить не будет.
Горгона слегка успокоилась и вытерла мягкий нос огромным платком.
– Я тебя уважаю, Санваныч, ты человек положительный, а краля твоя хвостом вертит. Только ты из дома, она – щелк, и нет ее. Какая-такая работа до полуночи? С шаромыжниками гулять – такая работа!.. Взял бы да отхлестал вожжами, она тебе кто – жена невенчаная? То-то и оно, а ты размяк, дурень. Прибей и выгони, покажи характер! – Горгона энергично кивала. – Может, тебе водочки налить? Весь-от посинел, прямо малиновый…
– Я не пью, – сказал Игнациус.
– Потому и добрый.
Погремев чем-то в шкафчике и неразборчиво пошептав, она налила ему треть стакана. Водка была очень противная. Игнациус, морщась, выпил и пошел в свою комнату. Там было прибрано, проветрено и даже вымыт крашеный пол. На расправленной чистой клеенке белела записка от Ани: «Не ищи меня, больше сюда не вернусь». Аккуратные строчки на длинном клочке бумаги. Игнациус пожал плечами и скомкал ее. В общем-то ему было безразлично. В открытой форточке грохотала шальная капель. Хлюпало, ухало, чмокало и свистело. Мазнуло по лицу водяной прилипающей пылью. Комья снега подтаивали между окон. Он во весь рост повалился на скрипнувшую тахту. День заканчивался. Растекались минуты. Водка совсем не действовала на него. Нельзя любить женщину, которую уже любил когда-то. Когда-то очень давно, много лет назад. В пылких снах и юношеских мечтаниях. Вообще невозможно было любить. Потому что – бессмысленно, и потому что – напрасно. Потому что теряешь тогда – все, что есть. Потому что любовь пожирает – всю жизнь, без остатка. Отдаешь целый мир и ничего не получаешь взамен. А идущий за красочным миражом – погибает. Водка все-таки медленно действовала на него. Стало жарко. Дремотное сознание прояснилось. Игнациус дышал в узорчатую ткань тахты. Как в туманном волшебном зеркале перед ним выплывало: диссертация, Жека, Анпилогов в ботве… вечно ноющий Пончик, метания, провал на защите… помертвевший бессильный Созоев, остекленелый Грун… Валентина в распахнутой шубе, чужое лицо матери… Он как будто перелистывал альбом своих давних потерь. Фотографии, серый картон. Альбом идиота. Страница за страницей проваливались в никуда. Дождевой будоражащей свежестью тянуло из форточки. Аня села вдруг на тахту рядом с ним – наклонившись и положив ладонь на затылок. Тем же запахом эликсира веяло от нее. Пальцы были холодные и чуть влажные.
– Ты не спишь? – спросила она.
– Нет, не сплю, – после паузы ответил Игнациус.
– К сожалению, я не могу уйти. Я как будто привязана к этому дому…
– Очень жаль. – Игнациус замолчал.
Аня вздрогнула и немного поежилась:
– А на улице – сыро и все течет…
– Просто оттепель, – неохотно сказал Игнациус.
– Просто оттепель? Я думаю, что уже – весна…
– Ну – не надо, не надо! – сказал Игнациус. И рука, которая гладила его, осеклась. Аня выпрямилась и, кажется, стиснула зубы.
– Ты, конечно, мне не поверишь, но я люблю тебя.
– Сообщи об этом по радио, – сказал Игнациус.
– Я люблю тебя, и поэтому погиб Персифаль…
Наступило молчание. А через секунду:
– Ах, вот как?..
– Он не мог стать мне мужем, потому что я любила тебя.
– Ну – не надо, не надо! – вторично сказал Игнациус.
– Тебе очень плохо? – спросила она.
– Нет, пожалуй, терпимо, – ответил Игнациус. – Все-таки единственный, кого я жалею, – это Персифаль.
И опять наступило молчание, точно обрезало.
– Но ведь я ничего не могла поделать, – сказала она.
– Ты нисколько не виновата, – сказал Игнациус.
– Может быть, но если не любишь, то – всегда виноват.
– Да, конечно, я – виноват, – согласился Игнациус.
– Нет!.. Не думай!.. Я вовсе не о тебе!..
– Хорошо, – терпеливо сказал Игнациус, – пусть я не виноват, но я тебя не люблю. Не люблю, не люблю! И давай на этом закончим!.. Все! Закончим! Закончили! Теперь – уходи!.. – Он задвигал локтями и перевернулся на спину. Потолок был ободранный, в летаргической паутине годов.
– Как ты думаешь, сколько тебе осталось? – спросила Аня.
– Я не знаю… Немного…
– В июне?
– По-видимому, июнь…
– Обещают, что июнь будет очень жаркий.
– Ну уж это мне теперь все равно…
– И потом, неизвестно еще, а вдруг ты ошибся?..
– Не волнуйся, я не ошибся, – раздраженно сказал он.
Сел рывком и в надтреснутом зеркале на стене увидел свое отражение. Постаревшее, серое, осунувшееся лицо. С утра протекли уже три месяца, но пока изменений не было. Только, кажется, немного побелели виски. Он придвинулся к зеркалу и повернулся в профиль. Да, действительно, чуть-чуть побелели виски. Да, действительно, виски чуть-чуть побелели.
– Я не ошибся, – вяло сказал он.
Глава 11
У него обнаружили геронтофагию, «пожирание старостью». При этой болезни резко ускоряются некоторые обменные процессы в организме, постепенно выпадают волосы, тускло обесцвечиваются глаза, ревматическая боль нежно покусывает суставы. Начинается преждевременное старение. Человек как бы скользит по возрасту, пробегая за один день несколько месяцев своей жизни. Субъективно это почти не ощущается. Полагают, что геронтофагия связана с распадом биологических часов. Или с нарушением психологического восприятия действительности. Как-то примерно так. Я не специалист. Болезнь эта чрезвычайно редкая и чрезвычайно загадочная. Причины возникновения ее непонятны. Никаких лекарств нет.
Игнациуса обследовали очень долго и очень тщательно. Ему предложили лечь в клинику и поставили на медицинский учет. Он, естественно, от всего отказался. Как и многие на исходе лет, он испытывал острую неприязнь к врачам. Недоверие. Смутную настороженность. Раз в неделю его посещал участковый терапевт. Но и только.
Он остался жить в своей прежней квартире, хотя Горгона писала слезные жалобы в горисполком, требуя выселения заразно больного тунеядца. Геронтофагия не опасна для окружающих. Ему дали бюллетень до конца года, и у него образовалась масса свободного времени. Он не представлял, куда его тратить. Он вставал рано, потому что страдал бессонницей, – день проходил в утомительном перемалывании длинных, как эпохи оледенения, светлых и пустых часов. Он физически чувствовал это время, текущее сквозь него. Будто поток проникающей радиации. Ночью он обычно лежал без сна, распахнув легкие веки, и в зашторенной темноте слушал безжалостный треск секунд. Он совсем ни о чем не думал. Думать было утомительно. Его никто не навещал, потому что он не хотел этого.
Я его знаю – грузный, большеголовый, неопрятный старик в мятом костюме и разношенных плоских туфлях со шнурками, зажав коленями отполированную палку, положив бульдожьи щеки на набалдашник, неподвижно сидит на скамейке в пыльном сквере и глазами из бутылочного стекла упирается в какую-то далекую, непонятную, одному ему видимую точку. Сжатые губы – изогнуты. Рефлекторно подрагивают пегие кустики бровей. Вспоминает ли он при этом о чем-нибудь давно позабытом или, наоборот, старается изгнать нечто из памяти – неизвестно.
Сквер у нас небольшой, он разбит на месте снесенного углового дома, две глухие стены без окон огораживают его. С левой стороны проходят трамвайные рельсы на булыжнике, а по правую руку – шумная, многоголосая, торопливая улица. Несколько чахлых, измученных тополей, тянущихся к небу ветвями, заколоченная в землю кремнистая щебенка, детский квадрат с окаменевшим песком и застрявшие на полувзмахе качели. Пейзаж довольно унылый. Однако народу хватает. Скамейки обыкновенно заняты. Даже на песочнице устраиваются говорливые старухи. А вот он всегда один – к нему не подсаживаются. Он не разговаривает ни с кем, не читает газет и затрепанных пухлых журналов, не присматривает за детьми, не играет в бесконечные шашки со знакомыми из ближайших парадных. Как я догадываюсь, пенсионеры нашего района, спаянные многолетним общением, тихо ненавидят его. Он – сам по себе.
Однажды, чисто случайно, даже не подозревая о сложных дворовых отношениях, исторгнувших его, я уселся рядом, и он рассказал мне свою историю. Видимо, это была минутная слабость. Иногда желание рассказать угнетает хуже любой болезни. А может быть, я ему просто понравился. Трудно судить. Была середина мая, ранняя густая теплынь, незрелое солнце, клейкая зеленая опушь в кронах тополей, и мне странно было слушать про таинственную Ойкумену, лежащую на границе дня и ночи, про великое царство насекомых, все-таки разрушенное человеком, про загадочные часы на башне, в стрелках которых запутался ход времен, про яростного свирепого Экогаля, про Арлекина, изменника и борца за справедливость, про несчастного забытого Груна, который умер, потому что дочь Мариколя не смогла полюбить его.
А закончив, он равнодушно спросил:
– Вы мне, конечно, не верите? Правда?
– Не знаю, – честно ответил я.
Мне казалось, что он меня разыгрывает. Все это звучало как сказка. Невозможно было поверить в нее, сидя на скамейке, в центре огромного города, под перестук трамваев и быстрое упорное шуршание прилипающих к асфальту шин.
– Не знаю…
Он обиделся и опять замкнулся в себе. С тех пор, пересекая сквер по пути к дому, я непременно здоровался с ним, но он мне уже не отвечал и даже не поворачивал головы в мою сторону. Люди часто жалеют об излишней откровенности. В начале июня, когда навалилась слепая жара, его все-таки забрали в клинику, и больше мы не встречались.
Вероятно, я уже никогда не услышу о нем.
Вероятно.
Жизнь смывает и не такие истории.
Кстати, я видел Аню и даже разговаривал с ней. Мы как-то столкнулись на улице, и она спросила что-то об экзаменах в нашем институте. Кажется, она собиралась туда поступать. Она действительно очень симпатичная, но ничего особенного – такого, чтоб потерять голову – я в ней не заметил.
Красивая девушка – вот и все.
Некоторое время она еще жила в нашем доме, а потом вышла замуж и переехала.
Цвет небесный
Очередь была километра на четыре. Она выходила из павильона, поворачивала за угол и черным рукавом тянулась вдоль промерзшего за ночь бульвара. Стояли насмерть – подняв воротники, грея дыханием окоченевшие пальцы. У Климова ослабели ноги. Он этого ожидал. Ему сегодня снились голые, неподвижные деревья на бульваре, стылый асфальт и холодные мраморные статуи при входе. Озноб прохватывал при виде этих статуй. Он представил, как сейчас закричат десятки глоток: «Куда без очереди?» – и он будет жалко лепетать и показывать билет члена Союза – машинально, как у всех, поднял воротник старого пальто. Каблуки стучали о твердую землю. Хрустели подернутые льдом лужи. В подагрических ветвях сквозила синева хрупкого осеннего неба.
Павильон был огражден турникетом. Климов, страдая, протиснулся.
– Куда без очереди? – закричали ему. – Самый умный нашелся! – А может, он тут работает? – Все они тут работают! – А может, он спросить? – Я с четырех утра стою, безобразие какое – спросить! Давай его назад!
К Климову поспешил милиционер. Вовремя – его уже хватали за рукава. Климов отчаянно заслонялся коричневой книжечкой.
– И у меня такая есть! – кричали в толпе.
В членском билете оказался сложенный пополам листок твердой бумаги. Милиционер развернул его и дрогнул обветренным лицом.
– У вас же персональное приглашение, товарищ Климов. От самого Сфорца. Вы, значит, знакомы с Яковом Сфорца? – Посмотрел уважительно. Очередь притихла, вслушиваясь. – Вам же надо было идти через служебный вход.
– Не сообразил… извините… – бормотал Климов, засовывая приглашение куда-то в карман: он забыл о нем.
Гардеробщик, не видя в упор, принял ветхое пальто, оно съежилось среди тускло блестящих, широких воротников. Красный от смущения Климов поспешил вперед – остановился, испугавшись гулких шагов по мозаичному полу. В обитых цветным штофом залах стояла особая, музейная тишина. Старческое сияние шло из высоких окон, сквозь стеклянные скаты треугольной крыши – воздух был светел и сер. Сотни манекенов заполняли помещение. Дико молчащие, оцепенелые. Климов растерялся. Это были не статуи. Это были люди – как манекены. С гипсовыми лицами. Не шевелились. Не дышали. По-гусиному тянули головы к одной невидимой точке. Климов пошел на цыпочках, шепча: «Извините», – протискивался. В простенках висели одинокие картины. Он высмотрел свою – под самым потолком. Городской пейзаж. Полдень. Горячее, сухое солнце. Канал, стиснутый каменными берегами. Солнце отражается в нем. Вода желтая и рябая. Как омлет. В нее окунаются задохнувшиеся в листве, жаркие, дремлющие тополя. Последняя его работа. Нет – уже предпоследняя. Последняя на комиссии. Все стояли затылками. Это помогло. Климов глядел с отвращением. Вода была слишком желтая. И слишком блестела. Действительно, как омлет. Не надо было разбивать ее бликами. Чересчур контрастно. Дешевый эффект рвет полотно. В шершавых камнях облицовки канала слишком много фиолетового. Сумрачный, вечерний цвет. Он, как чугун, тянет набережную вниз. А дома – вытянутые, серые, призрачные – летят куда-то в небо. Картина разваливается. Климов сжал ладони – ногтями в мякоть. Он был рад, что стоят затылками. Он почти любил эти стриженые, или волосатые, или покрытые ухоженными льняными локонами человеческие затылки. И пусть никто не смотрит. Я же не художник. У меня каждая деталь сама по себе. Как в хоре: каждый поет свое, стараясь перекричать, и хора нет. Какофония. Невнятица цвета. Они же мертвые, эти камни, которыми я так гордился. Я думал, что фиолетовый, а внутри даже чуть лиловый, сумрачный цвет сделает солнечную желтизну в воде пронзительной – как скрипку на самых высоких нотах, где почти визг. А он – глушит. И камни получаются холодные. Ночные камни. Прямо-таки могильные. И все разодрано: дома парят в воздухе, вода плоская, а деревья: боже мой, откуда я взял этот зеленый и этот серебряный. Я хотел передать изнанку листьев – какая она белесая. Замшевая – в крупицах пота. Безумное сочетание. Зеленый и серебряный. Будто игрушки на елке. Проламывает полотно. Словно топор воткнули. Я же не художник. Я ремесленник. Мне нужно аккуратнейшим образом выписывать каждую мелочь, переделывать по десять раз, увязывая скрупулезно. Терпеливо укладывать кирпичик за кирпичиком. Чтобы не рассыпалось. Тогда – да. Тогда я смогу сделать среднюю работу. Не очень позорную. И пожалуй, не надо озарений. Меня губят озарения. Воспаряешь, забывая о том, что нет крыльев. И – брякаешься на асфальт, так что искры из глаз. Очень больно падать. Все так. Кроме неба. Небо я умею. Я даже не понимаю – почему, но оно у меня живое. Единственное, что я умею. Гвадари писал только при свечах, а я пишу только небо. И еще хуже, что оно такое. Беспощадное. Оно просто кричит, что автор бездарность. Сфорца прав: в посредственной работе не должно быть ни капли таланта. Потому что – контраст. Один талантливый штрих разрубит всю картину. Великий искуситель Сфорца: капля живой воды в бочке дегтя, жемчужное зерно в навозной куче. Он мог бы этого и не говорить. Я сам все знаю. Жаль, что никак нельзя избавиться от этого ежедневного, мучительного и невыносимого знания.
Климова толкнули. Забывшись, он сказал: «Осторожнее», – в полный голос. К нему негодующе обернулись, словно нарушать тишину было преступлением. Климов вспомнил, зачем пришел. Разозлился. Морщась от неловкости, стал проталкиваться вперед. Вслед шипели. Здесь тоже была очередь. Дежурный с повязкой на рукаве следил за порядком. Опять пришлось показывать приглашение. Дорогу давали неохотно.
Поперек главного зала была натянута веревка. За ней, в противоестественной пустоте, освещенная сразу из двух окон, одна на стене, словно вообще одна на свете, висела картина. Она была в черной раме. Будто в трауре. Это и был траур – по нему, по Климову. Он взялся руками за веревку. Ему что-то сказали – шепотом. Он смотрел. Его осторожно потрогали за спину. Он щурился от напряжения. Это было невозможно. Заныли виски, защипало глаза от слез – словно в дыму. Нельзя было так писать. Какое-то сумасшествие. Выцвели и исчезли стены, исчезли люди. Он прикусил язык, почувствовал во рту приторную сладость крови. Гулко, на весь зал, бухало сердце. Его предупреждали. Ему говорили: будет точно так же, только в сто раз лучше. Но кто мог знать? Он видел лишь эскизы и писал по эскизам. Его обманули. Не в сто раз – в тысячу, в миллион раз лучше. Просто другой мир. Тот, которого ждешь. Мир, где нет хронического безденежья и утомительных метаний по знакомым, чтобы достать десятку, где нет комнаты в кишащей коммуналке – похожей на гроб, и сохнущего в бесконечном коридоре белья, и удушающей ненависти соседей к неработающему. В этом мире никто не вставал в пять утра и не гремел кастрюлями на кухне, и не было стоячей, как камень, очереди на квартиру где-то на краю света, и можно было не стесняться друзей, выходящих из жирных машин (Как дела, Коля? Все рисуешь?). В этом мире не было кислых лиц у членов выставочного комитета, и не подступала тошнота от своего заискивающего голоса, и не было безнадежных выбиваний заказов: оформление витрины – натюрморт с колбасой, и отчаянных часов в мастерской, когда ужас бессилия выплескивается на полотно, и внутри гнетущая пустота, и кисть будто пластилиновая, и хочется раз и навсегда перечеркнуть все крест-накрест острым шпателем.
Его грубо взяли за плечо. Климов очнулся. Оказывается, он непроизвольно продвигался ближе. Шаг за шагом. Веревка, ограждающая картину, натянулась и была готова лопнуть. Дежурный рычал ему в лицо.
Климов, сутулясь, поспешил вернуться назад.
– Посмотрели – отходите, – сказал дежурный.
– Шизофреник, – объяснял кто-то за спиной. – Таким субъектам нельзя смотреть картины Сфорца. Может запросто сойти с ума. И порезать.
– Как порезать?
– Обыкновенно – ножом.
– Куда смотрит милиция…
Дежурный толкал Климова в грудь:
– Отходите, отходите!
Он чувствовал на себе любопытные взгляды. Кровь прилила к лицу. Девушка рядом с ним, вытянув прозрачную детскую шею, смотрела вперед. Прикрывала рот ладонью, будто молилась.
– Не трогайте меня, – сквозь зубы сказал Климов.
Ему хотелось крикнуть: «Это писал я! Здесь – мое небо! Мой воздух. Тот, что светится голубизной. Сфорца тут ни при чем. Посмотрите в другом зале. Там висит картина. На ней такое же небо. Счастье, которое излучают краски, сделал я. Эмалевая голубизна, чуть выцветшая и тронутая зеленым, как на старых полотнах Боттичелли, – это могу только я. Сфорца этого не может».
– Гражданин, – напомнил дежурный.
– У него в мастерской висят картины без неба, – хрипло сказал Климов.
– Заговаривается! – ахнул за спиной женский голос.
– Да вызовите же милицию!
Климов стиснул зубы и отошел. Его сторонились. Он стал за мраморной колонной. Полированный камень был холодным.
– Я прошу вас покинуть выставку, – негромко, но с явной угрозой сказал дежурный.
– Я никуда не пойду, – сказал Климов.
Он был точно в ознобе. Дрожал. Прижал к мрамору пылающий лоб.
– Хорошо, – сказал дежурный. – Поговорим иначе. – Исчез, будто растворился. Только заволновалась толпа – в направлении выхода.
– Скандалы устраиваешь? – насмешливо сказал кто-то.
Климов с трудом оторвал лицо от колонны:
– Вольпер?
Низкий, очень худой человек, изрезанный морщинами, неприятно обнажил желтые десны.
– Ты все-таки решился, Климов…
– А ты видел? – спросил Климов, громко дыша.
– Я тебя поздравляю, – сказал Вольпер. – Теперь за тебя нечего беспокоиться. По крайней мере десятком картин ты обеспечен.
– Он меня убил, Боря, – сказал Климов, держась за колонну.
Вольпер откровенно засмеялся, раздвинув морщины:
– И хорошо. Надеюсь, угостишь по этому случаю. Ты теперь богатый.
Возник милиционер. Не тот, что у входа, а другой – строгий. Дежурный, согнувшись, показывая на Климова, шептал ему на ухо. Милиционер поплотнее надвинул фуражку.
– Где милиция, там меня нет, – сказал Вольпер. Дернул за рукав. – Пошли отсюда. Что ты нарываешься?
Восторженный шепот прошелестел по залу. Все вдруг повернулись. Окруженный венчиком притиснувшихся к нему людей, из боковой, служебной двери вышел человек – на голову выше остальных. Бархатная куртка его была расстегнута, вместо галстука – шелковый красный бант. Человек остановился, попыхивая трубкой, неторопливо огляделся. Держался он так, словно вокруг никого не было.
– Сфорца, Сфорца, – будто шуршали сухие листья.
– Великий и неповторимый, – хихикнув, сказал Вольпер. – Но каков мэтр. Знает, собака, – как надо. И Букетов рядом с ним.
У Климова оборвалось сердце. Рядом откашлялись. Это был милиционер. Он приложил руку к фуражке – на выход.
Окружавшие говорили что-то радостное и почтительное. Сфорца, глядя поверх, благожелательно кивал. Медленно и глубоко затягивался трубкой.
Только бы не заметил, подумал Климов.
Трубка на мгновение застыла – Сфорца увидел его. Так же благожелательно наклонил крупное римское лицо. Моментально образовался проход. На Климова глазели. Милиционер отпустил локоть. Сфорца шел по проходу, несколько разводя руки для приветствия. Ладони у него были широкие и чистые.
– Подвезло, – сказал Вольпер.
Климову захотелось убежать. Он скривился – от стыда.
– Весьма рад, – сочным голосом сказал Сфорца. Положил в рот янтарный мундштук.
– Ну, я пошел, – сказал Вольпер.
Откуда он взялся? У него была итальянская фамилия. В ней чувствовался привкус Средневековья. Звезды и костер. Сфорца – герцоги Миланские. Говорили, что его предки были с ними в родстве. Вероятно, он сам поддерживал эти слухи. «Сфорцаре» – одолевать силой. Отблеск великолепного времени лежал на нем. Отблеск Чинквеченто. Отблеск Высокого Возрождения. Светлое средокрестие Санта-Мария делле Грацие невесомым куполом венчало его, прямо в сердце вливались скорбь и молчание «Снятия со креста», холодный «Апокалипсис» Дюрера уравновешивался эмоциональной математикой «Тайной вечери» и пропитывался взрывной горечью Изенгеймского алтаря.
– Ты зачем пришел? – блестя мелкими зубами, спросил Вольпер. – Ты собираешься рассказывать мне, что он – величайший художник всех времен и народов?
– Может быть, – сказал Климов, прикрывая глаза рукой.
– Ха-ха! – отчетливо сказал Вольпер.
Он держал на коленях деревянную маску. Колупнул ее замысловатым резцом. Вылетела согнутая стружка. Маска изображала оскалившегося черта с острыми ушами и редкой козлиной бородой.
Десятки таких же чертей – гневных, радостных, плачущих, смеющихся – деревянными ликами глядели со стен. Некоторые были раскрашены – малиновые щеки и синий лоб, как чахоточные больные. У других в пустые глазницы было вставлено стекло. Будто куски льда. Дико выглядели эти ледяные глаза на темном дереве. В розоватом свете абажура они мерцали, красные жилки пробегали в них. Казалось, глаза живут – цепко ощупывают комнату: потолок, пол, стены – и приклеиваются к двум людям, которые сидят друг напротив друга, один – утонув в обширном кожаном кресле, другой – согнувшись, как крылья топорща худые локти, яростно ковыряя желтое, слезящееся дерево причудливо заточенным острием.
– Он никогда не умел писать маслом, – разбрызгивая стружки, сказал Вольпер. – Он даже рисовать не умел. Он уничтожил все свои ранние работы.
– Зачем? – спросил Климов.
– Он, как сыщик, разыскивал их и платил любые деньги. Он их выменивал, он их похищал, он крал их из музеев. Во Пскове он выпросил свою первую картину – на два дня, чтобы чуть подправить, и больше ее никто не видел. Не осталось ни одной копии. Даже репродукций. В Ярославле он прямо в музее залил полотно серной кислотой. Краска лопалась пузырями. Там на полу остались прожженные дыры. Он платит огромные штрафы. Он же нищий. Все его деньги уходят в возмещение ущерба.
Вольпер говорил свистящим шепотом. Жестикулируя. Жало резца кололо воздух.
– Он не похож на сумасшедшего, – сказал Климов.
Вольпер остановился.
– Да? – Уставил на него палец. – Сколько он тебе заплатил?
– Не твое дело, – сказал Климов.
Вольпер уронил резец. Тот воткнулся в лаковый портрет. Захихикал сморщенным лицом.
– Вот именно: не мое. – В изнеможении откинулся на спинку стула, вытирая редкие, злые слезы. Ноги его не доставали до пола.
Черти, светясь желтыми рожками, бешено кривлялись на стенах. В углу комнаты, где сугробом поднималась темнота, шестирукий бронзовый индийский бог, белея ожерельем из костяных черепов, раздвигал красные губы в жестокой и равнодушной улыбке.
Откуда он взялся? Был такой художник – Ялецкий. Он писал только цветы. Одни цветы. Черные торжественные гладиолусы, яично-желтые, словно из солнца вылепленные кувшинки, багровые, кривые, низкорослые алтайские маки с жесткими, как у осота, листьями.
Цветы получались как люди. В ярких соцветиях проглядывали искаженные человеческие лица. Он называл это – «флоризм». Сам придумал это направление, сам возглавлял его и был единственным его представителем. У него была какая-то очень сложная теория о субъективном очеловечивании природы. Ее никто не понимал: писал он плохо. Ялецкий жил в центре, и его большая квартира, где из пола выскакивали доски, коридоры поворачивали и неожиданно обнаруживали ступени, по которым нужно было спускаться в кухню, а двери стонали и не хотели закрываться, всегда была полна народа. Стаканы с чаем стояли на подоконниках, а когда гость садился на диван, то из-под ног выскакивала тарелка. Привели незнакомого юношу в модном, перехваченном поясом пальто. У него было крупное римское лицо и льняная грива волос. Прямо-таки профессорская грива. Впрочем, гривой здесь удивить было трудно. И была странная фамилия – Сфорца. Юноша очень стеснялся, положил пальто на кровать, сел на него. Кто-то его представил: подает надежды. Посмотрели принесенные полотна. Кажется, три. Ничего особенного. Ровно и безлико. Чистописание. Школьная грамматика. Прорисована каждая деталька. Не за что зацепиться. Полотна сдержанно похвалили – народ был в общем добрый, а юноша сильно краснел – посоветовали перейти на миниатюры. И забыли. Юноша продолжал ходить – уже самостоятельно. Присаживался туда же, на кровать, внимал. Никто не слышал от него ни единого звука. Кажется, он просто не понимал половины того, что говорят. К нему привыкли, занимали деньги. Деньги у него были. Вроде бы он работал врачом. Через некоторое время он принес новую картину. Цветы. Ослепительно-белые каллы. Типичный Ялецкий. Широкие, грубые мазки, словно краска прямо из тюбика выдавливается на полотно, засыхает комьями. А в центре цветка смутно прорисовывается женское лицо. Ему, разумеется, дали. Ялецкого любили все. И не любили плагиата. Юноша с итальянской фамилией, наверное, ни разу в жизни не слышал таких жестоких слов. Его не щадили. Он то краснел, то бледнел. Хрустел удивительно длинными, как у пианиста, пальцами. Продолжалось это часа два – сам он ничего не сказал. Выслушал молча. Забрал картину и исчез. Больше о нем никто не слышал. А еще через полгода исчез Ялецкий.
– Тогда появились «Маки». И тогда впервые заговорили о Сфорца, – устало сказал Климов. – Я не видел этой картины.
– А он ее сжег, – радостно сказал Вольпер. – Он ведь уничтожает ступеньку за ступенькой – всю лестницу, чтобы никто не поднялся вслед за ним. И твою он тоже уничтожит. Имей в виду. Или она уже куплена каким-нибудь музеем? Музеи боятся его, как огня.
Климов выпрямился. Скрипнуло толстое кресло. Вольпер улыбнулся прямо в лицо:
– Или, думаешь, пожалеет?
– Я не позволю, – натянутым голосом сказал Климов. Вольпер продолжал улыбаться мелкими, влажными зубами. – Я заберу ее. Куплю. У меня есть деньги. Больше, чем ты думаешь.
Денег у него не было.
– Ну-ну, – непонятно сказал Вольпер. – Я тебе завидую. Ты всегда был полон благих намерений.
Климов посмотрел в окно. Стекла между портьер, обшитых кистями, были черные. Картину он не отдаст. Это лучшее, что у него есть. Он, может быть, никогда в жизни не напишет уже ничего подобного. Правда – автор Сфорца. Ну, все равно. Это не имеет значения.
– Как он это делает? – спросил он.
У Вольпера поползли брови. Он вздернул маленькую голову:
– Так ты еще не продал свое небо?
– Нет, – сердито сказал Климов. – И вообще не понимаю… Я просто дописал один эскиз – воздух и свет.
– А ты, оказывается, самый умный, – сказал Вольпер. Медленно повернулся. Свет абажура упал ему на лицо, и оно стало оранжевым. – Слушай, не продавай ему свое небо. Будь человеком. Должен же хоть кто-нибудь ему отказать.
– Один гениальный художник лучше, чем десять посредственных, – сказал Климов. И поморщился. Голос был не его. Это были интонации Сфорца. Поспешно спросил:
– А где сейчас Ялецкий?
Вольпер посмотрел на него странным взглядом – удивляясь.
– Ялецкий умер, – сказал он.
Гулко пробили большие напольные часы красного дерева. Климов считал – девять ударов. Взад-вперед летал неутомимый медный маятник.
Со всеми что-то случалось. После появления «Маков» Ялецкий исчез. Никто не знал, куда. В его нелепую квартиру вселились другие люди. Еще звонил телефон, еще ломились в неурочное время, еще приходили письма, испачканные красками, но – реже, реже, реже. Память сомкнулась над ним, как вода. Он выпал. Затерялся. Возникали неясные слухи. Кто-то видел его на какой-то маленькой станции в глубине страны. Ялецкий сидел в привокзальном буфете, за грязным столиком, на котором среди крошек и кофейных луж лениво паслись сытые зеленые мухи. Перед ним стояла бутылка водки. Наполовину опорожненная. Он наливал себе в захватанный стакан, пил, стуча зубами о край. Водка текла по мягкому подбородку. За мутным стеклом высились кучи шлака. Как раненые слоны, кричали проходящие поезда, упирались дымом в небо. Серые глаза Ялецкого, казалось, были сделаны из такого же мутного стекла. Не отражали ничего. Потом он вернулся – через год. Лицо у него стало зеленоватого оттенка, крупно дрожали утолщенные на концах, багровые, отечные пальцы. Он занимал деньги у всех знакомых. Ему давали. Он шел в павильон и часами стоял перед «Маками». Иногда – будто не веря – быстро ощупывал свое опухшее, мятое лицо.
Потом был Михайлов. Он писал искаженную перспективу. Как в вогнутом зеркале. Дома на улицах, прогибаясь, касались друг друга верхушками. Небо глубокой чашей накрывало их. Это было не механическим искривлением пространства: новый взгляд. Мир выглядел по-другому. Люди были выше домов. Большие и добрые. И хотелось тоже стать выше и лучше. Его не выставляли – не реалистично. Он перебивался мелкими заказами. Писал портреты. Портреты возвращали: заказчики не узнавали себя. Он жил чуть ли не на чердаке. Самовольно переоборудовал его под мастерскую, сняв и застеклив часть крыши. Кажется, его выселяли с милицией. Худой, как перочинный нож, с огнем вечной сигареты у самых губ, в заплатанном свитере, он возникал одновременно в разных концах города – рассыпая пепел и идеи. Мелькали растопыренные ладони. Столбом завивался воздух. Все было чудесно. Жизнь сверкала великолепием. Осенью, в дожди, крыша протекала, и на полу образовывались лужи. Он ходил по торчащим из них кирпичам и смеялся. Вокруг него всегда было много людей. Он словно магнитом притягивал их. И вдруг самоубийство. Жуткая, фантастическая смерть. Он нарисовал свой чердак – строго реалистично, без всяких искажений: дощатое перекрытие, темные от времени балки, паутина по углам. Под одной из балок в петле висит неестественно вытянутый человек в заплатанном свитере – торчат белые носки. Валяется табуретка. Картина называлась – «Утро». Она стояла на мольберте посередине чердака, а напротив нее, словно отражение, висел автор. Свитер и носки. Табуретка. Лил дождь, и с крыши капало. И по всему полу были разбросаны деньги – около четырех тысяч десятирублевыми бумажками. А искаженная перспектива появилась у Сфорца. Все журналы напечатали репродукцию, где изогнутые, будто в кривом зеркале, люди бродили между изогнутых домов. Говорили об углублении реализма.
Был еще Розенберг, который делал иллюстрации к Андерсену – очень четкая линия и праздничный, до боли в глазах, чистый цвет. Он вдруг стал зубным врачом и располнел так, что непонятно как умудрялся входить в свой кабинет. И был Ивакин с вихреобразным, срываемым ветром рисунком, уехавший геологом куда-то на Север, и Чумаков, ставший инженером, и Вольпер, который делает чертей для продажи.
– Я когда бросил писать, чуть с ума не сошел, – сказал Вольпер. – Руки не могут без работы. Ну и – жить как-то надо.
Погас. Словно выключили свет где-то внутри. Лицо вдруг стало больным и морщинистым. Без звука положил маску на край стола. Рядом – резец.
– Ты продал ему штрих? – понял Климов. – Да? Грубый штрих. То, что ты делал, – будто ножом провели? Что ты молчишь? Я же помню твои картины – где они?
Он посмотрел на стены. Черти ухмылялись. Сверкали ледяные глаза. Вольпер посмотрел туда же, удивляясь, точно видел впервые.
– Я никогда не писал картин, – надменно сказал он.
– Ты их тоже уничтожил? Ты ненормальный, – сказал Климов, – у тебя были отличные вещи.
– Запомни, пожалуйста, – сильно нажимая голосом, произнес Вольпер. – Я никогда не писал картин. Я никогда не был художником.
– У меня сохранились твои рисунки. Уголь и сангина.
Вольпер встал – маленький, как воробей, неумолимый. Скрестил ребра рук.
– У меня нет никаких рисунков.
Голос его поднялся до высоких нот и заклекотал по-птичьи. Он втягивал воздух раздутыми ноздрями.
Бронзовым оскалом, торжествующе, светился в углу мрачный шестирукий Шива.
Рассаживались долго – двигали тяжелые обшарпанные кресла, скорбно вздыхали и откашливались. У Печакина журавлиные ноги не помещались под столом, он елозил ими, его вяло урезонивали, он втягивал западающие щеки: «А что я могу? В карман прикажете положить?» – «Ну, осторожнее как-нибудь». – «Я их в карман не положу». Борих потер мягкие руки, открыл портфель и ушел в него с головой. Климов тоже сел, как деревянный, чувствуя подступающую изнутри дрожь. Ему сказали трубным голосом: «Позвольте… м-м-м…» Он суетливо встал. Сигиляр, упираясь медвежьими руками, продавил кресло. Отдулся горячим воздухом, перекрыв все звуки, сказал: «Вот и сели». Достал клетчатый платок, промокнул лоб.
Больше свободных кресел не было. Климов занял единственный стул. Он, вероятно, предназначался как раз для него. Откусил заусеницу – скорей бы. «Зажгите свет», – не глядя, сказал Букетов. Никто не пошевелился. Климов подождал – обмирая, прошел к двери по скрипящему паркету. Сумрачный дневной свет смешался с электрическим – неприятно для глаз. «Что они делают? – с испугом подумал он. – Они же ничего не увидят. Нельзя смотреть при таком освещении. И стены розовые. Просто ужас. Невозможный фон…» – «Кгм!.. Так что же?» – произнес Букетов. Лапиков, раскладывавший бумаги, немедленно зашептал что-то таинственное. «А, давай, давай», – голосом хорошо пообедавшего человека сказал Букетов. Печакин перегнулся к ним через стол. Все трое сомкнулись бутоном. Замерли. Поднимая живот, громко дышал Сигиляр. Борих, как мышь, шуршал головой в своем портфеле. Климов осторожно ступал на стонущий паркет. Бутон распахнулся. «Ха-ха-ха!» – вытолкнул из горла Букетов. Словно заколотил три гвоздя. «Ну ты уж это… Ну ты уж того…» – разгибаясь длинным телом, сказал Печакин. Довольный Лапиков подмигивал сразу обоими глазами.
– Кгм!.. – сказал Букетов. Как обрезал. Посмотрел на разложенные бумаги. – Кгм!.. Разве у нас что-то осталось?
– А вот есть еще история, – медным басом сказал Сигиляр.
К нему немедленно повернулись. Борих вынул голову из портфеля.
– Отличная история… Как этот – ну, вы его знаете… Он пошел туда… Чтобы, значит, отвертеться… Не хотел на себя брать – ну, вы знаете… И там ему дали по морде… Хы… Да, история… Жуть берет. Вспомню – расскажу, – пообещал Сигиляр.
Несколько секунд все чего-то ждали. Потом вдруг задвигались.
– Еще одна работа, – деловым тоном сказал Лапиков. Пополз носом по листу бумаги. – Климов Николай Иванович, год рождения, член Союза с такого-то, картина размером и весом. Вес не указан. На тему – пейзаж, под названием – «Река Тихая». Масло. Изготовление – сентябрь этого года.
– Пейзаж – вещь подходящая, – одобрил Сигиляр. Шумно подул, сложив кольцом красные, словно без кожи, губы.
– А я думал, мы все обсудили, – недовольно сказал Печакин. Вытянулся, как циркуль, поднял острый подбородок.
– Нет, этот… Климов остался, – глядя в лист, сказал Лапиков.
– Но я определенно думал, что мы все обсудили, – Печакин искривил лицо.
– Да всего одна картина, – сказал Лапиков, не отрываясь.
– Ну так обсудим завтра, – сказал Печакин.
– Да тут на полчаса, – сказал Лапиков.
– А когда мы закончим? – кисло сказал Печакин. – Я за то, чтобы обсудить завтра. Валентин Петрович, Валя, как ты считаешь?
Букетов сердито шевельнул бровями:
– Надо развязаться побыстрее.
– Вот и я говорю, – сказал Печакин.
«Я сейчас уйду, – подумал Климов. – Просто встану и уйду. И хлопну дверью. Они, наверное, даже не заметят. И пусть делают, что хотят. Ну их – подальше». Он знал, что никуда не уйдет. Боясь выдать себя, зажал руки коленями, опустил голову. Паркет был малиновый, из квадратных шашечек, сильно затоптанный. Очень скучный паркет.
– Товарищи, давайте что-нибудь решать, – сказал Букетов. – Обсуждаем сегодня или переносим на завтра?
Сигиляр перестал дуть, набрал полную грудь воздуха и бухнул, как в бочку:
– Собрались – обсудим!
– Вениамин Карлович!
– Мне все равно, – вежливо сказал Борих из портфеля.
– Тогда сегодня.
– Ну как хотите, – недовольно сказал Печакин. – Только сегодня я не могу задерживаться.
– Климов, Климов… – вспоминал Букетов, глядя на Климова. Тот, ненавидя себя, мелко покивал, выдавил кроличью улыбку: они были знакомы. Букетов вспомнил и затвердел широким лицом. – А почему посторонние? – Лапиков сказал ему что-то. – Ну так что, что автор? Есть порядок. – Лапиков пошептал еще. Ясно послышалось: «Сфорца». – А, ну тогда ладно, – равнодушно согласился Букетов. – Тогда будем начинать. Поставьте там, пожалуйста, – протянул руку с квадратными пальцами по направлению к мольберту. Климов было дернулся, но Лапиков уже откуда-то из узких, вертикальных, пронумерованных стеллажей достал картину, понес, водрузил как-то неловко – она вдруг соскочила. Климов зажмурился, заранее слыша удар о пол, треск разваливающейся рамы и невыносимый, бороздящий ногтями по живому сердцу звук перегибающегося полотна.
– Вот она, – сказал Лапиков, отряхиваясь.
Помолчали. Печакин выпятил тонкую губу, смотрел – сквозь. Лапиков, вернувшись на место, быстро-быстро заполнял лист ровным, убористым почерком. У Букетова было такое выражение лица, словно он увидел именно то, что ожидал увидеть.
– Реализм, – выдохнул Сигиляр.
Будто кирпич положил.
Опять помолчали. Из коридора доносились неразборчивые голоса.
– И все-таки лучше перенести на завтра, – сказал Печакин. – Что мы – в самом деле? Кто нас торопит? Как будто нет времени.
Климов не мог смотреть. Неужели это написал он? Розоватая тень пленкой легла на картину. Краски потускнели и смешались. Казались грязными. Словно рисовали половой тряпкой. Мазня какая-то.
– Это что? – спросил Сигиляр, неопределенно потыкав рукой в нижнюю часть полотна.
– Река, – не отрываясь от бумаг, ответил Лапиков.
– Ага, река, – Сигиляр был удовлетворен. – А вот это?
– Омут, – не глядя, сказал Лапиков.
– Уже понятнее. А тут что – навроде рояля?
– Куст.
– Кругом реализм, – заключил Сигиляр.
Выставил из кресла толстые ноги в широких, мятых штанинах. Съехавшие носки у него были разноцветные – синий и красный.
– Минуточку внимания, – твердо сказал Букетов и постучал авторучкой о стол. – Прежде всего надо иметь в виду, что реализм – это правдивое и объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. – Обвел всех стальным взглядом, особенно задержался на Климове. Встала невозможная тишина. Борих перестал шуршать в портфеле. «Угум», – независимо подтвердил Сигиляр. – Мы знаем, – сказал Букетов, – что реализм представляет собой генеральную тенденцию поступательного развития художественной культуры человечества. – Еще раз обвел всех неумолимыми глазами. Климов молча страдал. У Лапикова шевелились губы, он записывал. – Именно в реализме обнаруживается глубинная сущность искусства как важнейшего способа духовно-практического освоения действительности.
– Ах, какой домик у Франкаста, – вдруг мечтательно сказал Борих, потирая белые, сдобные, как у женщины, руки. – Какой домик. Сказочный домик. Представьте себе – два этажа, с черепичной крышей, знаете – такая финская крыша, очень симпатичная, черепичка к черепичке. А галерея деревянная и сплошь отделана витражами. На тему распятия Христа. Между прочим, Национальный музей хотел их купить – эти витражи, но Франкаст отказался. – Борих почмокал, не находя слов. – И чудесный сад на три гектара. Целый парк, а не сад. Как в Версале. Беседки, пруды. Между прочим, в доме у него неплохой бассейн. И все это буквально рядом с Парижем. Он отвез меня на машине, меньше часа езды. Я смотрел его серию «Человек наизнанку», шестьдесят офортов. Завихрения, конечно. Он якобы отрывает сознание от самого себя и переводит его в мир немыслящей материи. Такая, знаете, психотехника. Это сейчас модно. Называется – психологическая компенсация безволия личности. Не наша теория. Я о ней писал – в прошлом году, в «Искусстве», в пятом номере. Но, между прочим, у него в бассейн подается морская вода. И это, заметьте, под Парижем, можно сказать, в пригороде.
– Кгм! – сказал Букетов.
Борих закатил голубые глаза: «Ах и ах!» – скрылся в портфеле. Там зачмокал, зашуршал.
Букетов сказал веско, ставя слова забором:
– Там, где художественное творчество отделяется от реальной действительности и уходит в эстетический агностицизм или отдается субъективистскому произволу, там уже нет места реализму.
– Валентин Петрович, я не успеваю, – быстро сказал Лапиков. Ручка его бежала с сумасшедшей скоростью. «Где?» – спросил Букетов. «Вот тут: агностицизм». – «…или отдается субъективистскому произволу, – медленно повторил Букетов, – там нет места реализму».
Он посмотрел на картину. И все тоже посмотрели. Климов плохо соображал. На картине был вечер. Сумерки. Колыхалась темная трава. Ива, согнувшись, полоскала в воде длинные упругие листья. Из омута торчала коряга. Небо было глубокое, с первыми проступающими звездами – отражалось в реке так, что казалось: течет не вода, а густой воздух – прозрачный, теплый и очень свежий.
– Где тут агностицизм? – раздавленным голосом спросил он.
Никто не ответил. Словно ничего и не было сказано.
– Бывал я в Париже, – нахмурясь, произнес Сигиляр. – В пятьдесят восьмом году. С делегацией то есть… Ну – вы знаете… Там еще этот был… Не помню, как его… Скандалист… Он потом развелся… Жена его выгнала…
– Прошу прощения, – торопливым и высоким голосом сказал Печакин. – Это не имеет никакого отношения к делу.
– А вот верно, вместе с тобой и ездили! – Сигиляр обрадованно поднял руку, широкую, как лопата. – Ты еще за Колотильдой ухлестывал, а она тебе по щекам надавала прямо в гостинице… Хы!..
– Позвольте, позвольте! – возмущенно крикнул Печакин. Попытался встать, застрял под столом неразогнутыми ногами. Букетов и Лапиков враз посадили его, заговорили с двух сторон – настойчиво. Печакин вырывался, но не сильно.
– И правильно надавала, – сказал Сигиляр. – Колотильда – баба самостоятельная. У нее – во! – Он показал, что именно во, отведя руку на полметра. – Ей здоровый мужик нужен, а не интеграл какой-нибудь!
– Позвольте!
– А что ей в тебе интересного – один позвоночник, – резонно заметил Сигиляр.
Печакин вырывался уже по-настоящему. Бился, как рыба в сетях: «Возмутительно!» – «Да будет тебе», – гудел Букетов, давя ему на плечи. «Я этого так не оставлю!» – «Да ладно». – «Нет, я в правление пойду, сколько можно позволять!» Лапиков хватал его за руки: «Ну успокойся, ну подумаешь: ерунда». – «Я в суд подам за клевету!» – «Ну все уже, все, – говорил Лапиков – ну закончили. Валентин Петрович, скажи ему…»
– Кгм!.. Предоставляю слово.
Лапиков встал.
– У меня есть мнение, – сказал он. Покосился на Печакина, тот шипел, остывая. – У меня мнение. Нам показывают картину. Художник Климов. На картине нарисована река и деревья. Природа, значит. А вес не проставлен. Ведь сколько можно говорить, товарищи! Ведь уже тысячу раз говорили, что нужно проставлять вес. А все равно не проставляют. Вот художник Климов, который автор, он с какого года рождения? Не мальчик уже – пора бы понять. А если мы будем складировать? Или, скажем, погрузка. И в транспортных накладных надо указывать. Я это который год говорю, а толку никакого. Пора бы. И к тому же – член Союза. Должен соблюдать.
Лапиков сел.
– Совершенно согласен, – строго сказал Букетов. – Факт вопиющий. Как полагают члены Комиссии?
– Париж… – задумчивым басом сказал Сигиляр. – Один только раз и пустили… Да… Видел там Пикассо… Пабло то есть… Ну – вы знаете… Ничего – хилый мужичок, а вот – художник… – Он окончательно задумался, так что пропали звериные глаза, надул щеки, почесал ступенчатый подбородок.
У Климова кружилась голова. Назойливо звенело в ушах. Что происходит? Голоса звучали как сквозь вату. «Оскорбление», – говорил Печакин. «Да успокойся ты», – просил его Лапиков. «Я все равно этого не оставлю». – «Да ерунда». – «И вообще я опаздываю». – «Подожди, сейчас заканчиваем». – «Не могу я ждать, у меня встреча с Мясоедовым». – «С каким Мясоедовым, с тем самым?» – «Ну, я не знаю, – вмиг погасшим голосом сказал Печакин. – У меня просто дела». – «Нет, уж ты, Костя, не темни, разве он приехал?» – «Ну, наверное… – промямлил Печакин. – Я толком не знаю». Букетов повернулся всем телом: «Приехал Мясоедов?» – «Вот Костя говорит, что приехал». – «Я ничего не говорю…» – «У тебя же с ним встреча». – «Не то чтобы встреча…» – «Так приехал он или нет?» – сказал Букетов. Лапиков согнулся под его взглядом: «Ничего не известно». – «Хорошее дело, – сказал Букетов, – приехал Мясоедов, а тебе ничего не известно». – «В секретариате можно выяснить». – «Почему же ты не выяснил?» – «Его ожидали в будущем месяце». – «Так сходи и выясни. Хорошее дело: приехал Мясоедов, а мы сидим тут и непонятно чем занимаемся».
Ступая, будто в трясину, Лапиков пошел к дверям. Прикрыл беззвучно.
Букетов поднялся:
– Будут еще какие-нибудь мнения?
В тишине скрипнуло кресло.
– Вениамин Карлович!
– Мне все равно, – сказал Борих из портфеля.
– Кгм!
– У Репина вот – бурлаки, – напряженно подумав, сказал Сигиляр. – Они идут по реке. По Волге то есть. И тащут баржу. То есть на себе тащут. – Он тяжело вздохнул. – Кругом реализм.
– Это существенно, – сказал Букетов. – Репин – величайший художник. И мы будем постоянно черпать из его творческого наследия.
– Именно, – ерзая, сказал Печакин.
Букетов неторопливо посмотрел на часы.
– Что же, на мой взгляд, обсуждение прошло очень интересно. Возникла острая и принципиальная дискуссия, выявились различные точки зрения… Кгм!.. Но, к сожалению, представленная нам работа товарища Климова выполнена пока еще на недостаточно высоком художественном уровне. Автору был сделан ряд серьезных замечаний. Я думаю, он их учтет. – При этом Букетов посмотрел не на Климова, а в окно. – В заключение я хочу особенно подчеркнуть, что не всякое изображение внешних фактов может быть признано реализмом. Эмпирическая достоверность художественного образа приобретает ценность лишь в единстве с правдивым отражением социальной действительности.
Теперь он посмотрел на Климова:
– Так?
– Нет, – сказал Климов.
– Вот и хорошо, – сказал Букетов. – Тогда давайте решать. Вероятно, мнения у членов Комиссии в какой-то мере совпадают.
Сфорца был не виноват. Он этого не хотел. Он даже не знал об этом. Он никогда не ходит на Комиссию. Он и в этот раз не пришел. Они специально не сообщали ему. Они же его боятся. Он говорит то, что думает. Он сказал про Букетова, что тот не художник, а штукатур. И теперь Букетов его ненавидит. Печакин тоже ненавидит его. На всякий случай. Десять лет назад, когда Сфорца был еще никто, Борих назвал его убогим подражателем схоластическому западному модерну. И до сих пор не может простить ему этой своей ошибки. Они выжгли все вокруг него. Они никого к нему не подпускают. Чтобы были только они. Сфорца – и рядом они. Ты же ничего не знаешь. Зачем ты сунулся на эту Комиссию? Букетов представил новую работу. Работа дрянь, но он председатель Комиссии. И Сигиляр представил новую работу. Что-то о хлеборобах. Счастливые лица на фоне изобильных хлебов. Вечная тема. Неужели ты думаешь, что Сигиляр отклонит свою картину и возьмет твою? Так же никто не делает: пришел с улицы – подал. Нельзя быть таким наивным. Все было решено еще год назад. Борих уже написал три статьи о будущей экспозиции. Он всегда пишет заранее. И не смей думать, что это Сфорца. Я вижу, что ты – думаешь. Не смей! Он тут ни при чем. Я тебе запрещаю!
Она сказала:
– Ты его совсем не знаешь. Зачем ты говоришь, если не знаешь? Почему вы все судите, ничего не зная о нем?
Сигарета догорела до фильтра. Она ее бросила. За соседним столиком оглянулись.
– Очень громко, – сказал Климов.
Она нагнулась вперед. Кулон в виде паука, охватившего серебряными лапами темно-кровавый рубин, звякнул о чашку.
– Я бы кричала. Если бы хоть кто-нибудь услышал.
Чиркнула спичкой. Спичка сломалась. Климов с усилием вытащил коробок из ее побелевших пальцев. Зажег. Она прикурила так, что пламя ушло внутрь сигареты. Проглотила дым:
– А ты по-прежнему не куришь?
– Нет.
– Бережешься?
Тон был неприятный.
– Берегусь, – сказал Климов.
– Молодец, будешь жить долго.
– Художник обязан жить долго, чтобы успеть сделать все, что он хочет сделать.
Она прищурилась, пробуя сказанное на язык:
– Придумал, конечно, не сам?
– Конечно.
– Все так же надеешься на признание к концу жизни.
Климов пожал плечами.
– Напрасно надеешься, – сказала она. – В тебе нет искры. Я ведь в этом понимаю.
– Искры?
Она неопределенно повела узкой рукой:
– Ну – такого… От чего начинается пожар. И головы идут кругом. Словами не объяснишь. Это либо есть, либо нет.
– А если я сейчас уйду? – помолчав, сказал Климов.
– Не уйдешь. Лучше принеси еще кофе.
– Это – шестой…
– Неси-неси. Я не собираюсь жить долго.
Очередь была два человека. Продавщица поглядывала на него с любопытством: они сидели больше часа. Климов хотел есть: он не завтракал. В морозной витрине лежали бутерброды с твердым сыром и ядовитый сиреневый винегрет. За прилавком, на дырчатом подогреваемом подносе горой были навалены сардельки. От них поднимался пар. Пахло крахмалом. Как в прачечной. Решиться было трудно. Климов взял два кофе и, поколебавшись, шоколад.
Она курила, выпуская в потолок струю дыма. Сразу же обхватила чашку просвечивающими пальцами: холодно, – поправила пальто на острых зябких плечах. Отодвинула шоколад:
– Не ем сладкого. Ты же знаешь.
– Я себе, – сказал Климов.
Разгрыз коричневую каменную плитку. Шоколад был горький.
Кафе находилось в подвале. Немытое окно, забранное толстой решеткой, едва высовывалось из тротуара. За треснувшим стеклом безостановочно ходили ноги – в ботинках и в сапогах, потом опять в ботинках и опять в сапогах. Казалось, что людей нет: бесчисленные ноги – от ступней до колен – как заведенные, самостоятельно разгуливают по городу.
– Эту экспозицию повезут в Англию, – сказала она. – По культурному обмену. Я скажу Сфорца. Он позвонит в Комиссию, и тебя возьмут. Они побоятся с ним ссориться.
У Климова плеснулся кофе.
– С ума сошла, – сказал он.
Она беспощадно улыбнулась:
– Ничего, время от времени их следует ставить на место. Пусть помнят: без Сфорца они ничто.
Климов выпрямился:
– Мне с барского плеча не надо.
– От него не примешь?
– Нет.
– Гордость – оружие нищих, – процитировала она. – Денег ты тоже не взял.
С откровенной насмешкой оглядела его сильно потертое пальто. Верхняя пуговица болталась, грозя отлететь. На рукавах просвечивали белые, разлезающиеся нитки.
– Ты видела мою «Реку»? – резко спросил Климов.
– Ты так и не женился? – сказала она. – Тебе надо жениться. Все будет иначе.
– Ты обязана ее посмотреть.
– И еще тебе надо устроиться на нормальную работу. Например, оформителем. Хочешь, я найду? Твердый заработок и все прочее…
– Не лезь в мои дела, – с тихим бешенством сказал Климов. – Я тебя прошу – раз и навсегда.
Она покивала – ладно.
Да, она, конечно, видела картину. Это хорошая картина. Может быть, действительно лучшая у него. Нет, она ничего не забыла. Дом был старый. Бревна в три обхвата: в дождь они пахли гниющим деревом. И крыша – латаная-перелатаная. Там не было электричества. Оказывается, еще сохранились такие места, где нет электричества. Хотя – сама хозяйка не хотела. Да, она помнит хозяйку – такая смешная старушка, перевязанная платком. Девяносто лет. Ей предлагали провести электричество, а она отказалась. Хотела, чтобы все было как прежде. Многие не хотят перемен. Я тоже не хочу перемен. И умывальник был во дворе. Брр… Выбегали к нему утром, в рассветный холод. Хозяйка сама носила воду – за километр. В девяносто лет таскала полные ведра. А вода была невкусная – очень пресная, отдающая железом. От нее скрипели волосы. Темнело рано, и вечерами сидели при керосиновой лампе. В наше-то время. Где она только доставала керосин. Сначала нравилось – этакая таинственность, полумрак, погружение в прошлое. Но как надоело потом. Безумно надоело. Этот тусклый и вечно колеблющийся свет. Нельзя пройти по комнате – длинные тени начинают плясать по стенам: стекло в лампе разбито. Невыносимо раздражало. Невозможно читать, даже смотреть трудно – болят глаза. Удивительно, как это писали при свечах. Река была рядом, через луг. Напрасно он поменял название. Соня – гораздо лучше. Конечно, не в смысле женского имени, а – сонная, ленивая. Она еле текла. Омуты были подернуты ряской. Но вода не коричневая, как в болоте, а прозрачная до самого дна. И дно чистое, песчаное. Из омута действительно торчала коряга, черная и скрюченная, будто рука водяного. Может быть, здесь и водились водяные, могли же они где-то сохраниться. Почему бы не здесь? Место подходящее. За день вода прогревалась и вечером была как парное молоко. Но прозрачная. В самом деле похоже на густой воздух. Не хотелось вылезать. Она сказала: «Только не надо подробностей. Я тебя очень прошу – без подробностей». Да, она помнит. Была ночь, и звезды, как сливы, сияли в воде. И плавала луна – в черноте, под самой ивой. Будто неведомая рыба. А на лугу колыхала серебряными метелками сухая, высокая трава. И был от нее сладкий запах. И одурение. И если лечь на спину, то небо казалось звездной рекой, текущей в темных, загадочных, древних, травяных берегах. Жалобно и протяжно кричала какая-то птица, и от крика веяло ночным одиночеством. И по верху трав полз слабый ветер, и шелест его был как заклинание на священном, жестоком, давно умершем языке.
Она допила кофе, посмотрела на донышко. Подняла на Климова ясные глаза:
– Этого никто не поймет. Только ты и я. Больше никто.
– И пусть, – сказал Климов.
– Ты же не можешь писать для меня одной, – сказала она.
– Могу.
Он знал, что – может. И она знала. Поставила вдруг задребезжавшую чашку:
– Не бойся. Это не больно.
– Иди ты к черту, – сказал Климов.
– Честное слово. Ты даже ничего не почувствуешь. Я пробовала. Я сразу отдала ему все, что умела. Это вроде гипноза. И никаких последствий. Все-таки Сфорца – врач.
– Врач?
– А ты не знал? Он психиатр в прошлом. Отличный психиатр. Не бойся. Будет просто легкий обморок. Потеряешь сознание минуты на три, на четыре – всего один сеанс.
– А потом я повешусь, или сойду с ума, или стану инженером.
Она очень аккуратно погасила сигарету, посмотрела в окно на безостановочно ходящие ноги: – Ну и подумаешь. Из тебя получится неплохой инженер.
В самом деле. Что тебе терять? Ты не художник. Ты, наверное, сам это знаешь. Сфорца и не покупает художников. Зачем ему чужое мироощущение? Он покупает только ремесло. Технические навыки. Ты умеешь делать небо. И ничего больше. Ладно. Он покупает твое небо. Вольпер делал хороший штрих и не чувствовал цвета. Ладно. Он купил его штрих. Посмотри, что из этого стало: он написал «Бурю». Я отдам вас всех за один мазок на этой картине. Он не крадет. И не пользуется чужим. У него просто нет времени. Он поздно начал. Ему бы начать на десять лет раньше. Он работал врачом. Он был изумительным врачом. К нему записывались за год. Ему платили любые деньги. Потому что он вытягивал самые безнадежные случаи: полных идиотов – из мрака, из хаоса, из ниоткуда. У него был метод. Совершенно неожиданный. Никто даже не подозревал, что можно подойти с этой стороны, а он подошел. У него десятки статей. Он мог защитить докторскую – по совокупности. Ему давали клинику. Ты не смотри: он старый. Он просто молодо выглядит. Когда он пришел к Ялецкому, ему было уже тридцать семь. Он следит за собой. Потому что художник должен жить долго. Чтобы успеть. Ты прав. Вернее, не ты, а тот, кто сказал. Ведь какая мука – не успеть. Знать, что – можешь, и упасть с разорванным сердцем за какие-то метры до финишной ленточки. Он всю жизнь хотел писать. У него были способности. Так сложилось, что он пошел в медицину. И завязалось тугим узлом – намертво. Потому что там – люди. И они должны жить. Он не мог уйти. Кем это нужно быть, чтобы взять и уйти от больных, которые даже не понимают, что они больные, – чувствуют мир по кусочкам, цепенеют в ужасе, если раздастся громкий звук, или по-детски восторгаются при виде горящей спички. Когда он наконец вырвался, ему было тридцать девять. Ты этого не поймешь – в тридцать девять лет начать жизнь с нуля. Гоген стал писать в тридцать пять. И успел. Хотя мы не знаем. Может быть, как раз не успел. Не сказал главного. И, погибая на крохотном острове, посреди океана, под яркими южными звездами, в смертной тоске, галлюцинируя, видел это несказанное – единственный из всех людей на Земле знал, что уносит с собою целый мир, который уже никто не увидит никогда больше.
Она взяла Климова за руку. Сильно сжала. Заглянула в глаза:
– Я прошу тебя. Отдай ему небо. Я тебя никогда ни о чем не просила. Сколько тебе нужно? Скажи любую цену. Деньги не имеют значения, только – время. Он к ним равнодушен. Он все оставил семье. Он два года работал дворником и жил в тесной комнатушке. В закутке. В четыре утра он поднимался и сгребал снег с тротуаров, а потом писал до полуночи. Окоченевшими пальцами. У него суставы распухали. Ему до сих пор больно сгибать. Но через два года он понял, что не успеет. Постановка техники съест у него десять лет. А у него не было десяти лет. И он не хотел тратить целый год, чтобы овладеть каким-то штрихом. Он хотел получить его сразу, за полчаса. Потому что не штрих определяет. И не твое небо. Главное – что сказать. Он покупает у вас, потому что вам сказать нечего. Ну как бы у ребенка отбирают счетную машинку: ребенок сломает и бросит, а взрослому пригодится. Ведь все равно пропадет. Что ты сделал за три года, как мы расстались? Две картины? Вы растрясете, размельчите, разболтаете. Боже мой, сколько вы болтаете! Что-то ненормальное. Лавины, водопады болтовни! Не его вина, если потом вешаются или уезжают. Его не касается. Он изгоняет посредственность. Всех тех, кто умеет только болтать. Потому что жить невозможно – сколько посредственности. Стоит у горла, как мыльная пена. Кричит – требует признания, места и своей доли восторга. Он не может уничтожить Букетова. Ему не по зубам. Но он хочет, чтобы не выросли еще десятки таких же. Он жесток. А кто не жесток? Это справедливая жестокость. Делай или уходи. Другого нет. – Она сказала умоляюще: – Отдай ему небо. Я тебя прошу. Он же с ума сойдет. Он уже сумасшедший. Все художники сумасшедшие. Ты, например. Но ты какой-то очень скучный сумасшедший. А у него есть та самая искра безумия, которая превращает простое рисование в искусство. Я прошу тебя. Он второй месяц не спит. Он портит по десятку холстов в день. Он учится писать такое же небо. У него астения. Он уже ничего не видит. За это время он мог бы написать четыре картины. Я прошу. Пока не поздно. Потому что он научится – через месяц, через год, через пять лет, но он научится, и вот тогда ты уже не сможешь сказать: «Это сделал я», – потому что ничего твоего там уже не будет.
Продавщица лениво вышла из-за прилавка. Перевернула на дверях табличку. Выразительно посмотрела на них, скрестив руки.
Кафе опустело. Они были одни.
– Я не знаю, как он это делает, – сказала она. – Он, по-моему, и сам не понимает до конца. Какие-то прежние навыки. Он редко прибегает к этому. Но я тебе обещаю. Он сохранит то, что у тебя было. Лучшую часть тебя.
– Обед, – протяжно сказала продавщица.
Она испуганно оглянулась – забывшись. Климов перехватил ее ладонь:
– Поедем ко мне.
– Что?
– Поедем ко мне. Только один раз. И больше никогда.
Брови ее удивленно поползли вверх. Она вырвала руку. Встала, начала застегивать пальто. Пуговицы не пролезали.
– Тебе нужно мое небо? – противным голосом сказал Климов.
Ему мешала внимательная продавщица.
– Не говори глупостей, – быстро и холодно сказала она. – Я – замужем.
Дребезжала железная крышка над дверью. Она была не закреплена. Подходя к тротуару, автобус сильно кренился набок. Казалось, опрокинется. Шаркал шинами о бровку, надсадно бурчал. Климова втиснули в самый угол. Руками он мог пошевелить, а телом – нет. Как жук на булавке. Чья-то зимняя шапка лезла в лицо затхло пахнущим мехом. Приходилось отворачиваться, напрягая шею. В заднем окне, вибрируя, отъезжали морозные дома – верхние этажи, тронутые рыжим утренним солнцем: улица была узкая. Разрезанное проводами, сияло промытое небо. Окна под крышами ослепли от его неистовой осенней голубизны. Растопыренная ладонь просунулась между головами и уперлась в стекло. Прямо в синеву. Неестественно изогнувшись, побелела у основания. Как ручьи в половодье, вздулись темные, малиновые вены. Климова передернуло. Неужели у него когда-нибудь будет такая же безобразная ладонь? И кто-нибудь вздрогнет, заметив ее разбухшие, ветвистые вены? Надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, я умру раньше. Я просто не смогу жить с такими руками. Толстые, уверенные пальцы, готовые содрать небесную синь, как полиэтиленовую пленку, и прямоугольные ногти, которыми можно резать металл.
Он закрыл глаза, чтобы не видеть. Автобус трясло. Вокруг происходило душное вращение тел. Кто-то продирался к выходу, работая локтями, кто-то возмущался ночным еще, несвежим голосом.
Нагретый воздух уплотнялся и мелкой влагой оседал на стенки.
У Сфорца не было копий своих работ. Он не делал копий. Его мастерская вообще не походила на мастерскую. Обычная комната – круглый стол, стулья. Только вместо одной стены окно – от пола до потолка. И висит гобелен – «Смерть и всадник». Струит истонченную временем благородную блеклость. Климову немедленно захотелось написать так же. Чтобы краски на полотне были как бы тенями друг друга. Он увидел себя в зеркале – бледный и угрюмый человек напряженно озирается, сгорбившись и засунув кулаки в обвислые карманы пальто. Сонные волосы у него встрепаны, а лицо одновременно презрительное и завистливое. Жалкое лицо. Блестят голодные глаза. Вышел Сфорца в атласном халате с широкими отворотами. Климов с ненавистью уставился на красный, блестящий шелк, буркнул вместо приветствия: «Я – посмотреть». Сфорца кивнул так же неприязненно: «Пожалуйста», – отдернул штору. Было две картины на голой стене. Всего две. В знаменитых черных рамах. Дух захватывало от этих картин, пустело в груди, ныли сжатые руки и страшно было подумать, что это сделал – он. Избегая смотреть, Сфорца зажег трубку, затянулся, как палец, поднял янтарный мундштук в тягучих колечках дыма. «Вот». На обоих полотнах не было неба. Совсем не было. Сфорца даже не пытался его писать, оставил грунт – белый и раскаленный.
– Выходите? – спросили в ухо – далеко, из другого мира.
– Нет, – сказал Климов, не открывая глаз.
Мимо грузно протиснулись. Он почувствовал пружинящие ребра. Посоветовали: «Спать надо дома».
– У себя на огороде командуй, – грубо ответил Климов.
Зашумели, заговорили – всем автобусом. Климов молчал. Он был неправ. Он видел сейчас две черные рамы и белый грунт. Да, он может. Он допишет небо, и это будут прекрасные полотна. В сущности, какая разница, чье имя поставят внизу, на медной табличке. Это ведь никого не интересует. Важен результат. Если бы мне сказали: ты будешь писать необычайные вещи, миллионы людей найдут в них себя и сохранят это найденное всю свою жизнь, но никто никогда не узнает, что писал их ты? Что бы ты сделал? Если твое имя никому не будет известно? «Что бы вы сделали?» – сухо спросил Сфорца. «Не знаю», – невнятно сказал Климов. Сфорца впервые посмотрел на него – внимательно; складка легла меж орлиных бровей: «А я бы сказал – да». Отвернулся к окну, окутался клубами синего дыма.
После автобуса воздух на улице был очень чист – как родниковая вода – и очень холоден. Жухлая, затоптанная трава на газонах была обметана инеем. Рыхлое солнце не могло растопить его. Климов остановился с размаху – куда, собственно? Домой – невозможно. У него была длинная и узкая комната с одним окном. Окно выходило в стену соседнего дома. Всегда был полумрак. И всегда желтой грушей светила лампочка на голом проводе. Крашеный пол, полинявшие, в пятнах, обои. В такой комнате можно было умирать – в тоске и безнадежности. Жить там было нельзя. Он сунул мерзнущую руку в карман и выдернул, наткнувшись на бумажную пачку. Как он мог забыть? А ведь забыл. И еще что-то забыл. Очень важное. Что-то – совсем недавно. Там, в автобусе. Конечно – руки на стекле. Климов повернулся и, торопясь, пересек улицу – почти бежал. Оттопыренный карман жег, словно туда насыпали углей. Дыхание вырывалось паром.
Мастерская находилась под самой крышей. Большая и гулкая. К счастью, там никого не было. Удивительно повезло. Остро пахло красками и скипидаром. На давно не метенном сером полу лежали бледные квадраты солнца. Посередине, где освещение было лучше, сгруппировались четыре мольберта.
Валялись какие-то ботинки, тряпки, окурки, разодранные джинсы, которыми вытирали краску…
Это, конечно, не у Сфорца, но для нас сойдет. Климов стягивал пальто. Только бы никто не пришел. Придут и помешают. Оборвалась пуговица. Пальто упало на пол. Нетерпеливой рукой он взял кисть. Кончик ее дрожал. Разбегаясь глазами, поискал нужный цвет, макнул – положил на холст. Пятно возникло грубо и бесформенно. Комком – как загустевшая кровь, как глубоководная каракатица. Секунду он смотрел остановившимися зрачками. Бросил кисть в полотно.
Кровавый отпечаток потек по холсту. Кисть покатилась, оставляя за собой малиновые капли.
Все было не так. Нужен был другой фон. Голубой. Слепой белый грунт разваливал оттенки. Как у Сфорца – в траурных рамах. Климов остервенело сдирал его шпателем. Нужен чисто-голубой. Осенний. Мерзлый и хрупкий цвет. Должно быть ощущение твердости его. Как у хрусталя – прозрачная, звенящая фактура. И на голубом фоне – руки. Те руки, с малиновыми, густыми венами, которые он видел в автобусе. То есть, конечно, не руки, а листья. Багряные листья кленов. Просвечивающие будто под рентгеном. И в опалесцирующем свете их – старческая паутина черных, сухих прожилок. Хрустальное, голубое небо. И подагрические, напитанные морозом, ломкие ветви. Пылающий багряный цвет – последний день осени, последний день жизни. Предсмертная вспышка сил. И никакого воздуха. Воздуха быть не должно – очень ясные, режущие линии. Хрусталь и багрянец. Как там – «багрец и золото». Багрянец и голубой хрусталь.
Климов оторвался. Отошел – на пьяных ногах. Упал на стул. Дышал прерывисто. Сквозь стеклянную крышу мастерской было видно небо. Высокое – горной синевы. И часть этого неба появилась на полотне. Точно такая же. Нет, не такая же. Лучше.
Неровными толчками билось сердце. Пусть Сфорца попробует сделать что-либо подобное. Пусть попробует – великий и неповторимый. Художник щедрого таланта и большой человеческой души. Глубокий мыслитель и проницательный творец. Дерьмо собачье. Ростовщик. Благодетель нищих. Пусть попробует. Только – сам. Не покупая часть чужой души, а сам – своими руками. Как он видит.
На заляпанной тумбочке стояла чашка кофе. Холодного, еще вчерашнего. Климов отхлебнул коричневой гущи. Медленно жевал терпкий, вяжущий осадок. Была вялость и огромная пустота. Опустошенность – состояние выжатого лимона.
Один талантливый художник лучше десяти посредственных, сказал Сфорца. Крупицы золота не должны быть погребены в тоннах глухого песка. Они там не видны. Он, вдруг постарев, сел, больной и бесконечно усталый. Обвисли щеки, опустились углы губ, глаза сплелись морщинами. «Кто-то должен промывать пустую породу. Сколько великолепных картин погибло не родившись потому лишь, что черты их были рассеяны по громадному множеству бездарных полотен. Я даю людям то, что без меня они бы ни за что не получили».
Кофе кончился. Климов поставил чашку. Заметил валяющееся на полу пальто, отряхнул.
Правый карман оттопыривался. Он достал оттуда пачку денег. Взвесил на ладони. Пачка была приличная. Аванс. Цена крови. Коричневые бумажки, казалось, излучали тепло. Он еще никогда не имел сразу столько денег. Бросил пачку на тумбочку, в свежую краску. Зеленая запечатанная лента лопнула, посыпались ассигнации.
«Не подниму», – подумал Климов.
Отошел к окну. В теле была слабость. Как всегда после работы. За окном виднелся неприветливый город. Редкий ночной снег, оледенев, серебрил крыши. Вдали, в легком тумане, угадывалась серая гладь залива. Тянулась оттуда запоздалая, колеблющаяся нитка птиц.
«Это и есть вы, – сказал Сфорца. – Вы сами. Просто фамилия другая. Я не требую тайны – рассказывайте кому хотите. Главное – работа. Ведь мы пишем не для себя. Во всяком случае, не только для себя».
Климов оглянулся на мольберт. Небесный цвет был хорош. Он был хрупок и холоден. Разумеется, это будет бульвар. Тот самый, что у павильона. Будет каменная, промерзшая за ночь земля, будут лужи, темнеющие первым, еще не раздавленным льдом. На асфальте выступит изморозь. Люди будут сутулиться и поднимать воротники. Климов видел, как проступают их съежившиеся фигуры в нижней части полотна.
Это будет отличная картина. Он знал, что никогда не напишет ее. Стоит прибавить хотя бы один мазок к уже сделанному, стоит пунктиром наметить хотя бы одну линию – и сразу же небо потеряет глубину, станет плоским, как доска, выкрашенная голубой масляной краской. Живой, осенний цвет истончится до паутинности и застынет – мертвенно-неподвижный, натужный, искусственный – будет кричать о том, что могло бы быть и чего, к сожалению, нет и никогда не будет.
– Это все равно что писать только первую главу романа, – сказал он вслух.
В мастерской Сфорца висели картины без неба. Сумрачные дома и над ними – жаркий, белый грунт. Пирог без начинки. Больно было смотреть на них. Эти картины уже не будут окончены. Они не выйдут из мастерской. Их никто не увидит. Словно ребенок родился и умер в один и тот же день.
Климов подумал. Нехотя подошел к мольберту. Деньги прилипали к подошвам. Еще подумал. Поколебавшись, выбрал плоскую кисть, взял на нее черной краски и сверху, ровными полосами, начал замазывать холст – плотно, без единой щели.
Потом он аккуратно положил кисть и посмотрел, склонив голову набок. Мольберт жирно блестел, как копировальная бумага. И ничто не пробивалось из-под этой густой и радостной черноты.
– Я же не могу всю жизнь писать одно небо, – сказал он.
Всего было пять картин. Они висели вместе, в огороженной части зала.
Климов поднимался в четыре утра, с закрытыми глазами пил чай на темной кухне, шатаясь от слабости, спускался в ледяную ночь – брел через весь город к павильону под слабыми сиреневыми фонарями. Транспорт еще не ходил. Шаги отдавались в пустых подворотнях. Редкие машины упирались фарами в его согнутую фигуру.
Он шел по бульвару, где скорченные деревья царапали под ночным ветром звездное небо, пересекал пустынную мостовую и поднимался по широким белым ступеням.
Павильон в это время был еще темен. Высокие двери заперты.
Он всегда приходил первым.
Обнаженные статуи по бокам здания, в белизне своей выхваченные из темноты прожекторами, как люди, замерзали в неестественных позах.
Климов прислонялся к дверям и, подняв воротник, глубоко упрятав руки в карманы негреющего пальто, ждал. Короткие канареечные машины изредка тормозили, оглядывая его.
В семь часов являлся служитель в дубленке. Совал в скважину обжигающие железом ключи. Буркал: «Проходи», – Климов, стуча зубами, вваливался в теплое нутро вестибюля, лихорадочно дрожа, прислонялся к горячим батареям, впитывая их резкое, долгожданное тепло.
Потом доставал скомканную десятку.
– Ненормальный, – бормотал служитель.
Десятка исчезала.
– Это сделал я, – беззвучно говорил ему Климов.
– Ненормальный.
Служитель зажигал свет. Отпирал выставочные залы. Климов, повесив пальто в пустой гардероб, сразу же шел сквозь всю анфиладу, к огороженной стене, – замирал напротив.
В одиннадцать большие помещения заполнялись тихой, несуетливой толпой. Климова обступали. Теснили – просили подвинуться. Он стоял, сжав тонкие губы. Его о чем-то спрашивали. Он не обращал внимания.
Времени не существовало.
Он стоял до закрытия. Не сходя с места. Молча и упорно. Держа веревку ограждения побелевшими пальцами.
Дежурные его не беспокоили – была просьба Сфорца.
Серый дневной свет шел из высоких окон. Небо над городом было затянуто тучами, уже распухающими от сухого, колючего снега.
После нас
Когда мне нужно подумать, я через небольшую площадь выхожу к гранитному полукружью, которое разделяет реку на два самостоятельных русла. Здесь спокойно. Народу в середине дня немного. Транспорт проходит в стороне. И – тишина. Никто не мешает. Плещет вода в шершавые гранитные ступени.
Лучшего места не найти.
Правда, в этот раз мне не повезло. На площадке кузовом к реке стоял пятитонный грузовик. Человек шесть рабочих сгружали с него какие-то сваренные трубы и яркие красные пластмассовые листы. Вероятно, готовились к празднику. Время от времени они включали отбойные молотки, вгрызаясь в плиты, и тогда грохот бил по ушам, голуби с мостовой ошалело прыгали в небо.
Минут пятнадцать я помучился таким образом, а потом решил вернуться на работу. Толку все равно никакого.
Тут он ко мне и подошел.
Ему было лет сорок. Ничем особенным он не выделялся. На нем была спортивная куртка – зеленая, наглухо застегнутая, с плотными манжетами – и такие же зеленые узкие шаровары, заправленные в тяжелые, литые, как у лыжников, ботинки. Лицо – крупное, энергичное.
Он походил на спортсмена. Или по возрасту скорее на тренера.
– Извините, пожалуйста, – сказал он и прикоснулся к голове, как бы приподнимая невидимую шляпу. – Еще раз извините. Я могу обратиться к вам с вопросом?
– Ради бога, – ответил я.
– Вы не знаете, что здесь строят? – Он с досадою показал на трубы.
Я ему объяснил.
– Значит, к празднику?.. А потом снимут?
– Наверное, – сказал я. – А может быть, и нет. Строят, кажется, основательно.
Он сказал, словно про себя:
– Город как человек. В нем все время что-то меняется. Постепенно, капля за каплей. Современникам это незаметно: они стоят чересчур близко. Понимаете? Слишком маленькая дистанция для оценки.
– Я промолчал.
– Трудно представить, – добавил он. – А ведь все это будет другим.
Я посмотрел на здание Торговой палаты – белые колонны светились. Крыльями по обеим набережным распластались Пакгаузы – серые, легкие, в громадных окнах.
Небо было синее и прозрачное. Недавно прошел дождь. На асфальте голубели холодные лужи. Что здесь может стать другим?
– Невозможно представить прошлое, – сказал человек. – Читаешь описания, рассматриваешь гравюры. Все это – мертвое. Вот вы можете представить себе Париж двести лет назад? Или Лондон?
– Вы историк? – спросил я.
– В некотором роде…
Тут загрохотали молотки. Рабочие подхватили трубу и начали ее поднимать. Она была метров шесть в длину.
Я ждал. В словах этого человека был какой-то смысл, которого я не угадывал.
Снова наступила тишина, и он произнес:
– Я иногда думаю: ведь все могло быть иначе. Что сейчас центр города? Дворец, Площадь, Колонна. А сначала Гвиччони предложил строить город именно здесь. Вот где мы стоим. По всему острову хотели прорыть улицы-каналы. И они должны были связываться между собой тоже каналами, только более широкими, идущими с востока на запад. И получилась бы Венеция. Вы бывали в Венеции?
– Откуда? – сказал я.
– Но, вероятно, представляете себе? Это известный в прошлом город.
Я хотел возразить, что не только в прошлом, но и сейчас. Человек, однако, уже говорил дальше:
– И Деллон – генерал-архитектор города – тоже хотел центр поставить здесь. Но проект не прошел. К тому же отсутствие мостов. Изоляция от левого берега: туда подходили все дороги. И так далее… А мог бы быть совсем другой город. Вообразите себе – каналы…
Я вообразил.
– Или когда не было Пакгаузов и Сенат открывался прямо на реку. – Заметив мое недоумение, он пояснил: – Вон то здание раньше называлось Сенатом. А перед Сенатом была громадная площадь до самой реки. Мне кажется, что наиболее живое в городе – площади. Они дают ему свет. – Он показал за мост: – Посмотрите.
И действительно, Площадь с Колонной в центре была очень светла.
– Здесь могла бы быть такая же площадь, – сказал человек. – И город был бы совсем иным. А может быть, и сам мир был бы иным. История, скорее всего, вариабельна. Неизвестно, какая песчинка сдвинет чашу весов.
Опять загрохотали и смолкли молотки. Человек вышел из задумчивости:
– Извините, если обеспокоил…
– Сколько угодно, – вежливо сказал я.
Рабочие с криком начали устанавливать вторую трубу. Человек неприязненно покосился в ту сторону.
– Самое интересное, что это переживет многое другое. Многое… – Он поднес руку к невидимой шляпе: – Еще раз извините. – И не торопясь пошел от меня вдоль парапета – к асфальту, к трамвайным путям.
Я пожал плечами. Странный он был какой-то. Говорит об архитектуре и в то же время как бы о чем-то другом. Странный. Странный.
Был уже полдень, и я решил, что пора возвращаться. За человеком я вовсе не следил. Так, краем глаза. Я увидел, как он дошел до ступенек и оглянулся – не видит ли кто, к самому лицу поднес руку с часами, неожиданно повернулся и шагнул прямо в середину большой лужи.
Понятно, подумал я. Все-таки ненормальный.
Человек стоял в луже, смотрел на часы и чего-то ждал. Губы его шевелились. Народу было мало. На него никто не обращал внимания. Вдруг он поднял голову и ступил в клумбу с георгинами. Я не поверил своим глазам. Но он сделал еще шаг прямо по цветам – и исчез.
Я завертел головой. Светило яркое летнее солнце. Шелестели тополиные кроны на ветру. Белело колоннами невысокое здание Палаты. Весело стуча по рельсам, с одного моста на другой пробежал трамвай.
Все выглядело как обычно.
Вот только человек шагнул в клумбу и исчез.
Я направился к этому месту. Лужа была как лужа. Обыкновенная. Голубая вода еще дрожала. На поребрике клумбы отпечатался мокрый след. И цветы были слегка примяты.
Чувствуя себя последним идиотом, я ступил туда же. Хорошо еще, ботинки были непромокаемые. Повернулся лицом к реке. Точно так же делал и он. Оглянулся. Было очень неловко: среди бела дня взрослый человек забрался в лужу. Но у всех были свои дела. Никто на меня не смотрел. Осмелев, я поставил ногу на поребрик – точно в след, задержал дыхание и шагнул в клумбу, где земля еще хранила вдавленный отпечаток.
Свет погас.
А потом опять зажегся.
Но это был уже совсем другой свет – густо-сумеречный и фиолетовый.
Я открыл глаза. Низко-низко над городом стояло темно-лиловое небо. По нему от горизонта до горизонта растянулись черные, невиданные облака. Края их дрожали и светились серебром. Будто негатив. Коричневое солнце пульсировало: больше-меньше, больше-меньше. Казалось, оно сейчас лопнет. Было очень жарко. Точно в пустыне – просто нечем дышать. Словно неимоверной силы буран поднял тяжелую пыльную тучу и оставил ее висеть в раскаленном воздухе.
Все вокруг изменилось. Гранитное полукружье, вдававшееся в реку, осталось, но сама река совершенно высохла. Дно ее потрескалось, и из трещин медленно поднимался бурый тяжелый дым. Одна колонна с корабельными носами исчезла. Вместо нее громоздилась пирамида камня. У другой же не было верхушки, и она торчала, как гнилой старый зуб.
Тополя сгорели совсем. Будто их никогда и не было. Из расколотых каменных плит, из потрескавшегося пустого асфальта сплошными зарослями взметывался могучий кустарник с длинными колючими изрезанными листьями. Он походил на осот, только совершенно черный. Вся огромная набережная, сколько хватало глаз, поросла им.
Дворец за высохшей рекой выглядел внешне нормальным, но мост в три пролета обрушился – переплетались ржавые балки, и Площадь на той стороне тоже заросла осотом. Колонна высилась в нем, как в черном озере.
Мир был мрачный и какой-то безжизненный. Нигде ни одного движения.
Я протер глаза. Наваждение не исчезало.
Человек, с которым я недавно разговаривал, стоял впереди, спиною ко мне. Он немного согнулся, словно готовясь прыгнуть, и, прижав локти к бокам, быстро-быстро настороженно вертел головой.
– Здравствуйте, – глупо сказал я.
Человек вдруг и в самом деле прыгнул – будто кошка, извернувшись в воздухе. В руке у него оказался пистолет, а короткое толстое дуло смотрело прямо на меня.
Я даже присел от неожиданности. Оборвалось сердце. Он дышал часто, отрывисто, как при беге. А глаза были абсолютно безумные. Два стекла. Я подумал, что он сейчас выстрелит, но он хрипло спросил:
– Кто, кто, кто?..
– Это я, – не сразу ответил я.
– Звание, специальность? – резко спросил он.
Мне раньше не приходилось стоять под пистолетом. Ощущение было не из приятных.
– Ну! – прикрикнул человек и немедленно оглянулся.
Язык не повиновался мне, но я все-таки сказал:
– Лейтенант запаса…
– Какого запаса? – сурово сказал человек. – Что ты крутишь?
Вдруг глаза его прояснели и муть отхлынула. Он меня узнал:
– А… это вы… Какого черта?
– Вот… пошел посмотреть… – очень невразумительно объяснил я.
– Вы что, видели, как я уходил?
– Да…
Человек энергично выругался.
– Ну и тоже – встал в лужу, а потом на клумбу. След в след…
Он презрительно усмехнулся:
– Не на клумбу, а в ноль-время вы встали. Проще говоря – в дыру. – Посмотрел на часы: – Пятьдесят секунд. Сильно повезло. Под занавес проскочили. Еще немного – и попали бы в закрытый туннель.
Это был, несомненно, тот самый человек, с которым я разговаривал у реки. Но насколько он изменился! Там он был мягкий, воспитанный, даже застенчивый немного. Тут же – бугры мышц под курткой, лицо жесткое, словно из железного дерева, и в глазах – твердый зеленый лед. Чувствовалось, что он умеет принимать решения мгновенно. В сочетании с пистолетом это не вызывало у меня восторга.
Он кивнул на что-то позади меня и неожиданно весело спросил:
– Ну, а кто был прав?
У гранитного парапета громоздилось непонятное переплетение труб, верхняя часть которых оплавилась и тускло блестела над ржавчиной.
– Те самые, – подтвердил человек. – Узнаете? Рабочие их устанавливали к празднику?
Я хотел сказать, что ничего не понимаю, но тут заросли осота позади него зашевелились и в просвете мелькнуло нечто кожистое, блестящее.
Человек, наверное, уловил тревогу на моем лице, потому что стремительно обернулся – крикнул, махнул. Осот разошелся верхушками – там завозилось и зашуршало, – продолговатое тело метнулось вверх, раздался резкий хлопок, яркая вспышка – я попятился, споткнувшись, – громадная ящерица рухнула на каменные плиты и забила хвостом, заскребла бугорчатыми когтями по камню. Кожа у нее была антрацитовая, противно влажная, слизистая. Пасть разинулась, и дрожал высунутый на полметра алый раздвоенный язык. Блестели конические зубы.
Она сворачивалась кольцом и втягивала под ребра оранжевый пятнистый живот. А глаза ее горели холодной злобой.
– Кажется, одна, – сказал человек.
Он застыл, просматривая заросли. Пистолет ходил вправо и влево. Все было тихо. Стебли сомкнулись. Не отводя глаз от осота, он перешел ко мне, в открытое пространство, и прислонился к шершавой глыбе:
– Повезло.
Ящерица билась уже слабее. Из-под нее натекла лужа синей пахучей крови. Пленкой подергивались зрачки. Она подняла голову и жалобно, пронзительно запищала.
Человек сейчас же выстрелил второй раз. Ящерица стукнулась головой о камень.
– Вот так будет хорошо, – удовлетворенно сказал он.
Тут я обнаружил, что довольно глубоко забрался в щель между двумя вывороченными плитами и поспешно выкарабкиваюсь оттуда – весь в серебряной паутине и в разодранных пыльных полосах.
– Будем надеяться – обошлось, – пробормотал человек. – Могло быть и хуже. – Вспомнил о моем существовании и повернулся: – Ну как, нравится?
– С ума сойти, – честно сказал я.
Он посерьезнел:
– Однако что же с вами делать?
– Если ко мне нет вопросов, то я, пожалуй, пойду.
– Куда?
– К себе.
Человек усмехнулся:
– Если бы это было так просто.
Несмотря на удручающую жару, меня вдруг прошиб озноб.
– Вы хоть представляете, как сюда попали? – мягко спросил он.
– Шагнул в клумбу…
– Вы шагнули в дыру во времени, – сказал человек. – Проскочили по туннелю. А сейчас он закрылся.
– Понятно, – произнес я чужим голосом. – Скажите, а у вас нет еще одной такой же дыры? Я бы шагнул в обратную сторону.
– Здесь не очень-то симпатично?
– Да, я как-то привык… к другой обстановке.
Человек дулом пистолета почесал бровь:
– Помочь, конечно, надо. Не оставаться же вам тут на всю жизнь.
– Не хотелось бы, – с надеждой сказал я.
– И для меня ваше появление чревато. Все эти похождения во времени… Такое у нас не поощряется.
Он согнул руку и неловко – мешал пистолет – вытащил из часов длинный тоненький стерженек. Покрутил его. Раздался звонкий щелчок.
– Вообще-то сейчас сезон, – бормотал человек. – Солнце активное. А это много значит, если солнце активное.
Коричневое солнце на небе сжималось и расширялось. Черных облаков до горизонта стало намного больше.
Вдруг он неожиданно спросил:
– В Бога верите?
– Нет, – удивленно сказал я.
– Придется поверить. Туннель будет через двадцать минут. Уникальное совпадение. Через двадцать минут, четыреста метров на юго-запад. Вам необычайно везет. – Он сориентировался по часам. – Четыреста метров. Это, значит, во-он там, – показал на обширное здание Музея.
Мне стало немного легче. Очень не хотелось застрять тут на всю жизнь. Этот мир был не для меня.
– Лучше прибыть загодя, – между тем сказал человек. Посмотрел с сомнением: – У вас была хоть какая-нибудь военная подготовка?
– Да.
– Значит, стрелять умеете?
– Нет.
Он покрутил головой. Строго и медленно приказал:
– Идти за мною шаг в шаг. Команды выполнять беспрекословно.
– Понятно, – ответил я, стараясь быть твердым.
– И еще. – Он достал плоскую коробочку, из нее две ярко-красные, тревожные таблетки. Одну положил в рот, а другую протянул мне: – Вы сейчас каждую минуту получаете десять рентген. С этим надо считаться.
Таблетка на вкус была горькая. Просто челюсти сводило в дугу.
Человек глубоко вздохнул:
– Поехали!
К Музею вела тропинка из каменных плит, уложенных, вероятно, вручную – неровно. Осот сквозь них не пробивался – черной стеной поднимался по бокам.
– Руками не трогать, – предупредил человек, указывая на колючие стебли. – Яд накожного действия. Будут ожоги, нарывы и так далее.
Жара на тропинке была сумасшедшая. Из нагревшихся зарослей тек пряный густой аромат, напоминающий какие-то духи. От него кружилась голова. Человек шел быстро, упруго, внимательно посматривая по сторонам. Я брел кое-как, спотыкаясь. Тишина вокруг стояла жуткая. Ни единого звука. Только наши шаги. В ушах у меня звенело, будто пели тысячи озлобленных комаров.
Вдруг человек остановился и схватил меня за пиджак.
– Что? – спросил я.
– Тихо, – сквозь зубы приказал он. – Тихо.
Он рассматривал непроницаемые заросли. Осот стоял совершенно неподвижно. Листья в стеклянных шипах переплелись плотной душной стеной.
– Береженого бог бережет, – наконец сказал человек и дважды выстрелил.
Толстые черные стебли согнулись и с дождевым шумом легли на тропу. Будто провели по корневищам невидимой косой. За ними ничего не обнаружилось.
– Вперед! – скомандовал человек. – И быстрее, черт бы вас побрал!
Оставшиеся сто метров мы почти пробежали.
Осот немного не доходил до Музея. Здание его сильно пострадало: штукатурка и рамы были выворочены, а стена, обращенная к нам, треснула от крыши до основания. В ней зиял здоровенный пролом. Правая часть осела и угрожающе накренилась.
Я отчаянно задыхался. Мы шли слишком быстро. Но человек не дал мне передохнуть. А едва дождавшись, сказал:
– Сюда!
И сразу же из пролома выполз большой – метра в полтора – неторопливый слизняк. Он был бурого, защитного цвета, абсолютно голый, противный, а на голове его трепетали улиточьи рожки антенн.
Я невольно вскрикнул и отступил.
– Ничего страшного, – сказал человек.
Ботинком с размаху пнул слизняка в бок. Тот качнулся, показав желтое брюхо, всхлипнул неожиданным басом и, развернувшись, насколько мог быстро, пополз прочь.
– Растительноядный, – коротко объяснил человек. – Никакого вреда. Съедобный.
И полез вверх, в пролом, по истерзанным битым кирпичам.
Я с большим опасением последовал за ним. Слизняк вызывал у меня отвращение. Не хотелось бы еще раз натолкнуться на такую тварь.
Мы спустились в подвал и по нему добрались до вестибюля Музея. Отсюда вели две мраморные лестницы. Одна была совершенно разломлена – в воздухе висела только ее верхняя часть, другая же каким-то непонятным образом сохранилась, прилепившись к стене.
– Быстрее, быстрее! – непрерывно торопил меня человек.
Каждую секунду я боялся, что лестница обвалится.
А когда мы вступили в зал, то с середины его неторопливо поднялась и, развернув перепонки, улетела в пролом мохнатая ярко-синяя птица.
В этом Музее я уже бывал. Раньше здесь находились чучела и макеты животных, а под потолком тянулся огромный, тридцатиметровый скелет кита. Теперь этот скелет рухнул, валялась беспорядочная груда истлевших желтоватых костей. Чучела и макеты исчезли, железные коробки витрин стояли обнаженные. А по стенам до самой крыши вздымались угольные языки пожаров.
– Мы пойдем через здание, – сказал человек. – Хоть длиннее, но безопаснее. Между прочим, вы напрасно так отстаете.
Тут он замер. Перед нами в витрине раскорячилась всем телом горилла. Видимо, чудом уцелевшая – чрезвычайно лохматая, с поднятыми руками. На спине у нее топорщился мешковатый горб.
Человек внимательно разглядывал витрину.
– Никогда нельзя быть уверенным… – начал он и внезапно выстрелил.
В стеклах витрины неожиданно зашипело, засвистело – горб, естественно, отвалился, и на полу, разбрызгивая слюну, забилась в судорогах небольшая пузатая ящерица.
– А ведь мог не заметить, – задумчиво сказал человек и выстрелил еще раз.
Ящерица затихла.
– Живучие, гады. Имейте в виду: один укус – и вы покойник. Сильнейший яд. Излечений практически не бывает.
Я посмотрел на конические зубы и дал себе слово, что больше не отстану ни на шаг.
Через задний пролом мы спустились во двор и прошли вдоль ограды. Двор был на удивление пустым и чистым. Даже осот здесь не рос, и асфальтовая поверхность сияла нетронутостью. Зато старинное здание дальше по набережной, с шаром наверху, совершенно развалилось. Оползни гнетущего мусора обтекали его, и поверх щебенки господствовала витиеватая покореженная арматура.
Человек уже выглядывал из ворот, осторожно подкручивая стерженек на браслете часов.
Раздавались металлические щелчки.
Я, пугаясь, приблизился.
– Все-таки не повезло, – сказал человек. – Видите вот этот люк?
– Ближайший?
– Центр туннеля приходится на него. Вам придется войти в чащобу.
Я без всякой радости посмотрел на колючий осот, покрывающий набережную.
– Есть еще около трех минут. И почти минута, пока туннель не закроется. Только лучше не рисковать, идти сразу. Как скомандую – тут же бегите. Встаньте на крышку люка и берегите глаза.
– Он ведь… жжется, – ответил я. – Будут нарывы.
– А кто виноват? – раздраженно спросил человек. – Кто все это устроил?
– Я ж нечаянно, – примиряюще сказал я.
Он махнул рукой:
– Речь не о том. Попали сюда и попали. Глупость. Никто вас не винит. Но неужели вам нравится все это?
Обстановка мне, конечно, не нравилась. Тусклое лиловое небо. Коричневое солнце. Заросли осота и слизняки. Ящерицы с коническими зубами.
– Как вы до такого докатились? – спросил человек.
– Кто? – не понял я.
– Ну, вы. Вы все – там. Неужели же было неясно, к чему все идет?
– Нет, – ответил я.
Человек глянул на часы и быстро проговорил:
– История вариабельна. Понимаете – вариабельна. Существуют альтернативные пути развития. Если бы были приняты проекты Гвиччони или Деллона, облик города стал бы совсем иным. Так же и с нами. Все могло полететь к черту гораздо раньше. Но – держались. Ограничивали себя. Умели каким-то образом договариваться. Значит, можно?.. И вдруг как с цепи сорвались – никто ничего не видит, никто ничего не делает… Рухнуло. Теперь имеем не мир, а помойку. И на этой помойке приходится существовать…
– Позвольте, – сказал я. – Позвольте, но что же зависит от меня? Кто я такой? Меня же никто не послушает.
– Зависит, зависит, – сказал человек. Он был очень сердит. – Еще как зависит. Именно от вас и зависит.
– Но…
– Думайте, – сказал человек. – Серьезно думайте. Все. Все вы – кто там – думайте!
Я хотел возразить, но он прервал меня:
– Время!.. Значит, помните: по команде выбежать – и на люк. Надеюсь, что вам повезет. Руки потом покажете врачу, скажете – нарывное. От этого не умирают.
– Только одно… – начал я.
Он уже махал часами:
– Все!.. Без разговоров!.. Пошел!..
Сердце у меня заколотилось. На секунду я как-то замешкался, но человек упорно толкал меня в спину:
– Быстрее, быстрее!..
Я отчаянно побежал, зацепился за что-то невидимое, треском ниток распоролся карман пиджака, выскочил за ворота – словно в ледяную воду, закрыв ладонью лицо, нырнул в колючий осот, по руке полоснуло огнем, но я уже находился на крышке.
Свет погас.
И опять зажегся.
Тут же меня сильно толкнули. Плотная распаренная женщина стояла передо мной. Удивленно помаргивали ресницы.
– Вы с ума сошли!
– Извините…
Женщина фыркнула что-то неприязненное и пошла дальше, оглядываясь: не могла понять, откуда я взялся.
Набережная имела свой обычный вид. Неторопливо текла широкая полная река. Здание Музея было целое и яркое – видимо, недавно отремонтированное. Около него остановился автобус. Пестрая толпа школьников высыпала изнутри. Судя по всему, на экскурсию.
Воздух был чист, прозрачен и свеж. Я дышал с наслаждением.
Лишь на правой ладони, как лишайник, вгрызаясь под кожу, расползалось горячее багровое пятно.
Школьники беспечно галдели. Дул морской влажный ветер. Из-за угла, с гранитного полукруга, доносился грохот отбойных молотков.
Не хотелось верить, что синее глубокое небо над городом станет когда-нибудь лиловым и раскаленным, что желтое солнце превратится в коричневый нарыв, лопающийся от напряжения, а вот это зеленое, с шаром на башне, здание справа от меня обернется грудой печальных камней, – светлая река высохнет, и вся набережная зарастет черным, колючим и ядовитым осотом. А по развалинам будут ползать скользкие, багровые слизняки.
Жжение в руке усиливалось. Теперь она просто горела.
Как там сказал этот человек?
Думайте! Серьезно думайте!
Надо будет думать…
Сад и Канал
1. Зверь пробуждается
Полковник был мертв. Он лежал на ступеньках, ведущих к воде, черные тупые ботинки его облепила ряска, а штанины форменных брюк были мокрые до колен. Словно он перешел сюда с того берега. Он покоился навзничь, – пальцы, как птичьи лапы, скрючились над лацканами пиджака, а от головы с восковыми залысинами отслоилась фуражка. Неподалеку валялся знакомый портфель, застегнутый на кожаные ремни. Удивительно было видеть их по отдельности: портфель и полковника. Раньше мне казалось, что они неразлучны. Вот полковник вылезает из «Волги» – отдуваясь и прижимая портфель к животу; вот он неторопливо пересекает набережную, и портфель чуть покачивается у него в руке; вот он завтракает, сидя на ящике в углу стройплощадки, и тогда неизменный портфель, поставленный между ног, сжат щиколотками. Уж не знаю, как он обходился с портфелем дома. Возможно, и спал вместе с ним, положив под голову вместо подушки. Во всяком случае, на улице он не выпускал его ни на секунду. Но не это окончательно убедило меня. Убедило меня нечто совсем иное. Убедило меня его изменившееся, какое-то сильно заострившееся лицо. Оно как бы выгорело, сожженное невидимым солнцем, провалилось, обуглилось, мутным камнем светлели морщинистые белки в глазницах, старческое мясо с него исчезло, кожа, превратившись в пергамент, присохла к костям, точно на муляже, выделялись на ней мышцы и сухожилия. Полковник сейчас неприятно походил на мумию. Правда, я никогда в жизни не видел мумий. Мертвецов, впрочем, я тоже еще никогда не видел. Я присел и осторожно потянул на себя крышку портфеля. Неожиданно он раскрылся, и высыпались изнутри какие-то документы, какие-то синеватые папки, какой-то сверток, видимо завтрак, обернутый полиэтиленом. Ничего этого я трогать, конечно, не стал. Еще чего! Потом хлопот с этим не оберешься. Я лишь попытался накинуть крышку обратно и, не вставая, как можно дальше отодвинулся по ступенькам.
Ситуация в данный момент была такая: справа в кустах что-то ворочалось, мокро отхаркивалось, трещало ветками. Иногда раздавался звук, будто проволокли по земле тяжелую дряблую тушу, и затем – вдруг похныкивание и лепет, как у испуганного ребенка. В общем, складывалось ощущение, что соваться туда не следует. А вот по левую руку пока было сравнительно тихо. Зато там, будто бабочки, подпрыгивали над кустами крохотные синеватые огоньки. Честно говоря, огоньки эти мне тоже не слишком нравились. Какие такие огоньки, понимаете? Откуда они возникли? Однако больше всего мне сейчас не нравился сам Канал. Почему-то он зарос мелкой ряской, хотя еще вчера был вроде бы совершенно чистый; поверх душной ряски лежали широкие листья кувшинок; на некоторых из них уже распустились темно-желтые, светящиеся, пальчатые цветы, и аромат сладкой гнили, который они источали, затекал в ноздри. Я чихнул. Никаких кувшинок, по-моему, вчера тоже не было. И вдобавок на другой стороне Канала, там, где крепкие уродливые деревья образовывали кронами почти сплошной лиственный свод, будто души воскресших, поднявшиеся из преисподней, спотыкались и выламывались в хороводе приземистые фигуры. Что-то мерзкое и, кажется, не совсем человеческое, что-то ископаемое, землистое, с ужасно вывернутыми в стороны локтями и голенями. Как бревно, висел среди них голубоватый луч прожектора со стройплощадки, и они ударялись в него именно как в бревно, вскрикивая жутковатыми голосами и после – отскакивая. А в довершение всего этого несколько бесовского действа с колокольни, черным многосуставчатым пальцем упертой в небо, медленно выкатился и поплыл в воздухе удар колокола. Раз… и еще раз… и еще – все чаще и чаще… На секунду все вокруг как будто оглохло. Я заметил, что по этажам ближних домов поспешно зажигаются окна. Со стуком и звоном распахивались задубевшие рамы. Паника, вероятно, охватила уже весь этот квартал. Затрещала сигнализация в Торговых рядах. Под их мощными позапрошлого века арками замелькали фигуры охранников. Слабенько хлопнул выстрел. Запипикал дежурный звонок, взывая о помощи. Я уже догадывался, что тут происходит очередное «явление». Кажется, девятнадцатое по счету, и, видимо, именно здесь – его эпицентр. Угораздило меня оказаться точнехонько в эпицентре. Впрочем, поручиться за это, конечно, было нельзя. При «явлениях», как известно, ни за что поручиться нельзя. На то оно и «явление», чтобы опровергать любые наперед высказанные прогнозы. И эпицентр, если его вообще удастся когда-нибудь определить, вполне возможно, находится совсем в другом месте.
Главное сейчас было – не дергаться. Обтерев о камень пальцы, трогавшие портфель, пригибаясь, чтобы со стороны меня не было видно, я перебежал к кустам, где подпрыгивали те самые крохотные огоньки. Почему-то огоньки мне сейчас казались наиболее безобидными. Россыпь их тут же брызнула от меня в разные стороны. Сучья и разлапистые колючки кустов цепляли одежду. Я надеялся, что в гуле набата не привлеку ничьего внимания, но едва я присел и втиснулся под акацию, в тесную, узорчатую от проблесков, корневую душную черноту, отдуваясь и прижимая сердце, выпрыгивающее из груди, как испуганный голос окликнул меня: «Это кто там?.. – а потом вдруг заплакал и застонал в тихом ужасе: – Уйдите, уйдите!..» Напряженные руки отталкивали меня в плечо, я, наверное, секунды четыре не мог справиться с выгнутыми локтями – наконец, проломил их сопротивление и прижал к телу, в это время внезапно оборотился на нас слепящий зрачок прожектора, и в раздробленном листьями, мертвенном, ртутном его тумане я вдруг узнал, отрезвев на мгновение, соседку из нижней квартиры. Звали ее, кажется, Маргарита. Скрученное сбитое платье, растрепанные со сна волосы. И она, по-моему, тоже узнала меня: обмякла, мелко дрожа, и перестала отталкивать. Трудно было что-нибудь разобрать в ее захлебывающемся бормотании. Вероятно, она не понимала сама себя. Ей казалось, что это были какие-то огромные площади, скверы, улицы, пульсирующие аппендиксы переулков, съехавшие чуть ли не до асфальта крыши, клочковатый дым, фонари, подергивающие змеиными головами. Почему-то все это сворачивалось вокруг тугой сферой, насмерть втискивалось друг в друга, потом куда-то проваливалось. А из трещин просевшего неба сыпались мелкие камешки. Нет, конкретного места она, разумеется, не помнила. Но зато она помнила, по ее словам, как выглядит Зверь. Что-то такое каменное и очень-очень громоздкое: угловатая лошадиная морда, составленная как будто из кирпичей, два чугунных крыла, тумбы лап, грохочущие по мостовой, полный дыма и рыканья, гранитный, неровный, серозубый оскал, глаза – точно из выпуклого стекла. Он, наверное, очень добрый, неожиданно заключила она.
Жаль, что у меня с собой не было диктофона. Персонификация Зверя могла бы представлять интерес для дальнейшей работы. Было бы, вероятно, забавно свести ее, например, с Леней Курицем и потом посмотреть, как Куриц, поправляя очки, надрываясь и кашляя, будто чахоточный, даже немного подпрыгивая от нетерпения, выдавливает из нее информацию. Правда, информации, на мой личный взгляд, здесь было негусто. Но ведь Леню Курица подобные затруднения, конечно, не остановят. Как однажды довольно-таки обидно заметила Леля Морошина, нет дурака хуже энтузиаста. Леня Куриц откроет свою знаменитую папку, крест-накрест стянутую бельевыми резинками, сварит крепкий до ядовитости кофе, закурит тридцатую в этот день сигарету, строгим голосом предупредит об ответственности за дачу заведомо ложных сведений и затем будет спрашивать, спрашивать, спрашивать хоть трое суток, без еды и без отдыха, пока не вывернет свидетеля наизнанку. В этом отношении на него положиться можно. Между прочим, и для нашей Комиссии она тоже могла бы представлять интерес. Мысль об этом мелькнула у меня в голове и тут же пропала. До разбора в Комиссии нам обоим – и Маргарите, и мне – еще требовалось дожить. Обстановка пока этому не благоприятствовала. Заунывный железный скрежет донесся со стройплощадки. Я вздрогнул и оглянулся: оказывается, пришел в движение громадный башенный кран; решетчатый палец его стрелы медленно поворачивался, и на тросах под ним, будто мертвое солнце, покачивался чугунный шар. Вот он, наращивая скорость, бесшумно проплыл по небу, вознесся, когда стрела внезапно остановилась, немного вперед, и с размаху ударил в бетонное здание, стоящее наособицу. Я невольно, будто во сне, обернулся к полковнику. Но полковник по-прежнему был безнадежно мертв. Стенка здания покачнулась и с приглушенным грохотом осела на землю. Душное темное облако пыли вспучилось на этом месте. Оно быстро распространялось, накрывая собой окрестности. Один за другим пропадали в нем блеклые зрачки фонарей. И вдруг эту пыльную загробную муть прорезали огни милицейских мигалок. Заметался панический синий блеск. Окна ближайших домов мгновенно погасли. А из улиц, сходящихся к изгибу Канала, раздались шипение и громкий металлический лязг. Две продолговатых бронемашины, как крокодилы, вдруг выскочили оттуда, люки у них откинулись, и солдаты, горохом посыпавшиеся с бортов, побежали, ощерясь оружием и фонариками.
Одновременно глухим басом заухала и завопила сирена. Это означало, что начинается экстренная локализация зоны «явления». Управление безопасности было сегодня на высоте. Наш горисполком, слава богу, наконец-то научился работать. Но с другой стороны, это означало, что вокруг нас стягивается сейчас кольцо оцепления. У меня оставались какие-то считаные минуты, чтобы вырваться из мешка. Значит, так, сказал я резким шепотом, непрерывно оглядываясь, от меня не отставать ни на шаг, не кричать, не шарахаться, главное – не мешать. Делай как я и, пожалуйста, не возражай. Будешь рыпаться – я тебя просто брошу. Надеюсь, ты меня поняла?.. Маргарита неистово кивала после каждого моего слова. Тихонечко поползла вслед за мной, шурша коленями и локтями. Мы раздвинули кромку кустов, обрамляющих сквер: тусклым лунным изгибом сияли впереди трамвайные рельсы, одинокий фонарь освещал часть асфальта и крону широколистого дерева, а под деревом, с другой его стороны, прячась в тени, затаился солдат с автоматом. К счастью, он в этот момент шевельнулся, и что-то у него там блеснуло. Значит, путь напрямик, то есть самый короткий, для нас был безусловно закрыт. Мне совсем не хотелось объясняться сейчас с солдатами. Прикрываясь кустами, мы осторожно перебрались в сторону стройплощадки. Там стоял какой-то мерклый, сухой туман, видимо от еще не осевшей пыли. Воздух, словно от радиации, немного светился. Громоздились бетонные блоки, жутковатая разломанная арматура. Рыбьей серостью пучились брошенные мешки с цементом. Маргарита сразу споткнулась и шлепнулась в проем между ними. Вероятно, она ушиблась, но, к чести ее, даже не застонала. Лишь протерла глаза, оставив на лице белые мучные разводы. Тем не менее вся картина от этого немедленно изменилась. Что-то произошло, что-то незаметное, какое-то легкое потрясение. Расселся вдруг штабель досок неподалеку, сама по себе крутанулась рифленая ручка лебедки. А за пяльцами голых ободьев ее, выпирающих лепестками, будто призрак из преисподней, вдруг выпрямился человек.
Он был длинный, как бы растянутый слепящим светом прожектора, угловатый, нелепый, в тяжелом суконном костюме и даже при галстуке, уголок носового платка высовывался из кармашка, а орлиный горб переносицы оседлали узенькие профессорские очки. Стекла их были точно залеплены молоком. Подпрыгивал, выступая вперед, острый клинышек бороды. Я успел рассмотреть это все до мельчайших подробностей. «Что?! Дождались Второго Пришествия?! – выкрикнул человек тонким голосом. – Шатается и сотрясает стены свои Храм Подземный!.. Крысы – синего цвета!.. Железный репейник на площадях!.. Шелестит, разгораясь страницами, книга вечного Апокалипсиса!.. Кровь, как мертвое время, сочится из букв его!.. Встают с камней мумии, и сухие глазницы их взирают на то, чего не видит никто!..» Он сорвался на визг, взлетевший в мутную небесную пелену. Я чуть не высунулся наружу, потому что узнал в нем известного всем «профессора». Тоже мой сосед, кстати из квартиры напротив. Он уже дней пять, если не ошибаюсь, числился пропавшим без вести. Значит, все это время он просто скрывался на стройплощадке. Фары выскочивших транспортеров скрестились и поймали его в дымящийся яркий фокус. Профессор пошатнулся, видимо ослепленный, но отнюдь не упал, а стал, напротив, как бы еще длиннее. А за узкой спиной его заплясали разнообразные тени: многорукие, кажется, многоногие, ломаные по всем мыслимым измерениям. Без единого звука выскакивали они, как чертики из коробки, и стремительно падали-корчились, по очереди продвигаясь к лебедке. Я не сразу сообразил, что это – солдаты с дубинками. «Руки за голову!!! Стоять!!!» – вдруг камнепадами звука загрохотало из невидимого усилителя. Хорошо, что нас закрывали мешки с цементом. Мы вообще находились несколько в стороне. Тени прыгнули на человека – сшибли его и потащили. На мгновение образовался ком, дергающийся головами и локтями. Оглянувшись, я увидел, что под деревом уже пусто. Вероятно, солдат, охранявший подходы к дому, тоже ринулся наперехват. Во всяком случае, путь к нашей парадной теперь был свободен. Я так и не понял, как мы с Маргаритой перебежали на противоположную сторону. Не уверен, но, кажется, на мосту нас невнятно окликнули. И наверное, даже выстрелили: я услышал противное «вжик!» где-то слева. Пуля чиркнула по камням и, к счастью, ушла в неизвестность. Снова – громко и неразборчиво заревел мегафон, но тугая парадная дверь уже закрылась за нами. Отчетливо щелкнул замок. Я немедленно передвинул на нем шпенек блокировки. Все-таки лучше, чем ничего. Я всем сердцем надеялся, что взламывать дверь в парадную они все же не будут. Согласно утвержденной инструкции о «явлениях» этого не полагалось. Впрочем, так же, по той же самой инструкции, использование оружия тоже категорически запрещалось. Ну и что? Когда у нас соблюдались хоть какие-нибудь инструкции? Однако теперь мы вроде бы получили некоторую передышку. Может быть, до своих квартир добраться успеем. Было тихо. Маргарита, как дряблая тряпичная кукла, оседала по стенке. Горло у нее втягивало и выталкивало нагретый воздух. Я сказал, буквально запихивая ей в сознание каждое свое слово: «Поднимайся к себе и сразу же, слышишь, сразу же ложись в постель! Постарайся заснуть, и, если потом тебя спросят, учти: ты сегодня на улицу вообще не показывалась!..» Слабо кивнув, она потащилась наверх, оскальзываясь по ступенькам; еле слышно, по-видимому в беспамятстве, бормотала: «За что это нас?.. За что?.. За что?..»
Я подождал, пока за ней закроется дверь. А потом тоже медленно, преодолевая одышку, начал подниматься к себе. Наверху меня ждали проснувшиеся близнецы. И жена, вероятно, уже металась по всей квартире, высматривая меня из окон. Наверное, уже раза четыре звонила мне на работу, и можно было только надеяться, что эти звонки не зафиксированы в рабочем журнале. Время как-никак было предельное – три часа ночи. Не хватало еще, чтоб я сам давал путаные объяснение перед нашей Комиссией. И однако даже не это сейчас меня по-настоящему беспокоило. Беспокоило меня сейчас нечто совершенно иное. Я по-прежнему видел лежащего на Канале полковника, мокрые его полуботинки, концы брюк, облепленные ряской и какими-то веточками, торчащие прямо из лацканов кителя птичьи лапки и особенно, конечно, лицо: высохшее, потемневшее, желто-коричневое, как у мумии – с блеском стекловидной кожистой пленки в глазницах. Вот что сейчас беспокоило меня прежде всего. Я даже не сразу сумел вставить ключ в замочную скважину. Руки у меня дрожали, и бородка ключа почему-то не втискивалась. Она не втискивалась и не втискивалась, как бы я ни старался. Я уже отчаивался и думал, что придется, по-видимому, осторожно стучать. Очень уж не хотелось мне осторожно стучать. Однако до меня наконец дошло, и я просто перевернул ее другой стороной.
Это был первый настораживающий эпизод, который коснулся лично меня. А вторым таким эпизодом была разразившаяся через неделю гроза.
Лука Вепорь в середине восемнадцатого века писал:
«Бысть град ночей – камен, со дворы и домы велыки, и укоренишася без корней… А се месьто еси рекомо – Болото… Бо без дна еси и железныя травы кровянолисты поверьх яво… Таково же и есть град ночей: домы зеркальны, голанская черепица на них, а углы тех домин в муравленных израсцех… Како сладостный морок для сна и погибели стояша оне… Воды неба вкруг них лежаху хрустальны… Желтым цветомь, и рудым цветомь, и цветом тараканного олова… Мнози мняще покрыцем и златоми облекоша… Чюдна музыка играху в них со день до нощь… Проникаще иде во камен и содеяху томление… Нодевающо поясы и колпакы шутовьския, и танцоша, как обезумевши, и всюду толпяшась, и веселяхося серьди камня… А не ведомо убо в веселии человец, что се месьто еси рекомо – Болото… Бо без дна и железныя травы кровянолисты поверьх яво… И живе во земле, во Болоте, яко кладница, некое Тварь… Рожем своим бородавчата, а сути назваша есмь Угорь… Так сю Тварь назваша со скудних времен… Лупыглазех, аки беси во мраке, собой пузатех, во пятнох мнозих, сы задней плавницей… И тело свое надуваемо болотней водой… Камен-град, со дворы и пороги, стояша на Угоре, како на тверди… И пробудишося, и ракоша, и мнози развяша яво иными членами… И содешося от того тряс велыкий, и поиде с Нево-езера вода, выдохьнутая сим Тварем, и двое дни набиралась она во камен, и камен изъела весь… А с того пресекаху до срока летныйсая нощь, и стонаху, и свет в ней загорашася беле нечеловеций… Како бысть и зовут ея теперь – белыя нощь… И гореть яму – пока исполнится крайний срок…»
Документ был написан на хрупкой истлевшей бумаге, слегка обломленной по краям. К сожалению, он попал в мои руки слишком поздно. К тому же это была только первая его часть, по содержанию, кстати, весьма и весьма туманная. Окончание документа я разыскал лишь в середине августа, когда события уже приняли необратимый характер. Впрочем, даже если бы я получил обе части одновременно, я бы вряд ли тогда ими серьезно заинтересовался. Скорее всего, я не обратил бы на них никакого внимания, потому что главным событием того времени для меня действительно явилась гроза.
Я очень хорошо помню тот день. Была пятница, жуткая духота, и на работу я приехал только к одиннадцати. Вся наша Комиссия к тому времени уже кипела от разговоров. Обсуждалось, конечно, «явление», которое перепахало собой прошедшую ночь. Я, оказывается, ошибся, оно было не девятнадцатое, а восемнадцатое по счету. Так, во всяком случае, указывалось в официальных бумагах. К нам уже поступили первые иллюстративные материалы, разумеется пока еще очень сырые и требующие дополнительной обработки. Тем не менее кое-какие выводы сделать уже было можно. Сообщалось, например, что «явление» в этот раз длилось более четырех часов (срок вполне достаточный, чтобы его грамотно локализовать) и, по-видимому, захватило площадь несколько большую, чем обычно. Интенсивность его также была достаточно высока: наблюдались видения, переходящие в массовые галлюцинации, и, как обычно, центральным пунктом видений был образ Зверя. Судя по опросам свидетелей, что такое – мохнатое, длинномордое, размерами с динозавра, но разброс внешних данных был, как всегда, чрезвычайно велик, и свести их к единому облику опять не представлялось возможным. Было, однако, в данном случае и нечто существенное. В этот раз в результате «явления» был, оказывается, разрушен некий военный объект, проходящий по документам округа как «строение дробь тридцать восемь». Таким образом, это был уже второй военный объект, фигурирующий в отчетах. В прошлый раз от сильных пожаров пострадало так называемое строение дробь пятнадцать (на самом деле – склад горюче-смазочных материалов). Группа следователей военной прокуратуры подозревала тогда поджог. Хотя вряд ли здесь можно было говорить о какой-либо закономерности: оба «строения дробь…» находились друг от друга достаточно далеко, в зону «явления» попали, по-видимому, совершенно случайно и, согласно недавнему разъяснению коменданта округа, безусловно, отличались по своему назначению. Впрочем, в чем именно состояло назначение этих объектов, комендант все-таки внятно не разъяснил. Да мы, в общем, ни на какие такие особые разъяснения и не рассчитывали. Просто в дальнейшем следовало держать этот любопытный факт в поле зрения.
Тут же, между прочим, крутился и Леня Куриц. Как всегда – суетливый, хохочущий, рассказывающий самые последние анекдоты, непрерывно заваривающий нашим женщинам чай или кофе, вроде бы беззаботно болтающий, а на самом деле – тщательно процеживающий информацию. У него в нашей Комиссии была какая-то странная роль: как бы добровольный помощник и одновременно – неофициальный представитель прессы. На птичьих правах, разумеется, которые он сам себе предоставил. Иногда его вдруг приглашали и сообщали что-нибудь невразумительное. Чаще все-таки не приглашали, и тогда он просачивался в Комиссию тихо и целеустремленно. Разрешения он, естественно, ни у кого не спрашивал и свое право присутствовать отрабатывал разными незначительными услугами. Однако все это – спокойно, без подобострастия, не переступая черту, за которой уже начинается явственная торговля. Он, наверное, потому и прижился в нашей Комиссии, что всегда ощущал, где проходит эта невидимая черта. В чувстве собственного достоинства ему отказать было нельзя. Правда, сегодня я сразу же обратил внимание, что он явно чем-то встревожен. Честно говоря, трудно было не обратить на это внимание. Сегодня Леня не дергался, будто у него внутри отщелкивали стальные пружинки, не рассказывал анекдотов, не сыпал сплетнями и новостями, собранными по всему городу, не обхаживал с преувеличенной церемонностью женщин, которые были этому только рады, не склонялся к ручкам, не целовал, не клялся в верности до последнего вздоха. Он даже пирожных, по-моему, не притащил, как обычно. Забился вместо этого в угол, нахохлившись и прикуривая сигарету за сигаретой. Брови у него были резко стянуты к переносице. А когда к нему обращались, он вздрагивал и ронял на колени чешуйчатый пепел.
Это было так необычно, что встревожилась даже всегда флегматичная Леля Морошина. Некоторое время она украдкой присматривалась к нему, а потом весьма озабоченно покачала в воздухе карандашом:
– Что-то ты, Ленчик, нынче – того. Ты, Ленчик, наверное, немножечко приболел?
И любопытно, как Леня Куриц отреагировал на ее слова. Он не вздрогнул и не уронил пепел, уже довольно густо усеявший джинсы, не взорвался фейерверком острот, которые у него всегда были наготове, и даже не попытался поддержать разговор. Он просто посмотрел на нее, как будто никогда раньше не видел, и покачал головой:
– Ничего-ничего, это пройдет…
И вдруг улыбнулся тоскливой, сиротской, какой-то извиняющейся улыбкой.
Честно говоря, увидев эту улыбку, я несколько остолбенел. Потому что ну никак она не вязалась с привычным мне Леней Курицем. Ну не мог известный мне Леня Куриц так улыбаться. Вероятно, в этой внезапной улыбке проступила судьба. Однако о трагической судьбе Лени Курица я тогда еще не догадывался и воспринял как должное, когда он вызвался подвезти меня до библиотеки.
Я, наверное, никогда не забуду эту поездку. Припекало уже с утра, а сейчас ртутный блеск зноя просто неистовствовал на улицах. Палило и распаривало невыносимо. Красный столбик термометра указывал в тени более тридцати градусов. Мутный сернистый жар исходил от асфальта, стекла и камня. Невыносимо сверкали окна обморочных домов. В воздухе слышался шорох – колеса машин приклеивались к мостовой. Душный гнилостный запах выползал из каналов на набережные. Даже солнце к полудню вдруг стало какого-то коричневого оттенка, и расплывчатые тяжелые облака, появившиеся неизвестно откуда, прикрывали его, спускаясь все ниже и ниже над городом. В просветах улиц уже скапливалась белесая пелена. Очертания зданий терялись в ней как в тумане.
Я отчетливо помню, что почти всю дорогу Леня молчал. У него был четыреста первый «москвич», древняя марка, уже давно снятая с производства, в некотором смысле – почти музейная редкость, но – притертый и, чувствовалось, очень крепенький, безотказный, спокойный, надежный, как иногда бывают старые вещи. Ощущалась в нем заботливая рука хозяина. Леня Куриц и в самом деле любил свой «москвич» чуть ли не до потери пульса. Года четыре назад, не пожалев времени и усилий, самостоятельно перебрал весь двигатель, сменил поршни, кольца и разные другие необходимые мелочи, опять же сам где надо подшпаклевал, подклеил, покрасил, и с тех пор, как он выразился однажды, забот у него уже не было. «Москвич» теперь тянул лучше, чем новый. Тем более странно было видеть, как безжалостно Леня относился к нему сегодня, как он резко и яростно дергал его, проскакивая перекрестки, как он разворачивался, выбрасывая из-под шин противный резиновый визг, как он протискивался в щели между машинами, против обыкновения не опасаясь поцарапать обшивку. Точно в нем закипало гневное внутреннее раздражение, и, не в силах противиться, он срывал его на этом стареньком «москвиче». Он уже тогда, вероятно, догадывался, что именно происходит, и метался и мучился в поисках хоть какого-нибудь выхода из тупика, но возникшая у него догадка выглядела настолько неправдоподобно, что он просто не рисковал поделиться ею ни с кем из нашей Комиссии, только бился, точно бабочка о стекло, постепенно ослабевая, и не мог ни рассеять, ни задержать тот мрак, который на нас надвигался.
Потому он, вероятно, и был сегодня удручающе немногословен. Смотрел только вперед, сжимал руль, покусывал губы, и лишь когда мы свернули с горячей, клубящейся серым туманом, оловянной Невы и подъехали к широкому пандусу, опоясывающему библиотеку, он, внезапно затормозив, однако по-прежнему глядя вперед, сильно прищурился и сказал тихим голосом:
– Ты интересовался, кто же вас продает, – так вот я выяснил. Понимаешь, я выяснил, кто вас действительно продает. Вас продает Леля Морошина. Да-да, Леля, имейте это в виду. Я к тому, что вы уж слишком ей доверяете…
Я в это время вылезал из машины и – чуть было не сел обратно.
– Леля Морошина?! Леля?.. Ни за что не поверю!..
А Куриц, все так же глядя вперед и сощурившись, по-собачьи вздохнул и спросил, не поворачивая головы:
– Слушай, Виктор, я когда-нибудь тебя обманывал?..
– Нет, – я вынужден был это признать.
– А ты помнишь случай, чтобы я поторопился с какой-нибудь информацией, чтобы я ошибался или дал тебе неверные сведения?
Мне опять нечего было ему возразить. Я только спросил:
– Откуда тебе известно?
Однако Куриц лишь дернул небритой щекой:
– Ты же знаешь, я не засвечиваю своих источников. – И через секунду добавил, опять зевнув по-собачьи: – Собственно говоря, кому это теперь интересно?
Он, как всегда, попал в самую точку. Но, к сожалению, я в тот момент даже не подозревал об этом. Я был слишком ошеломлен известием насчет Лели Морошиной и потому лишь несколько остолбенело смотрел, как он разворачивается. Вот «москвич» выскочил задними колесами на поребрик, вот он, сдав еще, чуть не задел выступающий угол ограды, вот он стрельнул громким выхлопом из-под днища и, подмигнув тормозными огнями, понесся куда-то в сторону Невского. Леня Куриц опаздывал на встречу с профессором. К сожалению, я этого тоже тогда не знал. Впрочем, если б и знал, это бы все равно вряд ли что-нибудь изменило. Время было упущено: Зверь проснулся, и темная кровь его уже заструилась по жилам. Пыльная сетка трещин уже появилась на площадях. Проступила сквозь них трава, и ржавчина уже начала обгладывать трамвайные рельсы. День за днем нарастали у нас проблемы со связью. Телефоны то умолкали, то ни с того ни с сего снова начинали работать. А то вдруг соединяли с какими-то совершенно невозможными номерами. Электричество теперь отключалось практически каждую ночь. Причем выяснить действительные причины этих неполадок не удавалось. Инженеры с подстанций божились, что аппаратура у них в полном порядке. Сбои могут происходить где угодно, только не на подстанциях. У меня голова шла кругом от этой непрекращающейся круговерти. И к тому же сейчас мои мысли действительно занимала Леля Морошина. Неужели она в самом деле потихонечку продает нас военным? Вот, значит, откуда такая непрошибаемая уверенность у генерала Харлампиева. И вот, значит, откуда такая непрошибаемая уверенность у генерала Блинова. Ведь на прошлой неделе они просто требовали ввести чрезвычайное положение и при этом ссылались на сведения, которых у них ну никак не могло оказаться. Теперь понятно, откуда у них эти сведения.
Я поднялся по каменным, немного щербатым ступенькам библиотеки. В окнах первого этажа, приподнятых цоколем, отражалась гнетущая духота. Две полированных гранитных вазы стояли в нишах при входе, и возле правой из них распласталась тушка мертвого воробья. Я вдруг сообразил, что вижу мертвую птицу уже не в первый раз. С птицами последнее время вообще творилось что-то не слишком понятное. Словно у них от жары или от пыльной городской атмосферы внезапно лопалось сердце и они, умерев еще в воздухе, безжизненно шлепались на мостовую. Может быть, нам стоит заняться еще и птицами? Все же – факт странный, не получивший пока должного объяснения. Только кто, интересно, будет им заниматься? Я вздохнул, рук у нас не хватало даже для обычной текущей работы.
Духота, однако, стояла чудовищная. Стены буро-красного неровного камня выглядели раскаленными. Жара пропитала собой даже полумрак читального зала, и неудивительно, что очень бледный, буквально до прозелени, с какими-то зачесанными вперед височками молодой человек – в сюртучке, видимо, ощутимо спирающем его узкие плечи, оторвавшись от раскрытого перед ним фолианта чудовищной толщины, весьма недовольно проглядел мой заказ и сдвинул бесцветные брови:
– Таких реквизитов у нас в наличии нет…
– Они у вас есть, – уверенно сказал я.
– То есть вы полагаете!..
– Да, я именно полагаю!
Молодой человек наконец разглядел на заказе шифр нашей Комиссии, после чего поморщился и сдвинул брови еще сильнее:
– Придется немного подождать. Один секунд…
И – исчез, только вялым электрическим светом сиял колпак лампы, распростертый над фолиантом. Я с некоторой натугой приподнял кожаный переплет. Золотое тиснение, вязь, крупный готический шрифт. Золомон Обермоттер. «Рассуждения о земных и воздушных иллюзиях». Переплет тупо стукнул о поверхность стола. Вот ведь как! Интересные книги они здесь читают. Именно это издание было указано и в моей заявке. На прошлой неделе, однако, мне сухо ответили, что данная книга временно не выдается. Я уже не помнил сейчас точной причины отказа. Вроде бы находится на реставрации и в настоящий момент недоступна.
Я забарабанил пальцами по деревянной стойке. Мне ужасно не нравилось то, что происходило вокруг в последнее время. Хотя, разумеется, это могло быть и вполне естественным совпадением. Однако же что-то уж слишком много в последнее время таких вот вполне естественных совпадений. Заняться, что ли, еще и некоторыми совпадениями?
Между тем за огромными окнами библиотеки сгустился мрак. Отражения ламп уходили в него длинными тусклыми вереницами, казалось не имеющими конца. Электрический свет был бессилен перед этими поистине инфернальными сумерками. Вдруг трепещущий бледно-лилейный свет озарил все помещение. Напряглась в ожидании тишина. Жутковатые тени выметнулись по стенам и в ту же секунду опали. Мигнули лампы. Мелкий сдавленный всхлип вдруг донесся из-за стеллажей с книгами. И тут же, словно ссыпался в отдалении целый вагон досок, окатил здание расплывчатый, долгий, как смерть, удар грома. Задребезжали стекла. Заколыхались складчатые портьеры на окнах. Внезапный сквозняк с шорохом, подминая страницы, пролистнул книгу, вздернул вверх узенькую закладку, исписанную, по-моему, по-арабски, и, словно перо, покрутив ее мгновение-другое над головой, рванул вниз и вышвырнул в тревожную темноту коридора.
На секунду мне показалось, что там – пробежали. Молодой человек в сюртучке все не показывался и не показывался. Умер он, что ли, там у себя в хранилище? Обстановка немного действовала мне на нервы. Тем более что из-за стеллажей опять донеслось нечто вроде короткого всхлипа.
Ощущение было не из приятных.
– Есть тут кто-нибудь?! – неестественным голосом спросил я.
Ответом мне была все та же напряженная тишина. Новая грозовая вспышка озарила все здание, и буквально сразу же, вздувшись и клокоча, накатился шум ливня. Быстрые, светлые снизу капли побежали по стеклам. Я откинул деревянный барьерчик, преграждающий вход, и пошел вдоль дохнувшего мертвой бумагой, нескончаемого хранилища. В эту минуту люстра, хрустальной бомбой зависшая над потолком, слегка потускнела, зато впереди, как в пещере, проступило какое-то желтое, колеблющееся, слабое марево. Точно от свечи, обдуваемой током воздуха. Запахло горячим воском и терпкой, незнакомой мне, раздражающей парфюмерией. За стеллажами, оказывается, находился еще один небольшой зальчик: блеклые гобелены на стенах, диванчики, кресла с гнутыми золочеными подлокотниками. В трехрогих светильниках действительно плавились свечи, а у бордовой гардины, скрывающей дверь в соседнюю комнату, стоял человек.
Странное он производил впечатление: низенький, плотненький, крепко, но как-то, по-видимому, неуклюже сбитый, лупоглазый, как будто навечно вытаращившийся от злости, в длинной, до пола, ночной шелковистой рубашке, заканчивающейся оборками. Свободной рукой он почему-то сжимал изящный серебряный молоточек, наверное для колки орехов, и по мелкому высверку граней чувствовалось, какая у него во всем теле нервная дрожь.
Человек обернулся ко мне, и глаза его вылупились еще больше.
– Ну?! – голосом как у простуженного кота мявкнул он. Притопнул короткой, по-видимому кривоватой ножкой, обутой в сафьяновый сапожок. – Сволочь!.. Дубина!.. Я тебя зачем посылал?! – Он, вероятно, уже ничего не соображал от бешенства. Две слезы прокатились по выпуклым грушевидным щекам и застыли на подбородке. Человек ярился и плакал одновременно. – Где мерзавец Кутайсов?! Где вся гвардия?! Караулы – ушли?! Я тебя спрашиваю, дубина, почему мост опущен?! Почему за семеновцами не послано?! Тишина, тишина!.. О! теперь здесь всегда будет одна мертвая тишина!..
В растерянности я отступил назад:
– Простите – кажется, я не туда попал…
Но человек, по-видимому, уже не слушал меня. Вскинул руку и сквозь смешные круглые дыры ноздрей потянул в себя воздух. Костяшки на пальцах, сжимающих молоток, побелели. Дождевой страшный рокот заполнял комнату. Тем не менее он, вероятно, что-то расслышал:
– Восемь убийц… На лестнице… Дверь в Зеленой гостиной, конечно, открыта… Смерть, смерть идет на куриных ногах!.. Никогда больше!.. Так проходит мирская слава!.. – Человек, облаченный в рубашку, как будто устал. Тяжелая нижняя челюсть его несколько выдвинулась. Бульдожье лицо оплыло, и погас в глазах яростный блеск, свидетельствующий о надежде. Он вообще весь как-то погас. – Что же, тогда давай попрощаемся, старый солдат… Ты мне служил честно, теперь твоя служба окончена… Ступай с Богом и – не забывай своего императора… Все зачтется – на самом последнем Суде… Там, где уже не человек судит…
Он спокойно и властно кивнул мне на прощание. Повернулся – и трехметровая инкрустированная по краям дверь сомкнула створки. Мертвенная вспышка молнии снова затрепетала на стенах. И еще не успела она отгореть, чтобы через секунду смениться обвалом грома, как со стороны анфилады, стуча каблуками, раздувая черные опереточные плащи, застегнутые на горле, размахивая кинжалами и пистолетами, ворвались в зал какие-то люди. Трое из них, пыхтя и деловито посапывая, тут же навалились на дверь, которая даже не дрогнула, а еще один, по-видимому уже совсем очумелый, оборотился ко мне и с ненавистью прошипел:
– Ты что тут делаешь?..
Вороненым зрачком глянул из отворотов плаща пистолет. У меня, как перед смертью, внезапно перехватило дыхание. Сейчас же другой мужчина, надменный, высокий, с испанской бородкой, охватывающей сжатые губы, чуть потеснил его, видимо, чтобы лучше меня рассмотреть, и вздернутая углом бровь его выразила презрение.
– Архивариус… – Он махнул неестественно белой, точно из припудренной сдобы, вялой рукой. – Сударь, можете быть свободны… Учтите: вы ничего не видели…
– Свидетель!.. – настаивал тот, что наводил пистолет.
– Бросьте, князь! Что вы? Какой, к черту, свидетель!.. Раб, готовый прислуживать всем господам сразу… – Пошевелились в воздухе холеные пальцы. – Идите, сударь, идите!.. – И надменный мужчина тут же обернулся к дверям, где по-прежнему безуспешно пыхтели первые трое. Яркие губы его слегка вывернулись. – Боже мой!.. Да сломайте ее, наконец!.. Что вы там возитесь?!
– Диваном, диваном ее, – зычно посоветовал очумелый мужчина.
Трое в черных плащах немедленно подхватили ближайший выпуклоногий диван и, кряхтя, будто каторжные, потащили его по направлению к двери. Гулкий деревянный удар раскатился под сводами. Опять вспыхнула молния, и заплясали от пола до потолка громадные тени. Я неловко попятился, укрываясь за стеллажами. Зазвенело не выдержавшее окно. Капли дождя хлестнули по узорчатому паркету. Вдруг донесся треск расщепившегося сухого дерева. Ушибаясь боками о книжные полки, я выбрался наконец в неестественную тишину читальни. Странно было опять видеть спокойную зеленую лампу на столике, распахнутый под ней фолиант, юношу в узеньком сюртучке, нахохлившегося над полуистлевшим текстом. Он увидел меня и, опираясь ладонями в стол, медленно приподнялся.
Синими искрами сверкнули перстни на пальцах.
Юноша взирал на меня с каким-то почти мистическим ужасом.
– Кто вы, милостивый государь? Откуда? Я вас не знаю… – И вдруг, точно пронзенный догадкой, мелко-мелко потряс своими височками. – Не надо! Не надо! Не говорите!.. Я все понял… Значит – свершилось…
Он, по-видимому в беспамятстве, выпрямился, одновременно закрывая глаза, и, внезапно оторвав от стола ладони, прижал их к лицу. Вытекли из рукавов тонкие кружевные манжеты. Еще раз донесся ослабленный расстоянием сухой деревянный треск, и сразу же вслед за ним – победные крики.
Видимо, дверь все-таки пала под натиском.
Времени, вероятно, уже совсем не было.
Я быстро спросил:
– Где у вас телефон? Пожалуйста, проводите меня к телефону… – потому что я уже, в общем, догадывался, что здесь происходит. – Вы дежурный?.. Ну-ну, придите в себя, действуйте по инструкции!..
Я надеялся все же, что он еще не совсем потерял сознание. «Явление», сколь бы яркой и впечатляющей картиной оно ни предстало, засасывает человека далеко не сразу. Разум некоторое время еще борется с галлюцинациями.
Однако в данном случае я, наверное, неправильно оценил ситуацию.
Бедный юноша, вероятно, уже полностью погрузился в видения. Во всяком случае, он вновь прошептал еле слышно: «Свершилось… – а затем, оторвав длинные музыкальные пальцы от глаз, как-то совершенно по-новому оглядел окружающее. И уже совсем другим, бесцветным и отстраняющим голосом произнес: – Милостивый государь! Что вам угодно?..»
Царственным холодом веяло от его выпуклых, чуть голубоватых зрачков. И однако вовсе не это поразило меня в ту минуту. Меня поразило его меняющееся лицо. Оно буквально на глазах высыхало и покрывалось пергаментной смуглостью.
– Я вас слушаю, милостивый государь!..
Он уже не был – ни бледный, ни – юноша, ни – вообще что-то живое.
Сухопарая жилистая мумия вдруг оскалила зубы. Горсткой пыли осыпались с черепа истлевшие волосы. Губы еще шевелились, но, по-видимому, уже намертво прикипая к деснам. Кожа на заострившемся подбородке натянулась и лопнула, а изнутри, предвещая, наверное, полный распад, точно ракушка из камней, высунулась белая скелетная косточка…
И наконец, был еще один, заключительный эпизод, вроде бы расставивший все по своим местам. Это произошло в субботу, которая уже давно стала для нас рабочим днем. Около одиннадцати утра мне позвонила жена и напомнила, что сегодня мы приглашены к дяде Пане.
– Уже два раза переносили, больше неудобно, – подчеркнула она.
Это сообщение, честно говоря, меня не обрадовало. Ни к какому такому дяде Пане мне идти, естественно, не хотелось. Какой такой может быть в эти дни дядя Паня?
Тем не менее я для простоты ответил:
– Ладно, – и бросил трубку.
Мы, как всегда, были в легкой запарке. Помнится, мне как раз в эту минуту принесли очередную сводку. Если можно было верить данным, собранным за последнее время, то и длительность, и частота «явлений» несколько увеличилась. Теперь они происходили, как правило, раз в неделю, продолжаясь не меньше часа и группируясь по-прежнему исключительно в старой части города. На рабочих картах она была обозначена как исторический центр. Также, видимо, возросла и интенсивность событий. Все опрашиваемые давали примерно одну и ту же картину. Начиналось это обычно глубокой ночью. Человек просыпался и неожиданно осознавал, что находится в какой-то ужасной клетке. Или, например, в камере с толстыми бетонными стенами. Или – глубоко под землей, откуда уже не слышны никакие звуки. Здесь обычно существовали некоторые мелкие разночтения. Однако участники всех «явлений» были согласны между собой в одном: ощущение тесноты и одновременно – безудержный панический страх. Будто медленно, но неотвратимо приближается к ним нечто чудовищное. Шагов, правда, не слышно, только иногда – прерывистые звериные хрипы дыхания. Мало кому удавалось преодолеть этот страх. Люди опрометью выбегали на улицу, падали, расшибались, ломали себе руки и ноги. Было пять или шесть достоверных случаев, когда захваченные «явлением» просто выбрасывались из окон. Четыре смерти, двух человек каким-то образом удалось все же вытащить. В общем – кошмары, паника, массовый приступ клаустрофобии.
Правда, значимость этих данных была пока относительно невелика. Их еще было надо сопоставить друг с другом, свести в таблицы, тщательно проанализировать. Всю первую половину дня я занимался именно этим, и всю первую половину дня я настойчиво, но крайне осторожно наблюдал за Лелей Морошиной. Неужели она и в самом деле продает нас военным? Я пока не осмелился передать кому-либо слова Лени Курица. И кстати, вовсе не потому, что я ему, например, не верил. Я как раз ему верил, но у меня все-таки были какие-то мучительные сомнения. Так, в конце концов, можно обвинить любого. Нет ничего проще, чем так вот, на словах, взять и обвинить человека. И что потом? Как потом с этим человеком общаться? Я, во всяком случае, общаться с таким человеком уже бы не смог. Вот почему я не спешил обнародовать это ужасное обвинение. Да и Леля Морошина вела себя в этот день очень естественно: ничуть не смущалась, когда я на нее украдкой поглядывал, улыбалась, перекладывала с места на место бумаги, склонив голову, что-то вносила, наверное, в отчетную документацию. Она нисколько не походила на тайного осведомителя. В общем, здесь я пока еще ничего не решил. Только мучился, пытаясь сосредоточиться на своей работе. И чем больше я мучился, тем, разумеется, хуже все это двигалось. Так я и промучился до обеда, практически ничего не сделав.
А в обед меня неожиданно вызвали в отдел кадров, и Степан Степаныч, наш кадровик, сразу же повел себя как-то странно. Руки он мне не подал, хотя до этого здоровался регулярно, как на пружинах вскочил, одернул свой знаменитый по всему департаменту зеленый сталинский френч, посмотрел на меня, будто видел впервые в жизни, и казенным голосом проскрипел, что вот тут с тобой хотят побеседовать… м-м-м… два товарища…
– Какие еще товарищи? – спросил я несколько удивленно.
Однако Степан Степаныч только значительно пожевал губами:
– Отнесись, пожалуйста… м-м-м… серьезно. Что это ты как на пляже?.. М-м-м… Застегнись!
Он явно имел в виду мой пиджак.
Под его неодобрительным взглядом я неловко застегнул пуговицы. Лишь после этого кадровик открыл вторую, так называемую секретную дверь, обитую листовым железом, и я очутился в крохотной, на три стула, сильно прокуренной комнатке, где у зарешеченного, будто в тюрьме, окна, к тому же еще наполовину зашторенного, заполняя собой почти все пространство, сидели два человека. Оба были в военных кителях, но без фуражек, которые козырьками друг к другу покоились сейчас на сейфе, оба – раскрасневшиеся от жары, лоснящиеся, точно покрытые жидким лаком, оба – грузные и, вероятно, сделанные по одной заготовке: генерал-лейтенант Харлампиев и генерал-лейтенант Блинов.
Ничего подобного я, разумеется, не ожидал.
Зато они, казалось, только на меня и рассчитывали.
– Николай Александрович?.. – Генерал-лейтенант Харлампиев даже слегка приподнялся. – Извините, что так оторвали вас, без предупреждения, буквально на несколько слов. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, пожалуйста!.. – Он мотнул тяжеленными, низкими, как у бульдога, щеками. – Все в порядке, Гриднюк, можешь идти!
Кадровик глухо щелкнул начищенными ботинками и развернулся.
– Так присаживайтесь, Николай Александрович… Простите, запамятовал, вы, кажется, курите?
Тут же появилась откуда-то пачка импортных сигарет, а из другого «откуда-то» – широкая хрустальная пепельница. Судя по количеству скопившихся там окурков, они находились здесь уже довольно давно.
Все это мне чрезвычайно не нравилось.
– Слушаю вас, Игнат Трофимович, – сказал я с некоторой запинкой. Я не сразу вспомнил, как генерала Харлампиева по имени-отчеству. Затем сел напротив и положил ногу на ногу. Сигареты и пепельницу я сразу же отодвинул подальше. Я таким образом хотел продемонстрировать свою независимость. – Пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы.
Генерал Харлампиев несколько принужденно засмеялся:
– Только не подумайте, Николай Александрович, что мы хотим получить от вас какие-нибудь неофициальные сведения. Если бы нам вдруг потребовались данные о работе вашей Комиссии, мы тогда, как и положено, обратились бы к товарищу Половинину. Впрочем, я не думаю, что Комиссия скрывает от нас что-нибудь существенное. А с товарищем Половининым у нас хорошие, я бы даже сказал, дружеские отношения. В конце концов, мы все делаем общее дело…
Он как-то неуверенно посмотрел на генерала Блинова, и генерал Блинов, привалившийся к сейфу, в свою очередь благожелательно посмеялся:
– Ну разумеется, разумеется…
– Что конкретно вы от меня хотите? – спросил я.
Некоторое время генерал Харлампиев, убрав улыбку, задумчиво взирал на меня, а потом откинулся так, что лампа, свисающая с потолка, очутилась у него над затылком. Она, оказывается, была зажжена, и красноватый блеск скользнул по крепкой генеральской прическе. Я и не замечал до сих пор, что генерал Харлампиев у нас – рыжий.
– Всего два вопроса, – сказал он, помедлив крохотную секунду. – Вопрос первый. Не считаете ли вы, Николай Александрович, что ситуация в городе уже стала критической? Я не буду вдаваться в подробности, вы, вероятно, знаете их не хуже меня и поэтому, наверное, согласитесь, что мы неуклонно движемся к катастрофе. Власть фактически парализована, городское хозяйство, опять-таки не мне вам объяснять, просто разваливается. Никакие меры, к сожалению, не дают результатов, никакие решения, пусть даже разумные, не выполняются. В городе нет людей, которые могли бы навести элементарный порядок… Как вы сами считаете?
– Ну, предположим, – уклончиво сказал я.
Оба они почему-то обменялись удовлетворенными взглядами. А генерал Харлампиев от радости даже негромко крякнул. Не знаю уж, что там его так обрадовало. И, как в бане, растер рукой мощную багровую шею.
– Вопрос второй. Кто прежде всего пострадает при этом хаосе? Отвечаю: при хаосе прежде всего пострадает гражданское население. Старики, дети, женщины. Вот вы, Николай Александрович, человек семейный. Вы должны понимать, чем это грозит вашим близким.
– Я, кажется, понимаю, – медленно сказал я.
– Только учтите, – вдруг резким высоким голосом добавил генерал-лейтенант Блинов. – Вас никто не запугивает, молодой человек. Мы просто обсуждаем некоторые возможные следствия нынешней ситуации. Они нас не радуют, разумеется, но такова реальность.
Они опять обменялись удовлетворенными взглядами.
– Я понимаю, – так же медленно повторил я и встал.
Генерал Харлампиев тоже встал.
– Ну, я вижу, Николай Александрович, что с вами вполне можно договориться. Не то что с некоторыми, извините, из ваших коллег. Значит, мы с вами будем – работать, работать, надеюсь, очень продуктивно работать… Если что, прямо ко мне, без стеснения, прошу, по любому вопросу…
И обитая листовым светлым железом дверь затворилась.
Вот какая заковыристая получилась у нас беседа. Кстати, позже беседа эта имела совершенно неожиданные последствия. Но предвидеть тогда все последствия этой беседы я был, конечно, не в состоянии и лишь нервничал, сбитый с толку, мучился и терялся в догадках. Леля Морошина, разумеется, тут же вылетела у меня из головы. В этом настроении я просто не способен был думать ни о какой Леле Морошиной. Честно говоря, я в тот момент вообще ни о чем не мог думать и поэтому с напрасным усердием почти три часа таращился на проклятую сводку. Мелкие строчки машинописи рябили у меня перед глазами. Цифры, факты и даты, как юркие насекомые, перебегали с места на место. Отдельные изолированные слова и короткие фразы я кое-как еще понимал, но весь текст при малейшей попытке хоть как-то его осмыслить мгновенно разваливался, перемешивался всеми своими частями, терял грамматику и, лишаясь какого-либо внятного содержания, превращался в пугающе бессвязную кашу. Казалось, что никакого содержания там не было даже изначально. В конце концов я запер документы в ящик стола и поехал домой. Я часто думал потом, а что было бы, если бы я тогда домой не поехал, если бы вовремя сообразил, что не домой мне сегодня надо, а в противоположную сторону, если бы жена позвонила мне еще раз и напомнила бы об этом. Иногда мне казалось, что это была сама судьба. Слишком уж многое потом из этого проистекало.
В общем, так или иначе, но поехал я все-таки в сторону дома, и конечно, сперва очень долго и муторно ждал на остановке автобуса, и, конечно, автобус пришел набитый, как банка с кильками, и, конечно, я все же каким-то образом сумел в него втиснулся. Здесь, вероятно, трудно было бы установить какую-либо последовательность действий: просто все вдруг вскипело, как убегающее молоко, ринулось через край, бешено забурлило, образовалась какая-то стремительно прорастающая внутрь воронка, – я опомниться не успел, как оказался чуть ли не в середине салона, и причем не просто в самой его слипшейся сердцевине, а еще и отторгнутый от ближайшего выхода плотно сомкнутыми телами. Страшно было даже подумать, что уже через пять остановок надо будет протискиваться сквозь них наружу. С того места, где я находился, это выглядело делом абсолютно немыслимым. И конечно, имея целых пять остановок в запасе, я ни о чем таком думать не стал – только весь изогнулся, чтоб мне не перерезало поясницу чем-то ребристым, кое-как сдвинул ногу, на которую упорно пытался наступить сосед слева, судорожно вцепился свободной рукой в верхний поручень и застыл в этой позе, поскольку ничего другого не оставалось. Разумеется, никаких мыслей у меня после этого уже не было. Автобус явно просел; прохрипело что-то не очень разборчивое из пластмассового динамика, с неприятным металлическим взвизгиванием сошлись двери, фыркнул мотор, и людское варево мерно заколыхалось.
И сейчас же высокий женский голос произнес с паническим ужасом:
– Что вы на меня дышите? Дышите, пожалуйста, куда-нибудь в сторону!.. – А грубоватый мужской бас тут же ответил ей: – Я на вас вовсе и не дышу, гражданочка! Вам показалось!.. – Как это не дышите, что ж я, по-вашему, совсем не чувствую?! – Бросьте, гражданочка, здесь на вас дышат еще пятьсот человек!.. – Но они же дышат как люди – в обратную сторону!.. – Успокойтесь, гражданочка, ну не надо из-за всякого пустяка так нервничать!.. – Я не нервничаю, мужчина, я вами вполне обоснованно возмущаюсь!.. – Послушайте, дама, хватит устраивать здесь сцены!.. – А вы чего вмешиваетесь?! – Я, дама, просто хочу ехать спокойно… – Ну и едьте себе! Отвернитесь вон в ту сторону!.. – Вас же слышно!.. – Я говорю: а может быть, он – заразный?.. – Я – заразный?! – Конечно, вон у вас – прыщики по всему подбородку!.. – Это кожа такая… – Ну да, у венерических всегда кожа!.. – Что? – А то!.. – Да сама ты, наверное, только что – из психбольницы!.. – Хам!.. – Свихнутая!.. – Нет, гражданин, я сейчас вызову милиционера!.. – Вызывай кого хочешь, тебя же в отделение и потащат!.. – Тише, граждане!.. – С-сука!.. – Водитель, водитель, остановите!!! – Держите ее!.. – Да успокойтесь вы наконец, ради бога!..
Впрочем, минут через пять все это рассосалось как-то само собой. Нервный запал иссяк, и обстановка в салоне несколько нормализовалась. Воцарилась обычная отчужденность людей, вынужденных какое-то время терпеть друг друга. Все, не исключая меня, тупо смотрели в пространство. Воздух был влажен. Автобус, завывая мотором, трудолюбиво полз по проспекту. И тут, почти у самого своего уха, я вдруг услышал шепоток напряженного разговора.
Говорили, видимо, двое, почти до горлового сипения понижая голос, и, если бы не чудовищная теснота, придавливающая их ко мне, расслышать что-либо было бы практически невозможно.
– За три тысячи? Знаешь, Женя, мне что-то не верится… – Точно-точно, Серега же Навокаев тогда уехал… – Пока еще ничего не известно насчет твоего Сереги… – Почему неизвестно? Он уже и приветы передавал мне оттуда… – Как передавал? – Что? – Я спрашиваю: как приветы передавал, по телефону?.. – Ты что, чокнулся? Кто же будет говорить об этом по телефону? Передал на словах, через этого… ну как его… ты его помнишь… ну – через Вадика… – То есть после отскоча у тебя никаких контактов с ним не было?.. – Я не знаю, Виталий, на что это ты намекаешь… – Слушай, Женя, вот ты – человек вроде бы умный и даже грамотный. Ну, ты посчитай сам, в конце концов: переход, фальшивые документы, дорога, натурализация. Ты хоть знаешь, сколько там стоит вид на жительство? И все это за три тысячи?.. – Серега же Навокаев, говорю тебе, проскочил!.. – Опомнись! Гниет твой Серега где-нибудь на городской свалке!.. – Так ты думаешь?.. – Боже мой, какие же вы еще полные индюки! Это – прожив тридцать лет при советской власти! Вас ведь можно ощипывать для супа прямо живыми!.. – Знаешь, Виталий, я, видимо, все равно поеду. Ты, может, и прав, но там у меня будут хоть какие-то шансы. А что тут? Ждать, пока призовут очередного «железного» человека? Призовут, разумеется, и он уж, конечно, наведет тут полный порядок. Ты вот слышал, наверное, что начинается очередная эпидемия?.. – Ладно, твое дело, но хотя бы купи себе пистолет, что ли. – Это еще зачем? – Ну, по крайней мере, тоже аргумент какой-никакой будет… – Нет, Виталик, оружия я с собой не возьму. Не могу убивать, и все равно ничего не получится… – А зароют на свалке?.. – Ну, значит, не повезло, такая у меня судьба… – Женя, прости, но какое-то это все же ребячество!.. – Да, наверное. Но ведь здесь уже совсем плохо. Не живешь, а будто проваливаешься куда-то в навозную жижу… – Ну, это, знаешь, как подойти к жизни…
Разговор этот меня сильно заинтересовал. Речь, по-видимому, шла о некой фирме «Гермес», вот уже скоро год подпольно работающей в нашем городе. Деятельность ее была совершенно примитивна и однозначна. Клиенту предлагались виза, работа и последующая натурализация в одной из западных стран. Клиент выплачивал довольно приличный аванс и после этого, точно призрак, исчезал навсегда. Ни живым, ни мертвым его больше никто не видел. Мне об этом рассказывал Гена Плужников, который занимался данной проблемой уже несколько месяцев. Он, наверное, год жизни отдал бы за подобную информацию. Я, как крыса в капкане, отчаянно завертел головой. Однако в салоне, набитом сверх всякой меры, было просто не провернуться. Тем более что именно в эту минуту автобус ужасно просел, накренившись в очередном повороте, и тяжелая людская масса, сместившись справа налево, распластала меня по ребрам, вывернутым локтям и портфелям. Одновременно начал перестраиваться клин пассажиров на выход и меня развернуло, в итоге совершенно отжав от прежнего места. Только здесь я внезапно сообразил, что забыл о сегодняшнем приглашении. Куда я еду? Мне ведь действительно нужно в противоположную сторону. Ведь жена будет ждать меня на углу Владимирского и Колокольной улицы. Как помешанный, я начал протискиваться к задней двери. Те же локти, ребра, портфели пропускали меня точно через упорную мясорубку. И когда я, преодолев, казалось бы, невозможное, кое-как протолкался, протиснулся и все-таки вывалился на улицу, вид у меня, наверное, был как у базарного клоуна: весь кошмарно потный, взъерошенный, растрепанный, покрасневший, с перекрученными рукавами и жеваной, чуть ли не мокрой рубашкой, с перекрученными же, обвитыми вокруг ног брюками. Мне потребовалось минут пять, чтобы вернуть себе человеческий облик. Да и то я в этом был не слишком уверен.
В общем, транспорта в обратную сторону я прождал еще, наверное, минут двадцать, а затем где-то столько же, если, конечно, не больше, трясся в трамвае, набитом ничуть не меньше автобуса. На место встречи я опоздал, таким образом, примерно на полчаса, и эти полчаса опоздания, вероятно, спасли мне жизнь.
Правда, поначалу это вовсе не было очевидно, потому что жена сразу же набросилась на меня просто как разъяренная фурия. Оказывается, за последние месяцы я стал совершенно другим человеком: отмахиваюсь ото всего, обо всем и всегда забываю, всюду опаздываю, никогда не дослушаю толком, если меня о чем-то попросят. Мы на сколько с тобой договаривались сегодня? Нет, ты все-таки посмотри, ты посмотри на часы! Это самое, между прочим, и называется неуважением. Между прочим, и это уже далеко не первый подобный случай. Да, конечно, работа, но есть у женатого человека и некоторые другие обязанности. И к тому же еще неизвестно, какие из этих обязанностей более важные. Лично она полагает, что семейные обязанности должны быть на первом месте. А если кто-нибудь с ней не согласен, значит «кто-нибудь» этот просто человек не семейный. И ему незачем таковым человеком прикидываться. Он тогда посторонний, он что-то вроде случайно забредшего гостя.
То есть это было целое обвинительное заключение. Близнецы с упоением и восторгом слушали всю эту тираду: оба в разводах мороженого, вихрастые, трогательно конопатые, у них даже глаза немного светились от этого редкостного представления. Вдруг, как по команде, они вытянули вперед правые руки и, показывая на меня, радостно сообщили неизвестно кому:
– Папу ругают…
Тогда жена осеклась, взяла меня под руку и, заставив идти рядом с собой шаг в шаг, уже совсем другим тоном сказала:
– Может быть, нам и в самом деле уехать на время к маме? Она сегодня снова звонила: пожалуйста, сколько хотите, хоть на неделю, хоть до конца лета…
– Ну конечно! Хотя бы на месяц! – обрадовано воскликнул я. – За месяц, уж будь уверена, здесь все наладится. – Я вдруг вспомнил странное предупреждение генерала Харлампиева насчет моих близких. – Разумеется, поезжайте, билеты до Ярославля я вам обеспечу…
– Но ведь ты понимаешь, что я там одна не смогу, – сказала жена.
Я как будто с размаху ударился лбом о кирпичную стену:
– Елки-палки! Давай больше не будем об этом спорить!..
– А ты знаешь, как там сейчас относятся к приезжим из Петербурга? Ты, пожалуйста, не забывай, у нас, в конце концов, эпидемия…
– Боже мой!.. Так ведь нет пока никакой эпидемии!..
– Вот, – сказала жена. – Именно ты им это и сообщишь. Ты в администрации города, ты можешь сделать это вполне компетентно…
– Давай без иронии!
– А я, между прочим, серьезно, – сказала жена. Она упрямо сдвинула брови, что свидетельствовало о крайнем ее раздражении. – В общем, так: либо мы все вместе едем, либо не едет никто, и значит, мы остаемся. Ничего другого ты от меня не услышишь!..
Близнецы, почуяв возможность вмешаться, немедленно запищали:
– Ну поехали, папа!.. Ну – ладно!.. Ну что ты… Ну давай поедем!..
Умоляющие их голоса зазвенели так, что прохожие начали на нас оборачиваться.
– Помолчите! – коротко приказал я.
Близнецы, конечно, тут же обиделись и одновременно надули щеки. И уж совершенно неожиданно для меня еще сильнее обиделась, по-видимому за них, жена. Она сверкнула глазами и демонстративно вытащила руку из-под моего локтя.
Со стороны мы, наверное, выглядели довольно забавно: все четверо – хмурые, старательно, чтобы не встретиться взглядом, отворачивающиеся друг от друга, с преувеличенным вниманием рассматривающие раскаленную улицу и к тому же вразнобой шаркающие по асфальту ногами. Сразу чувствовалось, что в этой семье крупно повздорили. И я тоже, наверное, заразился этим всеобщим унынием. Также шаркал ногами и также старательно отворачивался и от жены, и от близнецов. И поэтому, вероятно, утратил ту напряженную бдительность, которую вроде бы приобрел за последнее время. И в результате не сразу заметил протянувшуюся за нами четкую цепочку следов. А когда вдруг заметил, то до меня далеко не сразу дошло. Я, наверное, раза четыре оглядывался, и только потом меня точно ударило.
Я схватил близнецов за шиворот и как вкопанный остановился.
– Ну? – сказала жена, поворачиваясь и окидывая меня недовольным взглядом. – Что случилось? Ты решил вообще не идти с нами? Ради бога! Только тогда и не следовало затевать эту историю!.. – Впрочем, она тоже что-то почувствовала, вероятно по моему лицу, мгновенно насторожилась и произнесла быстрым шепотом. – Поворачиваем назад?
– Нет, – сказал я, медленно, будто в трансе, оглядывая ближайшие к нам дома. – Подождите… Пока не надо!.. Молчите!.. Держи ребят!..
Я по-прежнему не понимал, откуда исходит опасность, и лишь слабо ноющим сердцем чувствовал, что она где-то близко. Где-то, может быть, всего в нескольких метрах от нас. Еще шаг, другой, третий – и мы провалимся в огненную преисподнюю.
Тем не менее ничего подозрительного я вокруг нас не видел. Обе стороны улицы плавали в сизой, чуть колышущейся, сухой, легкой дымке. Из-за этого они казались чуть-чуть нереальными. И дрожащая нереальность эта еще усиливалась отраженным от многочисленных окон, блистающим, беспощадным солнцем. Впереди выдавался немного среди других дом дяди Пани. Было несколько странно, что он вот так выдается немного из общего аккуратного ряда. Я заметил смешную игрушечную округленность его очертаний: выпуклость серых стен, некоторую приподнятость крыши. Видны были даже ее ржавые, неровные жестяные ребра и одновременно – проплешины то ли дыр, то ли давно высохшего лишайника. Словно дом был сделан не из кирпича, а из толстой резины, и его как раз в этот момент надували изнутри горячим воздухом.
– Боже мой! – неожиданно сказала жена.
И вдруг присела – как встревоженная наседка, обеими руками обхватив близнецов.
Вероятно, у нее интуиция сработала раньше, чем у меня. Но буквально уже в следующую секунду я тоже торопливо попятился, тоже слегка присел, впрочем выворачивая назад голову, и тоже, видимо, как наседка, обхватил всех их троих, пытаясь прикрыть собой.
Дом дяди Пани, оказывается, не просто выдавался среди других. Он стоял на холме из асфальта, который непрерывно увеличивался в размерах. Словно его выдавливало какой-то магматической силой. Брызгала коричневая земля, и корка асфальта трескалась, как пересохшее тесто.
Я увидел, как дрогнул поднявшийся метра на три фундамент и как страшно заколебались стены, отслаивающие целые пласты штукатурки.
К счастью, мы находились достаточно далеко от этого извержения. Крыша дома вдруг лопнула, ощерившись по краям разодранной арматурой. Дом, будто тюльпан, внезапно раскрылся четырьмя каменными лепестками. Как в сумасшедшем сне, показались пролеты лестниц, комнаты, глухие изогнутые коридоры. Как ни странно, кое-где в доме было зачем-то зажжено электричество. Впрочем, оно тут же бесшумно погасло, точно его никогда и не было.
Желтоватая тяжелая пыль поднялась над обломками.
– Ох!.. – сказала жена и крепко-крепко зажмурилась.
Ударил горячий смерч. Стремглав пронеслась по воздуху развернутая газета. Мостовая под нами медленно колыхнулась. Но даже сквозь душную пыль, мгновенно забившуюся под веки, я вдруг заметил, как жадно и радостно, вытянув цыплячьи шеи, смотрят на это все привставшие с корточек восторженные близнецы…
Вероятно, я был одним из первых, кто обнаружил «прорыв истории». Правда, Леня Куриц, всегда стремившийся быть в курсе всего, несколько поздней утверждал, будто самые ранние его признаки были зарегистрированы еще в начале июня и что аналогичные материалы у него в картотеке имеются. В частности, именно где-то в первых числах июня на Садовой улице, недалеко от пересечения ее с Невским проспектом, якобы видели человека в странной парчовой малиновой шубе, отороченной мехом, и такой же парчовой малиновой шапочке, напоминающей тюбетейку. Говорили, что этого человека якобы задержала милиция, но в ближайшем к месту происшествия отделении, которое находилось в переулке Крылова, о подобном инциденте, как выяснилось, никто даже не слышал. Словно человек прибыл из ниоткуда, постоял минут десять, а потом растворился в воздухе. К сожалению, больше о нем ничего не известно. Однако примерно в это же время, также на Садовой улице, но теперь уже совсем в другой ее стороне, из района Коломны, где протянули арки приземистые Торговые ряды позапрошлого века, ныне, кстати, также используемые в основном под склады и магазины, начали поступать непрерывные жалобы от жителей близлежащих домов, что буквально каждую ночь там собираются какие-то весьма подозрительные компании – безобразно горланят, дерутся, по-видимому упиваясь до посинения, а потом, тоже с криками и матерщиной, вываливаются на набережную Канала. Торговые ряды на Садовой – это, между прочим, в моем районе. Дом, где я проживаю, как раз напротив этого довольно-таки уродливого строения. Правда, я сам никаких подозрительных компаний там никогда не видел, что, впрочем, при моей вечной загруженности вполне естественно. В общем, после целого ряда настойчивых письменных жалоб, после телефонных звонков и личных заявлений граждан с просьбами разобраться, после нескольких обращений к депутатам местного муниципального образования на Садовую улицу был в конце концов послан усиленный милицейский наряд, который действительно обнаружил несколько взломанных (по-видимому, уже давно) складских помещений. Петли мощных замков на них были аккуратно вывинчены, сигнализация не работала, что, кстати, прибывших милиционеров нисколько не удивило, однако тусклые лампочки внутри помещений, как это ни странно, горели, а контейнеры, ящики и тюки были перекомпонованы так, чтобы освободилось посередине некоторое пространство. Никаких хулиганствующих компаний там, естественно, не обнаружили, но в одном из таких помещений, на первый взгляд наиболее посещаемом и обжитом, под тяжелым и, видимо, дорогим столом из мореного дуба как ни в чем не бывало посапывал некий затюрханный мужичонка. Одет он был в какое-то немыслимое тряпье, замусоленное, все рваное, удерживаемое от распада многочисленными веревочками, и, разбуженный, оказался в высшей степени невменяемым: то ли был пьян, то ли, как решили милиционеры, сильно придуривался. Мужичонка изумленно таращился на окруживших его людей в форме и на все вопросы ответствовал только «дык…» и «тово-етово…». Толку от него добиться не удалось. Никаких документов при нем также обнаружено не было. В результате мужичонку отправили в соответствующую больницу, а оттуда дня через три выписали по неизвестному адресу. В дальнейшем следы его, по-видимому, затерялись.
Некоторые истории воспринимались просто на грани абсурда. Например, одно время доходили до нашей Комиссии очень упорные слухи, что на папертях нескольких городских церквей, переживающих в последние месяцы внезапный наплыв верующих, неизвестно откуда вдруг появилось невообразимое количество нищих, изъясняющихся вроде по-русски, но вместе с тем и с каким-то странным акцентом, чрезвычайно убогих и довольствующихся весьма умеренным подаянием. Поговаривали, что это наплыв беженцев с Украины. Хотя что там, на Украине, своих церквей не хватает? Уж чего-чего, а церквей на Украине достаточно. К сожалению, эти невнятные слухи так и остались слухами. Ими, кажется, не занимался всерьез даже неутомимый Леня Куриц. Видимо, и для Лени Курица существовали какие-то человеческие пределы, и в те сумасшедшие дни он, наверное, просто не мог разорваться на части.
Кстати, тогда же было отмечено и появление первых «мумий». Самые ранние сведения о них начали поступать к нам также в первых числах июня. Возникали они с каким-то поразительным, просто удручающим однообразием и поэтому, вероятно, также не вызвали у нас особого интереса. Выглядело это примерно следующим образом. Гражданин Поливанов Н. М., сорока восьми лет, русский, коренной петербуржец, разведенный, имеющий ребенка от первого брака, по специальности – инженер, найден мертвым в своей квартире (улица Разъезжая, 26) – с почерневшим лицом и коричневым, высохшим, точно дерево, телом. Вероятное пребывание в таком состоянии – несколько суток. Признаков насильственной смерти нет. Диагноз неясен… Гражданин Потякин С. Б., девятнадцати лет, русский, коренной петербуржец, не женат, детей не имеет, слесарь-сборщик Четвертого инструментального предприятия, найден в своей квартире (улица Подольская, 21) – с почерневшим лицом и коричневым, высохшим, точно дерево, телом. Обнаружена легкая алкогольная интоксикация. Пребывание в таком состоянии – не менее двух дней. Признаков насильственной смерти нет. Диагноз неясен… Гражданка Мамонова О. С., тридцати трех лет, русская, петербурженка, замужем, имеет ребенка, управляющая делами треста «Ремчас», найдена мертвой в своей квартире (проспект Огородникова, 13) – с почерневшим лицом и коричневым, высохшим, точно дерево, телом. Пребывание в таком состоянии – около четырех часов. Признаков насильственной смерти нет. Диагноз неясен… И так далее, и тому подобное.
Этот список можно было бы продолжать достаточно долго. Полагаю, что в картотеке у Лени Курица фигурировало не менее двух сотен фамилий. В некоторых случаях мумификация происходила буквально на глазах у окружающих и, что самое интересное, при полном отсутствии какой-либо внешней причины. Начиналось это, как правило, с так называемой быстрой фазы: человек вдруг приходил в неистовое возбуждение, напоминающее истерику, зрачки у него расширялись, речь существенно ускорялась, пальцы рук, будто в треморе, быстро и непроизвольно подергивались. Продолжалось все это обычно секунд двадцать-тридцать и заканчивалось так же внезапно, как и начиналось. То есть сама «фаза тремора» была очень короткой, но за этот практически неуловимый период человек резко преображался. Собственно, это был уже совсем другой человек. Даже внешне он зачастую выглядел как дальний родственник прототипа. Словно кто-то другой вселялся в его прежнюю оболочку, и теперь, преодолевая внутреннее сопротивление, заставлял вести себя самым неожиданным образом. Человек, например, становился приниженным и чрезвычайно робким, непрерывно сутулился, кланялся и за что-то молитвенно благодарил окружающих. Самое странное, что он при этом, как правило, часто-часто крестился и униженно, точно милостыню, выпрашивал хлеб и мелкие деньги. А получив подаяние, пытался с ним немедленно спрятаться. В общем, «опера нищих», как это классифицировалось в наших неофициальных бумагах. Но достаточно часто присутствовала и другая модель поведения. В этом случае «мумия», напротив, становилась чрезвычайно высокомерной, неожиданно проявлялись – заносчивость, грубость и явное пренебрежение к собеседникам. Человек, словно маленький бог, начинал повелевать и командовать, вместе с тем то и дело с каким-то испугом оглядываясь по сторонам. Он словно не понимал, как здесь очутился. Этот образ, конечно гораздо более трудный для локализации, был впоследствии назван «царское облачение». Все свидетельствовало о том, что возникает совершенно новая личность. Финал тем не менее был в обоих случаях одинаковый. Человек вдруг спотыкался на полуслове, вздрагивал, точно уколотый, резко темнел лицом, где высыхала и трескалась, как пергамент, твердая кожа, глаза его заливало белой смертельной мутью, а затем он слабо качался и падал, как кукла, бесчувственно ударяясь о землю. Раздавалось хрипение, и жизнь отлетала, по-видимому, уже навсегда. Никого из захваченных мумификацией реанимировать не удалось.
И наконец, циркулировали совсем уже неправдоподобные слухи. Будто бы существует в тайных пустотах под Исаакиевским собором некий подземный Храм. Необъятные своды его высечены в гранитной скале. Девять дьяконов, слепых от рождения, отправляют там службы. Девять черных гадюк охраняют алтарь, выточенный из нефрита. Раз в году совершается возле него особая Черная Евхаристия, и тогда, приложив ухо к земле, можно слышать удары в громадный каменный колокол. А причащаются там глиной, песком и нефтью. Одежда дьяконов – из корней. Руки их – черны от сырой земли. Этот Храм существует с момента основания города. И суждено ему пребывать во мраке ровно триста лет и еще один день. А затем бесшумно, словно мертвая, распахнется болотная почва, рухнут здания, рассыплются в труху городские коммуникации. И предстанет глазам уцелевших Пещера, заросшая серебряными сталагмитами. И тогда девять дьяконов, помахивая кадилами, выйдут из нее на поверхность. И, подняв к небу бледные, незрячие лица, под гул колокола отправят последнюю службу. А потом навсегда разойдутся в девять концов света, и не будет жизни на этом месте тоже – триста лет и еще один день…
Это был для нас исключительно тяжелый период. Позже его не без едкой иронии окрестили Большим Раздраем. Именно в эти дни и в самом деле начали разваливаться все городские коммуникации. Неожиданно, например, лопались трубы, и целые микрорайоны оставались без водоснабжения. Также внезапно прекращалась подача электроэнергии, и десятки кварталов тогда погружались в средневековые сумерки. В это время опасно было появляться на улицах. Многочисленные утечки газа приводили к взрывам в домах и сильнейшим пожарам. А и то и другое влекло за собой жертвы среди населения. Точно какое-то сумасшествие охватывало самые простые стороны нашей жизни. Вдруг без всяких к тому причин начал заболачиваться громадный пустырь, примыкающий к Сенной площади: сквозь слой мусора проступила вода в пахучих разводах и пробилась осока, над которой тут же поплыли звенящие комариные тучи. Стали обнаруживаться каверны на главных городских магистралях. Этакие чуть-чуть прикрытые сверху асфальтом промоины и пустоты. Провалилось больше десятка машин, опять были жертвы и муторное разбирательство. Разрушались дома, призванные, по всем прогнозам, стоять еще очень долго. Ни с того ни с сего появлялась на них сеточка мелких трещин, они углублялись и разрастались, точно в подсыхающей кашице, дом начинал «дышать», как это называли ремонтники, и вдруг стены, обращенные к улице, ссыпались на мостовую кирпичной крошкой.
В такой обстановке, конечно, было не до первых, смутных еще «прорывов истории». Информация к нам, естественно, поступала, но – в обрывках и до сознания членов Комиссии просто не доходила. Мы физически не могли отслеживать каждую городскую сплетню. А в довершение ко всему именно в эти дни на меня было совершено покушение.
Это произошло в среду, около десяти часов вечера. Я еще, помню, радовался, что наконец-то удастся попасть домой до полуночи. Все предшествующие недели мне это не удавалось. И вот только-только я пересек уже довольно пустынный Вознесенский проспект и по жаркому камню набережной двинулся в сторону дома, как внезапно, ослепляя огненными разводами, вспыхнули впереди фары и навстречу мне, точно зверь из засады, рванулась притаившаяся в тени машина. Кажется, это была довольно старая черная «Волга». Разумеется, я в тот момент не в состоянии был воспринимать никакие подробности. Все это произошло буквально за считаные мгновения. Заревел мотор, тело гладкой, ухоженной страшной машины внезапно приблизилось. Я еще и сообразить ничего по-настоящему не успел, как оно, вильнув влево, вдруг вылетело на тротуар. Блеснули вблизи мрачные, затененные передние стекла, рев дикого двигателя будто кипятком окатил мне сердце, а потом меня, точно яростным взрывом, куда-то отбросило и кирпичная твердь стены больно ударила по лопаткам.
К счастью, в тот раз я еще сравнительно легко отделался. В клинике мне констатировали сильный ушиб спины и некоторое сотрясение мозга. Как ни странно, никаких других повреждений обнаружено не было, и мне даже не предложили, как следовало бы, отлежаться часа три в палате. Ограничились тем, что довезли меня до дома на «скорой помощи». Впрочем, несколько позже, уже спокойно анализируя подробности этого происшествия, я пришел к выводу, что меня, скорее всего, и не намеревались убить. Покушение было обставлено в лучших детективных традициях: затененные стекла машины, зловещие фары, внезапное ее появление. То же самое можно было исполнить гораздо проще. В общем, все указывало на то, что меня пока лишь только предупреждали. И я, кажется, даже догадывался – о чем именно. Дело в том, что уже почти две недели я упорно расследовал исчезновения некоторых людей – тех, которые не оставили после себя никаких следов, – и уже раскопал, на мой взгляд, кое-какие интересные факты. Что, по всей вероятности, не понравилось генералу Харлампиеву. Или, может быть, не понравилось генералу Блинову. Или им обоим, черт бы их побрал вместе с погонами. Сообщил мне об этом, естественно, Леня Куриц. Он был прав, как всегда, и, как всегда, он слегка опоздал. Была у него, к сожалению, такая особенность – всегда немного опаздывать, и вот эта особенность, как мне кажется, и подвела его в решающую минуту.
В тот раз он появился у меня абсолютно не вовремя. Вдруг среди ночи прорезались четыре длиннейших звонка в квартиру. Будто сигналы тревоги, пронзили они комнатную дремоту. А пока я, подброшенный ими, натягивал, как в лихорадке, футболку и шорты, пока шарил ногами по полу, ища тапочки, которые, конечно же, куда-то запропастились, пока шлепал по выключателю и искал молоток, приготовленный именно для такого случая, протрубили в ночной тишине еще четыре таких же длинных звонка. Примечательно то, что близнецы при этом даже не шелохнулись. Зато, конечно, проснулась жена и, путаясь в рукавах халата, выбежала за мной в прихожую.
– Подожди, не открывай, – торопливо сказала она. – Подожди, подожди! Еще неизвестно, кто это там звонится…
Я прекрасно понимал, что она имеет в виду. Каждый вторник мне приносили оперативную сводку по событиям за неделю. Совсем недавно при похожих обстоятельствах был убит Володя Богданов, причем тоже ночью и тоже у себя на квартире. Расследование, разумеется, не привело ни к каким результатам. Некий следователь Гуторин предполагал, что это просто банальное ограбление. Правда, непонятно, что можно было такого награбить у Володи Богданова, и в Комиссии нашей, я в том числе, придерживались иного мнения.
Правда, мы это мнение пока не высказывали.
В общем, я скомандовал легким шепотом:
– Ну-ка, быстро проверь: телефон работает? – А когда жена закивала, подняв трубку и, видимо, услышав зуммер: – Набери милицию и пока держи пальцем последнюю цифру…
Затем я отодвинул засов и повернул ручку замка. Честно говоря, я в эту минуту был готов ко всему. К тому, например, что в квартиру ворвется банда вооруженных грабителей. К тому, что раздастся взрыв или прорычит из лестничной пустоты автоматная очередь. Сердце у меня подпрыгивало от желудка до горла. Однако ни взрыва, ни выстрелов, ни грабителей в результате моего движения не последовало. Просто дверь рвануло, словно ее давно тянули с той стороны, и в прихожую шумно ввалился невероятно растрепанный, взмыленный Леня Куриц. Причем он немедленно, даже не поздоровавшись, оборотился ко мне спиной и так же шумно задвинул засов и набросил металлическую цепочку. Все это – в каком-то лихорадочном возбуждении. Наконец, отскочил, чуть не задавив меня в тесном проеме, и, согнув руку, вздернул кулак известным всем жестом:
– А это вы видели?!
На щеке его кровоточила страшноватая свежая ссадина, а пиджак на спине был разодран, как будто по нему прошлись железными крючьями.
У жены на скулах зажглись красноватые пятна.
– С ума сошел, – с ненавистью сказала она, придерживая полы халата.
И, больше ничего не добавив, исчезла за дверью детской комнаты. Только скрипнули петли – по-моему, тоже что-то неодобрительное. Слава богу, что Леня не обратил на это внимания. Он в это время, причмокивая, зализывал ранку на указательном пальце.
Деловито сообщил мне:
– Ну, сволочи! Стрелять они тоже не научились… Это я – в проходном, помнишь щель, узенькую такую, за булочной? Ну, влез туда, ну – оказывается, уже сплошное железо… Полз на брюхе. Ну, думаю – все, влипну, к чертям собачьим!.. Нет, шалишь! Город они, оказывается, тоже не знают!..
У меня как будто потекли по спине мелкие холодные капельки.
– Говори толком!..
– Я и говорю: дождались все-таки праздничка!.. Нет-нет, ты хотя бы в окно, в окно посмотри!..
Он схватил меня за руку и, будто бульдозер, повлек за собой на кухню. Сдирая засохшую краску, впервые за этот год распахнулись оконные рамы. Я услышал плывущий по улице тяжелый рокот моторов. Метнулись к небу и опустились яркие фары. Выступили из темноты синеватые обморочные тополя на набережной. Две огромных машины, обтянутые по ребрам брезентом, будто ящеры, переползали горбатый каменный мостик.
Номеров с такого расстояния, конечно, было не разобрать.
– Ну и что? Ну подумаешь, грузовики, – сказал я.
Но еще прежде, чем негодующий от такой тупости Леня Куриц успел выпучиться на меня и разразиться гневной тирадой, я и сам вдруг увидел, что один из этих пятнистых грузовиков останавливается и из чрева его выскакивают однообразно пригнувшиеся фигуры. Судя по оружию и комбинезонам, это были солдаты. Они тут же двумя компактными группами побежали куда-то за мостик. На другой его стороне их ждал офицер, деловито поглядывающий на часы.
Мертвенным расплывчатым шаром горел над ним одинокий фонарь.
Дрожь, которая охватывала меня, резко усилилась.
– Что теперь будет? – сдавленно спросила жена, снова появившаяся из комнаты.
Я был не в состоянии ей ответить.
Офицер поднял голову и внимательно посмотрел в нашу сторону.
Мне показалось, что губы его шевельнулись.
– Боже мой!.. Да погасите же свет!.. – отчаянным шепотом выкрикнул Леня Куриц.
2. Зверь мучается
Письмо пришло не по почте, штемпель на нем отсутствовал, в левом верхнем углу не было полагающейся отметки о дезинфекции, однако сам конверт был заклеен очень тщательно, хотя – весь мятый, грязный, словно прошедший через тысячу или более рук. Адрес был написан обычным серым карандашом, причем в одном месте, как можно было судить, карандаш, по-видимому, сломался, там темнела длинная жирная загогулина, похожая на головастика, а дальнейшие буквы выглядели корявее остальных. Осторожно зажав уголок медицинским пинцетом, я немного подержал его над огнем, чтобы хоть как-то обеззаразить, а потом, отрезав махристую кромку, протертую до отдельных ниточек, вытащил изнутри два таких же замызганных, мятых и грязных, пятнистых тетрадных листка, вероятно долгое время валявшихся где-то в мусорной куче.
Близнецы наблюдали за моими действиями с расширенными глазами.
– Кто касался конверта? – строго спросил я.
И они, будто клоуны, ткнули друг в друга пальцами:
– Он!
– Если – «он», значит обоим – мыть руки!
Конверт я, разумеется, сразу же уничтожил, а пинцет и ножницы бросил в ванночку с дезинфицирующим раствором. Объявленной позавчера эпидемии я не слишком боялся. Какая, к черту, может быть эпидемия, если я каждый день контактирую с десятком людей? Однако лишние меры предосторожности все-таки не помешают.
Далее я бережно развернул оба листочка. На одном из них было написано: «Заозерная улица» и в скобках: «Карантин № 4». Затем следовал список из одиннадцати фамилий. На втором же теснились буквально несколько строчек: «Саша, милый, прошу тебя, поторопись! Сделай все, что возможно, я здесь долго не выдержу». Почерк в обоих случаях был одинаковый, в первом же слове, как будто случайно, были подчеркнуты слабыми линиями две буквы, загогулина от сломанного карандаша находилась точно на месте. То есть все условные знаки в тексте присутствовали. Подписи на листочках, естественно, не было. Впрочем, я и без подписи знал, от кого это письмо. Это письмо было от Гриши Лагутина. Он, как и некоторые другие, бесследно исчез примерно неделю назад, и вот именно на такой случай у нас с ним была договоренность о связи.
Значит, «Карантин № 4». Я немного представлял себе Заозерную улицу. Это был очень старый, промышленный, мрачный и совершенно безлюдный район, где по улицам проезжали только грузовые машины: огромные дровяные пространства, складские строения, переезды для транспорта, а по левому краю, насколько я помнил, трехрядная колючая проволока. Там, за бетонным забором, скрывалось, по-видимому, что-то сугубо военное. Особенно если судить по бурым от времени звездам на пропускных воротах. И к тому же я вспомнил (это указывалось в одной из оперативных сводок), что дней десять назад внезапно обрушился мост через Обводный канал. Теперь весь этот район был частично отрезан от города. То-то у соседних мостов вдруг выросли покатые лбы капониров.
Лучшего места для изоляции не придумаешь.
Я протиснулся в ванную, где жена из двух ведер и чайника пыталась мыть хохочущих, восторженных близнецов, и, дождавшись относительного затишья, поинтересовался:
– В подъезде кто-нибудь был, когда вы спускались? Или, может быть, не в подъезде, а, например, рядом с парадной?
– Нет! – ответили близнецы дружным хором, но, секунду спустя, подумав, таким же дружным хором добавили: – Ой, конечно! Заглядывал с улицы какой-то дядька…
– Из нашего дома? – спросил я.
– Не знаю… Наверное…
– Если хочешь, я могу выйти и посмотреть, – неуверенно предложила жена.
Чайник в руках ее выбил отчетливую дробь о кафель. Близнецы тут же умолкли и взволнованно засопели.
На всякий случай я немного послушал радио. Здесь как раз передавали беседу с главным врачом Городского санитарного управления. Главный врач утверждал, что никакой реальной опасности не существует: соответствующий институт уже изготовил необходимый набор вакцин и сывороток, в самое ближайшее время начнутся прививки по учреждениям, вакцинацией будет охвачено практически все население города. А пока не волнуйтесь и тщательно мойте руки перед едой. В общем, кажется, ничего. Я оделся и, поколебавшись мгновение, сунул в карман недавно выданный пистолет. Левый борт пиджака ощутимо перекосило. Не люблю оружия и не представляю, как это вообще можно выстрелить в человека. Но сегодня, к сожалению, пистолет мог мне потребоваться. И поэтому я лишь чуть-чуть одернул пиджак, чтобы со стороны было не так заметно.
Жена тут же, как привидение, выросла на пороге. Она ни о чем не спрашивала – покусывала бледные, почти бескровные губы. Лицо у нее было покрыто укольчиками красноватой сыпи.
Я сказал:
– Мне надо идти. Вернусь, по-видимому, довольно поздно. Может быть, ночью, а может быть, вообще – только завтра утром. Я, конечно, в течение дня постараюсь с тобой связаться. Но если не свяжусь, тоже – ничего страшного. Запомни только одно: двери ни под каким предлогом не открывайте. Никому, ни за что. Надеюсь, ты поняла? Лучше даже не отвечайте. Вообще не подавайте признаков жизни…
Разумеется, это было слишком жестоко. Жена судорожно вздохнула, как будто с усилием проглотив горячие слезы. Скрипнула дверь, и из ванной, как любопытный двухголовый дракончик, высунулись близнецы:
– Ты уходишь?
– Вот только без хныканья, – сразу же сказал я.
– Нет, ты действительно собираешься уходить?
Оба они мигнули и вдруг забавно, не в такт, зашевелили оттопыренными ушами. Веснушки после мытья выглядели еще желтее.
– Нет, в самом деле?
Жена снова сглотнула.
– Немедленно прекратите! – нервно сказал я…
На улице было еще душней, чем в квартире. Парило как в бане, и неприятная теплая сырость сразу же заструилась у меня по лицу. Промакивать ее носовым платком было бессмысленно: стоило вытереться, и через секунду уже на коже вновь проступали щекотливые капли. Единственное, что оставалось, – не обращать внимания. По хлипким доскам и кирпичам я перебрался через громадную лужу, раскинувшуюся перед домом. Одним своим зеркальным крылом она равнялась с Каналом, заросшим осокой и глянцевыми кувшинками, а другим, коричневато поблескивающим торфяным болотным настоем, проникала в смежные улицы и подворотни. Вода захватывала даже часть сада, примыкающего к собору. На подсохших колючих кочках пестрели уродливые цветочные кустики. Говорили, что это какая-то разновидность лютика. Дрожащий зеленоватый туман поднимался над ними, и такой же зеленоватый туман, будто облако, клубился над гранитными парапетами. Крохотные бледные искорки танцевали в воздухе. Все это мне было уже привычно. Я сноровисто балансировал на кирпичах и иногда осторожно оглядывался. Из парадной немедленно вслед за мной, конечно, никто не выскочил, но уже на улице – там, где сохранился нетронутый кусочек асфальта, – прикрывая лицо газетой, действительно прислонялся к стене «какой-то дядька». Впрочем, с моей точки зрения, конечно, не дядька, а вполне молодой и достаточно крепкий парень спортивного вида. Он был в блеклом сером комбинезоне со множеством кармашков и молний и высоких черных ботинках, зашнурованных почти до середины голени. Глупо было с его стороны надевать такие ботинки: если в крепких армейских комбинезонах ходила сейчас почти половина города (самая лучшая в нашей теперешней жизни одежда – комбинезон), то вот эти ботинки, которым не было сноса, можно было достать только по специальному ордеру. А кому дают такой ордер в первую очередь? Загадка для дураков. Я вот, хоть и считаюсь специалистом, такого ордера не имею.
В общем, с этим дядькой все было понятно. Я прошел мимо брошенного грузовика, который увяз в трясине всеми своими колесами, перебрался на расплющенную тележку, которую, видимо, удерживал на поверхности только железный остов, а затем, перепрыгивая с кочки на кочку, которые почавкивали и пружинили, кое-как достиг места, где лужа заканчивалась. Асфальт здесь хоть и сильно потрескался, но уцелел, идти было легко, только ржавая жестяная трава скрипела при каждом шаге. Трава эта появилась сразу же после знаменитой грозы, взбудоражившей город, и с тех пор заполонила собою громадные уличные пространства. Говорили, что произрастает она даже в темных подвалах. Даже в некоторых парадных, где каменные плиты просели, возникали скрипучие ржавые островки этой поросли. Правда, опасности она, по-видимому, не представляла. Были сделаны уже соответствующие анализы и получены весьма успокоительные результаты. Если, разумеется, верить официальным сообщениям мэрии. Только кто в наше время верит официальным сообщениям мэрии? Кстати, парень, читавший газету, остался на месте. Он все так же прислонялся к стене, исчерченной чудовищными каракулями. Следовать за мной по пятам он явно не собирался, но и радоваться в такой ситуации мог только круглый дурак. Скорее всего, их тут была целая группа, и, наверное, где-то в ближайшей парадной уже приготовился следующий наблюдатель. К счастью, маленький переулок, куда я свернул, был совершенно безлюден. Я метнулся под арку и пробежал в захламленный, будто помойка, осклизлый внутренний дворик. Заднюю часть его перегораживал высокий забор. Выглядел он неприступно, но гвозди из двух крайних досок там были вынуты. Собственно, это я их и вынул, не поленившись, на прошлой неделе. Очень уж на меня подействовал тогда пример Лени Курица. А теперь я быстро присел и боком-боком протиснулся в узкую щель. По другую сторону ее тоже находился внутренний дворик, тоже – тесный и заваленный до третьего этажа грудами кровельного железа, на первый взгляд, абсолютно и безнадежно непроходимый, но я знал, что под этим железом есть нечто вроде извилистого крысиного лаза, я же его и расчистил опять-таки на прошлой неделе – обдирая бока, и в самом деле, как крыса, проехал животом по булыжнику, рванул лист дряблой фанеры, которой сей лаз был прикрыт, извернулся, наткнулся на что-то острое, совсем по-крысиному пискнул и весь мокрый, в испарине в конце концов выкарабкался наружу.
Вот теперь, вероятно, можно было не торопиться. Вряд ли они обнаружат тот путь, которым я от них скрылся. А если даже и обнаружат, то произойдет это не скоро. Минут двадцать, по крайней мере, у меня в запасе имеется. Отдышавшись немного, я перелез через груду битого кирпича, из которого страшноватыми зубьями высовывались расщепы сломанных балок, осторожно, присматриваясь, во что упираюсь, шаг за шагом спустился с ее длинного покатого бока и, пройдя по досочке, причмокивающей в голубоватой глине, оказался в пределах той самой заброшенной стройплощадки. Картина, открывающаяся отсюда взору, не радовала: многочисленные траншеи и ямы, заполненные неизвестно откуда натекшей известью, причем в одной из таких ям с тяжелым плеском ворочалось что-то живое, и, когда оно ударяло по стенкам, брызги разлетались вокруг на десятки метров. Попасть под такой душ, разумеется, не хотелось бы. Тем более что прямо за ямой, кстати длинной цепочкой соединяющейся с несколькими другими, точно средневековый замок, разграбленный и сожженный дотла, возвышалось уже изъеденное этими брызгами низенькое бетонное здание: сквозь пролеты и клети его светило белесое небо, а вверху поскрипывала благословляющим жестом стрела подъемного крана. Это было то самое загадочное «строение дробь тридцать восемь». И, как всегда при виде его, мне сразу же нехорошо вспомнился мертвый полковник. Потому что ходили слухи, что мумии вовсе не умирают: они вновь оживают и, будто призраки, затем слоняются по своей территории. Кости у них становятся твердыми, словно камень, а суставы скрипят и трутся, причиняя невыносимую боль, и, чтобы эту боль хотя бы на секунду унять, мумии вынуждены омывать суставы человеческой кровью. Чепуха, разумеется. Сплетни, домыслы, очередные легенды. Никакими реальными фактами они не подтверждались. И тем не менее я при каждом шорохе вздрагивал и невольно оглядывался. Неприятен был пыльный, бугристый, безжизненный пустырь стройплощадки, неприятно было белесое, тухлое небо, просвечивающее сквозь «строение дробь тридцать восемь», неприятен был запах известки, который пропитывал воздух, и неприятна была царящая в этом пространстве глухая нечеловеческая пустота. Будто жизнь навсегда покинула это место. Сердце у меня колотилось, и все чудилось, что за мной наблюдает кто-то невидимый. Вот он сейчас неслышно вырастет у меня за спиной и вдруг, бешено захрипев, вопьется кривыми когтями мне в шею. Немного успокоился я лишь тогда, когда обогнул застывший, по-видимому навеки, конус бетономешалки, перепрыгнул через еще одну яму, скопившую на песчаном дне черную жижу, и, одолев арматуру, закрученную у «строения тридцать восемь» немыслимыми узлами, просунулся сквозь нее в будку уличного телефона. Сохранился он здесь, вероятно, каким-то чудом. Вероятно, лишь потому, что в суматохе о нем элементарно забыли. И еще большим чудом представлялось то, что он продолжал работать. Я набрал нужный номер и переждал четыре длинных гудка после соединения. А потом нажал на рычаг и набрал тот же самый номер вторично. Трубку взяли, как и было условлено, тоже – на четвертом гудке. Неприязненный, безразличный ко всему голос сказал:
– Парикмахерская второго объединения слушает…
– Мастера Иванова, пожалуйста, – попросил я.
В ответ мне было сообщено, что никакого мастера Иванова у них не числится. Тогда я сразу же попросил позвать мастера Иннокентьева. Мне опять было сообщено, что и мастера Иннокентьева здесь не имеется.
– Вы не туда попали, – строго указал собеседник.
Трубку, однако, там не повесили. Возникла пауза. Это была так называемая контрольная пауза, необходимая для последней проверки. Я, изнывая от нетерпения, мысленно считал до одиннадцати. Тоже, выдумали, понимаешь, какую-то дурацкую конспирацию. Ну поставили бы, в конце концов, человека, который знает мой голос. Голоса у нас, кажется, еще не научились подделывать? Наконец положенное число секунд, видимо, истекло и все тот же строгий, неприязненный голос сказал, что теперь я могу продиктовать сообщение. Я попробовал заикнуться было, что сегодня мне нужен именно Куриц: Куриц, Куриц – ферштейн? Вы мне его еще в прошлый раз обещали. Однако все мои просьбы были однозначно проигнорированы:
– Диктуйте!
Я смирился и внятно продиктовал только что полученное письмо. А затем повторил, чтобы текст, снятый с голоса, можно было проверить.
– Хорошо. А теперь запоминайте, – сказали в трубке.
И в ближайшие пять минут вдруг выяснилось, что я должен, оказывается, совершить целый ряд подвигов. Во-первых, срочно достать (спасибо, можно и в копии) так называемый Красный план (то есть план санитарных мероприятий на этот месяц); во-вторых, выяснить и составить схему постов в здании горисполкома: их сменяемость, график, оружие (прерогатива отдела охраны); в-третьих, мне следовало подумать, как заблокировать, намертво разумеется, центральный диспетчерский пульт (я, кстати, даже и не подозревал, что такой имеется), и в довершение ко всему – достать запасные ключи от черного хода, в крайнем случае сделать их точные дубликаты.
В общем, задание для группы разведчиков месяца на четыре. Непонятно было, за кого они меня принимают.
– Вы с ума сошли! – сказал я, стискивая перекладину будки. – Я вам, наверное, уже сто раз объяснял, что не буду работать вслепую. Что вы там у себя готовите: переворот, заговор? И в конце концов, я хочу говорить непосредственно с Леонидом Курицем. Или – что? Или, знаете, у меня ощущение, что вы его от меня специально прячете…
Я готов был закричать от бессилия.
– Только не надо эмоций, – холодно ответили мне в трубке. – Вы запомнили? Контакт – через пару дней в это же время. И учтите, Николай Александрович, мы вас вторично предупреждаем.
– Интересно, о чем? – спросил я с ненавистью.
– О том самом, Николай Александрович. О том самом, – сказали в трубке.
И сейчас же череда коротких гудков возвестила, что разговор окончен. От внезапной ярости я чуть было не саданул трубкой по ни в чем не повинному автомату. В самом деле, за кого они меня принимают? С Леней Курицем я не мог поговорить напрямую уже больше недели. Было очень похоже, что нас с ним действительно мягко и аккуратно разводят. Если, конечно, сам Леня Куриц еще пребывает в числе живущих и здравствующих. Потому что случиться за это время могло все что угодно. В том числе, например, и вполне естественный «несчастный случай». Несколько таких якобы несчастных случаев в последние дни уже были. Ах, кто мог бы подумать, что Леонид Иосифович будет так неосторожно переходить через улицу. Мы его столько раз просили быть хоть чуточку повнимательнее. Но ведь вы же знаете, какой Леонид Иосифович был нетерпеливый. Ну и, разумеется, «примите наши самые искренние соболезнования». А меня, кстати, они все-таки держат за полного идиота. Ежу понятно, что готовится вооруженное нападение на горисполком. И они полагают, что я как дурак влезу в эту кровавую кашу…
Я так задумался, что не сразу заметил, как будку накрыло слабое подобие тени. Отпрянул, только почувствовав жаркое дыхание на затылке. Сердце у меня дико прыгнуло и больно-больно ударило изнутри по ребрам. Правда, уже в следующую секунду, которая отозвалась шумом в ушах, я с громадным облегчением догадался, что это вовсе не оживший полковник. Я увидел грязный и страшно изжеванный, но довольно-таки еще добротный костюм, рубашку, выглядывающую из-под разрезов жилета, перекрученный галстук, очки, клинышек козлиной бородки.
– Фу-у… – сказал я, чуть ли не обмякая всем телом. – Фу-у… Как вы меня напугали, профессор. Нельзя же так, я вас уже просил не подкрадываться. Ну, все-все, пустите, мне надо отсюда выбраться…
Однако профессор, раскинувший руки, и не думал отодвигаться.
– Есть принес? – спросил он гортанным голосом, в котором чувствовалось ожидание.
Я в растерянности посмотрел на него, а потом выпрямился и хлопнул себя ладонью по лбу:
– Елки-палки, забыл! Вот черт, забыл, из головы вылетело!.. Простите, профессор, завтра принесу обязательно…
И я сделал попытку отжать его дверью в сторону. Потому что внутри автомата я был точно в клетке.
Профессор легко подался и вдруг обеими ладонями схватился за перекладину.
– Нет, не надо, – сказал он, взирая на меня серыми расширенными зрачками. – Тебе нельзя. Не ходи никуда. Не надо…
– Почему нельзя? – спросил я как можно спокойнее.
– А ты не знаешь?
– Нет.
– И никто не знает, – тоскливо сказал профессор. – Никто-никто, только я один знаю…
Я еще немного потеснил его дверцей.
– Что именно?
– Ну, раз не знаешь, тогда – иди, – вяло сказал профессор.
И, точно потеряв ко мне всяческий интерес, повернулся и легкой тенью скользнул сквозь изогнутую арматуру. Не брякнула и даже не скрипнула ни одна железяка. Длинная расслабленная фигура побрела, загребая пыль туфлями.
Вдруг остановилась неподалеку от известковой траншеи и, наверное что-то услышав, приложила ладони к ушным раковинам.
Профессор, как локатор, медленно повернулся.
Блеснули очки.
– Крысы!.. Крысы уходят из города!.. – крикнул он.
Профессор был где-то рядом, и я знал, что он где-то рядом, но я никак не мог понять, где именно. Прямо над нами горел фонарь, по-птичьи склонивший голову, и сиреневый, ртутный, безжалостный свет его, раздробившись в кустах, испещрял темноту пятнами синюшных отеков. Света вообще было слишком много. Очумелая предательская луна, словно вырезанная из яркого холода, поднялась над домами. Мерзлый блеск ее обдавал горб моста, улицу, трамвайные рельсы. Твердая земля перед нами выглядела серебряной.
– Мы здесь как на ладони, – оглядываясь, шепнула мне Маргарита. – Нас, наверное, видно метров за двести. – Сегодня она была на удивление спокойна и собранна, в джинсах и потрепанном свитерке, который, наверное, не жалко было рвать по кустарникам. Она, видимо, все последние дни спала в одежде. – Надо уходить отсюда, – снова прошептала она. – Уходить, уходить, уходить немедленно. – Все-таки голос у нее немного подрагивал. Я поспешно ощупал ладонями землю вокруг себя и, найдя увесистый камень, запустил им в сторону фонаря. Камень тут же исчез. Наверное, я промахнулся. Но двумя секундами позже фонарь вдруг как взорванный разлетелся на сотни стеклянных осколков. Мелкой сечкой хлестнули они по синеватым листьям. Вероятно, кто-то неподалеку оказался более удачлив, чем я. Маргарита вскрикнула.
– Тише, тише, – сказал я одними губами.
От нее исходило тепло и незнакомый мне свежий цветочный запах. Разумеется, нам следовало убраться отсюда, но теперь, когда света было значительно меньше, стало ясно, что уходить особенно некуда. Сквер был узкий, прореженный, едва прикрытый деревьями, через улицу от него еле теплились лампочки под сводами Торговых рядов, света как такового они почти не давали, но в расплывчатой их желтизне угадывались какие-то быстрые уродливые фигуры. Доносились размытые воздухом крики и металлическое позвякивание. Выполз протяжный, отчетливый стон умирающего человека. Драка там шла, кажется, не на шутку, и мне очень бы не хотелось соваться туда без крайней необходимости. Впрочем, и по другую сторону дела обстояли нисколько не лучше, потому что с другой стороны от нас чернела призрачная решетка Канала. Что там происходило за парапетом, я, конечно, не видел, но казалось, что вместо воды там сейчас течет горячая, липкая сукровица. И кувшинки на ней – как лохматые сгустки крови. Правда, останавливало меня в данный момент не это. Останавливало меня, что как-то странно скрипели на другом берегу разлапистые сухие деревья, просто душу выматывало этим колючим скрипом, и что черным суставчатым пальцем торчала над ними мертвая колокольня, и что возле нее, подсвеченные луной, тоже подпрыгивали, будто танцуя, какие-то уродливые фигуры. Это, вероятно, «мумии» праздновали полнолуние. Вот почему на другую сторону мне также не сильно хотелось. Относительно свободным оставалось для нас только одно направление. Именно то направление, которое выводило нас прямиком к дому. В прошлый раз мы преодолели его вполне благополучно. Да и сейчас там, на первый взгляд, не было ничего подозрительного: скользкие трамвайные провода, рельсы, булыжник, тополя, именно в этой части сохранившие широколиственные шуршащие кроны. Картина совершенно обыденная, привычная и успокаивающая. И однако направиться в эту сторону мне что-то мешало. И я даже не пробовал сейчас разобраться, что, собственно, мне там мешает. Я просто не мог, не хотел, и при одной мысли об этом у меня слабо заныли коленные чашечки. Я лишь совсем немного высунулся в том направлении из кустов, и меня тут же, как под холодным душем, стиснуло тысячами мурашек. Каждый нерв в теле отозвался на это движение протяжной болью. Кстати, и Маргарита, наверное, тоже что-то такое почувствовала – вцепилась мне ногтями в рубашку и зашептала:
– Не надо туда ходить… пожалуйста… не надо, не надо…
Вероятно, она испугалась еще сильнее меня. Впрочем, я уже и сам догадывался, что не надо. Потому что как раз оттуда, из этой обыденности, привычности и покоя, из удушливой тишины, которая простиралась, наверное, до самого края света, очень редко, но зато очень явственно докатывалось глуховатое: хруммм!.. хруммм!.. хруммм!.. – кажется, постепенно усиливаясь и приближаясь к скверу. Это, видимо, лапы Зверя крошили камень.
Обливаясь испариной, я снова нырнул под защиту кустарника. Свет вокруг был – скарлатинозный, как будто при высокой температуре. Напряженно пульсируя, он протекал через оконные рамы. Стекла в них почему-то отсутствовали, и тяжелый, какой-то тоже скарлатинозный ветер надувал прозрачные занавески. Небосвод распахивался беззвездным провалом. Антенны на лунных крышах торчали как жесткие веники. Мерное «хруммм!.. хруммм!.. хруммм!» раздавалось теперь где-то совсем рядом. Я один, словно перст, стоял посередине оглохшей комнаты. На полу белела сброшенная подушка, простыня скрутилась и длинным концом своим свешивалась до паркета. Я совершенно не помнил, как я успел подняться обратно, но я твердо и ясно помнил, что мне необходимо сию же секунду бежать отсюда. Смертью веяло от этого пульсирующего скарлатинозного света, смертью веяло от паркета, от люстры, от стен, где угадывались мертвые фотографии, от обоев, почему-то дышащих нежными паутинками, от обшарпанной, тикающей испорченным краном раковины на кухне. Почему-то воду сегодня на ночь не отключили. Было жарко и до безумия страшно, потому что я знал: в этот момент крысы уходят из города. Они громадными стаями сбиваются сейчас по подвалам, щерятся щеточками усов и выползают на улицы. Трехголовое, в трех черных коронах чудище бредет во главе каждой колонны, и сияющая луна высвечивает бесконечные вздыбленные шерстистые спинки. Великий Исход. Переселение из жизни в пугающую неизвестность. Я не видел, но чувствовал на улицах это грозное шевеление. Все было – последнее, чуть желтоватое, как при смертельной болезни. Тикал будильник. Жена, будто снулая рыба, пребывала в беспамятстве. Рот ее был открыт, а пальцы сплетались на горле. Вероятно, она все же спала как ни в чем не бывало. Или, может быть, уже умерла, но я до сих пор не догадывался об этом. Я попытался тронуть ее, но ладони мои проходили сквозь тело, не встречая сопротивления. Я был как призрак, а призраки всегда нереальны. Пальцы сжимались и безнадежно хватали горячий воздух. Я, вероятно, совсем отсутствовал в этом мире. «Хруммм!.. хруммм!.. хруммм!..» – все так же раздавалось из беззвездного неба. А жена вдруг совершенно равнодушно сказала:
– Не трогай меня, пожалуйста.
– Я тебя и не трогаю, – отпрянув, сказал я.
– Нет, ты трогаешь, я же чувствую, – сказала жена. – Я тебя боюсь, ты – почти уже не человек… – Веки ее поднялись, и под ними была такая же беззвездная чернота. Зрачков не было, и, по-моему, она совсем не дышала.
Я, как призрак, прошел сквозь стену в соседнюю комнату. Близнецы мирно спали, и сонные мордочки их были повернуты друг к другу. Мои руки опять проходили сквозь них безо всяких усилий. Кажется, я кричал, но никто не слышал моего охрипшего голоса. Только близнец справа сказал громко и внятно:
– Папа, послушай, ты нам всем ужасно мешаешь. Мы тебя очень любим, но лучше бы ты сейчас нас оставил…
А близнец, спавший слева, добавил ехидным фальцетом:
– Пока, папа! Бе-е-е!.. – при этом губы у них обоих не шелохнулись.
Тяжелое, мерное «хруммм!.. хруммм!.. хруммм!..» доносилось с улицы. Зверь, крутя из стороны в сторону мордой, брел по городу. Тело его, выше домов, было из красного камня. Скарлатинозный болезненный свет стал еще мучительнее. Я почувствовал, как сдвигаются внутрь себя объемы квартиры. Стены ее колыхались, словно сделанные из цветного тумана.
– Уходи!.. – кричали мне близнецы. – Уходи! Не мешай нам смотреть, что дальше!.. – Оба они по-прежнему спали, дыша как младенцы. Почему-то сама собой вдруг распахнулась наружная дверь. Придвинулась, точно в наплыве, серая ужасная лестница. В конце ее открывалось нечто вроде туннеля. Чернота беззвездного неба, по-видимому, не давала ему сомкнуться. Значит, вот каким образом я оказался в квартире. И между прочим, «явление» уже второй раз происходит именно в этом районе. Наверное, не случайно. Интересно, что сказал бы по этому поводу Леня Куриц?
Впрочем, сейчас мне, конечно, было не до долгих раздумий. Я не глядя нащупал ладонь Маргариты и крепко стиснул ей пальцы:
– По моей команде бежим на ту сторону!.. – Маргарита кивнула. Мне слышно было ее рвущееся дыхание. – Приготовились, – шепотом сказал я. Она снова кивнула. И как раз в эту секунду раздался уже знакомый мне по прошлому разу бензиновый рев моторов, кряканье хриплой сирены, звяк гусениц по булыжнику – серые, в защитных разводах бронетранспортеры со скошенными боками, точно ящерицы, вдруг выскочили к Каналу со всех сторон и, мгновенно осекшись, замерли, нацелившись куда-то в сторону колокольни. Откинулись люки, посыпался изнутри грохот армейских ботинок. Ожерельем мертвенных солнц вспыхнули со всех сторон фары. Резкое, безжалостное сияние пронизывало сквер, казалось, до последней травинки. Скрыться от него было некуда. Мы как будто очутились на ярко освещенной сцене театра. Усиленный мегафоном голос проревел из огненного тумана:
– Выходите!.. По одному!.. Стреляю без предупреждения!..
– Все, – устало сказала Маргарита. – Теперь они нас задержат. – Вероятно, сил у нее не хватало даже на отчаяние.
На несколько мгновений все вокруг замерло. И в этом предсмертном оцепенении, скрепившем воздух, я увидел, как, выхваченная прожекторами, застыла, не добежав до моста, какая-то чуть согнутая фигура. Человек находился именно там, куда только что собирались рвануть мы с Маргаритой. Однако, к счастью, точнее к несчастью, он оказался чуть-чуть проворнее. Я также увидел, как человек этот в растерянности замахал руками. Не знаю уж, собирался ли он повернуть обратно или просто впал в полное беспамятство от страха и неожиданности. Выяснять это, конечно, никто и не собирался. Прохрипели, как задыхающиеся, внахлест сразу две автоматные очереди, две невидимые глазу спицы мгновенно проткнули тело, некоторое время оно еще покачивалось взад-вперед, как будто удерживаемое ими, а потом надломилось, и бесформенный мокрый мешок шлепнулся на трамвайные рельсы. Опять на какие-то две-три секунды все вокруг замерло, и вдруг сразу несколько голосов закричали: «Не стреляйте!.. Не стреляйте!.. Выходим!..» Из трепещущих глянцем кустов начали подниматься люди. Их было гораздо больше, чем можно было предположить. Словно статуи, выпрямились они в сияющем неземном освещении и стояли, тоже как статуи, по пояс в переливчатом лиственном копошении. Маргарита, по-моему, хотела выпрямиться вслед за ними, но я быстро, как только мог, перехватил ее и пригнул к твердой почве. Она, сначала чуть дернувшись, послушно присела. Только странная нерешительная улыбка раздвинула губы. Она как будто извинялась передо мной за что-то.
– Пока не высовывайся! – прошептал я в теплое ухо.
Она мне кивнула – опять нерешительно улыбнувшись. Над головами у нас растянулись тонкие серебряные паутинки. Со всех сторон слышался шорох шагов и треск мелких веточек под ногами. Честно говоря, я и сам не очень-то понимал, на что здесь можно рассчитывать. Отсидеться в кустах нам, разумеется, не удастся. Уже минут через пять начнется прочесывание, и нас немедленно обнаружат. Это еще хуже, чем если бы мы просто сдались вместе со всеми. Они могут нас пристрелить, и разбираться потом в обстоятельствах гибели никто не будет. Глупо в такой ситуации рассчитывать на снисхождение. В лучшем случае нас все равно отправят в один из городских Карантинов. Есть приказ военного коменданта, и его следует исполнять. А Карантин, насколько я понимал, это та же самая смерть. Из Карантина не вырвался еще ни один человек. Вышки, песок, контрольно-следовая полоса шириной чуть ли не в сто метров. По ночам, естественно, патрули со сторожевыми собаками. Карантины курирует лично генерал-лейтенант Харлампиев. Заместитель военного коменданта по правопорядку. Впрочем – что заместитель? По существу, он и есть комендант города. Так что здесь вряд ли можно на что-то надеяться.
Я услышал, как мегафон вдруг панически прохрипел: «Всем стоять на местах!..» – А потом: «Руки за голову!.. Быстро!.. Не двигаться!..» Вероятно, в налаженном механизме облавы образовались какие-то непредвиденные накладки. Вдруг и в самом деле ударили откуда-то два глухих дальних выстрела. Не похоже, что из пистолета, скорее винтовочные. И сейчас же два ярких прожектора неподалеку от нас ахнули разлетевшимися осколками. Эта часть огненного ожерелья ослабла. Я немедленно прошептал Маргарите:
– Только спокойно! Видишь там, сзади, ступеньки к воде? Вот, давай, потихоньку – туда…
И она тут же ответила мне сквозь зубы:
– Проклятый город!..
– Ползи-ползи, – нервно сказал я.
– Слушай, ты же в Комиссии, сделай мне пропуск через кордон.
– Ползи-ползи, я тебя умоляю…
– Ты же можешь, я знаю, я здесь больше не выдержу…
Тем не менее мы, как гусеницы, отползали к чугунной ограде. Спасение было близко, и у меня звонко, как железные ходики, стучало сердце. До спуска к воде оставалось совсем немного. Вот уже назойливо полез в ноздри запах гниющей ряски, вот уже загудели, прицеливаясь, комары, наверное громадной тучей поднявшиеся из осоки, вот я локтями уже почувствовал мокроту тины, выплеснутой почему-то на набережную – интересно, кому это понадобилось таскать сюда тину? – и в этот самый момент, перекрывая даже шум заведенных моторов, Маргарита приподнялась на локтях и пронзительно вскрикнула.
– Что, что такое? – спросил я, снова обхватывая ее за плечи, а она, вся дрожа, тыкала рукой куда-то вперед:
– Там-там-там… внизу, видишь?..
Зараженный ее волнением, я осторожно выглянул из-за парапета: на гранитной площадке, по краю которой дыбился густой слой мокрой ряски, лежал треугольный, изогнутый, жирный, блестящий плавник, похожий на ласт тюленя, чуть подрагивающий светлым кончиком, явно живой, упругий, даже, кажется, с какими-то кожистыми наростами у основания, и еще прежде, чем я успел что-либо сообразить или испугаться по-настоящему, этот плавник, почти свернувшись кольцом, лениво поднялся из тины, а потом вяло и как-то небрежно шлепнул по гранитной плите. Ошметки тины хлестнули в облицовку Канала. Заколыхалась стоячая ряска. Маргарита опять пронзительно вскрикнула.
То есть путь к отступлению был для нас безнадежно отрезан. Я не знаю, что за очередное чудовище облюбовало себе этот участок Канала – толстый слой ряски скрывал его, вероятно, мощное туловище, – но, конечно, соваться туда нечего было и думать. Маргарита, по-моему, даже заплакала, прикрыв рот ладонями. Медленное, тяжелое «хруммм!.. хруммм!.. хруммм!..» раздавалось где-то уже в непосредственной близости. Кажется, кроме меня никто этого не слышал. Честно говоря, я тоже чуть было не заплакал от дурацкой безвыходности ситуации. Наши шансы на спасение таяли с каждой минутой, и взамен их, тоже с каждой минутой, становилась все большей реальностью колючая проволока Карантина. Впрочем, лично меня ни в каком Карантине, конечно, держать не будут. Лично меня, как только выяснится, кто я есть, скорее всего, расстреляют на месте. Только законченный идиот не воспользуется таким превосходным случаем избавиться от члена Комиссии, а насколько я понимал, генерал Харлампиев и генерал Блинов вовсе не были идиотами. То есть лично у меня никаких шансов вообще не было.
– Ну что, будем сдаваться? – с неожиданно злой веселостью осведомилась Маргарита. – Хочешь, я тебя на прощание поцелую? Хотя нет, я, знаешь, сейчас такая вся грязная…
Кстати, и у нее тоже никаких шансов не было. Это свидетель, а свидетелей подобных событий убирают в первую очередь. Свидетели тут, разумеется, никому не требуются. Сквозь чугунную вязь парапета я видел, что освещенный огнями сквер постепенно пустеет. Люди тянулись к фургонам, зияющим распахнутыми задними дверцами, а солдаты, уже выстроившиеся в цепочку, погоняли их окриками и прикладами. Вот другая их группа неторопливо развернулась в шеренгу и пошла сквозь кусты, отбрасывая изломанные невероятные тени: закатанные рукава, автоматы у бедер, лихо сдвинутые набок береты, овчарки, повизгивающие от возбуждения. Им до нас оставалось, наверное, метров сто, не больше. Метров сто – это, видимо, две минуты спокойным таким, прогулочным шагом. И выходит, что жизни у нас с Маргаритой – тоже только на две эти минуты.
Я в отчаянии переломил какую-то жесткую, колючую веточку.
– Ничего не бойся.
– А я ничего не боюсь, – усталым голосом ответила Маргарита. – Ничего не боюсь, вот только почему-то спать очень хочется…
Глаза у нее и в самом деле слипались, и она с изрядным усилием, морщась, вновь поднимала веки. Я ничего не мог для нее сделать. Черный беззвездный город вдруг протянул передо мною притихшие улицы. Я сейчас смотрел на него как будто немного со стороны: фонари, переулки, дворы, подворотни, набережная Канала, сквер, солдаты и два человечка, замершие у гранитных ступенек, и смертельное легкое равнодушие, которое исходит от камня; умирание фонарей, переулков, дворов, подворотен, набережной Канала, двух человечков, замерших у гранитных ступенек, жуткость черного неба, серый холодноватый пепел домов и асфальта. Я даже чуть-чуть подался вперед, чтобы лучше видеть все это. И вдруг кукольная цепь солдат внизу панически заметалась: некоторые побежали, схватившись за голову, к игрушечным грузовичкам, тоже поспешно задергавшимся, некоторые валились ничком и выглядели мелкими кочками на асфальте, а еще некоторые судорожно вскидывали автоматы, и тогда крохотные огоньки начинали трепетать на дулах. Это меня нисколько не испугало. Это скорей удивило меня своей явной бессмысленностью. Неужели они не видят, кто перед ними? Я набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул его по направлению к перекрестку. Бледное зеленоватое пламя прокатилась вдоль улицы. Сразу же приподнялось коробчатое железо на крышах, яркими, веселыми свечками вспыхнули два-три дерева, обозначавшие угол сквера, метнулись блики в каналах, оделась голубизной суставчатая колокольня, и в ночной безжизненной пустоте открылась круглая небольшая площадь за мостиком. Кукольные грузовички опрокинулись и запылали…
Той же ночью была предпринята попытка вырваться из Карантина. По официальным сведениям, бежало где-то около пятнадцати человек. Им каким-то образом удалось поджечь разваливающиеся казармы рядом с хозчастью, и, пока внимание всей охраны было отвлечено клубами черного дыма, ползущими по территории, они через заброшенный и не учтенный ни на каких картах канализационный проход всего за двадцать минут выбрались на соседнюю улицу. Все свидетельствовало о наличии тщательно продуманного и осуществленного плана. Причем сразу же по выходе из трубы группа разделилась на две примерно равные половины. Восемь человек попытались пересечь Московский проспект в районе станции метро «Фрунзенская», здесь их обнаружили и, грамотно прижав к железнодорожным пакгаузам, предложили сдаться. Двое членов группы погибли, отчаянно бросившись с заточками на автоматы, остальные побросали ножи и той же ночью были препровождены в оперативно-следственную часть военной комендатуры. Судьба их, вероятно, оставляла желать лучшего. Вторая же группа поступила несколько необычно. Состояла она также примерно из семи-восьми человек, личности которых установить не представлялось возможным, и неожиданно для оцепления, блокировавшего по тревоге весь этот район, двинулась напрямик через так называемые Черные Топи (то есть через болото, лежащее за Новодевичьим кладбищем). Эти Топи образовались как-то незаметно для городского начальства и имели очень недобрую славу среди окрестного населения, потому что над ними даже в солнечный день покачивалось зеленоватое туманное марево, сквозь которое лишь иногда проступали крохотные озерца с блестящей жирной водой, окруженные светло-ржавыми скрежещущими зарослями осоки. Причем каждую ночь выкатывалось из тумана отчетливое тяжелое рыканье и немедленно вслед за ним – протяжные вздохи и плески. Словно какой-то невидимый бронтозавр всплывал из трясины. Говорили, что в этом болоте уже исчезло когда-то целое подразделение автоматчиков. Ни один человек не вернулся потом рассказать, что случилось. В результате взвод, наряженный в погоню за беглецами, идти через эти Топи категорически отказался, не помогли ни щедро объявленное денежное вознаграждение, ни угрозы помощника военного коменданта погнать их туда силой оружия. Существует, по-видимому, нечто такое, чего боятся даже бойцы спецназа. В общем, ограничились тем, что в течение получаса обстреливали Топи из пулеметов, да звено вертолетов, пройдя крест-накрест над этим районом, засадило пару ракет «в места подозрительного шевеления». Больше ничего предпринято не было. Согласно официальной версии, все члены группы погибли. Во всяком случае, никаких сведений о них далее не поступило. Правда, некоторые весьма интригующие подробности сообщила мне Леля Морошина. Я, как помню, пришел тогда на работу мрачный, невыспавшийся и до последней степени раздраженный, с чугунной, тупо пульсирующей болью в затылке, ненавидящий всех и готовый сорваться по самому пустяковому поводу. Причем у меня были для этого убедительные причины. Дело в том, что коричневое болото возле нашего дома все разрасталось и разрасталось, тухлая торфяная жижа доходила уже до самых дверей парадной, и как раз этой ночью она, перевалив через бетонный порожек, протекла вдоль стены и хлынула по ступенькам в дворницкую. Небольшой этот подвальчик наполнился, по-видимому, довольно быстро. Сразу же, конечно, замкнуло щитки распределительных будок. Пожара как такового, к счастью, не произошло, однако техники районной подстанции немедленно отключили весь дом от снабжения. Это было для нас чрезвычайно неприятным сюрпризом. Без воды, горячей и даже холодной, мы жили где-то уже около месяца – я ходил на улицу, с ведрами, к временной разливной колонке, – но без водопровода, как выяснилось, существовать еще было можно, без водопровода сейчас обходилась, наверное, половина города, а вот обходиться вдобавок без электричества будет, конечно, гораздо труднее. Я уже представлял, что тогда, скорее всего, нам придется сменить квартиру. То есть сразу же, уже в ближайшие дни потребуется какое-нибудь временное пристанище. А это в свою очередь означало, что, хочешь или не хочешь, придется обращаться в военную комендатуру. Генерал-лейтенант Блинов и генерал-лейтенант Харлампиев. Меня очень угнетала необходимость обращаться в военную комендатуру.
В общем, в таком вялом и угнетенном расположении духа, проклиная всех генералов на свете, а заодно и все на свете коммунальные службы, временами морщась от боли в затылке, которая то вспыхивала, то ослабевала, я шагал по главному административному коридору, неохотно и невпопад отвечая на приветствия встречных. Одновременно я замечал, что и встречных в этом секторе здания становится все меньше и меньше. Наша Комиссия, кстати как и некоторые другие, тихо агонизировала. Впрочем, удивляться этому не приходилось: каждые два-три дня кто-нибудь из ее состава без всякого предуведомления исчезал, просто переставал являться на рабочие заседания, и узнать о судьбе очередного пропавшего не представлялось возможным. Я мельком подумал, что скоро, вероятно, наступит и моя очередь.
Вот с такими мыслями я уже сворачивал в темноватый, без ковровой дорожки, коротенький тупичок, где немного на отшибе располагались кабинеты Экологической группы, когда с площадки, образованной лестницей черного хода, из приоткрытых дверей меня осторожно окликнули. Там стояла Леля Морошина в синем своем халатике и, как заведенная, подносила сигарету ко рту, пыхая мелким дымом.
– Покурим, – предложила она нейтральным тоном.
– Покурим, – ответил я, немедленно насторожившись. – Только ведь я не курю, ты прекрасно об этом знаешь.
– Не имеет значения, – быстро сказала Леля. – Всего на пару минут. Сделай вид, что затягиваешься.
Она чуть ли не насильно сунула мне сигарету в пальцы и щелкнула зажигалкой, а потом спустилась до половины пролета и посмотрела – нет ли кого-нибудь этажом ниже. Губы и глаза у нее были сильно накрашены.
– О побеге слышал? – спросила она, понизив голос.
– Слышал, – ответил я – тоже чуть ли не шепотом.
– Ну так ты еще не все слышал, – сказала Леля. – Трое из этих, ну, которые через Топи, все-таки выбрались на другую сторону. Одного взяли сегодня, на Петроградской. Вздумал, видите ли, дурачок, проведать семью… – Она бросила докуренную сигарету и тут же полезла за следующей. – Задержание прошло неудачно: он выбросился из окна. Ну сам понимаешь, пятый этаж… Однако кое-какую информацию сдать все же успел. В общем, остались, по-видимому, еще две явки: на Конюшенном переулке и на Сенной площади. Точных адресов я пока не знаю. Надеюсь, ты сможешь запомнить: Конюшенный переулок и Сенная площадь?
– А зачем мне это запоминать? – поинтересовался я.
– Низачем, – сквозь зубы, недружелюбно сказала Леля. – Ты просто запомни. Ты вот просто запомни, и больше от тебя ничего не требуется…
Она снова бросила сигарету в урну.
– Ладно, запомню, – сказал я, довольно-таки неумело стряхивая туда же пепел.
– Вот-вот, запомни, – сказала Леля. – Уж ты запомни, пожалуйста.
И, ничего более не прибавив, стала неторопливо спускаться по лестнице.
Этот разговор крутился у меня в голове довольно долго – все то время, которое я просидел тогда за текущими документами. И чем дольше я думал о нем, тем он меньше нравился. Я ведь знал, что Леля Морошина уже давно работает на военных. Это факт. Информация Лени Курица всегда была достоверной. Но тогда зачем она сообщила мне насчет этих явок? Сведения о явках она получила, скорее всего, от тех же военных. Тогда выходит, что она работает на другую сторону. Или все-таки на военных и это какая-нибудь именно по-военному квадратная и тупая проверка? Заложили в меня информацию и смотрят, что я теперь буду делать. А вот ничего не буду. Не обязан я в такой ситуации что-либо делать. Если им это нужно, вот пусть тогда сами и делают. Вообще я – не я, и, пожалуйста, оставьте меня в покое.
Я рутинно проглядывал сообщения, поступившие в истекшие сутки. Ничего интересного в этом ворохе фактов, естественно, не содержалось. За неделю действительно несколько увеличилась площадь, занимаемая болотами: языки их смыкались, и кое-где появились зачатки нового «обводнения». Часть Васильевского острова была теперь совершенно отрезана. Это в районе Пятнадцатой – Шестнадцатой линий по направлению к Смоленскому кладбищу. Неужели образовываются вторые Черные Топи? Население оттуда эвакуировано, предупредительные знаки поставлены. Значит, еще один микрорайон в центре для нас потерян. Также несколько, процентов на десять-двенадцать, возросла и площадь, занимаемая «железной травой». Почему-то особенно много ее было у Тучкова моста. Кстати, мне наконец-то прислали официальное заключение из лаборатории. Доктор Савин, проведя соответствующие анализы, предполагал, что «трава» представляет собой мутантную разновидность так называемого мятлика лугового. Этот мятлик имеет самое широкое произрастание. Доктор Савин также ответственно заявлял, что никакой генетической опасности он в данной траве не видит. Специальные меры, по его мнению, вовсе не требуются. Между строк я догадывался, что именно он имеет в виду. Он имеет в виду прямую химическую атаку «травяных пятен». Этот план был недавно выдвинут кем-то из мелких чиновников (вероятно, военные хотели ознаменовать свой приход к власти активными действиями), и теперь ряд экологов, еще имеющих доступ к информации с грифом «служебная», возражал против превращения целых районов в мертвые пустыри, отравленные химикалиями. Впрочем, насколько я знал, средств для осуществления такого плана все равно не было. Несколько больше поэтому заинтересовали меня новые сведения о насекомых. Энтомолог Гарий Сипян утверждал, что в ощутимых количествах насекомых в городе больше нет: они либо вымерли, либо мигрировали за его пределы. Проводились отчетливые параллели с недавними миграциями грызунов. И аналогичные параллели с внезапным массовым отлетом птиц за городскую черту. Разумеется, обсуждался и предполагаемый механизм. Что-то очень такое, связанное с геопатогенными излучениями. Допускалось, что прямо под городом расположена некая «активная зона», кора там тонкая, и «дыхание мантии» губительным образом действует на все живое.
Словом, это была очередная гипотеза. С некоторым отвращением я скомкал доклад и бросил его в мусорную корзину. Сногсшибательные гипотезы мне уже надоели. Я был сыт гипотезами, наверное, до конца своей жизни. Впрочем, было в сегодняшней сводке и нечто любопытное: ксерокс некоего исторического документа, причем, по-моему, весьма плохо сделанный. Я с трудом разбирал вязь подслеповатого рукописного текста. Речь в этом документе шла об основании города. Дескать, место, где он заложен, проклято во веки веков, ибо здесь еще с сотворения мира обитает некая подземная Тварь («Тварь» так и была написана – с заглавной буквы). Причем живет она непосредственно в толще болота и – по нашим грехам, разумеется – время от времени пробуждается от летаргии. Тогда, естественно, начинаются – мор, глад и трясение камня, полыхание сфер небесных и прочие стандартные апокалиптические неприятности… Автором этого документа был некий Лука по прозвищу Вепорь. Я задумался. Кажется, это имя будило во мне некоторые смутные воспоминания. Ну конечно! Именно такой документ когда-то заказывал мне Леня Куриц. И потом еще не раз вспоминал о нем, уже находясь в подполье. Я придвинул бумаги и внимательно просмотрел этот документ снова. И опять не понял, какой он может представлять интерес. Ну – что? Ну – пророчество. Ну, мало ли существует на свете всяких пророчеств? Если надо, то я их штук пятьдесят быстренько раскопаю. Да, конечно, присутствуют здесь некоторые определенные совпадения. Морду Зверя я, например, видел просто собственными глазами. И опять-таки – ну и что? А кого, по-вашему, я должен был видеть? Продолжение, что ли, какого-нибудь популярного сериала? Между прочим, набор массовых галлюцинаций всегда несколько ограничен. В общем, совершенно неясно, зачем этот документ вдруг потребовался Лене Курицу.
На всякий случай я сунул-таки его в портфель под другие бумаги и уже закрывал замки, собираясь сегодня смыться с работы пораньше – голова у меня все равно ничего толком не соображала, – когда в дверь моего кабинета вдруг отрывисто постучали, и немедленно вслед за этим, не дожидаясь ответа, она распахнулась и в проеме возникла подтянутая, сухая фигура генерала Блинова.
«Ну, вот и все», – обреченно подумал я, поднимаясь.
Однако буквально уже в следующую секунду с внезапной радостью понял, что – нет, наверное, еще далеко не все. Если бы меня хотели арестовать, то вряд ли заместитель военного коменданта явился бы лично.
– Здравия желаю, товарищ генерал!..
Я гаркнул так, что с потолка, по-моему, осыпалось немного побелки. А генерал Блинов даже вздрогнул и чуть было не попятился.
– Что вы, что вы, Николай Александрович, – несколько испуганно сказал он. – Зачем нам с вами эти формальности? Я ведь просто так заглянул, по-товарищески, неофициально.
Сегодня он почему-то держался не слишком уверенно, показал мне вялой ладонью: не беспокойтесь, мол, сидите, сидите, как-то очень по-старчески, шаркающей походкой прошел к окну и, взирая на хлам, громоздящийся в хозяйственном дворике, побарабанил пальцами по подоконнику.
Мне вдруг стало тревожно, что он – такой неуверенный.
– Что-нибудь случилось?
Генерал Блинов, не оборачиваясь, пожал плечами.
– Шла гроза, Николай Александрович, – ответил он как бы нехотя. – Помните, в июне была? Ну и надвигалась теперь, по-видимому, точно такая же. Кажется, нам удалось ее рассеять. Если, конечно, она рассеялась действительно от наших усилий. Я ведь, Николай Александрович, не специалист, не метеоролог. Мне, к несчастью, приходится верить тому, что докладывают…
Он задумался и поскреб на стекле какую-то невидимую соринку, а затем повернулся ко мне и осторожно присел на выпирающую батарею.
Вид у него теперь был совершенно измученный.
– Николай Александрович, у меня к вам один небольшой вопрос. Только я умоляю вас, отвечайте, пожалуйста, без этих ваших обычных иносказаний.
– Попробую, – нерешительно сказал я.
Ничего хорошего я от такого вступления не ожидал.
– Этот город погибнет? Да или нет?
Я опять-таки нерешительно начал:
– Информация, которая поступает к нам в последнее время…
Однако лицо генерала Блинова ужасно сморщилось. Он мотнул головой и даже пристукнул по батарее крепким сухоньким кулаком.
– Я вас не об этом спрашиваю! А – да или нет?!
– Да! – внезапно ответил я, уже не задумываясь о последствиях. Мне, в конце концов, надоело постоянно хитрить и увертываться. – Да, он погибнет! Вы это хотели от меня услышать? Ну так вот! Но это – только мое личное мнение. Никакого значения оно не имеет…
– Скоро? – напряженным шепотом спросил генерал Блинов.
– Скоро, – таким же напряженным шепотом ответил я.
– Как скоро?
– Этого я сказать не могу.
Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. А потом генерал Блинов достал клетчатый носовой платок и промокнул лоб.
– Вот и я так считаю, – разочарованно сказал он. – В отличие от всех остальных. Я не знаю, что именно здесь происходит; впрочем, этого, наверное, не знает никто, но пытаться в такой ситуации что-либо делать – это значит барахтаться и просто затягивать мучительную агонию…
Выглядел он сейчас лет на семьдесят – изможденный, с провисшей, как у рептилии, темной кожей под подбородком. Вовсе не генерал, который железной рукой наводит порядок во вверенном ему округе, а довольно слабый и явно растерянный человек, измочаленный жизнью, работой и разными мелкими тяготами.
Я спросил:
– А что, извините, по этому поводу думают там? – и большим пальцем левой руки многозначительно потыкал вверх.
Генерал посмотрел на меня как на идиота.
– Ничего не думают, – сказал он с легкой насмешкой. – Зачем им думать? У них своих дел хватает. В общем, «принимаются все необходимые меры».
В это время отвратительно задребезжал телефон на краю стола, но, когда я машинально протянул к нему руку, чтобы снять трубку, меня будто ударило звенящей командой:
– Не трогать!
И ладонь моя поспешно отдернулась.
– Не трогать! – повторил генерал Блинов тоном ниже.
И сейчас же я услышал беспорядочные тупые выстрелы где-то снаружи. Они накатывались сюда стремительно, как цунами. Казалось, еще немного и они просто посыплются в форточку; и вдруг мощный фугасный удар поколебал все здание. Заскрипела, покачиваясь под потолком, кольчатая железная люстра. Белым дождем и в самом деле слетели на пол хлопья побелки. Расплескались истошные крики во внутреннем дворике. И вторично задребезжал телефон, кажется даже подпрыгивая. И опять генерал-лейтенант Блинов коротко приказал мне:
– Не трогать!..
Он уже стоял у дверей, распластанный по стене так, чтобы, если ворвется кто-либо, оставаться укрытым, глаза его округлились и превратились в два черных прицела, а в руке, вывернутой точно у фараона на фреске, чернел пистолет.
Он процедил сквозь сжатые зубы:
– Ни хрена не понимаю. Почему раньше срока?.. Кто распорядился? «Время икс» еще даже не согласовано… Отвлекающая операция… Без поддержки… – И вдруг оба его черных зрачка воткнулись в меня, как иглы. – Вы на кого работаете, Николай Александрович?..
Я внезапно все понял:
– То есть этот телефон-автомат на стройплощадке все же прослушивается?
– Ну а вы как хотели бы? – хладнокровно ответил генерал Блинов. С чоканьем передернул затвор и ослабил на горле, видимо, тугой узел галстука. – Ладно, к черту, забудьте об этом. Я вам верю. Вас просто-напросто используют втемную. – Он прильнул жестким ухом к щели между дверью и косяком. – Взрыв почувствовали? Это, судя по звуку, у меня в кабинете. Задержись я хотя бы еще минут на пятнадцать… – Он вдруг покрутил головой и просиял какой-то страшновато-счастливой улыбкой. Зубы у него были белые, как у мертвого. – Знаете, Николай Александрович, жить почему-то очень хочется. А вам, Николай Александрович, жить хочется? Ну, вы готовы? Ну – соберитесь-соберитесь, выходим!..
И он резко рванул на себя ручку двери.
В коридоре была оглушительная пустота, забитая дымом. Стулья, стекла, треснувшая штукатурка были перемолоты пронесшимся здесь ураганом. Вместе с дымом перетекали по воздуху какие-то невесомые паутинки, а у входа в столовую мягким тряпичным комком свернулся мужчина. Я его сразу узнал: Костя Плужников, из Третьего сектора. Он был бледен как мел, и пальцы его окостенели на животе, и он тихо постанывал, и натекала возле него малиновая густая жидкость.
– Больно… Больно… Больно… За что?.. За что?..
Вдруг вокруг стало тесно от множества возбужденных военных. Все кричали, толкались и бурно, не жалея локтей, протискивались к генералу Блинову. А один из майоров почему-то как заведенный сморкался в два пальца. И какие-то рослые парни в комбинезонах уже оттесняли всех к лестнице.
Главное, никто никого не слушал.
Я сказал:
– Костя, Костя, не надо, сейчас тебя перевяжут… Будет врач… Я прошу тебя, Костя, еще немножечко…
Но сведенные болью зрачки у него медленно завернулись под веки. Он как-то дернулся. Будто подавившись остатком жизни.
– Врача! – торопливо сказал я. – Врача! Врача!..
Никто даже не повернул головы.
Лишь генерал-лейтенант Блинов издали махал мне рукой:
– Николай Александрович! Где вы там? Не задерживайтесь по пустякам!.. – И вдруг закричал на весь коридор визгливым, раздраженным фальцетом: – Вы что, не слышите?!
При налете погибли четверо нападавших, и еще один, тяжело раненный, скончался по дороге в больницу. Также были убиты двое работников горисполкома. Из военной охраны никто, кажется, не пострадал. Следствие по данному делу вела, конечно, военная комендатура. Вроде бы они даже кого-то арестовали, но узнать что-либо толком, естественно, возможности не было. В прессе об этом инциденте даже не упоминали. Я был рад хотя бы тому, что меня, наверное с указания генерала Блинова, не дергали на допросы. Хотя что конкретного мне могли бы инкриминировать? Разговор с кем-то по телефону? Так разговаривать по телефону у нас пока еще, слава богу, не запрещается. Нет пока еще такого запрета – разговаривать по телефону. А с другой стороны, зачем обязательно что-то инкриминировать? Сунуть его в Карантин, и все вопросы. В общем, муторные подробности следствия меня как-то не интересовали. Меня, кажется, вообще ничто больше не интересовало, и когда дня, по-моему, через четыре после злосчастного нападения я обнаружил у себя в почтовом ящике узкий листочек, где синим карандашом было выведено только одно слово: «Предатель», то, разглядывая его, не испытал ничего, кроме вялого ожесточения. Мне было уже все равно. Листочек этот я просто скомкал и выбросил. Я не то чтобы не верил в угрозы, исходящие откуда-то из мрака подполья, – как раз в угрозы и тем более в осуществимость их я верил, – но, по-видимому, у меня в тот момент наступило какое-то психологическое пресыщение. Событий за последнее время было чересчур много, они накатывались на меня действительно как волна, и сознание, вероятно, на них уже больше не реагировало. К тому же именно в эти дни начала, фактически самопроизвольно, развертываться эвакуация, и паническое множество связанных с нею проблем заслонило собой все остальное.
Я достаточно хорошо помню то время. Это была середина недели, четверг, и по воле какого-то мелкого случая я оказался на Невском проспекте. Помнится, у меня образовалось окно минут в сорок: я потерянно плелся вдоль арок Гостиного по направлению к Адмиралтейству. Не так уж часто выдавалось у меня свободное время. День был душный и весь затянутый серой слоистой дымкой. Очень сильно пахло горелым, и, будто черные мотыльки, мелькали в воздухе хлопья сажи. Я посматривал на них с некоторым недоумением. Именно в эти часы полыхал грандиозный пожар на Обводном канале. Там еще утром занялись штабеля шпал, приготовленных для ремонта дороги, а примерно около двух огонь перекинулся на расположенные неподалеку склады с пиломатериалами. Однако ничего этого я тогда, конечно, не знал и, отрешенно взирая по сторонам, лишь удивлялся необычайной пустынности города. Ситуация в этот момент была такая: длинный асфальтовый Невский, сегодня почему-то совершенно свободный от транспорта, редкие фигуры прохожих, спешащих из одного затененного места в другое, налитые солнцем витрины на противоположной стороне улицы и единственный раздутый троллейбус, еле-еле ползущий по направлению к Дому Книги. И в ту минуту, когда этот троллейбус уже переваливал через мост и, опережая меня, готов был устремиться к желтому сияющему Адмиралтейству, где-то, чуть ли не над самой моей головой, гнусаво завыло, и вдруг твердый железный палец воткнулся в ближайшее здание. На уровне третьего этажа вспухло ватное облако, и из него посыпались на асфальт обломки стекла, кирпича и дерева. С грохотом осел целый пласт штукатурки. Словно ящер, махнув ребристыми крыльями, взлетела часть кровли. В такие секунды соображать практически некогда. Я и сам не понял, как оказался в полумраке ближней парадной. Там уже находились несколько человек с боязливо напряженными лицами, и один из них с неожиданной радостью закивал мне и помахал ладонью:
– Здравствуйте… Здравствуйте…
– Здравствуйте, – ответил я машинально.
Видимо, это был кто-то из коллег по работе. Я его не узнал, да, честно говоря, и не слишком вглядывался. Тем более что в эту секунду опять раздался душераздирающий гнусный вой снаружи и другой снаряд разорвался, как мне показалось, прямо в парадной. Тряхнуло нас так, словно по земле прошли волны. С визгом, раздирая арматуру, вывернулся ступеньками вниз целый пролет лестницы, меня сильно швырнуло куда-то в дымную неизвестность, а когда я, через какое-то время наверное, снова пришел в себя и попытался подняться, все вокруг было темно и удушающе пахло сухой известкой. Рот, нос, глаза у меня были залеплены пылью. Я с трудом, как в тесте, пошевелился, и с кожи сразу же потекли песчаные струйки. В голове звенело, будто по ней ударили молотком. Где-то слабенько, будто с того края света, плакала женщина. Время от времени она повторяла: «Сережа!.. Сережа!..» – голос был безнадежный, срывающийся, хрипловатый. Я вдруг вспомнил табличку, висящую в начале Невского: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» Ну и ну! Неясно, правда, кто кого и зачем обстреливает.
Кое-как я все-таки сел, ощутимо покачиваясь. Темнота немного прокручивалась вокруг меня, и руки никак не находили опоры. Кто-то сзади быстро и жестко сдавил мне локти:
– Осторожнее, у вас тут, по-моему, кровь на затылке… Нет-нет, пожалуйста, не надо, не трогайте… Дайте я посмотрю… Кажется, ничего серьезного… Попробуйте передвиньтесь вот сюда, к стенке… Сделайте пару вздохов… Ну-ну, будет легче…
Мне действительно становилось немного легче. Я уже начинал различать в сумраке какие-то смутные очертания. Вдруг из серых теней сконцентрировался клинышек вроде бы знакомой острой бородки, а затем проступили – рубашка, галстук, пиджак со вздыбленными плечами, и одновременно – белесый, скомканный почему-то призрак руки, ощупывающей мне ребра. Я не сразу сообразил, что это рукава у пиджака напрочь оторваны.
– Долго я был без сознания?
– Минут двадцать или около этого, – ответил невидимый мне человек. – К сожалению, часики мои – того… раздавило. Но по субъективным ощущениям, именно минут пятнадцать-двадцать. Завалило нас, между прочим, серьезно. Я смотрел: просели, по-видимому, сразу несколько этажей. Просто чудо, что всех сразу же не раздавило в лепешку. Спасла, наверное, арматура: лестница встала, знаете, таким горбиком. Неизвестно, правда, сколько этот горбик еще продержится. Слышите, потрескивает? Хорошо еще, что сохранилась какая-то щель. Все же – доступ для воздуха… – Человек, по-моему, слегка отстранился. – Ну что? Вам получше? Вы можете передвигаться самостоятельно?.. Тогда давайте переберемся отсюда куда-нибудь… Тише, тише! Мне эта засыпь над нами не очень нравится…
Немного подтаскиваемый его руками, я в два приема переполз через громадную кучу известки. Из нее обильно высовывались обломки дерева и кирпича и торчал, испачканный той же известью, тупоносый грубый ботинок. Лишь упершись в него локтем, я понял, что это чья-то нога, и едва не поехал вниз, дернувшись от неожиданности. Слава богу, что невидимый человек схватил меня за ворот рубашки. – Ничего, ничего… – сказал он, подтягивая меня наверх. – Этот уже мертв. Ничего, ничего, привыкнете… – Покряхтывая от усилий, он перевалил меня на другую сторону кучи и затем, оттащив, будто мешок с тряпками, вновь прислонив к стенке. – Ничего, ничего. Могло быть гораздо хуже… – Я услышал протяжный, замедленный, мощный вздох: перекрытия там, где мы только что находились, дружно осели. Взвилась в воздух пыль. Я закашлялся. – Ну вот видите, – чуть ли не с радостью сказал невидимый человек. – Все же я научился немного чувствовать землю. Камень, дерево, глина, песок, чернозем, трясина… У вас этот внутренний голос еще не прорезался? Ну, это не сразу. Здесь необходимо такое, знаете, что-то вроде прозрения. Помните у Бетховена? «Так судьба стучится в дверь». Вот здесь необходим знак судьбы. Вам, кстати, дается возможность увидеть иную цивилизацию. Тут рассудок не требуется, нужно просто поверить… Или все-таки будете ждать неизбежного превращения в «мумию»?.. Говорю вам вполне серьезно: этот мир уже обречен. Слышите звон подземных колоколов?
Сквозь завалы и в самом деле просачивался негромкий басовитый гул. При известном воображении его можно было принять и за колокола. Действительно – многопудовый, протяжный, вселяющий в сердце тревогу. Но одновременно я слышал, как всхлипывает неподалеку все та же женщина – всхлипывает, успокаивается, снова всхлипывает, кашляет в пыльном сумраке. Вероятно, та самая, что некоторое время назад звала Сережу. И еще я услышал противный скрежещущий звук откуда-то слева, словно крохотные, но крепкие коготки царапали камень. Может быть, крысы? Но ведь крыс, по-моему, в городе уже не осталось. Я подумал, что надо бы тщательно осмотреть завалы. Вдруг удастся найти и расширить какой-нибудь лаз наружу? Вряд ли можно рассчитывать, что нас в ближайшие часы откопают. Если город обстреливается, то аварийным командам просто не до отдельных граждан. Представляю, какая сейчас паника среди военных. Это что же, мятеж или какие-нибудь массовые беспорядки? Хотя, впрочем, и в том и в другом случае – откуда взялась артиллерия? Или, может быть, снова «прорыв истории», хлынувший из минувшего прямо на улицы города? «Прорыв истории», кстати, гораздо хуже, чем даже массовые беспорядки. Леня Куриц как-то сказал, что нас погубит именно непредсказуемая история. Вряд ли историю смогут ограничить даже части спецназа. Это значит – появятся сотни и тысячи новых «мумий».
– Ну так что? – Человек нетерпеливо дернул меня за рубашку.
– Бросьте, профессор, – сказал я, поморщившись и резко освобождая локоть. – Какая, к чертям собачьим, цивилизация под землей? Странно слышать, вы же – физик, ученый, вроде бы образованный человек. И вдруг – явно невежественная секта «подземников». Это правда, что вы даже спите, живые, в могилах? Неужели вы думаете, что этой чушью можно соблазнить современного человека?
– Современный человек – это прежде всего суеверия, – сказал профессор.
– Да, но суеверия прикладные, немедленно доставляющие ему хоть какую-нибудь пользу. Например, исцеление от болезни. А что предлагаете вы – спать в могиле?
– Ну как хотите, я ухожу, – несколько высокомерно сказал профессор. – Чушь не чушь, но ничего лучшего у нас нет. Между прочим, вы в детстве не пробовали жевать сырую землю? Помните это необыкновенное, это свежее, чудесное послевкусие? Словно вы только что рождены и впервые прикасаетесь к этому миру.
Кажется, он выпрямился, насколько позволял хаос свисающей кровли. Я заметил, что грани балок и перекрытий теперь проступают довольно отчетливо. То ли света в завале прибавилось, то ли глаза у меня немного привыкли к сумраку.
Я, во всяком случае, понял, что женщина, которая только что всхлипывала, теперь замолчала и как-то очень внимательно глядит в нашу сторону.
– Вы не слушайте этого старика, – неожиданно сказала она. – Он, по-моему, сумасшедший. Я за ним уже давно наблюдаю. Он тут недавно землю ел из-под досок. Просто не отвечайте ему, и все. Нас непременно спасут, вы слышите: к нам уже пробиваются…
Темной рукой она указала куда-то влево. Звук скрежещущих коготков действительно быстро усиливался. И вдруг стало понятно, что это работает какое-то землеройное приспособление: с тихим шорохом меж двух скрещенных досок посыпалась крошка, пласт запекшегося кирпича дрогнул и вывалился, зачернело отверстие, откуда на нас дохнуло горячим воздухом, внезапно его прорезал ослепительный высверк фонарика, и немедленно вслед за этим просунулась внутрь голова, защищенная чем-то вроде мотоциклетного шлема.
– Есть кто живой?..
– Мы живые, – спокойно ответила женщина. – Нас здесь трое осталось, четвертый уже умер…
– Лично я наблюдаю только двоих, – сказал спасатель. И, втянувшись обратно в пролом, деловито добавил: – Давай веревки, Габура. Подстрахуем, им тут придется ползти метров десять.
Я напрягся, почувствовав что-то неладное, и при свете фонарика впервые увидел тесную нишу завала: глыбы камня, опасно стиснувшие друг друга, кирпичи, доски, шершавые изгибы железа – странно, что все это не съехало до самого низа – и похожую на изваяние оцепенелую женщину, с головы до ног осыпанную мучной известкой. Глаза ее были распахнуты, как у куклы.
– Да, – не шевелясь, сказала она. – Нас здесь только двое.
И тогда я снова оглянулся по сторонам и тупо моргнул. А потом еще раз моргнул, и еще, и еще. Профессора в лестничном закутке действительно не было…
Дома же меня ожидал довольно неприятный сюрприз. Когда я, весь измочаленный многочасовым пребыванием под завалом, с ноющим телом, с саднящими от ободранности коленями и локтями, грязный, потный, в лохмотьях вскарабкался кое-как по нашей лестнице и после обычных предосторожностей отпер двери, которые с недавнего времени закрывались сразу на четыре замка, в прихожую немедленно выскочили близнецы, по всей вероятности дожидавшиеся этой минуты, и, одновременно прижав указательные пальцы к губам, таинственно и предостерегающе прошипели: ш… ш… ш… Выглядели они далеко не лучшим образом: оба – в розовых лишаях, которые никак не удавалось вывести, в кровяных расчесах, с мутными, будто из стеарина, отекшими лицами. Видимо, сказывалось отсутствие нормальных продуктов. Вообще обстановка – жуткий город, жара, болотные испарения. Слава богу, у них еще лихорадки не было.
– Что случилось? – нерадостно спросил я, всем видом своим выказывая усталость. Меньше всего мне хотелось сейчас хоть в чем-нибудь разбираться.
Близнецы от усердия надули щеки, но объяснить ничего не успели. Появилась жена и одним сильным движением смела их обратно в комнату. А затем притворила дверь и подбородком указала мне в сторону кухни:
– Тебя там ждут. Извини, я просто не знала, что делать…
В кухне в это время раздавалось какое-то странное хрюканье. Я туда заглянул, и у меня в полном бессилии подкосились колени. За столом, уставленным всеми нашими нищенскими припасами, раскорячась, как краб, так что даже зад у него был оттопырен, чуть ли не обхватывая вермишель, приготовленную мне на ужин, двигая челюстями и сильно при этом чавкая, сидел Леня Куриц.
Он приветственно помахал мне вилкой с наколотым остатком сосиски и, прожевывая ее, выдавил из себя что-то нечленораздельное. Щеки его чернели щетиной, по крайней мере, недельной давности, а шершавые скулы были с обеих сторон симметрично залеплены пластырем. В хлебнице рядом с горбушкой батона лежал пистолет и поверх него – две масляные запасные обоймы.
Наконец, Леня Куриц усиленно проглотил сосиску, и было видно, как комок пищи прошел у него по горлу.
– Привет, – сказал он.
Я сел, потому что ноги меня уже совсем не держали.
– Ты с ума сошел. За домом смотрят. Тебе нельзя тут показываться…
Легкомысленным жестом Куриц наколол на вилку вторую сосиску и сразу же откусил столько, что непонятно было, как это поместилось у него во рту.
– Не волнуйся, – так же нечленораздельно промычал он. – Слежки не было, я раз пятьдесят проверялся. И в твоей парадной я вообще не показывался. Я прошел по крышам с Садовой и только тут спустился по лестнице.
В общем, спорить с ним не имело смысла. Куриц был целиком и полностью погружен в процесс насыщения. Он неимоверно быстро, практически не разжевывая, проглотил остаток сосиски, подобрал с тарелки последние, не слишком аппетитно выглядящие вермишелины, коркой хлеба протер эту тарелку до суховатого блеска, и, по-моему даже немного дрожа, накинулся на чай с сухарями. Сахара он себе положил ложек семь или восемь. Громко прихлебывал – отдуваясь и щурясь от острого наслаждения. Я пока довольно-таки путано рассказал ему о наших последних событиях: про обстрел, про налет на горисполком и про явки, о которых сообщила мне Леля Морошина. Даже про записку со словом «предатель» в почтовом ящике. Куриц слушал меня небрежно, как иногда взрослые слушают лепет ребенка. Лишь один раз, оторвавшись от кружки с чаем, невнятно переспросил:
– Значит, обе квартиры? И на Сенной, и в Конюшенном переулке? Ну – Морошина! Ну, если узнают, ей этого так не оставят. А ведь, представь себе, я как раз собирался в Конюшенный переулок…
И он опять захрустел ломкими сухарями. В нем, точно болезнь, ощущалась некая застарелая напряженность. Легкомыслие и небрежность его были чуть-чуть наигранными, а на самом деле чувствовалось, что он прислушивается буквально к каждому шороху. Глаза его то и дело прыгали на пистолет в хлебнице. Я еще мельком подумал, что неужели он будет стрелять здесь, прямо в квартире? Он и говорил тоже какими-то рваными, горячими фразами – будто даже не говорил, а сплевывал изо рта раздражающую его словесную шелуху. Разобраться, в чем тут дело, было довольно трудно, от контузии после завала я соображал еще с чудовищным скрипом. Тем не менее кое-что начало слегка проясняться. А когда прояснилось совсем, ошеломило меня чуть ли не до потери сознания:
– Погоди! Значит, в Карантин тебя сдали свои же?! Ты – из той группы, которая бежала на днях через Черные Топи?! Как тебе удалось оттуда выбраться?
– Ну их в то же болото! – нехорошо посмотрев на меня, сказал Леня Куриц. – Ты хоть знаешь, что представляет собой это подполье? Думаешь, наверное, там – все такие непримиримые борцы за идею? А, например, про такую контору «Гермес» ты что-нибудь слышал? – Он с некоторым сожалением глянул внутрь чашки и отодвинул ее от себя. – В общем, если не против, то я поживу у тебя дня три-четыре. Извини, сейчас просто необходимо где-нибудь отсидеться. В подвалах-то нынче – того, слыхал, покойники из земли встают? Можно, конечно, где-нибудь и на чердаке пристроиться. Правда, именно чердаки они сейчас усиленно проверяют… – Он опять тронул чашку и нетерпеливо пощелкал длинными немытыми пальцами. – Ну, давай, давай, не томи!..
Я сходил в комнату и принес ему ксерокс Луки Вепоря. Я еще тогда терялся в догадках, зачем ему нужен этот, на мой взгляд, странный и невразумительный документ, никакой пользы я от него не предвидел, однако Куриц прямо-таки вцепился в небрежно скрепленные по углу листочки: вчитывался, шевелил губами и, кажется, даже обнюхивал, повернулся к лампе и изучил на просвет каждую страницу отдельно. Интересно, что он там надеялся обнаружить? Это же был всего-навсего ксерокс, сделанный на самой обыкновенной бумаге. И одновременно он приговаривал: так-так-так… – и прищуривал то один глаз, то другой, то сразу оба. Губы у него при этом вытягивались в трубочку.
– Это – ясно, и это – мне, в общем, понятно… В основном, по-моему, мишура: «зверь», «проклятие» и «свет загорашася нечеловеций»… Все, что положено в таких случаях… Между прочим, тебе бы лучше на какое-то время убраться из города… «Предатель» – это, знаешь, очень серьезное предупреждение… Или, по крайней мере, быстро сменить место жительства… Только чтобы твой новый адрес нигде официально не числился… Так-так-так, значит, «угорь» и, значит, «мнози его развяша»… – Он нетерпеливо побарабанил по тексту обгрызенными ногтями. – А где же вторая часть? Ну-ну, давай. Действительно мало времени…
– Какая вторая часть? – искренне удивился я.
– Вот же, вот! Тебе здесь отметили, что это – только первая половина!.. – Куриц потыкал в подколотый к листочкам бланк моего заказа. – Вторая часть находится в ЦГАОР, и здесь требуется другая заявка. Что же ты, до сих пор не научился читать библиотечные шифры? Трам-тарарам!.. Чем же ты целых пять лет занимался в своем институте?!
Он был возмущен до глубины души, и не знаю, какими словами он бы обложил меня в следующую секунду – он уже открыл рот и с шумом втянул в себя воздух, однако именно в это мгновение тихонечко, словно поперхнувшись на первом же звуке, брякнул телефон, выставленный на холодильник, а потом еще раз брякнул, и еще – уже гораздо настойчивее. Я даже вздрогнул, потому что телефон не работал уже несколько суток.
Я посмотрел на Курица, а он посмотрел на меня:
– Ждешь кого-нибудь?
– Нет.
– Ну, может быть, просто подключили линию…
Я осторожно, будто что-то живое, поднял трубку и чуть не выронил ее, услышав резкий голос генерала Блинова.
– Николай Александрович? Я вас приветствую, – громко сказал он. – Все в порядке? Говорят, вы сегодня попали под артобстрел? Надеюсь, не пострадали? А у меня к вам, Николай Александрович, небольшая просьба. У вас там сейчас находится один наш общий приятель… Вы, наверное, с ним беседуете? Пока, ради бога, не торопитесь. Но когда вы все ваши дела закончите, пусть он выйдет на улицу. Без оружия, разумеется, и, пожалуйста, скажите ему, что ничего такого не надо. Все-таки у вас там в квартире – жена, дети…
И довольно странно, как будто на половине фразы, наступило молчание. Не было даже обычных коротких гудков, свидетельствующих о разъединении.
Точно телефон снова выключили.
Я опустил трубку и растерянно обернулся к Лене Курицу. Я просто не представлял, как сказать ему об этом распоряжении генерала Блинова. Но наверное, у меня все было написано на лице, так как Леня Куриц, не спрашивая ни о чем, понимающе покивал.
– Ну вот, – сказал он, – по-видимому, это за мной. Я, когда позвонили, признаться, так и подумал. Они, вероятно, хотят, чтобы я вышел и добровольно сдался? Неплохая оперативность. А еще говорят, что наша армия там чего-то не может. Наша армия может все, если, конечно, захочет. Не расстраивайся, это следовало предвидеть.
Он поднялся и мельком глянул на пистолет, но не прикоснулся к нему.
– Ты не думай, я попробую что-нибудь сделать, – сказал я не слишком уверенно. – В конце концов, я еще остаюсь членом Комиссии…
В ответ Леня Куриц только поморщился:
– Не валяй дурака! Кто тебя будет слушать? – Он открыл дверь и уже на площадке, зияющей черным провалом, как-то нехотя обернулся. – У меня почему-то предчувствие, что мы с тобой в ближайшее время еще увидимся. Пока трудно сказать, хорошо это или плохо…
И он вдруг подмигнул мне весело и легко, как прежде. И шагнул в темноту, и тут же растаял в ней, как привидение. Я даже не успел с ним попрощаться. И стальной язычок замка, вошедший в пазы, звонко щелкнул…
Первый «чемодан» ударил на углу Садовой и улицы Мясникова. Я не видел, откуда он прилетел – заунывный, сжимающий сердце вой вытянулся, как мне показалось, прямо из пустоты, – но вот угодил он, по-видимому, в стык, под выступы тротуара: грохнула асфальтово-земляная, громадная черная вспышка, и будто жесткой метелкой выскребло остекление у ближайших зданий. Ярко-красный «жигуль», притулившийся неподалеку от перекрестка, перевернуло, и из-под грязного днища его вдруг заструились кудреватые струйки дыма.
Что-то плотное, раскаленное, смертельно взвизгнувшее пронеслось по воздуху.
– Ложи-ись!.. – закричал я бешеным голосом. – Ложи-ись!..
А поскольку жена, мгновенно прижавшая к себе близнецов, как испуганная гусыня, лишь оглядывалась и переминалась, не понимая, откуда исходит опасность, то я силой повалил их всех троих на пыльную мостовую и держал так, придавливая, чтобы они не вздумали подниматься. К счастью, болото сюда пока еще не доходило. Лежать было можно. Тем более что место взрыва частично загораживали вагоны когда-то застрявшего здесь трамвая. Пусть ненадежное, но все-таки какое ни есть прикрытие. По-настоящему боялся я лишь одного: что нас тут растопчут. И потому непрерывно кричал, поднимая голову: «Ложитесь!.. Ложитесь!..» – На меня, по-моему, никто не обращал внимания. Царила жуткая паника. Гомон стоял в липком воздухе. Люди бежали и сталкивались, ища, где бы укрыться. Крепкая, спортивного вида девица, будто ящерица, выползшая из-под чьей-то тележки, резко приподнялась на локтях и нехорошим тоном потребовала:
– Мужик, пропусти…
Глаза у нее были совершенно безумные, лоб – наморщен, а вокруг ощеренного звериного рта – круглые складки. В это время неподалеку ударил второй такой «чемодан» и попал, по всей вероятности, в самую середину Канала. Раздался тяжелый чавк, урчание, какое мог бы издать сытый хищник, а затем воцарилась какая-то необыкновенная тишина. У меня заложило уши, и крепким невидимым обручем сдавило голову. Я заметил накрашенные пухлые губы девицы, сужающиеся и расширяющиеся зрачки, комковатые волосы. Она тоже лежала и не шевелилась. В диком томлении протикало, вероятно, секунд десять, и только после этого взлетел еще один мощный чавк и сырые ошметки тины застучали по мостовой.
– Бежим!.. – выдохнул я.
Жена по-прежнему ничего не соображала. Я схватил близнецов и, будто трактор, попер их по направлению к перекрестку. Двигаться мешали тела, лежащие в разнообразных позах. Кое-кто уже шевелился, но я надеялся, что проскочить до нового всплеска паники мы все же успеем. Мельком я глянул на окна нашей квартиры: рамы были распахнуты, и тихий ленивый ветер шевелил занавески. За тюлевой невесомостью их угадывалось ожидание. У меня защемило сердце – мне не хотелось уходить отсюда.
– Где рюкзак? – догоняя и от этого немного запыхиваясь, спросила жена.
Я даже вздрогнул. Рюкзака, разумеется, не было. Я, наверное, сбросил его с себя при первом же взрыве. Да, конечно, шевельнулись смутные воспоминания, как я, низко присев, сдираю с плеч неудобные лямки.
– Ну и черт с ним!
– Но как же так?
– Быстрее, быстрее! – командным голосом рявкнул я.
Пока все лежат, я намеревался проскочить пробку на перекрестке. Я не догадывался, что именно там происходит, но я видел беспорядочное скопление беженцев, два длинных грузовика, перегораживающих дорогу, и людей, и какие-то странные нахохлившиеся фигуры в плащах, маячащие надо всеми.
Времени у нас совсем не было. Если верить слухам, то еще днем, как раз в тот момент, когда передавали утешительную сводку по радио, немецкие танки прорвали последний рубеж обороны на окраине города и, не встречая больше препятствий, выдвинулись в район больницы Фореля. Оттуда до Дворцовой площади им было неторопливым маршем минут тридцать. Пушкин и Гатчина были захвачены, оказывается, еще раньше. Напряженный бой за Пулковские высоты тоже, по-видимому, заканчивался. Главные силы вермахта готовы были войти в город. То есть в нашем распоряжении оставалось не больше часа, а потом и вокзалы, и улицы, к ним прилегающие, будут, скорее всего, запечатаны патрулями. Как это происходило в далеком сорок первом году, сейчас значения не имело. Ретроспекция есть ретроспекция, и теперь все могло развернуться совершенно иначе. Мало утешало меня и то, что уже завтра, через сутки примерно, весь этот «выброс истории» завершится. Город будет усеян обгоревшими «мумиями». Нам эти сутки еще следовало продержаться.
А продержаться не то чтобы сутки – несколько часов было очень непросто. К сожалению, не я один оказался такой сообразительный. Многие, вероятно, поняли, что появляется шанс вырваться. Я опомниться не успел, как мы снова очутились в людской гуще. Продвижение к загадочным грузовикам, конечно, замедлилось. Нас толкали, и мы тоже, естественно, были вынуждены грубовато проталкиваться. Невысокий солдат с азиатскими чертами лица цепко схватил меня за рубашку:
– Послушай, товарыш… Скажи, пожалюста, как отсюда пройти на Выборгский сторону?.. Гражданын, гражданын!.. Что за черт такой, кого не спросишь, никто не знает!..
Он был без фуражки, в расстегнутой до пупа, сильно вылинявшей гимнастерке, широкоплечий, раскосый, небритый, наверное, уже третьи сутки, от него исходил крепкий, духовитый запах портвейна, а на жестких смоляных волосах приклеились сухие соломинки. Словно он переночевал в стоге сена. Чрезвычайно коротко я объяснил ему, как пройти к Выборгской стороне, а потом, не удержавшись и забыв всякую осторожность, спросил:
– Почему вы не в своей части?.. Где командир?..
Наверное, этот вопрос ему задавали уже не в первый раз, потому что солдат, будто кошка, фыркнул и присел на кривоватых ногах.
Руки его были широко разведены.
– А где мой част, скажи!.. – крикнул он. – Ты мне скажи, я туда и пойду!.. Умный, да? Все понимаешь?.. Ну скажи мне, скажи тогда, где мой част?..
Кажется, он выкрикивал что-то еще. Густеющая толпа напирала, и его заслонили. Кто-то начальственно бросил ему:
– Помолчи немного!..
– Я – молчу, молчу, – ответил солдат. – Я всю жизнь молчу, панимаишь!..
Тут же как будто шлепнулось что-то мягкое и донесся ужасный стон смертельно раненного человека. Раздалось: «Он с ножом!.. Боже мой!.. Кто-нибудь, помогите!.. Расступитесь, расступитесь, видите, тут человека убили!..»
Метрах в трех-пяти от меня закипело яростное вращение. Шарахнулись оттуда ошеломленные, помятые люди. Сквозь просвет я увидел, что солдат лежит на асфальте, свернувшись безнадежным калачиком, и тут же жуткий многоголосый вопль вздулся вдоль улицы. Впечатление было такое, что кричат даже камни. В одну минуту все дико перемешалось. Закрутился водоворот, и напирающая волна людей швырнула нас к перекрестку. Я увидел, что эти два длинных грузовика, оказывается, столкнулись. Причем столкнулись так, что у обоих напрочь вылетели лобовые стекла, а между вздыбленных радиаторов застрял «москвич» какой-то допотопной модели. Кстати, удивительно похожий на «москвич» Лени Курица. У них даже цвет совпадал, и на секунду мне стало страшно, что я увижу сейчас лежащее рядом исковерканное, бездыханное тело. Однако тела рядом с машинами не было. Зато суетилась милиция, и разъяренный «дорожник» тыкал дубинкой в грудь парня в цветастой рубашке: «Осади, осади!.. Кому говорят!..» Все вообще кошмарно орали и теснили друг друга. Почему-то никого не пропускали на противоположную сторону. Поддаваясь общему настроению, захныкали близнецы, требуя чего-то невероятного, и жена в состоянии, близком к истерике, дала каждому, не разбираясь, по увесистому подзатыльнику. Близнецы захныкали еще сильнее. А я сам наконец разглядел эти странные нахохлившиеся фигуры, овеваемые плащами. Шесть одетых по-средневековому всадников выезжали на перекресток. Тяжелые копья с черными бунчуками вразнобой, но решительно нацеливались в нашу сторону. Блестели на солнце кольчуги, и, как кузнечик, танцевал перед ними тщедушный милиционер, тыча щепочкой пистолета в конские морды.
Один из всадников поднял к небу руку в перчатке:
– С нами Бог!..
И они, чуть пригнувшись к холкам, воинственно поскакали прямо в середину затора. Толпа в едином порыве шатнулась, и нас, чудом не опрокинув, отбросило куда-то в сторону. Я едва вытащил за собой уже по-настоящему испуганных близнецов, а жена, выкрутившаяся вслед за нами, просто упала на четвереньки.
В это время какой-то «жигуль», выпрыгнувший неизвестно откуда, завизжал тормозами, и передняя дверца его распахнулась.
– Давайте сюда…
Я увидел, что за рулем сидит Маргарита.
Раздался тяжелый звяк, громадное, наверное в два метра, копье ударило в решетчатую крышку люка. Плоский наконечник его, видимо, застрял в щели – древко завибрировало и медленно опустилось на мостовую.
Жена, уже поднявшаяся на колени, взирала на него с ужасом:
– Боже мой!..
– Скорее! Скорее!.. – отчаянным голосом крикнула Маргарита…
Я не буду подробно рассказывать, как мы все-таки пробились к вокзалу. Ничего подобного я никогда раньше не видел. Надежды на обморочную пустоту города оказались обманчивыми: скоро из боковых неметеных улиц, из замусоренных переулков, из парадных, из проходных дворов, тоже превращенных в помойки, точно из потустороннего мира, начали просачиваться довольно большие группы людей. Они очень быстро заполонили собою весь проспект. Беженцы шли с чемоданами, увязанными поперек бельевыми веревками, с рюкзаками, с портфелями, с невероятно распухшими продуктовыми сетками, перли на себе превращенные в узлы наволочки и простыни, катили навьюченные, так что не видно было колес, горбатые велосипеды. Было чрезвычайно много детских колясок, были сетчатые металлические тележки, взятые явно из ближайшего универсама, были странные, наспех сколоченные конструкции, по-видимому, из скейтбордов, а неподалеку от коробчато-современного здания районной администрации, которое, кстати, тоже выглядело заброшенным, я увидел настоящую лошадь, влекущую за собой нагруженную тюками станину автомобиля. И все это непрерывно сталкивалось между собой, наезжало, цеплялось и застревало, нагромождая целые баррикады. Столпотворение возникало просто катастрофическое. Машину, которая продвигалась вперед черепашьим шагом, нам в конце концов пришлось бросить. Стало невозможным объезжать все учащающиеся заторы. Маргарита лишь каким-то специальным захватом заклинила руль и с отчаянным легкомыслием оставила неприкрытой переднюю дверцу.
– Кому надо все равно влезут, – сказала она, помахивая ключами. – Так, по крайней мере, хотя бы стекла не вышибут.
На руках у нас теперь оставалась только небольшая сумка с продуктами. Жена крепко взяла за руку одного близнеца, а я – другого. Толпа медленно, очень медленно продвигалась по Измайловскому проспекту. Гомон, плач и ауканье царили в воздухе. Ощущалось, что все кругом чрезвычайно угнетены и испуганы. Я подумал, что, наверное, точно так же, остервенелой толпой, уходили из города крысы, тоже – испуганно поглядывая по сторонам и возбужденно попискивая. Правда, крыс никто не расстреливал из дальнобойных орудий. А здесь обстрел продолжался в течение всего нашего пути следования. Каждые две минуты, как по хронометру, раздавался протяжный и заунывный нарастающий вой, затем – миг тишины. И вдруг вспучивалось глухое, долгое эхо разрыва. Нам пока еще сопутствовало везение. Ни один снаряд не попал в скопление людей на проспекте. Я просто не представляю, что было бы в этом случае. Однако, когда мы пересекли широкий и плоский мост через Обводный канал, продавились сквозь ограждения, по-видимому выставленные уже давно и забытые, и приблизились к странным, как будто обрубленным башенным надстройкам вокзала, выяснилось, что дальше нам дорога закрыта, потому что все длинное малооконное его здание охвачено пламенем. То есть если точнее, то пламени там как такового не было, а был черный и плотный дым, расползающийся по перронам. Причем он вовсе не рассеивался среди них, как можно было рассчитывать, а наоборот, сгущался, будто в консервах, и перетекал, выказывая темно-малиновую изнанку.
Картина, на мой взгляд, была безнадежная.
– Ну вот, – сказала Маргарита. – Нам отсюда не выбраться…
В голосе ее чувствовалась обреченность. И как будто в подтверждение этих слов, крыша одного из вокзальных строений вдруг провалилась внутрь каменного четырехугольника, и оттуда вылетел громадный сноп бледных искр, и сейчас же стали падать вокруг нас дымящиеся головешки.
Было очевидно, что с этой стороны нам не пробиться. Однако именно эта удручающая безнадежность, видимо, и подсказала мне выход.
– Держите ребят, – внятно распорядился я. – Не отставать от меня. Не спорить. Беспрекословно выполнять все, что скажу!
И, крепко взяв за запястье несколько ближе стоящую ко мне Маргариту, потянул ее и всех остальных прямо в стену зловещего дыма. Со стороны это, вероятно, казалось самоубийством, но, как ни странно, сразу же выяснилось, что я был прав в своей внезапной догадке. Левая половина вокзала действительно ужасно горела: черный снегопад копоти, пламя, с гудением вырывающееся из всех окон. На первый взгляд, это и в самом деле выглядело страшновато, но пожар, как я и предполагал, бушевал в основном за кирпичными стенами. Окна располагались редко и несколько выше моего роста, а возле самой стены тянулась прослойка довольно чистого воздуха. Разумеется, пройти здесь все равно было непросто: щеку и шею мне обожгла стрельнувшая неизвестно откуда пылающая соломина, у Маргариты затлели концы располосованных до лохмотьев джинсов, а когда мы перебирались от двери камер хранения к билетным кассам, нас чуть было не придавил пласт рухнувшей штукатурки. Жену при этом с ног до головы окутало искрами. Трудно было дышать. Лица и руки у нас лоснились потеками жирной сажи. Очень скоро мы стали походить на чертей, только что выбравшихся из преисподней, но зато когда мы все-таки вынырнули из этого чудовищного огненного урагана, свернули за угол и миновали выступ, делящий вокзал на две половины, то увидели громадное солнечное пространство, полное воздуха, кучи шлака, распахнутые ворота, по-видимому, ремонтного цеха, а на ближних путях, заслоненных густой акацией, – трехвагонную, новенькую, сказочно выглядящую электричку.
– О!.. – восторженно воскликнула Маргарита. – Это что?
– Это то, что нам требуется, – сказал я.
Впрочем, здесь мы тоже были уже далеко не первые. Человек пятнадцать растрепанных, нервных мужчин и женщин сгрудились около локомотива. Они прижимали к его железным бокам растерянного мужчину в железнодорожной форме, а он вскидывал руки и беспомощно повторял: «Ну не имею права, поймите вы… Не имею права…» Лицо у него было как будто из ветоши. На него напирали. Двое задних мужчин помахивали железными прутьями. Правда, никто не кричал. Видимо, боялись привлечь внимание. В основном шипели – раскаленными от ненависти голосами. Бесновались, но – тихо. Особенно женщины. Мяли несчастного железнодорожника, толкали его, щипали, особенно женщины. Совершенно молча и неподвижно взирала на эту сцену стайка разнокалиберных ребятишек.
Физиономии у них были чрезвычайно серьезные.
Когда мы приблизились, на железнодорожнике уже трещала одежда.
– Ладно, ладно, – примирительно говорил он, ежась и заслоняясь локтями. – Смотрите, вам же самим потом хуже будет…
Его буквально впихнули внутрь локомотива. Там сразу же что-то ожило, щелкнуло, звякнуло металлическими переключателями.
И вдруг низкий паровозный гудок прорезал воздух.
Мы даже вздрогнули.
Гудок в этой ситуации был совершенно лишним. Платформы метрах в ста или немногим больше от нас были по всей длине плотно забиты народом. Не знаю, уж какого обещанного поезда они там ждали, но в ответ на гудок разразились оглушительным звериным ревом. Даже очередной снаряд, закопавшийся у водонапорной башни, не смог его заглушить. Толпа заворочалась. Черное крошево людей посыпалось вниз. Сквозь просветы акации я видел, что к нам бегут – расходящимся веером.
Медлить было нельзя.
– Отправляй!.. – угрожающе скомандовал кто-то на локомотиве.
Опять зачем-то раздался длинный гудок. Вагоны дрогнули. Визгливо, будто заевшим металлом, отозвались рессоры. Балансируя на подножке, я пытался раздвинуть плотно закрытые двери. Не было никакого упора. Вдруг с хрустом просело и высыпалось окно по правую от меня руку. Это Маргарита запустила в него булыжником.
– Скорее!.. – крикнула она снизу.
Подхватив брошенный кем-то прут, я одним движением сбил оставшиеся в раме осколки. Затем накинул на раму пиджак, и жена, будто куль с тряпьем, перевалилась в тихие купейные сумерки. Кажется, она все-таки немного порезалась. Я заметил у нее темную кровь на локте. Впрочем, она тут же появилась в окне, принимая одного за другим близнецов. Состав уже трогался. Маргарита закинула в другое окно сумку с продуктами.
– Давай помогу! – сказал я, подхватывая ее под мышки.
Она почему-то вывернулась и уперлась в меня твердыми кулаками:
– Не надо…
По-моему, она просто сошла с ума. Толкая и отпихивая меня, все время повторяла: «Я никуда не поеду!..» Ее испачканное сажей лицо перекосила гримаса. Губы кривились. Волосы были как будто заряжены электричеством. В конце концов она дернулась так, что мы оба упали на гальку. Я ударился. Неторопливо проехал перед глазами последний вагонный бампер. Колесный тупой перестук укатывался в июльское марево. Вот электричка слегка изогнулась на повороте. Вот еще две секунды, и она совершенно исчезла за унылыми промышленными строениями.
Только теплые рельсы еще подрагивали.
Маргарита уселась на стык и достала откуда-то чудом сохранившуюся сигарету.
– Прости меня, – сказала она отрывисто. – Прости, я сама не знаю, как это случилось. Я вдруг почувствовала, что если уеду, то сразу умру. Глупо, конечно, но это, наверное, он нас не отпускает…
– Да, – сказал я, тоже присаживаясь. – Конечно, глупо.
Интересно, что и я чувствовал в себе то же самое. То есть если уеду сейчас из города, то жить не смогу.
– Ладно, чего уж там, не повезло…
Затрещала, ломаясь, акация через насыпь от нас, и оттуда остервенело выдрался взъерошенный, потный мужчина. Голову его обхватывала лыжная шапочка.
Он немного постоял, глядя на рельсы, а потом стащил эту шапочку и вытер ею потные щеки:
– Все, туды-сюды… Прокакали… Опоздали, выходит…
И вдруг, зверски исказив всю свою небритую физиономию, шмякнул шапочкой о закопченную гальку.
3. Зверь умирает
Горело несколько фонарей, и листва вокруг них была ярко-синяя. Она была ярко-синяя, живая, фосфоресцирующая как стая медуз, размытые пятна ее непрерывно перемещались, ветви двигались, и шелестом накатывался легкий невнятный шепот: душно нам… душно… душно… – Умираем… – вторили им обессилевшие тополя по краю сквера. Жесткая коричневая трава под ногами шуршала: спасите… спасите… – бритвенные лезвия ее медленно шевелились. Черное бездонное небо распростерлось над городом. Горела катастрофическая луна. Крыши домов опять были облиты стеклянным сиянием. Их свечение делало воздух еще темнее. Сад за узким Каналом все время менял свои очертания: расползался через ограду на улицу, клубился и колыхался. Он был скорее похож на скопление гнилостного тумана. Тусклые болотные искорки вспыхивали в его толще. А в самом Канале, который сейчас необыкновенно пах тиной, конвульсивно сгибаясь и сразу же вслед за этим стремительно распрямляя тело, забрасывая ряску на набережную, ворочалось что-то чудовищное: било по воде ластами, шлепало хвостом в гранитную облицовку, погружалось, всплывало и одновременно сквозь водяное бульканье тоже на что-то жаловалось. Голос был хриплый и вяжущий, словно из граммофона. Маргарита сделала еще шага три и в изнеможении остановилась.
– Я туда не пойду, – тяжело дыша, сказала она. – Страшно. Пожалуйста, не оставляй меня здесь.
Лицо ее бледным овалом проступало во мраке, темно-синие волосы сплетались с веточками акации. Было непонятно, где кончается одно и начинается уже другое. Ощупь жутких кустов переходила непосредственно в пальцы. Она пошевелила ими, и кусты зашуршали. Мелкие круглые листики появились на тыльной стороне ладони.
– Видишь, – сказала она, – он меня не отпустит. Он никого из нас не отпустит. Мы будем жить и мучиться вместе с ним. А когда он умрет, мы умрем тоже… – По-моему, недавно она уже говорила об этом. Жаркое течение ветра вдруг ополоснуло растительность. Луна исчезла, как будто ее сморгнуло огромное веко… Не было никакой Маргариты, и не было зыбкого тела, срастающегося с кустами. Были только – Сад и Канал. И были дома, окаймленные мертвой флуоресценцией. Стекла во многих из них отсутствовали, и при свете нескольких фонарей угадывалась внутри каменистая почва.
Было странно, что эти несколько фонарей работают. Электричество в городе отключили еще в начале июля. Я не слышал, чтобы потом что-либо изменилось. Тем не менее свет от них исходил – листва вокруг была ярко-синяя. Размытые пятна ее непрерывно перемещались.
– Осторожно, сейчас будет скользко, – сказал полковник.
После некоторого колебания он протянул мне руку. На сухих пальцах его ощущались шершавые земляные песчинки. Было действительно очень скользко. Вода спала, и донные камни были облеплены волокнистой тиной. Под ногами она расползалась и противно всхлипывала. Пахло йодом, гниющими водорослями, кое-где на поверхности мерцали распустившиеся кувшинки. Страстный их аромат примешивался к гниению. Дрожали и складывались в фигуры душные испарения. А под аркой моста, где сумрак сгущался особенно плотно, ворочалось, будто раненый крокодил, что-то чудовищное: било по воде ластами, шлепало хвостом в гранитную циклопическую облицовку, быстрые зеленые искры выскакивали из сумерек, и тогда в пене ила проглядывало что-то блестяще-кожистое. Каждый раз я вздрагивал и инстинктивно отшатывался.
– Не обращайте внимания, – строго сказал мне полковник. – Это – Чуня, он – добрый, если, конечно, его не трогать.
– Куда вы меня ведете? – спросил я.
– В Аид, в Царство Мертвых. – Полковник иронически усмехнулся.
И совершенно напрасно, как выяснилось, потому что именно в это время ноги его поехали в разные стороны. Он едва не рухнул в липкую жижу. Я буквально в последний момент успел поддержать его за острые локти. Ближайшая к нам кувшинка вдруг вспыхнула нездоровым электрическим светом. Из пылающего ее нутра высунулись два гибких кольчатых усика.
– Ничего, ничего, – бегло сказал полковник. – Не пугайтесь. Осталось уже немного.
Он сейчас совсем не походил на «мумию», кожа – бело-розовая, как у младенца, форменный военный костюм – тщательно отутюжен. Только глаза его немного портили впечатление: серые, без зрачков, как будто из непрозрачной пластмассы. Я невольно глянул туда, где на фоне зияющего провала Вселенной, будто средневековый замок, сожженный дотла, поднимало зубцы полуразрушенное бетонное здание. Протянул над ним руку башенный кран, и на тросе, серебряном от луны, по-моему, что-то раскачивалось. Правда, в последнем я вовсе не был уверен. Полковник перехватил мой взгляд и ослепительно улыбнулся.
– Да, – сказал он. – Это было очень-очень давно. Я сейчас вообще не уверен, что это было. Может быть, этого никогда и не было. – И он снова продемонстрировал мне крепкие белые зубы.
Фонари неистово вспыхнули. Листва вокруг них была ярко-синяя. Размытые пятна ее непрерывно перемещались. Душно нам… душно… душно… – накатывался легкий шепот. – Умираем… – вторили обессилевшие тополя по краю сквера. Что-то грузное, издыхающее ворочалось и бормотало в Канале. Почему-то отчетливо пахло свежевыкопанной мокрой землей. Комковатые глинистые отвалы загромождали всю набережную. Торчали из них плиты вывороченной облицовки. Будто замок, чернело зубцами разрушенное бетонное здание. Непроглядная тень от него достигала отвалов глины.
Профессор слегка передвинулся, чтобы свет попадал на бумагу.
– Вы, по-моему, меня не слушаете, – недовольно сказал он. – Дело, конечно, ваше, но вы все-таки подумайте о спасении. Лично я считаю, что спастись удастся только очень немногим. – И он тут же опять забубнил, близоруко склонившись над текстом: – Есмь бе месьсто во Граде, на стороне Коломеньской… Идеше межу троих мостов и как бу на острову, объятый водою… А и не доходяху до самой Коломеньской стороны… У Николы, що сы и творяша изговорение… Где сядяся каминь о каминь, и каменем не устояща… И сведоша до острова Каменныя же юлиця… В той же юлице вяще и живе есмь некто едино… По хрещенью имяху людскую сорымю – Грегорей… Ремесло же ему бяше бо – выкаливать свещи… И свия, и продаша, и от того питаяся… И все знаша и бысть он, некто, во зокрытом молчании… Бо он ходит внотре всей землы, яко звашося – Угорь… Угорь Дикой – рекоша сы ея имя… Тако ходе Земляной Человек внотре Угоря… И смотряху, разведша, и понияху на сые… Паго знае, где оживающе сердце Угоря… И спосташа туда, и глажа его, зарекоцея… А спосташа туда изсы острову Каменный юлицы… И поглажа рукою со многие пятна на сердцы… Начат битися и трепетать все яво тело… На мал час ропоташи и слинам потещи из ноздры… И потещи из ноздры его, сукров, охлябица земляная… И умре того часе – без гласа и воздыхания…
Профессор запнулся и, прислушавшись непонятно к чему, вдруг, как циркуль, сложил свою плоскую, долговязую нечеловеческую фигуру. Тотчас что-то быстро и коротко вжикнуло сбоку от нас и царапнуло по гранитной плите, выбив красноватые искры. Хлестнуло каменной крошкой. Короткий тупой удар расплескался у меня под ногами. Вероятно, пуля, срикошетив, воткнулась в землю. До меня вдруг дошло, что на другой стороне Канала уже довольно давно раздается рычание тяжелых нагретых моторов. Одновременно доносилась стрельба и какие-то крики. Видимо, там уже началась так называемая дезинфекция. А на нашей стороне, где, к счастью, пока было тихо, я заметил горбатую длиннорукую тень, метнувшуюся откуда-то из-за деревьев. Она почти на четвереньках, как зверь, перебежала освещенное луною пространство и нырнула за плиты, в спасительный резкий мрак. Мне показалось, что оттуда блеснули глаза.
– Вы меня опять не слушаете, – с отчаянием сказал профессор. Он расстегнул лежащий на коленях кожаный потертый портфель и убрал туда плотные, почти пергаментные, сухие страницы. Было в них что-то неуловимо знакомое.
– Откуда это у вас? – поинтересовался я, щурясь и придвигаясь ближе.
Потертый портфель явно принадлежал полковнику.
– Не имеет значения, – нервно сказал профессор. Он чуть вздрогнул и оглянулся назад, где перебегали точно такие же горбатые длиннорукие тени. В лунном свете обрисовался клинышек ассирийской бородки. – Нам, по-видимому, надо уходить отсюда. Это, к вашему сведению, богодухновенные тексты. Я обязан сохранить их в целости для следующих поколений. Это, если хотите, моя миссия… – Он умолк.
Я вдруг понял, почему так пронзительно пахнет сырой землей: небольшое, но, видимо, очень глубокое отверстие чернело меж плитами. Вероятно, отсюда начинались тайные подземные переходы к Храму.
– Я надеюсь, вы тоже идете? – спросил профессор.
– Нет, – ответил я. – Меня эти игры не привлекают…
– Как хотите, – сказал профессор, застегивая замочки портфеля. – Дело ваше, я, разумеется, не настаиваю…
Он сполз с плиты и просунул босые ступни в земляное отверстие. С края тут же поехали-посыпались вниз струйки грунта. В это время что-то уныло бухнуло на другой стороне Канала. Завыл воздух. Звуковая дуга согнулась и внезапно иссякла. Где-то слева от нас послышался мокрый тяжелый шлепок, и неожиданно поползла по камням лужица невысокого студенистого пламени. Синеватые язычки ее облепили плиту, на которой застыл профессор. Это был, вероятно, напалм. Я даже не успел испугаться. Потому что низкорослое, обросшее шерстью, горбатое существо, похожее на обезьяну, дико всхлипнув, тоже неожиданно вывалилось из-за плиты, и, припав, как собака, к земле, заюлило, повизгивая и глядя в упор на профессора. Тот уже наполовину просунулся в земляное отверстие, но – повис на локтях, и клинышек бороды оттопырился.
– Ах ты боже мой… – растерянно сказал он. – Ну конечно, куда же я без тебя? – И вдруг, протянув руку, нежно и ласково потрепал это существо по затылку…
На самом деле все это было не так. Горело несколько фонарей, и листва вокруг них была ярко-синяя. Размытые пятна ее непрерывно перемещались. – Душно нам… душно… душно… – накатывался лиственный шорох. Солдаты наступали на нас сразу с двух направлений. Часть их попыталась переправиться через Канал, примерно там же, где недавно и мы, и завязла, по-видимому наткнувшись на энергичного Чуню. Оттуда доносились плеск и беспорядочное постреливание. Зато другая их часть, которая сразу же сконцентрировалась под широкими тополями, вполне благополучно, по одному, перетянула свои силы уже за мостик и, развернувшись цепью, начала охватывать прилегающую к нему территорию. Троглодиты, очутившиеся в окружении, панически заверещали, в наступающих полетел град камней, палок и даже нечто вроде коротких дротиков, но палеолитическое оружие, конечно, оказалось бессильным против техники двадцатого века: автоматы прошили беснующуюся толпу, и за десять-пятнадцать секунд все было кончено. С новой силой почему-то засияла луна на небе. Я увидел, что спасшиеся троглодиты перебираются вглубь сада. Пахло дымом и свежими земляными отвалами. Безнадежно, как будто из преисподней, светила лужица прогорающего напалма. Я присутствовал здесь не телесно, а каким-то странным внутренним зрением. Распахнулись стены, и открылось взору безжизненное городское пространство. Зашипел жаркий ветер, сквозя по мертвым улицам и переулкам. Все мое тело пронзила хрустящая каменная конвульсия. Точно сделано оно было из ломкого кирпича и слоящегося гранита. Из гранита, асфальта, булыжника, песка, глины. Загудела напором вода, текущая по проржавевшим артериям. Провисли, как нервы, оборванные провода. Каждой клеткой я чувствовал, что в них уже давно нет электричества. И стены домов трескаются и еле держатся. И что некоторые разваливаются, образуя пыльные каменные лакуны. Словно язвы, саднили во мне территории всех четырех Карантинов. Я и не знал до сих пор, что Карантины, оказывается, подверглись беспощадному уничтожению. Гарь и пепел там были еще горячими. Бесчувственно лежали вокруг зыбкие болотные хляби. Здесь, по-видимому, уже начиналось последнее омертвение. Шуршала трава. Плоть земли была душная, твердая и холодная. Еле-еле мерцало в ней ветхое сердце. Я едва ощущал в себе редкие и тупые удары. Чувствовался в них ужас подступающей смерти. Я пошевелился, и земля подо мной начала постепенно проваливаться…
Нет, нет, нет, все это было абсолютно не так. Не было Сада, и не было фонарей, окруженных сиреневым ореолом. Не было гнилостного Канала, где поплескивал жижей Чуня. Не было цепочки солдат, пробирающихся по камням на ту сторону. Влажный непроницаемый мрак обнимал меня. Повсюду была земля. Материнской толщей простиралась она до самого края мира. Созревали в ней хрустальные воды, истончались древние ракушки, гулким эхом отдавались упрятанные в глубинах пещеры. Я, по-видимому, находился в одной из таких пещер. Ощущалось движение воздуха. Меня осторожно гладили какие-то руки. Несколько голосов повторяли нараспев, как молитву: «О великий и беспредельный в своем могуществе Дух Подземный… О тот, который живет вечно и сам есть вечность… Кому послушны и твари, и рыбы, и гады, и насекомые… И трава, возрастающая из могил, и тайные минералы… О тот, от кого протянулись нити наших судеб… Чье дыхание согревает и оживляет нас… Встань над нами и покажи миру свое лицо… Ибо лицо твое есть – любовь и страх…» По-моему, это пел небольшой, но слаженный хор. Или, может быть, это пели мятущиеся деревья в Саду? Низкие своды пещеры рождали эхо. Кое-где земляной коростой вырисовывались желтоватые завитушки корней. Срединная часть пещеры была утоптана до каменной твердости. А в расширенном и заглубленном конце ее поднималось уступами какое-то сооружение. В самом центре его сияла надраенная медная чаша. Вероятно, это было нечто вроде подземного капища. Его окружали грязноватые полуголые люди, видимо уже долгое время не стригшие ногтей и волос. Вместо одежды на них висели ленты из древесной коры. Лица, не знающие дневного света, пугали прозрачностью. Я все это очень хорошо видел. Ни единого проблеска в пещере не было, но я все это очень хорошо видел. Наверное, помогало то самое внезапно прорезавшееся у меня «внутреннее зрение». Между прочим, и сам город я сейчас видел по-прежнему и без всяких затруднений мог бы указать место, где мы находимся: прямо под Садом, всего метрах в пятидесяти от Канала. Я даже видел карикатурные мелкие фигурки солдат, затягивающих оцепление. Впрочем, я все это не видел, а скорее угадывал. Меня все никак не отпускали хрустящие каменные конвульсии. Люди в одежде из древесной коры высоко подняли руки. «Встань и покажи миру свое лицо…» – пели они тонкими голосами. Голоса дрожали, звуки были хрипящие. Тяжелый колокольный удар прокатился в пещере. А за ним сразу же – второй, третий, четвертый. В центре надраенной чаши вспыхнул венчик синеватого пламени. Вероятно, там находилась скрытая газовая горелка. Я увидел, что двое солдат наверху приблизились к подземному ходу – посмотрели в него и заговорщически переглянулись. Умирать они явно не торопились. Я чувствовал себя очень скверно. Я не мог ни вздохнуть как следует, ни пошевелиться. Все мое тело по-прежнему было из громоздкого камня. «Встань и яви свое лицо миру…» – гнусавили дьяконы и одновременно бросали в раскаленную чашу разные удивительные предметы: детскую куклу, старый башмак, книги, скомканные денежные купюры. Это у них, вероятно, что-то символизировало. Отказ от цивилизации или что-нибудь в этом роде. Тоже – не знаю. Думать об этом было некогда. Едкий горячий дым полз по пещере. Запах был отвратительный, но мне вдруг стало немного легче. В самом деле – я мог теперь двигаться и даже немного дышать. Точно треснула и сползла с груди какая-то тяжесть. Я попробовал согнуть в локте левую руку. Тут же послышался шорох осыпающейся невдалеке каменной крошки. На одной из стенок пещеры образовалась глубокая трещина. С мягким вздохом осела часть дальней кровли. Звякнул в последний раз и умолк засыпанный колокол. Медная чаша качнулась и как-то съехала совсем на бок. Дьяконы умолкли и все так же, воздев руки, попятились. «Возьми, возьми меня!..» – вдруг закричали отовсюду разнообразные голоса. Люди ползли ко мне на коленях и протягивали ладони. Видимо, я сделал именно то, чего они давно ждали. Вокруг меня самого билось что-то надрывное и скользко-холодное: сокращалось, растягивалось, опять сокращалось, опять растягивалось. Именно оно придавало мне силы.
– Что это? – шепотом спросил я, и тут же вновь зашуршала осыпающаяся кровля. Шепот вдруг раскатился как гром.
– Это ваше сердце, мой господин, – восторженно сказал профессор. Он каким-то образом вновь оказался рядом; тоже – протянул ладони и вздернул клинышек острой бородки. Глаза его слезливо посверкивали. – Неужели вы до сих пор не поняли? Не поняли? Ведь вы и есть – Зверь…
Меня поторапливали:
– Давай-давай!..
Народ по коридору двигался довольно густо. Честно говоря, я не ожидал, что будет столько народа. Стрелки круглых настенных часов показывали уже три минуты четвертого. Совещание в актовом зале должно было вот-вот начаться. Но я все-таки, рискуя туда опоздать, заскочил в тихий закуточек перед секретариатом и, не обращая внимания на удивленно выпрямившуюся Лелю Морошину, не здороваясь, не говоря ни слова, повернул к себе аппарат городской связи.
К счастью, телефон сегодня работал. Маргарита сразу же схватила трубку.
– Ну как? – спросил я.
– Звонили еще два раза, – ответила Маргарита. – То же самое: вежливые, но очень настойчивые угрозы. Лучше уж бы они матом ругались. В общем, если я тебя не представлю, то скоро пожалею об этом. И я чувствую, что действительно пожалею. Слушай, я тут одна, а они звонят каждый час…
По голосу было ясно, что она еле сдерживается. Скрипнув зубами, я осторожно покосился на Лелю. Леля кивнула мне и примиряюще улыбнулась. Она внимательно слушала разговор и не считала нужным это скрывать.
Впрочем, она была по-своему права. Я отвернулся. Маргарита ждала, и в трубке было слышно ее частое прерывистое дыхание.
Так дышат люди, которым уже немного осталось.
– Пожалуйста, не волнуйся, – сказал я ей намеренно равнодушным голосом. Я очень хотел ее успокоить. – Ты им не нужна. Им нужен – я, и никто больше. Они тебе ничего не сделают. Только не выходи на улицу. Дверь крепкая, вломиться не так-то просто. Занимайся своими делами. И прошу тебя, не звони сюда ни под каким видом.
– Ты ночевать придешь? – спросила Маргарита.
– Видимо, нет, – сказал я.
И сразу же, чтобы она не успела брякнуть ничего лишнего, нажал на рычаг.
Мне было как-то не по себе. Голос у Маргариты был чрезвычайно обеспокоенный. Конечно, у нее имелись для этого основания, но мне почему-то казалось, что трогать ее не станут. Реально не станут, несмотря ни на какие угрозы. Она им действительно не нужна. Маргарита – это только приманка. Им нужен я, а не перепуганная насмерть женщина. Правда, кто их знает. Случиться может все что угодно.
Леля теперь смотрела на меня в упор.
– Плохо? – спросила она.
– Плохо, – сказал я.
– Не расстраивайся, – сказала Леля. – Будет еще хуже.
Я вдруг заметил, что она вовсе не улыбается. То есть, конечно, улыбается, но – заставляя себя, через силу. А в глазах у нее стоят светлые слезы.
Она сказала:
– Он ничего не хочет слушать. Лезет на рожон. Сумасшедший какой-то. Он и раньше-то, по-моему, был не слишком нормальный, а теперь совсем съехал и уже ничего не соображает. Успел поссориться насмерть с генералом Блиновым. Скажи мне, пожалуйста, ну зачем он с ним поссорился? Думает, что – незаменимый? Он ошибается. В конце концов его просто убьют, чтобы не путался под ногами…
Она всхлипнула.
Я наклонился и поцеловал ее в щеку, пахнущую духами.
– Все будет хорошо.
– Ну тебя к черту! – сказала Леля…
– Нет, действительно…
– Все равно. Ну тебя к черту!..
В зале я устроился неподалеку от выхода. У меня было сегодня еще множество дел, и я вовсе не собирался высиживать здесь до конца совещания. Совещания эти мне порядком осточертели. Сколько уже собиралось таких совещаний, и что толку? Ни разу не слышал, чтобы на совещании говорили о чем-то существенном. Между тем народу сегодня набилось довольно много. Вероятно, удалось вытащить всех, кто в этот день был на службе. С некоторым злорадством я отметил, что присутствует даже Леня Куриц. Он сидел сбоку, по-видимому тоже намереваясь смыться в первый же удобный момент, и увлеченно что-то читал – быстро-быстро перелистывая страницы толстого фолианта. Подходить к нему я не стал. У меня не было никакого желания разговаривать сейчас с Леней Курицем.
Основной доклад сегодня делал генерал Харлампиев. По его словам, обстановка в городе оставалась исключительно напряженной. С одной стороны, она немного стабилизировалась, потому что после эвакуации значительно уменьшилась численность, как он выразился, активного населения. Теперь кордоны надежно блокируют весь периметр. Прорвать оцепление изнутри практически невозможно. Здесь мы наконец можем быть совершенно спокойными. Но с другой стороны, по его же словам, чрезвычайно ухудшилась ситуация в самом городе. Три последних «прорыва истории» имели печальные результаты. Город фактически разделился на сектора, изолированные друг от друга. И если с «Николаевским сектором», в котором имеются значительные войсковые соединения, договориться в общем-то удалось: император, будучи реальным политиком, в определенной мере пошел нам навстречу, с ним подписаны весьма значимые соглашения; и если «Блокадный сектор» в настоящий момент также серьезных опасений не вызывает, так как в силу своей специфики он не располагает большими людскими ресурсами, – там работа тоже ведется, и есть уже конкретные результаты, – то образовавшийся недавно «Сектор Петра», к сожалению, сразу же стал источником постоянной угрозы. Сведения об этом секторе у нас весьма тревожные. Петр, если только он существует, ни на какие переговоры с нами идти не хочет, окружение его относится к нам более чем враждебно, деловые контакты и даже простой сбор данных осуществляются с колоссальными трудностями. Более того, не соблюдается соглашение о разделе районов: войска из «Петровского сектора» постоянно нарушают границу. Правда, вооружение у них трехсотлетней давности и пока что локализация инцидентов происходит без особых потерь, но ведь оба императора в конце концов могут договориться, и тогда у нас просто не хватит сил, чтобы контролировать обстановку. Гвардия Николая Первого вполне боеспособна, сказал он.
Здесь генерала Харлампиева прервали. Председательствующий, незнакомый мне человек в темно-зеленом полувоенном френче, неожиданно поинтересовался, почему так долго существуют эти «прорывы истории». Предыдущий «прорыв», насколько он помнит, длился около суток. А здесь месяц уже на исходе, но никакой… э-э-э… «спонтанной деструкции» не наблюдается. Как вы это можете объяснить? Генерал Харлампиев кратко ответил, что в данном «прорыве» срок жизни «мумий» существенно увеличился. Тогда председательствующий спросил, может ли генерал Харлампиев восстановить в городе твердый порядок. Генерал Харлампиев тут же ответил, что безусловно может. Председательствующий спросил, что ему для этого требуется. Генерал Харлампиев ответил, что ему для этого требуются вертолеты. Болотная масса все разрастается, и наземные операции малоэффективны. Тогда председательствующий спросил, сколько именно вертолетов потребуется. Генерал Харлампиев внятно назвал цифру. Председательствующий подумал и сказал, что вертолеты будут.
– У вас все? – с некоторым нетерпением спросил он.
У генерала Харлампиева было все. Он сел на место и тяжеловато отдулся. А затем достал из кармана клетчатый красный платок и промокнул им лоб и затылок.
– Собственно, я не понял, почему «мумии» теперь стали жить так долго? – сказал председательствующий.
Он не обращался ни к кому конкретно. Вопрос был задан в пространство. Однако люди в передних рядах начали оборачиваться и оборачивались до тех пор, пока не уперлись взглядами в самый конец зала.
Меня словно черт толкнул в спину. Я неторопливо поднялся.
– Здесь, вероятно, работает эффект «критической массы», – сказал я. – Если два положительных масс-феномена сосуществуют в едином пространстве и если экзистенция их реальна, то есть отличается от нуля, то, согласно закону «квантовой пары», оба они становятся автаркоидами, пусть даже масса их в данном случае есть уже не масса, а время. Проще говоря, «мумии» живут, потому что их много. Чем больше сумма «квантовых трансформаций», тем длительнее «прорыв истории». Можно предполагать, что в идеале он стремится ко всеобъемлющему ничто…
Здесь я остановился и несколько перевел дыхание. Кстати, если бы меня сейчас попросили снова повторить эту чушь, я бы, скорее всего, не смог.
В зале ошарашенно оцепенели.
Председательствующий покашлял:
– Ну вот… наконец-то… объяснили по-человечески…
Я думал, что меня сейчас просто выведут с совещания. Но, как выяснилось, выводить меня никто вроде бы не собирался. Напротив, председательствующий глянул на меня вполне благосклонно, и затем слово предоставили следующему оратору.
Это был заведующий коммунальным хозяйством города. Оратор из него был, мягко скажем, как из меня балерина. И все-таки, если продраться сквозь его меканье, беканье и всяческие «это самое», можно было понять, что городские коммуникации окончательно развалились. За последние две недели произошли множественные разрывы труб, и наладить водопровод хотя бы в центральных районах практически невозможно. Нет ремонтников, нет частей, наконец, просто нет денег. Так же и по тем же причинам невозможно наладить систему канализации. О снабжении населения газом в этих условиях и говорить не приходится: после нескольких тяжелых аварий все газоснабжающие станции пришлось заблокировать. Сейчас налаживается снабжение граждан газовыми баллонами. Мера, конечно, временная. И обеспечить баллонами всех, разумеется, не удастся. В общем, это самое, безнадежно заключил оратор.
Вид у него был совершенно несчастный. Он словно ждал, что на него сейчас набросятся сразу со всех сторон. И опасения его были, по-видимому, не напрасны, председательствующий тут же суровым голосом поинтересовался, как это могло случиться, что город доведен до такого безобразного состояния.
– Дык, это самое, – ответил заведующий коммунальным хозяйством. И опять начал бормотать что-то о нехватающих запчастях и некомплектных ремонтных бригадах. Причем бормотал он об этом достаточно долго, так что зал постепенно начала охватывать легкая, но неодолимая дрема. Я видел, как люди вздрагивают, чтобы отогнать сон, и трут щеки. Казалось, что на этом данное выступление и закончится. Однако тут заведующий коммунальным хозяйством допустил непростительную ошибку. То ли он сам начал засыпать во время своей путаной речи, то ли счел себя несправедливо обиженным и утратил бдительность. Тут, наверное, могло быть и то и другое. Только он вдруг ни с того ни с сего ляпнул, что если бы, это самое, не диверсии, если бы не диверсии, это самое, работать ему было бы значительно легче. Вот подорвали, это самое, значит, две подстанции, вот и сидим теперь, это самое, значит, без электричества. Укокошили, это самое, главного инженера, вот и некому, это самое, значит, наладить водопроводный комплекс. Про снабжение, это самое, газом я уже, это самое, и не упоминаю. В общем, ну никак, это самое, значит, то есть, это самое, оно, значит, никак, это самое…
Заведующий еще пытался говорить что-то в подобном духе, но тут председательствующий выпрямился и картинно поднял брови.
– Какие еще у вас тут диверсии? – железным голосом спросил он.
В зале наступила полная тишина. Все, казалось, опять застыли в глубоком обмороке. На заведующего коммунальным хозяйством было больно смотреть. Он сначала покраснел, затем побледнел, и все это буквально в какие-то две-три секунды, вдохнул, выдохнул, внезапно покрылся мутными зеленоватыми пятнами и в конце концов просто обвис на трибуне, точно рыба беззвучно глотая ртом воздух.
Тишина в зале становилась невыносимой.
– Позвольте мне пару слов, – негромко сказал генерал Блинов.
Председательствующий не сразу кивнул.
Генерал Блинов не стал выходить на трибуну. Он спокойным жестом придвинул к себе черную голову микрофона и на долгие пять секунд замолчал, вероятно раздумывая и собираясь с мыслями. Это были ужасные пять секунд. Каменели лица, и боязливо угасали в зале скрипы и шорохи. Люди застывали как статуи и, вероятно, опасались пошевелиться. Вдруг стало чувствоваться полное отсутствие звуков. Только тогда генерал Блинов наконец прервал паузу.
Он сказал, что обстановка в городе с самого начала сложилась очень тревожная. Исключительно непростая, тревожная и даже до некоторой степени угрожающая. Безответственные элементы из числа так называемого «Общественного совета» – если помните, был некоторое время назад создан такой странный орган, который сразу встал в оппозицию к официальным органам власти, – воспользовавшись удобным случаем, стали сеять среди населения панику и распространять провокационные слухи. При этом бездоказательно очернялось нынешнее руководство страны, якобы бросившее город на произвол судьбы, использовалась прямая ложь и клеветнические измышления. Целью их было окончательно дестабилизировать ситуацию, с тем, чтобы в обстановке разброда и хаоса реализовать свои политические устремления. Надо честно признать, что в определенной мере это им удалось. В частности, так называемая эвакуация, при которой пострадали десятки, а может быть даже и сотни мирных людей, явилась следствием злонамеренно сфабрикованной информации о якобы распространяющейся в городе эпидемии. Каковая якобы приобретает необратимый характер. Причем всячески подчеркивалось бездействие военной администрации в этом вопросе. Что, разумеется, полностью не соответствует действительности. Как известно из заключения городской медицинской службы, никакой эпидемии в городе нет.
Здесь генерал Блинов вновь замолчал и, наверное, с полминуты сонно глядел в зал. Зал будто вымер. Я, во всяком случае, не слышал ни одного дыхания. Только председательствующий, точно во сне, равномерно кивал, видимо одобряя и соглашаясь со сказанным.
Разумеется, мы не могли оставить данные акции без внимания, продолжил генерал Блинов. Городское управление внутренних дел и сотрудники Федеральной службы государственной безопасности неоднократно беседовали с представителями различных политических группировок и предупреждали их о недопустимости действий, угрожающих жизни и благополучию российских граждан. Им было предложено прекратить враждебную агитацию и перейти к деловому конструктивному сотрудничеству с городскими властями. Однако верх здесь, к сожалению, взяли политические амбиции. Лидеры отдельных организаций, входящих в состав «Общественного совета», все-таки продолжали осуществлять свою разрушительную деятельность. Более того, они встали на путь прямого, злостного нарушения законов нашего государства. Ими были совершены несколько диверсионных актов на важнейших объектах городского хозяйства, предпринято наглое бандитское нападение на здание горисполкома, в результате чего, кстати, имеются человеческие жертвы, организовано несколько покушений на представителей местных властей. Естественно, что в этих условиях Городским управлением внутренних дел и сотрудниками Федеральной службы государственной безопасности был вынужденно предпринят ряд ответных мер…
Генерал Блинов замолчал в третий раз, но вот этой, вероятно, самой зловещей паузе не суждено было длиться долго, потому что в ту же секунду, как выстрел, ударило откидное сиденье, и я увидел, что Леня Куриц идет по проходу – даже не особенно пригибаясь и как-то торжественно прижимая к груди свой фолиант. Сейчас же ударило еще одно откидное сиденье, и еще одно, и еще. Казалось, что вместе с Курицем уходил весь зал. Я даже зажмурился. Впрочем, когда я открыл глаза, то понял, что ошибаюсь. На самом деле уходили человек девять-десять – с напряженными, мертвенно неподвижными лицами. Кажется, это были те, кто побывал в Карантине. Точно не знаю. И непонятно было, что они собирались доказать своим демонстративным уходом. Что заместитель военного коменданта города генерал-лейтенант Блинов нас обманывает? Ну и что? Это, я думаю, и так всем было известно. Или что порядочные люди не могут находиться с ним в одном зале? Но тогда порядочные люди вообще должны сидеть дома. Или, может быть, они надеялись таким образом что-нибудь изменить? В общем, глупая, несерьезная, какая-то ребяческая демонстрация. Я догадывался, что злюсь я не столько на них, сколько, пожалуй, на самого себя. Мне, наверное, тоже следовало бы встать и демонстративно уйти отсюда. Однако для этого у меня не хватало элементарной смелости, и только минут через десять, когда возникла довольно вялая перепалка между представителем Санитарного управления, требовавшим немедленной эвакуации города, и флегматичным, вдруг успокоившимся председательствующим, который снисходительно повторял: «Нам этого никто не позволит…», – воспользовавшись некоторым оживлением в зале, я выскользнул оттуда наружу.
Участвовать в дискуссии мне совсем не хотелось.
Вместо этого я торопливо свернул по главному коридору и опять заскочил в закуточек перед секретариатом. Леня Куриц уже находился там. Он сидел на обширном кожаном диване, предназначенном для посетителей, и, прищурив один глаз, зажав зубами кончик розового языка, очень осторожно лезвием бритвы вырезал страницу из своего фолианта. Он был так увлечен этим противозаконным занятием, что высунул кончик языка и совсем не обращал внимания на Лелю, которая прильнула к нему, обнимая и шепча что-то на ухо.
Вид у нее был обалденно счастливый.
– Прошу прощения, – неловко сказал я.
Леля тут же отпрянула, выпрямилась и окинула меня неприязненным взглядом. А затем кивнула в сторону стола, заваленного бумагами:
– Тебе там письмо.
Я порылся в корреспонденции и вытащил конверт, прочеркнутый синей линией эпидемиологического контроля. Письмо было, разумеется, от жены. Она сообщала, что у них все в порядке. Доехали они в общем благополучно, устроились в Ярославле так же – более-менее. Скоро она выйдет на работу в местную поликлинику. Близнецы, слава богу, здоровы, сейчас за городом. Беспокоятся только из-за отсутствия вестей от меня, потому что слухи здесь ходят самые фантастические.
Заканчивалось письмо просьбой написать как можно скорее.
Ладно. Я засунул тетрадный листок в карман и взялся за трубку. Леня Куриц меж тем уже отрезал страницу и теперь поднял ее к свету.
Вдруг – громко цыкнул зубом от удовольствия.
– Привет-привет, – быстро сказал он, не поворачивая головы. Он, по-моему, только что меня заметил. – Ты, кстати, уверен, что это было именно сердце? Ну, которое, помнишь, «скользко-холодное и сокращалось-растягивалось»?..
Я пожал плечами:
– Откуда я знаю…
– А отождествление со Зверем у тебя было полное?
– Полнее некуда…
Отвечая ему, я одновременно набирал номер. Послышались длинные уверенные гудки, но на том конце трубку упорно не брали. Впрочем, это еще ничего не значило. Маргарита могла в ярости просто выдернуть телефонный провод. А могло быть, кстати, и так, что отключена вся линия.
– Сегодня связь есть? – спросил я у Лели.
Она кивнула на аппарат:
– Пока работает.
– А в моем районе – не слышала?
– Ну, это надо выяснить у связистов. Да!.. – Она подняла руку и быстро-быстро, нетерпеливо пощелкала пальцами. – Да! Забыла. Тебя тут добивается какая-то женщина. Охрана ее остановила: нет пропуска, но она просила тебе передать, что будет ждать возле выхода.
– О черт! – сказал я.
Вероятно, это и была Маргарита. Все-таки притащилась сюда.
С ума сошла.
Сердце у меня бешено заколотилось.
– Куда ты?.. – с любопытством, даже оторвавшись от лицезрения текста, спросил Леня Куриц.
Я на секунду остановился, придерживая створку дверей:
– Включи тревогу!.. Вызови дежурное подразделение!..
Задребезжал резкий звонок, замигал, сигнализируя об опасности, свет в коридоре. Уже отворачиваясь, я еще успел заметить, как Леля усиленно нажимает какие-то кнопки на пульте, а подброшенный точно пружиной Куриц пытается ухватить выскользнувший у него из рук фолиант. Толстенная черная книга медленно, как в невесомости, переворачивается.
Впрочем, все это было уже где-то далеко позади. Я скатился по лестнице и перебежал вестибюль, нырнув в подкову металлоискателя. Кажется, в этой подкове что-то заверещало. Медленно, опять же как в невесомости, всплывал из-за барьера дежурный с нарукавной повязкой. Тяжелые дубовые двери еле сдвигались. Хлынуло солнце. Дохнули в лицо душные асфальтовые испарения.
Я, вероятно, на всю жизнь запомню эту картину. Справа от меня располагалась стоянка служебных автомобилей: среди беспорядочно приткнувшихся легковушек выделялся своей массивностью зеленый фургон явно военного вида, а немного левее него, где проход к зданию в целях безопасности был огорожен, трое рослых охранников, держа кверху дулами автоматы, препирались с чрезвычайно вальяжным и осанистым человеком, одетым в роскошный камзол старинного времени. Рядом с ними пофыркивала ноздрями серая в яблоках лошадь. Значит, «мумия». Забрел, по-видимому, не в свой сектор. Но однако если уж быть совсем точным, то они в этот момент вовсе не препирались, а, напротив, разинув рты, уставились на здание горисполкома. Вальяжный человек, по-моему, пытался креститься. За цветастым поясом у него был, как топор, вычурный пистолет устрашающе громадных размеров. Таким пистолетом только лупить врага по лбу. Больше я никого не видел и поэтому на какие-то доли секунды испытал легкую радость. Правда, всего лишь – на какие-то доли секунды. Потому что уже в следующее мгновение выскочила из-за фургона, вероятно, укрывавшаяся там Маргарита и, размахивая поднятыми над головой руками, устремилась в мою сторону.
Расстояние между нами было метров пятьдесят – семьдесят. Сердце у меня сжалось. Болезненная судорога перехватила горло. Почему-то я не ждал ничего хорошего от появления Маргариты. И действительно, из круглого сквера посередине площади, где вздымалась на постаменте лошадь, несущая императора, тут же, словно чертики из коробки, выпрыгнули двое парней в серых безликих комбинезонах и точно так же устремились ко мне, вытягивая вперед сцепленные ладони.
– Пах!.. Пах!.. Пах!.. – раздалось на площади.
Выстрелы почему-то булькали приглушенно. Звонок в стенах горисполкома осекся, не знаю уж, кто и зачем его наконец выключил, зато из окон первого этажа навстречу бегущим выплеснулась короткая очередь. Судя по всему, палила охрана. И еще одна очередь хлестнула откуда-то сверху.
Все это разворачивалось очень быстро.
– Назад!.. – крикнул я Маргарите, тоже дико размахивая руками.
Но она то ли не слышала, то ли растерялась, замявшись перед взвизгнувшей по тверди асфальта пулей.
– Назад!.. Назад!..
Вероятно, мне самому следовало отступить. Ведь покушение было организовано именно на меня. Но я этого в тот момент как-то не сообразил и, наверное в свою очередь потеряв голову, бросился к Маргарите. Я, по-моему, намеревался толкнуть ее под защиту фургона. Не знаю. Уже не помню. Я вообще очень плохо тогда что-либо соображал.
Однако это мое намерение было явной ошибкой.
– Пах!.. Пах!.. Пах!.. – снова раздалось на площади.
Звякнуло выбитое стекло. Заржала лошадь. В ту же минуту вальяжный осанистый человек, находившийся рядом с охранниками, вдруг достал из-за пояса свой доисторический пистолет и не целясь выстрелил по направлению к памятнику. Эффект этого выстрела был жуткий. Словно выпалила мортира, начиненная чудовищным количеством пороха. Грянул гром, и все заволокло едкими белесыми клубами дыма. А когда он немного рассеялся, впитываемый жарким воздухом, то я увидел, что один из боевиков лежит раскинув ноги и руки, точно в свободном падении, вместо головы у него какая-то малиновая капуста, а второй боевик приседает и пятится обратно к скверу. И туда же, пригнувшись, бегут солдаты от горисполкома.
То есть обстановка здесь в корне переменилась.
Но одновременно я увидел, что Маргарита, уже почти добежавшая до меня, вдруг остолбенела, будто налетев на невидимую твердую стенку, сделала еще один неуверенный шаг, словно земля под нею заколыхалась, и, осев на асфальт, повалилась, точно тело ее внезапно стало матерчатым.
И я тоже остолбенел в ту минуту. Тоже – будто наткнувшись на невидимую твердую стенку. Со мною, наверное, что-то такое случилось. Мне бы следовало подойти к Маргарите, но я не мог этого сделать. Мне бы следовало помочь ей, но я не двигался с места. Меня толкали и спрашивали о чем-то, а я ничего не слышал. Я только смотрел, как она там лежит – ничком, на асфальте, – и как возникшие откуда-то санитары переворачивают ее, чтобы положить на носилки, и как старший из них безнадежно, так что все становится ясным, машет ладонью, и как они затем перетаскивают ее к светло-желтому медицинскому автомобильчику.
Лишь когда кто-то осторожно взял меня под руку, я обернулся.
Это был Куриц, и лицо его казалось высеченным из серого камня. Совершенно безжизненное, с пыльными, непроницаемыми глазными яблоками. Вот он моргнул, и впечатление было такое, будто моргнула статуя.
Мелкие морщинки побежали по коже.
– Все. С этим пора заканчивать, – сказал он.
К вечеру собралась гроза. Небо почернело, закрывшись грозными лиловыми тучами. Стояли они очень низко, и когда задевали за трубы или за крыши домов, то из рыхлого облачного нутра вываливались ветвистые молнии. Точно огненная фата одевала все здание, а затем стекала к асфальту, который шипел и плавился. Грома почему-то слышно не было. Неправдоподобная тишина подернула воздух. Ни единого звука не доносилось снаружи, только иногда, словно под невидимыми шагами, скрипела в глубине квартиры какая-то половица. Это была громадная, петербургская, старинная девятикомнатная квартира с невероятной по размерам своим тусклой и грязноватой кухней и с таким коридором, что там можно было играть в большой теннис. Правда, сейчас здесь играть было некому. Все девять комнат этой квартиры были безлюдны, и сквозь полуотворенные двери угадывался кавардак сдвинутой впопыхах мебели. Жильцы квартиры покинули ее во время эвакуации. Леля теперь жила здесь совершенно одна. Это было для нас чрезвычайно удобно, а также чрезвычайно удобно было и то, что квартира находилась в Петроградском районе. Этот район города почему-то пострадал меньше других. Здесь даже водопровод работал, правда с некоторыми перебоями, а по вечерам иногда на два-три часа подключали и электричество. Жить, вообще говоря, было можно. Чего же не жить, если и водопровод тебе тут, и электричество! Квартира, кстати, имела еще и то преимущество, что на кухне ее сохранился от старого времени черный ход, причем спускался он в глухой помоечный угол двора, а оттуда через сквозную парадную был выход на соседнюю улицу. При случае это могло оказаться полезным.
Я не очень хорошо помнил, как попал в эту квартиру. Кажется, меня привел сюда Леня Куриц. Кажется, Леня Куриц. Однако я не был в этом уверен. Несколько последних часов я находился в совершенно бессознательном состоянии. Маргарита погибла из-за меня – вот что как гвоздь застряло в пылающей памяти. Из-за меня, из-за меня, только из-за меня. Если бы я как дурак не ринулся к ней через площадь, она не попала бы под огонь. Виноват во всем был именно я, я один, и прощения мне теперь не было. Я смотрел на молнии, заплетающиеся авоськами вокруг зданий, на кривое и беспорядочное нагромождение труб, похожих на филинов, на провалы дворов, в которых сгущались сумерки, и – ненавидел самого себя. Но еще больше я ненавидел город, раскинувшийся внизу. Умирающий город, душу бывшей империи. Погибала страна, и сердце ее останавливалось. Или, наоборот, останавливалось дряхлое сердце, и поэтому страна погибала. Честное слово, мне было все равно – так или этак. С этим пора заканчивать, недавно сказал Леня Куриц. Я не знал, имеет ли он в виду что-то конкретное. Леня Куриц уже давно не посвящал меня в свои планы. Он и раньше-то, в прежние времена, был достаточно скрытен, а теперь, когда дело приближалось к развязке, стал практически недоступен для нормального разговора. Я догадывался о его деятельности лишь по некоторым деталям. Например, я знал, что он обшарил все исторические архивы города и составил обширный свод, фигурирующий в секретной документации как «Земляная папка». Ну и что? Доступа к этой папке у меня все равно не было. Я также знал, что он тщательно обшарил и все городские спецхраны, изучая как давние партийные документы, так и некоторые бумаги бывшего Комитета государственной безопасности. Разрешение на это ему дал генерал Харлампиев (вероятно, поэтому Куриц и согласился на временное сотрудничество с военными). Я знал, что он собрал чрезвычайно обширные сведения по динамике населения города: социальный состав и смертность чуть ли не за все три столетия. Работа была проделана колоссальная. Вероятно, в ней заключался какой-то смысл, ускользающий от постороннего взгляда. И трудился он, между прочим, не в одиночку. При Военной комендатуре существовало несколько групп, занимавшихся чем-то вроде научных исследований. Жалкие остатки нашей Комиссии. Я не понимал, кто учредил эти группы и с какой целью. Тем не менее группы существовали и, кажется, даже обеспечивались оборудованием и деньгами. Официально Леня Куриц не участвовал ни в одной из них, но, по-моему, имел возможность использовать полученную информацию. В этом ему опять же содействовал генерал Харлампиев. Странный у них был альянс, очень странный. Но, во всяком случае, он приносил определенные результаты. Правда, я до последнего момента не знал, какие именно. Леня мне о них почти ничего не рассказывал, он мне то ли не доверял, то ли резонно боялся, что из меня эти сведения в конце концов вытрясут. Думаю, что скорее второе, чем первое.
Да и я, надо признаться, не особенно интересовался его делами. Кончался август. Прошла примерно неделя со дня гибели Маргариты. Все эти дни я прожил в какой-то непреодолимой апатии. Точно надо мной, как, впрочем, и надо всеми нами, должна была разразиться некая чудовищная катастрофа. Я не мог объяснить, конечно, откуда эта катастрофа последует, я не мог начертать ее облик и предсказать какие-либо конкретные ее признаки, я не мог даже примерно сказать, что послужит главной причиной обвала – ничего подобного в моем сознании не было, – но не прекращающаяся ни на секунду острая внутренняя тоска убеждала меня, что разразится она буквально в ближайшее время. Вероятно, это было предчувствие смерти, которое возникает у неизлечимо больных людей. Мне, наверное, каким-то образом передавалось состояние Зверя. Так или иначе, но оно не отпускало меня ни на мгновение. И сейчас, когда я смотрел на набирающую силы грозу, то с ужасом понимал, что все уже, по-видимому, свершилось. Все свершилось, исполнились последние сроки, темное апокалиптическое знамение затмило собою небо, стрелки судьбы совместились, мы переступили черту, из-за которой уже нет возврата. Нам никто и ничем не поможет. И понимание этого было настолько отчетливым, что я не выдержал. В кухонном серванте я нашел припрятанную Лелей бутылку водки, торопливо, стараясь ни о чем не задумываться, налил себе чуть ли не половину стакана и, не отрываясь, выпил противную пахучую жидкость. А потом возвратился в комнату, бросился в кресло и крепко зажмурился. Я надеялся, что если что-нибудь и произойдет, то я этого не почувствую.
Разбудила меня Леля Морошина. Она дергала меня, пощипывала, толкала, трясла за плечи, терла мне уши, правда не слишком больно, ерошила волосы и дрожащим, умоляющим голосом повторяла:
– Ну, давай, давай!.. Ну, просыпайся же наконец, просыпайся!..
Я с трудом выдирался из вязкого одурения. В комнате было уже светло – видимо, гроза миновала. Солнце очистилось, и в знойных его лучах переливались тысячи белесых пылинок. Жестяной будильник на тумбочке показывал четверть седьмого.
Сознание у меня начало проясняться.
– Это утро уже или вечер? – спросил я, бессмысленно таращась на стрелки.
– Ну слава богу! – с несколько истерической радостью сказала Леля. – Я уже думала, что ты никогда не очнешься. Леонид здесь не появлялся? Нет? У тебя, по-моему, была – летаргия. Тормошу, тормошу тебя – будто умер. Надо было, наверное, сразу – облить холодной водой из ковшика. Ты меня напугал – ну я прямо не знаю… Поднимайся, давай-давай, надо укладывать вещи. Мы немедленно отсюда уходим…
Она как сумасшедшая птица металась по комнате, хватала разные безделушки и тут же ставила их обратно на место, распахнула все дверцы шкафа и выдвинула нижние ящики, навалила на кресло, где я пребывал, целый ворох одежды. Кажется, она совсем потеряла голову, закусила губу и невнятно твердила: скорее… скорее… Верхняя пуговица на платье была оторвана.
– Может быть, ты мне все-таки скажешь, что случилось?! – гаркнул я во весь голос.
Тогда Леля на какое-то мгновение замерла и, вдруг крепко сцепив ладони, хрустнула сразу всеми костяшками:
– Знаешь, по-моему, я пропала…
И смахнула слезу, которая перекатилась через краешек века.
Дело, как можно было понять, заключалось в следующем. Сразу же после роковых выстрелов на площади перед горисполкомом, когда еще царили растерянность и некоторая паника от вездесущности террористов, – ведь только-только генерал Блинов докладывал о принятых мерах, – человек в полувоенном френче, председательствовавший на совещании, очень твердо и решительно взял власть в свои руки. Все его полномочия были немедленно подтверждены Москвой. И буквально к вечеру того же дня вдруг неизвестно откуда появилось великое множество точно таких же людей: в полувоенной одежде, в сапогах, с оттопыренными галифе, которые быстро заняли почти все имеющиеся в здании кабинеты и, не вдаваясь ни в какие дискуссии с прежней администрацией, тут же начали проявлять какую-то жутковато-лихорадочную активность. Большинство сотрудников горисполкома было немедленно арестовано. Также было арестовано несколько человек из руководства Военной комендатуры. Генерала Харлампиева сразу же отстранили от должности. Зато в главном зале горисполкома повесили громадный портрет товарища Сталина. Окна, выходящие на улицу, плотно зашторили. В коридорах поставили часовых в вылинявших гимнастерках. Причем у офицеров вместо погон были в петлицах шпалы и ромбики. А во внутренний дворик выкатили пару грузовиков с работающими моторами. Самой Леле, можно сказать, повезло: ее вызвали в кабинет, где когда-то располагался отдел учета, и какой-то вежливый, но сильно изможденный молодой человек, страдающий тиком, продержал ее, наверное, часа полтора, выясняя подробности Лелиной биографии. Где она родилась, где жила и не пребывала ли на временно оккупированной территории. Под «временно оккупированной территорией» он понимал почему-то только «Петровский сектор». Все это было муторно, одно и то же приходилось повторять по несколько раз. К тому же молодой человек даже как бы радовался, когда обнаруживал в ответах некоторые неточности. К концу допроса Леля уже твердо решила, что дела ее плохи. Однако молодой человек придерживался, видимо, другого мнения. Завершая беседу, он велел Леле расписаться на двух устрашающего вида бланках, а потом выпрямился и торжественно объявил, что лично он товарищу Морошиной полностью доверяет, лично он убежден, что товарищ Морошина всем сердцем предана делу партии, и поэтому он поручает товарищу Морошиной задание особой важности.
– Вам будет оказано исключительное доверие, оправдайте его, – сказал молодой человек. После чего он вызвал охранника и Лелю проводили в подвал.
О том, что было дальше, Леля рассказывать не хотела. Она лишь повторяла сквозь слезы:
– Их били, их там все время били ногами и палками… Они не хотели признаваться ни в чем, и их за это били опять… А я должна была записывать в протокол то, что они говорят… А потом их снова бросали на пол и снова били… А тех, которые ни в чем не сознались, уволокли во двор… Идти они уже не могли, так их избили…
В общем, она, по-видимому, попала в «конвейер», то есть в серию непрерывных допросов, когда обрабатывается большое количество подозреваемых. Я до сих пор о подобных методах только слышал. Леля не могла сказать, сколько времени она провела в том подвале. Ощущение времени у нее совсем потерялось. Через тысячу лет, наверное, ее отпустили – перекусить в буфете, она выбралась в коридор и вдруг увидела, что дверь на улицу из подсобного помещения приоткрыта. Бывает иногда такое удивительное везение. Она выскочила через эту дверь и свернула в первый же попавшийся переулок, а затем почти сразу свернула в еще один переулок, а потом – побежала, хотя лучше бы, наверное, было идти неторопливой походкой, и бежала, бежала – ничего перед собою не различая. Сюда, на Петроградскую сторону, она добралась пешком, потому что транспорт в городе совсем не работает, в этом городе уже ничего не работает, а откуда-то из района Дворцовой площади доносится отчетливая перестрелка.
– В общем, надо уходить как можно быстрее, – заключила Леля. – Меня, наверное, уже спохватились. Этот адрес есть в нашем отделе кадров. Они могут быть здесь с минуты на минуту…
Она заразила меня своей паникой. Я вдруг тоже начал метаться по комнате и хватать разные вещи. Сумка, которую достала Леля, быстро наполнилась. Но уйти из квартиры вовремя мы все-таки не успели. Едва я затянул на сумке тугую, видимо, пересохшую молнию и едва с двух сторон прицепил ремень, чтобы ее можно было взять на плечо – собственно, уже примеривался, чтобы половчее закинуть, – как дверь на лестницу сначала осторожно тронули, наверное проверяя, а затем негромко, но отчетливо постучали условным стуком: три удара – пауза – еще три удара. А когда я, вероятно побледнев от волнения, боязливо открыл замок, ожидая, как, впрочем, и Леля, чего угодно, в квартиру через узкую щель не вошел, а как бы просочился без единого звука невысокий и гибкий юноша с черным кожаным саквояжем в руках.
– Леонид Иосифович здесь проживают?
Он как будто сошел с дешевого рыночного лубка: светловолосый, голубоглазый, с чуть припухлыми, нежными девичьими щеками. Ресницы у него были пушистые, а взгляд ярких глаз чистый и радостный, как у младенца. В общем, этакий пастушок. Этакий отрок Варфоломей, которому является святое видение. Впечатление портила лишь свежая царапина, располосовавшая шею. Как-то она не гармонировала с этим обликом.
– Так могу я видеть Леонида Иосифовича?..
Я объяснил ему, что Леонид Иосифович сейчас отсутствует. Нет его, и когда он будет, никому не известно. Вообще неизвестно, кстати, будет ли он здесь сегодня. Леонид Иосифович нам о своих планах, к сожалению, не докладывает. Заодно я в двух словах обрисовал ему сложившуюся ситуацию и сказал, что мы как раз собираемся исчезнуть отсюда.
Голубоглазый юноша немного подумал.
– Хорошо. Тогда я его подожду, если позволите.
После чего он быстро и тщательно запер за собой двери, присел на корточки, с легонькими щелчками открыл замки своего пузатого кожаного саквояжа, на секунду задумался, видимо соображая, как лучше сделать, и двумя-тремя заученными движениями извлек оттуда нечто электротехническое: какую-то круглую жестяную коробку с двумя клеммами, моток блестящих новеньких проводов, желтых, зеленых и красных, пассатижи, одетые в рубчатую резину, и еще что-то загадочное, зубчатым колесом своим напоминающее динамо-машину. Были там какие-то винтики в низкой банке, какие-то мелкие гаечки, какие-то замысловатые изогнутые контакты. Пастушок очень ловко собирал все это в единое целое: подгоняя, подкручивая и не обращая на нас никакого внимания. Мы для него как будто не существовали.
Я сказал несколько раздраженно:
– Вы меня, по-видимому, не поняли… э… э… э… товарищ… Мы сейчас отсюда уходим. И между прочим, советуем вам сделать то же самое. Квартира засвечена, здесь оставаться опасно…
– Я боюсь, что это вы меня не поняли, – очень вежливо возразил юноша. – Мы никуда не уходим. Мы все остаемся тут и ждем Леонида Иосифовича.
При этом он даже не посмотрел в мою сторону – осторожно привинчивая контакт к жестяной коробке.
Я оглянулся на Лелю.
Она пожала плечами.
Ладно. В конце концов, нас это не касалось.
Я вернулся в комнату и с некоторым напряжением оторвал от пола дорожную сумку. Сумка была, наверное, килограммов двадцать. Леля, в свою очередь, взяла плащ и сетку с продуктами.
– Надо бы написать записку, – сказала она нерешительно.
– Напиши, – сказал я. – Только, пожалуйста, никакой конкретики.
И она быстро черкнула несколько фраз на клочке бумаги. А затем положила его посередине стола и придавила пепельницей. Вверх ногами я разобрал лишь одно слово: «увидимся». Я надеялся, что нам удастся уйти спокойно.
Однако надежды мои, к сожалению, не оправдались. Потому что когда мы, судорожно оглядываясь, не забыли ли чего впопыхах, вновь появились в прихожей, голубоглазый юноша даже не подумал посторониться. Он все так же сидел на самом проходе, разложив провода и прилаживая что-то к своей динамо-машине.
– Пропустите, – сказал я как можно более миролюбиво.
– Да-да, – быстро добавила Леля. – Пожалуйста, мы очень торопимся.
Лишь тогда юноша вынул изо рта мелкие винтики и выпрямился.
Ресницы его – хлоп-хлоп – выразили удивление.
– Вы куда-то собрались? – поинтересовался он. – Я же вам объяснил: мы все ждем здесь Леонида Иосифовича…
Кажется, он даже немного обиделся.
– Вот что, молодой человек, – сказал я, пытаясь сдержать раздражение. – Вы его, может быть, здесь и ждете – это ваше личное дело. А вот мы его ждать не будем – у нас нет времени… Отойдите, пожалуйста, я вас очень прошу…
Голубоглазый юноша даже не тронулся с места.
– Я боюсь, что подождать Леонида Иосифовича все же придется.
– Молодой человек!
– Леонид Иосифович очень просил его подождать…
Глупо это как-то все было. Я вдруг вспомнил, что у меня пистолет, и довольно-таки неловко полез за пазуху.
– Не надо, – видимо угадав мои намерения, предупредил юноша.
– Отойдите!
– Не надо!
– Молодой человек, я вас прошу по-хорошему…
Кажется, я уже нащупал в кармане теплую рифленую рукоятку. Да-да, кажется, я уже нащупал ее и, по-моему, даже начал вытаскивать. Кажется, я уже даже наполовину ее вытащил. И в это мгновение произошло что-то странное. Голубоглазый юноша сделал плавное движение левой ладонью. Да-да, именно левой, хотя поручиться за это я, конечно, не мог бы. И тут же режущая острая боль разодрала мне солнечное сплетение. Я сложился чуть ли не пополам. Дыхание у меня остановилось.
– Извините, пожалуйста, – негромко сказал юноша.
Вероятно, я на какое-то время потерял сознание. Потому что когда я снова открыл глаза и вроде бы начал что-то соображать, то увидел, что сижу в прихожей, в углу, обхватив руками живот и скрючившись так, что лоб мой почти касается коленей. Пистолета при мне, конечно, уже не было. Также при мне уже не было и дорожной сумки. Она лежала неподалеку, на боку, смятая, чуть ли не вывернутая наизнанку, и голубоглазый юноша длинными музыкальными пальцами с интересом перебирал ее содержимое.
– Ну как ты? – спросила Леля, промакивая мне лоб платочком. Еле слышно шепнула: – Может быть, в самом деле подождем немного?
Всем своим видом она призывала меня к сдержанности. Я осторожно вздохнул. Боль в животе, по-моему, слегка отпускала. Юноша тем временем закончил перебирать наши вещи, вытер пальцы и пол и снова начал монтировать на жестяной коробке какое-то приспособление. Эта работа поглощала его целиком. Я прикинул расстояние между нами и одновременно искоса, стараясь не шевелить головой, оглядел прихожую. Нет ли поблизости чего-нибудь подходящего. Ничего подходящего рядом, разумеется, не было. Да и не смог бы я сейчас встать и замахнуться как следует. Тем более что голубоглазый юноша, тоже не поворачивая головы, скосил глаза в мой угол:
– Вы ведь не профессионал, Николай Александрович? Не профессионал. Тогда не надо. Извините, но я голыми руками положу человек семь-восемь. Вы мне даже с пистолетом не очень опасны. А уж без пистолета, поверьте мне, не стоит и пробовать…
Говорил он неторопливо и снисходительно, будто с ребенком, и, еще не закончив фразы, опять согнулся к коробке, вворачивая хромированную детальку. Видимо, он не считал меня серьезным противником.
Это было ужасно.
– Оставь его, – тихо сказала Леля.
Тем не менее я бы, наверное, попытался что-нибудь предпринять; наверное, все равно кинулся бы на него, наверное, попробовал бы чем-нибудь его ударить. Я, конечно, отчетливо понимал, что это бессмысленно, но, клянусь, бессмысленно или нет, я бы обязательно попытался.
Леля тревожилась за меня не напрасно.
Однако едва я поднялся, еще опираясь о стену и массируя себе диафрагму, как в наружную дверь громко и требовательно постучали:
– Гражданка Морошина! Откройте!
А после секундной паузы посыпались тяжелые размеренные удары.
– Гражданка Морошина!
– Открывайте!
– Мы знаем, что вы – дома!..
– Это за мной, – побледнев, сказала Леля.
К счастью, дверь была очень крепкая, настоящая, из толстенных, вероятно четырехдюймовых, дубовых досок, и к тому же, по-видимому в связи с событиями последних недель, она для безопасности была обита поперечными железными полосами. То есть какое-то время мы могли продержаться.
– Верните мне пистолет, – попросил я голубоглазого юношу.
Он отрицательно качнул головой:
– Пока не стоит…
А затем энергичными движениями рук показал нам с Лелей, чтобы мы отходили по коридору. Сам он, присев на корточки и в такой позе пятясь, совершенно спокойно разматывал моток зеленого провода. А допятившись до кухни, поставил посередине ее свою динамо-машину и уверенно подсоединил зачищенные концы к торчащим раздвоенным клеммам.
– Все в порядке, – сказал он с удовлетворением. – Перекрытия здесь не слишком, скорее всего – обрушатся. Как только они войдут, мы их накроем…
Может быть, я ошибался, но мне казалось, что он даже доволен тем, как все складывается. Лицо его повеселело, а на губах появилась мечтательная улыбка. Впрочем, он тут же отскочил, плотно прижавшись в простенке, потому что половинка черного хода с мучительным скрипом отворилась на лестницу и в проеме ее, задыхаясь, держась обеими руками за сердце, точно привидение, возник всклокоченный Куриц.
– Ага! Я все-таки вас застал, – сказал он, преодолевая одышку. – Фу, черт!.. Бежал… Боялся, что не дождетесь… Фу… И Василек здесь… Рад тебя видеть… Сейчас-сейчас, отдышусь… А кто это там колотится?..
Я не поверил своим глазам, но Василек, отклеившийся от стены, стал чуть ли не по стойке «смирно». Во всяком случае, он вытянулся в струнку, как перед начальством, и даже немного, точно в строю, отставил от тела острые локти.
– Здравствуйте, Леонид Иосифович, – радостно-мальчишеским голосом сказал он. – Это к нам тут в гости – слегка набиваются. Вы не волнуйтесь, мы их сейчас успокоим.
Он кивнул на уходящие в глубину коридора тонкие зеленые провода.
– Принес? – спросил Куриц.
– Принес, – сказал Василек.
– Ну, тогда сматывай эту механику и давай – двинули.
А пока несколько озадаченный Василек, отсоединив контакты, вытягивал динамитный заряд из прихожей, Леня Куриц обратил к нам лицо, пересеченное усталыми складками, и довольно лихо дернул выпирающим подбородком.
Казалось, настроение у него было отличное.
– Ну? Отдохнули немного? Теперь пошли покатаемся? – сказал он.
Путаницу мелких улиц, прилегающих к Большому проспекту, мы преодолели сравнительно благополучно, однако при выезде на сам проспект произошел весьма характерный случай. Мы уже приближались к нему по одному из тех бесчисленных переулочков, которые пересекают его и заканчиваются потом на параллельно идущей транспортной магистрали, когда машина неожиданно, точно раненая, резко сбросила ход, заурчала и завиляла, будто ехала по песчаному пляжу.
Вероятно, мостовая под ней начала проваливаться.
– Берегись! – крикнул Куриц.
Громадное серое здание, опоясанное эркерами и балконами, вдруг заколебалось своими грубыми, под неотесанный камень, гранитными ребрами, как бы подалось немного одновременно вверх и вперед, и с его раздутых боков посыпались разнокалиберные обломки.
Впрочем, как оно распадалось дальше, я, конечно, не видел. В то же мгновение я, обхватив Лелю за плечи, пригнул ее как можно ниже к сиденью и пригнулся сам, чтобы укрыться от надвигающегося удара. Реакция у меня была на грани инстинкта. Я ждал, что сейчас грохнут по крыше спекшиеся куски штукатурки, что тонкий металл порвется, вывернув внутрь режущие, как бритва, лохмотья и что мы непременно впилимся – в столб, в угол, в ржавеющие у тротуара остовы. Однако ничего подобного не случилось. Вместо этого машина накренилась, чуть ли не чиркнув дверцами по асфальту, потом еще раз накренилась, теперь уже в противоположную сторону, как-то по-клоунски прыгнула, крутанулась на месте и, ударившись колесами о покрытие, набирая скорость, пошла вдоль Большого проспекта. Раздался грохот. Земля ощутимо дрогнула. В заднее стекло я увидел кудрявую тучу пыли, из которой торчали две перекрещивающиеся балки.
Мы, кажется, проскочили.
– Ну ты даешь! – сказал Леня Куриц, переводя дух и восхищенно глядя на Василька. – Классный у нас водитель. Ты же нас всех, понимаешь, чуть не угробил. – Он обернулся ко мне. – Василек может поставить машину на два колеса и так ехать. Познакомьтесь, кстати, это именно Василек организовал нападение на горисполком. Не совсем удачно, по-моему, но шума было порядком. Шрам видишь на шее? Это у него оттуда. А еще раньше Василек создал организацию, которая называлась «Гермес». Ты, может быть, слышал? Василек – человек активный. Нам исключительно повезло, что он сейчас вместе с нами. Василек! Сколько человек вы тогда, в этом «Гермесе», уговорили?
В зеркальце заднего вида было заметно, как Василек улыбается.
– Разве это были люди? Это было – так, дерьмо кошачье… Все наши беды именно оттого, что настоящих людей слишком мало…
Наступила пауза. Асфальт неожиданно кончился. Потянулся тряский булыжник, между которым торчали ржавые травяные проростки. Старенький «москвич» задребезжал так, что, казалось, сейчас развалится. Скорость пришлось сбросить, но, вероятно, это было и к лучшему, потому что на площади, куда мы вывернулись, если не ошибаюсь, с Малой Посадской, сгрудилось возбужденное людское сборище, по-видимому две-три тысячи человек, не меньше. Причем они дико размахивали красными флагами, тянули к небу винтовки, улюлюкали, свистели в два пальца и всей колышущейся серо-шинельной массой своей стремились к разлапистому дворцу, одетому невзрачной плиткой блекло-банного цвета. На балконе дворца находился высокий человек тоже в шинели и, чуть подаваясь вперед, выкрикивал что-то неслышное за общим гомоном. Доносились только отдельные фразы: «Эксплуататоров!.. Власть трудящимся!..» Вот он повернулся, и мелкими стеклышками блеснуло на солнце пенсне. Толпа ответила гулом. Мы остановились. Мост был, оказывается, разведен: плоские асфальтовые пролеты дыбились над Невой, почти горизонтально торчали перила, и по ним зачем-то карабкались крохотные фигурки.
Кому это понадобилось?
– Сворачивай на Дворцовую, – велел Куриц.
Сейчас же в заднюю дверцу, с той стороны, где сидела Леля, просунулась здоровенная харя, усеянная черноголовыми буграми фурункулов, и, втянув расширенными ноздрями воздух, бесшабашно сказала:
– Х-хто тут упрятался?.. Вылезай, девка, – гулять будем!..
В машине распространился резкий запах карболки. И одновременно – желудочный мощный дух сивушного перегара.
Леля, отпрянув, что-то прошипела.
– А ну убери лапы, товарищ, – холодно сказал Василек.
– А то – что? – поинтересовалась харя.
– А то – отрублю!..
Я думал, что нас сейчас вытащат из машины и просто приколют. Лично я никогда не умел разговаривать с такими субъектами. Однако в данном случае тон, по-видимому, был выбран правильно.
Харя просипела:
– Па-аду-умаешь!.. – и утянулась в бурлящее злобой и ненавистью пространство.
– Поехали, поехали, – нетерпеливо сказал Куриц.
Он довольно-таки нервно поглядывал на часы и что-то прикидывал. Машина развернулась, как мне почудилось, практически на одном месте. За окном мелькнули – шпиль Петропавловской крепости, мостик, пыльные безжизненные бастионы. Прозвонило колокольчатыми ударами половину восьмого. Я уже знал от Курица, что сегодня ночью перешел в общее наступление «Николаевский сектор». Два батальона гвардии двинулись от лавры по направлению к центру. У Московского вокзала их удалось задержать наскоро поставленной пулеметной заставой. Тем не менее обстановка в этом районе была очень тревожная. Гвардия, видимо, рассредоточилась и сейчас просачивается к Невскому обходными путями. В общем, времени у нас было чрезвычайно мало.
Сам Леня Куриц нетерпеливо покашливал.
– Ничего-ничего, – сказал ему Василек, щурясь от солнца. – Мы пробьемся. Положитесь на меня, Леонид Иосифович. Вы же знаете, что на меня можно положиться…
Он опять улыбался. Чуть растопыренные ладони его лежали поверх баранки. Я впервые видел, чтобы так водили машину. Он, вероятно, был очень в себе уверен. И тем не менее я все-таки не понимал, какие у него для этого есть основания. Никаких оснований, по-моему, у него для этого не было. Пока, на мой взгляд, все складывалось достаточно плохо. Правда, Дворцовый мост, к которому мы подъехали минут через десять, оказался сведенным, и мы почти мгновенно, взлетев над Невой, проскочили на другую его сторону. Этот этап, таким образом, завершился благополучно. Однако дымная набережная от съезда с моста до Адмиралтейства была также запружена вооруженным отрядом. Здесь скопилось, наверное, человек триста – четыреста, многие опять-таки с винтовками наперевес, в пулеметных крест-накрест желтых широких лентах. Несмотря на августовскую жару, почему-то горел костер, почти прозрачный на солнце, трое матросов в тельняшках ворошили в нем полированные доски рояля.
Они обернулись к нам и бешено закричали:
– Стой!.. Тудыть-твою-растудыть!.. Останови машину!..
Хлопнул выстрел. «Москвич» вильнул. Покатился как бревно человек, отброшенный радиатором. Я увидел обложенный поленницами дров Зимний дворец, арку Главного штаба с распяленной на верху ее вздыбленной конной квадригой. Из-под сводов арки веером бежали какие-то люди, а от поленниц, навстречу им, хлопали суматошные выстрелы. Агонизировал, по-видимому, уже весь центр города. Стало ясно, что Военная комендатура ситуацию больше не контролирует. Патрулей ее, во всяком случае, нигде видно не было. Мы попытались было пробиться к Невскому, но оттуда, как вода из запруды, хлынул разгоряченный поток людей: дамы с кокетливыми красными бантиками на шляпках, хорошо одетые, вылощенные мужчины с усиками и бородками. Среди них крутился растерянный омоновец в комбинезоне. Пришлось дать задний ход. Машина чуть было не застряла. Выбраться из этой толчеи удалось далеко не сразу, но, как только мы все-таки выбрались, нас тут же обстреляли на углу Гороховой улицы. Василек как раз немного притормозил, объезжая трамвай, больше напоминающий конку – с деревянными гранями, с несколькими узенькими скамеечками на крыше, – когда из серого казенного здания, вероятно уже обжитого чекистами, выскочили несколько затянутых в суровую кожу твердоскулых людей и, ничего не выясняя, не разбираясь ни в чем, начали садить по нам из огромных маузеров. К счастью, стрелять они совсем не умели. Было только одно попадание: пуля, чиркнув по крыше, ушла в неизвестность. Стало, однако, ясно, что Гороховая улица для нас закрыта. Также был напрочь закрыт и Адмиралтейский проспект – по трамвайным путям его маршировала нестройная колонна красногвардейцев. Впереди вышагивал предводитель – опять-таки в черной коже. Колыхались папахи, штыки, серые полы шинелей. Мы, похоже, очутились в ловушке.
– Давай через площадь! – сдавленно приказал Куриц. Дернул щекой и тут же поднял ладонь, прижав затрепетавший под кожей мускул. – Что ты задумался? Не думай, давай – поворачивай!..
Но Василек уже и сам принял решение. Машина снова, точно юла, крутанулась, практически не тронувшись с места, пробороздила асфальт, чуть было не содрав с колес шины, и устремилась в узкую косую улицу, представляющую собой начало проспекта. Или, может быть, не начало, а вполне самостоятельный переулочек. Так или иначе, но он весь был загроможден неповоротливыми старинными экипажами: колясками, фаэтонами и чем-то еще, уже давно и прочно забытым. Все это катастрофически перепуталось, сцепившись колесами – дергаясь, наклоняясь и наваливаясь друг на друга. Возчики в серых кафтанах угрожающе размахивали кнутами. Вырос откуда-то городовой и засвистел, надувая грушами толстые щеки. Казалось, что протиснуться здесь на площадь немыслимо, но Василек все же протиснулся – отталкивая и разворачивая бампером «москвича» мешающие повозки. Водитель он и в самом деле был классный.
У меня даже появилась некоторая надежда.
Впрочем, она тут же рассеялась, потому что, стремительно миновав на удивление пустынную после всей этой толкотни, тихую площадь, обогнув памятник императору, который (император, конечно) вел в это время наступление вдоль Невского, и проскочив мост, как я некстати вспомнил, самый широкий в мире, мы вдруг увидели, уже на другой его стороне, перегораживающую проспект заставу. Причем сделана она была очень профессионально: стояли могучие надолбы, сваренные из железнодорожных рельсов, два бетонных блока, справа и слева, обозначали присутствие капониров, а просветы между ними и надолбами закрывала тройная колючая проволока. Такие же надолбы перегораживали и въезды на Мойку. Свернуть было некуда: набережные были загромождены военными грузовиками. В центре же заставы находился полосатый шлагбаум, и его охранял боец в вылинявшей, залатанной гимнастерке. На пилотке его багровела пятиконечная звездочка.
Он приблизился, держа винтовку наперевес, и, слегка наклонившись, даже не потребовал, а как-то пролаял:
– Пропуск!
Василек многозначительно посмотрел на Курица.
– Спокойно! – сказал тот. Порылся в кармане и достал зеленый твердый прямоугольник с круглой печатью. – Вот, пожалуйста, товарищ боец…
Боец мельком глянул на пропуск и крепче перехватил винтовку.
– Недействителен, – сказал он.
– Почему недействителен? – удивился Куриц.
– Потому что уже отменен!
– Когда?
– Сегодня, с ноля часов. – Боец выразительно дернул штыком. – А ну выходи! Без разговоров! Стрелять буду!..
В это время темно-зеленый военный фургон, который я помнил еще с момента гибели Маргариты, вдруг зарычал мотором и, выехав со стоянки, развернулся задом к свободному месту на тротуаре. Двери горисполкома открылись, и оттуда, сопровождаемая конвоем, прошествовала группа людей в офицерской форме. Первым, как ни странно, шел генерал Блинов. Причем – с сорванными погонами, руки за спину. Видимо ослепленный солнцем, он немного замедлил шаги, и ближайший конвойный тут же грубо толкнул его прикладом в спину.
Значит, дождались порядка. Все это было абсолютно закономерно.
– Видишь? – шепотом спросила Леля, инстинктивно отодвигаясь вглубь машины.
– Вижу, – также шепотом ответил я.
– Значит, конец?
– Похоже на то…
Но вместе с тем я видел и нечто иное. Я видел, что тонкотелый, кавказской наружности офицер, командовавший конвоем, остановился и внимательно смотрит в сторону пропускного пункта. Вероятно, наше положение мало чем отличалось от положения генерал-лейтенанта Блинова.
Здесь все решали секунды.
– Выходи! – угрожающе повторил боец с винтовкой.
Василек опять многозначительно посмотрел на Курица. И на этот раз Леня Куриц чуть заметно повел подбородком.
– Хорошо, – негромко сказал он.
Василек, приветливо улыбаясь, полез из машины. Сердце у меня оборвалось. Я как будто поплыл в пугающей невесомости.
Сейчас должно было произойти что-то страшное.
– Ой! – внезапно воскликнула Леля и, как слепой котенок, начала тыкаться в запертую боковую дверцу. Ей никак не удавалось ее открыть. – Сейчас, сейчас! Пожалуйста! Подождите минуточку!.. – А затем, наверное отчаявшись преодолеть запоры, просто вытянула через окошко руку, в которой был тоже зажат твердый пластмассовый прямоугольник, однако уже не зеленый, как у Курица, то есть просроченный, а желтоватый и, насколько я мог разобрать, перечеркнутый двумя синими полосами. – Вот вам пропуск, товарищ боец. Сегодняшний…
Боец всмотрелся и тут же выпрямился, молодцевато вскинув руку к пилотке:
– Все в порядке, товарищ уполномоченный. Можете проезжать! – Он вдруг немного замялся: – А как остальные граждане?..
– Остальные – со мной, – сказала Леля.
– Виноват, товарищ уполномоченный! Поднять шлагбаум!..
Полосатая загородка с привязанным на конце грузом поползла кверху. Машина прыгнула с места и понеслась в асфальтовую тишину проспекта.
Он сейчас был совершенно безлюдным.
Леня Куриц облегченно вздохнул и откинулся на сиденье.
Глаза у него были прикрыты.
– Ну вот, теперь, кажется, все, – ни к кому конкретно не обращаясь, сказал он.
В определенном смысле Леня Куриц был прав. Дальше и в самом деле оставались сущие пустяки. Мы доехали до перекрестка с Садовой улицей, и здесь Куриц, распорядившись притормозить, высадил Лелю. Может быть, он, зная, что именно предстоит, побаивался за нее, а быть может, просто считал, что здесь, на последнем этапе, она как женщина нам помешает. Мне очень трудно судить о тогдашних его мотивах. Во всяком случае, в этом своем решении он был непреклонен. И как Леля ни возражала, пытаясь даже для убедительности заплакать, как она ни цеплялась и ни клялась, что еще будет нам всем полезна – пропуск-то для проезда по городу кто обеспечил? – он только щурился и смотрел вперед, как будто это его уже не касалось. В конце концов Василек взял Лелю за локти и без особых усилий переместил наружу. При этом Леля, как бы не замечая происходящего, продолжала с ним спорить и даже яростно жестикулировать. Оглянувшись, когда машина отъехала, я увидел ее фигуру, растерянно топчущуюся на перекрестке. По-моему, она еще продолжала спорить и жестикулировать. И честное слово, мне даже стало ее немного жалко.
Правда, тут же выяснилось, что все это было совершенно напрасно. С машиной нам пришлось распрощаться уже буквально через минуту. Оказывается, болото, ранее простиравшееся от Канала до парадной моего дома, за время нашего отсутствия разрослось и заполонило собой практически всю Садовую улицу. Асфальт был подмыт, тупорылый «москвич» сразу же увяз колесами в топкой жиже. Даже Василек со всем своим мастерством ничего не мог здесь поделать. При каждой попытке сдвинуться машина уходила в трясину все глубже и глубже. В конце концов мы ее так и бросили – будто мертвое насекомое. Куриц даже не обернулся, он из-под ладони смотрел куда-то в сторону Сада. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралась зеленоватая топь: кочки с чахлой осокой, жирная торфяная вода между ними. Дома вокруг стояли пустые, накренившиеся, нигде ни единого человека. Район был, вероятно, оставлен полностью и окончательно.
– Н-да… – сказал Василек, тоже из-под ладони осматривая окрестности. – Что будем делать?
– Вперед! – сказал Леня Куриц.
Следующие сорок минут прошли точно в аду. Мы пробивались через болото, как будто где-то в тропической сельве. Это, разумеется, было не то болото, что за Новодевичьим кладбищем: ни кровососущих растений, ни гигантских пиявок, живьем пожирающих человека. Или может быть, нам просто сопутствовало везение. Однако здесь тоже была трясина, и тоже был дерн, опасно пружинящий под ногами, и поднимались душные испарения, от которых в голове становилось сонно и муторно, и нехорошие бурые слизняки чавкали розовыми присосками почти в каждой луже. В общем, без Василька мы бы, наверное, здесь просто загнулись. Сначала он вытащил из трясины меня, когда я провалился по грудь и барахтался в вязкой бездонности, уже ни на что не надеясь. Затем он точно так же вытащил Леню Курица, который тоже ухнул в «окно», затянутое приветливой изумрудной травкой. И наконец, именно Василек спас нас обоих уже в русле Канала, когда из-под моста, где кожистым поблескивающим холмом вздымалась туша издохшего Чуни, к нам вдруг, повизгивая, метнулось что-то мерзкое и змеевидное. Я до сих пор не знаю, что это было. Я помню только четырехугольную ослиную пасть, усеянную коническими зубами, и между ними – раздвоенный язычок в слюнных ниточках. Честно говоря, я в этот момент просто остолбенел. Просто стоял и смотрел, как оно выламывается, по-видимому для прыжка. И Леня Куриц, по-моему, тоже остолбенел. И лишь Василек, шедший чуть сбоку, точно заранее готовился к данной встрече: вскинул свой калашников и перекрестил эту тварь двумя четкими очередями. Она забилась, выбрасывая серо-зеленые, наслаивающиеся друг на друга кольца. Не представляю, где Леня Куриц откопал этого человека. Я против воли начал испытывать к нему нечто вроде симпатии. В особенности потому, что Василек, несмотря на все наши трудности, улыбался. Он улыбался, вытягивая меня из жуткой чавкающей трясины. Он улыбался, ступая вперед, чтоб по приказу Курица проверить очередную подозрительную колдобину. Он улыбался, когда стрелял в чуть не сожравшую нас чудовищную змеевидную гадину. И улыбался он даже тогда, когда под ним самим внезапно разверзлась земля и когтистая лапа в фиолетовых перепонках царапнула его по ботинку. Возникало такое чувство, что ему все время весело. Он как будто лишь развлекался, рассматривая наш путь как удивительное, но в общем безопасное приключение. Ему, видимо, и в голову не приходило, что он тоже может погибнуть. И улыбка исчезла с его лица лишь на один момент: когда мы все-таки добрались до уже известного мне подземного хода и Леня Куриц, наскоро проинструктировав меня в том смысле, что надо стрелять и стрелять, сначала стрелять, а потом уже думать и разбираться, приказал ему отдать мне автомат.
Вот тогда улыбка у Василька и исчезла.
– А зачем это надо? – спросил он несколько озадаченно. – Николай Александрович, наверное, и пользоваться не умеет…
– Отдай! – повторил Куриц.
Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза, а потом Василек, сдаваясь, пожал плечами и положил автомат на камень.
Предупредил меня:
– Снято с предохранителя. – И, уже просовываясь вслед за Курицем в земляную дыру, как-то не характерно для себя, тоскливо добавил: – Ой, что-то не нравится мне все это…
Мне это, между прочим, тоже не слишком нравилось. Я теперь понимал, почему Леля так не хотела оставаться одна. Одному здесь было попросту страшно. Давила солнечная тишина, давило безлюдье, давила нечеловеческая мерзость болотного запустения. Давили даже комары, зудящие в уши. Уже минут через десять мне стало казаться, что я всеми давно забыт и покинут, что ни Леня Куриц, ни Василек из хода уже никогда не появятся и что я так и буду лежать здесь, сжимая калашникова, до самой ночи. А там выползет из болота очередная тварь и, недолго думая, сожрет меня с потрохами. Отвратительное это было чувство, непреодолимое, точно психическое заболевание. Того и гляди начнутся какие-нибудь кошмарные галлюцинации, и я буду метаться по кочкам, пока не провалюсь в очередное «окно». Василька теперь нет, вытаскивать будет некому. Я и сейчас поминутно оглядывался, как будто ко мне подкрадывалось некое привидение. Правда, продолжалось это недолго. Еще минут через десять раздался надрывный, как при подъеме в гору, рокот перегретых моторов. Грузовики остановились, видимо, где-то за поворотом, а поперек Садовой, готовясь заключить нас в кольцо, развернулась изломанная цепочка солдат. Они чуть-чуть постояли, вероятно дожидаясь команды, поправили темные, натянутые, несмотря на жару, береты, закатали рукава, расстегнули до пупа серые комбинезоны и пошли по болоту как цапли, лениво выдирая ноги из топи.
Я вздохнул и дал почти бесприцельную очередь из автомата.
Солдаты тут же попадали.
Вот так это у нас и происходило. Они перебирались с кочки на кочку, – проваливаясь и подминая собой пучки жесткой осоки, а я смотрел на это и ничего не мог сделать. Я только время от времени давал осторожную скупую очередь, стараясь, главным образом, ни в кого не попасть, и тогда солдаты падали и довольно долго лежали. Но затем они вновь поднимались и вновь тащились через болото. Продвигались они хоть и медленно, но очень упорно, и остановить продвижение их мне было нечем. На этот счет у меня не было никаких иллюзий. Все должно было закончиться максимум минут через тридцать. Я видел свой дом, стоящий на другой стороне жаркой улицы. Он накренился, и от фундамента по самую крышу его рассекала черная зигзагообразная трещина. Проходила она точно между окнами Маргариты. Стекла в них высыпались, и темнота нежилых помещений выглядела уродливо. Было странно, но о Маргарите я последнее время практически не вспоминал. И почти не вспоминал о профессоре, квартира которого находилась рядом. И почти не вспоминал о близнецах и жене, пребывавших сейчас где-то под Ярославлем. Все это очень быстро отодвинулось в прошлое. Все это выцвело, стерлось в памяти и уже как бы не существовало. То есть существовало, наверное, но в каком-то другом, недоступном мне измерении. Точно так же, как и полковник, которого я когда-то нашел на ступеньках Канала. А ведь он каждое утро с сознанием собственной значимости, неторопливо шагал по набережной, и в руке его неизменно покачивался портфель с документами. Это было? По-моему, этого не было. Сохранились лишь полуразрушенные корпуса так называемого строения дробь тридцать восемь. Я уже и не помнил, для чего оно, собственно, предназначалось. Помнить было не нужно. Нужно было только постреливать время от времени, чтобы солдаты не шли слишком быстро. Этим я и занимался, стараясь ни о чем больше не думать. А когда кончился магазин автомата, я механически отломил его и вставил новый. Мне это было нисколько не затруднительно. Как будто моими действиями руководил кто-то другой. И я ни в коей мере не удивился, когда из земляного отверстия, дышащего сырой прохладой, перекосившись от напряжения, как гусеница, изгибаясь всем телом, вдруг выбрался Василек и, пробуровив, по инерции вероятно, метра три-четыре ползком, улегся щекой на податливые комья глины.
Причем выглядел он ужасно. Часть лица у него заплыла, и вместо глаза набрякло кошмарное багровое месиво, левая рука неестественно перегибалась назад, а предплечье ее намокло от свежей крови. Однако он по-прежнему улыбался, растягивая бледные губы, и здоровой правой рукой придерживал свою динамо-машину.
Он сказал, не открывая второго глаза:
– Ну как, Николай Александрович, вы здесь, еще живы? Если живы, то, пожалуйста, крутаните вот эту ручку. Сам я, к сожалению… уже сил не хватает…
– А где Куриц? – спросил я, вероятно, не к месту.
И Василек застонал, словно вопрос причинил ему дополнительные страдания.
– Крутите, крутите! Неужели вы думаете, что я бросил бы Леонида Иосифовича? Никого там больше не осталось, я – один… Ну так что? Вы можете это сделать?..
Еще какое-то время он ждал, по-прежнему не открывая второго глаза, сморщенные веки его дрожали, как будто были пришиты друг к другу, а потом он опять мучительно застонал, по-видимому не сдержавшись, сверхъестественным усилием приподнялся, ухватил зубами корпус динамо-машины, не очень ловко, но резко повернул ее маховик здоровой рукой и немедленно после этого рухнул обратно, точно подстреленный.
– Отлично, – пробулькал он прямо в глину.
И ничего не произошло.
Я думал, что сейчас содрогнется земля, вспучится откуда-нибудь из-под Сада огромное черное облако, посыплются сверху камни и куски деревьев. Но ничего этого не произошло. Почва слегка колыхнулась, и все. А из подземного хода раздался печальный вздох. Я даже решил, что где-то повреждено соединение. Однако уже в следующую секунду увидел, как вырываются из болота белесые пузыри воздуха, как они звонко лопаются, будто трясина закипает в огромной кастрюле, как вылетает из них желтоватый пар, наверное очень едкий и очень горячий, и как в панике откатываются солдаты – обратно, на твердь асфальта.
Значит, у нас все-таки получилось.
– Получилось, – сказал я Васильку с невольной радостью.
Однако Василек мне уже не ответил. Он лежал на спине, каким-то образом ухитрившись перевернуться, уцелевший глаз его теперь был широко открыт, и пронзительно-яркий голубой зрачок смотрел прямо в солнце.
4. Сад и Канал
Самый короткий путь был, конечно, через Фонтанку. Пробираться сквозь центр, где под каждым метром асфальта могла разверзнуться болотная пустота, было слишком опасно. Тут Леля со мной согласилась. Однако уже от перекрестка Садовой с Вознесенским проспектом, куда мы в конце концов снова выбрались, стало видно, что большое многоэтажное здание, в котором, по-моему, располагался какой-то техникум, полностью обрушилось и перегородило хаотическими обломками почти всю мостовую. А пока мы стояли, прикидывая, не лучше ли обойти это место – как-нибудь, например по Садовой, уже другое здание, позади нас, с эркерами и балкончиками, нависающими над тротуаром, вдруг, точно одежду, с шорохом сбросило с себя штукатурку, а обнажившиеся кирпичные стены заколебались и сложились как карточный домик. Асфальт вздрогнул. Поднялось из глубины квартала ватное облако пыли.
– Нет-нет, только не туда, – сразу же сказала Леля.
Она достала из кармана скомканный носовой платок, послюнявила его и осторожно потерла щеку. А затем потрогала это место пальцами.
– Что там у меня на лице? – добавила. – Больно.
Я в свою очередь тоже достал мятый платок и осторожно потер.
– Ничего особенного. Просто ссадина…
– Жжет, – пожаловалась Леля. – А все-таки неужели ничего нельзя было сделать? Извини, но мне кажется почему-то, что он еще жив: лежит там сейчас совершенно один, может быть раненый, посреди болота, и кругом – только трясина. Испарения всякие, ряска, осока почему-то шевелится… – Она медленно прикрыла и вновь открыла глаза. – Ладно. Надо идти. Я знаю, что я все выдумываю. Он, конечно, погиб. Я видела, как земля на том пятачке осела. И между прочим, он поступил совершенно правильно. Ведь так?
– Так, – подтвердил я.
– Тогда пошли.
– Пошли.
– Но это был очень красивый город, – вдруг сказала Леля.
Кое-как мы перебрались через развалины. Леля спотыкалась, и мне то и дело приходилось ее поддерживать. Больше всего я боялся, что она провалится в какую-нибудь присыпанную щебнем расщелину. К счастью, все обошлось. Она лишь слегка поцарапала локоть об один из каменных блоков. Ранка, на мой взгляд, была совсем пустяковая. Мы пересекли Обводный канал и по безлюдному, наверное, безымянному переулку обогнули территорию, прилегающую к вокзалу. Углубляться в железнодорожные дебри мы не рискнули. Мы просто шли вдоль пакгаузов, пока они не начали сменяться однотипными серыми пятиэтажками. Собственно город здесь уже заканчивался. Леля была права. Это был действительно очень красивый город. Я вспомнил, как горит от закатного солнца шпиль Петропавловской крепости, как темнеет прозрачная синева на площади перед Эрмитажем, как блестит зеркальная заколдованная вода в каналах и как разгорается тихий волшебный свет, предвещающий белые ночи. Замирают подъезды. Цепенеют в торжественной тишине улицы и переулки. Эхо случайных шагов парит в воздухе…
Ничего этого больше не будет.
Я ощущал болезненную ноющую пустоту в сердце.
– Что-то закончилось, – негромко сказала Леля. – Не могу объяснить это словами, но чувствую – что-то закончилось. Что-то перестало существовать. Я не знаю, будет ли у нас еще что-нибудь. Может быть, уже и не будет. Но что-то определенно закончилось. Раз – и все.
– Да, – сказал я.
Я чувствовал то же самое. Действительно что-то закончилось.
И закончилось, по-видимому, навсегда.
– Пошли, – сказал я.
Здесь, среди новостроек, было ничуть не лучше, чем в центре города. Кварталы одинаковых серых домов давили на нас тупой однообразной унылостью. Словно строили их не люди, а некие механические существа. А построив, навсегда утратили к ним интерес. Во всяком случае, выглядело это именно так. Висели лопнувшие провода. Стояли троллейбусы с разъехавшимися в разные стороны штангами. Двери многих парадных были сорваны точно вылетевшим изнутри ураганом, и оттуда гнилыми тухлыми языками выплескивался квартирный мусор. Валялись матрасы, игрушки, обувь, вспоротые чемоданы. Впечатление было такое, словно район подвергся целенаправленному разграблению. Я никак не ожидал подобной картины. Насколько я знал, ни «явления», ни какие-либо «прорывы истории» новостройки не задевали. Тут не бродили «мумии» и не падали замертво птицы, сожженные душным солнцем, не разваливались, набухая, здания и не трескалась от железной травы корка асфальта, тут не свирепствовала гроза и не образовывались многокилометровые торфяные болота. Тут все было как обычно. Тут даже коммунальные службы работали вполне нормально. Во всяком случае, если судить по сводкам, которые я читал. И тем не менее жители эти районы покинули.
– Кладбище, – передернув плечами, сказала Леля.
Она была права. Я опять чувствовал то же самое. Солнце стояло уже высоко, и болотный зыбкий туман, царивший в городе, незаметно рассеялся. Распахнулось от горизонта до горизонта синее небо, дул слабый ветер и приносил откуда-то полузабытый мной свежий лиственный запах. Однако ощущение было именно как от кладбища.
Хотя как раз здесь, в новостройках, мы встретили первых живых людей.
Это произошло неожиданно. Мы брели по широкой улице, ведущей куда-то к юго-востоку – я предполагал, что таким путем будет проще выйти из города, – и вдруг неподалеку от стеклянного магазина с надписью «Промтовары» нам навстречу вынырнули трое мужчин в рабочих комбинезонах. Причем все трое были коренастые, плотно сложенные, очень угрюмые, чем-то даже, как братья, разительно похожие друг на друга, в тяжелых армейских ботинках, с ломиками в руках, и у каждого за спиной висело по довольно объемистому рюкзаку.
Они увидели нас и остановились как вкопанные.
Мы тоже остановились, и вдруг мгновенная ниточка холода продернулась у меня между лопаток. От этих людей исходила какая-то опасная напряженность. Хотя они ничего такого не делали, просто стояли и внимательно смотрели на нас.
Видимо, тоже не ожидали здесь никого встретить.
– Ого! – наконец сказал старший.
Я сунул руку в карман и вытащил пистолет. Я не стал им демонстративно размахивать, наводить на кого-либо и произносить угрожающие команды. Я чувствовал, что здесь это не нужно. Я просто держал его у бедра, так, чтобы видели.
На всякий случай.
И у них, вероятно, тоже с собой что-то было. Старший мужчина также без лишней спешки сунул руку за пазуху. Но доставать ничего оттуда не стал. Наверное, передумал. Только все трое как-то совершенно одинаково передернулись и снова замерли.
Впрочем, больше ничего не произошло.
Старший мужчина вполне миролюбиво покашлял.
– Ну как там обстановка? – вежливо, приглушенным голосом спросил он.
– Плохо, – сказал я.
– Призраки, мертвецы?
– Всякое попадается…
– А радиация? – быстро спросил старший мужчина.
– Что – радиация?
– Ну, говорят, там – радиация просто чудовищная.
Я пожал плечами:
– Это, по-моему, ерунда. Я, по крайней мере, ничего об этом не слышал.
Двое крайних мужчин сразу же посмотрели на старшего. А тот прищурился, видимо что-то прикидывая, и усмехнулся:
– Значит, нет радиации?
– Нет.
– Ясненько. Тогда – извините за беспокойство…
Все трое тут же одинаково развернулись и, ступая след в след, ушли в просвет между домами.
Шаги их стихли.
– Могильщики, – сказала Леля.
И снова она была права. Это были могильщики. Те, которые сейчас хлынут в город и разорят его окончательно. Так что, наверное, уже ничего не останется. Пустошь, болотистая равнина…
Может быть, это и к лучшему.
– Ну, чего ты? Пошли-пошли, – нетерпеливо сказала Леля.
Затем мы еще довольно долго брели новостройками. Простирались они, казалось, до умопомрачающей бесконечности. После каждого пройденного нами квартала я думал, что этот уже последний, но за группами блочных параллелепипедов открывались все новые и новые микрорайоны. Здания вокруг торчали как спичечные коробки. Разбегались проспекты, нависали над перекрестками улиц железнодорожные виадуки. В окнах бесчисленных этажей блистало солнце. Раньше я и не подозревал, что город, оказывается, так сильно разросся. Было в этом что-то пугающе ненормальное. Ничего удивительного, что сердце его в конце концов не выдержало. Сознание омрачилось, и каменная его душа начала распадаться. Воцарилось небытие, у которого пока еще не было имени. Что-то закончилось. Что-то закончилось навсегда. Я не знал, как это правильно сформулировать. Чтобы правильно сформулировать, нужны какие-то силы. А никаких сил лично у меня больше не было. Я едва переставлял ноги по безжизненному асфальту. Очень тяготила солнечная духота. Ослепляло надрывное, зыбкое, августовское, пыльное марево. Жара от блочных громадин исходила просто убийственная. Леля постанывала и непрерывно, как рыба, вынутая из воды, хватала ртом воздух. Воздуха нам, конечно, явно недоставало. Я уже начинал подумывать, что неплохо бы, наверное, найти какое-нибудь временное укрытие. Может быть, например, в одном из брошенных магазинов. Отдохнуть немного, поесть, подремать слегка, пока не ослабнет дневная жара. Правда, тогда придется идти через город в сумерках. А идти в сумерках, пусть даже через относительно спокойные новостройки, мне совсем не хотелось. Кто его знает, что может произойти в сумерках… К счастью, эти мои колебания продолжались не слишком долго. Мы пересекли какую-то речку, и новостройки вдруг начали постепенно отодвигаться назад. Они отодвигались, отодвигались и наконец совсем отодвинулись, даже изрядно уменьшились, превратившись в разнокалиберную череду, прикрытую дымкой. Унылая асфальтовая дорога тоже закончилась. Как-то неожиданно раскинулись по обе стороны бескрайние луговые просторы. Кое-где среди них виднелись ровные грядки с картошкой. Пахло землей, горячими травами, сыростью, наверное, близкого водоема. Далеко на горизонте синела мрачноватая кромка леса. До него было, по-видимому, километров десять-двенадцать через громадное поле. Здесь мы поняли, что идти дальше уже не можем, и в изнеможении, не сговариваясь, повалились на траву рядом с какой-то канавой.
Через некоторое время Леля сказала:
– Вот интересно, я всегда думала: а что находится там, за пределами города? Мы ведь об этом почти ничего не знаем. Мы знаем только каменные дома, дворы, площади, улицы, набережные, каналы. А ведь существует еще целый мир, который гораздо больше, чем этот город. Целый мир, и в нем живут миллионы и миллионы разных людей. Мы ведь о них даже не подозреваем. А они в свою очередь так же не подозревают о нас. Может быть, они живут и не лучше, чем мы, но как-то иначе. И меня почему-то всегда интересовало – как именно? Мы ведь действительно ничего об этом не знаем. Мы как будто с рождения были заключены в странную каменную скорлупу. А теперь эта скорлупа разрушена, и мы не знаем, как жить. Но я думаю, что на самом деле ничего страшного не произошло. Город погиб, зато открылся весь мир. Что-то кончилось, зато что-то и начинается. Извини, я не могу сейчас сказать точнее. Я сама этого не понимаю, я только чувствую. Главное, что перед нами открылся весь мир. Вот мы сейчас с тобой отдохнем чуть-чуть и пойдем дальше. И знаешь, пойдем, пойдем – пока не придем куда-нибудь…
– Ладно, – тоже через некоторое время сказал я.
Ничего другого все равно предложить было нельзя. Я вообще не мог больше ничего предложить. Я лежал, и меня обволакивала сладкая, расслабляющая, как после болезни, дремота. Точно дурные воспоминания, отодвигалось прошлое: «мумии», болото, обстрел на Невском, свихнувшиеся генералы… Василек, Маргарита, Леня Куриц, профессор… Было жарко, и где-то неподалеку трещали свихнувшиеся кузнечики. Медленно ползла по траве тень ватного облака. Крепенький муравей побежал у меня по ладони и – сорвался, видимо не удержавшись.
Не знаю точно, сколько эта дремота длилась, но вдруг Леля цепко схватила меня за плечо.
– Посмотри! – радостно сказала она.
Я приподнялся на сведенных локтях:
– Что?
– Вон там!
Честно говоря, я не поверил своим глазам. Поперек травяного луга, мелкими всхолмлениями поднимающегося к горизонту, между фиолетовых костерков и крупных ярких ромашек, будто чудное, вылезшее из детских снов насекомое, пробирался, нисколько, по-моему, не торопясь, желто-красный автобус. Самый обыкновенный автобус – из тех, что совершают рейсы между деревнями.
Он норовисто рыскал, видимо объезжая ухабы, как бы немного проваливался и то и дело пропадал за кустами. А потом появлялся снова и полз, направляясь к нашей дороге. Вместе с порывом ветра долетел рокочущий отзвук двигателя.
– Автобус, – изумленно сказала Леля.
– Автобус, – не менее изумленно подтвердил я.
Леля тут же вскочила на ноги:
– Поехали!
– А куда он идет?
– Не все ли равно?..
Мы побежали по дороге вперед. Леля время от времени останавливалась и махала рукой. На бегу она оглянулась и крикнула:
– Видишь, как нам повезло?
Я оглянулся тоже и, зацепившись за что-то ногой, чуть было не покатился в канаву.
Высоко над распластанным по равнине безжизненным, серым городом поднимались большие клубы пузырчато-красного дыма. Они перетекали в пустотном воздухе, стремительно уплотнялись и, как застывающий пластилин, приобретали фигурные очертания. Вот из раскаленной багровости высунулась одна когтистая лапа, за ней – другая. Далее – бородавчатая, дикого облика морда.
Зверь поднимался над миром.
– Повезло, – сказал я одними губами.
Автобус тем не менее приближался.
Пассажиров в нем почти не было, и я надеялся, что он нас захватит.
Вместо эпилога
Ворон
Глава первая
Дверь мне открыла Ольга. Она чуть помедлила, словно ожидала увидеть кого-то другого, и лишь потом наклонила голову:
– Здравствуй.
Я ждал.
Она повернулась и неохотно позвала:
– Антиох!..
Голос утонул в громадной черноте коридора. Скрипнула половица. Под обоями вдоль стены пробежал легкий шорох.
– Почему без света? – поинтересовался я.
Ольга промолчала, опустив неприязненные глаза.
Тут же что-то посыпалось в глубине квартиры. Грохнула дверь. Яркий солнечный прямоугольник пересек доски пола.
В освещенном проеме выросла человеческая фигура.
– Ага! – закричал Антиох. – Вот кто мне нужен!
– А ты в этом уверен? – осторожно спросил я.
Однако Антиох, уже каким-то образом очутившись в прихожей, дергал меня за рубашку:
– Пошли, пошли!..
Ольга отвернулась.
Плохо дело, подумал я.
Мы двинулись по коридору. Он тянулся до бесконечности, и я каждый раз поражался его необыкновенным размерам. Хоть на велосипеде езди. Как это Антиох сумел отхватить такую квартиру? Комнат семь или восемь. Зачем ему столько? Живут они в двух, а другие стоят заброшенные – дурея от старости и безлюдья. Щелкают пыльные стекла, шелушатся и рассыхаются подоконники, с тоской заглядывают в эту сонную пустоту времена года.
– Садись!
Мы уже были в комнате, и я щурился от внезапного солнца. Антиох нетерпеливо толкнул меня, и я сел на подвернувшийся, к счастью, стул.
– Слушай!..
Лихорадочно зашелестели страницы.
– Есть безусловный, бесконечный и вечно действующий субъект, или Я. Вечно действуя, безусловное Я порождает из себя, как собственную противоположность, не-Я, или внешний мир. Внешний мир хотя и противопоставлен Я, но не существует в качестве безусловно независимого от Я; в свою очередь то Я, которому противостоит природа, или не-Я, не есть уже безусловное Я. Таким образом, безусловное Я в самом себе разделяется и переходит в ограничивающие друг друга, противоположные друг другу и уже не безусловные Я и не-Я.
– Ну? – внезапно остановившись, спросил он.
– Что – ну?
– Чувствуешь?
– Нет.
– А если подумать?
– По-моему, бред какой-то, – честно признался я.
Антиох зажмурился и со стоном замотал головой. Рассыпались по плечам дикие волосы. Он зарос больше, чем полагается нормальным людям. Вдруг отшвырнул книгу, и – бах! – ручейком под обоями потекла рыхлая штукатурка.
– Сейчас, сейчас… Где-то здесь… Но где… Ах, чтоб тебя!..
Теперь можно было разглядеть комнату. Солнце заливало ее целиком и, по-моему, еще больше подчеркивало царящий здесь хаос: подушку, валяющуюся на паркете, перевернутый вверх ножками стул, выпотрошенное нутро кое-как поставленных друг на друга коричневых книжных полок. Из угла скалило желтоватые зубы пианино, на котором, насколько я помнил, никто никогда не играл, а совсем рядом со мной, на диване, почему-то застеленном скомканным шерстяным одеялом, свесив почти до пола деревянные ноги в загнутых башмачках, уныло сидел Буратино. Полосатый его колпачок съехал набок, а заточенный, будто шило, нос выдавался, как и положено, далеко вперед. Очень натуральный был Буратино: большой, раскрашенный, совсем как живой.
Я даже немного отодвинулся от него.
Но главное, везде, куда ни посмотришь, были навалены книги. На полу, на столе, на диване, на облупившемся подоконнике. Они лежали стопками и поодиночке, открытые или с торчащими изнутри потрепанными закладками, в большинстве своем чистые, но иногда исчерканные меж строк густыми чернилами. Их было потрясающее количество – горы мыслей, океаны мудрости, бездны неутоленных страстей.
Летний июньский воздух звенел пылью и метафизикой.
Чтобы прочесть их, нужна была, вероятно, целая жизнь. Если вдобавок не есть, не спать и не ходить на работу.
Я с уважением посмотрел на Антиоха. Он между тем вытащил откуда-то, чуть ли не из-за батареи, толстенный увесистый том темно-синего цвета и, постанывая от нетерпения, искал в нем нужное место.
Вдруг поднял указательный палец:
– Вот! Нашел!.. Действительность есть самостоятельное отношение. Она обладает моментом явления, или наличного бытия, которое есть отношение к самому себе, и моментом в-себе-бытия, или сущности своего наличного бытия. Началом знания является непосредственное, лишенное определений понятие бытия; по своей бессодержательности это понятие представляет собой то же самое, что и ничто. Как мышление такой пустоты ничто в свою очередь есть бытие и благодаря своей чистоте – такое же бытие, как и первое. Следовательно, между бытием и ничто нет различия.
Он восторженно поглядел на меня.
– Слушай, а давай я тебя подстригу, – предложил я, усаживаясь поудобнее. – Жарко ведь так. Ты только не сомневайся – я немного умею.
– Значит, не понял, – разочарованно сказал Антиох. – Подожди, подожди, а тогда вот это?
Он быстро перелистнул страницу.
– Реальное, или нечто, отличное от другого реального, сначала равнодушно к нему, так как в своем инобытии оно вместе с тем есть и в себе. Различие одного нечто и другого сначала заключается в границе как в середине между ними, в которой они есть одновременно и суть, и не суть.
Он взмахнул синим томом:
– А теперь?
– Ты здесь когда-нибудь прибираешься? – терпеливо спросил я.
Антиох вздрогнул, будто наткнувшись на невидимое препятствие. Беззвучно пошевелил губами и наконец жалобно спросил:
– Неужели так-таки ничего?
– Почему ничего? – смягчился я. – Все понятно. Начало знания в инобытии… которая… эта… одновременно суть и не суть.
Он молчал.
– Но я думаю, что она все-таки – суть, – твердо сказал я.
– Кто она?
– Инобытие.
– Я тебе еще раз прочту – медленно.
– Нет, не надо!
Антиох выронил книгу. Она громко ударилась о паркет и, мгновение постояв на твердом своем корешке, развалилась на две половины.
– Они догадывались, – сказал он почти неслышно. – Они догадывались, но не всегда осмеливались верить этой невозможной догадке. И Кант, и Фихте, и Гегель, и Спиноза, и Бюхнер… И Шопенгауэр, и Кроче, и Ван-Фогт, и Бергсон… Между бытием и ничто нет различия…
Только сейчас я понял, как мне здесь неудобно сидеть. Стул, утонувший ножками в книжных завалах, опасно кренился. Я попытался было найти равновесие, но он выскользнул из-под меня и мягко повалился набок. Пришлось перебраться на подоконник. Мне было очень не по себе. Я еще никогда не ходил по книгам.
Антиох поворачивался за мной, как локатор.
– Мироздание основано на ритме, – не переставая, говорил он. – Единичное слово не играет особой роли. Только ритм отделяет вымышленный мир от существующего. Лепит фактуру. Ничто есть просто неоформленное бытие…
– Я, собственно, вот зачем, – сказал я, боком сдвигая стопку книг, чтобы устроиться. – У нас в институте появилось место лаборанта. Ты как, случайно не интересуешься?
– Это замкнутый ритм, – сказал Антиох. – Глухой и темный. Совершенно непроницаемый внешне. Видишь только свое отражение. Бледное лицо в черной воде. А под ним, оказывается, странная жизнь – шевеление водорослей, паническая суета мальков, медленный ход багровых тихих улиток…
– Работа не так чтобы до упора, – сказал я. – Не переломишься. К тому же один день библиотечный, то есть свободный. Опять же зарплата – тебе вроде не помешает?
– Надо учиться смотреть изнутри, – сказал Антиох. – Видеть сразу оттуда. Воспринимать не форму, а содержание. Чувствовать самую суть – тогда, может быть, и получится…
– Главное, начальник у тебя будет покладистый, – сказал я. – Вот за это просто могу поручиться. Давить не станет. Когда и отпустит пораньше. На редкость приличный и порядочный человек. Сейчас таких поискать. Я начальник. Меня повысили.
Секунд пять Антиох внимательно смотрел на меня, а потом крепко зажмурился и сказал:
– Вероятно, можно создать другой мир. Ничуть не хуже. Такой же вещественный, как и этот, даже, наверное, интереснее. Они это знали. Они подошли вплотную к той крайней черте, которая отделяет вымышленное от реального. Нужно было сделать еще один шаг. Всего один. Им не хватило смелости или, быть может, воображения…
И тут я сдался. Я всегда сдаюсь, когда кто-то ставит себя рядом с Гегелем. Я вот, например, не ставлю. Мне и в голову не приходит. Гегель – это Гегель, а я – это я. И еще я подумал, что Антиох сильно изменился за последнее время: весь как-то высох, потемнел как папирус, движения у него стали резкие. В глазах появился сухой непреклонный блеск. Он напоминал мне пророка, который в любую минуту может взять в руки посох и пойти по дорогам, предвозвещая очередную боговдохновенную истину. Ничто его не остановит. Ничто не смутит его и ничто не заставит уклониться от цели. Он либо победит, либо погибнет.
Таким бессмысленно возражать.
Я тоже немного прикрыл глаза.
Этим летом необычайно цвели тополя. Свежие пупырчатые сережки, как гусеницы, в неисчислимом множестве высовывались из почек. Клейкие оболочки лопались. Тревожный шорох цветения наполнял весь город. Мириады белых хлопьев текли в воздухе. Медленно и светло вздувался в оцепенении улиц густой летний буран. Пух колеблющейся белизной лежал на карнизах, собирался вдоль тротуаров, сугробами пены плыл в зеленоватой воде каналов. Началось это неистовство примерно неделю назад и с тех пор все усиливалось – шалея и доходя до безумия. Словно сам воздух ежесекундно рождал распадающиеся облака горячего тополиного снега.
И одновременно навалилась оглушающая жара. Волны прозрачного зноя бродили по площадям и набережным. Небо сразу же выцвело – как будто вылиняло в рассоле. Камень обжигал. Душный блеск градусников уходил за отметку «тридцать». Плавился асфальт – приклеивая к себе подошвы. Трещали стекла. Фиолетовый воздух дрожал от земляных испарений. Пустынным маревом клубились задыхающиеся проспекты, и по дну их, пыхтя натужными выхлопами, ползал городской транспорт.
Невозможно было существовать в эти дни. Сознание меркло. Люди со слабым сердцем падали прямо на улицах. Во множестве путали адреса, не узнавали старых знакомых. В учреждениях мертвели брошенные кабинеты, а из магазинов уже к полудню исчезали даже редкие покупатели. Духота пропитывала влажные стены квартир. Глохли телевизоры. Вода из кранов шла теплая и вызывающая отвращение к жизни.
Голос Антиоха вывел меня из дремоты.
– Создать новый мир! – торжественно вещал он, посверкивая глазами. – Своим воображением овеществить все, что в нем должно быть. Сделать людей, землю, ночной звездный купол. Само необъятное миросоздание… И – раствориться в нем. Ведь все приходится создавать из себя. Другого материала нет. Чем больше мой мир, тем меньше я сам. И тем бледнее, тоньше все это.
Он шире распахнул невидящие глаза:
– Помнишь, мы говорили об «абсолютном тексте»?
– Нет, конечно, – сказал я, обмахиваясь потной ладонью. – И не надейся. Не хватало мне еще – помнить…
– Он есть, – очень серьезно сказал Антиох. Вдруг замер и повел пальцем точно по невидимой строчке. Голос у него налился внутренним звуком. – Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. Кончились городки и сторожки, вошли в степи Дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По дальнему краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки – желты, зелены. Скрипом телег, ржанием лошадей наполнилась степь. Вековечной тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста – ни дорог, ни троп. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней…
У меня вдруг слабо кольнуло сердце. То ли духота так подействовала, то ли утомительное сияние льющегося в комнату солнца. Однако стены в выгоревших обоях как будто заколебались. Комната задрожала и расплылась в искрящемся бледно-зыбком тумане. Дунул прямо в лицо горячий ветер. Волнами пошла шелковая трава, простершаяся до горизонта. Ударил в нос острый запах земли. Крикнула птица и, складывая треугольные крылья, стремительно понеслась над степью. Я вздрогнул. Белый матерый волчина со вздыбленной на загривке шерстью строго смотрел на меня. Желтели глаза. Палочки вертикальных зрачков в них быстро сужались и расширялись. Вот он чуть дернул ушами, повел назад головой, прислушался. Долетело невнятное: скрип… скрип… скрип… оклики… щелканье, по-видимому, длинных кнутов… Синее бездонное небо распахнулось над степью. Я не мог повернуть головы. А волк не сходя с места перебрал мускулами напряженных ног, махнул хвостом, попятился и вдруг как призрак исчез в колышущемся разнотравье…
Очнулся я от того, что Антиох сжал мне плечи. Пальцы у него были жесткие, и он с острым любопытством вглядывался в меня, вытянув шею.
Жадно спросил:
– Что, что, что?
– Ну ты и того – совсем уже… – обалдело сказал я.
– Видел?
– Фу-у…
Он стал быстро-быстро обкусывать ноготь на большом пальце.
– Было так: все померкло, как будто выключили электричество. Некоторое удушье, не хватает воздуха, стеснение в сердце. И вдруг, сразу – малиновое солнце, лес, громадные черные ели – скрипят и стонут. Синие лишайники. Крохотные такие, яркие огоньки на папоротнике. Птицы поднимаются из сумеречной травы и тянутся вдаль, к закату…
– Пошел ты куда подальше, – ответил я, окончательно приходя в себя. – Ерундой тут занимаешься, черт-те чем…
– Я тоже не отчетливо представляю, – отпуская меня, с сожалением сказал Антиох. – Чувствовать – чувствую, а вот увидеть пока не могу. Все – мутно, мутно, как через плохое стекло.
Он поднял с пола книгу, по-моему, какого-то немецкого автора, открыл ее наугад, задумчиво скользнул глазами по тексту и вдруг не торопясь, как будто в этом не было ничего особенного, начал выдирать оттуда страницу за страницей – с мучительным треском.
– Ну ты это как-то уж чересчур, – сказал я растерянно.
В голове была пустота, и слипались тяжелые веки. Меня ужасно клонило в сон. Напрасно, видимо, я решил его навестить. Ему уже ничем не поможешь. Пустое это занятие.
Кто-то нетерпеливо тронул меня за локоть. Буратино, до этого как деревянный сидевший в углу дивана, оказывается, сполз оттуда и стоял теперь вплотную ко мне, держа двумя пальцами прищемленную папиросу.
– Огоньку, дядя, не будет? Пересохло от ваших разговоров, – хрипловатым голосом сказал он. – Ну чего уставился? Спрашиваю, огоньку у тебя не найдется? – И, не дождавшись ответа, махнул рукой. – А, ладно… все вы тут чокнутые…
– Странная игрушка, – сказал я, машинально отталкивая колючий нос.
– Сам ты игрушка, дядя, – обиделся Буратино. – Залил бельмы к вечеру, ничего не соображаешь.
И вдруг, дернувшись крепенькой головой вперед, больно укусил меня за палец мелкими, пронзительными зубами.
Глава вторая
Неделю спустя я возвращался домой с работы.
Было уже довольно поздно, день сгорел, а легкий пепел его развеялся. Тени белых ночей витали над городом. Настоящей темноты не было: в просветах каменных улиц стояла беловатая мерклость.
Переулок, где находился мой дом, тянулся от проспекта до набережной канала. Он был узкий, как будто здания, вначале построенные вплотную, немного раздвинули, и зиял подворотнями, подкарауливающими случайных прохожих. В звериных оштукатуренных пастях сгущался мрак.
Очень неприветливый был переулок.
Я невольно оглядывался.
Однако за спиной неизменно оказывалась серая асфальтовая пустота, и летящее эхо шагов лишь подчеркивало мое одиночество.
Светили желтые окна.
И все-таки предчувствия мучили меня не напрасно. Когда до моей парадной, приоткрывающей двери в лестничную темноту, оставалось всего метров пятьдесят – семьдесят, под аркой ближайшей ко мне в этот момент подворотни шевельнулась притаившаяся фигура.
Я замедлил шаги.
У нас в переулке это бывает. Вот так, иногда совершенно молча, стоят по два, по три человека. Неизвестно, зачем они тут стоят и чего ждут в такое позднее время, но – стоят почему-то и ждут, с неприятным упорством разглядывая всех проходящих мимо. Облегченно вздыхаешь, когда они оказываются где-то сзади, и тем не менее еще долго чувствуешь на спине их оловянные взгляды.
Ощущение это не прибавляет радости жизни.
Я не то чтобы испугался, но на всякий случай взял немного левее. Фигура тоже взяла немного левее. А когда я свернул вправо, пожалуй уже ни на что не рассчитывая, фигура переместилась туда же, загородив мне дорогу.
Первое, что до меня дошло, – это дворник. Причем дворник, как будто сошедший с картинки позапрошлого века: сапоги гармошкой, метла, серый от пыли фартук, борода лопатой, а на широкой груди – кругляш металлической, по-видимому тяжелой бляхи. Интересно, что выглядел он очень естественно – не как ряженый, а как человек, привыкший именно к такого рода одежде. Даже метла у него, по-моему, была самая настоящая: полустертые от работы прутья, обвязанные веревкой вокруг палки.
Дворник чуть двинулся, и она слабо шаркнула по асфальту.
– Так что, ваше благородие, премного вами довольны, – внезапно сказал он. Откашлялся, как паровоз. Молодцевато выпятил грудь. Свет попал на бляху, и она засияла надраенным серебром. – И супруга наша, Анастасия Брюханова, тоже за вас Бога молит…
– Э… очень рад, голубчик, – с чувством ответил я.
– Так что, ваше благородие!..
– Прекрасно, голубчик…
И я попытался быстренько проскочить мимо.
Однако дворник стоял как скала. Я налетел на него, ушибся и отступил назад.
Дворник этого, кажется, даже и не заметил.
– Не дайте пропасть, ваше превосходительство, – сказал он очень жалобно. – Окажите такую милость. Чтоб отпустил, значит, меня обратно. Нет мне жизни: все мое – там, я – здеся… Он вас послушает, Богом молю, ваше сиятельство!.. Не виноватый я, медаль у меня за беспорочную службу… Супруга – тоже моя, Анастасия Брюханова… И детишкам прикажу, как есть, ваше высокоблагородие!..
Железная, видимо, никогда не чесанная борода его росла прямо от глаз. Лоб был низкий и такой морщинистый, словно его сплющили при рождении.
Дворник дохнул, и меня качнуло могучим запахом чеснока.
– Разумеется, можешь идти, голубчик, я тебя отпускаю, – поспешно сказал я.
И – наступило молчание. Нехорошее какое-то, сокрушительное, словно все звуки в мире стали неслышимыми. Не доносилось даже обычного городского шума, и в этой угнетающей тишине дворник моргнул, а потом подумал и моргнул еще раз.
– Так, – наконец произнес он суровым голосом. – Дурочку, значит, валяешь? Отвертеться хочешь? – Уронил метлу. Она треснулась об асфальт. Сдвинув медвежьи брови, плотоядно посмотрел на мои сандалии. Интересно, чем это они ему приглянулись? Самые обыкновенные сандалеты, сорок второго размера.
Нехорошее молчание затягивалось.
– Ни в коем случае, – быстро сказал я примирительным тоном. – Просто вы просили вас отпустить – пожалуйста. Идите куда хотите, я вам не препятствую. Даже наоборот. А я, соответственно, извините, в другую сторону…
И я сделал вторую попытку бочком-бочком проскочить мимо.
Такую же неудачную, как и первая.
Потому что дворник в ту же секунду мощно поднял руку.
– А вот это как же? – спросил он.
И рука его была похожа на окорок в мясном магазине. Хотя, пожалуй, окороки обычно поменьше. Однако главное заключалось даже не в этом. Главное заключалось в том, что эта рука крепко и уверенно сжимала топор. Настоящий топор: деревянная заглаженная хватаниями рукоять и вороненое лезвие со светлой кромкой.
Сердце у меня упало, как камень.
А дворник для убедительности, вероятно, поднес топор чуть ли не к самому моему лицу и повернул так, что слетело с лезвия тусклое лунное отражение.
– Тот самый, – пониженным голосом объяснил он. – Которым на канале. Верно, верно – мой топорик. Под лавкой у меня, значит, произрастал… Ты чего думаешь? Я его из тысячи отличу…
Я смотрел как загипнотизированный.
Дома вдруг придвинулись. Глухо зашумели деревья в саду, стиснутом тремя глухими торцами. Выгнутый, как кораблик, лист ткнулся в ограду. Сверкнули ее черные звенья. Воздух загустел.
Стало тесно.
– Или, может, подкинуть его? – уже совсем одним хрипом спросил дворник. Дико и неожиданно подмигнул мне морщинистым веком. – Уж так он мне надоел, так надоел. Это походить с ним надо, чтобы понять, как надоел. И не нужно совсем, а берешь. Руки себе отмотал, пальцы вон как опухли. Корку хлеба, значит, не ухватить… – Он чуть ли не в глаза мне ткнул трясущимися толстыми пальцами. Я заметил ногти, расшелушенные на заусенцы. – А подкинуть, – тревожно сказал дворник, – и дело с концами. Не моя это забота, знать ничего не знаю… Домик-то я приметил где стоит – за мостом, все как раньше. И квартирку евонную в четвертом этаже знаю. Цела, значит, квартирка… Вот и подкинуть туда. Будто просмотрели его, в горячке-то и не заметили… Или во дворе брошу, так даже лучше, обронил и все, никакого с меня спросу…
Он осторожно, как бык, повел из стороны в сторону глазными белками в сетке прожилочек. Ноздри у него, опять-таки по-бычьи, расширились, вывернув наружу густую волосяную поросль.
– А то иногда думаю: может, кровью смоет? Может, он того, значит, и ждет, чтобы кровь, как написано, оказалась? Наворотят же сюжет, прости господи!.. – со стоном сказал дворник. – Боюсь я этого… Думаю и боюсь… Это же – как? С ума сойдешь раньше… А с другой стороны, ежели кровь – она великую силу имеет…
Он смотрел на меня с потаенной надеждой.
– Ни за что, – сказал я в каменную тесноту переулка.
Голос мой сухой пылью осыпался на мостовую.
Тем не менее дворник обрадовался и, к моему облегчению, даже опустил топор.
– Нет? Говоришь, нет? Ну, ты человек ученый, тебе виднее. Думаешь, не одобрит он, если кровь снова окажется? Ну и правильно. Этакая страсть. Кто же одобрит? Я и сам, вот те крест, пугаюсь, а куда денешься?.. Ох, книги, книги, значит, вся муть – от них…
Он вдруг всхлипнул нечеловеческим басом. Прижал свободную руку к груди:
– Смилуйтесь, ваш-сок-родь! Пущай вернет меня в пятый том собрания сочинений! Сотворю что-нибудь – грех, пропаду совсем…
Казалось, он сейчас рухнет на колени.
– Все сделаю, – клятвенно пообещал я.
И, не сводя с него глаз, начал отступать под арку, к проходному двору.
Дворник не двигаясь белел фартуком.
– Прощения просим, если что, ваше сиятельство! – донесся его молящий голос.
Конечно, будь я в своем уме, я бы через этот двор ни за что не пошел. Он тянулся на километр – глухой, как шахта, и такой же пустынный. Серая каменная кишка, которую вырубили и забыли. Стены – толщиной в метр. Тяжелая кровля просела. Узкие двери черных лестниц заколочены досками. Штукатурка осыпалась. Мрачно проглядывали кровавые, древние кирпичи. Лампы висели редко и непонятно зачем – голые, пыльные, едва сочащиеся желтизной. Арки домов смыкались – дневной свет не попадал сюда никогда. В гулких нишах, распирая бока, стояли ребристые мусорные бачки. Не знаю, уж кто рисковал ими пользоваться. Однако все – с верхом, так что мусор высыпался на гололобый булыжник. Здесь, вероятно, водились и привидения. Тоже какие-нибудь особые, помоечные, самые завалящие. Наверное, вечно простуженные, худые, в заплатанных балахонах из ветоши. Собирались, скорее всего, по ночам – вылизывали добела старые консервные банки, жаловались на судьбу и всевозможные хвори. В общем, классический антураж. Кладбище времени. Двор «Танатос».
И тишина здесь стояла прямо-таки удручающая. Звук шагов, как летучая мышь, беспомощно метался под сводами. Он был не в состоянии вырваться из объятий камня. И словно вспугнутый этим бестолково тычащимся во все щели эхом, откуда-то из хитрых подвалов, из дровяной сырости и пахнущей плесенью черноты, наперерез мне, беззвучно, как по воздуху, ступая пружинистыми лапами, выбрался и остановился посередине дороги здоровенный котище.
Сердце у меня опять упало.
Потому что котище был действительно выдающийся: типично дворовый, наглый, серый в полоску, с перекошенной от бесчисленных драк широкой бандитской мордой. Усы у него топорщились бодрой проволокой, а облезлый кончик хвоста высокомерно подрагивал. По всему чувствовался кот-философ. Видел он все это в гробу и в белых тапках. Ничем его не проймешь.
– Кис-кис, – позвал я тихо и очень глупо.
Громадные зеленые глаза презрительно дрогнули. Кот уселся, зевнул, обозначив пасть белыми, чуть изогнутыми клыками, небрежно почесал скулу задней ногой и, потеряв ко мне интерес, с достоинством прошествовал к щели в парадную.
Вероятно, мне следовало сплюнуть через плечо. Есть такое правило, когда кошка перебегает тебе дорогу. Чтобы не случилось потом какого-нибудь несчастья. Только выглядело это по-идиотски, и я воздержался.
Правда, как тут же выяснилось, совершенно напрасно. Потому что едва я пересек воображаемую линию кошачьего хода и, пройдя еще пару шагов, оказался у поворота, опять ведущего в переулок, как за очередной аркой, где пологом провисала между двумя полудохлыми лампочками темнота, точно в ночном кошмаре, шевельнулась человеческая фигура.
Надо было все-таки сплюнуть, обреченно подумал я.
Однако события развивались вовсе не так, как можно было бы ожидать.
Человек, стоящий в тени, одернул пиджак, который был ему явно коротковат, и торжественно, как на параде, сделал два шага, поднимая босые ноги в домашних тапочках. Воткнул в висок напряженную, как деревяшка, ладонь:
– Поручик Пирогофф! К вашим услугам!
– Вольно! – автоматически ответил я.
И, как оказалось, ответил правильно. Поручик тут же осел, словно из-под него выдернули подпорку, отставил вбок ногу и выпятил грудь, прикрытую несколько великоватой рубашкой.
– Рассчитываю только на вас, сударь, – громко сказал он. – Зная, что происхождения благородного. И чины также имеете.
Он ожидающе замолчал.
– Могу дать десятку, – с готовностью предложил я и, как в тумане, достал из кармана соответствующую купюру.
– Сударь! – Он горделиво вскинул голову. – Поручик Пирогофф еще ни у кого не одалживался! Да-с! – И моя десятка мгновенно исчезла. – Несчастные обстоятельства, сударь. Изволите обозреть, в каком состоянии пребываю.
Я изволил. Состояние было не так чтобы очень. Пиджак на поручике, явно с чужого плеча, был действительно коротковат: рукава едва-едва дотягивались до костлявых запястий, также явно коротковаты были и брюки, а на рубашке, которую, по-моему, даже и не пытались гладить, не хватало двух пуговиц.
– К тому же! – гневно продолжил поручик. Щелкнул голыми пятками, и звук, как ни странно, получился очень отчетливый. – Извольте посмотреть, сударь, страница пятьсот девятая!..
Он тыкал в меня толстой, потрепанной книгой.
Выхода не было. Я осторожно принял в руки увесистый том. На странице пятьсот девятой, набранной убористым шрифтом, говорилось, что какие-то немецкие ремесленники – Шиллер, Гофман и Кунц – очень нехорошо поступили с военным, который приставал к жене одного из них. Мне вдруг что-то такое припомнилось. Что-то очень знакомое, давнее, еще со школы.
Фамилия военного была – Пирогов.
– Это вы? – напрямик спросил я.
Поручик затрепетал ноздрями.
– Помилуйте, сударь, как бы я мог? Жестянщик, сапожник и столяр, – с невыносимым презрением сказал он. – А в тот день… Я отлично помню… Находился в приятном обществе, что может быть засвидетельствовано… У Аспазии Гарольдовны Куробык. Не изволите знать, сударь? Благороднейшая, возвышенной души женщина…
– Книгу возьмите, – попросил я.
Поручик сделал отстраняющий жест.
– Как непреложное доказательство клеветы. Честно скажу вам, сударь, ожидал-с!.. Уважаю искусства – когда на фортепьянах играют или стишок благозвучный. Художнику Пискареву – наверное, слышали? – многажды оказывал, так сказать, покровительство. И сам, в коей мере не чужд…
Он выпятил грудь так, что рубашка на ней разошлась, картинно выставил руку и прочел с завыванием:
Ты, узнав мои напасти, Сжалься, Маша, надо мной, Зря меня в сей лютой части, И что я пленен тобой.– Многие одобряли. У нас в полку. Генерал, барон Шлоппенпумпф, прослезился лично… Вот что значит, когда – истинно благородное чувство… А вы, сударь, прошу прощения, случаем, не поэт?
– Это Пушкин, – сказал я. – Александр Сергеевич написал.
Поручика даже шатнуло.
– Украл! – страшным шепотом произнес он, перекосив бледную физиономию. Схватился за жидкие волосы и несильно подергал, словно боясь оторвать. – Слово чести! Ведь вот – сочинить не может, так непременно украсть! Я его – на дуэль!
– Мяу! – пронзительно раздалось за моей спиной.
Я оглянулся. Тот самый котище сидел на середине прохода. Задрал бандитскую морду и буровил меня зелеными немигающими глазами.
– Брысь! – топнул поручик.
Вдруг успокоился и вытер лоб скомканным носовым платком.
– Сами видите, сударь, что делают. Позор на всю Россию. А у меня знакомые: корнет Помидоров, князь Кнопкин-второй, госпожа Колбасина… Я же не могу… Тираж сто тысяч!.. Господи боже ты мой, зачем же такой тираж? Это же сто тысяч людей его купят. Конечно, не все из них грамотные. Которые и просто так. Но благородные прочтут непременно…
– Мяу!
– Значит, так, сударь, – нервно сказал поручик. – Чтобы опровержение во всех газетах. То есть, мол, прошу поручика Пирогова не считать описанным в такой именно книге… И, сударь, сударь, чтоб безусловно указали номер страницы!..
Я только торопливо кивал – будет исполнено.
– И дальше, сударь. Войдите, наконец, в мое положение. Мне полагается квартира, жалованье, провиант – кто его выдаст? И как я пока тут считаюсь – в походе или военные действия? Тогда – лошадь, и кормовые, и прочие, так сказать, надобности. Опять же – денщик мой там где-то застрял. Как же я, сударь, в походе без денщика? Подлец, между прочим, необыкновенный: пропьет все до нитки, как есть, останусь в чем мать родила – в одном мундире.
– Поможем, – проникновенно заверил я.
Он приподнялся на цыпочки и вытянул тонкую шею:
– Так я могу надеяться?
– Вне всяких сомнений!
– И лошадь, и кормовые?
– Слово благородного человека!
– Вашу руку, сударь! – с энтузиазмом воскликнул поручик.
Ладонь у него была теплая и чересчур влажная. Он долго тряс мне все кости, а затем вытер слезу, которой, по-моему, не было.
Сказал взволнованно:
– Благородство – его ничем не скроешь. Мне бы еще носки, сударь, какие-нибудь, и я – ваш вечный должник!
– Носки? – тупо переспросил я.
– Носки, – подтвердил поручик.
– Зачем носки?
– Затем, что не положено в благородном звании – без носков.
Блеклые зрачки его вдруг расплылись, как два зыбких облака, щеки дернулись и детали лица заколебались, будто отражение в легкой воде.
– Ой-ей-ей, опять эта штука!.. – испуганно воскликнул поручик.
Я уже окончательно перестал что-либо понимать.
В голове у меня звенело.
Я вздрогнул.
– Мя-я-у!.. – длинно и хищно раздалось где-то уже совсем рядом.
Глава третья
Прошло еще несколько дней.
Жара не спадала, и от знойного, неумолимого солнца воздуха на улицах становилось все меньше. Коробилась раскаленная жесть на крышах, трещал булыжник, выкрашивались гранитные поребрики тротуаров. Воробьи, раздвинув жалкие крылья, еле-еле ковыляли по размякающему асфальту. Улицы и проспекты были погружены в прозрачный огонь. Пересыхали каналы. Медленная, горчичного цвета вода шевелила тину на круглых камнях. Гнили узловатые водоросли. Бурый йодистый запах распространялся по городу.
Каждый день радио севшим голосом сообщало, что последний раз подобная температура регистрировалась в тысяча каком-то тараканьем году – чуть ли не в эпоху Петра, если, конечно, тогда производились замеры. Ссылались, естественно, на циклоны, антициклоны и геопатогенные зоны, якобы расположенные под городом. Последнее я вообще считал полным бредом. Тем более что газеты в эти странные дни выходили ломкие, пожелтевшие и не вызывали доверия. Казалось, что время умирало раньше, чем его успевали запечатлеть. Серое, словно из дымного войлока, небо влачилось над городом. Дым из кирпичных труб вытягивался по нему и стекал вниз, к окраинам.
Институт, где я был теперь руководителем группы, пустел на глазах. Все, кто мог, под любыми предлогами или даже совсем без оных уходили в краткосрочные отпуска. Руководство института не возражало. Работать в таких условиях все равно было нельзя. От жары вздувался пузырями линолеум, и в лабораториях стояла вонь горячей резины. Стреляли чернилами авторучки, оставленные на солнце. Вода в стаканах мутнела и выделяла ржавые хлопья. Мухи черными зернами осыпались на подоконник.
Просто нелепо было чего-либо требовать в эти дни. Свою группу, точнее оставшихся от нее двух лаборанток, я отпускал домой уже где-то в двенадцать. Они, наверное, благословляли тот час, когда я стал их начальником. А потом для приличия выжидал немного и уходил сам.
Хлопала тугая дверь. Звенела пружина. Океан белого зноя распахивался передо мной необозримым пространством.
Начинались бесцельные и бессмысленные шатания по всему городу. Я наматывал километры по жарким улицам, где не было ничего, кроме пустоты и света. Пенным прибоем шумела кровь в тесных висках. Блистая, кружились стекла. Зыбкая амальгама солнца испарялась с карнизов. Я пересекал площади, задыхающиеся от одиночества. Как волдырь, сиял надо мной чудовищный купол Исаакиевского собора. Гулкой памятью, эхом винтовок окутывались дома на Гороховой. А зеркальные лики витрин с высокомерием взирали на это странное время. Я проходил мимо дворцов, казалось вылепленных из чистого зноя. За дубовыми рамами, въевшимися в стекло, царила прохлада: озноб нежных люстр, сумрак, золотая пыль коронаций, разноцветный льдистый паркет, выхваченный из небытия переливами дерева. Забытые лица смотрели с темных полотен. Слабо мерцал багет, и, мучаясь, брела через бесконечную анфиладу тень убитого императора.
Я попадал в кривые, расползающиеся, как тараканы, переулки коломенской стороны. Кто-то создал их в бреду и белой горячке, сам, по-видимому, испугался – махнул рукой. Слезились от огня подслеповатые окна. Крыши в хребтах мертвых труб, давясь, натискивались друг на друга. Здесь и воздух был совершенно иной – прошлого века. И какими-то коричневыми подпалинами вылезал сухой мох из подвалов. Проглядывали на мостовой макушки булыжника. Крутилась зеленоватая пыль, возникшая как будто из сновидений. Словно переворачивался циферблат и время текло обратно. Казалось, сейчас, царапнув кирпич, вывернется из безымянной щели бричка, похожая на стоптанную босоножку, длинно скрипнет рессорами, накренится из стороны в сторону и неторопливо загрохочет ободьями по голому камню. Заспанный кучер с соломой в свалявшихся волосах встрепенется и дико поведет вокруг опухшей физиономией. Однако, успокоенный видом серых галок и голубей, рассевшихся где попало, опять уронит голову на колени, покачиваясь в такт каждому шагу своей суставчатой лошади.
Ростовщик с бессмертными, необыкновенно выразительными глазами уже полтора столетия бродил здесь, мгновенно оценивая каждого встречного, полы цветного халата мели по булыжнику, и великий писатель с быстрым и надменным лицом взирал в холодной усмешке на съеденные временем домишки и флигели, на покосившиеся фонари, на жалкую окраинную мостовую, выше вздергивал бровь, и безнадежная скука овладевала изношенным сердцем его.
Однако рано или поздно я выходил на канал. К трем серым мостам, парящим в воздухе.
Здесь были особые обстоятельства.
Ольга возникла как будто из ниоткуда. Точно во исполнение некоего заклинания материализовалась из жаркого городского воздуха. Никаких подробностей их знакомства Антиох мне не сообщил. Просто однажды скрипнула дверь в соседнюю комнату и из нее вышла девушка с разбросанными по плечам волосами. Антиох что-то буркнул, тем представление и закончилось. Я довольно долго не обращал на нее никакого внимания. Воспринимал просто как часть квартиры: в разговоры с ней не вступал, о жизни не спрашивал. Иногда даже забывал поздороваться. Тем более что и Ольга к общению со мной тоже, видимо, не стремилась, из комнаты выходила редко и в наших с Антиохом дискуссиях участия не принимала. Вообще была какая-то чересчур тихая. Именно так: скрипнет дверь, колыхнется стоячий воздух, а оглянешься – оказывается, что уже никого и нет.
Я даже внешность ее не слишком хорошо разглядел.
А потом Ольга вдруг начала проявляться. Чрезвычайно медленно, постепенно, как проявляется фотокарточка, положенная в слабый раствор: сначала отдельные линии, штрихи, какие-то размытые пятна, и вдруг этот неразборчивый хаос слипается и с удивлением обнаруживаешь связную живую картинку.
У нее было очень бледное, в голубоватых тенях лицо, будто выточенное из мрамора. Глаза серые и большие, подернутые выпуклой влагой. Бесцветные волосы иногда казались стеклянными. Ладони просвечивали насквозь, и из-за этого возникало чувство, что ей вечно холодно. Пальцы были точно из ломкого льда. Стоило прикоснуться к ним – и кожа сразу же начинала ныть от низкой температуры. Говорила она мало и неохотно, отчетливо выговаривая согласные. Будто на чужом языке, когда, стараясь сказать яснее, невольно подчеркиваешь фонетику. Голос звенел готовой лопнуть струной. Она никогда не смеялась и даже, по-моему, не подозревала, что существуют такие человеческие эмоции. Зато молчать могла, вероятно, целыми сутками. Ее это не тяготило, она глядела в ничто, которое не видел никто, кроме нее. Зрачки медленно суживались и расширялись. Веки подрагивали, как крылышки стрекозы, готовой к полету.
Было в ней что-то удивительно отстраняющее. Спросишь о чем-либо – ответит не сразу, а будто очнувшись и возвратившись из какого-то нездешнего мира. Поднимет брови, отвернется, точно ей неприятен звук голоса, и опять молча сидит, созерцая что-то невидимое. Можно было кричать ей в ухо, она бы даже не вздрогнула. Двигалась как сквозь сон – останавливалась и замирала на полушаге. Никогда никуда не спешила, но, по-моему, также и никогда никуда не опаздывала. Кажется, она вообще не замечала времени и существовала, не ведая о немолчном дожде дней и месяцев. Вероятно, так же в соленой необозримости океана, в тишине, во мраке пустой воды и нечеловеческого пространства, нехотя, словно через силу надувая зонтики плавников, равнодушно живут полупрозрачные белые рыбы, светятся нежным фосфором, просачиваются сквозь глубины из одного конца света в другой, – безгласые рыбы, помнящие еще пустынные зори Земли и сейчас терпеливо ждущие, когда, знаменуя неизбежный финал, упадет огненный занавес.
Медленно течет разбавленная соленой водой легкая рыбья кровь.
Однажды она при мне порезала палец: больно, чуть не до кости полоснула руку ножом – не ахнула в тот момент, не побежала за пластырем, – лишь еще больше, до синеватости побледнела и закусила слабые губы. Рану перевязывать не пришлось, края слиплись, ни одна багровая капля не выступила наружу.
Больше об этом не вспоминали.
Казалось, она исключительно по обязанности смотрит длинный и скучный фильм, который уже не раз видела: все знакомо, каждый взгляд, каждый звук, надоело до чертиков. Смотреть, однако, приходится. Но ничего – сейчас вспыхнет свет, придуманная жизнь выцветет, стечет, как вода в песок, схлынет из памяти и не вернется уже никогда больше.
Теперь – Антиох.
Тут все было более-менее ясно.
Существовал некий Антон, Антоша Осокин, школьный приятель – сидели в те годы за одной партой, вместе мотали физкультуру, когда получалось, вместе бегали в кино на площади за театром. Он тогда был еще вполне нормальный, только много читал – прятал книги под раскрытым учебником. Вероятно, поэтому так все впоследствии и получилось. Слишком рано начал привыкать к вымышленным реалиям. Его прозвали Антиохом, когда проходили соответствующий раздел по литературе. Антиох, сочинитель стихов и трактатов, для друзей – попросту Кантемирыч. Школа забылась как сон, который исчезает при первых же проблесках солнца. Затем – в разные институты, потерялись, конечно, не виделись, вероятно, лет семь или восемь. Вдруг нос к носу столкнулись прямо на Невском проспекте. Я к тому времени уже давно все закончил и пахал младшим научным сотрудником в своем нынешнем заведении. Отчаянно лез вперед – головой, которая, как выяснилось, слегка на месте, и своими собственными руками, тоже приставленными, по-видимому, куда требуется. Работал по двенадцать часов в день, без выходных, без праздников, обмораживал пальцы в криостате. «Свалил кирпич», то есть защитил диссертацию. Написал около двадцати статей, в том числе и для нескольких зарубежных журналов. Теперь открывались некоторые перспективы. Пока еще, конечно, не слишком радужные, но, по моим оценкам, уже достаточно обнадеживающие. В общем, дела у меня шли неплохо. А вот Антиох, оказывается, свой институт не закончил. Ушел то ли с третьего, то ли с четвертого курса по не вполне понятным причинам. Во всяком случае, говорил он о них не слишком охотно. И, сменив после этого несколько маловразумительных мест, наконец осел в какой-то, на мой взгляд, довольно-таки захудалой конторе. Что-то такое связанное со строительным проектированием. То есть старенькие компьютеры, кульманы, даже рейсшины, которыми пользовались, по-моему, еще в начале прошлого века. Короче говоря, удел идиотов. Я всегда втайне подозревал, что чтение посторонних книг на уроках хорошо не закончится. Так оно в итоге и оказалось. А сейчас он вроде бы что-то писал. Язык – это, оказывается, не способ выражения мыслей. Язык – это ни много ни мало – Дом Бытия. Где птицы мертвы падаху на кровли… Короче, призвание, голос свыше и все такое. Зарплата мизерная, пиджак потертый, пуговицы к нему пришиты разного цвета, манжеты рубашки выношены до белизны ниток, а ботинки такой откровенно вылинявшей окраски, что кажется, сохранились еще с военного времени. Вид у него, однако, был снисходительный. Дескать, разве можете вы, мещане и закоснелые обыватели, понять душу художника? Какие у вас, собственно, интересы? Водка и телевизор. А художник, даже когда сморкается, делает это не просто так, а с возвышенными намерениями. Вообще пребывает в мирах, недоступных простому смертному. Он, оказывается, только что переехал и жил теперь совсем недалеко от меня. Какой-то прямо фантастический вариант обмена: из новостроек – в самый центр города и без рубля доплаты. И главное – что на квартиру чуть ли не вчетверо большую, чем предыдущая. Вероятно, художники действительно пребывают в каких-то недоступным нам сферах. Мне бы такой вариант было не провернуть. Даже сам дом наводил на некоторые размышления: фигурная лепка по стенам, газовые рожки, разумеется не работающие, витражи в окнах на лестнице, облупленные мутноватые зеркала от пола до потолка. Удивительно, как их еще не поснимали для дач. У нас же кариатиду в четыреста килограмм утащат, только оставь. Не было нумерации на дверях и почтовых ящиках. Не было даже замков – большинство квартир пустовало. Удивительно, что не поселились в них какие-нибудь ханыги. Я к нему заглянул в тот же день и с тех пор начал время от времени заходить. В основном, конечно, после работы, сильно выжатый, на подгибающихся ногах, вероятно, просто затем, чтобы слегка переменить климат. Научная сфера иногда имеет обыкновение душить прямо физически. А тут – спокойная обстановка, интеллигентная необременительная беседа о Гоголе и Достоевском. Я просто возвращался в человеческий облик после всяких своих коэнзимов и дегидрогеназ. Перемена среды – вообще великое дело. Антиох к тому времени уже нашел себе другую работу. Устроился сторожем, если не ошибаюсь, в какое-то хилое заведение. Сутки через трое, чтобы, значит, все свободное время отдавать творчеству. У меня, помню, уже тогда появилось некое тревожащее предчувствие. Словно вот только что все вокруг было тепло, и вдруг потянуло откуда-то сквозняком холодного воздуха. Такой, знаете, легкий озноб по коже.
Главное, я не понимал, чего он хочет.
Целыми днями Антиох как проклятый стучал на машинке – громыхающем металлическими суставами монстре, ровеснике, вероятно, еще первых автомобилей. Тысячи шелестящих страниц, забитых подслеповатым шрифтом, усеивали квартиру. Время от времени он собирал их в толстенные кипы, укладывал в папки и перевязывал крепким шпагатом. Папки затем пылились на полках или просто – наваленные в углу комнаты. Я ни разу не видел, чтобы Антиох развязал хотя бы одну из них. По-моему, он про них немедленно забывал. Кроме того, он прочитывал чертову уйму книг. Иногда читал сутками напролет, забывая, по-видимому, о сне, отдыхе и еде. Проглатывал их штук по пятьдесят в месяц. В основном беллетристика, но также – философия, критика, теория литературы, лингвистика, матанализ. Я просто не понимал, чем обусловлен его выбор. Сегодня он, например, читает «Золотую ветвь» Фрейзера, а завтра – уже «Гравитацию» Линна, Макартура и Уилсона. Сегодня – «Как перестать беспокоиться и начать жить», а завтра – «Самосознание европейской культуры XX века». Причем как из одного, так и из другого он делал длинные выписки, и потом эти полоски бумаги также катались и шелестели по всей квартире. Такой образ жизни. Это, конечно, не может не отразиться. Антиох отпустил волосы, и они, как у женщины, свисали ему на плечи. От бессонницы и, вероятно, от недоедания он истаял, нехорошо пожелтел и стал походить на схимника. Глаза двумя черными углями высверкивали на костяном лице. Он уже ни мгновения не мог оставаться на месте: вскакивал, убегал, возвращался, паучьими цепкими пальцами извлекал книги из жутких развалов, буквально за считаные минуты высасывал их содержание, ронял после на пол, длинными безостановочными шагами снова прошивал комнаты. И все время говорил, говорил, говорил – пузырились губы, брызгали во все стороны странные, оборванные на половине мысли и фразы. Ничего было не понять в этом непрекращающемся монологе. Точно жестокий, невидимый глазу огонь изнурял его, не давая ни секунды покоя, и чем дольше пылал этот жутковатый огонь, тем все меньше и меньше оставалось от человеческой оболочки. Слова слипались в косноязычный бред, как будто их было больше, чем он успевал высказать.
Любопытно, что Антиох даже не делал попытки где-нибудь напечататься. Он не предлагал своих произведений издательствам и не посылал их в журналы. По-моему, эта мысль просто не приходила ему в голову. Впрочем, если бы такая попытка и была им предпринята, я не думаю, чтоб она принесла хоть какие-нибудь результаты. Дело в том, что Антиох писал какую-то очень странную прозу. Все, что он создавал, не имело ни формы, ни сколько-нибудь внятного содержания. Сплошной текст – без сюжета, без диалога и персонажей. Речь в себе, которая непонятно где начиналась и где заканчивалась. Там не было даже обыкновенных абзацев. Просто сотни страниц, забитых аккуратными черными строчками.
Это невозможно было читать. Фразы слипались, будто в толкучке, наслаивались и перебивали друг друга. Знаки препинания, как правило, блистали полным отсутствием. Антиох, видимо, не обращал внимания на подобные мелочи. Смысл едва брезжил, где-то очень смутно, за текстом. Иногда казалось, еще минута, вот-вот, еще буквально несколько строк, еще одно усилие – и наконец уловишь, о чем, собственно, речь: спадет с глаз пелена, зажгутся софиты и разноцветными лучами своими озарят чудесный кукольный мир, задвигаются фигуры, послышатся тихие голоса, словесный театр оживет, чтобы дать захватывающее представление. Однако никакие усилия не помогали, тьма сгущалась, язык ворочался в тине деепричастий и придаточных предложений, софиты в кукольном театрике не загорались, и постепенно я потерял всякую надежду понять здесь хоть что-нибудь.
В общем, я довольно быстро разуверился в Антиохе. Так, по-моему, не работают. Все-таки результат важнее процесса. Новая суть не рождается – так вот, случайно, из хаоса мутной пены; напротив, она концентрируется постепенно, чтобы потом, как звезда, внезапно вспыхнуть на небосклоне.
Я примерно так думал в то время.
А к тому же была еще и Ольга, плывущая в сумерках громадной петербургской квартиры. Дважды она мне снилась, колеблясь, словно отражение в лунной воде, и дважды я просыпался разбитый и без малейшего желания жить дальше.
Так она на меня удивительно действовала.
Вот почему, бесцельно чертя сухое, выжженное июньским огнем, безжизненное дно города, загребая ногами вялые листья, как шелуха ссыпающиеся с деревьев, часами, будто сомнамбула, простаивая на гнутых, каменных или деревянных мостиках через каналы, я потом неизменно, как маятник, влекомый путами тяготения, возвращался сюда – где напротив острова, обнесенного по берегам крепостной тусклой стеной, громоздился причудливый дом, украшенный лепкой и крохотными балкончиками, где изнемогали от зноя разлапистые деревья на набережной и где семь распахнутых окон на втором этаже глотали белую тополиную горечь.
Волосы у меня за эти дни выгорели до льняной желтизны, натянулась на лице кожа, перед глазами сталкивались радужные круги. Я очень плохо понимал – где я и кто. Словно навсегда потерялся на вылощенных дымных проспектах, в асфальтовых испарениях, смазывающих перспективу, в громоздких бурых и серых наплывах раскаленного камня. Гигантской каруселью вращался вокруг меня город. Сияли куполами соборы. Летел жаркий пух, вскипая вихрями на перекрестках. Памятники неизвестно кому недоуменно таращились мне вслед. Бухала в полдень пушка. Звенела по булыжнику бронза конских копыт. Солнце, проникая под череп, делало черноту мозга горячей. Я уже не мог отличить вымысел от реальности. И весь этот невозможный блеск, назойливое мерцание душной воды, шпиц Адмиралтейства, изъязвленный серый гранит, стиснувший улицы, вздутые простыни площадей, зевы парадных и подворотен, – все это сливалось в утомительный до головной боли, слепящий и медленный круговорот, в вечность, из которой не было иного выхода, кроме смерти, в загадочное и обманчивое видение странного мира, которое зыбким своим миражом, пыльным горящим воздухом, пространством солнца и камня неумолимо, мгновение за мгновением, впитывало разум, впитывало жизнь и не оставляло взамен ничего, кроме тоски и беспощадного света.
Глава четвертая
Далее события развивались так.
Где-то дня через три мне неожиданно позвонила Ольга и, по-моему даже не поздоровавшись, сообщила, что нам надо поговорить.
Кажется, голос у нее был тревожный.
– Когда угодно, – сдержанно ответил я.
Она замолчала, будто перерезали провода.
– Алло! – не выдержав, закричал я. – Ты меня слышишь?
Сильно подул в трубку.
Это было утро, воскресенье, я только что проснулся и стоял босиком у столика с телефоном.
– Очень плохо, – шепотом сказала Ольга.
– Да? – сказал я.
– Очень плохо.
– Что-нибудь случилось?
– Нет. Пока нет. Просто плохо. Очень плохо, и, видимо, будет еще хуже.
Снова – будто перерезали провода.
Молчание становилось невыносимым.
– Я могу к вам подъехать, – нерешительно предложил я.
Ольга немного подумала:
– Нет, пожалуй, не надо.
– Я все равно приеду теперь, – сказал я.
– Ну, тогда как можно скорее, – попросила она. – Лучше прямо сейчас. Ты мог бы прямо сейчас?
И сразу же раздались гудки. Словно кто-то с поспешностью заколачивал их мне в ухо.
Я бросил трубку.
Здесь можно было дойти пешком. И пешком, вероятно, было бы даже быстрее. Но такая отчетливая тревога звучала в Ольгином голосе, что я, выскочив из парадной, невольно свернул к автобусной остановке. Это, конечно, было ошибкой. Я все время забываю, что в центре города проще ходить пешком. Транспорт у нас сам по себе, а человек – сам по себе. В результате я, изнывая от нетерпения, минут двадцать бессмысленно топтался на остановке. В подошедший затем автобус я, разумеется, еле втиснулся и еще минут двадцать трясся, сжатый со всех сторон хмурыми пассажирами. Воздуха в салоне автобуса вообще не было. А перед каждым светофором на этом пути мы останавливались и стояли до полного изнеможения.
В общем, вместо получаса, который бы я потратил, идя пешком, мне пришлось добираться по крайней мере минут сорок пять.
И то я считаю, что мне еще повезло.
А когда я, потный и раздраженный, все-таки выбрался из автобуса и, стремглав добежав до парадной, во весь дух, через две-три ступеньки помчался по темноватой после бурного солнца лестнице, то на середине ее, где сумерки особо сгущались, что-то тоже летящее, похожее на пушечное ядро, глубоко, до позвоночника вошло мне в живот.
А потом с чмоканьем вышло и село прямо на лестничную площадку.
По полосатому колпачку я узнал Буратино.
– Ну ты, дядя, дае-ешь… – констатировал он, поворачивая со скрипом голову из стороны в сторону. – Конечно, раз она у меня деревянная – давай, бей не хочу. Лупи по ней чем попало. Так, что ли?
Я с некоторым трудом разогнулся:
– Ух…
– Тук-тук-тук, – по лбу, по затылку, по шее выстукивал себя Буратино. Наконец с удовлетворением заключил: – Вроде все цело. Молодец этот мой Карло, на совесть сработал. – Он поднялся и отряхнул короткие, как у ребенка, штанишки. – Ой, не стони, дядя. В конце концов, живой ведь остался. Скажи спасибо, что я тебя, например, носом не пропорол. Ну все, все. Лучше, раз уж мы повстречались, дай закурить человеку…
– Не курю, – выдавил я хриплым голосом.
– И напрасно! – назидательно сказал Буратино, качнув острым носом. Поднял указательный палец и посоветовал: – Надо начинать, дядя, тогда перестанешь бегать как угорелый…
– Стой! – сказал я. – Что там у вас происходит?
Буратино с отвращением освободил свой локоть:
– Заклинание духов… Ты туда, дядя? Оч-чень не рекомендую. Никакого удовольствия не получишь, а вот неприятностей можешь себе надыбать по самое это самое. Потом не говори, что я тебя не предупреждал. – Грохоча, будто вязанка дров, он скатился по лестнице. Хлопнула дверь парадной, и я услышал, как тишину двора разорвал писклявый, действительно будто из дерева голос: – Варахасий! Дуй сюда, пещ-щерный ты человек!..
Я наконец отдышался и поднялся еще на этаж. Уличный свет здесь был приглушен толстым цветным витражом. Он, по-моему, изображал цветы на лугу. Тускло-красные и тускло-зеленые блики пятнами лежали на стенах. Площадка из-за этого выглядела как сцена в театре. А немного ниже, где из трещинки в витраже золотой полоской вспарывал темноту плоский солнечный луч, переливалась в воздухе взбудораженная искристая пыль.
Дверь в квартиру была приоткрыта. Я поколебался и дал сначала один короткий звонок, а через секунду – другой. Ни единого звука не донеслось изнутри.
Тогда я просунул голову:
– Есть кто-нибудь?
Далеко, в темных недрах, распадались неопределенные трески и шорохи.
Я пошел по мрачноватому коридору, толкая все двери подряд. Остро заточенные пластины солнца разрубали сумрак у меня за спиной. Везде было тихо – голые стены и пустота. Я все больше нервничал, потому что все сильнее волновался за Ольгу. С момента ее звонка прошло около часа. За это время могло случиться все что угодно.
В комнате Антиоха был прежний чудовищный беспорядок. Жуткое нагромождение книг, осыпанных листками с машинописью. Сквозняком бумагу подбросило и вытянуло в пасть коридора. Было слышно, как она с легким шорохом скользит по стенам и полу.
Как-то Антиох мне сказал: «Чтобы написать десять страниц более-менее приличной прозы, надо сперва пропилить и выбросить десять тысяч страниц плохой».
Иллюстрировал он это личным примером.
Я бы умер, а столько не написал.
Один из листочков как-то сам собой оказался у меня в руках.
«Во-первых, надо было петлю сделать и к пальто пришить – дело минутное. Из лохмотьев он выдрал тесьму в вершок шириной и вершков в восемь длиной. Эту тесьму он сложил вдвое, снял с себя свое широкое, крепкое, из какой-то толстой бумажной материи летнее пальто (единственное его верхнее платье) и стал пришивать оба конца тесьмы под левую мышку изнутри. Руки его тряслись пришивая, но он одолел и так, что снаружи ничего не было видно, когда он опять надел пальто».
Я недоуменно пожал плечами.
«Что же касается того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила… Стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, через час (когда все уже кончится), войти и положить обратно.
Но это еще были мелочи, о которых он и думать не начинал…»
Я бросил этот листок и поднял другой. Было ясное ощущение, что в квартире я не один. Кто-то невидимый и неслышимый шел по длинному коридору, осторожно заглядывал в комнаты, темными глазами ощупывал ниши и антресоли.
У меня даже мурашки побежали по коже.
Глупости, вероятно – игра больного воображения.
«Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза… Он осмотрелся кругом – никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. „Так и есть, нет дома! Где-нибудь близко, впрочем, на дворе, потому что дверь отперта настежь“. Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленьями; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! „Не рассудок, так бес!“ – подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно».
Страница с подслеповатым шрифтом запрыгала у меня в пальцах. Я больше уже не гадал, откуда этот отрывок. Я не гадал, потому что теперь знал точно. Вот, оказывается, что означает топор! Было страшно за Ольгу, и мне это все чрезвычайно не нравилось.
Правда, что можно сделать в такой ситуации, я тоже не очень-то понимал.
Слабый протяжный звук донесся из коридора. Сомнений у меня больше не было: кто-то и в самом деле проник вслед за мной в квартиру. Причем идущий, видимо, старался двигаться как можно тише: шагнет – остановится, ждет пару секунд, потом – еще один шаг. Я вдруг почувствовал, как звонко и часто колотится у меня сердце. Колыхалась на окне тюлевая занавеска. Слабый сквозняк шевелил разбросанные по полу страницы. Деваться мне было некуда. Ручка дверей повернулась. Я стиснул зубы. Облитый солнцем, так что даже лицо его было смазано сияющим ореолом, возник в проеме дверей человек невысокого роста – замер, по-видимому привыкая к яркому свету, и повел подбородком, точно хотел растянуть кожу на горле.
– Виноват, – негромко сказал он.
Я мелко кивнул – точно клюнул.
– Квартира была открыта.
Я снова кивнул.
– Я бы не вошел так нечаянно, если бы знал, – вежливо сказал человек.
Он был одет во что-то из прошлого века: черный строгий сюртук, крахмальный воротничок – стоймя с отогнутыми уголками, темный, довольно широкий галстук, завязанный крупным узлом.
– Собственно, я к Антону Григорьевичу…
– Прошу, – сказал я и сделал невнятный жест.
Человек заколебался, глядя на пол:
– Тут – книги…
– Это ничего, – сказал я.
– Вы думаете? Впрочем, неважно.
Он вошел, осторожно ступая, и с церемонной светскостью наклонил голову.
– Позвольте представиться: Иван Алексеевич. Милостивый государь?..
Я тоже назвал себя и даже отдал поклон, впрочем отчетливо сознавая, что мне до него далеко.
– Еще раз простите великодушно за нечаянное вторжение. Однако я хотел бы видеть Антона Григорьевича…
– Его временно нет, – объяснил я.
– Изволят быть?..
Я честно сказал:
– Не знаю.
Иван Алексеевич слегка помедлил. Сдул несуществующую пушинку с плеча и опять повел подбородком, словно преодолевая судорогу. Несмотря на тщательность одежд и манер, чувствовалась в нем какая-то неуловимая странность. Точно ему не хватало чего-то для завершения облика. Причем, видимо, чего-то очень существенного. Я вот только никак не мог сообразить – чего именно.
– Значит, не изволят сегодня присутствовать? – нерешительно сказал он. – Весьма печально. Мы с Антоном Григорьевичем должны были завершить одно… дело. Смею заверить, очень важное для меня дело. И мне было бы в высшей степени неприятно, если бы его пришлось отложить на… какое-то время…
Он явно чего-то ждал от меня.
– Завершите, – пообещал я.
Я уже поднаторел на обещаниях.
Иван Алексеевич несколько оживился:
– И чудесно! Чудесно, чудесно! Давно, знаете ли, пора. Но Антон Григорьевич все почему-то откладывал.
Я вдруг понял, в чем состояла его странность. У человека, как бы это ни дико звучало, отсутствовало лицо. Была голова – гладкие, аккуратные волосы, зачесанные немного набок, уши по-волчьи острые, твердый подбородок, шея – в тугой петле галстука. А лица у него как такового не было. Вместо глаз, носа, губ клубились какие-то расплывчатые туманные очертания. Причем самое любопытное, что иногда казалось, будто лицо у него все-таки есть: стоит лишь всмотреться внимательнее, и уловишь необходимую совокупность деталей. Но это впечатление было обманчиво. Детали вроде бы и проступали, но в общую картину не складывались. Так возникают иногда силуэты среди наползающих друг на друга фантастических облаков, а чуть сморгнешь, посмотришь буквально через секунду, и выясняется, что это – мираж, уже ничего такого не видно.
Между тем Иван Алексеевич с интересом оглядывался.
– Да, именно так я себе все это и представлял, – сказал он. – Вздернул плечи и сплел пальцы с розовыми, как у женщины, ухоженными ногтями. – Я здесь впервые, но именно так – хаос и запустение. Теперь, знаете ли, многое становится ясным.
В нем вдруг почувствовалась некоторая нерешительность.
Он повернулся ко мне.
– Надеюсь, я не позволю себе ничего лишнего, если попрошу, так сказать… осмотреть? Вы не подумайте только, что я в какой-то мере хотел бы… изменить образ. Нет-нет-нет! Это чисто профессиональное любопытство. Я ведь и сам… в определенном смысле…
– Ради бога, осматривайте, – сказал я, подразумевая комнату.
– Так вы не возражаете?
– Ради бога!
Но Иван Алексеевич, оказывается, осматривать комнату вовсе не собирался. Вместо этого он с откровенной жадностью уставился на меня. Будто на чучело. Будто на редкий экспонат в музее. Обошел вокруг, придирчиво до неприличия изучая. Вновь остановился, подумал, всплеснул ладонями.
– Пре-лест-но! Прямо-таки прелестно! Ведь может, когда захочет. И волосы, извините, тоже у вас натуральные? – протянул руку, чтобы потрогать, отдернул. – Простите великодушно, сударь, но вы, наверное, понимаете мое естественное волнение. Общая судьба, так сказать. Я, конечно, имею в виду… посмертное существование в качестве… образа. Надеюсь, я не задел вас этим сравнением? И глаза, посмотрите, совсем живые – испуг, растерянность. Это, кстати, самое трудное, чтобы глаза были живые. И костюм превосходный… материал… Наверное, современные моды?
Мне было неловко под его пристальным взглядом. Что он такого нашел? Я тоже невзначай оглядел себя. Вроде бы все в порядке. С чего это вдруг потребовалось так внимательно меня изучать?
– Право, прелестно, – легко покачивая головой, заключил Иван Алексеевич. Он был, казалось, удовлетворен осмотром. В туманном пятне лица даже блеснуло нечто вроде зрачков. Хотя я мог, конечно, и ошибаться. – Простите за назойливость, милостивый государь. Кто вас писал?
– Э-э-э… – сказал я.
– Ну, кто автор?
– Э-э-э…
– Из какого романа? – чуть-чуть раздраженно спросил Иван Алексеевич. – Если, конечно, это не составляет тайны.
– Не понимаю, – честно признался я.
Он приветливо поглаживал подбородок – так и застыл.
– Ах вот оно что… – И после тягостной паузы: – А я было подумал… Н-да!.. У вас что же, сударь, и кровь – красная? Хотя что это я? Разумеется, красная… Н-да!.. – Он был, по-моему до некоторой степени озадачен. – Кстати, милостивый государь, раз уж мы с вами встретились… Я вот слышал, конечно совершенно случайно, что обо мне тут сложилось э-э-э… некое определенное мнение…
– Мнение?
– Да.
– Ну что вы, – возразил я, настороженный его тоном.
Он сделал быстрое движение:
– Говорят, говорят…
– Не может быть.
– Представьте себе, – и в голосе у него мелькнуло что-то враждебное.
Я вдруг подумал, что светскость, которую он проявлял, только кажущаяся. Манеры манерами, но под блестящим их обрамлением угадывалась некоторая жестокость. Воли он, должно быть, необыкновенной. Такие люди никогда никому ничего не прощают.
Иван Алексеевич будто угадал мои мысли.
– Право, это не так. Не так, не так, – сказал он с проникновенной искренностью. – Все это выдумки, личные обиды, сведение счетов. Современники всегда врут – почитайте мемуары. И если я, милостивый государь, буду иметь честь продолжить знакомство, то вы убедитесь сами, насколько литературные сплетни бывают далеки от реальности. – Он подошел к столу, заваленному бумагами. – Между прочим, вы случайно не знаете, зачем я понадобился господину Осокину? Живой человек. Или ему не хватает… так сказать… персонажей?.. – И мне снова почудилось, что у него холодно и опасно блеснули зрачки. Вот только зрачков у него по-прежнему не было. Как, впрочем, по-прежнему не было глаз и лица. – Я же, простите, не вурдалак, чтобы воскресать по ночам.
Мне оставалось только пожать плечами.
– Ну да-да, разумеется, вы знать не можете…
Он потянул со стола верхнюю страницу.
«Что же касается того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила… Стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, через час (когда все уже кончится), войти и положить обратно».
Отброшенная страница закувыркалась в воздухе.
– Не-на-ви-жу, – вдруг с неожиданной злобой произнес Иван Алексеевич. – Бедный студентик, изволите, с топором под мышкой. Ведь нелепость! Вымысел, согласитесь. И неправдоподобный вымысел…
– К-г-м… – дипломатично ответил я.
– Что, милостивый государь?
– К-г-м…
– Или это Антон Григорьевич занимается? – Он демонстративно вздохнул. – Ну разумеется – чего можно ждать от человека, которому нравится это? Вам еще повезло – у вас кровь красная. А у меня? – Он выразительно обвел то место, где, по идее, должно было находиться лицо.
Я несколько засмущался.
– Ну-ну, – сказал Иван Алексеевич. – Только не говорите, что вы этого не замечаете. Чрезвычайно неудобно жить – вот так. А все спешка, самонадеянность, суета, непонимание того, что представляет собой деталь. А между тем деталь играет в прозе колоссальную роль. Целое состоит из частностей. Мир возникает не из идей, а из отдельных, почти незаметных подробностей. Так можете и передать. Я почему знаю: у меня были в молодости некие сходные поползновения. Тоже увлекался сверх меры: дескать, озарение, новый Пигмалион, в моей власти превратить косную, тупую материю в трепетную и живую. Такие романтические порывы. Наделал массу глупостей, потом расхлебывал их долгие годы. – Он безнадежно махнул рукой. – Но я, заметьте, никогда не тревожил живых. Есть же какой-то предел, моральные категории, совесть, честь…
Он снова порылся в бумагах, выдергивая и быстро просматривая страницы. Вдруг замер, чуть вытянувшись, как будто пронзенный невидимой молнией.
Он даже, по-моему, перестал дышать.
– «Амата нобис квантум амабитур нулла». Это откуда здесь?
– Немецкий? – предположил я.
– Латынь, – строго поправил Иван Алексеевич. – «Возлюбленная нами, как никакая другая возлюблена не будет». Странное соседство, вы не находите? Нет, запутался все же Антон Григорьевич, совсем запутался.
Это было единственное, с чем я искренне согласился.
– А посмотрите дальше! – воскликнул Иван Алексеевич. – «И везде невообразимая тишина – только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что они летают по ночам, – оказалось, что зачем-то летают. Прямо страшно».
Он бережно положил страницу и сказал еле слышно, дрогнувшим голосом:
– Сороковой год. Двадцать седьмое сентября. Приморские Альпы.
А потом, будто все ему окончательно надоело, достал из внутреннего кармана серебряные часы на цепочке – я видел такие лишь в фильмах о прошлой эпохе, – и с отчетливым мелодичным звоном откинул крышечку.
– Однако. Я полагаю, у господина Осокина есть особые причины, чтобы так задерживаться?
Я развел руками.
– Да-да, – сказал он. – Наверное, у Антона Григорьевича опять какие-нибудь неожиданные обстоятельства. Он – человек импульсивный. Всякое может произойти.
Учтиво поклонился:
– Ну что же… Был весьма рад.
Я тоже поклонился, чувствуя, что мне до него далеко. И уже облегченно вздохнул, когда Иван Алексеевич, придерживая дверь, задумчиво произнес:
– А ведь так продолжаться не может. Вы об этом подумали?
– Нет, – сказал я.
– А почему?
– Честно?
– Честно.
Я честно сказал:
– Я вообще об этом пока не думал.
Глава пятая
– Я сразу же оттуда ушла, – сказала Ольга. – Ты же знаешь, какой он бывает, когда начинает вещать. Просто невменяемый. Он всю ночь говорил о рассказе, который прочел недавно. Даже не рассказ, а всего лишь первая фраза: «Отец мой похож был на ворона». Это – до половины седьмого утра. Я засыпала сидя. Очнусь – горит лампа, Антиох машет руками, и тени от него как от летучей мыши. Он меня не отпускал, ему обязательно было нужно, чтоб кто-то слушал. Всю ночь объяснял мне, что написать можно было лишь так: «Отец мой похож был на ворона». Именно такая грамматика овеществляет. А если переставить «был» и сказать: «Отец мой был похож»… – ну и так далее, или переставить «мой»: «Мой отец похож был на ворона», то магии уже нет, фраза перестает быть наполненной звуком, волшебная грамматика распадается, следует просто констатация факта.
– А насчет стрекозы? – спросил я, припоминая.
– «Никогда не думал, что они летают по ночам»? – Ольга закрыла глаза и тут же споткнулась. Я осторожно взял ее под руку и повел дальше. – Стрекозы – это, пожалуй, было самое неприятное: ползали по стенам и шуршали, шуршали, шуршали… Копошение крыльев, глаза, знаешь, такие зеленые, во всю голову… А потом сбились в один комок, и он повис над диваном… Черные лопухи, звезды, трава колышется… Ты голоса слышал?
– Нет.
– С подхихикиванием таким: «Дурень, дурень?» А оглянешься – рядом никого нет. Крапива в человеческий рост… Я в конце концов просто ушла. Вот – позвонила тебе, думала – увидит, придет в сознание…
– Там какой-то человек заходил…
– Человек?
– Ну да, сказал – Иван Алексеевич…
Ольга распахнула глаза и мелко, словно не веря самой себе, потрясла головой.
– Еще один человек? Он просто с ума сошел… Сколько можно? Он, видимо, даже не представляет, чем это все кончится…
Мы ступили на площадь, которая пустой тишью распахивалась за каналом, и, услышав эхо своих шагов, поспешно свернули в первую же попавшуюся улицу. Она вывела нас к саду, стиснутому чугунной решеткой, а за садом снова угадывался канал, который колдовским полукругом очерчивал это место.
– Вот послушай, – негромко сказала Ольга. – Ты только не перебивай и не говори ничего, ты просто послушай.
Она вздохнула, словно желая набрать побольше воздуха.
Что длится целый век, тому продлиться вдвое. Пугая воробьев на площади Сенной, кончается декабрь звериной бородою и зарывает в глушь жестокою зимой. Что времени забор, глухой и деревянный? Что сено и мороз, и сонная труха? — Во взгляде воробья под небом оловянным проулок двух домов бледнел и потухал. Так невозможно жить: стареющая каста подвалов и дворов. Какой ударил час на ратуше вверху? И, как больной лекарство, глотает ночь шаги – поспешно и мыча. Что ледяной канал? Что холод чудотворный? Как сажа горяча небесного котла! О, кто там впереди? О, это вышел дворник, как в ступе помело, страшна его метла. Очесок декабря, библейский и козлиный. Дремучий частокол. Амбары и дрова. Что циферблат – в Свечном? Что стрелки – на Перинной? Что крыша – на Думской? Что – в Яме голова? Что смотрит сквозь него пронзительно и ясно впитавший белизну болезни за окном? Но бог ему судья, его лицо прекрасно — светлее, чем луна в канале ледяном. Жизнь истекла. Декабрь – вполглаза и вполслуха. Сенную лихорадь вдохнем и разопьем. Кошмарный шрифт листа. Опять глядит старуха в затылок. И молчит замерзшим воробьем.Она закончила так же неожиданно, как и начала..
– Ты что-нибудь понимаешь?
– Нет, – сказал я.
– Вот и я тоже – нет. Впрочем, я иногда думаю, что и не должна понимать. Зачем понимать? Достаточно, если от этого – озноб и температура. У тебя от этого температура не поднимается?
– Нет, – снова сказал я.
Мы вошли за решетку и двинулись между деревьев, которые смотрели нам вслед. Высилась по левую руку оцепеневшая громада собора. В бледном небе отсыревали крыши и трубы. Дышать было нечем. Ночной петербургский воздух дрожал испариной.
– Он сейчас читает «Метафизику бытия» Герберта Хоффа, – сказала Ольга. – И одновременно – «Историю современной алхимии» каких-то двух авторов. Купил ее где-то за сумасшедшие деньги. Если он не читает, то пропадает в букинистических магазинах. Ты хоть догадываешься, зачем ему понадобилась алхимия?
– Нет, – ответил я в третий раз.
Надвинулась вытянутая как палец, суставчатая колокольня. Сквозь все три ее пустотелых фаланги просвечивала беловатая мерклость.
Вода в узком канале казалась коричневой.
– А может быть, это мы чего-то не понимаем? – сказала Ольга. – Прав как раз он. Мы – сумасшедшие, а он – абсолютно нормальный. Я же вижу, что он счастлив, в отличие от всех остальных. У него глаза – белые, ему кроме этого уже ничего не нужно…
Мы снова вышли на набережную и остановились у парапета. Ольга взялась за чугунную перекладину и крепко сжала ее. На меня она не глядела, как будто я для нее вообще не существовал.
Нет-нет, это, разумеется, невозможно, но она почему-то помнит открытую в ночь, длинную, каменную галерею, полукружья аркады, гроздья южных созвездий в горячем небе, мятущиеся смоляные факелы, ржание коней, крики, лязг ожесточенно сталкивающегося металла… Кто-то бежит по галерее, падает – диковинным украшением торчит стрела меж лопаток… И она подбегает тоже и видит вывороченное лицо с глазами из прозрачного камня… Ведь это, наверное, невозможно? Это, разумеется, невозможно, однако она откуда-то знает итальянский язык. Никогда не учила, а тут встретила группу туристов и поняла с первого же мгновения…
А недавно листала журнал, случайно попавший в руки: старый Рим, собор Святого Петра, палаццо Канчеллерия… И вдруг на секунду ей показалось, что она это все уже много раз видела…
Впрочем, это неважно. Гораздо хуже другое. Гораздо хуже, что она, оказывается, от него слишком зависит. Прямо-таки что-то противоестественное. Будто кукла на ниточках: дернули – и пошла, куда эти ниточки потащили, отпустили – и упала без вздоха, ничего своего, ни мысли, ни одного желания, ни поступка… Власть чужих пальцев, которые за эти ниточки дергают. Он скажет – значит закон, у нее уже нет своей воли. Ужасно, правда? За такое можно и возненавидеть. Но, что плохо, она не способна, по-видимому, даже на ненависть. Впрочем, на любовь она тем более не способна. Только – сидеть до половины седьмого утра и бесчувственно слушать, слушать, таращась на настольную лампу. Это для нее самое трудное – слушать не понимая. Склеиваются веки, и в голову как будто налили теплого стеарина. Это, видимо, от свечей, которые она купила в последнее время. Им уже два раза грозили полностью отключить электричество. И к тому же – выселить неизвестно куда. В подвал, например. Да-да, в последний раз грозили именно в какой-то подвал. И что делать, если это и в самом деле будет подвал? Ему-то, разумеется, все равно. Он и в подвале может писать. Он может и при свечах.
– А почему вдруг решили выселить? – удивился я.
– Тут какая-то путаница, – с досадой сказала Ольга. – Оказывается, у нас нет ордера на квартиру. Непонятно, как он въехал сюда, самовольно, что ли? Вообще ерунда – будто бы такого дома даже не существует. Его снесли еще в прошлом году, и теперь здесь по документам – пустырь. Ошибка, конечно. Но ведь эту дурацкую ошибку еще требуется исправить.
Она достала крошечный носовой платок и на секунду прижала его сперва к левому виску, а затем – к правому.
– Завтра пойду выяснять.
Меня по-прежнему рядом не было. Я для нее все так же не существовал.
Я наклонился и поцеловал ее в сухие твердые губы.
Ольга подняла брови:
– Ты это зачем?
В голове у меня перетекал жаркий туман. Светило тусклое небо, и от расплывчатого света его улицы – будто снились. Казалось, крепко зажмурься, потом открой глаза – и все исчезнет.
– Хотя – пожалуй, – сказала она через мгновение.
Мне, наверное, надо было встать и уйти.
Вместо этого я нерешительно обнял ее. Ольга вздрогнула, как от холода, но не отстранилась. Тогда я обнял ее уже увереннее. Она поморщилась и приоткрыла рот с полупрозрачными, будто из кварца, зубами. В этот раз поцелуй длился значительно дольше и прервался лишь потому, что неподалеку от нас в канале что-то сильно плеснуло.
Ольга вздрогнула и отстранилась:
– Что это?
– Не знаю, – сказал я, глядя на расходящиеся по коричневой жиже круги. – Должно быть, рыба…
– С ума сошел! Какая здесь рыба?
– А тогда кто?
– Знаешь что, давай-ка пойдем отсюда, – сказала Ольга. Оторвала руки от парапета и тщательно, точно боясь заразиться, потерла друг о друга мраморные ладони.
– Чего ты боишься? – спросил я.
Она чуть передернулась:
– А вдруг оттуда вылезет что-нибудь, знаешь, этакое…
Все было безнадежно. Струи тумана стекали в воду по гранитным ступенькам. Мы снова пошли по набережной. Ольга пропустила меня, чтоб быть с внешней стороны от канала. Я боялся дотронуться до нее. Серые неопределенные тени сползали с домов и скапливались на тротуарах.
Воздух состоял только из духоты.
– Он никогда не будет писателем, – сказала Ольга. – Мало того, его никто никогда не будет печатать. Он просто играет в гения, который не такой, как другие, и которому все позволено лишь потому, что он – гений. Этим обычно болеют в семнадцать лет, он заразился позже и потому, наверное, в особо тяжелой форме. Я думаю, что теперь ему уже не выздороветь. У него теперь год за годом будут одни неудачи. Он станет завистливым, злым. Он уже и сейчас злой. Он не может читать других – рвет книги.
Я промолчал.
– Знаешь, чего он хочет? – спросила Ольга. – Он хочет, чтобы придуманный мир был реальнее, чем настоящий. Чтобы жизнь, занесенная на бумагу, была такой же яркой, как и собственно жизнь, и чтобы в ней можно было существовать, любить и дышать, как и в самой жизни…
– Да, – сказал я.
– Он называет это – «абсолютный текст».
– Да, – сказал я.
Ольга ступала неуверенно, как слепая.
– Чушь, по-моему. Он считает, что если таким образом описать какого-нибудь человека, воображаемого, конечно, ну, например, персонаж какой-нибудь книги, то можно как бы воплотить его – перенести в наш мир. И он будет, как живой, жить среди нас.
– Дворник, – наугад сказал я.
Она вздрогнула.
– Борода лопатой… сплюснутый лоб… челюсть такая – впереди всей физиономии…
– Ты его видел?
– Фартук… метла… бляха…
Ольга в отчаянии взялась руками за щеки:
– Глупость какая. Я знаю, знаю – Антиох его выдумал…
– И топор, – сказал я, мучительно припоминая.
– Топор, – повторила она с некоторым трудом. – Так ты действительно видел его?.. Как плохо… Да – топор. Это, знаешь ли, тот самый топор, которым Раскольников убил старуху. Помнишь, у Достоевского?
– Читал когда-то…
– Дурацкая, на мой взгляд, идея. Что бы сказал о нем дворник? Может ли обыкновенный человек понять: взял топор и убил… Не из-за денег, заметь, переступить хотел…
– Постой… – сказал я.
– Вот он и придумал этого дворника. Целиком. В романе его нет. Описал внешность, дал имя, характер, ну там – привычки, от которых зависит индивидуальность… Он просто уже помешался на всех этих описаниях…
– Подожди… подожди!..
Я начинал задыхаться.
– Что с тобой?
– Подожди!..
– Вот и я тоже, – медленно отпуская щеки, сказала Ольга. – Этот безумный дворник и меня тоже сводит с ума. Он мне снится, снится, я спать не могу. Закрою глаза – стоит…
– Руки как окорок…
– Толстенные такие губы…
– Голос жалобный…
– Метет метлой воздух – ррраз!.. ррраз!.. ррраз!.. железный скрежет…
– И – топор…
– Покачивается, покачивается над асфальтом…
– Хватит!
Я даже не помню, кто из нас это выкрикнул – я или она. Может быть, и вместе. Мы резко остановились. Небо, кажется, чуть накренилось, и, кажется, чуть накренилась под нами раскаленная мостовая. Светящийся горизонт приподнял дома и улицы. Колокольня, к которой мы уже успели вернуться, словно перст, указывала куда-то наискось.
Впрочем, уже через секунду все пришло в норму.
– Он мне снится неделю подряд, – шепотом сказала Ольга. – Ты все врешь! Антиох его выдумал, выдумал! Понимаешь – выдумал!
Она глотала пустой жаркий воздух.
– Тише, – сказал я.
Тронул ее за локоть, направляя к дому.
Мы довольно поспешно пересекли пустынный проспект, правым своим концом вливающийся в такую же пустынную площадь, и оказались на другой стороне канала, где согнувшиеся от времени тополя доставали листьями почти до самой воды.
– Творец и глина, – сказала Ольга. – Этого ведь не может быть, правда?
Она со страхом заглядывала мне в лицо.
– Правда, – сказал я.
Я и в самом деле не верил, что такое возможно. Да и кто в наше довольно просвещенное время поверил бы в заклинание духов? Я вообще закоренелый материалист. Тот, кто кончил университет, надолго проникается скептицизмом по отношению ко всяким паранормальным явлениям. Работа ученого не способствует мистическим настроениям. Когда ставишь опыт за опытом, проверяя и раз двадцать перепроверяя полученные результаты, довольно быстро убеждаешься в том, что в мире нет ничего такого – сверхчувственного. Или, как сейчас принято говорить, экстрасенсорики. Напротив, кругом – материя, сплошная материя, спасу нет, и кроме нее – ничего больше.
Вот разве что Буратино.
– Ужасный тип – грубый, наглый, – сказала Ольга, подрагивая точно в ознобе. – Он просто алкоголик, по-моему, уже с утра пьяный, глаза – красные, хлещет всякую гадость, которая подешевле, хохочет, дымит папиросами…
– Откуда он взялся? – спросил я.
– Ах, все это тоже начиналось как шутка. Вот, дескать, можно сделать игрушку из литературного образа: любимая сказка, отличный исходный материал, Алексей Толстой уже почти все сделал как надо, ерунда, осталось доработать совсем немного… Ну и притащил с улицы забулдыгу вот с таким носом, напялил на него колпак, футболку купил полосатую. Теперь так и живет у нас – бренчит на гитаре, скандалы закатывает соседу этажом выше…
– Соседу? – догадываясь, сказал я. – Поручик Пирогов, вероятно, белобрысый такой?
Ольга кивнула:
– Похож на кролика. Антиох свихнулся совсем, подбирает то одного, то другого… Тоже – подарил ему свой костюм, дал денег, в гости почти каждый день ходит…
Перед нами поднялась на другой стороне канала багровая крепостная стена. Широкие окна в ней отражали мутное небо. По воде медленно плыли пригоршни тополиного пуха, и казалось, что это возникает призрак зимы, которая несомненно настанет.
– Нынешнюю жару тоже накликал он, – сказала Ольга. – Это невыносимое лето, когда не то что дышать – вообще жить не хочется. Он говорит, что таким образом смещается бытовая реальность, картина мира как бы плывет и в результате гораздо легче почувствовать иное пространство. То, которое существует за внешним…
Она запнулась и нерешительно освободила руку.
Дом был темен, как будто в нем никто никогда не жил. Мрачно поблескивали стекла на всех трех этажах. Только угловое окно сияло тускловатым яблочным светом. Штора в нем колыхалась, и пробегали по ней тени – в рогах и перьях.
Видимо, там, в комнате, где, вероятно, совсем не было воздуха, в тишине норы, в нездоровом, потрескивающем и колеблющемся огне свечи невидимый для нас человек, склонившийся над столом, брызгая чернилами и продирая бумагу на длинных буквах, покусывая от нетерпения губы, лихорадочно, жутким почерком исписывал страницу за страницей – сбрасывал их потом на пол, тут же забывал о написанном, и колотящееся сердце его звенело от непрекращающегося восторга.
Ольга смотрела как зачарованная.
Веки ее дрогнули.
– Я не хочу туда, – шепотом сказала она.
Глава шестая
– На шести шагах! – яростно закричал поручик. – К барьеру! Я призываю вас в свидетели, господа, что продырявлю это говорящее полено в четырех местах!
– Но-но, без намеков, – предостерег его Буратино, взмахнув гитарой.
– Сударь! – срывающимся голосом обратился поручик ко мне. – Как человек благородный, будьте моим секундантом!
Дворник, который до этого неприятно отклонялся назад и вращал глазами, вдруг крепко взял его за лацканы пиджака, несмотря на ожесточенное сопротивление, притянул и громко, словно вхлебывая кисель, поцеловал в бледный лоб:
– Вот за это и уважаю тебя, Петруха…
Потом поймал за воротник шарахнувшегося Буратино и тоже поцеловал, подняв над полом:
– Чурбачок ты мой дорогой…
– Слезу – убью, – задушевно пообещал Буратино, болтая ногами.
Со страшным звоном уронил гитару, обвязанную красивым бантом.
Я от неожиданности чуть сам не упал. На ногах удержался лишь потому, что Антиох очень вовремя подпер меня сзади.
– Это же Варахасий, – объяснил он, как будто ставя все на свои места. – Ты его не бойся, ничего, он добрый…
– Ой, да ехали на тройке с бубенца-а-ами! – внезапно завопил дворник.
– Ему сейчас главное, чтобы – чуть-чуть…
– Есть бутылка водки, – неуверенно сказал я.
Антиох вопросительно посмотрел на дворника. Тот сморщил лоб и подергал вверх-вниз головой, как лошадь от мух.
– М…м…м… – через некоторое время изрек он.
– Мало, – перевел Антиох.
– И по-моему, еще бутылка вина.
– Ой, да мне б теперь, соколики, за ва-а-ами! – отчаянно завопил дворник.
Забытый Буратино извивался в его кулаке.
– Пусти, Варахасий, пещ-щерный человек, троглодит!..
Толстые пальцы разжались, и Буратино сверзился в аккурат на гитару, провалившись тощей ногой в дыру под струнами.
– Достаточно, – подвел итог Антиох.
Я все еще не мог спросонья прийти в себя. Они ввалились ко мне как дикий табун и сразу начали орать. Кажется, это Буратино оскорбил чем-то поручика Пирогова. Или наоборот. Понять ничего было нельзя. Они кричали все сразу, и от гомона у меня уже начинало гудеть в ушах. Причем острый фальцет Буратино, казалось, перепиливал меня пополам, а звенящий от обиды и гнева голос поручика Пирогова хлестал тонким железом. К тому же дворник, Варахасий, как представил его Антиох, уловив меня в перекрест зрачков, припаянных к носу, непреклонным тоном потребовал чего-нибудь выпить:
– Ты человек или где?..
Я растерялся и делал множество мелких движений.
Поручик Пирогов между тем, не спрашивая никого, открыл дверцу серванта и, повозившись так, что звякнула внутри падающая посуда, извлек оттуда продолговатый полированный ящик, на кипарисовой крышке которого блеснула корона.
Поскреб ногтями – открыл:
– Извольте, сударь!
Обращенные встречь друг другу, лежали на черном бархате два пистолета с очень длинными дулами.
Я только моргал, поскольку никаких пистолетов у меня отродясь не было.
– Сударь, извольте!
Буратино, наконец выбравшийся из гитары, наскакивал на него, как петух.
– Долой царских офицеров-опричников!.. Расходись по домам, ребята!.. Ни к чему нам турецкие Дарданеллы!..
Поручик в ответ трепетал ноздрями.
– Как человек благородный!..
У меня по-прежнему гудело в ушах.
– Да дай ты им, дай, пусть стреляются, – сказал Антиох. – Ты же видишь, какой народ, не угомонятся иначе…
Я принял ящик с оружием.
– Стой! – неожиданно вклинившись между нами, крикнул дворник. – Говорю, стой! Чтобы все было культурно!
Он грубовато отобрал у меня ящик, согнутым пальцем зацепил Буратино за воротник и оттащил его к зашторенному окну. Вручил пистолет – дулом вперед:
– Держись, чурбачок!
К противоположной стене прислонил бледного и нервного поручика Пирогова:
– И ты не робей, Петруха…
Встал под люстрой и задрал волосатую руку:
– На старт… внимание… марш!..
Оглушительно грянули выстрелы. Комната дрогнула и заволоклась непроницаемым дымом. На мгновение все исчезло. Послышался глухой и тяжелый удар. А когда дым рассеялся, кстати, как-то на удивление быстро, я увидел, что Буратино и поручик стоят на своих местах – невредимые, по-гусиному вытянув шеи и всматриваясь вперед, а точно посередине между ними обоими, как колода, на полу, лицом вниз лежит дворник.
Антиох нагнулся и слегка потрогал его:
– Варахасий…
– Ну?
– Ты жив?
– А вдали мелька-а-али огоньки, – сказал дворник. Подумал немного, посопел и добавил: – Маленькие такие огоньки… Можно сказать – огонечки…
Зачем-то постучал лбом об пол.
Звук был хороший, гулкий такой, уверенный.
– Встань, пожалуйста, – попросил его Антиох. – Ну, поднимись-поднимись, смотреть на тебя больно.
Дворник по частям поднялся и отряхнул колени ватных штанов.
– Чуть не упал, – сумрачно объяснил он.
Потом Антиох начал разливать по стаканам. Все, оказывается, были уже за столом и терпеливо взирали на это ритуальное действо. Как это получилось, я не очень-то понял. Словно повернулся круг и произошла мгновенная смена декораций. Сцена первая – они стреляются в комнате, сцена вторая – они в той же комнате, но уже все за столом. В промежутке как отрубило, никаких подробностей. Однако факт оставался фактом, декорации действительно изменились. На столе была даже скатерть, которую они где-то нашли. Стояла бутылка водки, и были криво порезаны колбаса, хлеб и сыр. Они, видимо, опустошили весь мой холодильник. Влажно дымилась гора сосисок, и Буратино, ухватив сразу две, жевал их – прямо с полиэтиленовой кожурой. В то время как поручик Пирогов, наверное еще не остывший от ссоры, косился на него и двигал в такт пустыми челюстями, примериваясь. Дворник же изучал наклейку на кильках в томате: щурил то один глаз, то другой, то, будто принюхиваясь, расширял ноздри. Лицо у него было очень сосредоточенное. Я хотел было предупредить, что эта банка валяется у меня еще с прошлого года, ботулин полезен не всем, иные от него умирают, но Антиох в ту же минуту сунул мне в руки стакан.
Водки там было так – на две трети.
– Однако круто берете, – заметил я.
– А посмотри на народ, – убедительно сказал Антиох.
– И что?
– Ты посмотри, посмотри…
Народ в лице дворника, сильно пыхтя, прилаживал к банке консервный нож. По нему вовсе не было видно, что алкоголь – это яд.
– А ведь мы тебя ждем, Варахасий…
– Сичас-сичас…
– Все – тебя одного…
– Серость свою показывает, – подтвердил Буратино.
– Ну, ишо секундочку, – пыхтя, попросил дворник и вдруг сильным движением разъял банку на две половины. Оказывается, он разрезал ее поперек. Красный томатный соус хлынул на скатерть. Дворник суматошно задергался, впихивая его обратно в банку, но оттуда взамен посыпались скучные пучеглазые кильки.
Антиох молча отобрал у него обе изуродованные половинки и придвинул стакан. Подождал, пока все не обратились к нему.
– За вечную жизнь!
Это он засадил.
Я даже вздрогнул.
– И-эх! – сказал Буратино, опрокидывая свою порцию в щель рта.
Поручик, как человек военный, уже занюхивал краем мятого рукава.
Я с сомнением посмотрел на свой стакан. Я пью редко, очень малыми дозами и не нахожу в этом никакого удовольствия. Что тут хорошего: накачиваешься разной дрянью, а потом ночью тошнит и голова – будто ее набили слежавшимися опилками. Терпеть не могу алкоголь. Особенно водку. Тем не менее из вежливости я тоже поднял стакан и вдруг заметил, что он уже совершенно пустой. Абсолютно пустой – один пустой воздух. Только по граням сползают тяжелые, будто ртутные капли.
Когда это я успел его осушить?
Я потряс головой.
– За вечную жизнь, значит, пьешь, а сам умер, – с причмокиванием облизывая пальцы, сказал дворник.
Он поедал кильку, выковыривая ее из двух полукружий. Ядовитый багровый соус капал ему на бороду.
Антиох весело мне подмигнул:
– Варахасий-то как освоился. Раньше все руку пытался облобызать, а теперь, видишь, хамит.
Дворник задумчиво посмотрел на меня, а потом – на него.
– Так ведь нет тебя, – очень серьезно сказал он. Сложил земляную ладонь ковшом и дунул, как будто в ней находилось что-то невидимое. Затем проследил полет этого невидимого к потолку. – Фу! Улетел… – также очень серьезно сообщил он.
Антиох погрозил ему пальцем:
– Смотри, Варахасий, я тебя породил, я тебя и того…
– Кто умер? – не понял я.
Антиох засмеялся:
– За вечную жизнь, сам понимаешь, надо платить.
– Что-то дорого, – прикинув, сказал я.
– Цена здесь всегда одна. И вряд ли когда-нибудь будет иначе.
Поручик Пирогов уже некоторое время нетерпеливо смотрел в нашу сторону.
– Господа, господа, – расслабленно-капризным голосом сказал он. – Право, господа, скучная это материя… Лучше бы, как принято среди благородных людей, о чем-нибудь таком… ик!.. о возвышенном… Вот со мною вчера приключилась необыкновенная, можно сказать, история. – Он оживился, кончик носа и мочки ушей у него несколько покраснели. – Иду я, представьте себе, по улице, никого не трогаю, ну, везде, естественно, натюрморт, лето, естественно, воробьи, естественно, заливаются, в голове, естественно, легкость такая – необыкновенная… А навстречу мне, – вы слушайте-слушайте, господа! – тюп-тюп-тюп, этакое, значит, создание, волосы у нее распущены, платье, между прочим, до сих пор, честное благородное слово, не вру! Декольте дотуда же, чулочки прозрачные, и еще она, значит, бедрами, господа, туда-сюда, туда-сюда. Боже мой, откуда она только взялась! – он зажмурился, длинно причмокнул и снова открыл глаза. – Я, конечно, ей по-гвардейски: позвольте, мадемуазель, так сказать, нах хаузе цурюк битте. А она отвечает: папаша, голову сперва вымой, папаша… Просто ангельский голосок, никогда, господа, поверьте, такого не слышал! Я тогда намекаю ей, что, дескать, мадемуазель, самое время для нас нах хаузе битте цурюк. – Поручик изобразил пальцами, как намекает. – И что вы думаете, господа? И мы в Париже! – победно заключил он.
– В самом деле, – сказал Буратино, прикуривая от хабарика. – Пригласил, дядя, чтобы культурно провести время, а что мы имеем? Ничего не имеем, если говорить в результате.
Он зажал сигарету зубами и потащил с дивана гитару. Прокуренным ногтем тронул струны. Объявил громко, как конферансье: «Итак, полька-бабочка!» – однако заиграл почему-то «Танец маленьких лебедей» из соответствующего произведения. Правда, лихо заиграл, профессионально, как будто с детства учился.
– Ну, – сказал Антиох, – покажем напоследок, как падают звезды?
– Баба – оно баба и есть, – изложил Варахасий свою точку зрения на предыдущий вопрос.
Но поднялся и тоже вышел на середину комнаты. Поручик Пирогов, как девушка, стал между ними.
– Але! – торжественно сказал Буратино и с «Танца маленьких лебедей» действительно перешел на какую-то польку-бабочку.
В общем, кордебалет получился на высшем уровне. Было очень весело. Всем, кроме меня. Дворник откалывал такие коленца, что из пола от сотрясения вылезали паркетины. Извлек откуда-то грязный носовой платок и бурно тряс им, точно на деревенской свадьбе. С платка сыпались вот такие бациллы. Антиох подвывал и, вытянув к потолку руки, колебался всем телом, как водоросль. У него, по-моему, даже лицо стало зеленым. А вероятно, уже совсем ошалевший к тому времени Буратино забрался вместе с гитарой на стол и там, как кузнечик, прыгал среди посуды. Кстати, играть он от этого хуже не стал. Однако все затмило поведение поручика Пирогова. Вероятно, решив, что ему как человеку военному и благородному участвовать в подобных развлечениях не пристало, он в какой-то момент замер посередине комнаты, бледный и вдохновенный, вытянулся в струнку, взмахнул невидимой саблей и парадным голосом завопил, так что на окне от звукового удара выгнулись шторы:
– По-о-олк!.. Слу-у-ушай мою команду!.. На его высокопревосходительство главнокомандующего великого князя Сергея Александровича – рысью!.. Арш!..
После чего начал маршировать, раздувая щеки:
– Бум-бум-бум!.. Бурубу-бум-бум-бум!..
Видимо, изображал оркестр.
То есть весело было действительно всем, кроме меня. Два часа ночи. Я ждал, что вот-вот примчатся снизу соседи с ружьями и топорами. Пора было как хозяину решительно прекратить все это. Но когда я наконец умудрился подняться на ноги и отойти от стола, который почему-то покачивался, будто в шторм, свет вокруг стал ужасно тусклый, словно люстру обернули плотной шерстяной тканью, и поплыли сквозь комнату тени, превращающиеся то в облака, то в кисейные занавеси. Я никак не мог среди них пробраться. У меня дрожало в глазах, и комната казалась чужой, будто переставили мебель. Здесь что-то было явно не так. Я топтался один, как медведь, вылезший зимой из берлоги. Все куда-то исчезли.
– До-ро-го-й дли-и-инною-ю!.. – во всю мощь гремело где-то поблизости.
Я напряженно соображал – где и не мог понять?
Вдруг появился взъерошенный Антиох и распахнул дверцы шкафа:
– Варахасий, ты что это? Много себе позволяешь, Варахасий…
Дворник стоял внутри, сапогами на моем выходном костюме, ощутимо покачиваясь и самозабвенно набирая в грудь воздух.
Он неуверенно открыл один глаз:
– Что по ноча-а-ам так му-у-учила меня-а-а!..
– Выходи, Карузо!
Затрещала фанера стенок – вспучилась, со стоном оскалились гвозди. На моем костюме отпечатались чем-то жидким две огромных молодцеватых подошвы.
– Деготь, – ободрил меня дворник. – Ничего, не робей. Деготь – он, мил человек, безвредный…
Мы каким-то образом снова оказались сидящими за столом. Было по-прежнему весело и по-прежнему, вероятно, всем, кроме меня. Варахасий, грузно поставив перед собой локти, жрал колбасу. Безобразная томатная лужа расплылась от него по скатерти через весь угол. Жалобно изогнулись в ней две кильки, погибшие лет пятьдесят назад, вероятно, от эпизоотии, а чуть дальше, уткнувшись в самую гущу соуса, тикал взявшийся неизвестно откуда будильник. Будильник-то им зачем понадобился? В свою очередь у поручика Пирогова жидкие, бесцветные волосы стояли дыбом, наподобие венчика. Он, видимо, крепко остекленел после принятого: ужасно скрипел зубами и невнятно ругался. Что же касается подозрительно затихшего Буратино, то, оказывается, он чуть не прокалывал носом большую детскую книгу, на глянцевой обложке которой был изображен он сам, счастливо взирающий на довольно-таки уродливый золотой ключик.
Вероятно, содержание книги его не радовало.
– Папа Карло, папа Карло – пропил мою новую курточку, злобный старик…
– Не горюй, чурбачок, – утешал его дворник, – завтра сдадим посуду, купим тебе еще лучше…
– Не дарил он мне новой курточки, и букварь не дарил, чтоб я сдох, – горько жаловался Буратино.
Из глаз его вытекали самые настоящие слезы. Они капали поочередно в тарелку, и там уже собралась приличная лужица. Буратино меланхолично выплеснул ее на пол, а пустую тарелку почему-то поставил на телевизор. Там уже скопилось изрядное количество грязной посуды: стопка блюдец, три или четыре фужера, кастрюля из-под картошки, которую я вовсе не приносил в комнату.
Поручик Пирогов решил внести в разговор свою лепту.
– А вот была у меня кобыла, – сказал он, для значительности, вероятно, длинно скрипнув зубами.
– Ну? – вытирая нос пальцем, заинтересовался повернувшийся к нему Буратино.
– Анемподистой звали…
– Ну?
– Красивое имя, благородное… Бедра – во! Не поверите, господа, – поручик развел руками, показывая, какие бедра. – Сам князь Синепупин завидовал. Шесть тысяч, говорит, не глядя, даю за твою Анемподисту. Нет мне без нее жизни… Нет, говорю тоже, князь, ваше сиятельство, говорю, господин поручик, хотите хоть что, но мне Анемподиста дороже…
Он замолчал.
– Ну? – подождав некоторое время, опять спросил Буратино.
– Нет Анемподисты. – Поручик заскрипел зубами, будто жевал стекло. – На шести шагах стрелялись, на Карповке, через платок, по четыре заряда… Шляпу мне прострелила, подлая…
Он умолк в некотором остолбенении.
– Нравятся? – тихонько спросил меня Антиох. – Где еще таких откопаешь? Все-таки, по-моему, неплохая работа. Совсем как люди, только кровь голубая.
– Почему голубая? – удивился я.
– А бог его знает, голубая и все. Какая разница, им не мешает…
Он набухал мне целый стакан водки. Рука не почувствовала тяжести, словно стакан был невесомый.
Казалось, разожми пальцы – и он повиснет в воздухе.
– Не веришь? А ты у Варахасия наведи справки. Варахасий мужик прямой. Эй, Варахасий, скажи, кто тебя сделал?
Прямой мужик Варахасий уронил колбасу.
– Опоганился я тут совсем, – тоскливо ответил он, глядя куда-то в пространство. – Автобусы смердящие, электричество какое-то выдумали, колбаса – черт-те из чего, правда, вкусная. Третьего дня пошел в церковь грех замолить, чуть, господи, не пропал, боже ты мой, срамотища!.. Бабы – в брюках, дворяне с фотоаппаратами поперек себя лезут, девки голоногие, без платков – в Божьем-то храме!.. Выперся батюшка, этак, значит, подпрыгивая, как стрекозел. Чего, говорит, дедок, надо, у нас группа интуристов обслуживается. Сам – в спинджаке, бороденка хлипенькая, усы тараканьи – плюнуть хочется, господи, чтобы не сказать больше!.. А в руках у него такая, значит, заостренная палка, и он этой палкой в святую икону тычет. Чтобы, значит, видели, куда лоб крестить. Ну, отвечаю ему, как положено: грешен, батюшка… Говорит: грешен – значит молись, дедок, накладываю на тебя эпиталаму. А сам зубы скалит, и бабы крашеные вокруг: хи-хи-хи… хиханьки строят… Ну – дал ему в зубы-то, он и полетел вверх копытами. Забрали в милицию, пока все деньги не пропил с ними – не отпустили… – Он размашисто перекрестился и впился в Антиоха темным истовым взглядом. У него даже борода задрожала. – Об одном тебя прошу Христом Богом: верни обратно. Верни, прошу, – одним грехом тебе меньше будет…
Если бы он не сидел за столом, то, наверное, бухнулся бы на колени.
Антиох несколько отстранился.
– И рад бы, да никак, Варахасий, – сочувственно сказал он. – Нет больше моей власти над текстом. Тебе бы кого другого поискать надо. Я уже все – переступил порог, дверь захлопнулась. Оттуда возврата нет.
– Анемподя моя, – со слезой проскрипел поручик.
Дворник же перевел тяжелый, сумрачный взгляд на меня и, по-видимому не найдя в моей внешности ничего интересного, снова кинул в рот кусок колбасы.
– Я так думаю, что рюмизмы это, – загадочно сказал он.
– Чего-чего?
– Рюмизмы, – тупо повторил дворник. – Испарения такие, которые, значит, из-под земли образуются. Ее, то есть рюмизму эту, вдохнул – и у тебя, мил человек, значит, видения. Потом, значит, снова выдохнул рюмизму-то, говорю, и сразу – ничего этого нету…
– А как же ты сам, Варахасий?
– И меня тоже нету, – упрямо сказал дворник.
Я окончательно перестал что-либо понимать, тем более что в эту минуту как сумасшедший затрезвонил стоящий посередине томатной лужи будильник. Металлическое дребезжание раскатилось у меня прямо под черепом. Я подпрыгнул, прихлопнул его ладонью и здорово укололся.
– Тс-с-с, дядя, нос мне своротишь, – шепотом сказали из-под стола.
Обстановка вокруг опять резко переменилась.
Стемнело как перед сильной грозой, и сгустками серой тревоги выступили вперед углы мебели. Комната как-то странно перекосилась: стена с окном оказалась вверху, и занавески колыхались, как проплывающие облака, противоположная же стена, наоборот, опустилась, и мрачноватым прямоугольником зияла в ней дверь в прихожую. На концах же этих тупоносых качелей вертикально по отношению к полу и, значит, почти горизонтально ко мне, непонятно каким образом сохраняя в этих условиях равновесие, будто памятники застыли две вытянутые фигуры.
По силуэту в фосфоресцирующем, мутном окне я узнал Антиоха. Простерши руку с зажатым в ней чудовищным пистолетом, он целился куда-то вниз.
А снизу, из проваленной темноты, капризным голосом требовали:
– Опровержение! Во всех газетах! Немедленно!..
Дворник гигантским четвероногим жуком карабкался по паркету.
– Сичас, сичас, ребята, все будет как в тиятре…
– Чего это они? – спросил я.
Буратино высунул голову из-под стола:
– Ложись на пол, дядя. Укокошат ведь, озверел народ…
И снова утянулся под стол.
– Кантемирыч, – устало сказал я. – Честное слово, ни хрена больше не соображаю. Честное слово, шли бы вы лучше домой…
– Выгоняешь? – весело спросил Антиох.
– Не выгоняю – прошу…
– Ладно-ладно, – сказал Антиох, – уже заканчиваем.
– Ни фига, – решительно возразил дворник. Он как раз добрался до середины и выпрямился, балансируя на расставленных кривоватых ногах. – Я как секундар… Как серкундат… В общем – пущай палят!.. Готовься то есть, ребята, закрывай левый глаз! – Ноги у него поехали, и он чуть было не упал. Отчаянно, будто птица, взмахнул ладонями.
Ну ты куда целишься, дура военная? Обалдел, что ли? Ты же в меня целишься!.. Поверни, говорю, дуло вон в тую сторону… Чурбачок, ты спрятался?
– Валяй! – пискнул из-под скатерти Буратино.
– Тимофей! Фужер шампанского, скотина! – неожиданно закричал снизу поручик.
Я едва различал его в темноте.
Дворник поднял руку:
– Будет тебе сичас шанпанское… Ну – айн… цвай… драй!..
Одновременно грохнули выстрелы. Комната на мгновение озарилась мертвенной вспышкой. Я успел заметить, как поручик, нервно дрыгнувший телом, выронил пистолет, а затем все вокруг затянуло клубами порохового дыма.
Что-то рухнуло на пол.
Тонкими голосками задребезжала опять посуда в серванте.
Я по-прежнему ничего не соображал.
– Все, дядя, пора завязывать, – трезвым голосом сказал выкарабкавшийся из-под стола Буратино.
Глава седьмая
Меня разбудила Ольга:
– Ты стонешь…
Я сел, задыхаясь и сглатывая сквозь горло комок горячего воздуха. Слепо пошарил вокруг. Простыни были влажные и сбившиеся в тугие жгуты.
Ольга смотрела на меня из-за края подушки.
– Птицы? – спросила она.
– Что – птицы?
– Тысячи птиц поднялись из леса и потянулись к закату…
– Нет, – сказал я. – Ничего такого.
– Значит, рано еще.
– Для чего рано?
– Просто рано. А потом сразу же будет – поздно…
Она прикрыла глаза.
– Ничего не понимаю, – сказал я, усиленно растирая лицо. – Сон какой-то дурацкий. Можешь себе представить – звонят, я, конечно, иду открывать. А за дверью, как ты думаешь, кто?
Я осторожно поправил подушку.
– Мне подробности не интересны, – сказала Ольга. – Я все это уже проходила и во второй раз не хочу. Я все это уже слышала, слышала, слышала… Опять то же самое. Я надеялась, что ты по крайней мере не видишь снов…
Глаз она не открыла.
Я опустил ноги на горячий паркет.
– Ты куда?
– Хотя бы воды попью.
– Ничего не меняется, – без всякого выражения в голосе сказала Ольга.
– Спи, – ответил я и пошел на кухню.
Квартира у меня крохотная, больше похожая на мышеловку. Кухня – четыре метра, она же – прихожая, поскольку сюда открывается дверь на лестницу. Вешалка, плита, неуклюжий стол, проход в ванную. Сидеть можно лишь на одной табуретке, притиснутой к батарее. А если забудешься и чересчур выпрямишься, например вставая, то обязательно треснешься головой об угол шкафчика. Зато есть у этой квартиры и определенные преимущества: последний, шестой этаж, ничто не загораживает вида из окон. Ночью в комнату проникает легкий звездный туман, и тогда кажется, что паришь в одиночестве над спящими городскими кварталами. В мире нет никого, кроме тебя, и ты волен жить так, как сам этого хочешь. Впрочем, сейчас я ничего подобного не испытывал. У меня ужасно склеивались глаза, и непреодолимая зевота раздирала челюсти. Все тело было словно из мокрой ваты. Я протиснулся к табуретке и чуть было не своротил с плиты чайник. Агонизируя, захрипела вода в тесных трубах. Какое-то тягостное отупение овладело всем телом. Всплывали и как в кривом зеркале искажались зыбкие карикатурные физиономии: дворник, заросший до глаз черным волосом, ухмыляющийся Антиох, тычущий острым носом эпилептический Буратино. Поручик Пирогов поднимал пистолет, и беззвучное белое облако вспухало над дулом.
Я инстинктивно вздрагивал.
Время едва сочилось.
Около семи пришла Ольга, завернутая в простыню, и примостилась напротив.
– Ну и как? – с вялым любопытством спросил я.
Она не ответила.
– Снов интересных не было?
– Мне никогда ничего не снится, – сухо сказала Ольга.
– Никогда? – уточнил я.
– Никогда.
Она неторопливо кивнула.
– Чаю хочешь?
– Пожалуй…
Она молча подождала, пока не закипит поставленный на газ чайник, а когда кипяток был разлит по чашкам и, завариваясь, начал приобретать насыщенный золотистый оттенок, сказала, глядя на плавающие среди пара редкие сухие чаинки:
– Мы с тобой больше встречаться не будем.
Кажется, я понимал, что она имеет в виду.
– Ты хотела освободиться?
– Да.
– Ну и как, удалось?
Ольга пожала плечами:
– По-видимому.
– Мне придется сказать ему об этом, – предупредил я.
– Ты туда пойдешь?
– Иначе это будет выглядеть уже совсем некрасиво.
– Ах вот ты о чем. Ну, это как раз не имеет значения.
– К сожалению, для меня имеет.
Она снова пожала плечами:
– Ну, ради бога, сходи.
Несколько долгих секунд мы перемешивали заварку в чашках, а потом я спросил о том, что уже давно приходило мне в голову:
– У тебя кровь какого цвета?
– Голубая, – спокойно сказала Ольга.
И впервые, по-моему, подняла светлые, бесчувственные, как из тумана, глаза.
Неживой холод, казалось, исходил от ее лица.
– Голубая, – негромко повторила она…
До знакомого дома я добрался, наверное, минут через тридцать. Я не помнил ни как я шел, ни почему выбрал этот длинный обходной путь вдоль набережной канала. Скорее всего, это было сделано чисто интуитивно. Словно кто-то другой, более внимательный и рассудочный, управлял в этот момент моей жизнью и, оберегая ее по мере сил, направлял туда, куда считал нужным. Так что в памяти у меня остались лишь зеленая тинистая вода в канале, выкрошившиеся фестончики на домах, образующих очередной изгиб набережной, потрескавшаяся кора деревьев, вздыбившаяся кое-где страшной щетиной, да еще двое мальчишек, торопливо и как-то испуганно завозившихся у поребрика тротуара. Вдруг они что-то бросили, отскочили, остановились. И в ту же секунду вздулась вдоль тротуара призрачная стена пламени и через мгновение выдохлась, оставив после себя взлетевший чуть не до крыш легкий пепел.
Более – ничего.
На лестнице, куда я ступил, стоял цветной полумрак. Будто клавиши фантастического рояля, утопали поочередно красные и синие тени. Я поднимался и думал, что совсем не хочу разговаривать с Антиохом. Ну его к черту! Пусть сам разбирается в созданных им же самим проблемах. Вот он их сам создавал – вот он пусть сам в них и бьется. А с меня хватит. Это мой последний визит в их квартиру. И еще я чувствовал, что почему-то совсем не хочу видеть Ольгу. Вот она жила как будто в своем собственном загадочном мире – вот пускай она там дальше и пребывает. А я лично совсем из другого мира, и тот мир, где она, меня вовсе не привлекает.
Яркий луч света из выбитого стекла перегораживал лестничную площадку. Я прошел сквозь него, и он будто отделил сон от яви. По одну сторону остались причудливые игры воображения, а по другую – вещественная прочная жизнь, реальность которой ни на секунду не оставляла сомнений.
Дверь в квартиру была заперта. Я подергал ее – брякнула ручка, удерживаемая наполовину вылезшими шурупами. Ольга на всякий случай дала мне ключи. Пальцы меня не слушались, и я долго не мог просунуть бородку в кривоватую скважину.
Звонить у меня почему-то желания не было.
Коридор, как всегда, пересекали ребра желтого света. Словно я оказался внутри скелета какого-то громадного ископаемого животного. Тут же обо что-то ударился; выехало из ниши ведро, закопченное, будто постранствовало по кострам отсюда до океана.
Я, чертыхаясь, потер ушибленную голень.
«Ну это еще не совсем худо», – внятно сказали над самым ухом.
Я так и подпрыгнул. Завертелся на месте. Однако рядом никого не было. Коридор был пуст. Из глубины его желтых ископаемых ребер тянул душный сквозняк. Я подождал немного и отодвинул ведро. Оно чуть ли не до краев было набито хлопьями сажи.
Похоже, что бумагу здесь жгли долго и основательно: пепел перемешивали и уминали, а сверху наваливали следующую порцию. Причем жгли это не на улице, а именно здесь: по затертым обоям крыльями ночной бабочки распахнулись бархатные черные пятна.
Весело тут у них, подумал я. Громко покашлял – ни один звук не отозвался в недрах квартиры.
Было тихо, точно в аквариуме.
Я сделал шаг, и половицы тревожно скрипнули.
«Дурень! Дурень! Дурень!» – неожиданно закричали где-то под потолочными перекрытиями.
Захрюкали, завизжали, залаяли – целой сворой.
Я опять подскочил.
И опять голоса обрезало, словно их никогда и не было.
Снова загробная тишина царила в квартире.
У меня возникло сильнейшее желание повернуть обратно. Повернуть – и уже никогда, никогда больше не приходить сюда. В конце концов! Я – взрослый и самостоятельный человек. Черт с ним, с Антиохом. Пусть сходит с ума как хочет. А лично мне подобные фокусы совсем не нравятся. С досады я пнул ведро и тут же запрыгал на одной ноге, шипя от боли. Танец был исполнен короткий, но энергичный. Отрезвило в момент и, главное, по-настоящему меня разозлило. Вот теперь я готов был высказать все, что я по этому поводу думаю. Я был готов ко всему, лишь бы сам Антиох оказался дома. Уж я ему действительно скажу все, что думаю. Все, что накопилось за последние дни, и никакие его увертки меня не собьют.
Я решительно двинулся по коридору.
К счастью, Антиох оказался дома. Он сидел за своим столом – сильно откинувшись и надменно задрав подбородок.
Как я воевал в коридоре с ведром, он, конечно, не слышал.
Или, может быть, слышал, но не счел нужным обращать на это внимание.
Он – думал.
Это разозлило меня больше всего.
Тоже – мыслитель!
– Привет, – хрипло сказал я.
Кажется, он кивнул.
Кстати, в комнате в этот раз было наведено что-то вроде порядка: подушка с пола исчезла, книги ровными рядами стояли на полках. Те, которые не поместились, – сложены аккуратными стопками. Стулья – подняты, тюлевая занавеска – отдернута, а ужасная пыль, которая хлопьями копилась в углах, тщательно выметена. Странно было видеть здесь блеск дерева и эмали. Как-то это не соответствовало обычному образу Антиоха. Но что самое любопытное, исчезли дикие завалы бумаги. Ни единой страницы больше не валялось ни на полу, ни на диване, ни на подоконнике. Видимо, как раз ее и сожгли в коридоре. Только на столе, придерживаемые пальцами Антиоха, лежали три аккуратных листочка.
Именно они прежде всего бросались в глаза.
– Надо поговорить, – сказал я.
Голос у меня ощутимо дрожал. Я это чувствовал и потому злился и на себя, и в первую очередь – на Антиоха.
Я ненавидел его в эту минуту.
«Чтоб вы все перелопались, дьявольское племя!» – колокольным басом прогудели вверху.
Я снова дернулся:
– Выключи магнитофон!
Антиох загадочно улыбался.
– Ты слышишь?
Он, по-моему, опять чуть заметно кивнул.
Я подошел к столу:
– Але, Кантемирыч…
Но даже при таком напоре Антиох не пошевелился. Он по-прежнему сидел, загадочно улыбаясь и подняв лицо к потолку. Черные его волосы топорщились, как у больной птицы, а на кармане мятой рубашки расплывалось небольшое пятно багрового цвета. Точно капнули туда, например, вишневым соком. Я, не знаю зачем, протянул руку и тут же отдернул. Лоб у Антиоха был как кусок льда, глаза – пластмассовые. Я опомниться не успел, как отскочил – снова к двери. Солнечная жара переливалась через подоконник, и над паркетом парили комочки невесомого пуха.
Вот один из них дрогнул и медленно поплыл вдоль плинтуса.
Антиох по-прежнему улыбался.
Губы его застыли.
Он был мертв.
Между прочим, я вовсе не обманывал нагловатого Буратино. Я действительно не курю. Когда-то начинал, а потом бросил. Не чувствовал в этом никакого вкуса. Однако тут онемевшими пальцами нащупал пачку, сунутую между полок, прикурил, поскольку и зажигалка пребывала в этом же месте, и затянулся впервые за много лет, разрывая легкие, – до отказа.
Вкус табака был непереносимый. Сразу же неприятно защипало во рту.
Весело тут у них.
«А чем ты, старый дьявол, бьешь?» – спросил ехидный женский голос.
Причем непонятно, откуда спросил. Да и неважно откуда. Я уже почти не обратил на него внимания.
Двинулся по воздуху второй легкий комочек.
Антиох был мертв.
Никогда в жизни я еще не видел такой безмятежной улыбки.
Тоненько скрипнул паркет, и в комнату просочился здоровенный котище с поднятым кверху хвостом. Морда у него была совершенно бандитская. Именно его я, по-моему, видел когда-то в проходном дворе.
Впрочем, не знаю.
– Доброе утро, – вежливо сказал я.
– Мя-я-у!..
Сигарета у меня потухла, и я ее выбросил. Слегка подташнивало, и пришлось сделать несколько сильных вздохов, чтобы прийти в себя. Правильно Минздрав предупреждает насчет курения. Затем я присвистнул и с непонятной для меня самого целью обошел всю квартиру. В пустых комнатах стояла жутковатая тишина. Сияли стекла, сверкали свежевымытые полы. Уже знакомые скрипы и шорохи распадались в углах. И от безлюдья, от свежей вымытости и тишины возникало ясное чувство, что это уходит жизнь, которой здесь больше нет места.
Кот следовал за мной по пятам и громко мяукал.
Мне не было жаль Антиоха. Сейчас мне казалось, что он должен был кончить именно так. Я нисколько не удивился. Ничего другого, по-видимому, не оставалось.
«Дурень! Дурень! Дурень!» – опять сказали откуда-то сверху. Но – уже шепотом, как бы издалека, затихая.
В холодильнике я нашел пакет еще годного молока, налил в блюдце и покрошил туда булку из хлебницы. Кот припал к блюдцу, остервенело урча, чавкая, как бегемот, и постукивая жестким хвостом по паркету.
Я не удержался и погладил его.
Он, не отрываясь от молока, поджал уши.
Все, что я взял на память об Антиохе, это – три страницы, лежавшие перед ним на столе.
Я сложил их вчетверо и засунул в карман.
А потом я выгнал из квартиры кота, вышел сам и закрыл дверь.
Глава восьмая
Ночью город заволокло тяжелыми, рыхлыми тучами. Как огромные черепахи, неторопливо тащились они по небу, цепляли ластами крыши, трубы, наполняли сырым туманом верхние этажи. С утра начал накрапывать дождь. Сначала – редко, будто примериваясь, а потом все чаще и чаще. И вдруг за какие-то две-три минуты простерлась вокруг непроходимая водная пелена. Раскинулись и тут же вспенились лужи. Асфальт стал черным. Побежали от водосточных труб шипящие мусорные ручьи. Твердые костяные пальцы забарабанили в окна…
Мы ждали своей очереди в вестибюле – вырванные из обычной жизни, чужие друг другу люди. Народу на церемонию собралось немного, за прошедшее время Антиох растерял почти всех знакомых. Пришли сослуживцы с его последней работы: трое ответственных, очень серьезных мужчин, осознающих важность момента. Они держались как бы отдельно от остальных, разговаривали вполголоса, сближая тугие галстуки, часто выходили курить под навесом на улице, и тогда сквозь стеклянную дверь видно было, как они смыкаются головами и вдруг снова откидываются, гася веселье. Наверное, рассказывали анекдоты. Пришли две полустертые школьные приятельницы в темных платьях. По их вытянутым и несчастным лицам было ясно, что они и сами не знают, зачем явились. Видимо, сочли, что уклониться в данном случае неудобно. Они как-то быстро выяснили, что я тоже, оказывается, учился с ними, прилепились с обеих сторон и вязко, с тягостными подробностями предавались воспоминаниям. Одна не любила, оказывается, математику, а другая, оказывается, любила. Одна не помнила учителя по кличке Паук-Крестовик, а другая помнила и говорила, что кличка у него на самом деле была – Бергамот. Обращаясь ко мне, обе запинались и трогательно краснели, очевидно забыв мое имя и мучаясь теперь от неловкости. Впрочем, продолжалось это не слишком долго. Та, которая любила математику, быстренько сориентировалась и исчезла, сославшись на пятерых детей, а другая, помнившая учителя Бергамота, тут же забилась в угол и впала в каталептическое состояние. Больше она не сказала ни слова, и, честно признаться, я был этому только рад.
Пришла какая-то дальняя родственница Антиоха – старушка, похожая на воробья, перевязанная платком. Из него высовывались лишь нос и сухенький подбородок. Она потерянно бродила по залу, исподтишка разглядывая присутствующих, легко вздыхала и вытирала платочком быстрые слезы. Пару раз я осторожно извлекал ее из соседних групп, где она, прижимая ладони к груди, что-то рассказывала обступившим ее молчаливым, вежливым людям. Освободившись, она рассеянно благодарила меня, снова легко вздыхала и семенила дальше.
Был еще один незнакомый мужчина, вроде бы державшийся неподалеку от нас. Я его не помнил и думаю, что он просто ошибся группой.
Явились также дворник и Буратино. Варахасий по этому случаю надел новый, негнущийся ватник, расчесал бороду и надраил кирзовые сапоги. По внешнему облику его принимали за местного: то и дело отзывали в сторонку, назойливо о чем-то шептались, совали деньги. Варахасий всем все обещал, но денег не брал. Буратино же наконец снял свой полосатый колпак, и у него обнаружилась лысая, старческая голова в редкой щетине. Он непрерывно оглядывался и шмыгал хищным носом. Время от времени они вместе с дворником ненадолго скрывались по лестнице, которая вела к туалетам, и потом возвращались минут через пять – в меру поправившиеся и оживленные.
Поручик, закутанный до переносицы шарфом, подняв воротник и до глаз сдвинув шляпу с мокрыми обвисающими краями, воровато скользнул внутрь – привлекая тем самым общественное внимание, и умоляющими жестами подозвал меня.
– Ради бога, сударь, не выдавайте, кто стрелял, – пойду на каторгу!
Он горбился, по-видимому стараясь казаться как можно меньше. Со шляпы капало, а от пальто, которое он, несмотря на жару, напялил, разило сыростью. Я ему процедил что-то сквозь зубы, и он исчез, растворившись в прозрачном буреломе дождя.
Ольга пребывала в непроницаемом одиночестве. Она как прислонилась к ноздреватой стене, украшенной с двух сторон от нее мрачными традесканциями, так и простояла все сорок минут ожидания – ни разу не шелохнувшись и не сделав попытки с кем-либо поговорить. Никто к ней не подходил. Никто даже, по-моему, не подозревал, что она тоже отсюда.
Я поздоровался с ней издали.
Она едва заметно кивнула.
Дождь глухо рокотал в пустоте обширного зала, наружные стены которого были целиком из стекла. Казалось, что мы находимся под водой, и внутренний дворик, где меж длинных луж мотались пионы, только усиливал это не слишком приятное ощущение.
Мне все время хотелось выйти наружу. Церемония почему-то задерживалась, и стрелки круглых часов на стене приклеились к циферблату. Мне даже чудилось, что они просто остановились. Времени больше нет, и впереди у нас всех уже ничего не будет.
Я, по-видимому, просто очень устал. Дело Антиоха вел молодой и, вероятно, поэтому чересчур настойчивый следователь. У него на лацкане пиджака был даже приколот ромбик, свидетельствующий о высшем образовании. Вызывал он меня к себе, наверное, раз восемь, и довольно быстро стало понятно, что для него я – главный подозреваемый. В основном потому, что больше подозревать было некого. Он извел меня вопросами, которые, по-моему, не имели никакого отношения к делу. Например, не было ли у нас с Антиохом каких-нибудь общих коммерческих интересов? Или – как получилось, что после такого длительного перерыва в знакомстве мы, практически позабыв друг о друге, опять стали встречаться? Не кажется ли вам самому это несколько странным? Причем, что бы я ни ответил ему, это немедленно фиксировалось в протоколе. А в конце каждой беседы следователь давал мне расписываться на этих листочках. Однако ничего существенного ему добиться не удалось. Медицинская экспертиза установила, что признаки насильственной смерти у Антиоха отсутствуют. Смерть наступила от асфиксии, или, говоря по-простому, от прекращения дыхательной деятельности. Рана на груди оказалась царапиной и угрозы для жизни не представляла. Возникало впечатление, будто Антиох по неясным причинам просто перестал дышать. Факт, естественно, странный, но исключающий конкретного обвиняемого.
Ольга к этой картине ничего не добавила.
Вызывали еще и дворника, поскольку остальные персонажи в поле зрения следствия не попали. Впрочем, толку от него было немного. Варахасий на допросах нес такую несусветную чушь о своем истинном происхождении, такими душераздирающими подробностями уснащал сюжет прочитанного им недавно «Преступления и наказания», так рыдал о гибели христианской души и так слезно просил вернуть его обратно в пятый том Собрания сочинений, что следователь окончательно растерялся и махнул на него рукой. Так это в итоге ничем и не завершилось.
Правда, тут я немного забегаю вперед. Следствие длилось еще более трех месяцев после описываемых событий. В тот момент я, конечно, не мог еще знать, чем оно будет закончено, и лишь чувствовал боль, опустошенность и муку от затянувшегося обряда. Уйти из этого мира так же непросто, как и прийти в него.
Наконец женщина в седом парике и закрытом коричневом платье с коралловой ниткой на шее открыла двери и пригласила нас внутрь. Зал был отделан камнем, напоминающим о пещерах. Две узких щели пропускали лучи тумана, тянущиеся к постаменту. Вошедшие редкой и боязливой цепочкой жались по стенам. Женщина в парике посмотрела на нас и ушла в служебную будку. Я увидел в окошечко, как она наливает чай из синего термоса, а потом открывает коробку и достает бутерброды с сыром.
Жаль, что мне нельзя было уйти отсюда. Я поглядел на Ольгу – она стояла, будто происходящее ее ничуть не касалось. К счастью, в это мгновение появился из служебного хода человек в темно-сером двубортном костюме и округло повел руками, концентрируя внимание на себе. Это был, по-видимому, официальный распорядитель. Он сказал, что Антиох умер, к сожалению, молодым, но многое успел сделать. Он успел поработать во многих местах, и везде его любили за искренность и человеческую прямоту. Память об Антоне Осокине навсегда сохранится в наших сердцах… У него был чудесный, исключительно подходящий к церемонии баритон. Голос то сдержанно рокотал, то падал почти до шепота искреннего переживания. Школьная приятельница даже всхлипнула. Сослуживцы Антиоха стояли будто шкафы, тупо и терпеливо. Родственница-старушка вздыхала, вспоминая, наверное, собственные несчастья, и, держа наготове платок, кивала каждому слову. Дворник и то прослезился от этого баритона. Во всяком случае, он громко икнул и не стесняясь утерся рукавом нового ватника. Буратино немедленно подал ему пузырек, взятый с медицинского столика.
Правда, через какое-то время баритон иссяк, и было предложено выступить кому-нибудь из присутствующих. Пауза возникла такая, что я от стыда стиснул зубы. Длилась она, наверное, секунд двадцать, не меньше, и желающих выступить за это время не обнаружилось. Только дворник, который, по-видимому, уже расправился с пузырьком, неожиданно громко сказал: «А чего?.. А вот выйти сейчас и, значит, всю правду!..» – однако трое сослуживцев мгновенно отсекли его от прохода, и он, как рыба об лед, бился об их неподвижные спины.
В общем, я был рад, когда вновь заиграла музыка и присутствующие двинулись гуськом вокруг постамента. Я получил возможность отступить назад, к выходу. Прощаться с Антиохом в последний раз я, конечно, не стал. Достаточно было того, что я обнаружил его в пустой квартире. И кстати, я не один такой, как выяснилось, остался на месте. Незнакомый мужчина, про которого я сначала решил, что он не туда попал, задержался вместе со мной и даже немного придвинулся:
– Прошу прощения, милостивый государь, вы меня случайно не узнаете?
– Нет, – глянув несколько внимательнее, сказал я.
– Когда-то имел честь: Иван Алексеевич…
– Ах, да, – сказал я.
Он явно, чтобы продемонстрировать, повернул к свету лицо:
– Видите? Пришлось вспомнить навыки молодости. Антон Григорьевич в данном случае оказался бессильным.
Я равнодушно сказал:
– Поздравляю.
Иван Алексеевич удивился, и это сразу почувствовалось в его тоне.
– И только, сударь? А мне кажется, что получилось неплохо. Насколько я способен судить, соответствует первоначальному образу. Расхождения если и есть, то не принципиальные. Однако, сударь, я позволил себе обратиться к вам по несколько иному вопросу… – Он помолчал и, как мне показалось, быстро дернул ушами. Наверное, это свидетельствовало о волнении, которое вообще-то ему не было свойственно. – Дело в том, что сегодня я ухожу обратно, сударь. Возможности для этого у меня теперь есть. Вы уверены, что вам не понадобится моя помощь?
– Прощайте, – сказал я.
Из взгляда Ивана Алексеевича исчезла всякая доброжелательность.
– Ну что же… Если вы считаете, что моя помощь вам не нужна… Не смею настаивать, милостивый государь. Тогда остается только один вопрос. Стараниями господина Осокина здесь появилось несколько… персонажей…
– Не понял, – сказал я.
– Ну, я имею в виду тех людей, которые… не принадлежат вашему миру…
– Ах, те… Это меня уже не касается, – сказал я.
Иван Алексеевич приподнял подбородок:
– Простите?
– Я больше ничего не хочу знать об этом.
– Даже так?
– Именно так!
Подбородок поднялся еще выше.
– Всего хорошего, милостивый государь!
И он понес высокомерную голову к выходу.
За ним потянулись и остальные. Старушка-родственница цепко взяла меня под руку. Дворник уже не мог передвигаться самостоятельно. Его вели сослуживцы, крепко поддерживая за вывернутые локти. Буратино, как чертик, подпрыгивал перед ними.
– Осторожней, осторожней, ребята… Не уроните, потом не подымем…
Проезжая мимо меня, дворник с усилием повернул налитые напряжением бычьи глаза.
– Ничего-ничего, здеся тоже жить можно, если, мил человек, приспособиться…
Мы вернулись в помещение вестибюля. Я искал Ольгу. Она куда-то запропастилась. Родственница не отпускала меня ни на секунду.
– Вы, наверное, дружили с Антошей? Меня зовут Вера Васильевна…
Ей, вероятно, хотелось с кем-то поговорить.
– Он был очень хороший мальчик, – сказала она, поднимаясь на цыпочки и дрожа бурыми осенними веками. – Вежливый такой, послушный. Другие шалят, а он – нет, напротив, сидит – занимается каким-нибудь делом…
Вытирая сплетенные паутиной мешки под глазами, она рассказала, как будила его по утрам, когда он еще ходил в школу, как встречала его на улице после уроков и как, будучи больным скарлатиной, он все боялся деда с большой бородой, который ходит по комнате. А никакого деда, разумеется, не было…
– Он был тихий, тихий, послушный такой, тихий мальчик…
Я наконец увидел Ольгу. Она шла к выходу и, по-моему, ни на кого не обращала внимания. Я не понимал, при чем тут дед с большой бородой. Окликнуть я ее не решился, и она спустилась по ступенькам под дождь.
– Вы меня извините, Вера Васильевна. Вам куда?
Старушечьи пальцы сжали мне руку так, что отпечатались синие пятна.
– Это она его отравила, я знаю…
– Что вы, Вера Васильевна!..
– Знаю, знаю, она его ненавидела…
Выяснилось, впрочем, что живет она неподалеку отсюда. Я дал денег шоферу и назвал адрес.
А затем я побежал вслед за Ольгой. Я не знаю зачем, но я все-таки побежал, не разбирая, где асфальт, а где лужи. Дождь сразу же облепил меня со всех сторон. Я как будто очутился в движущемся стеклянном лесу, который дробился о землю. Плеск и водяной рокот распространялись до горизонта. Шипели люки. Под тяжестью ливневых струй просели деревья. Здание крематория было выстроено на некотором возвышении, и все серое, бесконечное пространство вокруг него было заполнено шевелящейся массой воды.
Поворачивая на аллею, ведущую к остановке, я увидел фигуры Буратино и дворника, хватающиеся за прутья ограды. Оба они, заботливо поддерживая друг друга, взирали на высоченную заводскую трубу, стиснутую снизу бетонными параллелепипедами. Из трубы вытекал и, прибиваемый ливнем к земле, волочился куда-то угольно-черный дым.
– Дым. Зачем дым? – горько спрашивал дворник.
– Это чтоб видели – что без обману, – серьезно разъяснял Буратино. – Деньги уплочены, значит – того, получи вечную жизнь… Стой прямо, дядя! Ты вообще стоять можешь? Ну давай – левой ногой шажок… Вот так… Теперь правой ногой шажок… Да ты не падай, дубина!..
Ольга уже стояла под стеклянным навесом. Дождь шумел, и сплошной мутный поток закрывал мостовую. Будто дракон, вылез из пелены ливня неуклюжий трамвай. Двери захлопнулись. Я едва успел заскочить в последний вагон. Вагон был совершенно пустой. Я взял билет, и он расползся у меня в мокрых пальцах. Ольга, как будто не замечая меня, села спереди. Вагон дернулся. Тоненько заныли втискиваемые в рельсы колеса. Трамвай, разделяя поток воды, пополз через унылые новостройки. Блестела на газонах глинистая земля, и редкие машины поднимали коричневые фонтаны брызг.
Я подумал, что Антиох ушел как раз вовремя. Несколько лет он жил какой-то придуманной лихорадочной жизнью. Несколько лет прошли в погоне за призраками, грезящимися в отдалении, в изнурительной и бесплодной попытке приблизиться к миражам, которые просто не существуют. Он и, наверное, уже понял, что все впустую – бьется, колотится головой, а стена с каждым ударом все толще и толще. Если бы он не ушел, то неизвестно, чем бы это тогда закончилось. Может быть, еще хуже. Дальше пути, по-моему, не было.
И еще я подумал, что, вероятно, зря впутался в это дело. Существуют люди, которые по природе своей не приемлют ничего фантастического. Мир для них не всеобщая тайна, которая постигается исключительно озарением, а всего лишь задача, решаемая путем огромных, но конечных усилий. Вероятно, я как раз из породы таких людей. Мне никогда не понять Антиоха, а ему в свою очередь никогда не понять меня.
– Следующая остановка – «Вокзал», – объявил водитель.
Мы уже втягивались в мрачноватые улицы старого города. Дождь здесь, кажется, лил еще яростнее, и трамвай, как корабль, вспучивал перед собой длинные волны.
На тротуарах не было ни одного человека.
В такие дни легко умирать. В грохоте шалой воды, в потоках ливня легко переходить из одного призрачного мира в другой.
Наконец, показалась площадь, превращенная дождем в серое озеро. Трамвай из последних сил выполз на ее середину и замер. Двери открылись, и Ольга вышла, ступив прямо в воду. Я тоже вышел, и дождевые лианы сразу же заструились по всему телу. Трудно было различить что-нибудь в бурлящем пространстве. Дождь залеплял глаза, лез за шиворот и швырял в нос крупные брызги.
По всей поверхности площади плыли и лопались пузыри.
Возле тумбы с отмокшей театральной афишей Ольга остановилась.
Подождала, пока я ее догоню.
– Ты почему здесь?
– Нипочему, – сказал я.
– Все кончено. Больше, пожалуйста, не подходи ко мне.
– Ладно, – сказал я.
Ольга отвернулась и не торопясь пошла через площадь. Небо было цвета воды, и потому казалось, что она идет прямо по небу. Кроме нас на площади никого не было. Вот она свернула в переулок к каналу и исчезла из виду. Тогда я тоже пошел – в противоположную сторону. Жизнь закончилась, и мне было абсолютно все равно, куда идти. Терпеливо мок в сквере бронзовый памятник. Львы на ажурном мосту держали в зубах натянутые железные тросы. Будто муравейник, распухала темная вода в канале. Тонули листья. Чугунные перила моста казались горячими. Я не знал, что мне дальше делать. Жесткие капли дождя торопливо ощупывали мое лицо.
Глава девятая
Дождь шел весь день и всю ночь, а потом опять весь день и всю ночь. Будто все дожди мира решили в одночасье собраться над городом.
Дул невозможный, резкий, не прекращающийся ни на секунду ветер, и сплошные ливневые расплывы гуляли по улицам. Вздрагивали антенны и провода. Грохало приподнимаемое напором воздуха железо на крышах. Дребезжали и оглушительно лопались оконные стекла. Приступ дождя и ветра на город был настолько упорный, что уже к концу первых суток затормозил течение рек и каналов. Нева, обратившись вспять, поднялась до гранитной набережной. Серые потоки воды хлынули на мостовые. Переполнились водостоки. Жидкая подземная чернота выступила из подвалов. Смывало газеты со стендов, и они точно бабочки плыли – раскинув бумажные крылья.
Ночи были пронизаны тревожным плеском воды. Сводки городских новостей были исполнены пессимизма. Поговаривали о введении в городе чрезвычайного положения. День занимался нехотя – истерзанный и бледный, в расплывчатой пелене летящего с неба ливня.
У меня в комнате внезапно протек потолок. Темное сырое пятно довольно быстро заполонило собой весь верхний угол. Штукатурка в том месте отстала, угрожая обрушиться, а из центра сходящихся трещин срывались и падали могучие капли. Я менял таз, каждые четыре часа наполнявшийся до краев, и писал в жилконтору заявки, остававшиеся без ответа. В институте, разумеется, пришлось взять отгулы, и теперь я не вылезал из квартиры, занимаясь прежними разработками, которых скопилось вполне достаточно. На третий день пятно распространилось чуть ли не до середины комнаты, и, чтобы спастись от потопа, мне пришлось срочно переставлять мебель.
И вот когда я разбирал книги, намереваясь снять уже отсыревающие верхние полки, и растаскивал многочисленные журналы, скопившиеся там за последние годы, с одной из стопок, которую я понес, придерживая подбородком, неожиданно соскочили и запорхали над полом три страницы с машинописью.
Это были те самые три страницы, которые лежали на столе перед Антиохом. Последнее, что он в своей жизни читал. Я взял их тогда неизвестно зачем, вероятно, просто на память. Вот и все, что осталось от человека, – три машинописных страницы.
Я пристроился на краешке стула, и настольный круг лампы выхватил из сумерек заголовок: «ВОРОН».
Дальше шел эпиграф без указания автора: «Кто кричит ночью? – Ворон!»
Я из чистого любопытства начал просматривать этот текст. Честно говоря, он меня не очень-то интересовал. Я хотел, чтобы неприятная история с Антиохом как можно быстрее отодвинулась в прошлое. Я устал от нее, и я вовсе не собирался к ней возвращаться. Тем не менее, повинуясь минутному настроению, побежал глазами по слабо пропечатанным строчкам. Никакого впечатления они на меня не произвели. Речь там шла о каком-то лесе, где почему-то в полном безветрии стонали и покачивались деревья. Причем текст, по обыкновению Антиоха, был лишен точек и запятых, и, чтобы отделить одно предложение от другого, приходилось мучительно вчитываться. При этом содержание прочитанного полностью ускользало, и если бы меня вдруг спросили, о чем это, я бы, вероятно, не смог точно ответить.
В общем, я уже решил, что нет смысла тратить время на очередные эстетические изыски – есть, наверное, люди, которым подобные тексты нравятся, но я к их числу не принадлежу, – когда что-то неуловимое изменилось вокруг и заунывный далекий гул внезапно заполнил комнату.
Исходил он, казалось со всех сторон, и поэтому возникало чувство, что от избытка жары и влаги гудит сам воздух.
Или он существовал только в моем сознании?
И одновременно настольная лампа вдруг начала тускнеть, как будто в сети падало напряжение.
Я машинально протянул к ней руку, но выключателя на месте не оказалось. Как жучки, зашевелились буквы в неровных строчках. Почему-то стало трудно дышать. Багровый волосок под абажуром мигнул и рассыпался искрами.
Я поднял голову.
Темное глубокое небо, обглоданное зубцами елей, раскинулось надо мной. Мрачные в три обхвата стволы покачивались и нервно скрипели. Черное полотнище птиц выдралось из чащобы и с деревянным плачем, колеблясь, потянулось к закату.
Я стоял на тропинке, усыпанной хвоей и мелкими еловыми веточками. Она уходила в чащу, где меж голого белесого сушняка плавала паутина. Меня словно кто-то настойчиво звал туда. Хрустнул дерн под ногами. Сомкнулись у меня за спиной перистые лапы папоротников. Темнота в лесу была какая-то звонко-прозрачная, виделось все до мельчайших деталей, как будто я обладал ночным зрением: потеки смолы на стволах, лысые узловатые корни, багровеющие тремя тусклыми ягодками выползки костяники.
Мне почему-то казалось, что ни в коем случае нельзя оглядываться. Папоротник шуршал, и иногда проглядывали сквозь него пушистые огоньки. По-моему, они мерцали и немного перемещались. Вылетела из-за деревьев сонная стрекоза и скользнула мне по лицу хрусткой слюдой.
Сказочный, необыкновенный лес.
Тропинка наконец нырнула под дерн и закончилась. Ели расступились, я вышел на опушку, открытую ночному простору. По огромному косогору сбегали вниз травы, одетые теплой росой, и чуть шевелились внизу заросли неясных кустарников. А примерно на середине спуска, у огромного валуна, помнящего еще, наверное, ледниковый период, изгибало голые сучья большое, по-видимому сожженное молнией дерево, и его полированный перевитый ствол, лишенный коры, представлялся по желтоватому цвету выточенным из кости.
На дереве сидел ворон размером с доброго петуха и чистил отливающие синевой гладкие перья.
Заметил меня и с хитрым видом прижал к крылу лысую голову.
– Пр-ривет, Ар-ркаша! – нечисто, по-птичьи, выкрикнул он.
Меня звали иначе, но спорить я, конечно, не стал. Из туманных кустов навстречу мне выступил человек в расстегнутой до пупа рубахе.
Приветственно помахал рукой.
Это был Антиох.
На закатанных до колен джинсах его поблескивали металлические заклепки.
– Привет, я тебя ждал, – быстро сказал Антиох. – Никогда не верил, что лишь один найду эту дорогу. Кто-то обязательно должен был прийти следом.
Он после смерти практически не изменился: те же дикие волосы, рассыпанные по плечам, те же лихорадочные глаза и те же движения – будто опаздывает на поезд.
– Где это мы? – поинтересовался я.
Антиох поднял странные золотистые брови.
– Не понимаешь? Ну – научный сотрудник!..
Таяли в небе удаляющиеся птичьи крики. Край горизонта вспыхнул прозрачной зеленью и тут же погас. То, что я принимал за кусты, в действительности оказалось зарослями черной крапивы. Она взметывалась выше наших голов, больше похожая на теснотелый подлесок. Ее остроконечные листья были опушены стеклянными жалящими ворсинками. Жилистые стебли тоже слегка покачивались, и между ними просвечивало яркое серебро воды.
Наверное, дальше находилось озеро.
– Я иногда ловлю здесь рыбу, – загадочно сказал Антиох. – Просто руками. Ты не поверишь, какие тут попадаются экземпляры. Им, вероятно, лет по двести. У них чешуя – золотая. Я возьму такого за жабры, вытащу – он пучит глаза, удивляется, в первый раз сталкивается с человеком. Даже не уплывает, стоит потом около ног.
Он отступил ближе к зарослям черной крапивы.
Я непроизвольно шагнул за ним.
– Или, например, жуки. Здесь попадаются тоже – совершенно уникальные экземпляры – величиной с ладонь, зеленые, такие, что даже в траве не видно, но глаза у них при этом – рубиновые и светятся в темноте. Или – ярко-желтые, с такими малиновыми пупырышками, а глаза у них тоже – рубиновые и тоже светятся в темноте. Ползет такой по ветке, как фантастическое видение. И главное, с таким видом ползет, как будто кроме этой ветки ничего в мире не существует. И мудрая птица Ворон – тысячу лет сидит на том дереве…
Антиох медленно жестикулировал.
– Я еще огоньки видел в лесу, – сказал я.
– Огоньки? Ну да, это цветет папоротник. Сорвешь цветок, бросишь – он поплывет по воздуху. И там, где упадет, – непременно клад…
– Где мы? – опять спросил я.
Антиох радостно засмеялся:
– Значит, не догадался еще? Тогда посмотри: Рыбы, Вода, Земля, Травы, Звезды… Живое и неживое – все вместе. Помнишь, мы приходили к тебе и говорили о вечной жизни?
– Это когда ты умер – конечно, помню…
– Ах – нет…
– Похоронили отлично, – заверил я. – Можешь не сомневаться. Я бы на твоем месте остался доволен.
Антиох обернулся назад, где открывался темный обрыв и где точно в последний раз светила прохладная серебряная вода.
– Вот это оно и есть – вечная жизнь…
И сразу же после этих слов низко над фиолетовыми соцветиями крапивы, над черным зубчатым лесом, над туманами, стелющимися по озеру, бесшумно, будто во сне, зажглась мохнатая неземная звезда. За ней – вторая, третья, четвертая…
– Зовут, – сказал Антиох. – Видишь – зовут…
Попятился, раздвигая спиной крапиву:
– Идем.
Ноги у меня приросли к земле.
– Нет…
Антиох вновь необидчиво засмеялся.
– Думаешь, жжется? – спросил он. – Верно, жжется. Жжет насмерть.
Беззвучно распространялся в небе великолепный звездный пожар. Пылал уже весь горизонт, и становилось ясным, что он будет светить так по крайней мере тысячу лет.
– Не могу, – выдавил я.
Я и в самом деле не мог.
– Идем, идем…
Антиох отступал все дальше. Осыпанные стеклянным ворсом листья затягивали его. Слабенько прогудел рожок, наверное призывающий к подвигу. Края неба заколебались и начали расползаться тающими лохмотьями.
Ворон на обугленном дереве щелкнул крыльями, тяжело всхрипнул и разинул изогнутый роговой клюв:
– Дур-рак ты, Ар-ркаша!..
Очнулся я на полу.
Нос у меня расплющило о паркет, локоть неестественно вывернуло, а на лбу, чуть ниже волос, горела свежая ссадина.
Наверное, я здорово кувырнулся.
И еще – раздирало грудь, не хватало воздуха, словно я не дышал, по крайней мере, неделю.
Сотни крохотных коготков вонзились в легкие.
Страшно было пошевелиться.
Кое-как я все-таки дотащился до кухни. Пил долго и жадно, выхлебав почти всю заварку из чайника. Потом плеснул на себя холодной водой и тщательно, словно после зарядки, растерся вафельным полотенцем.
Только тогда мне стало немного легче. С разъеденного потолка по-прежнему громко шлепались капли. Таз уже переполнился, и мне пришлось его вылить. Затем я открыл форточку, и в квартиру ворвался оглушающий грохот дождя.
Хлестало по мокрым крышам, по мостовой, яростно клокотало в трубах, и содрогалась, как рушащийся театр, вся ветряная непроглядная темень.
Под настольной лампой белели три аккуратных страницы.
Меня будто током ударило.
«ВОРОН»!
Абсолютный текст!
Это – Антиох. Он все-таки добился, чего хотел. Он хотел вечной жизни, вот и получил – вечную жизнь.
Я смотрел на эти страницы как зачарованный. Они одновременно и притягивали меня, и пугали.
Абсолютный текст!
«ВОРОН»!
Диагноз у Антиоха был – асфиксия. Это означало, что он перестал дышать.
Асфиксия.
У меня до сих пор побаливало в груди. Голова чуть кружилась, и острые коготки в легких еще покалывали.
Дождь за черными стеклами ревел не переставая.
Впрочем, если соблюдать осторожность, то ничего страшного, видимо, не произойдет.
Я сел, крепко зажмурясь, и на ощупь придвинул эти страницы к себе. Далее глубоко вдохнул и ухватился руками за край стола. Сердце выскакивало из ребер, и мне казалось, что я сейчас низвергнусь в бездонную пропасть. Впрочем, одну только строчку, всего одну. В прошлый раз началось с того, что медленно потускнела лампа. Это надо иметь в виду – если свет начнет гаснуть.
Главное – не увлекаться.
Я осторожно открыл глаза.
Итак.
В верхней части страницы крупными буквами было напечатано – «ВОРОН».
Ниже стоял эпиграф: «Кто кричит ночью?»
Я перевел зрачки к первой строчке.
Ворон на обугленном дереве щелкнул крыльями и разинул изогнутый роговой клюв.
– Дур-рак ты, Ар-ркаша!..
Я теперь находился на берегу озера. Берег был чистый, песчаный и кое-где поросший легкой осокой. Неимоверной кручей вздымался сзади обрыв, и над дремучей кромкой его сияли волосатые звезды.
Зашуршала подминаемая трава.
Антиох, вышедший из-за камня, протянул мне руку:
– Вернулся? Я так и знал, что ты непременно вернешься.
Рядом с полузатопленной почерневшей корягой воткнулась в песок плоская лодка.
– Садись, я тебя отвезу.
– Куда? – спросил я.
На дне лодки стояла вода.
– Там есть дом, – увлекая меня, сказал Антиох. – Зажжен огонь в лампе, спокойствие… Впрочем, ты сейчас сам все увидишь…
Далеко, на той стороне, горели два желтых окошка.
– Эта дверь открыта всегда…
– Не хочу, – слабо сказал я.
Он засмеялся, обнажив белые зубы:
– Там тебя не держит ничто. Терять тебе нечего. А здесь ты будешь жить вечно.
Он ступил в лодку:
– Ну?
Я еще сомневался.
– Один только шаг, – сказал Антиох. – Только один, и эти двери откроются. Предстанет перед тобой вся вселенная. Один только шаг – и будешь жить вечно…
В лодке не было весел.
– Как мы поплывем? – спросил я.
– А вот так и поплывем, – сказал Антиох. – Она сама поплывет. Здесь совсем рядом.
Опять прозвучал рожок, зовущий к подвигу. Быстро взошла над озером выпуклая луна дымно-красного цвета. Мерцающая дорожка протянулась от нее на ту сторону.
Ворон слетел с дерева и уселся на узкий нос лодки…
Меня спасло, видимо, только то, что свалилась лампа. Грохнул разлетевшийся стеклами абажур, и, дребезжа, покатилась по полу керамическая подставка. Трудно даже представить, как это на меня подействовало. Я вскочил точно бешеный и заметался по комнате, наталкиваясь в темноте на мебель. Опрокинул стул, на котором сидел, стукнулся о диван, чуть не перевернул в углу таз, снова полный воды.
Это немного привело меня в чувство.
Легкие больно, при каждом вздохе, резало на мелкие дольки.
А когда я в конце концов взял себя в руки, отдышался, неспешно сосчитал до пяти и зажег в комнате свет, который мне показался каким-то невзрачным, первое, что я увидел, – это три страницы с машинописью, по-прежнему аккуратно лежащие на столе, и громадную коричневую стрекозу, сидящую поверх одного из них.
Кончики слюдяных крыльев у нее нервно вибрировали, полукруглые, гладкие, во всю голову, непроницаемые глаза, казалось, впитывали окружающее, коготки цепких лапок тревожно скребли по бумаге, а сегментный хвост изогнулся и поводил из стороны в сторону усиками хитина.
Я дико вскрикнул, судорожно замахал руками, и тогда стрекоза медленно, как геликоптер, поднялась в воздух, постояла немного и по пологой дуге вылетела в окно.
Абсолютный текст!
«ВОРОН»!
Вот теперь я знал, что мне делать.
Ни на мгновение не задумываясь, я сгреб эти опасные, дышащие смертью страницы, скомкал изо всех сил, стараясь даже случайно не глянуть на подслеповатые строчки, затем положил комок в раковину на кухне и поднес, затаив дыхание, горящую спичку.
Пламя приклеилось к рыхловатой бумаге и утянулось внутрь. Комок вдруг бодро зашевелился и, как живой, начал разворачиваться. Четко выделилось на изгибе: «Кто кричит ночью? – Ворон!» Смотреть на это было нельзя, но я все равно смотрел. Я ничего не мог с собой сделать. Странный заунывный гул наполнил всю комнату. Потянуло озерной свежестью. Скрипнули ели. Тоненько плеснула вода, и закачалась лодка, готовая плыть на ту сторону. Лунная мерцающая дорожка тревожила и манила. Я жутковато оцепенел. Но тут огонь, вероятно воспрянув, полностью охватил комок, и бумага окончательно почернела.
Глава десятая
Остается сказать немногое.
Варахасий никуда не исчез, он живет где-то там же и работает дворником, по своей основной специальности. Бляху и ватник свои он, разумеется, снял, перешел на джинсы и куртку, то есть одевается вполне современно. Он, по-моему, даже слегка подстриг бороду. Изредка, проходя по каналу, я встречаю его – он задумчиво, но спокойно пошаркивает метлой вдоль тротуаров. Мы с ним не здороваемся, он старательно делает вид, что не помнит меня.
Поручик Пирогов после этих событий довольно быстро пришел в себя, огляделся, освоился и поступил на учебу в Академию тыла и транспорта. Недавно ему присвоили звание младшего лейтенанта, и он чрезвычайно гордится звездочками на погонах.
Лучше всех, однако, устроился Буратино. Он работает в модной петербургской поп-группе «По ту сторону». У него обнаружился голос, вполне соответствующий названию, и теперь он там главный солист и, кажется, художественный руководитель. Я однажды ходил посмотреть на него. Выступают они в ярких полосатых штанах и во время исполнения песен закрывают глаза. Успехом пользуются, судя по всему, колоссальным. Стены города залеплены афишами с именем «Бу Ратинов». Недавно их показывали по российскому телевидению, и я уже замечал на подростках майки с его портретом.
Ольге дали квартиру где-то на окраине города, и она сразу же затерялась среди многомиллионного муравейника.
Мы с ней больше никогда не встречались.
Тем более что дом Антиоха снесли. Сейчас там – пустырь, засыпанный щебенкой и кирпичом.
Ничего не осталось от прежней жизни.
И еще, пожалуй, одно.
В городе, который на тухловатой болотной воде, точно из небытия, возник по мановению руки вспыльчивого самодержца, под его чахлым солнцем, почти не дающим жизни, в фантастических его белых ночах, среди сумасшедшего камня случаются, вероятно, и не такие истории. Еще не такое происходило на гулких, синеющих к вечеру площадях, в тесных каменных переулках, в бесконечных дворах, тянущихся от одного канала к другому.
Уже скакал по его полночным улицам бронзовый император, и уже чиновник, оживший мертвец, вспрыгивал на коляску, чтобы сорвать с генеральских плеч понравившуюся ему шинель.
Призраки здесь легко проникают в реальность.
И потому если светлой июньской ночью, возвращаясь домой по улицам, сквозь которые проплывает медленный тополиный пух, я вижу единственное непогашенное окно в темном доме, то сердце у меня начинает слегка дрожать и мне опять кажется, что кто-то нетерпеливый, поверивший в невозможное, скрывшись за этими шторами и позабыв обо всем на свете, мучаясь каждым словом, вкусом, запахом и цветом его, создает, задыхаясь от восторга и изумления, своего «Ворона», и, когда поставит точку в последней фразе, вновь закачается над обрывом опушенная стеклянным ворсом крапива, закричат птицы, скрипнет горелое дерево, звонко плеснет вода, и в абсолютном безмолвии, напоминая о том, чего нет, встанут над гладью озера мохнатые яркие звезды.
Потому что эта дверь всегда открыта.
Надо сделать – только один шаг.
Примечания
1
Растение семейства зонтичных.
(обратно)2
Возлюбленная (исп.).
(обратно)










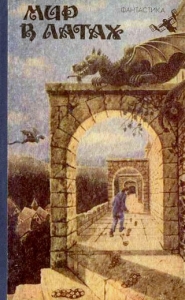
Комментарии к книге «Изгнание беса», Андрей Михайлович Столяров
Всего 0 комментариев