Клэр Норт Прикосновение
Claire North
TOUCH
© Claire North, 2015
© Перевод. И. Моничев, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Глава 1
Жозефина Цебула умирала, хотя умереть должна была я. Она получила две пули в грудь, одну в ногу. Казалось бы, на этом все должно было закончиться, однако стрелок перешагнул через ее готовое испустить дух тело и продолжал искать меня.
Меня.
Я съежилась внутри какой-то женщины с опухшими лодыжками и мягкими вялыми запястьями, наблюдая, как умирает Жозефина. У нее посинели губы, кожа побледнела, кровь вытекала из раны, будто нефть из скважины. При каждом выдохе, по мере того как кровь наполняла ее легкие, изо рта у нее появлялась розовая пена. Убийца уже двигался дальше, приподняв пистолет, высматривая подмену, прыжок, контакт, кожу, но публика на станции сейчас напоминала огромный косяк сардин, бросившихся в разные стороны при появлении акулы. Я побежала вместе с толпой, споткнулась в непрактичной обуви, не удержала равновесия и упала. Мои пальцы коснулись ноги бородатого мужчины, седого, в коричневых брюках, который, вероятно, совсем недавно весело качал на коленях своих избалованных внуков. Но сейчас с искаженным от страха лицом он бежал, расталкивая незнакомых ему людей локтями и кулаками, хотя был, несомненно, очень добрым человеком.
В такие моменты используешь все, что можешь, и все сгодится. Я плотнее стиснула его голень и прыгнула, беззвучно проникнув ему под кожу.
На мгновение я почувствовала себя неуверенно. Я только что была женщиной и вдруг стала мужчиной. Старым и испуганным. Но у меня теперь были крепкие ноги и полные воздуха легкие. Усомнись я в этом, не сделала бы ни движения. Позади меня женщина с опухшими лодыжками издала вскрик. Стрелок повернулся, оружие на изготовку.
Что он видит? Женщина упала на лестнице, а добрый старик пытается ей помочь. На мне белая шапочка хаджи. Я думаю о любви к своей семье, и доброту в уголках моих глаз не способен стереть никакой ужас. Рывком я подняла женщину на ноги, потащила ее к выходу, а потому убийца разглядел только мое новое тело, но не меня саму, и отвернулся.
Женщина, которой я была всего секунду назад, немного пришла в себя и всмотрелась в мое незнакомое лицо. Кто я такой? Почему решил помочь ей? Ответа она не находила. Ею владел только лишь страх. С воем испуганной волчицы она оттолкнула меня, оцарапав мне подбородок, и, вырвавшись из моих рук, побежала. Вверх, к квадрату света у начала лестницы – к полиции, к солнцу, к спасению. А позади нее был мужчина с пистолетом, с темно-русыми волосами и в пиджаке из синтетической ткани. Он не бежал, не стрелял, он только искал, искал кожу.
На ступенях растекалась кровь Жозефины. Кровь в ее горле издавала звук лопавшейся сладкой жареной кукурузы, едва слышный посреди шума станции.
Мое тело тоже было готово броситься бежать, тонкие стенки изношенного сердца часто ударялись о ребра впалой груди. Жозефина встретилась со мной взглядом, но она не узнала меня.
Я повернула назад. Подошла к ней. Встала на колени рядом, сжала ее руку у раны, что находилась ближе к сердцу, и прошептала:
– Ты выживешь. С тобой все будет хорошо.
В туннеле показался приближавшийся поезд. Я удивилась, что никто пока не догадался остановить движение. Впрочем, первый выстрел прозвучал всего тридцать секунд назад, и требовалось гораздо больше времени, чтобы все понять. Значительно больше, чем пережить эти полминуты.
– С тобой все будет хорошо, – солгала я Жозефине, шепча по-немецки прямо ей в ухо. – Я люблю тебя.
Вероятно, машинист прибывшего поезда не видел крови на ступенях, не разглядел матерей, прижимавших к себе детей, прятавшихся за серыми колоннами или ярко подсвеченными торговыми автоматами. Хотя он мог все заметить, но, уподобившись ежу, впервые увидевшему на дороге огромный цементовоз, настолько оцепенел, что оказался не способен на самостоятельное решение. В конце концов выучка взяла верх над непредвиденными обстоятельствами, и он начал торможение.
Слыша полицейские сирены наверху и видя поезд внизу, стрелок еще раз оглядел станцию, не нашел то, что искал, развернулся и побежал.
Двери поезда открылись, и он впрыгнул в вагон.
Жозефина Цебула умерла.
Я села в поезд вслед за убийцей.
Глава 2
За три с половиной месяца до своей смерти, когда пальцы незнакомого человека сжимали ее руку, Жозефина Цебула сказала:
– Это будет вам стоить пятьдесят евро в час.
Я сидела на краю гостиничной кровати, вспоминая, почему мне не нравился Франкфурт. Несколько красивых улиц были тщательно восстановлены после войны мэром, испытывавшим несокрушимую гордость за свой город, но время бежало чересчур быстро, город нуждался слишком во многом, а потому пришлось спешно возрождать четверть мили типичного немецкого китча, ознаменовавшего когда-то безвозвратно потерянную культуру, утраченный сказочный исторический архитектурный облик. Остальное тоже представляло собой монотонно скучные прямоугольные постройки в стиле 50-х годов, возведенные людьми, слишком занятыми другими заботами, чтобы придумать нечто более замысловатое и интересное.
И теперь серые железобетонные менеджеры компаний сидели среди серых железобетонных стен и обсуждали, скорее всего, тоже железобетон, поскольку о чем еще можно с энтузиазмом совещаться во Франкфурте? Они пили едва ли не самое плохое пиво, какое только можно найти во всей Германии, в самых скучных барах Западной Европы, ездили на автобусах, ходивших точно по расписанию, платили тройной тариф за поездку в такси до аэропорта, чувствовали себя вымотанными уже по прибытии сюда и радовались, улетая домой.
И здесь же находилась Жозефина Цебула, сказавшая:
– Пятьдесят евро. Цена не обсуждается.
– Сколько тебе лет? – спросила я.
– Девятнадцать.
– Сколько тебе лет на самом деле?
– А сколько вам будет угодно?
Я рассмотрела ее платье, выглядевшее достаточно дорогим: тонкая ткань была местами намеренно надорвана, что являлось последним писком моды. Застежка-молния располагалась сбоку, упираясь ей в ребра и обрисовывая выпуклость небольшого животика. Сапоги туго стягивали икры, причиняя очевидное неудобство, поскольку плоть под коленями буквально вываливалась из них округлыми кольцами. Каблуки тоже казались высоковатыми для ходьбы и мешали даже нормально сидеть. Мысленно я сняла с нее всю эту безвкусицу, заставила поднять подбородок чуть выше, смыла дешевую краску с ее волос и пришла к выводу, что, вообще говоря, она была красива.
– Откуда ты родом? – спросила я.
– А что?
– У тебя не чисто немецкий выговор. Полька?
– К чему столько вопросов?
– Ответь на них и получишь триста евро прямо сейчас.
– Сначала покажите деньги.
Я выложила деньги – одну за другой несколько новеньких бумажек достоинством в пятьдесят евро – на пол между нами.
– Мне достанется только сорок процентов.
– У тебя плохой сутенер. Это грабеж.
– А вы не из полиции?
– Нет.
– Священник?
– Ничего подобного.
Ей хотелось смотреть на деньги, гадая, сколько еще осталось в моем кошельке, но она не сводила с меня глаз.
– Тогда кто же вы?
Я задумалась.
– Пожалуй, путешественник, – ответила я после паузы. – Хочу сменить обстановку. У тебя на руках пятна. Колешься?
– Нет. Кровь сдавала.
Это была ложь, причем такая, что не стоило даже вступать в дебаты по этому поводу, – откровенно слабое вранье и по задумке, и по исполнению.
– Могу я взглянуть?
Ее взгляд метнулся в сторону купюр на полу. Она протянула мне обе руки. Я рассмотрела синяк у сгиба локтя, прощупала кожу, такую тонкую, что даже удивилась, когда мое прикосновение не оставило следов, и убедилась в отсутствии признаков серьезной зависимости.
– Я чистая, – пробормотала она, снова не сводя глаз с меня. – Совершенно чистая.
Я отпустила ее руки. Она обхватила себя за плечи.
– Но только я не занимаюсь всякими глупостями.
– Какими глупостями?
– Типа – не сижу и не веду пустых разговоров о жизни. Вы здесь по делу, и я здесь по делу. Так давайте уже переходить к нему.
– Хорошо. Мне нужно твое тело.
Она пожала плечами: тоже мне новость!
– За три сотни могу остаться на всю ночь, но только должна предупредить охрану.
– Нет. Не на одну ночь.
– Так на сколько? Я не ввязываюсь в длительные отношения.
– На три месяца.
Жозефина делано рассмеялась; она явно забыла, как смеются по-настоящему.
– Вы рехнулись?
– На три месяца, – повторила я. – Десять тысяч евро по завершении нашего контракта, новый паспорт, новая личность и новая жизнь в любом городе по твоему выбору.
– А что вы хотите взамен?
– Я же сказала: твое тело.
Она отвернулась, чтобы я не заметила выражения страха на ее лице. Какое-то время она обдумывала ситуацию: деньги у ног, незнакомец, сидящий на краю ее постели. Потом произнесла:
– Расскажите подробнее. Мне нужно знать больше, прежде чем принять решение.
Я протянула к ней руку ладонью вверх:
– Возьмись за меня. Сейчас все покажу.
Глава 3
Это произошло три с половиной месяца назад.
Теперь Жозефина была мертва.
Станция «Таксим» ничем не примечательна, чтобы советовать посетить ее. По утрам сонные пассажиры толкаются, проезжая под Босфором в мокрых от духоты рубашках в переполненных поездах, связывающих Йеникой и Левент[1]. Затем студенты в футболках с изображениями панк-рок-групп, в мини-юбках и ярких головных платках едут на метро в сторону холма Галата, к кофейням Бейоглу, к магазинам, торгующим айфонами, и на грязноватую улицу Сираселвилер, где никогда не закрываются двери и не гаснут огни витрин модных бутиков. По вечерам матери забирают детей из яслей, усаживая по два в одну прогулочную коляску, их мужья шагают с работы, помахивая портфелями, и, конечно же, кругом толпятся туристы, которым совершенно не приходит в голову, что это рабочий город. Их неизменно интересует фуникулер, в кабину которого они набиваются до отказа, а потом чуть не теряют сознание от запаха пота.
Таков ритм жизни оживленного мегаполиса, а потому присутствие в поезде убийцы с пистолетом, скрытым под черной бейсбольной курткой, чуть наклонившего голову, но державшегося уверенно и спокойно, не привлекает внимания, когда поезд метро покидает станцию «Таксим».
Я – добродушный старик в белой шапочке. У меня аккуратно подстриженная борода. Мои брюки лишь самую малость испачкались в крови, когда я привставала на колени рядом с женщиной, которая теперь была мертва. Никто бы не догадался, что всего шестьдесят секунд назад я бежала по станции «Таксим», спасая свою жизнь, – лишь вены слегка взбухли на шее и липко блестит лицо.
А всего в нескольких метрах от меня, то есть достаточно далеко, если считать количество разделявших нас тел, стоял мужчина с пистолетом под курткой, и ничто не указывало, что он только что хладнокровно расстрелял женщину. Бейсболка с натянутым на глаза козырьком говорила о том, что он болельщик «Гюнгоренспора» – местной футбольной команды, никогда не выигрывавшей и лишь неизменно подававшей надежды. Кожа у него светлая. Совсем недавно она была опалена жарким южным солнцем, но загар почти сошел. Между нами располагалось примерно тридцать других пассажиров, которых болтало из стороны в сторону на каждом повороте. Через несколько минут полиция перекроет движение на линии до Санайи. Через несколько минут кто-нибудь заметит кровь на моей одежде и красные следы, которые я оставляла, делая каждый шаг. Еще не поздно бежать. Я же наблюдаю за мужчиной в бейсболке.
Он тоже спасался бегством, но другим способом. Его целью было смешаться с толпой, и в самом деле – в глубоко надвинутой кепке, с ссутуленными плечами он выглядел обычным пассажиром, вовсе непохожим на убийцу.
Я двинулась по вагону, осторожно ступая, стараясь не задеть других людей, словно играла в твистер в чужой молчаливой компании, где все избегают встречаться взглядом друг с другом.
На станции «Османбей» вагон не только не опустел, но, наоборот, в него втиснулась новая толпа пассажиров. Убийца смотрел в окно на темный туннель, одной рукой ухватившись за металлический поручень сверху, а вторую держа под курткой. Палец его, вполне вероятно, все еще лежал на курке. У него был сломан, а потом восстановлен нос, но случилось это уже давно. Имея высокий рост, он тем не менее не казался гигантом. Опущенная голова и поникшие плечи помогали добиться такого впечатления. Худой, но не тощий, солидный, но не массивный, напряженный, как тигр, хотя с виду ленивый, как домашняя кошка. Юноша с теннисной ракеткой под мышкой случайно толкнул его, и киллер вскинул голову, а рука под курткой сжалась. Но молодой человек уже смотрел в другую сторону.
Я протиснулась мимо женщины-врача, возвращавшейся домой с работы, больничный пропуск болтался у нее на груди, с фотографии смотрело хмурое лицо пессимистки, всегда готовой сообщить вам самое худшее. Мужчина в бейсболке стоял теперь всего в трех футах от меня. Плоский затылок, линия волос срезана точно над верхним позвонком.
Поезд начал торможение, и мужчина снова поднял голову, осматривая вагон. Его взгляд уперся в меня.
Вот он, момент. Сначала каменное ничто – просто встреча незнакомцев в поезде, лишенная какой-либо взаимной заинтересованности. Потом вежливая улыбка, потому что я все-таки был милым стариком и моя жизненная история была написана на моем лице. После этой улыбки он рассчитывал на мое исчезновение. Контакт состоялся, мгновение миновало и забылось. Наконец его взгляд поймал мои руки, которые уже поднимались к его голове, и его улыбка померкла, когда он заметил кровь Жозефины Цебулы, запекшуюся коричневыми полосами на моих пальцах. Он успел лишь открыть рот, начав доставать пистолет из переброшенной через плечо кобуры, но я уже протянула руку, мои пальцы сомкнулись у него на шее, и я совершила переход.
Секундное замешательство. Бородатый старик с окровавленными руками, стоявший передо мной, потерял равновесие, покачнулся, тяжело оперся на юношу с теннисной ракеткой, ухватился за поручень вагона, вгляделся в меня и, когда поезд остановился на станции «Сисли Месидийекой», с удивительной при таких обстоятельствах отвагой выпрямился, ткнул пальцем в мое лицо и выкрикнул:
– Убийца! Убийца!
Я снова вежливо улыбнулась, уже полностью затолкав пистолет в кобуру, и, как только двери у меня за спиной открылись, выскочила в толпу на станционной платформе.
Глава 4
Сисли Месидийекой – это район, принесенный в жертву богам глобального однообразия. От белых торговых галерей, где продавали дешевое виски и дивиди о жизни пророка Магомета, до многоэтажек для семей, у которых достаточно денег, чтобы считаться обеспеченными, но слишком мало для приобретения эксклюзивного жилья, Сисли был районом яркого света, бетона и монотонности. Одинаковая усредненная состоятельность, одинаковые амбиции, одинаковая коммерция, одинаковые галстуки и одинаковая плата за парковку.
Если бы меня попросили найти место, где бы можно было спрятать убийцу, я бы едва ли рекомендовала это. Но что поделаешь…
«Убийца! Убийца!» – голос из поезда продолжал звенеть у меня за спиной.
В окружавшей меня толпе сбитые с толку люди уже начали обращать внимание на шум и пытались понять, насколько серьезные последствия это могло иметь для каждого из них. На моих ногах оказалась пара удобной обуви. Я побежала.
Торговый центр «Севахир» – привлекательный, как известняк, романтичный, как герпес, – мог бы находиться в любой точке мира. Выложенный белой плиткой пол и стеклянные потолки, правильные геометрические формы балконов и этажей, покрытые фальшивым золотом колонны. Среди названий магазинов и кафе преобладали «Адидас» и «Селфриджес», «Мазеркэйр» и «Дебенхамс», «Старбакс» и «Макдоналдс». Единственная уступка местной культуре – кофте-бургеры и мороженое с яблоками и корицей в пластмассовых стаканчиках. Видеокамеры внутреннего наблюдения вдоль стен медленно поворачивались, отслеживая группы подозрительного вида подростков в мешковатых брюках, мамочек на высоких каблуках, толкавших перед собой прогулочные коляски, заполненные сумками с покупками (дети были заранее оставлены на попечение нянюшек), и посетителей косметических салонов. Во всем этом ощущалось столько же мусульманского, как в тушеных свиных ножках под сливочным соусом, хотя появлялись и матери семейств в традиционных черных хиджабах, держа детей затянутыми в перчатки руками. Они приехали сюда отведать халяльной пиццы в «Пицца-хат» или присмотреть новую насадку для душа.
Но где-то позади уже завывали полицейские сирены, а потому я натянула бейсболку поглубже, расправила плечи и снова нырнула в толпу.
Глава 5
Мое тело.
Его владелец, кем бы он ни был, считал, вероятно, естественным, когда кожа на лопатках туго натянута. Других ощущений он попросту не знал и не имел опыта для сравнения. Его ровесники, если бы их спросили, каковы ощущения в плечах, ответили бы наверняка одинаково: нормальные.
Вот и я чувствую себя нормально. Я остаюсь собой.
Появись у меня возможность поговорить с убийцей, в теле которого я находилась, пришлось бы информировать его об ошибке в самоощущении.
Я направилась в сторону туалетов и по привычке зашла сначала в женский. Первые несколько минут всегда самые трудные.
* * *
Я сидела за закрытой дверью кабинки мужского туалета и осматривала карманы убийцы. Обнаружилось четыре предмета. Выключенный мобильный телефон, пистолет в наплечной кобуре, пятьсот турецких лир и ключ от взятой напрокат машины. Больше ничего – ни даже обертки от шоколадного батончика.
Улик немного, но что можно сказать о молодом мужчине, который носит при себе пистолет, не имея даже обыкновенного бумажника? Главный вывод, приходивший в голову, сводился к следующему: он, скорее всего, наемный убийца. То есть это я – наемный убийца. Подосланный кем-то, несомненно, чтобы разделаться со мной. Но все же умерла не я, а Жозефина.
Я сидела и прикидывала способы, как убить это тело. Использовать яд оказалось бы в данном случае легче, чем нож. Обычная передозировка чего-то крайне токсичного, и еще до того, как накатил бы первый приступ боли, меня бы уже не было. Я превратилась бы в совершенно постороннего человека, наблюдающего за убийцей, дожидающегося его смерти.
Я включила мобильный телефон. Никаких номеров в списке контактов. Трубка казалась дешевой, купленной с мелкого лотка. Я уже хотела снова выключить телефон, когда пришло сообщение. Всего одно слово: Цирцея.
Я на секунду задумалась, но все же нажала на кнопку отключения, вынула из телефона батарейку и положила все это в карман.
Пятьсот лир и ключ от взятой напрокат машины. Я сжала его в кулаке, чувствуя, как он впился в кожу, наслаждаясь мыслью, что может даже пойти кровь. Сдернула с головы бейсболку, сняла куртку, затем показавшуюся под ней кобуру с пистолетом, сунула все это в кулек для ненужных мне больше вещей, свернутый из куртки, и бросила в корзину для мусора. Оставшись в белой футболке и джинсах, я вышла из туалета и направилась в ближайший магазин одежды, где улыбнулась охраннику на входе. Там я купила себе новую куртку, коричневую с двумя молниями спереди, из которых одна выполняла не совсем понятную функцию. Еще я присмотрела серый шарф и в тон к нему шерстяную шапочку. Оба новых приобретения почти скрывали лицо.
Трое полицейских стояли у высоких стеклянных дверей, которые вели прямо из торгового центра на станцию метро.
Я – наемный убийца. Я – турист. Я – ничем не примечательная личность. Проходя мимо, я сделала вид, что даже не заметила их.
Метро закрыли. Обозленная толпа собралась вокруг затравленного чиновника. Это неслыханно, это безобразие! Вы хоть понимаете, что с нами делаете? Да, там мертвая женщина, но почему из-за этого должны рушиться все наши планы на сегодняшний день?
Я взяла такси. Севахир – одно из немногих мест в Стамбуле, где поймать машину легко. Таксисты любят этот район. Пассажиры здесь рассуждают примерно так: «Потратив такую уйму денег на покупки, не стоит скупиться на транспорт». А потому дают водителям щедрые чаевые.
Мой водитель, оглядев меня в зеркале заднего вида, когда машина влилась в общий поток, наверняка отметил, что ему повезло вдвойне. Попался не просто покупатель, а еще и иностранец. Он спросил, куда ехать, и его душа запела, когда он услышал, что мне нужно на Перу – холм, застроенный дорогими отелями, где можно рассчитывать на особо крупные чаевые от наивных туристов, зачарованных видом берегов Босфора.
– Турист, да? – спросил он на ломаном английском.
– Нет, путешественник, – ответила я на чистейшем турецком.
При звуках родного языка на его лице выразилось удивление:
– Американец?
– А вам-то какая разница?
Моя вялая реакция не убавила его энтузиазма.
– Я люблю американцев, – объяснил он, пока мы тащились по забитой транспортом улице. – Многие их ненавидят – крикливых, толстых, глупых, – а вот я их люблю. Они приносят много зла лишь потому, что их лидеры такие грешники. Но хорошо то, что они стараются оставаться добрыми людьми.
– Неужели?
– О да! Я встречал много американцев, и они всегда щедрые, действительно щедрые. Хотят с тобой дружить.
Шофер продолжал трепать языком. Такса – дополнительная лира за каждые четыре сотни приветливых слов. Я дала ему возможность говорить без помех, наблюдая за работой сухожилий своих новых пальцев, ощущая волоски на руках, покатую длинную шею, под острым углом переходившую в челюсть. Мой кадык поднимался и опадал при каждом глотке. Непривычно и занятно после того, что ощущало мое прежнее горло. То есть горло Жозефины.
– Я знаю отличный ресторан здесь рядом, – сказал шофер, когда мы уже крутились по узким улочкам Перы. – Лучшая рыба. Скажите им, что я послал вас, скажите, что я считаю вас хорошим парнем, и вам дадут скидку. Без вопросов. Да, владелец мой двоюродный брат, но это не важно. Все равно здесь лучшая еда по эту сторону Рога.
Я дала ему на чай, когда он высадил меня недалеко от гостиницы. Не хотелось выделяться на общем фоне.
Во всем Стамбуле есть только два популярных названия, образованных от имен бывших правителей. В честь Сулеймана названы ресторан, отель и концертный зал. В честь Ататюрка – аэропорт, вокзал и торговый центр. А фото вышеупомянутого Ататюрка украшает стену за каждой кассой в магазине и над каждым банкоматом в городе, и даже отель «Султан Сулейман», перед которым рядом с турецким флагом вывесили флаг Европейского сообщества, не стал исключением. Огромный каменный монстр во французском колониальном стиле, где коктейли стоили безумно дорого, простыни крахмалили до жесткости фанеры, а каждая ванна была размером с бассейн. Мне доводилось останавливаться здесь прежде. Под одной личиной или под другой.
А теперь в запертом сейфе номера 418 лежал паспорт занимавшей его Жозефины Кожел, гражданки Турции, владелицы пяти платьев, трех юбок, восьми блузок, четырех пижам, трех пар обуви, одной расчески, одной зубной щетки и десяти тысяч евро наличными, аккуратной пачкой лежавших в вакуумной упаковке. Повезет тому мастеру, которого вызовут, чтобы вскрыть этот сейф. Он получит нежданную награду, которая теперь уже никогда не станет гонораром для Жозефины Цебулы, покоящейся в безымянной могиле на местном кладбище.
Я не убивала Жозефину.
Ее убило это тело.
Изуродовать его в отместку будет легко. Полиция в отель пока не заявилась. При Жозефине не было никаких документов, но рано или поздно они обнаружат, к какой двери подходит единственный имевшийся при ней ключ с тяжелым деревянным брелоком, упакуют в полиэтиленовые мешки и чехлы все те красивые вещи, так подходившие к каждому изгибу моего, то есть ее тела, дорогие прощальные подарки, подготовленные к нашему с ней расставанию.
Но пока в моем распоряжении оставалось еще достаточно времени.
Я обдумала возможность вернуться в номер и забрать деньги – моих пятисот лир хватит ненадолго, – но здравый смысл противился такому решению. Где, например, мне оставить свое нынешнее тело, пока я одолжу другое, – у менеджера?
Я спустилась по железобетонной рампе на автостоянку, выглядевшую даже более скучной, чем интерьер «Старбакса» в Севахире. Достав из кармана ключ от машины, я шла по подземному этажу отеля, всматриваясь в наклейки на лобовых стеклах и в номера, разыскивая нужную мне машину, нажимая на кнопку «открыть» всякий раз, когда возникала надежда, что попался тот самый автомобиль. Мне могло и не повезти. Но мой убийца оказался достаточно ленив.
Он проследил за мной до отеля и воспользовался-таки его стоянкой. На третьем подземном этаже парковки мне приветливо мигнули желтые фары серебристо-серого «Ниссана», приглашая быть как дома.
Глава 6
Вот она – машина, взятая напрокат человеком, пытавшимся меня убить. Я открыла багажник ключом из его, то есть теперь моего кармана и осмотрела содержимое.
Две черные спортивные сумки – одна больше, другая поменьше. В меньшей лежали белая рубашка, пара черных брюк, дешевый пластиковый дождевик, чистые трусы, две пары серых носков и дорожный несессер. Под его легко снимаемой подкладкой обнаружились две тысячи евро, тысяча турецких лир, тысяча долларов США и четыре паспорта: немецкий, британский, канадский и турецкий. Фото, при всем различии имен и фамилий, было одно и то же – с него смотрело мое нынешнее лицо.
Вторая сумка, гораздо более объемистая, вмещала в себя арсенал убийцы. Тщательно уложенные в футляры ножи и другие разного рода боевые лезвия, моток веревки, лента для маскировки лица, жесткие хлопчатобумажные тампоны и бинты, две пары наручников, девятимиллиметровая «беретта» с тремя запасными обоймами и зеленая медицинская коробка с обширным набором химических препаратов – от ядовитых веществ до сильнодействующих успокоительных. Каково было предназначение черного комбинезона из лайкры, толстых резиновых перчаток и антирадиационного защитного шлема типа «хазмат», я понятия не имела.
При этом я чуть не упустила из виду плотно набитую папку для бумаг, засунутую во внутренний боковой карман: ее край застрял в застежке-молнии, выделяясь светло-коричневым цветом на черном фоне подкладки сумки. Я открыла папку, но почти сразу захлопнула ее. Содержимое требовало более внимательного изучения, чем я могла позволить себе в данный момент.
Я закрыла багажник, села в машину, передвинула сиденье поудобнее, отрегулировала весь набор зеркал, порылась в «бардачке», но не нашла там ничего интересного, кроме карты автодорог Северной Турции, и завела двигатель.
Я являю собой полную противоположность тому, что можно ожидать от человека моего возраста, – нисколько не старомодна. Потому что живу в молодых, здоровых, красивых и полных энергии телах. Я захожу на их форумы в Интернете, танцую с их друзьями, слушаю их музыку, ношу их одежду и поедаю все, что нахожу у них в холодильниках.
Моя жизнь – это их жизнь. И если девушка с чистейшим лицом, в которой я поселилась, употребляла энергетические коктейли и средства от прыщей, то и я продолжала делать то же самое. В конце концов, она дольше и лучше знала особенности собственной кожи, ей было виднее, что носить, а что нет, и так далее. Надо идти в ногу со временем. Но ничто не могло подготовить меня к вождению машины в Турции.
Нет, турки не плохие водители. Наоборот, их можно считать первоклассными водителями, потому что только необычайная скорость реакции, умение разойтись со встречным автомобилем в считаных дюймах и непреодолимое желание выйти победителем в любой гонке помогает им оставаться в живых, мчась во весь опор по автомагистрали О-3 в сторону Эдирне. И не сказать, чтобы здешние водители не были знакомы с элементарной концепцией рядности движения, но, по всей видимости, как только большой город остается позади и дорога начинает петлять среди невысоких приморских холмов, сам по себе воздух свободы провоцирует в них какие-то животные инстинкты, педаль акселератора сама вдавливается в пол, окна открываются настежь, чтобы впустить яростный поток встречного ветра, и в голове пульсирует только одна мысль: вперед, вперед, вперед! Как можно быстрее!
Я вожу машину намного сдержаннее. Но опять-таки не из-за возраста или закоснелости. А просто потому, что даже среди полного одиночества, на самой темной из дорог у меня в машине всегда присутствует незримый пассажир.
Глава 7
Самая ужасающая поездка на машине в моей жизни? Это случилось в 1958 году. Она представилась как Павлин, а потом прошептала мне на ухо:
– Не хочешь отправиться в какое-нибудь тихое местечко вдвоем?
Я сказала, что, конечно, хочу. Это было бы просто чудесно. Ровно через пять с половиной минут она сидела за рулем кабриолета «Линкольн Бейби» с опущенной крышей, и мы летели между холмами Сакраменто с воем и свистом ветра, обдувавшего нас с силой торнадо. Я вцепилась обеими руками в приборную панель и с ужасом смотрела, как с визгом покрышек мы вписываемся в виражи на самом краю разверзавшейся под нами пропасти. А она орала:
– Как же я люблю этот город, мать его!
И если бы во мне оставалась хотя бы капля какого-то другого чувства, кроме слепого страха, я бы, наверное, сумела бросить в ответ нечто остроумное.
– Как же я, мать их, люблю этих людей! – визжала она, выскочив на левую полосу, и шоферу «Шевроле», ехавшему нам в лоб, пришлось изо всех сил надавить и на тормоз, и на клаксон, чтобы мы успели проскочить в узкую щелку, устремившись к уже видневшимся впереди огням туннеля.
– Они такие милые, эти придурки! – кричала она, и заколки выпадали из ее курчавых светлых волос. – Они говорят: «Ты такая милашка!» И я таю. Отвечаю: «Вы тоже такие милые!» – «Но мы не можем дать тебе роль в нашем фильме, потому что, милашка, ты уж слишком милая». А я им тогда: «НУ И ПОШЛИ ВЫ ВСЕ К ЧЕРТУ!» – Она просто зашлась от удовольствия, прокричав последнюю фразу, и, когда желтое сияние вырубленного в скале туннеля поглотило нас, обдав волной тепла, еще сильнее нажала на педаль газа. – Пошли вы все! – продолжала визжать она, а мотор ревел, как голодный медведь. – Где у вас совесть? Где ваша честь? Мужики вы или бабы, мать вашу? Недоноски!
Впереди показалась пара фар, и я поняла, что мы снова едем по встречной полосе.
– Пошли вы все! – вопила она. – Пошли к дьяволу!
Фары ушли в сторону, но и она сместилась туда же, словно разгонялась для столкновения, как разъяренный рыцарь с копьем наперевес. Огни второй машины снова сдвинулись, освобождая нам путь, но она совершила такой же маневр, подавшись головой вперед, опустив взгляд, не собираясь уклоняться. И хотя мне очень нравилось тело, в котором я тогда находилась (мужчина, двадцать два года, отличные зубы), в мои намерения никак не входило в нем и погибнуть. А потому, поняв, что катастрофа неизбежна, я потянулась к ней, ухватилась за голую руку у локтя и переключилась.
С жутким скрежетом металла о металл сработали тормоза, зазвенели пружины амортизаторов, зашипела пневматика. Задние колеса заклинило, машину бросило в занос и тащило, пока боковина с неизбежностью столкновения «Титаника» с айсбергом не ударилась о стену туннеля и, выпустив густой сноп желто-белых искр, наш автомобиль не остановился.
Меня швырнуло вперед, я врезалась лбом в жесткое рулевое колесо. И словно кто-то начал вязать узлы между всеми нейронами моего мозга, создавая неразборчивый шум там, где положено было возникать мыслям. Я подняла голову, заметила на руле пятна крови, прижала синюю перчатку к челюсти и ощутила во рту солоноватый вкус. Красивое молодое тело, в котором я только что находилась, зашевелилось на сиденье рядом со мной, открыло глаза, затряслось подобно котенку, но постепенно начало что-то соображать.
Ошеломление превратилось в тревогу, тревога переросла в панику, а из паники есть только два выхода – гнев и испуг. Мое бывшее тело избрало второе и в ужасе запричитало:
– О боже! О боже! О боже, кто вы такая? Кто вы, мать вашу, такая? Где я? Как я здесь оказался? О боже милостивый! – Ну и все в таком роде.
Другая машина, которой предназначалось стать орудием нашей смерти, смяв нас в кровавую лепешку, остановилась в двадцати ярдах позади нас. Из нее начал выбираться мужчина с багровым, перекошенным от злости лицом. Кое-как стерев кровь с глаз, я заметила, что этот джентльмен, хотя и был одет в простую белую рубашку с черными брюками, держал в одной руке сверкавший сталью револьвер, а другой уже доставал из кармана жетон полицейского. Он тоже кричал, но из его рта вырывался лишь нечленораздельный рык, как у человека, разучившегося нормально говорить. Однако вскоре стали понятны отдельные слова, в очень грязном смысле поминавшие меня, мою матушку, а заодно и машину. Прозвучало имя комиссара полиции, который засадит меня за решетку, поскольку я – мразь и должна сидеть…
Убедившись, что мне нечего сказать в ответ, он махнул револьвером в мою сторону и рявкнул молодому человеку рядом со мной, чтобы тот кинул ему мою сумочку. Как и все, что теперь было связано со мной, она, отделанная зелеными и черными блестками, тоже отливала павлиньим синим цветом. Сумочка кувыркалась в воздухе, посверкивая, как только что сброшенная змеиная кожа. Мужчина с кривой усмешкой неловко поймал ее, открыл, заглянул внутрь и тут же выронил с невольно вырвавшимся возгласом.
Больше никто не кричал. Только потрескивал остывавший в духоте туннеля перегретый двигатель машины. Я наклонилась вперед, чтобы посмотреть, какая часть содержимого сумочки могла вызвать столь приятную сейчас передышку от разрывавшего голову на части крика.
Вещи из моей сумочки рассыпались по асфальту. Согласно водительскому удостоверению, меня в самом деле звали Павлиной – проклятье, наложенное, должно быть, родителями с идиотским пристрастием к орнитологии. Тюбик губной помады, гигиенические салфетки, набор ключей на кольце, кошелек. Небольшой полиэтиленовый пакетик с неизвестного назначения желтым порошком. Человеческий палец, все еще розовый и окровавленный, с рваными краями там, где его отпилили от чьей-то руки, завернутый в белый носовой платок.
Я подняла взгляд и увидела, что мужчина с револьвером вытаращил на меня полные неподдельного страха глаза.
– Проклятье! – скрипучим голосом сказала я, сдергивая с рук одну за другой потемневшие от крови шелковые перчатки и вытягивая вперед кисти, чтобы на них надели наручники. – Думаю, вам лучше немедленно меня арестовать.
Проблема с внезапным перемещением в новое тело состоит в том, что никогда не знаешь, в каких переделках это тело успело побывать.
Глава 8
Когда горячие лучи заката окрасили покрытие дороги передо мной в розово-красные тона, я посчитала, что нахожусь где-то на полпути к Эдрине. Стоило ненадолго закрыть окно, как стойкие запахи взятой напрокат машины – ароматы освежителя воздуха и средства для чистки салона – снова ударяли в нос. По радио передавали документальную передачу об экономических последствиях «Арабской весны»[2], затем из динамиков полились песни о потерянной и обретенной любви, о сердцах, разбитых или соединившихся вновь. У встречных машин, двигавшихся с запада, были включены фары, и еще до того, как солнце скрылось за горизонтом, все вокруг поглотили черные облака.
Когда начали меркнуть последние краски дня, я остановилась у заправочной станции, расположенной на залитой галогеновым светом площадке, помимо бензина, в заведении был пункт быстрого питания, игровые автоматы и прочие развлечения. Я заказала кофе, турецкую лепешку пиде и шоколадный батончик, в котором насчитала ровно три изюминки, села у окна и стала смотреть в него. Мне не нравилось собственное лицо, которое я видела в отражении. Оно казалось лицом человека, не чувствующего угрызений совести.
Автомагистраль О-3 всегда загружена, и хотя первым пунктом в западном направлении на указателях значился Эдрине, следуя по ней дальше, можно было попасть и в Белград, и в Будапешт, и в Вену. Это шоссе было полно скучающих водителей-дальнобойщиков, для которых великолепный мост, соединяющий Азию с Европой высоко над проливом, являл собой всего лишь досадное сужение дороги, а при взгляде на Айя-Софию на берегу бухты Золотой Рог в голову приходила одна мысль: «Еще десять часов, и я дома…»
В магазин при заправке ворвалась семья – шесть человек из пятиместного автомобиля. Они напоминали заключенных, которых ненадолго выпустили из камер. Родители и достойная сострадания бабушка, настоявшая, чтобы ее взяли с собой, громко ссорились, в то время как дети охали, открыв для себя, что в их жизни не хватало именно такого водяного пистолета и восхитительного бинокля с двукратным увеличением.
Мне нужно было избавиться от своей машины, и чем скорее, тем лучше.
Интересно, подумала я, когда человек, чье лицо я видела отраженным в стекле, принял это решение? Возможно, примерно в тот момент, когда предпочел не принимать медленно действовавший, но смертоносный яд.
Или же в то мгновение, когда на молчавший до того телефон пришло сообщение: «Цирцея».
Но, как только я поняла это, я уже оказалась не одна. Подошедший мужчина спросил, который час. Я не знала. Направлялся ли я в Эдрине? Нет, не направлялся. Все ли со мной в порядке? Я выгляжу… словно сам не свой. Со мной все было прекрасно. Просто я обдумывал глубоко личную проблему.
Никто не станет мешать, если ему скажут, что обдумывают нечто личное. Он оставил меня в покое.
На полутемной стоянке громко ссорилась влюбленная пара: их столь прекрасному прежде роману нанесла глубокую травму необходимость в темноте рассмотреть карту. Я снова села за руль, включила радио погромче, опустила все стекла, чтобы впустить побольше прохладного воздуха, и поехала на север в сторону Эдрине.
Глава 9
Эдрине мне всегда нравился. Когда-то любимое место отдыха султанов и высшей знати, в последнее время оно пришло в полнейшее запустение, но выглядело как обедневший старик, умевший не стыдиться своей дырявой одежды, а носить ее с достоинством. Зимой наледь покрывала серой коркой поля по обе стороны от прямого и широкого, в четыре полосы, шоссе. Зато летом юноши и мужчины собирались здесь на ежегодные соревнования по борьбе. Сверкали натертые специальным маслом торсы и даже ягодицы, руки в прочном захвате смыкались вокруг выгнутых спин соперников, когда они падали и начинали кататься по песку. У меня никогда не возникало соблазна принять в этом участие, даже если я находилась в мощном теле атлета. Разумеется, городок не мог похвастаться таким же обилием туристических приманок, как Стамбул, если не считать мечети с серебряным куполом, построенной еще одним Селим-султаном, которому так нравился мрамор, и приятного на вид старинного здания больницы, основанной Баязидом, любившим не только побеждать, но и исцелять. Во всем здесь ощущалось единство цели и планировки для ее достижения, и это напоминало приезжему, что Эдрине не нуждался в пышности, чтобы оставаться великим.
Я припарковала машину у фонтана, украшенного гигантскими металлическими подсолнухами. Достала из багажника сумку, вложила сто лир в один из паспортов и сунула в боковой карман, нацепила браслет от наручников на правое запястье, убрала ключ от них во внутренний карман куртки, опустила рукав как можно ниже, чтобы скрыть стальной блеск, повесила сумки на плечи и пошла вдоль тихой вечерней улицы.
Современные натриевые лампы светили со стен, на которых когда-то горели факелы. Кое-где даже еще виднелись ржавые железные крюки. Жилой комплекс «Магнолия» окружали нарядно украшенные резьбой особняки XIX века, ныне тоже разбитые на квартиры для больших семей – за балконными дверями мерцали серо-синие отсветы телевизионных экранов. Кошка зашипела на меня, прячась где-то за вывешенным для просушки бельем. Мчавшийся на большой скорости автобус гудком клаксона предупредил о своем приближении чересчур расслабленного мотоциклиста. Владелец ресторана прощался со своими дорогими гостями, которые неспешно направились через затемненный город по домам.
Я шла в сторону подсвеченной белым прожектором мечети Селима, поскольку именно там, где стоят монументы, увековечившие расточительность правителей, следует в первую очередь искать отели.
Клерк службы размещения дремал перед телевизором, по которому шел полный драматизма старый сериал о двух неотличимых друг от друга братьях-близнецах – их играл один актер. В финальной сцене они стояли рядом на вершине холма и пожимали друг другу руки. Причем в левой части экрана погода была пасмурная, даже предгрозовая, а в правой – прохладная, но ясная. В том месте, где руки соприкасались, отчетливо виднелась вертикальная линия, разделявшая и небо, и землю. Побежали титры, и клерк заерзал в кресле. Я положила на стойку канадский паспорт и спросила:
– Есть номер для меня?
Клерк прочитал имя и фамилию в паспорте очень тщательно, стараясь правильно произнести каждый слог.
– Натан Койл?
– Да, это я.
Канадцев все любят.
Отель был трехэтажным. Прежде деревянное здание позже перестроили, частично используя кирпич. Всего в нем насчитывалось двенадцать номеров, девять из которых пустовали. В коридорах стояла полная тишина.
Девушка с глазами навыкате, с прямыми черными волосами, спускавшимися ниже поясницы, и с чуть выпяченным подбородком проводила меня до номера. Почти все его пространство с покатым потолком занимала двуспальная кровать. За открытым окном располагался балкончик в два дюйма шириной. Под деревянной консолью для маленького телевизора протянулся радиатор отопления. В ванной, до всех четырех стен которой я смогла бы дотронуться, встав посередине, несмотря на использование лимонного освежителя, неприятно пахло мочой. Девушка задержалась в дверях и спросила на скверном английском:
– Все карошо?
– Просто отлично, – ответила я. – Только покажите, как пользоваться этим. – Я указала на пульт дистанционного управления от телевизора.
Ее глаза, казалось, от удивления выпучились еще больше.
Я же улыбнулась ей белозубой улыбкой тупого североамериканца. Она потянулась, чтобы взять пульт, и в этот момент я приковала второй браслет своих наручников к радиатору у стены. Звук заставил девушку поднять взгляд, а я прижала свою левую руку к ее руке, обхватив пальцами пульт и нажав кнопку включения телевизора.
Мои пальцы дернулись. Экран телевизора ожил. Ведущий выпуска новостей смеялся над пропущенной мною шуткой, уже улетевшей по волнам эфира. У него за спиной появилась карта прогноза погоды. И, словно пытаясь убедить зрителей, что нет ничего смешнее, чем обсуждение погоды, ведущий снова рассмеялся, хотя видел на заставке лишь серое небо и полосы дождя.
Передо мной же теперь был мужчина, который, если верить паспортам, на одну четверть являлся гражданином Канады и притом совершенно безобидным. Он пошатнулся. Одно его колено подломилось. Он попытался выпрямиться во весь рост, но наручники звякнули о радиатор и лишь натянулись, сверкнув металлом, но удержали его на месте.
Я наблюдала за ним. Его частое дыхание сбитого с толку и застигнутого врасплох человека, постепенно стало замедляться. Ноздри раздувались, и я насчитала два или три глубоких вдоха. Закончив это упражнение, он вновь обрел контроль над собой: тело его напряглось, голова дернулась вверх, дыхание нормализовалось.
– Привет, – сказала я.
Он поджал губы и уставился на меня. Причем, как мне показалось, он увидел не ту, в кого я превратилась в отеле, а меня, такую, какой я была когда-то в реальности, и мне самой стало трудно дышать.
Он смотрел, не говоря ни слова, присев на корточки, и его правая рука, сейчас невидимая за спиной, с усилием натянула цепочку наручников. Я встала за пределами досягаемости и произнесла:
– Ты примешь яд.
Молчание.
– У меня осталось два вопроса. Первый: на кого ты работаешь и будут ли они продолжать появляться? Я исхожу из того, что будут. Такие люди, как ты, всегда упорны. Второй: зачем ты убил Жозефину Цебулу?
Он смотрел на меня, как побитый кот, и ничего не говорил.
Мое новое тело слишком долго провело на ногах, во рту ощущался сильный привкус выкуренных сигарет, тяжесть целого дня работы давила на позвоночник. На мне был неудобный бюстгальтер, слишком сильно стянутый сзади, а в только что сделанный пирсинг на левом ухе попала инфекция, от которой оно воспаленно пульсировало.
– Ты примешь яд, – повторила я, не глядя на него. – Но мне нужны ответы. – Он по-прежнему молчал. – Что ж, это все осложнит для нас обоих. Левый внутренний карман.
У него чуть заметно приподнялись брови. Его свободная рука инстинктивно потянулась к левому карману и замерла в нерешительности, но, прежде чем он успел что-то обдумать, я дотянулась до него и ухватила за пальцы. Переход состоялся.
Девушка в тесном бюстгальтере пошатнулась. Я сунула руку в карман куртки, вытащила из него маленький ключ, открыла наручники и, когда она начала валиться вперед, успела встать и подхватить ее на руки.
– Вы здоровы, мисс? Кажется, вы потеряли сознание. – Невероятно, с какой охотой человеческое сознание воспринимает все, что его не пугает. – Наверное, вам лучше присесть.
Глава 10
Мой первый переход.
Мне тогда было тридцать три года.
Ему, возможно, еще не перевалило за тридцать, но его тело казалось гораздо старше. Когда он чесал голову, с нее густо сыпалась перхоть – целое облако сухих частичек кожи, которые еще и забивались под длинные, потрескавшиеся, пожелтевшие ногти. Его грязные волосы уже местами поседели, а борода неровно кустилась на рассеченном старым шрамом подбородке. И когда он забил меня до смерти, он сделал это лишь для того, чтобы раздобыть денег для своего брюха, а его брюхо было совершенно пусто, что я и обнаружила после переключения.
Я не хотела прикасаться к нему, поскольку он только что убил меня. Но я не желала и умирать одна, а потому, когда мое зрение окрасилось в цвета красного вина в бокале, протянула руку, ухватилась за его плечо и, пока он срывал с моего пояса сумку-кошелек, переселилась в его тело как раз вовремя, чтобы увидеть собственную смерть.
Глава 11
Бодрствую в номере отеля. Три часа ночи.
Свет все еще горит.
По телевизору уже ничего не показывают.
Это тело нуждается в сне.
Мне нужно поспать.
Но сон не приходит.
Сознание не перестает работать, мысли крутятся в голове беспрерывно.
В 9.40 утра женщина, которую звали Жозефина Цебула, покинула отель в Стамбуле и направилась к набережной. Три дня назад она приобрела двух новых друзей. Они сказали: пожалуйста, присоединяйся к нам, и мы научим тебя ловить рыбу с моста Галата.
«Я слишком хороша собой и нарядно одета, чтобы рыбачить» – такая мысль посетила ту, что поселилась в теле Жозефины Цебулы. Вы уверены, что мне не следует найти более подходящие для подобного занятия вещи?
«Рыбалка – это замечательно, – произнесли мои свежие алые губы. – Всегда хотела научиться ловить рыбу».
Но к полудню я кое-кого заметила краем глаза, а в 12.20 уже бежала со всех ног к толпе на станции «Таксим», ища легкого пути исчезнуть, радуясь, что на мне туфли на плоской подошве, причем мои пальцы то и дело касались кожи разных людей в поисках выхода. Когда же я натолкнулась на женщину с опухшими лодыжками и запахом кокоса изо рта, убийца у меня за спиной выстрелил. Я почувствовала, как пуля пронзила мою ногу, как кусок плоти вырвался наружу, как полопались кровеносные сосуды, увидела собственную кровь, разбрызганную по бетонному полу передо мной. И, зажмурив глаза от боли, открыв рот, чтобы закричать, ухватилась пальцами за руку незнакомки. Так мне удалось сбежать, оставив раненую Жозефину.
А потом по необъяснимым причинам он ее убил. Она упала, я исчезла, но он всадил две пули ей в грудь, и она умерла, хотя ему нужна была я. Зачем ему это понадобилось?
В три часа утра я сидела в номере отеля. У меня болела левая нога, хотя на ней не было ни царапины и никакой причины для боли не существовало.
Папка для бумаг из смертоносной дорожной сумки Натана Койла. Я лишь мельком заглянула в нее, когда угоняла машину, а сейчас, пока ночь медленно тянулась к рассвету, разложила ее содержимое на постели и рассмотрела внимательнее. Перед мной предстали лица, которые я имела на протяжении жизни.
На обложке одного из досье была написана только фамилия: Кеплер. Что ж, как мне показалось, нормальная фамилия. Не хуже и не лучше других.
Глава 12
Из отеля в Эдрине я выехала в семь утра. Позавтракала в кафе за углом, где подавали теплые круассаны, вишневый джем и лучший кофе, какой я вливала в это тело. С сумками на плечах, натянув шапочку пониже, я отправилась на поиски автобуса до Капикуле[3], чтобы покинуть эту страну. Находясь в теле наемного убийцы, я не видела смысла здесь задерживаться.
Это было необычное ощущение. Ни в чем не повинная, я тем не менее находилась в теле, на которое, вероятно, велась охота.
Эта мысль заставила меня улыбнуться, и так, с улыбкой на губах, я и подошла к билетной кассе автовокзала.
За время краткой поездки в Капикуле я насчитала в салоне одиннадцать пассажиров – вполне достаточно, если учесть, что транспортное средство было всего лишь микроавтобусом с бумажным объявлением, прилепленным к лобовому стеклу: КАПИКУЛЕ. ПРИНИМАЕМ ЛЕВЫ И ЛИРЫ. ПРОСЬБА ПЛАТИТЬ БЕЗ СДАЧИ.
Пожилой мужчина и его совсем старая мать, занимавшие сдвоенное сиденье у меня за спиной, непрерывно препирались.
– Но я не хочу, – заявила она.
– Мама… – сказал он.
– Я не хочу, и точка! – повторила старуха.
– Но тебе придется, мама, – возразил мужчина. – Тебе придется. Мы уже все обсудили, и от этого зависит не только твое будущее, но и мое. А потому мы поедем туда. Другого выхода нет, и точка.
Она стояла на своем почти со слезами в голосе:
– Но я не хочу!
Их спор продолжался в том же духе до самой станции, а скорее всего, и потом тоже.
Капикуле был дыра дырой, на самом краю света. Еще недавно я бы постаралась избежать этого местечка, сев на поезд уже в Эдрине. Но времена сейчас настали трудные. Поезда то и дело отменяли из-за нехватки пассажиров, а последних из-за роста безработицы становилось все меньше и меньше.
Двухэтажное здание вокзала, не обладавшее ни малейшими архитектурными достоинствами, изнутри заливало сияние ламп дневного света. В какой-нибудь другой стране его могли бы попытаться превратить в торговый центр, заполненный обреченными на разорение магазинчиками, или же купили бы спекулянты недвижимостью, в надежде затем продать крупной торговой сети типа «Мегамарт». Но здесь не происходило ничего подобного.
Когда я подошла к окошку, кассир сидел, упершись подбородком в ладонь. Козырек его фуражки был глубоко надвинут на лицо, но, увидев на стальной стойке перед собой деньги, он вскинул голову, и я с любопытством подметила, что встретила, должно быть, последнего мужчину в мире, считавшего усики в стиле Гитлера – Чаплина наилучшим украшением на лице.
Я подвинула ближе к нему наличные и свой турецкий паспорт. Он посмотрел на них, как врач смотрит на ампутированную ногу, дожидаясь, не станет ли она снова частью тела.
– Куда? – спросил он.
– В Белград, – ответила я.
Кассир с глубоким вздохом взял деньги, не обратив никакого внимания на паспорт, и этот вздох означал, что он, грубо говоря, понимает свое подчиненное положение. Вы требуете от него чего-то, и он вынужден выполнять требование, хотя, черт побери, более добрый человек отошел бы в сторону, не досаждая ему требованием продать эти треклятые билеты.
– Поезд уходит только вечером, – проворчал он, небрежно подталкивая паспорт с билетом в мою сторону. – Вам придется торчать здесь довольно долго.
– А есть в Капикуле на что посмотреть?
Его взгляд мог бы привести в ужас даже кобру. Я же улыбнулась ему самой обаятельной улыбкой, на какую оказалась способна, вложила билет в паспорт и сказала:
– Ничего. Я где-нибудь прилягу поспать.
– Только не вздумайте спать здесь, – пролаял он. – Инструкцией запрещено лежать на скамьях. Они – собственность вокзала.
– Разумеется. Было бы глупо даже подумать иначе.
Мне не хотелось дожидаться поезда в многолюдном месте. К этому времени полиция уже могла снять отпечатки моих новых пальцев, подобрать волоски, упавшие с головы, или найти еще что-то, о чем я даже не подозревала, чтобы начать поиск. Возможно, они – эти всегда неизвестные, но опасные «они» – даже отсмотрели записи со всех многочисленных камер наблюдения от момента падения Жозефины Цебулы на ступенях станции метро «Таксим» и до самого моего появления на подземной парковке отеля, где убийца оставил взятую напрокат машину. И если эти люди хоть что-то соображали в своем деле, они уже объявили в розыск автомобиль, стоявший сейчас в тени кипарисов напротив фонтана, из чаши которого росли металлические подсолнухи.
А быть может, и нет. Полиция вполне могла зайти в тупик. Кто я такая, чтобы разбираться в подобном?
Я нашла убежище в крохотной часовне из розового камня на речном берегу. Я все еще находилась в Турции, но аккуратные, хоть и пыльные, поля за рекой, со снятым урожаем и вспаханные под новые посевы, принадлежали уже Греции. Я могла оказаться там за минуту. И даже обдумала такой вариант – быстро вскрыть ножом вены на запястьях, после чего удалиться отсюда в теле греческого крестьянина с запахом чеснока изо рта и набившимся в грубые башмаки песком.
Пока я сидела на каменной скамье в самом последнем ряду, ко мне подошел священник с огромной черной бородой. Он обратился ко мне сначала по-гречески, но я никогда не владела этим языком в достаточной степени. Услышав мой акцент, священник удивленно приподнял брови, но перешел на турецкий:
– Эта церковь была заложена самим Константином Первым. Он путешествовал по своей империи и остановился здесь, чтобы испить воды из реки. В ту же ночь во сне ему явилась Пресвятая Дева Мария, омыла ему ноги и руки, а потом смочила губы водой из этого речного потока. Проснувшись, он был так потрясен ночным видением, что приказал построить на этом месте монастырь. И монастырь стал процветать: паломники сходились сюда отовсюду, чтобы тоже омыть ноги и увидеть во сне Богоматерь. Затем явились воины Оттоманской империи и разрушили все, кроме этой часовенки, в которой вы сейчас находитесь. И однажды во время охоты здесь случайно оказался султан Селим Угрюмый. Он прилег вздремнуть на берегу реки, и ему, представьте, приснился такой же сон, что и когда-то Константину. Пробудившись, он омыл руки и ноги, объявил реку священной и приказал считать преступником всякого, кто посмеет нанести ущерб этим древним стенам. Именно он оставил вот это, – святой отец провел рукой вдоль стены, указывая на сильно истершуюся надпись золотой краской, протянувшуюся на три фута вблизи от алтаря. – Рескрипт султана, принятый его властью, который гласит, что любого, покусившегося на эту часовню, мы имеем право привести сюда и показать ему строгий наказ правителя его страны. Так султан спас часовню, вот только паломники больше не приходят.
Я медленно кивала в такт его словам, всем своим видом показывая, что поражена этой историей, мои глаза всматривались то в подпись султана, то в грустную улыбку изображенной выше Девы Марии. Потом я спросила, нельзя ли мне спуститься к реке и проверить, не смоют ли ее воды моих прегрешений.
Глаза попа округлились от ужаса.
– Ни в коем случае! – взволнованно воскликнул он. – Нельзя осквернять грехами священную реку!
Глава 13
Тело Натана Койла.
Побыв в нем некоторое время, я поняла, что он относился к несхожему со мной типу людей. Мышцы рук и спины слишком накачаны в спортзале, гипертрофированно развиты путем бессмысленного поднятия тяжестей, когда наращивание мускулатуры становится самоцелью. Годы занятий бегом укрепили сердечно-сосудистую систему, хотя левое колено слегка ныло от долгой неподвижности, и боль исчезала, если только полностью вытянуть ногу. У меня оказалась дальнозоркость – я обладала отличным дистанционным зрением, зато, чтобы разглядеть близко расположенные вещи, мне приходилось щуриться. При этом в сумке я не нашла ни контактных линз, ни очков. Быть может, он только собирался обратиться к окулисту? Или, пока ему не приходилось защищать себя, он попросту считал это нормой?
* * *
Папка с надписью «Кеплер» лежала у меня на коленях. Скамья на платформе станции Капикуле была металлической – холодной и жесткой. Дул восточный ветер, в воздухе ощущался надвигавшийся дождь, белградский поезд опаздывал уже на двадцать минут.
Сам по себе Белград не представлял для меня никакого интереса. Мне важно было только покинуть Турцию, не попасть в руки местной полиции, которая теперь знала меня в лицо. Но у Койла был паспорт гражданина Северной Америки, как и Северной Европы, и еще текст на оставшемся у меня телефоне: «Цирцея». В сумке оказался целый набор приспособлений для убийств. Очень просто было бы покончить с этим телом, продолжив двигаться дальше, но я не могла забыть ощущение, когда пуля навылет ранила меня в ногу: хотя я и спаслась, а погибла Жозефина, убить-то он все же собирался меня.
Документы в папке, лежавшей у меня на коленях, были сложены в хронологическом порядке, как и фотографии. Во вступлении говорилось, что не имелось никакой иной информации о Кеплере, кроме этих тоненьких страничек, где рассказывалось о похищенных жизнях и потерянном времени, – ни примечаний, ни приложений, ни подписи, чтобы определить авторство этих заметок.
Я листала записи, перебирала жесткие глянцевые снимки, вглядывалась в имена и лица, которые едва помнила, пока не дошла до самого последнего фото. Моего фото. То есть фото Жозефины Цебулы.
Копия польского паспорта, добытая у сутенера из Франкфурта. Ее лицо, лишенное косметики и всякой жизни в глазах, казалось заурядным и скучным, но все же именно это лицо смотрело на меня из зеркала по утрам.
Еще снимок, сделанный где-то на углу улицы, – фотограф щелкнул на ходу, и потому она вышла вполоборота к камере, хотя все равно момент был пойман, запечатлен, приобщен к делу. Документ из полиции, когда ее впервые арестовали, отпустив через девять часов. На ней был короткий кожаный жакет, из-под которого виднелся пупок, юбка, едва прикрывавшая задницу, а под правым глазом красовался синяк – ее сняли для полицейской картотеки.
Вот посадочный талон от моего билета из Франкфурта в Киев: от нечего делать я решила побывать в Крыму. Я летела бизнес-классом, переодевшись в новую яркую одежду, и, когда стюардесса налила мне виски, почувствовала непривычно томительное желание, не сразу поняв, что Жозефина была страстной курильщицей, а я забыла утолить эту страсть. Приземлившись в Киеве и изрыгая бесконечные проклятия, я купила целую коробку никотинового пластыря, дав клятву вернуть Жозефине ее тело здоровым хотя бы физически, если не духовно.
Еще одно мое фото. Я выхожу из отеля на Пере. Солнце бьет мне в лицо, а в руке я держу телефон. Молодая, богатая, красивая, и если эти качества открывают много возможностей, то одно из них – легко и быстро приобретать новых друзей. Я помню это утро, это солнце, это платье. Оставалось три дня до того, как я упаду на ступени станции метро «Таксим», застреленная незнакомцем. Целых три дня они изучали мой образ жизни, «пасли» меня, прежде чем подготовить убийство.
Мои ногти впились в ладонь, и я вонзила их еще глубже. Небольшое кровопускание могло оказаться для меня сейчас только полезным.
Я просмотрела жизнеописание Жозефины. Склонная к насилию мамаша, клявшаяся, что любит дочь, и плакавшая у нее на плече всякий раз, когда ее выпускали из тюрьмы. Молодой возлюбленный, который не возражал, чтобы она спала с его приятелями: ему ведь нужны деньги, чтобы покупать ей дорогие подарки. Затем перелет во Франкфурт, бегство с тридцатью двумя евро в кармане. Причем автор не сомневался, что она собиралась начать новую, честную и хорошую жизнь, вот только Жозефина оказалась не способна ничего изменить в своей ситуации, пока некто по фамилии Кеплер не появился и не предложил ей плату за убийства.
Я замерла.
Следовал список мертвецов. Доктор Торстен Ульк – утоплен в собственной ванной. Магда Мюллер – зарезана неизвестным в кухне своего дома, пока ее дочери спали наверху. Джеймс Риктер и Элсбет Хорн найдены в объятиях друг друга с вырванными глазами и внутренностями, выпущенными на пол каюты небольшой яхты, в которой они плавали по Рейну. И хотя полиция не сумела связать эти преступления между собой, сетовал автор, они сами это сделали, поскольку все жертвы принадлежали к их кругу и погибли от руки Жозефины по приказу Кеплера.
Я заново перечитала, не уверенная, что все поняла правильно.
Но и во второй раз смысл оставался таким же, причем насквозь лживым.
Поезд на Белград с металлическим визгом, высекая тормозными колодками из колес белые искры, остановился на станции Капикуле. В некоторых окнах за шторками купе еще горел свет. Кое-где в вагонах открылись двери – толстые оранжевые панели откинулись, опустились железные ступеньки. Когда-то поезд был окрашен в оранжевые и голубые тона. В прошлом это был лучший экспресс болгарских железных дорог. Но яркие цвета давно потускнели, скрытые за толстыми слоями краски из баллончиков, – гордость железнодорожников пала перед напором сорванцов, избиравших поезда своей целью в любой стране мира. Я чувствовала запах мочи, доносившийся из туалета при входе в вагон, слышала звуки, уличающие кого-то в нарушении важнейшего закона – не нажимать на смыв во время стоянки поезда, и пошла искать свое купе.
Оно было рассчитано на шесть человек, и, конечно же, четыре наиболее удобных спальных места оказались заняты. Муж, жена и сын-подросток располагались на трех постелях. Поверх четвертой на спине возлежал старик. Он жевал нечто растительного происхождения, совершая округлые, как у верблюда, движения нижней челюсти, и читал в журнале статьи о старых автомобилях и поездках по странам Востока. Семья устроила импровизированный ужин, передавая друг другу еду вверх и вниз по трем ярусам оккупированных полок. Сваренные вкрутую яйца, ломтики ветчины, куски козьего сыра, крошащийся белый хлеб, который уже покрыл пол золотистым конфетти. И каждый раз, когда нож в очередной раз врезался в буханку, старик с автомобильным журналом болезненно морщился, словно лезвие вонзалось ему под ребра.
Я вскарабкалась на самую верхнюю полку как раз в тот момент, когда поезд снова тронулся, положила сумку с одеждой под голову, сумку с оружием – под ноги и вытянулась, чтобы предаться размышлениям. Металлическая полка, пластиковый потолок, а между ними – пространство, недостаточное даже для нормальной могилы.
Проверять паспорта никто так и не явился.
Глава 14
Существует множество способов выявить призрак, засевший в человеке, с которым вы особенно сблизились. На простой набор вопросов – фамилия, возраст, имена отца с матерью – сможет ответить любой, но требуется всего несколько минут, чтобы копнуть немного глубже. Где ты жил, когда покинул родительский дом? Как звали твою классную руководительницу в начальной школе? Расскажи о первой девочке, которую ты поцеловал. И мой любимый вопрос: ты умеешь играть на скрипке?
И редкое, но особо острое удовольствие, когда собеседник, довольный тем, что может похвалиться своими навыками, начинает на пальцах изображать любимый скрипичный пассаж, а ты на последней ноте заявляешь, что вообще-то истинный владелец этого тела никогда не держал в руках скрипки.
…Когда я сама совершила свой первый переход в новое тело, я не сумела ответить на заданный мне сразу вопрос. Я была убийцей с урчащим от голода желудком, а констебль, придавивший меня к полу в сторожевой башне, хотел знать мое имя и фамилию. Я назвала ему их.
– Не эту фамилию, – прорычал он. – Не фамилию несчастной, которую ты убил. Мне нужно знать, как зовут тебя.
Я до смерти забила незнакомую мне женщину, и этой женщиной прежде была я. Теперь же я превратилась в убийцу, которого схватили на месте преступления.
– Как тебя зовут?
Я была покрытым перхотью молодым человеком, на шею мне давила дубинка полисмена, а его колено уперлось мне в спину. Два ребра были сломаны, а глаз так опух, что зрение едва ли когда-либо восстановилось бы полностью. Но, как и тем людям, которые измолотили меня потом, мне самой очень хотелось бы знать ответ на этот насущный вопрос.
Как тебя зовут, подонок? Убийца, кровожадное чудовище, лжец, вор. Как же тебя зовут?
Когда меня заперли в Ньюгейтской тюрьме, предназначенной для представителей самой гущи народных масс, где в каждой душной камере содержалось по пятьдесят человек (точнее – сорок семь и три свежих трупа к утру), я смеялась истерическим смехом, словно мой рассудок помутился и забыл, что мне положено было заливаться горючими слезами. Когда судья приговорил меня к смертной казни через повешение, у меня вроде бы подогнулись колени, но выражение лица осталось невозмутимым, а на душе царил покой. Когда Жирдяй Джером, негласный правитель тюрьмы, попробовал сам привести приговор в исполнение и его огромные потные лапищи сомкнулись у меня на шее, я не стала с ним бороться, даже не пыталась сопротивляться, не подняла шума, но предала свою душу Сатане, которому она неизбежно и должна была достаться.
И все же, как выяснилось, умирать мне не хотелось. И пока Жирдяй Джером убивал убийцу, убившего меня, я, недолго подумав, почти инстинктивно вдруг увидела лицо своего убийцы глазами Жирдяя Джерома и забыла, что нужно сдавливать пальцы.
Мой убийца повалился на колени с побагровевшим лицом и с вылезшими из орбит глазами, жадно ловя ртом воздух. Вокруг собралась толпа, окружившая нас тесным кольцом, – тело к телу, пот к поту. Вдруг раздался голос:
– Почему ты не прикончил его, Джером? На хрена оставлять эту мразь в живых?
Я не могла говорить.
– Давай я его добью, Джером! – прогнусавил другой, ворюга с порванной губой и татуировкой на руке, отчаянно стремившийся произвести впечатление на некоронованного короля застенков, властителя преступного мира.
Мое молчание было воспринято как знак согласия, и с легким вскриком заключенный рванулся вперед, глубоко вонзив узкий конец ложки в глазницу моего убийцы.
Глава 15
Спальный вагон – не самый удачный термин. Правильнее было бы назвать его вагоном для полудремы, к тому же постоянно прерываемой. Менялись локомотивы, вагоны дергались у погруженных во мрак платформ, и путешествие до Софии превратилось в серию резких остановок и рывков со скрежетом тормозов и бьющими по голове ударами металла о металл. В спальных вагонах вы не можете спать и лишь временами проваливаетесь в бессознательное состояние, понимая, что ничего не понимаете, а мысли, которые приходят вам в голову, мыслями в полном смысле слова не являются. И, едва соображая, где находитесь, вы засыпаете, но почти сразу просыпаетесь, не осознавая, что спали хотя бы минуту.
Мы прибыли в Софию в 04.23 утра. Я бы даже не узнала об этом, если бы пассажир-одиночка не поставил себе будильник ровно на 04.15. Часы подали звук, показавшийся мне сиреной, возвещавшей о ядерной атаке, пробудив и перепугав всех пассажиров купе. Сам он скатился со своей полки прямо во вчерашней одежде, взял сумку и вышел, не сказав ни слова. Когда поезд подошел к перрону, я чуть приоткрыла занавеску. Солнце над городом еще не встало. Одинокий носильщик скучал на пустой платформе. Я передвинула свою подушку в вафельной наволочке ближе к стенке и снова свернулась клубком, пытаясь заснуть.
Когда мы покидали Софию, занавеска так и осталась опущенной. Город, его история и его обитатели с их радостями и трагедиями – все это никак не могло интересовать меня в пятом часу утра.
Сербы паспорта проверяли. На станции Калотина-Запад группа угрюмых проводников, сопровождавшая нас всю ночь, сошла с поезда и покатила свои маленькие чемоданчики на другую платформу, чтобы вернуться домой. Новые проводники носили пижонские пилотки и поношенные синие форменные куртки. Как только поезд тронулся, они принялись стучаться в двери каждого купе:
– Билеты! Паспорта!
И то и другое куда-то унесли для проверки. Я отдала свой турецкий паспорт, данные которого уже хорошо запомнила, и откинулась на полке, жалея, что нельзя открыть окно пошире и посмотреть на мелькавшие за ним последние пейзажи Болгарии. Бояться опознания по эту сторону границы уже не приходилось. Как бы хорошо ни работала турецкая полиция, чтобы объявить человека в международный розыск, требовалось гораздо больше времени.
Когда мои бумаги проверили и проштамповали, я снова открыла досье, помеченное фамилией Кеплер.
Почти сотня фото и имен, стоп-кадров с видеокамер наружного наблюдения, копии ордеров на арест и семейных снимков. Записи личных бесед и документы, перенесенная на бумагу электронная переписка и данные прослушки мобильных телефонов. Некоторые лица в досье я едва помнила, а другие принадлежали мне порой годами. Вот нищий, встреченный мною в Чикаго, – отмытый и гладко выбритый, он оказался совсем еще мальчишкой. Прежде чем расстаться с тем телом, я записала юнца на курсы официантов в Сент-Луисе, посчитав это не самым плохим способом начать жизнь заново. Вот женщина из Сент-Питерсберга, которую отлюбили и бросили все ее многочисленные воздыхатели. Я встретила ее бродившей по улицам, не имевшей денег, чтобы хотя бы добраться до дома, и она прошипела: «Я еще отомщу всем этим лживым дружкам…» А вот окружной прокурор из Нового Орлеана, сидевший рядом со мной в баре и сказавший: «Если он даст показания, я с блеском выиграю это дело, но он, черт возьми, слишком запуган, чтобы вообще явиться в суд». На что я предложила: «Хочешь, я доставлю его туда?»
Десять лет моей жизни были уложены в аккуратнейшем хронологическом порядке. Каждый скачок, каждый переход, каждое переключение, все мои тела были отслежены и зафиксированы для использования в будущем. Вплоть до самой последней страницы – Жозефины.
Кто-то провел долгие годы, следуя по моим следам, отмечая каждый мой шаг, пользуясь данными о случаях амнезии, показаниями мужчин и женщин, у которых выпали из памяти час, день, а порой и несколько месяцев подряд. Это был шедевр работы сыщика, триумф судебно-медицинской экспертизы, но лишь до того момента, когда в досье совершенно необъяснимо возобладала бессовестная ложь, заклеймившая меня саму и владелицу моего последнего тела как убийц.
Я вынула из досье несколько фотографий. Женщина, сидящая за витриной кафе в Вене, не притронувшись к пирожному; ее кофе уже явно остыл.
Мужчина в больничном халате с рыжевато-русой бородой, спускавшейся на его обвислый округлый живот, который смотрел в окно, где не виделось ничего примечательного.
Мальчишка-подросток с волосами, уложенными острыми зубцами, показывающий в объектив камеры два поднятых пальца и высунувший розовый язык с пирсингом. Определенно не мой тип, но, учитывая прочие обстоятельства, его снимок в моем досье мог появиться всего лишь случайно.
Глава 16
Пока поезд медленно полз по окраинам Белграда, я проверила свои пожитки.
Паспорта, деньги, оружие, мобильный телефон.
Я вставила батарейку и включила телефон. Он достаточно долго думал, где находится, а потом словно нехотя сообщил: да, это Сербия, и прислал мне текст с извещением о данном факте и пожеланием приятного пребывания в стране. Я ждала. Пришли еще два сообщения. Первое напоминало о пропущенном звонке. Номер не определился. И поступил текст: «SOS Цирцея».
Больше ничего.
По некотором размышлении я снова отключила телефон, вынула батарейку и сунула их на дно сумки.
Что можно сказать о Белграде?
Это очень плохой город, если вы стары, сварливы и придирчивы. Но фантастическое место, чтобы удариться в загул.
Вокзал – превосходный монумент амбициозной архитектуре XIX столетия, чудо пропорций и форм, построенное из превосходного камня. Никакого сравнения с позорным сараем в Капикуле. Стоит выйти на площадь, и вам начинают сигналить таксисты, выстроившие машины вдоль тротуара бампер к бамперу. В густом транспортном потоке трамваи и троллейбусы сражаются за место под паутиной электрических проводов, питающих их энергией. Неподалеку стоят два высотных здания. Они кажутся серыми и пустующими. Совсем недавно в одно из них попала натовская крылатая ракета. Словом, это настоящий вокзал. Сердце города. К запахам выхлопных газов и сигаретного дыма примешивается аромат речной воды, доносящийся оттуда, где сливаются Сава и Дунай, – при их виде понимаешь, что прежде не знала, как выглядит настоящая река. Стоя на берегу Дуная, легче верится, что и весь наш мир – всего лишь часть суши, со всех сторон окруженная водой, то есть остров.
К ночи баржи, пришвартованные вдоль набережных, заполняются музыкой и сиянием света, а молодежь стекается сюда развлекаться на всю катушку. Днем пешеходные улицы в центре заполняет модно одетая толпа, пришедшая купить еще более модные вещи или хотя бы обновить свое понимание современной моды, а по окраинам на скамейках собираются старики с сигаретами-самокрутками, худыми лицами и ввалившимися глазами, которые смотрят на окружающую действительность, ничему больше неспособные удивляться.
Поперек течения Савы отбрасывают длинные тени жилые многоэтажные здания и тоскливого вида промышленные предприятия, оставшиеся со времен коммунистической мечты. У них на редкость романтичные названия: Блок-34, Блок-8 и так далее. По всей вероятности, здесь подлинная реальность ощущается острее, чем среди эксклюзивных бутиков на улице Князя Михайлы: жизнь лишена показного блеска, а модно одетые люди не вызывают никаких иных чувств, кроме презрения с оттенком зависти.
Я поселилась в отеле одной из десяти компаний, владеющих тысячами одинаковых гостиниц по всему миру. На этот раз в ход пошел паспорт гражданина Германии, и женщина в службе размещения на плохом немецком воскликнула:
– О! Очень добро пожаловать к нам!
В отличие от номера в Эдирне, моя комната оказалась просторной и стандартно сверкающей роскошью обстановки, какую ожидает встретить любой путешествующий европеец, слишком уставший, чтобы думать о том, где раздобыть чашку чая, и не желающий смотреть по телевизору ничего, кроме спортивных новостей по Си-эн-эн и повтора старых серий «Места преступления». Я надежно заперла на замок свой багаж, положив в карман несколько сотен евро, сунула под мышку досье Кеплера и отправилась на поиски интернет-кафе.
На странице 14 досье Кеплера помещалось фото мужчины. У него были крашеные черные волосы, а в носу, в нижней губе и в ушах блестело просто невероятное количество металла. Кроме того, он носил футболку с изображением черепа, и если бы у него на носу не сидели явно прописанные врачом очень сильные очки, а на заднем плане не виднелся учебник с названием «Prüfungs Gemacht Physik», я бы отмахнулась от него как от самого обыкновенного довольного собой панка.
Текст под снимком гласил: «Берлин, 2007. Йоханнес Шварб. Кратковременное пребывание в теле, продолжительная связь?»
Глядя на злобное выражение этого исколотого лица, я содрогнулась при одной только мысли, что могла когда-то носить это мясо, пусть даже очень недолго.
Глава 17
Ему было шестнадцать, мне – двадцать семь, и он пытался приударить за мной в берлинском ночном клубе.
– Нет, – сказала я.
– Да ладно, брось ломаться…
– Нет.
– Перестань, детка.
– Решительно – нет.
– Перестань…
В баре стоял веселый шум, звучала хорошая музыка. Меня звали Кристиной, и я любила мохито, его – Йоханнесом, и он был под кайфом.
Он высунул язык и показал мне гвоздик, торчавший из розовой плоти.
– Молодой человек, – начала я. – Ровно через тридцать секунд у вас могут возникнуть серьезные неприятности.
Мое заявление, хотя и не было пустой угрозой, до Йоханнеса не дошло, и он продолжал крутить всеми частями своего тела, которые еще контролировал, и терся ими о высокий стул, занятый мной. Ему пока не хватало наглости или смелости потереться обо что-то живое, и он удовлетворялся мебелью. Какое-то мгновение я рассматривала возможность совершить немыслимое – схватить его за щеки и погрузить язык как можно глубже ему в глотку, наблюдая, что произойдет.
Однако слишком велика была вероятность, что от испуга он стиснет зубы, и показалось несправедливостью оставлять Кристину с распухшим языком и привкусом водки во рту.
Затем к нам подбежала его подружка. Ей и вовсе исполнилось всего пятнадцать, и она плакала. Потянув его за руку, сказала:
– Они здесь!
– Малышка, – заныл он, – разве ты не видишь, что я…
Последовал жест, изобразивший изгибы моего тела, очертания моего платья и убийственное выражение моих глаз.
– Они здесь, – прошипела она. – И требуют отдать деньги.
Она быстро посмотрела через танцплощадку, и он проследил за ее взглядом глазами с полопавшимися на белках сосудами. Тело его качнулось, чуть не потеряв равновесие, когда он изогнулся, чтобы разглядеть источник проблемы.
Трое мужчин, для которых эта вечеринка была не более чем источником дохода, двигались в нашу сторону с весьма грозным видом. Йоханнес принялся улюлюкать, захлопал в ладоши над головой, обнажив пронизанный металлом пупок, и выкрикнул:
– Эй вы! Мать вашу! Идите сюда и получите свое!
Если они и расслышали его вопль, то он не произвел на них никакого впечатления.
– Тебе надо срочно уходить. Пожалуйста, беги! – прохныкала девчонка и снова потянула его за руку.
– Ублюдки! – не унимался он, и его лицо светилось безумной радостью в предчувствии фантастического исхода противостояния, который мог предвидеть только он один. – Идите же! Идите сюда!
Я вежливо похлопала девочку, заливавшуюся слезами, по плечу и спросила:
– Наркотики?
Она не ответила, а я и не нуждалась в ее ответе. Йоханнес улюлюкал. В руке ближнего к нам мужчины сверкнуло выкидное лезвие ножа.
– Что ж, ладно, – пробормотала я и положила ладонь поверх руки Йоханнеса.
Прыжок внутрь плоти нетрезвого человека исключительно неприятен сам по себе. Я твердо верю, что чем медленнее процесс потребления алкоголя, тем мягче затем воспринимается опьянение как таковое. Потому что сознание постепенно, шаг за шагом, привыкает к покачиванию стен, к покраснению кожи, к жжению в желудке и ко всем остальным физиологическим аспектам воздействия на организм яда, поглощая и скрадывая самые гадкие ощущения.
Совсем иное происходит, когда ты мгновенно перемещаешься из относительно трезвого тела в совершенно отравленное, причем ты даже не уверена, какими именно веществами. Это как выпрыгнуть из седла медленно бегущего пони и попасть на подножку стремительно несущегося экспресса.
Я резко дернулась, вцепившись в стойку бара, пока каждая частичка моего тела пыталась перестроиться и приспособиться к новому состоянию, к иному расположению в пространстве. Во рту было горько, как от желчи, в голове словно назойливо жужжали комары.
– Иисусе Христе! – прошипела я, а Кристина, сидевшая рядом со мной, покачнулась на стуле и открыла глаза. Сжав голову обеими руками, я развернулась и припустилась бежать со всех ног.
Соприкосновение кожи незнакомца с моей произвело эффект удара током, пробежавшего по рукам и вниз до самого желудка, где под легкими, как море о скалы, уже плескалось изрядное количество накопившейся рвоты. Я слышала крик девочки, топот ног преследователей, и в этот момент столкнулась с мужчиной, лицо которого было кофейного оттенка, а глаза – цвета авокадо. Красавец, как ни взгляни, и у меня тут же возникло желание внедриться в его тело. К черту дурака Йоханнеса!
Пожарный выход оказался закрыт, но не заперт на замок, а сигнализацию давно отключили курильщики и наркоманы, постоянно выходившие на задний двор и в темную боковую аллею. Я спотыкалась, забыв, что на мне уже не платье Кристины и не ее изящные туфельки на высоких каблуках. Почти кувырком скатившись по лестнице и выбежав на улицу, я добралась до ближайшего мусорного контейнера, прижала голову к холодному вонючему металлу и от души, с огромным облегчением выпустила из себя блевотину.
Пожарная дверь сверху захлопнулась.
– Ну, теперь ты – труп, Шварб, – раздался голос.
Я успела приподнять голову, чтобы увидеть мелькнувший в воздухе кулак, с силой врезавшийся мне в скулу под глазом, и тут же упала. Мои руки скребли асфальт, перед глазами все крутилось, в правом ухе стоял невыносимый звон. Я откашлялась смесью слюны и желчи.
Трое окруживших меня парней только казались мужчинами. На самом деле им было от силы лет по девятнадцать, максимум – двадцать. Они были одеты в спортивном стиле: широкие тренировочные брюки и обтягивающие футболки из полиэстера, подчеркивавшие рельеф мускулатуры – предмет их особой гордости.
Они собирались вышибить из меня дух, а в моей голове все еще звучало недавнее собственное сопрано, и потому я никак не могла сообразить за что.
Я попыталась подняться, но один из них вновь поднял кулак и ткнул его мне в висок. Моя голова опять ударилась об асфальт, но это было даже хорошо, поскольку чем большая часть меня уже лежала, тем меньшей оставалось падать. Та же мысль, как выяснилось, посетила и одного из парней, который сгреб меня за воротник рубашки и начал перемещать в вертикальное положение. Инстинктивно я ухватилась за его запястья и, пока он в ярости раздувал ноздри и сверкал глазами, прижала пальцы к его коже и совершила прыжок.
Я держала за ворот Йоханнеса. Боже, как же мои кулаки хотели бить, как каждая мышца стремилась ударить кого-нибудь! Все мое тело вибрировало от избытка адреналина, и я подумала: а почему бы и нет?
Бросив Йоханнеса, я развернулась и, вложив в удар всю свою мощь – торса, бедер, коленей, плеч и рук, – врезала в челюсть тому из своих приятелей, который оказался ближе. У него треснула кость, от резкого соприкосновения челюстей вылетел зуб, и, когда он начал заваливаться на спину, я прыгнула на него и, оказавшись с ним лицом к лицу, придавила к земле, издавая крики голосом, совсем недавно сломавшимся. Я била и била снова, ощущая кровь на пальцах, хотя не была уверена, откуда она, пока третий парень не ухватил меня за шею, громко называя имя, которое, как я догадалась, было моим. Когда он оттащил меня от кровавого месива под моими коленями, я взялась за его руку, державшую меня за горло…
…И уже я сама держала партнера в захвате, а затем сделала его еще более жестким, скрестив предплечья, к величайшему изумлению своего товарища, пытавшегося вырваться, извиваясь всем телом, но уже задыхавшегося в тисках моих рук. Я ударила его под левое колено, но не дала упасть, а только крепче удерживала практически на весу за одну только голову, пока у него не выкатились глаза, а желание сопротивляться не пропало совсем, и в этот момент я отпустила его.
Тяжело дыша, я повернулась к Йоханнесу. Тот сидел с глубоким порезом на лице, с грязными ободранными ладонями, глядя на меня округлившимися глазами, разинув рот. Я посмотрела на двух распластанных на земле бандитов и поняла, что они придут в себя не скоро. Снова бросила взгляд на Йоханнеса. Его губы кривились и двигались, словно он никак не мог сформулировать, что именно хотел сказать. А когда заговорил, его реакция оказалась не той, что я ожидала.
– О господи! – прошептал он. – Это было что-то невероятное!
Глава 18
Это случилось когда-то. А теперь был Белград, и тело мужчины, которого звали Натан Койл, хотя совершенно не обязательно.
Я взяла час в интернет-кафе, располагавшемся за темными куполами собора Святого Савы, открыла пачку с кексом и банку приторного фруктового напитка и вошла в Сеть.
Мне требовался хакер.
И когда Йоханнес Шварб ответил, то сделал он это совершенно под другим именем.
Кристина 636: Привет, Й. Ш.
Сперматозавр 13: ОМГ! Как дела?
Кристина 636: Мне нужна помощь.
Глава 19
Новые снимки из досье Кеплера.
Лица и воспоминания. Места, где я побывала, люди, которыми пользовалась.
Я достала листок. Хорст Гюблер, гражданин США. Первый контакт с неким Кеплером датирован 14 ноября 2009 года.
Нынешнее место пребывания: приют для душевнобольных «Доминико», Словакия.
Добрые они, эти словаки.
Больше никто бы его не принял.
Поездом от Белграда до Братиславы – двенадцать часов. Самолетом – быстрее, чем на такси до аэропорта. Но самолет значительно ограничивает твои возможности в сравнении с поездкой по железной дороге вместе с еще несколькими сотнями усталых путешественников. Начать с того, что оружие на борт не пронести, – поезд уже в этом смысле предпочтительнее.
И я отправилась в Братиславу с Белградского вокзала в 18.48.
Короткие заметки, сделанные в поезде. В купейных и сидячих вагонах пестрая смесь из сербов, словаков, венгров. Но преобладают чехи. Удивительно большое количество мест предназначено для инвалидов, хотя не видно ни одного. Целый вагон выделен для пассажиров с детьми до десяти лет. Мудрое решение. Двенадцать часов рядом с плачущим младенцем могут довести до смертоубийства кого угодно. В вагоне-ресторане подают вариации на темы сэндвичей, супа, чая, кофе, бисквитов, цветной и обычной капусты. Все это разогревается в микроволновой печи до нужной клиенту температуры. Поезд пересекает три государственные границы, хотя паспорта проверяют только один раз, и, если бы не едва заметные различия в написании слова «туалет» на станциях, можно было бы вообще не заметить, что находишься уже в другой стране.
Я включила свой – нет, принадлежащий этому телу – телефон сразу после пересечения границы Сербии и Венгрии. Поступило одно новое сообщение. Текст: «Эол». Номер отправителя опять не определился. Я снова отключила телефон, вынула батарейку и сунула поглубже в сумку.
– Семьсот евро, – сказал мне попутчик в баре. – Когда я последний раз путешествовал, мне прислали счет на семьсот евро. А я-то думал, что с членством в Европейском союзе у нас все подобные проблемы будут решены. Рассчитывал на позитивные перемены. То есть если ты звонишь в пределах Европы, то это как звонок по телефону в родном городе. Так ведь должно быть, верно? Ни черта! Как они позволяют телефонным компаниям творить такое? Почему разрешают нас грабить и делают вид, что все законно? И знаете, что хуже всего? – Нет, я не знала, что хуже всего. – Все звонки я делал по работе. Вот только пользовался личным мобильным, потому что рабочий сломался. А эти мерзавцы отказались возместить расходы. «Сам виноват, – заявили мне. – Надо читать написанное в контракте мелким шрифтом. А там сказано, что компания не несет материальной ответственности за твои ошибки». Мать их! Да пошло все в задницу! Что тогда называть рецессией? И чем занимаются наши правительства? А мы только и делаем, что расплачиваемся за чужую жадность и тщеславие. Вот для чего им нужен народ. Такие люди, как вы и я.
– И как же вы поступили?
– Я уволился с работы. А как же!
– Что теперь?
– Я в дерьме. В полном дерьме. Вот еду, чтобы пожить у матушки. Ей восемьдесят семь лет, и она все еще верит, что замужем, тупая корова. Но что мне остается делать?
Я заказала еще бутылку минеральной воды и пакетик хрустящих хлопьев, добралась до своего кресла и проспала, пока поезд мчался по Венгрии, следуя вдоль течения Дуная в сторону Словакии.
Глава 20
Я собиралась нанести визит Хорсту Гюблеру. Не потому, что он мне нравился. Просто автор досье Кеплера в свое время тоже побывал у него. И на мне, быть может, сейчас было самое подходящее для такой встречи лицо – нужно лишь немного удачи.
Вот при каких обстоятельствах я познакомилась с Хорстом Гюблером.
Она сказала:
– Я хочу, чтобы он сполна за все заплатил.
Ее пальцы сжимали стакан с виски, лицо приняло жесткое выражение, плечи напряглись. Она сидела на террасе своего белого деревянного дома, глядя, как солнце постепенно скрывалось за плакучими ивами, и говорила с медлительным выговором уроженки Алабамы:
– Я хочу заставить его страдать.
Я провела пальцем по ободку своего стакана, но не произнесла ни слова. Закат ложился розовыми полосами над горизонтом, протянувшись далеко в сторону реки, – слой облаков и просвет солнца, еще слой облаков и снова солнце. Над следующим вдоль улицы домом реял американский флаг. Еще через два дома стояла супружеская пара с ребенком в прогулочной коляске, обсуждая с соседом соседские проблемы. Обама был президентом, экономика горела синим пламенем, но в этом тихом уголке США, как казалось, все плевать хотели на это. И вообще на все. Кроме этой женщины.
– Он ее изнасиловал, – продолжала она. – Он изнасиловал ее. Как и других, и мне насрать на любые законы, потому что ему все сошло с рук. И снова сойдет с рук. Я хочу, чтобы Гюблер понес наказание.
– Умер? – спросила я.
Она помотала головой. Черные кудрявые пряди цеплялись за воротник рубашки.
– Убивать – грех. Библия ясно объясняет нам это. Но в Библии ничего не говорится о том, что нельзя опустошить его банковский счет, заставить его продать дом, настроить против него друзей и пустить этого подонка по миру в одном рубище с посыпанной пеплом головой. Говорят, вы способны на такое. Ходят слухи, что когда-то вы работали агентом по продаже особого рода недвижимости.
Я отхлебнула виски. Это был паршивый американский напиток, из тех, что гонят на ранчо, более обширных, чем среднее английское графство, а рекламируют как лучшее виски для настоящих мужчин, считающих, что носить тряпичную кепку равносильно пониманию вселенской истины. Напротив меня в белой рубашке и ванильного цвета юбке сидела Мария Анна Селеста Джонс, чьих предков насильно вывезли из Сьерра-Леоне, чьим домом стала долина Миссисипи, чья жажда мести не знала предела.
– Как вы узнали обо мне? – спросила я.
– Меня носили на себе. – Ее голос звучал бесстрастно, словно излагал простые факты. – Как чужую кожу. Использовали мое тело. Ведь так это у вас называется, верно? Мне было семнадцать, я была совершенно нищей. И этот тип подвалил ко мне. «У тебя, – говорит, – красивые глаза». – А потом прикасается ко мне, и я словно засыпаю. А когда просыпаюсь через шесть месяцев, у моей постели сидит девушка, и я слышу: «Спасибо за прогулку». Под матрацем нахожу пятнадцать тысяч долларов и письмо из Нью-Йоркского университета. Мол, вы сдали экзамены. Молодец. Мы вас готовы принять.
– И вы туда поехали?
– То письмо я сначала сожгла. Но через две недели написала им с извинениями: письмо, дескать, потерялось на почте, и не могли бы они прислать мне другое. Они прислали, и я отправилась изучать юриспруденцию. Но узнала и многое другое. Например, что люди, переходящие из тела в тело, иногда сохраняют один и тот же электронный адрес. Тот, кто похитил мое тело, пользовался фамилией Куаньин. Он не удалил свои данные из компьютера отеля, когда выбрался из моей шкуры.
– Мне знакома Куаньин, – пробормотала я. – Она… Это женщина… Она, насколько я знаю, довольно-таки неряшлива. Многие этим отличаются. И что же… – я обдумывала свои слова, подбирая нужное сочетание, – она оставила вас в том же положении, в каком нашла?
Мария Анна Селеста Джонс посмотрела мне прямо в глаза, и ее взгляд был холоднее металла, а ее воля и желания несокрушимы.
– Он… То есть она… Трахала моим телом людей. Жрала, пила, украла полгода моей жизни, сделала маникюр, сменила мою прическу, а потом бросила меня в городе, где я никогда прежде не бывала. Но Куаньин дала мне столько денег, сколько я в жизни не видела, помогла поступить в колледж. И потому я больше не оглядываюсь назад. Нет, нельзя сказать, что она кинула меня такой же, какой нашла. Глупо даже так ставить вопрос, вам не кажется?
Я отхлебнула еще виски, дала себе время обдумать ее слова, а потом, откашлявшись, спросила:
– Значит, вы не хотите ей отомстить?
– Нет. Ей уже не хочу. Другому. – Ее пальцы сильнее сжали стакан. – Гюблеру. Это Куаньин рекомендовала вас. Считает, что вы в таких делах настоящий эксперт. Работали раньше с недвижимостью.
Тонкий ободок стакана слегка загудел, когда я снова провела по нему пальцем. Мне не хотелось встречаться взглядом с Марией Анной.
– Она объяснила, что это означает?
– Рассказала мне достаточно. Гюблер богат. Преуспевает во всем и собирается баллотироваться в конгресс. Причем его туда точно изберут, потому что если он что-то не сможет купить за деньги, то приобретет с помощью лжи. Он заводит дружбу с теми, кто вносит средства в фонд его кампании, и насилует бедных чернокожих девочек, потому что знает – ему ничего за это не грозит. И это мы сами все ему прощаем. Мы. Наши законы. На бумаге у нас перед законом все равны, но некоторые более равны, чем другие. И если я смогу хоть что-то сделать в своей жизни, то этого мне будет вполне достаточно. Мое единственное желание – уничтожьте Гюблера. Сделайте это за деньги, требуйте любое вознаграждение. Или сделайте ради развлечения. Потому, например, что вам нужно новое тело. Мне плевать, во имя чего вы это сделаете. Но только доведите все до конца.
Она говорила, не повышая голоса, а ее глаза не извергали молний. Ее речь словно была записью, сделанной в морге, показаниями призрака, восставшего из гроба, а ее доброта давно лежала в могиле под толстым слоем сырой земли.
Я допила виски, поставила стакан на стол и сказала:
– Хорошо.
…Четыре дня спустя она надела синее бальное платье с глубоким вырезом, подчеркивавшим ее крепкую грудь, облегавшим упругие ягодицы, не скрывавшим изящную форму ее ног. А я надела тело мужчины без подбородка, но в новом костюме, который продавал доверчивым людям никуда не годные автомобили и попытался проделать тот же трюк со мной. Мы стояли на ступеньках у входа в музей, посвященный одному из крупнейших сражений Гражданской войны, в котором сражались люди, действительно во что-то верящие, и те, кто волею слепого случая стал их противником, хотя на поле боя и те и другие проявили чудеса храбрости независимо от причин, приведших их сюда. Изнутри доносились негромкие звуки самой незамысловатой музыки в исполнении приглашенного квартета, голоса уверенных в себе людей и постукивание высоких каблуков. Бокал звенел о бокал. Деньги почти ощутимо перетекали изо ртов одних людей в уши других, когда заключались сделки и составлялись планы, не оформленные пока официально.
Мария Анна держала в руках приглашение с серебристой каймой. Я протянул ей руку. Словно кавалер, приглашающий на танец со словами:
– Вы позволите?
Ее лицо оставалось совершенно спокойным, когда она приняла мою руку, но пальцы заметно дрожали. Я ободряюще сжала ее ладонь, заметив, как ее передернуло. И переход совершился.
Торговец машинами покачнулся, издал легкий стон, но я уже летела вверх по ступеням в волнах тафты и духов с ароматом шиповника, с волосами, слишком туго стянутыми на затылке. Мое сердце билось так часто, что на мгновение я ощутила головокружение, но знала, что причина не во мне, а в тревожном предчувствии, переполнявшем все существо Марии Анны всего несколько секунд назад.
И все же она взялась за мою руку.
Я протянула приглашение юноше на входе, даже не посмотрев на него, зато юноша проводил меня долгим взглядом, какого заслуживало тело, в котором я сейчас находилась. Мария Анна была высокой и грациозной, а длину ее лебединой шеи только подчеркивала единственная крупная жемчужина, лежавшая во впадинке под горлом. Ладони мои вспотели – естественная физиологическая реакция на продолжительный стресс. Когда я вихрем ворвалась в главный зал музея, гости в смокингах и вечерних платьях двигались по кругу от черной чугунной пушки и монумента павшим к стеклянным витринам, в которых были выставлены пистолет генерала, мундир погибшего в бою полковника, знамя батальона, весь личный состав которого погиб, защищая некую простреливаемую со всех сторон высоту. Но и перед экспонатами люди в толпе оживленно переговаривались и даже посмеивались, словно речь шла не о славном прошлом, а о вчерашнем эпизоде популярного телевизионного сериала.
Я взяла бокал шампанского с подноса у проходившего мимо официанта и двинулась в сторону стены с фотографиями, зернистыми и пожелтевшими. Попивая шипучий напиток, я дожидалась, пока пульс вернется в норму, а излишнее возбуждение пройдет. Напряжение спадало очень медленно. Казалось, нервная система упрямо не желает давать мышцам расслабиться. Я стала всматриваться в круживших рядом людей, выискивая в толпе Хорста Гюблера.
Долго всматриваться мне не пришлось. Вокруг него стоял непрерывный шум, подобный морскому прибою, и, в отличие от более скромных гостей, ему не приходилось перемещаться по залу в поисках компании – наоборот, другие стремились подойти и присоединиться к нему. Я тоже приблизилась, очаровательно улыбаясь каждому, кто попадался на пути, и вскоре уже стояла почти рядом, но чуть в стороне, слушая его рассказы для восхищенно внимавшей публики – о том, как однажды он поймал поистине огромную рыбу, о встрече с министром, о красоте заката среди нефтяных полей Саудовской Аравии, который ему довелось наблюдать. Причем, когда аудитория начинала смеяться, я и бровью не вела, и именно такая реакция заставила его повернуться, чтобы обратить свой взор в мою сторону.
Он осмотрел меня снизу вверх и сверху вниз, похотливо изучая тело и кожу, прежде чем на его лице появилась радостная улыбка узнавания, от которой у меня свело низ живота, и он сказал:
– Привет! Я помню вас очень хорошо.
И хотя я была в отменной физической форме, привыкнув к занятиям в спортзале два или три раза в неделю, а питалась очень рационально, мне было трудно сдержать тошноту. Поэтому я поспешно сделала шаг в сторону его улыбающегося, но уже плывущего в моих глазах лица и вытянутой вперед руки.
– Не сомневаюсь, что помните, – ответила я.
И он пожал мне руку.
Позже, вспоминая речь, произнесенную Хорстом Гюблером в музее, наиболее снисходительные слушатели посчитали, что он, видимо, был болен, поскольку вел себя немного странно еще до нее. Более строгие критики и представители прессы сообщали: мистер Гюблер, несомненно, выступал уже в сильнейшем подпитии, – другого объяснения его поведению не находилось.
Но, независимо от личных симпатий или антипатий, каждый запомнил первое же заявление, сделанное им с трибуны и растиражированное потом всеми средствами массовой информации страны.
– Всем привет! – воскликнуло тело Хорста Гюблера, заставляя зал замолчать при помощи постукивания серебряной ложки о хрустальный бокал. – Я так рад, что вы здесь сегодня собрались! Очень рад! И хочу высказать только одно мнение, прежде чем мы начнем нашу вечеринку. Какой все-таки педик этот президент Обама!
Через три дня я уже сидела в самолете, летевшем в Словакию, с паспортом и кредитными картами Хорста Гюблера в кармане. Баснословный размер его состояния оказался чистейшим блефом. На самом деле в его распоряжении был один миллион восемьсот тысяч долларов, из которых двадцать тысяч были перечислены в швейцарский банк на предъявителя – некоего анонимного путешественника. Еще восемьдесят тысяч он задолжал в качестве алиментов бывшей жене, а остальное владелец добровольно пожертвовал благотворительной организации, занимавшейся помощью жертвам изнасилований и их психологической реабилитацией. В избытке благодарности организация прислала мне почетную грамоту в бронзовой рамке, которую я с поздравлениями переадресовала Марии Анне Селесте.
Глава 21
Знаю ли я словацкий язык? Ни слова. Я владею французским, немецким, русским, китайским, японским, английским, малайским, испанским, итальянским, арабским и турецким языками, а также фарси и суахили. Разумеется, обладая столь обширной базой, я способна отчасти понимать языки, схожие по происхождению, хотя общее понимание смысла простых фраз далеко не равнозначно умению говорить.
Венгерский? Чешский? Как раз из этой серии. Лишь несколько слов, заимствованных из других языков: туалет, телевидение, кредитная карта, Интернет, электронная почта. То есть слова, появившиеся в мировом употреблении либо слишком давно, либо слишком недавно и оперативно, чтобы местные лингвисты успели найти для них эквиваленты.
Я сошла с поезда, не доехав нескольких станций до Братиславы. Когда я впервые приехала в Словакию, это была красивая страна с широкими реками, с обширными плодородными полями, с поросшими соснами холмами, высившимися на горизонте, и с отдаленным звоном коровьих колокольчиков, доносившимся с окрашенных в серо-зеленые тона пастбищ в долинах. У словаков, возможно, были даже свои национальные костюмы, хотя в то время концепция национальных традиций еще не была романтизирована до ее нынешнего пышного величия.
Коммунизм, как обычно, не проявил милосердия к подобным идиллиям. С нежностью танка он проехался по деревенькам с уютными домиками из простого камня и маленькими ухоженными часовнями, чтобы воздвигнуть на их месте свою гордость – многоэтажные жилые коробки и железобетонные промышленные центры, которые пришли в упадок уже вскоре после постройки. Реки, вода в которых когда-то отличалась поразительной прозрачностью, теперь медленно текли, покрытые толстым слоем отходов, снова появлявшимся сразу же после каждой попытки избавиться от него. Эта земля все еще оставалась красивой, но ее повсеместно уродовали напоминания о чрезмерных индустриальных амбициях.
Я остановилась на ночь в отеле городка с непроизносимым названием. Автобус до Братиславы отправлялся отсюда каждые три часа – дважды в день по воскресеньям. Одна церковь, одна школа, один ресторан, а на окраине городка – единственный супермаркет, торговавший, помимо вяленого мяса и рыбы, садовой мебелью, сантехникой и маленькими электрическими машинками.
Владельцами отеля оказались муж и жена, причем кроме меня в нем остановились еще только двое – велосипедисты из Австрии, приехавшие покрутить педалями по более пологим дорогам, чем на родине. Я дождалась, пока гостиница полностью затихнет, прежде чем выйти на ночную прогулку.
Город с единственной церковью оказался и городом с единственным баром. И в этом единственном баре гоняли записанные на компакт-диски популярные песни восьмидесятых годов прошлого века. На танцплощадке топтались, терлись друг о друга подростки. Эти юнцы явно мечтали уехать куда-нибудь, но сейчас не решались даже отправиться по домам, возбужденные, но и слишком боявшиеся своих подруг, чтобы откровенно предложить им заняться сексом.
Мне же необходим был кто-то другой, кто мог заинтересоваться мною, и я обнаружила ее сидевшей в углу и наблюдавшей за происходившим из полумрака. Я уселась напротив и спросила, говорит ли она по-английски. Немного, ответила она. Но для того, чем она занималась, немного было более чем достаточно.
Я заказала ей выпить, но она почти не прикоснулась к спиртному. Ее английский оказался лучше, чем она утверждала, а чуть позже мы обнаружили, что она превосходно владеет французским. Она спросила, где остановился чужестранец.
– В гостинице.
– Не пойдет, – возразила она. – Если чего-то хочешь, я знаю тихое местечко.
Тихое местечко мне подходило идеально. Тишина и покой – именно то, что мне было нужно.
Она жила на самой окраине города. За нами закрылась тяжелая входная дверь. Стены в подъезде были увешаны старыми фотографиями пожилых женщин, гордо положивших руки на плечи сыновьям.
Обстановка в ее комнате состояла из кровати, письменного стола и пары плохих картин, привезенных с собой прежними жильцами много лет назад и настолько никчемных, что они оставили их, когда съезжали, а ленивый домовладелец их даже не тронул. Под кроватью кипами лежали учебники экономики, химии и математики. В забытых на небольшом кособоком столе тарелках разрасталась плесень и валялись обрывки фольги с пятнами от порошка. Она ногой затолкала книги поглубже под кровать, сняла жакет и спросила, готов ли я.
Полосы на ее руках почти зажили, но все еще были заметны. Тонкие белые шрамы тянулись ровными рядами от запястий к локтям. Они были бы неразличимы, но их постоянно расчесывали. Я спросила, сколько ей лет.
– Ты готов?
– Давай займемся чем-нибудь чуть более замысловатым?
Я отдала ей ключик, прежде чем достать наручники. Нельзя, чтобы у нее сразу зародились подозрения. Она испугалась, но профессионализм достаточно быстро вернул улыбку на ее лицо. Она жестом указала на постель – давай, начинай.
Я улеглась на кровать, позволила приковать свою правую руку к спинке, а когда она наклонилась, чтобы полюбоваться своей работой, свободной рукой ухватила ее за левое запястье и прыгнула.
– Привет, – сказала я телу, лежавшему на кровати и моргавшему в недоумении, стараясь сфокусировать взгляд. – Думаю, нам надо поговорить.
Глава 22
Шрамы на моей руке чесались. Под колготками таились более свежие шрамы на внутренних сторонах бедер, взывая к новым прикосновениям скальпеля и дозе порошка-антисептика.
Натан Койл – по крайней мере, такое имя было записано в его канадском паспорте – лежал на постели. Я села ниже, скрестила ноги и уперлась подбородком в ладони.
– Тебе пришли текстовые сообщения, – сказала я.
Его глаза наконец стали различать меня, а с четкостью зрения вернулось здравое мышление. Но ясность мысли не привела ни к каким утешительным умозаключениям. Он заскрежетал зубами, его пальцы напряглись.
– Как нетрудно догадаться, – продолжала я, – это простая проверка твоей безопасности. В первом было слово «Цирцея». Во втором – «Эол». Я не имела понятия, как отвечать, поэтому не стала ничего делать. Так что твои коллеги уже должны понимать, что ты попал в беду. Это, вероятно, хорошая новость, если только тебя не собираются застрелить, как ты застрелил Жозефину.
Он лежал неподвижно. Вытянувшись. Хотя угол, под которым была согнута его прикованная рука, нельзя было назвать удобным, он все же казался крепким парнем. А крепкие парни не суетятся.
– Я прочитала досье Кеплера, – добавила я, подавляя желание почесать руку. – По большей части там все верно. Производит впечатление. Но вот только тебя там нет, и, если не ошибаюсь, а я почти уверена, что не ошибаюсь, мне никогда не доводилось трогать твое тело. То есть до того времени, когда ты попытался меня убить. Значит, тут ничего личного. Доводилось встречать призраков прежде, мистер Койл?
Молчание. Ну, разумеется. Жесткие парни. Они привыкли просыпаться в незнакомых местах, прикованные наручниками, убивать женщин на станциях метро, привыкли к проникновениям и вынужденным путешествиям через пол-Европы. Но нет ничего, с чем они в итоге не справились бы.
– Я обдумывала возможность изуродовать тебя, – выдохнула я, едва ли сама осознавая смысл сказанного и радуясь лишь, что при этих словах что-то дернулось в лице Койла. – Разумеется, не находясь внутри тебя. Мне никогда не нравились такие трюки. Но я все еще надеюсь, что твои дружки, кем бы они ни были, убьют тебя не сразу, как ты убил Жозефину, и их колебания могут спасти мне жизнь. – Молчание. – В Эдирне я задала пару вопросов. Пробыв какое-то время в твоем теле, я заинтересовалась кое-чем еще, хотя общее направление остается прежним. На кого ты работаешь и почему они оболгали Жозефину?
Он чуть приподнялся на постели, и его глаза впервые встретились с моими. Он не сразу отвел взгляд.
– Это ложь, – снова буквально выдохнула я ему в лицо. – Большая часть материалов досье правдива, но там, где речь заходит о Жозефине, – сплошная ложь. Твои хозяева хотели, чтобы она умерла, как и я. Почему, как ты думаешь? Кто те люди, которых она якобы убила? С такими, как я, всегда стремились расправиться. Это продолжается столетиями. Оно и понятно, если учесть то, кем мы являемся. Но ты прострелил Жозефине ногу, и хотя я успела сбежать, хотя ты знал, что я успела сбежать, все равно всадил две пули ей в грудь. И я не понимаю почему. Мне хочется, чтобы все это закончилось благополучно. Ты, конечно, убийца, но действуешь не один. И ты до сих пор жив только потому, что других нитей у меня в руках нет.
Я ждала. И он ждал.
– Тебе надо подумать, – заключила я. – Это можно понять. – Мои пальцы прикоснулись к внутренней стороне предплечья, скользя вдоль шрамов, преодолевая желание почесать их. Я отдернула руку, встала, надеясь, что движение отвлечет меня от физиологической потребности.
Он наблюдал за мной и улыбался.
– Это тело… – Я жестом показала на себя от головы до ступней. – …Ей, вероятно, лет семнадцать. Занимается членовредительством, наносит раны сама себе. Наркоманка, проститутка, а под кроватью – школьные учебники. Какое мне до всего этого дело? Мне должно быть все равно. Лишь краткая остановка, а остальное меня не касается. Скажи, тебе нравится то, что ты видишь?
У жестких парней бывает собственное мнение? У этого, казалось, не было. Вероятно, тренировки по подавлению страха подавляют и способность мыслить.
– Ты думай, – сказала я. – Для меня пока найдется кое-какое занятие. – И я действительно его нашла.
Я сгребла обрывки фольги в полиэтиленовый пакет, отскребла стол, открыла окно, чтобы впустить в комнату прохладный ночной воздух. Поставила книги в ряд на полку, вернула на вешалки одежду, грудой валявшуюся в стенном шкафу-гардеробе, выбросила две пары безнадежно дырявых колготок. Поправила «произведения искусства», скособочившиеся на стенах, в ящиках стола обнаружила пакетик с травкой и еще один с кокаином, которые тоже отправила в мусор. Нижний ящик оказался заперт. Я взломала замок с помощью кухонного ножа и достала целый набор хранившихся в образцовой чистоте хирургических ножниц, бинтов и единственный сверкавший серебром скальпель. После недолгого размышления я выбросила все режущие предметы, оставив на месте только бинты.
Койл пристально наблюдал за мной с кровати, тихий, как летучая мышь. Его взгляд помог мне отвлечься. Навел на воспоминания. Мне доводилось выступать в палате представителей конгресса США, и я проявила себя остроумным и красноречивым оратором, легко завладевшим вниманием зала. Но тогда на мне был костюм за три тысячи долларов, я только что потратила двести долларов на обед и выглядела великолепно, поскольку именно так мне надлежало выглядеть.
Эта случайно встреченная мною девочка никогда не будет великолепной. В расползшихся колготках и с израненными руками ей ничего не оставалось, кроме как прикрываться своей хрупкостью, прятаться в костлявом тельце с торчащими, как крылышки у цыпленка, лопатками. Вечно опущенный подбородок, напряженная шея – все закономерно, как эта ночь за окном. И все же, когда Койл наблюдал за мной, он смотрел не на нее, а на меня, и ни опущенный взгляд, ни отведенное в сторону лицо не меняли объект его подлинного интереса.
Мне было неуютно и непривычно, но я все же чувствовала возбуждение.
Я сконцентрировала внимание, рассчитывая каждое свое движение, и продолжала наводить порядок в чужой спальне. Очистка комнаты – это продолжение очистки тела. Мебель меняют, как меняют одежду. У каждого свое хобби. Люди, причем любые, стали моим увлечением.
– А ты наглая сучка, – произнес Койл.
– О господи! – воскликнула я. – Он все-таки умеет говорить!
– Ты играешь с ее жизнью…
– Не возражаешь, если я убью тебя, пока мы не достигли слишком эмоционального состояния? Я здесь для того, чтобы поговорить с тобой. Поскольку ты не можешь думать самостоятельно, когда я нахожусь в тебе, мне необходимо другое тело, чтобы насладиться плодами нашей беседы. Не скрою, мне быстро все надоедает, а потому я пытаюсь воспринимать любую кожу, которую ношу, чем-то вроде проекта, как поступил бы любой. Как любой и поступает. Одни начинают вязать. Другие занимаются йогой. И если бы данный проект был долговременным, я бы, наверное, всерьез задумалась над вторым вариантом – у меня сейчас ощущение, что этим коленкам нужен особый режим. Но проект краткий, а потому я лишь делаю, что могу, мимоходом. И прежде чем продолжить рассуждать о том, какое я чудовище, лучше передохни, пока я занимаюсь уборкой. Я ведь могла бы вместо этого выцарапать твои мерзкие глазенки.
Он снова поджал губы, а я уселась на край постели, подтянув тощие колени под подбородок, обняв их покрытыми шрамами руками и глядя в его темные серые глаза.
– Ты рвешь жизни людей на части, – сказал он после долгого молчания.
– Да. Так и есть. Я и не отрицаю. Я вхожу в чужие жизни и краду все, что нахожу в них. Их тела, время, деньги, их друзей, возлюбленных, супругов – я забираю все это, если таково мое желание. Но порой я все им возвращаю, пусть и в несколько ином виде. Вот это тело, – я заправила за ухо выбившуюся прядь волос, – через несколько минут очнется, напуганное и сбитое с толку, потому что за долю секунды куда-то денутся несколько часов его жизни. Она подумает, что ее изнасиловали, накачали наркотиками, что-то сделали с ее телом, с ее пожитками, которые она считает единственным символом того, чего она добилась в жизни, подобно большинству других людей. Она испугается не потому, что ей причинили физическую боль, а потому, что некто вошел в ее жилище и переделал на свой лад место, где она обитает. Вероятно, она творит нечто жуткое, когда ей одиноко. Режет свою плоть, нюхает кокаин, пьет, а потом находит парня, который помогает все это оплатить. На самом деле я ничего не знаю точно. Но нам с тобой надо было поговорить.
Он чуть слышно вздохнул:
– Так уж и надо?
– Для меня устроить разговор было так же легко, как провести тебя через китайскую таможню с пятью килограммами героина, привязанными к поясу. Будешь со мной откровенен, и у тебя появится шанс выжить.
– Ты крадешь жизни. Лишаешь людей выбора, как только что лишила ее.
– Ничего подобного. Через пару часов это тело снова будет принадлежать ей, а мы исчезнем. Через пару часов. А быть может, достаточно минут или даже секунд, чтобы все изменилось. Или осталось по-прежнему. Все зависит от того, как ты себя поведешь.
– Вор всегда остается вором.
– А убийца – убийцей. Неплохое дополнение к твоей мудрой сентенции, не так ли?
Он чуть сдвинулся в сторону на постели.
– Чего ты хочешь?
– Ты убил Жозефину, – ответила я, и мой голос прозвучал шепотом, холодным и мрачным. – Ты знаешь, как я к этому отношусь. Почему ты покушался на мою жизнь, Койл?
– Вот сама мне и скажи.
– Поистине, иногда легче драться, чем разговаривать.
– А ты бы стала разговаривать с вирусом оспы?
– Если бы он рассказал мне интересные истории о мучениях, которые наблюдал, о великих людях, которых навестил, о выживших детях и умерших матерях, о душных больницах и морозильных камерах, перевозимых в охраняемых грузовиках, я бы угостила его вкусным ужином и провела с ним уик-энд в Монако. Не приравнивай меня к цепочке ДНК в протеиновой оболочке, Койл. Это недостойно нас обоих. Твои паспорта, твои деньги, твое оружие свидетельствуют о том, что ты – часть четко организованной, крупной операции. Ты поддерживаешь отличную физическую форму, а я не сижу на специальных диетах и даже от пола не отжимаюсь. А потом ты убиваешь подобных мне людей… – Я вздохнула. – И лишь по одной причине, как я догадываюсь. Просто потому, что мы вообще существуем. Неужели ты думаешь, что ты первый? Время от времени кто-то пытается это сделать. А мы, тем не менее, все еще здесь. Такие же упорные, как сама смерть. На двух разных континентах, двумя разными путями сформировались два абсолютно различных, но функционально идентичных вида стервятников – так природа заполнила пустоту. И не важно, скольких из нас вы убьете: мы будем возрождаться, повторяться, как икота природы. Так перейдем к сути. Ты убил хозяйку тела, которую я любила. Тебе, возможно, трудно поверить в это, но я действительно любила Жозефину Цебулу, и ты ее убил. А убил потому, что в ее досье значилось, что она не просто используемое тело, а и сама является убийцей. Но это была ложь. Твои хозяева солгали тебе. Это, и только это стало для меня новостью.
– Досье не содержало лжи, – ответил он. – Жозефина Цебула должна была умереть.
– Почему?
– Тебе это известно.
– Вовсе нет. Имена в досье – список людей, которых она якобы лишила жизни: Торстен Ульк, Магда Мюллер, Джеймс Риктер, Элсбет Хорн. Я никогда не слышала о них, пока не ознакомилась с досье. И способы убийств – жестокие до садизма. Жозефина была совсем не такой. У нее не имелось ни мотива, ни возможности, ни средств, и если бы ты провел собственное расследование, то знал бы об этом. Она была моей оболочкой – ни больше ни меньше. – Он избегал моего взгляда, а потому я взяла его за подбородок, заставила поднять голову и посмотреть мне в глаза. – Так расскажи мне, почему?
– Галилео, – ответил он. Я застыла, продолжая держать его за подбородок. Казалось, он сам удивился, что заговорил. – Из-за Галилео.
– Кто такой Галилео?
– Санта-Роза, – пояснил он. – Она была Галилео.
Я колебалась, выискивая в его лице нечто большее, и он, воспользовавшись тем, что я отвлеклась, нанес удар – сжатой в кулак левой рукой врезал мне по лицу. Я вскрикнула и повалилась на бок, скатившись с постели. Он сумел встать на колени, с силой натянув цепь наручников обеими руками, отчего даже металлическая спинка издала треск и начала поддаваться. Я с трудом поднялась на ноги и получила удар ногой в живот, но, едва он успел оторвать свою руку от спинки кровати, навалилась на его прикрытую брючиной голень, чувствуя под пальцами обнаженную лодыжку, и на этом инцидент был исчерпан.
Глава 23
На нас охотились всегда.
Но мне самой впервые пришлось познать эту простую истину в 1838 году. Я находилась в Риме, и как они меня там нашли, навсегда осталось тайной.
Они явились глубокой ночью, мужчины в толстых кожаных перчатках и черных масках с длинными, пахнущими чем-то сладким носами. Борцы с чумой – с очень необычным заболеванием. Рукава, лодыжки и пояса они плотно обмотали веревками, чтобы я пальцами никак не смогла добраться до их плоти. Двое уселись мне на грудь, пока третий застегивал у меня на шее жесткий воротник, прикрепленный к трехфутовому шесту, чтобы затем вздернуть вверх за горло. Я извивалась и корчилась, билась в истерике и пыталась ухватить чью-нибудь руку, прядь волос, ногу, палец – любую часть тела кого-то из незнакомцев, но они действовали осторожно, предельно осторожно. И потом, уже таща меня по ночным улицам, как взбесившуюся собаку, на крепком поводке, они непрерывно напоминали друг другу: берегитесь, берегитесь, не приближайтесь к этому дьяволу, не позволяйте его пальцу даже вскользь коснуться вас. В глубоком ночном мраке я видела лица римских императоров с отбитыми носами и отвалившимися конечностями, полные слез очи Девы Марии и пронзительные взгляды воров в капюшонах, сновавших по каменным проулкам среди покосившихся вонючих домов. Но напрасно было бы искать в них сочувствие и утешение.
В сыром каменном подвале башни, возведенной давно умершим римлянином и отреставрированной давно умершим греком, они заковали меня в кандалы, накрепко зафиксировав в деревянном кресле так, что я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, ни головой. Затем стали приходить священники и доктора, солдаты и просто громилы, избивавшие меня длинными дубинками с шипами на конце. Они окуривали меня ладаном и взывали: «Изыди, сатана! Во имя Отца и Сына и Святого Духа, изгоняем тебя. Изыди!»
На третий день моего заточения трое мужчин в масках вошли в подвальную камеру и привели с собой женщину с покрасневшими от слез глазами, которая попыталась броситься мне в ноги, поцеловать мои затянутые в перчатки руки, но ее немедленно оттащили за выложенный из соли круг, которым обвели мое кресло.
И она плакала, буквально заходилась в рыданиях: мой сын, мой сыночек, какой демон сотворил с тобой такое?
И если бы мне не переломали ребра, не затравили меня снадобьями и не кормили всего лишь водой с влажным хлебом, который подносили к моему рту на длинной ложке, я могла бы ответить: вот эти люди так поступили со мной, добрая матушка. Те самые люди, что стоят рядом с тобой, надругались надо мной подобным образом. Подойди ближе, и когда мои губы коснутся твоего уха, я расскажу тебе всю правду.
Но поскольку я находилась в жутчайшем состоянии, то не вымолвила ни слова и лишь сидела перед ней поникшая, а она все плакала и завывала, все звала своего мальчика, пока они не дали ей чашу с вином, куда подмешали что-то. Она успокоилась и села на низкую табуретку.
А затем главарь моих мучителей, мужчина в широкой красной рясе с капюшоном и огромных малиновых перчатках, которые свалились бы с его рук, не будь надежно прикреплены к манжетам и привязаны к предплечьям, встал перед моей матерью на колени и провозгласил: «Твой сын умер и отправился на небо. А ты видишь перед собой имитацию его земного образа, призрак в истлевшем теле сына. Мы могли бы предать его казни, даже не известив тебя, но ты – его мать, а для матери не знать, что случилось с ее ребенком, хуже, чем постигнуть все ужасы, которые совершило это исчадие ада».
После этого она еще немного поплакала, и я даже восхитилась жалостью, проявленной моими будущими убийцами к женщине, породившей подобное создание.
А главарь между тем продолжал: «Этот демон, облаченный в плоть твоего сына, совершал акты прелюбодеяния. Он возлежал как с женщинами, так и с мужчинами. И он носил лицо твоего мальчика, совершая один тяжкий грех за другим, наслаждаясь своим могуществом, получая удовольствие от причиненного им зла. И с каждым своим деянием он бросал все более черную тень позора на память твоего сына и потому должен быть предан смерти. Ты понимаешь это, добрая женщина? Ты простишь нам то, что велит свершить священный долг?»
Она отвела взгляд от этого ангела смерти, посмотрела на меня, а я лишь прошептала: «Мамочка…»
И сразу же мой будущий убийца положил свои руки на руки женщины и прошипел: «Это не твой сын. Это – демон. Он скажет все, что угодно, лишь бы уцелеть».
И моя мать отвернулась от меня. Со слезами, сбегавшими по ее щекам, она прошептала: «Да смилуется Господь». Но над кем, так и не решилась произнести.
Я пыталась начать двигаться, извиваться и кричать, взывая к матери, когда они уводили ее, но она даже не оглянулась, и мне трудно было винить ее. По правде говоря, я ведь даже не знала ее имени.
На следующее утро в предрассветный час меня вывели во двор, который окружали серые стены с окнами, наглухо закрытыми ставнями. Когда-то этот дом принадлежал великому человеку, но в наступивший век стали и пара превратился в запущенные руины, в монумент имперским амбициям.
Погребальный костер уже был сооружен в центре двора, и облаченные в красные рясы хозяева моей судьбы выстроились вокруг него с опущенными головами, со скрещенными на груди руками в перчатках. В металлической жаровне, стоявшей неподалеку, тлели угли. Ритуал облегчает акт убийства, позволяя сосредоточить внимание на его внешних проявлениях. Увидев костер, я снова забилась в истерике и принялась громко кричать, но меня волоком дотащили до столба и заставили пасть на колени. Передо мной возник священник; длинная черная ряса почти закрывала такую же черную обувь. Он воздел руки, благословляя если не меня, то просто тело, которое собирались предать огню, а до меня дошло, что даже под очень длинной рясой могла скрываться голая волосатая нога. И если прежде вопрос, что носят священники под сутанами, никогда особо не занимал меня, то теперь он приобрел исключительную важность. И я повалилась вперед, упершись в камни жестким ошейником, словно стараясь удавиться, хотя он при этом действительно больно впился в трахею и чуть не перекрыл дыхание. Охранник, удерживавший меня, под тяжестью моего веса подался вперед, когда я припала к мостовой, а святой отец отшатнулся, сам, видимо, потрясенный своей способностью вызывать столь глубокое раскаяние. На кратчайшее мгновение я почувствовала, что давление на мое горло ослабло. Я открыла глаза, толкнулась вперед на животе, а потом, оскалив зубы, просунула голову под одежды священника и изо всех сил укусила то, что скрывалось под ними.
Моего лица коснулись волоски, ткань лезла в глаза, во рту появился вкус крови. Священник едва успел издать испуганный и удивленный возглас, когда я совершила прыжок и сделала несколько шагов назад с развевавшейся вокруг ног сутаной. А закованного в кандалы юношу оттащили от меня, ударив дубинкой по голове. Я еще немного попятилась и, хотя мои руки сильно дрожали, произнесла на чистейшем итальянском языке: «Во имя Божье! Уйди от нас с миром!» А потом отвернулась, стараясь восстановить дыхание.
По моей лодыжке стекала кровь от свежего укуса, но из-за сутаны никто этого не замечал. Между тем невероятно изумленное тело в ошейнике открыло глаза и, когда они начали привязывать его к столбу, завопило в полном замешательстве: «Что происходит? Помогите мне! Помогите! Что происходит?!»
Я оглядела своих немногословных спутников. Толстые перчатки, длинные рясы, почти никакой возможности для проникновения. Стражник взял углей из жаровни и запалил трут. Тело у столба посмотрело на меня и вдруг выкрикнуло:
– Отец небесный! Помоги мне, молю тебя!
Рука в перчатке тяжело легла мне на плечо и тихий голос спросил по-французски:
– Надеюсь, он не успел прикоснуться к вам, святой отец?
Я посмотрела в глаза за плотно облегавшей лицо красной маской и покачала головой:
– Нет, мое облачение защитило меня.
Глаза подозрительно сощурились, и до меня дошло, что едва ли обладатель моего нового тела мог в совершенстве владеть французским языком.
Библия выпала из моих рук, и когда мужчина в рясе еще только начал поворачиваться, чтобы обратиться к своим товарищам, я сбила с его головы шляпу и сорвала с лица маску, вцепившись одной рукой ему в горло, а другую прижав к его глазам. Он лишь попытался начать сопротивляться, как я уже переключилась, развернувшись, чтобы вонзить локоть в толстое брюхо священника. Мое тело стало высоким, немолодым, но поджарым и крепким. На поясе у меня висел кинжал и пистолет на коротком шнуре, из которого я выстрелила в первого же из мужчин, попытавшегося стрелять в меня. От трута уже занялись дрова в костре, появилось пламя. Повалил черный дым, и тело у столба зашлось в истошном крике, но группе в красном было не до него: они задвигались, выхватывая оружие, подавая друг другу сигналы тревоги. И тогда я пригнулась, сложила руки вместе и бросилась головой вперед на ближайшего ко мне мужчину, врезавшись в него и опрокинув наземь. Громыхнул выстрел, и что-то взорвалось внутри меня, порвав легкое и раздробив кость. Я повалилась назад, чувствуя не столько боль в груди, сколько глубочайший шок, а звук выстрела эхом отдавался у меня в ушах. Мужчина, стрелявший в меня, стоял в каких-то пятнадцати футах и перезаряжал пистолет. Я с трудом поднялась на ноги, ощущая кровь на всем своем теле, и подбежала к нему, на ходу сдергивая перчатку с правой руки, но он успел перезарядить пистолет и произвести новый выстрел.
Удар пули заставил меня описать почти полный пируэт, и, падая, я попыталась схватиться за что угодно, за любой попавшийся под руку предмет, и таким предметом оказался сам стрелок. Мои пальцы разорвали рясу на его груди. Я прикоснулась к его теплой ключице и – о блаженный момент, о благословенное чудо! – совершила новый прыжок в совершенно целое, здоровое тело.
Человек, впившийся пальцами в мою ключицу, больше не смог держаться за нее, замертво повалившись к моим ногам с пробитыми легкими, с разорванной в клочья грудью, с покрытым его собственной кровью лицом.
Теперь уже все кричали, все достали пистолеты и размахивали кинжалами, но в воцарившейся неразберихе никто точно не знал, в кого ему стрелять. Я повернулась, ища взглядом выход, тот путь, которым меня привели сюда. И когда пламя за моей спиной полыхнуло с яростной силой, бросила пистолет и побежала.
Позади на костре уже бился в агонии человек, когда огонь стал лизать его плоть, а кожа на ногах начала пузыриться и шипеть от жара. Я же продолжала бежать.
Глава 24
В последние годы я, кого мои противники называли фамилией Кеплер, но чье тело, садившееся в автобус, который отправлялся в 07.30 на Братиславу, числилось по документам неким Койлом, старалась делать все как можно более правильно. Хотя нельзя сказать, что это у меня получалось наилучшим образом.
Вот и сейчас в маленькой комнатке маленькой квартирки маленького городка совсем юная девушка со шрамами на руках, очнувшись, сидела в страхе, не понимая, когда она успела навести в своем доме порядок, но готовая продолжать жить все той же жизнью, потому что такая судьба была предначертана только ей и никому другому. Она не понимала, что и как изменилось за какие-то, казалось бы, секунды.
И так было всегда. Последствия моих действий ощущали на себе лишь те, кого я оставляла в своем прошлом.
Автобус трясся по дорогам Словакии мимо крохотных деревень, подсаживая в одной из них старушку, в другой – пару влюбленных подростков, причем на остановке в салон редко входило больше шести-семи человек.
В нужном мне месте официальной остановки не было, но водитель знал, где меня высадить, и притормозил у часовни Святого Христофора, откуда протянулась проселочная дорога, обрамленная по обеим сторонам буками. Почва отсырела и покрылась слизью из подгнивших желтых листьев. Я шла в сторону напоминавшего огромное серое надгробие здания, вокруг которого росла полегшая трава, а рядом виднелась все еще покрытая цветками лилий поверхность пруда. Перед входной дверью располагался давно не используемый, забитый мхом фонтан. Снаружи окна были забраны железными решетками. На деревянной табличке значилось: ПРИЮТ «ДОМИНИКО». ПОЖАЛУЙСТА, ОТМЕТЬТЕСЬ У ДЕЖУРНОЙ.
При коммунистах с душевным здоровьем людей разбирались просто. Подавленность, шизофрения, маниакально-депрессивный синдром, а хуже всего – публичное высказывание взглядов, шедших вразрез с государственными, были всего лишь отражением психического заболевания, и таких людей следовало держать в изоляции от остальных. Болезнь вменялась человеку в вину. Ты, говорило государство, плачешь, сталкиваясь с грубой реальностью этого мира, и думаешь, что умеешь отличать правду от лжи, а стало быть, ты сам навлек на себя болезнь. И должен быть благодарен своей стране даже за ту малую толику сострадания, которую она в состоянии тебе дать.
Мы называем это болезнью, признался мне как-то шепотом один здешний врач, которого я встретила в Вене, но куда легче возложить вину на болезнь, чем обвинить во всем самого человека.
Коммунизм пал, но идеи так просто не исчезают. И я прекрасно знала это, когда несколько лет назад, очистив счета и лишив семьи Хорста Гюблера, привела его тело к дверям приюта и сказала: «Помогите мне, мне кажется, что в меня вселился дьявол».
Дежурная попросила меня представиться.
– Натан Койл, – назвалась я, имитируя канадский акцент. Он мало чем отличался от моего американского выговора, если исключить произношение звука «зэ», но словацкая матрона за стойкой не разбиралась в подобных тонкостях. – Я племянник мистера Гюблера. И приехал навестить дядюшку.
Казалось, это до глубины души потрясло ее.
– Как же так? – спросила она. – Вы почему-то не сказали нам, что вы его племянник, когда в прошлый раз приезжали к нему, мистер Койл!
– Разве я об этом не упомянул? Вот странно! Возможно, мои мысли были слишком заняты другими заботами. Был немного сам не свой. Не напомните, когда я был у вас прежде?
В досье с фамилией Кеплер на обложке одной из папок есть фото Хорста Гюблера. На снимке изображен мужчина чуть за шестьдесят, сидящий спиной к окну. У него два подбородка: верхний, заостренный и выпяченный вперед; второй – удлиненная жировая складка, провисающая до основания шеи. Прямые, коротко остриженные седые волосы, серые глаза. Крючковатый нос казался бы слишком крупным на лице меньших размеров, но для его черт он был в самый раз. Гюблер не смотрит в камеру, полуобернувшись к невидимому собеседнику. На нем синий больничный халат, и этот человек кажется удивленным, что его застигли здесь, на фоне заката в окне. В другой жизни из него мог бы получиться добродушный дядюшка, подобие вечно раздающего подарки Санта-Клауса, а не сменись обстоятельства, он бы превратился в известного конгрессмена, тайно насиловавшего девушек. Теперь же он стал тем, чем стал: мужчиной без гроша за душой, без друзей и даже без гражданства, поскольку сам обвинил себя во множестве преступлений, сжег свой американский паспорт, как только пересек границу Словакии. Он раздал свои деньги, распугал друзей и вел себя в полном соответствии с заявлением, сделанным по приходе в приют для умалишенных, – как человек, одержимый бесами.
Меня провели по коридорам, пропахшим дезинфекцией и жареным луком. За массивной дверью, издававшей жужжание при открытии, молча сидел какой-то изгой общества и смотрел по телевизору дневную передачу. Недавнее крупное пожертвование от пожелавшего остаться неизвестным благодетеля помогло приюту создать даже художественную мастерскую – переделать под нее небольшую комнату с широкими окнами, выходившими на север, но вот только она до сих пор оставалась под замком, поскольку даже щедрой дотации не хватило на приобретение материалов для творчества и оплату труда преподавателя.
– Мы хотим, чтобы у наших пациентов появилась возможность для самовыражения, – объяснила мне на ходу матрона. – Это способно помочь кому-то из них вновь обрести себя.
Я лишь улыбнулась, но промолчала.
– Мне это не нравится, – сказал сидевший на стуле одинокий старик в свитере, который был слишком мал даже для его узких плеч. Его нижняя губа была выпячена так далеко, что почти касалась кончика обвислого носа. – Они ничего не понимают. А когда догадаются, – тогда и наступит роковой день. И они явятся сюда, как я и предсказывал.
– Никто не явится, – с улыбкой возразила матрона. – Опять ты несешь свою бессмыслицу.
Еще один проход, небольшая лестница, запертая прочная дверь. А дальше вдоль коридора множество комнат с почти фанерными дверями, большинство из которых стояли нараспашку. Перед каждой палатой на стене располагалась доска для всевозможных бумаг и документов – назначенные лекарства, время посещения врачей, данные измерений давления. У многих, кроме того, там же были прикреплены снимки давно забывших о них семей, детей, не приезжавших их навещать, домов, которые пациенты уже никогда больше не увидят.
Рядом с дверью Хорста Гюблера никаких фотографий не наблюдалось. Она тоже оказалась приоткрыта, и матрона, постучав для порядка, не стала дожидаться разрешения войти.
Узкая кровать, стол, стул, раковина умывальника. Зеркало из пластика, накрепко привинченное к стене. Окно с решеткой, выходившее на запад в сторону деревьев, покрытых остатками облетевших к зиме красных листьев.
– Хорст, – сказала матрона на своем скверном английском. – Ты только погляди, кто вернулся!
Хорст Гюблер поднялся с единственного в комнате стула, отложил в сторону книгу – какой-то изрядно потрепанный дешевый детектив – и посмотрел на меня. Потом протянул руку с кривыми пальцами и сказал, заикаясь:
– Р-р-рад с ва-вами познакомиться.
– Ты должен помнить мистера Койла, – упрекнула его матрона. – Он ведь приезжал к тебе всего пять недель назад.
– Да, да, конечно.
Мистер Койл не мог не приезжать. Раз матрона так говорит, значит, приезжал.
– Я на-надеялся… – Он снова запнулся на слове, но потом его взгляд приобрел неожиданную уверенность в себе, и он закончил фразу: – Что вы из посольства.
– Ах, Хорст, Хорст… – Печального покачивания головы матроны оказалось достаточно, чтобы взгляд Гюблера снова уперся в пол. – Мы ведь уже все с тобой обсудили.
– Да, сестра.
– А мистер Гюблер, как видно, все еще не может запомнить простых вещей, верно?
– Да, сестра.
Она повернулась ко мне, хотя ее слова словно предназначались для более широкой аудитории:
– Это типично для пациентов с такого рода психическими расстройствами – казаться совершенно нормальными при встрече, но почти сразу впадать в амнезию. Навязчивая идея мистера Гюблера – вера в одержимость дьяволом – достаточно хорошо изучена медициной и, к счастью, на Западе теперь распространена значительно меньше, чем прежде. – Она радостно просияла, и из глубин ее обширной груди даже донесся легкий смешок, чтобы усилить эффект сказанного. – Сейчас дела уже обстоят намного лучше. Так мы считаем.
Я рассмеялась, потому что рассмеялась она, а потом всмотрелась в Гюблера, который стоял совершенно неподвижно с опущенной головой и сложенными впереди руками, но ничего не говорил. Потом он сел на край постели и вцепился в нее, словно боясь в любой момент упасть.
Когда матрона вышла, я закрыла дверь и села на стул напротив Гюблера, изучая его лицо. Как ни странно, но оно казалось незнакомым. А ведь прежде я неделями видела его в зеркалах, отпустила на нем неопрятную бородку, которая скорее размывала, чем подчеркивала его черты. И все же, даже когда я царапала это лицо в наказание, стараясь низвести Хорста Гюблера до животного состояния, я замечала остатки гордости в его глазах, кривую усмешку на губах, стереть которую, казалось, не способно ничто. Я так долго видела перед собой отражение этого лица, что стала его ненавидеть. Главным образом за то, что, вопреки моим неустанным усилиям унизить этого человека, в нем все равно то и дело проглядывала наглая дерзость того, кому слишком многое сошло с рук. Но теперь с этим было покончено.
Я делала все, чтобы уничтожить осмысленность в его взгляде, но лишь в самом конце, когда стояла перед незнакомцем в дверях психушки в далекой стране и произнесла наконец истину: «Я одержим дьяволом», – мне удалось добиться успеха. Передо мной сейчас было лицо сломленного человека. Моя миссия завершилась.
– Привет, мистер Гюблер! – сказала я.
– П-привет, – промямлил он, не поднимая головы и не глядя на меня.
– Вы меня помните?
– Да, мистер Койл. У меня значительно улучшилась память. Вы приезжали сюда со своим па-партнером.
– Ах да, с партнером. Но простите, у меня много партнеров. Не припомните, с кем именно я навещал вас?
У него что-то загорелось в глазах, потому что он явно воспринял это как тест, как проверку работы сознания и не хотел провалить испытание.
– Элис. Ее звали Элис.
Я улыбнулась и едва заметно подвинулась на край стула, чтобы оказаться ближе к нему. Он же слегка отстранился, склонив голову набок.
– Вы хорошо запомнили, о чем мы с вами беседовали, мистер Гюблер? В последний раз, когда я навещал вас. – Он ответил угрюмым кивком. – Можете пересказать наш разговор?
– Вы хотели узнать историю моей ж-жизни. Но это был нервный срыв, – добавил он, повысив голос, чтобы подчеркнуть смысл сказанного. – Я вовсе не был одержим. Со мной случился припадок, вызванный стрессом из-за ситуации в семье и на работе.
– Совершенно верно, – поддержала его я. – Помню ваш рассказ очень живо. С чего, вы говорите, все началось? К вам прикоснулась какая-то женщина. Темнокожая, в синем платье. Она пожала вам руку, а потом вы очнулись…
– Уже здесь. – Его голос перешел почти в шепот: – Очнулся… Уже здесь.
– Все верно. – Я склонилась еще ближе, сжав ладони между коленями. – А что еще вы нам поведали? О своей одержимости?
– Нет, не было никакой одержимости. Не было и в помине.
– Но ведь мы разговаривали о чем-то другом, – пробормотала я. – Когда вы очнулись здесь, вас держал за руку доктор. Вы посмотрели на него, а что сделал он?
– Я не одержимый, – резко повторил он. Костяшки его пальцев побелели от того, с какой силой он вцепился в край кровати, спина изогнулась, челюсть отвисла. – Не одержимый!
– Вы рассказывали нам с Элис о докторе? Рассказывали, как он вам улыбался?
– Он улыбнулся, потому что был рад видеть меня. Улыбнулся, чтобы начать мое лечение.
– Вы называли нам имя того доктора? – Теперь я придвинулась к Гюблеру почти вплотную, мои колени касались его коленей, пальцами я могла в любой момент взяться за его пальцы. Но как только я сделала жест рукой, он дернулся прочь от меня, спрыгнул с кровати и встал, прижавшись к стене.
– Не трогайте меня! – взвизгнул он. – Ублюдок несчастный! Не смейте ко мне прикасаться, мать вашу!
Я откинулась на спинку стула, подняв руки ладонями вверх, успокаивая его.
– Все хорошо, – тихо сказала я. – Я не собираюсь прикасаться к вам. Никто вас не тронет.
Слезы скопились на нижних веках его покрасневших глаз, готовые сорваться вниз, его дыхание участилось, тело вжималось в стену, чтобы находиться как можно дальше от меня.
– Доктор забыл, – прошептал он, а потом его речь сделалась быстрой, ясной и совершенно разумной. – Доктор потом совершенно забыл, что прикасался ко мне. Как вы это объясните? Как такое могло произойти? – Его взгляд уперся в меня, и на мгновение я заметила ту жесткость в глазах, что порой виделась мне в зеркалах, оживавшая, несмотря на все успокоительные средства. – Вы в прошлый раз сказали, что все поняли. Она держала фотоаппарат, а вы сказали, что все поняли. Что вы мне верите. Вы мне солгали? Вы, черт вас возьми, играли со мной?
– Нет, – ответила я.
– Вы мне солгали, мать вашу так?!
– Нет. Не солгал.
– Тогда, быть может… Вы издеваетесь надо мной? Делаете из меня посмешище?
– Ни в коем случае.
– Я жду уже долгие годы. Друзья, посольство… Это все сплошь проститутки. Девки продажные. Все говорят, что мое дело никак не могут рассмотреть, что в судах завал работы. Вы обещали помочь. Чего вы еще от меня хотите?
– Всего, – выдохнула я. – Расскажите все, что запомнили обо мне и об Элис. Вспомните, о чем говорил я и о чем она. Какая была на нас одежда? На каком языке я говорил? На словацком? Как выглядела Элис – уставшей, счастливой, печальной, молодой, пожилой?
– Но зачем?
Я бросила взгляд себе под ноги, а потом размяла кончики пальцев и поднялась со стула. Задвинула стул под стол, провела рукой по волосам, а потом села на пол рядом с ним, достаточно близко, чтобы очень осторожно положить ладонь на его брючину, чувствуя под ней тепло его лодыжки. Затем я медленно и глубоко вздохнула и посмотрела ему прямо в глаза.
Наши взгляды снова встретились, но впервые с тех пор, как я зашла в комнату, он узнал меня.
Мои пальцы сжали его ногу, вдавившись в обнаженную кожу.
– А как вы сами думаете, зачем? – спросила я.
Глава 25
Вечер в Братиславе. Компьютер в кафе, вкус отвратного кофе во рту, сумки Койла под моим креслом.
На адрес, который я создала уже целую вечность тому назад, но так и не удалила, пришло электронное письмо от персоны, величавшей себя Сперматозавром 13. Времена менялись, но не менялся Йоханнес Шварб.
Подробный отчет о паспортах, найденных у Натана Койла. Все в полном порядке, исключая турецкий. Его владельца теперь объявила в розыск полиция Стамбула. Этого человека подозревали в убийстве женщины на станции метро «Таксим». Под этим же именем он взял напрокат машину, чтобы спастись бегством. И за ночь добрался до Эдирне. Я сделала заметку в памяти, что надо уничтожить турецкий паспорт, и начала писать ответ. Но Сперматозавр 13 словно вечно сидел в Сети, и едва я успела отправить пару слов, как он прислал новый текст.
Последовал банальный обмен приветствиями и любезностями, смайликами и прочими эмотиконами[4], которые в значительной степени заменяли Йоханнесу обычный язык, пока не дошло до дела:
Кристина 636: Мне нужно, чтобы ты еще кое-что для меня проверил.
Сперматозавр 13: Сделаю. Что именно?
Кристина 636: Регистрационный номер машины. Ею могли управлять два человека. Либо мужчина, которого зовут Натан Койл, либо дама – Элис Уайт. Они посетили психиатрическую лечебницу в Словакии, записались в книге посетителей и оставили номер машины, на которой приехали. Один из пациентов дал описание внешности женщины. Возраст от 29 до 35 лет, короткие светлые волосы, стройная, белокожая, глаза голубые. Сможешь порыскать в базах данных?
Сперматозавр 13: Как делать нечего!
Кристина 636: Еще один вопрос. Имя Галилео тебе о чем-нибудь говорит?
Сперматозавр 13: Белый мужчина. Правда, умер давненько.
Кристина 636: Я получила два имени или названия – Галилео и Санта-Роза.
Сперматозавр 13: Никакой информацией пока не располагаю.
Кристина 636: Ладно. Проехали. И спасибо за все.
Глава 26
Братислава после наступления ночи.
Небо постепенно приобретало цвет синяка двухдневной давности, и лишь узкая полоска солнца пыталась прочертить горизонт на западе, пробивая обещавшие проливной дождь тучи. Я не бывала в Братиславе уже много десятилетий. Десять красивых улиц в центре, замок на холме, а помимо этого – троллейбусы и обилие невзрачной архитектуры. На осмотр этого города большинству туристов с лихвой хватало двух дней. Час от Вены на теплоходе. Примерно столько же поездом мимо заливных лугов, а потому в этой новоявленной столице независимого государства трудно было избавиться от постоянного ощущения, что совсем рядом расположено нечто гораздо более привлекательное.
В интернет-кафе, откуда я выходила на связь с Йоханнесом, подавали не вызывавшие аппетита пирожные, успевшие слегка зачерстветь по краям. Площадь перед ним была залита холодным белым светом, падавшим на серую мостовую, а когда начался сильный дождь, в сточных канавах засверкали и забурлили потоки воды, устремляясь в низину к реке.
Выйдя из кафе под ливень, я пожалела, что не запаслась заодно и чем-нибудь непромокаемым еще в Стамбуле, когда меняла гардероб под тело Натана Койла. Хотя у меня нашлось оправдание: в те суматошные минуты я еще понятия не имела, долго ли буду обитать в нем.
Я бросилась бежать прямо под дождем, выстукивавшим чечетку на покатых крышах домов и гремевшим в полостях алюминиевых водосточных труб. С носов и подбородков величавых статуй, украшавших соборы, вовсю капало. По крыльям ангелов уже струились настоящие водопады, разбивавшиеся о деревянные двери средневековых церквей. Рога троллейбусов высекали из проводов крупные белые искры, когда электрическим машинам приходилось совершать повороты на отсыревшей мостовой, а все четыре башни замка на холме совершенно растворились в желтом прямоугольнике марева подсветки, нависшей над искаженными темнотой очертаниями города.
Я бежала в насквозь промокших брюках, мой желудок был пуст, а по спине меня била сумка с чужими тайнами. Мимо порой мелькали темные силуэты мужчин в плащах, натянутых на головы, отчаянно пытавшихся поймать такси, и женщин с зонтами, вывернутыми ветром наизнанку, с волосами, прилипшими к их замерзшим бледным лицам; юных девиц, чьи туфли на высоких каблуках, непригодные для быстрой ходьбы, затрудняли им попытки преодолевать ручьи, бежавшие по тротуарам. В моих собственных пальцах сейчас ощущался зуд, а кожу на лице стянуло от холода. Мне в глаза бросилась женщина с красивыми черными волосами, ниспадавшими до середины спины. Ее плечи были обнажены и замерзли до посинения, потому что она уже стянула прикрывавший их прежде легкий жакет и на ходу переодевалась во что-то более теплое. Ее сопровождал мужчина, она еще явно ощущала привкус шоколада во рту и казалась очень красивой, а ее жизнь – поистине завидной, потому что сегодня вечером она поужинала с человеком, которого любила и который любил ее. И когда дождь прекратится, они будут стоять на балконе – наверняка в ее квартире есть балкон – и смотреть сквозь холодный ночной воздух на реку, не нуждаясь ни в каких словах.
Она отвернулась, а я побежала дальше – чужая жизнь всегда кажется интереснее и счастливее, чем твоя собственная, верно?
* * *
Мой отель был типичным приютом для туристов, расположенным прямо на берегу реки. Прямо над ее течением, в выступе с подсвеченной светодиодными лентами балюстрадой, находился бар, и оттуда по округе разносился звон бокалов. Стены в фойе украшали виды Братиславы, старые портреты давно умерших князей и королей. Клерк за стойкой владел пятью языками, причем на всех общался свободно, с улыбкой. Когда я сунула ключ-карточку в замок номера, дверь беззвучно открылась. В комнате оказалось даже слишком тепло, а в воздухе витал аромат кондиционера для белья.
Я приняла ванну. Погрузившись глубоко в воду, пальцами пробежалась по отметинам на теле, оставленным прожитой не мною жизнью. На левой руке, куда много лет назад сделали укол БЦЖ[5], остался маленький белый след. Я помню времена, когда почти у каждого имелось пятно прививки от оспы. Теперь – лишь небольшая точка на месте, куда ввели вакцину. Еще один едва заметный шрам пробегал между большим и указательным пальцами правой руки. Но настоящий шрам-чемпион я обнаружила под грудной клеткой – все еще розовеющий зигзаг, надрез, оставленный уверенной рукой, отчетливо заметный даже на наросшей с тех пор коже. Я провела по нему пальцем, ощущая утолщение рубца. Нож – догадалась я. Сначала впился в бок, а потом рассек живот. Рана давно зажила, и мне пришлось отдать Натану Койлу должное: он сумел полностью восстановить функциональность вспоротых мышц и даже развил их, хотя шрам остался, как кучка шлака поверх уже опустошенной шахты.
Хорст Гюблер узнал Койла, и это было хорошо. Одолженное мною лицо оказалось хоть для чего-то полезным.
А что еще важнее, я получила новое имя его партнера или, скорее, партнерши. Еще один объект для поиска. Я не торопилась пока перебирать лица тех, с кем сталкивалась на жизненном пути, но как только почувствую, что таким путем можно выйти на след людей, заказавших мою смерть или смерть Жозефины, процесс придется ускорить.
И если это тело, по руке которого стекала сейчас горячая вода, приятно согревая замерзшие большие пальцы ног, погибнет при этом… Что ж, так тому и быть. Не моя забота.
Глава 27
Воспоминания о призраках.
Анна Мария Селеста Джонс, сидящая с прямой спиной и взглядом, устремленным перед собой. Меня носили на себе. Как кожу. Так она сказала.
Красота трудно поддается измерению. Я сама однажды была моделью с длинной шеей и золотистыми волосами. Мои губы имели яркий живой блеск, огромные глаза сияли, кожа отливала шелком. В том теле я довольно скоро обнаружила, как тяжело ходить в узких туфельках на высоченных каблуках. Меня просто выводило из себя, насколько быстро теряла свой лоск кожа, если не соблюдать режим, отнимавший совершенно невероятное количество времени. Весь объем моей прически пропал после первого же мытья головы, а губы поблекли и утратили свежесть уже через день. И я прожила в роли модели с роскошными формами не более недели, а потом постоянное раздражение от необходимости уделять внешности непомерно много внимания привело меня к решению избрать что-нибудь попроще.
Настоящая красота заключается не в глазах, не в руках, не в завитках волос. Мне доводилось видеть стариков в белых рубашках с согбенными спинами, чьи глаза наблюдали за прохожими, – в их все понимающих улыбках заключалось больше красоты, больше лучившейся сиянием души, чем в самом соблазнительном теле. Я как-то повстречала нищего с прекрасной осанкой и бородой, спускающейся на грудь, в зеленых глазах и седеющих волосах которого было столько привлекательности, что мне захотелось присвоить хотя бы часть ее себе. Облачиться в лохмотья и бродить с видом никем не узнанного величавого властителя по улицам города. А еще та крошечная женщина ростом четыре фута и восемь дюймов, казавшаяся сплошь состоявшей из пурпура и жемчугов. Располневшая мамаша, чья задница с трудом помещалась в джинсы, а голос скрипел, когда она проходила мимо рядов полок в супермаркете. Я побывала ими всеми, и все они при взгляде в зеркало казались мне красивыми.
В 1798 году на берегу Красного моря я впервые открыла важную, хотя и простую истину: я со своей способностью перемещаться из тела в тело, из одной жизни в другую была далеко не единственной.
Глава 28
Меня звали Абдул аль-Муаллим аль-Нинови, и я избрала не ту сторону. Или, вероятно, будет точнее сказать, что не та сторона избрала меня.
Я прибыла в Каир в 1792 году, когда пала власть Оттоманской империи и в Египте правил тот мамелюк, у которого на данный момент меч оказывался острее, чем у других. Абдул аль-Муаллим аль-Нинови принадлежал к числу тех людей, кто мог себе позволить жить вдали от городской вони в белоснежной усадьбе, где во дворе били освежающие струи фонтанов, и содержать трех жен, одну из которых я всей душой полюбила. Ее звали Айеша бинт-Камаль, и она обожала песни, вино, поэзию, собак и астрономию. В совсем юном возрасте ее поспешил выдать замуж за небольшое вознаграждение ее отец, который понимал увлечение вином и собаками, но не одобрял всего остального.
Я встретила ее в бане, где выступала в образе уважаемой вдовы, достаточно молодой, чтобы ощущать себя здоровой физически, но уже в том возрасте, который избавлял меня от слишком навязчивых ухаживаний охотников за моими деньгами. В окутанном паром женском зале, вдали от ушей мужчин, мы с ней много разговаривали и смеялись. Когда же я поинтересовалась ее положением в обществе, она сдвинула тщательно выщипанные брови, нахмурилась и ответила: «Я – младшая жена Абдула аль-Муаллима аль-Нинови. Он продает зерно туркам, хлопок – грекам, а рабов – кому угодно. Он великий и влиятельный человек. Я была бы вообще никем, если бы не принадлежала ему».
Ее слова звучали ровно и гладко, подобно камням, на которых мы сидели, а на следующий день я уже перевоплотилась в мальчика-слугу, который покупал для аль-Муаллима хлеб и был слишком незначителен, чтобы кто-то обращал на него внимание. Еще пять дней спустя, собрав достаточно информации для исполнения новой роли, я стала самим аль-Муаллимом: немного располневшим к своим сорока с лишним годам мужчиной с великолепной бородой, требовавшей постоянного ухода, и слишком длинными ногтями, которые я распорядилась сразу же подрезать.
Естественным образом после внедрения я принялась вносить изменения в жизнь своего дома. Продала некоторых рабов, наняла новых слуг. Появлявшимся на пороге друзьям, с которыми я не была знакома, вежливо отказывали в гостеприимстве, заявляя, что хозяин болен. И скоро опасения заразиться чумой отпугнули от меня даже самых близких приятелей. Никто больше не являлся ко мне, исключая одного из двоюродных братьев, который надеялся (и наверняка горячо молил об этом Аллаха), что болезнь унесет меня в могилу, оставив ему сундуки, набитые золотом.
Из двух моих старших жен одна была совершеннейшей ведьмой. Узнав, что у нее в Медине живет сестра, я рекомендовала ей совершить туда паломничество – ради оздоровления души и тела, – за которое, разумеется, высказала желание заплатить. Средняя жена оказалась куда как более приятной в общении, но всего нескольких дней хватило, чтобы она заподозрила, что ее муж странным образом изменился, и ей тоже было предложено паломничество в далекие края на хромом верблюде.
Обе возненавидели эту перспективу сильнее, чем ненавидели друг друга, но ведь я была хозяином дома, великим повелителем, и мне следовало беспрекословно подчиняться. Вечером накануне отъезда старшая жена явилась в мои покои и устроила грандиозный скандал. Она кричала на меня, рвала на мне одежду, но, увидев, что это меня нимало не тронуло, принялась рвать в клочья свое платье, царапать себе лицо, пучками вырывать волосы из головы, не прекращая орать:
– Чудовище! Чудовище! Ты клялся в любви ко мне, заставил поверить, что действительно любишь, но всегда оставался чудовищем!
– Моя дорогая, – отвечала я, – если это и в самом деле так, то разве не станешь ты счастливее, покинув этот дом?
При этих словах она окончательно сорвала с себя наряд, обнажив тело, хорошо сохранившееся для ее возраста, откормленное, но без излишеств, удобное, как подушка, и белое, как летнее облако.
– Разве я не красива? – воскликнула она. – Разве я не желанна для тебя?
Когда утром я провожала ее, она даже не взглянула в мою сторону.
Уладив подобным образом большинство своих дел, я перебралась со всем своим оставшимся хозяйством и прислугой в особняк, стоявший у самой воды, и в первый же вечер пригласила Айешу отужинать со мной. Увы, в первые несколько недель я не смогла обнаружить в ней ничего от той утонченной женщины, с которой познакомилась в бане, и уже начала сомневаться, не совершила ли ужасную ошибку, покинув тело состоятельной вдовы. Айеша избегала моего взгляда, на все вопросы отвечала односложно, всем своим видом демонстрируя такую холодность ко мне, что и для меня ее прежняя красота несколько померкла. Но я продолжала ухаживать за ней с терпением и нежностью недавно влюбленного, хотя не видела в ней перемен до того, как однажды вечером мы сели ужинать и она вдруг сказала:
– Ты очень изменился, мой супруг.
– Тебе нравится перемена во мне?
Она долго молчала. Потом ответила:
– Я любила мужчину, за которого вышла замуж, до сих пор уважаю его и каждый день возношу молитвы за его душу. Но должна признаться, мне больше по нраву тот, кого я вижу перед собой сейчас. Мне хорошо рядом с ним, и я хочу, чтобы это продолжалось как можно дольше.
– Почему же ты вышла за меня замуж, когда я был другим?
– Из-за денег, – бесхитростно ответила она. – За меня дали выкуп, но он не может служить источником дохода. Ты имеешь доход. Ты обладаешь престижем. Твое имя всеми уважаемо. И если бы у тебя не было чего-то одного, две других части твоей личности принесли бы тебе недостающую третью. У моей же семьи нет ничего. Своим союзом с тобой я обеспечиваю их существование.
– Понимаю, – пробормотала я, но, не уверенная, как сам аль-Муаллим отреагировал бы на ее слова, решила промолчать.
Но моя сдержанность не испугала Айешу, а, напротив, вызвала улыбку. Она впервые всмотрелась в мое лицо, и у меня вдруг участилось сердцебиение. А потом жестом, почти немыслимым за традиционным восточным ужином, она протянула руку и коснулась моей руки.
– Ты и в самом деле ничего не помнишь, – почти выдохнула она, но ни в чем меня не обвиняла, а просто показала, что уже все для себя открыла, что-то поняла.
На мгновение мною овладела паника. А она продолжала сидеть, положив пальцы на мою ладонь. Когда на закате мы стояли рядом на берегу реки, я сказала:
– Мне необходимо поговорить с тобой. Есть нечто важное, что ты могла понять превратно. А быть может, и не поймешь вовсе.
– Не надо ничего мне рассказывать, – ответила она так резко, что я даже вздрогнула. Поняв, что испугала меня, она добавила: – Мне не нужна правда.
– Но почему ты не хочешь знать все?
– Я связана с тобой священной клятвой. Мне суждено уважать тебя и быть покорной. И пока я исполняю этот долг искренне, моя душа чиста. Хотя только в последние месяцы исполнение долга стало приносить мне радость. Только с… Только в эти последние месяцы. А потому не произноси слов, способных испортить чувство, возникшее между нами. Я не хочу услышать, кто ты на самом деле. Не губи этого прекрасного мгновения.
И я ничего больше не сказала. Она была моей женой, я была ее мужем, и это все, что мы хотели знать.
Шесть лет потом мы с моей женой жили в мире и богатстве – пшеница, хлопок и рабы всегда оставались прибыльными товарами. И недомолвка между нами могла со временем даже полностью забыться, если бы в Каир не пришли французы. Когда гнев египтян против своих удивительно сдержанных поначалу оккупантов достиг пика, к моей двери явились заговорщики с просьбой употребить мое влияние, чтобы снабдить их оружием и деньгами. На это я ответила вежливым отказом.
– Но ведь твой город оказался под властью неверных! – восклицали они. – Ты думаешь, французы не явятся, чтобы изнасиловать твою жену?
– А что? – спросила я. – Ваших они уже изнасиловали?
Они ушли, бормоча угрозы в мой адрес, но потом снова навестили меня, и опять с тем же результатом. Вот только их визиты ко мне не остались незамеченными. И когда начался бунт, загрохотали пушки, разрывая небо, а Наполеон лично приказал снести стены Великой мечети и вырезать всех – мужчин, женщин и детей, – кто нашел убежище внутри ее, мое имя уже звучало на улицах Каира среди имен тех, кому суждено было стать следующими жертвами кровавой бойни.
Тот самый мальчик, чьим телом я когда-то воспользовалась, чтобы изнутри узнать образ жизни аль-Муаллима, прибежал ко мне. Теперь он уже превратился в молодого человека.
– Хозяин! – воскликнул он. – Французы скоро придут за вами!
Моя жена стояла рядом со мной, спокойная и молчаливая.
– Что мне делать? – спросила я. Я задавала этот вопрос вполне серьезно, потому что перевоплотиться в щеголеватого французского офицера было бы легче всего, но тогда в один момент, за один вдох, за секунду, которая требовалась для перехода, я закончила бы для себя все, потеряла бы то, ради чего жила так долго. – Как мне поступить?
– Аль-Муаллима не должны найти в этом городе, – ответила она и впервые за шесть лет смотрела на меня, а обращалась к моему прошлому телу. – Если ты останешься, французы арестуют и расстреляют тебя. На реке есть корабли, а у тебя – деньги. Уезжай.
– Я мог бы вернуться…
– Аль-Муаллима не должны найти, – повторила она, и нотка злости прозвучала в ее голосе. – Мой муж слишком горд и ленив, чтобы сбежать.
Никогда прежде не говорила она так прямо о том, кем я была на самом деле. И хотя ее пальцы переплелись с моими, а дыхание смешивалось с моим дыханием, она видела мое тело уже в каком-то другом месте.
– А что будет с тобой?
– Бонапарт даже сейчас еще хочет показать, насколько он справедлив. По всему городу развешаны плакаты, призывающие оставить веру в Ибрагима или Магомета и поверить в того, кто правит империями и возвеличивает людей.
– Меня мало вдохновляют подобные призывы.
– Он не позволит своим солдатам убить вдову. Наши слуги, богатство и влиятельные друзья защитят меня.
– Или превратят в мишень.
– Я буду оставаться в опасности, пока здесь аль-Муаллим, – твердила она, и жилы на ее горле напряглись, когда она сдерживалась, чтобы не перейти на крик. – Если ты любишь меня так сильно, как мне кажется, то должен уехать.
– Поедем со мной.
– Только твое присутствие создает для меня здесь угрозу. Ты… кто ты есть на самом деле, подвергаешь меня опасности. И если любишь меня, не дашь причинить мне вред.
– Я смогу защитить тебя.
– Сможешь? – снова резко спросила она. – В таком случае возникнет вопрос: кто ты такой? Потому что мой муж не стал бы меня защищать. Не попытался бы, даже если бы действительно любил. А когда все закончится, возможно, ты мог бы вернуться в каком-то другом образе.
– Я – твой муж…
– А я – твоя жена, – подхватила она, – хотя прежде ни одному из нас не приходилось говорить об этом.
Айеша бинт-Камаль.
Она стояла на берегу реки, положив одну руку на живот, в голубом шарфе, повязанном на голову, с прямой осанкой. Рядом с ней плакал мальчик-слуга.
Я покинула Каир под грохот пушек неверных. Мне всегда удавалось уезжать вовремя. В этом я достигла совершенства.
Глава 29
В 1798 году на берегах Нила я жила в теле человека, чья судьба стала мне полностью безразлична. Воды реки разливались так далеко, покрывая высокую траву, что легко было поверить, будто вода безгранична и покрывает всю Землю.
Я увела аль-Муаллима на юг, как можно дальше от того места, где в тени пирамид французы сражались с кавалерией мамелюков. Мое тело стало тощим, ногти начали желтеть, и я готова была бросить его сразу же – настолько отвратителен мне стал этот уже наполовину труп. Но я помнила обещание, которое дала его жене, мою клятву сохранить жизнь ее мужу, а потому, стиснув зубы и сжав кулаки, продолжала идти вперед.
И хотя французы и близко не подошли к верховьям Нила, даже здесь их «зверства» проклинали имамы с катарактами на глазах, вопившие: «Неверные! Неверные! Они убивают нас! Они уничтожают Египет!» И чем дальше я уходила от Каира, тем более дикими становились слухи. Город сожжен, город разрушен до основания. Каждую женщину изнасиловали, а детишек убивали прямо на ступенях мечетей. Уже скоро я перестала даже пытаться оспаривать эти безумные россказни, потому что моя правдивость только делала меня предателем в глазах тех, кто собирал в пустыне силы для джихада.
Я направилась к прибрежным горам Судана и через какое-то время вышла к Красному морю в том месте, где на противоположном берегу смутно виднелась Джедда. Там меня настигли новости о крупном морском сражении, проигранном Наполеоном, и, глядя на море, я решилась наконец на долгожданную перемену.
Вдоль западного побережья Красного моря в то время располагалось всего несколько портовых городов, но многочисленные битвы в пустыне и хаос, воцарившийся в дельте Нила, где адмирал Нельсон потопил почти весь французский флот, вызвали оживление среди владельцев небольших рыболовных суденышек и почти откровенно пиратских фелюг с косыми парусами. Они очень хорошо зарабатывали на краже военных трофеев, с которыми направлялись потом караванами в сторону Средиземного моря. Мое особое внимание привлекла старинная шхуна, давно отжившая свой морской век. Ее капитаном был выходец из суданского племени динка с огромной саблей за поясом и двумя пистолетами, которые он, как опытный корсар, носил скрещенными с помощью ремней на груди. Такой пестрой этнической смеси, какую являл собой его экипаж, я не встречала больше нигде: от старшего помощника из Генуи до лоцмана из Малайзии. Они общались между собой на очень плохом арабском языке, мало-мальски сносном голландском, но более всего использовали далеко не всегда приличную жестикуляцию. Меня же, однако, более всех остальных заинтересовал единственный пассажир, которого они взяли с собой в плавание до Индии. Я впервые заметила его молча стоявшим на носу судна, обернутым в черный плащ и смотревшим на воду.
На вид ему едва минуло двадцать лет. Высокий, стройный, с безукоризненной кожей цвета эбенового дерева, с хорошо развитой мускулатурой и курчавыми черными волосами. Причем держался он отстраненно и надменно, словно какой-нибудь принц, и осторожные расспросы членов команды шхуны помогли мне выяснить, что он и был принцем – членом королевской семьи Нубии, направленным в Индию с дипломатической миссией.
– Его кто-нибудь знает? – выспрашивала я. – С ним путешествуют другие члены семьи или, быть может, слуги или рабы?
Нет, о нем ничего не было известно, кроме слухов, а на корабль он явился совершенно один, но с карманами, набитыми деньгами. Его личность представлялась загадочной, а история его жизни – таинственной вдвойне. Приняв все это к сведению, я, все еще находившаяся в теле аль-Муаллима, проследила за ним в ночь перед отплытием, когда он отправился в небольшой приморский городок. Я шла позади него мимо покосившихся глинобитных хижин по вившимся между скалами улочкам, а потом вытянула руку, чтобы коснуться его руки. Но стоило мне податься вперед для решающего действия, как в моей голове словно закричали летучие мыши-вампиры, тонкие кровеносные сосуды у меня за ушами полопались, язык ощутил привкус металла во рту, а сама я повалилась на спину, задыхаясь, как от непомерного усилия. А красавец принц повернул ко мне лицо, в котором тоже теперь не было ни кровинки, и на безукоризненном арабском языке воскликнул:
– Что, черт вас возьми, вы собирались сделать?!
Глава 30
Беспокойный сон, тревожные воспоминания в безликом номере отеля в… Где именно? В Братиславе. Что, скажите мне, ради всего святого, я делаю в Братиславе?
Сплю прямо на листах из досье некой неизвестной личности по фамилии Кеплер. Страницы, разложенные на постели, когда я верчусь, оборачиваются вокруг убийцы, которого зовут Натан Койл. Я сожгла турецкий паспорт, а пепел спустила в унитаз, потому что с самого начала знала, что однажды мне придется расстаться с этим образом, с одной из его ипостасей по крайней мере.
А этой ночью мне пришла мысль и нанесла удар с силой, заставившей меня сесть на кровати, мгновенно проснувшись.
У турецких властей не было оснований искать меня по британскому, канадскому или немецкому паспорту, но только потому, что они не подозревали ни о них, ни об именах, в них указанных. Зато коллегам Койла, кем бы они ни были, наверняка известны все фамилии, какими он мог пользоваться.
Лихорадочная работа мысли в четыре часа утра. Свет с улицы желтым прямоугольником лежит на потолке, повторяя форму окна. Остальная часть комнаты кажется темно-синей в тон не до конца погруженному во мрак городу.
Я ведь была осторожна – предельно осторожна. Избегала служб безопасности, пересекая границы в тихих местах, и очень быстро. Если только кого-то не заинтересовали мои документы по особым причинам. Йоханнес подтвердил, что турецкий паспорт никуда не годится, и я от него избавилась. Но на волне излишней уверенности в себе позволила при размещении в этом отеле отсканировать мой немецкий паспорт. Достаточно этого, чтобы выдать себя?
Пограничники в поездах проверяли документы лишь поверхностно. В отелях с паспортов делали копии для архива, а не для немедленного поиска по базам данных или обращения в полицию. И если бы я просто стремилась не попадать в поле зрения местных властей, моих предосторожностей оказалось бы достаточно.
Но на самом деле пряталась я не от полиции. Те, что нарекли меня фамилией Кеплер, не знали преград в виде границ и не уважали частной жизни постояльцев гостиниц. И пусть этой ночью я еще могла не особенно волноваться, расплатившись за номер наличными, если кто-то провел по-настоящему серьезный поиск, то наверняка при подобных обстоятельствах местонахождение тела Натана Койла стало уже известно.
* * *
Половина пятого утра. Лицо в зеркале, серое при свете лампы дневного света. Я носила лица получше, носила и похуже. Со временем я даже могла бы привыкнуть к этой внешности, но, сколько ни изучай лицо, ответов на насущные для тебя вопросы все равно не получишь. Взгляд тяжелый, но линия рта слегка безвольная, а шрамы на теле свидетельствуют, что его законный хозяин не со всеми умеет подружиться и найти общий язык. Между прочим, эти морщины на лбу… они его или мои собственные?
Я быстро собрала вещи, спрятала наручники во внешний карман куртки, ключ от них – во внутренний. И вышла в город. Нет покоя нам, нечестивым грешникам.
Глава 31
Она называет себя Янусом.
На берегу Красного моря это она носила тело отпрыска королевской семьи Нубии, и, когда я попыталась внедриться в столь желанную чужую собственность, мы обе долго ощущали потом нечто вроде тяжелого похмелья.
Более чем через сто пятьдесят лет она явилась ко мне в теле семнадцатилетней девушки и сказала:
– Ищу, в кого бы переселиться.
Я назначила ей встречу в баре на Восточной Двадцать шестой улице. На ее лице лежал красивый солнечный загар, что производило приятное впечатление, поскольку в насквозь промокшем от дождей Чикаго 1961 года красные щеки были только у тех, кто злоупотреблял водкой или слишком долго находился на ветру.
Бар был удобен для деловых и конфиденциальных встреч. Мужчина с седеющей бородкой и поредевшей шевелюрой, который хозяйничал сейчас за стойкой бара, протирая до блеска бокал, в свое время стоял за той же длинной стойкой, протирая чашки из-под якобы кофе, готовый, что к нему в любой момент могут ворваться копы, а клиенты разбегутся кто куда. И он по-прежнему владел этим тихим заведением, одним из немногих, уцелевших до бурных шестидесятых, и по-прежнему по привычке держал лучшие напитки в запертом шкафчике под стойкой.
Янус носила все синее. Я носила тело Паттерсона Уэйна, бизнесмена из Джорджии. Заняла его через день после того, как он тайно продал все свое имущество, обратив его в чемодан с наличными, то есть за день до банкротства его компании, которое лишило работы сорок семь человек, а еще шестьдесят три оставило без пенсионных накоплений. Он был здоров и находился в том возрасте, когда молодежь тебя уважает, а старики завидуют.
– Но не хочу, чтобы ты заблуждалась, – сказала она. – Я абсолютно божественна. Ты успела прикоснуться к моей коже? Чистейший шелк! А цвет лица? Ты хоть поняла, что на мне нет ни грамма косметики? Она мне без надобности! Это нечто потрясающее.
У нее действительно была нежнейшая кожа, и хотя она, по всей вероятности, могла считаться единственной особой женского пола во всем Чикаго, не украшавшей своего лица причудливыми тонами по моде шестидесятых, это только привлекало к ней взгляды как к чему-то новому и необычному.
– Есть только одна проблема, – зашептала она, склонив голову, чтобы владелец бара не смог ее услышать. – Когда я избрала эту кожу, мне показалось, что она выглядит просто блестяще. Это случилось на автобусной остановке. Она направлялась на север, как и я сама. Вот я и решила… Почему бы и нет? Было ясно, что девушка одинока, и если ею заинтересуются, то только по обычному поводу. Значит, несколько месяцев или даже лет можно неплохо повеселиться. Но вот беда… – Она под столом незаметно для других мягко прижала ладонь к животу, ее голос зазвучал взволнованно. – Из-за этого мне и приходится перемещаться. Примерно месяцев через пять я должна родить.
Я отодвинула стакан с бурбоном в сторону, оперлась локтем о стойку, достала из кармана жакета небольшой черный блокнот и огрызок карандаша.
– Что конкретно ты хотела бы для себя подыскать?
Янус в задумчивости прикусила губу.
– Мужчину, неженатого, лет двадцати пяти. Я согласна и на более молодого, но чтобы был способен содержать себя. Вот мальчики мне точно ни к чему. Тридцать два – максимум. Более возрастные уже не стоят потраченных усилий. Он должен быть холост, хотя об этом я уже упомянула. Без излишка волос на теле. Я ничего не имею против ежедневного бритья, но слишком густая поросль – это как-то уж очень в стиле конца девятнадцатого века. Мне бы хотелось, чтобы у него было собственное жилье. Где-нибудь не дальше Принстона. Пусть платит ипотеку. Это нормально, но мне не хотелось бы связываться с формальностями изначальной сделки.
Я облизала испачканный грифелем кончик пальца и перевернула страницу блокнота.
– Какие-то требования к уровню образования, перспективам карьеры?
– Самые высокие. Я ищу сферу для долговременного капиталовложения. Хочу открыть собственную компанию, завести семью. Хочу… А скажи-ка мне, чего хочет сам мистер Паттерджонс Уинн?
Вопрос был задан так неожиданно, а имя так исковеркано, что я сначала его не узнала.
– Ты имеешь в виду меня саму?
– Да? Чего бы ты хотела для себя?
Я колебалась с ответом, карандаш завис над чистым листком.
– А тебя это волнует?
– Когда мы впервые встретились, ты хотела… Как там ее звали?
– Айеша, – пробормотала я, сама поражаясь, как молниеносно всплыло в памяти имя. – Айеша бинт-Камаль. Она была… Но только мне пришлось уехать.
– Словом, ты хотела женщину, – заключила она, передернув плечами. – Жену. Нормальную жизнь. А чего хочешь теперь?
Я подумала, сложила блокнот, посмотрела ей прямо в глаза и ответила:
– Хочу того же, что и все, – чего-то лучшего.
– Лучшего в сравнении с чем?
– В сравнении с той жизнью, какую мне приходится вести сейчас.
Наступил момент, когда наш разговор мог принять самый неожиданный оборот. Но затем Янус усмехнулась и расслабилась, похлопав меня по руке:
– Пока тебе будет не до личной жизни. Устрой сначала мою. Желаю удачи!
Я вздохнула и снова взялась за блокнот:
– Какие еще пожелания? Полностью здоровая особь, весь набор прививок?
Она снова пожала плечами.
– Вижу, ты хочешь разговаривать только о деле. Что ж, отлично, – заключила она, а потом стала надавливать пальцем мне на бедро, произнося каждое важное для себя слово. – Никакого плоскостопия. Ты скажешь, это мелочь, но у меня не будет времени на лечение. Не возражаю против очков. Они добавляют солидности и достоинства. Но никаких проблем со слухом или кожей. Всякая там экзема полностью исключается. Да, и не надо сюрпризов в сексуальной области. Этим уже сыты по горло, благодарим покорно.
– Рост?
– Выше пяти футов и шести дюймов, по крайней мере. Но я не желаю и особо выделяться. Когда в тебе шесть футов и два дюйма, тебя воспринимают уважительно. Но чуть выше, и ты уже начинаешь привлекать ненужное внимание.
Я сделала пометку.
– Как я поняла, тебе нужно что-то на годы, а не на пару месяцев?
– Да, ты поняла верно.
– Ты ставишь перед собой какие-то особые цели, о которых мне следует знать?
Она ненадолго задумалась, а потом ответила:
– В общем, так: я хочу устроить нормальную жизнь, жениться на красивой девушке, иметь дом, завести ребенка. А если у меня еще и будет при этом диплом Гарварда – доплачу отдельно.
Глава 32
Пятьдесят лет спустя я шла по улицам предрассветной Братиславы с сумкой через плечо, с наручниками в кармане и чувствовала жуткую злость.
Это был тот серо-синий час самого пронизывающего холода, когда ночь уже успела поглотить последнее тепло вчерашнего дня, а заменить его было нечем. Оставалась лишь надежда на солнце, вот-вот готовое снова взойти. В дверях супермаркета рядом с надежно опущенными на витрины жалюзи спал нищий, совершенно выпавший из жизни, подложив синий пакет под голову. На пустынной сейчас рыночной площади Милетикова доносилось урчание мотора мусоровоза, собиравшего и крушившего в кузове пустые ящики, оставшиеся от предыдущего торгового дня, освещая желтыми фарами серые стены домов. По Дунаю в сторону Вены пыхтела оранжевая самоходная баржа с ржавыми бортами, высоко сидевшими над водой. Я направилась к выгнутой арке моста Аполлона и заметила сидевшего под ним на лавочке одинокого дворника, покуривавшего рядом со своей тележкой, куда собирал мешки, набитые павшей листвой.
При моем приближении он поднял взгляд, но не воспринял меня как источник опасности. Я достала наручники, защелкнула на своих запястьях. При их щелчке дворник снова посмотрел на меня, но успел лишь увидеть, как моя рука протянулась к его шее. Я прижала пальцы к оголенной коже между ключицей и шеей и совершила переход.
Натан Койл покачнулся, когда я поднялась с лавочки, и, прежде чем он успел сделать хотя бы одно движение, я ударила его в плечо, не слишком сильно. Однако Койл качнулся назад и оступился. Он попытался смягчить падение, но его руки были скованы спереди, и потому падение получилось болезненным. Я склонилась над ним. У меня хрустнул коленный сустав. Зато моему телу стало тепло, оно даже было покрыто липким потом под плотной защитной курткой. Койл хотел что-то сказать, но я уже сдавила одной рукой его горло, а другую прижала к щеке и прошипела:
– На кого ты работаешь?
Мне хотелось кричать, но над рекой звуки разносились далеко и звонко, а потому я лишь крепче надавила на его руки и прорычала:
– Почему ты убил Жозефину? На кого ты работаешь?
Как только он попытался выскользнуть из-под меня, перекатившись в сторону, я зажала коленом его руку. Потом вонзила кулак ему в лицо, перенесла весь свой вес на его грудь и громко прошептала:
– Что вам надо?
– Кеплер… – слово едва вырвалось из его рта, преодолев давление моей руки на горло. – Галилео.
– Кто такой Галилео? Что такое Галилео?
– Санта-Роза.
– Я не знаю, что это.
– Санта-Роза. Милли Вра. Александра.
– О чем ты говоришь? Что все это значит?
Он снова попытался дернуться, но заметил, как сурово я поджала губы, и решил сдаться, пока недопонимание не зашло слишком далеко.
– Он убивает, потому что ему это нравится, – прошептал он. – Убивает, потому что может убивать.
– Кто? Галилео?
Он не ответил, но и не пытался ничего отрицать. Я прижала локоть к его трахее так, что у него глаза полезли из орбит.
– Я не профессиональный убийца, – прохрипела я. – Все, к чему я стремлюсь, это остаться в живых.
Он хотел продолжать говорить, но его язык не шевелился, и у меня появилось немного времени на раздумья. Это лицо, которое уже столько раз смотрело на меня из зеркала, теперь исказил чей-то чужой страх. Но это было лицо того, кто убил Жозефину Цебулу.
Его щеки, распухшие и покрасневшие, на глазах приобретали пурпурный с синевой оттенок. Издав подобие рыка, я чуть ослабила давление, позволив ему вдохнуть поглубже, и от усилия у него даже задрожала голова.
– На кого ты работаешь? – снова спросила я, вонзив пальцы в собственные запястья, скрытые сейчас плотными и вонючими перчатками. – Кто придет за мной?
Он лежал, пытаясь отдышаться, и молчал.
– Они ведь убьют и тебя тоже. Если они подобны тебе, то придут за мной, а заодно прикончат и тебя.
– Знаю, – ответил он. – Я это знаю.
Знает, но ему все равно. А я уже забыла, когда в последний раз сама хотела умереть.
– Почему ты убил Жозефину?
– Я выполнял приказ.
– Потому что она была убийцей?
– Да.
– Потому что убила тех людей в Германии? Доктора Улька, Магду Мюллер. Из-за них?
– Да.
Я сгребла его за ворот рубашки и приблизила его лицо почти вплотную к своему.
– Но ведь все это ложь, – прошипела я. – Я провела большую работу, изучила ее биографию до мельчайших подробностей, прежде чем сделала предложение. Твои люди лгут. Она никого не убивала. Совершенно безвинный человек! И эту лживую мразь ты так упорно защищаешь. Чего они добиваются?
Я ощущала его дыхание на своем лице. От него пахло дешевой зубной пастой. Когда это лицо было моим, я как-то не обращала на такие мелочи внимания. Потом я отпустила его ворот, и его затылок снова ударился о камни мостовой. Он лежал подо мной, опять почти не дыша.
– А чего хотите вы, мистер Койл? – спросила я, снова крепко взявшись пальцами за его горло. – Забудем о тех, кто вас послал, кто лгал вам. Чего хотите вы сами? – Он не отвечал. – Что ты сделаешь, если я освобожу тебя? – Задавая этот вопрос, я избегала смотреть на него.
– Пущу тебе пулю в голову, не дав дотронуться больше ни до единой живой души.
– Так я и думала, – кивнула я. Потом добавила: – Мне известно про Элис.
Едва заметная реакция. У него лишь чуть дрогнула мышца у глаза, мелко дернулся подбородок, но более явной реакции мне и не требовалось.
– Я навестила Гюблера. Он узнал меня. То есть тебя. Сказал, что ты показался ему хорошим человеком, который почти полностью понял его. Рассказал о вашем с Элис визите. Запомни: когда участвуешь в секретной операции, никогда не оставляй в книге регистрации посетителей номера своей машины.
Теперь его дыхание заметно участилось.
– Ты все равно не найдешь ее.
– Конечно найду, – пообещала я. – А если не найду, она сама разыщет тебя. Видишь, сколько преимуществ дает мне обладание твоим лицом? Быть может, Элис даже расскажет мне правду о том, почему умерла Жозефина.
Я отпустила Койла, перевалившись на камни рядом. Он продолжал лежать на спине со скованными руками, глядя вверх на падающие капли начавшегося дождя.
– Я… я только исполнял приказ.
– Поняла, – вздохнула в ответ я. – Ты простой рядовой солдат.
Он открыл рот, чтобы заговорить. Но я уже схватилась за его руку. Едва ли он мог сообщить мне что-то интересное.
Глава 33
Теплоход до Вены.
Серебряные воды Дуная местами так широки, что его можно принять за море, у которого видны оба берега. Путешественники пересекают границу Словакии и Австрии, почти не замечая этого. Паспорта бегло проверяет при посадке билетный контролер. Вдоль берега видны хижины-времянки, давно покинутые рыбаками. Вода стоит высоко, и окна некоторых из них заливает вода. Это не река для богатых яхт, это река-труженица, создающая по обоим берегам плодоносные слои богатой илом почвы. Она питает водой многочисленные фабрики, а позади заливных лугов лежат маленькие городки с длинными названиями, в которых никто не пытается особенно сближаться со своими соседями. Больше всего австрийцы ценят приватность уединения, и города вдоль реки застыли в ожидании перемен, которые никогда здесь не наступят.
Зря я ударила Койла. Теперь у меня лицо покраснело и побаливает, а скоро под глазом окончательно расплывется огромный синяк.
Я уже нахожусь в Шенгенской зоне и могу временно считать проблему паспортов неактуальной. У меня хороший разговорный немецкий, и уж если исчезать из чужого поля зрения, то именно сейчас. Новое тело, новое имя, новая жизнь. Нужна лишь плотная толпа на выходе из собора или на рыночной площади, где я смогла бы сменить тела десять или пятнадцать раз, за чем не успеют уследить самые опытные соглядатаи, пусть их даже будет много. Я глотаю яд, и, пока отрава не начала действовать, переключаюсь, предоставляя Койла его вполне заслуженной судьбе. А я войду в другую жизнь, более интересную и яркую, чем прежняя. Каждая следующая жизнь неизменно кажется особенно многообещающей.
Но Жозефина Цебула умерла на станции «Таксим».
Потому я не сбегу.
По крайней мере, не сегодня.
Теплоход пристает сразу за мостом Шведенбрюке. На западном берегу старой Вены, туристической Вены, города шпилей, дворцов, Sachertorte[6] и концертов из произведений Моцарта – все по десять центов. На восточном берегу старинные прямоугольники окон исчезают, уступая место белому бетону и металлу жилых кварталов послевоенной Европы. Я направляюсь на запад, в старый город мимо матрон, чьи безукоризненные зады обтягивают узкие юбки – они выгуливают по вылизанным улицам собак в подгузниках. Мимо важных джентльменов с черными портфелями из лакированной кожи. Мимо иммигрантов, торгующих пиратскими дисками с фильмами прямо из лежащих на асфальте открытых рюкзаков, а их постоянно прогоняют полицейские в синих мундирах и фуражках. И эти полицейские отлично знают, что пьянство и наркомания превращаются в проблему, только когда бросаются в глаза бургомистру и его чиновникам. Я прохожу мимо фигур ангелов, которые с печалью смотрят, как их город оскверняют своим присутствием тысячные толпы неотесанных провинциалов-чужестранцев, мимо монументов императорам на боевых конях, императрицам, прославившимся своими добрыми делами, и генералам, павшим в боях с турками или при подавлении внутренних мятежей. Я миную художественную галерею, где проходит выставка под заманчивым названием: «Основные цвета: возрождение постмодернизма». На рекламных плакатах организаторы объясняют, что внутри вы обнаружите полотна, целиком написанные в одном цвете – красном, синем, зеленом, а для более радикально настроенных ценителей живописи – даже в желтом. Причем на последнем шедевре в нижнем углу поставлена белая точка, мистическим образом притягивающая к себе всеобщее внимание. Картина под названием «Любовная аневризма» выполнена в пастозно-пурпурных тонах с узкой голубой полоской, которую можно различить, только если прищуриться. Два абсолютно черных холста справедливо наименованы «Без названия».
Но я иду мимо. Мне нравится думать, что я двигаюсь вместе со временем, но даже я чуть не пропускаю период девяностых годов XIX столетия.
Антикварный магазин расположен на первом этаже огромного белого особняка. Бронзовая вывеска на двери смотрит в сторону площади с роскошным фонтаном, где вода бьет из клювов играющих дельфинов и ртов разгневанных морских божеств. Когда я открываю дверь, раздается мелодичный звон медного колокольчика. Внутри пахнет старой бумагой, перьями плюмажей и вееров, бронзой и глиной. Пара китайских туристов – такие никогда ничего не покупают – разглядывает мраморную статуэтку, изображающую епископа с суровым лицом и строгими глазами, но с обвислым двойным подбородком. При моем появлении они поспешно ставят ее на полку, хихикая, как два школьника, которых застали за подглядыванием в девичью раздевалку. Мужчина с седеющими волосами, в зеленых брюках с тонкими заплатками на коленях, прихрамывая, выходит из-за прилавка с черепами, вазами, кипами старинных документов и обязательными копиями собора Святого Стефана. Увидев меня, он застывает на месте.
– Я же сказал вам, – рычит он, – уходите и больше здесь не появляйтесь!
Мне не сразу приходит на ум объяснение: он видит меня в другом теле. Я чувствую, как меня охватывает волна жара и почему-то стыда.
– Клеменс, – обращаюсь я к нему. – Это Роми.
Его руки, воздетые вверх, словно он способен выставить меня за дверь лишь одной силой воли, вдруг застывают. Лицо каменеет, губы вытягиваются в узкую линию.
– Ты – кусок дерьма, – цедит он, и от заметного акцента его слова звучат еще грубее. – Мне нечего тебе сказать, а ты все равно заявляешься…
– Я – Роми, – повторяю я, делая шаг вперед. – Мы с тобой ходили вместе в оперу, катались на колесе обозрения. Ты любишь зеленые бобы, но терпеть не можешь брокколи. Я – Роми. Я – Дью. Это все я.
Глава 34
Клеменс и Роми Эбнер.
Они появляются примерно к концу первой трети досье с надписью «Кеплер».
Эти двое встретились в 1982 году за ужином в Вене, а через пять месяцев поженились. Роми была католичкой, Клеменс отрекся от церкви, но они обвенчались перед лицом Господа, и оба восприняли обряд очень серьезно.
Их первый ребенок родился в 1984 году и в четырнадцать лет был отправлен в школу-интернат, чтобы возвращаться в семью только дважды за год. Клеменс прежде обожал бродить по лесистым холмам, окружавшим Вену, но Роми не нравилось это занятие, а потому его туристические башмаки оставались дома, и он видел горизонт только из окна трамвая, когда ехал по Брюнерштрассе на работу.
Когда Клеменс записался в кружок хорового пения, Роми сказала, что он поет как бурундук. Она стала посещать собрания в местной церкви, а он прошел курс обучения кулинарному мастерству, но она называла приготовленные им блюда иностранной мерзостью и заявляла, что у нее нет времени на долгие трапезы. Она скоро бросила работу, чтобы больше внимания уделять духовным нуждам, а он стал работать больше и дольше, обеспечивая обоих, и оказалось, что ему даже нравится проводить одинокие вечера в полумраке магазина и он не нуждается в компании.
Ко времени нашей с ними встречи я носила имя Тринх Дью Ма, сбежавшей из дома в тринадцать лет. Через пять лет ее родители наняли «агента по недвижимости», чтобы найти и вернуть ее. Поскольку денег на оплату моих услуг у них не было, вознаграждением для меня стали шесть месяцев в теле их дочери в обмен на ее возвращение домой. Я согласилась на эту сделку, но пожалела об этом, потому что, вытащив Тринх из борделя в Линце, потом почти месяц провела, занимаясь лечением и детоксикацией. Когда боль становилась невыносимой, я переключалась из тела Дью в ухаживавшую за ней медсестру и сидела, уткнув лицо в ладони, пока она кричала: «Дайте мне героина, ради всего святого, дайте то, что я прошу, и я все сделаю ради этого!»
Но и после того, как остатки опиатов были выведены из ее организма, а я, пошатываясь, вышла из дверей лечебницы, я остро ощущала пустоту в ее сознании, жажду в крови, и гадала, насколько сильна осталась ее зависимость и смогу ли я добраться до Вьетнама, не сломавшись опять.
Сидя в зале ожидания зоны вылета аэропорта в Вене, обхватив руками колени, с фальшивым паспортом в кармане и с головой, которая шла кругом от избытка кофеина, я болезненнее ощущала желание хорошо одетых пассажиров обойти меня стороной, чем подозрительные взгляды сотрудников службы безопасности. Затем офицеры с таможни, не имея на то никаких особых оснований, кроме моего юного возраста, расы и почти полностью заживших отметин на руке, увели меня для полного личного досмотра и раздели донага. Их пальцы шарили по всему моему телу, их аппаратура пищала, сканируя мою покрытую гусиной кожей грудь, а я молча стояла, расставив в стороны руки и ноги, и мною владело невыносимое желание поскорее выбраться оттуда.
Я почти готова была бросить Дью с билетом до Ханоя, но без тени воспоминания о том, как она попала сюда, когда меня, забившуюся в угол и свернувшуюся калачиком, чтобы занимать как можно меньше места, заметил этот мужчина. Он подошел и спросил на плохом английском:
– С вами все хорошо?
Клеменс Эбнер в желтом свитере и нелепо сидевших на нем бежевых брюках встал на колени рядом с трясущейся девушкой из Вьетнама и повторил вопрос:
– Мисс? Мэм? С вами все хорошо?
Стоявшая у него за спиной прямая и чопорная Роми Эбнер, одетая во что-то черно-синее, воскликнула:
– Немедленно отойди от нее, Клем!
Я посмотрела замутненным взглядом Тринх Дью Ма в глаза единственного мужчины в мире, которому оказалась не безразлична, и увидела, как он красив. Я влюбилась в него с первого взгляда.
Двумя неделями позже я постучала в тяжелую черную дверь их венской квартиры, придя туда на крепких, натруженных, обутых в сандалии ногах местного почтальона и сказала:
– Вам заказное письмо!
Дверь открыла Роми Эбнер, и, пока она расписывалась в получении, я поймала ее за руку и совершила прыжок.
Глава 35
В теле Натана Койла я сидела в самом темном углу самого маленького кафе в Вене и ела кусок лимонного торта с вишенкой наверху, а Клеменс потягивал кофе из крошечной чашечки и изо всех сил пытался не смотреть на меня пристальным взглядом, но у него ничего не получалось.
– Как могло случиться, что ты оказалась в нем? – спросил он как можно тише, чтобы не слышали клиенты, расположившиеся рядом на обед. – Как ты стала этим мужчиной?
В каждой морщинке в уголках его глаз читалась неприязнь, а в голосе звучала почти откровенная ненависть. Я пожала плечами, взяв на кончик вилки кусочек торта, и постаралась не воспринимать его отношение как нечто направленное против меня лично.
– Он сам разыскал меня, – ответила я. – Если не ошибаюсь, ты уже с ним встречался?
– Этот тип явился в магазин, расспрашивая о тебе, – проворчал он, по капле отпивая эспрессо. – Причем его интересовали не твое имя и не описание твоего… твоих способностей. Он знал, что у моей жены случались провалы в памяти – несколько дней тогда, еще несколько дней в другое время, – и он спросил, не происходило ли такого же со мной.
– И что ты ему сказал?
– Сказал, что не происходило.
– А что сообщил о своей жене?
Клеменс улыбнулся, но сразу же снова нахмурился – радость и чувство вины поочередно промелькнули в его чертах.
– Я сказал ему, что с ней все в полном порядке, хотя она не помнит, чем занималась, например, вчера. Сказал, что мы с ней несколько раз посещали врача, но он не нашел у нее никаких отклонений от нормы, а потому ее состояние не слишком меня тревожит.
– И его… то есть меня, – усмехнулась я, – удовлетворил такой ответ?
– Ты ничем не выдала своих чувств. Вот твоя партнерша отнеслась к моим словам с явным недоверием.
– Моя партнерша? Элис?
– Да, так она представилась.
– Как она выглядела?
Он сдунул тонкую струйку пара над своей чашечкой и задумался.
– Она говорила по-немецки с берлинским акцентом, ей нравилось командовать. Вела себя по-мужски, очень жестко, очень самодовольно. Много общалась по своему мобильному телефону, делала записи, снимала на фотоаппарат, хотя я просил не делать этого. Короткие светлые волосы. Она хотела быть круче всех, кто находился рядом. А мне показалось, что именно в этом ее слабость – в желании казаться сильной.
– А разве это не взаимоисключающие черты – женственность и жесткость? – спросила я, и, к моему удивлению и тайной радости, Клеменс покраснел. У него была особая манера краснеть, очень меня привлекавшая. Это начиналось с нижней части шеи, а потом румянец поднимался до уровня ушей.
– Нет, – пробормотал он, – вовсе нет… Мне просто показалось, что она слишком старалась выглядеть… выглядеть той, кем ей было не обязательно казаться.
Я снова усмехнулась и едва сдержала желание положить ладонь поверх его руки. Наши глаза встретились, но он тут же отвел взгляд, устремив его в оставшуюся на донышке чашки кофейную гущу.
– Она оставила мне свою визитную карточку. Электронный адрес, номер телефона. Тебе это поможет?
– Да. О боже, да конечно же! Это как раз то, что мне нужно.
– Тогда забирай. Только используй… во благо.
На визитке было всего три строчки – адрес электронной почты, телефонный номер и имя: Элис Майр. Клеменс достал ее из бумажника, где хранил десятки таких же бесполезных для него карточек и членских билетов обществ, куда когда-то вступил, но уже совершенно забыл об этом. Когда он передал мне визитку, наши пальцы соприкоснулись. Мне хотелось продлить мгновение, но он застенчиво отдернул руку.
– Это… так неожиданно, – промямлил он.
– Извини. Я не думала, что мы встретимся подобным образом.
– Ничего… Я же знаю, что это ты. У тебя должны быть свои резоны. Этот мужчина… Этот тип, в которого ты превратилась… Он причинил тебе боль?
– Да.
– Я так и думал, – прошептал он. – Ты никогда не делаешь ничего, не имея на то особых причин.
– Он убил… близкого мне человека.
– Соболезную.
– Но его целью была я сама.
– Почему?
– Так порой происходит, – ответила я. – Каждые несколько десятилетий находится кто-то, кому становится известно о нашем существовании. Они понимают, на что мы способны, и пугаются. Но на этот раз все иначе.
– В чем же разница?
– На этот раз отдали приказ убить не только меня, но и реальную хозяйку моего тела. Такого никогда не случалось прежде. Та женщина была совершенно ни в чем не повинна. Я сделала ей предложение, и она его приняла. Но теперь она мертва, а люди, охотящиеся на меня, нагородили лжи, чтобы оправдать ее убийство.
Он отклонился подальше от меня, сам, видимо, этого не заметив. Мое лицо принадлежало убийце, и он знал, что разговаривает не с ним, но у нормальных людей порой срабатывают чисто инстинктивные реакции.
– Что ты будешь делать?
– Найду убийцу Жозефины. Это тело спустило курок и заслуживает… Но оно всего лишь выполняло приказ. Кто-то другой решил, что она должна умереть. И я хочу узнать почему. Хочу узнать подлинную причину.
– А что потом?
Мы оба замолчали. Я улыбнулась, но моя улыбка не ободрила его.
– Еще кофе?
– Нет, спасибо.
Его взгляд не отрывался от кофейной гущи, по которой он пытался прочесть будущее.
– Как твоя жена?
Он кинул на меня быстрый взгляд, но потом снова отвел глаза в сторону.
– Хорошо. Даже очень. Все время занята. Всегда находит для себя дело.
– А ты… счастлив?
Снова беглый взгляд, секундное замешательство, пропавшее так же быстро, как и появилось.
– Да, – тихо ответил он. – Мы оба вполне счастливы.
– Рада слышать.
– А ты сама? – спросил он. – Ты счастлива?
Я задумалась, а потом невольно рассмеялась:
– Если принять во внимание все обстоятельства… Нет. Совсем нет.
– Жаль… Сочувствую. Кстати, как мне к тебе обращаться?
– Сейчас меня зовут Натан.
– Что ж, постараюсь не забыть. Это твое имя или?.. – Чуть заметный жест в сторону моего тела.
– Нет, оно принадлежит ему, – ответила я. – Свое собственное имя я потеряла очень и очень давно.
Клеменс Эбнер.
Если отвлечься от его усталого вида, поникших плеч и утраченных им иллюзий, его очень легко полюбить. Он так бесхитростно умеет привязаться к человеку, так терпелив и верен тебе, что его действительно легко полюбить, но любовь с его стороны многие воспринимали как должное, ничего не давая ему взамен.
Я впервые пришла к нему в теле его жены. Разумеется, я сначала изучила обстановку, потому что если у меня и есть талант, то это талант «агента по недвижимости», и я знала, с какого места начать жизнь чужого мне человека, как играть в нее, словно играешь в «Монополию», где все ненастоящее, включая даже деньги. В первый же вечер по превращении в Роми Эбнер я предложила пойти куда-нибудь поужинать. Например, в тайский ресторан.
Клеменс Эбнер обожал тайскую кухню, и мы заказали огромное блюдо острой ароматной еды: утку, тушенную с орешками кешью, рис в кокосовом молоке, зажаренные до хруста креветки, рисовую лапшу, тофу, приготовленный на пару с подложкой из чеснока и грибов. Когда мы покончили с ужином, я сказала: пойдем, скоро в зале за углом начнется концерт. Играли Брамса, и под звуки скрипок я держала его за руку.
Дома мы лежали рядом в темноте на скрипучей кровати, а потом занялись любовью, как два подростка, которые только сейчас поняли, на что способна их плоть.
Утром, держа меня в объятиях, он заявил:
– Ты – не моя жена.
– Разумеется, я твоя жена, – воскликнула я, ощутив, как сердце заколотилось в груди. – Не говори глупостей!
– Нет, – возразил он. – Моя жена ненавидит все, что я люблю. Только она достойна любви. А сексом мы занимаемся исключительно для моего удовлетворения, потому что для нее физическая близость – это грязь, секс порочен, и лишь из-за слабости мужчин женщинам приходится идти на такое. Ты – женщина, лежащая сейчас в моих объятиях, – не можешь быть моей женой. Так кто же ты?
И я сама себе поразилась, когда во всем призналась ему.
Я – не Роми Эбнер. Я – не Натан Койл. Я – не Тринх Дью Ма, рыдавшая на плече отца как раз в тот момент, когда я с большим облегчением покидала ее тело. Я – не Жозефина Цебула, труп которой лежит в турецком морге, не аль-Муаллим, потерявшийся где-то на берегах Нила, и не пустоглазая девочка в маленьком городке в Южной Словакии со шрамами на руках и наркотиками в венах: давай займемся чем-нибудь чуть более замысловатым?
Раз в несколько лет я возвращаюсь к Клеменсу Эбнеру и к его жене, которую он никогда не бросит, и пару ночей (желательно в выходные, чтобы у него не было никаких обязательств) он с наслаждением предается адюльтеру в объятиях собственной супруги. И мы совершаем речные прогулки, катаемся на колесе обозрения – то есть ведем себя как типичные туристы, бродим рука об руку, пока мне не приходится исчезнуть, а ему остается лишь любить тело, которое я оставляю после себя.
Если верить моему досье, то я – Кеплер.
Что ж, меня и это устраивает.
Глава 36
Клеменс спросил, не пожелаю ли я задержаться. Он сам не хотел этого, но все равно спросил, следуя правилам хорошего тона.
– Спасибо, но нет.
Когда бы я ни внедрялась в тело его жены, мне удавалось избегать встреч с ней, кроме краткого момента физического контакта, необходимого для перехода. И мне не очень-то хотелось изменять традиции.
– Если у тебя проблемы… ты можешь побыть мной. Пусть недолго. Если есть необходимость. – Он понимает, что перспектива лечь за него в постель не сулит ничего хорошего, но искренен в предложении воспользоваться его личностью.
Мне приходится приложить усилие, чтобы не поцеловать его, когда я ответила:
– Спасибо, но это лишнее.
– Этот человек, в котором ты сейчас. Этот… Натан. Ты собираешься убить его? – Слова даются ему сложно. В них слышатся отвага и страх.
– Может быть, – ответила я. – Может быть.
Он кивнул, осмысливая сказанное мной. Потом произнес:
– Не надо. Жизнь слишком хороша. Не убивай его.
– До свидания, Клеменс Эбнер.
– До свидания, Натан.
Мы обменялись формальным рукопожатием, но, когда я повернулась, чтобы уйти, его пальцы коснулись моей руки – внутренней ее стороны, где кожа особенно нежна. Он был испуган, но его пальцы задержались на мне, едва дотрагиваясь, – он ждал. Потому что если пользоваться моментом, то именно сейчас.
Я ушла, не оглядываясь.
Туристические отели. Если вы жили в одном из них, считайте, что знаете все.
В этом отеле в холле стояли два стареньких компьютера, которыми постояльцы могли пользоваться бесплатно в течение получаса. На все мои многочисленные электронные адреса пришло только одно сообщение, более интересное, чем предложение приобрести кофейный сервиз за 72 процента от его якобы реальной стоимости или крем против целлюлита для современной женщины.
Письмо прислал Йоханнес «Сперматозавр 13» Шварб, и оно пришло с припиской внизу, что «вся информация, содержащаяся в сообщении, является конфиденциальной, а ценность ваших инвестиций может как повыситься, так и понизиться». Он явно забыл удалить эту чушь, прежде чем нажать на кнопку «Отправить».
Письмо было коротким, но важным. Я получила данные о происхождении автомобиля, на котором пара приезжала в словацкий приют. Точнее – информацию о женщине, взявшей машину напрокат в филиале фирмы «Юропкар» в Братиславе. Номер кредитной карты, которой она расплатилась. Одиннадцать мест, где она пользовалась той же кредиткой раньше.
Пять из одиннадцати находились в Стамбуле, а даты предшествовали дню смерти Жозефины Цебулы. Остальные адреса были берлинскими. Внизу значились имя, фамилия и адрес владелицы. Элис Майр.
Рада с вами познакомиться, Элис. Наконец.
Глава 37
«Агент по недвижимости» в нашем понимании выполняет две основные функции.
Первая состоит в подборе собственности для долговременного использования. Мужчина или женщина, человек молодой или уже в годах – нет смысла рисковать и надолго перемещаться в тело, если не знаешь досконально общественное положение объекта своего интереса, имеет ли он криминальное прошлое и каково состояние его здоровья. Я слышала о семерых себе подобных, угодивших в больницу с астмой, стенокардией и диабетом, чего они могли легко избежать, если бы за них проделали необходимую работу. Причем двое даже умерли, потому что удар настиг их так внезапно и быстро, что не осталось возможности хотя бы вцепиться в руку санитара службы «Скорой помощи» и совершить прыжок. Если бы одна из них знала о своем новом теле достаточно, то догадалась бы найти в кармане жакета всегда лежавший там наготове эпинефрин. И осталась бы в живых, но ее погубило невежество и нежелание подробнее изучить содержимое карманов своего гардероба.
Вторая функция агента порой даже более утомительна: поиск объектов для кратковременного пользования и изучение подходов к ним.
Приведу забавный пример.
«Хочу стать Мэрилин Монро!»
В 1959 году Голливуд, конечно же, был, как всегда, полон блеска и славы, заманчиво сверкая огнями киностудий. А вот в тамошней забегаловке под названием «Алая звезда» на Северном Арлен-бульваре в то же время подавали худшую яичницу, какую только могли приготовить по эту сторону от Гринвичского меридиана. Я вяло ковыряла свою порцию вилкой. Напротив меня в отдельной кабинке расположилось тело сорокадвухлетней Энн Мунфилд. И оно заявило:
– Желаю стать ею, пусть всего на несколько дней. В пятницу устраивают прием, где соберется весь цвет города, и я подумала, что должна попасть туда. Сначала на ум пришли Тони Кертис и Грейс Келли. Затем я решила – черт с ним, подойдет тело какого-нибудь политика. На худой конец, официанта. Но потом мною просто овладела навязчивая идея. Мэрилин, и только Мэрилин! Пару дней, пару ночей, быть может. Я отчаянно хочу побыть Мэрилин Монро!
В этот момент я проткнула желток, и из него брызнула струя то ли воды, то ли масла, но чего-то явно лишнего – возможно, зря растраченного материала, из которого со временем в яйце мог вырасти невиданный прежде монстр. Или доисторический динозавр.
– Ну? – спросила моя собеседница, перегнувшись через покрытую литой резиной поверхность стола. – Есть мысли на этот счет?
Я отложила вилку в сторону. Обладательница тела Энн Мунфилд взяла себе псевдоним Аурангзеб, хотя зачем она это сделала, оставалось для меня загадкой. По ее собственному признанию, она приобрела способность к переходам всего тридцать лет назад, а всю предыдущую жизнь воспитывалась где-то на ферме в глуши Иллинойса. Но даже если бы она сама не рассказала мне о своей неопытности, ее поведение выдало бы ее с головой.
– Хорошо, – пробормотала я. – Давай обсудим некоторые аспекты этого дела. Во-первых, почему именно Мэрилин?
– Иисусе Христе, как же ты не понимаешь? – воскликнула она. – Странный вопрос: почему Мэрилин? У кого еще такое соблазнительно гладкое и маленькое тело с восхитительными формами? Но оно не только само совершенство. Оно еще и настоящее, вот ведь в чем штука! Надеюсь, хотя бы это тебе понятно? У нее настоящая попка, сиськи, животик – хотя кое-кто считает его чуть полноватым, – но все это реальное, все свое. Она божественно хороша собой.
– Ходят слухи, что она подсела на спиртное и таблетки.
Аурангзеб от раздражения просто зашлась:
– А кто на них не подсел в этом городе? Обрати внимание хотя бы на некоторые лица, что сидят рядом с нами. Их словно крабы пощипали клешнями. Мне говорили, что ты как раз эксперт по этой части. У тебя отличная репутация. А мое нынешнее тело? Уйма денег, но никакого удовольствия! Я заплачу сколько скажешь. В любой валюте. Могу выписать чек. Только сделай это для меня, пожалуйста! Договорились?
Вполне возможно, что когда-то Энн Мунфилд была достойной дамой среднего возраста, серьезной и интеллигентной. Быть может, даже вегетарианкой. Но сейчас ее лицо исказилось от овладевшего ею каприза, и она смотрела на меня глазами несчастного щенка, который боится получить от хозяина ботинком по голове. Столь детская мольба в глазах никак не шла к лицу, более годившемуся матери добропорядочного семейства.
Из яичницы продолжала сочиться маслянистая жидкость, хотя мой организм в тот момент странным образом более всего требовал обычной капусты. Причем мне никогда в жизни не нравилась капуста, но сейчас желудок жаждал ее, как младенец жаждет молока из груди кормилицы. И, видимо, точно так же Аурангзеб всеми фибрами души, каждой своей мышцей, каждой жилкой стремилась утолить чудаческую потребность в чем-то новом и крайне необычном.
– Если я соглашусь на это, – криво усмехнулась я, – то мне нужна будет стопроцентная уверенность, железное обещание с твоей стороны: одна ночь, две максимум, и ты сваливаешь. В понедельник утром Мэрилин Монро должна проснуться с горьким похмельем, но с чувством, что она не могла пропустить ничего важного. И точка. Больше никаких выкрутасов. Это ясно?
Аурангзеб издала победный клич и радостно прорезала кулачком воздух. А меня вдруг обжег приступ стыда, когда я подумала, что столь привлекательная женщина, какой, вообще говоря, она казалась, стала в моих глазах грубой, вульгарной и уродливой идиоткой.
Изучение образа жизни и привычек Мэрилин особого труда не составило. Она стала одной из первых кинозвезд, которая не только любила внимание прессы, но и обольщала ее, приглашала к себе, намекая на самые интимные откровенности. Она готова была чуть ли не принимать с прессой ванны, пить с прессой молочный коктейль из одного бокала, чтобы потом, когда пресса отнимала его от губ, собственный носовой платок Мэрилин в метафорическом и в самом прямом смысле вытирал полоску молока с усов прессы.
Немного больше усилий пришлось приложить, чтобы добыть столь же важную (а порой и более интересную) информацию о людях, ее окружавших.
Я провела полдня в роли жизнерадостной чернокожей женщины по имени Мэгги, приносившей кофе всем боссам студии «Фокс». Еще три часа я была измотанным продюсером с редеющими волосами и, как мне показалось, пока еще не обнаруженным врачами ишиасом. Ровно три минуты я простояла на посту в шкуре охранника, две минуты работала главным осветителем, семь – костюмершей и уже перед самым уходом на сорок пять секунд перевоплотилась в малоизвестного актера, у которого во рту ощущался привкус аниса и чью фамилию я тут же забыла.
Когда я выбралась на свежий воздух, мое тело – мое любимое тело – дожидалось возле машины.
– Как все прошло? – спросил он.
– Ненавижу этот город, – ответила я. – До сих пор губы болят от вымученных улыбок.
Он пожал плечами:
– Но раз уж без этого не обойтись, то работа требует жертв. Кстати, какие планы на сегодняшний вечер?
– Я как раз думала над этим. А что?
– У «Доджерс» матч. Я подумал, ты захочешь пойти.
Я помолчала. Чего не сделаешь ради своего тела?
– Ладно, пойду. Вот только сменю свою личность на кого-то попроще. – С этими словами я взяла его за протянутую мне руку и переключилась.
«Доджерс» меня не интересуют нисколько. И вообще – бейсбол мне безразличен. Спорт слишком тривиален. Но если вы подозреваете, что перед вами сидит не просто человек, а призрак вроде меня, рекомендую спортивные тривиальности как один из методов проверки. Тело в куртке с эмблемой «Доджерс» должно, по крайней мере, знать счет последней игры. Но какой уважающий себя призрак станет тратить время на подобные пустяки? Вот за знание таких простых трюков и стоит платить «агентам по недвижимости».
Прямые белые улицы, из которых складывается похожая на решетку карта Лос-Анджелеса.
Мое тело молодо и стало заметно сильнее от хорошего питания, слева под мышкой у меня родинка, которую я нахожу необычайно пикантной и должна подавлять в себе желание не слишком явно демонстрировать ее на публике. Кроме того, тело – важнейший помощник для меня как «агента по недвижимости», когда подворачивается работа. Я могу превратить его в аккуратного и исполнительного мальчика на побегушках.
То свое тело я впервые встретила под эстакадой скоростного шоссе номер 101. В месте, где гибнут мечты. Несостоявшиеся актеры, порнозвезды, не успевшие вовремя лечь под нож пластического хирурга. Мастер-декоратор, уволенный после банкротства студии. Сценарист, так и не сумевший написать ничего, что можно было бы продать за хороший гонорар. Наркоторговец, потерявший весь товар в ходе последней полицейской облавы. Подросток, чей отец оказался за решеткой, а мать не могла содержать семью. Это было черное и грязное пятно посреди ночного города, провал в окружении ярко сиявших неоном улиц. Там было опасно разгуливать в одиночестве после наступления темноты. Но зато идеальный уголок, если требуется никому не нужное тело.
На нем были какие-то вонючие серые тряпки, спадавшие с него, как оболочка с окончательно сгнившей мумии. Борода отросла до ключиц. Волосы казались уже поседевшими, но, когда я присела рядом с ним на корточки и сунула двадцатидолларовую купюру под его дырявую черную шляпу, он сообщил мне, что его зовут Уилл и ему всего двадцать два года.
– Ты наркоман? – спросила я.
– О господи! – простонал он сквозь шум пролетавших у нас над головами машин. – К чему такие вопросы?
– К тому, что ответы на них смогут изменить твою жизнь, – ответила я. – И мы говорим не только о деньгах.
Он повернул голову в одну сторону, затем в другую, напоминая движениями лебедя, изучавшего свое оперение.
– Нет, я не сижу на игле. Мне нечем даже за это дерьмо заплатить.
– Тогда как ты оказался здесь?
– Запал на одного парня.
– И что с того?
– А то, что в Техасе не терпят содомии. Если бы мальчишка был хотя бы белый, возможно, мои предки еще смогли бы закрыть на все глаза. Хотя едва ли. На меня столько дерьма обрушилось, что не успел даже поинтересоваться.
– У тебя здесь есть семья или друзья?
– Да приходят тут всякие типы, которых я интересую, – ответил он угрюмо.
– Это… не совсем то, что я имел в виду.
Он посмотрел на меня с прищуром:
– Говори дело. Не ходи вокруг да около.
Я села на землю, положив руки на колени.
– Через пять секунд ты будешь стоять в другом месте, сам не зная, когда успел попасть туда.
– Что за чушь ты не…
Я ухватила его за кисть и переключилась. Через пять секунд он стоял чуть в стороне, не понимая, как там оказался.
– Какого хрена ты со мной сделал? – изумленно спросил он.
Меня чуть качало. Голова слегка кружилась от двух прыжков, совершенных за короткое время.
– Мне надо, чтобы ты внимательно меня выслушал. У каждого в жизни наступает момент – такой быстрый, как вспышка молнии, – когда жизнь в корне меняется. Это могут быть две секунды, которых водителю грузовика не хватит, чтобы нажать на тормоз. Мгновение, и ты говоришь роковую глупость, не успев обдумать свои слова. Это миг, когда копы выламывают твою дверь. Каждый понимает, когда его жизнь оказывается на острие ножа. И вот такой момент пришел для тебя.
– Кто ты такой? – запинаясь, спросил он. – Кто ты, черт возьми, такой?
– Я – призрак. Я живу в коже других людей, ношу чужую плоть. Внедряюсь быстро, безболезненно и не оставляю о себе никаких воспоминаний. Не прошу принимать решение сейчас же. Буду держать дистанцию и дам тебе время все обдумать. Я в этом городе на несколько недель по делам. И мне нужно только частично постоянное тело, с которым я смогу временно расставаться, когда отпадет нужда, но с гарантией, что оно не сбежит от меня, стоит мне его ненадолго покинуть. Ты понимаешь, о чем я?
– Ни хрена я не понимаю! – сказал он, но не кричал, не поднимал шума, и это уже был добрый признак.
– Сделка простая. Я приведу тебя в порядок: новая одежда, прическа, деньги, удостоверение личности и прочее. Сниму на шесть месяцев квартиру в хорошем районе, набью холодильник жратвой, а потом положу пять тысяч долларов в банк на любое имя, какое ты сам предпочтешь. Если у тебя есть кулинарные или сексуальные предпочтения, мы это обсудим и решим. В обмен я на три недели получу твое тело.
Он помотал головой, но в этом жесте не читалось злости или немедленного отказа.
– Ты чокнутый, мать твою! – выдохнул он.
– Я пока прошу вежливо, – подчеркнула я. – Для нас обоих будет лучше, если мы все сделаем на добровольной основе. Если сомневаешься в моих намерениях, скажу: планирую покинуть свое нынешнее тело завтра к обеду. Кожа этого мужчины мне понадобилась только для автобусной поездки до Лос-Анджелеса. Он не поймет, как здесь оказался, откуда на нем такая одежда и даже дополнительная стелька в левом ботинке, которая была ему нужна, но он не задумывался об этом. И уж совсем удивится, когда найдет тысячу долларов потертыми банкнотами на дне своего чемодана. Он, конечно, может запаниковать, куда-то побежать и вообще наделать множество глупостей, которые я, увы, уже не смогу проконтролировать. Хотя ему лучше просто принять подарок и не суетиться. Когда он очнется, его жизнь тоже окажется на том самом острие ножа. Она способна измениться в любую сторону: он может распорядиться ею разумно или снова скатиться на дно. Ему выбирать. Хочешь снова поговорить? Я согласен. Хочешь принять предложение? Тогда приходи завтра на угол Лексингтон и Кауэнги. Сделка выгодная. Не прогадай. – И с этими словами я удалилась.
Глава 38
Ненавижу Лос-Анджелес. Бесконечные прямые линии, которые начинаются нигде и никуда в особенности не ведут. Даже те места, где предполагается наличие большого количества зелени – парки и «зоны отдыха», – это обнесенные забором бетонные кубы, внутри которых детишки сидят и ждут, не подвернется ли чего-то более интересного.
Но если о Лос-Анджелесе можно говорить в каких угодно тонах, у города есть одно огромное преимущество: здесь ты всегда найдешь того, кто ради разнообразия готов на что угодно.
В 12.03 по местному времени я оставила свое случайное тело, внедрившись в обычного прохожего, потом немного прогулялась, чтобы моя бывшая кожа уже ни о чем не смогла догадаться, и пересекла Лексингтон-авеню у того места, где меня дожидался Уилл, щурясь от яркого солнца.
– Привет! – сказала я, и надо отдать ему должное: он не вздрогнул от неожиданности. – Ты принял решение?
Две недели спустя мы сидели на бетонной трибуне стадиона. Он ел жареную кукурузу. Я временно внедрилась в более-менее подходящее загорелое тело абсолютного незнакомца с пересушенной кожей. Уилл положил ладонь поверх моей руки и сказал:
– Я теперь могу тебя видеть.
– Видеть кого?
– Тебя настоящую, – ответил он. – И не важно, в чьем ты теле и откуда появляешься. Я жду у машины и, когда ты приходишь, сразу вижу, что это ты.
– Каким образом?
Он пожал плечами:
– Даже не знаю. Что-то такое есть в твоей походке. Что-то во взгляде. Как будто тебе уже много лет. Но я узнаю тебя в любом облике. Теперь мне известно, кто ты такая на самом деле.
Я хотела возразить, но не нашла слов. У меня вдруг потеплело в глазах, и я отвернулась, надеясь, что он не увидит, как я плачу.
Глава 39
В досье Кеплера ничего не говорилось об «агентах по недвижимости». Не упоминалось, что одним из них была я.
Список использованных мною тел оказался в нем далеко не полным. Информацию добывали, опрашивая свидетелей, изучая медицинские карты, но ведь было заведомо ясно, что тела, которые я носила, могли поведать лишь о провалах в памяти, не запомнив ничего действительно важного.
Но о моей предыдущей работе они, по всей видимости, не знали. И хорошо. Потому что в противном случае, когда дошло до стрельбы, Натан Койл приложил бы больше усилий, чтобы убить меня.
Хороший «агент по недвижимости» не пожалеет месяцев, чтобы изучить потенциальный объект. Для внедрения на длительный срок желательно, чтобы тело принадлежало человеку малозаметному – без широкого круга знакомых или чрезмерных амбиций, чтобы внезапные изменения в поведении не бросились кому-нибудь в глаза. Идеальной кандидатурой может стать, например, пациент в коме, чья семья уже оставила всякую надежду на выздоровление. Пока никого нет дома, нет ничего легче забрать такое тело для любых целей, какие ты перед собой ставишь. Важный недостаток проникновения в человека, который находится в вегетативном состоянии, заключается в том, что не всегда можно оценить серьезность травмы, нанесенной телу. Неизбежна атрофия некоторых мышц. Я на опыте убедилась, что мочевой пузырь и различные выделения вроде слез, слюны или соплей могут стать проблемой, хотя все это можно взять под контроль, обладая терпением. Вот только не у многих из нас его хватает.
А бывало, что призрак запрыгивал в коматозного пациента и лишь потом обнаруживал, что у того отсутствует не только мозговая деятельность, но и не работает ни один мускул, полностью пропала координация. И тогда он оставался в ловушке: в полном сознании, но парализованный, когда безмолвно кричишь, визжишь, но при этом не издаешь ни звука, пока бог не приходит на помощь и какая-нибудь медсестра или санитар случайно не касаются твоей кожи, давая возможность вырваться из плена. Я сама однажды провела в таком состоянии целых два дня и, только когда пришло время обмыть меня губкой, сбежала в медсестру, причем упала на пол и зарыдала от счастья, что снова могу двигаться.
Но при всех возможных рисках долговременное обитание в мало кому известном человеке почти всегда предпочтительнее личности, хорошо знакомой окружающим. А с остальным поможет «агент по недвижимости». Он заставит вас заучить имена отца, матери, братьев, дочерей, коллег, приятелей. Покажет, где ваше новое тело хранит ключи от машины, поможет овладеть подписью, имитировать легкий акцент, сообщит истории, которые необходимо знать, – словом, сделает переход максимально легким и необременительным для призрака. Переход под кожу знаменитости значительно тяжелее. А влезать в шкуру Мэрилин Монро было чистейшим безумием.
«Она принимает наркотики», – вновь напомнила я Аурангзеб, сидевшей в моей кухне и пившей мое вино.
Огромное окно гостиной выходило на вершину холма, откуда открывался вид на Лос-Анджелес, который казался отсюда похожим на монтажную плату сложного электронного прибора, мерцая красными и желтыми линиями сквозь висевший поверх кварталов смог.
– И что с того? – невозмутимо отозвалась она. – Кто их не принимает в этой клоаке?
– Но она мешает наркоту с алкоголем.
– Тем более, – Аурангзеб закатила глаза. – Если я побуду в ее теле, для нее это станет полезным для здоровья перерывом! Пара дней без злоупотреблений. Неплохо, а?
– Ты хотя бы представляешь себе, как скажется на твоей физиологии ее зависимость?
– Да речь-то всего о дне или двух! Организм выдержит пару деньков без отравы, не сомневайся. Только расскажи мне о ней все. С кем она сейчас спит, как зовут ее агента, кому задолжала денег и все такое прочее. Она спит… – От любопытства моя клиентка резко подалась вперед. – Она действительно спит с Кеннеди?
– Даже если спит, – ответила я, – Монро научилась игриво обходить этот вопрос. Вот чему тебе придется научиться. Ключевая фраза: «Мне бы не хотелось сейчас обсуждать эту тему».
– Что угодно. Я сумею.
– Но она не дурочка, – быстро добавила я. – Что бы ты ни делала, не строй из нее идиотку. Она может показаться пресной и неумной, лишь когда включается ее защитный механизм. Но становится острой как бритва, если чувствует уверенность в себе. При столь ограниченном сроке на изучение объекта ни в чем нельзя быть до конца уверенной. Поэтому, бога ради, побольше молчи. Но так, чтобы не выглядеть тупицей.
– Не понимаю, что тебя так тревожит, – сказала Аурангзеб, положив свои затянутые в чулки ноги прямо на мой стол. – Я думала, для тебя это пара пустяков.
– Если честно, – ответила я, убирая свои бумаги подальше от ее туфель, – я не понимаю, чего ты добиваешься.
– Ты не понимаешь, почему я хочу побыть Мэрилин, мать ее, Монро? – почти завизжала она.
– Нет. Не понимаю. Если ты хочешь богатства, то есть гораздо более богатые люди. Тело? Есть тела и пороскошнее. Желаешь славы? Жаждешь обожания и восхищения на один вечер? Но ведь обожать будут не тебя, не тебя превозносить до небес. Если уж очень хочешь подобных ощущений, внедрись в костюмершу или рабочего сцены, а когда знаменитый актер пойдет поклониться публике после закрытия занавеса, ухвати его за руку и получи все восторги покоренного зрительного зала. Или научись добиваться этого сама. Найди красивое тело – никому не известное красивое тело, – а я вселюсь в режиссера или в продюсера любой киностудии, который поставит против твоего имени галочку, как только ты улыбнешься в камеру своей нарисованной с помощью косметики улыбкой.
Аурангзеб закатила глаза в начале моей реплики, а потом закатила их снова, когда я замолчала.
– Ты хочешь, чтобы я работала? Тогда я бы стала Кларком Гейблом на раз, – она прищелкнула наманикюренными пальцами. – Я бы пустила Лоуренса Оливье голым по Лондону. Я бы сделалась трахнутым Марлоном Брандо – и трахалась бы, как он. Но ты хочешь, чтобы я потратила пять лет жизни на то, что могу получить сразу? Да ты о чем вообще? – Она снова склонилась ближе, опустив ноги на пол, и смотрела на меня горящим взором. – А я-то столько слышала о тебе! Думала: вот парень, который живет по-настоящему!
– Что же ты такого обо мне слышала? – спокойно поинтересовалась я.
– Что ты любишь экспериментировать. Что ты успел побывать толстенной певицей с ее знаменитым сопрано, пилотом авиакомпании, пожимал руку хозяину Овального кабинета в Белом доме. Слышала, что ты рисковый малый. Как, например, на войне. Говорят, в сорок третьем году по Европе разгуливало больше солдат с амнезией, чем упало на Лондон немецких «Фау-1».
– Не знал, что Янус распускает обо мне столько слухов. А чем ты сама занималась во время войны?
– Так, болталась туда-сюда. Штаты, Канада. Подумывала отправиться простым солдатом на пароходе в Европу, когда подводные лодки перестали быть угрозой. Но в итоге попала туда только в самом конце. Подменила второго пилота бомбардировщика, а потом над Атлантикой разыграла пищевое отравление. Никакого риска. Зато видела, как освобождали Париж.
– И как тебе зрелище?
– Дерьмо, – ответила она. – Солдаты маршируют, оркестры гремят, народ размахивает флагами. А я думала: где вы все были хотя бы на прошлой неделе? Когда не знали, какими знаменами придется размахивать – трехцветными или со свастикой? Потом еще выяснилось, что тот тип, в чью шкуру я влезла, был коллаборационистом, и настроение оказалось вконец испорченным, – она шлепнула себя по ляжкам. – Это была не война, а сплошное свинство!
И тут до меня дошло, что, несмотря на модные платья, маникюр и тщательно уложенные волосы, Аурангзеб всеми своими манерами и жестами, привычкой сидеть, широко расставив ноги, выдавала свое изначальное происхождение. Это был типичный провинциальный американский мужлан.
Я почесала переносицу:
– Хорошо, перейдем к делу. Нам нужно научить тебя ходить на гораздо более высоких каблуках.
Глава 40
Из Вены в Берлин ежедневно ходит прямой экспресс. Это чудовищной длины состав, в котором каждый из белых вагонов помечен прямоугольными красными буквами DB – Deutsche Bahn[7]. С безупречно чистыми белыми купе и сверкающими нержавеющей сталью умывальниками берлинский поезд мог дать сто очков вперед балканскому «Восточному экспрессу».
Я одна заняла двухместное спальное купе. С прикрепленными к стенам матрацами это был потрясающий образец инженерной мысли по части экономного использования пространства. Разложив постель, я едва поместилась на узкой полке.
За окном мелькали виды, которые принято считать романтическими пейзажами вечерней Германии. По мере того как поезд продвигался к северу, их все чаще рассекали желтые огни оживленных автобанов. Над полями низко нависал подсвеченный луной туман. Мимо белыми вспышками мелькали городки. Меж холмов вились широкие реки. Порой за деревьями удавалось разглядеть небольшие домики из бетона и стекла, где в этот час отдыхали от напряженных трудов дня семьи из Мюнхена и Аугсбурга. Когда же поезд делал вираж к востоку, это получалось великолепной дугой, словно путь проложила кисть художника, одним решительным мазком изобразившая округлость женской груди.
Я смотрела в окно – моя постель была разложена, но пока не тронута. Любое тело привыкает к своему запаху, но сейчас даже я ощущала, что от меня плохо пахнет. Вода из умывальника лилась либо слишком холодная, либо слишком горячая и никакой регулировке температуры не поддавалась.
Примерно в час ночи я услышала шарканье ног в проходе – это проводница совершала обход своих владений. Пристегнув браслет наручников к левому запястью, я приоткрыла дверь и шепотом позвала:
– Мадам?
Даже в такое позднее время мне ответили словно тоже разработанной немецкими инженерами первоклассной улыбкой.
– Мадам, – повторила я чуть громче, чтобы быть услышанной за перестуком колес на стыках, – не могли бы вы мне помочь?
– Разумеется, сэр. С большим удовольствием.
Я жестом пригласила ее войти в купе. Она вошла – в глазах любопытство, на губах улыбка. Пока я оставалась в купе одна, его еще можно было считать уютным, но двоим здесь оказалось явно тесно.
– Чем могу… – начала она, но я вытянула руку, ухватилась за ее ладонь и переключилась.
Натан Койл. Он уже почти научился реагировать на внезапные переходы, и хотя его качнуло, а при освобождении закружилась голова, он тут же совершил резкий рывок, ударившись кулаком в стенку и поморщившись от боли. Я же успела перехватить его кисть и приковать к металлическому ограждению верхней полки, дожидаясь, пока он полностью придет в себя.
На это не потребовалось много времени. Он почувствовал браслет на запястье, застонал и сел, прислонившись к стенке купе.
– Опять, – усмехнулся он. – Где мы на этот раз?
– В поезде, идущем на Берлин.
Он приподнял брови, разглядывая меня.
– А кто ты сейчас? Я думал, ты предпочитаешь шлюх или мусорщиков.
Я оправила на себе форменный костюм.
– Мне кажется, я выгляжу вполне элегантно. Ты пропустил все веселье в Капикуле, в балканском экспрессе и в автобусе до Братиславы, а потому не в состоянии оценить красоту улыбки хорошо обученной проводницы, которая проверяет твой билет при посадке в этот вагон. К счастью, мы оба сможем насладиться поданным на завтрак джемом, о чем позаботились «Немецкие железные дороги».
– Терпеть не могу джем.
– Зато я его обожаю. Могу поглощать банками.
Он чуть распрямился и развернулся ко мне, чтобы посмотреть внимательнее.
– Ты угрожаешь мне… некой приправой к завтраку?
Я заправила выбившуюся прядь за ушко и сказала:
– У меня есть адрес Элис Майр.
У него сжались кулаки.
– Ничего, она будет готова к встрече с тобой.
– Догадываюсь. К этому времени твои дружки уже обрыскали всю Европу, разыскивая тебя. Или, вернее будет сказать, меня? Или нас обоих? И за то, что нас пока не нашли, мы оба должны благодарить судьбу. Я изучила досье под грифом «Кеплер», но так и не поняла, какой именно из моих поступков мог вызвать в тебе глубоко личную ненависть. Профессиональную неприязнь и враждебность на деловой почве я бы восприняла как должное. За последние десять лет я побывала в телах проституток, нищих, преступников, лжецов, убийц, воров. И не всегда вела себя… Скажем так, не всегда придерживалась строгих правил, как сейчас, но ты не можешь отказать мне в старании. – Я поежилась, внезапно ощутив, как холод пробрался под мой форменный жакет. – Твое досье лживо. Вероятно, ты полагаешь, что я убивала… К примеру, внедрялась в тело на ночь, накачивала его наркотиками и спиртным, а потом бросала умирать от передозировки на больничном полу. Я живу на этом свете дольше, чем ты в состоянии себе представить, и в прошлом мне приходилось… попадать в смертельные переделки. Но ведь ты разговаривал с хозяевами моих тел. Кто-то из них несчастлив? Кого-то из них обокрали и бросили голого умирать? Даже этого вполне достаточно, чтобы ты не мог не понимать… Ты знаешь, что я – неправильно выбранная цель.
Он ничего не говорил, даже не двигался. Сложив худые руки на впалой груди, я раздраженно прошипела:
– Ты считаешь, что имел моральное право. Все убийцы оправдываются подобным образом. И все равно, ты должен был убить только меня, но не Жозефину.
Что за нерешительность вдруг промелькнула в выражении его лица? Впервые проблеск мысли вместо чистой ненависти? Так сразу и не поймешь. Я слишком долго носила его лицо на себе, не особенно часто всматриваясь в него.
– Кто такой Галилео? – спросила я и заметила, как он перенес вес тела с одной ноги на другую, а затем обратно.
– Сколько прошло времени? – в свою очередь задал вопрос он. – Ведь всего несколько минут назад я застрелил тебя на станции «Таксим». Секунды не минуло, как ты была дворником в… не помню даже где. В каком-то другом городе. А сколько прошло на самом деле?
Я быстро прикинула.
– Пять дней. Но застрелил ты не меня.
– Но стрелял в тебя, – резко возразил он. – Именно в тебя, и большая трагедия, что погибла не ты.
– Но тебе приказали убить и Жозефину тоже.
– Да.
– Почему?
– Она заслужила смерть.
– Чем же?
– Ты прекрасно знаешь.
– На самом деле не знаю.
– Она убивала наших людей.
– Никого она не убивала, и мне не нравится, когда разговор начинает идти по замкнутому кругу.
Он потянул цепочку наручников – от злости, а не проверяя ее на прочность. Потом заметил:
– Тебе теперь должно быть хорошо знакомо мое тело.
– Еще бы.
– Как оно тебе? – спросил он, поворачиваясь, чтобы я могла снова рассмотреть его получше. – Ты могла оценить его с необычной точки зрения. Оно отвечает твоим запросам? У меня достаточно суровое лицо? А ноги подходящей длины? Нравится цвет волос?
– Суровое лицо не обязательно соответствует телу, которое к нему приложено.
– Я не могу представить себе его иным. Такое выражение придал ему я сам.
– Зато я могу, – усмехнулась я. – За собой ты ухаживал, это точно. И трудно сказать, пересек ли уже черту, где кончается забота о развитии мускулатуры и начинается пустое тщеславие. Меня заинтересовал шрам у тебя на животе. И тебе надо подумать об очках. (Его губы удивленно скривились.) Поверь совету опытного человека: тебе очень скоро понадобятся очки для чтения.
– Но у меня превосходное стопроцентное зрение!
Поразительно, как люди готовы гордиться обычным свойством, данным им от природы. Изумительно, насколько глубоко в них коренится убеждение в собственном совершенстве.
Я хотела положить руки на бедра, но в тесном купе сделать это было не так-то просто.
– Неужели ты хочешь произвести на меня впечатление? – спросила я. – Потому что, побыв некоторое время тобой, я поняла: ты из тех мужчин, которые любуются собственным телом. Но не надо глупостей, когда речь заходит о зрении. Уж мне ли не знать? В свое время у меня были катаракты, глазные инфекции, дальнозоркость, близорукость, а однажды я почти ослепла…
– Не ты! – оборвал он меня с сарказмом. – Не ты сама! У кого-то другого были проблемы со зрением, кто-то другой почти ослеп.
– Ошибаешься, – возразила я. – Многое пережила именно я. Мне доводилось приводить тела в зал суда, потому что они сами слишком боялись дать показания. А одно я даже уложила под общую анестезию – у этого дурачка была опухоль, требовавшая удаления, но его пугала больница и операционный стол. Так что можешь считать меня кем угодно, но не заблуждайся, отказывая мне в большом личном опыте.
Он пытался еще какое-то время сверлить меня угрюмым взглядом, нахмурившись, с напряженно поднятыми плечами, но теперь это выглядело уже нарочито, и он оставил стиль поведения, который со мной столь явно не срабатывал. Я присела на край нижней полки. Мои ногти были покрыты таким толстым слоем лака, что приобрели странную жесткость. У меня болела спина, ремень форменной юбки слишком туго обтягивал поясницу. Приложив руку к животу, я сделала неожиданное открытие.
– Ничего себе! Кажется, я… – Койл смотрел на меня с любопытством, заметив, как я ощупываю мягкую кожу, ощущая под ней нечто теплое. – Кажется, я беременна.
Колеса поезда стучали. Какое-то время никто из нас ничего не говорил. А потом Койла тихо затрясло, его плечи задергались, он коротко, но весело рассмеялся.
– Вот ведь черт! – простонала я.
Койл прекратил веселиться так же неожиданно, как и начал. За окном до самого горизонта тянулись недавно вспаханные поля. Полная луна сияла с безоблачного неба, обещая к утру ледяной ветер и заморозки на почве. Я еще раз приложила руку к животу и почувствовала, как в нем что-то шевельнулось, – и это был не желудок.
– Какое… странное ощущение, – сказала я.
– Так ты не знаешь, что такое рождение ребенка? – спросил Койл. – Думаю, тебе стоит попробовать хотя бы ради приобретения нового опыта.
Я скривилась:
– В моменты стрессов я порой совершала… необдуманные переходы. И хотя я уверена, что рождение ребенка действительно неоценимый опыт для женщины, все осложняет невозможность точного планирования перемещения. С одной стороны, можно с радостью ждать родов, потом еще восемнадцать лет воспитывать отпрыска у домашнего очага в счастливом семейном кругу, но ведь рискуешь оказаться и с другой стороны единого организма – младенцем, все еще связанным пуповиной с кричащей от боли и растерянности женщиной. Уверена, ты понимаешь, почему в таком случае эта идея сразу теряет всю свою привлекательность.
На лице Койла читалась только что пришедшая ему в голову мысль.
– А ты могла бы… перейти в зародыша человека?
– До чего же отвратительная по самой своей сути идея!
– Но ты ведь не пыталась.
– Нет, и не стану.
– И тебе никогда не хотелось?
– Ни в малейшей степени. У меня нет иллюзий по поводу радостей постепенного физического развития. Побывав в телах всех размеров, возрастов и форм, какие ты только можешь себе вообразить, я пришла к заключению: упражняй свои мышцы, если еще способен получать от этого удовольствие, не застуди спину и пользуйся электрической зубной щеткой.
– После десятилетий краж чужих тел это все, что ты поняла?
– Да.
– И давно ты стала призраком?
Он смотрел на меня ясным невинным взором.
– Очень хочется знать, правда? Лучше расскажите, откуда у вас шрам поперек живота, мистер Койл.
– Ты же знаешь, что это не моя настоящая фамилия.
– Занятно, но сей факт почему-то не кажется мне важным. А что до меня – то прошло уже несколько столетий. – Его глаза сверкнули изумлением, и я склонилась ближе, машинально все еще держась рукой за живот. – Несколько столетий, – повторила я под мягкое покачивание вагона. – Меня убили на улице Лондона. Буквально вышибли мозги. Но, лежа на мостовой, я успела ухватить своего убийцу за лодыжку. Я ненавидела его, боялась, ужасалась того, что он убил меня, но еще страшнее мне казалось умереть в одиночестве. Я нуждалась в нем, хотела, чтобы он остался рядом. А в следующую секунду я уже смотрела на свой труп. И меня арестовали за собственное убийство – вот ведь ирония судьбы, которую некому было оценить. Не слишком блестящее начало, сказать по правде, но жажда жизни, как всегда, оказалась сильнее всех других инстинктов.
– Кем ты была, когда тебя убили?
– Я была… – Слова застряли где-то в глубине горла… – Я ничего особенного из себя не представляла. А теперь о вас, мистер Койл. Откуда шрам?
Молчание.
– Галилео, – наконец произнес он, но на этом снова умолк.
Я ждала.
– Галилео, – сделал он новую попытку. – Он полоснул меня.
– Призрак?
– Да.
– Почему он это сделал?
– Я был последним, кто оставался на ногах.
– Где?
– В Санта-Розе.
– Ты уже не раз упоминал это название.
Он покачал головой и улыбнулся. Ему явно самому не верилось, что он ударился в откровенность. Сейчас было не время перебивать его.
– Ходили слухи… – пробормотал он. – Или, если угодно, это миф. С течением времени история обросла подробностями, стала выглядеть страшнее, чем была на самом деле. Но она все же по большей части правдива. Представь себе паром. Через Малаккский пролив, а может быть, через Балтику. Вдруг у судна отказывает двигатель. И пока пассажиры и экипаж ждут помощи, обнаруживают труп. Труп человека по имени… Впрочем, это не имеет значения. У него перерезано горло, кровь по всей палубе. Начинается паника, пока кто-то не заявляет: убийца никак не мог остаться незамеченным. Он должен был попасть в поле зрения камер наблюдения в окровавленной одежде. Начинаются поиски. И убийцу находят. Он прячется, съежившись в кабинке туалета, трясущийся от страха. И кровь покрывает его или ее – это мог быть кто угодно – руки, лицо, одежду. Мы поймали злодея, радуются они. И как только двигатель починят, мы доставим его на берег, в полицию. Но тут же обнаруживается еще один труп с выпущенными кишками, с выпученными глазами, с вывалившимся изо рта языком. Поднимается новый шум: мы не поймали настоящего убийцу, или, возможно, они действовали вдвоем. Паника только усиливается. На судне слишком мало членов экипажа и слишком много пассажиров, чтобы поддерживать порядок. Капитан отдает распоряжение, чтобы все пассажиры собрались в одном месте. Если никто никуда не уйдет, опасности больше не будет. Чем нас больше, тем безопаснее. Эта идея успокаивает, но только вскоре старший помощник капитана замечает, что все пассажиры, собравшиеся на палубе первого класса, мертвы. У некоторых кровь на руках, у других на лицах. Кто-то пытался откусить ухо своему соседу. Одни пытались бежать, кому-то это даже удалось, и лишь один остался стоять, усмехаясь прямо в видеокамеру, но потом и он взмахнул рукой на прощанье. Через несколько минут его тоже обнаружили мертвым. Прошло три часа, пока к парому подошло судно береговой охраны и механики починили двигатель. К тому времени семнадцать человек погибли, пятеро находились в критическом состоянии. А когда судебные медики изучили тела, то обнаружили на каждом следы чужой ДНК. Словно у каждого погибшего был свой, отдельный убийца. А на ноже обнаружили самые разнообразные отпечатки пальцев. Ты слышала эту историю? – спросил он, и его взгляд вернулся откуда-то из отдаленного пространства.
– Да, слышала, – ответила я.
– И ты знаешь имена погибших людей? Названия кораблей?
– Некоторые. Был фрегат в тысяча восемьсот девяносто девятом году у берегов Гонконга. Крейсер в тысяча девятьсот двадцать четвертом. Паром в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом, хотя здесь нет точных данных – кто-то открыл ворота погрузочного отсека, и живые пошли на дно вместе с мертвыми. Нечто подобное произошло в тысяча девятьсот семьдесят первом году – двадцать три трупа. Власти заявили, что они стали жертвами нападения пиратов. Яхта у побережья Шотландии в тысяча девятьсот восемьдесят третьем. Двое погибших на борту. Незначительное число, по его меркам, но это был все же он. Нам всем известны эти слухи.
Он кивнул, не глядя на меня.
– «Санта-Роза», – прошептал он. – Октябрь тысяча девятьсот девяносто девятого года.
– Ты там был? – спросила я.
– Да. И убил человека. Не помню, как сделал это, но, когда открыл глаза, мои руки были в крови, а рядом находился человек с перерезанным горлом. Он казался еще живым и даже заговорил, но вместо слов появились только кровавые пузыри. А потом он умер. Я держал в руке нож. Передо мной стояла женщина и наблюдала, как я воспринимаю его смерть. Потом она вынула нож из моих пальцев – обычный кухонный нож с камбуза, – положила ладонь мне на плечо эдак по-матерински, а затем вонзила лезвие мне в бок, провернула его с улыбкой, но не вымолвила ни слова. Меня сначала тоже записали в мертвецы, но патологоанатом вдруг обнаружил, что у меня есть пульс. И тогда из меня сделали убийцу. Хотя отчасти я им и был.
– Галилео?
Он кивнул, хотя опять-таки не мне и словно не в ответ на мой вопрос.
– Тебе следовало рассказать мне обо всем раньше, – прошептала я. – Я могу тебе помочь.
– Помочь? – Он почти рассмеялся мне в лицо. – Ты же призрак, гореть тебе в аду! Какой от тебя кому-то может быть прок?
– Поверь, может. Я ведь встречалась с твоим Галилео.
Вот теперь он посмотрел прямо на меня, ударив взглядом, как ледорубом по скале.
– Где?
– В Санкт-Петербурге, в Мадриде, в Эдинбурге, в Майами. В последний раз я видела его в Майами.
– Ты уверена?
– Вполне.
– Откуда ты можешь знать?
– Вопреки распространенному суеверию, не всякий призрак, с которым мы сталкиваемся, склонен к приступам убийственной психопатии, – ответила я. – Зато и забыть такое невозможно.
– Расскажи мне все!
– Зачем? – спросила я и заметила, как он почти вздрогнул. – Ты же полон решимости убить меня. Ты уже убил Жозефину. На первый взгляд эта встреча выглядит вполне дружеской, хотя на нее оказывают безусловное влияние как наручники, так и нынешнее состояние моих гормонов, но мне сложно забыть, насколько бурно складываются наши с тобой отношения. Вы готовы уничтожить меня, мистер Койл, потому что некий призрак едва не убил вас. Пусть я даже совсем не тот призрак. Ты убьешь меня просто за то, кто я есть. Так с какой стати мне помогать тебе найти Галилео?
Он поджал губы, отвернулся, но почти сразу опять посмотрел на меня.
– Потому что, если ты мне не поможешь, зная о нем хотя бы что-то, это лишь докажет – ты то чудовище, которым я тебя и считал.
– Ты и продолжаешь меня им считать. Дай мне нечто большее. Расскажи, почему ты убил Жозефину.
– По приказу.
– Почему ты подчинился приказу?
– Потому что я уважаю людей, отдавших такой приказ. Потому что в досье… – На этом слове он запнулся. – Потому что в досье сказано, что она убила четверых наших экспертов. И она это сделала. Не ты. А она сама.
– Зачем же?
– Она пыталась внедриться в один из наших проектов. Медицинские тесты. Тебе должно быть известно об этом.
– Да, я что-то слышала. Она нуждалась в деньгах, а во Франкфурте проводили какие-то опыты. Нечто связанное с обычными простудными заболеваниями. Но ее отвергли, узнав, что она проститутка. Я ведь тоже провела исследование, прежде чем заключить с Жозефиной Цебулой сделку.
Он помотал головой:
– К простудным заболеваниям это никакого отношения не имело.
– Ты меня удивляешь. Над чем же велась работа?
– Над вакциной.
– Против чего? – Он промолчал. Меня саму посетила эта идея. Я откинулась назад, ощущая мысль липкой паутиной, опутавшей мое лицо. – О! Против нас. Вы старались создать вакцину для борьбы с нами. И как? Получилось?
– Нельзя сказать, что получилось, если четверо участников исследований были убиты.
– Не мной.
– Верно. Жозефиной. И я видел записи камер внутреннего наблюдения. Видел ее окровавленные руки. А затем во Франкфурт явилась ты со своим предложением. Какие выводы напрашивались?
Услышав эти слова, я сделала глубокий вдох. В этот момент я могла потерять контроль над своими физическими реакциями. Пальцы сильнее надавили на живот.
– Так ты считаешь… что я стала Жозефиной из-за каких-то медицинских тестов? Ты веришь, будто мы организовали продуманную атаку на ваших людей? Составили заговор с целью убийства доктора N (назовем его так) и талантливых соратников ученого?
Он подумал, прежде чем ответить:
– Да. Я так считаю.
От моих пальцев пахло стиральным порошком, во рту остался чуть заметный привкус фруктового чая. Я медленно отсчитала от десяти до нуля, а потом сказала:
– Ты ошибаешься.
Койл снова промолчал.
Поезд начал замедлять ход, колеса вагонов загремели на стрелках, когда состав переводили на другой путь. Интересно, подумала я, как это тело справится с беременностью? Оно казалось слишком худым, с узкими бедрами и тонкими лодыжками. И помогал ли фруктовый чай от тошноты по утрам?
– На кого ты работаешь? – спросила я. – Он покачал головой. – Ты же понимаешь, я так или иначе это выясню.
– Расскажи мне о Галилео.
– Я собираюсь носить ваше тело, мистер Койл, пока меня кто-нибудь в нем не пристрелит. Если вы не хотите столь печального исхода, мне требуется больше информации.
– Тебе нужна информация? – Он почти смеялся, не зная, видимо, как еще вести себя со мной. – Десять минут назад был полдень в Стамбуле. В поезде ко мне прикоснулся мужчина, и я оказался в совершенно другом месте, одетый иначе и беседовал с кем-то, незнакомым мне прежде. Ты раздевала меня донага, говорила моим языком, ела моим ртом, потела, мочилась, сглатывала мою слюну. И после этого тебе нужна информация? Да пошла ты, Кеплер! Пошла ты куда подальше!
Теперь промолчала я.
Поезд продолжало раскачивать на стрелках, он заметно замедлил ход. Вероятно, мы приближались к станции, где дожидался посадки одинокий полуночный пассажир. Или же нас загоняли на запасной путь, где мы простоим несколько часов. Машинист выпьет чашечку кофе и выкурит сигарету, сидя на рельсах, а дизель будет продолжать пыхтеть сам по себе, не желая засыпать.
Я приложила к животу обе ладони, гадая, кем вырастет этот ребенок. Возможно, он будет железнодорожником, как и его матушка. Или у него появится мечта о чем-то большем?
Например, он станет политическим деятелем, который через тридцать лет выступит перед нацией и заявит: «Моя мама вынуждена была работать проводницей в поезде на маршруте Берлин – Вена, чтобы помогать мне в юности, а потому я хочу построить будущее, в котором каждому будет обеспечена более благополучная жизнь, чем была у нее».
Или не сбудется ни то ни другое. Быть может, этот ребенок вырастет в тоскливом одиночестве. Мать в постоянных разъездах, ее открытки, приходящие из других стран, и ощущение, что жизнь не сложилась.
– Галилео, – сказала я, глядя в пустоту. – Ты хочешь знать о Галилео?
Последовал глубокий вздох, а его взгляд впился в мое лицо.
И я рассказала ему.
Глава 41
Санкт-Петербург, 1912 год. Все уже почти поверили, что Романовы уцелеют. Я слышала грохот винтовок 1905 года, видела баррикады на улицах и, подобно многим другим, считала, что дни династии сочтены. Социальные реформы не поспевали за экономическими потребностями, политические уступки не соответствовали темпам перемен в обществе, и потому казалось неизбежным, что вступившую в новый век Россию ждут ощутимые потрясения.
И все же в 1912 году, когда я кружилась в танцах под сверкавшими люстрами Зимнего дворца с руками, до локтей затянутыми в перчатки, и с заколками из серебра и хрусталя в прическе, я продолжала думать, что так будет продолжаться вечно.
Я была Антониной Барышкиной, седьмой дочерью старого князя, а цель, стоявшая передо мной, состояла в том, чтобы показать достоинства, которые начисто отсутствовали у реальной обладательницы этого тела. В шестнадцать лет Антонина уже заработала себе репутацию легкодоступной, распущенной девицы, причем самого порочного толка, готовой переспать хоть с пролетарием, лишь бы насолить отцу. И никакие уговоры, нравоучения или даже прямые угрозы до сих пор не могли заставить Антонину изменить свое поведение. И когда сплетни о ней стали распространяться со скоростью лесного пожара, московский «агент по недвижимости», которую звали Куаньин, обратилась ко мне с необычным предложением от обеспокоенного отца девушки.
– Шесть месяцев, – сказала она. – Красивая молодая женщина, красивая жизнь. Думаю, мало кто может похвастаться более роскошной обстановкой, чем та, какой окружена юная Барышкина.
– И что я должна сделать?.. Чтобы оправдать всю эту роскошь?
– Показать зрелость, достойную столь богатого окружения.
– С какой целью?
– Продемонстрировать всем, что Барышкина стала серьезным человеком, с которым не стыдно иметь дело.
И мне понравилось быть Антониной Барышкиной. У нее была статная гнедая кобыла, кататься на которой я выезжала каждое утро, несмотря на любой холод. А еще ей принадлежала виолончель – на ней никто не играл, но струны инструмента при простом прикосновении издавали звуки, подобные плачу богов. И пока я танцевала, смеялась или обсуждала любую тему – от текущего политического климата до климата в обычном смысле слова, – прошел слух, что Антонина радикальным образом изменилась. Завидные женихи со всего Петербурга выстраивались в очередь, чтобы оценить перемены в богатой наследнице.
Зануд я отметала, зато симпатичных остроумцев приглашала нанести визит в принадлежавший мне особняк на одетой в гранит набережной одного из каналов, угощая их кофе и турецкими сладостями. Сразу несколько явились с написанными в мою честь стихами и романсами, чтобы доставить мне удовольствие. Я аплодировала их стараниям и даже ощущала легкое головокружение от столь лестного восхищения лучших представителей аристократии. Я ухитрялась тайно ходить на собрания суфражисток, участвовать в демонстрациях за гражданские права, но при этом никак не могла избавиться от приятных воспоминаний о красивых мужчинах, посвятивших мне поэтические строки.
Через некоторое время меня навестил отец и сказал:
– В твоем доме появляются теперь очень выгодные женихи, и, как мне кажется, пора задуматься о замужестве.
Он никогда не умел взять правильный тон в разговоре с дочерью. И вдвойне трудным оказалось для него общение с умным созданием, которое временно поселилось в ее теле. Я ответила:
– Наша сделка предусматривала уклонение от сближения с охотниками за приданым и разумное поведение с лицами противоположного пола на протяжении достаточно длительного времени, чтобы развеять все сплетни, грозившие запятнать мое доброе имя. Но мы не договаривались, что в мои функции входит подбор кандидатуры с матримониальными намерениями.
Требуются сильные эмоции, чтобы великолепная русская борода встала от раздражения дыбом, но именно это случилось с бородой отца.
– Никто не требует от вас выходить замуж за одного из этих господ! – свирепо отозвался он. – Нужно просто заложить основу будущего семейного счастья моей дочери.
Немного поломавшись, я согласилась отужинать с десятью самыми знатными и богатыми холостяками по выбору отца. Четверых я отвергла сразу, поскольку их манеры подпадали под различные определения, но в диапазоне от грубоватых до абсолютно диких. А еще шестерых предпочла пока держать на удалении. Отец уже научился уважительно относиться к моему мнению и порой ненадолго забывал, что беседует все-таки со мной, а не со своей дочуркой.
– Но вы же должны понимать, – пришлось напомнить ему однажды, – что как только срок нашего соглашения истечет, та личность, которой теперь так восхищаются многочисленные русские джентльмены, снова превратится в то – уж простите за прямоту, – что представляет собой ваша дочь.
– Моя дочь желает в этом мире только одного: чтобы ее обожали, – ответил отец, когда мы тряслись в сумраке его кареты по мощенным брусчаткой мостовым Москвы. – И прежде, вероятно, именно чрезмерно горячее стремление к этому делало ее не слишком привлекательной в глазах светского общества. Как я надеюсь, теперь, обнаружив себя окруженной восхищением, она угомонится и станет более управляемой. Но даже если этого не произойдет, меня радует сам по себе тот факт, что ее репутация спасена. Быть может, после того, как мы изгнали вселившихся в нее демонов, она сумеет хотя бы несколько лет поддержать реноме, которые вы для нее создали.
– И вас не смущает… скажем так, не совсем обычный характер наших отношений?
– Какие конкретно отношения вы имеете в виду?
– Мои с вашей дочерью прежде всего, – мягко сказала я. – А как следствие этого – ваши отношения со мной и с собственным ребенком.
Он некоторое время молчал под грохот колес кареты, а потом произнес:
– Одно из условий нашего соглашения заключалось в том, что вы детально изучите историю нашей семьи. Вы его выполнили?
– Разумеется.
– В таком случае вы сделали больше, чем моя дочь, – усмехнулся он. – Каковы бы ни были ваши мотивы. Но в таком случае вам известно, что наш род имеет долгий и славный послужной военный список. Мой отец отличился особенно. Участвуя в Крымской войне, он стал признанным героем, восхваляемым за исключительную доблесть.
– Да, я читала об этом.
– Все это ложь, – сказал он совершенно спокойно. – На самом деле мой отец не воевал в Крыму. Там присутствовало только его тело и, если верить рассказам очевидцев, проявляло чудеса храбрости. Но могу вас заверить, что сам мой папаша не сохранил никаких воспоминаний о битвах, в которых участвовал, как и о поверженных им врагах. Он не выносил вида крови, но до сих пор считается образцовым воином. Вы понимаете, каким образом сложилась подобная ситуация?
– Да, – ответила я, – думаю, догадаться нетрудно.
Он приосанился, словно готовясь объяснить нечто крайне важное.
– Вас удивляет, почему я разрешил (уж простите, если слово не совсем точное)… Почему я пригласил вас временно занять место моей дочери. Вы, видимо, считаете этот поступок недостойным хорошего отца, верно? Тогда вот вам мой ответ. Если бы у вас развилась гангрена и предстояла ампутация ноги, или если бы вам нужно было объяснить человеку, который вас любит, что вы больше не отвечаете на его чувство. Или, предположим, обстоятельства вынудили бы вас пойти на убийство близкого друга, всадить нож в спину тому, кто всегда был вам предан и верен. На что бы вы не согласились, лишь бы не делать этого самой?! И какую цену вы не пожелали бы заплатить для достижения той же цели, но кем-то другим!
– А почему вы считаете, что другому легче сделать то, на что не способны вы сами?
– Потому что та, чью жизнь он разрушит, будет не его возлюбленная, но тем не менее, видя перед собой вас, она будет на самом деле сломлена. Моя дочь презирает свое происхождение, позорит семью. И потому для нас это наилучший выход из положения.
Карета резко остановилась у тротуара, стук подков затих, но мой отец вышел не сразу – он сидел, погруженный в задумчивость.
– Я хотел бы задать вам один вопрос, который давно меня интересует, – сказал он потом.
– О чем бы вы хотели спросить?
– Когда мы впервые встретились, вы находились в теле моего слуги и сказали, что вас зовут Джозеф. Вы были мужчиной и носили мужское имя. Теперь вы в теле моей дочери, вас зовут Антониной… Вы бываете наедине с джентльменами… Моетесь перед зеркалом и занимаетесь прочими чисто женскими делами, в подробности которых я не желаю даже вдаваться. Вот мой вопрос: кто же вы на самом деле? Когда вы не Антонина и не Джозеф. Кто вы, когда кладете голову моей дочери на подушку и засыпаете?
Я взвесила свой ответ.
– Я хорошо воспитанная, верная дочь России. Я виолончелистка, которая к тому же обожает и балует свою любимую гнедую кобылу. Я отличаюсь безукоризненными застольными манерами, очаровательна с теми, кто заслуживает моего внимания, отвергая ухаживания пустых охотников за моими прелестями и за моим богатством. Это все истина. Разве что-то еще имеет значение? – Он напрягся, явно готовясь продолжить, а потому я коснулась его покрытой печеночными пятнами руки. – Лучше ответьте: вашего отца интересовал тот, кто проложил ему путь к славе героя Крыма? Он хотел больше узнать о нем?
– Нет, едва ли его это заботило. Ходили слухи… что мой отец – то есть его тело – проявил и немалую жестокость, но, как всем известно, жестокость на войне считается чем-то допустимым и даже естественным.
– Тогда подумайте еще раз. Вы действительно хотите знать, кому доверили тело своей дочери?
Даже в полумраке кареты я заметила, как заходил ходуном его кадык. А затем внезапно изменившимся тоном он воскликнул:
– Так что мы собираемся смотреть сегодня вечером?
Тем вечером мы побывали на достаточно посредственном спектакле, но, когда закрылся занавес, я все равно аплодировала актерам и улыбалась зрительному залу из своей ложи, зная, что значительная часть аудитории аплодирует именно мне – красивой и богатой, почти совершенной в своем блеске молодой женщине, какой и надлежало быть Антонине.
Позже в толпе, кружившей по ярко освещенному фойе – потому что никто из высшего общества не приезжает в театр только ради самого представления, – пухлые пальчики тронули меня за локоть и тонкий голосок произнес:
– А я знаю, кто вы такая.
Я бросила взгляд вниз и увидела маленькую девочку с волосами, уложенными кукольными кудряшками. Ее платьице из розового шелка плотно облегало еще не развившуюся грудь, а ее щеки покрывал слой румян. От прикосновения ее пальцев я ощутила болезненный зуд в зубах, а в ушах возникло жужжание, как в осином гнезде, потревоженном дымом.
– В самом деле? – пробормотала я, изучая ее лицо так же внимательно, как она изучала мое.
– Да. Мне очень нравится ваше платье.
– Спасибо за комплимент, мисс. Простите, не знаю вашей фамилии.
– Сенявина. А имя… Ой! – Крошечная ручка прижалась к губам, подавляя смех. – Я или Туля, или Таша. Право, не знаю, кто я сейчас. Мы так похожи друг на друга. Даже я сама не всегда понимаю. А мамочка называет нас обеих «ангелочками».
Я отошла в более затененный угол зала, плотнее натянув на плечи накидку.
– И давно мамочка вас так называет?
– Наверное, с самого рождения, – ответило дитя. – Но меня саму только две недели. – Она склонила голову набок, а ее взгляд приобрел неожиданное лукавство. – Я сожгла кукольный домик Тули. Или Таши. Там стены в комнатах были окрашены в розовый цвет, а мне хотелось синего. Они отказались перекрасить, и тогда я его спалила. А вы чем занимаетесь?
– Спасаю репутации молодых женщин, которые слишком глупы или наивны, чтобы понимать, чего стоит хорошая репутация, – ответила я. – Но через пару недель, вероятно, я стану кем-то другим.
– Через целых две недели? – удивилась маленькая Сенявина. – Лично я перемещаюсь уже сегодня ночью. Взгляните, – и ее пухленький пальчик привлек мое внимание к мужчине с широкой красной орденской лентой и черными усами, завивавшимися на кончиках, который прямо и неподвижно стоял в центре фойе, держа в руке узкий длинный бокал. – Вам нравится? Он красив, не правда ли?
– Он очень мил.
Девочка снова повернулась ко мне, но теперь в ее лице читалась озабоченность.
– Хотела дать вам знать, – объяснила она. – Когда до меня дошло, кто вы такая, я сразу решила предупредить вас, что он – мой. Я уже влюблена. Мне нравится запах его пота и как от него вообще пахнет. Его глаза улыбаются, даже когда губы совершенно неподвижны. У него мягкие волосы, и они лежат так от природы, а не в результате усилий парикмахера. Он старается держать руки неподвижно, но в них все равно ощущается желание двигаться, энергично действовать, а когда я его губами начинаю целовать женщину, она сначала кричит: «Нет! Я не могу! Нет!» – но потом сама целует меня еще крепче, потому что понимает то, что сразу поняла я. Этот мужчина бесподобно хорош собой. Если бы я могла поселиться в ком-то навечно, то выбрала бы его. Он – само совершенство. Но, увы, люди стареют, тело теряет упругость. И потому я должна стать им сейчас, пока он прекрасен, пока его лицо не тронули первые морщины. Он так великолепен. И я вдруг испугалась, что вы попытаетесь внедриться в него. Что тогда? Я не могу этого допустить. Слишком много суеты. Его одного мало для двоих. Вот почему я решила познакомиться с вами и все объяснить. Он мой. Я люблю его. Посмеете дотронуться, я выцарапаю ваши глазки и скормлю своему коту. – С этими словами маленькая Сенявина одарила меня ослепительной улыбкой, сжала в кулачке два моих пальца и встряхнула их на прощание.
Я стояла как громом пораженная, глядя, как она беззаботно порхает по фойе.
Насколько я знаю, это была моя первая встреча с личностью, известной как Галилео. Но она стала далеко не последней.
Глава 42
Койл молча стоял в купе поезда, следующего на Берлин, полуприкрыв глаза и обдумывая мой рассказ.
– Ты старше, чем выглядишь.
Я пожала плечами:
– Двигаюсь вместе со временем. Меняю кожу, одежду, тела. Обзавелась МР3-плеером, прокалывала язык, делала татуировки, пластические операции. Впрочем, я сама выбираю, какой мне быть, и большую часть времени все-таки предпочитаю молодость. Молодая плоть, а значит, и характер тоже полон непредсказуемости, свежести и энергии. Физические недуги и бремя ответственности, дурно влияющие на характер, еще не знакомы человеку в двадцать два года, которому по душе стиль панк. Мне это нравится. Полностью отвечает моим наклонностям.
– А кем ты была изначально? – спросил он. – В своем теле… Ну, ты понимаешь, о чем я? В своем настоящем теле? Мужчиной или женщиной?
– А разве это важно?
– Мне просто любопытно.
– Сам-то как считаешь?
– Сначала я решил, что ты была мужчиной. Просто показалось… Впрочем, нам много чего кажется на пустом месте.
– А теперь?
– Не знаю. В темных лондонских переулках убивали и мужчин, и женщин, – ответил он. – Скажи хотя бы, как тебя звали.
– Кеплер будет в самый раз. Как тебе идеально подходит Койл.
– И у тебя нет предпочтений? Я имею в виду, по части половой принадлежности?
– Мои предпочтения сводятся к здоровым зубам и крепкому скелету, – сказала я. – Я также предпочитаю чистую кожу и, могу признаться, питаю слабость к рыжим волосам, если они мне попадаются и не оказываются крашеными. Можешь как угодно относиться к девятнадцатому веку, но тогда ты не нарывался постоянно на крашеные шевелюры, которые выглядят очень натурально, как это бывает сейчас.
– А ты сноб.
– Просто я побывала в телах достаточного количества людей, чтобы сразу видеть, когда они из кожи вон лезут, стараясь казаться не теми, кто есть на самом деле. Я могу помочь тебе, – сменила я тему. – Если Галилео внедрялся в тебя, использовал тебя – и если он действительно твоя цель, – то я в состоянии тебе помочь.
– Каким же образом?
– Ты можешь сообщить мне что-нибудь еще?
Он промолчал.
– Мне нужно знать, на кого ты работаешь.
Снова молчание.
– Ты веришь тому, что тебе говорили во Франкфурте? Веришь, что они действительно пытались разработать вакцину?
Молчание.
– Жозефина стала для меня не более чем временным телом. Она нуждалась в деньгах, а мне хотелось перемен в жизни. Моя с ней связь не означает участия в убийстве тех, кто тебя нанял. Но мне нужно – просто необходимо, – чтобы ты дал мне какую-то причину, хотя бы самое ничтожное основание сомневаться, что, когда я их найду (а я непременно их найду), мне не следует уничтожить их всех до единого.
Наши взгляды встретились. Я видела глаза Койла в зеркалах уже несколько дней подряд, но прежде читала в них одно только презрение.
– Они делают все, что могут, – сказал он. – Прикладывают неимоверные усилия.
Ухмылка искривила мои губы. Жаль было портить столь симпатичное выражение лица, счастливого, вероятно, в ожидании материнства, если только это тело уже знало о своем положении.
– Этого слишком мало, – сказала я, ухватила его за руку и переключилась.
Глава 43
Я лежу без сна на полке спального вагона и вспоминаю… Мэрилин Монро. Какая же это была идиотская затея!
…Жарким осенним вечером в пригороде Лос-Анджелеса я одолжила тело у Луиса Куинна, начинающего актера, фотомодели, который пока вынужден был работать официантом, и, держа на кончиках пальцев поднос с бокалами шампанского, отправилась в гости к звездам.
Дом, конечно же, был роскошным особняком, и, как положено всякому особняку в Лос-Анджелесе, при нем имелся бассейн. Она полулежала рядом с бассейном – шампанское в руке, волосы растрепаны, смех визгливый. Профессионалы утверждают, что кинокамера прибавляет при съемке любому человеку пять фунтов лишнего веса. Хотя мы делаем абсолютно то же самое, когда смотримся в зеркало, разглядывая каждую новую складку кожи на теле, словно новорожденное чудовище. Мне доводилось бывать стройными и красивыми созданиями, но, стоило встать обнаженной перед зеркалом, как я внезапно начинала считать их излишне полными, чересчур испещренными морщинами – словом, воспринимала себя в их телах гораздо хуже, чем когда смотрела на них издали, глазами посторонней.
Мэрилин Монро, на мой взгляд, была более красивой в жизни, чем на экране. Чуть заметный животик и слишком округлый подбородок не портили ее, но зато дома она одевалась так, чтобы порадовать себя, чем добивалась эффекта, не доступного никакому, даже самому опытному костюмеру.
За исключением сегодняшнего вечера. Когда я смотрела на эти пятнистые брюки, на едва державшиеся завязки бикини, у меня создавалось впечатление, что передо мной не сама Мэрилин, а некто, нарядившийся, изображая ее, – причем нарядившийся безвкусно. Почти уродливо.
Я поставила поднос на стол и перепрыгнула в тело продюсера, дожидавшегося своей порции внимания. И пока официант, едва держась на ногах, приходил в себя у меня за спиной, склонилась как можно ниже, чтобы прошептать на ушко Мэрилин:
– Аурангзеб!
Ее лицо скривилось, словно она случайно надкусила кислую сливу. Аурангзеб медленно повернула голову, бросила на меня озлобленный взгляд и прошипела:
– Какого дьявола тебе здесь понадобилось?
– Не могли бы мы побеседовать наедине?
– Не видишь, я здесь с друзьями!
– Вижу. Все вижу. Но поговорить необходимо.
– Ладно. – Она раздраженно ухмыльнулась, взяла полотенце и обернула им свой роскошный бюст. – Мне тут и так уже порядком наскучило.
Она провела меня в дальний конец сада, где кусты зеленой изгороди были пострижены в форме кота с плоской мордой, собаки, вставшей на задние лапы, стакана для коктейля с зонтиком и прочей чепухи, смотревшейся издевательством над растениями. Когда мы укрылись за ближайшим из этих уродцев, она резко повернулась и проворчала:
– Ну что тебе?
– Прошло пять дней, – сказала я. – Уговор был: вошла – вышла. Два дня максимум.
– Господи Иисусе! – Она вскинула руки, неумело изображая разочарование в близком человеке. – Да что с тобой такое, мать твою? Эти люди обожают меня! Они считают меня потрясающей – лучше, чем настоящая Мэрилин. Меня то и дело спрашивают, что я начала принимать, встречаюсь ли с кем-то, потому что выгляжу намного спокойнее, намного… Ну, ты понимаешь, во всех смыслах! – Она не могла подобрать нужных слов. – Сам Джон Хьюстон только что умолял меня снова сняться у него. Сказал, что это будет великолепно!
– Рада слышать. Но только как ты планируешь выходить из положения, когда тебя в самом деле посадят перед кинокамерой? Ты же не актриса. И ничего не сумеешь сыграть.
– Мы в Голливуде, дорогуша! Люди здесь ходят смотреть фильмы просто потому, что мое имя в титрах, и им плевать, как я играю.
– Мне не то чтобы так уж претит мысль о том, что ты разрушишь чужую блестящую карьеру, если до этого дойдет, но рано или поздно начнутся пересуды. Люди склонны к пересудам, а я не возьму на себя ответственность за самый громкий скандал в истории нам с тобой подобных. Если у Мэрилин Монро образуется недельный провал в памяти, ничего страшного не произойдет. В этом городе подобное стало практически нормой. Но если Мэрилин Монро потеряет шесть месяцев, год или целых пять лет и очнется под конец съемок какой-то халтуры категории «Б», поскольку ни в чем другом ты сниматься за нее не сможешь, у нас возникнут большие проблемы, а я стану притчей во языцех как повинный в них «агент по недвижимости». А потому я говорю тебе – выходи из ее тела. Найди другое.
– Нет.
– Нет?
– Нет. – Аурангзеб явно решила твердо стоять на своем. – Я уже здесь. У меня все получается. Может сработать и дальше.
Я сделала шаг назад.
– Это твое последнее слово?
– Да.
– Хорошо.
На ее лице расплылась улыбка, перешедшая потом в приступ мерзкого хохота.
– И это все? Больше тебе нечего мне сказать?
– Да, это все, – ответила я. – Сейчас найду официанта, с помощью которого проник сюда – у него прекрасные руки, – и выберусь наружу. Наверное, отправлюсь в более прохладный климат. В Канаду. Быть может, даже на Аляску. Буду любоваться северным сиянием.
– Боже, да ты, оказывается, законченный слабак. Вот уж не думала!
– Конечно, я – слабак. Жил слишком бурно, а теперь хочу покоя. Но предварительно я кое-что подмешал в твое шампанское.
Ее смех застрял в горле, побулькал в нем, а потом и вовсе затих. На ее лице как в калейдоскопе сменилась череда эмоций, причем все – негативные.
– Ты лжешь! – выпалила она. – Ты бы не посмел.
– Еще как посмел! Я вошел сюда в теле официанта. Если мы с тобой действительно в чем-то хороши, так это в умении смешиваться с толпой. А теперь наслаждайся промыванием желудка.
Я развернулась и неспешно пошла прочь.
– Эй! – крикнула она мне вслед. – Эй, вы! Как вас там…
Но на месте моего имени в ее башке зияла пустота. Между тем, если бы она хотя бы бегло ознакомилась с материалами, которые я для нее подготовила, она бы увидела фото продюсера с краткой биографией на одной из первых страниц. Но Аурангзеб была слишком ленива, чтобы выполнить домашнее задание.
– Эй! – Теперь она визжала уже достаточно громко, чтобы в ее сторону повернулись все головы.
Я величаво улыбнулась, дошла до того места, где мой официант все еще пытался понять, что с ним произошло, положила пальцы на его руку и пробормотала:
– С тобой все в порядке, сынок? – И прыгнула.
Игра на скрипке, умение говорить по-французски, знание состава и статистики «Доджерс»… Если ничто из вышеперечисленного не поможет вам выявить призрака в чужом теле, гастроэнтерит сработает безотказно.
Глава 44
Ночные поезда никогда не прибывают в пункт назначения в удобное время.
6.27 утра – не лучший час, чтобы начинать рабочий день. Ни один магазин не работает, и кофе не найдешь нигде – только мутную коричневую жижу в круглосуточных забегаловках для ранних пассажиров, которые слишком торопятся, чтобы обращать внимание на качество напитка. Заселяться в отель тоже слишком рано. Вот и садишься на свой багаж в любом открытом в такой час кафе и невольно думаешь: почему я не полетела самолетом?
Стало заметно холоднее. За последние пять дней небо у меня над головой делалось все темнее, в тон почве, и теперь, когда я бесцельно бродила по платформе Берлинского вокзала, у меня изо рта валил пар. Но, несмотря ни на что, я люблю Берлин.
Мне нравился город еще до того, как был разрушен войной, и мне по душе то, как его восстановили. Архитекторы нового Берлина не угодили в ловушку распространенного мнения, что вся прежняя красота должна быть возрождена в прежнем виде, и не стали полностью хоронить прошлое. Вместо этого они сумели создать синтез старины и наилучших инноваций, отказавшись от возведения железобетонных коробок, на что пошли в пятидесятых годах прошлого века многие градостроители, и организовали пояс жилых кварталов, соединенных с центром широкими улицами, вдоль которых посадили столько деревьев, сколько позволил выделенный им бюджет. В Западном Берлине это с годами привело к почти сплошному озеленению с благоуханными рощами, протянувшимися вдоль благородных линий магистралей, с огромными парками, где дети могли играть в прятки средь мощных изломанных корней, куда сквозь густые заросли почти не доносился городской шум. В Восточном Берлине картина сложилась менее идиллическая, и только сейчас там тоже стали появляться зеленые зоны под сенью функциональных многоэтажных домов и разумно устроенных индустриальных районов, созданных когда-то в лихорадке ускоренного промышленного развития.
Мне нравятся овощи, которые можно купить в Берлине, – более мясистые и ароматные, чем обычный товар из супермаркетов. А еще этот город – рай для велосипедистов. Для них проложены специальные дорожки не только в парках, но и вдоль тротуаров на улицах, где водители вынуждены уступать дорогу своим привилегированным соперникам на двухколесном педальном транспорте. Мне нравятся шницели, картошка под сливочным соусом, пиво. Шум, где положено быть шуму, и тишина в местах, созданных для покоя. Мне никогда не хватало времени, чтобы сварить себе сосиски или овощи, и я не понимаю людей, которые готовят в кипящей воде, чтобы угостить приглашенных на вечер гостей.
Вот почему тот факт, что Элис Майр, партнер Натана Койла и женщина, которая, если я не ошибаюсь, готова была убить меня на месте, жила в столь прекрасном городе, немного портил мне настроение.
Моей первой задачей стало найти место, чтобы спрятать Койла.
Я выпила самый лучший кофе, какой только смогла отыскать, а потом настало время воспользоваться интернет-кафе.
«Агенты по недвижимости» для подобных мне людей существовали всегда. Но они особенно полезны, когда попадаешь в трудное положение. Эксперты в своем деле, они помогут покинуть неправильно выбранное тело и подберут именно то, что тебе сейчас необходимо.
«Агент по недвижимости» в Берлине пользовалась псевдонимом Гекуба. Я попыталась позвонить в ее контору, но телефон был отключен. Попробовала написать ей по электронной почте с временного, созданного на месте адреса, но письмо тут же вернулось с пометкой: доставка невозможна, адресат не определен.
Я уничтожила временный адрес, с которого отправила сообщение, и перебралась в другое кафе, прежде чем продолжить поиски.
Я отправила еще несколько писем своим знакомым – Фифе, Гере, Куаньин, Янус. Только Гера ответила, но она уже несколько лет ничего не слышала о Гекубе.
Я даже сделала попытку связаться с Йоханнесом Шварбом. Тот тоже отозвался сразу же с информацией, что сайта Гекубы больше нет в Сети. «Эй, ты в Берлине! – обрадовался он. – Не хочешь повеселиться вместе?»
«Спасибо за предложение, Сперматозавр 13, – ответила я. – Дам знать о себе позже».
Отыскать Гекубу оказалось почти невозможным делом.
В раздражении я прибегла к более обыденным источникам информации. Процесс сильно замедлился, мои евро стали утекать быстрее, а я рыскала среди почти забытых имен и лиц, пока не наткнулась на действительно знакомое. Она сменила прическу, носила новенький модный костюм и постарела на пятнадцать лет, но Уте Зауэр все еще оставалась для меня потенциальным телом.
Я позвонила ей с телефона-автомата.
– Больше этим не занимаюсь, – ответила она.
– Не стала бы обращаться, если бы не отчаянное положение. Готова умолять, если потребуется, – сказала я.
На другом конце линии воцарилось длительное молчание. Потом:
– Зелендорф, – сказала она. – Я заеду за тобой. Как ты сейчас выглядишь?
Зелендорф – это прекрасное место.
От чудом уцелевших остатков старой Германии до новых домов на две семьи, обрамленных лужайками и каналами с проточной водой. Здесь можно купить сумку из сушеной конопли, соломенную шляпку от солнца и приобрести ощущение принадлежности к целиком органическому миру. Летом, не покидая Берлина, чувствуешь себя здесь за городом. А ближе к Рождеству многочисленные детские хоры радостно распевают на каждом углу для случайных прохожих, под ногами которых хрустит свежий снежок. Уте подобрала меня у станции метро. Она приехала на серебристом гибриде и, открыв для меня дверь, переложила на заднее сиденье набор музыкальных компакт-дисков: квинтеты Моцарта и «Песенки для милых деток». Я уселась рядом с ней, и ее машина тут же подала голос, требуя застегнуть ремень.
– Ненавижу эти звуки, – проворчала Уте. – Теперь на переднее сиденье не положишь даже сумки с покупками. К нам относятся как к несмышленым, плохо воспитанным детям. Машины диктуют нам, что можно делать, а чего нельзя. Это просто смехотворно!
Уте Зауэр. Когда я впервые познакомилась с ней, ей было семнадцать, она жила в Восточном Берлине, а ее отца арестовала «Штази».
– Переправь меня на Запад, – сказала она, – и я готова отдать тебе свое тело.
– Договорились, – ответила я. – Твое тело мне нужно, хотя не совсем для того, о чем ты думаешь.
Через несколько лет пала Берлинская стена, но Уте осталась в списке местного «агента по недвижимости» такой же, какой была всегда, – с чистой, послушной кожей, превосходной для кратковременного использования или быстрых ознакомительных поездок. Она брала за тело почасовую плату и позволяла пользоваться машиной, если ей обещали не превышать скорость и не нарушать правил парковки. Идеально в период перед перемещением в кого-то другого. При этом Уте по праву сохраняла чувство собственного достоинства, гордилась свежим цветом лица и вкусом в скромном выборе одежды. Когда я покинула Берлин, Гекуба включила ее в свой список, и Уте охотно выполняла капризы призраков, пунктуальная и обязательная, каким был для меня Уилл в Лос-Анджелесе, хотя, в отличие от него, сделала это своей постоянной профессией.
Но сейчас, когда мы ехали по Зелендорфу, а над верхушками деревьев вставало солнце, она спросила:
– Это надолго? Мне в половине третьего забирать детей из школы.
– Еще не знаю. Я пробовала связаться с Гекубой, но не сумела ее найти.
Короткие каштановые волосы, почти прямоугольная форма лица – Уте, похоже, была своенравным ребенком, но зато теперь стала матерью, знавшей, как обращаться со своими чадами.
– Гекуба мертва, – сказала она. – На ее офис было совершено нападение. Перебили всех.
– Кто это сделал?
– Не знаю. Даже не пыталась выяснять. У меня же теперь дети на руках.
– Но ты в безопасности?
– На меня никто не покушался, если смысл твоего вопроса в этом.
– Именно в этом.
– Тогда я в безопасности.
– Ты узнаешь мое нынешнее тело? – спросила я.
Она посмотрела на меня, скосив глаза.
– Нет. Я его прежде не встречала. А должна была?
– Не обязательно, – с облегчением ответила я и откинулась на спинку сиденья. – Мне как раз и нужно куда-то на время пристроить это тело.
– Почему? – Ее голос прозвучал тверже асфальта под колесами машины.
– Не думаю, что он представляет для тебя угрозу. Его интересую в основном только я сама. Но он пытался меня убить, и, если это для тебя проблема, пожалуйста, скажи сразу. Я оставлю тебя в покое. И без обид, честное слово.
Она поджала губы, словно пробуя на вкус, пережевывая и переваривая идею. Затем ответила резким кивком.
– Мой муж занимается недвижимостью. Настоящей. Есть у него сейчас один дом, где мы сможем укрыть тело. Но только хорошо бы вколоть успокоительное. Сделаешь?
– Нет проблем.
– Хорошо. Мы прячемся, усыпляем его, ты берешь мое тело, отправляешься по своим делам, а в два тридцать я уже у ворот школы. Это понятно?
– Да. Спасибо.
– Денег я с тебя не возьму. Нас с тобой… связывает прошлое. Ты оказала мне когда-то неоценимую услугу.
– Ты очень добра.
– Половина третьего, – напомнила она. – И время уже пошло.
Дом оказался квадратной формы особняком из дерева и стекла, для которого архитектор придумал огромные окна, выходившие на балконы, отделанные терракотой. Пустые комнаты дожидались счастливых жильцов, белые стены казались слишком чистыми, чтобы что-то на них вешать, кухня была просто образцовой – в такой даже страшно начинать готовить, – да еще ванная, выложенная блестящим полированным черным камнем. Я порылась в сумке в поисках наручников и медицинского набора Койла со шприцами и скальпелями. Потом закатала рукав, продезинфицировала впадину на сгибе локтя, потерла, чтобы выступила вена, и сразу ввела дозу снотворного. Жидкость показалась холодной, войдя в мое тело, но согревалась, растекаясь по нему. Я приковала себя к ближайшей батарее отопления, заложив обе руки за спину. Уте вытащила иглу, присела рядом со мной и спросила:
– Ну как, действует?
Я захихикала, сама не зная почему. Что-то похожее на улыбку промелькнуло в складках ее губ. А я никогда не видела, чтобы она улыбалась.
– Как я поняла, действует, – сказала она, вкладывая пальцы в мою ладонь. – Разрешите пригласить вас…
– На танец?
Ее голос, мои слова.
Я смотрела на Натана Койла, открывшего глаза. Затем сняла с него носок и вынула рулон клейкой ленты из сумки, засунула носок ему в рот и крепко замотала в тот самый момент, когда с его уст готовы были сорваться первые звуки – какая-то возмущенная реплика. Тело Уте показалось мне значительно старше, чем в то время, когда я впервые внедрялась в него. Ее коленки слегка хрустнули истончившимися хрящиками. Койл дернулся на полу, подтянулся к радиатору. Его глаза метались, но не могли ни на чем сфокусироваться. Он пытался издать нечто вроде рыка, но звук угас, так и не родившись.
– До встречи, – сказала я, глядя в его закатившиеся глаза.
На машине Уте я вернулась в город. У нее были совершенно чистые права, и нарушить их девственную чистоту казалось немыслимым. Это даже немного по-детски пугало. Получить в ее теле штраф за неправильную парковку и не заплатить было бы редкостной подлостью с моей стороны.
Я ощущала какое-то онемение в груди, тяжесть, которую не могла себе объяснить. Это была не боль, не дискомфорт, не холод, не раздражение, вызывавшее желание почесаться. И только уже добравшись до середины Шенхаузер-аллее, я поняла, что там пустота, оставленная хирургами, место, откуда вырезали плоть. Если бы я могла мысленно сосредоточиться, возможно, я бы целиком погрузилась в размышления над этим, но необходимость вести машину осторожно и не потревожить покоя бдительных и до крайности педантичных берлинских полицейских отвлекла мое внимание от окончательного понимания происшедшего с Уте. Она сама мне ничего не рассказала, и я не стану ее спрашивать.
Я припарковалась, чуть не доехав до района Панков, оставила ключ в замке зажигания и дождалась, пока с машиной поравнялся темнокожий бизнесмен. У него были короткие волосы, длинная рубашка, модные ботинки, и в момент, когда он проходил мимо, я спросила:
– Извините, не подскажете, который час?
Он невольно замедлил шаг, размышляя, стоит ли ему вообще обращать внимание на столь странный вопрос, но потом все же взглянул на часы, и моя рука коснулась его запястья для прыжка.
Уте заметно качнуло, и ей пришлось прислониться к своему автомобилю. Я бросила портфель на тротуар и ухватила ее за плечи, дожидаясь, пока она придет в себя.
– Давно… давно не виделись, – сказала она.
– С тобой все хорошо?
– Прекрасно. Да, просто отлично. Как у нас со временем?
– Более чем достаточно.
Она посмотрела на часы, наморщила лоб.
– Могу ждать ровно час, – сказала она, – если нужна тебе.
– Обойдусь. Главным было спрятать Койла.
– Это его настоящая фамилия?
– Нет, – ответила я. – Но приходится пользоваться ею.
Она окинула меня взглядом с головы до ног и спросила:
– Таков теперь твой стиль?
– Нет, – огрызнулась я, поднимая портфель. – Но, кажется, у меня ноги спортсмена.
…Аккуратная улочка, застроенная аккуратными домами. Аккуратная булочная, продающая аккуратной формы батоны с аккуратных лотков. Берлин – город, где умеют показать себя с лучшей стороны.
Я прошла несколько кварталов пешком до аккуратного желтого жилого дома, расположенного точно под прямым углом к перекрестку. Выложенная плиткой дорожка вела к синей входной двери мимо мусорных баков – отдельно для бумаги, для пластмассы и для металлических отходов с целью последующего правильного вторичного использования. Я просмотрела список фамилий рядом со звонками. Элис Майр не пыталась скрыть свою.
По стыкам плитки у меня за спиной застучали колеса. Я обернулась и увидела пожилую даму, катившую перед собой тележку с покупками, низко надвинув на лицо шляпу. Искривленный позвоночник заставлял ее держать голову почти горизонтально на уровне плеч. Я посторонилась, а она стала рыться в карманах в поисках ключа. Слегка содрогнувшись от предстоявшего неприятного ощущения, я дотронулась до ее руки.
Ненавижу быть старой. Резкий переход с крепких и легких ног на скрюченные артритом конечности порой чреват травмой. Я сделала шаг и чуть не упала, неправильно рассчитав центр тяжести и пропорции скелета. Потом шагнула еще раз, гораздо более осторожно, но почувствовала, как дрожь пробежала от коленей вверх по хребту. Зато моя левая рука уже нащупала в кармане связку ключей. Я достала их и увидела тощие пальцы, покрытые кожей, напоминавшей сушеный финик. Склонившись еще ниже, чтобы рассмотреть ключи, я ощутила резкую боль в спине, и до меня дошло: если я сейчас уроню связку, это будет настоящей катастрофой.
Совершенно сбитый с толку мужчина с портфелем позади меня явно раздумывал, не спросить ли, где он находится и как здесь оказался. Но кому взбредет в голову о чем-то расспрашивать такую развалину, в которую превратилась сейчас я?
…Элис Майр жила на третьем этаже. Я поднялась на лифте и оставила свою тележку на лестничной площадке. Нажала на кнопку звонка один раз, второй. Ответа не последовало. Подумала, не постучать ли, но в пальцах почти физически ощущалась пустота, а в руке было столько же силы, сколько в промокшей под дождем газете. И я позвонила еще раз.
Теперь изнутри донесся голос, сказавший по-немецки:
– Сейчас! Уже иду!
Дверь приоткрылась на дюйм, запертая на цепочку. Я скривила лицо в глуповатой улыбке, обнажив вставную челюсть, и спросила:
– Вы не знаете, куда я могла деть свои ключи?
В щели был виден только один глаз небесно-голубого цвета.
– Ваши ключи?
– Да. Они были у меня, но куда-то задевались.
Судя по выражению глаза, его владелица задумалась.
Всем известно, что призраки тщеславны. А что нам еще остается? Мне говорили, что старики не замечают возраста, пока на них с сокрушительной силой не обрушиваются всевозможные болезни, как астматики предполагают, что дышать тяжело не только им, но и всем окружающим. Ни один призрак никогда добровольно не переместится в старческое тело.
– Секундочку, – сказал голос.
Я услышала скрежет головки цепочки, и дверь распахнулась. Передо мной стояла женщина ростом примерно пять футов пять дюймов с коротко постриженными светлыми волосами и намеком на легкие веснушки, разбросанные по раскрасневшимся щекам. На ней была традиционная одежда для бега трусцой: футболка и шорты с лайкрой. Когда она уже открыла рот, чтобы дать мудрый совет возникшей на ее пороге престарелой соседке, я снова улыбнулась ей своей самой ослепительной улыбкой и ухватила за руку.
Думаю, она даже не успела испугаться.
– Мэм, – спросила я старушку, которая с трудом держалась на ногах, – не помочь ли мне доставить покупки в вашу квартиру?
Глава 45
Впечатления от тела женщины, которую зовут Элис Майр.
Хорошие зубы, отбеленные химическим методом, прекрасные волосы, не выщипанные мягкие брови, плавно изгибающиеся над глазами. Легкая боль в голенях – вероятно, результат длительной пробежки по холоду. Зрение острое. На ногах удобная обувь. Только слегка чешется нос. Как же приятно снова стать молодой!
Я закрываю за собой дверь и осматриваюсь в своей квартире. Стены покрашены белой краской с легким оттенком, который дизайнеры скорее всего называют «жемчужным». Сборная мебель, кремовые шторы на окнах. Плоская телевизионная панель, пара журналов: один посвящен женскому боксу, второй – вымирающим белым медведям. По стенам несколько картин подражателей импрессионистам – такие на распродажах идут три по цене двух. Кровать Элис тщательно застелена. Одеяло в тон наволочкам на подушках, но вот ее портативный компьютер, стоящий на кухонном столе рядом с остывающей чашкой кофе, защищен паролем. Я охлопываю себя, не нахожу карманов, но потом вижу мобильный телефон, лежащий на микроволновой печи. Для его активации тоже необходимо знать код.
Я выдвигала ящики, пролистывала книги, рылась в старых бумагах, изучила содержимое мусорной корзины и бака на кухне под раковиной. Никаких фотографий друзей, телефонных списков или перечня подарков к Рождеству для любимых коллег, который пришелся бы очень кстати. Ни досье, ни папок, ни снимков, сделанных в отпуске. В этой квартире не обнаружилось ничего, связывавшего хозяйку с внешним миром, не считая, конечно же, девятимиллиметрового пистолета, хранившегося в прикроватной тумбочке. Элис явно не собиралась участвовать в конкурсе на самую гостеприимную хозяйку.
Я сидела на мягком диване в кухне с кремовыми стенами, допивала остатки кофе, сваренного Элис, и пыталась обдумать ситуацию.
Из всех открывавшихся передо мной возможностей – а их было не так уж много – только одна представлялась сколько-нибудь ценной. Хотя и ее ценность казалась сомнительной.
Просто уйти? Элис Майр совершенно необязательно оставлять больше чем легкое подозрение, что ее телом воспользовались. Я могла немедленно постучать в дверь квартиры старушки, возобновить разговор с того места, на котором мы его прервали, а потом удалиться, исчезнуть, словно меня и не было. Койла со временем кто-нибудь обязательно найдет. Но когда это случится, я буду уже очень далеко.
На одном из кладбищ Стамбула в безымянной могиле останется лежать Жозефина Цебула, а человек, который ничего толком не сказал, кроме бесконечного «Галилео, Галилео, Галилео…», останется безнаказанным.
(Маленькая девочка в Петербурге: «Посмеете дотронуться, и я выцарапаю ваши глазки и скормлю своему коту».)
Я взяла сотовый телефон Элис, вынув из него батарейку, захватила компьютер, а потом после некоторых колебаний одолжила теплый свитер, бумажник, проездной билет на метро и пистолет. После чего вышла из дома под холодный свет дня.
Призраки тщеславны. Но мы в массе своей еще и невежественны.
Хотите стать ученым-конструктором космических ракет? Внедритесь в одного из них на несколько дней и на любые вопросы отвечайте: «Эта проблема еще требует дополнительных исследований».
Желаете стать президентом США? Он пожимает множество рук по пути на любое мероприятие со своим участием. А если вы еще и миленькая маленькая девочка в розовом цветастом платьице, ваши шансы получить вожделенное прикосновение многократно повышаются. Это же относится к папам римским, хотя необходимость знания языков, которое требуется даже для временного пребывания во главе Ватикана, значительно превышает запросы Белого дома.
Стремитесь попасть в университет? «Неделя новичка»[8] – боже мой, как хороша «Неделя новичка»! Потрясающая возможность добыть для себя новую кожу, когда огромная масса незнакомцев впервые оказывается вдали от дома. Достаточно ухватиться за студента с исторического факультета, и вам не придется даже получать аттестат зрелости, чтобы быть зачисленным в заветное учебное заведение.
Но это не значит, что мы не пытаемся получить образование сами. Лично я честно заслужила дипломы бакалавра нескольких весьма почитаемых университетов. И к тому же прошла почти половину курса обучения в медицинском колледже. Причем любое чувство вины, которое я испытываю, когда думаю, что лишила тела, в которых училась, радостей студенческой жизни, перевешивают дипломы с отличными оценками, каких они никогда не получили бы сами. И в процессе учебы они не подцепили почти неизбежных венерических заболеваний.
Так что пусть идея самоусовершенствования представляется совершенно абсурдной тем из нас, кто меняет тела как перчатки, в момент нового прыжка навсегда оставляя в прошлом весь полученный опыт. Я же не могу считать себя полной невеждой. Хотя понимаю всю ограниченность своего образовательного уровня: мне не удалось, к примеру, овладеть навыками хакера.
Кристина 636: Хорошо. Мне нужна твоя помощь.
Сперматозавр 13: Ур-р-ра! Гуляем!
Глава 46
Йоханнес Шварб.
Новая встреча с ним оживила в памяти не слишком приятные воспоминания о минутах, проведенных в его шкуре, – алкоголь, наркотики, кулачный бой в темном закоулке.
Мы встретились в «Макдоналдсе» на Аденауэрплац, где почти средиземноморские кафе, бары в тевтонском стиле и неизбежные бутики Курфюрстендамм соседствуют с элитными офисами преуспевающих адвокатов и домами богатых банкиров, но где почти невозможно поймать такси.
Гамбургеры оказались низкого качества, да и маккруассаны оставляли желать лучшего. Когда Шварб – он же Сперматозавр для близких друзей – вошел внутрь, я едва узнала его. На нем был черный костюм в тонкую серую полоску, смазанные гелем волосы опрятно зачесаны назад, щеки и подбородок тщательно выбриты, а потому даже крошечная бриллиантовая сережка в мочке правого уха выглядела лишь жалкой попыткой сохранить элемент радикализма в облике мужчины, давно предавшего идеалы революции за гарантированные дивиденды с пакета акций. Хотя тот факт, что он заказал себе двойной чизбургер с двойной же порцией картошки, дополнительным майонезом и вообще все в двойном размере – да! – свидетельствовал, что его характер не полностью изменился. И когда он сел напротив меня, у него вырвалось восклицание:
– О боже милостивый! Ты снова выглядишь горячей штучкой! Ты просто… Ты такая… – Он ожесточенно жестикулировал, не в силах подобрать определение, а потом закончил: – Словом, ты чертовски сексуальна!
– Как твои дела?
– Мои? Потрясающе! Я, если хочешь знать, властелин этого мира.
– А мне казалось, что ты просто стал советником по финансовым вопросам.
– Независимым советником по финансовым вопросам, – поправил он. – Абсолютно независимым финансовым советником!
– Мне всегда казалось, что это достойная, но скучная работа в конторе с девяти до пяти…
Он ладонью сплющил свой чизбургер, превратив его в прихотливую смесь из овощей с рубленым мясом.
– Я получаю триста пятьдесят евро в час за то, что сообщаю людям информацию, которую они могли бы с легкостью сами найти в Интернете. Разумеется, я лучший в своем деле, уж поверь, но эти парни, эти набитые деньгами придурки хотят всего и сразу. Желают получать огромные дивиденды, ничем не рискуя, а мне только остается убеждать их вкладывать средства в разные сектора экономики.
Он, вероятно, прочел отстраненность в моем взгляде, потому что сразу сказал:
– Но ведь тебе нужен не финансовый совет, верно?
– Да, не совсем.
– Так и знал. Ты снова интересуешься компьютерными трюками, не так ли? Век электроники, двадцать первое столетие, красота!
И прежде чем я ответила, он откусил от своей лепешки кусок, который размерами пришелся бы в самый раз для акулы.
Я дождалась, пока он закончил жевать, и заявила:
– Мне нужно сделать три вещи. Получить доступ в портативный компьютер, взломать код мобильного телефона, а потом проникнуть в сети, которые, как я догадываюсь, тоже защищены паролями.
– Ты догадываешься?
– Я в этом уверена.
– Ладно. Мы можем сделать это в удаленном доступе и поблагодарить за это всеобщую глобализацию?
– Я пока не знаю, где именно находятся компьютеры, о которых идет речь.
– Понятно…
– Но не сомневаюсь, что распознаю их, как только найду.
– Уже хорошо…
– Ты можешь скинуть мне все необходимое на какую-нибудь карту памяти или что-то в этом роде?
Он посмотрел на меня с ужасом подлинного эксперта:
– Ты ведь понятия не имеешь, о чем говоришь, так?
Я вдруг поймала себя на том, что почти бессознательно хлопаю ресницами.
– Потому я и обратилась к специалисту.
Глава 47
Когда я рассталась с Шварбом, солнце клонилось к закату. На холоде пальчики Элис Майр побелели, как лепестки ромашки. Я пила чай, пока Сперматозавр сражался с компьютером Майр, потом с телефоном, играл с программами, бормотал и ругался – словом, выполнял высокотехнологический эквивалент обращения к духам мудрости и демонам учености, чтобы они помогли успешно завершить его задачу.
Проникнув в компьютер, он взялся за код телефона. Я сидела, положив компьютер Элис на колени, и просматривала ее почтовый ящик, набор новостных сайтов в закладках и внушавшую уважение коллекцию сложных стратегических игр.
Вся ее почта носила личный, а не профессиональный характер. Сестра из Зальцбурга прислала распечатку своего последнего УЗИ. Стрелка поверх зернистого изображения указывала на белое пятно в материнской утробе, которое со временем должно было преобразиться в нечто с головой, парой ножек и большим пальцем во рту.
Приглашение на встречу выпускников колледжа. Прошло десять лет, можешь себе представить? Не можешь? Тогда выпей с нами и поймешь, что ничего не изменилось.
Целый набор предложений, запросов, сообщений. Этот человек ищет себе в Сети подругу. Незнакомец хочет общаться. А другому мужчине понравилась информация, которую ты выложила о себе на сайте знакомств. Ты воспользовалась фальшивым именем и представилась бухгалтершей, но на фотографии ты – Элис Майр – выглядишь красивой, как в жизни. На тебе синее платье, и кажется, словно тебя саму поражает собственная женственность. Камера уловила, какой глупой и счастливой ты ощущала себя в тот момент.
История жизни Элис вся в этом компьютере как на ладони. А вот о работе, однако, нет ни слова. Только одно сообщение, все еще сохраненное в папке «Недавние загрузки». Она не удалила его. Бегло просмотрела, а потом забыла, что оно там осталось. Видеозапись. Момент, снятый камерой наружного наблюдения. Женщина в короткой юбке, но с капюшоном на голове. Она сняла туфли на высоких каблуках и, взяв их за ремешки, несет в левой руке. Она идет по тропинке вдоль реки или канала: вода неподвижна, берег низкий, и с такого угла мне не разобрать, что это. Сначала она идет быстро, потом замедляет шаг, словно чувствуя на себе взгляд видеокамеры. Потом поднимает голову, смотрит вверх, оглядывается по сторонам, улыбается тому, что видит, улыбается прямо в камеру. На ее руках какие-то темные пятна. Она становится на колени и проводит рукой по покрытой асфальтом дорожке. Ненадолго отрывает руку от асфальта и гладит кончиком пальца свою ладонь, свое запястье. Она что-то пишет. Чернила выглядели бы ярче, краска – гуще, но и жидкость, которой перепачкана ее кожа на бедрах, на руках и на лице, годится для ее цели. Это не ее кровь. Потому ей и приходится время от времени делать паузы, чтобы смочить палец в потеках на теле.
Когда она поднимается, написанные ею слова едва различимы. «Тебе нравится то, что ты видишь?» Жозефина Цебула задерживает взгляд на камере, задавая тот же вопрос, что написан у нее под ногами. И уходит.
Я проверяю дату и время в нижнем углу кадра. Шварб тоже проводит проверку, выискивая следы фальсификации на изображении.
Я открываю смежные папки и нахожу список имен: Торстен Ульк, Магда Мюллер, Джеймс Риктер и Элсбет Хорн. Убиты во Франкфурте. Обстоятельства смерти не ясны. Это не выглядело заказными убийствами или ограблениями со случайной гибелью жертв. Они долго мучились, прежде чем умереть, а их убийца наслаждался делом своих рук.
Койл обвинял Жозефину, но я хорошо изучила ее жизнь и знала, что она не совершала этих преступлений.
Лицо, застывшее на дисплее компьютера, неотрывно смотрящее прямо в камеру. «Тебе нравится то, что ты видишь?»
Я закрываю ноутбук и прошу Шварба где-нибудь спрятать его.
– Что ты собираешься делать? – спрашивает он.
Я ушла из его офиса уже после заката. В руке я несла карту-накопитель данных, в просторечии именуемую флешкой, прорезиненный наконечник которой имел форму веселого пингвина.
Затем я зашла в универмаг на Курфюрстендамм. Когда рухнула Берлинская стена, жители Восточного сектора сразу же бросились туда за душистым мылом и мягкими носками. Я же купила себе пару брюк, натянув их поверх спортивных шорт. Можно было и дальше выглядеть так, словно собираешься пробежать марафон, но мне сейчас очень пригодились карманы.
Я приобрела два дешевых мобильных телефона, на счетах каждого из которых лежало всего по нескольку евро, и направилась на восток в сторону Потсдамерплац. На месте старого контрольно-пропускного пункта «Чарли» устроили музей, посвященный Великой стене, которая пожирала своих жертв живьем, но на Потсдамерплац с трудом верилось, что когда-то подобный железобетонный монстр существовал вообще. Зеркальные стекла зданий отражали разноцветные переливы освещения, огромные экраны на жидких кристаллах, установленные на крышах домов, мельтешили изображениями, шум голосов смешивался со звуками шагов многочисленной публики на тротуарах перед витринами магазинов. Официанты, стоя в дверях ресторанов, предлагали отведать суши, тайских деликатесов, креветочных крекеров, глинтвейна, тушеной телятины, горячих пончиков или водки. Под стальной крышей центра «Сони» твоей единственной целью в жизни становилось потребление, трата денег с наибольшим удовольствием, какое только вообще достижимо.
С приближением зимы власти уже успели не только залить в парке каток, но и возвести небольшую горку для катания под названием «Страна зимних чудес», где радостно визжала детвора, а родители нервничали, переживая за целость костей своих отпрысков. Я купила билет на каток и была застигнута врасплох вопросом, какого размера коньки мне нужны.
– Быть может… хотите примерить? – спросила женщина за стойкой, когда мое молчание затянулось.
– Спасибо, – промямлила я. – Вечно все забываю.
Сделав пару кругов, я присела на деревянную скамью в углу, слушая музыку и наблюдая, как прожекторы пускали по льду красные круги. Здесь уже катались сотни людей, натянув на руки плотные перчатки. Разумеется, профессионалы на этом катке не появлялись – им тут нечего было делать. Подростки хватались друг за друга, чтобы не упасть, но кто-нибудь непременно с громким криком валился на лед, тащил за собой соседа, пока не образовывалась орущая куча-мала – лица мокрые, но смеющиеся. По периметру катка расположились те, кто не хотел кататься сейчас, как, впрочем, не хотел кататься никогда. Они сидели, закинув ногу на ногу, с равнодушным видом наблюдая, как их более тренированные друзья с наслаждением проносились мимо.
Я подтянула верхний узел на одном из ботинок с лезвиями, охлопала карманы, чтобы убедиться, все ли на месте, и включила сотовый телефон Элис.
На дисплее начали отображаться предупреждения: пропущенные звонки, полученные текстовые сообщения – всего около дюжины. Положив телефон в карман, я присоединилась к кружившим по катку людям, смеялась вместе с ними, поворачивала там, где поворачивали они, и ощущала то странное чувство единения с толпой, которое посещает тебя, когда начинаешь заниматься какой-нибудь ерундой в компании других людей, предающихся столь же пустому занятию. В этот момент я была влюблена в Берлин, мне нравился холод, жесткий лед под ногами, смех, вырывавшийся из моей груди, – звонкий, вибрирующий. И я была влюблена в Элис Майр.
Но ничто хорошее не длится слишком долго. Реальность вонзается в тебя, как пуля в спину.
После нескольких кругов, когда мне стало даже жарко в свитере, хотя лицо от холода чуть онемело, я услышала, что у меня звонит телефон. Я притормозила у кромки льда и ответила:
– Алло!
– Где ты, черт возьми? – рявкнул в трубке мужской раздраженный голос с сильным французским акцентом.
– Катаюсь на коньках. На Потсдамерплац.
– С какой стати тебя туда понесло?
– Я люблю кататься на коньках. Это наполняет энергией. А еще я прошлась по магазинам, перекусила, совершила приятную прогулку…
– Что за ерунду ты…
– Должна кое-что объяснить, – оборвала я его. – Элис временно недоступна.
Молчание.
– Кто вы такая? – тихо спросили после паузы.
– В вашем досье я значусь под фамилией Кеплер, – ответила я. – Но ваше досье наполнено ложью. Если через пятнадцать минут вы не появитесь на катке с экземпляром «Франкфуртер альгемайне» в левой руке, Элис Майр вскроет себе вены.
– Но мне ехать полчаса.
– Встретимся через пятнадцать минут, – отрезала я и дала отбой.
Потом я еще несколько минут покаталась и поймала себя на том, что улыбаюсь.
Глава 48
Через десять минут после того, как Элис Майр ответила на звонок, я подалась вперед, коснулась шеи женщины, скользившей передо мной, и переключилась. Пятнадцать секунд спустя нас разделяло несколько тел, а я направлялась к выходу.
Элис Майр осталась стоять там, где я ее бросила, в самой гуще толпы, с телефоном в кармане. Окружающие уже начали спрашивать, все ли с ней в порядке. Она не двигалась. Ее буквально парализовало, превратило в ледышку, более твердую, чем лед, который стелился у нее под ногами. Ее словно зачаровали, и ей не сразу удалось снять заклятие. Ее глаза смотрели в пустоту. Еще один незнакомец поинтересовался ее самочувствием, а она повернула голову, чтобы взглянуть на женщину, ухватившую ее под локоть. Но она ничего не говорила.
Я села на скамью и принялась расшнуровывать коньки, обнаружив, что на мне теплые вязаные носки с изображениями оленьих голов. На стертой ноге уже образовался волдырь. А когда я снова посмотрела на Элис, ее плечи дрожали, а из глаз, казалось, вот-вот хлынут слезы.
Надо наблюдать за ней. Вот ее посетила первая мысль: рука потянулась к лицу, но замерла в неуверенности, следует ли ей дотрагиваться до себя. Наблюдай за ней.
Она замечает, что не вызывает особо пристального внимания, не ощущает боли. Быть может, ее тело никто не трогал? Но вот вопрос, главный вопрос, ответ на который она хочет сейчас узнать: как именно надругались над ее плотью? И другой вопрос: кто это сделал?
Но она не осмеливается задавать их себе, пока весь мир кружится вокруг, а она стоит, чувствуя себя одинокой посреди многолюдного катка.
Элис Майр. Нет, она не заплачет.
А вот и еще одна мысль – видно, как она вспыхивает в глубине ее глаз: этот человек должен все еще быть где-то поблизости. Кто держал ее за руку, когда она очнулась? Кто особенно пристально смотрит на нее сейчас? Кто поспешил от нее удалиться?
Она начинает медленно поворачиваться, неуверенно держась на коньках, и ищет меня. Я сижу неподалеку, расшнуровываю ботинки, снимаю их, стучу лезвием о лезвие, чтобы стряхнуть образовавшийся снежный налет, и не волнуюсь, глядя на ее попытки отыскать меня в толпе. А мгновение спустя она запустит руку в карман, чтобы достать мобильный телефон, но затем задумается и замрет…
Так и есть. Поразмыслив, она решает не трогать телефон. Умно. Потому что мерзкое создание, которое воспользовалось ее телом, надев его на себя, как надевают чужую одежду, могло сделать то, о чем ей трудно даже догадаться.
Теперь, когда способность соображать почти полностью вернулась к ней, она проверяет только одно – время. Сколько часов или даже дней прошло с тех пор, как ее телом завладели, до момента освобождения? Осталось ли в ней какое-то ощущение от меня? Существует ли некий подсознательный инстинкт, который подскажет, где я и?..
Не стоит трудиться. Таким инстинктом не обладает никто. И нет сейчас человека более униженного, подавленного и одинокого, чем эта женщина, стоящая на катке, сдвинув коленки, чтобы не упасть с непослушных коньков. Потом она осторожно добирается до скамейки и присаживается на ее край. Прячет лицо в ладонях, чтобы скрыть слезы, которые все же неудержимо наворачиваются на глаза.
Я чувствую… Я почти ничего не чувствую. Мне все это давно и очень хорошо знакомо.
Я перехожу из тела женщины в носках с оленями в мужчину, на котором клетчатая рубашка. Из него перескакиваю в даму, занятую составлением любовного текстового сообщения на мобильном телефоне, затем в мужчину, облаченного в длинный зеленый свитер, который очищает скребком асфальт по краям искусственного льда катка. Он мне подойдет. Здесь обслуживающий персонал не привлекает внимания, словно неодушевленные предметы.
Я работаю скребком, а когда поднимаю глаза, позади Элис возникает фигура с номером «Франкфуртер альгемайне» в левой руке. Мужчина стоит в отдалении, изучая ее. Брюки у него заправлены в носки, а носки сверху скреплены желтыми велосипедными прищепками. Рубашка заправлена в брюки, пояс туго стянут ремнем. Я подозреваю, что под верхним слоем одежды его тело обтянуто еще и эластичным костюмом ныряльщика, плотно прилегающим к коже. На нем две пары перчаток, края которых засунуты под рукава куртки. Единственная открытая часть тела – лицо, но его тоже наполовину скрывают шарф и шляпа.
Я думаю, что ему должно быть очень жарко во всей этой одежде и он наверняка пришел не один.
Закончив скрести участок асфальта, я ставлю скребок к стене, а потом поворачиваюсь и иду к выходу. Одного из коллег Элис я распознаю без труда. Не многие приходят кататься на коньках, закутавшись с ног до головы. Другой стоит поблизости. Они работают дружной командой. Постоянно находятся в поле зрения своих товарищей. Разумная предосторожность. Я шаркаю мимо кассы, улыбаюсь женщине за стойкой, которая усмехается в ответ.
В расположенном дальше полном народу зале я вычисляю еще двоих коллег Элис. Прохожу мимо них совершенно равнодушно, направляясь в сторону пропахшей уксусом урны, в которую я предварительно уложила пакет с пистолетом и бумажником Элис, как и один из своих телефонов. Кто-то уже успел вывалить сверху остатки овощного салата, заправленного майонезом. Я брезгливо морщусь, тщательно вытираю пакет, а когда мимо проходит охранник, окликаю его:
– Простите, можно вас на минуточку? – И беру его за запястье.
Я успеваю подхватить полиэтиленовый пакет, не дав ему упасть на пол, мило улыбаюсь сбитому с толку уборщику, которого все еще держу за руку, и удаляюсь.
Я не без причины купила два телефона. Один из них сейчас лежит в кармане у Элис. Достав из мешка второй, я набираю номер. Где-то посреди толпы на катке раздаются трели звонка. Вероятно, телефон остался в кармане брюк Элис. Ждать ответа приходится очень долго, а потом…
Мужской голос, тот же, что мне уже знаком, произносит:
– Да?
– Привет! – говорю я, предпочитая не переходить с немецкого на французский. – Вы, стало быть, разыскали ее?
– Я думал, вы хотели побеседовать.
– Хотела. И хочу. Мы непременно побеседуем. Но только вы, как мне показалось, привели с собой слишком много друзей.
– Чего вы добиваетесь, Кеплер?
Я втянула воздух сквозь стиснутые зубы.
– Еще семь дней назад я не добивалась ничего. Совершенно ничего. Хотела только мира и покоя. Жить без помех, какой бы моя жизнь в то время ни была. Но вы заставили меня сменить сферу интересов. Я захватила Койла.
– Чем докажете?
– Шрам поперек живота. Заявляет, что у него стопроцентное зрение, хотя явно заблуждается. Не любит джем. При себе имел четыре паспорта и набор наемного убийцы в багажнике машины. Застрелил хозяйку моего временного тела на ступенях станции метро «Таксим» в Стамбуле и даже глазом не моргнул. Хотите знать размер воротника его рубашек?
Молчание. Паузу заполняет дыхание, на заднем плане слышны звуки, доносящиеся с катка: пошловатая поп-музыка и крики восторга.
– Скажите, чего вы хотите?
– Выяснить, за что убили Жозефину Цебулу.
– Вам это известно. Вы там были.
– Я читала досье, составленное вами. Но надеялась, что вы занимаете достаточно высокое положение и способны объяснить мне, почему в нем столько лжи.
– Там нет лжи.
– Я убью Койла, – сказала я, – если это потребуется, чтобы заставить вас заговорить. Что вы знаете о Галилео?
Легкий вдох, едва слышный выдох.
– Почему вас интересует Галилео?
– Как почти все, что связано с людьми моего склада, это личное.
Кто-то потрепал меня по плечу. Женский голос спросил: «Простите, вы не знаете, где здесь туалет?»
– Очень хорошо, – донеслось из телефонной трубки. – Вы обрисовали круг своих интересов.
Снова прикосновение к плечу. «Туалет! Пожалуйста, подскажите, как его найти».
Я уже успела забыть, что приняла облик сотрудника охраны, но в любом случае: кто спрашивает дорогу в туалет у охранника?
Что-то горячее впилось мне в кожу над правой лопаткой. На мгновение я решила не обращать на это внимания, как на простое раздражение, не более того. Но затем у меня подогнулось левое колено, и, уже падая лицом вперед, я ощутила нечто острое и твердое между костью и плотью. Дьявол!
Я стала искать тело, но видела вокруг себя одну лишь темноту.
Глава 49
Наркотик постепенно выходит из моего организма. Охранник, в чьем теле я помещаюсь сейчас, – мужчина мощного телосложения. Такой выдержит любой удар. Но ему едва ли понравился бы тот факт, что он накрепко привязан к креслу внутри стеклянной коробки, местонахождение которой неизвестно, если бы он только осознавал свое положение. Но, к счастью, ему не дано ничего осознавать.
Я недооценила друзей Койла. Интересно, они успели заметить мой самый последний переход или отследили целую цепочку кратковременных потерь памяти?
Мне следовало быть осторожнее. Внедриться в старика, ребенка или в кого-то с больными ногами. Никто не ищет призрака в теле, измученном артритом.
Я изучаю свою клетку, взвешиваю варианты. Клетка целиком изготовлена из прозрачных стеклянных панелей, высящихся от пола до потолка. Такая же прозрачная стеклянная дверь устроена в стене прямо напротив меня. Моя стеклянная камера располагается внутри другого помещения – более просторного, со стенами из бетона. Красная металлическая дверь ведет из него в неизвестность. Сверху горит флуоресцентная лампа, но она расположена слишком высоко, чтобы ею можно было хоть как-то воспользоваться. Мужчина с пистолетом, стоящий у двери, облачен в костюм химической защиты. Резиновые перчатки, резиновый комбинезон, резиновые сапоги. Визор – смотровая прорезь в шлеме – закрыт пластиком: он экипирован на случай катастрофы. Ни дюйма открытого тела, а сочленения костюма обмотаны клейкой лентой. При других обстоятельствах это выглядело бы почти комично.
О моем пробуждении, вероятно, тут же было доложено, потому что снаружи открывается красная дверь с решеткой на небольшом окошке, и в нее входят еще двое людей в защитных костюмах. Я могу назвать фальшивые имена, под которыми они выступали: Юджин и Элис.
– Не могли бы вы принести мне стакан воды? – прошу я.
Никто не торопится исполнить мою просьбу. Никто не входит в стеклянную дверь моей клетки, но Юджин поворачивает, чтобы обойти ее слева, а Элис – справа.
– Кеплер, не так ли?
Голос Юджина. Я напрягаю мышцы шеи, но успеваю лишь заметить, как он пропадает из поля моего зрения, проходя коридором, образованным каменной стеной слева и стеклянной справа. Дешевый прием. Выдает неуверенность в своей способности нагнать на меня страху без дополнительных трюков. Но это некстати. Неуверенность зачастую переходит в агрессию.
– Что ж, пусть будет Кеплер. Эта фамилия ничем не хуже других.
– Где Койл?
– Не скажу.
– Не скажете?
– Вам нужен Койл, мне нужна свобода. Такова ситуация, и в ней пока ничего не меняется.
– Вы недооцениваете свою важность для нас, Кеплер. – Вот он снова стал виден, как оса, кружащая над своей будущей жертвой. – Благополучие Койла нас очень беспокоит, естественно, очень беспокоит, и мы готовы сделать все, чтобы обеспечить его безопасность. Но вы для нас представляете даже бо́льшую ценность, что он должен был бы вам объяснить, если бы вы дали себе труд побеседовать с ним.
– Мы с ним разговаривали, – ответила я, пытаясь пожать плечами, сдавленными веревками. – Мы беседовали о жизни, любви, оружии и Галилео.
Кресло, в котором я сидела, было прикреплено к полу, но скрипнуло, стоило мне с усилием надавить на него.
– В чем причина такого интереса к Галилео?
– Если я расскажу, вы дадите мне стакан воды?
Юджин колебался. Каждый, кто ведет переговоры, должен понимать, что, даже собрав на руках все козыри, их надо пускать в ход, чтобы оставаться в игре.
– Мы не испытываем желания причинять хозяину вашего тела излишние страдания.
– Насколько я понимаю, ваше определение понятия «излишние» расходится с моим?
Легкий вздох. Бедный Юджин был похож сейчас на высокопоставленного менеджера, на котором лежит огромная ответственность. Интересно, у него повышается давление, болят плечи?
– Где Натан?
– Прикован к отопительной батарее с кляпом во рту, – ответила я. – Почему умерла Жозефина?
– Вас, кажется, очень волнует ваша бывшая хозяйка?
– У нас с ней был договор.
– И все же вы позволите причинить вред телу, в котором находитесь сейчас?
– Я ничего никому не позволяю, – отозвалась я. – Вы сами принимаете решения и действуете соответственно. Повлиять на них не в моей власти. Чтобы жить, мне необходимо тело. Я умру, если умрет его настоящий владелец. Так что давайте не осложнять моралью вопросы простой биологии.
– Где Натан?
– Видите, мы могли бы с вами помочь друг другу.
Юджин прекратил кружение и повернулся ко мне лицом. Он показал мне карту памяти в форме пингвина, которую я положила в карман Элис.
– Что это такое?
– Автобиография.
– Вероятно, компьютерный вирус? Или же… что-то более сложное? Вы сами составили программу или попросили помочь друга?
– Я – призрак. Всем известно, что мы позорно невежественны.
– Стало быть, у вас есть друзья.
– Или друзья друзей. Порой в таких вещах начинаешь путаться сама.
– Кажется, вам нравится компания.
– Нравится. Коллекционировать людей легче, чем неодушевленные предметы. Кстати, вы проверялись на предмет изнасилования? – обратилась я к Элис, которая остановилась у угла клетки.
Она поджала губы, но выражение ее лица осталось прежним.
– Разумеется, проверялись. Но поверьте, моя сдержанность не вызвана недостатками вашего тела. Просто секс в сложившейся ситуации стал бы непростительной потерей времени.
– Кеплер! – Резкий оклик Юджина заставил меня вновь переключить все внимание на него. Он поднял флешку так, чтобы я могла лучше видеть ее, а потом положил на пол и с силой вдавил каблук в это изделие из кремния и резины. – Вы непременно скажете, где Натан. У вас нет другого выхода.
Когда он приподнял ногу, я чуть склонила голову набок и увидела расплющенное электронное устройство, которое было едва ли не шедевром в исполнении Сперматозавра.
– Могу рассказать вам о временах, когда встречалась с Кеннеди, – предложила я. – Или о тридцати секундах, проведенных в роли Черчилля. Позвольте поделиться с вами историями о богатых, знаменитых, но уже умерших. Или вы хотите узнать, каково было чувствовать – на самом деле чувствовать – себя чернокожим, молодым и свободным, стоя рядом с трибуной, с которой выступал Мартин Лютер Кинг? Я слушала его речь и знала, точно знала, что страдания моего народа – это не стигмат, а знак отличия, который следует носить с гордостью, что погибшие пали не зря, став теми гигантами Ньютона, которые помогали нам подниматься все выше и выше. Впрочем, скорее всего, – печально заключила я, – вас вовсе не интересуют чужие точки зрения. Так что продолжайте. Делайте то, что задумали… Между прочим, кто я такая? – Я попыталась рассмотреть саму себя. Во мне плескался излишек пива и происходила борьба между жиром и мышцами за окончательную победу в процессе обмена веществ. – При мне нашли удостоверение личности?
– Вы утверждаете, что вам не безразличны судьбы хозяев ваших тел, и в то же время позволите причинить боль плоти, в которую облечены сейчас?
– Меня довели до крайности, – ответила я. – Вы причините мне вред независимо от того, в чьем теле я нахожусь. Быть может, идеальным решением стало бы мое перемещение в одного из ваших подручных? Тогда вы могли бы избивать, пытать, мучить своего собственного подчиненного. Вам не кажется, что это было бы справедливее? Этот человек… Я обратилась просто в случайного прохожего. Ни в чем не повинного, а вот ваши сотрудники согласились работать, зная, на что подписываются… – Я прервалась и улыбнулась: – Хотя нет. Едва ли они понимали это до конца. Но они все равно могли догадываться о вероятности возникновения обстоятельств, схожих с той ситуацией, в которой сейчас оказались мы с вами. Так что продолжайте. Будьте мужчиной. Я никуда не денусь.
Под пластиком визора на лице Юджина показалась улыбка. Но это была искусственная улыбка, скрывавшая его истинные чувства.
– Все остальные могут покинуть помещение.
Да, он был здесь главным. Они вышли.
Юджин присел на корточки передо мной, прижав ладонь к прозрачной стенке моей клетки. Я выжидала, тайком подвергая проверке на прочность пластиковые оковы на своих руках и ногах, размышляя, сколько силы придется приложить, чтобы вырвать кресло из пола.
А затем Юджин начал раздеваться. Он размотал ленты, связывавшие перчатки с рукавами, брюки с ботинками, шлем с шеей. Освободил голову, откинув назад черные волосы, расстегнул молнию на комбинезоне, приоткрыв белый костюм снизу. Потом снял обувь, поочередно стащил брючины, оставшись в серых трусах и черных носках. На его ногах следы возраста казались более отчетливыми, чем на лице. На внутренних сторонах лодыжек образовались впадины, кожа на бедрах сморщилась жировыми складками. Он стянул с себя белый обтягивающий костюм, и показалась покрытая шрамами костлявая грудь. То, что ее покрывало, трудно было даже назвать кожей – по крайней мере, я никогда прежде не видела кожи, все еще заслуживавшей этого названия, будучи настолько изуродованной, сожженной и утратившей первоначальный вид. Он расставил руки в стороны, чтобы показать рубцы и полосы. Повернулся и продемонстрировал след от электрического ожога, пересекавшего всю его спину, от чего позвонки стали подобием набора бесформенных розовато-серых опухлостей. На плечах его были наросты размером с шар для гольфа – отметины неправильно сросшихся костей.
Он поворачивался и поворачивался, чтобы я имела возможность в полной мере оценить зрелище, а потом этот сразу постаревший человек, оставшийся в одних трусах, встал ко мне лицом, прижал ладонь к стеклу клетки и спросил:
– Вам нравится то, что вы видите, Кеплер?
А тебе нравится то, что видишь ты?
– Вы, возможно, встречались с тем, кто находился в моем теле, когда со мной это сделали. Он называл себя Куаньином – богом милосердия. Это была наша операция, которая закончилась провалом. В моем костюме нашлась прореха, и он сумел просунуть в нее свой тонкий палец. Я не помню событий, последовавших затем. Я принимаю три вида обезболивающих лекарств. Я мочусь кислотой. Дышу огнем. Мое тело подверглось всем существующим способам надругательства, но Куаньин не желал покидать его, ничего не говорил, ничего не делал, а лишь орал, рыдал и срал кровью в течение трех недель, пока его дух не оказался наконец сломлен вместе с моим телом и он не стал молить о смерти. Бывший коллега добровольно вызвался спасти меня. Ему было семьдесят два года, жена умерла, детей они не завели, а от тридцатилетнего курения ему стали изменять легкие. Он явился туда, где меня держали, и взялся за мою руку. Помню, я открыл глаза и увидел, как он мне улыбается – этот человек, мой друг, который научил меня всему. Но затем его улыбка вдруг померкла, и вот на меня уже смотрел снизу вовсе не мой друг, а Куаньин, который имел наглость называть себя милосердным. Мои коллеги там же всадили ему две пули в голову, а потом похоронили под видом моего друга со всеми почестями, которые тот заслужил за долгую жизнь. Конец оказался благополучным. Надеюсь, вы согласитесь на такой же исход, когда придет момент. А он придет непременно. Ну, так как, Кеплер, – он широко расставил руки в стороны, защитный костюм грудой валялся на полу, – вам нравится то, что вы видите?
«Очень нравится, – ответила бы Янус. – Очень, очень, очень!»
– Я знала Куаньин, – ответила я, медленно произнося знакомые слова с помощью незнакомого языка, – она была доброй.
– Единственным актом доброты, который совершил на моих глазах Куаньин, стала его смерть. Я хочу, чтобы вы поняли это. Мне надо, чтобы вы поняли, кто мы такие. Вы это понимаете?
– Да.
– Вам страшно?
– Да.
– Тогда проявите снисхождение к себе самой, если не к кому-то другому. Скажите, где Койл?
Я облизала губы.
– Один вопрос…
– Где Койл?
– Только один, а потом я скажу вам все. Скажу, и на этом закончим. Вы найдете подходящее тело с неизлечимой болезнью, и я уйду.
Он ждал – надломленная плоть, тяжелое дыхание.
Я закрыла глаза, стараясь облечь мысль в словесную форму.
– Меня тревожит то, что произошло во Франкфурте. Ваша организация проводила лабораторные испытания по программе вакцинации. Вы проверяли вакцину, разработанную против меня и мне подобных. Четверо ученых были убиты, и вы возложили вину на Жозефину, сделали виновной меня саму тоже. Я изучила жизнь Жозефины досконально. Она не могла стать убийцей. Потом, преобразившись в Элис, я проверила ее компьютер и нашла там все. Запись с наружного наблюдения в ночь гибели Мюллер, где Жозефина улыбалась прямо в камеру. Улыбалась – но это была не она, и мы оба это знаем. Не Жозефина. Не моя Жозефина. Я сделала ей предложение, и она понятия не имела, кто я такая. Она не понимала, как это возможно, чтобы кто-то носил твое тело. Но ваша видеозапись сделана раньше, чем я обратилась к ней. Значит, если ее телом воспользовались прежде, она не подозревала об этом. Была, вероятно, похищена ночью мужчиной, с которым спала. Несколько часов отсутствия, как несколько минут. Она закрывает глаза в номере отеля незнакомца, а когда открывает их вновь, видит себя на том же месте. Только руки почему-то чище, чем были. А двух или трех часов беспамятства она даже не заметила. «Неужели уже так поздно?» – спрашивает она, а незнакомец отвечает: «Да, конечно, это даже забавно, как быстро летит время». И она уходит, не подозревая, что на раковине в ванной еще могли остаться пятна чужой крови, смытой с ее пальцев.
Юджин провел пальцем по шраму, рассекавшему его живот, – привычка, любопытство к собственной плоти, автоматический жест. Глаза его смотрели в пустоту.
– Вы так и не задали вопрос.
– Я хочу, чтобы вы все поняли, прежде чем я задам его. Вы сказали Койлу, что Жозефина убила ваших людей по моему приказу, но окончательный выбор сделала она сама. Вы обвинили меня в чужих преступлениях совершенно бездоказательно. И отправили Койла – человека с богатой биографией – разделаться со мной. А меня при этом не оставляет мысль о Галилео. Не вписывается ли он в общую картину? Потому что сама Жозефина никого не убивала. Я изучила ее жизнь. Это не она. Но если у нее пропало два часа здесь, три часа там, то вероятно – я подчеркиваю: вероятно, – ее тело кого-то действительно убило. А манера совершения убийств полностью совпадает с образом действий Галилео. В каждой мелочи. Таким образом, вы либо дурак, который отдает приказы, не помогающие добиться заявленной цели, либо просто пешка. А вопрос мой таков: у вас нет ощущения, что вы напрасно растрачиваете время?
Молчание.
Он начинает расхаживать.
Поворачивается.
Останавливается.
Снова начинает ходить.
Он обдумывает вопрос или ему важно лишь умно ответить на него?
Опять расхаживает.
Останавливается.
Отвечает:
– Нет.
И все.
– Тогда ясно, – говорю я. – Вы всего лишь рядовой солдат.
Он мечет в меня пронзительный взгляд. Отводит глаза.
– Где Койл? – Его пальцы пробегают по шрамам.
– В районе метро «Ратхаус Штеглиц», – отвечаю я.
– Адрес!
Я даю ему адрес.
Глава 50
Ожидание в тюрьме. Тоска перед началом кутерьмы. Я вспоминаю:
(Тебе нравится то, что ты видишь?)
Нравится! Очень, очень, очень нравится!
Куаньин.
Мне она запомнилась вполне приятной, хотя чуточку отчужденной.
Я помню ее в образе красивой женщины из Конго с волосами, собранными в пучок на затылке, с отметинами шрамов там, где кисти рук разрезало лезвие ножа. Куаньин объяснила:
– Она мне заявила, что попытается сделать это снова.
– И как же ты поступила?
– Просто взяла и увезла ее оттуда.
– А что ты будешь делать, когда она очнется? Куаньин – богиня милосердия! Что ты станешь делать, когда женщина, в чьем теле ты находишься, откроет глаза, а горе, от которого ты ушла в ее облике, будет все так же свежо в ее сердце?
– Она откроет глаза в каком-нибудь безопасном месте, где поблизости не найдется ни одного ножа, – ответила Куаньин. – Она выбирает смерть, потому что смерть кажется проще жизни. Я заставлю ее изменить выбор.
Мне понравились слова Куаньин. Они произвели на меня впечатление.
– Тебе нравится то, что ты видишь?
– Ты очень красивая, – ответила я. – И очень добрая.
Только позже до меня дошло, что я не поинтересовалась, когда именно она собирается вернуть тело хозяйке.
А потом воспоминание о Янус. Полная противоположность сдержанной Куаньин, она стояла перед зеркалом квартиры в Бруклине и восклицала:
– Мне это очень нравится!
Шел 1974 год. Разгар «холодной войны». Никсон еще цеплялся за власть изо всех сил, но все равно в воздухе витало нечто предвещавшее новые времена.
В ее поручении не содержалось ничего необычного. Ее амбиции казались почти банальными: дом, семья, жизнь, которую она сможет назвать своей. Свежее тело, не отягощенное грузом прошлых ошибок, багажом в виде слишком обширных знакомств. Мне лишь нужно было помочь ей взять старт.
Я подобрала нужную кожу во время «Недели новичка».
– Мне очень нравится! Очень, очень, очень!
Майкл Питер Морган, двадцать два года. Только что поступил на экономический факультет, чтобы работать над диссертацией. К тому времени успел закончить Гарвард. Родители уже умерли, оставив ему приличное наследство. Неуклюжий юнец с непослушными черными волосами, густыми бровями и плечами, норовившими распрямиться, только когда он ловил на себе чужие взгляды. Поначалу я отмела его кандидатуру. Но стоило присмотреться повнимательнее, и стало понятно, что из этого гадкого утенка с годами вырастет прекрасный лебедь в виде симпатичного молодого человека.
И как только Янус внедрилась в его тело, как надевают специально нагретый халат после холодного душа, мое предвидение полностью подтвердилось. Плечи распрямились, голова приобрела горделивую посадку, колени больше не подгибались, и когда Янус разделась перед зеркалом, она – а теперь он – ударила себя в грудь и издала новое восклицание:
– Ух ты! А я, похоже, люблю заглядывать в спортзал!
– В Гарварде ты занимался тхэквондо.
– Да, это заметно, – с восторгом сказала она, поворачиваясь перед зеркалом то так, то эдак. Потом подняла руки и напрягла мускулатуру, аж пискнув от удовольствия.
– Сколько времени нужно, чтобы отпустить бороду? Как считаешь, мне пойдет борода?
– Морган и так бреется раз в четыре дня, причем не слишком тщательно.
– Нет, нужна настоящая борода. Добавит мужественности. Сколько у меня на счету в банке?
– Пятьдесят тысяч долларов.
– А чем я занимаюсь?
– Ты собираешься начать работу над диссертацией.
– Я, стало быть, обладаю высоким образовательным уровнем?
– Очень высоким.
– А диссертация на интересную тему?
– Нет, – признала я. – Видишь ли… Для этих целей так даже лучше.
– Отлично. Я вообще обойдусь без ученой степени. Лучше скажи – мне самому плохо видно, – у меня красивая попка?
Я посмотрела на его задницу.
– Даже очень.
Он громко шлепнул себя ладонью по ягодице, а потом стал ощупывать бедра, живот, грудь.
– Черт! Вот только с тхэквондо могут возникнуть проблемы, верно?
– Будешь всем говорить, что давно не практиковался. Я посчитала, что ты даже сможешь извлечь из этого пользу.
– Вообще-то так и будет, хотя я всегда предпочитал быть парнем попроще. – Его взгляд прошелся по гостиной Моргана и задержался на гардеробе. Открыв дверцы, Янус скривился, но потом улыбка вернулась на его лицо. – Что ж, завтра же придется отправиться по магазинам.
– Ну, так ты берешь его? – спросила я, с трудом сдерживая нетерпение.
В ответ на мой вопрос сначала раздался театральный вздох, но потом он с радостной ухмылкой закивал:
– Только один вопрос. Как думаешь, мужику можно носить желтое?
Янус была Майклом Питером Морганом в течение тридцати лет. Он женился. Завел детей. Жил припеваючи и, насколько мне известно, ни разу не прыгнул в сторону. Подобную роскошь сможет вам обеспечить только «агент по недвижимости». Причем эта роскошь заключается в том, чтобы годами ссориться по пустякам с женой, волноваться из-за удорожания ипотеки и ходить к врачу, когда врастает ноготь на большом пальце. Это роскошь иметь друзей, любящих тебя за твои слова и мысли, роскошь наград, полученных за собственные упорные труды. Это имя, это личность, которую с годами ты действительно начинаешь считать своей единственной и неповторимой. Жизнь почти в ее реальном виде.
Право, не знаю, как бы сложилась судьба настоящего Моргана, если бы мы дали ему шанс. Вопрос «А что, если бы?» не должен излишне заботить «агента по недвижимости». Главное: тебе нравится то, что ты видишь?
Глава 51
Не знаю, сколько они потратили времени, чтобы добраться до дома у станции метро «Ратхаус Штеглиц». И обнаружили, что Натана Койла там никогда не было.
Юджин, снова облачившись в полный костюм противохимической защиты, вошел в комнату, потом сразу же в другую – то есть в мою стеклянную клетку, не вымолвив ни слова. Он приблизился ко мне, отвел правую руку к левому плечу и что было сил ударил меня по лицу тыльной стороной ладони.
Получилась скорее пощечина, чем настоящий удар, но шок сотряс меня от макушки до кончиков пальцев ног.
– Где Натан? – спросил он.
Я помотала головой. Он ударил меня еще раз.
– Где Натан? – И снова: – Где Натан?
На четвертом ударе его рука сложилась в кулак, и кресло опрокинулось набок. Мой череп стукнулся о жесткий пол так, что из нижней челюсти выпал зуб, и я подумала: «Кому-то этот зуб еще дорого обойдется», – отметив про себя, как затрещало дерево кресла при падении.
Устав избивать меня руками, он пустил в ход носки ботинок, и, когда в третий раз ударил меня по почкам, внутри у меня что-то лопнуло. Ощущение возникло примерно такое же, какое бывает, если вскрывается волдырь на натертой ноге. Какая-то теплая жидкость разлилась по моим внутренностям в тех местах, куда попадать ей было не положено.
Если бы он перестал избивать меня, я, возможно, нашла бы вариант ответа на его вопрос. Но он не прекращал избиения, не давая мне ни шанса, а когда наступил каблуком на мой мизинец, сломав его, до меня дошло, что личные проблемы Юджина мешали ему сохранять достоинство истинного профессионала. Потом он наступил на сломанный палец снова, и мне стало уже совсем не до размышлений.
– Где Натан?
– В Штеглице, – с трудом выдохнула я.
Юджин нанес мне еще один удар.
– В Штеглице? – Он сгреб пучок моих волос, пальцы в перчатках впились в кожу у меня на голове, когда он подтянул мое лицо ближе к своему.
– Ты умрешь прямо здесь, Кеплер!
У призраков есть только один защитный прием, одно защитное движение – перемещение. И мы перемещаемся.
Рассказывают то ли легенду, то ли быль об одной из нас, которая, спасая свою жизнь, спряталась в теле беременной женщины. Та была на восьмом месяце, но, когда командир группы истребителей призраков потребовал от нее назвать свои имя и фамилию (которых призрак, естественно, знать не мог), она нашла себе убежище в единственном доступном месте. В теле ребенка, находившегося в чреве матери.
О том, как завершилась эта история – жизнью или смертью, – каждый рассказывает на свой лад, но важно главное: загнанный в угол призрак никогда не вступит в борьбу, а предпочтет бегство.
Но сейчас для меня настало самое подходящее время нарушить традицию. Я что было мочи ударила лбом в визор на шлеме Юджина. Вырвав большой клок волос из моего скальпа, Юджин подался назад. Тонкий пластик треснул. Я перекатилась на колени, а потом всем телом обрушилась на лежавшее набоку кресло.
Где-то внизу с хрустом разломились пластмассовые наручники. Я попыталась двигать руками и обнаружила, что одна из них свободна. Дерево кресла раскололось, но моя вторая рука все еще оставалась прикованной к ручке и оторвавшемуся сиденью, что могло стать либо отяжеляющей бегство помехой, либо опасным оружием. Я подняла взгляд на ошеломленное лицо Юджина и нанесла ему мощный удар куском отделившегося от кресла дерева. Трещина на поверхности визора превратилась в сплошную сетку паутины. Моя импровизированная палица опустилась на правый висок Юджина, и он завалился на бок. Остальные тоже пришли в движение. Кто-то тянулся за тазером, Элис – за пистолетом. Я попыталась атаковать их, но мои ноги оставались скованными, и я лишь повалилась вперед. Тазер привели в действие, но я прикрылась от него сиденьем кресла. Электроды с шипением ударились в него. Я одновременно ощутила ладонями вибрацию от электрического разряда и услышала двойной хлопок пистолета. Чья-то рука обхватила меня сзади за шею, сдавив так сильно, что я услышала, как пульсирует в ушах кровь, а зрение затуманилось. Юджин коленом пытался прижать меня к полу, пальцами нащупывая яремную вену, но я изловчилась развернуться, захватить скованными ногами его колени, откинула голову назад и в приступе истерического смеха снова врезалась лбом в треснувший визор.
Пластик теперь разлетелся на куски, порезав мне лоб, щеки, глаза. Чьи-то легкие – мои? – издали истошный крик. Пистолет снова выстрелил, и, когда пуля пробила мне лопаточную кость, я лбом прижалась к лицу Юджина. Раздался новый выстрел. Тело, лежавшее подо мной, дернулось, вскрикнув от боли, судорожно хватая ртом воздух, но я сохраняла прежнее положение, вцепившись в горло человека в форме охранника катка, которая на спине вся пропиталась кровью из ран от пистолетных пуль. Одна пуля угодила ему в лопатку, а вторая вскрыла легкое с характерным хлопком, с каким вскрывают банку колы. Он смотрел на меня непонимающим взглядом, стараясь дышать, но чувствуя, что его легкие заполняет теперь не воздух, а кровь.
Мертвец у меня на руках. Его язык вывалился из окровавленного рта, глаза закатились. Он умер, так ничего и не успев понять. Я приподнялась. Осколки разбитого визора посыпались внутрь костюма.
Я подняла взгляд. Элис смотрела на меня, держа пистолет двумя руками и целясь мне в грудь.
– Леонт![9] – хрипло воскликнула она, продолжая пристально вглядываться в меня, но пока в ее глазах не читалось никаких мыслей. – Леонт! Твой костюм поврежден, Леонт!
Я вспомнила, что ноги у меня теперь свободны, и попыталась подняться, ощущая шрам на каждой мышце. Сдавленность в груди, боль в ребрах, привкус крови во рту, звон в правом ухе. «Интересно, – мелькнула мысль, – а помнил ли Юджин, как чувствуют себя нормальные люди, пока вот это состояние постоянной физической муки не стало для него привычным?»
– Леонт! Сэр! – дрожал голос Элис, но не пистолет в ее руках.
Я вспомнила телефон Койла: Эол, Цирцея. Пароль и отзыв. Элис вызвала Леонта, и Юджин должен был отреагировать… бог его знает как.
Я сделала шаг по направлению к ней, и когда ее палец снова начал давить на курок, чтобы выстрелить, покачнулась, беспомощно упала на четвереньки, и моя ладонь поскользнулась в луже крови, вытекшей из совершенно незнакомого мне человека. Человека, погибшего вместо меня и лежавшего рядом с остекленевшими глазами.
Я встретилась взглядом с Элис. Она знала, что я не Юджин, хотя никак не могла заставить себя поверить в это. Не издав ни звука, я резко бросилась с пола, потянувшись к ее голове, чтобы сорвать прикрывавший ее шлем. Раздался выстрел. Я почувствовала удар где-то в области живота. Она стреляла низко, все еще оставаясь в нерешительности, и такой выстрел не мог остановить меня. Я врезалась в нее, вытолкнула назад сквозь открытую дверь стеклянной клетки и опрокинула на пол. Встала коленями ей на грудь, стараясь разодрать ее костюм, а по моей ноге струилась кровь, да еще кто-то навалился сзади, пытаясь меня оттащить. Локтем я с силой ударила нападавшего в живот, услышала его стон и в этот момент сумела просунуть палец под шлем Элис и приподнять его – всего на какой-то дюйм, потому что она обеими руками уперлась в меня, отталкивая в сторону. Я видела перед собой небольшой участок ее ничем не защищенной плоти и, когда какой-то мужчина снова навалился на меня сзади, незаметно для него прикоснулась к ее шее и прыгнула.
Элис Майр. Как хорошо снова стать кем-то, тебе уже знакомым! На мне лежал слабевший с каждой секундой Юджин, которого сзади оттаскивал один из его коллег. Я сжала руку в кулак и, собрав всю силу, врезала ему в лицо, почувствовав, как от удара сломался хрящ носа. Его тело окончательно поникло. Я спихнула его с себя, и он откатился вместе с мужчиной, крепко вцепившимся в него сзади. Я незаметно вернула шлем на своей голове в нужное положение и, когда единственный незнакомый мне человек отпустил тело Юджина, встала на ноги и выкрикнула:
– Помоги ему! Бога ради, помоги ему!
Мужчина посмотрел на меня, потом на Юджина, распростертого на полу. Он явно изучал мой костюм, перепачканный кровью Юджина, но не видел ни малейших повреждений.
– Это теперь в нем! – пронзительно воскликнула я, даже не подозревая, на какой визг мог сорваться мой голос. – Помоги ему!
Если бы у него была возможность присмотреться повнимательней, он, вероятно, понял бы, где именно мой палец проник под шлем Элис и коснулся ее кожи. А быть может, и не понял бы – слишком густо все было замазано кровью.
Он тоже поднялся на ноги, подбежал к двери, высунул голову в коридор и воззвал басом:
– Помогите! Помогите нам кто-нибудь!
И это «нам» включало теперь меня.
Глава 52
Восточный Берлин. Есть много примет, подсказывающих, что вы пересекли невидимую теперь границу между западной и восточной частью города. Деревья ниже, улицы прямее, здания намного новее. Но все это внешние признаки, а в качестве внутренних нет ничего лучше, чем оказаться внутри промышленного здания без окон, на стене которого написаны несмываемые слова: УВЕРЕНЫ В НАШЕЙ СИЛЕ!
Капитализм безгранично самоуверен и потому не нуждается в наглядных напоминаниях о своей силе, в каких испытывал нужду социализм.
Топот ног, бегущие люди, громкие голоса. «Отойди в сторону, укройся», – велела я себе.
Группа медиков в костюмах химической защиты стоит на коленях вокруг Юджина. Волнение достигает предела. Даже визор шлема чуть запотевает. Я вжимаюсь в стену, с ужасом ожидая момента, когда кто-то назовет пароль, требующий отзыва, или элементарно обратится ко мне, используя мое истинное имя. Мне нужно избавиться от этого костюма. Мне необходима другая кожа.
К горлу неудержимо подкатывает рвота. Я сгибаюсь почти пополам, прижав руки к животу, и издаю звуки, какие вырываются у женщины, которую в любой момент может стошнить. Вида чужой тошноты зачастую достаточно, чтобы аналогичные позывы почувствовали те, кто на вас смотрит. Люди расступаются передо мной, когда я на нетвердых ногах выхожу в коридор.
Они пока еще думают, что я нахожусь в теле Юджина. И пусть верят в это как можно дольше. Если мне повезет, Юджин очнется еще не скоро. Если не повезет, в какую-нибудь светлую голову придет мысль просмотреть последние тридцать секунд записи с камеры внутреннего наблюдения. Они заметят момент, когда я коснулась шеи Элис кончиком пальца, и мне конец. В любом случае время становится важнейшим из факторов.
Я удаляюсь от клетки, ухожу от скопления людей в глубь здания. Видимо, когда-то здесь была фабрика. За тяжелыми стальными дверями располагаются бетонные цеха, где ненужные теперь трубы вентиляции свисают с потолка, как лианы в джунглях. Большинство помещений пустует, но в некоторых установили компьютеры, подставки под серверы и системы охлаждения для сложного переплетения ничем не прикрытых меди и кремния. Здесь работало большинство сотрудников этой организации, чем бы она ни занималась. Некоторые были в костюмах, кое-кто даже при галстуке, но многие в простых джинсах и мокасинах. Никто не был вооружен, хотя за одной из дверей стоял набор прочно запертых на замки стальных ящиков, содержимое которых, как не составляло труда догадаться, представляло собой нечто гораздо более опасное, нежели оборудование для подсветки танцпола дискотеки. Я держусь от людей подальше, низко склоняю голову, руки держу у живота – женщине срочно нужно в туалет. Видно, что у меня выдался тяжелый денек, и разговаривать со мной – значит нарываться на грубость. Я насчитала семнадцать незнакомых мне людей к тому времени, когда нашла никак не помеченную дверь женской уборной. Восемнадцатой стала женщина, которая вышла из единственной грязноватой кабинки. Увидев меня, она улыбнулась и спросила:
– С вами все хорошо, милая?
Я поспешила занять кабинку. Никогда не вступай в разговоры, если в этом не возникает абсолютно неизбежной необходимости. Я оставила при Элис Майр нечто очень важное. Встав на колени перед покрытым оранжевыми пятнами унитазом, я сунула два пальца в рот.
Любой, кто утверждает, что искусственно вызванная рвота может иметь лечебный эффект, лжет. Мне потребовалось четыре попытки, прежде чем мое тело преодолело стадию напрасных потуг и спазмов, перейдя к нужному мне сейчас делу – рвоте. Покончив с ним, я села на унитаз вся в поту и до крайности утомленная, вцепившись руками в стульчак, и постаралась привести дыхание в норму. Потом, когда мне удалось собрать волю в кулак, чтобы посмотреть, я заметила плавающим среди липкой полупереваренной пищи, поглощенной мною за сегодняшний день, включая гамбургер из «Макдоналдса», вторую флеш-карту Сперматозавтра 13.
Призраки ленивы. Но не глупы.
Я сняла шлем и перчатки. Под костюмом у меня оказалась обыкновенная футболка и пара черных лосин в обтяжку. Не идеальный цивильный костюм, но зато нигде не было видно пятен крови Юджина.
Я шла по зданию. Улыбалась незнакомцам, раскланивалась с теми, кто раскланивался со мной, но большую часть времени старалась не смотреть по сторонам, уперев взгляд в пол. Поэтому, когда меня неожиданно остановил мужчина с карандашом за ухом, ухватив за руку и спросив, что там стряслось с Кеплер – до них дошли слухи о каких-то осложнениях, – я вздрогнула и инстинктивно чуть не совершила прыжок. Но удержалась и ответила: там полный порядок, все под контролем. И пошла дальше.
Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти стоявший без присмотра компьютер. Я случайно вошла в пустовавший кабинет, пожалев, что дверь не запирается изнутри. Все здесь казалось временным. Невзрачные рабочие столы для компьютеров, ни картинки, ни записки на самоклеящейся бумаге по стенам – ни следа обычных мелочей, какими люди окружают себя на рабочих местах. Компьютеры были достаточно новыми, чтобы выполнять свою работу, но им явно не хватало оперативной памяти, о чем они напоминали звуками, напоминавшими писк голодных щенков. Даже не пытаясь вводить пароль, я сунула флешку Йоханнеса (предварительно стерев с нее последние следы рвоты) в один из разъемов ю-эс-би ближайшего к входу компьютера и долго ждала, постукивая пальцами по столу, пока по дисплею пробегали строчки непостижимых для меня кодов. Лучшее, что я могла сделать с технологиями Сперматозавра, – это позволить дать им работать самостоятельно.
Как и все остальные столы в комнате, этот тоже оказался совершенно пуст – ни старого журнала, ни огрызка бутерброда, чтобы место не напоминало съемочную площадку малобюджетного фильма. Мне даже стало казаться, что, если толкнуть посильнее стену, она окажется фанерной и упадет, открыв взгляду камеру и прочее съемочное оборудование, а также толпу зрителей, всегда собирающихся, чтобы поглазеть на нечто интересное…
Мне вдруг вспомнился день, когда меня пытались сжечь заживо, и Юджин, избивавший меня, потому что ему так хотелось, а вовсе не из желания узнать, где Койл. Всем наплевать, где Койл.
Компьютер вдруг заработал. Причем на экране не появилось красивой иконки или другого фирменного знака Йоханнеса, какими он любил подчеркнуть свое блестящее мастерство. Просто машина, защищенная паролем, лишилась своей защиты. Загрузился почтовый ящик, сообщая, что компьютер принадлежал некоему П. Л. Тренту и из всех возможных функций, которые можно было выполнять в этой сугубо секретной организации, ему досталась должность финансового директора. Что ж, даже тайные сообщества наемных убийц, как можно предположить, нуждаются хотя бы в бухгалтере.
Я скопировала данные за последние двенадцать месяцев прямо на флешку Йоханнеса, а потом стала загружать файлы с жесткого диска. Пока тянулся этот процесс, я бегло просмотрела входящие сообщения П. Л. Трента, с раздражением обнаружив, сколько слов они тратили на споры по поводу превышения лимита командировочных или покупки чернильных картриджей для принтера. Но только одно имя мелькало достаточно часто, чтобы я обратила на него особое внимание: Водолей. Контракты Водолея ведут к росту расходов на медицинские страховки. Водолей избавился от привычки покупать в ходе выполнения заданий еду, стоимость которой превышает пять евро. Водолею нравится убивать призраков.
Бухгалтерия скучна. Но она может быть важной и познавательной. Я вытащила флешку из разъема как раз в тот момент, когда по зданию разнесся сигнал общей тревоги. Кто-то где-то нажал на кнопку, повернул тумблер или потянул за шнур – словом, совершил одно из действий, к которым люди, занимающиеся подобными делами, прибегают, если понимают, что возникла опасность. Возможно, кому-то наконец пришло в голову просмотреть запись с камеры. А быть может, Юджин пришел в себя, зная отзыв на пароль «Леонт». И когда доктор спросил его, кто стал последним человеком, которого он видел, ответил: «Элис».
Самое время уходить отсюда.
Глава 53
Распространено мнение, что призраки дурно обращаются с телами, которые одалживают. Мы пользуемся ими с жадностью. Устраиваем себе праздники, пируем, наслаждаемся. Тратим деньги, которые нам не принадлежат, спим то с мужчинами, то с женщинами, а когда подходит время, кости стареют, а кожа покрывается морщинами, мы просто движемся дальше, оставляя за собой опустошенную плоть.
В обычных обстоятельствах я считаю себя личностью гораздо более благородной, чем обычный призрак. Но сейчас обстоятельства оказались далеки от обычных.
Сигнал тревоги, напоминающий автомобильный клаксон, доносился из черных громкоговорителей, которые в былые времена служили, вероятно, для трансляции речей, вдохновлявших рабочий класс на новые свершения. Но сейчас это были гудки, возвещавшие об опасности, причем такие громкие, что мои барабанные перепонки с трудом их выдерживали, когда я двигалась – не быстро, но и не слишком медленно – посреди воцарившейся паники. Вероятно, у них существовали правила поведения в чрезвычайных ситуациях, но, поскольку мне они были неведомы, снова приходилось рассчитывать только на грубую силу и удачу.
Свернув за угол коридора, я увидела мужчину в белой рубашке, запиравшего тяжелую дверь. Он уже смотрел на меня и почти открыл рот, чтобы забросать меня кодовыми словами, на которые я не смогла бы верно среагировать. Поэтому я просто сложила пальцы в кулак и нанесла ему сильный удар в нос. Что-то хрястнуло, и он упал, а между его прижатыми к лицу пальцами стали сочиться капли крови. Потом я коленом заехала ему между ног и, пока он корчился на полу, разбрызгивая кровь по стене, ухватила его одной рукой за горло, а ладонь другой прижала к его лицу и прошипела:
– Выход! Где выход? Говори немедленно, или я войду в тебя.
Он был гораздо шире меня в плечах, его грудь вздымалась и опадала от тяжелого дыхания – он напоминал выбросившегося на берег кита. Я глубоко погрузила пальцы в его кожу и прорычала:
– Где выход?
– Лестница в конце коридора, – промямлил он. – Три этажа вниз.
– Как организована охрана? – Не дождавшись ответа, я надавила сильнее. – Говори, или я заставлю тебя встать уже под следующую шальную пулю!
– Мы выходим парами. Один присматривает за другим. В полном обмундировании, конечно же.
– С пистолетами и в костюмах химзащиты?
Он сумел кивнуть в ответ.
– Какой отзыв на твой позывной? Каков пароль и отзыв?
Он молчал.
– Говори же!
Но ответа не последовало, хотя ему явно хотелось жить. Под мышками у него быстро образовались темные круги от пота, он вжал живот и напряг спину, но продолжал молчать.
Я бросила на него злобный взгляд, отвела руку подальше и с силой ударила его затылком о стену. Кровь уже ручьем бежала по стене, когда он падал. Я перешагнула через него и бегом бросилась в конец коридора, зажав в кулаке флешку. Дверь впереди открылась, и в коридор вышли двое мужчин, уже почти полностью облаченные в защитные костюмы, держа в руках пистолеты, но я не замедлила бег, а лишь приветственно подняла руку и выкрикнула:
– Цирцея! Цирцея!
Это на мгновение сбило их с толку, заставив поколебаться от неуверенности и испуга, но даже мимолетного момента мне хватило, чтобы сблизиться с ними, схватить ближнего ко мне за шею и переключиться, а потом стряхнуть с себя Элис. Ее шатнуло, и флешка выпала из ее руки. Я подняла пистолет ее коллеги и выстрелила второму в бок, а когда он повалился, выбила пистолет из его руки и вновь повернулась к Элис, все еще приходившей в себя, взялась за ее пальцы, вложила в них рукоятку своего оружия и переключилась. Пистолет теперь вновь оказался в моей руке, и я спустила курок.
Второй из мужчин упал, схватившись за бедро. Я подобрала с пола карту памяти, ощущая в руке тяжесть пистолета, придержала дверь, успев сунуть в проем ногу, и проскользнула в щель.
…На лестнице сигнал тревоги звучал чуть приглушеннее, но все равно очень громко. Я слышала голоса сверху, шаги снизу и тоже стала спускаться. Вдоль лестничной шахты располагались небольшие квадратные оконца, сквозь которые проникали узкие столбы желтого электрического света. Внизу хлопнула дверь. Я подняла пистолет и, как только из-за угла показался первый человек, уже полностью облаченный в защитный костюм, послала пулю ему в живот чуть ниже грудной клетки. Его тело повалилось набок и, я прошла мимо, но почти сразу услышала выстрел: осколки облицовки стены брызнули в стороны у меня над левым ухом. Я нырнула, укрывшись за массивной тушей раненного мною мужчины. Еще одна пуля ударилась в стену над моей головой, заполнив весь лестничный пролет оглушительным грохотом от удара металла в бетон. Когда третья пуля прошла еще ближе к цели, я ухватилась за спину упавшего мужчины и чуть спустила его защитные брюки. Обнажился небольшой участок кожи. Я прижала к нему руку, закрыла глаза и переключилась.
Боль обожгла, как первые жаркие лучи летнего солнца. Я стиснула зубы, ощущая кровь там, где ей никак не положено было струиться, напомнила себе, что мои руки все еще способны двигаться, а голова поворачиваться и я могла протянуть руку назад, забрать у Элис пистолет, развернуться, найти глазами человека, стоявшего ниже на лестнице, а потом выстрелить.
Когда мужчина внизу упал, Элис сильно ударила меня сзади. Я стукнулась о прутья ограждения лестницы, отчего кровь разлилась у меня на животе, на языке, замутила взгляд и, как показалось, разум. Я постаралась ухватиться за Элис, но мне мешали плотные резиновые перчатки. Она врезала мне локтем в грудь. Я взвыла, как раненая собака, остатки человеческого во мне улетучились от боли, а она уже дотянулась до пистолета и завладела им. Я держалась из последних сил, стараясь обхватить ногой ее грудь, прижать ее к ступени лестницы, ощущая ее руки поверх своих, чувствуя, как что-то соскользнуло с моих пальцев. Она тоже поняла это, но поздно – я успела дотронуться участком своей обнажившейся кисти до ее шеи, ища дюйм незащищенной кожи, и нашла его.
Быстро вырвав пистолет из руки поверженного мною мужчины и освободившись от его захвата, я сразу встала на ноги. В крови бешено бушевал адреналин Элис. Раненый мужчина внизу издал стон – протяжный низкий звук, от которого буквально загудели прутья лестничного ограждения. Я опять подняла флешку и то ли сбежала, то ли скатилась вниз по лестнице.
Дверь у ее подножия оказалась заперта на электронный замок, код которого был мне неизвестен. Сверху слышались голоса, с кромки ступеней лестницы начала медленно капать кровь. У меня во рту ощущался резкий омерзительный привкус. Ближайшее окошко было настолько узким, что в него с трудом смог бы протиснуться подросток. К тому же и располагалось оно высоко. Но, по крайней мере, оттуда лился солнечный свет, и другого выхода у меня не было, а потому я направила туда пистолет и опустошила обойму. Стекло разлетелось мелкими брызгами, пулями раздробило в щепки деревянную раму. Шаги слышались уже где-то совсем рядом. Я подтянулась на своих тощих руках и протиснулась в проем, разрывая кожу о стеклянные зубцы, до крови царапая руки, живот, грудь. И все же, когда мне вслед громыхнул первый выстрел, я уже выбралась через, казалось бы, непролазное оконце и головой вперед полетела во внешний мир.
Внизу была залитая асфальтом стоянка для машин, окруженная железобетонным забором. Я приземлилась на ладонь и почувствовала, как в ней что-то треснуло. Боль сначала пронзила всю правую руку, потом полностью онемел локоть. Я попробовала встать, но упала. Попыталась снова. Пошевелила пальцами правой руки, но каждая косточка, каждая мышца отозвалась на движение настолько невыносимой болью, что я мгновенно оставила руку в покое. Выстрел где-то над моим левым плечом и удар пули в асфальт погнали меня вперед. Прижимая к груди руку, стараясь беречь каждый дюйм своего тела, болевой шок в котором мог сковать меня окончательно, я бросилась бежать.
Глава 54
Элис Майр. Прекрасное тело. Просто ужас, во что мне пришлось его превратить.
Я бегу в темноте ночи по незнакомой улице совершенно неизвестного мне места, окровавленная, одетая совершенно не по погоде.
Не верьте никому, кто станет внушать вам, что от страха можно даже получать удовольствие, повышая с его помощью жизненный тонус. Это страх тех, кто не знает ничего более опасного, чем езда на высокой скорости с непристегнутым ремнем безопасности.
Подлинный страх порождают сомнения, неведение. Он сидит где-то внутри сознания и не позволяет вам уснуть. Это инстинктивное ощущение, что у вас за спиной стоит убийца с наточенным топором. Это промелькнувшая тень, намерения которой вам неведомы. Это зловещий смех незнакомца, когда вы понимаете, что он смеется над вами. Страх – это когда ваше сердце заходится при резком звуке, изданном всего лишь выхлопной трубой автомобиля. Когда у вас трясется все – от рук до мыслей и вами овладевает истерический смех, а вы уже не соображаете, что на самом деле вам нужно не смеяться, а горько рыдать. Это голова ядовитой змеи, мелькнувшая в траве, резкий прыжок оленя в сторону, взлет испуганной хищником птицы.
– Да, я – человек, но я бегу. И мне страшно.
* * *
Когда-то давным-давно, в незапамятные времена, Гекуба пришла ко мне в теле мужчины с пышными бакенбардами и тростью из слоновой кости, сказав:
– Мне удалось их найти.
Я тогда была Викторией Уиттен. Родители назвали ее в честь королевы, оставили наследство, достойное принцессы, но муж избивал ее, пока я не потеряла терпение, внедрилась в кожу Виктории и избила мужа. Теперь он жил в Норидже, а я в Лондоне. Раз в месяц он присылал мне письма, рассказывая, как благополучно складывается его жизнь, но я не трудилась отвечать на них.
Мы сидели в моей гостиной и пили чай, когда Гекуба продолжила (или лучше сказать – продолжил?):
– Целое гнездо, и прямо у нас под носом. Они называют себя «братством».
– Не желаешь ли миндального печенья?
Он склонился вперед – кончик его розового носа дрожал от возбуждения – и повторил:
– Они обнаружены мной. Ты составишь мне компанию?
– С какой целью?
– Остановить их.
– Мы говорим сейчас об использовании взрывчатки?
– Да чего угодно, лишь бы добиться результата.
– Не люблю ножей, – объяснила я, перекатывая кусочек миндального печенья в изящных пальчиках. – И стараюсь не стрелять в людей без крайней необходимости.
Он откинулся назад, положив ногу на ногу в такой манере, которая ясно указывала, что еще совсем недавно Гекуба носила юбки, а сейчас в запале забыла, к какому полу в данное время принадлежит.
– Они же поубивают нас, – резко сказал он потом. – Они стоят над законом. Неужели тебя это не беспокоит?
– Скорее мне любопытно. Но достаточно ли такого любопытства как мотивации для проникновения – уж прости мне такое выражение – в их убежище или даже, если угодно, берлогу? А мы ведь собираемся проникнуть в святая святых неких индивидуумов, которые решили уничтожить нас, чтобы по одному убить их всех. Ответ на такой вопрос – нет. Боюсь, что недостаточно.
– Но ведь ты уже теряла владельцев своих тел, – вскинулся на меня он. – Каждый из нас кого-то потерял. Быть может, не именно сейчас. Вероятно, члены «братства» еще не успели никого убить. Но в течение длительного времени людей, чьими телами мы пользовались, отправляли на костры, на виселицы, ставили к стенке…
– Потому что мы привлекали к себе слишком много внимания, – ответила я, поставив чашку на стол. – Мы слишком часто переключались, но когда было надо – слишком редко, оставляя за собой слишком много историй, слухов, сплетен. А массовое превентивное убийство лиц, поставивших себе целью наше уничтожение в будущем, уж извини за прямоту, приведет к тому, что мы снова окажемся в фокусе всеобщего внимания, которое нам совершенно ни к чему.
Он лишь еще сильнее помрачнел. Вот лицо, которое я потом редко видела, начиная с конца восьмидесятых годов XIX столетия. Это было типичное лицо для той эпохи – бакенбарды топорщились по обеим его сторонам, как мех нутрии, а пышные навощенные усы кудрявились над верхней губой и могли помочь владельцу сильнее выразить любые чувства: злость, ненависть, мрачное расположение духа. Я потом порой пыталась искать подобие такого лица, но находила нечто похожее только у стариков, навсегда нашедших себе прибежище в экваториальных странах, или у списанных в утиль технократов, когда они начинали плакаться из-за своих слишком скудных пенсий.
Он помрачнел. Причем не только лицом, но и душой.
– Я ожидал от тебя большего, миссис Уиттен, – сказал он. – Насколько мне известно, ты хорошо знакома с работой «агента по недвижимости».
– Да, я уделяю этому занятию немало времени, – добродушно отозвалась я. – И прикладываю все усилия, чтобы сделки, устроенные мною, невозможно было отследить, а при изменении обстоятельств они не вызывали слишком много кривотолков. Но ты прав: я теряла тела, которые становились жертвами описанного тобой типа людей. Они облачались в разные одежды, присваивали себе разные громкие титулы, но их мотивы оставались неизменными. Страх. Невежество. Заурядные мотивы из всех необъяснимых и вредных предрассудков, которые запятнали историю человечества. Не могу сказать, что приобретенный опыт сделал меня мудрее, добрее или внушил мне идею морального превосходства, которая подвигает многих выступать с обращениями и поучениями к толпе обывателей. Но одно я усвоила твердо: массовое кровопролитие никогда – я подчеркиваю, никогда – не помогало решить ни одной проблемы. Естественно, если ты начнешь преследовать тех, кто преследует меня, было бы лицемерием с моей стороны не выразить тебе за это глубокой признательности. Хотя моя благодарность неизбежно будет иметь пределы, поскольку в то время, как число мужчин и женщин, которые боятся меня и желают мне зла, поистине неисчислимо, только кто-то один пока прячется в тени с ножом в руке, чтобы нанести мне смертельный удар.
Он криво ухмыльнулся и встал из-за стола.
– Что ж, поблагодарю тебя хотя бы за чай, если больше не за что.
Я тоже поднялась, кивая в ответ и провожая гостя до двери. Он уже положил руку на засов, но потом помедлил и обернулся.
– Я не так уж глуп, – сказал он после паузы, – чтобы не видеть определенного резона в твоих словах. Но у меня остается к тебе вопрос, и вот какой. Тех, кто хочет навредить нам, очень много. Нас совсем мало. Ты уникальна. Гораздо опытнее любого из нас. Почему же тебе так важна жизнь людей, существующих рядом, которые грязнее навоза и так же чувствительны, как камни?
Я долго обдумывала его вопрос, стоя в холодном холле с высоким потолком.
– Мне однажды рассказали одну историю. Она о мужчине по имени аль-Муаллим. Однажды из пустыни явился джинн, вселился в аль-Муаллима, и тот изгнал своих старших жен, но оставил при себе любимую младшую, которая была красива и чрезвычайно умна, как женщина своего времени. У них родился ребенок, но жена умерла, и джинн покинул Муаллима. Эта история, которую я слышала, произошла очень давно. И знаешь, что она для меня означает?
Мой гость пожал плечами – он не знал и не чувствовал особого интереса.
– Всего лишь историю. Это то, что представляют собой жизни других людей, – они становятся историями, которые рассказывают другие. Включая и мою жизнь. Единственный след, какой мы оставляем после себя, скоро становится историей с неясными уже подробностями, а потом вообще забывается.
Он задумался над моими словами, а потом сказал с неодобрением:
– Если это действительно все, что ты собой представляешь, то, быть может, и не заслуживаешь спасения. Прощайте, миссис Уиттен.
– До свидания, – ответила я. – И удачи.
Четыре дня спустя «Лондон газетт» сообщила об убийстве одиннадцати мужчин и трех женщин на складе в районе «Серебряной верфи». Выжили двое свидетелей. Один из них рассказывал, как обитатели склада вдруг озлобились друг на друга и поочередно убили каждого, поскольку в них вселился демон.
Другой свидетель, который говорил медленно и с трудом, потому что его лишили обоих глаз, заявил, что все случилось иначе. Демон был не один. Их было двое. И второй демон, вырвавший ему глаза, рассмеялся затем совсем по-детски и прошептал:
– Тебе нравится то, что ты видишь?
Глава 55
Всегда есть нечто, что можно сломать и разбить. Сначала я отломила колючую ветку дерева, свешивавшуюся через бетонную ограду. Потом этой веткой я разбила стекло припаркованного за углом белого микроавтобуса и под завывание его сигнализации сумела открыть изнутри дверь. Затем пробралась назад и сломала сиденье, чтобы достать из аварийного набора машины стальную монтировку, фонарик и одноразовый плащ-дождевик с капюшоном. После чего я вскрыла замок зажигания, завела мотор и угнала микроавтобус.
В мои намерения не входило уехать на нем далеко. Даже если люди из «Водолея» уже не были способны преследовать машину с орущей сигнализацией и разбитым окном, подобное транспортное средство сразу же заинтересовало бы полицию.
Я удалилась лишь на расстояние, превышающее разумный радиус опасности со стороны человека, который мог бежать за мной, а потом бросила фургон и пошла пешком, зажав монтировку под мышкой и натянув на себя плащ в поисках чего-то получше.
Вокруг меня простирался тот район Берлина, где одноэтажные промышленные здания образовывали решетку пересекавшихся под прямым углом улиц. А над ними местами возвышались башни жилых домов и огромные рекламные щиты, рекламировавшие дешевый бензин, превосходные бытовые пылесосы и местные магазины сантехники. Автобусы еще почти не ходили. Впрочем, у меня не было ни гроша, чтобы заплатить за проезд. И я двигалась практически по проезжей части совершенно пустой торговой улочки, где в обычное время предлагали все необходимое: услуги дешевой прачечной, свежие помидоры или консервированные фрукты. Вот с прачечной мне и стоило начать.
Я лупила монтировкой по замку рольставни, пока он не поддался, затем разбила стекло витрины и проложила себе путь внутрь. Здесь тоже сработала сигнализация, но в такой час местные жители медленно отреагируют на сигнал тревоги, а полиция не станет слишком торопиться, но даже если застанет меня здесь, арест представлялся мне не самой большой проблемой.
Я вскрыла автоматическую кассу, но не была вознаграждена за труды ни единой монетой. В подсобном помещении перерыла прикрытую пластиком одежду на вешалках, на какое-то время забыв, что была теперь меньше и тоньше, чем Натан Койл, а платья и юбки подходили мне больше, чем мужские вечерние костюмы и смокинги. Мое внимание привлекла небольшая красная коробка в верхнем углу одной из полок шкафа. Взломав крышку, я обнаружила внутри тридцать евро монетами по одному евро и по двадцать центов: запас на черный день, который пришелся очень кстати.
В отдалении послышался звук сирены, и я поспешила скрыться, хрустя подошвами по осколкам разбитой витрины, оставив отпечатки пальцев Элис по всему месту преступления, пусть, по большому счету, это ничего и не значило.
Ночь выдалась слишком холодная, чтобы плутать в совершенно незнакомом районе города. Я хотела спать. Или, вернее, сна жаждало мое тело. Во рту ощущалась горечь желчи, сломанная рука пульсировала, ребра болели. В какой-то момент я нанесла самой себе более сильный удар, чем ощутила сразу.
Я развернулась в ту сторону, где, по моим прикидкам, находился центр, и, ориентируясь по телебашне, пустилась в долгий путь, дожидаясь рассвета.
Глава 56
Восход солнца не столько подсветил небо, сколько превратил его из темно-синего в серое. Начался дождь. Мне хотелось выбраться из этой кожи.
Новый день, другое интернет-кафе. Я без ума от Интернета. Управление счетами в банке онлайн, Фейсбук. Я теперь с трудом представляю, как справлялась с работой до появления этого чуда технологии, – боже, мороз по коже, как представлю, насколько труднее было собирать информацию о потенциальных телах, их друзьях, знакомых, об их прошлом и о материальном положении! Недели уходили на слежку, ночи тратились на составление списков и каталогов, отчетов о встречах с людьми, на запись рассказанного ими или подслушанных разговоров – чего я только не делала, чтобы выведать все секреты намеченного объекта. А теперь! Чудо из чудес. Фейсбук! Вся жизнь, вся личность, все друзья-приятели, все члены семьи перечислены и легкодоступны, нужно лишь подобрать пароль. За исключением редких чудаков, которые чурались Интернета. О Фейсбук! Какой же тяжкой была моя жизнь без тебя!
А удаленный доступ к банковским счетам! Восхитительно, бесподобно, превосходно! Стоит только запомнить фамилию, код доступа, пароль, и в любом теле, в любой коже я получаю возможность, сидя перед компьютером, перемещать деньги со счета на счет, получать кредиты. И для этого даже не обязательно внедряться в одно и то же тело дважды. Как далеко в прошлое ушли дни, когда мне приходилось зарывать деньги богача под приметным деревом в лесу, чтобы вернуться в шкуре бедняка, когда наступало подходящее время, и достать сокровища из тайника. Теперь таким деревом стал весь мир, вся планета. От всей души скажу современным технологиям: огромное вам спасибо!
Город просыпался, а мне отчаянно хотелось спать. Под украденной в прачечной одеждой все мое тело болело от десятков ушибов и не обработанных антисептиком порезов. Мне хотелось почесаться, но мои пальцы натыкались на осколок застрявшего в ране стекла, и я в испуге отдергивала их, испытывая отвращение к своей нынешней плоти.
Я купила час доступа в Сеть в круглосуточном кафе, где оказалась в пестрой международной компании сыновей, выходивших на связь с мамочками на Тайване, страдающих бессонницей любителей покупок в Интернете и притаившихся по углам поклонников порнографии.
Начала я с того, что перевела на свое имя триста евро, которые смогла снять в ближайшем банкомате. Всего за одно евро я купила себе сосиску в тесте с лотка уличного торговца, из тележки которого валил пар. Он положил мне дополнительную порцию маринованного лука, воскликнув:
– Видать, тяжелая у вас выдалась ночка, мадам?
– Боже правый! – изобразила я удивление. – Неужели уже наступило утро?
За двести пятьдесят евро я купила небольшой портативный компьютер, который могла отныне считать своим, расположилась в самом уединенном месте самого затрапезного кафе, какое только смогла найти, и, подавляя в себе желание немедленно сменить тело, усилием воли превозмогая боль и дискомфорт, вставила в разъем тот единственный предмет, который пока делал переход нежелательным, – свою извлеченную из желудка карту памяти.
Что я могла сказать об организации под названием «Водолей»? Если бы для защиты информации она приложила хотя бы половину тех усилий, какие были потрачены на охрану безопасности сотрудников, то мне нечего было бы ловить. А так… Электронная почта, папки, фото, счета, личные досье – документов было больше, чем человек способен прочитать за день и даже за неделю. И все это поместилось на небольшой игрушке, которой снабдил меня Сперматозавр 13.
Хотя по большей части это оказались довольно-таки банальные данные. Даже секретная организация убийц, прячущаяся за бетонными стенами, должна делать крупные заказы на туалетную бумагу. Даже у убийц кончаются канцелярские принадлежности.
Я провела поиск по ключевым словам Натан Койл, но обнаружила только электронную почту с красным флажком и пометкой: «Скомпрометирован». И все.
Я ввела фамилию Кеплер. Досье на дисплее было тем же, которое Койл имел при себе в Стамбуле, с единственным изменением. Теперь первая фотография изображала не Жозефину, а самого Койла. Я решила проверить другие имена.
Гекуба. Почти тридцать разных снимков и фамилий, охватывавших период в четыре с половиной года. На последней фотографии была запечатлена женщина в платке, голова свернута набок. В черепе и горле отчетливо виднелись входные отверстия от пуль. Труп лежал на ступенях Шенефельдплац. Гекуба запрыгнула в это тело, спасаясь бегством, но пробыла в новой коже всего одиннадцать секунд, прежде чем группа преследователей сделала роковые для нее выстрелы.
Другие фамилии, другие фото. Куаньин, умершая в теле пожилого мужчины, который пожертвовал жизнью, чтобы истерзанная плоть Юджина продержалась еще какое-то время.
Одно имя вело к другому. Кодовые клички. Некоторые мне уже были знакомы. Другие я видела впервые. Марионетка, отравленная в Санкт-Петербурге. Хуанг-ли, застреленная в Токио. Шарлемань[10], который, осознав, что ему не уйти от преследователей, внедрился в тело семилетнего мальчика и заявил: «Вы же никогда не сделаете этого, не посмеете убить ребенка!» И оказался прав. Потому что люди из «Водолея» не убили его сразу. Они препарировали мальчишку, проведя долгосрочный эксперимент на живом объекте, вырезая участки мозга один за другим в поисках чудодейственного механизма, который непостижимым образом избавил бы тело от призрака. Он уже впал в кому, сердце остановилось, но чье именно сознание угасло, в «Водолее» не разобрались, и труп неизвестного мальчика похоронили в безымянной могиле в поле на окраине Севильи.
Ученые из «Водолея» вообще смело экспериментировали на призраках. Или на истинных хозяевах их тел. Вероятно, Гекуба оказалась права, отказавшись от моего миндального печенья много лет назад.
Янус. Досье было обширным, но фрагментарным. Его начали вести в 1993 году с предположений о прежних деяниях Янус, в основном это были неверные гипотезы. Годы с 2001-го по 2004-й зияли пустотой, и дело возобновили, когда Янус на долгосрочных условиях внедрилась в тело, обитавшее в Барселоне. Причем оно страдало неизлечимой лимфомой, и даже меня удивило, как долго продержалась Янус в обреченной на смерть плоти.
На самой последней фотографии была изображена японка средних лет, сидевшая в парижском кафе в низко надвинутой шляпе и в шарфе, прикрывавшем подбородок. На столике лежала газета трехнедельной давности.
Галилео. Любопытство возобладало над осторожностью. Я открыла папку. Снимки, отрывочные сообщения. Снимок, датированный 2002 годом. Еще один – 1984-м. Доклад о том, что Галилео сел в такой-то самолет в такое-то время, но в полете переместился в тело другого пассажира. Еще фото – лицо вполоборота к камере, какая-то тень в окне, счет из ресторана, копия уведомления из банка о полном снятии всех средств. Эдинбург, 1983 год. Кто-то дал наводку людям, позднее вошедшим в состав «Водолея», и они почти поймали Галилео. Но «почти» никогда не считается.
Фотография Койла, сделанная в больнице. Он, весь в бинтах, лежит под капельницей. Трупы, лежащие на спине в ряд на пирсе. Виден черный нос корабля «Санта-Роза». В кадр попал полицейский, явно с трудом сдерживавший рвоту.
Таковы оказались скудные обрывки жизнеописания Галилео, и я просматривала их с нараставшим изумлением и крепнувшей уверенностью, что почти все здесь, за очень редкими, хотя и важными исключениями, было неверно. Мне оставалось выполнить последнюю задачу. Я провела поиск по ключевым словам Жозефина Цебула.
Глава 57
За три евро я купила билет до Зелендорфа. Дождь усилился, но дети только радовались ему, топая по все более глубоким лужам. Прохожие едва успели укрыться, когда мимо пронесся микроавтобус, поднявший тучу брызг.
Назад, в тихий дом на тихой улице, где, казалось, ничто и никогда не могло представлять для человека угрозы. Назад, к Койлу.
Когда я вошла, в доме стояла тишина, свет был выключен, комнаты пусты. Натан Койл лежал там же, где я его оставила, прикованный к холодной трубе радиатора, и спал, склонив голову набок.
Я бесшумно подошла к нему, держа свой миниатюрный компьютер под мышкой. Но все же пол предательски скрипнул у меня под ногой, и его тело дернулось, глаза мгновенно открылись, рука натянула цепочку. Чудесным образом кляп оставался на месте, и когда Койл полностью пришел в себя, в его устремленных на меня глазах промелькнуло сначала удивление, а потом ярость.
Я, Элис Майр, партнерша человека, называвшего себя Натаном Койлом, расположилась на полу вне пределов его досягаемости и открыла крышку ноутбука. Он издал сквозь кляп сдавленный звук; каблуки ботинок заскребли по полу.
– Хочу кое-что показать тебе, – сказала я.
Снова невнятные звуки, злость в выпученных глазах, побагровевшая кожа лица от бесплодных попыток с помощью одной лишь силы воли преодолеть все препятствия и наброситься на меня.
Я вставила флешку в гнездо и открыла файлы.
– Похищено из компьютера в «Водолее», – продолжила я. – Даже беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться: я располагаю финансовой информацией, личными данными, электронной почтой, прочей перепиской, разного рода документами. Этого достаточно, чтобы уничтожить «Водолей» без особого труда, внедрившись в банковских служащих, клерков и прочий обслуживающий персонал. Ничего другого не потребуется.
Он снова изо всех сил натянул цепь наручников, издав животный горловой рев, приглушенный кляпом.
– Но я собиралась показать тебе нечто другое. Вот это. Смотри внимательно. – Я повернула к нему экран компьютера, чтобы он мог видеть фото по мере того, как я выводила их на экран.
– Это досье на субъекта, которого вы окрестили Галилео. Оно крайне скудное и отрывочное – заметно более бедное, чем почти все другие досье, включая мое собственное. Например, здесь мы видим снимок человека, сделанный в 1957 году, который мог быть Галилео, а мог и не быть им. А вот трупы с «Милли Вра», парома, пассажиры которого сошли с ума и поубивали друг друга по одному во время ночного плавания. А это фото, – я придвинула компьютер чуть ближе к нему, – человека, с уверенностью названного вами Галилео. Снимок 2006 года. Джентльмен из Нью-Йорка. Обрати внимание на безукоризненный костюм, модные черные ботинки, обработанные профессиональной маникюршей ногти. Можно понять, почему кому-то захотелось стать таким мужчиной. Это явный завсегдатай светских приемов и посетитель премьер самых звездных шоу. Но присмотрись повнимательнее. – Я постучала пальцем по точке на дисплее. – Место соприкосновения шеи и воротника. Понимаешь, о чем я?
На мгновение любопытство у Койла возобладало над гордостью, и в его глазах мелькнуло нечто вроде изумления, когда он заметил пятна крови от поврежденных сосудов на шее, отчетливо заметных чуть выше воротника сорочки.
Я продолжила развивать свою мысль:
– Большинство людей крайне чувствительны к тому, что касается состояния их кожи. Ведь ее видят посторонние, часто по ней выносят суждения о здоровье человека. И потому любую аномалию, всякую странность, не отвечающую образу, который они стремятся создать в глазах общества, люди стараются скрыть, спрятать. В данном случае не принято никаких мер. Какой из этого следует вывод? Либо этому джентльмену наплевать на свою внешность, что кажется невероятным, если принять во внимание тщательный подбор наряда, либо повреждения кожи настолько ему привычны, что он перестал замечать появление новых болячек. Как ты думаешь?
Казалось, что в оковах и с кляпом во рту Койл утратил способность думать. Он почти прекратил всякие попытки освободиться. Теперь он лежал спокойно, вглядываясь в снимок, который, вероятно, сотни раз видел прежде. В снимок мужчины, которого он считал Галилео.
Я дала ему возможность рассмотреть его повнимательнее, а потом перешла к следующему фото:
– Как насчет вот этого? Женщина, чуть за двадцать, красива. Ослепительно красива. Я бы хотела побыть денек в такой шкурке. А ты? Хотя бы часок так погордиться собой. Но приглядись. Приглядись как можно внимательнее. И обрати внимание на места, где края туфель упираются в лодыжки. Видишь кусочки пластыря? Ноги, стертые до крови. Ты скажешь, это расплата за стремление к красоте, но я с тобой не соглашусь. Ничто так не раздражает, как неправильно подобранная пара обуви. А ваше досье утверждает, что Галилео носил тело этой женщины три месяца! – Я продемонстрировала ему еще несколько снимков в ускоренном темпе. – Волдыри на ногах. Снова кровавые мозоли. А потом еще вот это! – Я показала другую фотографию, другое лицо. – Ты действительно считаешь, что в нем мог сидеть Галилео? – Я требовала ответа, чуть приподняв компьютер и поднеся его совсем близко к лицу Койла, чтобы он мог лучше рассмотреть. – Золотые часы, шелковая рубашка – все как надо! Одет с иголочки. Но приглядись к лицу. Именно к лицу! У этого мужчины стеклянный глаз!
Койла словно парализовало. Его плечи поникли, ноги напряженно вытянулись. Уже гораздо спокойнее я продемонстрировала ему остальные снимки, покачивая головой, цокая языком, выразительно вздыхая.
– На этих фотографиях не Галилео. Три месяца с кровавыми мозолями, два – с натертой до крови шеей? А теперь посмотри на эту даму. Она же старуха! Лицо от морщин спасли кремы и пластические операции, но пальцы скрючены, и кожа на них сморщена, потому что слишком многие леди, заботясь о молодости лица, пренебрегают руками. Ни один призрак не внедрился бы в нее больше чем на несколько минут. Радикулит, артрит – любой «агент по недвижимости», который не зря ест свой хлеб, моментально отверг бы ее кандидатуру. Причем речь идет о любом призраке. А Галилео хочет, чтобы его любили. Он желает смотреть в зеркало и сам любоваться собой, видеть лицо, отвечающее ему обожанием на обожание. Он готов целовать свое отражение, он получает удовольствие, содрогается от наслаждения, прикасаясь к своей коже. Он хочет, чтобы незнакомые люди падали в его объятия, потому что он неотразимо красив, а когда занимается любовью, не может избежать искушения поменяться с ними ролями. На долю секунды, на один вдох, чтобы тут же вернуться обратно. Он хочет все и вся одновременно, пока ему отвечают взаимностью. А убивает он, если, посмотрев в зеркало, видит в ответном взгляде одно лишь презрение. Тогда ему нужно уничтожить это лицо, и он режет его, смотрит снова, опять не находит необходимой красоты и продолжает убивать, убивать и… Не думаю, что мне стоит что-то еще тебе объяснять. Ты знаешь его историю лучше большинства других людей. А потому не можешь не понимать, что все эти люди – не Галилео. Но даже если бы они им были… Вот… – Я вывела на дисплей последний снимок, датированный 2001 годом. На нем была запечатлена женщина, возлежавшая на кожаном диване с коктейлем в руке. – С ноября 2001-го по январь 2002 года. Могу заверить, в этой леди ты не сыщешь ни малейшего изъяна, никакой деформации, которая могла бы сделать ее непригодной для внедрения, но мне известно, где находился Галилео в ноябре 2001 года. Я знаю, кем он был. И это не она. – С этими словами я закрыла крышку ноутбука.
Койл оставался недвижим. У меня же словно склеивались глаза – настолько отяжелели веки.
– «Водолей» проводит эксперименты на призраках, – фразы веско срывались с моего языка. – Но пытки едва ли можно отнести к научным опытам. Они проверяют, до каких крайностей нас можно довести. Хотят узнать, как мы функционируем. Перечитай досье Галилео. Перечитай досье Жозефины. Но только настоящее досье, а не набор вранья, который они дали тебе изучить. Вспомни все, что произошло во Франкфурте, и задайся вопросом: была ли то программа создания вакцины или нечто совершенно иное? Обдумай данные, полученные ими. На что направлен их основной интерес, ресурсы, которыми они располагают? Спроси сам себя: почему погибли ученые, отчего их убили так зверски, причинив адскую боль? Перелистай мое дело, сравни даты, время, местонахождение. Проверь, могла ли я быть во Франкфурте, когда произошли убийства. Вглядись в лицо Жозефины, смотрящей в камеру наружного наблюдения, и задай себе еще вопрос: кто именно смотрит на тебя в этот момент? Не забывай, что у меня уже были встречи с Галилео, как и у него со мной. Мы не в первый раз кружим в танце рядом друг с другом. Выясни для себя: кто в «Водолее» испытывал провалы в памяти, терял счет времени? Но только не рассказывай им ничего. Ни в коем случае не делись ни с кем своими открытиями. Они уже списали тебя как скомпрометированного. – Я поднялась с пола. – Сейчас мне пора идти, – сказала я, не глядя на него. – Пришлю кого-нибудь, чтобы освободить тебя. Можешь оставить себе компьютер и деньги. Я не могу носить его с собой, но вот это – я раскрыла ладонь, на которой лежала флешка Шварба, – принадлежит мне. Расскажи своим боссам обо всем, а потом спроси, почему, уничтожив столько призраков и тел, в которых те укрывались, они лгут о Галилео. – Носком ноги я подтолкнула свой миниатюрный компьютер поближе, чтобы он смог без труда до него дотянуться. А потом ушла.
Глава 58
Когда ты в чужой коже, путешествовать следует налегке. Все, что находится при тебе, принадлежит кому-то другому. Все, что тебе дорого, лучше оставить. Не я завела эту семью. Не мне принадлежит этот дом. Все это – собственность той или того, чье лицо я на время одолжила, чьей жизнью жила и кто теперь, когда я двинулась дальше, может снова начать существование с того места, где я его оставила.
Время уходить. Я отправляюсь на почту и посылаю свою карту памяти заказной бандеролью первого класса на адрес почтового ящика в Эдинбурге, где я когда-то носила тело по фамилии то ли Джонсон, то ли Джексон – короче, с окончанием на «сон». Там я завела почтовую ячейку, которую мне хватило ума не ликвидировать. Потому что даже призраку необходимо нечто принадлежащее только ему одному.
Затем мой путь лежит в аэропорт. Я все еще Элис. Я стою в зале вылета Бранденбургского аэропорта и, пока меня обтекает поток пассажиров, направляющихся к стойкам регистрации, растопыриваю пальцы и притрагиваюсь к ребенку, держащемуся за руку женщины, которая встает в очередь желающих улететь в Афины. Но, посмотрев снизу вверх в лицо своей мамочки, решаю, что мое тело слишком уж юное и вялое из-за непривычно раннего пробуждения, а потому переключаюсь в нее. У нее прямая осанка, но пояс чересчур туго врезается в живот. Я успеваю поддержать своего покачнувшегося малолетнего сына, одновременно вежливо похлопывая по плечу мужчину в фирменной спецовке работника аэропорта, который стоит рядом с огромным контейнером для багажа.
– Простите за беспокойство, – говорю я, а когда он поворачивается, мои пальцы касаются его шеи, и я становлюсь таким же огромным, как контейнер, – грузчиком со сложенными на груди руками и с противным привкусом табака во рту. Я улыбаюсь мамаше и решаю либо как можно скорее избавиться от этого тела, либо сунуть в рот пластинку мятной жвачки. Направляюсь к зоне специального контроля, окликая скучающую дежурную, которая обычно занимается конфискацией бутылок и флаконов объемом свыше ста миллилитров (заметьте, они изымают даже пустые емкости):
– Сигаретки не найдется?
Она поворачивается, вскидывает глаза при моем приближении, а я в этот момент беру ее за руку и, вырывая свою руку из потной лапищи гиганта-грузчика, отвечаю:
– Курение когда-нибудь тебя доконает, неужели не понятно?
Я отворачиваюсь от него и протискиваюсь сквозь несколько длинных очередей к своему рабочему месту. Толпа густая. Люди расступаются неохотно даже перед женщиной в униформе сотрудника охраны, и я становлюсь подростком с наушниками, в которых гремят ударные инструменты и бухает бас-гитара. Я с отвращением дергаю за провод, освобождаясь от навязчивой музыки, но она еще эхом отдается в ушах, когда я дотрагиваюсь до бизнесмена, сутулого, с хилыми плечами, нетерпеливо ждущего своей очереди. Он дотягивается до мужчины, давно переставшего слушать, что ему говорит жена, а та проводит пальцем по руке студентки, у которой слишком много совершенно ненужного, казалось бы, багажа. Она стоит во главе очереди, и ее сердце тревожно колотится, в отличие от моего. Интересно, думаю я, что такое спрятано в ее вещах, если рентгеновский аппарат наводит на нее почти панический страх? Но сейчас не время выяснять. Когда другой охранник подает мне пластмассовое корытце для мелких предметов, я случайно прикасаюсь к его руке и становлюсь высоким мужчиной, ободряюще улыбаюсь трясущейся от страха студентке, а потом поворачиваюсь к коллеге, следящей за экраном монитора:
– Который час?
Она едва поднимает голову, отрываясь от своего монотонного занятия, чтобы ответить, но я уже нахожусь по другую сторону контрольной рамки в облике ответственного за личный досмотр, только что закончившего рыться в нижнем белье какой-то женщины. Та стоит вся пунцовая. Ей как будто стыдно за розовые с кружевами трусики, лежащие в сумке, но в этот момент ею становлюсь я и, укладывая свои пожитки обратно в сумку, думаю, что трусики на самом деле довольно милые, хотя и не столь сексуальные, как хотелось бы хозяйке. Потом я прохожу сквозь таможенную зону в сторону магазинов «дьюти-фри». Нащупываю в кармане билет и посадочный талон, замечаю, что лечу в Сан-Франциско, и принимаюсь искать кого-нибудь, кому нужно в Париж.
Глава 59
Меня зовут Саломея. Так написано в моем паспорте, и ничего получше мне не подвернулось. Я хотела попасть в бизнес-класс, но очередь смешалась, а пальчики у Саломеи оказались приятно теплыми, и я решила остаться ею. И вот теперь я сижу, упершись коленями в переднее кресло, а из иллюминатора открывается вид на крыло с двигателем и небольшую полоску неба.
Между тем карта памяти с данными компании под названием «Водолей» уже где-то на пути в Эдинбург.
В полицию Зелендорфа поступил анонимный звонок о напуганном и сбитом с толку человеке, прикованном наручником к радиатору в одном из домов.
А я, чувствуя себя неуютно под именем Саломеи и жалея, что не стала, например, Амелией, закрываю глаза. Когда при взлете меня вжимает в спинку сиденья, я, не имея за душой ровным счетом ничего, думаю о Париже.
Как-то я услышала одну историю, рассказанную в подвальном парижском кафе, где собирались художники, чтобы пошептаться о бунте, где звучала тихая музыка, пахло кофе и дешевым джином. Историю рассказала женщина, которую звали Ноур Сайех. Она училась в Новой Сорбонне и говорила по-французски с алжирским акцентом. В ее лице для меня было нечто неотразимо привлекательное, почти чарующее, и я сидела рядом с ней в кружке студентов (как же я люблю «Неделю новичка»!), гадая, не встречалась ли я с ней прежде, не носила ли кожу ее сестры, но никак не могла вспомнить, откуда мне знакомы эти черты, пока она не заговорила.
– Меня зовут Ноур Сайех, – начала она, – и я ношу в себе пламя джинна.
Раздалась легкая барабанная дробь, потому что кафе было местом сбора людей, любивших устраивать импровизированные представления, студентов, мечтавших о славе, но презиравших тех, кто уже добился ее. Ведя свое повествование о скитаниях по Африке и о том, как она оказалась в Париже, Ноур покачивалась в такт музыке, которая словно подстраивалась под ее рассказ, ненавязчиво усиливая эффект сказанного.
– Моя прапрабабушка вышла замуж за джинна, – сказала она. – Ее муж был очень богатым человеком из Каира, но он не любил прапрабабушку. Она была для него украшением дома, но он совсем не воспринимал ее как женщину. И моя прапрабабушка часто в одиночестве плакала лунными ночами, выходила к священным водам Нила и молила древних богов – сокола Хоруса и нежную Исиду, мать всего сущего, – чтобы свершилось чудо и ее муж прозрел. Она плакала очень тихо, опасаясь, что ее застанут в такой печали, и, должно быть, только цикады, прятавшиеся в траве у ее ног, знали о ее горе, да, быть может, еще ветер, дувший со стороны моря. Пока не примчался джинн. Он явился подобно всполоху пламени по гребням песка в пустыне, порывом острого, как нож, жаркого дыхания, а его имя было заключено в тысячах ничего не значивших фраз – elf’ayyoun we’ain douna ta’beer, youharrik elqazb doun arreeh. Его голос начинал колыхать ветви деревьев, хотя не было ни малейшего ветерка. Его мечом стал звездный свет, глаза горели раскаленными углями цвета закатного солнца.
Она продолжала:
– Нам осталось неизвестным подлинное имя джинна, как и причина, почему плач моей прапрабабушки заставил его покинуть свое жилище, но когда он увидел ее лившей слезы в саду, то сам загрустил и обратился в маленького мальчика с серебристой кожей и волосами цвета эбенового дерева, который спросил: «Почему ты так горько плачешь, госпожа? Почему рыдаешь?» – «Мой муж не любит меня, – отвечала она. – Я ведь его жена и должна быть с ним, но не могу, и мне остается только оплакивать свою несчастную судьбу, потому что я вижу других, любимых им жен, и от этого мое горе жжет меня еще сильнее, печаль становится еще более острой».
Услышав такие слова, джинн был тронут до глубины души. «Пойдем со мной, – сказал он. – Я стану любить тебя, как настоящий муж». «Аллах покарает меня за одну только мысль об этом! – воскликнула моя прапрабабушка. – Я связана с супругом священными узами и не могу позволить другому осквернить мою плоть! Уходи, джинн! Хоть я и знаю, что твоими устами глаголет доброта, твои слова все равно остаются грязными!»
Джинн в смятении удалился. «Какие же странные нравы у этих простых смертных, – думал он, – если они остаются заключенными в тюрьмах, которые возвели для себя сами! Что ж, если я не могу завладеть ею иначе, я должен вселиться в ее мужа!» Решив так, джинн обратился в пар и просочился в опочивальню ее супруга, где тот спал, тяжело дыша после ночи жарких любовных утех с одной из других своих жен. Джинн проник в тело мужчины через ноздри и обернулся вокруг его сердца, а потому, когда наступил рассвет, уже джинн, а не муж, очнулся ото сна, повернулся к толстухе, храпевшей рядом, и рявкнул на нее: «Убирайся отсюда, шлюха!» Женщина в слезах выбежала из спальни, а джинн, ставший теперь супругом моей прапрабабушки, отправился прямиком в ее покои и сказал: «Прости, что был так жесток с тобой раньше. Я – твой муж и стану отныне уважать и лелеять тебя, для чего приложу все свои силы».
Моя прапрабабушка была далеко не глупой женщиной, – продолжала свой рассказ Ноур. – Она поразилась столь внезапной перемене и высказала лишь сдержанную радость, услышав слова мужа, но не поверила ему всерьез. Но вот стала проходить неделя за неделей, а джинн не уставал демонстрировать свою нежность к ней. И она смягчилась, у нее появилась надежда, что ее молитвы были услышаны, а перемена отношения к ней супруга случилась на самом деле.
«Мой господин, – обратилась она к нему однажды вечером, – ты так сильно изменился ко мне, что, уж прости за такие слова, теперь совсем не похож на того мужчину, за которого я вышла замуж».
Услышав это, джинн переполнился гордостью, но произнес смиренно: «Это ты заставила меня измениться, лучше понять самого себя и стать хорошим человеком».
После этого они зажили новой счастливой жизнью, но моя прапрабабушка никак не могла забыть джинна, явившегося ей в саду и обещавшего запретные наслаждения. Глядя на своего изменившегося мужа, она не уставала поражаться и недоумевать. Был ли то действительно ее прежний супруг или в него вселилось пламенное порождение пустыни, тот самый джинн, явившийся из глубины песков? И если с ней теперь жил джинн, как ей следовало поступить? Потому что джинны – это огромное и разношерстное племя, которое с наслаждением – увы, это правда! – дурачит людей, но зато проявляет доброту и мягкость к тем, кто им нравится, и они всегда были любимцами Аллаха. Вспомните хотя бы того джинна, который перенес в огненном вихре к воротам Багдада умирающего принца, или того, что помог раненому купцу добраться до ворот Дамаска. Вспомните рассказы о джиннах, верой и правдой служивших добродетельным хозяевам, исполняя любые их желания, и защищавших утробы беременных женщин, если тем приходилось рожать в особенно бурные и грозовые ночи. Мы же склонны больше припоминать проказы джиннов, обвинять их в тяжких грехах, забывая о творимом ими добре, хороших поступках, приписывая чужие заслуги себе самим.
«Ты очень изменился, – шептала она снова и снова, когда они с мужем, обнаженные, возлежали на траве под сенью деревьев. – Очень изменился».
На этот раз джинн уже собрался ей что-то сказать, но она тут же остановила его: «Сказано, что невинные и невиновные найдут свой путь в рай. Я не знаю за собой никаких преступлений, но если хочу остаться невинной, для меня лучше всего пребывать в неведении. И если темный дух овладел мной, то помимо моей воли. Но стоит мне начать сознательно наслаждаться этой одержимостью, то я заслужу клеймо гулящей женщины и ведьмы. Разве не так?»
Услышав ее речи, джинн счел за лучшее промолчать, ибо понимал смысл слов моей прапрабабушки. Они долго потом тихо лежали рядом под шелест ветра в листве деревьев, но он все же не выдержал и сказал: «Любить того, кто предназначен тебе судьбой, стать тем, кто ты есть в действительности, – в этом нет ничего, противоречащего воле Создателя. Потому что он породил тебя для любви, для жизни, и отрицать это – значит противиться замыслу самого Аллаха».
Моя прапрабабушка метнула в джинна взгляд, острый, как стрела с наконечником из слоновой кости, пронизав его до самой души, до правды в его сердце. Это получилось так неожиданно, что он едва не выпрыгнул из тела, в которое внедрился. Но она вдруг улыбнулась и спросила: «А других Аллах, по-твоему, породил для обмана?»
«Тогда он уж точно имел на это свои причины», – находчиво ответил джинн.
Десять лет потом он жил с моей прапрабабушкой и любил ее, как и она любила его, но никогда больше не заводили они разговоров о происшедших с ее мужем переменах и не задавались вопросом, отчего они случились, оставаясь невинными, принимая друг друга такими, какими были, и не сыскалось бы на всем свете более красивой пары.
Но затем в стране началась война, и за мужем, который в прошлом не желал проявлять покорности к властителям в Каире, пришли солдаты. А когда солдаты забрали у мужа оружие, джинн, распаленный гневом, но и пораженный страхом, покинул тело, которое носил десять лет, и вихрем унесся, пропав во мраке ночи. Заметив это, солдаты обвинили мужа в колдовстве и обезглавили его, бросив останки на корм крокодилам. Моя прапрабабушка зарыдала и тоже бросилась в обагренную кровью воду, но солдаты назвали ее ведьмой и забрали в тюрьму, где главный судья, считавшийся священным посланником богов и мудрецом, обвинил ее в вероотступничестве и богохульстве. Ее бросили в самую глубокую темницу Каира, где страшные люди могли творить над ней зло безнаказанно. И каждую ночь взывала она к джинну, своему истинному мужу, потерянному возлюбленному и защитнику, но он не являлся, потому что джинны переменчивы, как луна, неверны, как морские волны, а потому ее крики из глубины сырой каменной ямы никто не услышал.
Ее терзания прекратились только после того, как мучители заметили, что она носит ребенка. Многие хотели сразу убить и ее и дитя, но один человек сжалился над ней и туманной ночью помог бежать. Вся в крови, она брела по улицам, а потом упала без сил у дверей медресе, где добрый имам накормил ее и вылечил.
Но пребывание в темнице изранило не только плоть моей прапрабабушки, и когда ребенок явился на свет, он тоже родился для мук, крови и злости, потому что стал порождением джинна – наполовину человеком, наполовину сгустком огня. Родившись, он сжег мою прапрабабушку изнутри. Ее утроба не могла выносить магической субстанции, вызревшей внутри ее. Дитя с плачем явилось в этот мир. Ошеломленный имам не знал, что ему делать. Он повернулся, чтобы отдать младенца матери, но только та была уже мертва.
Оставшись наедине с ребенком и с трупом женщины, имам стал молить Аллаха наставить его на путь истинный и, пока он молился, сам стал подобием джинна, потому что вдруг понял, что своим сознанием может проникнуть в сознание ребенка. Оказавшись в его теле, имам почувствовал ужас, боль, горе, но превыше всего – ту любовь, какую отец ребенка испытывал к моей умершей прапрабабушке. А эта любовь была ярче даже самого пламени, спалившего ее. Когда разум вернулся к нему, имам понял, что не может убить это дитя, пусть родилось оно в нечестивости, потому что чадо стало плодом самой чистой любви. А потому он воспитал ребенка, который с годами превратился в мужчину, а тот мужчина возлег со многими женщинами, каждая из которых стала для меня бабушкой, потому что каждая получила частичку крови джинна, пустынного пламени и любви бессмертной души.
Ноур Сайех закончила свой рассказ, и пока часть публики в парижском кафе, не слишком внимательно слушавшей ее, аплодировала таланту рассказчицы, я сидела в своем углу как громом пораженная и вглядывалась в глаза этой девушки, этого ребенка, бывшего не только плотью от плоти Айеши бинт-Камаль и Абдула аль-Муаллима аль-Нинови, но и порождением моей собственной души.
Глава 60
Париж. Какие ассоциации вызывает у меня Париж? Прежде всего, это то, что французы не признают ответа «нет». Затем войны, мятежи, восстания; правительства, формирующиеся, чтобы вскоре оказаться смещенными, с регулярностью зимних эпидемий гриппа. Ужасающая нищета и пышное богатство. Но при всем при том Париж остается Парижем, короной Франции, городом бульваров, шика и красного вина.
В романтических фильмах Париж – это Сена, сентиментальные разговоры под навесами кафе оттенка бургундского вина, где гарсоны в накрахмаленных до хруста фартуках приносят крошечные круассаны на серебряных блюдцах, успевая шепнуть вам что-нибудь глубоко философское о сущности любви.
В американских боевиках Париж – олицетворение коррупции. В его всегда чуть покрытом сажей метро шныряют подозрительного вида остроглазые типы, жующие какую-то траву, поплевывая на рельсы, провожая взглядами красивых женщин, а потом устраивают смертельные погони друг за другом по древним камням мостовых Монмартра.
Для детишек Париж – это двухэтажные поезда и Эйфелева башня. Для обеспеченных взрослых он весь умещается в звуке хлопка пробки из-под шампанского в ресторане рядом с Нотр-Дам. Для националистов важнее всего трехцветный флаг, развевающийся под Триумфальной аркой. И то же самое – для историков, хотя у них взгляд на красную, белую и синюю полосы вызывает, вероятно, более сложные ассоциации.
Для меня Париж – прекрасное место в мае, июне и сентябре, но невыносимое в августе и жуткое в феврале. А самый магический момент наступает, когда открывают сливные отверстия, чтобы смыть накопившуюся грязь, превращая обочины улиц в бурлящие потоки.
Для «Водолея» Париж стал последним из известных ему мест пребывания личности, носившей имя Янус.
Я сбросила с себя надоевшую Саломею в зале прибытия аэропорта имени Шарля де Голля и прошла до стоянки такси в теле охранника, который собрался было обыскать меня. Там я ухватила за руку первого попавшегося таксиста, но почувствовала такой запах перегара, такую головную боль, стучавшую в висках, что сразу же переместилась в его коллегу, припарковавшегося рядом, чтобы быстро, хотя и предельно осторожно, выехать из ряда выстроившихся в очередь машин, выключив зеленую лампочку.
Задержка из-за ремонтных работ на Северном шоссе вызвала у меня приступ раздражения, и я барабанила пальцами по рулю под звуки радио, передававшего отвратительную европейскую попсу. Когда начались сообщения о положении на дорогах, перебившие певца о том, что для него любовь была светом, дыханием, источником восторга и чуть ли не бутербродом с икрой, я узнала о пробке, протянувшейся до самой Периферик[11], и с самыми жуткими проклятьями свернула с шоссе в сторону ближайшей железнодорожной станции.
В Дранси я села на электричку, и вскоре молодая женщина с вытравленными перекисью волосами, удалившись в дальний конец замызганного вагона, уже рылась в кошельке, чтобы узнать, кто она такая. Оказалось, что я Моник Дарье и у меня в распоряжении пятьдесят евро бумажками и мелочью, ключ от неведомой двери, губная помада, мобильный телефон, два презерватива и набор для инъекций инсулина. Прикрытый рукавом браслет сообщал, что я больна диабетом, и призывал немедленно вызвать «Скорую помощь», если мне станет плохо. А потому на станции «Стад де Франс» я перебралась в пожилого мужчину с тонкими усиками. Он не был ни привлекателен, ни даже удобен, как Моник, но меня пугали проблемы с сахаром в крови.
* * *
Только идиоты или совершенно отчаявшиеся люди селятся рядом с Северным или Восточным вокзалом в Париже. Как и при большинстве крупных железнодорожных станций в любом городе мира, там можно найти только жидкий кофе, слишком дорогие сигареты и надышаться выхлопными газами ждущих пассажиров такси. Шум, суета и ощущение, что всем на все наплевать, – такова здесь атмосфера. И ни за какие деньги не купить мало-мальски приличного бутерброда. А потому я прошла пешком не менее пятнадцати минут, удаляясь от привокзальной площади, прежде чем начала подыскивать себе отель.
Ниже по улице, слишком узкой для таких высоких домов, я заметила массивную черную дверь. Рычаг звонка оказался слишком тугим для моей немолодой уже руки. Хозяин сидел под абажурами в форме цепочек ДНК. В спертом воздухе застоялся запах мебельного лака. Я зашла за стойку регистрации и поселила себя в апартаментах на верхнем этаже, проставив отметку «Оплачено». Потом прихватила плащ, сунула ключ в цветочный горшок на лестничной клетке и отправилась на поиски хорошей пищи и пропавшего призрака.
Мое несуществующее тело не нуждается в пище, но от человеческих привычек трудно избавиться, и умственный импульс оказывается сильнее отсутствия прямой физической потребности. Передо мной стояла тарелка горячего жаркого, рядом уже остывал кофе в чашке, а я смотрела на улицу и думала о Янус.
Три недели назад кто-то из «Водолея» сфотографировал ее – женщину-японку, сидевшую в этом самом кафе. На столике лежала развернутая газета. Вид у нее был рассеянный, взгляд устремлен куда-то левее объектива фотоаппарата, но Янус наверняка было о чем тогда поразмыслить.
– Простите, – окликнула я официанта и подвинула в его сторону тарелочку с более чем щедрыми чаевыми. – Я разыскиваю знакомую. Осако Куйеши. Она, говорят, иногда заходит в это кафе. Вы, случайно, не видели ее?
Париж не так необъятен, как Нью-Йорк или Лондон. Одинокую японку, пьющую кофе, непременно заметят. Как, впрочем, и направление, в котором она потом удалялась.
Я нашла ее в поликлинике при больнице имени Жоржа Помпиду в очереди на компьютерную томографию. Одетая в женский больничный халат и плотной вязки лечебные носки, я села рядом и спросила:
– Ждете очереди на сканер?
Она ответила утвердительно.
– А для чего, позвольте поинтересоваться?
У нее, вероятно, опухоль головного мозга, как она объяснила. Она полностью потеряла память.
– Какой ужас! Но хорошо, что вас быстро проверят. Я ждала несколько месяцев, – пожаловалась я, проведя языком по вставным зубам, крепившимся к деснам. – У меня жуткие проблемы с памятью! Представляете? Я разговариваю с незнакомым мужчиной в поезде, а потом прихожу в себя только через два месяца, оказавшись в одних трусиках в чужой спальне.
– Неужели? – воскликнула Осако Куйеши. – С вами тоже такое произошло?
– Да! Я была в полном шоке. То есть даже трусики были не мои… Но довольно обо мне. Расскажите, что стряслось с вами.
…Через сорок минут я вышла из здания больницы – молодой врач со стетоскопом на шее.
Три дня назад Осако Куйеши открыла глаза, не понимая, куда попала. Пять месяцев ее жизни бесследно провалились в какую-то черную дыру. А она ведь с трудом говорила по-французски. Последнее, что осталось в памяти: Осако у себя в Токио стоит в очереди за денежным пособием. Доктора оказались в полном недоумении, как и те добрые люди, которые пришли, чтобы расспросить ее, когда она была на приеме у психиатра.
– Все будет хорошо, – заверила я ее. – Вот увидите, врачи не найдут у вас ничего серьезного.
– Не думаю, – грустно отозвалась она. – В прошлом месяце умер мой муж, и я теперь совсем одна. Боюсь, моя жизнь никогда уже не наладится.
Осако проснулась одна в чужой квартире. Вот это мне показалось интересным. Если бы Янус покинула тело Осако в случае острой необходимости, в момент кризиса, она сделала бы это на заполненной толпой улице, в месте, где полно других тел, чтобы перемещаться из одного в другое. Переход в тихой квартире выглядел как нечто проделанное в спокойной обстановке. Даже заранее запланированное.
В поисках нового пристанища Янус я отправилась к Севр-Лекурб, к югу от монумента военным амбициям в виде Дома инвалидов.
Это оказалась сдающаяся на лето квартира, снятая на имя Осако, хотя та не помнила, как оформляла аренду. Первое лицо, которое Осако, должно быть, увидела – молодое, зеленоглазое, в пурпурном платке, – принадлежало уборщице, женщине из Марокко, говорившей на превосходном французском. Ее тапочки порвались у больших пальцев. Она сразу же воскликнула, что самочувствием мадам Осако уже интересовались. Сначала врачи, а потом в ее дверь постучались какие-то люди, и она рассказала им то же самое, что сейчас рассказывала мне, – как помогла мадам Осако, когда она споткнулась.
– Когда мадам споткнулась?
Уборщица не была абсолютно уверена в том, что видела. Она помнила, как постоялица споткнулась, а потом сама вдруг оказалась стоящей на улице, а мадам Осако кричала, очень громко кричала. Бедная женщина, с ней все в порядке?
– Вы оказались на улице, но не знаете, как туда попали?
– Конечно знаю! – воскликнула уборщица. – Я туда вышла! Только не помню, как и зачем, но я, должно быть, просто вышла из дома, потому что стояла на тротуаре.
– А на улице вы не видели, как кто-то уходит?
Забавно! Именно этот вопрос ей задали и те, другие, люди.
Янус, двуликая богиня, где ты сейчас? Из Осако в уборщицу, из уборщицы в незнакомого прохожего на улице. Вот только он не был незнакомцем, потому что это было спланировано. Нечто организованное самой Янус, а незнакомцем был… мсье Петрэн, который жил в доме номер 49, и у меня оставался только один вопрос, ответ на который мог помочь сразу разгадать этот ребус.
– Этот мсье Петрэн… Как вам показалось?.. У него соблазнительная попка?
Глава 61
Я вспомнила Уилла, своего помощника или мальчика на побегушках времен Мэрилин Монро, Аурангзеб и шампанского. Его тело я носила недолго, поскольку мы заключили с ним договор, и когда срок контракта закончился, я пожала ему руку, и он не боялся моего нового прикосновения. Я сказала:
– Удачи тебе, Уилл.
Он улыбнулся, сжал мою ладонь и ответил:
– Тебе тоже. Тебе тоже большой удачи.
Спустя тридцать два года я сидела в ресторанчике рядом с Коламбус-авеню в облике Мелиссы Белвин, когда туда зашел мужчина. Он был крупным, но не толстым, грузным, но одновременно легким в движениях. Он заказал крепкий черный кофе, датское пирожное и экземпляр «Нью-Йорк пост».
Я наблюдала, как мужчина быстро просмотрел полосы газеты с политическими скандалами, разоблачениями случаев коррупции, репортажами из стран с диктаторскими режимами, экономическими новостями, быстро добравшись до последних страниц. Вот спортивный раздел он принялся изучать всерьез, вчитываясь в каждую строчку, как в некий священный для него текст.
Через некоторое время я подошла к нему и села на высокий стул у стойки бара рядом с ним. Он едва оторвал взгляд от газеты, бегло глянул на меня, не ощутил никакой угрозы и вернулся к чтению. Другой бы на его месте всмотрелся повнимательнее, потому что в ярко-желтом платье, со светлыми локонами, я была красива по всем принятым в те времена стандартам.
– Как дела у «Доджерс»? – спросила я.
Он снова прервался, кинул на меня еще один взгляд, но и теперь не оценил моей внешности.
– Неплохо. Но могли быть и лучше.
– Тяжелый сезон выдался?
– У «Доджерс» не бывает легких сезонов. Тем приятнее ощущения, когда они побеждают.
На этом разговор полагалось закончить, но я спросила:
– А как ты сам, Уильям?
Только теперь он сфокусировал взгляд, пытаясь как следует разглядеть лицо, которое минуту назад посчитал совершенно неинтересным.
– Я не Уильям. Вы, должно быть, обознались.
– Тогда кто же ты теперь?
– Думаю, вы приняли меня за…
– Как у тебя с памятью?
Молчание, но теперь, хотя тело его оставалось неподвижным, глаза ожили, оглядывая меня сверху донизу.
– Господи Иисусе! – выдохнул он. – Боже милосердный! Вы только посмотрите на нее! Кто ты, черт возьми, теперь такая?
– Меня зовут Мелисса.
– И как ты поживаешь, Мелисса?
– Спасибо, неплохо. Продолжаю путешествовать. А сам?
– У меня все хорошо. Очень хорошо! Дьявольски хорошо! А ты все еще агент? И ты здесь… – Он внезапно отшатнулся. – По работе?
– Я больше не занимаюсь этим бизнесом.
– В самом деле?
– Да.
– Что-то стряслось?
– Стало… стало трудновато вести дела. Так что я просто незнакомка. На какое-то время.
Он пялился на меня, а его губы пытались произнести некое подобие слов, которые были у него на уме, но никак не произносились. Не найдя ничего умнее, он просто воскликнул:
– Вот ведь мать твою, а? Не хочешь выпить за встречу?
* * *
Он постарел, достигнув возраста истинной зрелости. Жизнь его протекала, как ему казалось, медленнее, чем на самом деле летели годы. В баре неподалеку от Бродвея он поведал мне о существовании, которое вел Гарольд Пик – это было новое имя для заново родившегося человека.
– И я всерьез занялся спортом. Ну, ты понимаешь, не сам занялся, а вложил в него деньги. Как инвестор. И теперь у меня хороший дом в Нью-Джерси – тебе надо бы взглянуть на него. У меня есть партнер. Тебе надо бы познакомиться с моим партнером. Он отличный малый. Просто отличный! У меня есть сад, а по воскресеньям я сам подстригаю траву на лужайке, можешь в это поверить? Я подстригаю траву! Боже правый. Если вспомнить, каким ты меня подобрала, и сравнить с тем, кем я стал сейчас… Это просто невероятно!
– Звучит впечатляюще, – сказала я. – Похоже, жизнь у тебя сложилась хорошо.
Он внезапно замолчал, как человек, испугавшийся, что наговорил лишнего.
– Значит, ты – Мелисса, – промямлил он затем. – Ты наверняка при делах. Должно быть, немало успела повидать. Расскажи, где была, кем была?
– Рассказывать особенно не о чем. Я вела размеренный образ жизни.
– Да ладно, брось заливать! Ты же… Ну, сама понимаешь… Ты не можешь жить иначе, нежели как… Сама знаешь, что я имею в виду!
– Нет, все верно. Я жила очень спокойно.
– Ты должна поехать ко мне в гости. Познакомиться с Джо!
– Это было бы… замечательно.
– Где ты сейчас живешь?
– В отеле на Коламбус у перекрестка с 84-й улицей.
– Отличное место. Но, держу пари, лужайку ты не подстригаешь!
– Ты угадал. Лужайку я не подстригаю.
– Тогда приезжай к ужину! Как насчет воскресенья? Воскресенье тебе подойдет, точно? То есть ты же не собираешься срочно уехать из города?
– Воскресенье подойдет идеально. Диктуй адрес.
Дом в Нью-Джерси оказался настоящим особняком, возрождением колониального стиля в белых тонах. Партнер Джо блистал ослепительными зубами и был загорелым до невозможности. Пища с гарниром из гуакамоле показалась мне вкусной. Лужайка выглядела только что аккуратно подстриженной.
– Как вы познакомились? – спросил меня Джо, приветствуя поцелуями в обе щеки.
– В Лос-Анджелесе, – объяснил Уилл. – Мелисса работала ассистенткой на «Парамаунт».
– Это чудесно, просто чудесно! И вы все еще работаете в кино, Мелисса? Похоже, вы знали моего милого мальчика в более бурный период его жизни, не так ли? А выглядите очень молодо. В чем ваш секрет?
– Кремы, – ответила я. – У меня кремы собственного изготовления.
В доме почти не оставалось места для новых фотографий. Даже в туалете гордо висел в рамке портрет счастливой обнимающейся парочки. Полки ломились от сувениров. Гипсовая модель Эйфелевой башни меняла цвет в зависимости от температуры. Памятная кружка из Санта-Моники, плюшевая акула, выигранная на ярмарке в Вермонте, шляпа, которую Джо вернул Уиллу при первом знакомстве, когда порыв ветра сдул ее с головы прямо в руки тому, кому предстояло стать его возлюбленным. Пейзаж Род-Айленда, который они купили вместе, чтобы сделать украшением голых в то время стен их первой общей квартиры. Они показали мне каждый предмет, сообщив его историю.
– Все это прекрасно, – сказала я. – Как же вы, должно быть, счастливы.
– Да! – ответил Джо. – Но поначалу нам пришлось очень трудно. Невероятно трудно!
В 17.45 Джо вывел из гаража массивный джип, чтобы отправиться в церковь, а я осталась пить портвейн с сыром, расположившись вместе с Уиллом в садике на заднем дворе.
– Ты сумел создать для себя здесь великолепную жизнь, – сказала я под шелест листвы буков и крики ребенка, доносившиеся от соседнего дома. – Тебе есть чем гордиться.
– Гордиться? Да, наверное. Я просто делал то, что положено. Нашел работу, купил дом, заполучил мужа. Я вовремя навещаю дантиста, мою полы, сажаю растения в саду, устраиваю ужины для друзей. Да, я горд этим. Я – воплощение американской мечты. И я обязан этим тебе. Но все же… У меня уже нет уверенности, что осуществление американской мечты может быть предметом особой гордости. Ты видишь парней, которые возвращаются из Вьетнама. Переживаешь Уотергейт. Знаешь, что на тебя направлены русские ракеты, а наши нацелены на них. И ты думаешь… Да, моя жизнь – почти совершенство. Но сам я представляю себе совершенство совсем не так. Кто-то сказал мне, чем я должен гордиться, и я подчинился. Я горжусь. Только вот… Не уверен, что гордость эта моя.
– А чего бы ты хотел?
– Что за вопросы ты задаешь? – зарычал он. – Что за вопросы, мать твою! Какого дьявола мне знать, чего бы я хотел, если я ничем другим не занимался? Да, я попрошайничал. Я стоял на коленях как последний козел и просил подаяния. А потому хотя бы знаю, что не желаю возвращаться к этому. Я понимаю, что сейчас моя жизнь намного лучше. Настолько лучше, что порой кажется, словно не я сам ее проживаю, а кто-то другой. Я знаю: у меня все чудесно, если все твердят мне об этом. Но мне-то самому как себя убедить? Откуда мне знать, что мое занятие лучше, чем профессия хирурга, у которого руки в свежей крови? Или солдата, или политика, актера, учителя, проповедника? Как мне убедиться, что мое славное существование не сплошной гнусный самообман? Ложь, в которую я верю, как и все, чтобы оправдать никчемность и пустоту? А жизни просто не хватит, чтобы убедиться, что другой счастливее тебя. Надо все потерять и начать сначала. Только так можно узнать правду. В прежние времена наши отцы мечтали о свободе и процветании для всего человечества, о построении совершенного общества, но потом как-то незаметно эти мечты выродились в стремление иметь более модную машину и более красивый дом. И наши соседи пекут чертовы пироги с яблоками, дерьмовые яблочные пироги! Мы дружно попались на эту удочку. Вся эта проклятая страна. И мы гордимся, как ровно подстрижены наши лужайки. Гордимся, что в наших домах тепло зимой и прохладно летом, что… Пошло все к чертовой матери! – Он с такой силой поставил свой стакан на стол, что портвейн кровавыми пятнами расплескался вокруг. – Мы счастливы только потому, что на самом деле боимся до усрачки и безнадежно ленивы, потому что даже не думаем попробовать, как может быть иначе.
Последовало молчание. Ребенок, еще недавно шумно игравший в соседнем дворе, и тот вдруг умолк. Уилл по одному разжал пальцы, сжимавшие стакан, а потом повернулся ко мне всем телом, словно хотел вложить в движение особый смысл.
– Могу я тебя кое о чем спросить? Могу я спросить… Только отвечай правду. Что ты думаешь обо всем этом? – Он широким жестом обвел дом и сад. – Тебе нравится? Тебе, которая успела побывать кем угодно, кем тебе хотелось. Ты должна понимать такие вещи. Нам действительно есть чем гордиться?
Я не ответила.
– Давай говори, как бишь тебя там теперь зовут! Говори!
Я тоже отставила стакан в сторону.
– Да, – сказала я после паузы. – У вас здесь на самом деле очень хорошо.
– Очень хорошо? А ты сама могла бы запросто стать миллиардершей! Президентом США, не волнуясь за результаты выборов! По сравнению с этим разве у нас все так уж прекрасно?
– Да. Не только прекрасно, но и достойно… зависти. Дело ведь не в вещах. Вещи может купить любой. Ваш дом полон историй. Здесь во всем заключена маленькая история. И для вас важнее всего сохранить их.
– Этого, ты считаешь, достаточно?
– Да. – Но меня вдруг передернуло, когда я произносила это короткое слово. – Джо? Ты в самом деле любишь его?
– Конечно, я люблю его, черт меня побери! – Он сказал это так, что я не могла не поверить боли в его глазах, как и страху в его голосе. – Я очень люблю его. Но откуда мне знать, люблю ли на самом деле? Где мне взять уверенность, что именно это и есть любовь? Мне не с чем сравнить свое чувство, не с чем соразмерить. Что такое любить по-настоящему? Где предел? Ты живешь иначе, ты живешь по-разному. Тебе известен такой предел?
– Не известен. Предела нет и быть не может. Не важно, кто ты такой, всегда есть нечто еще, чем можно обладать, что-то, чем бы ты владел, если бы стал кем-то другим.
– Так сделай меня подобным себе, – слова вырвались у него так быстро, что я едва успела их расслышать. Но он повторил фразу, плотно сжав ладони коленями: – Сделай меня такой, как ты сама.
– Нет.
– Почему?
– Я не знаю как.
– Да ладно врать-то…
– В самом деле. Не знаю.
– Брось! – прошипел он. – Сделай это, умоляю. Я снова прошу подаяния. Я старею, дряхлею. Я застыл на одном месте и знаю, будь оно все трижды неладно, что здесь и подохну, дожив остаток дней. Сделай меня подобным себе.
– Нет.
– Мелисса…
Я резко встала из-за стола, и он тоже поднялся.
– Нет. Твоя жизнь прекрасна. Она чиста и исполнена тепла, скучна, но красива. Ты создал нечто из ничего, а теперь хочешь все разрушить. Но смысл в другом – ты разрушишь сам себя. Ты станешь, как я, но при этом потеряешь не вещи, ты потеряешь свою личность. Ты лишишься всех черт, которые определяют, кто ты такой, от родинки под мышкой до друзей, которые забирают тебя из бара, когда ты слишком пьян, чтобы самому вести машину. Ты потеряешь свои воспоминания, все истории, какие запали тебе в душу, привычную одежду, людей, любимых тобой. Ничего этого у тебя не останется. Они станут принадлежать кому-то другому. Превратятся в чужие истории. А ты будешь выступать… Всего лишь в роли зрителя, наблюдателя жизни, которой сам ты уже жить не сможешь. Поэтому я не помогу тебе. Я не могу и не хочу этого делать.
Я сделала движение, чтобы куда-нибудь уйти – сама не уверенная, куда именно. Возможно, в ванную комнату, возможно, к входной двери, но Уилл рванулся вперед, ухватив меня за руку:
– Мелисса…
Я прыгнула. Это была инстинктивная паника, сотрясение всего тела. Я прыгнула, и теперь передо мной стояла женщина, беспомощно моргавшая, растерянная, сбитая с толку. Пробормотав проклятие, я взялась за ее руку и переключилась обратно, пока она не начала кричать. В эту секунду неуверенности Уилл отпустил меня, и я смогла повернуться и уйти. Стуча каблуками по выложенной плиткой садовой дорожке, я направилась к выходу.
Уже на улице он снова догнал меня.
– Мелисса! – Он встал сзади – такой жалкий, сгорбленный, с поникшими плечами.
– Я не могу ничем тебе помочь. Мне не известно, как это сделать.
– Пожалуйста, – прошептал он, и слезы выступили у него в уголках глаз. – Пожалуйста!
– Все люди хотят стать кем-то другим. И это заставляет многих совершать в своей жизни великие дела. Но в той жизни, которая принадлежит им самим.
Я пошла прочь, а он поплелся сзади, но сделал всего несколько шагов.
– А как же ты? – спросил он. – Что великого делаешь ты?
– Ничего, – ответила я. – Ровным счетом ничего. – И я оставила его стоять на дорожке, а мой шаг постепенно превратился в бег. Говорю же, я отлично умею убегать.
Глава 62
Париж. Мсье Петрэн, юрист днем, обольстительный Адонис с изящной попкой по вечерам. Стоило мне увидеть его на противоположной стороне улицы, как я поняла, что он именно тот, на кого клюнула бы Янус. Под хлопковой рубашкой было полное энергии тело, готовое действовать. Мышцы рук чуть не разрывали рукава своей плотной массой. У него был квадратный подбородок, но при этом сентиментальный взгляд. И в целом он являл собой воплощение клише, имя которому «тщеславие», что всегда так привлекало Янус, сколько я ее помнила. И, конечно же, он был не один.
Призраки обожают компании и в новом привлекательном теле без труда покупают себе друзей, которых простым смертным приходится привлекать к себе чем-то другим.
Сегодня Янус покупала себе приятелей отборным вином из долины Роны. Его, бутылку за бутылкой, подавал молчаливый официант, обслуживавший их столик на четверых. Группа сидела у дальней стены бистро, которое специализировалось на блюдах из утки, но особенно славилось фруктовым салатом, выложенным на слое засахаренных слив, собранных вручную на Сицилии. Причем цены были такими высокими, что даже не указывались в меню. А если вы спрашивали о них вообще, то это значило: ужин здесь едва ли вам по карману.
Пока над Парижем опускался закат, я играла роль исполненной достоинства дамы в старомодном пенсне на кончике носа. В сумочке лежал самый современный мобильный телефон. Мои пальцы сплошь унизывали кольца с огромными бриллиантами, а ела я устриц, политых лимонным соусом с чесноком и грибами, наблюдая, как Янус царствует за своим столом – красивый и богатый мужчина, которому нравится быть в центре всеобщего внимания. И наблюдала за ним далеко не я одна.
Пусть Париж и считается центром самой современной и экстравагантной моды, костюм химической защиты даже здесь показался бы не совсем уместным. А потому агенты «Водолея» оделись в нечто чуть более подходящее к обстановке – рубашки с длинными рукавами, брюки, перчатки, водолазки с высокими воротниками, шляпы, натянутые плотно и низко. А под всем этим тут и там предательски выглядывали комбинезоны из лайкры, надетые вместо нижнего белья. В результате создавалось впечатление, что собрались эскимосы, подготовившиеся к суровой зиме. Зато открытое пространство кожного покрова сводилось к полоскам между бровями и опущенными подбородками. Зимой это еще могло бы не слишком бросаться в глаза. Но как они ощущали себя в подобных нарядах летом, оставалось только гадать.
Двое из их команды (вероятно, более сообразительные, чем другие) уселись за столиком в нише у витрины. Они поглощали закуску (наверняка дорогую) из горячего козьего сыра, жареных орешков и плававших в масле креветок. Лишь у одного из-под рукава выглядывала полоска комбинезона, хотя под одеждой угадывалась кобура с пистолетом.
Янус, естественно, ничего вокруг себя не замечала. К чему оглядываться по сторонам, если ни о чем не подозреваешь? Взрыв смеха за столиком Янус означал, что только что был рассказан особенно пикантный анекдот, а только что принесенная бутылка бургундского своим вкусом и ценой только усилила веселье, облегчила понимание юмора. Я положила на стол двадцать евро, взяла свою трость, сумочку и медленно пошла по залу ресторана. Какое-то время тому назад это тело перенесло операцию на правом бедре, а потому теперь вес позвоночника создавал постоянное болевое ощущение и причинял дискомфорт.
За дверью ресторана я сразу заметила синий микроавтобус, припаркованный у противоположной стороны улицы в неположенном для стоянки месте. Потом увидела еще одного типа в рубашке с длинными рукавами и в низко надвинутой на лоб шляпе, который курил третью сигарету подряд, прислонившись к фонарному столбу. Последними я разглядела двоих мужчин, пристроившихся за каменной балюстрадой на крыше соседнего дома, тоже закутанных как в мороз. Их темные силуэты были хорошо различимы на фоне закатного неба.
Я прошла, прихрамывая, еще несколько ярдов, прежде чем натолкнулась на проходившего мимо бизнесмена с портфелем, тронула его за руку и прыгнула, но тут же повернулась, чтобы подхватить стоявшую рядом пожилую матрону, которую заметно качнуло, не дав ей упасть, и пробормотала:
– С вами все в порядке, мадам?
Кто после этого скажет, что в мире не осталось истинно галантных мужчин?
В гораздо более удобном теле я дважды обошла квартал, оба раза проверяя, как идут дела у Янус в бистро, а потом нашла именно того, кто был мне сейчас очень нужен. Женщину из дорожной полиции лет тридцати, выглядевшую уроженкой Камбоджи или Лаоса, с навеки угрюмо опущенными уголками рта.
Теперь я Дорис Тью, офицер, следящий за правилами парковки автомобилей. У меня слегка вывихнуто правое плечо, и мне не помешали бы очки, но оперативно найти другого дорожного полицейского даже в Париже не так-то легко. Пришлось довольствоваться тем, что попалось.
Прищурившись, чтобы сфокусировать зрение, я снова дошла до ресторана, где Янус как раз заказала для всех крем-брюле, запустив руку под юбку соседки по столу.
Перейдя улицу, я подошла к синему микроавтобусу с тонированными стеклами и выключенными габаритными огнями и постучала в окно.
Быть может, мне показалось, но изнутри до меня донеслось нечто похожее на грязное ругательство. Стекло опустилось. Из глубокой тени на меня посмотрело чье-то лицо. Волосы на голове стояли торчком, потому что срочно пришлось снимать вязаную маску с прорезями для глаз. Длинные перчатки, подоткнутые под рукава, брюки, заправленные в носки, пистолет, оставшийся в кармане пиджака – прятать его не было времени. Да, он, несомненно, был из «Водолея». Он мог владеть всеми боевыми искусствами, но вот парковать машину правильно не научился.
– Здесь стоять запрещено, – выпалила я резко и быстро по-французски. – Даже останавливаться. С понедельника по пятницу с шести до десяти вечера!
– У нас срочная доставка груза, – сказал он, а кресло у него за спиной лишь чуть скрипнуло, потому что притаившийся там убийца старался даже не дышать.
– Остановка запрещена, – еще резче повторила я. – Мне придется выписать штраф. Ваши права, пожалуйста!
У него отвисла челюсть. Но я была Дорис Тью, непреклонная при исполнении обязанностей. Хотя меня так и распирало от смеха.
– Права! – потребовала я, просовывая руку ему чуть ли не под нос.
И что оставалось делать несчастному агенту под прикрытием? Застрелить назойливую бабу из дорожной полиции средь бела дня? Он протянул мне свои права.
Я достала из кармана шариковую ручку и записала откровенно фальшивые данные документа в специальный блокнот Дорис Тью, держа его так, чтобы не дать заметить вопиющую разницу в почерках – моего и того, которым были сделаны более ранние заметки.
– Сто двадцать евро, – пролаяла я, протягивая ему квитанцию. – Восемьдесят, если уплатите в течение двух недель.
– А могу я заплатить прямо на месте?
Но ведь я – живое воплощение бюрократии, стоящей на страже интересов законопослушных парижан.
– Нет! И вам придется уехать отсюда!
– Но вы же меня уже оштрафовали!
– Уезжайте! – Я уже почти кричала на него. – Или я вызову обычную полицию.
Я отстаиваю правила парковки. И гнев мой страшен. Он уехал.
Микроавтобус убрался от края тротуара, а я вразвалочку пошла дальше. За углом я нырнула в ближайший открытый магазин и схватила за руку первого попавшегося человека. Я обнаружила, что мое лицо теперь все в прыщах, а особенно болезненный торчит над левой бровью, но выбирать уже не приходилось – каждая секунда была дорога, и я вернулась туда, откуда явилась.
Я вошла в ресторан, где всего несколько минут назад солидная пожилая дама в бриллиантах поедала устриц под аппетитным соусом, направилась к столику Янус и воскликнула:
– Мсье Петрэн! Морган умер!
Янус, державший ногу соседки тесно прижатой к своему бедру, вскинул взгляд, в котором недоумение боролось с раздражением, но потом профессионализм призрака окончательно проснулся в нем.
– Морган? Какой ужас!
Призраки лгут. Только так мы порой можем спасти друг друга.
– Меня послали, чтобы вызвать вас как можно скорее!
– Да, понимаю, – пробормотал Петрэн, проведя пальцем по краю пачки купюр в пятьдесят евро каждая. – Ясное дело, что они вас послали.
– Морган? – переспросила женщина, все еще жарко прижимавшаяся к нему. – Кто такой Морган?
– Мой добрый друг Морган, – ответил он – теперь уже быстро и без раздумий. – Как это случилось? – обратился он ко мне, все еще мусоля пальцами деньги.
– Легкие подвели, – ответила я. – Помните, доктора предсказывали, что Моргану не дожить до пятидесяти? Вы можете прийти?
Только теперь, находясь не в самом ясном состоянии ума, Янус все поняла.
– Разумеется, – ответил Петрэн. – Конечно же! Позвольте мне только расплатиться, и я последую за вами.
Три минуты спустя, когда мы быстро шли по узкой парижской улочке, Янус спросила:
– Кто ты такой?
– Ты многих призраков успела познакомить с Морганом?
– Тогда что ты здесь делаешь? – прошипела она.
– Нам нужно где-то замешаться в толпу. Переключиться. Нам обеим.
– Зачем? Я ведь только что переместилась…
– За тобой следят. Организация под названием «Водолей» идет за тобой по пятам. Они провели цепочку от мадам Осако через уборщицу до Петрэна. Я сделала то же самое. И пока выиграла для нас всего несколько минут, не более того.
Ухмылка в уголке рта:
– С чего вдруг такая забота?
– Они уже убили Гекубу, Куаньин и других. Меня они зовут Кеплер. У них на тебя толстенное досье. Их досье на меня – сплошная ложь, а их дело на Галилео – фальшивка.
– Кто такой Галилео?
– Майами. Это Галилео убивал нас. Идем же, нам нужно скрыться в толпе.
Глава 63
Я вспоминаю Майами. Ноябрь 2001 года. Досье Галилео за тот период описывает его как красивую женщину с каштановыми волосами, которая не нуждалась в каблуках, чтобы быть высокой, как и в губной помаде, чтобы соблазнять. Кем она была, где она была – этого я не знала, но она оставалась, по сути, одним и тем же существом, где бы ни находилась.
Стояла не по сезону прохладная погода. Я даже стала надевать легкие льняные пиджачки перед выходом на улицу, а на пляже отдыхающие замерзали настолько, что снисходили до разговоров друг с другом, а не лежали, по обыкновению, пластом, молча поглощая жаркие солнечные лучи и тепло, исходившее от песка Флориды.
Я была Карлой Эрнандес, окружным прокурором, и взяла на себя эту миссию в основном ради квартиры. С четырнадцатого этажа жилой башни в Майами мне открывался панорамный вид на весь город. Зеленый всполох Олеты справа, пляж всего в пятнадцати минутах ходьбы. А еще меня радовало отделанное черным мрамором джакузи в ванной комнате. За все это платили те самые криминальные группировки, против которых я вроде как должна была бороться.
Внезапно передача почти всех моих сбережений благотворительным организациям, поддерживавшим семьи жертв преступников, несказанно поразила моего (насквозь коррумпированного и потому уволенного) бухгалтера, а мне принесла поток приглашений на ужины от людей, откровенно желавших поживиться за счет нахлынувшей на меня страсти к филантропии. Деньги покупают друзей порой даже в самых порядочных слоях общества.
Я постепенно привыкала к новому телу и создавала себе несколько другой образ жизни – рассталась с несколькими бывшими подругами Эрнандес, сменила номер телефона, порой стала выпивать с незнакомцами в барах, бегала трусцой вдоль пляжа, делала мелкие подарки консьержу. Словом, уже почти обжилась, когда вдруг услышала голос:
– Я просто в восторге от того, в кого ты теперь внедрилась.
Это могла быть только Янус. Никто другой не очищал зубы до такой невероятной белизны. Никто другой не осмелился бы приклеить настолько длинные накладные лакированные ногти, надеть платье с ужасающе глубоким декольте и нацепить туфли на высоченных каблуках при столь изящных и стройных ножках.
Никто другой не узнал бы, что я на самом деле вовсе не Карла Эрнандес.
– Милочка! – воскликнула она, обвивая меня рукой за талию. – Я провела в Майами девять месяцев и знаю, что Карла Эрнандес та еще продажная сволочь. Она просто королева сучек. Она не лает и не кусается, а звонко и заразительно смеется, но от этого не перестает быть сучкой. А ты… – она легко прикоснулась бокалом к моему плечу, – ты определенно не Карла Эрнандес. Как поживаешь, дорогая? Как идут дела?
– Неплохо, – ответила я. – Мисс…
– Меня зовут Амброзия Джейн. И если мне доведется когда-нибудь встретить моих родителей, поубиваю их за такое имечко…
– А что с Майклом? С Майклом Морганом?
Лицо Янус вдруг все засветилось, и нежнее, чем я когда-либо ее слышала говорившей о ком-то, она прошептала:
– Просто пришло время двигаться дальше. – Но затем в ее глазах вновь заиграла знакомая улыбка, теперь уже слишком яркая для подлинной искренности. – Я слышала, ты бросила работу?
– Ты имеешь в виду работу окружного прокурора?
– Я имею в виду «агента по недвижимости». Очень жаль. Ты отлично с этим справлялась.
– Пришло время двигаться дальше.
Она рассмеялась, но нервно и фальшиво.
– Надеюсь, ты находишь чем заняться и отойдя от дел.
– Я… Да. Нахожу. Пробую несколько вариантов сразу.
Ее тонкие выщипанные брови озабоченно взлетели вверх.
– С тобой все в порядке, дорогая? – спросила она. – С тобой… Ты не пережила ничего дурного?
– Нет, все было хорошо. А у тебя?
– Тоже прекрасно.
– Видишь? Мы обе неплохо устроились.
Молчание. Она пристально всматривалась в мое лицо. Я отвернулась. Ее рука плотнее сжала изгиб моего локтя. Две женщины стояли очень близко друг к другу в комнате, заполненной незнакомыми им людьми. И сами более чужие, чем это можно себе представить.
– Знаешь, – пробормотала она, – последние тридцать лет я ухаживала за своим телом. Занималась физическими упражнениями, ела с разбором, играла в гольф. Представляешь? Я – и гольф! Отказаться от всего этого, от любых усилий… Сначала это было невыносимо тяжело. Но зато сейчас мне уже не надо заботиться о своей фигуре. Еще шампанского?
– Да, спасибо.
– Тогда никуда отсюда не уходи, – велела она.
Я стою на балконе с видом на Майами. Машины движутся по улице бампер в бампер, множество белых огней направлены в одну сторону, с другой стороны они красные, как злые муравьи, застрявшие в очереди к норке подземного муравейника.
Я смотрю вниз. Выбираю тело. Любое тело. Я «агент по движимой недвижимости» и всегда подбирала себе тела особенно тщательно. Красивые, богатые, добившиеся успеха, любимые. Я забираю их жизнь и делаю ее своей. Вношу в нее больше любви, убираю все фальшивое, наносное. Смотрю сквозь стены и вижу семь миллионов жизней, проживаемых так, словно их истории, их воспоминания и есть определяющие точки во Вселенной. Впрочем, отчасти так оно и есть.
Я стою на балконе пятнадцатого этажа во время вечеринки, устроенной какой-то благотворительной организацией, названия которой даже не помню. Знаю только, что они ужасно, ужасно благодарны мне за то, что я перевела почти все отложенные Карлой деньги на их счет. А в Майами вовсе не холодно. Здесь не бывает холодно даже в ноябре, и ощущаешь прохладу, только когда входишь с улицы под арктические волны кондиционированного воздуха. Но меня пробирает озноб.
Рядом со мной Янус. Она очень красива, очень молода, очень стара, беззаботна и свободна.
– Еще шампанского? – спрашивает она.
Я не отказываюсь.
Несколько часов спустя, когда взошедшее солнце сквозь шторы прочертило полосами потолок моей спальни, Янус повернулась рядом со мной в постели и сказала:
– Рак.
– Что?
– У меня… то есть у Моргана… то есть у меня развился рак легких.
– Мне… искренне жаль слышать это.
– Это медленный процесс, хотя опухоль крупная. И она не дает… пока не дала метастазы. Левое легкое. У меня тогда была превосходная медицинская страховка. Думаю, он выживет.
– Ты создала настоящую семью.
Я могла сформулировать это как вопрос, но не видела смысла. Ответ все равно оказался бы таким же: простым и очевидным.
– Да, жена, двое детей. Эльза и Эмбер. Обе уже взрослые. Я слишком поторопилась. Мы обе всегда торопимся – ты и я. Меня лечили химиотерапией, делали облучение, медикаментами, а потом была пересадка легкого. Я добровольно прошла сквозь облучение, и это оказалось… терпимо. Моя жена Пола каждый раз ездила вместе со мной. Она вела себя очень храбро. Продолжала жить, словно ничего не случилось. А это именно то, что нужно, если… если у тебя появляется такое… И когда из больницы позвонили, она тоже была рядом. Потом у меня стали выпадать волосы, появилась тошнота, спазмы в желудке, судороги в ногах. Из десен сочилась кровь, глаза болели. Мне было все время жарко, кружилась голова, и это никак не проходило. Боль, которую я испытала… Ты не поверишь, но в теле Моргана я продолжала регулярно посещать дантиста. Вот только тошнота. И чувство, что ты заперта в умирающем человеке и помочь ничем нельзя. Твое тело отравляет тебя изнутри, выворачивает тебя наизнанку. Это было… А Пола держала меня за руку и… Я даже не собиралась ничего делать. Все произошло так быстро. Я – Морган, а через секунду он уже лежит в постели рядом со мной, и у него выпадают брови. Он кричал, вопил в голос: «Кто вы такая? Кто вы такая? Что происходит?» И так громко, что в спальню вбежала Эльза. Она прибежала к папочке. Помочь мне справиться, а я… даже не знаю. Я ведь не собиралась переключаться. Я все испортила. Когда Эльза вошла и увидела меня – увидела Моргана, – а он даже не узнал ее. Лицо ее было для него совершенно незнакомым. Все кончилось. Одна секунда, одно лишь мгновение, крошечный миг и…
Она осеклась и отвернулась от меня. Я ждала.
– Моя жена, Пола. Она меня обманывала. У нее был жестокий артрит, пальцы скрючивало от боли. А она говорила: «Все прекрасно, не о чем волноваться, вот тебе еще подушка под голову». Но я вошла в нее, и мои пальцы оказались… Каждое движение отдавалось болью вплоть до локтя, поднималось к челюсти, каждое движение, и так все время. Но она лгала мне, приносила еду и держала в полном неведении. Моя жена меня обманывала. – Янус рыдала, плакала молча, спрятав голову. Только плечи сотрясались.
Я, тоже безмолвно, обняла ее покрепче. Больше мне ничего не оставалось.
Когда солнце уже полностью взошло, я спросила:
– Знаешь, почему я бросила работу агента?
Она сидела на подоконнике и ела тост с медом, а я продолжала:
– Был случай в Эдинбурге. Сделка, которая закончилась скверно. Призрак, которого… Короче, я думала, что хорошо его знаю. До тебя доходят слухи, но ты ни в чем не уверена, пока это не случится именно с тобой. Я продала ее. Сообщила всю информацию о ней кое-каким людям.
– Что за люди?
– Те, кто убивает призраков.
– Почему?
Я немного подумала и пожала плечами:
– Наверное, потому, что посчитала: таким, как она, не стоит жить дальше.
Янус только рассмеялась.
Через двенадцать часов Янус исчезла, а Амброзия Джейн оказалась в реанимации. Врачи обследовали ее на сотрясение мозга, на вероятность изнасилования, на психологический срыв. А как еще объяснить четыре месяца, словно пропавших бесследно? Она села в автобус в Тампе, а очнулась на южном пляже с шелковым платком на плечах.
Неделю спустя в мою квартиру, снятую на имя Карлы Эрнандес, пришло письмо. От него пахло лавандой. Подпись гласила: «Твоя попутчица и подруга».
В конверте лежало приглашение в «Фэйрвью руаяль» – плавучий ресторан с громкой музыкой и дешевым вином. «Пожалуйста, приезжай, если сможешь. Там обещают фейерверк».
…До тебя доходят слухи. Фрегат в 1899 году у берегов Гонконга. Крейсер в 1924-м, паром в 1957-м. «Милли Вра», «Александра», «Санта-Роза». Но ты не веришь, что подобное может случиться с тобой.
Точно так же, как красивый мужчина в парижском кафе не замечает людей в комбинезонах из лайкры, которые явились, чтобы расправиться с ним. Они были там все время, но он и мысли не допускал, что они пришли за ним.
Я отправилась в порт Майами, чтобы выпить на борту «Фэйрвью руаяль». Когда судно отчалило от пирса и вышло в море, я стала искать Янус, но она нашла меня сама.
Она предстала молодой чернокожей женщиной с мягкими, округлыми чертами лица и обритой головой.
– Карла? – удивленно спросила она. – Каким ветром тебя сюда занесло?
– Я получила приглашение. Подумала, оно от тебя.
– Но я тебе ничего не посылала.
Вот он – этот момент. Секунда озарения, когда в тебя зубами впивается страх. В это мгновение паранойя поднимает голову и шепчет: «Бойся меня. Я ведь с самого начала была права». Ты идешь назад или вперед; выбор здесь крайне важен.
– Нам надо убираться с этой посудины, – выдохнула я.
– Но, Карла…
– Нам надо убираться с этого корабля!
Янус больше не спорила.
Я – разудалый гуляка с пакетом таблеток в кармане и сильным запахом водки изо рта, официант, с мозолями на ногах и в брюках, которые жмут в промежности.
Я моряк в почти детском белом матросском костюмчике, стучащий в двери капитанского мостика и кричащий: «Срочное сообщение, сэр! Радиограмма, сэр!»
Я – капитан корабля, который разворачивает свое судно обратно в сторону берега как можно быстрее. Янус – мой старший помощник – стоит, сложив руки на груди, не сводя глаз с гулянки на палубе внизу.
– Это не может быть бомба, – говорит она, то есть он – молодой человек, у которого даже белые носки на пуговицах. – Бомба уже превратила бы нас всех в мертвецов.
– Быть может, они не хотят случайных жертв.
– Они?
– Да, они. Кто бы это ни был на сей раз.
Его взгляд пробегает по моему лицу, а потом возвращается на танцульки внизу.
– Тебе уже приходилось с этим сталкиваться, – бормочет он.
– Да, была пара случаев.
– Быть может, это все же не ловушка?
– Ты сама-то в это веришь?
– Нет.
Я веду судно прямо к железобетонным причалам торговой части порта, к плоским железобетонным причалам, бортам контейнеровозов, высоко возвышающимся над водой тяжелыми монолитами.
– Когда пристанем, – шепчу я, – ничего не дожидайся. Просто беги.
– Могла бы мне этого и не говорить, милочка.
Я морщусь. Старпом не обращается к капитану интимным «милочка». Все не так. Даже слова не те, произнесенные не теми губами. И это отвратительно. В другое время, в другом месте я бы разразилась ругательствами. Но не сейчас.
Медленно, как величавого быка, осторожно, как стельную корову, я плавно подвожу судно к пирсу.
Янус не нужен канат. Дождавшись, когда корабль замедлил ход, она прыгает на берег. Я глушу двигатели и, когда мы ударяемся бортом о железобетон, тоже перемахиваю за борт, неуклюже приземляюсь на подвернувшуюся лодыжку, выпрямляюсь и бегу, направляясь в сторону земной тверди.
Янус уже добежала до забора из металлической сетки, окружавшего территорию порта, и в этот момент кто-то сзади, вероятно, какой-то сбитый с толку официант, заметив, как капитан и старший помощник бегут с корабля, кричит:
– Эй!
Я продолжала свой бег, не зная, где нахожусь, направляясь к уже видным отсюда огням города. Между мною и ими пролегала пустынная дорога с подъемными кранами по одну сторону и желтыми громадами контейнеров размером с дом каждый – по другую. Вдоль внешней протяженности забора были припаркованы машины. Видны приземистые постройки с грозными надписями: «ТАМОЖНЯ И СЛУЖБА ИММИГРАЦИИ – ПОДЧИНЕНИЕ ПЕРСОНАЛУ ОБЯЗАТЕЛЬНО!» Янус бежала впереди, между огромными ящиками, сквозь подсвеченную натриевыми лампами ночь к стальным воротам и пролегавшему за ними шоссе. И только тут до меня дошло, что на нас никто не обратил бы внимания. Мы были в полной безопасности, одетые в свои форменные мундиры, пока не бросились бежать.
– Янус! – окликнула я, слыша ее тяжелые шаги. – Янус!
Находившаяся всего в нескольких метрах от ворот, Янус обернулась на мой крик и упала.
Раздалось жужжание разозленной осы и звук попадания. Янус распласталась на асфальте с подогнутыми ногами. Крови я сначала не заметила, но, когда прижалась спиной к одному из ящиков и присмотрелась к телу, лежавшему в каких-то десяти футах от меня, увидела, как она начала растекаться. Сначала очень быстро, а потом вдруг совсем медленно по мере того, как лужа делалась все обширнее. Кровь хлестала из спины, из отверстия, оставленного пробившей легкое пулей, и до меня уже не в первый раз дошло, до чего же предсказуемы призраки. Выбирай цель и отстреливай по одному. Тот, кто стрелял в нас сейчас, знал наши привычки.
Я огляделась и увидела только темные коридоры проходов между нагромождениями ящиков, сетчатый забор и ворота с навесным замком. Янус лежала на совершенно открытом пространстве головой в мою сторону. Я видела, как шевелятся ее губы, на которых пузырилась и пенилась кровь. Она хотела что-то сказать. Я придвинулась чуть ближе, но по-прежнему не отрывала спины от ящика. И скоро оказалась всего в полутора футах от нее.
– Ка… ка… ка…
Звуки, которые могли быть началом имени.
Левая рука Янус была вытянута в мою сторону, а правая уже лежала неподвижно: жизнь медленно покидала тело. Воздух вырывался из отверстия между раздробленными ребрами. Я, вероятно, даже могла бы дотянуться до ее руки, не подставляясь сама, и втащить ее в укрытие. Лужа крови коснулась носка моего ботинка.
Я выгнулась, ухватила Янус за запястье и потянула изо всех сил, протащив ее по поверхности кровавого пятна. При этом ее торс начало непредсказуемо разворачивать.
Снова грянул выстрел, и Янус дернулась. Я видела, как расширились и округлились ее глаза. Когда пуля снова ударила ее в грудь, она резко выдохнула, капли крови забрызгали мне лицо, а Янус прыгнула. В единственное доступное ей сейчас тело.
Я вскрикнула, Янус тоже. Мы – две в одном – визжа, повалились назад, на ящик, я прижала руки к голове, а Янус подтянула колени к нашему, теперь общему, подбородку. И мы кричали, чтобы заглушить крик в ушах, кричали, чтобы утихомирить чувство, словно мозг разрывало на части, кричали, потому что наши кровеносные сосуды переплелись, оптические нервы спутались, глаза наполнились слезами, как расплавленным металлом, а нос залила не менее горячая кровь. Все тело дергалось и разрывало само себя. Я попыталась перекричать ее:
– Янус!
Но то, что лежало передо мной, было мертво, и кто-то другой шевелил теперь моим языком, а мои легкие не справлялись с дыханием двоих.
– Не могу… Убирайся… Помогите! Не могу остановиться… Не могу дышать!
Собрав все силы, я оттолкнулась от ящика, встав на четвереньки, а Янус между тем пыталась заставить нас подняться, поэтому одно колено оставалось согнутым, другое же норовило выпрямиться. И я крикнула:
– Стрелок! На кране… Должна двигаться… Тело! Добудь себе тело!
Но Янус как раз удалось поставить нас на ноги. Кровь струилась по моему лицу, хлеща из разорванных сосудов носа. Боль пронзила бок, когда какая-то часть моего организма попыталась исполнить свою функцию, но потерпела неудачу. И для мозга это стало окончательно нестерпимым. Каждая его клеточка, каждый нейрон – все готово было взорваться, когда Янус сделала шаг, затем второй. И я завопила:
– Не могу… дышать! Понимаешь? Не могу… дышать!
Мы снова повалились, когда я сделала попытку остановить движение ног, сосредоточившись только на том, как набрать в легкие воздуха. И мне удался этот единственный сознательный поступок: я вдохнула полной грудью, прежде чем Янус в слепой панике снова подняла нас в вертикальное положение и, чуть не падая, хромая, но тем не менее пытаясь бежать, повлекла подальше от своего уже остывавшего трупа.
Янус бежала, а я дышала за двоих, стараясь не пользоваться сейчас глазами, наполненными кровавыми слезами, как и ушами, где барабанные перепонки готовы были полопаться от бешеного стука. В стороне от крана мы заметили часть сетчатого забора, и Янус устремилась туда, но я успела прошипеть:
– Нет! – и заставила нас снова рухнуть на землю. – Нужно… бежать в другую сторону… Снайпер на кране… Ты умираешь… Я знаю… Но только старое тело умирает! Слушай меня! Должны… выбраться… Слушай меня! Нам не перелезть через ограду… Видела… дом позади? Ярдов сто отсюда… Иди туда… Вызови копов… Копов, понимаешь? Плоть с пистолетами! Беги!
Янус снова подняла нас на ноги, я позволила ей, сконцентрировав каждую причинявшую резкую боль мысль на дыхании, разрешила ей управлять остальным – руками, ногами, даже самой выбрать направление, когда мы с трудом перемещались в темноте. Домик таможни виднелся серым силуэтом на фоне серого асфальта, отчетливо заметный теперь между ящиками. И пусть по мере приближения к нему я то и дело ощущала новые приступы мучительной боли, когда очередной мускул, нерв, орган (не имело значения, что именно) переставал действовать.
– Беги, – прошептала я, когда мы сделали паузу, добравшись до края ряда ящиков. От сторожки таможни нас отделяли какие-то десять ярдов и снайпер, оставшийся где-то позади. – Беги же!
Янус побежала вместе со мной, наши ноги теперь буквально летели, преодолевая последние ярды. А между тем что-то выщербило кусок асфальта у нас за спиной, врезалось в стену чуть впереди. Но первая пуля ушла левее, а вторая – значительно правее цели. И Янус плечом врезалась в дверь домика, которая треснула и слетела с петель под тяжестью двойного веса. Мы повалились в царившую внутри темноту.
Несколько мгновений я лежала, чувствуя, как кровь заполняет мне рот, а Янус закричала, снова разрывая на части мой мозг, пытаясь шевелить моим языком. С большим трудом я ненадолго смогла открыть глаза, чтобы успеть заметить прикрепленный к стене бежевый телефонный аппарат, а потом на руках поползла к нему, чувствуя во всем теле свинцовую тяжесть, преодолевая чудовищное сопротивление, пока Янус не поняла наконец моего намерения и совместное движение не бросило нас вперед, к телефону.
9–1–1. Гудки в моих ушах сотрясали барабанные перепонки, а потом как будто покрывали все мое лицо пузырями, которые лопались где-то внутри щек, на уровне подбородка. А когда диспетчер ответила, меня пронзил новый приступ боли, и я едва не выронила трубку из окровавленной руки.
– Помогите! Умираю! Порт… Помогите мне! В меня стреляют… Помогите!
Пуля вдребезги разбила оконное стекло чуть выше аппарата. Янус с криком бросила трубку, а я заставила нас обеих упасть и лечь, свернувшись в клубок, на пол, обхватив голову руками. Я сжала пальцами череп, чтобы его не разнесло на части без помощи кусочка свинца, и, глядя на качавшуюся на проводе у меня перед носом брошенную телефонную трубку, проорала:
– Достань другое тело, мать твою!
Еще одна пуля вонзилась в стол позади меня, и я вдруг поняла, что последние выстрелы делали не из тихой снайперской винтовки с глушителем, а из обычного крупнокалиберного револьвера. Причем со все более короткой дистанции.
– Идет, – прохрипела я. – Он идет сюда… О боже… Нам нужно спрятаться… Но где? Уйти отсюда? Нет. Он рядом… Идет. Боже, боже, боже мой! Послушай… О господи… О боже… Послушай, нам надо…
Слишком поздно. Янус развернула наши тела и стала медленно подниматься на ноги.
– Нет, подожди, – зашептала я, но она уже вышла, пошатываясь, в пустой проем двери, и на мгновение я заметила чью-то тень, притаившуюся между контейнерами и едва заметную при скудном свете единственного фонаря. А потом девятимиллиметровая пуля, принявшая, видимо, обличье миниатюрного электрокара с вилкой для подъема ящиков, врезалась мне в левую ногу, отбросив меня назад – сначала к косяку двери, а дальше – в центр комнаты, откуда мы и начали свой последний поход.
Янус вопила и вопила, продолжала вопить, хотя мы уже снова оказались под прикрытием будки таможенников. Я в шоке с силой прижимала руку к уже холодеющей, разорванной в клочья коже на бедре, снова пытаясь восстановить дыхание, но Янус снова закричала и выпустила весь воздух из легких, что было, безусловно, гораздо легче. После этого я поняла: вот и все. Я умерла в будке таможни порта Майами. Убита незнакомцем. С посторонним телом внутри. И, если разобраться, отбросив все возможные вариации времени и места, умереть именно так мне было на роду написано. Это был неизбежный конец, предначертанный свыше.
Но затем в противоположной стене будки открылась дверь. Луч фонарика осветил мне лицо. Янус дернулась, и от ее движения рвотная масса подкатила к моему горлу. Фонарик приблизился, и позади него стала различима фигура портового охранника в фуражке и с револьвером на ремне. На его лице отчетливо читались испуг и тревога, когда он привстал рядом со мной на колено.
– Что, черт возьми, здесь…
Янус протянула руку быстрее, чем я. Она ухватила охранника за кисть и переключилась. Ее больше не было во мне.
Охранник повалился на задницу, как ребенок, который только учится ходить. Затем все вернулось под его полный контроль: его взгляд переместился с меня на открытый дверной проем, зиявший прямо перед нами, и он тут же схватился за револьвер, вынул его из-за ремня и, держа двумя руками, направил ствол в светящийся прямоугольник, через который в любой момент мог войти наш убийца. Я лежала под ним, тяжело дыша, и боль в моем раздробленном бедре только сейчас начала заявлять о себе в полную силу. Это была чисто физическая, практически непереносимая боль, хотя мозги у меня теперь почти прочистились и мне удалось смахнуть с глаз кровавые слезы.
Мы ждали, не отрывая взглядов от двери. Янус встала на колено, направив и ствол, и луч фонарика в проем.
Тишина, лишь кровь сочилась сквозь мои прижатые к ране пальцы.
– Где же он? – тихо прошептала Янус, обращаясь не ко мне, а к себе самой. – Где же?
– Здесь две двери, – с трудом выдавила я из себя, и Янус мгновенно развернулась туда, откуда появился охранник.
Трубка телефона перестала раскачиваться на проводе. Впрочем, и голос из нее больше не доносился.
– Полиция в пути, – сказала я. – Помоги мне.
Янус снова повернулась, водя стволом револьвера от одной двери к другой.
– Где он? – все еще шептала она. – Где же он?
– Помоги мне!
Она бросила на меня беглый взгляд, а потом снова отвела его.
– Извини, Карла. – Янус поднялась на ноги. – Чертовски жаль. – Ее руки с револьвером и фонариком вытянулись вперед, локти чуть согнулись. – Тебе придется меня простить. – Янус повернулась и выбежала наружу.
Я лежала в чьем-то теле в богом забытом сарае, но умирать мне уже не хотелось. На мне была красивая белая форма, на которой кровь выглядит особенно ярко. Нетрудно себе представить, подумала я, как гордился своим мундиром его владелец. Я, должно быть, тщательно гладил его, отпаривал складки на брюках, чтобы они смотрели куда надо. Возможно, я плавал на корабле, потому что был его капитаном.
Мне вспомнились старые добрые деньки, когда я легко могла завести в гавань огромный танкер, ходила под парусами по двадцатифутовым волнам Атлантики и переодевалась в Посейдона на праздниках для новичков, впервые пересекавших экватор или границу смены суток. А бывали редкие случаи, когда нам везло, все совпадало, и мы миновали обе эти линии сразу, чувствуя торжество людей, попавших в самый центр мира.
Все это происходило, когда я была моложе. Но кто знает? Быть может, я всю жизнь оставался капитаном туристической самоходной баржи, курсируя вдоль залива и обратно? Вдруг я соврал в своем послужном списке? Вдруг никто даже не вспомнит моего имени, каким бы оно ни было? Неужели я стала последним человеком, любившим тело, в котором мне предстояло умереть?
Я попыталась встать. Попытка оказалась неудачной. Тогда я решила ползком добраться до двери.
Это мой репертуар движений еще позволял. Я ползла, перекатываясь, извиваясь по-змеиному, подтягивая здоровую ногу, а потом подтаскивая за ней руками раненую. Мне показалось, что я услышала сирены, но потом решила – померещилось. Тело полицейского подошло бы мне идеально. К телу полицейского прилагался табельный пистолет.
Я доползла до той двери, через которую сбежала Янус, и выглянула через ее проем на залитую ярким светом стоянку для машин, где не за чем было укрыться, кроме старенького черного микроавтобуса и заполненного до краев серого мусорного контейнера.
Где-то в порту корабль подал басовитый сигнал, гордый и одинокий звук в ночи. Я переползла внутрь комнаты к по-прежнему свисавшей на проводе телефонной трубке. Диспетчер из полиции дала отбой, и на линии никого не было, лишь гудки попискивали, как обиженный ребенок. Я уперлась спиной в стену и приподнялась достаточно высоко, чтобы окровавленными пальцами дотянуться до верхнего ящика стола, вытащила его и уронила на пол рядом с собой. Владелец стола, будь он трижды проклят, хранил в ящике только аккуратную стопку бланков, визитные карточки и фотографию своих улыбавшихся жены и дочери. Ни тебе дырокола, ни ножниц, ни хотя бы обреза винтовки.
Содержимое следующего ящика оказалось более интересным: скрепки, самоклеящиеся бумажки для записок, карандаши, точилка и фаянсовая кружка с надписью черными буквами: «МЫ – ЛУЧШЕ ВСЕХ!» Я расколола кружку об пол и нашла среди осколков достаточно длинный и острый, чтобы резать, взяла его, спрятала руку под туловище, а потом легла на бок, подтянув колени к опущенной голове. Врачи называют это позой восстановления сил, хотя все, что мне удалось восстановить, – это теплое ощущение комфорта, какое испытывает дитя, свернувшись в объятиях матери, не зная никаких забот.
Если выживу на этот раз, решила я, обязательно снова стану ребенком, пусть всего на несколько часов, чтобы ощутить безграничную любовь, готовую простить тебе все.
Где-то очень далеко отчетливо завыла сирена. Ее звук был замедленным, тихим. В нем не слышалось ни малейшей тревоги, никакого эффекта Доплера, и я лишь сильнее сжала в руке свое керамическое оружие, напомнив себе, что осталась одна, как всегда, – ничего нового в подобной ситуации.
По бетону снаружи прозвучали шаги. Медленные, неторопливые. Вот они поднимаются по ступенькам – тональность изменилась на более гулкую и низкую. Теперь по ковру. Послышался звук дыхания. Руке, сжимавшей пистолет, не требовалось снимать его с предохранителя, поскольку это уже давно было сделано, а мне показалось, что я чувствую запахи металла и бездымного пороха.
Дыхание надо мной переместилось. Стало ближе. Шуршание джинсовой ткани совсем рядом. Мужчина присел на корточки. Локти уперлись в колени, кисти рук расслаблены, волосы седые, пистолет в руке, но он улыбался мне, потому что это был Уилл.
Теперь он стал совсем старым, а не просто чуть постаревшим. Кожа на лице вся покрылась складками, волосы настолько поредели, что стали видны неровности черепа, покрытого желтыми пятнами. Кожа на руках облезала, глаза все того же цвета камеди. Да, это был Уильям, который в молодости обожал «Доджерс», а потом превратился в Джо, повзрослел, мечтал жить вечно и стать кем-то другим. И он действительно был кем-то другим.
Я всмотрелась, и у меня, должно быть, сбилось дыхание, потому что вдруг появилась резь в груди, а он улыбнулся, и хотя шевельнулись губы Уилла, на лице появилась вовсе не его улыбка, а чья-то еще. Возможно, того Уилла, который в детстве любил обрывать мухам крылышки, Уилла, подростком изгнанного из дома. Другого Уилла, который, вероятно, в какое-то едва уловимое мгновение претерпел изменение в судьбе и не стал делиться своим телом с незнакомкой в Калифорнии, а пошел другой дорогой, оказавшись среди иных людей.
Не-Уилл, все еще улыбаясь, оглядел меня снизу доверху, всматриваясь в мое лицо, в мою одежду, в глубокую рану в моей окровавленной ноге. Он протянул левую руку и погладил меня по щеке прикосновением любовника, ощутил щетину только что отпущенной бороды на моем подбородке, мягко потянул за прядь волос, словно изучая их цвет. Потом его рука скользнула ниже по моей шее, по груди, по бедру и остановилась рядом с пулевым отверстием, зависнув в воздухе в дюйме от него.
Потом он заговорил, но его голос показался мне чужим в устах Уилла:
– Я подумал, тебе захочется попрощаться.
Его ладонь дернулась, он готов был добраться до пули в моей ноге и вынуть ее голыми пальцами. Я должна была дышать, но легкие двигались, не подчиняясь моей воле. Я ощущала керамический осколок в руке, видела черно-синие вены у основания шеи Уилла.
Он дернул головой движением, похожим на голубиное, все еще изучая меня, наблюдая за моим лицом, глазами. Потом спросил:
– Ты любишь меня?
Вопрос явно подразумевал ответ, а когда я промолчала, его пальцы нежно коснулись крови на моей ноге, погладили форменные брюки, вызвав волну боли от раны, заставив ее подняться к груди, начать пульсировать везде – от локтей до черепа.
– Ты любишь меня? – спросил он снова. – Я хотел найти того, кто тобой любим. Но когда нашел его, не был уверен, что не ошибся. У него больные почки, суставы, а потом я пригляделся внимательнее, и смотри сюда… – Он вытащил мою правую руку и прижал ее к своей плоти, где даже под пиджаком виднелось уплотнение, какой-то нарост на теле – в лучшем случае грыжа, а в худшем…
– Разве это не отвратительно? – спросил он, удерживая мою руку на месте так, что я могла ощущать тепло его пальцев. – Разве не странно? Неужели такой человек заслуживает любви? А теперь посмотри сюда! – Он дернул меня за руку, поднял ее повыше.
Я застонала от боли, потому что это движение заставило сместиться все мое тело. Но он ничего не замечал в своем энтузиазме, прижав мою ладонь к своей подмышке, к своей коже.
– Здесь же родинка! – воскликнул он. – Это так занятно. Я все время играю с ней. А тебе доводилось с ней играть? Я попытался поцеловать того, другого мужчину, но он не понял меня, сказал, здесь что-то не так. Он не любил меня, хотя клялся в любви к… Уиллу. – Он запнулся, не сразу вспомнив имя, выискивая его в глубине памяти. – Клялся, что любит Уилла, но не меня. И мне захотелось проверить, не такие ли чувства испытываешь ты сама?
Он наклонился пониже, его дыхание смешалось с моим, губы оказались на расстоянии поцелуя, и на мгновение я даже подумала сделать это, слиться с ним губами, но он продолжал смотреть мне в глаза, стараясь найти в них то, чего не было.
– Ты меня любишь? – спросил он. – Я смотрелся в зеркало и не видел этого, но решил… Ты же раньше была мной. Смотрела мне в глаза так часто и не могла не любить – не любить мою кожу, мои губы, мою шею, мой язык. Ведь правда? Ты любишь меня – любишь Уилла? Любишь?
Необходимость, детская потребность, умоляющее выражение на лице Уилла. Нет, не на лице Уилла. На его лице. На лице этого… Я не отвечала. Мне в голову не приходили слова, которые я могла ему сейчас сказать.
– Иногда я смотрю на себя, но вижу только презрение. На моем собственном лице написана только ненависть ко мне самому, и я думаю: почему он ненавидит меня? Я ведь красив. Но стоит мне пошевелиться, и я снова вижу ненависть, каждый раз уродливую ненависть, даже когда пытаюсь улыбаться, а потом… – Он содрогнулся, глубоко вдохнул, потом выдохнул. – Ты любишь меня? Не молчи! Говори же! – Он засмеялся от нетерпения, попытавшись обратить все в шутку, но неудачно. – Признайся! Любишь меня или нет?
Я хотела ответить: да, нет, вероятно, возможно. Но ничто не складывалось, пока мой мозг лихорадочно подбирал нужный вариант ответа. Ответа, который стал бы выходом из положения, но я понятия не имела, каким он должен быть.
Уилл помрачнел. Его брови сдвинулись, глаза прищурились – детский каприз на старческой физиономии, совсем непохожей теперь на лицо Уилла. Я никогда не видела его таким, не могла признать это его лицом. Он подался вперед и прижал ствол пистолета к моей раненой ноге с такой силой, что я вскрикнула. А потом запустил дуло в рану и провернул. Я заорала – издала животный звук чужим для меня горлом, чужим голосом, не таким высоким, каким он был несколько тел тому назад, но гораздо более пронзительным. Полным агонии, пробивавшимся из легких сквозь стиснутые зубы. Сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь прежде так кричала, но не-Уилл надавливал все сильнее и хохотал. Он приподнял мою голову и почти прижал мое лицо к своему.
– Ты меня любишь?
Теперь, когда он погрузил ствол пистолета глубоко в мою рану, я вынула из-под себя руку с острым осколком кружки и что было сил вонзила его в верхнюю часть шеи Уилла.
Мои покрытые кровью пальцы соскользнули, и я не попала ему в трахею, вонзив острие в мягкую плоть у подбородка. Свежая кровь потекла по куску керамики, пронзившему кожу и вышедшему в нижней части рта под языком. Он повалился назад, а я оседлала его, постаравшись поставить оба колена на руку, державшую пистолет и пытавшуюся орудовать им. Палец нажал на курок. Громыхнул выстрел, потом другой. От одних только звуков меня сотрясало до костей, но я держалась, держалась, пока подо мной извивалось задыхающееся тело. Оно давилось собственной кровью, пыталось откашлять ее, бешено вращая глазами на внезапно побледневшем лице. А я тем временем завладела пистолетом, разжав его пальцы на рукоятке, и откинулась назад, освобождаясь от него, отползая в сторону.
А потом с осколком кофейной кружки, торчавшим из нижней челюсти, он посмотрел мне прямо в лицо и улыбнулся.
– Т-т-ты… – Звук заглушила кровь, заполнившая его рот и ручейками стекавшая из уголков губ. Он снова кашлянул, забрызгав алыми каплями мое лицо, и попытался еще раз: – Т-тебе нравится то, что… ты в-видишь?
Я подняла пистолет. Его улыбка превратилась в широкую ухмылку. У него были вставные зубы, крепившиеся к деснам и тоже окрашенные кровью. Я отвернулась и спустила курок.
Глава 64
Тела. Никто не сможет уследить за призраком в густой городской толпе. Заполненный вагон поезда. Оживленная станция. Плечо к плечу, кожа трется о кожу, мы вдыхаем выдохи других людей, нас коробит запах пота от высокого мужчины, мы ненароком наступаем на ногу своим ботинком на туфлю пожилой леди.
Я, кем бы ни была, катаюсь в парижском метро, соскальзывая из плоти в плоть, ощущая на мгновение пульс чужой жизни.
Где была Янус, в кого превратилась Янус, мне уже было абсолютно безразлично. Мне лишь хотелось найти Янус в том месте, где она (или он) могла мне понадобиться, когда путешествие завершится.
Я перепрыгивала из кожи в кожу: толчок, содрогание, неожиданная остановка на месте, покачивание вагона. Наступаю на чью-то ногу – и вот я ученица школы в форменном платье или сгорбленный старик, опирающийся на палку. Я ощущаю кровь женщины, у которой только что начались месячные, боль в ступнях усталых ног строительного рабочего. Я хочу выпить. У меня распух нос от насморка.
Двери открываются, я снова молода и красива, одета в изящное летнее платье, слишком легкое для такой погоды, но меня не оставляет надежда, что мои покрытые «гусиной кожей» руки не слишком бросаются в глаза и не портят эффекта, к которому я стремилась.
Я голодна, а теперь уже сыта, стою у окна, и мне отчаянно хочется в туалет, я поедаю хрустящие хлопья, сидя рядом с дверью.
На мне шелк. Я ношу нейлон. Затягиваю туже узел галстука. Мне давят дорогие кожаные ботинки.
Мои перемещения непрерывны, хотя тела остаются на своих местах, но стоит только коснуться руки в переполненном поезде, и я могу стать кем угодно, но в то же время никем в особенности.
Поезд везет меня к Лионскому вокзалу. К Янус. К кому-то еще.
Вокзал так себе. Ничего особенного. Ближайший пункт питания расположен на другой стороне вымощенной брусчаткой площади, на которой ничто не растет, где никто никого не ждет. Отсюда уходят скоростные экспрессы на Монпелье, Ниццу, Марсель. Зато пригородные электрички заполнены неприхотливой толпой, мужчинами и женщинами, привыкшими к тихим провинциальным бульварам, где старики играют в шары. На минуту я становлюсь одной из этих женщин. На мне модный костюм, при мне тяжелый портфель. Это всего лишь копия последней модели женского портфеля, рекомендованного по телевидению очередным оракулом из сферы культуры. У меня билет до Труа, где улицы безукоризненно чисты, а местный мэр здоровается с каждым прохожим. Я нахожу платформу номер десять и вижу даму, которая ест сэндвич, упивается сэндвичем на свежем, хрустящем хлебе, стоя рядом с ограждением. У нее светлые волосы, молодое лицо, очень короткое черное платье, зато плащ отделан мехом, а на пальце, где положено носить обручальное кольцо, у нее серебряная вещица, усыпанная мелкими ониксами. Ее палец при этом выстукивает какой-то ритм – я его узнаю: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, – а ноги непроизвольно и едва заметно намечают движения вальса.
Я встаю рядом и начинаю урчать ту же мелодию, в том же стиле, в том же ритме. Мы даже не смотрим друг на друга, пока она не приканчивает свой сэндвич, после чего спрашивает:
– Надеюсь, я не напрасно только что отказалась от очень красивого тела?
– Не напрасно.
– У тебя есть план?
– Куда у тебя билет?
– Нет у меня никакого билета. Я увидела ее в поезде и внезапно вспомнила, что вчера даже толком не поужинала.
– Ты замужем, – заметила я.
Янус передернула плечами.
– У меня в сумочке пара презервативов и запасная пара черных кружевных трусиков. Думаю, я завела роман на стороне.
– Дело твое. Но билета у тебя нет, и если мы не узнаем пин-код кредитной карточки твоего нового тела…
Янус вздохнула, стряхнув крошки с белого мехового воротника.
– Что ты предлагаешь?
– Уехать отсюда поездом.
– Они не могли нас отследить. Я меняла кожу несколько десятков раз.
– Но раньше они тебя находили, и от этого факта никуда не денешься, – сказала я, по-прежнему оглядываясь по сторонам и не обращая внимания только на собеседницу. – И меня тоже нашли.
– Что ж, хорошо, – усмехнулась она. – Выбирай поезд. А я подберу кого-нибудь поскучнее, но с билетами.
Мы сели в экспресс до Монпелье. Я внедрилась в мужчину, у которого в бумажнике лежали документы на имя Себастьяна Пьюи, три кредитные карточки, читательский билет библиотеки, пропуск в спортивный зал, четыре карты скидок в супермаркетах и ваучер на бесплатную стрижку в салоне красоты в Ницце.
Янус облеклась в тело некой Марийон Бюклер. Темные волосы, глубоко посаженные щенячьи глаза и подвеска на цепочке вокруг шеи со словом «Любовь» на языке фарси. Поезд не был заполнен настолько, чтобы Себастьян и Марийон не могли сесть вместе. Но мы предпочли не делать этого.
У Себастьяна Пьюи оказался при себе айпод. И когда поезд, быстро набирая скорость, покинул станцию, я стала просматривать его содержимое. Ничего из этой музыки я раньше не слышала. В основном это было нечто вроде французского рэпа. Через двадцать минут я отложила айпод в сторону. Порой даже я пытаюсь вжиться в свой новый образ.
Сидевший через проход от меня пятнадцатилетний подросток общался со сверстником, яростно жестикулируя. «Держись меня, – говорил он, – держись меня и не пропадешь. Все у тебя будет тип-топ. Эти придурки в школе строят из себя черт знает кого, а на самом деле они – пустышки. Только и умеют, что трепать языками. А сами ни хрена ни в чем не смыслят. Зато я все знаю. Кое-что успел повидать, знаешь ли. Пожил со смаком. Не веришь? Не сомневайся! И тебе покажу, как надо. Я уж прослежу за тобой. У тебя есть мобила? Дай сюда. Хочу подоставать прикольными звонками своего братца. Он от моих звонков на стенку лезет. Просто с ума сходит. Однажды я звонил ему пятнадцать раз подряд, а потом послал фотку своей задницы, представляешь? Это был кайф! Я в таких делах лучший, вот увидишь. Только держись меня».
Я постаралась отключить звук, глядя в окно на плоские поля Северной Франции, и думала без слов, вспоминала, ничего не ощущая.
* * *
Незнакомец подходит к тебе на улице. Говорит, что ты очень красивая. Их тепло, твоя кожа.
Нет одиночества более полного, чем когда находишься одна среди огромной толпы. Нет чувства неловкости более неприятного, чем момент, когда ты не понимаешь шутку, доступную только посвященным.
Мы такие влюбчивые! Я имею в виду призраков вроде меня самой.
Глава 65
В молодые годы я всегда ассоциировала юг с теплом. Чем дальше от севера к югу, воображала я, тем мягче зимы, тем жарче лето. Зато потом ощущение, что место может находиться на юге, но ты все равно промерзнешь там до костей, было неоднократно пережито мной на практике во многих телах с посиневшими от холода губами. То есть так часто, что я и со счета сбилась. Помню, как приезжала на берег Средиземного моря, совершенно неготовая к тому, что на меня обрушится снег с дождем, а тротуары будет покрывать ледяная корка. После чего быстро меняла свое изящное тело на что-нибудь местное, с утеплением вокруг пухлого брюшка, в надежде сменой системы циркуляции крови притупить стресс от превратностей климата.
В теле Себастьяна Пьюи мне не показалось тепло. Сойдя с экспресса на вокзале в Монпелье – заурядном, не слишком выразительном здании, каких много на французских железных дорогах, – я сразу же кончиками пальцев почувствовала леденящий холод и поняла, насколько плохо защищал тонкий плащик от проливного дождя. Я забилась в привокзальную табачную лавку, где помимо сигарет и шоколада торговали колодами карт с самыми непристойными картинками, и стала дожидаться Марийон Бюклер. Но та не появилась. Вместо нее я увидела пышную даму в шубе из рыжей лисы, нос которой фривольно болтался у женщины на плече. Она подошла и почти прокричала:
– Как? Это все еще ты?
Теперь у нее было несколько подбородков, стекавших друг на друга и покрытых таким же толстым слоем пудры, как и лицо. Щеки ее свисали ниже линии первого подбородка. Прическа выглядела как последствие авиакатастрофы. Ее ногти покрывал ярко-красный лак, губы – слой пурпурной помады, и когда она проплыла мимо меня, возникло ощущение, что я – легкая шлюпка, попавшая под волну, поднятую могучим линкором.
– Боже милостивый, – усмехнулась она. – Ты выглядишь ужасно.
Сама же Янус блистала сейчас в теле…
– Я чувствую себя как Грета[12]. Я сейчас похожа на Грету?
…в теле женщины, у которой с Гретой не было, разумеется, ничего общего. Янус порылась в сумочке с золотыми цепочками вместо ремней и достала из нее толстую пачку евро с восклицанием:
– Неужто это мое? Конечно, мое!
Я улыбнулась терпеливой улыбкой смущенного сына, только что встретившего с поезда свою эксцентричную мамашу, и, деликатно взяв ее под локоть, вывела из здания вокзала подальше от любопытных взглядов.
– Что случилось с Марийон?
– Пришлось оставить ее в женском туалете. Ей вдруг приспичило, понимаешь? Вот бедняжка! И не смотри на меня так, – добавила она, шлепнув меня по руке. – Я переключилась с десяток раз, пока мне не подвернулась великолепная Грета. Как я тебе?
– Не думаю, что это ее типаж.
– Зато я сама – ее типаж, – легкомысленно возразила она. – И если не сию секунду, то скоро стану. И вообще, мы все сделали правильно. Нас никто не смог бы отследить в парижском метро. Даже Галилео.
Я скривилась:
– Хорошо, но только давай теперь обойдемся без необязательных прыжков. Им невозможно было вычислить нас в парижской толпе, но вдруг из местной больницы до них дойдет слух о случае с Марийон? Тогда, зная город, они снова возьмут наш след.
– Но почему, моя драгоценная, – спросила она, – ты выглядишь такой испуганной?
– Если бы тебе выпала на долю хотя бы часть моих мучений последних дней, ты бы тоже пугалась собственной тени.
– В таком случае нам следовало отправиться в аэропорт, улететь в безымянную страну с хижинами и лачугами, разбросанными по склонам холмов, где в больницах никто не станет наводить справок, а если станет – то не найдет никаких записей.
– Возможно, – ответила я, – но только здесь речь идет о большем, чем они и мы.
– Что может быть больше?
– Галилео проник в «Водолей».
– Почему ты так в этом уверена?
– Если это не так, почему его досье – сплошная ложь?
– Ты только предполагаешь, но у тебя нет доказательств. И даже если все правда, не понимаю, зачем тебе я.
– Такие, как мы, никогда не работают вместе. Мы – всего лишь конкуренты в мире красивых тел и чрезмерно дорогих развлечений. В Майами мы вели себя как типичные призраки – совершали прыжки и бежали, а за свои ошибки получили пули. И сейчас мы сделали то, что от нас вполне ожидали, – смешались с толпой в час пик, легко и часто меняя тела. Призраки не сотрудничают между собой. Давай же мы станем сотрудничать. А потому больше никаких скачков без крайней необходимости.
Янус отвернулась и посмотрела на свое отражение в окне.
– Жалею об одном. В таком случае я бы выбрала себе кого-то не столь экстравагантного.
От вокзала мы взяли такси. Водитель почему-то решил играть роль человека видавшего виды, грубоватого и неприветливого. Иностранцы, приехавшие в город впервые, могли счесть это свидетельством знания человеческой натуры и жизненной мудрости, если только им не хватало ума понять правду и почувствовать глубокую антипатию к себе, чем это и было на самом деле. За своим бледным отражением в стекле машины я видела город, который двигался слишком быстро, чтобы действительно понять, каким он хотел бы выглядеть. В сени развалин древнеримского акведука автомобильные стоянки и серебристо-серые ограждения обрамляли бульвары и узкие извилистые улицы. Между кофейней и супермаркетом, где за шесть евро можно было купить большую картонную упаковку вина с краном для розлива, вполне уместно сверкал зеленый крест аптеки с двумя змеями, обвившими чашу. Ветер раскачивал кедры и сосны с очень темной хвоей. Колючие живые изгороди скрывали за собой новые жилые дома, поднимавшиеся вдоль склона холма ближе к северной части города.
– В отпуск? – спросил таксист.
– Нет, – ответила я.
– Да, – ответила Янус.
– Глупее времени для отпуска не придумаешь, – сказал он. – Надо приезжать либо летом, либо уж ближе к Рождеству. А сейчас вас ждет не самый приятный отдых.
В отеле были малиновые потолки, синие ковры и тисненые обои с рисунком в виде аистов. Янус заплатила наличными Греты за два одноместных номера на ночь. В ресторане еще подавали ужин. Следовало ли нам поужинать?
– Нет, – сказала я, взглянув в меню с отбивными за двадцать евро порция и вином за двадцать евро бутылка. При сложившихся обстоятельствах нам не следовало этого делать.
Оставшись одна в номере, который мог располагаться в любой точке мира, я разделась донага перед зеркалом в полный рост и оценила тело Себастьяна Пьюи. Он не принадлежал к излюбленному мною типу, и я чувствовала себя не слишком комфортно в этом теле. Кожа его имела нездоровый серый оттенок, а на груди и спине пробивались пучки волос, словно не решаясь пока разрастаться обильнее.
Я с трудом подавляла желание переместиться в кого-то более смуглого, привлекательного, мускулистого и волосатого – словом, в личность более определенную, имевшую ярко выраженный характер. Порывшись в портфеле, я так и не смогла определить род его занятий. У него был простой и понятно устроенный мобильный телефон, из которого я вынула батарейку, понимая, что как раз в этот момент, вероятно, кто-нибудь, ожидавший его на вокзале в Монпелье, начинает волноваться, недоумевая, куда он мог деться. Быть может, испуганная мамочка уже связалась с полицией, где ей ответили, что молодые люди, знаете ли, бывают порой своенравны и непредсказуемы, живут своей жизнью, и если действительно появится повод для тревоги, ей следует перезвонить по обычной городской линии дня через два, а лучше – через три. Волнение родственников никогда не считалось достаточным основанием, чтобы немедленно пуститься на поиски, и за это я была от всего сердца благодарна полиции.
Я изучила его лицо, пытаясь понять, что он за человек. Он мог быть беспутным повесой, любившим отпускать пошлые шуточки. А мог оказаться одиноким меланхоликом, который сидит по ночам, сочиняя сонеты, обращенные к воображаемому предмету страсти. У меня мягкие руки, незнакомые с физическим трудом. Стоит втянуть живот, и ребра моей грудной клетки вырисовываются аркой отчетливой формы, но стоит живот распустить, как я кажусь почти толстым, над бедрами образуются наплывы жира. Мои ягодицы чуть зудят – так бывает от долгого сидения на одном месте. Левое бедро было когда-то поранено, но давно успело зажить. Кто я? Студент, дизайнер, компьютерный программист, диджей с большим самомнением при полном отсутствии вкуса? Но что еще важнее, нет ли у меня аллергии на клейковину? Не ношу ли я металлических вставок на местах переломов? Следует ли мне воздерживаться от сахара и вообще сладкого? Не заставит ли меня простой укус пчелы умереть от мучительного удушья, когда откажут легкие? Откуда мне это знать, пока я не сделаю ошибку, какую сам Себастьян Пьюи, однажды совершив, больше бы не допустил?
На мгновение мне начинает не хватать хорошо знакомого веса Натана Койла или уверенности бега Элис Майр.
* * *
Мы с Янус едим в небольшом ресторанчике напротив руин средневековой стены. Она заказывает сыр, вино и утку в кипящем коричневатом соусе. Хозяйка-официантка-матрона (все в одном лице) спрашивает, буду ли я расплачиваться за трапезу своей матушки. Янус, конечно же, забывает, как она сейчас выглядит, и едва не устраивает скандал, но вовремя спохватывается.
Разговор у нас почти ни о чем.
– Тебе знаком этот город?
– Немного.
– Когда ты была здесь в последний раз?
– Давненько.
– И с кем в тот раз?
– Я не помню. Но на мне было что-то желтое, когда я прогуливалась вдоль моря, а потом ела устриц из оцинкованного ведерка. А ты?
– О, я была кем-то необычайным. Я всегда необыкновенна, ты же знаешь.
А потом Янус вдруг спросила:
– Почему ты выручила меня? – И этот вопрос настолько не соответствовал тону нашего разговора, что застал меня врасплох.
– У нас с тобой сложились… Как бы это определить? Довольно-таки темпераментные отношения. Тебе понадобилась помощь, хотя ты могла обратиться за ней к кому угодно. И еще Галилео. Ты единственная, помимо меня самой и еще одного человека, кто с ним сталкивался.
– А в Майами? – чуть слышно пробормотала она, ковыряя вилкой овощи в тарелке. – Что было там?
Я отложила свой столовый прибор в сторону и опустила голову на сплетенные пальцы рук. Этот жест, вероятно, совершенно не в духе Себастьяна Пьюи, но и момент сейчас такой: краткая встреча старых знакомых, редкий случай для откровенного разговора, а потому я – не он. Я… кто-то еще.
– Мы с тобой… понимаем плоть, – отвечаю я после паузы. – Мы утонченные знатоки глаз и губ, волос и кожи. А вот эмоции, которые порой управляют плотью… сложности, возникающие от слишком долгой жизни в ней, – это нам незнакомо. Подобно детям, мы прячемся от боли, бежим от ответственности. Такова простая истина, закон нашего существования. И все же мы всегда жили как человеческие существа. Мы боялись смерти и ощущали все то, что ощущают обычные люди не в виде какого-то химического процесса, а в виде… единственного языка, доступного нам всем, включая и их тоже. Если бы той ночью в Майами я сама успела прыгнуть в здоровое тело, не поручусь, что не сбежала бы тоже. И я говорю это, – поспешила я добавить, заметив ее желание вставить свою ремарку, – …не в знак прощения. Ты бросила меня умирать. И если я понимаю страх, панику, растерянность и боль, то столь же четко различаю презрение и гнев, когда меня предают. Ты спасла свою шкуру, оставив меня погибать в моей. И хотя я целиком понимаю твои мотивы, простить тебя я не в состоянии.
– А если бы я покаялась? – промямлила она. – Если бы… попросила прощения?
– Не знаю. Плохо представляю себе, как это прозвучит.
Она вертела ложку кончиками пальцев. Момент настал и прошел, и теперь уже ничто не имело значения. Наши тарелки унесли, подали кофе, потому что какой же ужин без чашечки кофе, мсье? Мы здесь такого не понимаем, и не лезьте со своим уставом в чужой монастырь. Бросив в свою чашку кусочек коричневого сахара, Янус просто сказала:
– Но ведь ты, кажется, убила его.
– Кого? На мне лежит ответственность за целое кладбище.
– Галилео.
– Да, я его убила, – ответила я резче, чем хотела. – Я стреляла в него, а когда прибыла полиция, склонилась над его телом. Пульс отсутствовал.
– Но слухи все множатся. «Милли Вра», «Санта-Роза»…
– Не знала, что ты следишь за такими событиями.
– Я же читаю газеты. Особенно люблю сплетни о богатых шлюхах, но даже самая дешевая газетенка уделила внимание кораблю, обнаруженному дрейфующим в темноте с палубами, залитыми кровью, с выжившими, плачущими в голос, забаррикадировавшись в кают-компании. Как мы и говорили прежде, было бы легко – очень легко – для одного из нашей породы решить вопрос жизни и смерти за остальных. Ты сама это пробовала. Тебе знакомо это чувство. Гекуба имела те же наклонности. Целые семьи вырезали друг друга – от горничной до хозяина дома. Но только Гекуба убивала лишь тех, кто ей угрожал. А ты убиваешь тех, кто угрожает твоим любимым. Но ты ведь любишь слишком многих, верно, Кеплер?
Услышав это имя, обращенное ко мне, я заскрежетала зубами, мои пальцы вцепились в край стола.
– Он явился… в чужом теле, – сказала я, а Янус поднесла к губам крошечную чашечку кофе, отставив мизинец в сторону, как антенну. – Его звали Уилл. В былые времена он выполнял мои поручения. При последней встрече мы поссорились. У него еще была проблема с левой ногой – судорога в мышце, если он делал неловкое движение. Причин я не знала. Наше знакомство поначалу продолжалось не слишком долго, просто чтобы все выяснить, но когда это происходило, я ощущала, как сухожилия натягивались у меня под коленом, словно вот-вот прорвут кожу. Уилл тогда стал для меня подходящим телом в городе, которому не были нужны ни он, ни я. Этот парень ухаживал за своими ногтями и всегда носил с собой бутылочку с освежающей жидкостью для рта. С ним я приятно проводила время. Не о многих ты сможешь сказать то же самое. А потом он превратился в Галилео. И должен был умереть, а потому я убила его. Три пули в грудь. Было бы надежнее выпустить еще одну ему в голову, но у меня перед глазами встала картина – лицо Уилла, раздробленное и изуродованное. С разорванным носом, расколотым черепом. И его – мои – глаза, глядящие в пространство, вывалившись из глазниц… Я должна была сделать контрольный выстрел, но не смогла. А потом, уже при полицейских, проверила пульс, которого не почувствовала, и решила: все, ему конец. Но появились медики. Пытались его реанимировать. Только у них ничего не вышло. Разумеется, не вышло. Но в воображении мне порой рисуется мгновение. Возможно, был краткий момент внутри машины «Скорой помощи», когда санитар коснулся его груди и та частичка жизни, что еще оставалась в нем, ожила от прикосновения и… Не знаю. Откуда мне знать, если меня там не было? К тому времени я превратилась в кого-то совсем другого. Но, мне кажется, я могу почти гарантировать, что тот медик, который констатировал время наступления смерти моего Уилла, если расспросить его сейчас, расскажет о кратком провале в памяти. О секунде, о которой он ничего не помнит. Совершенно ничего.
– А это значит, что Галилео жив.
– Очень похоже на то.
– Но его принадлежность к нашим, – добавила она поспешно, – не заставляет нас с тобой брать ответственность за него на себя. – Она еще не успела закончить фразу, когда ее рука зависла в воздухе. – Хотя, кажется, он вплотную занялся нами.
– Вопрос не только в Галилео.
Она ждала.
– Во Франкфурте «Водолей» проводил медицинские эксперименты. Они пытались создать вакцину. Дать людям иммунитет против нас.
– А такое возможно?
– Не знаю. Сомневаюсь. Впрочем, они и не продвинулись слишком далеко. Четверо из их ведущих ученых были убиты. И это сделала Жозефина Цебула. В нее кто-то внедрился. Но в «Водолее» посчитали виновницей меня.
– Почему тебя?
– Я размышляла над этим. Возможно, им все представлялось логичным, поскольку я подвернулась под руку. Но потом мне показалось странным, почему они считали, что Жозефина совершила преступления сознательно, а не стала лишь телом для прикрытия, ничего не подозревая. Я видела кадры с камер видеонаблюдения, на которых она вся в крови, но мне показалось совершенно очевидным, бесспорным, что это был Галилео. Что Галилео совершил все те убийства. Но в «Водолее» предпочли обвинить меня, обвинить ее, распорядившись уничтожить нас обеих. И тело, и призрака в нем. Но ведь обычно так никто не делает.
– Как они погибли?
– Кто?
– Люди, которых твое тело… то есть Галилео… убил.
– Страшно, но по-разному. Утонули. Были зарезаны. Изуродованы. Ужасно!
– Но почему?
– Быть может, именно потому, что разрабатывали вакцину. Потому что это стало для кого-то опасно. Но кроме того… – Я осеклась, сделала глубокий вдох.
Янус ждала, зажав между пальцами вилку и вращая ее, но не сводя с меня глаз. Я провела кончиком пальца по ободку кофейной чашки. Мне трудно было встретиться с Янус взглядом.
– Как ты стала призраком? – спросила я наконец.
– При скверных обстоятельствах, – ответила она. – Очень скверных.
– Это было насилие? Видишь ли… Когда я умерла… А я думаю, таков был механизм в моем случае… Когда я умирала, я держалась за лодыжку своего убийцы. Так я совершила свой первый прыжок. И наблюдала потом, как умираю, истекая кровью, трясла свой холодный уже труп, стремясь вернуться в прежнее тело. Но, разумеется, плоть к тому моменту стала недоступна, а я осталась в живых. Стражник арестовал меня за собственное убийство, поступив, если разобраться, вполне справедливо. Таким было, если использовать твое определение, мое скверное начало. Но, насколько понимаю, с тобой произошло нечто столь же ужасное, верно?
– Нож. Нож в живот. Я истекала кровью. Перескочила в медсестру, пытавшуюся мне помочь.
– Аурангзеб сбила машина.
– Аурангзеб был идиотом. Или идиоткой, точно не знаю.
– Куаньин отравилась спорыньей.
– Она никогда не рассказывала, но мне почему-то легко в это поверить.
– Но смысл здесь в одном. Мы все – результат несчастных случаев или насилия.
– И что это подразумевает?
– Подумай об организации вроде «Водолея». О любой организации такого рода. Уверяю тебя, их более чем достаточно. Они убивают призраков в силу каких-то своих мотивов. Но сколько бы они ни убивали, мы снова появляемся. Прорастаем, как одуванчики в трещинах между камнями. И предположим, кто-то догадался, что в нашем появлении существует какая-то система. Насилие, страх, боль – вот что нас создает. «Водолею», конечно, не под силу искоренить насилие как таковое, но ведь и не любое убийство в темном закоулке приводит к возникновению нового призрака, не всякое отравление или падение с лестницы. Должны существовать некие дополнительные условия, какие-то обстоятельства, пока непонятные. Мне самой доводилось время от времени становиться врачом, и даже я знаю: для создания вакцины против вируса следует сначала изучить его. Ты должна понять, как он воздействует, как размножается. Во Франкфурте они действительно работали над вакциной, в этом нет сомнений. Только сначала им необходимо было разобраться, против чего именно она будет направлена, изучить нашу природу, наше строение.
– То есть ты предполагаешь, что программа исследований включала в себя не только уничтожение призраков, но и попытки их создания?
– Я предполагаю наличие в человеческом мозге механизма, который в травматической ситуации придает крайне незначительному числу людей способность к внедрению в чужие тела. Если определить суть работы механизма, тип людей, в которых он срабатывает, возможно, удастся его заблокировать. Не исключена вероятность, что подобных нам можно убивать еще до рождения – путем своего рода генетического геноцида. Ничего невозможного я здесь не вижу.
Янус помолчала, потом спросила:
– Но почему Галилео? Почему именно Франкфурт? Почему четверо исследователей мертвы?
Я снова переплела пальцы и прикусила губу.
– Позволь мне задать сначала другой вопрос. Почему все убийства были совершены с особой жестокостью? Ты и я – мы обе заново родились в момент грубого насилия, в результате применения слепой силы. «Милли Вра», «Санта-Роза», массовые убийства, кровь, страх, душевные травмы. Почему? А не потому ли, что один раз в несколько лет Галилео, взглянув в зеркало, вдруг понимает, что на него смотрит лицо, которое не любит само себя? Возможно, он пытается уничтожить изображение в зеркале, и когда он это делает… как раз и создает ту самую ситуацию. Или же он видит в зеркале нечто очень красивое, чему суждено умереть, а Галилео желает, чтобы совершенство длилось вечно. В таком случае и ты, и я, если проявим осторожность, останемся вечными. Вероятно, Галилео стремится порождать новых призраков. Но тогда ему, как и «Водолею», необходимо понимать нас. Эксперименты по созданию вакцины можно проводить до момента осознания работы механизма, но не дальше. И уж, конечно, не до полного успеха в борьбе с нашим существованием. Только до известного предела.
– Это всего лишь твои ни на чем не основанные догадки.
– Точно. Но мы можем добавить к этому еще некоторые весьма вероятные предположения. Если, например, мы будем исходить из того, что Галилео не только известно об исследованиях во Франкфурте, но и что он имеет возможность даже манипулировать ими, то напрашивается вывод: он глубоко внедрился в «Водолей». Стал важным лицом в организации, чья задача – уничтожить его. Вина за серию убийств должна быть возложена на него, но вместо этого они во всем обвиняют меня. Тело, которым мог воспользоваться любой призрак – тело Жозефины, – использовалось мной, но ему мало было заказать мое убийство. Он приказывает расправиться и с ней тоже. Быть может, так он прячет концы в воду. Но возможно и другое. Назовем это ревностью. И кто отправлен на расправу со мной? Мужчина, которого зовут Натан Койл, а у него гораздо больше причин для ненависти к самому Галилео, чем даже для простой неприязни ко мне. И наконец, есть досье Галилео. Оно сплошь состоит из некомпетентности и откровенной лжи. Почти неприкрытой лжи. Так «Водолей» сам защищает наиболее опасного представителя нашего тайного сообщества. Почему?
Подобие смеха сорвалось с губ Янус, и веселья в нем было столько же, сколько в сопении крокодила.
– Потому что в «Водолее» считают, что работают над нашим уничтожением, а Галилео использует их успехи, чтобы нас множить. Потрясающий план! Чудесный!
– Был бы чудесным, – поправила я, – если бы не смерть Жозефины.
Она все еще улыбалась; улыбка застыла на ее лице, холодная и отчужденная, без тени юмора.
– Ты всегда слишком привязывалась к своим кожам. Меня даже немного удивляет, что ты хотя бы немного не симпатизируешь… тому, что сделал Галилео.
– Нет. Нисколько не симпатизирую. Во мне мелькает… Я понимаю, зачем ему это. Мы переходим из тела в тело. Сегодня я – Себастьян. Я владею айподом, книгой, одеждой, ботинками и лицом, которое вижу в зеркале. А завтра стану кем-то другим. И не останется ничего из только что перечисленного. Сегодня у меня… у меня в определенном смысле есть ты. Быть может, это не та связь, какая доставляет особое удовольствие нам обеим, но все же… связь. Нечто, о чем я могу сказать: «Так было вчера и завтра будет так же», – а подобные вещи очень важны. Каждому необходимо иметь что-то подобное. А Галилео… Похоже, он стремится к созданию чего-то вечного и значительного. Пусть и дорогой ценой. Так что я могу его отчасти понять. Но понимание и симпатия – слишком разные чувства.
На наш стол положили счет. Я вспомнила, что выступаю в роли сына Янус, и расплатилась. Наличных денег при Себастьяне оказалось немного. Видимо, он легко и беззаботно расставался с ними.
Янус внимательно смотрела на меня.
– Как Галилео это удалось? – спросила она. – Как он сумел так глубоко проникнуть внутрь «Водолея»?
Я искренне рассмеялась. И не поняла, где находился источник этого звука. У Себастьяна Пьюи оказался замечательный смех: он поднимался откуда-то из его чрева вверх, заставлял плечи откидываться назад. Мне это понравилось. Это было первое, что мне пришлось действительно по душе в его теле.
– Думаю, я сама сыграла здесь определенную роль, – ответила я. – Полагаю, это случилось благодаря мне.
Глава 66
– Вы «агент по недвижимости»?
Тебе нравится то, что ты видишь?
– Вы «агент по недвижимости»? – спросила она, и я оторвала взгляд от стола.
Она оказалась молодой, избалованной, совсем непохожей на себя.
И заданный ею вопрос уже не звучал странно, как не удивляло и ее появление на моем пороге.
Дело было в Эдинбурге 1983 года, где никто не одевался с таким шиком, не говорил так правильно. Я откинулась в кресле и представила, как она могла выглядеть на самом деле: низкорослой невзрачной женщиной в бесформенном плаще, а ее акцент был полностью сглажен, вероятно, годами упорной учебы и упражнений, от которых у нее навсегда осталось ощущение своей умственной и физической ущербности. Или владелец ее нынешнего тела такой ее и нашел – в остроносых красных туфлях на каблуках, грозивших испортить асфальт тротуаров в городе, в наряде из хлопка и шелка за двести фунтов, с золотыми цепями на шее, тянувшими еще на пару тысяч фунтов? В городе насчиталось бы еще несколько особей, расхаживавших по нему в столь же броском обличье, но даже самые тщеславные из них не делали этого с такой высокомерной небрежностью.
– Вы «агент по недвижимости»? – спросила она в третий раз с возраставшим нетерпением в голосе, и я ответила:
– Да.
– Мне нужен мужчина.
Я преодолела неприязнь и жестом указала ей на кресло:
– Не желаете ли присесть? Чем могу быть вам полезна?..
Но у нее не было времени на обмен любезностями.
– Молодой, сильный. С полной историей перенесенных заболеваний. Это важно. Мне нужна будет его кардиограмма, анализы крови, размер объема легких, вероятность аллергических реакций. Как думаете, сможете подобрать кого-нибудь из бывших военных?
– Разумеется, я проведу поиск. Мадам заинтересована в кратком или длительном пребывании?
– В кратком. Семейная история меня не волнует. Но нужен блондин. Мне нравятся блондины. Только не слишком курчавый. И без волос на спине. Пусть хоть бреется, но я терпеть не могу волосатые тела.
– Есть ли еще пожелания помимо бывшего военного-блондина с хорошим сложением, здорового и бреющего спину?
Она подумала и добавила:
– Было бы неплохо, если бы у него оказалась своя лодка.
– Лодка?
– Я имею в виду нечто большое и красивое. Яхту. Причем морского класса.
– Я, конечно же, проведу исследование рынка, мисс…
Она посмотрела на меня так, словно только что впервые увидела:
– Что, мисс?
– Как мне к вам обращаться? Мисс…
Она оглядела себя, причем ее почти откровенно удивили как мой вопрос, так и собственный женский пол. Потом снова перевела взгляд на меня, по-прежнему пораженный и недоумевающий:
– Откуда мне, на хрен, знать? А это имеет значение?
– Я все-таки «агент по недвижимости», причем единственный в городе. У меня множество клиентов, и, учитывая, как часто они меняют тела от встречи к встрече, мне приходится вести список клиентов. На будущее.
– То есть вам нужно имя?
– Если вас не затруднит.
Она снова задумалась и улыбнулась:
– Зовите меня Ташей. Нет. Зовите Тулей. Мне кажется, Туля подходит мне больше. – А потом улыбка исчезла, и воспоминания, которые она вызвала, погрузились под зыбкую поверхность настоящего. – Так что найдите мне настоящего красавчика.
За работу я брала пятьдесят тысяч фунтов.
Для нее я подобрала Эдди Пиерса, бывшего морского пехотинца, обожавшего ходить под парусом. Мышцами груди он мог вышибать двери, и создавалось впечатление, что он способен поднять мой письменный стол на кончике пальца.
Я спросила:
– Вам нравится то, что вы видите?
Таша – или, быть может, Туля – захлопала от восторга в ладоши, воскликнув:
– Он так красив! Он невероятно красив! Да, конечно, я хочу именно такого!
– Могу я поинтересоваться, для чего?
– Для чего? Что за странный вопрос! Я хочу его, потому что он – это он. Я хочу его, потому что в нем все потрясающе. Его тело прекрасное и загорелое. Его жизнь – достойна зависти. Мне нравится, как он рассекает волны на яхте, подставив лицо морскому ветру. У него полно женщин, которые его любят, мужчин, обожающих его. Даже незнакомые люди смотрят ему вслед, когда он проходит мимо. Я хочу его, потому что мне скучно, а он – нечто совсем новое для меня. Мне нужна его красота. Разве вы не понимаете? Вы сами не влюблены в него?
– Да, – ответила я. – Мне все понятно.
– Но вы влюблены в него? – требовательно повторила она вопрос.
– Пока нет. Но могла бы влюбиться.
Услышав мой ответ, она улыбнулась, а потом обхватила себя руками, словно не давая вырваться наружу ощущению торжества.
– А я уже люблю его, – произнесла она на счастливом выдохе. – И знаю: он полюбит меня тоже.
Через два дня она уже плыла на его яхте через Ферт-оф-Форт[13] в сторону открытого моря и бескрайнего горизонта.
А четыре дня спустя дрейфующую яхту обнаружили рыбак из Данди и его экипаж. Когда допрашивали шкипера, он выглядел так, словно живьем проглотил одну из пойманных им рыб, которая все еще извивалась и билась у него в желудке. Он говорил об увиденном почти неслышным шепотом, сказал, до какой степени рад, как счастлив, что случайно прикоснулся к руке выжившей женщины, и потерял сознание. Потом он ничего не помнил до того момента, когда уже оказался на берегу.
Понимая, что не хочу ничего знать, но при этом не имея выбора, я прочитала отчет о вскрытии Эдди Пиерса. Под палубой собственной яхты он претерпел все мыслимые виды насилия и мучений. От его могучей плоти остались лишь клочья, и его агония длилась по меньшей мере два дня. И все же, как заключил судебный медик, в данном случае имелись свидетельства некоего странного обоюдного согласия. Потому что даже истерзанное долгими пытками тело Эдди невероятным образом нанесло не меньше страшных ран, причинило невероятную боль и женщине, которая, едва живая, была найдена рядом с его трупом. Ее последними, предсмертными словами, когда рыбаки вынесли ее на палубу, стал вопрос, заданный чуть слышным шепотом:
– Вам нравится то, что вы видите?
Через три дня моя контора в Эдинбурге закрылась, а я, уже став кем-то другим, стояла на платформе вокзала.
Еще двумя днями позже в организацию со штаб-квартирой в Женеве был доставлен анонимный документ. В нем содержался список банковских счетов, разбросанных по всему миру. Причем последний платеж на сумму в пятьдесят тысяч фунтов был сделан «агенту по недвижимости» в Эдинбурге, хотя при попытке выяснить обстоятельства оказалось, что такого агента официально никогда не существовало.
– Так ты настучала на самого Галилео, – сказала Янус.
– Да, – ответила я.
– Хорошо. Но слишком уж смело.
Я объяснила, что слила данные о нем «Водолею». Они тогда назывались иначе, оставаясь теми же по сути, – убийцами во имя высокой цели. «Водолеем» они стали позже. Я дала им все, чтобы они смогли отследить его через финансы. По счетам, которыми он пользовался, когда носил другие тела. Именно поэтому он пытался убить меня в Майами, поэтому погибло столько других людей. Я думала, что помогаю «Водолею» расправиться с Галилео. На самом же деле все, чего я добилась, – оказала помощь ему.
Глава 67
Мы в молчании пешком вернулись в отель. Оставшись в номере одна, я легла на кровать, снова просмотрела свой бесполезный бумажник, а потом включила телевизор, прощелкав все каналы сначала в одну сторону, потом в обратном порядке. Политика из Брюсселя, футбол из Марселя, восхитительные полицейские из Америки, опасные грабители из России. Озабоченные репортеры у остова еще одного сожженного здания неизвестно где.
Интересно, подумала я, озаботило бы хоть что-то из всего этого Себастьяна Пьюи? Его лицо в зеркале вроде бы выдавало способность к ощущению вины, но, как и от всех эмоций, отражавшихся на его гладкой физиономии, он, вероятно, и от него избавился бы достаточно быстро.
Зубная паста в гостиничном тюбике зерниста и оставляет во рту легкое жжение. Я выключила свет и стала слушать истории то об экономическом спаде, то о развитии. В местных новостях показывают детишек с выпавшими молочными зубами, победивших в конкурсе на лучший рисунок с пейзажем города. За этим следует рассказ о начатой женщинами кампании против издевательств над домашними животными. Мое сознание начинает постепенно отключаться, когда ведущий новостей громко откашливается, возвращаясь к главному событию момента, начало репортажа о котором я ухитрилась пропустить.
Два образа, которые красноречивее любых слов. Сначала показывают женщину-корреспондента, продрогшую до костей на холодном ночном ветру. Все вокруг залито лучами прожекторов подсветки Бранденбургских ворот. Рядом полиция. Повсюду камеры других телеканалов.
Кадр. Но не из самого фильма. В кадре компьютер, на котором видно какое-то не слишком четкое изображение. Я слушаю слова журналистки, а потом, туго завязав пояс гостиничного халата, скатываюсь по ступеням вниз, в вестибюль. Дежурная за стойкой дремлет. Компьютер для общего пользования свободен. Найти сюжет не составило труда – больше времени ушло на загрузку. Видео с Ютьюба, оказавшееся в центре этой сенсационной истории, впервые появилось еще шесть часов назад. Его удаляли и выкладывали снова, удаляли и выкладывали, удаляли и выкладывали. К четырнадцатой реинкарнации его успели просмотреть триста сорок семь тысяч сто двенадцать пользователей. И их число неуклонно росло.
* * *
Фильм снимался на камеру мобильного телефона последней модели. Вот оператор весело машет рукой сам себе. Его лицо кажется гигантским, когда объектив телефона направлен ближе к носу. И он объявляет по-немецки:
– Это специально для тебя!
Следует серия изображений стен и мостовой, пока он вставляет телефон в невидимый штатив. Потом, ярко освещенный прожекторами подсветки главной достопримечательности Берлина, открывает большую черную сумку и достает канистру с бензином. С ухмылкой он выливает на себя жидкость, его волосы прилипают к лицу, с одежды капает. Когда все вылито до конца, он снова машет в объектив телефона, а потом раскидывает руки в стороны, зазывая аудиторию.
Откуда-то извне доносится крик, и создатель фильма просто сияет от счастья.
– Подходите ближе! Вы как раз вовремя! – призывает он и манит кого-то к себе.
Он достает из кармана зеленую зажигалку, и тут в кадре появляется охранник. Одну руку он держит на кобуре с пистолетом, а вторую вытянул вперед, стараясь успокоить, утихомирить героя фильма, но тот лишь подбадривает:
– Ближе! Улыбайтесь! Вы станете настоящей знаменитостью.
Слова охранника звучат неизбежными в таких случаях банальностями: «Пожалуйста, сэр, успокойтесь, сэр, позвольте вам помочь, сэр». Но подходить ближе он не решается, даже чуть подается назад, когда герой фильма крутится посреди бензиновой лужи, наслаждаясь переполохом, но потом вдруг останавливается, поворачивается к охраннику с совершенно бесстрастным лицом, вытягивает руки и просит:
– Помогите мне.
Охранник колеблется. А кто не растерялся бы на его месте?
– Помогите мне, – следует новая просьба. Ладони сложены в жесте мольбы. – Помогите мне. Пожалуйста!
Охранник добрый человек. Уже ступив мыском ботинка в бензин, он протягивает руку и касается молящих о помощи пальцев. Героя фильма заметно качает, и в ту же секунду протянутая рука охранника превращается в сжатый кулак, который врезается в челюсть создателя фильма. От удара того сначала подбрасывает вверх, а потом он падает в лужу на асфальте. К этому моменту фильм уже продолжается минуту и тридцать одну секунду.
Появляются комментарии: «ОМГ. Минута тридцать одна!!!»
Или: «Черт! Думал, это закончится иначе».
Комментарии заполняют нижнюю часть экрана. Сто пятьдесят три пользователя уже даже оценили свой интерес к фильму значком с поднятым вверх большим пальцем. У меня успевает мелькнуть мысль: подумали ли эти люди, что будет дальше, прежде чем дать такую оценку?
Затем охранник, чей страх внезапно исчез, а бессмысленное бормотание смолкло, уверенным движением наклоняется и забирает зажигалку из руки упавшего человека. Он отступает за пределы лужи, а герой фильма отряхивается, недоуменно моргает, потом открывает глаза и словно впервые оценивает ситуацию, в которой оказался. Охранник же откидывает крышку зажигалки, смотрит в объектив и отчетливо произносит:
– Тебе нравится то, что ты видишь?
Весь пропитанный бензином Йоханнес Шварб с искаженным от ужаса лицом открывает рот и начинает кричать, когда зажженная зажигалка падает в лужу. Охранник спокойно дожидается, пока тело не сгорает дотла, снимает со штатива все еще работающий на съемку телефон и выключает его.
Янус смотрит ролик молча. В ее взгляде отвращение, но не удивление. Когда просмотр заканчивается, она спрашивает:
– Для кого это было сделано?
– Что?
– Он сказал: «Это специально для тебя». Так для кого же?
– Ах вот ты о чем! – ненадолго я и сама совершенно растерялась. – Для меня. Совершенно очевидно, что это было предназначено персонально для меня.
Глава 68
В ту ночь Себастьян Пьюи не смог заснуть. А ведь я перебиралась из тела в тело ночь за ночью, но ни разу как следует не выспалась. И хотя моя кожа могла выглядеть свежей, как весенний цветок, усталость все же накопилась. И я поняла, что даже моему мозгу, как бы ни отличался он от мозга обычного человека, нужен отдых, как необходим он каждому мускулу, нерву, клеточке моего организма.
Спустившись к завтраку с одной простой мыслью: раз наступило утро, то положено завтракать, я несколько удивилась, не встретив в кафе Янус. На стук в дверь ее номера никто не отозвался, а в службе размещения сообщили:
– Да, она уехала рано утром. А вам оставила вот это.
Желтый листок из гостиничного блокнота. Почерк крупный, почти по-детски округлый: «Нужно кое-куда смотаться. Ужинаем в Сен-Гийоме, рю де ла Гард, 53. В пять вечера. Идет? хх». Приглашение на ужин и два поцелуя.
– Где находится этот Сен-Гийом? – устало спросила я.
Клерк за стойкой сверился с планом города.
– У вас есть машина?
– Нет, – вздохнула я. – Но уверена, что сумею туда добраться.
Итак, менять тело опасно. Оказавшись в ситуации, когда вы не можете позволить себе обычное переключение, выход из положения все равно есть. И это лучше, чем ничего. Станьте пациентом, который входит в больницу уже в состоянии искусственно вызванной амнезии и полной растерянности. Тогда никто не запишет это в случаи внезапной потери памяти на ровном месте. Не станет расспрашивать: что вам запомнилось в последний момент? С кем именно вы тогда общались?
Если возникает необходимость поменять тело, не оставив симптомов, которые вызовут подозрения, я рекомендую принять огромную дозу бьющих по мозгам медикаментов. Во французских аптеках найдется все. Только скажите, что вам требуется.
И я отправилась на прогулку по городу, останавливаясь, чтобы купить то снотворное, то обезболивающее, пока моя сумка не отяжелела от весьма странного набора лекарств. Я посетила местный собор, немного почитала и с трудом удержалась от желания удалить некоторые файлы из памяти айпода Себастьяна Пьюи. Купила план района, к которому прилагалась бутылочка питьевой воды, сунула их в коричневую бумажную сумку и пристроилась на лавочке перед входом в отделение реанимации университетской больницы.
Как раз пошел дождь – косые струи с наклоном в сторону моря, – и тогда я запустила руку в сумку, достала пригоршню галлюциногенов в сладкой оболочке и парой глотков воды запила их. Выждала около десяти минут, встала, оставив карту на лавочке, и, сама удивляясь, до чего плохо слушаются меня ноги, до какой степени вдруг захотелось смеяться, дотащилась до больничной двери.
У дежурного приемного отделения реанимации было лицо, способное отпугнуть любую болезнь. Лучше хроническое заболевание, казалось, говорили его хмуро сдвинутые брови, чем пациент, которому потребовалось срочно и искусно оказать неотложную помощь. Я просияла ослепительной улыбкой, перегнувшись через стойку и позволив своим таблеткам свободно выкатиться из сумки наружу.
– Привет. – Слова давались мне уже с трудом. – Понимаете, я основательно накачался веселящими «колесами», и мне очень хорошо. Позволите пожать вашу руку?
Прыжок из трезвого тела в пьяное более чем неприятен. Но и перемещение из накачанного наркотиками организма в нормальный создает свои сложности. Только крайняя необходимость может заставить пойти на это.
Пятнадцать минут спустя (десять из которых я по привычке провела в дамском туалете, убеждая себя, что приступ тошноты носит чисто психологический характер) я уже была крепким санитаром с прямой спиной, в коротковатых брюках, но зато с ключами от машины в руке. Побродив минут пять по стоянке, нажимая на кнопку брелока, я наконец по световому сигналу нашла нужный автомобиль. Затем, позволив себе задержаться только для того, чтобы отключить свой новый мобильный телефон и взять с лавочки план района, уселась за руль машины, насквозь пропахший запахом мужлана-санитара, и отправилась в северную часть города, где находился тот самый Сен-Гийом.
Глава 69
ОДНАЖДЫ в Милане я была женщиной с красивым лицом и густыми бровями. Я владела маленьким, но страшно дорогим желтым «мини». Сев в него в первый раз, я оказалась в полнейшем шоке от расположения подголовника, от близости тормозной педали, от того, что колени буквально упирались в руль. Словом, сиденье было продвинуто вперед так, что я оказывалась зажатой в кабине, словно управляла болидом «Формулы-1». Не проехав и двух миль, я вынужденно остановилась, приспособив под себя все до последнего зеркала. Обеспечив себе комфорт и безопасность вождения, я провела четыре потрясающих дня, посещая самые модные вечеринки в городе. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока ко мне не подошел поздороваться молодой красавец в смокинге. Я уже стала флиртовать с ним, но тут выяснилось, что незнакомый джентльмен – мой брат, которого начало беспокоить легкомысленное поведение сестры.
В понятном смущении я двинулась дальше, а хозяйка моего бывшего тела, казалось, даже не заметила украденного у нее времени, продолжая вести себя как ни в чем не бывало. Но только до того момента, когда попыталась сесть за руль своей машины, которую тут же разбила, врезавшись в полицейский микроавтобус, после чего ее, исходившую истошными криками, доставили сначала в больницу для оказания первой помощи, а потом в суд.
Порой поражаешься, насколько легко люди становятся рабами своих привычек.
Пока я ехала на север, дождь усиливался, вода вскипала на лобовом стекле и мне был виден только темный поток, стекающий передо мной на дороге. Небо совсем почернело, горы окончательно скрылись за промерзшими тучами. Я продолжала думать о Галилео.
Глава 70
Сен-Гийом. Я никогда не бывала там прежде и сомневаюсь, что когда-нибудь вернусь.
Фонари в железных клетках протянулись вдоль карабкающихся вверх улиц зависшими в воздухе розовыми пузырями. У подножия холма открыт единственный магазин – черный балкон нависает над ревущей стремниной горной речки. Улицы совершенно пусты, только иногда мелькнет в дверном проеме силуэт человека, вставшего у порога покурить. Припарковаться оказалось трудно, но еще сложнее найти потом путь по извилистым лестницам, залитым водой: лужи местами казались непроходимыми. Я спряталась под аркой церкви и всмотрелась во мрак рю де ла Гард. Наконец проходившая мимо старая женщина, сложившая зонт, совершенно бесполезный в такой ливень, указала мне место ниже на склоне холма, за углом булочной с закрытыми ставнями и грузовичком для развозки товара, оставленным на ночь прямо на тротуаре. Постоянно поскальзываясь и чуть не падая, натянув плащ на голову, я добрела до дома номер 53, за жалюзи которого виднелся теплый свет, и стала барабанить в дверь, дожидаясь, чтобы меня впустили.
– Открыто! – донесся изнутри мужской голос.
Я толкнула ручку, и дверь со скрежетом отворилась – тяжелое дерево скребло о гранитный пол.
Внутри был растоплен камин, потолок нависал низко над головой. В комнате стоял густой запах лука. Я огляделась в поисках вывески ресторана, но таковой не обнаружила. Помещение скорее напоминало гостиную в обычном доме: белоснежная кружевная скатерть, свеча в бутылке посреди стола. Проем в форме кривой трапеции вел туда, откуда пахло готовящейся пищей и вином. И оттуда же снова раздался голос мужчины:
– Это ты?
– А где Грета? – спросила я.
– Пришлось ее бросить. Надеюсь, ты не возражаешь?
У огня я отряхнула воду со своего насквозь промокшего плаща, обратив внимание на ровную стопку тарелок в серванте у стены, распятие рядом с книжной полкой, фотографию детей, расположившихся вместе с домашними животными за круглым столом в саду под окном дома.
– Янус? – окликнула ее я. – Что происходит?
– Ужин! – ответила она. – Я приезжала сюда в отпуск несколько месяцев назад и теперь вдруг вспомнила это маленькое местечко. Превосходно, подумала я, просто превосходно. Лучшего укрытия и не придумаешь!
Я скинула ботинки, почувствовав, как вода сочится из моих носков на каменный пол перед очагом. Из кухни внезапно донеслось громкое шипение масла, а потом звук, напоминавший козлиное блеяние. Я пошла в ту сторону, пригнувшись, ожидая увидеть Янус.
Это оказался высокий мужчина, привыкший сутулиться, слегка склоняя вперед плечи и голову. Черная рубашка с длинными рукавами была наглухо застегнута. Длинные черные брюки набегали на пару огромных тапочек, отделанных мехом. Он помешивал жарившуюся в винном соусе свинину, обложенную картошкой.
– Можешь подать мне это? – Его рука потянулась в сторону бутылки с вином.
Я молча подала ему вино. Пальцы, ухватившиеся за бутылку, были красно-желтыми. Красными снизу, желтыми сверху, где шрамы зажили неровно и остались борозды.
– Спасибо. – Мужчина (то есть Янус) плеснул в сковороду вина, и снова раздалось шипение. Потом он сам приложился к горлышку.
– Тебе здесь нравится? Я всегда мечтала однажды удалиться на покой в небольшой горной деревушке.
– На покой от чего?
– Не знаю. От всего. Если честно, я даже пыталась уйти от мира пару раз, но мне быстро наскучило. Политика, политика, политика. Знаешь, как тяжело устроить деревенский праздник?
– Даже не догадываюсь.
– Кошмар! – воскликнул он. – Каждый норовит стать главным.
Я взяла бутылку с вином, понюхала и пробормотала:
– Не будешь возражать, если…
– Угощайся.
Когда я наливала себе вино, у меня тряслась рука, хотя я не находила этому никакого психологического объяснения.
С бокалом в руке я повернулась, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. Оказалось, что посмотреть можно только в один глаз. Второй давно удалили, и глазницу покрывал тот же зигзаг вживленной кожи, что проходил по лицу и шее, скрываясь где-то под воротником рубашки. Вероятно, глаз был когда-то красив. Небесной голубизны. Но теперь его прятала грубая кожаная заплатка, уродовавшая лицо Янус. Почувствовав мой взгляд, она ненадолго подняла голову от сковороды, улыбнулась и продолжила готовить.
Я крутила ножку бокала между пальцами.
– Что у нас на ужин?
– Свинина в паприке, красном вине, с белой фасолью, жареной картошкой, черной капустой. А на десерт тебя ожидает сюрприз.
– Не уверена, что смогу справиться с чрезмерным количеством сюрпризов.
– Ты сильная, Кеплер. С тобой все будет хорошо.
По тонкому, чуть искривленному оконному стеклу барабанил дождь, и ночная тишина усиливала звук.
– Где ты оставила Грету? – спросила я.
– В поезде на Нарбонн.
– Не самая плохая идея.
– Я так и подумала, что ты ее одобришь. Заняло потом некоторое время, чтобы вернуться назад, но зато я чиста. А где ты бросила… Как бишь его?
– В больнице.
– И ты теперь вроде похожа на…
– Санитара. А ты?
– Марсель… как-то там. Живу немного отшельником.
– Вижу почему. Химическое или физическое воздействие?
– Взрыв газа, – ответила она, пожав плечами. – Мне пересаживали кожу. Есть специальные растяжки. Не знаю, слышала ли ты. Их внедрили мне в затылок. Они наполнены солевым раствором, и от этого за пару месяцев кожа вытягивается, нарастает, и лишнее можно постепенно убирать. А растяжку переместить в другое место. Занимательный процесс, доложу я тебе.
– А тебе откуда все это известно?
– Провела в клиниках немало времени. – Раздался металлический звук, когда Янус постучала ложкой по краю сковороды. – Помешай пока немного сама, ладно?
Я взялась за дело.
– Если ты все еще на стадии растяжек, – заметила я, – значит, ожоги сравнительно свежие?
– Да, относительно.
– Тебе больно?
– В спальне есть морфий.
– Ты его принимаешь?
– Нет.
– Хочешь, принесу?
– Нет.
– Хочешь, добуду другое тело?
– Нет.
Картошка переворачивалась и снова ложилась на дно сковородки, когда я перемешивала ее. Янус по-хозяйски хлопнула в ладоши. Мизинец на правой руке отсутствовал. Как и большой палец. Три остававшихся казались до нелепости длинными рядом с обрубками.
– Кушать подано!
Я понесла блюдо в гостиную, служившую одновременно и столовой. Янус превзошла саму себя. Свинина оказалась нежнейшей, картофель хорошо прожаренным, капустные листья пропитались перцем, а соус хотелось слизывать с тарелки.
– Где ты научилась так готовить? – спросила я.
– У жены.
– У какой жены?
– У своей жены, – ответила она. – У Полы. Женщины, на которой я была жената.
Часы на камине отсчитывали секунды, а Янус снимала с тарелки остатки картошки и соуса кончиком изуродованного пальца.
– Ты с ней с тех пор встречалась? – спросила я. – Ты виделась с Полой Морган, женщиной, для которой стала мужем?
– Она умерла.
– Умерла?
– Умерла. Майкл Морган выжил, а Пола Морган умерла. Возможно, она не выдержала потери любимого человека и его замены на взрослого ребенка, занявшего привычную оболочку. Или артрит оказался не обычным артритом. Быть может, она просто от всего устала. Вероятно, наелась досыта. Кто может знать реальную причину, когда умирают скромные, незначительные люди?
Палец Янус описал еще один круг по тарелке, собирая последние остатки соуса. Его язык, мелькнувший в открытом рту, показался до странности здоровым, розовым, не тронутым шрамами. Нижняя губа отвисла, оказавшись с одной стороны толще, чем с другой, словно ее погрызла крыса, пока Марсель спал.
– Ты сказала, что часто бывала в больницах.
– Да, так и есть.
– Я разговаривала с Осако в Париже.
– Я любила Осако, – сказала Янус. – У Осако были чуткие пальцы.
– Она упомянула опухоль.
– Да. Это стало проблемой.
– И Майами…
– Мы все время будем разговаривать только о прошлом, Кеплер?
– В Майами у тебя было тело на «Фэйрвью руаяль». Без волос на голове. Я подумала сначала, что это дань моде, но сейчас вспоминаю, что бровей не было тоже. А как насчет Греты? Интересный выбор. Гораздо старше, чем все твои излюбленные Адонисы с круглыми попками, толстый слой косметики, уже очень дряблая плоть…
Янус слизала соус с края тарелки.
– Иногда, – сказала она, – хорошо попробовать немного новизны.
– Янус… – Я отложила вилку в сторону, положила руки на колени. – Ты ни о чем не хочешь мне рассказать?
– Конечно хочу, дорогая, – ответила она. – Дело в том, что я умираю.
– И как тебе это чувство?
– Неплохо. Совсем неплохо. Знаешь, возможно, это лучшее из всего, что я сделала за последнее время.
– Ты уже пыталась. Но никогда не доводила до конца.
Она чуть заметно вздохнула:
– Пока не доводила.
– Опухоль у Осако. Она ведь не просто причиняла неудобство.
– Верно.
– Но ты сбежала. А у мсье Петрэна была такая очаровательная задница. Знаешь, ведь если бы ты захотела сигануть с крыши, то нашла бы человека… Словом, смертельно больного, готового спрыгнуть вниз.
– А ты сама пробовала? Встать на краю. Посмотреть, куда полетишь. Зная, что это пока вовсе не обязательно.
– Я не тороплюсь умирать.
– До поры до времени.
– Мне кажется, что тобой движет какое-то видение, фантазия, а не обязательство.
– Кеплер…
– Меня зовут Самир. – Она тоже принялась вертеть ножку бокала оставшимися пальцами одной руки и большим пальцем другой.
Грета делала то же самое, когда мы ели утку в Монпелье. Мне понадобилось усилие, чтобы не выдать удивления.
– Успела изучить Самира, как обычно? – спросила она.
– Нет, не получилось.
– Странно для «агента по недвижимости». Меня всегда удивляло, зачем ты взялась за такую работу. Ясно, что не ради денег или доступа к плоти. Ты могла все легко заиметь иначе. Что это было? Любопытство?
– Нечто в этом роде. – Мне трудно было отвести взгляд от бокала, продолжавшего вращаться и вращаться между ее пальцами. И я заговорила, чтобы отвлечься: – Легче расположиться в теле, когда знаешь его друзей. Познание всегда должно быть первым шагом при выборе кожи, а мы часто совершаем трагические ошибки, обходясь без него. И возможно… Необходимо своего рода родство с объектом. Например, я решаю стать нейрохирургом. Но мне вовсе не интересно вскрывать людям черепа и рыться в их мозгах. Я не для этого хочу быть нейрохирургом. Мне нужно лишь уважение коллег, любовь студентов, восхищение друзей, знающих, каким сложным делом я занимаюсь. Люблю ли я свою мать? У меня искренняя улыбка или фальшивая? Ношу ли я пурпурные кружевные трусики под моими солидными коричневыми брюками? Я смотрю на людей, как архитектор мог бы рассматривать здание. Вот это – хижина с осыпающимися по краям стенами… А это – дворец, ждущий своего повелителя… Или крохотный коттедж, в котором нет укрытия от озлобленной ненависти и взаимной лжи. Дом с террасами, зажатый между себе подобными. Я смотрю их фильмы, ношу их одежду, нюхаю мыло, которое они предпочитают. Знаешь, есть нечто весьма занятное в том, какое именно мыло выбирает для себя незнакомец. Вот это и есть самое интимное познание. А в нашем положении мы имеем еще и то преимущество, что нам не надо прощать себе прегрешений прошлого – ведь грешили не мы. Нас не ослепляет история жизни, мешающая наслаждаться ее чудесами. «Агент по недвижимости» как раз ищет людей чудесных и цельных, живущих полной жизнью, и если ты поразмыслишь над этим достаточно долго, то, возможно, поймешь, как это здорово. Что ты выбираешь не просто кожу… Не только тело, но личность. От внешности до свойств души.
Бокал вращался в пальцах Янус, но она не сводила взгляда с моего лица. А потом вдруг спросила:
– И ты ни разу не попробовала прожить настоящую жизнь? Десять лет, двадцать? Иметь длительные отношения?
– Мне не хватало терпения.
– Почему?
– Потому что это тяжело.
Молчание. Лишь тикали часы да стучали в окно капли дождя. Потом с ноткой осторожности в голосе она произнесла:
– Кеплер…
– Не называй меня так.
– Но это твое имя.
– Всего лишь название досье, не более того.
– Нет, это ты.
– Я – Самир Шайе.
– Нет. Ты – не он.
– Так сказано в моих водительских правах.
– Нет. Ты – не он. – Она ударила тяжелым мужским кулаком по столу, заставив посуду зазвенеть.
Я успела поймать свой бокал, прежде чем он упал, а потом подняла взгляд и увидела единственный яркий глаз, словно сверливший меня насквозь.
– Кто такой Самир Шайе? – прошипела она. – Какой он? Смешной? Дурашливый, остроумный, великолепный любовник, бальный танцор или приторговывает зельем? Что, черт возьми, Самир Шайе значит для тебя? Как, мать твою, ты смеешь бесчестить его имя, присваивая его себе? Ты – никчемная паразитка, мусор, отброс человечества!
Я держала бокал за самую нижнюю часть ножки, ожидая продолжения. Янус шумно выдохнула и содрогнулась, но вовсе не от усилия. Она прищурила глаз, ухватилась пальцами за край стола, а потом сделала не менее глубокий вдох – долгий и протяжный.
– Я ненавижу тебя, – произнесла она, выплевывая каждое слово сквозь стиснутые зубы.
– Ничего страшного. Я тоже не питаю к тебе особенной любви.
Смех, мгновенно перешедший в сдавленный хрип от боли.
– Позволь мне принести тебе немного морфия, – сказала я. – Это поможет…
– Не надо. Не суетись.
– Но тебе же больно!
– Это нормально… Даже хорошо.
– Как можно считать боль чем-то хорошим?
– К черту твой морфий! – проревела она густым басом так, что я невольно отшатнулась. Она медленно вдыхала, медленно выдыхала, успокаивая себя. А потом отвела взгляд в сторону и спросила: – Что тебе известно о Самире Шайе?
– Зачем это тебе?
– Что тебе о нем известно?
– Да что с тобой такое?
– Кеплер, Самир, как угодно, – говори.
– Я… мне известно не очень много. Он санитар в университетской больнице. Как раз заканчивалась смена. В кармане лежали ключи от машины. А мне была нужна машина. Все получилось очень кстати. Я просто воспользовалась возможностью, вот и все. Марсель…
– Меня зовут Янус.
– Это нелепое имя.
– Неужели? – выдохнула она. – А мне нравится. Мне кажется… оно весомое. В нем и время, и мощь нашли свое отражение. Скоро ты в этом убедишься.
– Янус… – Я вцепилась в край скатерти. – Какого дьявола! Что здесь происходит?
Она открыла единственный глаз, но на изуродованном лице больше не отражалось злости или ненависти. В нем читалось лишь холодное отчуждение.
– Сюда едет Галилео. – Мое тело при этих словах словно парализовало. Я не могла ни дышать, ни говорить, ни двигаться. – Я позвонила Осако. Тоже воспользовалась удобной возможностью, как и ты сама. Позвонила и сказала, что меня зовут Янус. Извинилась, заверила в своих самых теплых чувствах к ней. Сообщила о деньгах, которые она может у меня забрать, если захочет. Мне они больше ни к чему. Она поплакала и повесила трубку. Но, как я думаю, плакала она достаточно долго.
– Достаточно долго для чего?
Янус не ответила. Я вскочила на ноги, сама не заметив этого.
– Достаточно долго для чего?
Вздох, почесывание, гримаса боли.
– Чтобы «Водолей» отследил звонок, – ответила она. – Мне кажется, достаточно долго для этого…
– Когда?
– По-моему… – казалось, она назвала цифру наугад, – часа три назад.
– Ты упомянула… – Слова не шли у меня с языка.
– Тебя? Нет. Но бежать уже поздно. Ты только привлечешь к себе внимание. Вот почему так важен вопрос, насколько хорошо ты знаешь Самира Шайе.
– Почему? Зачем ты это сделала?
– Кеплер… – Она говорила тоном отца, опечаленного школьными оценками дочери. – Ты ведь занимаешься работорговлей. Ты – убийца. Похититель времени. Но суть даже не в тебе. Я слишком важная фигура сама по себе, чтобы мелко мстить случайным знакомым, какой остаешься для меня ты. Тебе следует понимать: как бы я ни ненавидела тебя, я в гораздо большей степени – тысячекратно сильнее – считаю отвратительной именно себя. По-настоящему достойной презрения. И роскошь предоставить вооруженным убийцам сделать то, что я так давно собиралась совершить сама, но не могла решиться, – это редчайший подарок судьбы, который просто невозможно упустить.
Звук дождя. Я стояла, упершись руками в спинку грубого деревянного стула. От напряжения у меня побелели костяшки пальцев. Янус допила остатки вина из своего бокала. Проглотила жидкость. Ее взгляд блуждал, ни на чем надолго не задерживаясь, устремлялся то в потолок, то куда-то еще.
Слова крутились у меня в голове, но я ничего не говорила. Блеф. Розыгрыш. Дурная шутка старого призрака, слишком обозленного и циничного, не помнящего, что его воспринимают не только глазами и органами слуха. Сознание тоже работает. А потому я пристальнее всмотрелась в Янус, а она, почувствовав на себе мой взгляд, посмотрела на меня так, чтобы до меня дошло. Ей действительно было наплевать, умру ли я, ей было наплевать, умрет ли она. Янус не лгала.
И я встала с места. По другую сторону комнаты располагалась деревянная дверь в туалет. Я нырнула в эту каморку с покатым потолком и, как никогда прежде, внимательно взглянула в зеркало над раковиной на лицо Самира Шайе. Я носила его четыре часа, но ни разу толком не видела. Мне слегка за сорок? Прямые темные волосы коротко пострижены, бородку тоже недавно подровняли – не слишком опрятно, но рукой, привычно державшей ножницы, – то есть сделал это я сам. У меня кожа цвета древесины вяза, гладко обработанной шкуркой. Имя то ли французское, то ли мусульманское. Я бы предположила Алжир, но что из этого следует? Мать, отец, место рождения, язык, религия? Я проверяю, нет ли на шее цепочки с крестом, и ничего не обнаруживаю. Ощупываю пальцы в поисках колец, достаю мобильный телефон и бумажник. Телефон я отключила, как только внедрилась в Самира; не стоит принимать звонки, чтобы не совершить промах. Но теперь я снова включаю его и роюсь в бумажнике. Там пятьдесят евро наличными, две дебетовые карточки из одного банка и удостоверения с уже известными мне сведениями – Самир Шайе, старший санитар. В чем состоят обязанности старшего санитара? Я знала это когда-то давным-давно, в свою бытность студенткой медицинского факультета в Сан-Франциско, молодой и красившей ногти на ногах. Много воды утекло с тех пор. Я оставила крашеные ногти в прошлом, когда мне надоело возиться с больными, а потому теперь Самир Шайе стал новой игрой, правила которой следовало выяснить, поскольку они оказались мне в новинку.
Было слышно, как Янус возилась в соседнем помещении. Три часа – достаточно долгий срок для вооруженных людей, имеющих в своем распоряжении вертолет. В кухне потекла вода из крана: Янус мыла посуду.
– Знаешь, они, по всей вероятности, уже здесь! – выкрикнула она.
Очень обнадеживающее и полезное замечание.
Содержимое бумажника. Банковские карты опасны – меня легко спросить о кодах к ним, легко разоблачить, если окажется, что я их не знаю. Читательский билет библиотеки, пара карт на скидки в магазинах, профсоюзный билет, счет из местного гольф-клуба. Кто же он такой, этот человек? Самир Шайе.
Я смотрюсь в зеркало, пробегаю пальцами по бороде, волосам, даже тем, что видны из-под рукава рубашки. Вижу округлые карие глаза, похожие на глаза избалованного ребенка. Ощупываю живот, чуть обвисший, но не постыдно толстый. Когда я приподнимаю брови, ощущение такое, что у меня задирается вверх весь скальп, а если хмурюсь, кажется, будто кожа на лбу сдвигается ближе к носу. Я поднимаю крышку сливного бачка унитаза, бросаю туда телефон и бумажник, после чего ставлю крышку на место.
Теперь вопрос, кто такой Самир Шайе, на самом деле не столь актуален. Важно лишь, кем он кажется.
– Ты готова к десерту? – донесся из кухни голос Янус.
Я еще мгновение посмотрела на свое отражение, а потом выключила свет.
– Что это? – спросила я, возвращаясь в кухню, но теперь говоря на магрибском диалекте арабского языка, слова в котором протяжны и тяжелы на слух.
Янус стояла у раковины, надев на иссохшие руки пару желтых резиновых перчаток, пятна от средства для мытья посуды покрывали рубашку на груди. При звуках моего нового голоса ее брови чуть удивленно взлетели вверх, но она ответила на том же языке с восточным акцентом:
– Крем-карамель с малиновым и ванильным сиропом. Его делают вручную, но продают в местном супермаркете.
– Выглядит аппетитно. Хочешь, я вытру посуду?
Удивление промелькнуло в уголках его губ.
– Если тебе не трудно.
Я сняла с крючка кухонное полотенце, встала рядом с Янус и начала методично вытирать одну тарелку за другой.
– А ты когда-нибудь пробовала приготовить крем-карамель сама? – спросила я, тестируя каждое слово по мере того, как произносила его, запоминая формы, приспосабливаясь к беглой речи.
– Да, один раз. Когда была домохозяйкой в Буэнос-Айресе. Но он растекся у меня в кастрюле. Было похоже на блевотину из бананов.
– Бывает.
– А ты хорошая повариха?
– Прошла через это. Работала шеф-поваром.
– Действительно хорошим?
– Злоупотребляла красным перцем. Управляющий рестораном остался недоволен тем, насколько я не оправдала свою блестящую репутацию, основанную на несколько иной рецептуре. Я заявила, что мне надоели пресные блюда. Мне посоветовали вернуться к прежнему стилю или искать себе другую работу. Я вернулась к прежнему стилю, но все равно нашла себе другую работу.
– Кажется, ты потерпела неудачу.
– Я просто хотела проверить одну гипотезу.
– Какую же?
– Что язык истинного повара в биологическом смысле чувствительнее, чем у остальных, обладая способностью ощущать тончайшие нюансы вкуса, недоступные для других людей.
– И чем дело кончилось? – Любопытство возобладало в голосе Янус. Губка перестала описывать круги по тарелке.
– Будь я проклята, если обнаружила разницу, хотя часто о ней слышала. Впрочем, я побывала в телах величайших музыкантов своего времени, но так и не научилась улавливать пресловутую изящную мелодику Малера. Я носила тела знаменитых танцовщиц, и, разумеется, мышцы моих ног были натренированы для любых па, я легко стояла на пуантах. И все же…
– Что?
– И все же, не имея за плечами школы и опыта, смысл всех этих телодвижений оставался мне не понятен, я танцевала неуверенно. Для меня стало величайшим разочарованием открытие, что одних только легких известного оперного певца или ног балерины недостаточно, чтобы добиться совершенства в искусстве.
– А упорно и тяжело трудиться тебе не хотелось.
– Никто не любит тяжело трудиться. Помогает мотивация. Вот ее-то мне и не хватало.
Мы некоторое время помолчали, занимаясь посудой. В соседней комнате пылали дрова в очаге. Потом она сказала:
– Вероятно, бежать уже поздно.
– Что?
– Я хочу сказать, если они уже здесь…
– О да! Попытка побега вызовет подозрения.
– Так, стало быть, – продолжала она, – ты решила блефовать? Выдать себя за ни в чем не повинного человека?
– Да, план примерно таков.
– И ты считаешь, что посуда тебе поможет?
– Я думаю о том, что люди нашей породы никогда не работают вместе. Мы невероятно одиноки. Мне кажется, мы нуждаемся в друзьях, в компании… то есть в партнерстве больше, чем в компании. А еще я знаю, насколько всем нам страшно. Особенно в одиночестве. Давай приступать к твоему десерту.
– Ты получишь большое удовольствие.
Я поставила на полку последнюю тарелку и прошла в гостиную, пока Янус доставала сладкое из холодильника. Два белых блюдца с кусками пирожного крем-карамель, политых малиновым сиропом, были выставлены на мое обозрение. Рядом с каждым лежала серебряная ложечка. Я попробовала, и вкус действительно оказался приятным. Янус сидела напротив, не прикасаясь к своему десерту. Потом сказала:
– Как…
Я положила в рот еще кусочек.
– Не могла бы ты… – Она начала заново, слегка срывавшимся голосом. Замолчала, тихо вдохнула, медленно выдохнула, чтобы закончить фразу: – Думаю, теперь я готова принять морфий. Принеси, пожалуйста.
Я положила ложку на блюдце и откинулась на спинку кресла:
– Нет.
– Нет?
– Нет. Если хочешь умереть, не стану мешать. Тебе нужен был кто-то, чтобы придать тебе смелости пройти через все это, аудитория для твоей грандиозной финальной сцены. Отлично! Но твое стремление унять боль совершенно меняет дело.
Костяшки ее мужских пальцев чуть не вылезли наружу от напряжения, стали белыми даже под сморщенной покрасневшей кожей. На лице заиграла широкая улыбка, хотя единственный глаз при этом прищурился.
– Как думаешь, Самир, сколько тебе осталось жить?
– Ты лишила меня возможности самой ответить на этот вопрос. Мы обе способны на такое. В этом смысле ты хорошая повариха.
– Я очень старалась. Тебе не…
Последние слова еще не сорвались с ее языка, когда погас свет. До нас не донеслось ни щелчков сработавших предохранителей, ни треска короткого замыкания. Только что свет горел и вдруг отключился, а мы сидели – две тени на фоне оранжевого пламени камина. Дождь барабанил в стекло. Из кухонного крана капало в раковину, из которой до сих пор доносился мыльно-лимонный запах химического средства для мытья посуды. Я посмотрела на тень Янус – спина прямая, шея окаменевшая, пальцы вцепились в край стола. Мы ждали.
– Самир?
– Слушаю тебя.
Ее голос теперь заметно дрожал, руки постучали по дереву.
– Спасибо тебе.
– За что?
– Что не сбежала.
– Как ты сама верно заметила, попытка побега слишком предсказуема.
Топот тяжелых башмаков за входной дверью, промельк тени на дверном стекле. Я подумала о коврах на полу – вода им противопоказана. Потом даже отодвинула свое блюдце от края стола, чтобы его содержимое не опрокинулось вниз.
– С-самир? – Она слегка заикалась, шептала горячо. Казалось, слезы кислотой разъедают ее уродливое сейчас лицо.
– Что такое?
– Удачи тебе.
Какой-то металлический предмет разбил стекло в двери. Я закрыла уши ладонями, но ясно услышала, как светошумовая граната прокатилась по полу. Я нырнула под стол, но вспышка и грохот взрыва все равно с силой отдались у меня в затылке. Свернувшись калачиком, я подтянула колени к подбородку, прикрывая голову, когда входная дверь слетела с петель, а грузные мужчины в тяжелых башмаках вломились спереди и сзади. Их брюки были заправлены в носки, манжеты рубашек скрывались в перчатках. Оглушенная, с пронизывающей болью в мозгу, я все же смогла расслышать и успела разглядеть, как Янус поднялась на ноги, широко распахнула руки и чуть дрожащим голосом почти весело воскликнула по-английски:
– Как же мне, мать вашу, нравится это тело!
Она, вероятно, сделала еще какое-то движение, попыталась ухватиться за кого-то, потому что тут же началась стрельба – целая серия выстрелов сквозь глушители, – которая продолжалась даже после того, как тело рухнуло на пол. Я закрыла глаза, а потом снова открыла их, привыкая к воцарившейся полутьме. И увидела Марселя распростертым по другую сторону стола. Каждый из выстрелов оставил пулевое отверстие в груди, одна пуля прошила горло, другая угодила в нижнюю часть челюсти, голова тоже оказалась пробита. Но даже по трупу они сделали три контрольных выстрела, и каждый раз в месте попадания на теле Марселя лопалась ткань рубашки, брызгала кровь. А потом наступила полная тишина. Лишь дождь все так же стучался в окно.
Затем случилось неизбежное. Кто-то придавил меня к полу, поставив колено чуть ниже спины, ствол пистолета уперся мне в шею, а я начала умолять сжалиться надо мной на самом лучшем, как мне казалось, магрибском диалекте арабского языка.
Глава 71
Военный спецназ никогда и ничего не делает наполовину.
К чему вынимать предохранители, если можно перерезать электрический кабель?
А если можно перерубить один кабель, почему бы не обесточить весь городок?
Это большое удобство.
Я сидела, прижав колени к груди, руки, связанные проволокой за спиной, постепенно немели. Сидела и наблюдала, как вооруженные до зубов люди подняли изломанный и окровавленный труп Марселя… Кем бы он ни был при жизни… Подняли его с залитого кровью пола гостиной, поместили в черный прорезиненный мешок и вынесли на улицу. Пока одни занимались этим, их многочисленные коллеги, вооруженные все, как один, пистолетами с глушителями, все, как один, в натянутых на головы шапочках-масках с прорезями для глаз, чтобы лишь минимальный участок кожи оставался обнаженным, встали вокруг меня, нацелив стволы мне в голову. Выражения их лиц я, естественно, видеть не могла. Лишь время от времени я обращалась к ним с мольбой. Я молила о пощаде, задавала недоуменные вопросы, просила оставить меня в покое. Я взывала к их милосердию от имени моей дорогой и горячо любимой мамочки, которой не выжить без меня. Просила не убивать меня, потому что я еще о многом мечтал и мечты еще не сбылись. Но я намеренно говорила обо всем этом на языке, которого они не понимали.
Одиннадцать мужчин. Чтобы убить Янус, столько не требовалось, но их оказалось ровно одиннадцать, различимых лишь по росту и манере двигаться. Они просветили весь дом фонариками, изучили остатки ужина на блюде в центре стола, сушившуюся на кухне посуду. Они обшарили мои карманы, но, не обнаружив удостоверения личности, облаяли меня по-французски с парижским выговором: «Кто вы такой? Как вас зовут?»
Я лишь примерно догадывалась, как звучит французский язык с алжирским акцентом, но решилась ответить:
– Я – Самир. Самир Шайе. Пожалуйста, не убивайте меня.
– Что вы здесь делали, Самир Шайе?
– Я приехал сюда для встречи с мсье Марселем. Мсье Марсель собирался помочь мне.
– Помочь в чем?
– С работой. Он был друг моего кузена. Пожалуйста. Я не очень хорошо говорю по-французски. Я алжирец, понимаете? Из Алжира. Не так давно в ваша страна. Пожалуйста, отпустите меня. Вы из полиции?
Нет, они не из полиции. Одна почти совершенно темная фигура приблизилась к другой, зашептав что-то на ухо. В чем дело? Кто этот человек?
– Он утверждает, что он алжирец по имени Самир Шайе. У него примитивный французский язык. При нем нет никаких документов. Мы ни в чем не можем быть уверены.
Все взгляды устремляются на меня, изучают лицо. Потом раздается шепот: «Его будут искать?»
Никак не реагируй. Твое знание французского не позволяет вникнуть в суть разговора. Не выдавай особого страха. Полная концентрация на главной задаче – убедить их в своей безвредности.
Затем раздался другой голос, тоже на сильно ломаном французском, но, несмотря на языковой барьер, я узнала эти звуки, а на фоне пламени из очага увидела знакомую фигуру – рост, сложение, пропорции тела. И этот голос произнес:
– Мы не можем оставаться здесь. Берем его с собой?
А голос был знаком, потому что совсем недавно принадлежал мне самой. Такой приятный низкий баритон, с которым я прокатилась по Турции, Сербии и Германии, прежде чем заставила его умолкнуть, заткнув рот носком и приковав тело к радиатору отопления в Зелендорфе уже столько лиц тому назад. И, конечно же, это был голос Натана Койла – преступника, наемного убийцы, фанатика, но, возможно, и моего потенциального спасителя.
Его босс отдал команду:
– Берем его.
Так они и поступили.
Я сидела со связанными руками и с мешком на голове в задней части микроавтобуса, ехавшего неизвестно куда, и молилась. Раскачиваясь в такт словам на бездыханном арабском языке, я бормотала импровизированное обращение к Всепрощающему, Всевидящему, Милосердному и Всемогущему, а когда у меня кончались знакомые клише, переходила на совершенную невнятицу. И добилась, что кто-то из сидевших рядом заорал:
– Пусть его заставят заткнуться!
Рука в перчатке сорвала с моей головы мешок, ухватилась за подбородок и с силой вздернула его. Я смотрела в те самые глаза, которые так долго презрительно щурились на меня из зеркал ванных комнат, а потом услышала, как знакомый голос произнес на плохом французском:
– Помолчи немного. Иначе мы заставим тебя молчать. Понял?
На мгновение мне стало даже обидно, что он не узнал меня, словно было нечто особенное в моих глазах, в блеске радужной оболочки, в черноте зрачка, шептавшее: «Привет, незнакомец!»
– Пожалуйста, – промямлила я. – Моя не делать ничего плохого.
Но Койл лишь снова натянул мне мешок на голову.
* * *
Мы сбросили скорость. Остановились. Чьи-то руки выволокли меня из машины. Сквозь тряпку на лице я совершенно ничего не могла видеть. Хотя бы сияния луны. Голос попросил:
– Кестрел, помоги мне!
Два человека ухватили меня за предплечья с разных сторон и повели сначала по асфальту, потом по гравию, а затем дорога круто пошла вниз по склону холма. Только теперь это уже была обычная тропа, по которой мои ноги то и дело скользили в полной темноте. Снизу доносился шум горной речки, потрескивание веток, а звук мотора сверху постепенно затихал. Вскрикнула птица, чей ночной отдых потревожило вторжение посторонних, земляная тропа перешла в покрытую галькой, а потом стали попадаться влажные камни. Минутой позже я и вовсе оказалась по колени в воде, пересекая речку вброд.
– Пожалуйста, не делать мне больно! – заныла я сначала по-французски, потом по-арабски и снова по-французски. – Я Самир Шайе. У меня есть мать. У меня есть сестра. Пожалуйста! Я ничего дурного не делать!
Рядом со мной находились двое или максимум трое мужчин. Они привели меня сюда на расправу.
– Пожалуйста, – захлюпала я носом, содрогаясь всем телом. – Пожалуйста, не надо делать больно.
В подобной ситуации можно позволить себе даже обмочиться. Это нормально. Чистая физиология.
Щелчок затвора пистолета раздался у моего виска. Такой конец не входил в мои планы.
Янус.
Тебе нравится то, что ты видишь?
– Галилео.
Слово сорвалось с моих губ легким дуновением в темноте, но в то же мгновение чьи-то руки вцепились мне в горло, приподняв и откинув назад мою голову, и, хотя я не могла его видеть, почувствовала, как тело Койла прижалось к моему, а пальцы впились в меня.
– Что ты сказал? – прошипел он. – Повтори, что ты сказал.
– Отойди от него, – резко распорядился второй мужчина, который был у них главарем и, как я уже знала, собирался меня расстрелять.
– Галилео! – Койл снова сдернул мешок с моей головы, всмотрелся в глаза, встряхнул меня и заорал: – Что ты знаешь о Галилео?
Я ответила ему не менее пристальным взглядом и прошептала – еще одно легкое дуновение ночного ветерка:
– Он жив.
Выстрел в темноте. Всего один разряд пистолета с глушителем. Я дернулась, стараясь понять, куда угодила пуля. Державшая меня рука вдруг исчезла, и я опустилась на колени. То же самое сделал и Койл. Его лицо виднелось в нескольких дюймах от моего, глаза расширились, рот округлился от неожиданности и удивления. Я оглядела себя, но раны не обнаружила. Затем посмотрела на него – на его куртке что-то блеснуло. На самом деле на ней расплывалось темное пятно, но, отразив свет фонарика, оно сверкнуло красной вспышкой.
Под ногами стоявшего позади нас стрелка раздался хруст. Как оказалось, он был один. Они послали его одного, чтобы подстрелить двух птичек.
Он смотрел мимо меня на Койла.
– Извини, – сказал он, поднимая пистолет, – я должен исполнить приказ.
Небо у нас над головами полностью прояснилось, и тот его участок, что был виден из этого пробитого речкой глубокого ущелья, покрылся тысячами звезд. Днем здесь, вероятно, было очень красиво: черные камни, омываемые серебристым потоком воды. Но при свете фонарика, привязанного к глушителю пистолета, это уединенное местечко идеально подходило для убийства.
Койл шевельнулся. Во мраке я не могла разглядеть, как в его руке оказался пистолет, но угадала суть движения, увидела, как луч фонарика вдруг заметался и ушел куда-то в сторону, услышала двойной звук пистолетных выстрелов, на мгновение окрасивших округу в химически желтый цвет, различила удар свинца в тело и в кость человека. Я посмотрела на убийцу. Тот вроде бы снова изготовился для стрельбы, сделал шаг вперед, но оступился на камнях. Сделал еще шаг, вот только ноги уже отказались ему служить. Он упал, раскроив себе череп, а руки бессильно уронил в воду.
Койл тоже повалился навзничь, ударившись о землю сначала грудью, затем лицом, голова его вывернулась набок на скользких от влаги камнях.
Высоко над нами смутно виднелся свет фар микроавтобуса, но оттуда не донеслось ни звука. Никто не услышал выстрелов, никто не поспешил явиться с проверкой.
– Койл! – шепотом окликнула я.
Услышав свое имя, он попытался приподнять голову.
– Освободи мне руки! – Но его голова снова опустилась на камни. – Я могу помочь тебе. Я тебя спасу! Только перережь проволоку!
Совсем по-детски я подползла к нему на коленках, перевернула на спину и снова заметила, как блеснула кровь, продолжавшая сочиться из раны.
– Койл!
Хотя его глаза оставались открытыми, он не отвечал на мой зов. Я склонилась к его лицу. Только тонкая белая линия оставалась открытой вокруг его глаз. Всю остальную кожу покрывали защитные слои из ткани, пластика и клейкой ленты. Но мне было достаточно. Я склонилась еще ниже и поцеловала его прямо в нежную поверхность глаза.
Боль. Я едва не издала крик, но успела подавить его, плотно зажав рот ладонями, вся дрожа и сотрясаясь от боли, пронизавшей тело. Она волнами пробегала по напряженным мышцам шеи, через мой сведенный судорогой живот, опускалась до уровня коленей и терялась где-то в пульсации, ощущавшейся в стопах. А источником боли была пуля. Небольшого калибра, замедленная глушителем при выстреле, но все-таки пуля, засевшая ближе к правому плечу прямо в центре крупного нервного узла, разорвав часть пучка, отчего притупились некоторые другие чувства. Прямо передо мной Самир Шайе покачнулся на коленях, беспомощно моргая ресницами, еще не привыкнув к темноте. Я приподнялась на левом локте и услышала, как кровь бьется в вене у меня за ухом, когда Самир начал причитания с обычным рефреном: «Что, как, где?» – причем его голос постепенно становился все громче от нараставшей паники. Я встала на колени, пошарила в карманах рубашки, брюк, ощупала пояс, пока не нашла нож с небольшим лезвием.
– Подождите, – прошептала я, но мой надтреснутый голос был едва слышен, а Самир уже заметил быстро остывавший труп слева от себя и начал кричать, стенать, издавать жалобные восклицания, неизвестно к кому обращенные и лишенные смысла.
– Подождите, – снова прохрипела я, снимая балахон с прорезями для глаз со своей головы. – Не надо поднимать шум.
Он лихорадочно вдохнул и охнул, когда я приставила нож к его спине, но подавил рвавшийся наружу новый крик. Я подвела лезвие под проволочные путы, связывавшие его руки, и резким движением вверх, от которого сама чуть снова не повалилась наземь, перерезала их. Он упал на четвереньки, весь содрогаясь, а я направила лезвие ему в горло. Он замер, как затаившийся зверек.
– Послушайте, – прошептала я сначала по-арабски, затем по-французски, лишь потом вспомнив, что Самир, каким его изобразила я, не обязательно был реальным Самиром Шайе. – Я быстро истекаю кровью. Прикоснитесь к моей коже.
Страх и недоумение читались в его глазах. Вывернув кисть руки, я чуть надавила на нож, чтобы он слегка царапнул острием его шею.
– Прикоснитесь к моей коже.
Я продолжала держать лезвие у его шеи, когда он склонился и трясущейся рукой провел по моей щеке. В ту же секунду я швырнула нож в темную воду реки и переключилась.
У меня бешено колотилось сердце, брюки намокли от мочи, в глазах стояли горячие слезы, готовые пролиться, но какое же я испытала облегчение! С криком боли Койл вновь распластался на камнях, зажимая пальцами рану. Я вытерла кровь со своих рук и тихо спросила, почти прижавшись к нему, ощущая жар его тела:
– Койл! У вас есть аптечка или какие-нибудь медикаменты?
– В микроавтобусе, – ответил он. – Все в микроавтобусе.
– Далеко мы от города?
– В четырех милях. Нет, скорее в пяти. В пяти! – Его лицо исказилось, ноги начали пинать пустоту, а тело извивалось подо мной. Так извиваются люди, стремящиеся избавиться от страха или напоминающие самим себе, что у них остались участки тела, где нет боли. Он делал и то и другое.
– Я могу помочь тебе! Мне под силу забрать тебя отсюда. Тебя предали твои же товарищи… Ты слышишь меня?
Едва заметный кивок, хриплый вздох раненого, истекающего кровью человека.
– Я могу вытащить тебя отсюда, оказать медицинскую помощь, но для этого ты должен полностью мне довериться.
– Кеплер? – Ненужный вопрос, но он все равно его задал.
– Я могу помочь, но тебе придется дать мне свое кодовое имя, свой позывной.
Легкий смех, быстро сменившийся стоном от резкого приступа боли.
– Койл! – не выдержала я. – Или Кестрел? Так ты теперь себя называешь? Они собираются убить тебя. Я сохраню тебе жизнь. Говори же!
– Аврелий, – прохрипел он. – Мой позывной… Аврелий.
Я прижала тыльную сторону ладони к его лицу.
– Если ты солгал, – шепотом сказала я, – мы умрем оба.
– Сама поймешь.
– Мне понадобится твоя одежда, – сказала я, дотягиваясь до ремня, но его окровавленная рука легла поверх моей, прежде чем я расстегнула пряжку. – Поверь, я знаю, что делаю. Мне все это хорошо знакомо.
Его рука оставалась на месте.
– Мне нужно скрыть лицо.
Он убрал руку, и мне удалось стащить с него брюки – одну штанину за другой. Когда я снимала его рубашку, она хрустела, как застежка на липучках. Под ней оказался комбинезон из лайкры, на котором кровь блестела особенно отчетливо, растекаясь подобием живого организма, заполняя швы и мелкие поры в ткани. Его брюки оказались слишком короткими, куртка слишком узкой, чем я была даже несколько удивлена. Я натянула на лицо шапочку-маску, от которой разило его потом. Потом взяла пистолет и проверила обойму. Прижала свою скомканную рубашку к его ране, почувствовав, что он скривился от боли.
– С тобой все будет в порядке, – пробормотала я, снова удивившись перемене в своем голосе. – Ты выкарабкаешься.
– Этого ты знать не можешь, – возразил он.
Я вынула из пистолета обойму, отшвырнула ее в сторону, засунула руки поглубже в карманы, чтобы никто не мог увидеть обнаженных участков моей кожи. Затем начала взбираться по земляной тропе, ведшей вверх по крутому берегу реки, которую дождь сделал еще более предательски скользкой, направляясь к стоявшему на дороге пассажирскому фургону.
Глава 72
Я насчитала одиннадцать человек, которые приехали в Сен-Гийом для расправы над калекой по имени Янус. Но только трое ждали у припаркованного на обочине над рекой микроавтобуса с сиявшими белым светом включенными фарами. Двое из них уже чувствовали себя вполне раскованно, сняв маски и открыв лица – одно мужское, другое женское – и зажав между пальцами раскуренные сигареты. Трудно прикурить, если на руках шерстяные перчатки, невозможно сладко затянуться с лицом, скрытым под маской.
По всей видимости, они ничего не знали о том, что случилось у русла реки. Им, вероятно, сообщили бы, что смерть Койла стала результатом несчастного случая, а не хладнокровной казни. Они всего лишь исполняли чужие приказы.
Мои руки прятались в карманах, лицо закрывала шерсть. В темноте ночи моя фигура была для них знакома, если и не сразу узнаваема, и я была одна.
Когда я приблизилась, стоявший рядом с фургоном мужчина повернулся и окликнул:
– Геродот?
– Нет, Аврелий, – ответила я быстро, по-деловому, добавив: – Думаю, нам может понадобиться молоток.
Недоумение и любопытство промелькнули в выражении лица женщины, но у меня оказалось достаточно времени, чтобы от края дороги переместиться к задней двери микроавтобуса, на расстояние полуметра от ближайшего мужчины, и, не делая больше никаких лишних движений, я достала руки из карманов. Он едва ли успел заметить мою обнаженную плоть, когда я прижала пальцы к его открытому лицу и совершила прыжок.
Алюминиевая кружка с кофе упала на землю, укатившись куда-то в заросли у кювета; Самир Шайе покачнулся и задрожал, ощупывая руками свой странный головной убор. Я же стремительно выдернула пистолет из кобуры, всадив одну пулю в бедро женщине, а другую в живот стоявшему рядом с ней мужчине. Когда они упали, я подошла, забрала у обоих пистолеты и, не зная другого способа избавиться от них, кинула подальше в сторону ущелья, услышав, как они со стуком покатились вниз по камням. Все еще с пистолетом в руке я подобралась к водительской двери микроавтобуса, никого за рулем не обнаружила и резко повернулась к Самиру Шайе, замершему на месте и мявшему в руках снятую шерстяную маску.
– Привет, – сказала я. – Вы ведь санитар, верно? Внизу у реки лежит человек в костюме из лайкры. Вам придется вытащить его оттуда. У него огнестрельное ранение. Этих двоих тоже подстрелили, хотя только время покажет, насколько серьезно. Я убью вас, их и любого, кто проедет мимо, если вы не сделаете то, о чем я прошу. Понятно?
Он все превосходно понял.
– Вот и прекрасно! – делано бодро воскликнула я. – Кажется, я видела фонарик в «бардачке» водителя. Буду следить за вами по лучу света.
В темноте время тянется медленнее. Дешевый пластмассовый хронометр на моем запястье показывал часы и минуты ядовито-зеленым мерцанием, которое бы вызвало раздражение у любого нормального человека. Небо, еще недавно с такой охотой поливавшее землю дождем, покрылось сонным слоем напоминавших туман облаков, протянувшихся вдоль горизонта между вершинами гор и звездами. Я расположилась в стороне от лучей фар микроавтобуса, убрав пистолет в карман, с фонариком в руке и наблюдала, как крохотный круг от фонарика Самира движется далеко внизу у русла речки.
Что до тех двоих, кого я ранила, то мужчина с пулей в животе потерял сознание. Оно и к лучшему для всех нас, подумала я. Женщина чувств не лишилась, лежа с рукой, прижатой к бедру, часто и прерывисто дышала, глаза ее были исполнены болью. Кровь, сочившаяся между ее пальцами, растекалась по асфальту лужицей, казавшейся яркой и не слишком большой в свете фонарика, но черневшей и представлявшейся необъятной, когда лишалась подсветки. Моя пуля не задела ее бедренную артерию, отчего она до сих пор еще была жива, но не спешила благодарить меня за это.
Я оперлась спиной о микроавтобус и допила остатки их кофе. Общаться было не с кем, даже если бы захотелось. Свет от фонарика Самира начал подниматься вверх. Направив луч к началу тропы, я ждала появления двух покрытых грязью фигур. Койл перекинул одну руку через плечо Самира, другая же изломанно лежала поверх раны, из которой продолжалось отчетливо заметное кровотечение. В ярком луче моего фонарика он казался бледным и посеревшим, а его губы слегка посинели. Лицо Самира, напротив, побагровело от натуги, зубы стиснулись от непомерных усилий, губы сложились в гримасу, которая бывает на морде лошади, готовой вот-вот понести.
– Положите его внутрь, – велела я, жестом указывая на заднюю дверь микроавтобуса.
– Что здесь произошло? – выдохнул Койл, помутившимся взором оглядывая двух человек, лежавших на земле.
– Их босс стрелял в тебя. И мне как-то было не до выяснений, насколько это соответствует правилам вашей компании.
Койл не издал ни стона, когда Самир осторожно положил его на пол в задней части фургона, что я восприняла как дурное предзнаменование.
– Вы санитар. Помогите же хоть чем-нибудь.
– А потом вы меня убьете?
Когда я задавала подобный вопрос, то делала это на дрожавшем арабском языке. А теперь услышала голос самого Самира, говорившего на хорошем французском с обычным для этих мест южным акцентом. В какой-то степени, показалось мне, созданный мною образ Самира больше соответствовал его внешним данным, чем его реальная личность.
– Даю вам слово, что, если вы остановите кровотечение у этого человека, останетесь в живых. А если попытаетесь сбежать, я действительно убью и вас, и тех двоих. Вы меня понимаете?
– Почему я должен вам верить? Я вас совершенно не знаю.
Я даже почувствовала нечто вроде восхищения. Трясущийся от страха, замерзший Самир Шайе, очнувшийся в темноте со связанными руками, показывал незаурядную силу духа среди ночи в незнакомом и уединенном месте.
– Как вы ничего не знаете о том, что с вами случилось и почему вы здесь оказались. Между тем дела обстоят очень просто. Вы можете рискнуть и решиться на побег, а можете рискнуть и остаться. Причем решить, что для вас предпочтительнее, вам придется на основе минимальной информации, которой вы располагаете.
Он взвесил свои возможности и избрал наиболее мудрый вариант.
Через пять минут он сказал:
– Этому человеку необходимо переливание крови.
– Ты знаешь свою группу? – спросила я Койла.
– Разумеется, – прохрипел он сквозь зубы с пола микроавтобуса. – А вот знаешь ли ты свою?
– Мой друг – большой шутник, – доверительным тоном сообщила я Самиру. – Старается мужественно сохранять чувство юмора в любой ситуации.
– И тем не менее, – сказал санитар, – нужна кровь. В противном случае не могу ничего гарантировать.
– Я немедленно этим займусь. Оставьте аптечку себе. Она, вероятно, понадобится тем двоим. У одного из них наверняка есть мобильный телефон. Мой вам совет: позвоните в полицию – но только в полицию – сразу же после нашего отъезда.
Глава 73
Когда мы отправились в путь, Самир Шайе некоторое время оставался темным силуэтом в зеркале заднего вида. Я носила его тело менее восьми часов, но его жизнь теперь изменилась навсегда – он больше не станет прежним Самиром Шайе.
Койл продолжал лежать на полу фургона у меня за спиной, прижав руку к наложенной на рану повязке, посеревший и прерывисто дышавший. Я накинула ему на плечи его куртку, обмотала ноги одеялом, но он все равно дрожал, и зубы его стучали, когда он спросил:
– И что теперь?
– Надо избавиться от микроавтобуса. Доставить тебя к врачу.
– Я твой заложник?
– Звучит более зловеще, чем необходимо.
– Зачем ты мне помогаешь?
– Я помогаю только себе. Всегда. Ты хочешь оставаться в сознании?
– А ты желала бы меня усыпить?
– Нет.
– Тогда я тоже не хочу отрубаться.
Я ехала на север, следуя по самым крупным указателям в сторону наиболее оживленных магистралей. Судя по пробитым горными потоками расселинам и черным соснам на склонах холмов, мы углублялись в Центральный массив, постепенно приближаясь к единственному скоростному шоссе, проложенному через это иссохшее плато, вулканическую поверхность которого местами рассекали влажные долины. Зазвонил лежавший рядом на пассажирском сиденье мобильный телефон. Я проигнорировала звонок. Через несколько минут вызов повторился.
– Ты не хочешь ответить? – Голос Койла, не более чем хриплый шепот, сзади.
– Нет, не хочу.
Замелькавшие вдоль дороги фонари с люминесцентными лампами стали предвестниками нашего приближения к скоростной дороге. Указатели приглашали свернуть к древним замкам и городкам, где жили искусные ремесленники. Эти городки сулили средневековые стены, монументы катаров[14], секреты ордена храмовников, гербы госпитальеров, туристические магазины сувениров, где в затемненных витринах были выставлены мечи, щиты, оккультные знаки, а возможно, и рецепты старинных снадобий.
Телефон снова зазвонил. Я не обратила на это внимания. Зазвонил еще раз. Я и бровью не повела.
На окраине одного из городков я свернула на совершенно пустую в такой час стоянку перед супермаркетом. Телефон зазвонил в четвертый раз, чуть ли не подпрыгивая от усердия на сиденье рядом со мной. Я нажала на кнопку громкой связи и ответила. В трубке отчетливо послышался резкий вдох. Потом – молчание. Я откинулась на спинку сиденья, наполовину закрыв глаза при оранжевом свете фонарей на парковке, и ждала. Вполне вероятно, что кто-то на другом телефоне делал то же самое. И молчал.
Воцарилась оглушительная тишина включенной линии телефонной связи. Когда я напрягала слух, мне чудилось, будто я слышу нарочито медленное и ровное, выжидающее дыхание.
Позади меня заерзал Койл в явном предвкушении начала разговора. Но я не произносила ни слова. Лишь дыхание в трубке. И по мере того как молчание все длилось и длилось – тридцать секунд, сорок, минуту, – мне постепенно стало мниться, что дыхание участилось, звучало все отчетливее, и на ум для него приходило только одно определение: взволнованное. Радостное и чуть испуганное дыхание ребенка, играющего в прятки в темноте.
Я выжидала. Мне было комфортно выжидать. Никаких паролей, никаких отзывов не требовалось. И вот она – перемена. Размеренное дыхание прервалось и перешло совсем в другой звук. Хихиканье.
– Алло! – сказала я.
Звук исчез так же внезапно, как и возник.
– Я ведь тебя вижу, – пробормотала я. – Я тебя вижу. Ты опоздал. Отступи, перестройся, попробуй заново. Но я все равно тебя разгляжу, кем бы ты ни был.
Молчание на линии.
– Тебе не следовало отдавать приказ убивать хозяйку моего тела. Я знаю зачем, понимаю причину. Но когда придет момент расплаты, мне нужно, чтобы ты вспомнил именно об этом. – Я дала отбой, достала из телефона батарейку и сунула все вместе под сиденье. Снова завела машину и выехала со стоянки. Шины шелестели по влажному асфальту. С хлюпаньем начали работать «дворники». Потом Койл спросил, хотя, вероятно, знал ответ заранее:
– Кто это был?
– Мне кажется, твой хороший знакомый.
– Почему он не разговаривал с тобой? – Койл пытался приподняться на здоровой руке, стараясь увидеть мое лицо в зеркале заднего вида.
– Ему нечего мне сообщить.
– Скажи мне, кто он.
– А как ты думаешь?
– Хочу, чтобы ты назвала его.
Я пожала плечами:
– Галилео Галилей был блестящим ученым. Даже обидно, что вы дали такое имя этой твари.
– Все, что мы когда-либо делали, – это стремились остановить его.
Я попыталась улыбнуться, хотя он все еще не мог разглядеть выражение моего лица, и постаралась придать голосу хотя бы отчасти уверенное звучание:
– Скажи, у тебя нет ощущения, что ты теряешь время?
Он не ответил.
– Конечно, есть, – вздохнула я. – Все ощущают нечто подобное. В два часа дня ты садишься почитать книгу и не успеваешь оглянуться, как уже пять вечера, а ты одолел всего две страницы. Вероятно, тебе случалось идти домой по знакомым улицам, терять концентрацию внимания, а потом, придя в себя, обнаруживать, что ты уже на месте, вот только времени прошло слишком много и уже гораздо позже, чем ты рассчитывал. В списке твоего мобильника значится звонок, а ты не помнишь, как его делал. Вполне возможно, объясняешь ты себе, что номер набрался случайно, когда ты прижался карманом, где лежал телефон, к обеденному столу. Или оказываешься в приемной, где лежат журналы трехлетней давности. Тебе вроде бы наплевать на это, но боже мой! Прошло столько времени, а ты не понимаешь, куда оно делось. Нам и требуется-то всего несколько секунд. Заставить передать свой бумажник какой-то незнакомой женщине. Поцеловать незнакомца, позвонить куда-то, плюнуть в лицо человеку, которого любишь, ударить полицейского, толкнуть пассажира на рельсы перед самым прибытием поезда. Отдать приказ голосом, известным всем своей властностью: Натан Койл должен умереть. Я способна изменить твою жизнь за десять секунд. А когда закончу, ты, представ перед судом своих соратников, сможешь сказать только: «Даже не знаю, как это со мной случилось». Так что скажите мне, мистер Натан Койл, вы теряли счет времени?
В микроавтобусе, как прежде в телефоне, воцарилось молчание.
– Я так и думала.
…В городе Кавальер («ЖИВИТЕ ПРОШЛЫМ!» Офис туристической информации открыт с десяти утра до трех дня, с понедельника по четверг. Соблюдается сиеста.) на плане, прикрепленном к выложенной из бежевого кирпича стене церкви, обозначена небольшая клиника. Дверь, ведущая в нее, практически не отличается от дверей небольших домов, расположенных вдоль узкой улочки. Ее выделяет лишь небольшое объявление рядом со звонком, которое просит пациентов не курить на ступенях.
Я неуклюже припарковалась чуть ли не посреди улицы, не глуша мотор, и пробралась мимо двух сидений назад. Койл все еще находился в сознании, все еще дышал, хотя глаза у него покраснели, а пальцы скрючились, как когти хищной птицы.
– Как ты? Держишься? – спросила я.
– А ты не видишь?
– Я задала вопрос просто из приличия. Помни, что не я в тебя стреляла. Помни, что приказ тебя убить отдали твои же коллеги.
– Зачем?
– Зачем помнить или зачем они отдали такой приказ?
– Меня интересует и то и другое.
– Мог бы и сам догадаться, – сказала я, перенося вес тела вперед и удобно пристраивая руки на коленях. – Не говоря уж о том, что ты скомпрометирован общением с личностью, проходящей под кодовым именем «Кеплер», ты вообще превратился для них в источник головной боли. Ты одержим Галилео. Провалил задание. И к тому же ознакомился с досье, которое, возможно, не предназначалось для твоих глаз. Вопреки моему очень разумному совету, ты наверняка начал задавать вопросы. Например: «Для чего понадобилось убивать Жозефину?» Или: «Бывал ли Галилео во Франкфурте?» И еще: «Когда вы говорите о программе вакцинации, что конкретно имеется в виду? Каковы ее параметры?» Или… Что-то в таком роде. Я ошибаюсь?
Он не ответил, стало быть, я не ошибалась.
– Почему твои же друзья решили тебя убить? Это еще более простой вопрос. Был отдан приказ. Звонком по телефону или письмом по электронной почте. И тот, кто отдал приказ, знал все пароли, обладал авторитетом и властью, чтобы отдать такой приказ. Разумеется, вы приняли меры предосторожности против нежелательного проникновения. Нужно соблюдать определенный протокол, чтобы избежать случайностей. Но только эти протоколы хороши, пока ими не злоупотребляет тот, кто их и создал. А разве можно знать точно, кем сейчас отдаются распоряжения?
– Ты считаешь… он проник в «Водолей»?
– Да.
– На самый верх?
– Да.
– Каким образом?
– У него было достаточно времени.
– Но зачем? – Сейчас он боролся не только с болью, старался заглушить ощущения, неподвластные даже морфию. – Зачем?
– Потому что вы ему полезны. Потому что если бы я захотела изучить призраков – глубоко изучить, выяснить, как и чем они живут, то я, вероятно, тоже создала бы организацию, подобную «Водолею». Держи своих врагов поближе к себе, как гласит старинная мудрость.
Он ничего не ответил, избегая встречаться со мной взглядом. Его дыхание еще более участилось, хотя каждый вдох давался с трудом. Кожа его блестела от выступившего на ней холодного пота.
– Ты все еще теряешь кровь.
Ответа не последовало.
– Я могу тебе помочь, но сначала тебе придется кое-что сделать со мной.
– Что именно?
– Мне нужно, чтобы ты привязал меня к сиденью и наставил на меня пистолет.
Его рот сначала округлился от удивления, а потом челюсть и вовсе отвисла, когда он все понял.
– Ты по-прежнему хочешь меня убить? – спросила я.
На его лице промелькнула улыбка, которая на самом деле улыбкой не была.
– Да.
– Ты считаешь это хорошей идеей?
– Да.
– А сам ты жить хочешь?
Кажется, на этот вопрос ответа у него не нашлось. Я кивнула, не вложив в это движение определенного смысла, и протянула в его сторону свои обнаженные замерзшие руки, чтобы привлечь к себе полное внимание. Он не двигался, пальцами по-прежнему держась за рану, а голову склонив чуть набок.
– Галилео отдал приказ убить тебя, – тихо сказала я, – и в «Водолее» подчинились приказу. Мне теперь все это интересно не меньше, чем тебе. Но мы не установим истину, позволив тебе истечь кровью здесь и сейчас. А потому другого выхода нет.
Он приподнялся на локте.
– Свяжи себя проволокой сама. И отдай мне пистолет, – прохрипел он.
Я решилась не сразу, но потом все же отдала пистолет. Его палец сразу лег на спуск. Он орудовал пистолетом легко, как дирижер палочкой, оценивая его вес, обдумывая открывшиеся возможности. Осмотрев оружие, он опустил руку вдоль тела. Я же в этот момент примотала себя за кисти к крюку над дверью пассажирского сиденья, затянула проволоку зубами, пока она глубоко не врезалась в кожу, но на всякий случай подтянула путы еще сильнее. Сама по себе высота микроавтобуса создавала дополнительные неудобства. Я не могла ни выпрямиться во весь рост, ни оставаться сидеть, а балансировала в воздухе с подогнутыми коленями и задранными вверх руками, болтаясь, как старое пальто на вешалке.
– Сделано, – сказала я, обращаясь к сидевшему на полу Койлу. – Теперь, если не возражаешь, твоя очередь.
Он встал на колени, прижимая пистолет к моей груди. Оперся на одну ногу, и на секунду мне показалось, что он сразу же упадет, но вторая нога тоже распрямилась, и он то ли шагнул, то ли качнулся в мою сторону, не сводя с меня глаз.
Вот он, решающий момент. Момент полнейшей неизвестности для меня.
А может, я совершила непростительную ошибку? Его палец играл с курком пистолета.
У меня было слишком мало времени, чтобы продумать план. Найти вариант получше. Я совершила ошибку, вообще оставив этого человека в живых. Так мне подумалось сейчас. Вполне возможно. Быть может, у меня не будет даже времени как следует усвоить этот урок.
Затем он пошарил по полу и достал что-то черное и уродливое. Шапочка-маска, давно снятая. Его губы скривились в новом подобии улыбки. Он сблизился со мной и взмахнул маской в воздухе, отдавая команду не словами, а жестом. Открой рот пошире.
Я облизала губы.
– Тебе очень больно, Натан Койл? – спросила я.
– Узнай сама, – ответил он.
Я постаралась сделать все, чтобы не дать кляпу проникнуть слишком глубоко, когда он запихнул комок влажной шерсти мне в рот, но тот все равно достиг моего горла, вызвав позыв к рвоте. Я подавила его, ощущая вкус грубой материи, грязи, сигаретного дыма. Палец Койла лежал на курке. Ствол он направил мне в грудь, проверяя, крепко ли я себя связала. Еще один момент истины.
Он явно обдумывал дальнейшие действия, но кровь уже сочилась сквозь белизну совсем недавно наложенных бинтов, запеклась коричневыми полосами на его пальцах и шее.
Он посмотрел на меня. Я ответила ему таким же прямым взглядом. Рука его дрожала, когда он протянул ее ко мне, задержав в дюйме от моей руки. Его всего трясло, и совсем не от холода. Даже не знаю, намеренно ли он сделал это движение или не смог больше удерживать даже веса собственной руки. Его кожа коснулась моей, и я совершила прыжок. От облегчения ли закружилась голова? Со все еще мутным взором наш потенциальный убийца натянул путы, закрепленные на крюке, а я отшатнулась, схватившись за рану. Боль пронизывала не все тело, она превратилась в локальную пульсацию, огненно-горячее биение в такт моему пульсу. Задохнувшись, я прижалась к борту микроавтобуса, буквально ощущая, как кровь тонкими струйками растекается по моему черепу, и утерла навернувшиеся на глаза слезы. Мой пленник продолжал натягивать проволоку, резко дернулся, стремясь выпрямиться, но затем вновь поник, бормоча что-то неразборчивое сквозь шерстяной кляп. Я нацелила на него пистолет и прошипела:
– Не испытывай мое терпение. – Потом одарила его своей самой приветливой улыбкой, выставила ослабевшие ноги поочередно через задние двери и выбралась из машины.
Ночной дежурной медсестре понадобилась целая вечность, чтобы выйти на звонок. А когда она все-таки вышла, то первым делом увидела мое лицо, серое и запятнанное кровью, отчего ее собственные черты мгновенно смягчились в выражении сочувствия. Но затем она разглядела бинты, обернутые вокруг моего плеча и груди, догадалась, с чем ей предстоит иметь дело, вот только я уже успела ухватить ее за палец и поддержать начавшего падать Койла, обняв его за талию.
– Все хорошо, – прошептала я своим новым и гораздо более нежным голосом. – С тобой все хорошо.
Я осторожно позволила ему опуститься и сесть на ступени перед дверью. Постепенно он сумел сфокусировать зрение и посмотрел на меня:
– Кеплер?
– Я добуду для тебя кровь, – сказала я вместо ответа. – И болеутоляющие. Так какая у тебя группа?
– Ты в самом деле сделаешь это?
– Какая группа? И самое время сказать, на что у тебя аллергия, при ее наличии, разумеется.
– Вторая группа, резус положительный.
– Хорошо. Оставайся здесь. И если твой коллега в фургоне чересчур разорется, пристрели его.
– Кеплер! – окликнул он, когда я уже начала подниматься по ступеням в легких туфельках медсестры. – Он не просто коллега. Он – мой друг, знаешь ли.
– Ладно. Как ты с ним разберешься, дело твое.
Клиника была залита ярким белым люминесцентным светом. На мне был халат синего цвета, нуждавшийся в стирке, удобная обувь и густой слой помады, но сегодня я явно выпила слишком мало кофе. Перед тем как в дверь позвонили, я смотрела телевизор, программу об игре в покер. Камера была направлена прямо на зеленое сукно стола; на экране мелькали руки, карты, упускались выгодные возможности. Я оставила все как есть. В небольшом приемном отделении никого не оказалось. В самом темном углу посверкивал торговый автомат. Стойку регистрации закрыли, опустив жалюзи. Из этой комнаты вел коридор с многочисленными стеклянными дверями по обеим сторонам, за которыми стояли пластиковые кровати, заправленные белоснежным постельным бельем. Я проверила все двери, пока не добралась до наиболее надежно запертой, охлопала свои карманы и нашла связку ключей. Леди Удача улыбнулась мне в тот день еще раз – дверь оказалась на обычных замках и задвижках. Никакой электроники, к которой надо знать код. Три ключа из одиннадцати подошли к замкам, дверь открылась.
Располагавшаяся за ней комната оказалась сокровищницей самых разнообразных лекарств от самых опасных и омерзительных болезней. Французские аптеки. Нигде в мире вы не найдете столько потенциально ядовитых снадобий, готовых к употреблению и вполне доступных. Обнаружить место хранения болеутоляющих средств не составило труда – замок самого крепкого шкафа в помещении открывался самым тяжелым из ключей. А вот запасы крови для переливания оказались в этой клинике крайне скудными, ограниченными необходимым минимумом. Поэтому на каждой упаковке уже было написано ее предназначение. Одна для престарелого джентльмена, пока не сумевшего добраться до больницы для переливания, другая для молодой женщины, у которой начались проблемы с ДНК еще до ее рождения. Я стащила пару пинт, емкость с физиологическим раствором, иглы для шприцев и наложения швов, стерильные салфетки, свежие пачки бинтов.
На экране телевизора один из игроков спасовал, и его последние фишки забрал соперник. Группа зрителей издала восторженный вопль, ведущий что-то выкрикнул вслед неудачнику, покинувшему игровой стол и растворившемуся в ярком свете софитов. Я вышла, оставив все так, как было до моего появления.
Койл сидел там же, где я его оставила, что меня удивило. Пистолет лежал у него на бедре, голову он откинул на верхнюю ступеньку лестницы, дыхание его было тяжелым и прерывистым. При моем появлении он слегка развернулся в мою сторону.
– Нашла, что искала? – Слова давались ему с трудом, речь замедлилась.
Я помогла ему встать, осторожно поддерживая сзади руками под мышки.
– Да, нашла. Убери пистолет.
– А я думал… ты хочешь, чтобы я… кого-то пристрелил.
– Я пробыла в теле этой медсестры менее пяти минут. Люди очень часто теряют гораздо больше времени. Тем более уже поздняя ночь. Ей может пригрезиться, что мы приходили, а потом уехали, пригрезиться, как ей это пригрезилось. Оно и к лучшему.
– Тебе часто приходится такое проделывать? – спросил он, сунув пистолет в карман куртки, небрежно наброшенной на плечи.
– Только при необходимости. Подержи вот это.
Он взял протянутую мной полиэтиленовую упаковку, не столько сознательным, сколько чисто инстинктивным движением. Протяни руку для пожатия, сумку, чтобы ее подержали, и если сделаешь это достаточно быстро, люди не успевают даже задуматься.
Когда его пальцы ухватились за ручки упаковки, мои прикоснулись к его коже, и я с глубоким вдохом уже смотрела в глаза медсестры, которая стояла, слегка покачиваясь. Мое же тело пронзила такая боль, что я сама чуть не упала, но лишь крепче ухватилась за ручки пакета, повернулась и пошла прочь от клиники.
Изнутри по-прежнему доносились звуки включенного телевизора. Там тикали часы, горел яркий свет, и внешне ничто не изменилось за прошедшие несколько минут.
Мы снова в микроавтобусе. Я перерезала проволоку, привязывавшую мужчину к крюку, и, как только его руки стали свободны, переключилась, не дав ему ни шанса пошевелиться.
Койл повалился на пол, а я вытащила изо рта комок грязной шерсти, некоторое время отплевываясь. У меня жгло кисти рук, пораненных во время безмолвных попыток порвать проволочные путы. Я помогла Койлу поудобнее улечься на спину, снова накрыла его одеялом, тихо нашептывая: «У меня есть болеутоляющее, есть снотворное». «К дьяволу все твои лекарства», – отвечал он, вряд ли ощущая браваду в своих словах.
Я проехала несколько миль, припарковалась на пустой стоянке позади какого-то обшарпанного склада, где мы не могли попасть в поле зрения видеокамер, и приступила к работе. Я подвесила первую упаковку с кровью к тому же крюку, к которому прежде привязывала сама себя. Сняла с раны повязку и осветила фонариком кровавое месиво. Имелось только входное отверстие пули небольшого калибра – я даже могла видеть смятый кончик металла, поблескивавший не слишком глубоко. В темноте Койл ухватился за мой рукав, но потом вспомнил о своей антипатии ко мне и медленно отпустил.
– Ты хоть немного… разбираешься в медицине? – спросил он.
– Разумеется. Где-то даже остался жить человек с дипломом врача, который честно заслужила за него я.
– Почему-то мне это не приносит облегчения.
Пока я лишь сменила повязку, введя в вену иглу с трубкой для переливания, но оставив пулю на месте.
– Вколоть тебе морфий?
– Не надо.
– Что ж, это твое тело.
Чувствуя спиной его злобный взгляд, я вновь села за руль.
Глава 74
Сервисная зона у извилистого шоссе, проложенного через горы. Койл все это время не спал, но и не говорил ни о чем, лежа под одеялом в задней части фургона.
Мое тело не имело при себе денег. Пистолет, нож, но ни гроша наличности. Но я все равно зашла в магазин-кафе при заправочной станции, заказала черный кофе и два «крок-мсье»[15]. Дойдя до кассы, за которой стояла женщина с заспанными глазами, я поставила кофе на стойку и ухватилась за ее руку. Мое бывшее тело покачнулось, сбитое с толку и недоумевающее, а я открыла кассу, взяла оттуда пачку евро и сунула ему в карман.
Он едва успел прийти в себя и заметить мою кожу поверх своей, как я мгновенно совершила обратный прыжок.
Я подала кассирше бумажку в двадцать евро. Ее, разумеется, удивило, что ящик кассового аппарата оказался уже выдвинут, но, глядя на мое улыбающееся лицо, она лишь слегка встряхнулась и не стала задавать никаких вопросов.
Я уселась на холодную металлическую скамью под навесом из красного шифера и дала кофе остыть, не притрагиваясь к нему. Жидковатое желтое солнце начало пробиваться сквозь линию горизонта, маленькое и словно озлобленное борьбой с серыми дождевыми тучами. Казалось, ничто не в состоянии привнести хоть немного красок в наступавшее утро. Низкий туман стелился над травой вдоль обочины шоссе.
Я съела свой сэндвич и снова включила мобильный телефон. Ему потребовалось время, чтобы перезагрузиться и показать новое текстовое сообщение: «Тебе нравится то, что ты видишь?» А несколько минут спустя отобразилось второе. Отправитель явно не сумел справиться с искушением: «Эта улыбка – специально для тебя». Вслед за текстом расположился «смайлик» – улыбающаяся рожица.
Толстяк-водитель с двойным подбородком и в пиджаке, застегнутом на мощном брюхе, как раз проходил мимо. Я спросила, который час, и, пока он собирался ответить, ухватилась за кисть его руки, прыгнула, взяла мобильный телефон из вялой руки не успевшего прийти в себя мужчины, опустила в карман шофера и тут же переключилась снова. На все ушло менее пяти секунд. Скорее, только три. Я даже успела почувствовать головокружение своего тела от предыдущего резкого перемещения.
Шесть тридцать утра, ответил мне шофер, восстановив равновесие своего грузного тела. Лучше отправляться в дорогу, пока транспортный поток еще не такой плотный.
В мужском туалете я зашла в кабинку, закатала рукав, нащупала вену и ввела десять миллилитров сильного успокоительного. Покончив с этим, вышла из кабинки, приблизилась к какому-то мужчине, стоявшему у писсуара, и сказала (причем мой язык уже ворочался не без труда):
– Ну-ка, ударь меня!
Когда же он наполовину развернулся ко мне, я перехватила его руку и переключилась, обнаружив на своих брюках все еще расстегнутую ширинку, после чего ударила свое бывшее тело изо всех сил. Я оказалась крупным мужчиной, и недостаток физической подготовки полностью компенсировался одним только моим весом. Кроме того, противник уже находился под воздействием лекарства. У него не оставалось ни малейшего шанса в борьбе со мной.
Рассвет на сервисной площадке во Франции. Я подыскиваю себе машину. Грузовик не годится. Слишком велика вероятность, что его прибытия где-то с нетерпением дожидаются. Идеально подошел бы кто-то, закончивший сейчас ночную смену, но для этого приходится внедряться сначала в водителя автобуса с запахом мяты во рту, потом в полицейского – толстозадого, у которого боль в левом боку, а затем в уборщицу.
Вот оно! Уборщица. Синий фартук, крашеные черные волосы, бледная кожа, тонкие руки. Она только что закончила мыть полы. А я, приостановившись и порывшись в ее карманах, обнаруживаю, что стала владелицей кошелька, в котором лежат сорок евро, но не вложено ни семейное фото, ни снимок любимого человека. Мой сотовый телефон отключен. Он совсем старой модели, и я им, видимо, почти не пользовалась. Но зато – благословен будь, Господи! – в одном из карманов я нахожу ключи от машины.
Я ставлю швабру к стенке, а на выходе забираю кофе и оставшийся сэндвич.
Глава 75
– Кто ты теперь такая, черт тебя возьми? – спросил Койл.
– Я Ирэна Скарбек, – гордо ответила я. – Уборщица.
– Я вижу, что ты уборщица. Вопрос в том, зачем ты ею стала.
– Мы не можем больше пользоваться микроавтобусом. Его легко отследить. Я сунула мобильник в карман шоферу-дальнобойщику. Надеюсь, он увезет его действительно далеко, и на хорошей скорости.
– В «Водолее» догадаются, что ты избавилась от телефона.
Меня его слова нисколько не смутили.
– Сигнал есть сигнал, и его происхождение придется установить в любом случае. Буду довольна, если это поможет нам выиграть хотя бы пару часов. А теперь лучше скажи, какую, по-твоему, машину водит женщина моего типа?
Мне принадлежал сильно подержанный «Рено», который гремел изношенной подвеской даже на гладком асфальте шоссе. Перед глазами раздражающе болталось прицепленное к водительскому зеркалу пластмассовое распятие. Целое семейство игрушечных кошечек одобрительно кивало головками, расположившись вдоль заднего стекла. Чехлы на сиденьях провоняли табачным дымом, а для переключения передач требовалось некоторое усилие и сноровка. Мое медицинское снаряжение и окровавленное одеяло лежали теперь на узком сиденье сзади посреди развала из старых компакт-дисков и потрепанных автодорожных карт.
Койл разместился на пассажирском месте, откинув голову и вытянув ноги, наблюдая, как мое раздражение все нарастает. Наконец спросил:
– Не будешь возражать… – Он указал на распятие.
– Если тебе не трудно, сделай одолжение.
Он снял крестик и сунул его в «бардачок», а потом изучил его содержимое.
– Нашел что-нибудь интересное? – спросила я.
– Что? Нет. Ничего. Просто… Мне никогда еще не приходилось угонять чужие машины.
– Зато для меня это дело привычное. Там, случайно, не лежит мое водительское удостоверение?
– А это для тебя так важно?
– Мне нравится иметь весь набор документов. Здорово облегчает жизнь, если приходится задерживаться в теле.
– А ты собираешься задержаться в этом?
Я заерзала на сиденье, проверяя вес рук, размер ягодиц.
– Тело, конечно, усталое, – призналась я, – но мне не привыкать, так что не стоит обращать внимания. Пока не ощущается никаких проблем с мышцами или костями. На мне нет браслета с медицинскими противопоказаниями, я не ношу с собой ингалятор или ЭпиПен.
– Что такое ЭпиПен?
– Лекарство против аллергии. Пчелы, орехи, лактоза, дрожжи, пшеница, креветки – список того, что может оказать на человека смертельное воздействие, лучше знать заранее. Нельзя пренебрегать подобными вещами. Проверь еще раз «бардачок».
– Я не нашел там ничего подобного.
– В таком случае я, вероятно, задержусь. Хочешь сэндвич?
– Думаю, – ответил он медленно и задумчиво, увидев развернутый мною еще горячий бутерброд, – что могу сблевать от него.
– Ты не хочешь есть?
– В тебя нечасто попадали пули, верно?
– Наоборот, очень часто. Гораздо чаще, чем в тебя, если судить по шрамам на теле. Но мне, к счастью, не приходилось долго ждать, чтобы мне оказали медицинскую помощь.
– К дьяволу твой сэндвич, – сказал он.
Некоторое время мы ехали молча. Потом он спросил:
– Почему ты выбрала эту Ирэну?
– У нее был автомобиль.
– И только?
– У нее заканчивалась смена. Отработав ночь, люди, как правило, сразу отправляются спать. А это значит, что часов восемь или девять с ней никто не попытается контактировать. За восемь часов я могу многое успеть.
– И этого достаточно? Вот, стало быть, каковы твои критерии выбора.
– Не совсем. На самом деле я бы предпочла стать красоткой двадцати с небольшим лет, с грудями торчком, с крупным счетом в банке и со здоровыми зубами. Несомненно. Проблема лишь в том, что богатые красавицы не ошиваются по ночам на сервисных станциях вдоль шоссе А75.
Койл, вероятно, слишком устал, чтобы бросить на меня свой обычный презрительный взгляд.
Я включила радио, прощелкала несколько станций и оставила играть негромкий джаз. Встречный транспорт с севера двигался с включенными фарами, хотя солнце поднялось уже высоко. Но черные тучи впереди предвещали дождь. Рекламные щиты вдоль дороги призывали посетить магазины для садоводов, покупать свежее молоко, одежду новых моделей сезона, поддержать политиков радикального толка или позариться на дешевый подержанный «Фиат».
– Почему ты мне помогаешь? – Голос Койла почти окончательно сел. Его голова моталась из стороны в сторону, глаза смотрели на дорогу, но, казалось, ничего не видели.
Я включила «дворники», когда первые крупные капли дождя застучали в лобовое стекло, и чуть сбросила скорость, поскольку видимость ухудшила грязная влага из-под колес впереди идущей машины.
– А что, если я сентиментальна?
Это предположение вызвало у него приступ мучительного кашля.
– И ты тоже можешь мне помочь.
– Но ведь могу и убить.
– Сейчас? Едва ли.
– Я же почти… убил тебя. Убил хозяйку твоего тела. Раньше ты угрожала мне возмездием.
– Да, мысль об этом посещала меня.
– Что изменилось?
– Я не расправляюсь с простыми солдатами. Если только меня не вынуждают. А кроме того…
– Что?
– Я достаточно долго носила твое лицо. Теперь мне психологически тяжело уничтожить его.
– Ты сказала тому мужчине… санитару, рядом с рекой.
– Самиру?
– Да, ему. Ты сказала, что при сложившихся обстоятельствах ему необходимо взвесить риски, связанные с конкретными действиями, и решить, остаться или бежать. Почему же ты сама не бежишь?
– Потому что мне кажется, что ты уже не исполнен желания убить меня, как было прежде.
– Ты похитила мое тело.
– Но вернула его.
– Бросила меня прикованным к отопительному радиатору.
– Но сообщила полиции, где тебя искать, прежде чем ты мог умереть от голода. На самом деле если взвесить на воображаемых серебряных весах оправданность наших с тобой поступков, то ты бы увидел, что мои мотивы причинить тебе вред значительно перевешивают твои. Ты вообще не имел никакой разумной причины убивать меня, но убил Жозефину и погубил бы другие жизни, чтобы покончить со мной. Ты не задумываясь всадил пулю в Янус, похитил меня посреди ужина, но все равно, какие бы усилия я ни прилагала для спасения твоей жизни, когда тебя подстрелили свои же, нарываюсь только на враждебность и недружелюбие с твоей стороны. Если ты еще не понял: люди из «Водолея» солгали тебе. Они подделали досье Галилео. А тебя послали на край света, чтобы расправиться со мной. Зато монстра, действительно заслуживающего такой участи, они не трогают. И стоило тебе занервничать по этому поводу, как ты тоже стал объектом для ликвидации. А потому к черту все резоны и объяснения нашего с тобой временного союза. Он просто необходим тебе. Только так ты выживешь. И на этом – точка.
Он в задумчивости закусил нижнюю губу, взгляд его стал напряженным, пальцы сжались в кулаки.
– Я застрелил… Маригара.
– Кто такой Мари…
– Тот человек, который стрелял в меня. И я подумал… Что, если он был…
– Нет, он не был Галилео.
– Знаю. Он был… одним из нас.
– Но пытался убить тебя.
– Верно.
– Ты знаешь причину?
– Нет.
– Он сказал, что исполнял приказ.
– Слышал.
– Там не было ничего личного. Просто Галилео проник в «Водолей», а в «Водолее» даже не подозревают об этом. Быть может, человек, отдавший приказ убить тебя, совершенно не помнит об этом. Но при этом никто не может избежать ответственности за исполнение преступных команд, как и за сами команды. В любом случае ты стрелял в целях самозащиты, и это не станет главным грехом твоей жизни.
Он снова бросил на меня взгляд, его кулаки сжимались и разжимались.
– Так ты… хочешь отыскать его? Ты хочешь убить Галилео?
– Да. Хочу.
– Почему?
– За все его дела. В память о погибших друзьях. Но главная причина, как я думаю, состоит в том, что он хочет достать меня. В свое время мы действовали друг против друга, и теперь выясняется: в наших с ним отношениях присутствует специфическая логика. Было бы глупо с моей стороны не ответить ударом на удар. Кроме того, он портит нашу репутацию.
– Кеплер…
– Ирэна, – поправила я почти машинально.
– Мне представлялось, что вашу репутацию портишь ты сама.
На это я не ответила ни слова.
По радио мужчина, звонивший в студию, громко посылал в эфир свои жалобы. А ему было на что громко жаловаться. Налоги слишком высокие. Социального страхования недостаточно. Чересчур продолжительный рабочий день. Помощь медиков непомерно дорогая.
Каким же ему виделся выход из положения? Что конкретно он мог предложить?
Надо, чтобы люди трудились еще упорнее, конечно же! Хотя он сам всю жизнь упорно трудился, а жил сейчас в крохотной каморке над булочной, не имея за душой даже пятидесяти евро. Он боролся, но проиграл, хотя виноваты во всем другие.
«Мы благодарны за ваше мнение, – сказал ведущий, отключая жалобщика от трансляции. – Вероятно, вы могли бы рассказать нам еще много интересного».
Потом Койл заговорил снова:
– Ты сказала, что понимаешь.
– Что именно?
– По телефону. Ты сказала… Я воспринял это так, что ты знаешь, почему он распорядился убить хозяйку твоего тела… Понимаешь причину гибели Жозефины. Ты сказала об этом?
– Да.
– Почему же? Объясни мне.
– Потому что я любила ее.
– И только-то?
– Да. Я знакома с Галилео больше ста лет. Он, или, вернее, оно, хочет, чтобы его любили. Ему больше ничего не нужно. Мы красивы, богаты, и люди любят нас за это. Но на самом деле любят-то не нас, а чужую жизнь, которой мы живем. Я же полюбила Жозефину всем сердцем. И в ее теле… была по-настоящему счастлива. В теле Жозефины я чувствовала себя красивой. Я стала одной с ней личностью, полностью отождествляла себя с Жозефиной. Была не призраком, игравшим чью-то роль, а действительно ею, в большей степени, чем она сама в реальности – цельной и истинной личностью. Вот в чем заключена настоящая красота. Не в стройных ножках, нежной коже, груди или личике, а в цельности, слиянии души и тела, сиянии истины. Как Жозефина, я приобрела настоящую красоту, а Галилео… Не был красив уже очень долго. Он хотел быть в Эдинбурге, не мог не появиться в Майами, но давно забыл, что такое подлинная красота. Вот и вся причина.
На некоторое время мы оба замолчали. Потом Койл сказал:
– Прости меня. Прости за Жозефину. Я сочувствую теперь твоей потере.
Я не ответила, но, когда оторвала взгляд от дороги, чтобы мельком взглянуть на него, заметила, как увлажнились его глаза. И он отвернулся, не давая мне возможности снова увидеть свои слезы.
Потом он спросил:
– Где мы сейчас находимся?
Его кожа стало желтовато-серой, дыхание еще более тяжелым, взгляд уперся вниз.
Сначала я ответила:
– Мы скоро сделаем остановку. – И лишь потом поняла, что так и следует поступить.
Отель с маленькими окошками номеров и железным забором вокруг стоянки.
Несколько минут я продолжала сидеть за рулем и училась копировать подпись Ирэны на задней стороне дебетовой карты. Это не заменяло знания пин-кода, но могло сработать.
Гостиница напоминала придорожный мотель, каким его представляли себе французы, хотя хозяева ни за что не признались бы, что докатились до типично американского варианта примитивного гостеприимства. Я попросила и получила самый дешевый номер в заведении, за который смогла расплатиться наличными.
– У нас принято освобождать номера в десять утра, – объяснил мне управляющий со скучающими глазами, подавая маленький ключик на огромном брелоке. – Завтрак в стоимость не входит.
– Ничего. Мы уедем намного раньше.
Наша комната располагалась в отдельном корпусе, куда вела дорожка, выложенная потрескавшейся плиткой, влажно хлюпавшей под ногами. Одинокий кедр клонился над любопытной рыжей кошкой, которая замерла, прижав одну лапу ко рту, как девочка-шалунья, застигнутая за поеданием сладкого, чтобы пронаблюдать, как мы с трудом прошли мимо – с заметным трудом, поскольку мне пришлось удерживать непомерно большую часть веса тела Койла своим плечом. У Ирэны Скарбек имелись свои достоинства, но физическая сила в руках и верхней части торса к ним не относилась.
Койл, испачкав простыни кровью, завалился на постель. Я накрыла его одеялом, принесла питьевой воды, а потом набрала воды из-под крана в кувшин, чтобы смыть кровь с его шеи, лица и рук. Затем отправилась забрать остатки медицинских припасов из машины, и, когда шла через двор обратно, какой-то голос окликнул меня:
– Эй, вы! Вы ведь уборщица? У меня к вам большие претензии.
– Я не убираю здесь, – резко огрызнулась я в ответ. – Жалуйтесь менеджеру.
– Ирэна! – Койл дрожал, лежа под простынями и одеялом.
– Что?
– Где Макс?
– Какой Макс?
– Ты была им, пока не превратилась в Ирэну. Как ты с ним поступила?
– Оставила под дозой успокоительного в туалете на сервисной станции. А еще мне пришлось его ударить. Не слишком сильно.
– Он хороший человек.
– Ага, – вздохнула я. – И тоже только исполнял приказ. Извини, сейчас будет немного больно.
Я ввела ему в вену гиподермическую иглу, и хотя его губы скривились, а глаза прищурились, он даже не дернулся, позволив мне ввести содержимое шприца в его кровеносную систему.
– Придержи здесь.
И он послушно положил три пальца на ватный тампон, которым я прикрыла след от укола.
– Не отпускай минуты три.
– Что это было?
– Снотворное. Тебе пора наконец поспать.
– Почему?
– Потому что без отдыха ты умрешь.
– Не понимаю… Зачем я тебе нужен? – Речь уже давалась ему через силу. – Ты сказала, что у тебя есть все необходимое, чтобы уничтожить «Водолей». Так для чего тебе я?
Я пожала плечами, сдвинув ноги, осторожно села на край кровати, который еще оставался свободным, и прислонилась к стене.
– Ты сам застрелил мою последнюю союзницу. И всегда полезно держать под рукой покорное тебе тело.
– Это я покорное тело? Вот что я такое. – У него заметно слипались глаза, язык заплетался.
– Нет. Ты… нечто совсем другое.
Он, быть может, и хотел сказать что-то еще, но не смог. Впрочем, меня едва ли интересовало, о чем он в тот момент думал.
Глава 76
Я сплю. Это сейчас самое главное. В этом крошечном номере только одна кровать, и хотя она двуспальная, Койл растянулся на ней по диагонали. И если запаха пота было недостаточно, чтобы наморщить мой маленький носик, то простыни все равно пропитались его кровью.
А потому мне приходится спать на полу, просыпаясь в очень неудобной позе: одна рука задрана вверх, а другую я отлежала. Хотя в комнате жарко, меня бьет озноб. Радует только, что мышцы уже не так утомлены, но раздражает недостаток плоти на костях, не позволяющий телу сохранять тепло.
Я то вижу сны, то прихожу в себя, едва помня приснившееся. А снится мне Янус. Двуликая богиня. Вот она – роскошно красивая женщина с сапфирами в волосах – лежит в постели моей квартиры в Майами. А вот голым мужчиной танцует по комнате, похлопывая себя по ягодицам и восклицая: «Ах, как мне это нравится, нравится, нравится!» Она тогда была молодым человеком, на редкость привлекательным, по имени Майкл Питер Морган. Он занимался тхэквондо, и вскоре его ожидало знакомство с его идеальной женой.
И Янус в облике Марселя, с истончившимися губами, со скрюченными пальцами, с кожей лица цвета гнилого, изъеденного червями помидора. Тебе нравится то, что ты видишь?
Сны о Галилео. Он мой! Он красив. Он мой! Тебе нравится то, что ты видишь?
Проснувшись, я не сразу соображаю, где я и кто я. Ощущаю тошноту и какое-то время сижу на краю стульчака унитаза, вцепившись в его края, хотя знаю, что рвоты не будет, как бы мне ни хотелось, чтобы это тело сейчас же вывернуло наизнанку.
Отель слишком дешевый, чтобы снабжать постояльцев зубной пастой и щетками. Между тем у меня начинают ныть зубы.
Койл спит как сурок.
У меня осталось четыре евро.
В главном фойе гостиницы я выжидаю, расположившись на низком диванчике рядом с торговым автоматом, и листаю газеты. Когда появляется полный мужчина в синей рубашке, я откладываю газету в сторону, встаю и приближаюсь к нему с улыбкой.
– Простите, – говорю я, заметив, как он достает из кармана бумажник. – Не подскажете, который час?
Он не без удивления вскидывает вверх руку с часами, а мои пальцы в этот момент касаются его кожи.
Я кладу бумажник поверх торгового автомата, запихнув его подальше, прежде чем снова ухватить за запястье Ирэну Скарбек и с той же улыбкой благодарю мужчину за помощь, а потом снова сажусь и принимаюсь за чтение прессы.
Его мгновенное головокружение сразу же проходит. Мужчина смотрит на свои руки, ощупывает карманы, даже залезает себе под рубашку, изучает пол вокруг, и наконец его взгляд останавливается на мне. Он визуально оценивает меня, видит одежду уборщицы, задумывается, не могла ли я быть воровкой, но, не находя этому предположению никакого подтверждения, лишь качает головой и возвращается к ведущей вверх лестнице.
Вероятно, оставил его в ванной, думает он про себя. Или в тумбочке у кровати. Забавно. Он мог бы поклясться, что взял бумажник с собой, когда выходил из номера.
Я дожидаюсь, пока он исчезнет из вида, и забираю бумажник с крышки автомата. Теперь у меня семьдесят четыре евро, и день начинается неплохо.
Я вспоминаю свою первую встречу с Галилео. Он был тогда Ташей… Или Тулей. Я носила тело Антонины Барышкиной – молодое и красивое. Шесть месяцев я играла на виолончели и покоряла сердца московских и петербургских мужчин. А когда работа оказалась выполнена, превратилась в (имена порой трудно даже запомнить) Жозефа Брюна, самого преданного слугу старого князя, его доверенное лицо.
Я носила черную ливрею с высоким воротником, узкие черные брюки, постепенно седеющую бороду и, как выяснилось сразу после перехода, все еще не окончательно оправилась от проблем с желудком, о которых никто не знал. В 1912 году слугам еще не полагалось болеть. Это считалось несовместимым с их обязанностями.
Я стояла рядом с креслом Антонины, когда она вдруг покачнулась и стала растерянно озираться по сторонам, словно только что открыла глаза. Это было то же кресло в той же комнате, в то же время суток, когда я впервые встретилась с ней в том же теле, а потому ей могло показаться, что она лишь чуть вздремнула, но ничего не изменилось. На ней была та же одежда, волосы уложены в такую же прическу. Но прошло полгода, и осеннее солнце сменилось весенним.
Потом ее отец сказал:
– Антонина, нам нужно поговорить.
Я с поклоном удалилась из комнаты.
Три следующих дня повсюду в доме слышались ее визг и вопли. В знак уважения к хозяину я ненадолго задержалась в не совсем здоровом теле Жозефа Брюна. Разумеется, я больше не выполняла никаких обязанностей слуги, да никто и не ожидал от меня этого. Я жила в отдельном флигеле, стараясь избегать встреч с остальной прислугой, объявив, что страдаю от желудочной инфекции, от которой Жозеф на самом деле только-только избавился. Я читала, вечерами тайком отправлялась на прогулки, играла сама с собой в шахматы и сожалела о невозможности больше посещать музыкальный салон в главном доме.
На четвертый вечер старый князь пришел ко мне и сел по другую сторону шахматной доски.
– Вы играете? – спросил он.
– Да, – ответила я.
Он был неплохим шахматистом, но делал ходы слишком поспешно и нетерпеливо, что приводило к неосторожным атакам и небрежным оплошностям в защите. Я дала себе слово щадить соперника, но шахматы не та игра, где легко скрыть поддавки, а потому уже скоро позиция князя выглядела безнадежной.
– Вы покидаете нас завтра? – спросил он как бы между прочим, делая ход слоном, который уже ничего не менял.
– Да.
– Куда направитесь?
– Еще не решила. Вероятно, на юг. На западных границах становится все более неспокойно и… непредсказуемо.
– Вы опасаетесь войны?
– Считаю ее возможной.
– А не разумнее ли было бы пережить тяжелые времена в роли… скажем, жены генерала? Дочери министра? Чтобы держаться подальше от будущих линий фронта.
– Я могла бы пойти на это. Но опыт подсказывает, что война затрагивает всех. Даже – или, лучше сказать, в особенности – жен, сестер и матерей тех, кто сражается. Принадлежность к женскому полу не избавляет от вовлеченности в события конфликта. Но ты лишь ждешь новостей, тревожишься, одинокая и бессильная, потому что лишена возможности самой взять в руки оружие и драться за своих любимых.
– И кого любит мой Жозеф? – спросил он тихо. – Кого он любит на самом деле?
Я откинулась на спинку кресла, желая скрестить руки на груди, но вовремя вспомнила, в чьем теле нахожусь, осознала свой статус, а потому кротко положила ладони на бедра.
– Если я жена, то люблю своего мужа. Если сестра – брата. Если я командир, мне дороги мои солдаты. Вы же понимаете, что я обладаю привилегией войти в любую жизнь, какая мне придется по нраву. Зачем мне становиться главой дома, где царит разлад? Или матерью детей, которых я далеко не обожаю? Но я всегда люблю своих близких, кем бы ни становилась. Как люблю людей, в которых внедряюсь, иначе не стала бы этого делать.
Его взгляд уперся в шахматную доску, брови хмуро сдвинулись:
– А вас не посещало искушение стать мною? Вас не привлекает положение в обществе, которое имеет в России князь?
– Нет, сэр.
– Почему же?
Я облизала губы, всмотрелась в маленькие глазки на обрюзгшем лице, в очередной раз заметила желтые пятна на коже рук, вздувшиеся вены на шее, напряженную спину, держать которую прямо становилось все тяжелее. Он угадал мои мысли и резко бросил:
– Вас отталкивает мой возраст. Вызывает отвращение.
– Нет, сэр. Все не совсем так, хотя возраст, если у тебя нет привычки к нему, может стать поначалу источником немалого шока. Вы обладаете властью, пользуетесь уважением в свете, достаточно здоровы, но вот только я не считаю вас… красивым человеком. Вам не хватает жизнерадостности или любви, которая создает красоту в большей степени, чем тело или лицо.
У него дернулась щека. Едва заметно, но этого мне оказалось достаточно. Я сложила руки в жесте раскаяния:
– Простите мне… столь непочтительные речи. Я не имею на них права.
– Нет! – воскликнул он резче, чем, видимо, намеревался, потому что добавил гораздо мягче: – Все правильно. Вы откровенно высказали свои мысли. Мало кто решается на такую искренность со мной. Моя дочь… Она готова плевать мне в лицо. Желает, чтобы я скорее умер. Как вы считаете, я правильно поступил, наняв вас? Вы верите, что это стало с моей стороны проявлением… любви?
Я молчала.
– Давай же, Жозеф, говори, – в нетерпении потребовал он. – Я назвал твои слова искренними, точкой зрения истинно свободного человека. Не заставляй же меня сейчас менять свое мнение о той, что вселилась в тебя.
– Да, я верю, что, поручая мне стать на время вашей дочерью, вы исходили только из подлинной любви к ней. Я вижу, насколько горячо вы желаете ей добра. С моей помощью вы пытались придать ей уверенности в себе, которой она лишена в силу особенностей своего характера.
– Но… – Он усмехнулся: – Продолжайте и доведите свою мысль до конца.
– Сэр… Одинаковое понимание ситуации было крайне важно для нас обоих. Но вопрос, который я обязана вам задать, состоит вот в чем: если то чувство уверенности, какое вы хотели привить дочери, требовало вмешательства другого человека, то не пытались ли вы насильно навязать ей черту, в корне противоречащую ее натуре? Можно сформулировать вопрос иначе: дочь, горячо вами любимая, и дочь, реально существующая, – это одно и то же лицо?
Он все еще смотрел на доску, но ничего уже на ней не видел.
– Вы не говорили ничего подобного, когда давали согласие на нашу сделку.
– Положим, тогда это было не в моих интересах. Но теперь срок контракта истек, вы впервые поинтересовались моим мнением, а я честно изложила его.
Он взял пешку, передвинул ее без всякого смысла, потому что партия уже была проиграна.
– Моя жена считает, что наша дочь больна.
Я ждала, делая вид, что тоже изучаю финальную позицию на доске, склонившись вперед и наслаждаясь свободой мужской одежды, не вынуждавшей меня держать спину безукоризненно прямо, не сковывавшей движений корсетом и лифом.
– Она полагает, это душевная болезнь. Твердит об этом много лет. И в самом деле… С Антониной случалось всякое. Она могла начать спорить с людьми, хотя тех даже не было рядом, делилась с нами неправдоподобными фантазиями, рассказывала странные истории. В раннем детстве я относил это к проблемам взросления, к проявлениям творческой личности, которые однажды могут стать даже очаровательными. Но она превратилась в молодую женщину, и надежды сильно потускнели. Еще перед вашим приездом… она отдалась крестьянскому парню. Ему было четырнадцать, ей – на год больше. И когда они закончили, она прибежала прямиком домой… вся в грязи и крича во все горло о том, что совершила. Причем она нисколько не сожалела о своем поступке, а принялась плясать в гостиной, смеясь нам в лица, задирая юбку, демонстрируя всем обнаженную и обесчещенную плоть, плюнула в глаза матери и заявила о своей новоявленной свободе. Она чувствовала себя свободной и избранной Господом. В тот вечер я избил ее. Я бил ее так долго, что даже моя жена, утерев плевок собственной дочери, стала умолять меня остановиться. Мы никому ни о чем не рассказывали. Дали синякам на ее теле пройти, прежде чем пустили кого-то к себе в дом. Я надеялся, что ваше присутствие поможет залечить раны, нанесенные моей семье, восстановит доброе имя дочери, и не могу пожаловаться на недостаток усердия с вашей стороны. Ваше поведение было безупречным. Возможно, даже слишком. В последние несколько месяцев я порой почти начисто забывал, что вы не моя дочь. Я наблюдал, как она танцует, смеется, улыбается. Слышал ее забавные шутки, видел ее приязнь к тем из молодых мужчин, кто был мне симпатичен, и вежливое отторжение тех, кто проявлял непомерный пыл. Она достойно держала себя с прислугой, проявляла великодушие к друзьям, привечала незнакомцев, тщательно оберегала свою честь. В эти месяцы моя дочь стала такой, какой я мечтал ее видеть, а теперь… Вы ушли, она вернулась, и только сейчас я до конца понял, что не ради дочери – не надо заблуждаться – я обратился к вашим услугам, а лишь ради себя самого. Чтобы провести несколько месяцев с ребенком, какого я, как мне казалось, заслуживал. И теперь я не знаю, что делать дальше.
Он плакал. Старый князь лил слезы, закрыв глаза сжатыми в кулачки маленькими руками, слезы сосульками блестели на его бакенбардах, почти полностью скрывавших щеки. Я открыла рот, чтобы заговорить, но слова застряли у меня в горле. Мой взгляд снова скользнул по шахматной доске, я увидела, что могу поставить мат буквально в два хода, но не почувствовала при этом никакой радости. Его плач перешел в едва слышные всхлипы, которые он стремился подавить окончательно. Как стыдно, говорили его сжатые кулаки, какой позор!
А потом князь поднял лицо с покрасневшими глазами и прошептал:
– Вы не останетесь моей дочерью? Не побудете ею… еще совсем недолго?
Я покачала головой.
– Пожалуйста, станьте снова моей дочерью. Сделайте ее опять такой, какой она должна быть.
Я потянулась вперед, взяла его руки, нежно положила их ладонями с растопыренными пальцами на бедра.
– Нет, – ответила я и совершила прыжок.
Перед моими глазами, покачиваясь, стоял мой старый слуга Жозеф.
– Оставайся здесь! – рявкнула я и с хрустом в суставах, с опухшим и красным от слез лицом поднялась на ноги. Мышцы в них болели сильнее, чем я себе представляла, нерв подергивался в бедре, но князь был слишком горд, чтобы ходить, опираясь на трость, которая была ему просто необходима.
Дом спал, свет в коридорах и на лестницах был приглушен, когда я, прихрамывая, подошла к двери комнаты Антонины. Дебелая матрона дремала на стуле снаружи, с ключом на поясе. Я беззвучно забрала его, а она лишь чуть всхрапнула сквозь ноздри, но даже не шелохнулась. Столь же бесшумно я проскользнула в комнату.
Оттуда вынесли почти всю мебель, любые предметы, при помощи которых Антонина могла поранить себя, убрали подальше. На окнах с задернутыми шторами виднелись решетки. Запах мочи и фекалий поднимался от пола, перешибая ароматы мыла и соляного чистящего раствора.
В темноте спальни шевельнулась фигура, одетая в рваную ночную рубашку, которая не давала тепла, как и ощущения собственного достоинства. Я часто прежде смотрелась в зеркало, видела это лицо, и оно казалось мне красивым, милым. Но теперь, когда голова Антонины оторвалась от подушки – волосы растрепаны, в глазах лишь желание мстить, – я читала на ее юном лице только бурю негативных эмоций и ненависть.
– Антонина, – прошептала я. – Антонина, – выдохнула я еще раз и, хотя одна из моих ног отчаянно сопротивлялась такому намерению, опустилась перед ней на колени. – Прости меня, – сказала я. – Прости. Я плохо поступил с тобой. Я украл твое время. Отобрал у тебя гордость, твое имя, твою душу. Я люблю тебя. Так прости же меня за все.
Она вновь пошевелилась во мраке комнаты и стала, шаркая по полу ногами, приближаться ко мне. Я оставалась на месте с поникшей головой и руками, сложенными в покаянном жесте. Она остановилась так, что в поле моего зрения оказались сначала только ее ступни и обнаженные до колен ноги. Я подняла взгляд. Ее волосы спутались на лице и обвили шею, словно она хотела повеситься на собственных локонах. Она плюнула мне в лицо. Я поморщилась, но осталась в той же позе. Она плюнула еще раз. Слюна почти не ощущалась на моем лбу, но потом скатилась на глаза.
– Я люблю тебя, – сказала я, но она замотала головой, прикрыв ладонями уши. – Люблю. – Я вытянула руки и положила их на ее босые ступни, прижимая к полу. – Я люблю тебя.
Ее руки мгновенно превратились в когти, которыми она провела сверху вниз по своему лицу, потом резким движением высвободила ступни из-под моих рук. Она не сказала ничего, ничего осмысленного, и я ощущала только исходившие от нее злобу, жар и влагу, когда она опустила рот на уровень моих глаз и принялась истошно кричать, кричать, кричать. Она вопила до тех пор, пока не выбилась из сил и не лишилась дыхания. Тогда я ухватила ее за плечи и прижала к себе. Она кусалась, царапалась, цеплялась за мою бороду, впивалась в мое лицо ногтями, глубоко погружая их в сморщенную кожу, как будто пытаясь оторвать ее от черепа, а я позволяла ей творить все это без сопротивления. Как только последние силы, казалось, покинули ее, я снова крепко обхватила руками тело Антонины.
Шум, разумеется, не остался незамеченным. Сбежались слуги, пришла моя жена – она стояла в дверях, онемев от открывшегося ей зрелища. Я мотнула головой в ее сторону, приказывая удалиться, прижимая девушку к себе все сильнее, ощущая, как ее горячее дыхание смешивается с моим. Так мы простояли до утра.
А потом я стала кем-то другим и пропала.
Глава 77
Я проснулась, вздрогнув, как от удара током. Солнце клонилось к закату, а мне снился Галилео.
Койл спал на кровати. Мне пришлось разбудить его, как только стало смеркаться.
– Нам необходимо двигаться дальше.
– Куда мы отправимся? – спросил он, когда я помогала ему забраться в машину.
– Туда, где можно сесть на поезд.
Мы доехали до Лиона в начале девятого утра.
Подобно многим старинным французским городам, Лион покорял гостей красотой домов, лепившихся вдоль берега плавно текущей реки, собором с колокольней, развалинами античных стен и пригородами с огромными супермаркетами, просторными автостоянками и магазинами дешевой одежды, приютившимися в приземистых промышленных ангарах с металлическими стенами и потолками. Я оставила Койла в машине на стоянке перед одним из торговых центров, который рекламировал себя неизменным лозунгом: «ЕШЬ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ, ЖИВИ ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
Я вошла внутрь со своими украденными евро. Какой-то мальчуган хихикал, сидя за рулем миниатюрной пожарной машины, которая раскачивалась взад-вперед, завывая сиреной. Небольшие тенты, идеальные, как утверждалось в объявлении, для свадеб и прочих праздников на свежем воздухе, возвышались рядом с каждым кассовым аппаратом, чтобы в последний момент соблазнить покупателя на спонтанное и бессмысленное приобретение. Холодный пар стелился над прилавками с отборными, аппетитными на вид овощами, и легкий запах дрожжей сопровождался похожим на чуть слышные звуки джаза шумом вентиляционных труб под потолком.
Я купила хлеба, колбасы, питьевой воды и целый ворох мужской одежды гораздо большего размера, чем требовалось. Женщина за кассой в островерхой зеленой шапочке пришла в полное недоумение, когда лента конвейера подтянула к ней мои покупки.
– Это для брата, – объяснила я.
– И он разрешает вам покупать себе брюки?
– Поверьте, я очень хорошо умею одевать других людей.
…Койл продолжал спать и сидя в машине.
– Койл! – Я осторожно дотронулась до его руки, а когда он никак не прореагировал на прикосновение, нежно провела кончиками пальцев по его щеке. Он открыл глаза, моргая в полумраке автомобиля, потом, поняв, где и с кем находится, расслабился.
– Мы в Лионе, – сообщила я.
– Зачем нам Лион?
– Главным образом ради его развитой системы общественного транспорта. Вот возьми.
– Что это?
– Чистая одежда для тебя.
– А как же ты сама?
– Если бы я хотела перемен, то сменила бы не только платье. Примерь эти вещи. Мне кажется, я правильно запомнила твой размер.
Он скривился, но все же попросил:
– Помоги мне сначала раздеться.
Я включила в машине печку для обогрева, а потом помогла ему справиться с пуговицами и стащить с себя вконец испорченную прежнюю рубашку, местами прилипшую к коже. Удивительно, но повязка на ране не слишком пропиталась кровью и не сваливалась. При скудном освещении автостоянки я ощупала края раны и спросила:
– Ощущаешь жжение?
– Нет.
– А боль?
– Терпимая. Зато у тебя холодные пальцы.
– У меня не все в порядке с кровообращением. Давай переодевайся. – Я через голову надела на него футболку, помогла поочередно просунуть руки в рукава, заправила нижнюю часть в брюки. Он сидел, наблюдая за моими действиями, неподвижно и прямо, дыхание его стало ровным. Когда же я пальцами прикоснулась к шраму на его животе, он не поморщился, но напрягся всем телом, его мышцы свело подобием судороги.
– Как размер? Подходящий?
– Да, в самый раз.
– Я тебе и джемпер купила. Он может расползтись при первой же стирке, но пока выглядит теплым и чистым.
– Спасибо.
– Не за что.
– С чего такая забота?
Я вздохнула и отвернулась.
– Ты испачкал кровью чехол на сиденье, – пробормотала я. – А пятна крови сложно вывести.
Перекрестки стали для нас замкáми, к которым имелся только один ключ – терпение, поскольку казалось, что все водители решили одновременно отправиться в центр Лиона. По односторонней улице я выехала к реке, где горячая городская молодежь освежалась под звуки «техно» девяностых годов и мощные басы мелодий двухтысячных. Нарушив все правила, я припарковалась перед серым каменным зданием церкви, из-под колоннады которой Дева Мария печально взирала вниз на пеструю толпу, и сказала:
– Мы не можем больше пользоваться этой машиной.
– Почему?
– Ирэна уже отсутствует гораздо дольше восьми часов. Если сегодня у нее тоже ночная смена, то она началась некоторое время назад. Последним человеком, в кого я внедрялась, был Макс, брошенный мною на сервисной станции…
– Думаешь, в «Водолее» сообразят, кем ты стала?
– Ты знаешь их лучше. Вот и скажи: ты бы догадался?
– Да. Вероятно, сумел бы.
– А потому и нужно избавиться от машины. С этого момента нам подходит только общественный транспорт. Если доберемся до Испании или даже до Гибралтара, не пустив по следу погоню, это сильно облегчит нам жизнь. Но сейчас я хочу выпить.
– Выпить?
– Ты можешь ходить?
– А ты считаешь, сейчас подходящее время для выпивки?
– Как нельзя более, – ответила я, открывая дверь автомобиля. – Я леди из числа любительниц текилы.
И я заказала себе текилу. Койл ограничился апельсиновым соком.
Во Франции апельсиновый сок означает слабо газированный приторно-оранжевый напиток из круглой бутылочки. Мы сидели за стойкой бара, окруженные плоскими экранами телевизоров, по которым показывали футбол и мотокросс. Но публику интересовал лишь матч. Судя по возгласам, играла местная команда, и дела у нее обстояли не слишком хорошо. Койл сильно потел, сжимая в одной руке бумажную салфетку и порой закусывая нижнюю губу.
– С вами все хорошо? – спросил бармен.
За него ответила я:
– Он вывихнул лодыжку.
– Тогда вам лучше обратиться к врачу. Порой такие вывихи приводят к куда более серьезным последствиям, чем можно себе представить.
– Да, вы правы. Налейте еще текилы.
Его глаза излучали скептицизм, но чисто экономические соображения приводили руки в движение, когда он наполнял новый стакан. В этот момент забили гол, и у нас за спинами раздался дружный разочарованный вздох.
– А ты не слишком налегаешь на спиртное? – усмехнулся Койл под звон разбивавшихся сердец футбольных болельщиков и шипение крана, извергавшего свежее пиво.
– Открою тебе важный секрет. Гораздо легче отвлечь внимание посторонних от использованного тела, если это тело обнаруживается приходящим в себя после воздействия наркотиков, алкоголя или в ином, несвойственном ему обычно состоянии.
– Ты собираешься переместиться?
Я сделала еще один большой глоток, почувствовала соль на языке, ожог от крепкого напитка и чуть не крякнула от удовольствия.
– Есть досье. Я сумела похитить архивы «Водолея» через Берлин.
– Ты мне сказала об этом.
– А ты поставил в известность «Водолей»?
– Да. И мы… То есть они… Тебя опасаются.
– Мне показалось, они так и не поняли, что это я была у Янус?
– Нет.
– А ты почему там оказался?
– Это же моя работа, – ответил он. – То, чем я занимаюсь.
Я сделала еще глоток и отставила пустой стакан в сторону.
– Хотя нет, все получилось иначе. – Он говорил словно сам с собой, а я лишь как бы случайно слышала его слова. – Я стал расспрашивать о Галилео, и меня перевели на службу в Париж. Тогда я решил… Я подумал… Впрочем, я еще ни о чем не думал. Просто делал свою работу, как и сказал в ответ на твой вопрос.
У меня были крепкие и острые ногти, которые стали выстукивать дробь по стойке бара.
– Я не собираюсь помогать тебе вредить им, – выдохнул он. – Не пойду против «Водолея», чего бы они ни натворили. Даже если они сами наломали дров. Ты мне не друг. Все сводится к Галилео, и ни к кому другому.
– Я понимаю.
Из телевизора донесся рев стадиона, в баре раздались проклятия болельщиков, разочарованных исходом матча. Я провела пальцем по ободку стакана, но извлечь из него приятный легкий гул не удалось.
Потом Койл сказал:
– Нью-Йорк. Есть… спонсор из Нью-Йорка. После Берлина, когда ты показала мне фото из досье, я хотел побеседовать с ним, но «Водолей» запретил общение. Они сказали, что ты солгала про Галилео. Якобы тебе только это и нужно – устроить полнейший хаос. Ты уложила Элис в больницу. Слышала об этом?
– Она была в синяках и ссадинах, но могла без труда ходить, когда я оставила ее. Остальное из области чистой психологии, и здесь нет моей вины.
– Тебе на нее наплевать?
– В данный момент ее судьба действительно меня мало заботит.
Он потягивал сок так, словно пил виски. Так льют бальзам на раны – старые и свежие, – причиняющие боль.
– Я знаю, что они меня обманывали. Ты, конечно, дрянь, но не лгунья. Должно быть, мне следует поблагодарить тебя за это.
– Напейся.
– Спонсор, – сделал он новый заход. – Есть спонсор в Нью-Йорке.
– Что именно он спонсирует?
– Нас. «Водолей». Наши подразделения находятся в разных местах и отделены друг от друга. Если в одно проникнет враг, остальные не должны подвергаться опасности, но должен существовать главный орган управления, те, кто наблюдает за картиной в целом. Мы неплохие люди. Никогда не причиняем вреда своим. И если был отдан приказ… Если Галилео защищают… Спонсор точно знает причину.
– Я бы не стала возлагать на него особых надежд. Тебе известно, кто этот спонсор?
– Нет.
– Знаешь, где его искать?
Молчание.
Я выжала из лайма сок в свой стаканчик, а потом стала рассматривать мякоть фрукта, лопнувшего у меня между пальцами.
– Ты боишься, что я его убью, – тихо сказала я. – Считаешь все это частью моего хитрого плана. У тебя верное чутье. Оно поможет тебе оставаться в безопасности, но только до того момента, когда ты поймешь: тебе готовы всадить нож в спину, и нет никого, кто бы прикрыл тебя с тыла. А потому не спрашивай себя, чего я добиваюсь или даже кто я такая. Задай себе другой вопрос: что я могла бы сделать, но не сделала? Мне достаточно десяти секунд, чтобы уничтожить человека. Когда ты выстрелил в меня на ступенях «Таксима», я подумала: да, почему бы и нет? Я стану им, стану ею – стану кем угодно, – а потом перережу тебе глотку. На это требуется мгновение, а когда полицейские будут уводить меня, покрытую все еще теплой кровью, я исчезну. И продолжу свою жизнь, а твоя смерть станет для меня секундным эпизодом. Последствия пусть расхлебывает чужая плоть. Но все же по причинам, неясным тогда мне самой, я оставила тебя в живых. А могла прикончить тебя и сбежать. Мне отлично удаются побеги. Но сейчас, когда у меня нашлось время все взвесить, думаю, что я сохранила жизнь тебе, как бы тебя ни звали на самом деле, потому что при попытке меня убить ты совершил в высшей степени личное, интимное действие, какого никто не совершал против меня очень давно… Даже не припомню, когда такое случалось в последний раз. Потому что ты пытался убить именно меня. За все, что я успела натворить. Не могу тебе даже описать, насколько волнующим оказалось это ощущение. И вот, мы с тобой вдвоем, а поэтому, как мне кажется, ты должен знать, что мои чувства заметно изменились. Они теперь сложнее, богаче нюансами, поскольку посреди всей этой чехарды я познакомилась с тобой поближе, и теперь, если выразиться совсем просто, полюбила тебя. Можешь проклинать меня, ненавидеть меня, плевать на меня, ничего не изменится – даже твое отвращение сделает объектом именно мою душу. Не той, кем я временно могу быть, а той, кем являюсь в действительности. Ты красив. И я скорее босая пройду по Алеппо в шкуре прокаженного, чем причиню тебе вред.
Койл в смущении допил свой сок и стал изучать дно высокого пустого стакана.
– Что ж, – начал было он, но замолчал. – Ладно, – продолжил он после недолгого размышления. – Все верно.
Я протянула свой стакан в сторону бармена:
– Налейте мне еще текилы!
– А не слишком ли много для вас, мадам?
– Много будет, когда я не смогу идти сама. И мой очаровательный друг поможет мне добраться до дома.
Мужчина пожал плечами так, как это умеют делать только французские бармены. В этом жесте выражается вся их мудрость и все безразличие к клиенту. Он налил мне еще одну порцию. Рядом со мной изумленно замер Койл.
– Не подскажешь, как именно я могу помочь тебе добраться домой?
– Какими источниками информации ты пользуешься, когда начинаешь охоту на мне подобных? Проверяешь данные по больницам, выискивая пациентов с внезапной амнезией? Или отслеживаешь финансовые сигналы? А может, ищешь бедняков, вдруг начинающих делать крупные покупки, или толстосумов, раздающих свое состояние направо и налево без особого повода?
– И то и другое. Мы следим за любыми отклонениями.
– Но ведь амнезия может возникать и по естественной причине. Например, от удара по голове. От пережитого шока. Отравление химикатами, кстати, тоже вызывает ее.
– Кеплер… – В его голосе вдруг прозвучало одновременно понимание и предостережение. – К чему ты клонишь? Что будет дальше?
– Каждого человека, в которого я внедряюсь, а потом покидаю, легко отследить. Можно найти машину, выяснить, куда делась Ирэна. Настало время двигаться дальше.
– Куда? Стать очередной уборщицей? Или опять выбрать проститутку или воровку? Это ведь в твоем стиле, не так ли?
– Да, как правило. Но сейчас иные обстоятельства. Ирэна не единственное мое бремя.
Монетка, крутившаяся какое-то время на ребре, наконец упала.
– Ни за что.
– Но, Койл…
– Во-первых, не называй меня больше так. А во-вторых, я никогда не соглашусь, или будь я проклят!
– И все же подумай над этим…
– Так вот почему ты так за мной ухаживала, дала отоспаться, перевязала рану?
– Я не хотела, чтобы ты умер.
– Или стал слишком неудобен, чтобы носить меня на себе.
– Готовый к сотрудничеству владелец тела, доброволец…
– …с некоторыми доработками, чтобы ты могла получить удовольствие.
– Койл! – почти закричала я, шлепнула себя ладонями по бедрам и чуть не задохнувшись от душного воздуха. – В моем распоряжении множество тел, в которые я внедрилась бы гораздо охотнее, чем в твое. Я отвергала тела с больными коленями или лишь потому, что у них были некрасивые, узловатые руки. Неужели ты думаешь, что я предпочла бы войти в тело человека с пулевым ранением, если бы не настоятельная необходимость?
– А если они все равно тебя обнаружат?
– Обещаю сделать все возможное и переместиться в более здоровое тело при первой же возможности. У тебя же нет выбора, верно?
– Ошибаешься, есть.
– Ты все еще носишь пулю чуть ниже плеча.
– Плохо верится, что ты поспешишь избавиться от нее.
– Но ведь это сделали твои же товарищи…
– Знаю! – Теперь уже Койл почти кричал, ударив кулаком по стойке так, что зазвенела посуда и на нас начали обращать внимание. Внезапно он съежился под устремленными на него взглядами и постарался унять эмоции. – Я знаю, – пробормотал он. – Все знаю.
– Я смогу доставить тебя в Нью-Йорк.
– Каким образом?
– Я приведу тебя к вашему спонсору. И не причиню ему вреда. Разве я когда-нибудь лгала тебе? Разве я убила кого-то?
– Ты убила Юджина в Берлине. И не пытайся отрицать этого.
– Юджина убила Элис, – возразила я. – Она застрелила его, потому что я находилась там, но он умер, а я осталась в живых. И он бы тоже был жив, оставь вы меня в покое. Я могу вывести тебя на Галилео.
– Я… я уже ничего не понимаю. Мне нужно подумать. Ты… накачала меня наркотиками. И столько всего наговорила. Боже, тебя только послушать! Твои слова сначала необходимо осмыслить.
Я мягко положила ладонь поверх его руки и произнесла:
– Все это прекрасно, но меня сейчас вырвет, а времени у нас в обрез.
Он дернулся, но слишком, слишком поздно.
Глава 78
– Ну, привет! – сказала я.
Койл открыл глаза, облизал пересохшие губы и спросил:
– Куда меня угораздило попасть на этот раз?
– К дантисту.
Он медленно окинул взглядом низкий потолок, выложенный белой плиткой пол, потом посмотрел на меня:
– А ты кто?
– Я? Меня зовут Нера Бек. Я замужем. У меня двое детей и скидочная карточка местной кофейни. Мое хобби, которое некоторые назвали бы одержимостью, – коллекция кулинарных рецептов.
– Который час?
– Полночь. Или около того. Я – или скорее это был ты сам – объяснила, что случай срочный и я хорошо заплачу. Но когда Нера поняла, что у меня в плече пуля, она немного занервничала. Пришлось сначала признать, что у меня нет острой зубной боли, а потом… Вышло так, как вышло. И вот я перед тобой.
– Какой сегодня день недели?
– Все тот же, – ответила я. – Прошло лишь несколько часов. Извини, что пришлось совершить прыжок так внезапно, но с тобой стало трудно общаться, а я действительно сильно напилась. Однако стоило мне стать тобой, как я поняла, что все твои речи и поступки не имеют значения, важнее всего немедленно извлечь пулю.
Я взяла с металлической поверхности стола хирургические щипцы и задумчиво щелкнула ими в воздухе.
– Я посчитала, что у стоматолога всегда найдется целый набор жидкостей, которые немного уймут боль. И, кроме того, возможны осложнения.
Глава 79
Когда Койл снова открыл глаза, я сказала:
– Теперь я Бабушка. Это такая кличка. Хотя я, разумеется, вовсе не бабушка. Зато у меня в сумке восемьдесят евро наличными, связка ключей от дома, початая бутылка водки, четыре презерватива, упаковка парацетамола, баллончик с перечным газом и вот это.
Я бросила на постель, в которой лежал Койл, колоду игральных карт. Он посмотрел на нее, потом на меня и заметил:
– Ты выглядишь… как-то искусственно.
– Неужели? – Я провела ладонями по пышным формам своего тела, по концам моих локонов «платиновой» блондинки, обрамлявших пухлую белую шею. – Да, кажется, у меня в груди силикон, который еще не до конца прижился, но с лицом-то должно быть все в порядке, верно?
Койл, вытянувшийся на кровати в номере дешевого отеля, изучил обширные участки моей плоти, остававшиеся обнаженными, и сказал:
– Для тебя это что-то вроде наказания, как я понимаю. Кара, ниспосланная свыше.
– Чепуха! – воскликнула я, плюхаясь на постель рядом с ним и убирая карты в сумку. – Бабушка показалась мне очень приятной женщиной. И недорогой. Пятьдесят евро за два часа. В Париже таких расценок уже давно нет, уверяю тебя. Как ты себя чувствуешь?
Морщась от каждого прикосновения, он ощупал края повязки на плече.
– Я почти ничего не помню.
– Ты был накачан обезболивающим, – почти весело пропела я, проверяя на прочность кончики своих покрашенных ярко-белым лаком длинных ногтей. – Мне ли не знать этого? Я ведь сама ввела тебе лекарства, но потом пришлось воспользоваться Бабушкой, чтобы понять, в каком я, то есть ты, состоянии. Сильно́ ли еще действие наркотиков. Я… пока дала тебе возможность побыть собой. Наслаждайся, потому что это ненадолго. Всего лишь проверка, а теперь пора… – Я протянула руку к нежной коже его щеки.
– Подожди!
Я остановилась, удивленно вскинув брови. У Бабушки оказались потрясающе красиво выщипанные брови, и мне доставляло удовольствие двигать ими. Койл медленно втянул в себя воздух.
– Ты сказала, что тебе нужно послушное тело добровольца. Человека, который не поднимет шума, не попытается сбежать. А твоя Бабушка, хотя и стоит недорого… Но как только ты выйдешь в ее теле из номера, то тут же столкнешься с сутенером и получишь больше проблем, чем тебе сейчас нужно. Значит, я действительно тебе необходим, причем на добровольной основе. А потому не торопись, подожди немного.
Я ждала, а Койл прижал руки ко лбу и снова лихорадочно вдохнул.
– Расскажи, как ты собираешься доставить меня в Нью-Йорк?
– Я могу провести тебя через любую таможню, – просто ответила я. – Сделать так, чтобы никто не потребовал твоего посадочного талона, чтобы тебе автоматом проставили штамп в паспорте, не досматривали твой багаж. Я могу внедриться в любого, кто летит в Нью-Йорк, путешествовать первым классом в просторном кресле. Я все могу. И возьму тебя с собой, если только ты мне позволишь.
– А что потом? Я очнусь прикованным наручниками к батарее отопления?
– Или в номере комфортабельного отеля вместе с красивой женщиной.
– Ты видела свое отражение в зеркале?
– Нет, – призналась я. – Но я хорошо изучила это тело в отеле. Оно обещало целый набор восхитительных ощущений – сексуальные игры, эротические фантазии. Мне также показалось, что тело достаточно спортивное.
Я вытянула ноги, чувствуя странное напряжение в бедрах и лодыжках. Любопытство заставило меня попробовать дотянуться руками до кончиков пальцев на ногах. Но руки едва достигли коленей, когда сухожилия натянулись до предела, а мышцы отказались служить. Я вздохнула и оставила эту затею.
– Что ж, вероятно, я преувеличила гибкость этой особы. Но мне понравилась ее ласковая улыбка. Она словно внутренне смеялась, но сама над собой. И, по-моему, во мне все же что-то есть.
– Тебе часто приходится это проделывать? Я слышал о людях, которые сознательно вступают в связь… то есть устанавливают особые отношения с такими, как ты. Хотя, видит бог, трудно в такое поверить.
– Но это правда. В свое время я заводила себе… Назовем их добровольными помощниками. При этом я всегда вела себя безупречно. К телу, которое тебе предоставили, нельзя относиться легкомысленно и обращаться с ним небрежно. Находясь в теле помощника, я всегда осторожно водила машину, не вступала в сексуальные отношения, не предохраняясь. Это было бы верхом непрофессионализма. Я вообще избегала половой жизни без согласия владельца тела. Помощник позволяет тебе, например, добраться до места назначенной встречи, без необходимости перепрыгивать из официанта в повара, потом в шофера и обратно. Хороший помощник может стать… И в самом деле они становились моими друзьями. Если были открыты для дружбы.
– Ты их всех тоже любила?
– Конечно. Разумеется, я их любила. Они знали, кто я такая, но доверяли мне. Доверяли каждый кусочек своей беззащитной кожи. И если это не проявление любви, то я даже не знаю, какое еще подобрать определение. Я люблю всех хозяев своих тел. Я любила Жозефину. – Его глаза блеснули в свете маломощной вольфрамовой лампочки, но он промолчал. – Были времена, когда я брала все, в чем нуждалась, с помощью одной только силы. Ты и твои действия, направленные против меня, в известном смысле заставили меня снова прибегнуть к такому методу, возродили подзабытые воспоминания. Но Жозефина Цебула хорошо понимала, на что давала согласие. Мы с ней заключили сделку в зале международных вылетов аэропорта Франкфурта, когда я продемонстрировала ей свои способности и убедила, что мне можно верить. Я мыла ее тело, пробегала пальцами по ее волосам, ощупывала ее обнаженную плоть. Я одевала ее в самые новые модные платья, а потом вставала перед зеркалом и крутилась туда-сюда, и мне казалось, что моя попка выглядит немного полной в красном, но отлично смотрится в синем. Я смеялась ее смехом, наполняла ее желудок пищей, проводила по зубам ее языком, целовалась ее губами, ласкала ее пальцами, опрокидывала среди ночи незнакомых мужчин на ее тело, а потом шептала ее голосом самые романтичные слова на ухо новым возлюбленным. Да, я делала все это, но только потому, что она мне разрешила, потому что я попросила, а не взяла тайком. И за это я любила ее. Нет подарка более щедрого, чем тот дар, который преподнесла мне она, на что я готовила не менее щедрый ответ… Я собиралась создать для нее новую жизнь. Чтобы она стала иной личностью. Хотела предоставить ей шанс самой выбирать свой путь. И все это за срок, не превышавший тот, что дают за мелкую кражу. Но вы убили ее, Натан Койл. Или как вас еще назвать? Вы ее убили.
Не думаю, что мне часто доводилось слышать тишину, столь глубоко проникшую в нити, из которых была соткана окружавшая нас ночь.
Он сказал:
– Я… – Осекся. Начал заново: – Это не было… – Снова запнулся.
Какие-то слова вертелись у него на языке. Вероятно, оправдания и извинения. Он выполнял приказ. Вершил справедливость. Мстил. Это было чье-то неверное решение, у него оставалось слишком мало времени, на него оказывали чересчур сильное давление. Груз прошлого. Бедный Натан Койл. Его ранили, произошедшие события нанесли ему душевную травму. А потому да не судим он будет. Он действовал не по собственному выбору.
Слова, готовые сорваться с его губ, затухали, оставшись непроизнесенными.
Я наблюдала, как они растворяются в нем, сгорают, падая куда-то внутрь его тела, и кончилось тем, что он отвел взгляд в сторону, не сказав ничего.
Я расхаживала по номеру. Включила телевизор. Репортажи о проблемах других людей. Выключила телевизор. Продолжала ждать.
Потом он сказал, что хочет почистить зубы.
– Ванная за той дверью. Она в твоем распоряжении.
Он поднялся с заметным трудом, проверил повязку на груди и плече, убедился в ее надежности.
Дверь ванной осталась приоткрытой, и я с постели могла видеть его перемещения в ярком белом свете. Но порой он скрывался из поля моего зрения. Когда из крана перестала течь вода, я открыла дверь пошире, чтобы наблюдать за ним непрерывно, и вот он оказался передо мной. Он стоял, опершись руками о раковину, вглядываясь в зеркало так, словно сам только что впервые увидел свое лицо и старался найти ответ на вопрос, какую форму оно еще могло принять. Я прислонилась к косяку двери – проститутка с кожей, подтянутой пластическим хирургом, живущая в городе, где цены на мои услуги слишком низки, сутенеры суровы, а все секреты моего занятия таятся под крытыми брусчаткой узкими улочками. Он не смотрел на меня, не в силах оторвать взгляда от собственного гипнотически действовавшего на него отражения.
– А если я откажусь? – спросил он.
– Тогда я уйду. Сбегу туда, где хранятся мои документы по «Водолею». После чего разрушу их организацию до основания изнутри, и ты останешься в одиночестве.
– Обреченный на верную смерть? Это угроза?
– Сама я не причиню тебе вреда. «Водолей», Галилео… Мы оба можем только гадать, как поступят они. Но я тебя не трону.
Он кивнул, обращаясь к своему отражению, потом перевел взгляд куда-то в глубь раковины, опустив плечи, выгнув спину, неожиданно как-то сразу преждевременно состарившись.
– Сделай это, – сказал он. – Сделай.
Я вытянула руку, но мною овладели сомнения, и мои пальцы застыли над обнаженным участком кожи на его шее.
– Сделай это! – прорычал он, скривив губы, сдвинув брови в одну линию, а потом сам взял мой палец и прижал к своей коже. Инстинктивно, под влиянием овладевшего им приступа злости, я прыгнула.
Я – Натан Койл, смотрящий на себя в зеркало глазами, готовыми пролить слезы. И на мгновение, когда я оценила отражение, отвечающее мне столь же пристальным взглядом, мне мучительно захотелось стать кем угодно, но только не им.
Глава 80
Из Лиона нет прямых авиарейсов в Нью-Йорк. Снова не обойтись без поезда. Пассажиров в поезде отследить труднее, чем автомобили.
Французские скоростные железные дороги! Мощь и стремительность, грохот туннелей, плоские поля севера Франции.
Опять в Париж. Рядом со мной за столом, рассчитанным на четверых, сидит старик с газетой каких-то гипертрофированных размеров. Какое-то время я читаю статью, глядя ему через плечо, но он читает медленно, значительно медленнее, чем я. Мне скоро наскучивает это занятие, я устаю от него, как и от одиночества, а потому кладу руку на запястье соседа и переключаюсь.
Койл зашевелился в соседнем кресле, посмотрел в окно, за которым бежали назад серо-зеленые поля, услышал шум локомотива, втянул запах невероятно дорогого кофе, который подают в поездах Франции, а потом заметил меня и свою руку, все еще лежавшую поверх моей.
– Мы до сих пор не приехали?
– Еще нет.
– Так для чего это?
– Я… Просто мне захотелось обменяться с тобой парой слов.
– Зачем?
– Мне подумалось… Наверное, ему будет интересно, как обстоят наши дела.
Он посмотрел на меня с недоверием.
– Извини, – промямлила я. – Я просто… Хотелось сделать тебе приятное. – И я совершила обратный прыжок сквозь горячую кожу его ладони.
Мы снова оказались на Лионском вокзале, где мне пришлось ненадолго выйти из тела Койла.
– Что опять стряслось?
– У нас почти кончились деньги, – ответила я, разыскивая в карманах нового тела бумажник. – Вот, возьми это. – Я достала несколько купюр, оставив внутри только одну, и протянула их Койлу.
Он оглядел меня с презрением епископа, смотрящего на падшего ангела, и зажал банкноты в кулаке.
– Кем ты стала? – спросил он, пока я засовывала сильно облегченный бумажник обратно в карман.
– В данный момент я мужчина, который пожал руку совершенно незнакомому человеку. Давай еще раз обменяемся рукопожатиями, Натан Койл, и двинемся дальше.
Он медленно протянул мне ладонь, и я мягко встряхнула ее.
Пригородной электричкой я доехала до аэропорта, где еще один смешной поезд из двух вагончиков сновал между терминалами. Напротив меня стояла женщина: светлые волосы, загорелое лицо, зеленое платье, тесноватое в талии, смех искренний и раскатистый – она болтала по телефону с подругой. Направляется на стоянку, решила я, вернувшись из отпуска в какой-то раскаленной от солнца стране. Назавтра ее не ожидает надоевшая работа, она не страдает от смены часовых поясов и может лишь радоваться возвращению к своей семье и друзьям, домой, где все соберутся вместе, чтобы встретить ее.
Пальцы у меня так и чесались прикоснуться к ней, чтобы присвоить себе этот звонкий смех, как и отца с матерью, а возможно, и детей, которых было так трудно воспитывать, но теперь повзрослевших, любящих. Чтобы они все окружили меня, затискали в объятиях, называя своей сладкой ягодкой, милой девочкой и любимой мамочкой.
Но потом я посмотрела по сторонам и увидела отражение Натана Койла в оконном стекле. Между тем двери открылись, и женщина пропала из вида.
Один билет до Нью-Йорка. Без обратного. И я была…
– Ваш паспорт, пожалуйста!
Койл смотрел на меня, моргая. Он почувствовал, как его рука вместе с моей просунулась в щель под стеклом, куда усталые путешественники, желавшие покинуть эту страну, должны были класть свои паспорта. А я уже улыбалась ему, говоря на жизнерадостном и грассирующем французском:
– Я должен проверить ваш паспорт, мистер Койл.
Мне удалось быстро покинуть его тело. Я впервые оказалась в кабинке офицера паспортного контроля, поскольку прежде в этом никогда не возникало необходимости. Неудобный высокий стул, простейшее оборудование – настолько простое, что с ним не сразу удалось разобраться. Пистолет в кобуре, засунутый под стойку.
– Дай мне несколько секунд, – сказала я, – а потом двигайся дальше, сделав вид, что прошел все формальности. Я буду в паре тел позади тебя.
Он кивнул, услышав вдогонку от меня приветливое:
– Приятного полета, сэр!
И лениво, словно в полусне, прошел в открывшийся проход.
Я для вида проверила еще несколько паспортов, всмотрелась в несколько лиц, гадая, есть ли среди них преступники или контрабандисты. Считывающее устройство компьютерного сканера одобрительно пищало, когда я вкладывала в него паспорта, выводя на дисплей данные пышногрудых туристок или раздраженных бизнесменов, с нетерпением ждавших, когда я дам им зеленый свет. А потом настала очередь мужчины, чье телосложение, цвет волос и даже прическа напоминали Койла. Я улыбнулась ему особенно радостно, потянулась за его паспортом, коснулась при этом его пальцев и тут же ощутила собственное прикосновение.
Девять тел спустя, когда Койл подошел к рамке детектора на спецконтроле и положил сумку на ленту конвейера рентгеновского аппарата, я спросила:
– Везете что-нибудь хитро спрятанное, сэр?
Он сверкнул на меня глазами, поскольку выражение «хитро спрятанное» звучало странно из уст офицера службы безопасности аэропорта, пусть это даже была женщина. Я же опять улыбнулась и предположила:
– Не подвергнуть ли вас тщательному личному досмотру в отдельном кабинете?
– Вы разденете меня догола? У вас есть на это время?
– О, сэр, – сказала я, подталкивая его багаж дальше вдоль конвейера, – разве вам не знакомо приятное чувство, когда вашей кожи касаются чужие, но чуткие пальцы? Впрочем, как видно, вы не в настроении, а у меня самой к тому же врос ноготь на ноге. Так что проходите и не задерживайте других пассажиров.
* * *
Потом я стала бизнесменом с ужасными зубами, нуждавшимися в лечении и пломбах, с воспаленными деснами (неужели он считает, что это в порядке вещей?), который сел рядом с Койлом в зале ожидания международных рейсов, держа в одной руке портфель, а в другой – бумажный стакан.
– Чаю не желаете?
Койл изучил стакан, бросил на меня взгляд и без лишних слов принял напиток.
– Спасибо.
– Не за что. Вот еще сахар, если вы любите сладкий.
– Нет, не люблю.
– Очень мудро с вашей стороны. Помогает сохранить здоровые зубы.
Он принялся прихлебывать чай, а я откинулась на спинку скамьи, поставив портфель на пол между ногами, языком нервно ощупывая неровности внутри рта. Аэропорт Шарль де Голль ничем не отличается от других крупных аэропортов мира. Магазины якобы беспошлинной торговли, аптека для наивных путешественников, которым приходится покупать новый шампунь, потому что их прежний был в упаковке на десять миллилитров больше разрешенного к перевозке объема, что слишком рискованно с точки зрения сотрудников службы безопасности. Несколько торговых агентов в дорогих костюмах прямо в центре зала ожидания пытались продать последнюю модель спортивного автомобиля. В книжном магазине полки были заставлены бестселлерами месяца: рассказами об американских юристах с превосходными зубами, об американских любовниках, хорошо устроившихся в этой жизни, об американских гангстерах, которых не брали никакие пули.
Женщины в платках, держа за руки малолетних детей, изучали расписание вылетов, выискивая нужное направление. Усталые пассажиры вставали рядом, задирая головы к табло, прижав к груди паспорта и посадочные талоны. Я порылась в кармане в поисках своего. Нашла на нем номер рейса, время вылета и тоже сверилась с табло под потолком.
– Не пойму даже, куда именно лечу.
Койл бросил взгляд на бумажку в моей руке.
– По-моему, твой вылет сильно задерживают.
– Как всегда. А что известно о твоем?
– Сказали ждать дальнейшей информации.
– Это ничего не значит.
– Напротив, я считаю это доброй приметой.
– Ты веришь в добрые приметы?
Он посмотрел на меня с некоторым изумлением:
– А ты… Неужели ты не слишком любишь самолеты? Или мне кажется?
– Я впервые пересекла Атлантику на голландском скоростном парусном фрегате «Несси Рич». Чертовски опасное приключение.
– Но при чем тут самолеты?
– Мне не по душе универсальность угрозы, которая создается в полете. Ты можешь сидеть развалившись в просторном кресле бизнес-класса или прижимать колени к подбородку в экономическом – если лайнер рухнет, ты труп вне зависимости от своего общественного статуса и материального положения.
– Боже мой! – воскликнул он. – Да ты трусишь!
– Неужели? А я считаю, что храбрость уместна только там, где ты способен на какие-то действия, дающие возможность проявить ее. Меня нанимали для выполнения многих задач, на которые не всегда способны самые отчаянные храбрецы: бросить любимого человека, пройти собеседование при приеме на работу, воевать в окопах. Допускаю, ты не считаешь все это причиной для особых эмоциональных реакций, но я все же спрошу тебя… Ты и после этого запишешь меня в число трусливых людей? Думаю, это очень спорная точка зрения.
– Хорошо, ты не труслива. У тебя попросту свой, особый набор правил и принципов.
Я улыбнулась и спросила:
– Хочешь еще чая?
– Нет, спасибо.
– Мне пора освободить это тело. Задержан рейс или нет, потеря памяти не должна становиться слишком продолжительной.
– Понимаю, – сказал он, не глядя протягивая мне пальцы жестом королевы, ожидающей, когда ей в очередной раз поцелуют руку.
– Вот ты у нас очень храбрый, – сказала я, касаясь его кожи.
Потом самолет долго тащился к началу взлетно-посадочной полосы. Стюардессы изложили пассажирам правила безопасности: в случае чего прижать подбородок к коленям; кислородные маски вывалятся сверху; сначала следует заняться собой и только потом спасать сидящего рядом ребенка или близкого друга.
Я почувствовала давление от ускорения рванувшегося в небо лайнера, прижалась затылком к подголовнику кресла, чувствуя чуть смягченную лекарствами пульсацию в груди и плече, подавила желание ощупать рану и лишь наблюдала в иллюминатор, как пейзаж, имеющий конкретные и четкие очертания, превратился в род карты с линиями дорог и полей, созданных руками человека. Я заказала себе вегетарианский обед с бутылочкой минеральной воды, после чего обнаружила, что набор кинофильмов, предлагаемых для просмотра в полете, еще менее интересен, чем обычно. Чтобы скоротать время, я сыграла в шахматы с незнакомцем, сидевшим на месте D 12. Он быстро проиграл, но от реванша отказался.
Скоро под нами уже плескался океан, который не могли скрыть крошечные облачка, остававшиеся далеко внизу. Мною овладела усталость, плечо ныло, даже глаза болели от напряжения, и я поддалась мгновенному соблазну стать круглолицым мужчиной, слишком толстым для полетов в экономическом классе. Пристяжной ремень давил на живот, колени неуклюже вздернулись вверх, локти вжались в бока. Пока я привыкала к новым неудобствам, двигатели гудели, и чуть гремела в проходе тележка с напитками. Койл повернулся ко мне и спросил:
– Храбрый?
– Что?
– Ты назвала меня храбрым?
– Разве?
– Да, буквально секунду назад.
– Скорее уж пару часов назад.
– А где мы сейчас?
– Где-то над Атлантикой.
– Что случилось?
– Ничего. А почему ты спрашиваешь?
– Просто хочу понять, зачем ты… превратилась в это… – Он сделал красноречивый жест, указывавший на мою излишне обильную плоть.
– Мне вдруг… стало неудобно. Захотелось вытянуть ноги. Этот здоровяк мне мешал, и я решила вытянуть его ноги.
– Похоже на правду. Так ты назвала меня храбрым.
– Тебе померещилось.
– Нет, буквально минуту назад.
– А еще я назвала тебя убийцей, слепым орудием в чужих руках, застрелившим женщину, которую я любила. И это правда. И все же вот они мы – подавляем свои чувства и вместе движемся дальше. Я бы не стала придавать особого значения моим словам.
– Ты собираешься долго пробыть в нем?
Мне с трудом удалось пошевелиться в кресле.
– Нет, – ответила я после паузы. – Тело слишком широкое для пространства между подлокотниками. У меня сдавлен живот, болят коленные суставы. Судя по всему, у меня плоскостопие, а во рту до сих пор ощущается привкус имбирного эля. Если этого мало, добавь сюда еще опасность сердечной недостаточности. Но если тебе хочется посмотреть фильм или развлечься как-нибудь еще, я могу побродить по салону. Быть может, даже переберусь в первый класс.
– А что, здесь хороший выбор фильмов?
– Отвратительный. Ты играешь в шахматы?
– Что?
– Ты умеешь играть в шахматы?
– Нет. Хотя я, конечно, знаю правила игры.
– Хочешь сгонять партию?
– С тобой?
– Можно со мной. Или предложи сыграть пассажиру на месте D 12. Его даже ты обставишь без труда.
– Не уверен…
– Ты разрешаешь мне пользоваться своим телом, но не хочешь даже в шахматы сыграть?
– Первое – жестокая необходимость, а второе уже выглядит как непринужденное общение.
– Выбор за тобой.
Он немного помолчал. Потом сказал:
– Я тебе не друг. Ты должна это понимать.
– Разумеется.
– Все, что я тебе говорил в Стамбуле, в Берлине, было искренне. Я верю в то, во что верю. Несколько минут там или здесь, партия в шахматы… Ничто не изменит твоей сущности. Того, что ты собой представляешь. Я позволяю тебе трогать меня… потому что у меня нет выхода, хоть и испытываю отвращение. Даже не знаю, зачем мне вдаваться в объяснения.
– Ничего, – сказала я. – Все как-нибудь образуется.
Тишина. Насколько тишина вообще возможна на борту летящего самолета.
– Быть может… ты хочешь поспать? – спросила я, продолжая страдать от неудобства в своем кресле.
– А твое временное тело ничего не заметит, если ты пробудешь в нем слишком долго?
Я пожала плечами:
– В самолетах скучно. А потому большинство пассажиров только радуются, если время пролетает незаметно.
– Мне немного времени не помешает.
– Вот и отлично.
– Я имею в виду, оставаясь самим собой.
Я кивнула несколько рассеянно.
– Не проблема, – пробормотала я, дотрагиваясь до руки другого своего соседа. – Увидимся в конце пути.
…Наконец я – деловая женщина, которая летит по высшему разряду. Вероятно, она спешит домой, где займется йогой. Меня кормят креветками и поят шампанским. Койл остался один. И я ничего не имею против.
Глава 81
А потом все сначала…
– Ваш паспорт, пожалуйста.
Я улыбаюсь мужчине в кабинке. Аэропорт Нью-Йорка славится офицерами службы иммиграционного контроля, которые простой ухмылкой дают тебе понять: даже если они не могут помешать тебе попасть в Соединенные Штаты, то сделают все, чтобы затруднить эту задачу.
Я сую ему бумажник со своим билетом, а когда он берет его, скривившись от очередного разочарования, моя рука касается его, и я говорю:
– Добро пожаловать в Нью-Йорк!
Койл ухитряется сохранить равновесие, пока я устраиваю показательную проверку поданных им бумаг.
– Американцы до ужаса боятся за безопасность своих задниц. Вы, случайно, не являетесь носителем инфекционных заболеваний?
– Только одного. Тебя.
– Жуткая вещь. Вас когда-либо привлекали к ответственности за моральное разложение? Хотя, знаете, я сам не уверен, что такое моральное разложение. И это после многих лет работы.
– Меня никогда не привлекали к ответственности и не подвергали арестам, – ответил он чуть осторожнее. – Это твой американский акцент?
– Я пытаюсь имитировать говор человека из Нью-Джерси.
– Выходит никудышно.
– Не успела потренироваться как следует. А здесь синтаксис важен не меньше, чем произношение. Но сейчас я при исполнении и потому не стану называть тебя чуваком, как и обсуждать результат последней игры, поскольку я из тех настоящих мужчин, которые с гордостью носят свой мундир. Были ли вы когда-либо раньше или в настоящее время вовлечены в занятия шпионажем, диверсиями, принимали ли участие в деятельности террористических организаций, в актах геноцида? Мне кажется, мы можем поставить жирную галочку против ответа «да» на все эти вопросы.
– Ты собираешься настучать на меня и сдать американским властям?
– Знаешь, мне на мгновение действительно пришла в голову подобная мысль, – ответила я, возвращая ему документы. – А еще эффектнее было бы направить тебя в красную таможенную зону, через которую ввозят имущество и денежные средства, подлежащие декларированию, и чтобы ты при этом громко распевал гимн Северной Кореи. Боюсь только, что здесь не поймут и не оценят моего чувства юмора. Вот. Ты почти прошел формальности.
На несколько минут меня накрыла горячая волна паники: я рыскала у конвейеров выдачи багажа, но нигде не видела Койла. Наконец я обнаружила его. Он сидел, прислонившись спиной к стене, вытянув ноги перед собой и зажав рукой то место на плече, где крепилась уже давно не менявшаяся повязка. Лицо его посерело, но дышал он спокойно. Я присела перед ним на корточки, покачиваясь на высоких каблуках, и спросила:
– С тобой все в порядке?
Он чуть повернулся, чтобы посмотреть на меня, но увидел перед собой лишь униформу стюардессы, маленькую пилотку у нее на голове, ярко накрашенные губы. Потом он все же ответил:
– Все хорошо. Мне… – Он вдруг чего-то испугался и взглянул на меня внимательнее: – Ты – это ты?
Я подала ему руку, чтобы помочь подняться.
– Что-то мне стало совсем скверно. Думаю, ты должна знать об этом.
– Ничего. Скоро я доставлю тебя в какое-нибудь безопасное место.
– Почему ты не отправишься туда одна?
– По одной простой причине: чем меньшим количеством тел я воспользуюсь, тем меньше наслежу, что облегчит мне задачу защитить тебя.
– Ты меня защищаешь?
– Да, – ответила я, плотнее сжимая его холодную руку, – но, бог свидетель, делаю это не ради твоей шелковистой кожи.
Койл не лукавил. Я чувствовала себя намного, намного хуже. Пальцы у меня совершенно заледенели, я с трудом добралась до своего места в поезде. В желудке ощущались жжение и пустота, рана пульсировала в каком-то своем ритме, несовместимом с биением сердца. Пошатываясь, я зашла в туалет из нержавеющей стали в покрытом ржавчиной старом вагоне и, пока он с грохотом и враскачку двигался на север, стянула с себя футболку, чтобы проверить состояние повязки. Бинты оказались достаточно чистыми, но стоило мне ощупать края раны, как боль пронзила меня до самого позвоночника, и я отдернула руку.
А потом:
– Привет! – Я сунула в кулак Койлу, стоявшему передо мной на нетвердых ногах, ключ от номера. – Ты живешь на последнем этаже. Воспользуйся лифтом. Я поселила нас с тобой на одну ночь.
Он удивленно моргал, глядя на меня, сидевшую за стойкой регистрации гостиницы, опустил взгляд на ключ в своей руке, но не сказал ни слова, а сразу же медленно, подволакивая ступни, направился к покрытым медью дверям лифтов. Я дождалась, пока он скрылся, потом вызвала коридорного и вместе с ним направилась следом.
Отель оказался роскошным. Намного лучше тех, к каким я начала привыкать в последнее время. В номере стояла покрытая кожаным матрацем кровать, удобные кресла. Ванная блестела отполированным хромом. Окна закрывали плотные тройные шторы, а экран телевизора был размером с бок разжиревшего бегемота. Когда я вошла, не неся в руках никакого багажа, Койл уже улегся на постель, свесив ноги с ее края, обхватив руками грудную клетку.
– Койл!
Он приоткрыл глаза и посмотрел на меня.
– С тобой все будет хорошо. Я сейчас пойду на улицу, найду тело побогаче и принесу тебе еще болеутоляющих и свежие бинты.
– Кто ты на этот раз?
– Понятия не имею. Но я принесу тебе все необходимое.
– Я еще никогда не получал огнестрельных ранений.
– Зато я получала. Знаю, каково это. Но ты поправишься.
– Ты не можешь быть в этом уверена. Ты не задержишься здесь достаточно долго, чтобы лично в этом убедиться.
– Я скоро вернусь.
– И кем ты станешь, когда вернешься?
– Кем-то другим. Кем-то новым. Но останусь собой.
Я взяла ключ от номера, положила его в кадку с каким-то южным растением, стоявшую рядом с лифтами, и спустилась в вестибюль.
Обменявшись рукопожатием с первым же вышедшим из гостиничного ресторана мужчиной и сунув в руку коридорному, приходившему в себя от шока, десять долларов чаевых, вежливо поблагодарила его за помощь и направилась прямиком на улицы Нью-Йорка.
Холод набрасывается здесь, как голодная собака на кость. Не давая коже приезжего постепенно привыкнуть к стрессу, зима на Манхэттене проникает прямо в сердце, и человеку, захваченному врасплох, начинает казаться, словно он замерзает изнутри, хотя это, конечно же, полная ерунда. Сильный ветер со стороны реки носится вдоль улиц, обгоняя в пути даже самых лихих таксистов, свистит вокруг стен небоскребов, норовит снести тебя в сторону на каждом перекрестке, вырывает из рук газеты, хватает за волосы. И аптекам в Нью-Йорке так же далеко до подобных заведений Франции, как промороженной Аляске до пляжей Гавайских островов. Куда-то пропала больничная чистота, длинные стойки и аккуратно заставленные лекарствами полки. Все кругом скрыто под многочисленными рекламными плакатами, объявлениями о скидках и призывами покупать именно этот лосьон для роста волос, именно этот крем для загара, потому что он и только он откроет вам путь к подлинному сексуальному удовлетворению. Протиснувшись сквозь хаотичный развал шампуней и станков для бритья, пилочек для ногтей и прочей дребедени, я оказываюсь перед кассой, где взгляд провизорши спешит сообщить тебе: если ты не в состоянии купить нужное лекарство, то, скорее всего, болезнь твоя неизлечима.
Я покупаю бинты, болеутоляющие средства и полный набор для дорожной аптечки. Меня так и тянет прыгнуть в продавщицу и на всякий случай набить себе карманы самыми дорогими антибиотиками. Но, в отличие от Койла, мое временное тело не станет покорно дожидаться, пока я буду рыться в шкафах и ящиках, а потому следует проявить терпение и не совершать переходов без крайней необходимости.
Я пытаюсь трусцой пробежаться по улицам Манхэттена, но моя грузная фигура и больные колени не позволяют такой роскоши, и я всего лишь максимально быстрым шагом, с раскрасневшимся лицом и резью в легких добираюсь до своего отеля.
Я нахожу ключ от номера Койла в том месте, где его оставила, стряхиваю налипшую землю и отпираю замок.
Койл по-прежнему лежит на кровати, натянув одеяло до подбородка, но все равно дрожа всем телом. Я осторожно притрагиваюсь к его ноге и шепчу:
– Койл!
Его глаза медленно открываются, растерянность уступает место страху при виде незнакомого лица.
– Кеплер? – Его голос тих, язык еле ворочается.
– Я принесла тебе лекарства. Воды дать?
– Да… Пожалуйста.
В ванной я наливаю воду из крана в пластмассовый стаканчик, а потом поддерживаю его голову, которую он приподнимает, чтобы напиться.
– Глотками, мелкими глотками, не надо торопиться, – бормочу я. – Теперь нужно осмотреть твою повязку, – говорю я, дав ему утолить жажду.
– Делай все, что сочтешь нужным, – отвечает он.
Беспокойная выдалась ночь. Койл спал, закутанный во все покрывала, какие только нашлись в номере. Я просидела в кресле напротив него, не сомкнув глаз. Наблюдала. Иногда он просыпался, я давала ему воды и очередную порцию болеутоляющего, плотнее укрывала и ждала, когда он снова заснет. Временами он начинал чуть слышно бредить, шептать о том, что совершил когда-то, оживляя в памяти какие-то свои сожаления. Я продолжала сидеть, обхватив голову руками, но не включала телевизор, не читала, а только слушала и ждала.
Мне уже трудно было вспомнить, когда я в последний раз спала сама. Приходилось напрягать память, где я тогда находилась и как туда попала. Номер гостиницы в Братиславе, или в Белграде, или в Берлине, а я была… мужчиной, который любил… женщиной, сказавшей… кем-то еще.
Я изучила содержимое своего бумажника, прочитала имя и поняла, что оно мне безразлично. Меня не интересовали мое новое лицо или мой новый характер. Я стала человеком, появившимся невесть откуда, который просто подвернулся под руку. Со всеми достоинствами и недостатками.
Рассвет узкой серой полосой начал пробиваться сквозь шторы, окончательно обесцветив обстановку в комнате. Койл лежал неподвижно, дышал ровно, его пульс был в пределах нормы. Я умылась над отполированной до блеска раковиной, спрятала ключ в том же тайнике, спустилась на лифте и вышла наружу, угодив в утреннюю городскую толчею.
…Подземка. В вагоне экспресса пассажиров швыряет вперед между рядами пластмассовых кресел, как только поезд начинает тормозить. Эскалаторы раздражающе клацают, турникеты хлопают с угрожающей силой, открываясь перед проходящими людьми и закрываясь за ними.
Я села в переполненный поезд, а когда толпа в вагоне стала совершенно непроходимой, прыгнула, потом еще и еще раз, перемещаясь, но не двигаясь с места, оставляя свое бывшее тело далеко позади.
Глава 82
Когда я вернулась, Койл уже проснулся и смотрел телевизионный выпуск новостей. Новости звучали громко, были в основном местными и подавались откровенно пристрастно. На земле свободных людей можно говорить все, что взбредет в голову, даже если сказать совершенно нечего.
Я снова была коридорным, войдя в номер с подносом фруктов и круассанов.
– Не могу долго оставаться в теле этого юнца. Скажи только, как ты себя чувствуешь?
Пальцы Койла инстинктивно коснулись повязки.
– Дерьмово. Но в меру дерьмово.
– Не возникало желания поесть?
– Попытаюсь.
Он попытался, а потом попросил добавки.
Я сказала:
– Прости, но мне действительно пора позволить этому телу вернуться к его обычной работе.
– А мне нужно позвонить.
– Кому?
– Другу.
– Какому другу?
Он искоса метнул в меня резкий взгляд: не приставай! Я сняла с головы форменную фуражку, почесала поросшую темными волосами голову, заметила, как из-под ногтей посыпалась перхоть.
– Хорошо. Ты мне доверился. Мне пора ответить тебе тем же. Только, пожалуйста, не совершай неосторожных поступков.
– Что может быть неосторожнее, чем похищение тела коридорного отеля на целый час?
– Как я уже упоминала, есть люди, которые только радуются незаметно пролетевшему времени. На прогулку я отправлюсь в ком-то неброском.
Я действительно вышла на прогулку в неброском облике женщины, которую старили седые волосы и отяжелевшие веки, но чья кожа под кофточкой оказалась нежной и розовой, а руки, когда я испытала их, были крепкими и готовыми к любому делу.
Я прошлась туристическим маршрутом, потому что только туристы ходят по Нью-Йорку пешком. Так я добралась до Вашингтон-сквер и постояла под белой аркой, возведенной когда-то отцами города, которые ненавидели империализм, но обожали его символы, тешившие их тщеславие. В центре огромного круга площади голуби соревновались с уличными музыкантами в попытке привлечь внимание прохожих. Когда я в последний раз посещала это место, я свернула за угол, где увидела карнавальную толпу, состоявшую из примерно четырехсот зомби с разрисованной серой, будто оплавленной кожей, с рукоятками мясницких ножей, торчавшими из их черепов или спин. При этом они мирно обсуждали погоду. Один зомби немного отстал от остальных. Его горло было якобы вспорото, такого эффекта он добился с помощью латекса и пищевых красителей. Зомби встал под раскидистым дубом и позвонил по мобильному телефону: куда нам двигаться дальше? Где именно повернуть налево?
Но сейчас небо застилали серые тучи, трава хрустела под ногами от инея, и только самые отважные выбрались на улицу из здания университета, обрамлявшего площадь. Двое или трое, презрев холод и ненастье, склонились над досками в том месте, которое называли городским «уголком шахматиста». Этой уже освященной временем традиции следовали люди, которые, безусловно, знали, чем венская партия отличается от королевского гамбита. Один из них предложил мне сыграть, поставив двадцать пять долларов. Я ощупала карманы и с удивлением обнаружила в мягком кожаном кошельке почти триста долларов. И уселась играть. Конечно! Почему бы и нет?
– Понятию не имею, насколько вы сильны, – сказал мой противник. – Я не азартный игрок. Деньги нужны лишь для того, чтобы придать интерес партии, не более. И оправдать затраченные усилия.
– Меня все устраивает, – ответила я. – Мне лишь нужно убить немного времени.
Он сказал, что его зовут Саймон и он живет в приюте Армии спасения.
– Прежде я был дизайнером интерьеров, – объяснил он, вгрызаясь фигурами в мою позицию, как лев в пойманного ягненка. – Но начался экономический кризис, и теперь приходится зарабатывать чем попало.
– Например, шахматами?
– За доской я зарабатываю где-то восемьдесят баксов в день. Меньше, если холодно, как сегодня. Иногда мне отказываются платить, но полиция не вмешивается, поскольку играть на деньги формально запрещено. Хотя копы готовы закрыть глаза на этот бизнес, лишь бы никто не торговал наркотой, прикрываясь шахматами.
– И вы ничего не можете поделать?
– С теми, кто не платит? Ничегошеньки. Парни, считающие себя хорошими игроками, терпеть не могут проигрывать.
– А если проигрываете вы?
– Я всегда расплачиваюсь. Должен, потому что хочу снова здесь появиться.
– Часто вам доводится проигрывать?
Он задумчиво втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы, надул щеки, а потом резко выдохнул:
– Не так часто, чтобы игра не оправдывала риска.
Я кивнула и сосредоточилась на том, как отразить его атаку. Он делал ходы осторожно, не отрывая взгляда от доски. Кончики пальцев его левой руки покрывали едва заметные мозоли, каких не было на правой. Серые глаза смотрели очень серьезно. Кожа имела оттенок крепкого кофе, а волосы начали явно преждевременно седеть у корней. Я спросила, каково это – жить в приюте Армии спасения.
– Это всего лишь крыша над головой, – ответил он. – Там строгие правила, но тебе предоставляют кров.
Он выиграл у меня, хоть и не без труда, и, пожимая ему руку, чувствуя ее холод, я подумала, что он красив. Очень красив. Хотя при этом у меня не возникло желания оказаться в его шкуре даже на день. Я положила поверх доски пятьдесят долларов и пошла дальше.
Я оставила свое тело там же, где нашла его, а потом переместилась в женщину, чью задницу слишком туго обтягивала пестрая юбка, в полицейского с привкусом никотиновой жвачки во рту, в посыльного с наушниками под мотоциклетным шлемом, в которых оглушительно орала музыка, в уборщицу, менявшую в номерах постельное белье, – ее обручальное кольцо стало слишком тесным для ее располневшего пальца. Наконец я вернулась к Койлу.
Я постучала в дверь комнаты, провозгласив:
– Уборка!
К моему изумлению, Койл сам открыл дверь. Он умылся, причесался, и его лицо приобрело вполне презентабельный вид.
– Ты уже?
– Да, уже, – ответила я, оставила свою тележку с простынями и полотенцами у стены в коридоре и протиснулась мимо него в номер. – Не знаю, как ты к этому отнесешься, но моему новому телу срочно нужно пописать.
Когда я вернулась из ванной, он сидел на кровати, спустив ноги на пол, сложив ладони вместе и склонив голову набок.
– Хорошо прогулялась? – спросил он.
– Да. Полюбовалась видами, впитала немного атмосферы города. А ты сделал столь необходимый звонок?
– Сделал.
– Ну и… мне ждать вооруженных до зубов мстителей, которые в любой момент вывалятся из стенного шкафа?
– Нет. Я же сказал, что звонил другу.
– Кто же такой этот твой друг?
– Она поможет нам встретиться со спонсором.
– А у спонсора найдутся ответы на все наши вопросы? Или только на твои?
– Думаю, найдутся.
Я лишь передернула плечами:
– Что ж, отлично. И кто же нам нужен?
Глава 83
Я слишком долго не спала. Отдыхали мои тела, но не я сама.
Мы сидели в закусочной на углу Лафайет и Ист-Хьюстон-стрит. Койл дожидался за чашкой кофе. Я ждала в теле студентки из Азии с выкрашенными в ярко-оранжевый цвет волосами, которая носила в своем малиновом рюкзаке книги по…
– Применению хитина в медицинских целях.
– Неужели? – безразлично спросил Койл, крутя перед собой чашку.
– Боже милостивый!
Из недр рюкзака я извлекла небольшую стеклянную банку с крышкой. Внутри ее находилось странное существо – тело длиной с мой указательный палец и толщиной с большой. Оно отчаянно билось, размахивая прозрачными крылышками, но не могло вырваться из стен своей тюрьмы.
– Не имеет значения, сколько лет я прожила на этом свете. Все равно не устаю поражаться тому, что можно обнаружить в сумках или в чемоданах других людей.
– А ты хоть что-нибудь знаешь о медицинских свойствах хитина? – спросил Койл, пока я понадежнее прятала находку на дне рюкзака.
– Если честно, ничего.
– Тогда будем надеяться, что никто не станет задавать вам вопросов на эту тему, мэм.
Подошла официантка, улыбнулась Койлу и чуть ли не присела в реверансе, снова налив кофе в его чашку.
– А мисс желает что-нибудь?
– У вас есть блинчики?
– Разумеется.
– С сиропом?
– Дорогая, блинчики всегда подают с сиропом. С каким?
– С любым на ваш вкус, пожалуйста.
– Сию минуту!
Койл крепче сжал в руках свою чашку.
– Насколько я понимаю, диабетом ты не страдаешь?
– Нет никаких свидетельств обратного, и, насколько я чувствую, позавтракать тоже еще не успела.
– Ты регулярно питаешься?
– Ем, когда голодна. Просто иногда случается побывать в нескольких голодных телах подряд. И еще должна признать, что люди, сидящие на диете или слишком усердно занимающиеся спортом, тоже разжигают у меня аппетит. Ты ничего не хочешь рассказать о своей подруге?
– Она работает на «Водолей».
– Уверена, ты поймешь, если я скажу, что это не добавляет мне доверия к ней.
– Достаточно моего собственного доверия.
– Прекрасно, но вот доверяет ли тебе она? Ведь ты расстался со своими боссами при, скажем так, несколько необычных обстоятельствах.
– Она мне верит. Мы поговорили. Да, она мне верит. Мы… одно время были очень близки.
– Ты рассказал ей обо мне?
– Нет.
– Ты хочешь, чтобы я сама…
– Нет, – быстро перебил он. – Нет. Я хочу… Нужно, чтобы все выглядело естественно. Чисто и честно. – Он на мгновение задумался над своей следующей фразой. – И если что-то действительно случится, если она… При появлении людей из «Водолея» ты можешь… очень пригодиться. – Слова давались ему нелегко: он говорил медленно, с привкусом горечи. – Как мне тебя представить?
– Что? А, имя?… Сьюзи. Называй меня просто Сьюзи.
– Хорошо, договорились.
Мне принесли блинчики. Целую кучу плавающих в сиропе, но проложенных слоями бекона блинчиков. Я жадно оглядела еду, провела пальцем по кромке тарелки, смахивая каплю горячего соуса, а Койл явно сделал над собой усилие, чтобы не показать своего отвращения к этому зрелищу.
Затем, как это часто бывает при встречах с незнакомцами, словно ниоткуда возникла женщина и уселась на обитый дерматином диванчик напротив нас. На ней, как я и ожидала, оказалась рубашка с длинными рукавами, длинные брюки и длинные перчатки. Длинный шелковый шарф закрывал не только голову, но и шею и нижнюю часть лица, длинные носки глубоко уходили под отвороты брюк, хотя на ней, по всей вероятности, были еще и колготки. И даже если спортивный раздел большой газеты, которую она положила на стол перед собой, способен был издать подобный звук, мне он больше напомнил о пистолете 22-го калибра, заряженном и готовом к стрельбе.
Койл поднял взгляд на узкую полоску лица над шарфом, откуда на него пристально смотрели серые глаза, улыбнулся и сказал:
– Привет, Пэм.
Одна из ее затянутых в перчатки рук оставалась лежать под газетой, другая уперлась в край стола. Взгляд скользнул по Койлу, устремился на меня, потом снова на Койла.
– Где мы с тобой впервые встретились? – спросила она. У нее был выговор уроженки Манхэттена, быстрый и четкий.
– Чикаго, две тысячи четвертый год, – ответил он. – На тебе было синее платье.
– Сан-Франциско, две тысячи восьмой год. Что мы ели вечером перед операцией?
– Мы ужинали в японском ресторане. Ты заказала суши, я добавил соус терияки. А рано утром ты улетала и не хотела будить меня, чтобы попрощаться.
– Что ты все-таки сказал мне, когда мы расставались?
– Что твоему мужу очень повезло, а я не расскажу о нас ни одной живой душе.
– И ты сдержал слово? – спросила она тем же быстрым и резким тоном. – Никому ничего не рассказывал?
– Нет, Пэм, не рассказывал. Ты же меня хорошо узнала. А я не изменился.
Еще на мгновение ее взгляд задержался на его лице, потом она посмотрела на меня.
– Кто это?
– Я – Сьюзи, – ответила я. – Мы друзья.
– Вы мне не знакомы.
– Верно, не знакома.
– Пэм, – выпалил Койл, – не знаю, какие слухи до тебя дошли…
– Я слышала, что тобой завладели, – перебила она. – Операция пошла наперекосяк. Ты объявлен в розыск. Представляешь опасность. Они утверждают, что тебя скомпрометировала Янус.
– А во что веришь ты сама?
– Верю, что ты – это ты. Но не думай, что от этой мысли мне намного легче, Фил…
– Я теперь Натан.
– Пусть будет Натан, – продолжала она на одном дыхании. – Ты был дважды скомпрометирован всего за две недели. Отданы соответствующие приказы.
– И ты собираешься их исполнить прямо сейчас? Хочешь сделать порученную работу?
– Я… пока не знаю. Потому что прочитала досье, присланные тобой из Берлина.
– Ты о них кому-нибудь рассказывала? – спросил он, быстро вскидывая на нее взгляд.
Для меня все это стало новостью.
– Нет.
– И что ты думаешь?
– Мне видятся разные точки зрения.
– Маригар стрелял в меня. Причем ему отдали приказ стрелять.
Под легкой тканью шарфа было заметно движение бровей – удивленное и слегка недоверчивое.
– Почему?
– Мы везли с собой подозреваемого, вероятного призрака. Маригар решил, что этот свидетель представляет угрозу. В таком случае нам надлежало… – Он долго прокручивал слова в уме, прежде чем произнести их вслух: – Устранить опасность. Мы привели тело в ущелье, где текла река, и оно назвало имя Галилео.
– Понятно. Что произошло потом?
– Потом Маригар выстрелил в меня. Просто выполнял приказ и выстрелил. В Берлине Кеплер показала мне досье, и я понял, что они мне лгали, лгали нам всем, Пэм. Они полностью исказили картину случившегося во Франкфурте, они лгали о хозяевах тел, о Галилео. Кеплер сказала…
– Скорее уж Кеплер лжет.
– Но ты сама видела папку с материалами по Галилео. Ты веришь им? Ты стала единственной, кому я их показал. И что же, ты ничего в них не разглядела?
– Ты убил Маригара. – Она повысила голос, чтобы выговорить слова, которые иначе не желали срываться с ее языка.
– Я… Да. Он стрелял и ранил меня. Он смотрел мне прямо в глаза, знал, кто я такой, но все равно выстрелил, Пэм.
Она снова посмотрела на меня, тихо сидевшую в углу, затем обратилась к Койлу:
– Допустим, я тебе верю. Как же ты выжил?
Протяжный вздох Койла оказался, вероятно, красноречивее любых фраз. Прикрытый газетой пистолет повернулся стволом в мою сторону. Я крепко сжала свою кружку с кофе.
– Кеплер, – сказала я. – Вы называете меня Кеплер.
Она глубоко вдохнула. Голова ее чуть откинулась назад, рука дернулась, пистолет теперь был точно нацелен на меня, и его дуло даже стало чуть выглядывать из-под слоя газетной бумаги. Она ничего не сказала: слишком много слов надо было произнести вслух и сразу. Зато заговорил Койл, приглушенно, но с горячностью:
– Она… Оно не опасно для нас. Оно прилетело в Нью-Йорк добровольно.
– Если вам теперь известно мое имя, – добавила я, – то вы знаете, что я располагаю копиями документов из компьютера «Водолея», похищенных в Берлине. Я могла бы уже уничтожить «Водолей», не прибегая к помощи вашего «Фила», причем даже не рискуя жизнью. Здесь я оказалась только ради Галилео. Других целей у меня нет.
– И ты сотрудничаешь вот с этим? – прошипела Пэм.
– В противном случае я был бы уже мертв. Она… оно… – Он произносил слова медленно, принуждая себя вспомнить мою истинную сущность. – Оно помогло мне выжить. Оно ненавидит Галилео, а мне не причинило никакого вреда…
– Оно почти разгромило базу в Берлине.
– Оно спасло мне жизнь.
– Да, потому что носило тебя, – продолжала шипеть Пэм. – Оно осквернило тебя. Боже, ты хотя бы имеешь понятие, что оно с тобой сделало? Знаешь, какие поступки заставило тебя совершать?
– Я ничего… – заговорила было я, но она взвизгнула:
– Заткнись, заткнись! – Причем так громко, что на нас стали оборачиваться.
Койл помрачнел, а она вздрогнула и заставила себя говорить тише. Тонкая жилка между ее глазами набухла от напряжения и стала видимой в полосе, не прикрытой шарфом.
– Пэм, – голос Койла звучал успокаивающе, – ты уже нарушила все приказы, встретившись здесь со мной. Ты читала досье Галилео. Я уверен, что читала. Как и уверен, что ты все поняла. Ты тоже теперь все знаешь… Ты разобралась, в чем суть. Что такое Галилео. Какие чувства он вызывает у меня. А теперь выполняй распоряжения. Тебе велено меня убить – так убей, убей это… эту девушку на глазах у всех. Или на улице тебя ждет группа, чтобы схватить нас на выходе отсюда? Я не знаю. Но на что бы ты ни решилась, поверь: Галилео проник к нам. «Водолей» проводил исследования во Франкфурте, и он принял в них участие, подменил результаты, использовал в своих интересах. Я стрелял в женщину… Нет, не так. Я стал убийцей женщины, застрелив ее, когда она входила на станцию «Таксим» в Стамбуле, потому что Галилео солгал нам. Он разъедает нашу организацию изнутри, играет нами по своему усмотрению. Но… это сделал я. И только я. Убивать меня или нет – решать тебе, но кто-то должен остановить Галилео.
Она промолчала. Койл медленно протянул руку через стол, положил ладонь поверх ее перчатки и замер. Он прикрывал ее пальцы ладонью, а она плакала без слез, потому что не хотела, чтобы мы это заметили.
– Уходите, – прошептала она.
– Если хочешь, чтобы мы…
– Уходите! Убирайтесь! Выметайтесь отсюда!
– Но спонсор…
– Просто уходите скорее! – рявкнула она, и Койл рывком убрал руку, кивнул и, не сказав больше ни слова, поднялся из-за стола. Я последовала его примеру, быстро схватила рюкзак тонкими девичьими ручками и засеменила вслед за ним к выходу.
– Койл… – пробормотала я, но он лишь покачал головой, поэтому я закрыла рот и пошла дальше, так ничего и не сказав.
Глава 84
Мы сменили отель. В прежнем я одалживала слишком много тел, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Койл смотрел телевизионный выпуск новостей. Я слонялась по номеру из угла в угол. Наступил и минул полдень.
– Мне давно пора на занятия в университет, – сказала я.
– Тогда отправляйся на учебу, – отозвался он, не отрывая глаз от экрана.
– Но меня не интересует применение насекомых в медицине.
– Тогда найди себе другой предмет, Кеплер, и займись им.
Я скривилась, но все же вышла из номера, перебросив рюкзак через плечо.
Я ехала в вагоне подземки. Насекомое в банке, лежавшей на дне рюкзака, окончательно выбилось из сил и вяло стучалось в стекло. Я отвинтила крышку и чуть приоткрыла ее, чтобы впустить внутрь немного воздуха, а потом снова плотно закрутила. Поставив банку на пол вагона рядом с собой, потянулась к ближайшему пассажиру, не дав себе труда даже взглянуть, кто это и как выглядит, прежде чем переключиться.
Я красива и для усиления эффекта éду покупать красивые вещи. Я – турист с фотоаппаратом через плечо, в бежевых мокасинах на босу ногу, стоящий на галерее Музея истории естествознания, пялясь на огромных чудовищ, вымерших задолго до моего появления на свет.
Я – располневшая деловая женщина, поедающая шоколадный торт, от которого она сама, быть может, постаралась бы воздержаться, а я получаю огромное удовольствие.
Я – девочка-школьница, сидящая, поджав ноги, в библиотеке и читающая старинные легенды. Когда меня вдруг окликает моя мама, я стремглав бегу к ней, обнимаю, крепко прижимаюсь, а она бормочет: «Что на тебя нашло? К чему такие нежности?» Потом она обхватывает мою голову ладонями и отвечает на мои объятия почти с той же страстью.
Я – прыщавый студент, торгующий сувенирными футболками в магазинчике при музее.
Я – таксист, остановившийся, чтобы выкурить сигарету. Но потом я позволяю сесть в свою машину незнакомцу, который просит доставить его на вокзал «Юнион-стейшн».
Я смотрю в зеркало на одутловатое лицо одышливого мужчины, который не хочет разговаривать и едва ли способен поддержать долгую беседу, но – черт побери! – приближается время заката, а мы находимся в Нью-Йорке, и я спрашиваю:
– Возвращаетесь домой, сэр?
– Нет.
– Но уезжаете из города?
– Да.
– По делам?
– Нет.
– Значит, это что-то личное?
– Да.
На этом разговор окончен, и он не дает мне чаевых, когда я его высаживаю.
Я… Кто-то, не важно кто, но меня клеит проститутка.
Я уже пьяна, но сижу, сутулясь, за очередным стаканом виски у стойки настоящего ирландского паба, хотя мне не совсем ясно, что делает его таким уж настоящим. Быть может, неудобные высокие табуреты с ножками в виде трилистника клевера или молчание собравшихся здесь глубоко несчастных пьянчуг?
Она спрашивает:
– Не хочешь со мной где-нибудь уединиться?
Я смотрю в ее лицо с голубыми прожилками сосудов и припудренными морщинками и отвечаю: конечно, почему бы и нет?
– Дай мне свою руку.
Когда я возвращаюсь в отель, впечатление такое, что Койл все это время не двигался с места. Он смотрит, как я вхожу в номер, но даже не спрашивает, как меня сейчас зовут. Я тоже не спешу представляться и сразу запираюсь в ванной.
Я скидываю туфли. Их высокие задники натерли мне ноги чуть выше пяток, а когда я ощупываю икры, мои пальцы ощущают, насколько загрубела на них кожа. После этого я начинаю рыться в сумке, пока не нахожу лекарств, которые обязана носить при себе – коктейль из прописанных мне таблеток, заранее аккуратно расколотых пополам, чтобы растянуть запас подольше. Недельный рацион превращен в двухнедельный. Потому что это тело с двадцатью двумя долларами в кошельке и без кредитной карточки не может себе позволить купить большее количество медикаментов.
Я принимаю две половинки таблетки одновременно, смотрюсь в зеркало и вижу лицо, на котором даже густой слой косметики не способен скрыть приметы болезни.
Это человек, жизнь которого уже подходит к финалу. Я вспоминаю Янус в теле Марселя. Осако Куйеши в больничном халате. У меня многочисленные грыжи. Я потеряла память. Создается впечатление, что у меня нет перед этим телом никаких обязательств. Недолгий срок пребывания в этом мире мне вполне подходит.
В номере Койл говорит, по-прежнему не отрываясь от экрана телевизора:
– Я звонил Пэм.
– Что она сказала?
– Организовала нам встречу со спонсором. По ее словам, он очень заинтересован.
– Ты в этом уверен?
– Я лишь передаю, что слышал.
– Можно рассчитывать, что это не ловушка?
– Нельзя.
– Вы с ней были любовниками?
– Да.
– Тебя привлекал только секс или в ней есть что-то особенное?
– И то и другое. Но все закончилось уже давно.
Я присела на край кровати, вытянув ноги, чтобы унять боль в натруженных стопах.
– Ты ее любишь?
– Ты чересчур легко разбрасываешься словом «любовь», Кеплер.
– Нет, ты не прав. И не называй меня больше так. Идея бесконечно романтичной любви с соблюдением моногамии и стабильности отношений представляется мне изначально просто смехотворной. Ты любил своих родителей, потому что находил у них, вероятно, столь необходимую тебе теплоту. Ты пережил первые школьные влюбленности, казавшиеся тебе подлинными страстями, когда ты чувствовал себя невесомым в присутствии объекта влюбленности, а от желания сводило губы. Ты любил жену с непреклонностью океанских волн, накатывающих на берег. Любовницу – с обреченностью падающей звезды, лучшего друга – с надежностью скалы. Любовь столь многогранна и сложна, как пелось в старой песне. Так что насчет Пэм? Ты любил ее?
– Нет. Недолго. Когда-то. Да. Если тела… Нужно удачное совпадение времени и места. Тогда да, я любил ее по-своему.
– Когда у нас назначена встреча?
– Завтра утром.
– Хорошо.
Я подтянула колени к подбородку, откинувшись спиной на стену у кровати. Койл наконец соизволил оглядеть меня с головы до ног.
– Ты – шлюха?
Я лишь утвердительно буркнула.
– Выглядишь… слишком бледной.
– Я умираю.
Услышав это, он посмотрел на меня внимательнее, удивленно вскинув брови.
– Не сразу, – поспешила добавить я. – У меня в сумочке лекарства от десятка болезней, но я расколола таблетки пополам, чтобы хватило на подольше. Это хорошее тело.
– Ты чувствуешь себя комфортно в теле умирающей женщины?
– А разве не всех ждет один конец?
– Только не тебя. Это против твоих правил.
– Беру пример с Янус. Она… Забавно, что я всегда воспринимала его как особь женского пола. Наверное, потому, что считала его… мягче, чем кожи, в которые он предпочитал внедряться. Когда его убили, он уже носил на себе умирающее тело. Знал, что погибнет так или иначе. Но все равно это было убийством, потому что мужчина находился еще в полном сознании, видя, как ты всаживаешь пулю ему в голову. Все равно получилась кровавая расправа. Но мы тоже должны когда-то умирать. Каждый это знает, но не находит в себе мужества дотронуться до сморщенной руки старухи, лежащей под аппаратом искусственной вентиляции легких, или поцеловать на прощание того, чье сердце вот-вот остановится. Янус уже пыталась прежде, но не смогла довести дело до конца. В отличие от большинства людей, у нас все же есть выбор, когда речь заходит о смерти.
– Так ты сознательно готовишься умереть? Планируешь свою кончину?
– Я планирую жить до того момента, когда больше не останется выбора. Но едва ли нам стоит заводить подобный нездоровый разговор накануне ловушки и вероятной гибели. Как твое плечо?
– Я не собираюсь в ближайшее время играть в теннис.
Мои пальцы пробежались по соломенным, обесцвеченным волосам, ощутили их ломкость и хрупкость у корней. Я облизала губы и кивнула, ничего в особенности не имея в виду.
– Это будет ловушка, ты же понимаешь?
– Нет, не понимаю. Кажется, я больше уже вообще ничего не понимаю.
– Приказы убить тебя, меня, Жозефину – все они были отданы с самого верха. И если спонсор находится на самом верху, то Галилео либо пользовался его телом, либо пользуется до сих пор, либо работает в тесном контакте с нынешним телом Галилео – выбирай любой вариант. Галилео знает, что мы прибыли. Он будет ждать нас. Не обязательно в роли спонсора или кого-то другого, кто нам знаком, но его присутствие при встрече неизбежно.
– И как ты предлагаешь нам поступить?
Я пожала плечами:
– Если мы не попытаемся воспользоваться возможностью сейчас, сомневаюсь, что нам представится другая. Я просто не хочу, чтобы меня застали врасплох и сильно удивили.
– Представь, что спонсор и есть Галилео. Ты убьешь его? – спросил Койл.
– А ты бы не убил?
– Даже не знаю. Думаю, убил бы. То есть я так думал совсем недавно. Считал, что, кем бы ни оказался Галилео, чье бы тело ни носил, я убью его. И смерть одного мужчины или женщины, необходимая для уничтожения Галилео, представлялась… неизбежной и оправданной потерей. А теперь… Даже не знаю, что сделаю, когда наступит решающий момент.
Я промолчала. Он подтянулся выше, опершись на локти, и еще раз вгляделся в меня.
– Когда ты в последний раз спала?
– Спала? Думаю, это тело хорошо отсыпается днем.
– Не тело. Ты сама. Когда ты спала в последний раз?
– Я… не спала достаточно долго.
– Тогда следует улечься.
– А ты… – Слова застыли у меня на языке. Я снова облизала губы, ощутив вкус дешевой помады. – Ты еще будешь здесь, когда я проснусь?
– Где еще я могу быть?
…И вот я сплю. Пытаюсь спать. Койл приглушает свет в номере, выключает телевизор и снова растягивается на кровати рядом со мной.
Я пробую вспомнить, когда в последний раз за мной кто-то наблюдал, а я сама не наблюдала за ним. Мне хочется прижаться к нему.
Будь я ребенком или имей более изящное телосложение, каштановые волосы, например, и тонкие запястья, я бы прильнула к нему, и он бы меня обнял. Если бы я была другой.
Я сплю одетая, готовая бежать, готовая к прыжку. Вслушиваюсь в его дыхание, а он вслушивается в мое. За окном грохочет грузовик. Где-то далеко внизу. В ночи доносится звук полицейской сирены. Тоже очень далекий. Грудь чужого мне человека вздымается и опадает рядом.
Слова вертятся на кончике моего языка. Я переворачиваюсь и вижу, что он не спит, а лежит с открытыми глазами и смотрит на меня. Сразу понятно: ему едва ли кажется привлекательным мое тело. Но ведь оно и в самом деле не слишком красиво в общепринятом смысле слова. Да и мне не очень-то в нем уютно. Я пока не научилась быть красивым человеком даже в таком обличье.
Инстинктивно я тянусь к его руке, но не решаюсь дотронуться. Он не отстраняется, продолжая наблюдать за мной. Мои пальцы в нескольких сантиметрах от его пальцев. Я просто хочу прикоснуться. Не переключиться, а просто прикоснуться. Почувствовать биение другого пульса поверх своего. Он ждет. Я видела такое выражение на его лице прежде, но не могу вспомнить, кто в тот момент его носил – я или он сам.
Я снова поворачиваюсь к нему спиной. И я, должно быть, надолго уснула, потому что вдруг наступает день, а мужчина, которого зовут не Натаном Койлом, по-прежнему здесь.
Глава 85
Я ношу имя… Ирэна. Нет. Ирэной я была во Франции, и у меня нет ощущения, что ею я и осталась. Марта. Мэрилин. Грета. Сандра. Саломея. Амелия. Лидия. Сьюзи.
В сумочке я не нахожу никаких документов. У этого тела нет имени, хотя едва ли это так важно. Зато сколько я ни вглядываюсь в зеркало, мне не удается прочитать историю жизни белого как мел лица. Только пилюли, расколотые пополам, еще могут о чем-то сказать. Я пытаюсь гадать, но ничего убедительного не приходит на ум. Я как-то не вписываюсь в канву простых и распространенных жизнеописаний. Самых простых. Вероятно, я сбежала… или меня забрали из родительского дома… от отца, избивавшего меня… от отца, любившего меня.
А может, я вижу перед собой лицо женщины, которую ложно обвинили, к примеру, в похищении чужого ребенка, посадили в тюрьму, откуда она вышла слишком истерзанной, чтобы долго жить потом. Вероятно, в какое-то время я подсела на наркотики и дошла до ручки. Или всему виной вовсе не наркотики, а всего лишь отсутствие в моем сердце твердой уверенности в ценности собственной личности. А если не веришь в себя, каждая мелочь потом начинает вновь и вновь подтверждать справедливость заниженной самооценки.
Возможно, у меня есть дочка, которая сейчас плачет дома одна, не зная, где мама. Возможно, есть муж, который сидит на кухне в одних подштанниках, опустив козырек кепки на мрачные, темные глаза, и смотрит хоккей по телевизору с банкой пива в руке.
Возможно, у меня вообще никого нет, и вся моя жизнь состоит из этих ополовиненных таблеток и поисков любой возможности заработать на новую дозу лекарств.
А потом вдруг у меня за спиной возникает фигура Койла. Он стоит в дверном проеме ванной и спрашивает:
– Ты готова?
– Почти. Только сначала мне хотелось бы заехать в одно место.
* * *
Натан Койл явно не был создан для посещения отдела женского платья универмага на Шестой авеню. Он сидел на маленьком мягком диванчике перед примерочными кабинками, закинув ногу на ногу и скрестив на груди руки, воображая себя, вероятно, слишком терпеливым мужем, дожидающимся, пока жена сделает наконец свой выбор. Ощущая дряблую кожу под нижним бельем, я мерила модные кофточки, туфли последних моделей, брюки – писк сезона, дорогие ювелирные украшения, и делала это очень долго. Лишь почувствовав, что выгляжу в худшем случае как уставшая ведущая популярного телевизионного шоу, я вышла к нему, повертелась и спросила:
– Что ты об этом думаешь?
Он оглядел меня сверху донизу.
– Ты стала… Ты выглядишь другим человеком.
– Тут все дело в покрое. А какой из этих двух тебе нравится больше? – Я протянула ему руку, чтобы он смог рассмотреть два надетых на нее браслета – серебряный и золотой.
– Если бы платил я, выбрал бы серебряный, разумеется.
– Я тоже так подумала. Но затем рассудила, что за золотой в любом ломбарде дадут больше.
До него дошел смысл моей затеи, и он по-иному взглянул на тончайшие шелк и лен, туфли из натуральной кожи и сумку знаменитой дизайнерской фирмы.
– Ты хочешь сделать ей подарок в виде дорогого гардероба?
– А еще могла бы оставить в сумочке наличные.
– Ты думаешь, для нее от этого что-то изменится?
– Придумай что-нибудь получше. Есть мысли?
– Нет, – вынужден был признаться он. – Ничего не приходит в голову. Хотя деньги… кажутся мне слишком малой и грубой компенсацией за то, чем ты воспользовалась.
– Она сейчас просто спит без сновидений, а через несколько часов проснется в другом месте и совершенно иначе одетая. Я мало знаю о хозяйке тела, но мне почему-то представляется, что это событие она не отнесет к числу худших в своей жизни.
– Когда я впервые встретился с тобой, я тоже спал и проснулся, но попал из дурного места в еще более скверное.
– Так было, пока я еще не полюбила тебя, – ответила я, в последний раз оглядывая свое отражение в зеркале. – Времена меняются.
– Ты любишь себя, а не хозяев своих тел.
Я передернула плечами:
– В столь близких отношениях, в какие я вступаю, сделай милость, объясни мне разницу. – Я повернулась, довольная своим новым нарядом, пусть в нем и ощущалось скорее богатство, чем красота. – Ну как? Тебе нравится то, что ты видишь?
Мы едем в поезде метро. Народу слишком много, чтобы сесть, но когда я толкалась плечом о плечо незнакомого человека, касалась чужих рук, у меня не возникало желания совершить прыжок. Мои руки лежат в глубоких карманах нового плаща, им тепло, пальцы чуть согнуты, мышцы наконец-то расслаблены до своего нормального состояния. Привлекательный мужчина с длинными черными волосами и кожей цвета горячего шоколада улыбнулся мне. Я улыбнулась в ответ и подумала, как хорошо было бы почувствовать вкус поцелуя его губами: незнакомец целует незнакомку, а не меня саму. Ребенок со скрипичным футляром за спиной уставился на меня, разглядывая мою модную одежду и дорогие ювелирные украшения. Карманник не сводил глаз с моей сумочки, а я подумала, что стала бы им и разбила его башкой ближайшее стекло, если бы возникла нужда защитить свое тело. Я встретилась с ним взглядом и улыбнулась, давая понять: вижу тебя насквозь. Вор вышел на следующей остановке в поисках более легкой добычи, а я похлопала ладонью по сумке с деньгами и лекарствами, ощутила запах кожи от моих новых туфель, и он мне понравился.
Мы вышли на станции «86-я улица», где приливная волна от урагана «Сэнди» оставила следы в виде линии на белом кафеле и красных мозаиках, до которой поднялась тогда вода. Толпа дорого одетых незнакомцев с фотоаппаратами, направляющаяся к Пятой авеню, была достаточно густой, чтобы, слившись в ней, спокойно следовать в направлении Центрального парка. На Мэдисон-авеню небольшой грузовичок остановился для доставки товара в магазин, мгновенно образовав транспортную пробку, в которой водители отчаянно сигналили и изрыгали проклятия до самой Восточной 72-й улицы. Неподалеку расположились двое полицейских в синих мундирах, попивая кофе у киоска, но готовые взяться за дело, как только кофеин ударит в голову.
Койл шел чуть впереди. Я двигалась за ним легкой походкой, чувствуя тепло и бодрость, каких не знала много тел подряд.
Потом Койл сказал:
– Здесь.
Я оглядела это «здесь» и рассмеялась.
– Что ты нашла смешного?
– А ты не видишь? Это же отличная шутка!
– У меня всегда было плохо с чувством юмора. Пошли.
И я стала подниматься вместе с ним по ступеням ко входу в музей.
Метрополитен-музей в Нью-Йорке. Хотя слова «музей» ему явно мало. Музеи – это такие места, куда вы приходите на пару часов, на полдня максимум. Вы отправляетесь в музей воскресным днем, когда слишком холодно для прогулки в парке. В музей вы ведете дальнего родственника, которого едва знаете, но обещали экскурсию по городу. Музей – склад историй, смутно знакомых вам с детства, но забытых, когда все ваше время стали занимать более важные дела – секс и деньги.
Музей изобразительных искусств Метрополитен – это не столько музей, сколько монумент. Это собор, возведенный в память об ушедших людях и забытой истории, собрание предметов неземной красоты, выбранных уже умершими ценителями, жертвенник для исчезающих ремесел и канувших в Лету империй. Здесь находится множество красивых вещей, к которым я вожделею, но которыми не могу владеть.
Впрочем, очередь в билетную кассу, ожидающая и нас с Койлом, способна испортить настроение любому энтузиасту.
Койл поднимается по широким каменным ступеням, ведущим в огромные каменные залы. В дальнем конце здания музея находится египетский храм, а по пути мы видим нагрудные доспехи из золота, посеребренные ятаганы, статуи античных императоров, величавых даже в посмертных масках, и топор, отрубивший головы слишком жадным наследникам одного монарха. А вот набор шкатулок, покрытых лаком и жемчугом, в которых контрабандисты провозили наркотики на территорию Китая, трубки курильщиков опиума, погружавшихся в сладкие сны под воздействием дурманящего дыма и запаха. Здесь же хранятся мушкеты, из которых стреляли во время мятежа в Каире, Коран, спасенный из руин сожженной мечети, на рукописных страницах которого все еще видны пятна крови. Есть и бальное платье русской аристократки, дотанцевавшей до самой революции. Выставлены сервизы из голубого фарфора. Из них дамы Викторианской эпохи когда-то пили свой обожаемый индийский чай. Все эти вещи были когда-то просто красивыми, но время сделало их святынями.
Койл торопливо проходит мимо. Я прошу его остановиться, я хочу полюбоваться этими вещами. Мы задерживаемся и любуемся.
Галерея лиц, портреты королей и королев, президентов и их жен, революционеров и мучеников, павших во имя своих идеалов. Они завораживают меня, разглядывают, пока я разглядываю их.
– Мы опоздаем, – говорит Койл.
– Ничего, нас подождут несколько минут, – отзываюсь я. – Подождут.
– Кеплер!
Я что-то рассеянно бурчу в ответ, не отрывая глаз от лица женщины на портрете, которая кажется удивленной тем, что живописец застал ее в такой момент. Она полуобернулась на холсте, взгляд устремлен куда-то за плечо, словно ее вдруг окликнул незнакомец, когда она находилась вроде бы в полном одиночестве.
– Кеплер.
– Что?
– Я сожалею. По поводу Жозефины.
Этих слов достаточно, чтобы заставить меня отвести взгляд. Койл кажется ничтожно маленьким под сенью этих лиц, невысоким и сутулым предметом из кожи и плоти. Нечто неодушевленное, изображенное на живом полотне, с опущенным в пол взглядом, и слова его кажутся затасканным штампом.
– Мне очень жаль.
Ему жаль, что он допустил ошибку.
И снова:
– Мне очень жаль.
Он сожалеет об убийстве, для которого сам находит иное определение.
И еще раз:
– Прости меня.
Простить за… Список слишком длинный, он, вероятно, обширнее, чем время, оставшееся в нашем распоряжении.
Затем:
– Если что-то пойдет не так, если мы окажемся в ловушке, становись мною.
– Что? – Меня подводит голос. На какое-то мгновение я забываю, какую обувь ношу, к какому принадлежу полу; мое тело перенеслось куда-то далеко.
– Если Пэм… Если нас предали, если все не так, как должно быть. Женщина, в которой ты сейчас… кажется мне красивой. Теперь я разглядел ее красоту. Потому что вижу по-настоящему и ее, и… тебя. Вас обеих сразу. Я много чего наделал, и это не было… Впрочем, ладно…
Он выдыхает и снова глубоко втягивает в себя воздух. Куда подевался тот мужчина, который в любой восточноевропейской дыре мог успокоить душу одной-единственной мыслью, казался столь гордым, предельно уверенным в своей правоте? Я всматриваюсь в лицо Натана Койла, но больше не вижу того человека. Передо мной совершенно другое лицо. Словно изуродованное мукой.
– Впрочем, ладно, – повторяет Койл, немного приосаниваясь. – Хотя, если ты встанешь перед выбором – настанет момент для принятия решения, – мне кажется… так будет лучше.
– Хорошо, – отвечаю я, понимая, что это правда. – Договорились.
Чуть позже мы доходим до двери, вход в которую перегорожен красной плетеной веревкой с табличкой: ЗАКРЫТО НА СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Единственная охранница с рацией на ремне выглядит человеком, на которого давно ничто не способно произвести впечатление.
– Кеплер… – Койл хочет сказать что-то еще, но колеблется. – Ты так и не назвала мне своего настоящего имени.
– Нет. А ты не назвал своего. Разве это имеет значение?
Он снова застывает в нерешительности, покачивая головой, а потом неожиданно улыбается чуть заметной, но такой привлекательной улыбкой:
– Удачи!
В полукруглой нише двери за спиной охранницы появляется женщина, которую зовут Пэм, и произносит короткую фразу:
– Эти люди со мной.
Охранница отступает в сторону. Мы следуем за Пэм внутрь помещения.
Глава 86
Мы оказываемся в китайском садике для чайных церемоний. Выложенная фигурной плиткой дорожка ведет от полукруга двери через площадку в маленький двор, где покачиваются стебли бамбука, вода льется в пруд, в котором плещется пятнистый оранжево-белый карп, а вдоль стен сложены прихотливой формы обломки вулканического камня, напоминающие застывший крик замороженного чудовища.
В центре двора накрыт небольшой деревянный столик. На нем чайник из голубого фарфора, три фарфоровые чашки и серебряный поднос с крошечными пирожными. За столиком спиной к двери сидит мужчина в обмотанном вокруг шеи сером шарфе, черном пиджаке, с серебристой сединой в волосах. Он не посмотрел на нас, не перестал медленно потягивать чай, когда мы приблизились. Пэм, чье лицо наполовину закрывал тот же шелковый шарф, который был на ней при нашей первой встрече, с пистолетом, откровенно оттягивавшим карман ее бежевого плаща, встала между мужчиной и нами. Мы не могли видеть ни ее рта, ни носа, но ее глаза смотрели на нас нескрываемо мрачно.
– Стоять! – рявкнула она на Койла. – Скажи мне то, что я хочу услышать.
– Илия. Мое кодовое имя и позывной – Илия.
Пэм перевела взгляд на меня.
– Это она?
– Да, это Кеплер, – ответил Койл, прежде чем я успела что-то произнести.
Пэм больше не обращалась к нему, но мизинцем сделала жест, приказывающий мне переместиться от столика к белой оштукатуренной стене.
– Только подойди менее чем на три метра ко мне или к любому в этом зале, и я уложу тебя на месте, – выдохнула она. – Не сомневайся, я сделаю это.
Я подняла руки вверх и позволила ей довести меня до места.
– Стой! Лицом к стене!
Со все еще поднятыми руками я уперлась взглядом в белизну штукатурки.
Послышался звук шагов за спиной – на безопасной дистанции, не допускающей риска.
Койл:
– Она не представляет для нас угрозы.
Пэм:
– Ничего глупее не слышала.
– Но она пришла сюда, зная, что ей может грозить.
– В таком случае она не только уродлива, но и не слишком умна. – Голос Пэм показался слишком тонким и громким, что ей прежде было не свойственно.
Затем прозвучал третий голос – старше остальных, очень усталый. Седовласый мужчина в сером шарфе произнес:
– Вы пригласили меня сюда не для того, чтобы присутствовать при ссоре двух любовников, не так ли?
И этот голос показался мне хорошо знакомым.
Я стою лицом к белой стене, в спину мне смотрит дуло пистолета, рядом проплывает жирный карп, мое медленно умирающее тело украшено драгоценностями и облачено в модную одежду – все вместе это стоит несколько тысяч долларов. Но я – Кеплер, и мне известно, кто этот спонсор.
Затем голос раздается снова:
– Мистер Койл, могу я предложить вам чашку чая?
Жидкость льется в сосуд, изготовленный из белого костяного фарфора.
– Насколько я понял, вам срочно понадобилось увидеться со мной. Обычно я не слишком охотно соглашаюсь на подобные встречи. Особенно с человеком, который, по всей видимости, полностью скомпрометирован. Однако Памела затронула ряд интересных вопросов, и мне нужно обсудить их с вами. Пожалуйста, присядьте.
Скрип кресла, звяканье чашки о блюдце.
– Я и есть ваш спонсор, – продолжал голос после продолжительной паузы. – Но вы должны понимать, что я не имею желания ежедневно вмешиваться в управление вашей организацией. Решения целиком и полностью принимаются внутри ее самой. Я же просто… снабжаю ее материальными ресурсами. Как, например, и этот музей тоже. Мои занятия разнообразны и несколько эклектичны.
– Благодарю вас, сэр.
– За что?
– За… чай.
– Угощайтесь на здоровье.
– И за согласие встретиться со мной.
– Не могу сказать, что особенно рад встрече, особенно если учесть, в чьей компании вы явились.
– Кеплер… оказала мне помощь.
– Мистер Койл, позвольте сразу же заявить вам с полной прямотой, что любое проявление сочувствия или симпатии к существу, которое вы привели с собой, может только еще сильнее скомпрометировать вас в моих глазах. А потому предлагаю вам полностью сконцентрировать внимание на той единственной поднятой вами теме, которая вызвала наш с Памелой интерес.
– Галилео.
Я поморщилась, когда Койл произнес это имя. Вероятно, подумала я, он тоже поморщился, хотя мне оставалось только догадываться, какое из воспоминаний вызвало у него подобную реакцию.
– Верно, – негромко подтвердил спонсор. – Галилео. Памела вчера вечером была настолько любезна, что ознакомила меня с досье. Я, разумеется, видел его прежде, но никогда не изучал столь… пристально и критически. Вы утверждаете, что существо, известное под именем Галилео, каким-то образом проникло в вашу организацию?
– Да, сэр, утверждаю.
– Потому что вам внушила это Кеплер?
– В том числе и поэтому, сэр, хотя и по другим причинам тоже.
Я смотрела в белую стену, держа руки над головой, и думала: наверное, так же себя чувствовали хозяева тел, которыми воспользовались. Мир движется, а ты остаешься на месте, события развиваются без твоего участия, ты никак не можешь на них влиять, хотя внешне все это незаметно для посторонних глаз. Я – женщина, торгующая своим телом, чтобы купить лекарства, иначе мне не доступные. Рядом со мной сплетался заговор, велась секретная беседа, но мне оставалось только смотреть в стену и ждать.
– По каким другим причинам?
– Возьмем, например, то, что произошло во Франкфурте.
– Медицинские исследования? И что с ними было не так?
– Их целью было якобы создание вакцины против призраков. По моему мнению, Галилео перевернул там все с ног на голову, собирая данные не для уничтожения, а для создания новых подобных ему существ.
– Что заставило вас так думать?
– Я уверен, что именно Галилео убил ученых во Франкфурте.
– Сам по себе этот факт ничего не доказывает.
– Но вину возложили на Кеплер и хозяйку ее тела. Мне приказали убить обеих. Зачем было нужно убивать владелицу тела?
– Не знаю.
– Но вы же главный спонсор!
– Но, как я уже сказал, у меня широкая сфера интересов в самых разных областях, и не я принимаю оперативные решения. Но вы теперь сотрудничаете с тем существом, которое должны были убить. Почему?
– Из-за Галилео.
Вздох, скрип кресла. Возможно, они уже попробовали пирожных. Быть может, добавили сахара в медленно остывавший чай. Я представила себе пальцы, осторожно державшие французский эклер за края, чтобы не повредить глазурь. Эта мысль заставила меня улыбнуться.
– Галилео. – Спонсор снова по-стариковски глубоко вздохнул. – Мы все время неизбежно возвращаемся к Галилео.
Фонтан журчал, карп плавал. За аркой двери тысячи людей, сменяя друг друга, проходили мимо сокровищ древности и не могли оторвать глаз от их великолепия.
Наконец спонсор произнес:
– Кеплер.
Услышав это имя, я лишь вскинула голову, но не повернулась. Тела в креслах у меня за спиной задвигались.
– Кеплер, посмотрите на меня.
Я обернулась с поднятыми руками и пристально взглянула на седовласого мужчину. Кожа на его лице посерела и под глубоко посаженными глазами местами покрылась желтыми пятнами. Шея обвисла складками, придавая ему сходство с тюленем. Темные глаза смотрели на меня без всякого выражения – в них не было ненависти или хотя бы узнавания. А ведь мне было известно его имя.
Он откашлялся, прочистив горло, раздраженно сунул руку под аккуратно отглаженную белую рубашку и почесался. Потом спросил:
– Для чего вы здесь?
– Я разделяю интерес Койла к Галилео.
– Почему?
– Потому что… Хотя дело, наверное, даже не в этом. Мы с ним… делили одну и ту же плоть. Я носила его тела, он внедрялся в мои. Поначалу мы были кем-то вроде соперников. А потом дело дошло до расплаты. Я предала Галилео, и он стал мне мстить.
– Каким образом он мстил?
– Проникал в тело, которое я любила, и убивал его. Он был… красив. Вот у меня и не хватило духа всадить ему пулю прямо в мозг. Такой случай представился в Майами. А потом был Берлин… Я обратилась за помощью к одному другу, и тогда Галилео сжег его заживо. Причем сделал так, чтобы я все смогла увидеть. И спросил: «Тебе нравится то, что ты видишь?» Потому что нам всегда нравится то, что мы видим, то есть что видят люди, подобные мне. Нам кажется, что новое может оказаться лучше уже имеющегося у нас. Возможно, сегодня, возможно, завтра, возможно, это лицо, эта страна, а может… я сама стану лучше. Возможно, никого не будет волновать то, что я делала, когда в последний раз превращалась в кого-то иного. Возможно, кто-нибудь полюбит меня. Или, если я полюблю его или ее, у них не останется выбора, кроме как тоже полюбить меня. Тебе нравится то, что ты видишь? И ответ, конечно же: да, нравится. Мне нравится. Очень нравится. Если я стану им, ты полюбишь меня?
Галилео – чудовище. Это очевидный факт, – продолжала я. – Он проник в вашу организацию и практически уничтожил ее – и это тоже совершенно очевидно. Галилео разорвал вас в клочья. Но вот цели Галилео, его вероятные попытки использовать сочетание научных разработок с жестоким насилием для создания новых особей, подобных ему, для порождения, если можно так выразиться, собственных детей, которые будут жить вечно… Что ж, это вопрос спорный. Не думаю, что даже сам Галилео сумел бы точно описать свои цели.
Спонсор снова почесал живот, поскреб ногтями грудь, и мне оставалось только гадать, какие шрамы оставили на его теле хирурги, как глубоко проникли в тело этого сутулого пожилого человека.
– Вы первая… – Он замолчал и усмехнулся шутке, понятной ему одному. – Вы едва ли не первое существо из вашей породы, – поправился он, – с которым я разговариваю. И вы кажетесь вполне нормальным человеком, производите гораздо лучшее впечатление, чем я ожидал. Примите мои комплименты. А вот что Галилео мог… саботировать нашу работу незаметно для нас самих, то эта тема слишком неприятна для обсуждения, хотя обсудить ее нам все же придется. Вы… утверждаете, что отдавались приказы и наши оперативники их исполняли?
– Да.
– И приказы отдавал Галилео?
– Галилео, но, разумеется, чужими устами, голосом другого человека.
– Но ведь мы строго следуем протоколам, соблюдаем правила, призванные предотвратить как раз нечто подобное.
– Ваши протоколы надежны лишь настолько, насколько надежны люди, их разработавшие. Галилео уже давно среди вас. Возможно, когда вы обсуждали пароли с одним из своих друзей, вы согласовали их с кем-то совершенно другим.
– Мне трудно в это поверить.
– Людям всегда труднее воспринять жестокую правду, нежели простую ложь.
У него перехватило дыхание, пальцы теперь безостановочно скребли поверх рубашки.
– И мы должны верить вам – убийце, торговке людьми…
– Сэр! – Койл мгновенно вскочил на ноги.
– Что бы ни говорил Койл, – спонсор заговорил громче, не давая тому вмешаться, – не думайте, что ваша претензия на гуманность компенсирует хотя бы часть вреда, нанесенного вами прежде!
– Но все не так, сэр…
– Майкл Питер Морган! – Мой голос, высокий и звонкий, прорезал воздух, заставил спонсора откинуться на спинку кресла, вызвал дрожь в его холодных, покрытых морщинистой кожей пальцах. – Сколько лет вам сейчас? Ваше тело охвачено старческой слабостью, но ведь вам… немногим более двадцати пяти или тридцати лет, верно? Вы по меньшей мере на тридцать лет моложе тела, узником которого стали. Скажите, когда они убили Янус, вы знали, что отдали приказ убить самого себя? Это вас застрелили в том домике в Сен-Гийоме – существо, чья рука держала руку вашей жены, чье сердце любило ваших детей, существо, которое стало вами плоть от плоти, но сохранило свою душу. Вы потеряли невероятное количество времени. Вся ваша молодость пропала, не успели вы и глазом моргнуть. Казалось, вы задремали ненадолго, но проснулись уже таким, какой вы сейчас. Человеком эклектичных привычек и наклонностей… Кто вы такой? Сомневаюсь, что вы сами знаете ответ на этот вопрос.
Старика крючило и ломало от мучившей его боли, одной рукой он вцепился в край стола, другую прижал к груди. Он поднял на меня мутноватые глаза, посмотрел мне в лицо и прошипел:
– Откуда вы меня знаете?
– Я хорошо знала Янус. Общалась с той личностью, которой вы были в реально прожитой жизни.
Он открыл рот, чтобы заговорить, но губы его не слушались, их уголки опустились, и он не произнес ни звука.
– Мистер Морган, – спросила я, – вы замечали другие случаи потери времени?
Тишина. Но не полная тишина. Сквозь эту тишину слышалось, как наши губы втягивают воздух. Тишина напряженных мускулов, быстро бегущей в жилах крови, ускоренного сердцебиения. Тишина, когда весь мир шумит где-то по другую сторону запертой двери. Это была поистине гремящая тишина в умах, которые не осмеливаются озвучить свои мысли.
– Мистер Морган, – тихо сказала я. – Вы изучали экономику в Гарварде. Занимались тхэквондо, обладали ужасающим вкусом в выборе одежды. Ваши родители умерли, а вам едва исполнилось двадцать пять лет, и вы все еще оставались девственником, когда Янус завладела вашей плотью. Вы лишь на секунду прикрыли глаза, а открыв их снова, увидели рядом плачущую жену и своих дочерей – Эльзу и Эмбер, не понимавших, что произошло с их папочкой. Они считали его умершим. Хотя умерло только сознание, но не тело. Мне все это известно, потому что я знала вас, мистер Морган. Мы как-то даже пили вместе в гостиной для первокурсников. Принстон, тысяча девятьсот шестьдесят первый год. Я тогда была… кем-то другим. Просто занималась своей работой. И с тех пор вы стали охотиться на нас, используя все ресурсы, все то огромное состояние, которое вам оставила Янус. Но вы теперь глубокий старик и очень одиноки. Поэтому спрашиваю вас еще раз: вы замечали другие провалы в памяти?
Тишина. Спонсор сидел, тяжело и прерывисто дыша, опустив голову, с силой прижав руки к груди.
– Натан, – пробормотала я. – Отойди от него подальше.
Койл медленно попятился. Зато я шагнула вперед. Пэм тоже пришла в движение, наблюдая за мной. Опершись спиной о стену, она вынула пистолет и направила его мне в грудь. При этом она расположилась примерно на одинаковой дистанции от каждого из нас. Я встала перед Майклом Морганом на колени, разглядывая дряхлые, покрытые печеночными пятнами руки, которые были так молоды, пока принадлежали ему одному. Я протянула к нему ладони и прошептала:
– Мне необходимо прикоснуться к вам, мистер Морган. Я должна убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете.
У него теперь тряслась даже голова, на глазах показались слезы, но он ничего не говорил, не пытался меня остановить, хотя едва дышал.
– Кеплер… – прошептал Койл. Он собирался то ли задать вопрос, то ли предостеречь, но в то же время не хотел мне мешать – только не сейчас.
Пока никто не передумал, я взяла Моргана за руку, крепко сжала ее, переплела наши пальцы и… не почувствовала ничего. Только кожу. Одну только кожу.
И я отпустила Моргана, оставив его дрожащим, со слезами, сбегавшими по глубоким морщинам на его лице. Он был молод. Еще так невыразимо молод.
– Кеплер? – услышала я голос Натана, резкий и встревоженный.
– Он не Галилео. – Я быстро поднялась, отошла в сторону от Моргана, ища пространство, где стало бы легче дышать. Мой взгляд скользнул по собравшимся во дворе людям: глубокий старик, так и не ставший зрелым мужчиной, раненый профессиональный убийца, женщина в сером.
– Натан, когда мы пришли сюда, ты назвался Илией. Какой отзыв на твой пароль должна была дать Памела?
Он открыл рот, чтобы ответить, но сразу же снова закрыл его и повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза.
Памела хихикнула, прижав под шарфом три пальца к нижней губе.
– Уж какая вышла ошибка! – произнесла она затем язвительно и выстрелила.
В кого она стреляла? Похоже, она и сама не могла определить это сразу, потому что какую-то секунду ствол пистолета метался между Койлом и мной. Но потом, безразлично пожав плечами, она остановила свой выбор на мне и спустила курок. Однако к тому моменту и я уже не стояла на месте, а потому пуля угодила лишь в мою левую руку, раздробив кость с треском, который я скорее почувствовала, чем услышала. А Койл уже успел вцепиться ей в обе кисти, и, когда она попыталась снова нацелить пистолет, опрокинул на пол, с силой прижав колено к ее лицу, так что из-под шарфа показалась кровь. Я тоже упала, исходя криком, ничего не понимая от боли, все еще сбитая с толку, когда Пэм – нет, не Пэм, а та, в кого внедрился Галилео, сумела извернуться и ударить Койла локтем в горло. Я услышала два выстрела, стеклянный потолок раскололся на части, обрушив вниз град осколков. Затем еще три пули просвистели у меня над головой, врезавшись в стену, после чего донеслось лишь клацанье бойка пистолета, в котором не осталось патронов, а Галилео, потеряв скрывавший лицо женщины шарф, под которым прятались золотистые волосы и нежная, но уже покрытая кровью кожа, протянула ладонь к горлу Койла, и только теперь до меня дошло, что на ее руках не было перчаток.
В этот момент появилась женщина-охранник – ее фигура замаячила в проеме двери. Исполненная негодования, она прошла во дворик, держа в руке рацию и крича: «Остановитесь, всем стоять на месте, немедленно прекратить!» Навстречу ей бегом устремилась не Памела, а Койл, протягивая руки к лицу женщины.
Но и лежа на полу, я сумела ухватить сотрудницу службы безопасности за лодыжку, на мгновение опередив Галилео, и, переключившись, нанесла удар рацией в мягкие ткани чуть выше подбородка Койла. Он отшатнулся, успев ладонью провести по лицу, размазав по нему кровь и слизь, сочившуюся из носа, разорванной щеки и губ.
Я посмотрела на мое бывшее лицо, на лицо Койла – новое лицо Галилео – и тряхнула головой, отгоняя желание умолять, припав к его ногам. Но он уже заносил кулак для удара, и я вонзила острие пластиковой антенны рации в рану у него под плечом, провернув с силой, на какую только осмелилась решиться, и Койл, то есть не-Койл, издал животный крик, рев зверя, запутавшегося в колючей проволоке. А потом нанес мне в правую часть лица удар такой мощи, что у меня клацнули челюсти. Падая, я ощутила во рту соленый привкус крови и почувствовала, как из зубов вылетели пломбы. Койл мимо меня бросился к открытой двери, перебрался через преграждавшую путь веревку и смешался с толпой посетителей музея.
Я приподнялась на коленях, опершись руками о пол, и оглянулась. Памела тоже пыталась встать, сжимая в руке бесполезный теперь пистолет. Безымянная бывшая хозяйка моего тела, роскошно одетая, медленно умирала от обильной кровопотери. Морган продолжал сидеть в кресле, устремив ничего не видящий взгляд куда-то вверх, его руки беспомощно свесились по сторонам. Одна из пяти пуль, беспорядочно выпущенных Галилео, пока он боролся за пистолет, все же достигла цели в груди спонсора.
Взгляд Пэм медленно обратился к ее боссу, задержавшись на нем, и она начала задыхаться, что было явным предвестником рвавшихся наружу рыданий, но у меня не было времени, я не могла терять ни секунды. А потому поднялась, схватила свою рацию и тоже выбежала в музейную галерею.
Глава 87
В самые загруженные дни Метрополитен-музей способен пропустить через себя пятьдесят тысяч посетителей в день. Сегодня особого ажиотажа не возникло, и по его залам бродило, должно быть, две или три тысячи человек.
Я обнаружила Койла сидевшим, тяжело дыша, на верхней площадке лестницы. Небольшая группа любителей искусства тщательно делала вид, что никто из них не смотрит в его сторону. Я навалилась на него, опрокинула на пол, прижав колено к его груди, а запястье – к горлу, и выкрикнула:
– Кто ты такой?!
– Койл! – Из него вырвался почти писк. – Ты знаешь меня как Койла!
– Кем я была, когда в тебя стрелял Маригар?
Он ответил не сразу, и я навалилась на его руку всей тяжестью своего тела. У него выкатились глаза, язык с трудом ворочался во рту.
– Кем я была тогда?
– Санитаром! Ты была… Самиром! Самиром Шайе!
– А кто отвез тебя в Лион?
– Ирэна. То есть ты сама. Но как Ирэна!
Голос его едва был слышен, горло сдавила тяжелая рука сотрудницы охраны музея, кончики ушей приобрели пунцовый оттенок.
Я откатилась от него, заметив, что за нами наблюдает уже целая толпа зевак.
– К кому ты прикоснулся? – шепотом спросила я. – До кого ты дотронулся?
– До женщины. До какой-то рыжеволосой дамы. Боже, мое плечо…
– Мне пришлось разбередить рану. Извини.
Я стала оглядывать толпу. Рыжеволосая женщина, рыжеволосая женщина… Никого подобного я не видела, что, впрочем, едва ли имело значение.
– Убирайся, – прошипела я. – Уходи отсюда немедленно.
– Что?
Я рывком помогла ему встать.
– Уходи из музея. Твои раны защитят тебя: он больше не воспользуется поврежденной кожей. Все слышали выстрелы. Полиция скоро будет здесь. Поторопись скрыться!
– Но я не могу так просто…
– Убирайся! – Мой голос эхом отдавался вдоль лестницы, словно отскакивая от крепких чистых стен.
Я оттолкнула Койла, повернулась к толпе посетителей и зло скомандовала:
– Вы все! Тоже вон отсюда!
Его рука тронула меня сзади за рукав.
– Стань мною, – прошептал он. – Тогда никто больше не погибнет.
Я вырвалась и помотала головой.
– Кеплер! – Он вцепился в меня крепче, потянув ближе к себе. – Я убил Жозефину. Это было делом моих рук. Убил женщину, которую ты любила. Стань же мною! Женщина, в чьем теле ты сейчас находишься, не должна умереть. Никто больше не должен умереть. Галилео знает меня. Ему знакомо мое лицо. Стань мною! – Он плакал.
Я еще никогда не видела Натана Койла рыдающим в голос. Но я все же снова вырвала свою руку из его пальцев и оттолкнула его.
– Нет, – сказала я. – Потому что я тебя люблю. – И побежала, рассекая встречную толпу.
Галилео. Кто ты сейчас, Галилео?
Я – сотрудница службы безопасности музея.
Я – японский турист, восхищенно осматривающий коллекцию самурайских мечей.
Я – школьная учительница, делающая записи в блокноте для урока по истории американской скульптуры.
Я – студент, пытающийся рисовать статую богини Кали[16], танцующей на черепах своих врагов, поверженных во имя справедливой мести.
Я – мужчина, которому хочется присесть отдохнуть на музейную скамейку.
Женщина с застрявшими в зубах крошками овсяного печенья.
Работница буфета, толкающая перед собой тележку с пирожными.
Просто посетитель, слоняющийся по музею, прижав к уху аппарат с записанным на нем голосом экскурсовода.
Билетер, слишком туго затянувший ремень на своем явно недокормленном брюшке.
На каждом шагу встречается кто-то новый, кем можно стать, на каждом шагу меняются даже оттенки моей кожи.
У меня нежное шелковистое лицо, утром смазанное питательным кремом.
У меня экзема чуть ниже локтя, красные вздутые пятна на руках.
Я старый и сгорбленный, энергичная и красивая, у меня кожа цвета осеннего заката, белая как снег, чернее нефти, такая теплая, что я ощущаю каждый капилляр, несущий кровь к моим полным, широким губам; такая холодная, что большие пальцы ног превратились в ледышки, упирающиеся в носки туфель.
Я перемещаюсь по галереям из зала в зал, задерживаюсь под каменными сводами египетского храма, потом разглядываю лики средневековых святых, выискивая того, кто непременно ищет сейчас меня.
Где же ты, Галилео?
Ты не можешь быть далеко отсюда. Не сбежишь. Нет, только не в этот раз.
Тебе нравится то, что ты видишь? Мы потому и оказались здесь одновременно: я и ты. Выходи же, чтобы закончить дело.
Тебе нравится то, что ты видишь?
А потом я снова… становлюсь вооруженным сотрудником охраны, потому что в китайском чайном садике стреляли, и мужчина найден мертвым в кресле, богатый мужчина, спонсор многих выдающихся культурных мероприятий. А в стене зияют дыры от других пуль, стеклянный потолок разбит ими, его панели разлетелись вдребезги, впустив внутрь враждебное холодное небо. И женщина истекает кровью на полу рядом с сумкой, набитой деньгами, но она уже никогда не поймет, как здесь оказалась. Пусть вооруженная охрана перекрывает крыло, где все случилось, пусть полиция окружает все здание, для нас это даже хорошо, Галилео. Нам это только на пользу.
Потому что там, где полиция, всегда можно добыть оружие, бронежилет – открываются широкие возможности.
Я внедряюсь в мужчину с большим, приплюснутой формы носом и коротко постриженными черными волосами. Я офицер Главного управления полиции Нью-Йорка. Лучший из лучших в этом городе. Обеими руками я сжимаю ружье, на мне синий бронежилет, крепкие черные ботинки и наколенники. Я совершаю маневры вместе с оперативной группой, к которой приписан, потому что только так мне надлежит поступать. В ответ на любой вопрос я лишь неопределенно мотаю головой, но не вступаю в разговоры, поскольку не знаю, что говорить.
Полиция Нью-Йорка добирается до китайского чайного садика, устанавливает посты на входе, и если раньше нас было не больше дюжины, то теперь я насчитываю человек двадцать или даже тридцать, а машины продолжают прибывать к музею, подвозя все новые опергруппы. Через пару часов мы попадем в заголовки новостей: «Стрельба в Метрополитен-музее», но только еще рано. Подождите, грядут настоящие события. Снова засвистят пули.
– Вы закроете музей?
– Нет, мы не станем его закрывать.
– Но вы должны закрыть музей, сэр.
– А вы знаете, как долго это будет продолжаться? Как дорого обойдется городу?
– Погиб мужчина, сэр.
– Да, страшная трагедия, но они случаются сплошь и рядом. К тому же, черт возьми, вы сами показали использованный пистолет и забрали его! Не пора ли перестать нагонять страх на посетителей?
Я оглядываю десятки полицейских и вооруженных охранников, догадываясь, что один из них – Галилео. Мы оба сделали одно и то же. Выбрали человека с оружием, предпочтительно защищенного броней, а теперь смотрим, наблюдаем, пытаемся заметить любое отклонение от нормы. Мужчину, вдруг пошатнувшегося или выглядящего растерянным, не отзывающегося на свое имя, офицера, отставшего от своих товарищей. Высматриваем того, кто выпадает из общего ряда, чья грудь не выгнута гордо колесом, чей палец нервно играет со спусковым крючком, кто слишком пристально вглядывается в лица соседей по строю.
Кто из вас говорит по-французски, хотя не должен знать иностранных языков?
Кто болеет за «Метс», но носит трусы с эмблемой «Янкиз»?
Мистер, как вас зовут?
Кто не помнит номера своего жетона?
Забыл, что ел на завтрак?
Запамятовал собственную фамилию?
Я – Кеплер. А кто ты, Галилео?
Ко мне подходит мужчина – револьвер на боку, жетон прикреплен к кожаному ремню. Подходит и спрашивает:
– Ты это забрал, Джим?
Я оборачиваюсь, смотрю ему в глаза. Должно быть, он мой напарник, а меня, значит, зовут Джим, и, возможно, я забрал то, о чем он меня спрашивает, но будь я трижды проклята, если знаю, как ответить на этот вопрос. Я слишком растеряна и забывчива. Или я вовсе не Джим.
Он смотрит на меня, я смотрю на него, и момент слишком затягивается, чтобы называться всего лишь моментом. Он улыбается, пытаясь заметить странность в выражении моего лица, а я нащупываю спусковой крючок ружья, прикидывая, останется ли у него хотя бы шанс выжить при стрельбе почти в упор. Или будет ли такой шанс у меня самой?
– Джим? – повторяет он вопрос. – Ты его забрал?
– Нет, – отвечаю. – Еще нет.
– Джим? – В его голосе уже звучит раздражение и беспокойство. – Тогда где он, Джим?
Мгновения сомнений, колебаний, но краем глаза я замечаю легкое движение. Это может быть совершенно невинное движение – у кого-то зачесался нос или мочка уха, – но я больше не раздумываю. Я протягиваю руку, касаюсь шеи напарника, и сразу же кровавые брызги ударяют мне в лицо.
Стреляли с близкого расстояния. Кровь, ошметки мозгового вещества и фрагменты черепа вразлет. Я смотрю в лицо человека, которого все-таки наверняка звали Джимом и кто, скорее всего, забрал то, о чем я его спрашивал. Я смотрю ему в глаза, когда он валится прямо передо мной, обмякший, как раздавленный бумажный стакан, а его рука скользит по моей шее, плечу, но потом тоже падает вниз мертвым грузом. Пуля, посланная в затылок, вышла через лоб, а потом выбила легкое облачко пыли, ударившись в колонну у меня за спиной.
Стрелок – молодой человек от силы лет девятнадцати, в фуражке с козырьком, низко надвинутым на глаза, все еще держал пистолет в вытянутой руке, не снимая пальца со спускового крючка, и цинично ухмылялся.
Я же выхватила револьвер и, видя, как глаза юнца округлились от изумления, всадила две пули ему в грудь, а третью – в горло, причем сделала все три выстрела, пока моя рука описывала полукруг от бедра вверх. Потом я издала озлобленный, хоть и невнятный вскрик, потому что как раз в этот момент тело офицера, которым я сама была только что, окончательно свалилось мне под ноги. Лужа крови растеклась и начала хлюпать под подошвами моих ботинок.
Чужие руки обхватывают меня, вырывают пистолет. Я ору от ярости, когда трое или четверо мужчин сбивают меня с ног, опрокидывают на пол, держат за голову, за лицо, за руки. Но моя злоба направлена не на них, а на тех троих, что одновременно хватают стрелка, наваливаются на Галилео, у которого на шее вздуваются кровавые пузыри, а потом кровь начинает буквально хлестать из раны с каждым вздохом. Вот только проходит секунда, и один из них отходит в сторону.
Один из полицейских, державших его, отходит, смотрит на меня и улыбается, а я снова издаю отчаянный вопль. Чья-то рука лежит на моем лице, моя ладонь тоже уперлась в чье-то лицо, и я спешу прочь из извивающегося в борьбе тела, высвобождаюсь из рук навалившихся сверху людей с немым криком: Галилео!
Он повернулся и бросился бежать. Я устремилась за ним, оставив позади своих совершенно сбитых с толку коллег, беспомощно топтавшихся на месте, нащупала пистолет, подняла его, чтобы выстрелить, но фигура уже скрылась за углом. Полная неуемной молодой энергии фигура в мундире полицейского промчалась мимо статуи величавого Будды и мимо вырезанного из оникса бога справедливости Куаньин с лютней, обрамленного ветвями ивы. Я выстрелила, но промахнулась, пуля угодила в ширму с изображениями болотных птиц на гладкой шелковой поверхности. Ширма опрокинулась, стоявшие поблизости люди вскрикнули, расступаясь перед нами, а потом Галилео вдруг споткнулся, и в падении его рука, как мне показалось, легко скользнула по руке женщины в чем-то фиолетовом, с волосами, стянутыми в конский хвост, а я разразилась новым воплем:
– Галилео!
Женщина оглянулась, заметила мое приближение, поняла, что я все видела, и побежала под японскую арку Синто, традиционно возводимую для защиты от злых духов и демонов, а потом снова резко свернула, скользя туфлями по мраморному полу, в зал музыкальных инструментов. Здесь выставлены старинные скрипки, виолончели, флейты из слоновой кости, инкрустированные жемчугом гитары – место для застывшей музыки веков. Женщина ухватилась за руку мужчины в белом костюме, который как раз смотрел в мою сторону, и в его глазах промелькнул едва заметный страх, когда он тоже побежал. Его ноги оказались куда проворнее женских, а обувь более подходящей для ухода от погони. На бегу сбрасывая пиджак и избавляясь от портфеля, он несся, окруженный полотнами с изображениями овечек среди стогов сена, танцующих крестьянок, умиравших мученической смертью святых. Он снова преобразился, но не в бегущего человека, а в сидящего неподвижно, подобно одной из старинных статуй, дежурного у двери в очередной зал. Но к дьяволу такое тело! Я уже снова нацеливала пистолет, чтобы выстрелить, и, прочитав выражение моего лица, на меня бросился охранник, готовый вступить в жестокую схватку. Вот только я успела спустить курок. Пуля отбросила его назад. Падая, он успел ухватить за руку того же мужчину, которым был только что. Тот тут же вскочил на ноги и бросился наутек, оставив за спиной орущего непонятно на кого охранника.
– Галилео! – Мой голос – странный, вырвавшийся из горла полисмена, из легких курильщика, – разнесся по коридорам.
А Галилео между тем становился то женщиной, швыряющей мне в лицо сумку, чтобы хоть немного задержать, то подростком, невероятно быстро бегущим на длинных ногах. Я начинаю задыхаться, выбиваться из сил, но не прекращу преследования, как не брошу и своего тела в тяжелом бронежилете, с табельным пистолетом, который оно вполне законно держит в руке. И пока Галилео бежит, полный свежей энергии и непринужденно вдыхающий полной грудью, через залы музея, я пытаюсь не отстать, обильно потея и тяжело топая. Мне нужно взять его на мушку. Дайте мне хотя бы еще один шанс!
Группы посетителей не перестают в страхе кричать, расступаясь перед нами, как воды моря перед Моисеем, а мы пересекаем залы с древними тотемными шестами, контрабандой вывезенными когда-то с островов Тихого океана, плащами, расшитыми раковинами, какие носили в старину жрецы американских аборигенов. Галилео прыгает из тела в тело, становится женщиной, малолетним ребенком и снова мужчиной. Мы минуем памятники умершим, образы первобытных богов, поблекшие с тех пор, как верующие отступились от них, резные талисманы, предназначенные для того, чтобы ускорить переход покойных душ в мир иной или же пойти с телами мертвецов на дно океана, из недр которого, по многочисленным легендам, мы все вышли когда-то.
За нами гонятся другие полицейские и сотрудники охраны, но как разобрать, кого именно ловить?
Мужчину, в которого временно внедрялся Галилео, валят на пол, женщина, использованная им за три тела перед этим, стоит неподвижно, но истошно вопит, видя направленные на себя стволы:
– Кто вы такая? Кто вы такая? Почему бежали?
– Я бежала? – изумленно выдыхает она. – Куда? Почему?
Я вижу невысокий силуэт в сером. Галилео переместился в ребенка с прямыми черными волосами, в серой школьной форме и гольфах до коленок. В одной руке он держит раскрывшийся ранец, внутри которого видны учебники. Тетрадки рассыпаются по полу, когда он бегом устремляется через зал.
Впереди появляется другая женщина. У нее пистолет, шарф, прикрывавший нижнюю часть лица, упал на грудь. Я замечаю обнаженную плоть у нее на запястьях, на горле, на лице, но она не обращает на это никакого внимания, поднимает пистолет и целится – не в школьника, в меня. Памела снова действует.
– Я – Кеплер, Кеплер! – выкрикиваю я.
Но она ничего не воспринимает. Кажется, она даже не замечает бегущего прямо к ней ребенка. Пистолет на изготовку, она стреляет.
Я бросаюсь на пол. Я – полицейский, на мне бронежилет, мышцы должны быть в хорошем тонусе, потому что приходится много ходить пешком по своему участку… Или не приходится? Вероятно, я лишь разъезжаю повсюду в патрульном автомобиле, питаюсь одними пончиками, и сердце может подвести меня в любой момент. В суматохе у меня нет времени на проверку своего физического состояния. В любом случае пуля есть пуля, а время не бесконечно для всех. И я падаю.
Зевс взирает на нас, исполненный гнева и печали при виде того, что творят простые смертные. Афродита расчесывает мраморные волосы. Арес вступил в схватку с разъяренным воином. Геркулес душит змея. Двуликий Янус, бог ворот, дверей, повелитель начала и конца времени, смеется одним ликом и плачет другим. А я? Я укрываюсь под пьедесталом статуи Афины – богини мудрости и войны, отвернувшей в сторону свою наводящую страх улыбку, потому что ей заранее известно, кто победит.
Пэм стоит в центре зала. Она явилась сюда на звуки стрельбы, придавшие ей то ли храбрости, то ли глупости, но так или иначе пробудившие эмоции, заставившие вмешаться. Она больше не стреляет, но сделанного ею вполне достаточно: публика в панике рассеивается, люди, толкаясь, спешат добраться до выхода из музея, блокируя двери. Кто-то додумался включить сигнализацию, и начинается эвакуация, чего с самого начала хотели полицейские. На лестнице у меня за спиной падают, кричат или плачут, что напоминает мне станцию «Таксим», где все началось, когда я убегала от пистолета незнакомца, как Галилео спасается сейчас от моего.
Я – полицейский. Людям следует мне подчиняться. Я громко приказываю:
– Всем очистить помещение!
Но никого уже нет.
Ладони у меня потеют, сжимая оружие, хотя короткое время, потребовавшееся мне на то, чтобы прийти в себя, впечатляет. Мой пульс снова в норме, исчисляясь двузначной цифрой.
– Уильям…
Детский мелодичный голос произносит:
– Эй, Уильям!
Кто такой, черт побери, этот Уильям? Мой Уилл погиб в порту Майами. Ах да, Уильямом когда-то была я сама. Уже очень давно.
Я выглядываю из-за края пьедестала, поддерживающего Афину, – он стоит передо мной. Школьник. Галилео, которому всего девять или десять лет. Он улыбается, держась одной рукой за Пэм, а другой все еще сжимая лямку ранца. Она же смотрит в никуда, лицо серее шарфа, пистолет в обмякшей и вытянутой вдоль тела руке. Ну, конечно! Она же примчалась сюда без перчаток, а теперь безвольно стоит, не сознавая, до какой степени воплощает сейчас образ материнства. Вот только ее дитя – Галилео.
Я навожу пистолет сначала на ребенка, потом на Пэм.
Мальчишка подначивает:
– Кто я сейчас из этих двоих?
Потом школьник покачивается, а Пэм вздрагивает, улыбается, ее пальцы крепче сжимают детскую ручонку.
– Кем из двоих ты хочешь меня видеть? – спрашивает она, а затем сама чуть не теряет равновесие, а малыш гнусно ухмыляется, прижимая руку Пэм к своему лицу, – так ласковый котенок трется о ногу хозяина.
– Застрели меня…
– …или меня!
– Кого из нас…
–..прикончишь первым?
Он – это она, она – это он, прижавшиеся друг к другу. И в те секунды, когда он покидает ее, Пэм приходит в ужас, слезы катятся у нее по щекам, а стоит ему переместиться в нее, как мальчик мочится под себя, растерянный и испуганный, прильнувший к незнакомке, не понимающий, что происходит.
Я вынуждена замереть, направив пистолет в точку между двумя фигурами: наилучшие шансы, если я буду действовать быстро, опережая их.
Я – один из лучших в Нью-Йорке полисменов, вызванный на место преступления. Я вооружен. Готов убить даже ребенка, если это Галилео.
Уилл умирал в торговом порту Майами, кровавые пузыри лопались в его легких. Йоханнес Шварб был заживо сожжен на глазах у всего мира.
Тебе нравится то, что ты видишь?
– Я убивала тебя прежде и сделаю это снова, – говорю я.
Галилео усмехается, но, как только усмешка пропадает, ребенок кулачком трет глаза и, заикаясь, произносит:
– С-сэр, по… пожалуйста, сэр. Н-не делайте мне больно. Я же еще совсем маленький.
Я крепче сжимаю рукоятку пистолета и целюсь ему в голову.
– Мне не известно, кто ты, – отвечаю я. – Это займет секунду. Не более. Только один момент, и все будет кончено.
Мой палец начинает давить на спусковой крючок. Выстрел. Но стреляла не я. Что-то с силой бьет меня в спину, в бронежилет, опрокидывая на пол. Я приземляюсь на четвереньки, жадно глотая воздух, в ушах звенит, а Галилео оказывается прямо передо мной. Выстрел напугал его, и он совершил решающий прыжок, потому что теперь стоит, держа пистолет перед собой двумя руками. А рядом плачет брошенный им ребенок, ошеломленный, не знающий, что ему делать, ничего не понимающий в происходящем.
Шаги сзади приближаются, слышатся уже где-то сбоку. Я чуть поворачиваю голову, хотя от малейшего движения грудную клетку пронзает дикая боль, и вижу Койла. Он стоит надо мной с пистолетом, твердо нацеленным на Пэм, которая тоже целится в него, не менее крепко держа оружие.
– Помнишь меня? – спрашивает он.
Галилео чуть склоняет голову, заинтригованный.
– Помнишь меня? – Голос Койла гремит посреди опустевшего зала, отражаясь эхом от грустной улыбки богини-матери Геры, от изломанных конечностей фигуры Посейдона, а потом растворяется, поглощенный холодными белыми стенами музея.
Я очень хочу подняться, но не решаюсь и остаюсь в прежней позе – руки и ноги уперты в пол. Дыхание у меня все еще сбито. Бронежилет задержал пулю, но не смягчил удара, и теперь в ушах стоит неумолчный звон, а на языке ощущается горечь адреналина.
– Койл… – прохрипела я.
– Помолчи! – рявкнул он, не сводя глаз с Галилео. – Так ты помнишь меня или нет?
– Нет, – ответила она. – Кто ты такой?
Койл шумно вздыхает. Неужели ему так больно от этого? Не мог же он воображать, что его убийство хоть что-то значило для такой твари, как Галилео!
– Эй, мальчик!
Ребенок вскинул на него взгляд.
– Уходи отсюда, быстро!
Школьник не двинулся с места.
– Беги! – Крик Койла снова отразился от стен зала, статуй богов и монстров, и мальчишка побежал, бросив свой ранец, содержимое которого разлетелось по полу.
Койл держал пистолет нацеленным на Пэм, она целилась в него.
– Ну, – прервала она молчание. – И что теперь?
Руку Койла начало мелко трясти, но еще сильнее вдруг задрожал его голос:
– «Санта-Роза». Ты внедрился в меня там. Помнишь?
– Нет.
– Я тогда убил женщину. То есть ты убил ее, завладев моим телом. И этого не помнишь?
Галилео пожал плечами.
Руки Койла тряслись, хотя пальцы крепко вцепились в пистолет.
– А потом ты вонзил в меня нож. Как ты можешь не помнить такого?! – По залу пронесся почти визг.
Я подумала: с тобой случилась истерика, Натан Койл. Вот что происходит. Галилео все помнил. Не помнила она. Да и в любом случае ей сейчас на все было плевать.
– Натан, пожалуйста… – Я сделала попытку встать и уже оперлась на колени, но моя рука тоже задрожала, когда я потянулась к оружию. – Дай мне пистолет. Я сделаю это. Только отдай мне пистолет!
– О! Ты, кажется, всерьез меня любишь? – В голосе Галилео смешались удивление и радость. Пэм просияла Койлу улыбкой, вглядываясь в его лицо, распрямляя плечи, гордо вздергивая подбородок, предельно довольная собой – принцесса, демонстрирующая все свои прелести принцу. – А я? Я тоже люблю тебя?
Койл прикусил нижнюю губу. Руки он держал скованно, его пальцы побелели от усилия. А потом он опустил пистолет.
Галилео улыбнулся. Я бросилась за своим пистолетом, рванувшись за ним по полу на животе головой вперед, но едва моя рука дотянулась до оружия, как Койл вдавил в нее каблук ботинка, и адская боль пронзила меня от кончиков пальцев до локтя. Он склонился, схватил меня за шею и потянул вверх. Его колени уперлись мне в спину, он приставил ствол к моей голове.
– Извини, – пробормотал он. – Мне очень жаль.
– Что ты делаешь?!
– Она права. Я люблю ее. Люблю Пэм. Не с бешеной страстью, но… достаточно сильно. Лишь немного, самую малость сильнее, чем ненавижу Галилео.
– Умрет либо она, либо мы оба, – прошипела я. – Вот чем все кончится!
Он ударил меня. Не слишком сильно, но при ударе рукояткой пистолета особой мощи и не требуется. Я обмякла в его руках, почувствовав, как струйка крови пробежала где-то за ухом, ощутила его дыхание на своей коже, его ничем не прикрытые руки на своем горле.
– Я ведь убил Жозефину, – прошептал он очень тихо, потому что слова предназначались только мне, подобно вздоху влюбленного. – Убил не задумываясь. Убил, хотя ты успела ускользнуть. Помнишь?
Галилео наблюдал за нами.
Койл облизал губы.
– Впрочем, все равно, – сказал он. – Пусть будет что будет. – Его руки тряслись, губы кривились, рот то открывался, то закрывался, словно он хотел проглотить нечто большое, но не мог решиться. А потом он отшвырнул свой пистолет в сторону, и оружие со стуком упало на мраморный пол. Оттолкнув меня от себя, он выпрямился, глядя в глаза Галилео.
Я упала с окровавленной головой и опустошенными легкими, борясь за каждый вдох, лицо у меня горело, конечности похолодели.
Галилео еще крепче сжал пистолет руками Пэм, не зная, кого застрелить первым. Я свернула охваченное болью тело калачиком, плотно закрыла глаза, дожидаясь выстрела, новой боли и неизбежной смерти.
Затем раздался голос Койла:
– Стань мною. – Он обращался не ко мне.
Я подняла глаза. Он смотрел на Галилео, распахнув руки приглашающим жестом.
– Стань мною, – повторил он, делая шаг к Пэм.
Галилео по привычке чуть склонил голову набок.
– Зачем тебе это? – спросил он.
– Натан, – прошептала я, едва шевеля языком. – Не надо.
– Кеплер любит меня, – сказал он. – Она бы убила тебя, в чьем бы теле ты ни находился. Но я люблю тебя. Я люблю тебя. Люблю… ту, в ком ты сейчас. И я не позволю ей погибнуть – только не теперь, после всего… Ведь Кеплер не станет стрелять в меня. Я сам убил… многих людей. Исполнял приказы. Ты меня не помнишь, но я люблю тебя. Стань мною.
Я незаметно подползла туда, где упал пистолет Натана, взяла его и попыталась прицелиться. Но Койл стоял между мною и Галилео, закрывая собою цель.
– Койл, пожалуйста, отойди…
Он провел рукой по щеке Галилео нежным прикосновением любовника, встретившего любимую после долгой разлуки.
– Ты же на самом деле хочешь быть любимым, правда? – спросил он. – Хочешь по-настоящему ощутить, что такое любовь?
Пистолет Галилео уже уперся ему дулом в живот, но Койл, казалось, ничего не замечал.
– Кеплер, когда была мной, раздевала меня. Ложилась в ванну, ощущая, как тепло разливается по моей коже, чтобы потом забраться под одеяло. Подолгу смотрела в зеркало, видя отражение моих глаз. Так ты хочешь познать любовь такой, какой она бывает на самом деле?
– Натан! – Имя рыданием вырвалось из моего горла, жар пробежал по телу, руки сковал ужас. – Пожалуйста, прекрати!
– Она убьет тебя, – шептал Койл, будто лаская губами ухо Галилео. – Убьет без колебаний, потому что пройдет всего секунда, и она исчезнет. Ей достаточно мгновения, не более. Момент настал и прошел. Но я не позволю этому случиться… Никогда. Она любит меня. Кеплер, ведь ты меня любишь, не так ли?
– Да, но пожалуйста…
Его голос стал еще более тихим и мягким:
– Только послушай ее. Тебя когда-нибудь умоляли о чем-то так униженно?
– Нет, – ответил Галилео. – Умоляли, но совсем иначе.
– Это и есть любовь. Она не молит о пощаде, как мы молили тебя на «Санта-Розе». Ею движет не страх, не боль, не мимолетное увлечение. Чистая любовь одного существа к другому. Кеплер любит меня. Она ни за что не причинит мне боль. Ты понимаешь, о чем я?
– Да, – кивнул Галилео.
Койл улыбнулся, приник губами к шее тела Галилео, крепко обнял его.
Они долго простояли так – мужчина и женщина. Ее руки обвили спину Койла, прижимая его еще ближе к себе. Начинало казаться, что они вырезаны из камня – живая скульптура, воплощающая вечные объятия. Потом Койл опустил руки.
Пэм покачнулась, борясь с растерянностью и головокружением. Койл остался стоять на месте с опущенной головой и очень прямой спиной. Взгляд Пэм пробежал по залу, упал на меня, ее губы зашевелились – она старалась найти нужные слова.
Койл поднял голову и улыбнулся ей. Одна его рука тут же цепко схватила ее за горло, другая вырвала пистолет из ее безвольных пальцев, развернув ствол и направив его ей в живот.
– Нет! Натан! Нет!
При звуках моего голоса он повернулся ко мне, но не двинулся с места, не убрал пальцев с горла Пэм. Я отшвырнула пистолет и услышала, как он стукнулся о древнегреческие камни, окруженные богами Древнего Рима.
– Отпусти ее, – сказала я. – Я сделаю все, что тебе угодно, пойду куда велишь, стану кем прикажешь. Только отпусти ее.
Его пальцы погладили кожу Пэм, потом ощупали очертания ее лица.
– Пожалуйста! – Я встала на колени в позе униженного просителя. – Пожалуйста!
Койл, то есть не-Койл, улыбнулся. Не его улыбкой.
– Ты меня любишь?
– Да. Я очень тебя люблю.
Его пальцы соскользнули с лица Пэм. Он оттолкнул ее, правда очень деликатно, увидел следы слез на лице, размазанную косметику и презрительно воскликнул:
– Беги же! Давай, убегай отсюда!
Она убежала.
* * *
Я осталась наедине с Галилео. С Койлом. С Галилео.
Он подошел ко мне, но я не двигалась с места. Он остановился передо мной и улыбнулся, заглянув мне в глаза. Рука, державшая пистолет, поднесла дуло к моей голове. Пальцами другой руки он взял меня за подбородок и заставил подняться. Я не сопротивлялась. Он держал мое лицо своими пальцами не слишком бережно, но и не излишне грубо. Потом он принял решение – подтянул меня поближе и прижался своими губами к моим. Меня целовал Галилео, но ответила я на поцелуй Койла.
Он отпустил меня, снова оглядел, в его глазах блеснули слезы, губы вытянулись от возбуждения и радости.
– Ты и в самом деле меня любишь!
– Да.
– Ты любишь меня! Ты по-настоящему любишь меня, любишь, любишь!
Я всматривалась в лицо, которое когда-то было моим. Теперь оно казалось полудетским, искаженное гримасой восторга, надежды, ожидания чуда. Пистолет опустился вниз, почти забытый, потому что он обхватил меня за шею, чтобы снова притянуть в свои объятия. Он целовал меня как мужчина, только что вырвавшийся из тюрьмы на необитаемом острове, но и я крепко прижималась к нему и отвечала на поцелуи, правой рукой ероша ему волосы, ощущая тепло его кожи, а левую заведя вдоль пояса за спину. Мои пальцы при этом скользнули по его пальцам, ощутив тяжесть пистолета, который он продолжал держать.
От близости его теплой и такой знакомой кожи мне на мгновение показалось, что я стала Натаном Койлом, а он обратился в меня. Его плоть смешалась с моей, его пульс бился у меня в жилах, и я даже перестала различать, чье сердце стучит чаще, какому телу принадлежит эта рука, чье бедро прижалось к чьему, чьи губы так обжигали – его или мои. Но зато я с тоской поняла, чего с самого начала добивался Койл, чего он ожидал от меня даже сейчас, когда Галилео оторвал свои губы от моих и слезы неудержимо покатились по его щекам, в то время как он всматривался в мои глаза.
Он любил меня.
Мои пальцы неожиданно легли на пистолет в его руке и едва заметно повернули ствол в его сторону. Он нежно провел ладонью по моему лицу, словно хотел запомнить его абрис.
– Теперь, – сказал он, – я познал настоящую любовь.
А я нажала на спусковой крючок.
Глава 88
Прежде чем полиция обнаружила труп, его уже успел найти другой человек. Один из их же сотрудников, мужчина, который… простой полисмен… вооруженный человек непостижимым образом первым оказался рядом с телом.
Они окликнули его:
– Алдама, покажи нам свои руки. Отойди от трупа и покажи свои руки, Алдама.
Но он их словно не слышал. Он качал на руках тело мертвого мужчины, держал его как ребенка и рыдал.
От греха подальше коллеги надели на него наручники.
Медик спросил его:
– Как ваша фамилия? Как вас зовут?
Он не помнил. Шок, единогласно решили товарищи по работе. Порой может случиться с любым из нас. Даже с таким опытным офицером, как Алдама. Лейтенант лично принес ему чашку чая.
Когда чашка передавалась из рук в руки, их пальцы соприкоснулись.
– Какого черта я здесь делаю? – вдруг встрепенулся Алдама. – Почему на мне наручники? Что, мать вашу, происходит?
Лейтенант ничего не ответил.
Нью-Йорк зимой. Я продолжаю идти, хотя еле переставляю ноги и уже заблудилась. Где-то вверху ярко сияет на небе зимнее солнце, но здания здесь выше неба, и я не в состоянии найти верный путь среди погруженных в тень улиц.
Я иду, не замечая, как замерзли ноги, заледенели пальцы рук. У меня, возможно, было пальто, но оно осталось в гардеробе музея. Как и сумка, в глубине которой наверняка отыскалось бы мое имя. Женщина, торгующая с лотка жареными орешками под карамельным соусом, кричит:
– Эй, леди! С вами все в порядке?
Значит, я женщина? Вот кто я сегодня.
– Эй! Вы не заблудились, часом?
– Нет, не заблудилась.
– У вас вид какой-то потерянный.
– Ничего. Я в норме. Спасибо за заботу.
Ее губы произносят: «Ну, тогда ладно», но в глазах читается: «Вы лжете». Хотя она не в состоянии понять, в чем именно заключается моя ложь.
Я удаляюсь, постепенно осознавая все, что меня окружает, ощущая, насколько худы мои ноги, обтянутые плотными колготками, как посинели от холода руки. Зато волосы ниспадают на плечи мягкими локонами. А с осознанием приходят воспоминания, но всего лишь на мгновение, а мгновение сразу проходит.
Я иду, но слишком медленно. Так всегда. Все очень медленно. Люди медленно путешествуют и медленно учатся, медленно растут и медленно взрослеют, медлят с замужеством, медлят с выбором жены, медленно старятся и медленно умирают. Обычная жизнь слишком замедлена и тягуча, а потому я не могу задерживаться в одном теле надолго. Потому что есть в мире кто-то, обладающий именно тем, что мне нужно, хотя я и сама не знаю, чем именно.
Я перехожу на бег. Мчусь без движения. Одними лишь прикосновениями. Мою кожу обжигает ледяной ветер, у меня учащенное дыхание снедаемого беспокойством человека, и я становлюсь женщиной в теплых шерстяных перчатках, защищающих от холода, мужчиной в желтых ботинках, который и в самом деле заблудился.
Я – незнакомец, который неожиданно вручает вам букет белых цветов и чье лицо вы тут же забываете, стоит ему отвернуться.
Я красива, пока не замечаю, что другая более красива, чем я, а этот мужчина и вовсе бесподобно красив, невероятно красив. Но красота не имеет пределов, ее всегда недостаточно.
Я снова женщина, невзначай наступившая вам на ногу в вагоне поезда, толкнувшая вас в очереди, спросившая, который час.
Я старец, забывший свою фамилию. Усталая пожилая дама, которой всегда хотелось стать кем-то другим.
Я – никто.
Я – Кеплер.
Я – любовь.
Я – это вы.
Сноски
1
Наиболее известные районы Стамбула. – Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
«Арабская весна» – волна бунтов, гражданских войн и государственных переворотов, прокатившаяся по странам арабского мира начиная с декабря 2010 года.
(обратно)3
Капикуле – турецкий населенный пункт, у которого сходятся границы Турции, Болгарии и Греции, железнодорожная станция.
(обратно)4
Эмотиконы – система сокращений и значков, часто используемых при переписке в Интернете в целях сокращения текста или в качестве шуток.
(обратно)5
Вакцина от туберкулеза.
(обратно)6
Торт «Захер» – классический венский шоколадный десерт, изобретенный кондитером Захером в 1832 году.
(обратно)7
«Немецкие железные дороги» (нем.).
(обратно)8
«Неделя новичка» – традиционно отмечается в большинстве вузов Европы и Северной Америки, когда первокурсники вливаются в мир студенчества и знакомятся с будущими товарищами по учебе (обычно в ходе многочисленных вечеринок).
(обратно)9
Леонт, король Сицилии – одно из главных действующих лиц пьесы У. Шекспира «Зимняя сказка».
(обратно)10
Шарлемань – французская транскрипция имени Карла Великого.
(обратно)11
Окружная автодорога, проходящая по периметру центральной части Парижа.
(обратно)12
Имеется в виду знаменитая американская актриса шведского происхождения Грета Гарбо (1905–1990).
(обратно)13
Залив Северного моря у восточного побережья Шотландии.
(обратно)14
Катары – представители считавшегося еретическим христианского вероучения, распространенного в XI–XIII веках в Италии и на юге Франции.
(обратно)15
«Крок-мсье» – многослойный бутерброд, как правило с ветчиной, сыром и зеленью.
(обратно)16
Кали – в индуистской мифологии грозная богиня смерти, разрушения и возмездия.
(обратно)






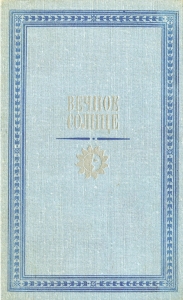
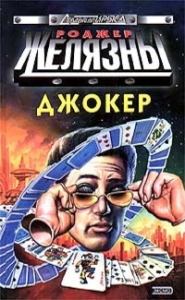

Комментарии к книге «Прикосновение», Клэр Норт
Всего 0 комментариев