Глеб Николаевич Голубев Голос в ночи. «Вспомни!»
ГОЛОС В НОЧИ Странный доктор
Цель моей поездки приближалась, и все большее смятение охватывало меня.
Сомнения начались еще в поезде. Зачем я мчусь на ночь глядя к совершенно незнакомому человеку? Что он скажет, выслушав мой сумбурный рассказ? Скорее всего, примет за сумасшедшую и отправит меня в ближайшую больницу.
Правда, Анни дала мне записочку к этому доктору Жакобу и настояла, чтобы я поехала сейчас же, немедленно. Но, может, не стоило ее слушать?…
Прямо с вокзала я позвонила по телефону, который мне дала Анни. Была такая длинная пауза, что я уже хотела с облегчением положить трубку, но вдруг ответил неожиданно ласковый старушечий голос:
— Квартира доктора Жакоба. Что вы хотели? Говорите же, вас слушают!
— Добрый вечер, — торопливо сказала я. — Можно попросить к телефону доктора?
— Добрый вечер, милочка, — ответила приветливо старушка. — Но его нет. Он уже ушел в театр.
— А когда он вернется? — Я тут же мысленно выругала себя за назойливость и поспешно добавила: — У меня к нему очень срочное дело. И очень важное.
— Вернется он поздно, дорогая. А если дело срочное, то позвоните ему туда. Он утром уезжает.
— Куда позвонить?
— Да в театр. У него там есть телефон.
Она назвала мне номер. Странно: что же, у него там рабочий кабинет, у этого доктора, в театре? Хотя, может, он подрабатывает вечерами как театральный врач…
Пожалуй, я даже обрадовалась, что сегодня встреча не состоится. Есть время собраться с мыслями, подумать до утра. А завтра…
Может, утром я просто вернусь домой. Что-то не внушает мне доверия этот доктор.
Оставалось позаботиться о ночлеге. У меня были знакомые в городе, но идти к ним сегодня не хотелось. К счастью, в первой же маленькой гостинице в узком привокзальном переулке нашелся свободный номер.
В тихом номере, выходящем окнами во двор, где сонно шелестели деревья, я успокоилась. Умылась, причесалась перед потускневшим от старости кривым зеркалом.
В окно была видна цепочка пестрых огней набережной, словно отрезавших озеро, черневшее темным провалом. Лишь вдали, где смутно виднелась мрачная громада Шильонского замка, серебрилось на воде пятно лунного света, прорвавшегося сквозь тучи, — картина совсем в манере старых живописцев-романтиков.
Я почувствовала себя очень одинокой.
Что делать дальше? Сидеть тут весь вечер или сразу завалиться спать?
Машинально я включила маленький радиоприемник, стоявший на столике у кровати, и услышала вкрадчивый голос:
«У вас свободное время? Вас мучает бессонница? Тоска одиночества? Днем и ночью вызывайте Телебиблию: тридцать пять девяносто девяносто…»
Передо мной встало измученное, осунувшееся лицо тети, и я поспешила выключить приемник.
Но ведь старушка сказала, что утром Жакоб куда-то уезжает. Я решительно сняла трубку телефона, стоявшего на столике возле монументальной деревянной кровати, и набрала номер.
— Да?
Этот негромкий деловой голос сразу прогнал всю мою решимость. Я уже хотела бросить трубку, но он настойчиво повторил:
— Да? Я слушаю.
— Простите… Это театр?
— Да. Варьете «Лолита».
— Могу я попросить к телефону доктора Жакоба?
Может, старушка надо мной подшутила? Но телефонная трубка ответила:
— Я слушаю вас.
Отступать поздно. Попалась.
— Я хотела с вами посоветоваться по очень важному делу. Мне рекомендовала Анни. Анни Дальрик, вы ее знаете. Извините, доктор, что беспокою вас так поздно. Я звонила к вам домой, и мне дали этот телефон…
Он слушал мое бессвязное бормотание не перебивая, а я все больше смущалась.
— Могу я с вами завтра повидаться, доктор? Дело очень, очень важное.
Помолчав, он ответил:
— Завтра утром я уезжаю. Но если дело действительно важное…
— Вопрос жизни и смерти! — торопливо перебила я.
Он недоверчиво хмыкнул и насмешливо спросил:
— Это из какого-то романа? Если я вам нужен, приезжайте сейчас, только побыстрее, у меня мало времени.
— Куда?
— Сюда, в варьете… — И он назвал адрес, который я поспешно записала неразборчивыми каракулями на пачке сигарет.
Отступать было невозможно. Я позвонила портье и попросила вызвать такси. Еще раз причесалась, спустилась вниз. Такси уже ждало у подъезда.
Ехать оказалось совсем недалеко. Через пять минут мы свернули в какой-то узкий переулок, подозрительно ярко освещенный множеством пестрых фонарей, и остановились перед стеклянной дверью. Над нею сияла игривая вывеска: «Лолита».
Рядом с дверью на громадной афише разрисован мускулистый, обнаженный красавец в набедренной повязке и в чалме, обвитый не то цепями, не то гигантской змеей. «Последний вечер! Король современной магии Бен-Бой — Человек, Проходящий Сквозь Стены!» — кричала надпись разноцветными буквами.
Каково художнице видеть такую мазню!
— Пожалуйста, мадемуазель, — сказал шофер, удивленный, что я не собираюсь выходить.
— Это здесь? — растерянно спросила я.
— Да. Варьете «Лолита». Вы же сами давали адрес.
Сверкая заученной белозубой улыбкой, плечистый негр в расшитой ливрее уже распахнул стеклянную дверь, и на улицу вырвались призывные раскаты джаза.
Я вылезла из такси.
— Вы к доктору Жакобу? — переспросил недоверчиво швейцар. Улыбка его сразу стала совсем другой — вполне естественной, искренней и даже дружеской. — Пожалуйста, мадемуазель. Он вас ждет. Вот по этому коридору, вторая дверь направо. Проводить вас?
— Не беспокойтесь. Я найду.
Он поклонился и смотрел мне вслед, пока я шла по длинному коридору, — взгляд его я чувствовала спиной. Так, вторая дверь направо. Я постучала.
— Войдите, — пригласил уже знакомый хрипловатый голос.
Я распахнула дверь и замешкалась на пороге.
Это была явно артистическая уборная. Одну стену всю целиком занимало громадное зеркало, вдоль него тянулся стол-прилавок, заставленный разными флакончиками и гримировальными принадлежностями. Другие стены от потолка до пола были завешаны пестрыми афишами. Приторно пахло пудрой, потом, каким-то зверинцем. Отражаясь в зеркале, лампа слепила глаза.
Куда я попала?
— Что же вы? Проходите, — предложил молодой человек в роскошном вишневом халате и с чалмой на голове.
Живые, насмешливые глаза, коротко, по-мальчишечьи остриженные волосы, добродушное круглое лицо, — почему оно такое белое или он загримирован?
— Вы — доктор Жакоб? — недоверчиво спросила я.
— К вашим услугам. — Он учтиво наклонил лобастую стриженую голову. — Сомневаетесь? Тут каждый может подтвердить, что я в самом деле доктор Жакоб. Проходите, садитесь вот сюда, — он придвинул облезлое кресло к аляповатому столику в стиле ампир, — и рассказывайте. У меня очень мало времени.
Теперь я уже точно знала: идти сюда было незачем. Нелепо и глупо! Но делать нечего — я покорно села в расшатанное, жалобно заскрипевшее кресло.
— Ну-с? — настойчиво сказал он, глядя на меня насмешливыми и до неприличия любопытными глазами. — Итак, милая Анни посоветовала вам приехать ко мне. Зачем?
— Понимаете, у меня есть тетка… — начала я и остановилась.
Этот ужасный запах — какая-то смесь будуара с зоопарком, слепящий свет ламп, отражающихся в зеркале, вишневый халат, мелькающий перед глазами, — все действовало на нервы.
— Ну, так что же случилось с вашей любимой тетей? — спросил Жакоб.
— Вы не могли бы сесть и не мелькать у меня перед глазами? — рассердилась я.
Характер у меня нелегкий, я знаю это и стараюсь сдерживаться, да только не всегда удается…
Странный доктор остановился, глядя на меня, и пробормотал сквозь зубы:
— Ага, у вас тоже пошаливают нервы, — но все-таки послушно сел на низенькую скамеечку, небрежно подтянув ее ногой к столику, достал пачку сигарет, закурил, потом, спохватившись, протянул мне.
— Какие у вас?
— «Парижские».
— Спасибо, я предпочитаю свои. Я тоже закурила.
— Итак, что же случилось с вашей теткой? — повторил он и, сдвинув рукав, бросил взгляд на часы, надеясь, что я не замечу. Но я заметила, и мне стало обидно.
— Она слышит голоса. Вернее, голос. Один и тот же голос.
— Голос? Какой голос?
— Мужской голос, который произносит длинные проповеди и внушает ей всякие странные вещи. Уверяет, будто он — небесный голос.
— Ваша тетка религиозна?
— Нет. Вернее, была совершенно нерелигиозной раньше, пока это не началось. Даже всегда смеялась над суевериями, подшучивала над дядюшкой Францем, своим покойным мужем, когда он под старость ударился в мистику. Но теперь она очень переменилась.
— Сколько ей лет?
— Семьдесят второй год.
— И давно это с ней происходит?
— Месяца три. Да, это началось вскоре после смерти дяди, а он умер в октябре прошлого года.
— Днем или ночью?
— Что? — не поняла я.
— Когда слышится ей голос? Днем или ночью?
— Обычно ночью, но иногда и днем.
Тут он задумался и проделал необычную вещь: машинально покрутил в пальцах горящую сигарету и небрежно засунул ее себе в рот — зажженную. И тут же безмятежно и просто — словно нитку в игольное ушко — продел ее себе сквозь щеку. Сигарета по-прежнему горела, от нее тянулся сизый дымок!
Я заморгала и помотала головой, чтобы опомниться. Но удивительный доктор Жакоб, не заметив моего изумления, сказал:
— Голоса — это бывает при некоторых психических расстройствах: шизофрения, алкогольный галлюциноз. Даже тромбангиит или просто ревматическое поражение мозга могут вызывать галлюцинации. Не понимаю только, чем я могу помочь. Вам бы лучше обратиться к опытному психиатру. Могу вам рекомендовать профессора Рейнгарта — это мой учитель. Очень опытный специалист.
Он затянулся догорающей сигаретой, снова ловким и привычным жестом продел ее сквозь другую щеку и погасил в пепельнице дымящийся окурок как ни в чем не бывало.
— Что вы так смотрите на меня? — удивился он. — Я в самом деле не знаю, чем помочь вашей тетке. Я не такой уж специалист по нервным расстройствам.
Я встала. Он тоже поспешно поднялся, запахивая роскошный халат.
— Ну что же… Извините, что отняла у вас время.
— Ничего, ничего. Мне, право, очень жаль. Но почему Анни взбрело в голову?…
— Она считает, будто тут дело нечисто и только вы можете разобраться.
— Почему?
— Последнее время этот голос внушает тетке, чтобы она давала деньги какой-то секте «Внимающих голосам космического пламени».
Он сразу насторожился и весь напрягся, словно услышав выстрел.
— Ах вот как! Это меняет дело. Что же вы сразу не сказали?
— Но вы так меня встретили…
— Прошу извинить, но у меня в самом деле мало времени. Садитесь и расскажите все подробнее.
Я покачала головой, но он решительно усадил меня опять в скрипучее кресло. Руки у него оказались прямо железными.
— Итак, ваша тетка слышит голос, и этот «небесный голос» приказывает ей отдать деньги секте каких-то проходимцев?… — проговорил он, закуривая новую сигарету.
— Почему вы считаете, будто они проходимцы? — перебила я. — Я ничего не знаю об этой секте. Не знаю даже, существует ли она на самом деле. Это Анни считает, что дело нечисто, и посоветовала обратиться к вам.
— И совершенно правильно сделала! — с великолепной непоследовательностью сказал доктор Жакоб. — Конечно, проходимцы, какие могут быть сомнения? Любая секта в наши дни создается лишь для того, чтобы облапошить доверчивых простаков. И этот «небесный глас», подающий весьма земные советы, — какие вам еще нужны доказательства, что вашу тетушку задумали обчистить до нитки?!
Я все время с нарастающей тревогой следила за сигаретой, которой он опять размахивал передо мной,.
И опасения мои оправдались. Доктор Жакоб снова начал продевать горящую сигарету то сквозь одну щеку, то сквозь другую — один раз, другой, третий… Он вовсе не пытался удивить меня, нет, даже не замечал, что делает, — так нормальные люди в задумчивости машинально постукивают пальцами по столу или насвистывают.
Я поняла это, когда в ответ на мой вскрик: «Перестаньте, ради бога!» — он недоуменно поднял брови и спросил:
— Что?
— Перестаньте выделывать эти штучки! — не сдержалась я.
— Какие штучки?
Тут, перехватив мой взгляд, он посмотрел на сигарету и рассмеялся.
— О, извините! Это я машинально. Надо размять пальцы перед выступлением.
«Размять пальцы»! Сказал так просто, словно был известным пианистом и готовился к выходу на сцену. Ну и доктора подсунула мне Анни…
— Где вы живете? С теткой?
— Возле Моркля, это неподалеку от Сен-Мориса.
Он кивнул:
— Знаю.
«Дорогой доктор, следующий номер ваш. Прошу на сцену», — вдруг раздался за моей спиной громкий металлический голос.
Я вскочила и оглянулась. Кроме нас, никого в комнате не было.
— Что это? Кто?
Вид у меня, вероятно, был такой, что он не удержался от смеха и поспешно сказал:
— Нет, нет, чревовещанием я не занимаюсь. Просто меня в самом деле зовут на сцену.
— Что-нибудь случилось?
— Нет, просто пора выступать. Мой номер.
Только теперь я поняла, что металлический голос доносился из маленького динамика над дверью. Он настойчиво повторил: «Доктор Жакоб, ваш выход!»
— Извините и подождите меня здесь, — торопливо сказал мой странный собеседник. — Я скоро вернусь. Постараюсь сегодня провести все номера побыстрее. Нам нужно кое-что уточнить. Дождитесь меня непременно!
С этими словами он, совершенно не стесняясь, вдруг решительным движением сбросил на кресло свой роскошный халат — и оказался в одной набедренной повязке И только тут я догадалась, что доктор Жакоб и есть тот самый великий факир Бен-Бой, умеющий запросто проходить сквозь стены, чье незабываемое изображение я видела на афише у входа в это подозрительное варьете!
Человек, проходящий сквозь стены
Он глянул в зеркало, подправил грим на лице и кинулся к двери, повелительно бросив мне:
— Не уходите!
Я ничего не успела ответить.
Вот тебе и доктор Жакоб! Фокусник, шарлатан! Меня просто разыграли, а я — то всерьез рассказывала ему об измучавшейся тете.
Ну, от Анни я этого не ожидала…
«Видишь ли, только он со странностями, этот доктор Жакоб», — туманно сказала она, давая мне адрес. Я тогда не обратила на ее слова должного внимания.
Хорошенькие странности! Этот доктор, оказывается, умеет проходить сквозь стены! А во время разговора запросто продевает сквозь щеку горящую сигарету, — видите ли, чтобы размять пальцы…
Мне стало смешно.
Но, может, он в самом деле умеет проходить сквозь стены? Меня одолело любопытство. Раз уж я сюда попала, стоит познакомиться с магическими способностями доктора-факира. Вряд ли я когда-нибудь еще встречусь с ним.
Я вышла в пустынный коридор и, крадучись как девчонка, трусливо оглядываясь, направилась в ту сторону, откуда доносились звуки музыки и невнятные выкрики, прерываемые аплодисментами. Значит, там сцена.
Миновала одну дверь, другую… Поднялась по скрипучим ступенькам.
Как бы не попасть невзначай в какой-нибудь потайной люк и не оказаться вдруг на сцене, к восторгу зрителей…
Наткнувшись в темноте на тяжелый занавес, я долго путалась в его складках, едва сдерживаясь, чтобы не чихнуть от поднявшейся пыли.
И тут увидела через щелку прямо перед собой ярко освещенную сцену и на ней нескольких мужчин, окруживших доктора Жакоба.
Я не сразу разглядела, что они старательно и деловито заковывают его в цепи. Надели ему на руки и на ноги тускло сверкающие кандалы, для верности еще несколько раз обмотали его цепями с ног до головы…
Закончив свою странную работу, они отошли в сторонку, разминаясь, переводя дыхание и с интересом поглядывая на скованного по рукам и ногам факира.
— Ап! — весело и громко выкрикнул Жакоб.
И цепи, гремя, вдруг упали на пол к его ногам, словно стекли с него, как струи воды!
Грянули такие аплодисменты, что я испуганно отшатнулась, но тут же снова поспешно приникла к своей щелочке.
А на сцену уже выкатывали большой сейф на колесиках. Сейф был стальной, самый настоящий — от его тяжести заметно прогибались половицы.
Контролеры от зрителей тщательно осмотрели сейф и потом начали связывать фокусника по рукам и ногам толстой веревкой, стараясь накрутить побольше хитрых узлов, а Жакоб подшучивал над ними. Потом крепко связанного фокусника посадили в мешок, и один из мужчин начал зашивать его. Делал он это весьма неумело, и по требованию зрителей его сменила кокетливая девица.
Мешок с зашитым в него фокусником поместили в сейф. Контролеры, посовещавшись в уголке сцены, заперли замок, выбрав известную лишь им комбинацию цифр и букв. Потом они отошли в сторону, не сводя глаз с сейфа…
Откуда-то сверху мягко упал балдахин, расшитый пестрыми райскими птицами. Он прикрыл сейф всего на мгновение и тут же снова взвился кверху…
А возле сейфа с распахнутой дверцей уже стоял улыбающийся Жакоб, небрежно помахивая чудовищно запутанной и переплетенной веревкой.
— Как видите, для этого вовсе не нужно быть йогом! — громко объявил он, когда стихли аплодисменты и растерянные контролеры, оглядываясь на фокусника, гуськом ушли со сцены.
А Жакоб с видом человека, которому настала пора отдохнуть, лениво подошел к невысокому ложу в глубине сцены, вроде тахты, покрытой узорчатым ковром. Он сдернул покрывало — и я содрогнулась.
Вместо тахты под покрывалом оказалась доска, ощетинившаяся, словно еж, длинными стальными остриями, зловеще сверкавшими в ярком свете!
Даже смотреть на них было страшно. А Жакоб как ни в чем не бывало сначала уселся прямо на острия, по-восточному скрестив ноги, потом лег, вытянулся, да еще поворочался, словно укладываясь поудобнее на мягкой тахте.
Так, опершись на локоть и полулежа на стальных остриях, он и начал следующий номер.
Откуда-то в его руках очутилась флейта; он заиграл на ней тягучую негромкую мелодию. И веревка, небрежно брошенная им на пол после чудесного освобождения из сейфа, вдруг ожила, начала извиваться словно змея и тянуться кверху. Она оказалась теперь вовсе не запутанной, вместо узлов на ней вдруг появилось несколько разноцветных платков — синие, красные, зеленые. Повинуясь мелодии, они скользили по веревке в причудливом танце, то меняясь местами, то переплетаясь, то снова расходясь…
Жакоб властным жестом протянул руку — и все платки, будто пестрые птицы, перепорхнули с веревки к нему на ладонь. Фокусник сжал их в кулак, снова раскрыл ладонь- она была пуста, все платки исчезли. Не в рукав иллюзиониста, как это обычно бывает, о нет! Ведь Жакоб был почти голым — в чалме да в набедренной повязке, никаких потайных рукавов.
— И для этого не нужно быть йогом, — сверкнув улыбкой, весело повторил он под аплодисменты зала.
А веревка тем временем тоже исчезла…
Да, это был фокусник высокого класса.
Года два назад, правда недолго, мне довелось поработать декоратором в большом цирке в Женеве. Там я насмотрелась фокусов, которые показывали мировые знаменитости, приезжавшие на гастроли. Жакоб им ничуть не уступал. И показывал он свои поразительные трюки легко и весело, будто играючи, с иронической улыбкой. Всем своим видом Жакоб словно говорил: «Вот, друзья, я покажу вам несколько забавных трюков. В них нет ничего чудесного, но попробуйте-ка их разгадать».
Он поставил посреди сцены трость, взятую у одного из зрителей, и начал «гипнотизировать» ее под смех зала. Трость то стояла неподвижно, хотя он вовсе к ней не прикасался, то начинала пританцовывать, то взвивалась кверху и повисала в воздухе. Потом она совершила прыжок чуть не через весь зал — и очутилась в руках своего ошеломленного владельца.
Жакобу вдруг чем-то не понравилась одна из сильных ламп, висевшая над сценой. По его приказу принесли лестницу с кривыми саблями вместо обычных перекладин. Жакоб ударил по каждой сабле бамбуковой палочкой, чтобы показать всем, как они остры. С каждым ударом от палочки отсекался кусок, пока она не стала величиной с карандаш.
Ему завязали глаза, и вот в тишине потрясенного зала фокусник начал неторопливо взбираться по этой чудовищной лесенке, спокойно переступая босыми ногами с одного сабельного лезвия на другое…
Я невольно зажмурилась. А когда открыла глаза, Жакоб уже был на самом верху лестницы: стоя на двух лезвиях, с завязанными глазами, он пытался достать лампочку, но никак не мог дотянуться, рискуя в любой момент упасть с лестницы.
«Что он еще выкинет?» — с тревогой подумала я. И в тот же миг в руке Жакоба вдруг очутился большой старинный пистолет, и он выстрелил из него в лампочку со страшным шумом.
Звон стекла, все окуталось дымом…
А когда дым рассеялся, мы увидели Жакоба стоящим по-прежнему на верху лестницы, только теперь он оказался без повязки на глазах и уже одетым: безупречно отутюженные брюки, коричневая рубашка с закатанными рукавами.
Раскланявшись, он начал спокойно и не спеша спускаться по чудовищной лестнице.
Пока он спускался, у него на груди возникло странное светящееся пятно. Оно разгоралось все ярче и ярче. Жакоб со смущенным видом пытался прикрыть его ладонью, но тщетно.
Тогда он вдруг расстегнул рубашку, и все увидели, что у него в груди горит электрическая лампочка, явственно просвечивая сквозь кожу!
Фокусник взмахнул рукой, выхватил прямо из воздуха зловеще сверкнувший большой кинжал и полоснул им себя поперек груди…
Я снова на миг зажмурилась от страха, но готова поклясться хоть на суде, что отчетливо видела страшную кровавую рану, из которой Жакоб вынул пылавшую лампочку. Она тут же погасла, и внутри нее оказалась маленькая птичка с удивительно красивыми красными и голубыми перьями. Жакоб разбил лампочку, птичка взвилась под потолок и стала стремительно порхать по всему залу, сверкая радужным, причудливым оперением.
Жакоб показал еще несколько номеров, один удивительнее другого, все в той же привлекательной лукаво-иронической манере. Работал он поразительно ловко и чисто, Я следила за ним не из зала, а прямо со сцены, буквально с двух шагов, и все-таки не могла разгадать ни одного трюка.
А в конце выступления багроволицый здоровяк, приглашенный из зала, прострелил Жакоба из пистолета навылет карандашом, который предварительно пометили зрители. Карандаш был привязан к длинной алой ленточке. Здоровяк долго целился, громко сопя, потом выстрелил.
Карандаш пробил насквозь тело Жакоба и «прошил» его лентой — я это видела своими глазами, как и все сидящие в зале! А фокусник как ни в чем не бывало спустился в зал и не спеша зашагал по проходу, давая всем убедиться, что действительно прострелен насквозь именно тем карандашом, какой пометили…
Потом он попросил выстрелить в него еще раз. Когда рассеялся дым, лента с карандашом бесследно исчезла, но зато у Жакоба слетела с плеч голова! Держа ее под мышкой, он ушел со сцены.
Притаившись в складках занавеса, я слышала его тяжелое, прерывистое дыхание, когда он проходил мимо. Значит, голова у него снова оказалась на месте? Мне очень хотелось выглянуть в щелочку и убедиться в этом. Но я поспешила скорее выскочить в коридор и опрометью кинулась обратно в артистическую уборную.
И конечно, у дверей ее меня поджидал назойливый швейцар-негр.
— Куда же вы девались? — укоризненно сказал он. — Я приношу вам уже третью чашку кофе, он так быстро остывает. А холодный кофе пить не вкусно. Где вы были?
— Знакомилась с варьете. Я тоже умею проходить сквозь стены, — пошутила я.
— Видели выступление мосье доктора? Правда, высокий класс?
Я неопределенно пожала плечами и спросила: — «А где тут выход?
— Но доктор просил, чтобы вы его подождали. — Он укоризненно покачал головой.
— Мне некогда. Где здесь выход?
— Но вы ведь умеете проходить сквозь стены, — лукаво ответил он и широко улыбнулся, сверкнув ослепительными зубами.
Я не успела рассердиться. Откуда-то, словно в самом деле прямо из стены, появился запыхавшийся доктор Жакоб и торопливо проговорил:
— Вот и я. Заждались?
Он устало упал в кресло, налил полный стакан воды и начал жадно пить, показывая мне глазами, чтобы я тоже присела. Дышал он, как загнанная лошадь, — видно, проходить сквозь стены совсем не легко.
— Что же вы не садитесь? — наконец напившись и переводя дыхание, сказал доктор Жакоб. — Этот голос начинает меня…
Ему не дали договорить. Дверь внезапно распахнулась, и перед нами появился лохматый тощий старик в грязном и помятом сером костюме. Глубоко запавшие глаза моргали и беспомощно щурились от яркого света, небритая щека нервно дергалась. Он был так пьян, что покачивался, судорожно вцепившись в дверную ручку и не решаясь шагнуть дальше.
— Что вам нужно, Анри? — нахмурился доктор Жакоб. — Я занят.
— Очередная поклонница? — пьяно осклабился старик, тыча в мою сторону скрюченным пальцем. — О, да какая миленькая! Молодец! Когда-то и у меня от них отбою не было. Ты хорошо работаешь, Морис, но признайся: и я гремел в свое время. Впрочем, ты уже не застал, слишком молод. Но и сейчас, и сейчас…
— Что вам нужно, Анри? Я ведь, кажется, говорил, что не желаю иметь с вами дела? — Жакоб вскочил.
— Ты еще пожалеешь, что выгнал меня. И что позоришь на всех перекрестках, не даешь мне дышать. Берегитесь его, милочка!…
— Лучше скажите: не даю вам обманывать простаков, — перебил его Жакоб и погрозил пальцем: — Берегитесь! Я не посмотрю на прежнюю дружбу и засажу вас за решетку, если не бросите свои грязные штучки. Последний раз предупреждаю!
— Я знаю, что ты меня ненавидишь. Завидуешь мне. Прекрасно знаешь, что я ума еще не пропил и могу поставить такие трюки, какие тебе и не снились, — пьяно захохотал старик. — И не раскусишь, в чем секрет, не пытайся!
Только этого еще мне не хватало — стать участницей пьяного скандала в подозрительном вертепе! Оттолкнув и чуть не сбив с ног старика, я выскочила в коридор.
— Куда же вы, подождите! — крикнул мне вслед Жакоб. — Али, вызови ей такси! А с вами я еще поговорю, когда вы хоть немного протрезвеете, — напустился он на старика. — Дайте пройти!
Никто меня, к счастью, не пытался задержать. Швейцар стоял на улице и, сложив ладони рупором, взывал:
— Такси! Такси!
Я прошмыгнула мимо него и помчалась по переулку, боясь лишь одного: как бы не сломался каблук. Может, лучше разуться? Тогда меня никто не догонит…
Ну и ввязалась в историю!
Какой-то подвыпивший прохожий призывно свистнул мне вслед.
За моей спиной заурчала машина. Я оглянулась на бегу! Такси! Но оно занято.
Машина остановилась возле меня, из нее поспешно выскочил швейцар-негр и, почтительно придерживая дверцу, сказал:
— Садитесь, мадемуазель.
Я подозрительно заглянула в такси. Кроме шофера, никого в машине не было.
— Спасибо! — буркнула я, сунула в ладонь швейцара первую попавшуюся монету и села сзади шофера: — Поехали.
— Куда?
— Прямо, все прямо!
В плену у факира
Никто меня не преследовал. Успокоившись, я назвала шоферу гостиницу и уже через десять минут очутилась у себя в номере. Хотелось есть: ведь я так и осталась без ужина. Но в ресторан я не пошла. Съела плитку шоколада, завалявшуюся в сумочке, запила водой, потом приняла душ и легла спать. От всех этих глупых треволнений уснула я моментально, твердо решив утром поскорее вернуться домой.
Проснулась я поздно, в десятом часу. Узнала по телефону расписание поездов и спустилась позавтракать в кафе. Там было пусто. В углу, заслонившись от всего мира газетой, пил кофе угрюмый толстяк в темных очках. Под соседним столиком дремал пушистый кот.
Было тихо и мирно. Я уже кончала завтрак, когда в дверь заглянула старушка в нелепой шляпке с перьями и цветами.
Она окинула кафе придирчивым взглядом, на миг задержалась на мне, но не зашла.
Выйдя из кафе, я снова увидела старуху в холле гостиницы. Она сидела возле двери в кожаном кресле. Кресло солидное, монументальное, а старушка такая маленькая и щуплая, что прямо утонула в нем. Торчала лишь ее голова в забавной шляпке. Старушка все время по-птичьи вертела во все стороны головой, судорожно сжимая в руках огромную потрепанную сумку, будто опасаясь, как бы ее у нее не выхватили.
«Какая смешная», — подумала я.
И тут же старушка выскочила из кресла и засеменила мне навстречу.
— Наконец-то, милочка! Я вас совсем заждалась, — набросилась она на меня так, словно мы были знакомы целый век. — Хотела, чтобы вы позавтракали с нами, заезжала, но вы еще спали. Поздно вставать вредно, дорогая моя. Задержалась на рынке — я всегда покупаю все только на рынке, иначе в наш век нельзя: не заметишь, как тебя отравят. Примчалась сюда, а вы уже завтракаете. Нехорошо, милочка: кто знает, чем вас накормят в таком месте? И вообще как может молодая одинокая женщина ночевать в подобных заведениях?
Тут она поневоле сделала маленькую паузу, чтобы перевести дух, и я смогла спросить у нее:
— Позвольте, кто вы и что вам надо? Вы меня с кем-то спутали…
— Ничего не спутала, дорогая моя, — перебила она. — Никогда я ничего не путаю, хотя и восьмой десяток пошел. И вы должны меня слушаться, я плохому не научу.
— Но кто вы? Честное слово, я вас не знаю.
— Только потому, что вы не здешняя. А тут каждый знает матушку Мари, спросите первого прохожего, если, конечно, он здешний…
— Но все-таки кто вы, матушка Мари?
— Как-кто? — удивилась старушка. — Я экономка доктора Жакоба. Мы же разговаривали с вами вчера по телефону.
Вот почему этот настойчивый голосок показался мне смутно-знакомым. И это забавное обращение «милочка», такое старомодное, что сразу вспоминается детство.
— Очень приятно с вами познакомиться, милая матушка Мари, — сказала я. — Но не понимаю, зачем я вам понадобилась?
— Как — зачем? Доктор Жакоб ждет вас.
— Доктор черной и белой магии, — насмешливо кивнула я. — Как же это он узнал, где я остановилась? Хотя при его способностях…
— Почему черной и белой магии? — Старушка явно обиделась, и мне стало стыдно за насмешливый тон. — Он доктор философии, милочка. Крупный ученый, его во многих странах знают. А фокусами он увлекается с детства- я же его вскормила, знаю. Что в этом плохого? И магия ни при чем — это все глупые суеверия одни Адрес нам дал шофер: вы ведь ему вчера сами сказали, куда вас везти, так?
— Я никуда не поеду…
— Как это — не поеду? Он специально остался сегодня из-за вас, не уехал отдыхать, а вы — «не поеду»!
Спорить с ней было невозможно. К тому же мне вдруг стало любопытно увидеть доктора Жакоба в домашней обстановке. Может, он и дома сидит в чалме на остриях гвоздей или погружается в нирвану?
— Хорошо, сдаюсь, — сказала я. — Сейчас вызову такси, и едем…
— Зачем такси? У нас есть своя машина.
Пожав плечами, я двинулась за неугомонной матушкой Мари.
У подъезда стоял синий «мерседес». Шофера не видно, наверное, забежал выпить чашечку кофе, пока мы препирались с шустрой старушкой…
— Садитесь, милочка, — пригласила матушка Мари, преспокойно занимая место за рулем и привычным жестом надвигая поглубже допотопную шляпку.
В полной растерянности я села рядом с ней. Мотор взревел, и мы рванулись с места.
— Может, все-таки лучше мне? — робко пробормотала я, косясь на матушку Мари. — Я умею водить машину, хотя и не очень быстро…
Она не удостоила меня ответом, но, видно, обиделась и рассердилась: начала лихо срезать углы на поворотах и так резко тормозить перед светофорами, что у меня в глазах темнело.
На одном из перекрестков нас даже задержал юный доброволец-регулировщик движения, которыми так гордится Монтре. Было очень забавно слушать, как белоголовый серьезный мальчик с пухлыми щечками и повязкой на рукаве, встав на цыпочки, чтобы прибавить себе солидности, вежливо, но строго отчитывал матушку Мари, а та покорно слушала, понурившись и ерзая от нетерпения за рулем. Мне стоило больших усилий не расхохотаться.
Два квартала после этого мы еле ползли, и матушка Мари совсем извелась. Но потом она тряхнула шляпкой и решительно прибавила газу. И тут же резко остановила машину перед небольшим особняком, прятавшимся в зелени густо разросшегося садика на одной из окраинных›лочек возле набережной, и победно посмотрела на меня. Я только заискивающе улыбнулась и начала помогать ей вытаскивать из машины сумки со всякой снедью.
Навстречу нам по усыпанной гравием дорожке среди сосен быстро шел доктор Жакоб. Он широко улыбался: наверняка видел из окна, как мы подкатили.
— Здравствуйте, мадемуазель… — поклонился он. — Наше вчерашнее знакомство получилось несколько сумбурным, так что я даже не успел спросить, как вас зовут.
— Клодина Дрейгер.
— Очень приятно. — Он снова учтиво поклонился. — Отдайте мне эти сумки, и прошу в дом.
Сегодня он выглядел вполне прилично, и его в самом деле можно было принять за доктора: отлично сшитый костюм, безукоризненная рубашка, хорошо повязанный галстук модных тонов. Но без грима выглядел он еще моложе, чем вечером, и все время улыбался — совсем не солидно. Мы поднялись на крылечко из трех ступенек, вошли в тесноватый, уютный холл.
— Вам наверх, а я скорее на кухню, — повелительно сказала матушка Мари, отбирая у доктора сумки, — Надо приготовить завтрак, а то наша гостья умрет с голоду.
— Но я завтракала, вы же сами видели, — всполошилась я.
— О, разве это завтрак?! Чем скорее вы его забудете, тем лучше, милочка. Дай еще господь, чтобы все обошлось без последствий… — Последние зловещие слова донеслись уже из-за двери.
Я умоляюще смотрела на Жакоба, но он только развел руками:
— С ней не поспоришь. Я давно уже не пытаюсь — с детства. Она здесь хозяйка. Прошу вас.
Признаться, я перешагнула порог двери, которую он предупредительно распахнул, с некоторой опаской. Кто их знает, современных факиров? Может, они держат дома живого удава или коллекцию отрубленных голов?
Но кабинет, куда мы вошли, оказался вполне обычным и современным: стены скрыты книжными стеллажами, у окна большой письменный стол, рядом второй столик с пишущей машинкой. Висят торжественные дипломы в застекленных рамках. Над письменным столом, тоже в рамке, заповедь:
Картотека в углу, приземистый журнальный столик с удобными креслами, торшер — никакой таинственности и восточной роскоши. Я даже разочаровалась слегка.
Прямо под окном росли серебристые ели, а за ними открывался чудесный вид на озеро и маленький островок с двумя деревьями, похожими на паруса. Казалось, он вот-вот уплывет, подхваченный ветром.
Мы сели в кресла; доктор Жакоб придвинул поближе сигареты и пепельницу и сказал:
— Чем больше я размышляю о вашем деле, тем подозрительнее оно мне кажется. Я собирался поехать отдохнуть недельку в горах, но решил задержаться, чтобы нынче непременно повидаться с вами.
— Спасибо, вы очень любезны, но, наверное, это напрасная жертва.
— Почему?
— Вряд ли вы сможете помочь моей тетке, ведь вы сами вчера сказали. Тут нужен опытный психиатр, вы правы.
— Надо еще разобраться, — задумчиво проговорил он, закуривая сигарету.
Я не сводила с нее глаз. Заметив это, Жакоб рассмеялся:
— Не бойтесь, я не стану вас больше пугать. Сегодня у меня нет выступления, тренироваться не надо.
— А как вы это делаете?
— Очень просто. Вот так, — и, насмешливо сверкнув глазами, он ловко продел горящую сигарету сквозь щеку.
Я не спускала с него глаз. Сигарета в самом деле прошла сквозь щеку, я готова поклясться! Но на щеке не осталось никакого следа.
— Н-да, — сказала я. — А вы в самом деле доктор?
— Предъявить вам диплом Сорбонны? Или Цюрихского университета? Я их оба закончил. Я действительно специалист-психолог, могу показать достаточно солидные научные труды. — Он махнул в сторону книжных полок. — Уж Анни-то меня хорошо знает, иначе не послала бы ко мне свою лучшую подругу, как вы изволили отрекомендоваться.
— А зачем вы занимаетесь этим?
— Чем?
— Ну, всякими фокусами… — Я неопределенно покрутила пальцами перед своим носом. — Сигаретка сквозь щеку, кандалы, ходите по саблям, пролезаете сквозь стены. Зачем выступаете в каких-то балаганах?
— Потому что мне это нравится, С детства увлекаюсь благородным искусством волшебных иллюзий и магических превращений. Напрасно вы отзываетесь о нем так презрительно. Это весьма древнее искусство. Еще в библии пророк Моисей соревновался в чудесах с профессиональным фокусником.
— Но все-таки: доктор философии — и вечерами становится факиром, одурачивая доверчивых простаков в варьете. Это не вяжется…
— Я давно уже не выступаю в таких заведениях, как «Лолита». Правда, показываю иногда некоторые номера как иллюстрации к своим публичным лекциям. За это мои друзья называют их «лекции с фокусами». А вчера пришлось выступить в варьете, да еще под таким вульгарным цирковым псевдонимом, чтобы выручить из беды моего старого учителя, Мишеля Надира. Не слышали о таком? Замечательный фокусник, имя его гремело перед войной. А теперь он стал стар, тяжело болен, вот мы и решили как-то помочь старику, собрать для него немного денег, выступив в «Лолите». Я Мишелю Надиру очень многим обязан. Да и вообще знакомство с цирковыми магами и волшебниками с их удивительным мастерством помогает моей научной работе.
— Каким образом?
— Видите ли… — задумчиво сказал он, провожая взглядом колечко дыма. — Я занимаюсь изучением скрытых резервов человеческого организма, возможностей человеческой психики прежде всего. «Познай самого себя» — этому мудрому завету три с лишним тысячи лет, а мы пока еще очень мало, до смешного мало знаем о себе, о своем мозге, о его поразительных возможностях. И вот знакомство с удивительными опытами и открытиями моих славных друзей — цирковых фокусников, факиров, современных йогов, как вы выражаетесь, — дает интереснейший материал для исследований в этой сложной области. Я у них многому научился.
Он увлекся, а мне было интересно слушать, и я его не перебивала. Если уж тете этот забавный доктор помочь бессилен, то хоть секреты ловких фокусов передо мной раскроет.
— Как вы ухитряетесь лежать на этих ужасных гвоздях? — спросила я.
— Очень просто. Немножко элементарной физики и арифметики. Болевые ощущения возникают, если на одно острие приходится груз в пятьсот-шестьсот граммов. Площадь моего лежащего тела — около двух тысяч трехсот квадратных сантиметров, на каждый из них приходится по одному острию, а вешу я семьдесят килограммов. Возьмите карандаш, сделайте несложный подсчет и убедитесь, что на каждое острие приходится всего-навсего по тридцать граммов тяжести. Так что я лежу как на диване.
— Так просто? — разочаровалась я. — А сабли? Ведь они острые?
— Острые, — согласился он. — Только заточены и направлены особым образом, так что я ступаю по ним без риска порезаться. Конечно, нужна тренировка.
Я огорчилась и сказала:
— Значит, жульничество…
Кажется, он обиделся, потому что поспешно ответил:
— А освобождение из цепей и пут? Таких мастеров — мы называем их на своем профессиональном жаргоне «клишниками» — немного на свете. Тут фокус в том, чтобы при сковывании умело напрягать мускулы, значительно увеличивая их размер, а потом быстро их расслабить. Я могу даже смещать кости в суставах и задерживать дыхание на две минуты. Такое владение своим телом дается лишь многолетней тренировкой.
— Да, это ловко у вас получилось, — согласилась я. — Но как же все-таки вы ухитрились так быстро выбраться из запертого сейфа? Вы в самом деле умеете проходить сквозь стены?
— Умею, — улыбнулся он.
— Как? Научите меня!
— Ну, во-первых, этому сразу не научишься. Начинать надо с детства. А потом: я не имею права разглашать профессиональные секреты. У фокусников тоже есть кодекс чести»…
Он неожиданно взмахнул рукой, словно ловя надоевшую муху, — и в руке у него появилась новая сигаретка. Жакоб достал зажигалку, зажег ее, держа в некотором отдалении. И на моих глазах сигарета вдруг стала расти, вытягиваться к огню — и превратилась в сигару!
Я захлопала в ладоши и как девчонка закричала:
— Еще! Еще!
Но тут дверь открылась, на пороге появилась раскрасневшаяся от кухонного жара матушка Мари в белом накрахмаленном передничке и грозно спросила:
— Долго я буду вас ждать?!
Доктор Жакоб поспешно сунул магическую сигару в пепельницу и состроил испуганную гримасу.
Мы прошли в маленькую столовую и сели за стол, уставленный такими вкусными вещами, что я, к стыду своему, немедленно почувствовала страшный голод. Чтобы скрыть смущение, я поспешно сказала:
— Вы ловкий человек, доктор. Жаль, что вы не можете помочь моей тете.
— Да, вот именно, вернемся к нашей тете, — усмехнулся он. — Я должен посмотреть ее. Вполне возможно, у нее обычное психическое расстройство. Тогда мы поищем более опытного специалиста, раз вы мне не доверяете.
— Но она давно ничем не болела. За последний год, насколько я помню, обращалась к врачам только дважды, и то по пустякам, — к дантисту да к глазнику. Доктор Ренар считает, что у тети прекрасное здоровье для ее возраста.
— Кто такой этот доктор Ренар?
— Местный врач, живет рядом с нами. Он не профессор, но мы ему верим. Он очень опытный, все в округе его уважают. Тетя признает только его. Он ухаживал до последних дней и за дядей Францем, ее покойным мужем. Доктор Ренар каждый день бывает у нас, завтракает, обедает с нами и давно уже стал как бы членом нашей семьи.
— А что случилось с вашим дядей?
— У него обнаружили рак желудка. Мы, конечно, скрывали, но он догадывался. Переписывался со всякими врачевателями — знаете, сейчас это модно: хиропрактика, радиэстезия…
— Знаю, — кивнул Жакоб.
— Он стал очень религиозным, жертвовал большие суммы различным организациям. Тетя сердилась, отговаривала его. А теперь сама… Она уверяет, будто «небесный голос» сказал ей, что наказывает ее за неверие и за насмешки над дядей Францем.
— Вот как? Значит, «глас небесный» даже знаком с вашим покойным дядюшкой? Подозрительная осведомленность в ваших семейных делах.
Жакоб задумался, уставившись в свою тарелку, потом поднял голову, посмотрел на меня каким-то отсутствующим взглядом и спросил:
— В чем же заключаются галлюцинации у вашей тети, расскажите подробнее.
— Началось все с того, что она стала слушать по ночам какой-то голос, я же вам говорила.
— Давно?
— Месяца три назад, в конце зимы.
— И что он ей внушает?
— Требует, чтобы покаялась в грехах, одумалась, переменила свою жизнь и посвятила остаток ее богу. Потом он начал всячески нахваливать секту «Внимающих голосам космического пламени» и потребовал, чтобы тетя им помогла. Она уже дважды переводила в Берн довольно крупные суммы, и каждый раз голос ее хвалил за это.
— Откуда она узнала адрес, по которому переводила деньги? От покойного мужа? Он имел какие-нибудь дела с этой сектой?
— Нет, по-моему, никогда.
— Откуда же ваша тетя узнала их адрес?
— Голос назвал. Проснувшись утром, она его прекрасно помнила, хотя вообще-то память у нее не очень хорошая на цифры и адреса.
— Любопытно, — пробормотал Жакоб. — Очень любопытно. А сама она посещала сборища этой секты? Встречалась с кем-нибудь из них?
— Ни разу.
— Почему?
Пожав плечами, я неуверенно ответила:
— Просто у нее не возникало такого желания.
— Странно… А как ей слышится этот голос — звучит внутри головы или доносится откуда-то извне? Это важно.
— Я подробно ее не расспрашивала… По-моему, она просто слышит его, и все. Как мой голос.
Доктор Жакоб недовольно хмыкнул, потом спросил:
— На головные боли она не жалуется?
— Нет.
— Не говорит, будто у нее такое чувство, что ее голову словно распирает изнутри?
— Нет.
— И на бессонницу не жалуется?
— Нет, она спит крепче меня.
— А других галлюцинаций у нее не бывает, кроме «небесного голоса»?
— Вы знаете, последнее время с ней стало твориться что-то странное. Однажды она вдруг якобы увидела в саду цыгана с ручным медведем, хотя никого там не было. Мы с доктором Ренаром тут же уложили ее в постель, и она быстро успокоилась. А на прошлой неделе ей показалось, что в сад забежал волк и прячется в кустах. Она умоляла нашего садовника застрелить его. Мы обшарили все кусты, но никакого волка не нашли. Все ей пригрезилось.
— Может, эти галлюцинации ей тоже внушает голос?
— Не знаю, она ничего не говорила.
— Это может быть и болезнь, — в глубокой задумчивости, забавно наморщив лоб, пробормотал доктор Жакоб. — Но в этом безумии есть явная система. Я сильно подозреваю, что ваша любимая тетя стала жертвой ловких мошенников.
— Как? — испугалась я.
— Вот это-то нам и предстоит узнать. Уж больно подозрительны «небесные голоса», дающие совершенно конкретные и весьма земные приказания. Ваша тетка богата?
— По-моему, да, хотя я никогда не интересовалась особенно… Дядя оставил ей значительное наследство, он был богат, удачливо играл на бирже, пока не заболел.
— Вы ее единственная наследница?
— Послушайте! — вспыхнула я.
— Не обижайтесь, я вовсе не хочу вас уличать в каких-то корыстных замыслах.
— Я неплохо зарабатываю и вполне могу обеспечить тете спокойную старость, если она пожелает раздарить все свои деньги. Показать вам чековую книжку?
— Не надо. Я вполне верю, что вы искренне любите свою тетю и хотите ей добра. А какая у вас профессия, если не секрет?
— Художница.
— То-то я никак не мог догадаться, хотя у нас в Швейцарии перед женщинами не слишком велик выбор жизненных путей. Как говорят англичане: «Если у тебя слишком много способностей, не отчаивайся: ты еще можешь стать вольным художником…»
— Что еще вас интересует? — перебила его я.
— Мне надо знать, есть ли кто-нибудь на свете, кому было бы выгодно, чтобы деньги тети перешли в руки каких-то жуликов.
— Не знаю и не хочу обсуждать эти вопросы, — резко ответила я. — Одно могу сказать совершенно твердо и определенно: никого из членов этой секты тетя не знает, ни разу даже в глаза не видала, так что сразу упрекать людей, которых вы совершенно не знаете, в преступных намерениях — это, мне кажется, бесчестно.
— Странно, что она и не пытается с ними познакомиться, — пробормотал он, не слушая меня. — Похоже, они готовят себе алиби.
— Вы так об этом говорите, словно уже уличили их в чем-то.
— А вы верите, будто ваша тетя в самом деле слышит некий божественный голос свыше? Почему же «глас небесный» советует давать деньги именно этой секте, а не какой-нибудь иной? Почему небеса так благоволят к ней? Почему сделали эту секту своей божественной избранницей и хотят ее щедро наградить за счет вашей тети? Согласитесь, вопросов возникает немало, и в них очень любопытно разобраться. Я материалист, медик, психолог, в «небесные голоса» и божественные откровения не верю, поэтому первым делом задаю вопрос древнеримских юристов: «Cui prodest?» — «Кому выгодно?» Вам — явно нет. Доктору Ренару? Вряд ли он связан с этой сектой…
— Послушайте! — опять гневно перебила я его.
— Я просто логически рассуждаю, — пожал он плечами и, заботливо подлив мне горячего кофе, добавил: — А что касается ловкости шарлатанов, то, верьте мне, я их повидал куда больше вашего.
Он сказал это с такой горечью, что я сразу почувствовала: видно, доктору Жакобу тоже досталось от них. Но расспрашивать его не решилась, а он между тем продолжал с забавной гордостью:
— Свыше сотни разоблачил и посадил на скамью подсудимых…
— Вы?!
— Я. Разве Анни вам не рассказывала? Наверное, поэтому она посоветовала вам обратиться ко мне. Я давно занимаюсь охотой на всяческих пройдох и шарлатанов.
Я покачала головой:
— Доктор философии, ловкий факир и фокусник, да к тому же беспощадный разоблачитель шарлатанов, — и все это в одном лице! Невероятно! Как вы ухитряетесь успевать? Утром занимаетесь научной деятельностью, вечером развлекаете простаков ловкими фокусами, а когда же ловите шарлатанов? И почему вы их ловите, если сами тоже обманщик? Опасаетесь конкурентов? Но это, по-моему, не очень этично. За что вы набросились вчера на этого несчастного старика? Он выглядит таким больным и усталым, что — тоже ваш конкурент?
— Я не обманщик, а иллюзионист, — наставительно сказал он. — Мы выступаем на сцене или цирковой арене перед зрителями, которые хотят, чтобы их развлекли интересными фокусами. Они хотят быть обманутыми — для того и приходят. А шарлатаны и жулики обманывают простаков, спекулируя на их суевериях. И я считаю своим долгом разоблачать таких проходимцев. Для меня это, если хотите, своеобразная форма атеистической пропаганды. К сожалению, наши законы в этом отношении весьма либеральны. Всякие «Церкви света небесного», теософские общества, «Божественное исцеление», «Церковь научного познания» — сколько их развелось! Но все-таки порой удается некоторых поймать с поличным. Или хотя бы просто обезвредить, разоблачив их проделки. Старик этот — талантливейший мастер, настоящий гений по части иллюзионной техники. Мы с ним раньше работали и придумали немало отличных трюков. И шарлатанов вместе разоблачали. Но они его затравили, сломили. Он сдался, спился, стал с ними заигрывать. Связался с жуликами и теперь помогает им дурачить простаков. Не могу ему этого простить.
— Ладно, бог с ним, со стариком, хотя мне его жалко. Но вы в самом деле думаете, будто моя тетка стала жертвой ловких мошенников? Каким образом?
— Чтобы выяснить это, нам придется поехать к вам. Вы меня приглашаете?
Я на какой-то миг помедлила с ответом, но он сразу заметил мои колебания и спросил:
— В чем дело? Вы же специально приехали ко мне за помощью? Или не доверяете мне?
— Her, что вы! — поспешно ответила я. — Просто подумала: может, лучше предупредить тетю, а то нагрянем как лавина с гор.
Он пожал плечами и насмешливо спросил:
— Ваша тетя — строгая женщина? Требует соблюдения этикета?
— Нет, она человек очень добрый и простой и всегда рада гостям.
— Тогда едем, — решительно сказал он, вставая из-за стола.
— Но вы же хотели отдохнуть…
— Ничего, успеется, — отмахнулся он.
Явление апостола
Через четверть часа мы уже сидели в машине. Матушка Мари все же успела напихать на заднее сиденье столько свертков со всякой едой, словно мы отправлялись на Северный полюс
— Не спорьте, — тихонько сказал мне Жакоб. — Бесполезно. Самое вкусное мы оставим, а остальное выбросим, когда выедем за город.
Так мы и сделали, остановившись в тени древнего могучего дуба, дуплистый ствол которого был весь опоясан железными обручами и хозяйственно укреплен подпорками. А потом помчались по зеленой долине вдоль Роны на юг, где ослепительно сверкала в лучах закатного солнца семиглавая ледяная вершина Дан дю-Миди.
Свежий ветерок посвистывал в ушах и раскачивал узловатые ветви старых грушевых деревьев, выстроившихся вдоль дороги. Доктор Жакоб вел машину на хорошей скорости, очень плавно и мягко и расспрашивал меня о нашей жизни. Сперва я немножко насторожилась: «Уж не устраивает ли он мне допрос?» — и отвечала суховато, односложно. Но постепенно он сумел разговорить меня.
— А кто еще живет у вас в доме?
— Прислуга.
— Много?
— Трое. Антонио — он у нас и садовник, и шофер, но чаще я сама вожу машину. Его жена — Лина, наша кухарка. И горничная Розали. Вот и все.
— И все они давно у вас служат?
— Давно. С детства, — ответила я и тут же поспешила поправиться: — То#есть с моего детства, конечно. Антонио — испанец…
— Испанец?
— Да, он попал в наши края в тридцать восьмом году, еще подростком. Ну, знаете, когда шла гражданская война в Испании, многие тогда приезжали в нашу страну. Лина чудесно готовит, мастерица и во французской кухне и в немецкой. Но когда на Антонио нападает тоска по родине, он гонит жену от плиты и сам готовит бобовую похлебку по-испански и поет при этом грустные песни. И меня всегда угощает. Очень вкусная похлебка, «фабада де Астуриас» называется. Не пробовали?
— Нет, к сожалению, не приходилось. А ваша горничная — Розали, кажется?
— Да. Мы с ней почти однолетки, росли вместе. А прежде у нас была горничной ее мама, милая Анна-Мари…
Он расспрашивал меня, не отрывая глаз от дороги и сбавив скорость. Шоссе здесь шло над самой Роной, под нависшими скалами. Дорогу ограждала от осыпей высокая проволочная сетка. Но все равно местами на шоссе попадались груды камней: наверное, в горах был недавно обвал, их еще не успели убрать.
В таких местах нельзя кричать и даже громко разговаривать, чтобы не разбудить лавину. Мы ехали медленно. Я понизила голос, как заговорщица, и придвинулась поближе к Жакобу.
Рассказала я ему о докторе Ренаре: как он каждый день обедает с нами, попыхивая неизменной глиняной трубочкой, а потом украдкой дремлет где-нибудь в укромном местечке, в саду, и как он рисковал жизнью, высасывая у меня в детстве из горла чуть не задушившие дифтеритные пленки…
— Вы рано потеряли родителей?
— Да. Мама умерла, когда мне было десять лет. А отца я совсем не помню. Еще в войну он уехал во Францию, хотел там уйти в маки, а пропал без вести. Я даже забыла, как он выглядел, и только однажды случайно наткнулась на его карточку, разбирая с тетей старые бумаги, и вроде что-то смутно припомнила: колючие усики, голубые глаза, родинка на левой щеке…
Я замолчала, и доктор Жакоб некоторое время не мешал мне предаваться воспоминаниям. Потом он спросил:
— Значит, в сущности, вы всю жизнь прожили с тетей? Она вас вырастила и воспитала?
— Да. И я очень люблю ее.
— У нее хороший характер?
Я покосилась на него и хотела сказать: «Какой же вы психолог, если задаете такие вопросы…»-но промолчала.
Можно ли в двух словах описать характер человека? Можно ли сказать о нем, что он добрый или злой, веселый или угрюмый? И добрый бывает нередко злым, и весельчак не всегда радуется жизни. Это только психологи привыкли раскладывать по полочкам: сангвиник, флегматик, холерик… Какую-то, кажется, еще разновидность нам называли на лекциях в университете, да я уже забыла.
Но он ждал ответа на свой вопрос, и я коротко сказала:
— Я ее люблю, свою тетю.
Он молча кивнул с таким видом, будто ответ вполне его удовлетворил, и снова замолчал, теперь уже надолго.
Вдали, на склоне горы, что-то несколько раз сверкнуло. Я присмотрелась. Это поднимались к перевалу игрушечные вагончики фуникулера, и солнце сверкало в их окнах.
Я не возобновляла разговор, стараясь все-таки мысленно определить хотя бы для себя, какой же в самом деле характер у моей тетки.
Добрая? Безусловно. Но все-таки не случайно я колебалась везти к нам в гости доктора Жакоба без ее приглашения. Она может еще нас так встретить…
Она, несомненно, гордый человек, но не гордячка. Всегда очень чутка и внимательна со слугами и вообще с простыми людьми, как их принято называть. Все соседи ее любят. Вот только ее страстишка всех поучать…
И в то же время до смешного гордится своими воинственными предками-полковниками и генералами, утверждает, будто происходит по прямой линии от легендарного свободолюбца Вильгельма Телля, и каждый год непременно, отправляется в Альтдорф на торжества в его честь.
Гордится воинственными предками, а сама во время войны через Красный Крест столько помогала интернированным французам, русским, чехам, бежавшим к нам из Германии и здесь угодившим в лагеря! Хотя, может, готовность помогать обиженным и притесняемым у нее тоже от Вильгельма Телля?…
Она и сейчас воюет за правду и справедливость, самая уважаемая активистка во всех женских союзах.
Но ведь и доброта может приносить кому-то зло. Я уверена, что это она выжила из дому папу. Очень любила мою маму, свою младшую сестру, и в слепоте этой любви всегда нападала на отца, вот он и сбежал из дома и сгинул без вести где-то во Франции. А мама от этого рано умерла. Наверное, тетка понимает это, она же умная женщина, да гордость мешает признаться…
Нет, все-таки я ее очень люблю. А вот к дяде Францу была как-то совсем равнодушна. Даже не замечала, что он целыми днями пропадает в своем банке. Ужасно, что теперь тетя так страдает и в нашем доме все переменилось…
Доктор Жакоб, о котором я забыла, занятая своими мыслями, что-то спросил у меня. Я не расслышала и вопрошающе посмотрела на него.
— Мы не проскочим поворот к вашему дому? — повторил он.
Я смутилась.
— Да, сейчас будет поворот. Вон там, у дорожного кафе.
— Хорошо.
Возле кафе с огромной рекламной надписью на кирпичной торцовой стене: «Молочный шоколад «Линда» незаменим!» — Жакоб притормозил.
— Сворачивайте вот на эту дорожку, где кипарисы.
Через десять минут мы уже остановились перед нашим уютным домом, окруженным столетними буками. Домик у нас веселый — белые стены, зеленые жалюзи. Мы вылезли из машины, и я распахнула перед гостем калитку, по бокам которой, как часовые, стояли высокие вазоны с фиолетовой и розовой геранью.
— Милости прошу, — сказала я, хотя в душе была не очень уверена, как нас встретит тетя.
Навстречу нам уже бежала Розали, придерживая на голове накрахмаленную наколку. Под яблоней, опершись на лопату, стоял Антонио в кожаном фартуке и с любопытством разглядывал моего спутника. Хоть бы поклонился, нахал.
Мои опасения, к счастью, не оправдались. Тетка оказалась в хорошем настроении и приняла нас приветливо. Доктора Жакоба я представила ей как своего старого знакомого, инженера, недавно вернувшегося из Франции.
— Он производит приятное впечатление, — милостиво кивнула тетя, когда Жакоб ушел в отведенную ему комнату, чтобы переодеться к ужину. — Не слишком красив, правда, но теперь вообще нет красивых мужчин. Люди ужасно измельчали. Хорошо, что ты его привезла. Тебе полезно развлечься.
Мне не очень понравилось, как внимательно осматривал все вокруг доктор Жакоб, словно заправский сыщик, выискивающий преступников. Но когда мы вышли на террасу, он меня обрадовал, сказав:
— Хорошо здесь у вас, уютное местечко. Строгая, мужественная красота, не такая конфетная, как у нас, на Лазурном берегу. А что это за крыши виднеются среди зелени?
— Там небольшая деревушка и маленький кирпичный завод, — пояснила я.
К ужину, как обычно, пришел старенький доктор Ренар и за столом, по привычке, начал ругать современную медицину — «все эти патентованные средства и новомодные теории». Я очень боялась, что Жакоб не удержится, ввяжется в спор и выдаст себя. Но он, показав незаурядный актерский талант, весьма правдоподобно изображал полного профана в медицинских вопросах, пожалуй, даже чуточку переигрывал, как мне стало казаться к концу ужина.
Создался один опасный момент, когда доктор Ренар завел разговор о фрейдизме: он его тоже относит к числу новомодных теорий. По-моему, Жакоб чуть не выдал себя, показав подозрительную осведомленность в этом вопросе. Да еще один раз он в забывчивости проделал свою штучку с горящей сигаретой. Но, к счастью, никто, кроме меня, этого не заметил.
В общем, ужин прошел благополучно. Только в самом конце, когда подали сыр и фрукты, я с тревогой заметила, что тетя вроде бы становится рассеянной и задумчивой и словно пытается что-то вспомнить.
Мы с доктором Ренаром переглянулись украдкой, хорошо зная уже, чем обычно кончается такая задумчивость…
Но ничего не произошло. Мы встали из-за стола. Тетя ушла на кухню, чтобы дать распоряжения на завтрашний день. Хороший признак. Значит, доктор Жакоб ей в самом деле понравился, она хочет угостить его на славу.
— Я вам не нужен, Кло? — многозначительно спросил меня доктор Ренар.
— Нет, дорогой доктор… По-моему, нет.
— Будем надеяться, — не слишком уверенно пробормотал он, покачивая седой головой. — Тогда я пойду, дорогая. Не буду вам мешать.
Он заговорщицки повел глазами из-под мохнатых бровей на доктора Жакоба, рассматривавшего картины в дальнем углу комнаты.
— О, вы нам совсем не мешаете, — смутилась я. — Может, вас проводить?
— Нет, вам за мной не угнаться. Вы же бродите, как сонные мухи. А ходить надо быстро, энергично, по-военному.
Быстрая ходьба в гигиенических целях — один из пунктиков доктора Ренара. Заводить с ним по этому поводу разговоры опасно. Я поспешила пожелать ему доброй ночи, и он зашагал по тропинке чеканным строевым шагом.
Мы с доктором Жакобом спустились в сад, отошли в глухую аллейку подальше от дома, и я спросила его с замиранием сердца:
— Ну?
— По-моему, ваша тетушка совершенно здорова. Конечно, стоило бы проверить у нее рефлексы и сделать кое-какие анализы… Ладно, ладно, не сердитесь… обойдемся без них, — засмеялся он. — Реакции вполне нормальные, мыслит она совершенно здраво, и беседовать с ней интересно. Никаких патологических отклонений я не заметил. По-моему, она совершенно нормальна…
И тут мы услышали за кустами жимолости напряженный, прерывающийся от неподдельного волнения тетин голос:
— Да, моя вера все укрепляется. Последние сомнения исчезают, ваше… Простите, но… Я не знаю, как же вас называть? Апостол? Просто апостол? Странно, а я хотела вас назвать словно епископа: ваше преосвященство…
Переглянувшись, мы с доктором начали осторожно пробираться сквозь кусты. Они предательски шелестели и раскачивались.
— Я сделаю все, что требует голос. Вы могли бы и не приходить, зачем вам беспокоить себя…
Я раздвинула кусты и увидела тетю, стоящую на коленях посреди пустой лужайки. Она была совершенно одна. Но смотрела прямо перед собой так пристально, словно отчетливо видела кого-то и, ничуть не удивляясь, разговаривала с ним:
— Да, конечно, вы правы. Порой меня все еще одолевают сомнения, но теперь я окончательно уверилась. Как я могу не верить вам?!
Тетка вдруг обернулась в нашу сторону, и я поспешила выйти из кустов, чтобы она не заметила спрятавшегося доктора Жакоба.
— Это ты, Клодина? — с облегчением спросила тетя. — Фу, как ты меня напугала! Что за скверная привычка подкрадываться исподтишка. Ты уже вышла из того возраста, когда играют в дурацких индейцев.
И тут, словно спохватившись, она повернулась к пустоте, низко поклонилась, почти до самой земли, и добавила:
— Ради бога, простите ее, апостол. Она еще так неразумна.
Потом тетя повернулась ко мне и строго спросила:
— Почему ты не здороваешься?
— С кем?
— Это же апостол Петр, разве ты не узнаешь? Он снова пришел, чтобы укрепить мою веру. Что ты молчишь?
Лицо ее потемнело от гнева, она поспешно вскочила на ноги и крикнула мне, грозя кулаком:
— Что ты смотришь на меня как на сумасшедшую? Снова станешь уверять, будто я разговариваю сама с собой, да? Будешь притворяться, что не видишь его?! Вот он, вот! Это же апостол Петр. Не видишь? Тогда уходи, не мешай нам. Уходи! Убирайся прочь!
Пятясь в кусты, я с ужасом смотрела, как она снова рухнула на колени и униженно запричитала, кланяясь пустоте:
— Не сердитесь на нее, дорогой апостол. Она часто выводит меня из себя, но это ведь не со зла, я знаю. У нее доброе сердце…
Мы с доктором Жакобом выбрались из кустов, торопливо прошли одну аллею, свернули в другую, потом так же молча прошли в самый конец сада. И тут я без сил упала на скамейку и сквозь слезы спросила:
— Видели?
Он молча кивнул.
— А вы говорите — нормальна… Что же мне делать? Может, сбегать за доктором Ренаром?
— Разве он знает, как с этим бороться?
Я безнадежно покачала головой.
Доктор Жакоб надолго замолчал, в задумчивости жадно затягиваясь сигареткой.
— Дайте и мне закурить, — попросила я.
— Что? Ах, пожалуйста. Извините, что я сам не предложил.
— Ой, но что же мне делать? — простонала я. — То волк, то цыган с медведем, а теперь еще апостол Петр. Она в самом деле видит его?
— Вероятно, да. Вы разве не заметили, что зрачки у нее все время перемещались, то сужались, то расширялись, как бывает всегда, когда мы следим за движущимся предметом? Очень любопытно! У нервных больных бывают весьма красочные галлюцинации. Видимо, я ошибся, ее все-таки нужно показать опытному психиатру. Я поговорю с профессором Рейнгартом, мне он не откажет…
— Значит, вы думаете, она все-таки сходит с ума?
Доктор Жакоб неуверенно пожал плечами и спросил:
— Как часто повторяются у нее такие припадки? Регулярно?
— Нет. По-моему, не регулярно. Постойте… Мне кажется, последний раз она видела у нас в саду волка на прошлой неделе. Надо справиться у доктора Ренара: он ведет дневник и записывает туда все подобные случаи с теткой
— Вот как?
— Да, он даже написал заметку в какой-то научный журнал. Разумеется, не упоминая ее фамилии. Мы можем даже предвидеть наступление таких видений. Разве вы не заметили, что к концу ужина она стала вдруг задумчивой и рассеянной?
— Нет.
— Какой же вы психолог?…
— Пожалуй, я заметил, что она чем-то озабочена. Я психолог, но не психиатр, не придал этому особого значения. Мало ли у хозяйки, принимающей незваного гостя, может оказаться забот по дому?
— А мы с доктором заметили и насторожились. Она всегда перед видениями делается рассеянной, задумчивой, словно пытается вспомнить что-то…
— Вспомнить что-то… — пробормотал он, и вид у него стал вдруг такой рассеянный, что я перепугалась.
— Что с вами?
— Ничего. Просто размышляю.
— А я уж подумала…
— Подумали, что на меня тоже… накатывает? — Он засмеялся. — Нет, мне, кажется, пока не грозит. Никакие видения меня не посещают. И сны вижу вполне нормальные. Так что за меня не бойтесь…
— Ну, а с тетей?
— Во всяком случае, задача оказалась посложнее, чем я предполагал, — уклончиво ответил он.
— Выходит, рано вы усмотрела в этом детектив и упрекали неведомых шарлатанов? Видите, я была права: нельзя так дурно думать о людях.
Он пожал плечами.
— Значит, она больна… И серьезно? Можно надеяться, что поправится?
Доктор Жакоб начал рассказывать что-то не очень связное об успехах современной психиатрии и в то же время о сложности и малоизученности человеческой психики…
И тут в конце аллеи показалась тетя и как ни в чем не бывало окликнула нас:
— Вот вы где! Я ищу, зову. Я принесла тебе шаль, Клодина. Накинь, а то простудишься. Уже темнеет, и ветер поднимается с гор.
— Спасибо, тетя.
— Шли бы в дом. И вообще дай гостю отдохнуть с дороги. Завтра успеете наговориться.
Мы направились все вместе к дому. Тетя была мила, говорлива, приветлива. Кутаясь в шаль, я слушала, как они светски болтали о погоде и о всяких пустяках с доктором Жакобом, словно ничего и не было.
Мне стало так грустно, что, торопливо попрощавшись с доктором Жакобом и сославшись на головную боль, я поспешила уйти в свою комнату. К счастью, ему тоже, кажется, не хотелось долго засиживаться.
Я лежала в темноте и с ужасом думала, что заснуть опять не удастся.
Из деревни доносился лихой переливчатый йодль [1]. Певец старался изо всех сил.
Я зажгла свет, нашла в шкафчике медомин и приняла сразу три таблетки.
Позорное изгнание
Проснулась я поздно, с тяжелой головой и каким-то чувством безотчетной тревоги.
«Хороша! — мысленно ругала себя я, поспешно причесываясь. — Пригласила гостя и бросила на произвол судьбы».
Розали сказала, что тетя еще не выходила, а господин инженер давно встал и гуляет в саду с доктором Ренаром.
Я поспешила к ним, опасаясь, как бы доктор Жакоб не выдал себя, увлекшись медицинскими разговорами со стариком.
Опасения мои оказались не напрасны. Сбегая по ступенькам террасы, я услышала голос Жакоба:
— Значит, вы ее гипнотизировали несколько раз?
— Да, — с гордостью ответив доктор Ренар. — И, представьте, весьма успешно. Всего восемь сеансов, и она бросила курить. Не курит по сей день. Отличные результаты, а?
— Неплохие результаты, — довольно мрачно ответил Жакоб.
Они медленно шли по аллее, но еще не видели меня.
— А скажите… — начал доктор Жакоб.
Чтобы помешать им вести опасную беседу дальше, я крикнула:
— Доброе утро! А я проспала.
Они остановились и непонимающе смотрели на меня.
— Доброе утро, Кло, — церемонно поклонился доктор Ренар. — Терять лучшие часы в вашем возрасте закономерно, хотя и не простительно. Что говорит народная мудрость? «Кто рано ложится и рано встает…»
— «…богатство и счастье себе наживет», — ироническим тоном подхватил Жакоб.
— Милый доктор Ренар, — сказала я, беря старика под руку и сердито посмотрев на Жакоба, — с возрастом я постараюсь стать благоразумной и всегда следовать вашим советам.
— Начинайте немедленно, — засмеялся Ренар. — Могу вам сказать, дорогая, что утренняя прогулка на свежем воздухе да еще в приятном обществе вполне компенсирует тот вред, который вы нанесли своему здоровью, проспав слишком долго. Займитесь этой приятной лечебной процедурой, я не стану вам мешать.
Приподняв шляпу, он учтиво поклонился доктору Жакобу и зашагал к дому.
Как только он отошел подальше, я спросила Жакоба:
— Что это вы устроили ему форменный допрос?
— Допрос?
— Я слышала, вы спрашивали, как он гипнотизировал тетку? Что в этом плохого? С помощью гипноза доктор Ренар действительно очень быстро отучил ее курить.
— Верю. И меня заинтересовало…
— Вы подозреваете в чем-то милого старика? Уж его-то я знаю не хуже, чем вы матушку Мари, — с детства. Он меня от дифтерита спас!
— Это, конечно, веское алиби, — сказал Жакоб и засмеялся. Но, видя, что я начинаю сердиться, поспешил добавить, беря меня под руку: — Не сердитесь. Поверьте, я в самом деле хочу вам помочь. Вам и вашей любимой тете. Я завел разговор с доктором Ренаром лишь потому, что он медик, к тому же человек весьма любознательный. Никто, кроме него, не может сообщить мне таких подробных и обстоятельных сведений о болезни вашей тетки, как он…
— Своими расспросами вы наверняка выдали себя. Он догадался, что вы тоже медик.
— Не думаю, я был осторожен. Просто выражал свое сочувствие на правах вашего старого друга…
— Благодарю вас! Представляю, что теперь доктор Ренар подумает о наших отношениях! Он и так уже все стремится оставить нас наедине.
— Но ведь эту маску — старого друга и талантливого инженера — вы для меня сами придумали. Ваше счастье, что я немножко разбираюсь и в технике, так что, кажется, старикан верит, будто я инженер.
— Ладно, пойдемте завтракать, а то тетя снова нас станет искать и тоже подумает, будто мы уединяемся, — сказала я.
Он смешно хмыкнул и с подчеркнутой покорностью зашагал рядом со мной к дому.
— Но только за завтраком не вздумайте допрашивать тетку! И доктора Ренара оставьте в покое, ладно?
— Хорошо. Мне только показалось, что все это весьма похоже на гипнотическое внушение.
— Что? — Я даже остановилась от неожиданности.
— То, что мы наблюдали вчера. Эта галлюцинация с явлением апостола.
— Вы хотите сказать, тетю кто-то загипнотизировал и внушил ей, будто она видит перед собой апостола? Но ведь перед этим она была совершенно нормальна. Кто же ее загипнотизировал? Доктор Ренар? Какая чепуха!
— Ей могли сделать внушение и раньше, до нашего приезда. Существуют так называемые постгипнотические явления. Человеку под гипнозом можно внушить, что через определенное время он должен что-то сделать. Или увидеть что-нибудь: скажем, цыгана с медведем, апостола Петра, волка. Человек пробуждается от гипнотического сна и ничего не помнит о сделанном внушении. Но точно в назначенное время он выполнит приказ гипнотизера. Так называемое внушение на определенный срок. Очень интересное явление, к сожалению еще плохо изученное.
Он посмотрел на меня. Я молчала.
— И всегда перед тем, как выполнить внушенное задание, человек становится рассеянным и словно пытается вспомнить, что же именно надо сделать, — добавил он многозначительно. — Это и не давало мне долго заснуть. Я думал, думал…
— И с утра поспешили уличить преступника, узнав, что доктор Ренар увлекается гипнозом? — перебила его я — Неужели вы всерьез думаете, будто это он проделывает с тетей нелепые штуки?
— Успокойтесь, я вовсе не пытался его в чем-то уличать, этого забавного старичка. Я расспрашивал его лишь потому, что человек, подвергавшийся раньше гипнозу и поверивший в его целебную силу, как ваша тетя, значительно легче поддается новым гипнотическим внушениям.
— Ну, а кто же ими занимается? Признайтесь, вы все-таки грешите на доктора Ренара? Или вам кажется опасной наша кухарка Лина? За ужином вы так подозрительно на нее поглядывали.
— Пойдемте-ка лучше завтракать, — ответил он. — Я вам докажу, что целиком доверяю вашей чудесной кухарке. Или вы решили в отместку уморить меня голодом?
Но позавтракать нам не удалось.
Когда мы подошли к дому, на террасе нас поджидала тетя. Вид ее не предвещал ничего хорошего. Но то, что мы услышали, оказалось неожиданнее землетрясения или конца света.
— Жулик! — гневно выкрикнула вдруг тетя, грозя пальцем Жакобу. — Я знаю о вас все. Вы — наглый шарлатан, выдающий себя за ученого. Убирайтесь вон из моего дома! Я не желаю вас больше видеть.
Мы с доктором окаменели и замерли перед нею, словно две статуи.
Наконец я пробормотала:
— Но, тетя… Что случилось? Откуда ты взяла, будто тебя обманывают?
— Мне сказал голос. Он мне все объяснил, все ваши коварные планы, — ответила она и, нахмурившись, снова прикрикнула на Жакоба: — Что же вы ждете? Я же сказала ясно: убирайтесь. Вон!
Пожав плечами, мой неудачливый гость нерешительно направился к ступенькам, ведущим на террасу, стараясь обойти тетю подальше.
— Куда вы идете? — закричала она, преграждая ему дорогу. — Я не дам вам переступить порог моего дома!
— Но… мои вещи, — пробормотал Жакоб.
— Ваши вещи уже в машине. Все цело, можете проверить. У нас в доме жулья нет.
Посмотрев жалобно на меня и опять обескураженно пожав плечами, доктор Жакоб коротко поклонился тете, взиравшей на него с высоты террасы с непередаваемым отвращением и ненавистью, — словно боднул ее лобастой стриженой головой — и покорно поплелся к воротам.
Ужасно!
Щеки у меня горели. Я прикрыла их ладонями, но все равно жгучий пламень стыда вырывался наружу.
— Как ты могла, тетя! — сказала я. — Как ты посмела! Ты совсем…
— Я совершенно нормальна, — прервала она меня и пристально посмотрела мне в глаза. — Не как некоторые в этом доме. Или вы сговорились выдать меня за ненормальную и запрятать в сумасшедший дом?
Ужасный смысл этого намека тогда не дошел до меня…
Махнув рукой, я опрометью бросилась вслед за доктором Жакобом.
Он стоял уже возле своей машины и, склонив голову, слушал доктора Ренара, который говорил:
— Вы должны ее извинить. Ведь она больной человек, вы же видите сами.
— Конечно, она была сейчас совсем невменяемой, — подхватила я, подбегая к ним. — И мы сами виноваты: устроили этот спектакль, зачем-то обманули ее, выдавая вас за инженера…
Доктор Жакоб поднял голову и повернулся ко мне. Он улыбался.
Я думала найти его взбешенным, обиженным, мрачным. Он весело улыбался. И вовсе не притворялся: ему в самом деле почему-то стало весело. Странный человек! Ни капельки самолюбия…
— Чему вы радуетесь? — удивилась я.
Теперь он уже расхохотался:
— Очень забавно получилось. А вдобавок еще вы, похоже, хотите закатить мне сцену. Не слишком ли много для одного утра? Учтите: я так и не позавтракал.
— Тем более не понимаю вашего веселого настроения.
— Ну, хватит пикироваться, — остановил нас доктор Ренар. — Вы не дети. Получилось довольно глупо, но вы сами виноваты. Не надо было обманывать ее, хотя, я понимаю, преследовали вы лучшие намерения. Сегодня утром я начал кое-что подозревать: уж больно вы дотошно расспрашивали меня о сеансах гипноза, уважаемый коллега. Показали хорошую осведомленность, весьма странную для инженера. Еще несколько таких бесед, и я бы вас раскусил, можете не сомневаться. У меня глаз наметанный.
— Но откуда же тетя узнала? — пробормотала я.
— Вы же слышали: ей сказал об этом голос, — серьезно ответил Жакоб.
— И вы верите? — опешила я.
— «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», — торжественно процитировал доктор Ренар, наставительно подняв палец.
— Мы с доктором — материалисты и верим только фактам, — почтительно склонив голову, словно перед этими самыми фактами, ответил Жакоб. — Раз она слышит голос, да еще такой всеведущий, мы должны ей верить.
— Ничего не понимаю. Вы меняетесь, как хамелеон, — поразилась я. — И взгляды ваши меняются с каждым часом. То видите в этом загадочное преступление, то начинаете всерьез уверять меня в реальности «небесных голосов». Что вы за человек? Ладно, бог с вами. Скажите: это излечимо? Ей можно помочь?
— Безусловно. Мы обязаны ей помочь.
— Мне очень нравится ваш оптимизм, дорогой коллега, — вздохнул доктор Ренар. — И поверьте, я высоко ценю ваши труды, — мы здесь, в деревенской глуши, следим за наукой. Знакомство с вами для меня большая честь, и я надеюсь, что мы еще побеседуем о научных проблемах подробнее в нормальной обстановке, когда нам никто не будет мешать. Во всяком случае, двери моего скромного дома всегда открыты для вас. — Он церемонно поклонился; доктор Жакоб ответил ему тем же. — Но, боюсь, данный случай слишком сложен, слишком сложен, коллега. Поверьте мне, старику. Я ведь наблюдаю за ее заболеванием давно, с самого начала. Очень любопытно, но совершенно загадочно и непонятно. Все темно, все.
— Ничего, попробуем разобраться, — бодро ответил доктор Жакоб. — Вы правы: дело действительно темное, Но мне кажется, кое-какой свет уже забрезжил… — Повернувшись ко мне, он ласково взял меня за руки и добавил: — Мы спасем вашу тетю. Верьте мне. Я уезжаю, но докопаюсь до истины. До свидания! Я буду вам звонить. А вы ни на минуту не оставляйте тетю одну. Ни на минуту!
Поездка на шабаш
Признаться, я не слишком поверила и подозревала, что доктор Жакоб просто утешал меня, успокаивал бодрыми обещаниями, а сам воспользовался удобным случаем, чтобы ретироваться и больше не связываться с этим загадочным делом.
Но я ошиблась. Уже на второй вечер вдруг настойчиво зазвонил телефон, и, взяв трубку, я услышала знакомый насмешливый голос:
— Добрый вечер! Что новенького в вашем милом доме? Какие видения посетили с тех пор, как мы так трогательно расстались?
— Здравствуйте, — ответила я. — Слава богу, у нас все спокойно.
— Почему же я не слышу ликования? Отчего вы невесело отвечаете? Чем-нибудь расстроены? Мне казалось, мой голос вас должен обрадовать: ведь он вполне земной, не небесный.
— Я уж боялась, что не услышу ею больше. Но мне не нравится, когда вы так легко говорите о вещах, которые мне вовсе не кажутся забавными.
— Просто у меня веселый характер. Но я действительно рад, что у вас все спокойно и благополучно. Это мне нравится.
Хорошо, что он не вспоминал о том, как позорно его выгнали. А я этого опасалась. После отъезда Жакоба у нас произошло весьма бурное объяснение, но тетя осталась при твердом убеждении, что поступила правильно, и ничуть не раскаивалась.
«Он жулик, жулик! Он обманул тебя. Мне все объяснил голос, — твердила она. — Я требую, чтобы ты прекратила знакомство с этим проходимцем. Или ты в сговоре с ним?»
Мне еле удалось ее успокоить. Надолго ли?
— Вы думаете, все кончилось? — спросила я с надеждой у Жакоба.
— Вряд ли. Но и я не сижу тут сложа руки. В доказательство хочу предложить вам небольшую, но, уверен, увлекательную поездку.
— Куда?
— В Берн. Приглашаю вас на колдовской шабаш. Надо же поближе познакомиться с поклонниками «космического пламени». Попробуем выяснить, почему именно за них так настойчиво ходатайствует загадочный «глас небесный». Что вы молчите?
— Я думаю.
— Пожалуйста. А я воспользуюсь случаем и проверю, насколько быстро протекает у вас эгот ответственный процесс.
— Не шутите. Мне хочется поехать…
— Отлично, завтра в девять утра я…
— Дайте мне договорить. А как же тетя?
— Что тетя? Она вам что-нибудь говорила? «Небесный глас» уже предупредил ее о нашей предстоящей прогулке?
— Нет, она ничего не говорила. Но вы велели не оставлять ее одну.
— Ничего страшною: раз она ведет себя спокойно, вы можете уехать. Это не надолго, к вечеру вы вернетесь.
— Хорошо, я попрошу доктора Ренара весь день побыть возле нее.
— Прекрасно. Только не говорите ему, куда мы с вами едем. Вообще не упоминайте обо мне. Придумайте визит к подруге или портнихе. Я жду вас утром к девяти в кафе, у поворота к вашему дому.
— Хорошо.
— До завтра. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — ответила я, уже положив трубку. Мне не понравилось, что Жакоб запретил говорить правду доктору Ренару. Как бы нам снова не завраться. Но не эго главное: видимо, он все еще подозревает старика. Нехорошо.
Все-таки я сделала так, как посоветовал Жакоб. Попросила доктора Ренара побыть у нас, сказав, будто уезжаю к заболевшей подруге. Он охотно согласился и, кажется, ничего не заподозрил. А тетя даже посочувствовала моей бедной подруге и стала меня уговаривать погостить у нее несколько дней. Она настояла, чтобы я непременно взяла машину. Мне не хотелось вызывать подозрений- пришлось согласиться.
«Ладно, — подумала я. — Оставлю наш громоздкий «оппель-капитан» на стоянке возле кафе. Надеюсь, никто из знакомых его не заметит».
Я боялась, как бы ночью таинственный голос не рассказал тете, куда и зачем я еду. Унизительные, трусливые мысли — я пыталась их гнать, уговаривая себя: «Как не стыдно, ты сама становишься суеверной психопаткой!» Но ведь уже был загадочный случай, закончившийся позорным изгнанием доктора Жакоба из нашего дома. Таинственный голос каким-то образом узнал о его визите и раскрыл наш обман. Как не поверить, что он всеведущ, этот голос?…
Согласитесь, что от таких мыслей поневоле станет не по себе.
Но в эту ночь тетя никаких голосов не слышала, хорошо выспалась, рано встала и даже успела позавтракать со мной.
От нашего дома до шоссе было пять минут езды, но, конечно, я опоздала.
Знакомый синий «мерседес» уже стоял возле кафе, а доктор Жакоб сидел за столиком под полосатым тентом и пил кофе. Я поздоровалась, подсела к нему и тоже заказала себе чашечку.
— А вы пунктуальны, — не удержался Жакоб. — Какие новости?
— Слава богу, никаких. Тетя спокойна и вполне нормальна.
— Голос пока замолк?
— Вроде да. А у вас что новенького?
— Тоже, пожалуй, ничего. Я проконсультировался насчет вашей тети с профессором Рейнгартом, навел справки о секте поклонников «Голосов космического пламени».
— Ну?
— Обыкновенные жулики, как я и говорил. Сами увидите. Кое с кем из них я уже сталкивался, — жалко, не удалось поймать с поличным. Ну, теперь не уйдут от меня.
— Почему же их не разгонят?
— Они околпачивают суеверных простаков в рамках законности. В части мистики и всяческих суеверий наши законы весьма либеральны, я же говорил. Суеверия в нашем мире отнюдь не считаются подрывной деятельностью, скорее наоборот. Видели, что продается в ларьке у входа в кафе?
— Нет. Я впервые захожу сюда, всегда проезжала мимо. А что там продается? Наверное, всякие сувениры и безделушки, как обычно?
— Не только. Вы можете приобрести «талисман принцессы Изольды», обеспечивающий успех в любви, купить плитку «драконовой крови», чтобы, растворив ее, в полночь зловещим шепотом твердить над нею губительные проклятия в адрес своих врагов. Уверяют, что они сгинут. И цены вполне доступные: свеча «от дурного глаза» стоит всего один франк, медяк с глаза покойника обладает более универсальным магическим действием и стоит соответственно дороже — десять франков и пять рапенов.
— Шутите.
— Ничуть. Весьма ходовой товар в здешних краях среди людей, живущих у подножия горы, которую они называют «Игрищем дьявола».
Я невольно посмотрела на сверкавшую вдали ледяную вершину Дьяблере. В самом деле, сколько мне рассказывали в детстве о злых духах, разгуливающих по ночам с маленькими фонариками по ее ущельям и горным пастбищам. Туда, рассказывала нянька, черти утаскивали души грешников, и, когда умирал кто-нибудь из прижимистых богатеев в округе, местные крестьяне так и говорили о нем: «Отправился на Дьяблере…»
Эта гора была резиденцией самого главного сатаны — грозного Водая, откуда он засылал в долины обвалы и лавины. А Гран-Мюверан, вздымающийся к небу чуть правее, служил Водаю чем-то вроде концертного зала. Там сатана тешился бесовской музыкой и плясками, зловещие отзвуки которых доносила к нашему дому вьюга зимними ночами.
— Суеверия тоже бизнес, — продолжал Жакоб. — И весьма доходный, приносит ловкачам миллионы. Но мы с вами засиделись, — оборвал он себя, поглядев на часы. — Едем?
— Едем.
Проходя мимо ларька, я на миг задержалась и глянула на витрину. Среди поддельных драгоценностей, аляповатых игрушек в псевдонародном стиле и пестрых баночек с патентованной косметикой в самом деле торчала толстая розовая витая свеча. На ярлычке было написано: «От дурного глаза. Цена 1 фр.». А рядом лежал на черном бархате старый, истертый, позеленевший от плесени медяк. Он стоил десять франков и пять рапенов, — значит, верно, обладал «магической силой».
Доктор Жакоб уже сидел в машине и нетерпеливо окликнул меня. Я поспешила к нему, и мы двинулись в путь.
— Я все думала… Неужели вы в самом деле считаете, будто мою тетку кто-то гипнотизирует? — первым делом спросила я.
— Весьма похоже на это. Гипнотическое внушение могущественно. Оно может без огня вызвать ожог у совершенно нормального человека и заставить заговорить немого, разумеется, если у него было не органическое нарушение речи, а заболевание на нервной почве. Под влиянием гипнотического внушения люди, никогда прежде не бравшие в руки кисть, вдруг начинают рисовать неплохие картины, да еще подражая при этом то Рембрандту, то Рафаэлю, то Пикассо, в зависимости от приказания гипнотизера.
— По-вашему, так просто стать Рембрандтом или Пикассо? — спросила я.
— О, простите, я забыл, что вы художница, — засмеялся Жакоб. — Но под влиянием внушения некоторые действительно начинают довольно прилично рисовать. Или в поразительно короткие сроки овладевают иностранными языками…
— Обучение во сне? Я что-то слышала об этом.
— Гипнопедия, — кивнул он. — Такие опыты ведутся в разных странах и дают очень любопытные результаты. Человек спокойно спит и в то же время слушает сквозь сон по радио негромкий убеждающий голос…
Я посмотрела на него:
— Это очень похоже на то, что происходит с тетей! Но у нее нет в спальне никакого приемника. Она вообще не любит радио, редко слушает даже музыку. И кто же ей может внушать всякие нелепицы?
— Пока не знаю. Но согласитесь, это весьма похоже па внушение. Она ложится спать совершенно нормальной, а утром вдруг объявляет, что слышала голос. И таинственный голос приказывает ей выгнать меня из своего дома. Тут дело нечисто — вот вам первая улика. Голос перестарался и выдал свое вовсе не божественное происхождение. Он явно принадлежит человеку…
— И человек этот знал, что вы приехали к нам! — пробормотала я.
— Вот именно. Очень любопытная улика.
— Но вы подозреваете доктора Ренара? Нет, не может быть! Я же его так хорошо знаю с детства. Какие цели он может преследовать? Вы ошибаетесь!
— Я пока ничего не утверждаю. Только собираю факты и размышляю над ними. Это вы все время твердите о докторе Ренаре.
— Но вы же явно его подозреваете! И кто еще мог знать о вашем приезде к нам? Нас было всего четверо за ужином. Тетка поверила, будто вы инженер. Только доктор Ренар уже начал догадываться, что мы их обманываем, — он же сам говорил вам об этом.
— Не будем строить слишком поспешных гипотез, — мягко сказал Жакоб. — Они легко становятся шорами и мешают потом замечать даже весьма очевидные вещи.
Ри-ми-ля, — заставив меня вздрогнуть, неожиданно протрубил рожок встречного автобуса, из окон которого выглядывали смеющиеся туристы.
Мы уже миновали Вильнев, притиснутый горами к самому озеру. Начиналась Швейцарская Ривьера, наш Лазурный берег. Автобусы с туристами, поток машин, окутанных бензиновой вонью. Мы влились в него и стали застревать у каждого светофора.
Длинный черный «кадиллак» загородил дорогу, и Жакобу пришлось резко затормозить. Похоже, он хотел выругаться, но, покосившись на меня, продолжал:
— Силой внушения начинают пользоваться все шире и активнее. В одной из токийских школ, например, мой коллега Такэхито Мицукава уже лет семь ведет интересные опыты по обучению детей под гипнозом. Они форменным образом крепко спят на уроках и, представьте, отлично усваивают самые сложные предметы. В последние годы начали увлекаться гипнозом и японские бизнесмены. Их обслуживает специальный Центр промышленной психологии.
— Бизнесменам-то зачем гипноз? — удивилась я. — Не понимаю.
— На внушении основана вся реклама! Вы не отдаете себе отчета, что подвергаетесь различным внушениям буквально на каждом шагу. Хорошо, у нас в Швейцарии запрещены хоть рекламные щиты на дорогах, а то мы тратили бы куда больше денег, чем сейчас, на совершенно не нужные нам вещи. А в Америке не были? Ездить по их роскошным дорогам сущее мучение — так отвлекают рекламы. И западают в память, хотите вы или нет. Недавно американские психологи проделали любопытный опыт. В обычный фильм вклеили с интервалом в пять секунд кадрик с рекламным призывом: «Ешьте жареную кукурузу!» Надпись проскакивала за одну трехсотую секунды, так что человеческий глаз не успевал ее заметить, а мозг — осознать. Никто из сорока пяти с лишним тысяч зрителей, ставших участниками эксперимента, ничего решительно не подозревал. Но, расходясь после кино, они раскупили в ближайших ларьках жареной кукурузы в полтора раза больше, чем обычно.
— Вы так спокойно об этом рассказываете, даже с удовольствием, — мрачно сказала я. — А ведь, если вдуматься, это ужасно. Настоящее насилие над личностью!
— Вы правы, — согласился он. — Внушение становится весьма опасным психологическим оружием, попадая в нечистые руки. С древнейших времен силой внушения пользуются жрецы, попы, шаманы, проповедники. Что же удивительного, когда ее берут на вооружение и современные гангстеры? Конечно, делают они это на широкую ногу, с применением новейших достижений науки и техники.
— Вы меня пугаете. Я в самом деле начинаю верить, будто вокруг моей тети плетут сети хитрые злодеи. Если вы хотели таким способом доказать мне силу внушения, то своего добились.
— Это не внушение, — засмеялся он. — Для изучения массовых внушений много сделал большой русский ученый Бехтерев, — не слышали о таком? Он образно говорил, что внушение, в отличие от убеждения, уговоров, как бы проникает в наше сознание с заднего крыльца, а не с парадного хода, минуя сторожа — логическую критику. Я вас убеждаю, рассуждаю логически, привожу примеры и доказательства. А вот когда я прикрикну на вас: «Спать!» — и вы немедленно уснете, тогда будет внушение. Или прикажу вам поцеловать меня…
— А вы в самом деле умеете гипнотизировать? — с опаской спросила я.
— Умею. И довольно неплохо.
Я невольно отодвинулась от него, хотя это и выглядело смешным.
— Но у вас карие глаза… И внешность совсем не демоническая.
— А какими они должны быть: черными, жгучими, пронзительными? — засмеялся Жакоб. — Боже мой, сколько всякой чуши болтают о гипнозе! Особенно люди культурные, интеллигентные, образованные. Не бойтесь: без вашего желания я вас гипнотизировать не стану. Это практически невозможно.
— Нельзя усыпить человека против его желания?
— Очень трудно. Известны лишь считанные случаи, когда это удавалось, да и то достоверность их сомнительна.
— Но тогда рушится вся ваша такая стройная гипотеза, — с торжеством сказала я. — Кто мог загипнотизировать тетю и внушать ей всякие глупые поступки? Она человек с характером, весьма скептическая и здравомыслящая женщина, как вы сами убедились. Не сходятся у вас концы с концами, уважаемый Шерлок Холмс от психологии.
— Ну, во-первых, загадочный голос делает внушения во сне. Это тоже улика. Обычный, естественный сон довольно легко перевести в гипнотический, и человек этого вовсе не заметит. Да и, собственно, гипноз тут не нужен. Мы же с вами говорили о гипнопедии. Это нельзя назвать гипнозом: просто человек невольно запоминает то, что слышал сквозь сон. Но вот чтобы вызвать разные видения, галлюцинации — не во сне, а уже наяву, — непременно нужно гипнотическое внушение. Так что, если я прав в своих предположениях, ваша тетя подвергается весьма умелому и тонко продуманному воздействию, да еще, судя по всему, с применением каких-то пока непонятных мне технических средств…
— На что вы намекаете? — испугалась я.
— Не могу понять, каким же образом добирается до нее таинственный голос. Вы говорите, никакого радиоприемника у нее в спальне нет…
— Нет, ничего подобного! Ни в спальне, ни в соседних комнатах. Только транзистор у меня в комнате.
— И в столовой радиола, — добавил он.
— Да, про нее я забыла. Купили мы ее по моему настоянию, чтобы развлекать гостей, и очень редко включаем. Тетя не поклонница музыки, я же говорила. Вечерами она предпочитает поболтать с доктором Ренаром.
— И все-таки она слышит голос. Откуда он доносится? Как добирается до ее спящего мозга? Пока мы этого не поймем, будем топтаться в темноте, — задумчиво проговорил он.
Наконец-то мы миновали Лозанну, свернули на Бернское шоссе и вырвались на простор. Жакоб с радостью прибавил скорость: деревья по краям дороги так и замелькали, сливаясь временами в сплошной забор.
Места здесь были живописнее, чем в наших горных долинах. Вдоль дороги тянулись огородики и поля — желтая пшеница, красное просо, светлая зелень капустных кочанов, — как цветные платки, расстеленные после стирки; кое-где на полях торчали забавные пугала на высоких шестах, с головами из толстых, узловатых корней и с длинными бородами из пакли, развевающимися на ветру, — для устрашения не только птиц, но и злых духов.
А вдали по краю неба тянулись туманной грядой в синеватой дымке горные хребты Юры. Они были не так суровы и круты, как Альпы. Их мягкие, пологие склоны, курчавые от лесов, радовали глаз.
— Значит, вы уже не грешите на добренького доктора Ренара? — спросила я у Жакоба, повеселев.
Он посмотрел на меня и улыбнулся:
— Нет. Ему это явно не по силам.
— Не очень успокаивающее утешение. Может, вы и правы. Но я не понимаю одного…
— Чего?
— Зачем тогда им понадобилось внушать тете всякие глупые видения: цыган с медведем, волк в саду. Не вяжется с вашей гипотезой.
— Наоборот, подтверждает ее, — оживился Жакоб. — Эти галлюцинации внушались для отвода глаз: чтобы заставить окружающих думать, будто ваша тетя свихнулась на религиозной почве, и таким образом толкнуть нас на ложный след.
— Может, вы и правы, — задумчиво пробормотала я.
— Надеюсь, скоро вы убедитесь.
«Голоса космического пламени»
В большом селении возле озера Муртензее мы попали в толпу певцов-йодлеров, собравшихся, видно, со всей округи на репетицию перед своим традиционным праздником. Они издавна проводятся в здешних краях весьма торжественно каждые три года в Винтертуре — столице певческого края.
Названивали колокола, нарядно одетые детишки возле школы громко и нестройно выводили «У колодца близ ворот». Повсюду развевались флаги: бело-голубые знамена Цюриха, красно-желтые с медведем — Берна, флаги других кантонов с изображениями лебедей, львов, единорогов — целый геральдический зверинец.
Зрелище было весьма красочным: в разных местах то и дело мизансценами возникали очень живописные группы. Я даже пожалела, что не захватила этюдника. Хотя давно уже не брала его в руки — последнее время было не до этого…
Улицы бурлили, кипели. И конечно, повсюду пробовали голоса певцы, шумной толпой заполнившие улочки. Они старались вовсю, и от резких переходов с высоких нот на низкие, почти басовые, так звенело в ушах, что я зажала их ладонями. А тут еще со всех сторон трубят в длинные альпийские рога — настоящая какофония! Мы с Жакобом не слышали друг друга, только смеялись и качали головами, пока машина медленно пробиралась сквозь толпу.
Приятно было вырваться наконец снова в сонную тишину полей.
— Кстати, йодли тоже родились из суеверий, — сказал Жакоб, усаживаясь поудобнее и прибавляя скорость. — Из древнего обычая пастухов в горах постоянно петь и перекликаться с товарищами, чтобы развеять страх одиночества и отогнать злых духов.
— В таком количестве это сильно действующее средство, — засмеялась я. — До сих пор в ушах звенит.
Эта веселая сутолока задержала нас, так что добрались мы до Берна только во втором часу.
— Наверное, уже начали, — озабоченно сказал Жакоб, посмотрев на часы. — Кофейку выпить не придется.
Мы промчались по старому мосту через Ааре и, сразу сбавив скорость, начали плутать в паутине узеньких улочек и бесчисленных площадей, загроможденных аляповатыми фонтанами. Все они были одинаковы: колонна с кранами, из которых льется вода в бассейн, окруженный цветущей геранью — нашими, можно сказать, национальными цветами. На колонне торчит статуя какого-нибудь святого или аллегорическая фигура. Все они поставлены в средние века и принадлежат чаще всего одному и тому же мастеру, прославленному Гансу Гингу, и оттого тоже так похожи друг на друга, что начинало казаться, будто мы всё кружим по одному месту.
— Кажется, здесь, — сказал наконец Жакоб, останавливая машину на площадке у какого-то тесного переулочка.
Мы вышли из машины и направились в переулок, сумрачный от затенявших его каменных аркад, протянувшихся сплошной галереей. В нем было довольно многолюдно, и все прохожие спешили в одну сторону. Мы присоединились к ним и вскоре оказались перед старым двухэтажным домом с облупившимися стенами, У дверей толпились люди, прислушиваясь к доносившимся из дома трубным звукам. Потом раздался размеренный мужской голос. Но что он вещал, нельзя было разобрать.
— Обойдем с тыла, — решительно сказал доктор Жакоб и потянул меня за руку в позеленевшую от времени и дождей литую ажурную калитку.
Она оказалась незапертой, но за нею нам преградил дорогу тщедушный очкастый юнец с рыжеватой всклокоченной бородкой.
— Мы от «Братства весенних лунотипистов», — внушительно сказал Жакоб, вперяя в юнца мрачный взгляд.
— Добро пожаловать, брат и сестра, — поспешно ответил тот.
— Вторая дверь направо?
— Нет, третья. — Юнец отступил, открывая дорогу.
Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице с истертыми ступенями, открыли третью дверь направо и оказались на невысоких антресолях, откуда был хорошо виден полукруглый зал, забитый людьми. Их лица смутно белели в полутьме. Больше было стариков, особенно старух, но немало, кажется, и молодежи.
Рассматривать лица было некогда: уж очень меня поразил сам зал.
Он весь был затянут черной тканью, и на этом фоне повсюду светились мерцающие точки, как звезды. От этого зал казался беспредельным, будто Вселенная.
По карнизу тянулись непонятные значки и восточные письмена. Светящиеся точки не только мерцали, как звезды, но и перемещались по черным стенам, завораживая взгляд. А в глубине зала на стене то разгоралось, то меркло большое светящееся пятно, меняя свой цвет и форму. Оно то казалось багровым солнечным диском, то голубоватой звездой, то принимало форму какого-то октаэдра.
От мерцающего пятна причудливые, переливающиеся блики падали на высокого человека в серебристом одеянии, плотно облегающем худощавое, стройное тело, на манер костюма астролетчика, какими их изображают на рисунках к научно-фантастическим романам. Лица человека почти не было видно, оно все время пряталось в тени. Но громкий, размеренный голос его разносился по всему залу.
И самое поразительное было то, что вещал это хорошо поставленный баритон:
— Наука каждый день демонстрирует нам свое могущество, раскрывая все новые и новые сокровенные тайны природы и посрамляя неверующих. То, что вчера еще многим казалось нелепостью, становится неопровержимой истиной. Нет в мире ничего сверхъестественного. Есть только вещи, уже познанные наукой, и явления, пока еще доступные лишь откровению избранных. Но завтра и они станут истиной для миллионов. Кто может сомневаться в этом?
Я не верила своим ушам: настоящий панегирик науке!
— Кто поверил бы всего двести лет назад, что люди станут летать по воздуху, как птицы, нырять в глубины океанов, подобно китам, переговариваться между собой за тысячи километров? Каждого, кто стал бы утверждать такое, объявили бы опасным маньяком или колдуном. А теперь это уже никому не кажется чудом. Но на смену прежним заблуждениям упорствующих скептиков приходят новые. Верят в существование атомов и электронов, но отказываются поверить в столь же естественную возможность обмениваться мыслями и чувствами через любые расстояния и преграды или в достоверность ясновидения. Но наука неустанно идет вперед, снова и снова посрамляя неверующих и подтверждая пророчества знающих…
Он приводил примеры, выглядевшие весьма убедительно. Скептики не верили Эйнштейну, когда он доказывал относительность времени, массы и пространства, долго не признавали квантовую механику, кибернетику. Всегда шли впереди, подвергаясь насмешкам неверующих, Пророки и Провидцы, интуитивно постигавшие новые истины. А отсюда делался вывод:
— Магия не религия, а наука. Магия — знание, а не слепая вера. Печально, когда некоторые представители науки забывают, ослепленные гордыней, что именно с магии началось познание тайн природы. И только временная слепота этих ученых скептиков мешает им понять, что оккультизм [2] — это поистине наука будущего, это естествознание в его высшем, божественном совершенстве…
И дальше лукавый космический проповедник все время ловко жонглировал словами «магия» и «наука», то и дело приравнивая одно к другому, подменяя одно другим. Он называл имена ученых, которые якобы доказали точными опытами, что магия — это наука. Приводил на память длинные цитаты из трудов крупнейших физиков — Эддингтона, Иордана, Лоджа, поминал Циолковского. Он рассуждал о теории относительности Эйнштейна, высмеивал тех, кто ее не понимает и пытается отрицать, и тут же обрушивался на скептиков, которые «в слепоте своего невежества до сих пор не верят в существование демонов, иногда вмешивающихся в наши поступки, способных пока неизвестными нам путями изменять по своей воле материю, преодолевать без труда пространство и время, направлять по своему желанию наши мысли и чувства, принимать активное участие в нашей судьбе и, если потребуется, даже появляться в облике наших умерших друзей, дабы войти в общение с нами…».
Ужасающая мешанина из лжи и правды, из суеверий и вполне современных научных терминов! Но все внимали в такой тишине, что моментами начинало казаться, будто мы одни в зале.
— Только оккультизм позволяет нам, опережая научное знание, постигать душой гармонию мира, которой управляют голоса космического пламени! — гремел в напряженной тишине голос проповедника. — Огонь царствует во Вселенной. Поднимите головы, и вы увидите сияющее Солнце: оно дарует нам жизнь. Посмотрите на ночное небо, и вы увидите мириады сверкающих солнц: они прогоняют своими лучами космическую тьму. Это неугасимое пламя жизни, все очищающее и обновляющее. Поклонимся же ему, братья и сестры! Будем внимать голосам космического пламени, голосам наших старших братьев.
Что это за таинственные голоса космического пламени, кто были загадочные старшие братья, хитрый проповедник не уточнял. Но он убеждающим тоном доверительно рассказывал, как они уже не раз направляли якобы к нам на Землю своих посланцев, дабы помочь людям жить лучше и справедливее, наставить их на путь истинный, и называл имена Иисуса Христа, Будды, Магомета, Кришны, Рамы, Пифагора, поминал каких-то «Великанов гималайских гор» и посетившего якобы недавно Париж «ангела Цикламена».
И тут же он восторженно заговорил об успехах в изучении космического пространства, о чудесных ракетах, которые скоро дадут нам возможность встретиться наконец со всемогущими старшими братьями и поклониться им!
— А пока мы можем общаться с ними лишь мысленно. Телепатия позволяет осуществить надежную связь мира невидимого с миром видимым, мира небесного с юдолью земной. Многие в слепоте своей недооценивают этот чудесный дар природы. Мы, современные люди, утратили, к беде нашей, самое существенное свойство души — способность воспринимать дух и переносить его на других без посредства обедняющей, грубой письменной и устной речи. Лишь немногие хранят этот священный дар. Зато им дано ощутить блаженство, недоступное никому иному, им выпало счастье поделиться своим священным даром с другими людьми, поддержать их, помочь в беде.
Он сделал небольшую паузу, словно прислушиваясь к чему-то, и громко провозгласил:
— Слушайте внимательно звучащие в душе вашей голоса старших братьев, голоса космического пламени! Слушайте их не ушами, но сердцем, ибо именно сердце наше — орган высшего познания, орган божественной мысли, орган общения человека со Вселенной, с неугасимым космическим пламенем!
И тут полутемный зал наполнился звоном, стенаниями, звенящими детскими голосами. Казалось, к нам в самом деле доносятся голоса «с того света», мольбы еще не родившихся младенцев. Эти стоны и хоровые песнопения сопровождались и музыкой, тоже странной, необычной, словно бы неземной. Наверное, играли на каких-то электронных инструментах.
Я всегда считала, что у меня крепкие нервы, но тут мурашки побежали по коже. В зале слышались истерические всхлипывания, кликушеские выкрики.
— Неплохо поставлено, — с одобрением сказал у меня над ухом доктор Жакоб. — Мишель Горан, в прошлом талантливый эстрадный «чтец мыслей».
Его деловитая реплика как-то сразу меня успокоила и вернула на твердую, надежную землю. Я с интересом, но уже без всякого трепета стала ожидать, что будет дальше.
А дальше начались не менее занимательные вещи. Космический проповедник протянул руку — и вдруг из тьмы, из ничего, метрах в пяти от него возникла белокурая девушка в белом платье, вылитая Гретхен.
— А, и Луиза здесь, — пробормотал Жакоб. — Все старые знакомые.
Появилась она так внезапно, что я бы, наверное, вздрогнула, если бы не видела прежде, как проделывает подобные фокусы доктор Жакоб на сцене «Лолиты». Его трюки в самом деле успешно выполняли роль психологического противоядия: вспоминая их, я теперь смотрела на все трезвым, ироническим взглядом.
Все это, несмотря на зловещую торжественность обстановки, напоминало выступления эстрадных иллюзионистов и «чтецов мыслей».
Откуда-то опять из пустоты рядом с белокурой девицей неожиданно появилось кресло. Она села в него. Проповедник простер к ней руки и несколько минут в напряженной тишине притаившего дыхание зала молча смотрел на девушку. Он ничего не говорил, губы его не шевелились, но Гретхен вдруг заснула. Или она лишь притворялась?
— Готова ли ты внимать голосам космического пламени? — торжественно спросил проповедник.
— Да, я готова внимать голосам космического пламени, голосам старших братьев, — певуче ответила девушка.
Тогда проповедник повернулся к залу и предложил подойти к нему двум желающим и задать любые вопросы.
— Только двое! — поспешно повторил он, когда в зале началось движение, и даже для убедительности показал на пальцах. — Как всегда, мы публично ответим двоим, дабы рассеять сомнения неверящих. Остальные могут приходить для личной беседы в часы, указанные в наших объявлениях.
Видно, у этих космических чудотворцев строго разработанный ритуал и даже твердый график. Мне стало смешно.
Но дальше начались занятные вещи. Первой к проповеднику стремительно пробилась, растолкав всех, сухонькая старушка в черной шляпке, с зонтиком в руках и начала что-то быстро шептать ему на ухо. Потом проповедник кивнул, отстранил от себя старушку и громко спросил у девушки, неподвижно застывшей в кресле, освещенном теперь ярким лучом света, падавшего откуда-то с потолка:
— Слышит ли твоя душа, о чем спрашивает эта женщина?
После короткой паузы девушка ответила:
— Да. Она хочет знать, стоит ли ей вложить свои сбережения в акции интересующей ее фирмы или подождать. Стечение планет благоприятно, хотя есть угроза повышения налогов и роста цен…
Девица пророчествовала в том же духе довольно долго, потом замолчала.
Старушка начала быстро-быстро кланяться ей и что-то сунула в руку проповедника — наверное, деньги. Она явно осталась довольна ответом.
По залу прошелестел восторженный шумок.
Вторым к проповеднику протолкался рослый парень лет двадцати пяти с обветренным, загорелым лицом, ставшим совсем багровым от волнения, — наверное, крестьянин, потому что его интересовали виды на урожай винограда. Гретхен ответила ему обстоятельно, хотя тоже несколько туманно. В этом не было ничего, конечно, чудесного: прогнозы на урожай у нас печатают многие газеты.
Удивительным было то, что девушка опять каким-то образом угадала и этот вопрос, хотя парень задавал его на ухо проповеднику, как и старушка!
Никаких знаков проповедник девушке не подавал — не то что эстрадные «чтецы мыслей» — я не сводила с него глаз. Да и какими условными знаками удалось бы передать суть длинных вопросов? К тому же девушка в кресле, по-моему, в самом деле отвечала во сне, не притворялась.
Еще несколько человек осаждали проповедника, но он отмахнулся:
— Завтра, завтра! Приходите все желающие, все страждущие и взыскающие истины — голоса старших братьев откроют вам ее.
Может, все было ловко подстроено заранее? Вряд ли: и старушка и парень явно не походили на подставных лиц. Вести себя так естественно могли бы только гениальные актеры. К тому же старушку в зале многие знали, вокруг нее сразу собрались кумушки, оживленно обсуждавшие «чудо».
Опять зазвучала «космическая музыка», запели ангельские голоса. Разговоры и шум в зале стихли. Возбужденной толпой все сильнее овладевал мистический, суеверный экстаз. Я невольно ощущала это по себе…
— Введите ее! — громко и властно приказал проповедник.
«Словно конферансье объявляет следующий номер», — нарочно насмешливо подумала я, чтобы поскорее прогнать иронией колдовское наваждение.
Но в этом представлении номера были хорошо продуманы и декорации превосходны…
Двое молодых мужчин в строгих черных одеждах, похожих одновременно и на монашеские рясы и опять-таки вроде на какие-то костюмы космонавтов, ввели под руки женщину с бледным, рано постаревшим лицом. Она поворачивала голову во все стороны в страстном ожидании чуда. Глаза у нее были широко открыты, но ничего не видели. Женщина была слепой.
Замерший в ожидании зал следил, как ее вели к проповеднику, отступившему еще дальше в темноту и почти невидимому.
Спящая девушка вдруг встала и походкой сомнамбулы отошла в сторону от кресла. Теперь ее тоже почти не было видно, лишь смутно белело платье в темноте.
Слепую женщину усадили в кресло под слепящий свет прожектора. Но она не видела света, глаза ее не моргали.
— Готова ли ты, бедная сестра моя? — торжественно спросил проповедник.
— Да, я готова, — срывающимся голосом ответила женщина, вцепившись в подлокотники кресла.
— Тверда ли твоя вера?
— Да, тверда. Я верю, верю! — исступленно, как заклинание, несколько раз повторила женщина.
Пауза. Звенящая тишина…
— Спи! — вдруг властно приказал проповедник.
И женщина окаменела.
Луч света, падавший на нее, начал медленно меркнуть. Вот уже лицо женщины едва различимо…
— Сейчас ты прозреешь, сестра моя, — негромко и певуче начал говорить проповедник. — Я буду считать до пяти, и когда я скажу «пять», всемогущие космические силы старших братьев вернут тебе зрение. Ты снова все будешь видеть. Я считаю. Раз… Два…
Он считал медленно, размеренно, монотонно, и напряжение в зале все нарастало.
— Три… Четыре…
Какая длинная пауза!
— Пять! Проснись! Ты видишь!
Женщина вскочила, закрыла ладонями глаза, тут же снова открыла их и неистово закричала:
— Я вижу! Вижу! Господи, я вижу!
Слепящая вспышка заставила меня вздрогнуть и зажмуриться. Я не сразу поняла, что это какой-то предприимчивый фоторепортер постарался запечатлеть торжественную сцену. Он сделал еще два снимка, а проповедник старательно позировал, стоя рядом с прозревшей женщиной.
Потом ее подхватили под руки и увели, почти потерявшую сознание.
Трудно передать, что творилось в зале. Истерические всхлипывания, молитвенные возгласы. А тут еще снова «загробные голоса» грянули ликующе хором, переливчато зазвонили словно стеклянные колокольчики, опять полилась электронно-космическая музыка. Перекрывая ее зычным голосом, проповедник выкрикнул, простирая перед собой длинные руки:
— Поклонимся космическому пламени!
И вдруг у его ног словно разверзлась огненная бездна! Откуда-то из-под пола вырвались косматые языки огня. Их становилось все больше. Пламя было настоящим. Люди с испуганными вскриками отшатывались и пятились подальше от обжигающего жара.
В полу открылась яма, доверху наполненная раскаленными углями. «Космический» проповедник несколько минут стоял недвижимо, демонически сложив руки на груди и любуясь огнем. Потом взмахнул руками, словно готовящаяся взлететь серебристо-багровая птица, и крикнул:
— Поклонимся космическому пламени, братья и сестры!
Он быстро подошел к огню, склонился над ним в низком поклоне и вдруг, набрав полные пригоршни пылающих углей, погрузил в них лицо, будто совершая некое «огненное омовение», а затем подбросил угли высоко кверху! Огненные полосы прочертили воздух.
Не успела я опомниться, как проповедник будто ни в чем не бывало вернулся на свое место. А к огненной яме неторопливо и торжественно подошла Гретхен в белом платье. Теперь стало видно, что она босая.
Под ликующее пение «космических голосов» девушка спокойно ступила босыми ногами на раскаленные угли и так же неторопливо, величаво пошла по ним.
Я вскрикнула, ожидая, что сейчас вспыхнет ее легкое платье и девушка превратится в живой пылающий факел.
Крики ужаса раздавались и в других концах зала.
Но ничего не произошло.
Платье почему-то не вспыхнуло. Девушка с отрешенным видом лунатички прошла по всей дорожке из раскаленных углей, и ноги ее остались, видимо, целы и невредимы!
— Не могу, извините, — проговорил вдруг рядом со мной доктор Жакоб и начал быстро раздеваться.
Скандал в «святом доме»
Он снял ботинки и носки, стащил поспешно брюки и сунул их мне:
— Держите.
А сам, оставшись в одной рубашке и плавках, подозрительно похожих на ту набедренную повязку, в какой он выступал на сцене «Лолиты», легко вскочил на низенькие перила, ограждающие нашу ложу, и крикнул:
— Уважаемые зрители, минуточку внимания! Все повернулись к нему.
— Я — атеист и не верю ни в бога, ни в загробные голоса. Но я тоже могу творить подобные чудеса, они доступны каждому нормальному человеку.
Он спрыгнул в зал, прошел сквозь поспешно расступающуюся толпу к огненной дорожке и вступил на нее. Стоя в огне, Жакоб набрал полные горсти раскаленных углей, покачал головой и, сказав громко: «Жалко, уже остыли», — старательно сдул с них серый пепел.
Угли запылали ярче, и Жакоб начал растирать ими ноги, словно обыкновенной массажной губкой!
— Как видите, не обязательно быть святым! — весело воскликнул он, показывая всем пылающие на его ладонях угли.
Потом Жакоб вдруг начал приплясывать на углях. Искры снопом вылетали из-под его босых ног.
Фоторепортер, конечно, не упустил момента. Вспышки блица торопливо засверкали одна за другой.
Проповедник и девушка поспешили исчезнуть.
Жакоб выскочил из костра и, шутливо отбиваясь от наседавших истеричных старух, пытавшихся ударить его кто зонтиком, а кто просто сухоньким кулачком, вскочил на перильца и, тяжело переводя дыхание, оказался опять рядом со мной.
— Бежим! — по-мальчишески выпалил он, поспешно натягивая брюки.
Ботинки он надевать не стал. Взял их в одну руку, меня подхватил другой, и мы, скатившись по истертой каменной лестнице, выскочили во двор, потом через ворота, у которых, к счастью, уже не было никакого стража, и очутились на улице.
Из дверей «космического храма» выбегали ошеломленные «братья» и «сестры». Помахав им рукой, Жакоб со смехом потащил меня за собой.
— Что вы сделали! Боже мой, я чуть не умерла от страха! Как ваши ноги?
— Превосходно, — засмеялся Жакоб.
— Не может быть! Надо немедленно ехать в больницу.
— Зачем?
— Чтобы приняли меры. Ваши ноги наверняка обожжены!
— Ни капельки, можете убедиться. Надо, кстати, обуться. — Он присел на скамейку и, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих, начал обуваться. — Я не впервой проделываю этот номер. И мои ноги уже несколько раз специально осматривали после такого хождения медики, проверяли, не пользуюсь ли я какой-нибудь охраняющей от ожогов мазью. Их заключения я могу вам предъявить, когда снова навестите меня. Даже с печатями.
Мой страх постепенно переходил в восхищение. Мы сели в машину, никто нас не преследовал.
Тронулись, но Жакоб вдруг тут же так резко затормозил, что я ткнулась в стекло и, тревожно спросила:
— В чем дело? — и начала оглядываться.
— Не бойтесь, за нами никто не гонится, — засмеялся Жакоб. — Знаете, наверное, старый анекдот о медлительности жителей Берна?
— Какой именно? Их много ходит.
— Как бернец участвовал в состязании парашютистов? Надо было раскрывать парашюты на счете «три». Все так и сделали, а он разбился — почему-то не открыл парашют. Когда врачи склонились над пострадавшим, парашютист из Берна еще успел вздохнуть и сказать: «Два…»
— Веселенький анекдот, — сказала я, но невольно рассмеялась.
— Так что погоня нам не грозит. Просто я увидел этот уютный ресторанчик и сразу вспомнил, что мы не обедали. Он вас устроит?
— Ничего, кажется, неплохое местечко. Во всяком случае, тихое.
— Тогда давайте перекусим перед обратной дорогой.
Мы сели за столик, над которым висела скверная копия «Грозы на Гандеке», спросили, что могут побыстрее подать, и заказали паштет из гусиной печенки, трюфели и бутылку красного нойенбургского. Я сразу почувствовала, что проголодалась.
— Вы и вправду не пользуетесь никакими таинственными снадобьями? — недоверчиво спросила я, торопя взглядом хмурого официанта, который не спешил на кухню, а зачем-то начал возиться со старинным музыкальным ящиком.
— Нет. Ловкость рук, вернее, ног — и никакого обмана. Чистый номер.
— Но как это вам удается? Еще пепел нарочно сдували, фу… Вы невозможный человек!
— Пепел я сдувал нарочно. Так сказать, из чисто технических побуждений. По очищенным углям ходить проще — меньше опасность ожога.
— Очередной парадокс?
— Нет, просто научный факт. Такие фокусы широко распространены в Азии и Африке. Я давно ими интересуюсь и решил непременно украсить свои «лекции с фокусами» подобным номером. Как вы считаете? И эффектно…
— Да уж!
— …и позволяет разоблачить так называемые чудеса йогов. Однажды попробовал — и получилось.
— Очень просто у вас выходит: взял — и попробовал. И получилось! Все равно как через веревочку прыгать. Все-таки не верю, будто нет тут секретов. Вы же сами говорите, что это фокус.
— Ну, фокус в том смысле, что с ним можно успешно выступать и удивлять зрителей. А секретов нет. Просто это позволяют проделывать физиологические особенности человеческого организма да законы физики, хотя, честно говоря, мне и самому тут еще не все ясно. Сначала я считал, будто все дело лишь в самовнушении. Если можно внушением вызвать ожог без огня, так, видимо, удается и пройти по раскаленным углям без ожога. Под влиянием самовнушения напрягается симпатическая нервная система. Кровяные сосуды суживаются, кровь свертывается быстрее. Все дело в твердой уверенности» что непременно пройдете по огню.
Он вдруг рассмеялся. Я удивленно посмотрела на него.
— Вспомнился забавный случай, — пояснил Жакоб. — Однажды я беседовал после такого номера с репортерами. И наступил босой ногой на окурок, кем-то брошенный и не погасший. Я обжегся, вскрикнул и подпрыгнул. Представляете общее изумление? Только что я плясал на углях, а тут пугаюсь горящей сигаретки.
— Забавно. Они наверняка приняли вас за ловкого шарлатана.
— Конечно. А все дело в том, что я не был подготовлен к этой злополучной сигаретке психологически. Она застала меня врасплох. А по углям я шел, собрав всю свою волю и внушив себе, что это вполне возможно.
Официант наконец появился с подносом.
— Все-таки не верю, будто одной лишь силой воли можно заставить себя безболезненно пройти по огню, — сказала я, принимаясь за паштет. — И почему платье на ней не вспыхнуло, на смелой девице? Я каждую минуту боялась.
— Оно из негорючего материала, надо будет это перенять, — деловито ответил Жакоб.
Медлительный официант торжественно откупорил запыленную бутылку и, прежде чем наполнить бокалы, с важным видом понюхал пробку.
— Нет, тут все-таки наверняка есть какие-то секреты, только вы не хотите их раскрыть, — не унималась я. — Профессиональная тайна? Кодекс факирской чести не позволяет?
— В данном случае я ничего не скрываю, честное слово. Кое-что в этом фокусе мне и самому еще не ясно — я же вам сознался. Видимо, дело не в одном только самовнушении. Есть и объективные, так сказать, возможности, не обжигаясь, ходить по раскаленным углям. Они связаны с любопытным явлением: оно в честь открывшего его физика называется «эффектом Лейденфроста». Если накалить докрасна блюдо из сравнительно толстого металла, а затем капать на него подогретую воду, то жидкость не станет растекаться во все стороны, как при обычной температуре, а принимает форму сплюснутого шарика. Шарик быстро вращается, но вода не закипает. Испаряется она поэтому примерно раз в пятьдесят медленнее, чем при кипении. Практически водяной шарик даже не касается раскаленной поверхности. Его отделяет от металла подушка из пара. Этот эффект, кстати, давно используется в так называемых паровых котлах высоких температур. Вам не скучны научные тонкости?
— Нет, что вы! Я тоже хочу научиться ходить по огню.
— Вся разгадка, видимо, в том, что, когда я иду по раскаленным углям, обильно выделяется пот, и образующиеся шарики жидкости предохраняют ноги от ожогов. Плюс, конечно, влияние самовнушения на симпатическую нервную систему. Да вы сами наверняка проделывали, и даже не раз, такой фокус, только не в столь эффектном оформлении.
— Я? Каким образом?
— Пробуя пальцем, хорошо ли нагрелся утюг. Вспомните: вы всегда перед этим смачиваете палец слюной.
— Верно!
— Водяные пары между пальцем и горячим утюгом и предохраняют от ожога. А опытные мастеровые-паяльщики ухитряются даже, смочив ладонь, отклонять рукой в нужную сторону поток расплавленного олова. Но проделывают они это без зрителей и не пожинают аплодисментов. Я сейчас готовлю для лекций номер еще эффектнее.
— Какой же? — насторожилась я.
— Лизну языком раскаленный докрасна стальной брусок.
— Ужас! Только мне-то уж этот фокус не показывайте.
Доктор Жакоб покорно склонил голову, и мы принялись за яблочный торт. Когда очередь дошла до кофе, я сказала:
— Вы понимаете, что этой, простите меня, мальчишеской выходкой себя выдали? Теперь они знают, что вы интересуетесь их подозрительной деятельностью.
— Ну, они меня и так хорошо знают, — не очень уверенно ответил Жакоб.
— Но сегодня они вас явно не ждали.
— Да, похоже. Всеведущий голос оказался не на высоте.
— А вы сами себя разоблачили. Имейте же мужество признаться.
— Уж очень велик был соблазн. Не мог удержаться, — сказал он тоном виноватого мальчишки. — Ненавижу это жулье! К тому же момент был очень удобный. Пригласили специально фоторепортера, чтобы увековечил чудо. А теперь он, конечно, не удержится, напечатает и те снимки, где я пляшу на углях, — и чудо будет развенчано, вся их затея сорвется.
Мы выкурили по сигаретке и пошли к машине. Солнце уже висело низко над сверкающими шапками гор; надо было спешить, а то тетя начнет беспокоиться.
Когда мы выбрались из тесноты кривых улочек на простор шоссе, я сказала:
— Ну, а теперь расскажите, что вы новенького высмотрели, мистер Шерлок Холмс?
— Я видел то же, что и вы, — засмеялся Жакоб.
— Вы ведь приезжали специально, чтобы проверить свою гипотезу о том, будто эти шарлатаны каким-то образом влияют на мою тетку. Если они и шарлатаны, то весьма талантливые и ловкие. Я человек спокойный и абсолютно неверующий, но, признаюсь, на меня все зрелище произвело сильное впечатление. Началось панегириком во славу науки, а потом…
— Да, нынешние мистики не чета прежним. Идут в ногу со временем: научились маскировать суеверные бредни в ультрасовременные псевдонаучные одежды. Ловко спекулируют на интересе людей к науке, над верой в ее всемогущество. Теперь просто о боженьке или небесных силах говорить неприлично. Вот и появляются некие «старшие братья», способные творить чудеса на основе законов природы, только пока еще якобы не открытых, не познанных наукой. Христос или Магомет объявляются астронавтами. И если соберутся, скажем, астрологи на свой шабаш, то назовут его не иначе как «Конгрессом научной интеграции». — Жакоб посмотрел на меня и добавил: — Разоблачать современных мистиков вовсе не так-то легко и просто. Вы убедились, как умело они пользуются тем, что, сколь ни могущественна наука, она не может опровергнуть существование бога.
— Почему? — удивилась я.
— А как опровергнуть то, что не имеет доказательств? Все, что может наука, — это в каждом отдельном случае неопровержимо доказывать: в данном явлении нет ничего чудесного и сверхъестественного, оно произошло в результате действия таких-то и таких законов природы, без всякого божественного вмешательства. Как гордо сказал Наполеону Лаплас, объясняя картину мироздания: «Я не нуждался в гипотезе бога!» Но мистики и церковники сразу же хватаются за новую загадку природы, еще не раскрытую наукой, и объявляют ее прибежищем высших, божественных сил. Вместо старого, примитивного боженьки появляются «Таинственные силы природы», «Старшие братья» или «Высшие внегалактические существа», якобы незаметно для нас управляющие всеми земными делами. Суть от этого не меняется. А попробуйте-ка научно опровергнуть существование «Высших внегалактических существ»…
— Да, это у них ловко получается, — согласилась я. — Христос и Пифагор, Эйнштейн и Циолковский, какие-то «гималайские великаны». Ужасающая мешанина, а действует, впечатляет…
— В том-то и беда. Все свалено в кучу: оккультизм, буддизм, учение йогов, самые вульгарные суеверия — и приправлено научными терминами. На многих действует — привыкли слепо верить авторитетам. Широкоизвестные имена гипнотизируют…
— Почему вы сворачиваете? — перебила его я. — Ведь мы тут не ехали?
— Хочу объехать стороной горластых йодлеров, — пояснил Жакоб. — А то опять нас задержат. Наверняка веселье у них в самом разгаре.
— Правильно, — одобрила я.
Но и на этой дороге нам не повезло — наткнулись на участок, где шли ремонтные работы. Их вели, похоже, итальянцы — чужестранных рабочих нередко можно увидеть у нас: ведь им можно платить гораздо меньше, чем своим. Синие береты выгорели и стали почти серыми от пыли, смуглые лица посинели от поднявшегося холодного ветра.
Нам пришлось сделать большой объезд. А у Аванша нас настиг дождь, и снова пришлось сбавить скорость. Дождь лил такой сильный, что арена древнеримского театра в Аванше превратилась в маленькое и словно кипящее озеро.
— А что это за ангел Цикламен, которого поминал проповедник? — вспомнила я.
— Есть такая секта в Париже. Им якобы является некий ангел с никому не ведомой планеты Цикламен. Чепуха, а верят. И видите, как ловко поддерживают друг друга? У всех мистических шарлатанов мира своего рода круговая порука. Не забывают рекламировать и другие секты, тогда и собственная приобретает солидность, возрастает к ней доверие.
— Да, производить впечатление они умеют, надо отдать им должное, — задумчиво согласилась я, вспоминая таинственный и сумрачный полумрак зала, ликующие «ангельские хоры». — Хорошо, что я видела перед этим ваше выступление. Оно оказалось в самом деле неплохим психологическим противоядием.
Профессор Жакоб обрадовался:
— Правда?
— Правда. А то бы я, наверное, поверила в чудеса с этой девицей. Как она внезапно появилась из ничего…
— Пустяки, — покачал головой Жакоб. — Старый элементарный «черный кабинет» иллюзионистов. Я вам устрою «чудесное» появление хоть слона, выведя его на сцену под черным покрывалом на черном фоне, а потом открыв.
— А как она угадывала мысли? Ответы были, конечно, весьма туманными и общими, годятся на все случаи. Но как она ухитрялась узнать вопрос? У них все было заранее подстроено или это телепатия?
— Горан и она выступали раньше с якобы телепатическими опытами. Были у них тогда номера гораздо эффектнее. Но береглись, никак не давали возможности проверить их и уличить. А теперь — откровенное шарлатанство.
— И со слепой как ловко было подстроено…
Жакоб покосился на меня и ответил:
— Вы ошибаетесь: тут никакого обмана.
— Как? Она в самом деле была слепой?
— Да.
— И прозрела?
— И прозрела. Ничего чудесного нет. Я же вам рассказывал, что гипнотическим внушением можно излечивать некоторые заболевания, если только они возникли на нервной почве и не связаны с органическими повреждениями. Я сам не раз возвращал зрение таким слепцам и ставил на ноги паралитиков. У меня в лаборатории даже есть небольшой музей подобных «чудесных исцелений» с экспонатами не хуже, чем в Лурде. Я вам как-нибудь покажу.
— Невероятно! А я думала, все подстроено. Она заснула молниеносно.
— Этот способ так и называется: «молниеносный гипноз». Методику его разработал еще в восемнадцатом веке португальский аббат Фариа, кстати сказать научившийся этому у индийских факиров. Особенно хорошо он удается, если человека несколько раз усыпляли раньше.
Дождь кончился, или мы обогнали его. Солнце прорвалось сквозь тучи, осевшие на вершинах гор, и поля сразу весело засверкали, зазеленели. Только ветер еще был сырым, холодным, резким,
Жакоб помолчал, потом сказал, не отрывая глаз от стремительно мчащейся под колеса мокрой ленты шоссе:
— Спектакль с выдумкой. Это самое важное, в чем я убедился. Тут чувствуется рука опытного дирижера. Одному Горану это не по силам. Кто-то снабжает их весьма совершенной техникой, — уж не Анри ли?
— Наверное! — подхватила я. — И «голос» он предупредил о вашем визите к нам. Ведь старик видел нас вместе, когда я пришла в «Лолиту».
— Возможно, — пробормотал, нахмурившись, Жакоб. — Надо заняться этими космическими огнепоклонниками. Похоже, к ним будет нелегко подобраться…
Я внимательно слушала Жакоба, но в душе не унимались сомнения. Не ошибается ли он? Как могли эти жулики на таком расстоянии что-то внушать моей тете? Невероятно! Каким путем добирается к ней загадочный голос?
— Слушайте, а может, с угадыванием мыслей у них тоже не было подстроено? — воскликнула я. — Может, это телепатия?
— Ну какая там телепатия! Обыкновенное жульничество. У нее где-нибудь был спрятан приемник — может, даже в ухе. У Горана — радиопередатчик. Современная техника позволяет делать приемники величиной с маслину или даже с горошину.
— Но я не сводила с Горана глаз.
Он даже губами не шевелил.
— Чревовещатели тоже не шевелят губами, но произносят целые монологи. Может, у него на шее укреплено устройство на манер ларингофонов, какими пользуются летчики. Достаточно даже мысленно произнести какое-нибудь слово, и в мышцах гортани возникают соответствующие электрические импульсы. Их нетрудно передать по радио партнеру.
Поездка наша затянулась. Уже смеркалось. В окнах проносившихся мимо селений зажигались первые огоньки. Ветер доносил далекие звуки вечернего благовеста от кирки, прятавшейся где-то за холмами. Мир и покой. А в душе у меня?
— Вы не верите в телепатию? — спросила я.
— Я ученый, исследователь, а наука — не религия. В науке «верю» или «не верю» не аргумент. Вокруг телепатии за последние годы напущено столько всякого мистического туману и распространяется разных домыслов, что каждый трезвый исследователь обязан быть особенно осторожен. Психические процессы вообще изучать чрезвычайно сложно: мысль ведь в руки не возьмешь, не проследишь, как она там странствует по извилинам мозга. А о телепатических явлениях мы вообще вынуждены судить лишь по чисто субъективным рассказам людей, якобы ставших их свидетелями. Никакие приборы эти явления обнаружить не помогают. Но человеческая психика столь сложна и мы ее еще так мало изучили, что субъективные впечатления могут быть весьма обманчивы…
Так мы мчались мимо засыпающих городков и селений и болтали о всяких интересных вещах. Морис рассказывал о своей затяжной войне с разными жуликами и шарлатанами. В ней было много забавных случаев, но немало и опасного. Оказывается, мистики и суеверные святоши даже сумели одно время добиться отстранения доктора Жакоба от преподавания в университете, всячески мешали ему заниматься научными исследованиями. Теперь мне стало понятно, почему он так ненавидит их. Видно, они ему попортили немало крови.
К Лозанне мы подъехали уже в полной темноте. Вокруг засверкали пестрые созвездия реклам. В потоке бесчисленных машин, лоснящихся под фонарями, мы ехали мимо бесконечных курортных городков, сияющих витринами, манящими вывесками кинотеатров, отелей, баров.
Высоченное здание концерна Нестле, вздымающееся над Веве, — новомодный «замок Нестле», как его иронически называют, — сверкало тысячью окон, словно огромный хрустальный фонарь. А над черной пустыней притихшего в темноте озера сиротливо светил только тоненький серпик молодою месяца, похожий на одинокий заблудившийся кораблик.
Увлекшись разговорами, мы едва не проскочили в темноте мимо кафе у поворота к нашему дому.
— Что-то у меня рефлексы стали замедленными, — даже смутился Жакоб. — Одну минуточку, сейчас я развернусь.
Мы развернулись и подъехали к закусочной.
— Чашечку кофе на прощание? — предложил Жакоб.
— Некогда. Тетя, наверное, уже беспокоится.
— Но ведь она вам предлагала задержаться у подруги.
— Тогда я должна была ей позвонить.
— О, в какой строгости вас держат! Такое послушание — большая редкость в наше время.
— Тетя обо мне не такого лестного мнения.
Он проводил меня до моей машины и сказал на прощание:
— Внимательно наблюдайте за тетей и все записывайте, не надеясь на память: что случилось и точное время.
— Но ведь доктор Ренар пунктуально ведет дневник.
Похоже, упоминание о докторе Ренаре пришлось Жакобу не по душе. Но он не стал со мной спорить, только сказал в ответ:
— Пусть себе ведет, но и вы все записывайте…
Подтекст, по-моему, был такой: «А потом я сравню ваши записи…»
— И за прислугой внимательно присматривайте, — многозначительно добавил он. — А в случае каких-нибудь происшествий или если вдруг появятся возле вашего дома подозрительные лица, немедленно звоните мне. Если меня не окажется дома, матушка Мари всегда знает, где меня разыскать.
Мне было видно, как мирно и ласково светятся окна нашего дома.
— Вы думаете, происшествия будут? — дрогнувшим голосом спросила я.
— Непременно. Так легко они не отступятся. Судя по всему, работу они уже провели немалую. Все потайные ниточки хорошо замаскированы. Я думаю, теперь они станут активнее, чтобы опередить нас.
Мне вдруг стало страшно.
— А в чем может проявиться их активность? Чего мне ждать?
— Не знаю, — честно ответил он. — Но помните: я в любой момент поспешу к вам на помощь, когда бы вы ни позвонили.
— Вы не уедете пока отдыхать?
— Нет.
— Спасибо!
— Мы должны помешать им. Не говоря уже о здоровье вашей тети, речь идет и о солидных деньгах.
— Да, при одной мысли, что они станут на тетины деньги вытворять в своем огненном храме, у меня мурашки бегают по коже.
— Спокойной ночи, — сказал он.
— До свидания. Надеюсь, она будет спокойной. На повороте к нашему дому я оглянулась.
Доктор Жакоб все еще стоял возле своей машины и смотрел мне вслед. В сумерках уже трудно было различить, но мне показалось, что он помахал рукой, словно подбадривая меня.
Сумасшедшие дни
Дома было спокойно и тихо. Тетя еще не ложилась, ждала меня, раскладывая пасьянс; сама напоила чаем с медом и замучала сочувственными расспросами о здоровье моей подруги. Быстро придумывать ответы было мучительно и стыдно. Сославшись на усталость, я поспешила отправиться спать.
И ночь прошла спокойно. Утром тетя проснулась такой же милой, заботливой, веселой. После завтрака мы собирали малину в саду. Тетя увлеклась и стала напевать забавные песенки, которые слышала в юности от садовниц на сборе ягод. Ей весело подпевали Лина и Розали. Антонио даже затеял красить забор, чтобы побыть возле нас.
А на следующее утро, когда я вышла в столовую к завтраку и привычным движением потянулась поцеловать тетю, она вдруг резко отстранила меня, почти оттолкнула, и спросила:
— Где ты была позавчера?
Я молчала, потупившись, словно уличенная во лжи девчонка.
— Я все знаю. Зачем ты лгала мне?
— Ты опять слышала голос? — спросила я убито, не решаясь поднять головы.
— Да! И он рассказал мне все о вашем подлом сговоре. Зачем ты связалась с этим проходимцем? Каким грязным вещам он тебя учит? Отвечай!
— Мы хотим тебе помочь, — пробормотала я.
Но тетя гневно оборвала:
— Не лги! Я прекрасно знаю, что вы задумали. Голос открыл мне глаза. От него не скроешься! Он все знает и все может. Он сказал, что вынужден наказать нас с тобой- за неверие и лживость. Вот чего ты добилась.
Она стремительно встала, уронив стул, и вышла из комнаты. А я осталась стоять посреди столовой в полной растерянности.
Глухой, темный ужас поднимался во мне. Неужели от этого голоса ничего не скроешь?
Как он собирается нас наказать? Что грозит мне и тете?
Теперь он добирается и до меня?! Неужели я тоже начну его слышать и стану вытворять всякие нелепые вещи, а все вокруг будут удивляться и принимать меня за сумасшедшую?!
Я пыталась себя успокоить, что ничего сверхъестественного и мистического в этом проклятом голосе нет. Он вовсе не небесного происхождения, а принадлежит людям, пока еще не пойманным злодеям. А они, как все люди, конечно, не всемогущи. Доктор Жакоб непременно поможет нам, защитит.
Но страх не проходил. Целый день я бродила по дому и саду как затравленная. Тетя заперлась у себя в комнате. Доктор Ренар словно нарочно уехал куда-то к больному.
Бесконечно тянулся мучительный день, полный тревоги и напряженного ожидания неведомых, ужасных козней.
И ночью я почти не спала, хотя и приняла медомин. Задремлю ненадолго и тут же просыпаюсь от навалившегося кошмара, обливаясь холодным потом.
Потом, лежа в темноте с открытыми глазами, я, обмирая, прислушивалась: не звучит ли у меня в ушах голос?
Нет, слышалось только мое тревожное дыхание. А вокруг все тихо, так тихо, что начинало звенеть в ушах.
Я снова забывалась на время, чтобы в ужасе проснуться от нового кошмара.
Утром к завтраку, к счастью, пришел милый доктор Ренар. Я шепотом торопливо рассказала ему о своих переживаниях, поглядывая на дверь и в тревоге ожидая появления тети.
Она вошла, поздоровалась со мной довольно сухо, с доктором, как всегда, приветливо. Мы начали завтракать; постепенно завязался обычный разговор о всяких пустяках: о погоде, видах на урожай яблок, о том, что надо непременно вызвать печника из деревни — печь на кухне ужасно дымит.
У меня отлегло от сердца. Все шло совершенно нормально, с каждой минутой я успокаивалась и веселела. Ночные страхи начинали казаться пустыми и даже забавными…
Как вдруг я услышала странную фразу — тетя произнесла ее, обращаясь к доктору, все тем же обыденным, ровным тоном:
— Ну, как же вы забыли: это случилось в прошлом году, через день после пожара. Я прекрасно помню…
Мне показалось, что я ослышалась.
— После какого пожара, тетя? — переспросила я.
— Как — после какого? У нас, слава богу, был лишь один пожар. В прошлом году, разве и ты забыла?
Мы с доктором Ренаром переглянулись, но я не удержалась и робко возразила:
— Не было у нас никакого пожара в прошлом году.
— Что же, мне изменяет память? — Тетя потерла лоб. — Нет, я прекрасно помню, что пожар случился именно в прошлом году, пятнадцатого апреля. Вы должны помнить, доктор. Вы же прибежали одним из первых. Пламя уже начало охватывать кровлю, Антонио пытался сбить его ветками и чуть не упал с крыши…
Она приводила всё новые и новые подробности, вспоминала такие точные и красочные детали, каких не придумаешь…
Но ведь я точно знала: никакого пожара у нас не было. Никогда не было — ни в прошлом году, ни прежде!
Наверное, я смотрела на тетю с ужасом, потому что она вдруг снова пришла в ярость, как и вчера.
— Ты опять притворяешься, будто я все выдумала! — закричала она, так сильно стукнув по столу, что чашки запрыгали. — Хватит изображать меня сумасшедшей! Ты же прекрасно помнишь пожар, сама получила сильные ожоги Посмотри на свою руку: на ней до сих пор остался ужасный шрам от ожога. — Внезапно она цепко схватила меня за левую руку, больно вывернула ее и потянула к доктору. — Вы же сами лечили ее, а шрам от ожога остался, остался на всю жизнь! Этого доказательства не вытравишь, не сотрешь.
Не было никакого пожара и не могло от него остаться следов на моей руке! Но тетя возмущалась так убедительно, что и я пристально уставилась на собственную руку.
Нет, на ней не было никаких шрамов. Но доктор Ренар, делая мне знаки глазами, сказал:
— М-да, похоже на старый ожог. Теперь я, кажется, припоминаю…
Тетя оттолкнула мою руку, швырнула на пол салфетку и, гневно крикнув: «Лживая девчонка!» — выскочила из столовой.
Дверь так хлопнула, что жалобно зазвенели хрустальные подвески старинной люстры.
— Что же это? — простонала я. — Ведь не было никакого пожара, и шрама у меня нет, ну посмотрите… — и залилась слезами.
— Конечно, не было, — сказал доктор Ренар, поглаживая меня по руке.
— А вы поддакиваете.
— Но с ней нельзя спорить, когда она в таком состоянии. Вы должны сдерживаться, дорогая моя, и не противоречить ей…
— Соглашаться с любой глупостью, какую она скажет? Подтверждать каждое ее бредовое видение? И вы считаете, будто таким образом мы ей поможем? Ведь она сходит с ума на наших глазах, доктор, а мы бессильны помочь. Надо же что-то делать!
— Придется все-таки вызвать опытного психиатра, — тяжко вздохнув, ответил Ренар. — Позвоните доктору Жакобу, посоветуйтесь с ним.
— А, что он может! — махнула я рукой, но все-таки пошла в свою комнату, вытерла слезы и набрала номер домашнего телефона Жакоба.
Было успокаивающе-приятно услышать ворчливый голос матушки Мари. Она сразу узнала меня, обрадовалась, смешно закудахтала.
— А доктор дома? — спросила я.
— Дома, милочка, дома. В лаборатории работает.
— Позовите его, пожалуйста. Он мне очень нужен.
— Что, дело плохо? — сочувственно спросила меня старушка. Видно, Жакоб не держал от нее никаких секретов.
— Плохо, — ответила я.
— Сейчас позову, немедленно позову, дорогая.
Через несколько минут в трубке раздался встревоженный голос Жакоба:
— Здравствуйте. Что у вас стряслось?
Я рассказала об ужасной утренней сцене.
— И все? — ответил он с облегчением. — Чего же вы так перепугались? Обыкновенные внушенные так называемые ложные воспоминания. Ничего страшного, завтра ваша тетя будет нормальной. Уж доктор-то Ренар должен разобраться…
— Он считает, что тетю надо непременно показать опытному психиатру. Поэтому он и посоветовал позвонить вам.
— По-моему, такой нужды нет. Удивляюсь, что старый, опытный врач переполошился. Хотя, впрочем, он в шорах: упорно считает, будто у вашей тети психическое заболевание, а голос — лишь навязчивая галлюцинация. Но вы не пугайтесь. Утреннее происшествие подтверждает мою правоту. Ложные воспоминания бывают и у нормальных людей, непроизвольные. Я, например, отчетливо помню, как тонул пароход, на котором я мальчишкой плыл по Леману. На самом деле ничего подобного не было, но я порой готов подтвердить свои воспоминания под присягой, настолько верю в их истинность. А у тети это явно внушенное воспоминание…
— Голосом?
— Несомненно. Я вас очень прошу: проверьте хорошенько, разумеется, незаметно для тетки, нет ли все-таки у нее в спальне каких-нибудь репродукторов. Они могут быть совсем миниатюрными, прятаться в подушке, где-нибудь в изголовье кровати, в ночном столике, даже в лампе.
— Постараюсь, — ответила я, — только это трудно. Тетя в последние дни явно подозревает меня в чём-то, не доверяет мне.
— Вот как? — задумчиво протянул доктор Жакоб. — Что же, логичный ход. Восстановить тетю против вас и тем самым окончательно ее изолировать.
— Вы думаете, это голос внушает ей не верить мне?
— Конечно.
— Боже, и сколько же это будет продолжаться? Сделайте что-нибудь, иначе я рехнусь! Наш дом становится сумасшедшим адом.
— Крепитесь, у нас нет пока прямых улик, — ответил он и, оживившись, добавил: — Да, я навел справки о той женщине…
— О какой женщине?
— О слепой, которая от внушения прозрела. Ее зовут Агнессой Рутен.
— Ну?
— Как я и предполагал, у нее не было органических расстройств зрения. Просто полтора года назад от сильного нервного потрясения возник истерический амвроз. Это вполне излечимо внушением. Жалко, не встретил я ее, прежде чем она попала в лапы этих шарлатанов. Я бы ей помог, и одной атеисткой стало бы больше.
Я слушала его и начинала злиться. Совсем расходились нервы…
— Секта «Внимающих голосам» еще молодая, возникла недавно, уже после смерти вашего дяди. Но раньше Горан промышлял радиэстезией и другим знахарством, слышите? Так что он вполне мог переписываться или даже встречаться с вашим дядей. Они не могут примириться, что он умер прежде, чем удалось выманить у него все деньги, и теперь напали на вашу тетю. И насчет старика Анри вы, кажется, оказались правы. Похоже, он работает с ними: вот откуда у них отличная техника. Будет нелегко разобраться…
— Не интересуют меня их преступные биографии! — не выдержала я. — Вас увлекает больше научная любознательность, как и доктора Ренара, а я тут с ума схожу!
— Но ведь тетя ваша здорова, можете не беспокоиться, — смутился Жакоб. — Наберитесь терпения, мы их скоро поймаем…
Он говорил еще что-то успокоительное, но я положила трубку.
Весь день мы сидели в своих комнатах — я и тетя. А огорченный доктор Ренар в одиночестве бродил по саду, боясь уйти к себе.
Однако Жакоб оказался прав. На следующее утро тетя вышла к завтраку вполне нормальной. Она прекрасно помнила, как вчера собиралась вызвать печника, и тут же попросила Розали сходить в деревню, но ни о каком пожаре больше не заговаривала.
Признаться, меня подмывало спросить, думает ли она и сегодня, будто пожар был на самом деле, или уже ничего не помнит о вчерашней сцене. Но я сдержалась.
После завтрака тетя погуляла с нами в саду. Разговаривала она вполне нормально, шутила, смеялась, потом уселась на террасе с вязаньем.
И обед прошел тихо и мирно. Была суббота, и после обеда, как у нас повелось, Лина принесла накопившиеся за неделю счета тете на подпись.
— Принеси, пожалуйста, мои очки и ручку, они в спальне, — попросила меня тетя.
Я выполнила ее просьбу. Ручку я положила на стол, а очки она тут же надела и начала просматривать счета, время от времени, по обыкновению, ворчливо выговаривая кухарке за чрезмерные траты. Тетя^была щедрой, когда дело касалось крупных сумм, но до смешного скупа в мелочах. Все мы к этому давно привыкли, и Лина в ответ на ворчание тети привычным жалобным голосом стала сетовать на дороговизну продуктов…
— Что со мной? — вдруг растерянно пробормотала тетя.
Я подняла голову и с изумлением увидела, как она пытается взять со стола ручку — и не может. Пальцы не слушались.
Я подскочила к тете, схватила ручку и вложила ей в пальцы.
Тетя держала ее, смотрела на ручку, но явно не знала, что же с ней делать дальше.
— Пиши! — сказала я.
— А как? — каким-то ужасно жалобным и перепуганным голосом спросила тетя. — Я не знаю как.
Перепуганная Лина заревела в голос и, закрыв лицо передником, выскочила из комнаты, едва не наступив на дремавшую у порога любимую тетину кошку Марголетту. Та заметалась по комнате.
Тетя не притворялась. Она пыталась водить пером по бумаге, но неуверенно и совершенно беспорядочно, точно маленький ребенок, схвативший карандаш, но еще не умеющий провести даже простую линию.
Я посмотрела на доктора Ренара, но он тоже растерялся.
Не только мы, но и сама тетя перепугалась.
— Доктор, что со мной? — простонала она. — Я разучилась писать. Я больна?
— Не волнуйтесь, пройдет, — пытался ее успокоить Ренар. — Обычный писчий спазм, к сожалению весьма распространенный в наше время. Все от этих шариковых ручек. Положите ее и не волнуйтесь. Пойдемте, я осмотрю вашу руку. Сделаем примочку, и все пройдет.
Он увел ее и долго не возвращался. А я ждала, нервно расхаживая по террасе и теребя в руках носовой платок.
— Я думал, что это писчий спазм, но, боюсь, дело серьезнее, — сказал, вернувшись наконец, доктор.-Скорее это системный паралич. Все другие функции мускулатуры плеча не обнаруживают никаких отклонений от кормы, она лишь потеряла способность писать.
— Почему?
Он пожал плечами.
Но я знала: опять проклятый голос…
— Надо отвезти ее завтра — или завтра воскресенье? — в город, показать специалистам. Тогда в понедельник, — озабоченно проговорил Ренар, доставая старинные часы «луковкой». — Она так перепугана, что, конечно, согласится.
Так мы и решили. Но первое, что я услышала, проснувшись на следующее утро, был радостный голос тети:
— Я умею писать! Я умею писать!
Она вбежала ко мне в комнату, держа в руках листок бумаги, весь исписанный ничего не значащими, бессвязными фразами.
— Видишь, доктор Ренар был прав. Я снова могу писать!
Я взяла у нее листок с некоторой опаской. Торопливые, налезающие одна на другую фразы, по смыслу совершенно не связанные. Но они вполне логичны, никаких ошибок. Просто «проба пера», не заметно никаких признаков помешательства. Я вздохнула с облегчением.
Но тетя тут же села за стол, выписала чек на пять тысяч франков, вложила в конверт и послала Розали сейчас же отправить его «Внимающим голосам»…
Дальше день прошел без происшествий. Но оказался последним спокойным днем…
На другое утро тетя выглядела совершенно нормальной. А после завтрака внезапно сняла с подоконника цветочный горшок с кактусом, завернула его в платок, поставила на стол и трижды низко поклонилась ему.
Потом как ни в чем не бывало повернулась к нам с доктором Ренаром и продолжала прервавшуюся беседу.
Когда взгляд ее случайно остановился на горшке, все еще стоявшем посреди стола, она удивилась, нахмурилась, тут же вызвала Розали и сделала ей строгий выговор за непорядок.
Во вторник тетю поразила глухота. Она ничего не слышала, была ужасно напугана, металась по всему дому, плакала, умоляла доктора Ренара вылечить ее. На нее страшно было смотреть. Нам приходилось все ответы и слова утешения писать ей крупными буквами на больших листах бумаги.
Доктор Ренар вызвал из города знакомого врача. Тот немедленно приехал, и они в столовой, где было посветлее, начали осматривать тетю.
Похоже, консилиум грозил затянуться. Я решила воспользоваться удобным моментом и осмотреть спальню тети, как просил доктор Жакоб.
Надо непременно найти, где же прячется губительный голос. Я не могла больше выносить тревоги и мучения, которые он доставлял и тете и мне.
Лихорадочно перерыла всю постель, тщательно прощупала каждую подушку…
Ничего нет.
Осмотрела столик, стоявший возле кровати, лампу-ночник, каждый пузырек с лекарствами, потянулась к висевшей на стене картине: не прячется ли какой-нибудь репродуктор в ее золоченой раме?…
— Что ты здесь делаешь? — вдруг услышала я встревоженный голос тети.
Она стояла на пороге и смотрела на меня.
Залившись густой краской, я начала лепетать что-то невнятное: «Вот решила прибраться… стереть пыль».
Но ведь тетя оглохла! Она не слышала моих жалких оправданий.
— Что ты ищешь? Как ты смела обыскивать мою комнату? — бушевала тетя.
Я пыталась успокоить ее. Но она ничего не слышала, а по движениям губ еще не научилась угадывать, что говорят…
Ужасная сцена!
Я выскочила в коридор и, зажав ладонями уши, чтобы не слышать тех страшных, обидных слов, какие выкрикивала тетя мне вслед, опрометью бросилась в сад Там я упала на скамью и разрыдалась.
Пришла я в себя, услышав неподалеку голоса приезжего врача и провожавшего его к машине доктора Ренара. Поспешно утерев слезы, я вышла к ним.
— Не могу сказать ничего определенного, — проговорил приезжий врач, прежде чем я задала ему вопрос — И, признаться, ничего не понимаю. Состояние органов слуха у вашей тети вполне нормальное для ее возраста. Ни малейших патологических изменений. Однако она не слышит даже сильных звуков. Первый случай в тридцатилетней практике… — Он развел руками. — Видимо, вы все-таки правы, дорогой Ренар: это какое-то осложнение на нервной почве…
— И оно должно в таком случае скоро пройти, — поспешно вставил доктор Ренар, явно чтобы успокоить меня.
— Да, поскольку органических изменений нет, — согласился консультант.
— Что у вас произошло? — спросил доктор Ренар, усаживаясь рядом со мной на скамью, когда гость уехал. — Опять повздорили?
— Да. Это становится невыносимым. Я с ума схожу, доктор. Дайте мне что-нибудь, ведь есть успокаивающие лекарства.
— Хорошо, я вам принесу. Да, — добавил он, сочувственно глядя на меня, — вы прямо извелись.
— А вы?
— Ну, я — то выполняю свой врачебный долг. Как говорится: «Исполнить свой долг иногда бывает мучительно, но еще мучительнее не исполнить его». Вот что: лекарства лекарствами, но вы попробуйте, дорогая, успокоить свои нервы по методу Куэ. Старый, проверенный метод.
— А в чем он заключается?
— Он очень несложен. По утрам при пробуждении и вечером, ложась спать, закрыв глаза и сосредоточившись, произносите вслух раз по двадцать подряд: «С каждым днем мне во всех отношениях становится все лучше и лучше. Это проходит, это проходит…»
— Как молитву? — с иронией спросила я.
— Вот именно, как молитву. Только этот метод лечебного самовнушения, разумеется, не имеет никакого отношения к религиозным домыслам. Он вполне научен и многим помог. Я, например, частенько им пользуюсь.
— И помогает? — недоверчиво спросила я.
— Да.
Я верила доктору Ренару и последовала его совету. Теперь каждое утро и вечером, лежа в постели, я исступленно твердила, закрыв глаза:
— Это проходит, это проходит… Мне с каждым днем во всех отношениях становится лучше и лучше. — И снова: — Это проходит, это проходит…
Но ЭТО не проходило.
Я боюсь сойти с ума
Через день глухота у тети прошла так же внезапно, как и началась. На радости она со всеми болтала без умолку и даже захотела послушать радио.
А у меня, как назло, разболелся зуб, было не до болтовни.
— Почему ты не съездишь в Сен-Морис к дантисту? — сказала сочувственно тетя. — Он мне тогда прекрасно запломбировал зуб, ни разу больше не беспокоил. Найти его легко: он живет возле самого моста. Запиши адрес: бульвар Картье, дом пять.
Я поблагодарила ее, записала адрес, но решила пока терпеть и никуда не ездить. Может, боль пройдет сама.
Покидать тетю хотя бы на несколько часов я боялась, и не напрасно…
У нее начались галлюцинации. То она не могла выйти из комнаты, потому что не видела двери, находившейся прямо перед ней. Ей казалось, будто она замурована в четырех стенах, не имеющих даже щели. И она начинала в ужасе буйствовать, впадала в истерику.
То вдруг со смехом объявляла за обедом, будто у меня на голове выросли забавные рога.
— Очень миленькие рога, как у серны. Они даже идут тебе, глупышка. Не снимай их…
Нервы мои не могли этого выдержать, да и зуб разбаливался все сильнее. Попросив доктора Ренара побыть с тетей, я села в машину и помчалась к дантисту.
Но никакого дантиста по тому адресу, что дала мне тетя, не нашла. Несколько минут я тупо смотрела на витрину какой-то захудалой лавчонки, сверяла номер дома, потом пыталась расспрашивать соседей, но они пожимали плечами:
— Дантист здесь никогда не жил…
Неужели это голос подшутил так глупо надо мной, опять внушив тете ложное воспоминание? Хотя я зря грешу на него, совсем расходились нервы. Она сама напутала, всегда плохо запоминала адреса.
Вконец обозленная, я поехала в центр городка и у первого попавшегося дантиста вырвала злополучный зуб. Нужно было, конечно, поставить пломбу, но сейчас некогда было с этим возиться.
Тетя не давала нам передохнуть.
Целый день ей казалось, будто у любимой рыжей кошки Марголетты хвост вдруг стал черным. Тетя переживала, сокрушалась, хотя кошка на самом деле ничуть не изменилась. Мы все, наученные горьким опытом, уже не пытались ее разубеждать.
А потом она несколько часов подряд ничего сама не говорила, а только повторяла, словно эхо, каждую услышанную фразу!
Потом доктор Жакоб мне объяснил, что это явление так и называется — «эхолалия» и его легко можно вызвать гипнотическим внушением. Но тогда мне было жутко слышать, как на простой вопрос: «Тетя, ты не видела наперстка?» — она вместо ответа тупо повторяла точно с той же интонацией: «Тетя, ты не видела наперстка?»
Бедная Лина с перепугу то пересаливала суп, то недосаливала, жаркeq \o (о;ґ)е у нее подгорало. Она требовала, чтобы муж не отходил от нее ни на шаг, хотя Антонио, по-моему, был человеком суеверным, сам пугался тетиных выходок. А Розали решительно отказалась заходить к тете в спальню. Мне приходилось самой готовить тете постель, под ее прожигавшими мою спину косыми взглядами. Ведь она каждый раз подозревала, что я опять затеваю обыск…
«Наблюдайте внимательно за слугами…» — вспоминая слова Жакоба, я злилась еще больше. Все в доме так перепуганы и удручены, что лучшего доказательства их невиновности не найти.
Мы почти перестали разговаривать с тетей, потому что она относилась ко мне с каждым днем все недоверчивее и враждебнее. Никогда теперь не рассказывала, что вещает «небесный голос», хотя — это несомненно — именно он восстанавливал ее против меня. Доктору Ренару тетя доверяла по-прежнему и не таилась от него. Он записывал в дневник все, что она сообщала и делала, но мне не рассказывал, в чем же меня обвиняет голос.
— Так, ерунда всякая, — отмахнулся он в ответ на мои расспросы.
Видно, хорошенькие небылицы сочиняет обо мне этот мерзкий голос!
Со старым доктором мы тоже почти не разговаривали. Он упорно считал, будто у тети какое-то заболевание, временное психическое расстройство, а в существование голоса не верил и каждый раз подшучивал надо мной, когда я пыталась заводить с ним разговор об этом.
Я чувствовала себя страшно одинокой. Даже с верной подругой Анни, которая посоветовала мне обратиться к Жакобу, я не могла поделиться тревогами. Она, как назло, укатила во Францию отдыхать. Я часами сидела, запершись в своей комнате, и с тревогой прислушивалась к малейшему шуму. Или слонялась по саду, поминутно опасаясь наткнуться на тетку, занятую какой-нибудь нелепой игрой или задушевной беседой с призраками.
Работу я совсем забросила, карандаши и кисти валились из рук. А у меня был срочный и очень важный заказ.
Друзья считают меня довольно легкомысленной и своенравной. Может, они и правы. Но во всем, что касается дела, я страшно пунктуальна. Я мучалась, что подвожу заказчика, но не могла взять себя в руки.
«Что делать? Боже мой, что же делать?»-одна мысль тупым гвоздем торчала в голове.
Теперь я поняла, какими муками грозил мне голос…
Даже у себя в комнате радио включать я боялась: как бы таинственный голос не добрался и до меня. Ведь доктор Жакоб говорил, что внушения могут начаться так, что и сама не заметишь.
О, какие бесконечные, тоскливые, страшные тянулись дни! Лето выдалось жаркое, томительное, душное, часто бушевали грозы. Я не находила себе места. Книги не отвлекали, а вот газеты я жадно выхватывала по утрам у Антонио, едва он успевал открыть почтовый ящик…
Теперь в газетах мне прежде всего бросалось в глаза то, что раньше казалось просто забавной и вздорной чепухой — предсказания астрологов и объявления всяких магов и чудодеев. Сколько же их печаталось почти в каждом номере! Раньше я не замечала этого разгула суеверий. А теперь…
Открываю утром газету — и сразу лезет в глаза объявление в аккуратной рамке:
Рядом другое объявление — коротенькое и деловое:
Астролограф — аппарат для установления связи с загробным миром, сконструированный на основании тридцатилетнего опыта. Высылается наложенным платежом по первому требо~ ванию. Быстро выполняются также заказы на индивидуальные талисманы и амулеты. В зависимости от отделки, цены от одного до пяти франков.
Берусь за другую газету — красочный, со множеством фотографий отчет о «Международном конгрессе ведьм». Оказывается, он только что закончился в дремучем лесу английского графства Гемпшир. Наиболее многочисленной была делегация гостеприимных хозяев — членов «Британского общества ведьм и колдунов». Она насчитывает свыше восьми тысяч активных членов, имеет специального секретаря «по связям с общественностью» и пресс-секретаршу — авторы репортажа по-приятельски называли ее «Пресс-ведьмой»…
Президентом этого удивительного общества избрана некая мисс Сибил Лик. Вот она на фотографии — элегантно одетая молодая дама стоит, обворожительно улыбаясь, возле вертолета. Вертолет ее собственный. Она прилетела на нем на конгресс — или все-таки точнее назвать его шабашем?
Я немножко разочарована: уж если прилетать на шабаш, то все-таки на традиционной метле. А тут вертолет…
Много поразительных вещей я узнала за эти дни, просматривая внимательно газеты.
«Интервью с мистером Уилсоном — Верховным жрецом белой магии.
— Мистер Уилсон, лондонские газеты пишут, что колдовство в Англии переживает сейчас самый большой «бум» со времен средневековья…
— Так оно и есть!
— А чем вызвано это явление?
— Я думаю, оно объясняется тем, что церковь уже не в состоянии удовлетворить людей. Они стали разумнее и не хотят беспрекословно принимать на веру все то, что утверждает религия. Церковь не приспособилась к современному миру. Она осталась на том же уровне, на каком была в средние века. Что же касается колдовства, то оно не обременено грузом догм…
— Много ли молодежи среди ваших приверженцев?
— Среди них есть люди всех возрастов.
— Как вы определили бы сущность колдовства?
— Колдовство — это поклонение природе… Церковь распространяет о ведьмах всевозможные порочащие слухи. Мы вовсе не портим скот и не вредим урожаям. Наоборот, мы, колдуны и ведьмы, стараемся помочь людям.
— Скажите, пожалуйста, мистер Уилсон, каждый ли желающий может присоединиться к вашей организации?
— Разумеется. Ни о какой дискриминации не может быть и речи.
— Есть ли у вас какие-либо основания жаловаться, что вы не встречаете поддержки и сочувствия со стороны властей?
— Нет, решительно никаких оснований!»
Тайное волшебное зеркало «Факир»
служит в качестве важного вспомогательного средства для развития и улучшения ясновидения, для магических и многих других оккультных опытов.
Изготовляется для каждого заказчика персонально, в соответствии со специальными астролого-магическими предписаниями.
При заказе необходимо выплачивать по крайней мере половину стоимости [3] .
Я переворачиваю газету и смотрю на дату. Нет, число сегодняшнее, отнюдь не средние века.
В газетах, с фотографиями, сделанными при помощи новейшей техники, вся эта мистика выглядела все-таки курьезно и нереально. Но и вокруг каждый день разве я не видела множество суеверий, — только раньше не замечала?
Лина верит вещим снам, а ее Антонио боится дурного глаза и постоянно носит на шее амулет — высушенную кроличью лапку. Розали мне всерьез испуганно рассказывает, будто старуха Альбиг у них в селении колдунья и ведьма, летает на гору Дьяблере на помеле — это все знают, многие даже видели собственными глазами.
А в детстве сколько мне рассказывали об эльфах, гномах, злых духах, всадниках-скелетах, скачущих по ночам в горных ущельях? Пели песни о заколдованных принцессах, превращенных в камень, — я ведь их до сих пор не забыла, где-то прочно они засели в памяти, и в очертаниях многих скал, особенно вечером, в сумерках, мне мерещатся человеческие фигуры, и я обхожу их с опаской…
Дядя Франц, отправляясь в свой банк, всегда загадывал по номерам встречных автомашин «чет» или «нечет» — удача или нет. А перед смертью стал настоящим мистиком.
«Конечно, болезнь на него повлияла», — убеждала я себя. Но когда загадочный голос снова начинал показывать свою власть…
Каждое утро, просыпаясь, я с ужасом думала: какой-то увижу сегодня тетку? Что она выкинет?
Несколько раз она вдруг переставала всех узнавать и разговаривала со мной, с доктором Ренаром, с окончательно перепуганной прислугой вполне логично, здраво, изысканно-вежливо, но как с людьми совершенно посторонними и незнакомыми, которых она впервые видит.
И нам лишь оставалось неумело подыгрывать ей, тоже притворяться, будто мы незнакомы, — и какой же тогда начинался в доме сумасшедший любительский спектакль, поневоле разыгрываемый бездарными актерами!
С Розали от этого случился истерический припадок, — я долго отпаивала ее водой и успокаивала.
— Мадемуазель Клодина, я больше не могу. Дайте мне расчет! — заливаясь слезами, просила девушка.
Я еле уговорила ее потерпеть еще немного.
А что нам оставалось делать? Я могла только упрямо твердить утром и вечером как заклинание: «Мне с каждым днем становится во всех отношениях лучше и лучше… Это проходит, это проходит».
Наверняка и доктор Ренар предавался таким же молитвам. Но они не помогали.
Однажды утром тетя не вышла к завтраку. Обеспокоенная, я заглянула к ней в комнату и увидела, что она стоит у стены, широко раскинув руки, — точь-в-точь в позе распятого Христа.
— Что с тобой? — ахнула я.
— Не мешай. Я должна искупить свои грехи.
Как мы с доктором Ренаром ее ни уговаривали, она простояла так весь день, словно пригвожденная.
Мне приходилось не только работать с натурщиками, но и несколько раз самой позировать друзьям-художникам. Уж я — то знаю, как трудно высидеть с вытянутой рукой даже пять минут.
Но тетя стояла не шевелясь, будто окаменела. А вечером вдруг рухнула на пол, совершенно обессиленная, но довольная, умиротворенная, шепча пересохшими губами:
— Он простил меня. Он снял меня с креста…
Я думала, что она имеет в виду все тот же проклятый голос. Но тетя вдруг добавила чуть слышно:
— Бедный Франц, теперь ты успокоишься. Я выполню твою волю.
— Ты слышала голос покойного дяди? Разговаривала с ним?!
— Да, — прошептала она и потеряла сознание. Этого еще не хватало: теперь она слышит и голос покойного мужа!
Когда мы с Розали и доктором Ренаром стали переносить тетю на кровать, я вдруг с ужасом увидела у нее на запястьях две маленькие кровоточащие ранки. Это были явно следы гвоздей, словно она и вправду целый день висела распятой на кресте!
— Стигмы, — бормотал доктор Ренар, осматривая их. — Настоящие религиозные стигмы… Надо сделать перевязку. Я читал, что они возникают под влиянием экстаза и самовнушения, но никогда не видел… Поразительно!
Он только удивлялся, а я готова была сойти с ума. Бросилась к телефону и стала звонить доктору Жакобу. К счастью, он оказался дома.
— Доктор Ренар прав, — успокаивал он меня. — Такие стигмы возникают под влиянием внушения. Ничего страшного, утром они исчезнут так же быстро, как и появились. Только это, конечно, не самовнушение, как считает Ренар, а проделки голоса…
— Но она уверяет, будто начала теперь слышать и голос дяди Франца! — закричала я в трубку.
— Вот как?… — опешил Жакоб. — Голос своего мужа? Вы не ошиблись?
— Да. Она так сказала. И добавила, что выполнит его волю.
— Ну, не начинаете же вы верить в загробные голоса…
— А откуда он взялся? Может, вы ошиблись: это все-таки болезнь и самовнушение, как считает доктор Ренар? Слишком много голосов.
— Да, это странно, — задумчиво ответил он и надолго замолчал.
Я поняла, что Жакоб ничем мне не может помочь, извинилась за беспокойство, попрощалась с ним и положила трубку.
Доктор Ренар продолжал твердить, что никаких голосов нет — тете лишь кажется под влиянием болезни и самовнушения, будто она слышит их, — и ссылался на разные ученые труды, как будто я в них что-то понимала.
Кому верить? Я решила твердо отвезти тетю к психиатру, даже если она станет сопротивляться.
Но утром она проснулась веселой, здоровой, от кровавых ранок на руках не оказалось и следа, и я снова заколебалась.
А потом тетя впала в детство.
Она проснулась рано и выбежала на террасу, весело напевая давно забытую песенку детских далеких лет. В руках у нее был какой-то сверток, заменявший ей куклу. Что она только не вытворяла: носилась по всему саду, выскакивая с пугающими криками в самых неожиданных местах из кустов, прыгала через веревочку, водила со мной и с доктором Ренаром хоровод на лужайке!…
Было и смешно и страшно!
Тетя не притворялась, не играла в ребенка. Она в самом деле опять стала семилетней девочкой и резвилась как дитя — без всяких забот и воспоминаний.
Вырвав у меня из рук газету, она, шаловливо приплясывая и показывая язык, отбежала в угол и начала старательно и неумело делать бумажный кораблик.
Потом сдвинула в угол несколько стульев и, устроив из них домик, спряталась в него, время от времени выкрикивая:
— Ку-ку! — и хитро поглядывая на нас.
Уколов случайно палец булавкой, она захныкала, послюнила клочок бумажки и наклеила на ранку, — я сама так делала в детстве.
Я была в ужасе, а у доктора Ренара глаза горели от любопытства, словно он наблюдал редкий научный опыт.
— Сколько вам лет? — спросил он у тети.
Она захохотала, запрокинув голову.
— Чему вы смеетесь?
— Как ты смешно меня называешь… Словно я большая.
— А ты еще маленькая?
— Да.
— Сколько же тебе лет?
— Семь.
— Когда ты родилась?
— В тысяча восемьсот девяносто четвертом году.
— А теперь какой у нас год?
Тетя замялась и пожала плечами, нерешительно поглядывая на него.
— Не знаешь? — спросил Ренар. — А в школу ты уже ходишь?
— Да.
— Ты хорошо учишься?
— Я еще недавно хожу в школу.
— Как же недавно?
— Один год перед этим я ходила совсем немного.
— Скажи: ты уже умеешь читать, писать, считать?
— Да, но это скучно. Можно, я лучше поиграю в саду?
И, получив разрешение, весело запрыгала к двери на одной ножке…
— Нет, доктор Жакоб, кажется, был прав, — повернулся ко мне старик, — а я ошибался. Это все-таки гипноз, а не душевное заболевание. Поразительно! Я читал о таких опытах по внушению возраста в книгах, но вижу впервые. Кто мог внушить ей это?
— Голос, — угрюмо ответила я.
— Мистика! — сердито отмахнулся Ренар. — Никакого голоса нет и быть не может. Просто галлюцинации и самовнушение. «Человек суеверен только потому, что пуглив; он пуглив только потому, что невежествен». Гольбах!
У тети даже изменился и стал совсем детским, неуверенным почерк. Это специально проверял любознательный доктор Ренар. Как строгий школьный учитель, он продиктовал тете несколько фраз. Она записала их, от напряжения высовывая кончик языка и облизывая губы. При этом она покосилась на меня, прикрыла листочек ладонью и совсем по-детски сказала:
— Чур, не подсматривать!
Мы сравнили эту запись с одной из школьных тетрадок, сохранившихся у тети с детства. Совпадение было поразительным, полным — вплоть до грамматических ошибок, от которых тетя, став взрослой, уже давно избавилась.
Настал подходящий момент, решила я, и снова тщательно обыскала тетину спальню, пока она резвилась в саду.
Дважды она забегала в спальню. Я замирала, но она хватала что-нибудь и убегала, не обращая на меня никакого внимания.
Я обшарила и выстукала, как в шпионских романах, даже стены в тщетных поисках потайных репродукторов или микрофонов, но ничего не нашла.
Потом я долго сидела посреди разворошенного белья и беспорядочно нагроможденной мебели, тупо смотрела то на потолок, то на стены и с тоской думала: где же прячется проклятущий голос?…
Может, все-таки существует телепатия и космические чудотворцы ведут внушение на расстоянии без всяких приемников и передатчиков?
Жалко, не с кем посоветоваться. Если позвонить Жакобу, он станет смеяться. А доктор Ренар ответит очередной назидательной пословицей: в телепатию он тоже не верит.
В газетах все то же… Интервью с Ахиллом д’Анджело, именующим себя «Великим магом Неаполя»:
Только у нас, в Неаполе, насчитывается семь с половиной тысяч официально зарегистрированных магистров оккультных наук. Государство должно заботиться о будущем своих гадалок и чародеев. Мы платим налоги, а потому имеем полное право на получение больничного страхования, пособий по инвалидности и пенсии…
Как тоскливо и одиноко!
Было душно, томительно, безысходно. Я нигде не находила покоя. Голова раскалывалась от боли, хотелось куда-то бежать.
Даже дальние вершины гор стали отчетливо видны, но в сиянии их снегов было что-то гнетущее, мрачное. Наверное, приближался фен. Я всегда плохо переношу этот ветер, прилетающий через Альпы откуда-то из африканских знойных пустынь. Он резко меняет погоду и приносит в наши тихие долины беспокойство и беспричинную раздражительность.
К выходкам тети я вроде начала привыкать и переносила их с тупым, апатичным терпением. Но, видно, струна терпения была натянута в моей душе до предела, и настало ей время лопнуть…
За обедом, когда я попыталась повязать ей фартучек- впав в детство, тетя баловалась за столом и все проливала, — она вдруг обеими руками вцепилась мне в горло и стала душить!
Лина уронила на пол миску с супом и с диким криком убежала. Доктор Ренар подскочил к нам и пытался освободить меня. Но тетя вцепилась мне в горло мертвой хваткой, глаза ее горели ненавистью. О нет, теперь она уже не была шаловливым ребенком! Руки у нее стали словно железными…
Я уже начала задыхаться, пока доктор Ренар с помощью прибежавшего Антонио не вырвали меня из рук тети, оттащили ее и с немалым трудом увели в спальню.
А я бросилась к телефону и стала звонить Жакобу. Подошла матушка Мари и, услышав мои рыдания, ничего не стала расспрашивать, побежала за доктором. Через мгновение Жакоб был у телефона.
— Она пыталась меня задушить. А еще утром притворялась семилетней девочкой. Я больше не могу!… — простонала я. — Вам ничего, вы не видите этих ужасов. Ведь они окончательно сводят тетю с ума, эти «космические» бандиты. Или уже свели?
— Нет, этого они не сделают, — быстро ответил он.
— Почему? Откуда у вас такая уверенность?
— А зачем им нужна сумасшедшая жертва? Ведь она еще не отдала им все деньги, верно?
— Пока нет.
— А им только это от нее и нужно. Пока они лишь пугают главным образом вас, чтобы отступились, не противились им, не связывались со мной. Думаю, сегодняшний трюк с нападением на вас — последний их фокус. Они оставят ее в покое, будут только внушать во время сна, даже незаметно для нее самой, чтобы она поскорее подарила или завещала им все деньги.
— Почему вы так думаете?
— Для того, чтобы завещание признали законным, ваша тетя должна подписать его, выражаясь юридическим языком, «в здравом уме и твердой памяти». А в таком состоянии, как сейчас, никакой нотариус не признает ее нормальной.
— Мне кажется, вы ошибаетесь, а прав доктор Ренар. Она просто больна. Я перерыла всю спальню и никакого приемника не нашла…
— Значит, вы плохо искали. Он где-то запрятан тщательно. Хорошо бы перевести вашу тетю хоть на время в другую комнату. Придумайте что-нибудь — ремонт, скажем. Вы слушаете?
— Разве она мне поверит… — ответила я таким усталым и безнадежным тоном, что доктор Жакоб вдруг предложил:
— Слушайте, приезжайте сюда. Вам нужно отдохнуть.
— А тетя? Вы же сами говорили…
— Ничего с ней пока не случится. Даже лучше, если вы уедете из дому на какое-то время. Они подумают, будто их трюки вас доконали, вы напуганы окончательно, рассорились с тетей и решили оставить ее. А кроме того, вы не будете попадаться тете на глаза и раздражать ее. Так что со всех точек зрения вам лучше уехать. А рядом с тетей останется любознательный и дотошный старина Ренар. Он будет все аккуратно записывать и держать с нами постоянную связь.
— Подождите. Кажется, идет доктор Ренар, я с ним посоветуюсь и позвоню вам.
Положив трубку, я кинулась навстречу старику:
— Что с ней?
— Мы уложили ее в постель, и она уже крепко спит. О, какие ужасные синяки оставила она у вас на шее! Бедняжка, вам надо сделать примочку…
— Пустяки, пройдет, — отмахнулась я. — Доктор Жакоб советует мне уехать на несколько дней…
— Очень разумная мысль.
— А как же вы тут один?
— Если припадок повторится, я вызову санитаров, отвезем ее в психиатрическую лечебницу.
— Теперь вы опять думаете, что она психически больна?
— Не знаю, — сумрачно ответил Ренар и, вздохнув, добавил: — Посмотрим, какой она проснется.
— А я уверена, что это проклятый голос внушил ей кинуться на меня.
— Дорогая девочка, вам надо уехать, — настойчиво сказал доктор Ренар.
Он ушел к тете. А я снова позвонила Жакобу, который, видно, ждал у телефона, сказала, что приеду сейчас же, с первым поездом, и попросила заказать для меня номер в самой тихой и спокойной гостинице.
Может, все-таки телепатия!
На вокзале меня встретили доктор Жакоб с матушкой Мари. Увидев меня, она сокрушенно запричитала, даже прослезилась, начала обнимать, расцеловала, и не успела я даже заговорить о гостинице, как потащила меня к машине, приговаривая:
— Скорее, скорее, жареная утка не может ждать.
Она по-хозяйски заняла место за рулем, мы с доктором сели сзади.
— Что вы так на меня смотрите? — спросила я у него, когда мы тронулись. — Да, я постарела на десять лет. Видите, какие синяки на шее, Даже пудрой не скроешь. И всё вы виноваты.
— В чем?
— Почему вы ничего не предпринимаете? Чего ждете? Когда мы с тетей в самом деле сойдем с ума?
Насупившись, он помолчал, а потом ответил.
— Простого, вульгарного убийцу не так уж сложно поймать и посадить на скамью подсудимых. А вот таких уличить гораздо труднее, хотя они совершают преступление на глазах у всех. Да не одно, а сразу несколько преступлений — не только убивают свою жертву медленно и мучительно, но и калечат души окружающих. Даже поймав такого убийцу, нелегко доказать его вину, уличить. Бесплотный «глас небесный» в суд не потянешь Один я его поймать не могу, нужна помощь моего друга Вилли. А он, как назло, загостился в Америке. Но скоро вернется, я уже говорил с ним по телефону.
— А кто этот Вилли? Фокусник?
— Нет, инженер.
— Такой же, каким вы представились тете?
— Нет, он в самом деле очень талантливый инженер. Изобретает для меня оригинальную аппаратуру вместо спившегося старика Анри. Кстати, я позавчера с ним беседовал. Стыдил его, уговаривал одуматься. Старик был, как всегда, пьян, но, по-моему, не настолько, чтобы пропустить мои слова мимо ушей. Отрицает, будто связался с Гораном. Но все-таки, кажется, я его заставил задуматься. Не беспокойтесь, даже если Анри нам не поможет, все равно их поймаем.
— Вы все об одном… — вздохнула я. — А я уже не верю, что ее преследуют космические жулики. Комнату ее обыскала, заглядывала в каждую щелочку А она по-прежнему слышит голос, да теперь еще и второй — своею покойного мужа. Откуда он взялся?
— Я тоже, честно говоря, озадачен, но в загробные голоса не верю, — помрачнев, упрямо ответил Жакоб. — Разгадаем и эту загадку. Вы просто устали, измучились, упали духом, а тут еще фен. Он на всех действует Опытные автомобилисты норовят ехать по левой стороне…
— Верно! — вставила матушка Мари, покачивая старомодной шляпкой. — Я это знаю.
— …У хирургов начинают дрожать руки, и они берутся оперировать во время фена лишь в неотложных случаях. Но он кончится, вы отдохнете, успокоитесь. Время у нас еще есть: они непременно должны оставить пока вашу тетю в покое.
Мне стало немножко стыдно за то, что я так на него напала. Морис прав: все фен виноват. Тут, к счастью, в разговор вступила милая матушка Мари, и мы стали болтать с ней о погоде, об ужасных ценах на рынке, об этой новой чудовищной моде носить такие короткие юбки…
— Хотя вам это очень идет, милочка. У вас красивая фигура…
Доктор Жакоб сидел рядом со мной и, похоже, ничего не слышал, погруженный в свои мысли. Вид у него был такой удрученный, что мне вдруг захотелось погладить его по голове, приласкать, как обиженного ребенка.
После ужина, которым нас накормила матушка Мари, мне уже не хотелось идти в гостиницу и сидеть там в тоскливом одиночестве. И милая матушка Мари, и доктор Жакоб были так внимательны и заботливы, что я не стала особенно возражать, когда они начали уговаривать меня пожить у них.
Ночью наконец прогремела гроза, принесенная феном. Сразу стало легче дышать. Утром я позвонила доктору Ренару, чтобы узнать, как себя чувствует тетя, и сказать, где меня искать. Вести были хорошие: тетя проспала всю ночь спокойно и проснулась нормальной, психиатра вызывать нет нужды.
— Я сказал, что вас срочно вызвал издатель и вы уехали на две недели в Париж. Она, по-моему, поверила Отдыхайте и не волнуйтесь, дорогая. Передайте, пожалуйста, поклон коллеге Жакобу, — сказал доктор Ренар
Меня поселили на первом этаже в тихой и чистой комнатке, рядом с матушкой Мари. Вот только на стене висела репродукция известного офорта Гойи «Спящий разум рождает чудовищ…». Мне не хотелось все время видеть перед глазами поникшего человека, прикрывающего голову руками, над которым вилась стая чудовищных вампиров и нетопырей, и я попросила заменить офорт любым пейзажем.
За окном шелестели деревья, они дружески протягивали ветки в окно, ласково щебетали птицы. По утрам я ездила с матушкой Мари на базар и бродила по магазинам, а потом помогала ей готовить — вернее, мешала своей болтовней, потому что делать она мне ничего не давала, не подпускала к плите, не доверяла даже чистить картофель и нарезать овощи.
Матушка Мари твердила, что с тетей все наладится, она непременно выздоровеет. А однажды вдруг, поглядывая на дверь, доверительно шепнула мне:
— Я ведь тоже слышу иногда по ночам голоса Только Морису ничего не говорю. А то вылечит меня, а без них станет скучно…
Так я и не поняла: выдумала это добрая старушка, чтобы меня подбодрить, или в самом деле страдала какими-то галлюцинациями, о чем доктор Жакоб даже не подозревал?
На третий вечер после моего отъезда из дома доктор Ренар позвонил снова. Как приятно было услышать знакомый старческий голос! Тем более, сообщал он опять хорошие вести: вчера тетя заявила, что будет теперь совершенно здорова. Так приказал голос.
— «Он доволен мною и больше не станет меня мучать…» Это ее собственные, точные слова, — пунктуально доложил Ренар. — И знаете, она действительно совсем успокоилась. Я нарочно не стал вам звонить вчера, решил понаблюдать за нею. Никаких эксцессов.
— Отлично. Дело близится к развязке, — обрадовался Жакоб, когда я передала ему эти новости.
— А может, они испугались и решили отступиться, оставить тетю в покое? — с надеждой сказала я.
— Вряд ли. Затеяна слишком крупная и опасная игра, чтобы выходить из нее, не добившись своего Они оставили вашу тетку в покое лишь на время, чтобы окружающим казалось, что она поправилась, стала нормальной и вполне отвечает за свои поступки. Я же говорил: им непременно придется так поступить. Как видите, мои прогнозы оправдываются. Мы разгадали их тактику. Теперь они перейдут к решительной атаке. Чтобы их опередить, нужно непременно узнать, каким образом проникает к вам в дом этот хитроумный голос. Где же спрятан приемник? Если бы удалось тетю переселить хоть ненадолго в другую комнату, мы бы с Вилли его нашли…
— А вдруг никакого приемника нет?
Жакоб прищурился и насмешливо спросил:
— Телепатия?
— А почему бы и нет? Или вы считаете всех, кто верит в телепатию, жуликами и шарлатанами?
— Ну, зачем же так утрировать… Многие честно заблуждаются, принимая случайные совпадения мыслей или свои неясные ощущения за телепатические явления. Но и жуликов много. Они любят промышлять в мутной водичке, а в этой области наших знаний о человеческой психике как раз еще много темного… — Он неожиданно засмеялся. — Рассказать, какую забавную штуку выкинули два жулика с моим учителем, профессором Рейнгартом? Он увлекается телепатией и даже написал о ней несколько нашумевших статей. В частности, в одной из них он описал и совершенно удивительные способности этих двух хитрецов. Они проделывали у профессора в доме такой опыт. Один из них — индуктор — поднимался на второй этаж, в кабинет, и там профессор Рейнгарт называл ему какое-нибудь слово, цифру или целую фразу. Индуктор клал профессору руки на плечи, несколько минут, не отрываясь, смотрел ему в глаза, сосредоточивался, потом говорил: «Готово!» Профессор спускался по лестнице на первый этаж. Там его поджидал второй телепат — перципиент, который тоже, положив ему руки на плечи и так же пристально глядя в глаза, совершенно безошибочно называл загаданное число или слово. Переговариваться тайком оба телепата между собою не могли, находясь на разных этажах большого дома, в комнатах без телефона.
— Поразительно! Неужели вас этот пример не убеждает?
— Нет, потому что это было элементарным жульничеством.
— Как?
— Оказалось, индуктор держал в кармане кусочки липкой бумаги и незаметно, в кармане же, каракулями записывал на них слова или цифры, которые ему называли. Потом, проделывая внушительную церемонию с возложением ладоней и заглядыванием в глаза, он приклеивал записочки на плечи ничего не подозревавшего «исследователя». Когда профессор приходил к перципиенту, тот читал, что написано у него на плечах, и торжественным жестом незаметно снимал с них записочки. Уважаемый профессор служил просто почтальоном между двумя жуликами…
Мы посмеялись, потом я спросила:
— И, конечно, разоблачили все это вы?
— Ну, — ответил он с явно напускной скромностью, — у профессора есть и другие ученики… Но этот забавный случай лишний раз показывает: мало быть профессором, чтобы уличить шарлатанов. Тут требуются специалисты, знатоки всяких трюков…
— Рыбак рыбака…
— Вот именно.
— Странно, что учитель не передал вам свой интерес к телепатии. Или после этого случая он тоже перестал верить в нее?
— Увы, нет. Просто огорчился, что бывают на свете нехорошие люди, и начал искать новых телепатов.
— Но жалко, если телепатия — сплошное жульничество, — вздохнула я. — Хочется верить, что на свете есть еще чудесное и непознанное. А вам? Иначе жить станет скучно.
— Мне тоже жалко, — засмеялся Жакоб. — Я люблю всякие загадки. Меня интересует судьба пропавшего без вести путешественника, корабля, не вернувшегося из плавания, летчика, который отправился в полет через океан и не оставил видимых следов своей гибели… Я люблю тайны, и они не дают мне покоя, пока их не разгадаю. Но вы ошибаетесь, если думаете, будто мир становится беднее тайнами У загадок природы замечательное свойство: чем больше их разгадывают, тем больше новых тайн возникает впереди. Только не надо обманывать себя и других и создавать загадки искусственно, где их нет.
— Вы становитесь мудрым и поучающим, как старенький доктор Ренар, — пошутила я. — Но, по-моему, все-таки нехорошо быть всегда трезвым рационалистом…
— Это я — то трезвый рационалист?! — возмутился Жакоб. — Выступаю факиром, по первому вашему зову ввязываюсь в тайну «гласа небесного»!
— Но ведь вы это делаете, чтобы разоблачить тайну…
— Мнимую тайну, — резко ответил он. — Такие мешают людям жить, закрывая им глаза мистической пеленой и делая их жертвами всяких проходимцев.
— Но что опасного или нехорошего в моей вере в телепатию? — защищалась я. — Как вы меня ни убеждайте, я в нее верю. Верю, и все!
— Ну и на здоровье, — засмеялся Морис. — Я просто пытался вам объяснить, что дело с телепатией обстоит гораздо сложнее, чем кажется. А чем сложнее, тем интереснее. И скажу вам по секрету, — добавил он, понизив голос и наклонясь ко мне, — в ученом труде я бы в этом не признался, но тут нас, кажется, никто не слышит: я тоже разделяю ваше желание, чтобы телепатия оказалась реальностью. Некоторые опыты как будто это доказывают.
— Какие же? — загорелась я.
— Прежде всего опыты по мысленному внушению животным. Их немало провел замечательный русский дрессировщик Дуров. Очень интересный был человек — талантливейший исследователь, всегда пытавшийся проникнуть в суть непонятных, загадочных явлений, а не отмахиваться от них. Особенно интересные опыты он проводил со своими собаками. В них участвовал и академик Бехтерев, о котором я как-то поминал, оставивший протокольную запись, так что достоверность этих наблюдений вне всяких сомнений…
— Что же можно внушить собакам? — недоуменно спросила я.
— Ну, скажем, пойти в прихожую и принести оттуда одну из трех телефонных книжек, лежащих на столике.
— И собака выполняла?
— В большинстве случаев — да. Или, скажем, подбежать к пианино, вскочить на подставленный стул и ударить лапой по правой части клавиатуры. Собака так и делала.
— И это ей внушалось мысленно?
— А как же иначе? Ведь собаке не скажешь: «Пойди туда-то и принеси то-то». Она не поймет. А вот если мысленно, максимально сосредоточась, как бы самому проделать то, что приказываешь собаке, то, оказывается, она понимает и делает. В том-то особый интерес и ценность этих опытов. Собака да и любое другое животное не понимают человеческой речи. С ними нельзя заранее договориться, чтобы они выбрали из трех книг одну или пролаяли шесть раз, а не четыре или пять. Так что возможность предварительного сговора исключается…
— А вы не делали такие опыты?
— Нет, все только собираюсь, — виновато ответил Жакоб. — Но я занимался гипнотическим внушением на расстоянии — тоже весьма любопытно. Несколько раз мысленно приказывал своему ассистенту Жану прийти вечером в лабораторию.
— И он слушался?
— Обычно — да. И забавно, что не мог объяснить, почему вдруг явился. Когда я его спрашивал, он удивлялся и отвечал смущенно: «Не знаю, шеф… Так просто… Захотелось прийти…» Но, правда, опыт нельзя признать совсем чистым, потому что его я подвергал гипнозу и раньше.
— А это что-нибудь меняет?
— Конечно. Такие люди потом легче поддаются гипнотическому внушению. Вспомните женщину, так эффектно прозревшую на «космическом шабаше»… — Закурив сигарету, Жакоб добавил: — Я пробовал и усыплять Жана на расстоянии…
— Вы опасный человек! И получалось?
Он кивнул
— Получалось, но при одном условии. Если я просто мысленно приказывал: «Засыпайте! Спите!», как на обычном сеансе гипноза, ничего не выходило. Надо мне было непременно зрительно представить себе, как он постепенно засыпает. Точно так же как у Дурова с собаками, обратите внимание!
— Вот видите, а пытались меня разубедить! — воскликнула я. — Сами себе противоречите. Почему же вы сомневаетесь, что и поклонники «Космического пламени» не могут общаться между собой мысленно?
— А вы подумайте, ответ я вам только что подсказал.
— Вы что, и надо мной опыты ставите? — недовольно спросила я. — Пытаетесь устроить мне экзамен, словно школьнице? Как у вас эти вопросы называются, которые вы задаете, чтобы проверить умственные способности испытуемых?
— Тесты. Но я ничего не проверяю. Просто хочу, чтобы вы тоже приняли участие в расследовании этого хитрого дела и повнимательнее наблюдали за тем, что творится вокруг. Ведь вы — мои глаза: только через вас я и могу держать под наблюдением вашу тетю.
— Согласна, но все равно не могу догадаться, в чем тут дело. Подскажите.
— Вспомните хорошенько, какие вопросы задавали на «космическом шабаше» спящей красавице.
— О видах на урожай винограда, о биржевых сделках…
— Вот именно! Ведь я только что рассказывал, как у Дурова в опытах и у меня при мысленном внушении выполнялись лишь те задания, которые давались непременно в образной форме: открыть дверь, пройти в прихожую. Или закрывать глаза, сладко потягиваться, начать засылать… Эти «космические» шарлатаны ухватились за самую распространенную и шаблонную гипотезу, будто телепатия — биологическая радиосвязь, и довольно ловко разыграли спектакль с мнимым мысленным внушением… Но они не учли, что нельзя мысленно передать отвлеченные, абстрактные понятия: биржевые акции, урожай. Такие задания, как у них, мысленно передать невозможно. Этим они и выдали себя. А какие сложные задания дает вашей тете «глас небесный»? Внушение тут бесспорное, но телепатия ни при чем. Конечно, они пользуются радиопередатчиком, а у вашей тети где-то спрятан приемник…
— Скажите, а можно внушить человеку, чтобы он совершил преступление? — спросила я, вспоминая искаженное ненавистью лицо тети, когда она вдруг бросилась меня душить.
Видимо, Жакоб догадался, о чем я думаю, потому что ответил уклончиво и внимательно посмотрел на меня.
— Вообще-то считается, будто это невозможно. Нельзя якобы заставить человека даже в гипнотическом сне совершать такие поступки, которые противоречат его моральным убеждениям. Правда, некоторые опыты как будто показывают иное, но они ставились, разумеется, только в лаборатории и признаны не слишком убедительными. Скажем, усыпленному человеку приказывали броситься на кого-нибудь с игрушечным кинжалом, и он выполнял. Но возникают резонные сомнения: может, где-то в глубине сознания испытуемый все-таки понимал, что кинжал игрушечный и задание дано не всерьез…
— А как же тогда тетя… — начала я, но Морис остановил меня жестом.
— Но я думаю, — продолжал он, — это все-таки возможно, если только построить внушение так, чтобы оно не противоречило чувству совести или долга.
— Каким образом?
— Очень просто. Внушите усыпленному, что через какое-то время после пробуждения на него набросится тигр. И тогда вместо человека, которого вы задумали убить его руками, он увидит тигра и, спасая свою жизнь, не задумываясь, выстрелит ему в голову. Или подсыплет кому-нибудь яд, если ему внушить, будто это спасительное лекарство.
— Ужас! — прошептала я. — Какие страшные вещи вы говорите. Значит, от этого голоса можно всего ожидать! А мы медлим…
— Мне нужен Вилли, — развел руками Жакоб.
Затишье перед бурей
Было такое чувство, словно я вырвалась из сумасшедшего дома, куда меня засадили совершенно здоровой и нормальной, — так спокойно и размеренно шла теперь жизнь.
По утрам доктор Жакоб обычно работал у себя в лаборатории на втором этаже. Иногда я заходила туда, но ненадолго, боясь помешать.
Тут царила строгая атмосфера. Хромом и сталью поблескивали в стеклянных шкафчиках инструменты. Жакоб и два молодых бородатых ассистента в накрахмаленных белых халатах возились со сложными приборами, изредка перебрасываясь фразами, звучавшими для меня загадочнее марсианских.
Они проводили опыты с собаками, большая свора которых носилась по всему саду, отпугивая от ограды редких прохожих, с обезьянами, кроликами, даже со змеями.
Я люблю всяких зверюшек. В детстве у меня долго жила лиса, и я увлекалась кроликами, расставаясь с ними каждый раз с горьким плачем. Так что в зверинце Жакоба я с удовольствием проводила целые часы. Я быстро подружилась со всеми собаками. Правда, змей я сторонилась. Змей я ненавижу и боюсь, не магу смотреть без содрогания на обыкновенного ужа, хотя все уверяют, будто они совершенно безвредны. Даже когда в кино или по телевизору показывают змей, я зажмуриваюсь и не открываю глаза, пока они не исчезнут с экрана.
Нередко Морис и боготворившие его ассистенты подвергали себя довольно жестоким, по-моему, опытам: силой самовнушения изменяли ритм сердца, за несколько секунд повышали у себя температуру на четыре-пять градусов, заставляли организм выделять больше инсулина. Все это контролировалось приборами.
Иногда они усыпляли друг друга и проделывали в гипнотическом сне удивительные вещи: вспоминали то, что казалось совсем забытым, моментально останавливали нарочно вызванное кровотечение (увидев это своими глазами, я начала верить в чудесную способность некоторых людей «заговаривать кровь»), вызывали самые настоящие ожоги прикосновением совершенно холодной металлической палочки.
Глядя на это, я начинала верить, что Морис ведет важную научную работу.
Специально для меня он самовнушением заставил однажды появиться у себя на запястьях кровоточащие стигмы, но я расплакалась, и Морис поскорее внушил себе, чтобы они исчезли.
Потом он еще раз повторил «явление стигм» на одной из своих «лекций с фокусами». Побывав на нескольких таких удивительных лекциях, я стала понимать, каким важным и нужным делом занимается Жакоб во время этих выступлений. Ведь он не только в очень живой и занимательной форме раскрывал перед самыми различными людьми новейшие научные знания и разоблачал всякие живучие суеверия, но и прямо тут, у всех на глазах, проводил сложнейшие опыты над своим мозгом и телом, исследуя их скрытые удивительные возможности.
Чего только он не проделывал! В несколько минут выращивал прямо на кафедре апельсиновое деревце с настоящими вкусными плодами, по примеру индийских йогов. Сыпал в хрустальную вазу с водой разноцветный песок — и тут же, как факир, вынимал его горстями совершенно сухим и даже рассортированным по цветам…
Его клали в саркофаг из толстого льда, закрывали ледяной крышкой и обвязывали сверху стальными цепями. Потом этот ледяной гроб запирали в автофургон-холодильник (лекция проходила в парке, на воздухе). Сотни людей глаз не сводили с фургона, но через десять минут улыбающийся Жакоб оказывался на свободе!
Он пришивал себе перчатку к руке — и без всякого обмана! Морис действительно прокалывал себе руку насквозь, не испытывая боли. На одной из лекций он даже проткнул себе насквозь шею острой рапирой, не повредив ни кровеносных сосудов, ни нервов. Это делалось перед рентгеновским аппаратом, установленным тут же, и все могли видеть, что рапира прошла возле самого позвоночника, а Морис шутил и улыбался!
И, показывая эти удивительные трюки, он каждый раз настойчиво напоминал и втолковывал слушателям, что для выполнения их вовсе не нужно обладать сверхъестественными способностями, быть факиром. Нет никакой мистики и чудес — все дело лишь в тренировке и силе воли, превращающей его тело в чудесный послушный инструмент.
Все равно я часто ужасалась, а потом, по дороге домой, начинала его отчитывать,
— Но я в самом деле не испытываю никакой боли, — со смехом уверял Морис. — Если хотите, это даже полезно для здоровья, как всякая физкультура.
Я не верила, и однажды он показал мне фотографию какого-то щуплого паренька с бледным, исхудалым лицом.
— Кто это?
— Я, — ответил Морис.
Глядя на его круглое, еще больше расплывшееся от широкой улыбки лицо, я ответила:
— Не может быть!
— Правда. Таким заморышем я был в тринадцать лет. Надо эту карточку тоже поместить в музей «чудесных исцелений»…
Я видела этот забавный «музей». Там хранились костыли, ставшие ненужными инвалидам, которых доктор Жакоб вылечил внушением от нервного паралича, висели фотографии прозревших слепцов и заговоривших немых.
— Трудно поверить, что я был неправильно сложен от рождения, — задумчиво продолжал Жакоб, рассматривая старую карточку. — Часто болел, мать таскала меня из одной клиники в другую. Мне это надоело, и я под влиянием всяких приключенческих книжек решил доказать- прежде всего самому себе, — что воля может творить чудеса. До сих пор помню, как лежал ночью в больничной палате, все кругом спали, а я стиснул зубы и думал: «Ты должен стать сильным, ты не чувствуешь никакой боли!» Повторял заклинание снова и снова, пока оно не вошло в мою плоть и кровь, и я в самом деле перестал ощущать боль. Врачи только головами качали.
— Напоминает рецепт доктора Ренара, — недоверчиво сказала я. — А он мне не очень помог.
— Ну, во-первых, он вам дал довольно примитивный рецепт. А во-вторых, много ли вы занимались самовнушением? «Надо себя дрессировать», любил говорить Чехов, и заниматься этим всю жизнь. Выйдя из больницы, я всерьез занялся тренировкой тела и воли и продолжаю каждый день.
— Занялись фокусами? — насмешливо спросила я.
— И довольно успешно, — ответил он, показывая на стену, где были развешаны самые удивительные дипломы, какие мне приходилось видеть.
«Чемпион факиров 1965 года…», «Известный во всем мире…», «Почетный член объединения «Магишес ринг», «Лауреат Международного фестиваля иллюзионистов» — у него была всемирная слава.
Но я не могла удержаться и подтрунивала над ним:
— Представляю, как интересно, наверное, проходят у фокусников профсоюзные собрания! Как они голосуют- поднимая отрубленные головы? А заболтавшегося докладчика, наверно, просто превращают в невидимку или окаменевшую статую?
— Вы все смеетесь, а когда меня изгнали из университета и настали трудные времена, цирковые выступления очень помогли не сдаться. А то бы мог и сломиться, пойти на попятный, как старик Анри.
Он помрачнел от воспоминаний, помолчал, а потом добавил:
— Учтите еще одно: деньги, которые я добывал факирскими фокусами в поте лица своего, пошли целиком на науку. Без них никогда бы я не имел такой лаборатории. У нас в стране за год отпускается на исследования высших психических способностей человека денег в два раза меньше, чем стоит один средненький танк…
— Неужели?
— Официальные данные. А вы говорите — фокусы… Но главное, я научился хорошо владеть своим телом и волей. Теперь могу на несколько минут останавливать свое сердце, выдерживать на грудной клетке, волевым усилием напрягая мышцы, до полутонны груза. Даже аппендицит мне вырезали без наркоза — я просто «выключил» боль.
— Вот бы мне научиться! Я ведь реву уколов палец булавкой.
— Уверен, все люди могут научиться владеть собственным телом и управлять своей психикой. Для этого мы и работаем, И до чего же интересно!
Круглое лицо его раскраснелось, глаза блестели. Увлекшись, он опять начал продевать сквозь щеку горящую сигарету, но я уже привыкла и не пугалась.
— Удивительные открываются просторы! Скажем, боль. Она необходима как сигнал о нарушениях в работе организма. Но эту ее защитную роль не надо преувеличивать. В чудесной сказке Кэрролла Белая Королева вскрикивала до удара, а не после него. Не так глупо и забавно, как может показаться. Обратите внимание: когда наступите невзначай босой ногой на гвоздь или на острый камешек, то сначала машинально отдергиваете ногу, а боль ощущаете лишь потом. Информация об опасности попадает в мозг быстрее, чем болевые ощущения. Так что боль нередко оказывается для организма бесполезной, а в больших количествах даже вредной, ослабляя его. Дать людям способность контролировать чувство боли, «выключать» его по желанию — разве не заманчиво?
Во время таких бесед в лаборатории, за чашкой утреннего кофе или в машине по дороге домой после лекции Морис делился своими замыслами и мечтами. Мы совершали прогулки в горы, подальше от шумных туристов. Было даже странно сидеть в сосновой роще на теплых, нагретых солнцем замшелых камнях и смотреть, как внизу непрерывным потоком мчатся вдоль Лазурного берега автомашины со всего света и толпы людей муравьями снуют по улочкам Монтре, а вокруг нас — первозданная тишина.
Или мы заплывали на лодке далеко от берега, оставаясь наедине с небом и лохматыми облаками. Я смотрела на облака, опустив руки в ласковую воду, а Морис рассказывал о том, как было бы интересно овладеть секретами памяти, чтобы научиться управлять ею — вспоминать в малейших деталях любое пережитое прежде событие или за считанные минуты запечатлевать в мозгу знания и навыки, на приобретение которых пока приходится тратить годы.
— Опыты показывают, что практически мы запоминаем все, — говорил он. — Только, к сожалению, далеко не все можем вспомнить по желанию. Прежние впечатления таятся где-то в глубинах подсознания, а как добраться к ним, мы не знаем.
Очень увлекательно он фантазировал о том, какие удивительные возможности откроются перед людьми, когда удастся наконец познать в деталях, как преобразуются в мозгу все ощущения, воспринимаемые нашими органами чувств.
— Представляете, если мы раскроем электрохимический код, с помощью которого изображение где-то в глубинах нашего мозга превращается в образ, то сможем вернуть зрение всем пораженным слепотою людям! Или подключить к нашему мозгу органы чувств любого существа — все равно, человека или животного — и посмотреть на мир его глазами. Разве не заманчиво увидеть то же, что и орел, парящий в небе, или, скажем, ныряющий в глубины океана кашалот? Вполне возможно, если мы научимся передавать по радио в наш мозг соответствующие импульсы от органов чувств кита или птицы.
— Ну, это уже фантастика!
— Ничуть. Когда вы прикасаетесь к чему-нибудь, вы ведь не замечаете, что ваш мозг находится не в кончиках пальцев, а на расстоянии доброго метра от них. Увеличьте расстояние до тысячи километров, и вы не заметите, потому что радиоволны преодолеют его все равно быстрее, чем бегут нервные импульсы вдоль руки. Так что, оставаясь на Земле, у себя в комнате, вы сможете отправить свои органы чувств на другие планеты, все видеть, слышать, ощущать, обонять, осязать воочию!
— Вы мечтаете, как улучшить человека и сделать его сильнее, — покачала я головой. — А другие надеются с помощью ваших открытий превратить людей в послушных рабов, в живых роботов…
— Да, вы правы. — Жакоб сразу помрачнел. — Таких, к сожалению, немало. Как меланхолически заметил один философ: «Когда в науке делается открытие, дьявол сразу же хватается за него, пока ангелы обсуждают, как его лучше использовать…» И огонь становится не добрым, опасным, если он не горит в печке, а охватывает дом. Надо бороться, чтобы наши открытия не попадали в грязные руки проходимцев. Вот я с ними и воюю. Но нелегко. Ведь каждого жулика приходится разоблачать заново. Об этом напоминал в свое время еще Энгельс…
— Энгельс? — переспросила я.
— Да.
— Он тоже занимался разоблачением шарлатанов?
— И весьма успешно. Написал специально статью по этому поводу — «Естествознание в мире духов».
— Простите за мой вопрос, но… вы — коммунист? — не удержалась я.
Доктор Жакоб посмотрел на меня с усмешкой и ответил:
— Допустим, да. А вы боитесь довериться коммунисту?
— О нет, что вы, — пролепетала я и поспешно добавила: — Но я вас перебила. Так что же говорил Энгельс?
— Не помню дословно, но смысл такой: пока не разоблачишь каждое отдельное мнимое чудо, у шарлатанов остается достаточно почвы под ногами. В том-то и трудность.
Морис рассказал мне историю Пауля Дибеля. Он был простым рабочим, шахтером и жил неподалеку от одного селения в Баварии, где мистики устроили очередное «чудо»: у крестьянки Терезы Нейман каждую пятницу начали появляться кровоточащие стигмы как напоминание о муках распятого Христа. Суеверные люди стали совершать паломничество, чтобы получить благословение новоявленной «святой».
Дибель с юности увлекался фокусами и знал их секреты. Он начал под именем факира Зин-Долора повторять на арене местного цирка все «чудеса», происходившие с Терезой Нейман, объясняя зрителям их вовсе не божественную природу.
— Прошло тридцать лет, — сказал Жакоб. — Дибель уже умер, а Тереза Нейман стала старухой. Но к ней по-прежнему приходят тысячи богомольцев.
— Да, суеверия живучи, я тоже об этом думала, — сочувственно кивнула я и рассказала о своих размышлениях во время гнетущего бессильного одиночества, так замучавшего меня, когда проклятый голос заставлял тетю то впадать в детство, то никого не узнавать.
— Суеверные предрассудки людей, живущих в глухих долинах у подножия «Игрища дьявола», еще можно как-то понять, — продолжал доктор Жакоб. — Но ведь и «просвещенные интеллигенты» не отстают. Во время Всемирной выставки в Нью-Йорке американские психологи попробовали подсчитать, какой процент среди посетителей составляют суеверные люди. Они решили проверить их лишь на одном из многих суеверий, широко распространенных в Штатах: кто пройдет под лестницей-стремянкой, того, дескать, ждут большие неприятности.
— Есть такая примета? — удивилась я.
— Каких только нет! В одном из павильонов на самом пути, как будто случайно, поставили такую лестницу. Она была высокой, проходили под ней совершенно свободно, а иначе приходилось делать крюк. И фотоэлементы незаметно подсчитывали всех, кто обходил лестницу стороной. Знаете, сколько таких оказалось.
— Не буду гадать. Много?
— Семьдесят процентов из нескольких миллионов посетителей! И не удивительно: ведь суеверия выгодны, их усиленно насаждают, поддерживают. Сейчас в Америке не меньше тысячи газет ежедневно печатает предсказания астрологов. Там насчитывается около тридцати тысяч официально практикующих «звездных предсказателей», выкачивающих за год из карманов простаков кругленькую сумму в двести миллионов долларов. Эти бы деньги на научные исследования! Да хотя бы просто на нужды образования -ведь на них можно кормить в течение двух лет бесплатными завтраками всех американских школьников. Но, чтобы открыть людям глаза, нужно уличить и разоблачить каждого из этих тридцати тысяч шарлатанов…
В увлекательных беседах и прогулках незаметно пролетело десять дней. Жить в мире доктора Жакоба было очень интересно. Я хорошо узнала Мориса, мы подружились. Я даже начала писать его портрет, сразу в двух ликах: за опытами в лаборатории и в чалме и набедренной повязке. Получалось любопытно, работа меня захватила- вот насколько я пришла в себя.
Мрачные и тревожные мысли я старалась гнать прочь, но это плохо удавалось. Особенно часто я задумывалась: откуда взялся второй голос — дядин?
Морис тоже был озадачен:
— Может быть, ей только кажется, что она его слышит? Горан ей внушает эту галлюцинацию…
— А если тетя слышит голос покойного дяди Франца на самом деле? — допытывалась я. — Значит, она больна? Сходит с ума?
Морис успокаивал меня, но тревога не проходила.
Каждые два-три дня я звонила доктору Ренару. С тетей все было хорошо, полное впечатление, что она совершенно выздоровела, старался он меня порадовать. Но я не могла избавиться от мысли, что затишье это перед бурей.
И буря грянула…
Вечером, когда мы весело болтали с Морисом и матушкой Мари, вдруг зазвонил телефон — требовательно, настойчиво.
— Наверное, Вилли, — обрадовался Жакоб, хватая трубку. — Похоже, междугородная…
Но это был не Вилли.
Жакоб тут же передал трубку мне, и я услышала взволнованный голос доктора Ренара:
— Алло, это вы, Клодина? Алло!
— Да, да, я слушаю!
— Приезжайте немедленно: она хочет вас видеть.
— Что случилось?
— Она собирается вызвать нотариуса и сделать какие-то распоряжения. Хочет, чтобы вы присутствовали. Слышите?
— Да, слышу. Одну минуточку, доктор… — Прикрыв ладонью трубку, я повернулась к Жакобу: — Она требует нотариуса. Что делать?
— Ага, началась решительная атака, — пробормотал Морис. — Они нас опережают. Надо ехать.
Я кивнула и сказала в трубку:
— Дорогой доктор, я еду! Сейчас же выезжаю, ближайшим поездом.
Положив трубку, я посмотрела на Жакоба.
— Поезжайте и постарайтесь ее переубедить, — сказал он. — Как только появится Вилли, мы поспешим к вам на помощь. Попытайтесь любым способом к тому времени перевести ее в другую комнату — хоть на одну ночь…
— Вы говорите так, словно не очень верите в успех.
— Да, отговорить ее вам вряд ли удастся, — честно признался Морис. — Но хоть потяните время. Старайтесь отговаривать ее спокойно, логично, не горячась, всячески подчеркивайте, что считаете ее совершенно здоровым и разумным человеком. И непременно звоните мне каждый вечер — от шести до семи. Я буду дежурить у телефона.
Возвращение в ад
Тетя встретила меня приветливо и тепло, так что у меня немножко отлегло на сердце.
Она искренне радовалась моему возвращению, выглядела совершенно спокойной, здоровой, нормальной, словно все недавние ужасы мне приснились в кошмарном сне. Тетя пополнела, на щеках у нее появились прежние лукавые ямочки, которые в детстве я любила, бывало, целовать, уходя спать.
Как в добрые, безмятежные старые вечера, мы снова сидели втроем на веранде и пили чай с душистым клубничным вареньем. Тетушка заботливо расспрашивала, не устала ли я в Париже. Доктор Ренар посасывал кривую трубочку. В дверь заглядывали то кухарка, то Розали и умилялись.
Тетя не поминала о нотариусе, а я не задавала никаких вопросов.
Спокойным и безмятежным выдалось и утро следующего дня.
Перед завтраком мы с тетей и доктором Ренаром бродили по саду, слушая веселую перекличку птиц и болтая о всякой всячине. И только когда сели за стол, тетя мимоходом вдруг сказала:
— Да, я звонила нотариусу, он сегодня приедет.
Стараясь говорить так же спокойно и буднично, как она, я спросила:
— А зачем тебе нужен нотариус, тетя?
— Составить одну бумагу. Я тебе потом расскажу.
До конца завтрака я сидела как на иголках.
Со стола убирали посуду. Доктор Ренар ушел в сад, чтобы, как всегда, вздремнуть на скамейке в укромной тени.
Мы с тетей остались одни, и она сказала:
— Я много думала последние дни и твердо решила: нам надо изменить свою жизнь. Мы не так живем, недостойно…
Она строго посмотрела на меня. Я молчала, ожидая продолжения.
— У нас слишком много денег, и они мешают нам жить так, как пристало порядочным людям. Я решила оставить себе только этот дом, а все деньги отдать на святые дела. Такова и воля Франца. Он сегодня снова подтвердил ее, — сказала она так просто, словно речь шла вовсе не о человеке, умершем почти год назад. — Ты неплохо зарабатываешь, нам хватит, если, конечно, ты не бросишь меня.
Дальше молчать уже было неприлично, и я торопливо проговорила:
— Конечно, нет, тетя, как ты могла подумать! А кому ты решила отдать деньги?
— «Братству голосов космического пламени».
Я помнила наказ доктора Жакоба и как можно спокойнее и мягче спросила:
— Но почему именно им, тетя? Можно передать деньги какому-нибудь фонду защиты детей. Наконец, просто раздать нуждающимся. А это «Братство»… Ты ведь его совсем не знаешь, никогда у них не была. Почему тебе захотелось отдать деньги именно им?
Этого говорить не следовало.
Тетя сразу помрачнела, насупилась, замкнулась, словно улитка, поспешно прячущаяся в раковину.
— Ты опять пытаешься изобразить меня ненормальной? — грозно спросила она.
— Нет, что ты! Просто меня немного удивило твое решение. Ведь мы ничего не знаем об этих «братьях»…
— Это он почему-то думает о них плохо. А я знаю, что они достойные, честные люди и творят добрые дела. Поэтому и хочу им помочь…
Я все-таки не удержалась и спросила:
— Так тебе сказал голос?
Этого мне совсем не следовало говорить! Тетя встала и безапелляционно сказала:
— Пожалуйста, после обеда никуда не отлучайся. Приедет нотариус. И доктора Ренара попроси, пожалуйста, от моего имени не уходить. Вы подпишетесь как свидетели, — и, не ожидая моего ответа, ушла к себе.
Я побежала в сад, нашла доктора Ренара, дремавшего на скамейке в глухой аллее с газетой в руках, поспешно и не очень вежливо разбудила его и рассказала о нашем разговоре.
Он выслушал меня не перебивая, но ничего не ответил.
— Что же вы молчите? Посоветуйте, что делать.
— Не знаю, — беспомощно ответил старик, пожимая плечами. — Я совсем запутался, Кло.
— Надо ей помешать!
— Как?
— Ведь она ненормальна, надо ей запретить подписывать эту бумагу.
— Она совершенно нормальна, — покачал головой Ренар.
— Но ведь ей внушил это голос!
— Это вы утверждаете с доктором Жакобом. Но доказательств нет. Как медик, постоянно наблюдающий за нею, я должен сказать, что она действительно была одно время нездорова, но теперь поправилась.
— Поэтому тетя и приглашает вас в свидетели вместе со мной — именно потому, что вы думаете, будто она выздоровела. Но она больна, больна, уверяю вас!
— Любой консилиум признает ее совершенно здоровой и юридически дееспособной. Скорее вас, дорогая моя, признают ненормальной, послушав ваши рассуждения о каком-то голосе, что-то внушающем тете.
Доктор Ренар рассуждал трезво. И все-таки нужно же что-то предпринять!
Я кинулась звонить Жакобу, все время оглядываясь на дверь — как бы не вошла тетя. Но никто не отвечал, даже матушка Мари, видно, куда-то ушла.
Злиться было бесполезно. Ведь мы договорились, что я буду звонить по вечерам. Не мог же Морис целыми днями сидеть у телефона, словно на привязи.
Я снова помчалась в сад, нашла доктора Ренара в задумчивости расхаживающим по аллейке и, с трудом переводя дыхание, попросила:
— Милый доктор, а вы не можете все-таки объявить ее ненормальной? Хотя бы на несколько дней, пока Морис что-нибудь не придумает…
— Но моя врачебная честь… Как вы могли мне предложить это? — ответил он, насупившись, таким тоном, что я пожалела о своей просьбе, и проговорил наставительно: — «Если хочешь поступать честно, принимай в расчет и верь только общественному интересу, а не окружающим людям. Личный интерес часто вводит их в заблуждение…»
— Опять Гольбах? — сердито спросила я.
— Нет, Гельвеции, — и грустно добавил, опустив седую голову: — Я и так уже начал ей лгать из-за вас, Клодина…
Обед прошел в тягостном, похоронном молчании. А вскоре после обеда за воротами раздался требовательный гудок автомобиля.
Я никогда не встречалась с нотариусами и представляла их по читанным в детстве романам Диккенса. Поэтому, когда вместо зловещего сухопарого старика крючкотвора в торжественном черном сюртуке появился совсем молодой человек спортивного вида, я изумилась. И приехал он не в старомодной карете, а в новеньком ядовито-красном «ягуаре».
Молодой человек, с машинальной учтивостью склонив стриженую голову, внимательно и безучастно выслушал, что ему сказала тетя, и деловито застучал на привезенной портативной машинке. Через несколько минут он положил на стол документ, который нам предстояло подписать.
Тетя дважды внимательно прочитала его и твердо, решительно подписалась. Потом как свидетель подписался доктор Ренар, стараясь не смотреть в мою сторону.
Настала моя очередь. Теперь они все трое смотрели на меня: тетя — сердито и требовательно, со все нарастающим гневом, старенький доктор Ренар — сочувственно и, как мне показалось, виновато, а молодой нотариус — просто с досадой на непонятную задержку.
— Ну? — насупилась тетя.
Я взяла ручку и подписала, стараясь не разрыдаться. Глаза мне застилали слезы, я ничего не успела прочитать, кроме заголовка «Дарственная» и первых двух строчек:
«Я, нижеподписавшаяся, Аделина-Мария Кауних, находясь в здравом уме и твердой памяти…»
Швырнув ручку на стол, я убежала в сад и там наплакалась вдоволь. Несколько раз мимо проходил озабоченный доктор Ренар, негромко окликая меня. Но я забилась в самую глушь кустов и не отзывалась.
Так я просидела до темноты, а потом пошла в кафе у шоссе и позвонила Жакобу.
— Н-да, все осложняется. Жаль, что не удалось отговорить ее, — сказал он, выслушав мой рассказ. — Хотя, впрочем, это вряд ли было возможно. Уж они, конечно, постарались ее обработать как следует. Так что не огорчайтесь. А вот вам подписывать, пожалуй, не стоило.
Помолчав, словно ожидая от меня ответа, он добавил:
— Попробуем задержать вступление дарственной в силу Что-нибудь придумаем. Вы слышите меня?
— Слышу.
— Но не верите, да?
— Вилли ваш приехал наконец? — ответила я встречным вопросом.
— Звонил, что завтра прилетает. Мы с ним сразу же приедем. Можно будет остановиться у доктора Ренара?
— Думаю, да. Он проникся к вам большим уважением.
— Предупредите его, пожалуйста, но так, чтобы никто больше не знал о нашем приезде, — как бы их не спугнуть.
Подумав, он добавил:
— Может, вам подать жалобу на незаконность дарственной? С тетей вы, правда, окончательно поссоритесь, но хоть время выгадаем. Впрочем, бессмысленно. Вы же сами подписались свидетельницей, а теперь вдруг придете с жалобой. Глупо. Ладно, потерпите еще, а потом я все возьму в свои руки.
«А что толку?» — хотела я спросить, но удержалась.
— Пожалуйста, до нашего приезда не оставляйте тетю ни на минуту одну. Пересильте себя, сделайте вид, будто ничуть не сердитесь. Следите за нею днем и ночью, ни на миг не выпускайте ее из виду!
— Почему? Зачем вы меня пугаете?
— Я вас не пугаю, а просто прошу быть внимательной Дело приняло серьезный оборот, мало ли что может случиться, — туманно ответил Морис.
Я так устала, что не стала больше его расспрашивать, попрощалась и по тропинке, смутно белевшей в лунном свете, побрела домой.
Ночь была тихой, приветливой, мирной. Уютно и ласково сияли огоньки в селении под горой. Там, кажется, пели…
Мной овладела полная апатия. Хотелось одного: поскорее добраться до постели и завалиться спать. Пропади они пропадом, этот голос и все тревоги!
Я спала до утра как убитая. А потом одно событие за другим начали обрушиваться лавиной, и все понеслось, завертелось, словно в детективном фильме…
Весь день я неотступной тенью ходила за теткой по пятам, стараясь беззаботно и весело болтать и все время с тревогой ожидая какого-нибудь происшествия: ведь не случайно Морис велел быть настороже?
Откуда ждать нападения? Я вспомнила, что рассказывал доктор Жакоб о внушенных преступлениях, и на сердце становилось все беспокойнее…
Но день прошел мирно и спокойно. И, кажется, я хорошо сыграла свою роль: тетя опять подобрела, ледок, образовавшийся между нами после вчерашнего, растаял.
Доктор Ренар охотно согласился приютить у себя Жакоба с его приятелем-инженером.
— Хоть на целый месяц — мне будет только веселее…
После обеда он ушел к себе, чтобы приготовиться к встрече гостей. К ужину опоздал, подмигивал мне, делал таинственные знаки, а улучив удобный момент, шепнул, как опытный заговорщик:
— Приехали. Передают вам привет.
Мне стало смешно. Очень уж все, несмотря на серьезность положения, напоминало игру в сыщиков. Даже доктор Ренар увлекся и чувствует себя великим конспиратором…
Вечером, когда тетя ляжет, я хотела навестить Мориса и познакомиться с долгожданным Вилли. Но все получилось иначе.
После ужина тете стало плохо. Она жаловалась на резкую боль в желудке. Поставили грелку, но боли становились все сильнее. Я позвонила доктору Ренару.
Он осмотрел тетю, побранил нас за грелку и озабоченно сказал:
— Похоже на приступ аппендицита. Надо ее немедленно отвезти в больницу.
Я тут же отвезла напуганную тетю в Сен-Морис. Там врачи тоже решили, что у нее острый аппендицит, и даже начали готовить тетю к операции. Но, к счастью, утром ей стало немножко лучше, она заснула.
В полдень я уже могла уехать домой, — тетя явно поправлялась, хотя врачи хотели еще понаблюдать за нею. Видимо, просто утка с грибами, приготовить которую тетя давно просила Лину, оказалась слишком тяжела для ужина. Или грибы попались не очень свежие.
Едва я вернулась домой, пришли доктор Ренар, Морис и такой же круглолицый и коротко остриженный молодой человек меланхолического вида.
— Познакомьтесь с Вилли, — представил его Жакоб, похлопывая по плечу.
Не очень похож на технического гения…
— Как тетя? — спросил доктор Ренар.
Я рассказала.
— Значит, она еще побудет в больнице? — обрадовался Морис. — Превосходно! Вилли, беги за аппаратурой. Мы сейчас же обследуем ее комнату. Нельзя упустить такую возможность.
Вилли ушел, а Морис торжественно сказал доктору Ренару:
— Я попрошу и вас, уважаемый коллега, присутствовать при этой маленькой вынужденной операции, чтобы ни у кого не возникало сомнений в благородстве и чистоте наших намерений.
У старика был недовольный и смущенный вид.
— «Всякого рода беспринципная деятельность приводит к банкротству…» — произнес он.
Но Жакоб сделал вид, что не расслышал.
— Вот и Вилли. Быстро, не будем терять времени.
Инженер достал из сумки целую кучу хитрых приборов, и они с Жакобом начали методично, сантиметр за сантиметром обшаривать пол, потолок, стены.
Доктор Ренар, нахохлившись, сидел у окна.
— Ни-че-го, — сказал Вилли. — Теперь мебель.
Они так же тщательно осмотрели всю мебель, настольную лампу, рамки картин, занавески на окнах, обшарили со своими приборами всю кровать… Осмотрели и соседнюю комнату.
— Непонятно, — обескураженно пробормотал Жакоб, озираясь вокруг.
— Можешь быть спокоен, мы проверили все, — меланхолично откликнулся Вилли, сматывая провода и укладывая приборы в сумку. — Здесь нет никаких приемников.
Жакоб стоял посреди комнаты, покачиваясь на носках, и повторял:
— Совсем непонятно…
Загадки продолжались. Вечером вдруг раздался звонок. Я взяла трубку. Незнакомый женский голос спросил:
— Госпожа Кауних?
— Нет, это ее племянница. Что вы хотели?
— Могу я попросить фрау Кауних?
— Она в больнице. Что вы хотели?
— О, какая жалость! А что с ней?
— Подозревали приступ аппендицита, но, кажется, обошлось.
— Она находится в больнице в Сен-Морисе?
— Да. А кто это говорит?
Трубка не ответила, хотя я некоторое время слышала в ней притаенное дыхание. Потом раздались гудки отбоя.
Кто это был?
А утром позвонили из больницы и сказали, что тетя чувствует себя вполне здоровой и просит поскорее приехать за нею.
— Все прошло за одну ночь, — удивлялся пожилой добродушный врач, провожая нас с тетей до машины. — Упал лейкоцитоз, прошли боли, желудок стал хорошо прощупываться. Поразительно!
Тетя слушала его с легкой усмешкой…
И я вдруг поняла: ночью она опять слышала голос! Это он сделал ее здоровой и приказал вернуться домой.
Мне не терпелось рассказать об этом Морису. Но до вечера я не могла оставить тетю одну. И он не подавал никаких сигналов через доктора Ренара, — наверное, так требовали правила игры… Я немножко обиделась и вечером не пошла к ним.
Только на другой вечер за ужином доктор Ренар украдкой сунул мне записочку:
«Все готово. Если хотите услышать голос, приходите часов в одиннадцать к нам. Морис».
Голос в ночи
Едва дождавшись, когда тетя после ужина уйдет к себе, я без двадцати одиннадцать уже стояла, запыхавшись от быстрой ходьбы, перед калиткой доктора Ренара, над которой приветливо горел кованый фонарь с цветными стеклами.
Хозяин встретил меня и проводил на веранду, густо обвитую диким виноградом. Там сидели за бутылкой вина доктор Жакоб и Вилли.
Инженер помахал мне рукой, не вставая с плетеного кресла.
— Добрый вечер, — сказала я, щурясь от света и осматриваясь по сторонам.
— Добрый вечер, — ответил Жакоб и насмешливо добавил: — Ищете, в каком углу он прячется?
— Кто?
— Голос. Вы так внимательно огляделись, словно надеетесь увидеть его.
— Тетя слышала его и в больнице. Он вылечил ее и приказал поскорее вернуться домой, — перебила его я.
— Вот как? — Морис насупился.
— Выходит, она носит приемник с собой? Он у нее где-то в платье спрятан, — подал голос Вилли.
— Возможно, — пробормотал Морис. — Ловкий голос, что и говорить. Увы, пока еще мы не можем его показать, но он от нас не уйдет. Уже поймали, верно, Вилли?
Инженер молча кивнул, потягивая вино из высокого стакана.
— Две ночки пришлось повозиться, пока нащупали нужную частоту и волну, — продолжал довольным тоном Жакоб, наливая и мне стакан и придвигая стул. — Садитесь, придется немного подождать.
Я села, пригубила вино и попросила:
— Но расскажите толком, кого — или что? — вам удалось поймать? Чему вы радуетесь?
— Голос, — ответил Жакоб. — Я был прав: он вещает по радио, на ультракоротких волнах. Никакой мистики…
— Просто техника на грани преступления, — вставил Вилли и сам первый рассмеялся, приглашая нас оценить его шутку.
— Да, элементарная радиотехника, — кивнул Жакоб и посмотрел на часы. — Скоро убедитесь.
— А долго ждать? — спросила я. — Может, он уже говорит? Или «небесный голос» работает строго по расписанию, как радиостанции?
— Он ждет, когда ваша тетя начнет засыпать, — пояснил доктор Жакоб. — Опыты по гипнопедии показали, что лучше всего информация усваивается в самый ранний период сна, и они это знают! Жулики нынче грамотные.
— Но откуда он может знать, когда тетя засыпает? Он здесь? Следит за нашим домом? — перепугалась я.
— Конечно, — ответил Жакоб. — Это совсем нетрудно. Огни ваших окон прекрасно видны с шоссе. Можно вести наблюдения, сидя в кафе. Разве вы не задумывались, почему ваша тетя слышит голос лишь в будни? Потому что в субботу и воскресенье Горан занят космическими проповедями и не может приезжать сюда из Берна.
— Верно, — прошептала я. — А когда они узнали, что тетя в больнице…
— …поехали туда, — подхватил Морис, снова посмотрев на часы, и встал: — Пора. Начинаем, Вилли.
Инженер неторопливо допил вино, посмотрел па свет опустевший стакан и лениво поднялся.
Мы спустились по ступенькам в ночной притихший сад. Впереди шел доктор Ренар, посвечивая электрическим фонариком. Все выглядело весьма таинственно, — похоже, игра продолжалась…
На площадке за домом чернело что-то громоздкое. Доктор Ренар направил туда луч фонарика — в кустах стоял темно-зеленый автофургон.
Мы подошли к нему. Вилли завел мотор на малых оборотах, потом вылез из кабины и распахнул заднюю дверцу фургона.
Он забрался внутрь, а мы ждали, прислушиваясь к урчанию мотора.
Но вот в фургоне загорелся свет. Инженер высунулся из дверцы и пригласил:
— Залезайте.
— Прошу. — Жакоб подал мне руку и помог забраться в фургон.
В нем оказалась настоящая техническая мастерская или лаборатория: все стены занимали приборы, переплетенные паутиной разноцветных проводов, на столике горела яркая лампа и стоял микрофон, повсюду валялись инструменты. На другом откидном столике я увидела магнитофон.
Инженер колдовал с приборами, щелкал переключателями. Присев на складной стульчик, я с любопытством смотрела, как одна за другой загораются цветные лампочки. Жакоб пристроился рядом и начал возиться с магнитофоном.
Доктор Ренар остался стоять возле фургона, заглядывая в дверь.
В динамике над моей головой защелкало, захрипело, тесный фургончик наполнился обрывками мелодий и голосами, ворвавшимися из ночного эфира. Громыхание джаза сменялось вкрадчивым голосом диктора, нахваливавшего новые моды Кристиана Диора.
«Вы торопитесь? У вас нет времени сосредоточиться? Вы испытываете потребность в наставлении, которое наполнит содержанием ваш наступающий день? Вызывайте Телебиблию!…»
Потом гортанная и страстная речь, похоже, на арабском языке, снова джаз, орган и молитва…
Я никогда не слушала так поздно радио и даже не подозревала, что ночь полна голосов.
Эта какофония оборвалась так же внезапно, как и началась. Теперь из динамика раздавались лишь негромкое гудение да потрескивание электрических разрядов.
И вдруг я услышала негромкий, монотонный, убаюкивающий, похоже, знакомый голос:
«Все ваше тело тяжелеет и словно наливается свинцом… приятный покой, отдых, крепкий, спокойный сон охватывает вас… дышите спокойно, равномерно, глубоко… все тише, все темнее, все спокойнее становится вокруг вас… Вы засыпаете, засыпаете все глубже и крепче…»
Длинная пауза. Только слышен убаюкивающий стук метронома.
«Космический» проповедник! Это его голос.
— Вот видишь, опять упустили из-за тебя начало, — сердито буркнул Жакоб.
Вилли виновато хмыкнул.
И только теперь я поняла, что слышу собственными ушами тот самый таинственный «глас небесный», который принес в наш дом столько мук и тревог!
Он звучал немножко печально, произносил фразы отчетливо, певуче, слегка «в нос», с короткими паузами:
«Вы лежите совершенно спокойно и ни о чем не думаете… Чувство покоя все более и более проникает в ваш мозг, ваши мысли становятся спокойными, медленными, все заботы уходят. Вы совершенно отрешились от всех забот и волнений… Вы крепко спите и на окружающее больше не обращаете внимания…»
Честное слово, от этого вкрадчивого голоса у меня тоже начинали слипаться глаза! Я встряхнула головой и придвинулась ближе к динамику.
«Теперь вы слышите только меня… Мои слова продолжаете четко воспринимать и хорошо запомните их… При этом вас ничего не волнует… никаких неприятных ощущений у вас нет… по всему телу разлилась приятная слабость… ваши руки и ноги отяжелели, нет желания ни двигаться, ни открывать глаза… Вы спите!»
Опять лишь мерный стук метронома в наступившей тишине. Крутятся диски магнитофона.
«Вы поступили правильно, хорошо… Ваша совесть чиста, все заботы и тревоги покинули вас, вы будете спать спокойно. Вы услышите сейчас родной голос — голос вашего мужа. Слушайте его… Слушайте…»
Маленькая пауза, негромкий щелчок.
«Надо помогать праведным людям… Надо жить по заповедям господним… У меня легко и светло на душе, потому что я сделал жертву, угодную богу. Так и следует поступать…»
Я вскрикнула.
Голос дяди Франца! Он говорил, как всегда чуть картавя, размеренно, глуховато. Только, казалось, слегка запинался. Но я не могла ошибиться.
— Откуда он говорит? С того света?! — воскликнула я, в ужасе озираясь по сторонам.
И тут же замерла, услышав снова голос проповедника:
«Следуйте примеру вашего мужа. Злые люди попытаются мешать вам… Они будут выдавать вас за сумасшедшую… Но вы совершенно здоровы… Вы чувствуете себя прекрасно и не дадите им помыкать собой… Это ваши враги, опасайтесь, не слушайте их… Вы будете спокойно спать до утра… И проснетесь хорошо отдохнувшей, здоровой и бодрой… полной свежих сил… Вы забудете, что слышали меня… Но вы сделаете все, как я говорил… Спите спокойно, спите крепко… Спите… Спите… Спите…»
Голос умолк. Из динамика доносились только шорохи да треск разрядов.
— Все, — сказал Вилли. — Сеанс окончен. Выключай магнитофон.
Он пощелкал переключателями, и пестрые лампочки на панелях погасли.
— Я ничего не понимаю, — проговорила я, потирая лоб. — Или я тоже схожу с ума?
— Это был действительно голос покойного дяди? — спросил Жакоб.
— Да! Доктор Ренар, подтвердите, вы же его знали столько лет!
— Хитро придумано, — сказал Жакоб, покачивая головой. — Значит, они не только встречались с вашим дядей, но успели записать его голос на пленку. А потом смонтировали.
— Плохая склейка, щелчок проскочил, — деловито заметил невозмутимый Вилли.
— Не завидуй. Работа чистая, — засмеялся Морис и начал перематывать пленку на магнитофоне. — Теперь он у нас в руках, этот голос, — сказал он мне, показывая коробку с пленкой. — И вчерашний сеанс записали почти полностью, только самое начало прозевали из-за этого любителя выпить, — добавил он, повернувшись к Вилли.
— А что толку? — насмешливо спросил тот. — Куда ты сунешься с этой пленкой? Ведь магнитофонные записи юридической силы не имеют. Смонтировать да склеить можно что угодно, хоть выступление покойного дяди.
— Верно, — кивнул Жакоб. — На это я и не рассчитываю. Но одна бесспорная улика у нас уже есть.
— Какая? — заинтересовалась я.
— Сам голос. Недавно удалось установить, что каждый человеческий голос так же индивидуален и неповторим, как и отпечатки пальцев. Как ни пытайся его изменить, все равно по голосу можно опознать человека. Этим уже пользуются для ловли преступников. Так что мы еще предъявим ему на суде эту пленку!
Сделав на коробке какие-то пометки, Жакоб спрятал ее в шкафчик, и мы вернулись на веранду. Я глянула на часы и ахнула:
— Уже четверть третьего! Надо бежать домой.
— Я вас провожу, — сказал Морис.
— Бедный доктор Ренар, мы даже ночью не даем вам покоя, — вздохнула я, пожимая обе руки старика — И руки у вас озябли. Ложитесь скорее спать.
— В моем возрасте уже не спится, — улыбнулся он, потрепав меня по щеке. — И потом: это так интересно и увлекательно, что я все равно не усну. А вам спокойной ночи, Кло. Я очень рад, что дело, кажется, распутывается Но кто бы мог подумать!
Я простилась с молчаливым Вилли, снова взявшимся за бутылку, и отправилась домой.
Солнце еще пряталось за горами, но вершины Дьяблере и Гран-Мюверана уже стали нежно-розовыми. Над лужайками клубился туман, трава сверкала от росы. Вдали робко подала голос проснувшаяся кукушка и тут же пугливо смолкла.
Ночь уходила. И все начинало выглядеть проще, прозаичнее, будничнее, чем прежде. Никаких чудес, никакой мистики: обычный человеческий голос, пойманный обыкновенным приемником и записанный на пленку. Теперь он лежит в коробочке на полке в фургоне…
— Передатчик мы засекли. Но главное — найти приемник, — сказал Жакоб, вспугнув мои мысли.
— Какой приемник?
— Который доносит голос до ушей вашей тети.
— Но вы же обыскали все и ничего не нашли.
— Верно. Но приемник должен быть! Где он спрятан, В украшениях, которые носит ваша тетя? Хотя вряд ли: украшения она, наверное, снимает на ночь. Снимает?
— Конечно.
Доктор Жакоб задумался, глядя себе под ноги, потом поднял голову:
— Что ж… Последняя возможность. Конечно, не хотелось бы, но… Вам придется дать ей снотворное и тщательно обыскать свою тетю, пока она будет спать. Другого выхода нет. Приемник где-то у нее в одежде.
— Я не могу.
— Надо! Это последний шанс, Клодина.
— Хорошо. Я дам ей медомин… — с трудом проговорила я, не глядя на него.
— Какой там медомин! — отмахнулся Жакоб. — Я дам порошок, который слона усыпит на целый день Насколько мне известно, в некоторых странах ими снабжают разведчиков, чтобы они могли спокойно уснуть в любой обстановке после выполнения трудного задания. У них оно пользуется славой «нокаутирующих таблеток»… — Он достал из кармана маленький пакетик и протянул его мне: — Подсыпьте утром ей в кофе или чай. Доза детская, но она заснет быстро и крепко. Вы успеете ее обыскать.
Принимая у него из рук пакетик на пустынной дорожке, я чувствовала себя героиней какого-то «черного романа»…
И вдруг ужасная мысль мелькнула у меня в голове: а что, если я тоже становлюсь бессознательным орудием в руках ловких преступников?!
Я поспешно прогнала ее: «Голубушка, ты боишься даже доктора Жакоба, ему не веришь. Эго уже мания преследования».
— Послушайте, ведь это ни к чему! — воскликнула я, крепко сжимая руку Мориса.
— Что — ни к чему?
— Обыскивать тетю. Ведь ее переодевали в больнице Готовили к операции, она принимала ванну. У нее все забрали и выдали больничное белье, а она все равно там слышала голос!
— Верно, как я не подумал об этом… Совсем загадочно, — в явной растерянности проговорил Морис, потирая ладонью лоб. — Ничего не понимаю. Что же придумал этот проклятый старик Анри? Я всегда говорил, что он — гений.
— Что делать?
Морис пожал плечами.
— Надо подумать. Обыскивать ее бесполезно, вы правы. Ложитесь спать, а мы что-нибудь придумаем с Вилли.
Я долго не могла уснуть. Все тревоги забушевали в душе с новой силой. Если нет никакого приемника, то каким же образом тетю настигает повсюду зловещий голос? Телепатия? Или все мы ошибаемся — она просто больна?
Но ведь я сама слышала и «небесный голос», и слова дяди Франца, словно донесшиеся с того света… Они записаны на пленку, эти голоса, лежат в коробочке.
Голова шла кругом, пришлось опять глотать таблетки.
На следующий день я еле дождалась, когда тетя прилегла отдохнуть после обеда, и поспешила на минутку к Жакобу, чтобы узнать, что же они придумали Но все три «заговорщика» были озадачены.
— А она не могла слышать этот голос по радио, но просто так, без приемника? — сказал вдруг доктор Ренар.
Инженер посмотрел на него как на сумасшедшего.
— Я где-то читал о подобном случае, — не сдавался Ренар. — Даже, помнится, сделал выписку…
— Чепуха, — решительно оборвал его Вилли. — Это невозможно.
— Ты холодный скептик, Вилли, — пришел на помощь Ренару доктор Жакоб. — И, кроме своей техники, ничего не знаешь. А зря. Чего только не бывает на свете! Случай, о котором весьма кстати вспомнил уважаемый мой коллега, действительно имел место несколько лет назад. Одна почтенная дама в Америке вдруг начала слышать обрывки радиопередач. Сначала подумали, будто у нее психоз, но потом раскопали, в чем дело. Оказалось, всему виной некоторые особенности электрической, водопроводной, газовой и телефонной сети в квартире. От их взаимодействия возникало электромагнитное поле, оно и оказывало такое необычное воздействие на органы слуха этой дамы. Да, я припоминаю: об этом писал «Ньюсуик».
— Вот видите, — сказал доктор Ренар.
Но Жакоб покачал головой:
— Случай любопытный, но, к сожалению, к нашей ситуации не подходит. Во-первых, слишком невероятно, чтобы он повторился в совершенно иной обстановке: тихий дом в сельской местности, почти никаких бытовых электроприборов. А во-вторых, совсем уже невероятно, чтобы жулики как-то пронюхали об этом и сумели так ловко воспользоваться. Мы же с вами реалисты, коллега, все проверяем строгой логикой.
— Вы правы, — неохотно согласился Ренар. — Но где разгадка? «Чудо так же бессмысленно, недопустимо для разума, как немыслимо, например, деревянное железо или круг без окружности…»
— Вот в этом я с вами совершенно согласен. Золотые слова и вовремя сказаны! — подхватил Жакоб. Глаза его смеялись.
— Это Фейербах, — уточнил милейший старик.
— И с ним я согласен, — кивнул Жакоб. — Будем следовать этому прекрасному девизу и продолжать поиски. Остается одно: повидаться наконец с «небесным голосом».
— Надо его засекать и глушить, — мрачно добавил Вилли.
— Так мы и сделаем…
Охота во тьме
Первым, кого я увидела, придя вечером к доктору Ренару, был полицейский в голубовато-серой форме обер-лейтенанта. Он встретил меня в дверях и вежливо поднес руку к лакированному козырьку высокой фуражки.
— Познакомьтесь, это комиссар Лантье, — сказал подошедший Жакоб. — Мы с ним уже работали вместе, и я попросил его приехать.
Увитая виноградом веранда напоминала нынче военный штаб — или логово заговорщиков?
На столе была расстелена карта, и все, кроме меня, даже старенький доктор Ренар, склонились над ней.
— Готовимся к операции, — не поднимая головы, пояснил Жакоб. — Как тетя?
— Все в порядке.
— Гадать нечего, он будет вот здесь, где шоссе поднимается повыше. Отсюда лучше всего наблюдать за домом и заметить, когда в окнах старухи гаснет свет, — наполеоновским тоном объявил Вилли.
— Пожалуй, ты прав, — согласился Жакоб. — Им непременно нужен такой контроль, чтобы не прозевать лучшее время для внушения. Придется выехать ему навстречу, чтобы успеть засечь и поймать: он будет вести передачу не дольше десяти минут, — добавил он, посмотрев на Вилли.
Тот молча кивнул.
Доктор Ренар проводил нас до фургона. Полицейский комиссар сел за руль, я рядом с ним, а Жакоб и Вилли забрались в кузов.
— Желаю удачи, — сказал Ренар.
— Жалко, что нет места, а то бы вы с нами поехали, — ответила я. — Ведь вам тоже хочется поглядеть наконец на таинственный голос.
— Ничего, вы мне потом расскажете.
Доктор Ренар открыл ворота, и мы тронулись.
Когда мы выехали на шоссе и миновали кафе, Жакоб постучал в окошко и показал знаками комиссару, чтобы тот остановился.
Заглянув через окошко в фургон, я увидела, как Вилли, прижимая обеими руками наушники к стриженой голове, что-то диктовал Жакобу. Тот записал на полях расстеленной перед ним карты несколько цифр и провел с помощью транспортира прямую линию.
Вилли, не снимая наушников, махнул нам рукой, чтобы трогались дальше.
Через некоторое время мы снова остановились, и вся операция повторилась.
— Что они делают? — спросила я у комиссара.
— Пеленгуют передатчик.
Теперь я вспомнила, что уже видела нечто подобное в фильмах о шпионах. Никогда бы не подумала, что сама окажусь в подобной ситуации!
— Все в порядке, засекли, — торопливо проговорил появившийся из темноты Жакоб. — Давайте я сяду за руль, а вы перебирайтесь в фургон.
Комиссар уступил ему место, и мы стремительно ринулись сквозь ночную тьму навстречу притаившемуся где-то в ночи «небесному голосу»…
В темноте все вокруг казалось таинственным и тревожным. Мелькали мимо черные деревья; одинокий, словно притаившийся, домик с темными окнами; скалы, похожие на крадущихся людей, призрачные белые столбики ограждения на повороте.
Впереди за кустами вроде мелькнул слабый огонек…
Я только хотела попросить Жакоба ехать поосторожнее, как он резко затормозил. И тут же выскочил из кабинки и побежал к машине, стоявшей на обочине дороги.
— Можете снова зажечь огонь, зачем таиться! — крикнул он, распахивая ее дверцу.
В машине зажглось освещение. Не этот ли огонек я видела?
Я тоже выбралась из кабинки и поспешила к машине вместе с комиссаром и Вилли.
— Прошу познакомиться, господа, — громко сказал Жакоб. — Перед вами — «глас небесный». Как видите, он имеет вполне земное обличье и в миру известен под именем Мишеля Горана.
В машине — теперь я разглядела, что это был роскошный «кадиллак», — находился лишь один человек — «космический» проповедник…
В черном костюме, без своего причудливого одеяния, он выглядел буднично и деловито. Солидный, преуспевающий бизнесмен, едущий по своим почтенным делам, которыми он не ленится заниматься даже ночью.
Он сидел, положив руки на руль, и смотрел на нас без всякого испуга.
— Ваши документы, — сказал комиссар.
— Разве я нарушил дорожные правила? — лениво спросил проповедник. — Ах да… Стоял на обочине дороги с потушенными огнями. Каюсь, штрафуйте.
— Ваши документы! — повторил комиссар, протягивая руку.
Проповедник пожал плечами и полез в карман.
— Пожалуйста, хотя вам ведь уже назвали мое имя, — все так же лениво проговорил он, вынимая из пухлого бумажника и протягивая полицейскому документы. — Прошу, господин обер-лейтенант.
Комиссар начал внимательно изучать бумажки, а нетерпеливый Жакоб попытался открыть заднюю дверцу машины.
Она не подалась. Тогда Морис заглянул в машину, посветив фонариком, и присвистнул:
— Ого! Какой прекрасный магнитофон! Японский? И, кажется, передатчик? Разрешите его посмотреть поближе.
— Я протестую, господин обер-лейтенант, — негромко сказал проповедник. — Я не знаю, правда, что за люди с вами Возможно, они тоже служат в полиции. Но все равно никто не имеет права обыскивать мою машину без ордера федерального прокурора. Слава богу, законность строго соблюдается в нашей стране. Или я ошибаюсь? И вообще хотелось бы знать, почему вы задерживаете меня так долго? Мне нужно ехать. Я устал, остановился, чтобы передохнуть в тишине и покое этой чудной ночи, а теперь мне пора ехать дальше. Если вы разрешите… — закончил он с легким поклоном.
Он упорно не смотрел ни на кого из нас, только на комиссара, словно тот был один на дороге.
Комиссар молча вернул ему документы и заглянул на заднее сиденье. Жакоб светил ему фонариком.
— А зачем вам ночью понадобился магнитофон? — подал голос Вилли.
Проповедник будто не слышал его вопроса.
— Зачем вам магнитофон, в самом деле? — повторил тот же вопрос комиссар.
Ему проповедник ответил:
— Люблю во время отдыха послушать церковную музыку. Очень успокаивает нервы. А порой работаю над проповедью: ведь, как уверяют психологи, лучший отдых — в перемене занятий. Разве ездить с магнитофоном по нашим дорогам запрещено? Не знал. Но ведь вы же возите вот целую лабораторию на колесах.
— А с чего вы взяли, что у нас «целая лаборатория»? — насмешливо спросил Жакоб.
Проповедник ему не ответил.
Он упорно не замечал Жакоба.
И Морис, конечно, не выдержал:
— Слушайте, Горан, я взялся за это дело и доведу его до конца, ясно? Я не отступлюсь и посажу вас на этот раз за решетку.
Проповедник слушал его, прикрыв глаза тяжелыми, набухшими веками. Лицо его решительно ничего не выражало.
— Анри мне все рассказал о ваших планах, — продолжал Жакоб. — Старик еще не пропил совести окончательно. Вы от нас не уйдете.
Что-то вроде дрогнуло в каменном лице проповедника. Подняв тяжелый взгляд на полицейского, он глухо спросил:
— Могу я наконец ехать?
Комиссар, отступая на шаг, молча козырнул.
Черный «кадиллак» взревел и рванулся вперед. Мы отскочили в стороны и молча смотрели, как, плавно покачиваясь, убегает все дальше рубиновый огонек. Вот он скрылся за поворотом…
— Н-да, конечно, глупая была затея, — смущенно пробормотал Жакоб. — Его голыми руками не возьмешь… Но хоть повидались. Ладно, поехали домой.
В глубине души я надеялась, что пойманный голос испугается и притихнет, а может, и совсем замолчит.
Но в следующую ночь мы услышали его снова.
Началось опять с настойчивых заклинаний:
«Спите… Спите… По всему вашему телу растекается чувство успокоения и дремоты…»
— Не понимаю, почему он не сменит волну? — спросил у инженера Жакоб. — Ведь знает, что мы его слушаем.
— Не может он этого сделать, — ответил Вилли. — Приемник у старушки настроен на определенную волну.
— Верно, — согласился Жакоб и, погрозив динамику кулаком, добавил: — Ну, мы заткнем ему глотку, этому «небесному голоску».
— Как? — оживилась я.
— Увидите.
Но тут мы услышали нечто новое и переглянулись:
«Вам надо самой поехать к нотариусу и добиться…»
— Включай! — Жакоб резко махнул рукой.
Вилли рванул рубильник на пульте…
Приказания «небесного голоса» утонули в треске и рокоте мощной глушилки. С трудом удавалось разобрать лишь отдельные слова:
«…Спокойно… арственную…»
— Вот я тебе покажу «дарственную»! — пробурчал Вилли, подкручивая регулятор.
Я выглянула из дверцы фургона, словно надеясь полюбоваться, как себя чувствует сейчас голос, — и вскрикнула.
Окна тетиной спальни были ярко освещены!
— Она проснулась, а я здесь! Надо бежать.
— Возьмите фонарик, а то ноги переломаете! — крикнул мне вдогонку Жакоб.
Но я с детства знала каждый камешек и торчащий из земли узловатый корень на этой тропинке и мчалась в темноте что есть духу.
Еще у ворот я услышала, как меня зовет тетя. Но я не откликнулась сразу, а пробежала в глубь сада и уже оттуда, издалека, тщетно стараясь сдержать одышку, подала голос.
— Где ты бродишь так поздно? — крикнула она с террасы.
— Гуляю в саду Вышла подышать свежим воздухом, что-то спать не хочется…
Подойдя ближе, я спросила:
— А ты почему не спишь?
— Ужасно разболелся зуб. Только легла, кажется, даже заснула. И вдруг страшная боль, словно начали сверлить какой-то адской бормашиной, — ответила она, зябко кутаясь в халат и передергивая плечами. — Ты меня отвезешь утром в Сен-Морис? Там очень хороший дантист. Впрочем, ты, кажется, сама у него была? Я тебе давала адрес.
— Но ты что-то напутала, тетя. По этому адресу никакого дантиста не оказалось.
— Странно… — Она недоверчиво посмотрела на меня. — Вечно я путаю адреса. Но найдем: я прекрасно помню, где он живет.
Постояв еще несколько минут на террасе, она пожелала мне спокойной ночи и ушла, страдальчески держась за щеку.
Идти снова к Ренару я не решилась. Передача наверняка уже кончилась. А вдруг тетя не уснет и станет опять меня искать?
Ночь прошла спокойно. Выйдя рано утром на террасу, я увидела Мориса, подающего мне из кустов таинственные знаки.
— Что вы тут делаете? — спросила я, подбегая к нему и с опаской оглядываясь на окна тетиной спальни. — Вы с ума сошли! Она может увидеть. Зачем вы сюда залезли?
— Жду, пока вы проснетесь, вот уже битый час. Весь промок от росы. Что случилось вчера? Почему вы не пришли обратно?
— Боялась оставить тетю одну, у нее разболелся зуб. Просит отвезти ее к дантисту, но забыла адрес. Я сама ездила, когда у меня болели зубы, и не нашла этого дантиста.
— Разболелся зуб, а дантист исчез… — сказал Морис в глубокой задумчивости. — И разболелся зуб как раз в тот момент, когда мы включили глушилку. — Он посмотрел на меня. — Может, это просто совпадение, а может, и… Когда она последний раз была у этого дантиста?
— Кажется, зимой. Да, в конце зимы.
— И в конце зимы начала слышать «глас небесный»? До визита к дантисту или после?
— Точно не помню.
— Надо навестить этого дантиста! — решительно сказал Жакоб.
Он задел головой ветку, и на нас посыпались холодные капельки росы.
— Но я же вам говорю: нет там никакого дантиста.
— Тем более подозрительно. Адрес у вас сохранился?
— Кажется. Или я выкинула его? Но дом узнаю. Там еще какая-то лавчонка.
— Едем! Постарайтесь под каким-нибудь предлогом отложить поездку с тетей до завтра. Скажите, будто неисправна машина. Она согласится подождать. Если мои предположения правильны, зуб у нее сегодня болеть не будет. А вы сразу к нам, поедем к дантисту.
Так я и сделала. Жакоб оказался прав: зуб у тети больше не болел, и за завтраком мне легко удалось ее уговорить отложить поездку.
Оставив тетю беседовать с доктором Ренаром, я поспешила к Жакобу.
Морис сидел на ступеньках веранды, уткнувшись в толстенный фолиант.
— Наконец-то! Мы заждались.
— Не могла раньше.
— Вилли! — крикнул он, откладывая книгу в сторону. Это был солидный ученый труд под названием «Ухо и мозг». Приятное чтение в такое чудесное утро…
Вилли появился в дверях, что-то дожевывая.
— Поехали, — поторопил его Жакоб.
Мы спешили напрасно. Дом я запомнила хорошо и нашла его сразу, но никакого дантиста там не оказалось, как я и предупреждала. Весь нижний этаж занимала убогая лавчонка без вывески.
Жакоб подергал дверь лавочки — заперта. Несколько раз нажал кнопку звонка, но на его дребезжание никто не отозвался.
Мы попытались заглянуть сквозь давно не мытые стекла витрины: пустые полки, на прилавке какой-то хлам, в углу валяется сломанный стул.
— Кажется, лавочка давно обанкротилась, — пробормотал Жакоб.
— Идите-ка сюда! — окликнул нас из соседнего двора Вилли.
Мы поспешили к нему и увидели, что он, приложив ладонь козырьком, заглядывает в темное маленькое окошко.
— Похоже, это задняя комната лавчонки, — сказал инженер, уступая место Жакобу. — Посмотри.
Жакоб приник к грязному стеклу.
— Видишь? — спросил Вилли.
— Вижу.
— Зачем бы ему тут стоять, в лавке?
— Что вы там увидали? Покажите и мне! — нетерпеливо попросила я.
Жакоб подвинулся. Я заглянула в окошко и увидела посреди пустой полутемной комнаты непонятное сооружение.
— Что это?
— Зубоврачебное кресло, — ответил Жакоб.
Я удивленно посмотрела на него:
— Значит, дантист тут жил?
— Вероятно. И надо устроить, чтобы он снова здесь появился, — сказал Морис многозначительно.
— Может, заглянем внутрь? — предложил Вилли. — Я открою дверь… — Он уже начал шарить в своей сумке.
— Не стоит, — остановил его Жакоб. — Нужен представитель власти. Пошли, а то мы уже привлекаем внимание соседей.
Доехали до почты. Морис позвонил комиссару Лантье, попросив его немедленно приехать в Сен-Морис.
— Дело очень срочное! Мы будем ждать в кафе возле моста, понял?
Потом он позвонил в Монтре какому-то доктору Калафидису и тоже попросил его срочно приехать, захватив все необходимые инструменты…
— Кроме, конечно, кресла. Кресло здесь есть. Ничего, ничего, ты не можешь отказать своему старому клиенту. Нет, по телефону не могу. Приезжай и все узнаешь. Жди нас в кафе у моста.
События всё ускорялись.
Не успели мы кончить завтрак в уютном маленьком кафе над Роной, как приехал комиссар Лантье. Пока он пил кофе, Жакоб рассказал ему о странной, заброшенной лавчонке с зубоврачебным креслом в задней комнате. Комиссар заинтересовался. Мы снова отправились к лавке и долго заглядывали то в витрину, то в маленькое окошко во дворе.
Потом Жакоб с комиссаром ушли в местное полицейское управление. Вилли задремал, пристроившись на заднем сиденье машины, а я погуляла по берегу реки, тревожась, что там с тетей. Надо было бы придумать причину для затянувшейся отлучки.
Наконец Жакоб с комиссаром вернулись.
— Лавочка закрыта уже месяцев пять, — рассказал Жакоб. — Ее снимал для мелкой торговли некий мосье Мутон. Судя по описаниям, на проповедника он не похож, видимо, подставное лицо из его помощников. Ни о каком дантисте здесь не слышали и очень удивились, узнав о кресле. Так что нам разрешено вскрыть замок и осмотреть загадочную лавочку.
Вилли оживился, достал из сумки щипчики и крючки, весьма подозрительно похожие на отмычки, и через несколько минут мы вошли в таинственную лавчонку.
— Здесь пока ничего не трогать! — сказал озабоченно комиссар. — Пройдем сразу дальше.
Но во второй комнате осматривать было нечего. Она была совершенно пуста, только зубоврачебное кресло высилось посреди комнаты глупым, нелепым памятником.
— Ух, какая грязища! — брезгливо сказала я. — Сколько пыли!
— Надо навести тут порядок, а то избалованный доктор Калафидис откажется работать, — сказал Жакоб. — Придется вам заняться этим, Клодина. Привлекать чужое внимание не хотелось бы…
— Я сделаю все сама, но что вы задумали?
— Потом объясню. Беритесь за дело, а мы едем в кафе. Калафидис должен вот-вот подъехать. Потом мы заедем за вами. Часа вам хватит?
— Надеюсь.
Подмененный голос
Грязи накопилось много. Я только-только успела закончить уборку, когда послышался шум подъехавшей машины.
Наша «сыскная бригада» все росла; к ней прибавился высокий черноусый лысеющий человек в щегольском спортивном костюме. Он поклонился мне и представился:
— Доктор Калафидис.
Топтать только что вымытый пол я им не разрешила, и они столпились у двери, рассматривая нелепое кресло.
— Я должен вести прием здесь?! — возмущенно спросил доктор Калафидис.
— Да, — ответил Жакоб.
— Невозможно!
— Всего один пациент.
— Какая разница. Я дорожу своей репутацией. — Щепетильный доктор Калафидис даже фыркнул от возмущения и потребовал капризным тоном, уже сдаваясь: — Я должен хотя бы осмотреть кресло: в порядке ли.
— Пожалуйста, у тебя достаточно времени до завтра. А пока полы сохнут, поезжай в гостиницу, номер заказан. И не проспи! Завтра с утра ты должен быть здесь и ожидать нас…
— Но я забыл захватить халат!
— Ничего, мы привезем.
Бедный доктор Калафидис окончательно капитулировал перед неумолимым натиском Жакоба и покорно отправился в гостиницу, печально пробормотав напоследок:
— Надеюсь, хоть сносный кинотеатр есть в этой дыре?
— Поедемте скорее домой! — взмолилась я. — Тетя наверняка беспокоится. Я опоздала к обеду… Что же вы все-таки задумали, объясните наконец? — спросила я, когда мы тронулись в обратный путь.
Комиссар Лантье ехал впереди, внушая обер-лейтенантской формой всем встречным полицейским почтение.
— Что задумали? Решили заменить исчезнувшего дантиста гораздо более опытным доктором Калафидисом.
— Зачем?
— Чтобы проверить зубы у вашей тети.
— Думаете, приемник у нее во рту?
— Возможно.
Все-таки Морис бывает порой совершенно нестерпимым, хоть кого выведет из себя!
— А если она передумала ехать к дантисту? — довольно ехидно спросила я. — Что тогда делать? Ведь зуб у нее перестал болеть.
— Такая возможность предусмотрена, — невозмутимо ответил Морис. — Мы постараемся уговорить вашу тетю.
— Попробуйте…
Как я и предполагала, тетя рассердилась за мое опоздание к обеду. Но я сказала, что пришлось идти в деревню, на кирпичный заводик, за деталями к нашему «оппель-капитану».
— Ты же сама просила отвезти тебя завтра к дантисту.
— Ну, можно не спешить, — ответила, смягчаясь, тетя. — Зуб у меня совсем не болит, можно повременить…
Так. Посмотрим, как уговорит ее самонадеянный Морис…
Когда тетя легла спать, я поспешила в дом доктора Ренара, превратившийся в нашу постоянную ночную штаб-квартиру. И всех сыщиков, конечно, нашла за работой: Жакоб и Вилли возились с аппаратурой в передвижной лаборатории, а обер-лейтенант и доктор Ренар заглядывали в распахнутую дверь фургона.
Все невольно говорили вполголоса.
— Скоро она заснет? — спросил меня Жакоб.
— Тетя? Только что ушла к себе.
— Отлично. Вилли, следи за окнами.
— Свет еще горит, — лениво ответил как всегда что-то жующий инженер
Жакоб протянул мне руку. Я залезла в фургон и пристроилась на складном стульчике.
— Что же вы… — начала я, но Вилли прервал меня возгласом:
— Свет погас!
— Чeq \o (у;ґ)дно, — сказал Жакоб, придвигаясь к магнитофону. — Подождем еще минут пять и начнем.
Эти минуты показались мне очень длинными. Недоуменные вопросы так и вертелись на языке, но я не решалась нарушить напряженную тишину.
— Включаю, — сказал Жакоб, посмотрев на Вилли. — У тебя все готово?
— Давай.
Диски магнитофона закрутились, и вдруг из динамика раздался знакомый голос проповедника:
«Спите… Спите… По всему вашему телу разливается чувство приятного успокоения и дремоты…»
— Никак он не унимается! Что ему еще надо? Когда оставит тетю в покое?!
Жакоб погрозил мне пальцем, чтобы молчала и слушала.
«Теперь я буду говорить другим голосом… Слушайте его внимательно, слушайте его1 внимательно… Так надо… так надо, чтобы обмануть ваших врагов… Спите спокойно и слушайте его внимательно…»
Небольшая пауза с убаюкивающим стуком метронома, и я услышала голос Жакоба!
Он говорил так же властно, убеждающе, негромко:
«Вам становится все лучше и лучше… сонливость сильней и сильней… Вы больше ни о чем не тревожитесь, вы больше ничего не чувствуете… Вы слышите только мой голос…»
Вытаращив глаза, я уставилась на Мориса. Он приложил палец к губам, показывая взглядом на магнитофон.
«Завтра утром у вас заболит зуб… Но это не страшно, это не страшно… Вы поедете к дантисту, и он вам поможет… Это очень опытный дантист, гораздо лучше, чем прежний… Он вам поможет, он вам поможет… Теперь вы будете крепко спать до утра и забудете, что слышали меня… Но утром у вас заболит зуб, и вы поедете к дантисту… Спите крепко, спите спокойно…»
Едва дождавшись, когда Жакоб выключит магнитофон, я спросила:
— Как это вам удалось? Откуда взялся голос проповедника?
— Смонтировали, — весело ответил Жакоб. — У него научились. По тому же методу, как он смонтировал загробный голос дяди Франца. Вилли у нас маг и волшебник Склеили по словечку, выбрав их из подлинных записей «гласа небесного». Пришлось повозиться. Не заметно?
— Я ничего не заметила, а вот послушается ли тетя…
— Посмотрим. — Жакоб хотел что-то добавить, но так и замер с полуоткрытым ртом.
Из динамика вдруг донесся голос проповедника:
«…спокойно… Утром вы проснетесь бодрой и полной свежих сил… Спите крепко… спите крепко… спите крепко…»
Он умолк. А мы переглядывались в полной растерянности.
— Я включил на всякий случай приемник, и вот… — виновато сказал Вилли. — Как толкнуло меня что-то.
— Он вел передачу одновременно с нами? — спросил у него Жакоб.
— Ты же слышал концовку.
— Н-да, — пробормотал Морис.
— Тетя слышала и вас и его? — догадалась я. — Что же будет? Кого она послушается?
Вилли пожал плечами и начал копаться в инструментах.
— Посмотрим, — неуверенно ответил Жакоб. — Попробуем для верности повторить внушение еще раз, попозже. Может, как раз угодим в тот момент, когда у нее начнутся сновидения. Тоже подходящее время для гипнопедии.
Он помолчал, посмотрел на ошеломленные лица комиссара и доктора Ренара в дверях фургона и пробормотал задумчиво:
— Хотел бы знать, что он внушал ей сегодня, одновременно с нами?…
Ждать повторной передачи я не могла и поспешила домой, оставив неудачливых детективов.
И тоже думала, долго не засыпая: что еще мог внушать тете проклятый голос? И чье внушение окажется сильнее — его или наше?
Я проснулась с теми же тревожными мыслями, но сразу успокоилась: Розали сказала, что тетя уже давно встала, у нее разболелись зубы и она просит меня зайти.
Внушение Мориса подействовало!
Тетя сидела у себя в спальне на кровати и со стонами раскачивалась, держась за левую щеку.
— Ужасно болит зуб! — с трудом выговорила она. — Думала, обойдется, а он так разболелся… Ой! Поедем скорее к дантисту.
— Почему же ты раньше меня не разбудила?
— Все равно было рано ехать.
— Ты одевайся, а я пойду приготовлю машину.
— Она все еще неисправна?
— Нет, нет, сейчас поедем, — успокоила ее я, побежала к себе в комнату и позвонила Жакобу.
— Отлично! — обрадовался он. — Мы сейчас же выезжаем в Сен-Морис, а вы следуйте за нами.
Чтобы дать им время уехать, я нарочно немножко затянула сборы, как ни жалко мне было тетю. Боль ее донимала, видно, не шуточная. Всю дорогу она, прикорнув на заднем сиденье, жалобно постанывала.
Я остановилась перед лавчонкой у моста. Неподалеку стоял зеленый фургон. Значит, они успели. Но зачем прикатили в своей лаборатории на колесах — или она понадобится?
Я помогла тете вылезти из машины. Мы подошли к двери лавчонки, и тетя обиженно сказала:
— Вот видишь, ты сама спутала адрес.
Не веря своим глазам, я смотрела на белую эмалированную дощечку на двери: «Опытный дантист. Принимает в любое время». Наконец решительно нажала кнопку звонка…
Дверь тут же открылась. Я чуть не ахнула, увидев перед собою Вилли в белом халате! Халат едва сходился у него на груди — видимо, его позаимствовали у доктора Ренара.
— Что вы хотели? — невозмутимо спросил Вилли.
— Простите, можем мы видеть доктора? — промямлила я. — У моей тети очень болит зуб.
— Прошу. — Вилли склонил голову и отступил, приглашая нас войти. — Доктор сейчас примет вас, мадам.
Он исчез за дверью второй комнатки, а я старалась заслонить от тети прилавки, совсем неподходящие для приемной дантиста, и наваленную в углах рухлядь…
Но тетя, похоже, ничего не замечала! Или, может, видела под влиянием внушения настоящую приемную с белыми стенами и удобными креслами?
Тут, к счастью, появился приветливо улыбающийся доктор Калафидис и пригласил:
— Заходите, заходите, прошу. А вы, мадемуазель, будьте любезны обождать здесь. Это займет совсем немного времени.
Халат на нем был слишком короток — тоже по фигуре доктора Ренара. Но тетю ничего не смущало. Она не удивилась, увидев вместо прежнего таинственного дантиста незнакомого усатого доктора Калафидиса, и спокойно пошла за ним.
А возле меня вдруг очутился Морис, неслышно выйдя из-за портьеры.
— Не волнуйтесь, — шепнул он. — Все пройдет хорошо. Сейчас она видит лишь то, что ей внушили.
— И комиссар с вами?
— Нет, — тихонько засмеялся он. — Комиссар не решился прийти. Считает, что это похоже на незаконный обыск без ордера, и не смеет нарушать закон, хотя человек он смелый и находчивый.
Мы с Морисом подошли поближе к двери и прислушались. За ней было тихо, только изредка позвякивали инструменты. Потом послышался голос доктора Калафидиса:
— Этот зуб придется, к сожалению, удалить. Очень запущен. Один момент, вы не почувствуете никакой боли, мадам.
Тетя приглушенно вскрикнула…
— Вот и все, — бодро проговорил доктор Калафидис.
Жакоб поспешно скрылся за портьерой.
Через несколько минут вышла тетя, прижимая к губам окровавленный платочек.
— Хороший дантист, но тот был лучше, — глухо сказала она.
Улыбающийся доктор Калафидис проводил нас до двери, и мы отправились домой.
Чем же кончился «незаконный обыск» во рту у тети? К счастью, когда мы приехали домой, она захотела немного полежать и ушла к себе. А я скорее помчалась к доктору Ренару.
Он тоже ничего не знал: участники операции «Больной зуб» еще не вернулись.
Наконец подкатил зеленый фургон. За рулем сидел Вилли, уже заметно навеселе. Жакоб махал нам рукой.
Я подбежала к машине. Он протянул мне ладонь, на которой лежал крошечный темный кусочек неправильной формы.
— Полюбуйтесь, — торжествующе сказал Морис. — Голос теперь у нас в руках.
— Что это?
— Приемник! — с непривычным для него оживлением воскликнул Вилли. — Уникальный миниатюрный приемник. Отличная штука! Сидел у нее в зубе вместо пломбы.
— Я всегда говорил, что Анри — гений, — сказал Жакоб. — Если бы он не связался с жуликами…
И вырванное жало таит яд…
Потом мы сидели за столом на веранде, пили ледяное лигерцкое вино, а удивительный приемник покоился перед нами на блюдечке, и я никак не могла оторвать от него глаз.
— Невероятно, — качал головой доктор Ренар. — Невероятно. Но согласитесь, что я оказался ближе всех к истине, когда вспомнил о той женщине в Америке.
— Совсем иное дело, — возразил Жакоб. — Они просто ловко воспользовались тем, что природа почему-то поместила в зубах человека свободные нервные окончания, связанные со слуховыми центрами мозга…
— Бетховен, — перебил слегка захмелевший Ренар, — великий Бетховен, когда оглох, слушал музыку, касаясь рояля тростью, зажатой в зубах. Помните?
— Верно, — кивнул Жакоб. — А теперь техника так шагнула, что стало возможно поместить в дупле зуба целую радиостанцию.
— «Достоинство часов не в том, что они бегут, а в том, что идут верно…» — пробормотал старик, качая головой.
Их больше восхищала выдумка жуликов, а я радовалась, что «небесный глас» навсегда теперь оставит нас в покое…
Но я ошибалась…
— Комиссар помчался в Берн, — весело сказал Жакоб. — Захватил с собой наши пленки. Уверен, что теперь удастся получить ордер на арест Горана. Скоро мы увидим «космического» проповедника на скамье подсудимых…
Но Морис тоже ошибался.
Поздно вечером комиссар Лантье позвонил из Берна и сообщил, что Мишель Горан и его помощница Луиза Альтенберг еще вчера улетели в Париж…
— Странно… — задумался Жакоб. — Кто же вел ночью передачу? Хотя, впрочем, записали заранее его голос на пленку, а прокрутил кто-то из подручных. Но зачем?
— Может, они напугались, поняв, что мы напали на след? — сказала я.
— Вряд ли. Он еще не знал, что мы догадались насчет зуба и поехали искать дантиста. Приемник у них был спрятан надежно. Если бы мы не начали глушить его передачу и от этого не заболел зуб, то и сейчас терялись бы в догадках, где приемник. Похоже, Горан снова готовит себе алиби, но зачем, для чего?
Мы это скоро узнали.
Через день, тихим, солнечным утром, тетя вдруг захотела поехать в Сен-Морис, чтобы купить кое-что в магазинах. Я охотно согласилась отвезти ее, радуясь, что у нее снова пробуждается интерес к жизни.
О разоблачении голоса мы ей пока не говорили. Жакоб только через комиссара Лантье передал нотариусу некоторые материалы, уличающие «космических» жуликов, и введение дарственной в силу было пока приостановлено.
Всю дорогу я старалась развлекать тетю разговорами, обращала ее внимание на то, как красиво выглядит на фоне облаков зубчатая вершина Дан дю-Миди, словно оторвавшаяся от земли и парящая в воздухе, или как забавны громадные колеса у встречной повозки.
Она весело отвечала мне. Но когда впереди показалась дымящая труба цементного завода и белая церковка высоко на горе, над зажатым в теснине ущелья Сен-Морисом, я вдруг с тревогой заметила, что тетя подозрительно притихла, снова как будто начала задумываться, вспоминать что-то…
Так у нее всегда бывало перед видениями. Но ведь голос уже обезврежен, «космический» проповедник далеко, в Париже?
Я резко сбавила скорость, косясь на тетю и все еще пытаясь поддерживать беззаботную беседу.
У самого въезда на мост пришлось затормозить, потому что впереди натужно гудел неуклюжий автопоезд. Ему трудно было разворачиваться, он еле полз через мост, а мы плелись за ним…
Это нас и спасло.
На середине моста тетя вдруг со страшной силой оттолкнула меня плечом, вцепилась в баранку руля и круто повернула влево…
Каким-то чудом я успела сбросить газ и дать тормоз. Если бы скорость была чуть больше, наша машина, сломав перила, уже летела бы со страшной высоты вниз, в клокочущую быструю Рону.
Наш «оппель-капитан» уткнулся радиатором в перила и замер. Со всех сторон с испуганными криками сбегались люди. А я пыталась вырвать руль из окаменевших рук тети, не замечая, что по лицу у меня течет кровь из рассеченной брови…
Тетя так и не могла никогда объяснить, почему это сделала:
— Что-то меня заставило… Какая-то сила, неподвластная мне…
Но мы с Жакобом знали: это «голос» напоследок внушил ей попытку самоубийства — заранее, за несколько дней, — наверное, именно в той передаче, которую мы прозевали, когда заманивали тетю к дантисту.
Она, конечно, не понимала, что делает. Горан ей внушил какое-то видение, некий призрак опасности. Пытаясь спастись, избежать ее, тетя должна была резко повернуть руль, и именно на мосту. Мы бы неминуемо погибли, а у Горана было превосходное алиби: он ведь находился в это время в Париже. Его алиби мог подтвердить даже комиссар Лантье, специально наводивший справки…
Последний смертельный удар издалека, да к тому же после разоблачения, когда мы ликовали и успокоились, — да, задумано было ловко!
Все предусмотрел хитрый голос, не учел лишь одного: возможной перемены обстановки. Что я замечу подозрительную задумчивость тети и машинально сбавлю скорость. Что как раз в это время нам преградит дорогу громоздкий автопоезд и мы будем вынуждены плестись со скоростью черепахи…
Жало было вырвано. Но яд продолжал действовать.
На другой день после этого ужасного случая в глухом ущелье возле Эйнигена нашли разбитую машину и в ней обезображенный труп старика Анри, которого Жакоб всегда считал гением.
Морис поехал туда по просьбе полиции, чтобы опознать погибшего, и вернулся подавленный, потрясенный.
— Машина шла на большой скорости и рухнула с высоты трехсот метров, — хмуро рассказывал он. — И старик… «пошел на Дьяблере», как говорят в ваших краях.
— Тоже внушение?
— Вряд ли. Комиссар Лантье подозревает, что в мотор была заложена пластиковая бомба. Взрыв оказался хоть не сильным, но неожиданным. А обрыв там крутой. К тому же старик был, как всегда, пьян. Все вдребезги, так что ничего не докажешь: просто несчастный случай. Конечно, им надо было убрать старика. Опасались, как бы не разговорился: ведь это явно его изобретение. Бомбу заложил кто-то из подручных, а Горан в Париже, у него алиби. Только в детективных романах преступника всегда уличают и наказывают, а в жизни…
Но и несчастный гениальный изобретатель сумел перехитрить Горана и подать голос с того света… Пока Морис ездил на место катастрофы, на его имя пришла небольшая посылочка. В ней оказалась магнитофонная пленка, никакой записки приложено не было.
Когда Морис включил магнитофон с загадочной пленкой, мы неожиданно услышали спорящие голоса:
«Будь ты проклят! Я все расскажу Морису. А уж он-то засадит тебя за решетку!» (Я не сразу узнала голос Анри, ведь слышала его раньше всего один раз.)
«Попробуй!… — зловеще ответил Горан. — Ты сам пострадаешь первый. Это была твоя идея, не забывай. И приемник ты сделал».
«Хочешь запугать? — Анри пьяненько засмеялся. — Все равно скажу Морису, мне терять нечего…»
«А может, уже сказал?»
«Я — не ты, играю честно. Он парень умный, сам уже догадывается, идет по твоему следу. А я ему помогу!»
Раздался какой-то грохот. Я вздрогнула и только потом догадалась, что это хлопнула дверь за стариком.
Дальше была тишина, только шуршала и потрескивала пустая пленка…
Как он ухитрился записать этот последний разговор? Видно, хорошо знал, с кем связался.
Пленка еще не кончилась, диски магнитофона крутились, и мы еще раз услышали старика Анри. Уже другим, трезвым голосом он неторопливо и деловито, с дотошными техническими подробностями, рассказывал, как связался с Гораном и сделал по его заказу крошечную радиопломбу, которая потом была помещена в зуб моей тети, Аделины-Марии Кауних…
«Прошу считать это мое заявление официальным, — закончил Анри и после короткой паузы насмешливо добавил: — Оно сделано мною в здравом уме, твердой памяти и в совершенно трезвом состоянии…»
После этого он замолк — уже навсегда.
Бедный старик! Послал на всякий случай пленку Жакобу, а сам поспешил, похоже, к нам, чтобы поскорее предупредить. Стараясь, наверно, избежать преследования, он поехал кружным путем, через горные перевалы и Лечбергский тоннель. Но месть «гласа небесного» все-таки настигла его…
— Это я виноват, что они убили старика, — тихо проговорил Морис, выключая замолкший магнитофон. — Зря я тогда сказал Горану, будто Анри уже все мне рассказал. Горян перепугался и решил поскорее убрать старика.
— Ни в чем вы не виноваты! — поспешила его успокоить я. — Анри сам решил порвать с ними и смело сказал об этом прямо в лицо преступникам. Вы же слышали, как это было.
Я вдруг с горечью подумала, что не помню даже лица Анри: ведь мы виделись лишь мельком, однажды…
Да, в жизни получалось иначе, чем в романах. Порок ловко ускользал от наказания, — может, это знамение времени?
«Космический» проповедник все-таки попал под суд, когда вернулся из Парижа. Процесс был громкий, о нем много писали в газетах. Пускали пленку, и в зале суда вкрадчиво звучал настойчивый, властный голос…
Включали и пленку с записью ссоры Анри с Гораном, и с заявлением старого изобретателя. Но адвокат «гласа небесного» заявил, что смонтировать можно любые разговоры и запись эта не имеет никакой юридической силы.
Для Горана все кончилось лишь двумя годами тюрьмы — «за мошенничество с недозволенным применением гипнотического внушения и некоторых технических средств».
Хорошо хоть его секта прекратила свое существование. Но когда главарь выйдет на свободу, она наверняка возродится под каким-нибудь новым названием.
Морис многое простил несчастному Анри за его раскаяние и попытку помочь нам, даже рискуя жизнью. Он хотел от имени погибшего изобретателя запатентовать уникальный приемник, кстати и для того, чтобы им не смогли больше пользоваться в преступных целях разные жулики и шарлатаны.
Но, оказывается, открытие, на основе которого был устроен удивительный приемник, сделал вовсе не Анри. Патент на него уже получил несколько лет назад один зубной врач в Западной Германии. Он совершенно случайно поставил одному из своих пациентов на больной зуб пломбу из материала, обладавшего свойствами полупроводников, и получилось нечто вроде примитивного приемника. Пациент вдруг начал слышать все передачи местной радиостанции. Старик Анри вычитал об этом открытии в научном журнале и лишь усовершенствовал конструкцию.
Как бывает в жизни, а не в романах, многое в этой удивительной истории оставалось незавершенным и непонятным.
Так и осталось загадкой для всех, когда же удалось «космическим» проходимцам заманить тетю к мнимому дантисту, чтобы поставить ей в зуб радиопломбу. Наверное, они как-то ухитрились использовать для этого ничего не подозревавшего дядю Франца. Может, и у него уже давно была такая пломба, только смерть дяди помешала жуликам ею воспользоваться?
Тетя ничего не помнила: вероятно, ей специально внушили все забыть. Морис пытался уговорить ее, чтобы она согласилась еще раз подвергнуться гипнозу. Он надеялся пробудить во сне дремлющие в глубинах ее мозга воспоминания. Но тетя категорически отказалась.
Я хорошо понимала ее. Судебный процесс открыл ей глаза. Дарственную, конечно, она отменила. Но пережитое оставило глубокий след в ее душе, и еще не скоро моя бедная тетя оправится от кошмаров.
Мы с Морисом подозреваем, что не одна она в округе побывала в свое время у таинственного дантиста. И другие, наверное, слышат по ночам «небесные голоса», видят странные вещи и совершают нелепые поступки. Но люди, живущие у подножия горы, которую сами прозвали «Игрищем дьявола», считают это вполне обычным…
Как бы там ни было, для нас эта мучительная история, к счастью, закончилась благополучно.
— Один только я, пожалуй, в проигрыше, — сказал как-то Морис, заглядывая мне в глаза. — Все кончилось, и я теперь должен расстаться с вами. Но, может, мы будем встречаться… хоть изредка?…
«ВСПОМНИ!»
Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть, и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу…
Огарев1
Во время завтрака Морис рассеянно сказал:
— Да, ты не забыла, что у нас сегодня обедает гость?
— Гость? Впервые слышу. Ты ничего не говорил.
— Ну как же, дорогая. Ты просто забыла. У тебя неважная память.
— Никогда не жаловалась! — возмутилась я. — И прекрасно помню: ничего ты мне не говорил ни о каком госте.
— Ну хорошо, хорошо, — поспешил отступить муж. — Значит, у меня память стала пошаливать. Но теперь, пожалуйста, не забудь: у нас обедает гость.
— Постараюсь. А кто именно? Или ты мне тоже об этом уже говорил, только я забыла?
— Некий Томас Игнотус.
— Странная фамилия.
— Да, у нынешних святых отцов бедновато воображение Не придумали ничего лучше, как окрестить его Неизвестным.
— При чем тут святые отцы?
— Он воспитывался в монастыре.
— Он что — сирота?
— Пока — да.
— Почему пока?
— Это ты поймешь из нашей беседы за обедом.
— Как тебе нравится играть в тайны! Он что, очередной пациент? Будешь излечивать его от суеверий и вырывать из лап церковников?
— Нет, на сей раз дело несколько иное. И весьма любопытное. Вот увидишь. Кстати, речь пойдет о памяти…
— Ты снова? Не понимаю, почему деловые разговоры надо вести за обедом.
— Мне думается, в такой обстановке он будет чувствовать себя спокойнее, по-домашнему. Человек он одинокий, обиженный судьбой. Не стоит его сразу пугать лабораторией.
Времени оставалось мало, а осрамиться перед гостем мне не хотелось. Но все-таки я успела приготовить неплохой обед: суп с фрикадельками из гусиной печенки, бернские колбаски, на сладкое домашний яблочный торт.
Когда Морис с Гансом Грюнером пришли из лаборатории, стол я уже накрыла.
— Ну, где же твой гость?
Муж не успел мне ответить, как у входной двери раздался звонок.
— Он аккуратен, — одобрительно сказал Морис и поспешил открыть.
Гость оказался высок, белобрыс, застенчив. Загорелые лицо и шея, из коротковатых рукавов дешевого костюма неуклюже торчат темные, как клешни, исцарапанные кисти рук, которые он не знает, куда девать. Видно, Томас много времени проводит на свежем воздухе, под солнцем, и редко надевает этот костюм.
— Познакомьтесь: Томас Игнотус. — Морис представил нас: — Мадам Клодина Жакоб, моя жена и помощница. А это мой секретарь, Ганс Грюнер.
Гость неловко поклонился, стараясь держаться поближе к стене. Я поспешила пригласить всех к столу.
Морис, конечно, сразу начал донимать его расспросами.
— Значит, вы думаете, будто родились не в Швейцарии, а где-то в другой стране? Почему? — спросил он, едва гость взялся за ложку.
— Я — сирота, с десяти лет воспитывался в монастыре святого Фомы: профессор Рейнгарт, вероятно, говорил вам…
— А раньше? Кто были ваши родители?
— Не знаю, — виновато ответил Томас. — Что было раньше, я ничего не помню.
— И только поэтому вы решили, будто иностранец? Разве мало у нас подкидывают детей к монастырским воротам?
Морис порой бывает совершенно несносен. Я толкнула его под столом ногой, но он не обратил никакого внимания и продолжал:
— А что это за номер у вас на руке? Монастырская метка?
Смутившийся еще больше гость поспешно поправил манжеты, но я тоже успела заметить татуировку у него на левом запястье: «Х-66р».
— Она была у меня еще раньше, до монастыря. Не знаю, откуда взялась.
— А почему вы не выведете ее? Сейчас это ловко делают. Или оставили «на счастье», как талисман?
Томас ничего не ответил и, стараясь куда-нибудь спрятать злополучные руки, задел и опрокинул солонку.
— О, извините… — Лицо у него стало совсем багровым.
Я видела, что ему очень хочется взять щепотку рассыпанной соли и бросить через левое плечо, чтобы не накликать несчастья. Он не решился. Тогда это демонстративно сделала я, назло Морису.
Но Морис только весело рассмеялся и вдруг властно приказал Томасу:
— Сцепите пальцы рук! Крепко сцепите! И смотрите мне прямо в глаза, не отрываясь. Не отводите взгляда! Ваши руки сжимаются все крепче. Вы не можете их разжать! Они разожмутся только по моему разрешению. Пробуйте, прилагайте усилия. Вы не можете разжать руки!
Томас попытался расцепить пальцы — и не смог. На лбу его выступили капельки пота.
Я уже видела подобные штуки: таким способом проверяют, хорошо ли человек поддается внушению. Но бедный Томас так перепугался, что мне его стало жалко.
Ганс помалкивал, занятый своим делом — все запоминать. Но мне показалось, что он тихонечко хихикнул.
— Морис, дай же человеку спокойно пообедать! — сердито сказала я.
— Прошу прощения. Теперь они легко разожмутся по моему приказу. Только слушайтесь меня! Видите? Клодина, подложи гостю еще колбасок, они превосходны, — добавил он как ни в чем не бывало.
— Спасибо, я…
— Ешьте, ешьте. Так почему же вы все-таки думаете, будто родились не здесь, а в другой стране?
— Иногда я вижу странные сны, — помедлив, ответил гость и посмотрел исподлобья на Мориса: не станет ли тот смеяться?
Но Морис, наоборот, сразу стал особенно деловит и серьезен и быстро спросил, подавшись к нему через стол:
— Какие именно сны?
— Мне снятся горы… Не наши горы, а пологие, с мягкими очертаниями. Снится маленький городок у моря. В нем есть что-то восточное. И солнце там жаркое, не такое, как у нас, тени четкие, черные.
— У моря? Может быть, это озеро — вроде нашего, Женевского? — спросил Морис.
— Нет, там море, — упрямо ответил гость, покачивая головой. — На базаре продают много рыбы.
Он замолчал, словно всматриваясь в эти воспоминания. И мы молчали, никто не решался их вспугнуть. Потом Морис спросил:
— Еще что вам снится?
— Иногда товарный вагон. В нем много детей. Нас куда-то везут, но выходить из вагона не дают даже на больших станциях… Часовые в стальных шлемах. Этот сон неприятный. Они толкают нас прикладами, бьют. Я всегда просыпаюсь в холодном поту.
— В каких странах вы бывали, кроме Швейцарии? — спросил Морис.
— Ни в каких. Я всю жизнь прожил здесь.
— Никогда не бывали за границей?
— Нет. Я и тут-то мало куда ездил. Вот только в Берн да однажды в Цюрих с женой.
— Какие языки знаете, кроме немецкого?
— Никаких. В монастыре учил латынь, но помню плохо.
— Даже французского не знаете? — поднял брови Морис. — Довольно редкий случай в нашей многоязычной стране.
— Немножко знаю, но произношение… Понимать-то я понимаю, но предпочитаю говорить по-немецки.
— Пожалуй, вы правы, — задумчиво проговорил Морис. — Вас откуда-то привезли в Швейцарию.
— Конечно! — обрадовался Томас. — Вы поможете мне найти моих родственников?
— Пока трудно за что-либо зацепиться. Попробуйте вспомнить, что вам снилось еще. И главное — с деталями, побольше подробностей.
Гость задумался.
— Иногда снятся совсем другие дома, — опустив голову, виновато сказал он. — Маленькая деревня в сосновом лесу. И гор нет никаких вокруг. Может, это снится мне просто так? Как говорится, дьявол путает?
— Вы суеверны? — быстро спросил Морис.
— Нет, что вы! — поспешно ответил гость. — Но вчера, например, приснилась уж явная чертовщина…
— Какая?
— Женщины плясали вокруг костра и потом ходили босыми ногами по угольям.
— Какие женщины? Как они выглядели?
— В таких длинных черных платьях, в белых платочках.
— И они ходили босиком по раскаленным углям?
— Да. Вы мне не верите?
— Почему же? Ведь вы в самом деле видели это?
— Да!
— Во сне?
— Да. Но мне кажется, я видел это когда-то и наяву… — Под пристальным взглядом Мориса он тут же поспешил поправиться: — А может, мне так только кажется. Конечно, нелепый сон.
— Как заметил один мудрый человек: «Сны — это лгуны, которые иногда говорят правду…», — важно произнес Ганс.
— Значит, вы мне верите? — обрадовался гость. — И поможете?
— Попытаюсь. Не будем откладывать. Приходите завтра к десяти часам. Мы попробуем разобраться в ваших снах.
— Спасибо, профессор! Недаром у меня было хорошее предчувствие, когда шел к вам. Я непременно приду, только надо договориться с хозяином… — Он встал, неловко поклонился Морису, потом нам с Грюнером. — Большое спасибо за обед.
Помявшись, но так и не решившись что-то сказать, он направился к двери. Морис пошел проводить его до ворот.
— Очень беспокоится о гонораре, не много ли возьму за консультацию, — сказал он, вернувшись. — Я его успокоил, что подожду: «Сочтемся, когда вы найдете своих богатых родичей…»
— Ты его не напугал? — спросила я. — А то вдруг он вообще больше не придет. Неловко получилось. Ничего себе, пригласил человека пообедать. Замучал дотошными вопросами, затем этот глупый фокус с руками. Он даже торт не доел…
— Надо же было проверить его внушаемость.
— Обязательно за обедом? Он и так посматривал на тебя с недоверием, как на какого-то шарлатана. Когда наконец ты научишься себя вести, как подобает профессору и доктору философии?
— Наоборот, я произвел на него хорошее впечатление. Он мне верит. Ну, что вы думаете об этом дельце?
Грюнер, конечно, сказал, как всегда, совершенно неожиданное:
— Какой у него желтый и рассыпчатый голос, у этого Томаса.
— Вам он показался именно таким? — заинтересовался Морис, сразу забыв о Томасе.
— Да. Желтый и рассыпчатый, как просяная крупа.
— Любопытно. Это надо записать.
— Хорошо, я отмечу свои ощущения в протоколе беседы… — кивнул Грюнер. — Вы ему верите?
— Его снам?
— Тому, что он в самом деле забыл, где родился.
— Это вполне возможно.
Грюнер иронически скривил тонкие губы:
— Ложку ищет, а она у него в руках…
— Разумеется, вам это кажется совершенно невозможным, — сказала я. — Но ведь вы уникум.
— Никогда не поверю, будто можно забыть такие вещи. — упрямо покачал головой Ганс.
Он в самом деле уникум, человек с необыкновенной памятью. Ганс помнит все. Морис уверяет, будто его память практически не имеет границ.
Ганс свободно запоминает таблицы в сотни цифр, что меня поражает больше всего, сколько угодно слов на любых языках и просто бесконечные наборы бессмысленных слогов. Он моментально запоминает на слух любые стихи или музыкальные мелодии. Если захочет кого-нибудь поразить, то потом любой текст прочтет по памяти в обратном порядке — или от середины к началу, от середины к концу, — как вы пожелаете.
В такие моменты я смотрю на него с благоговейным испугом. Он начинает казаться мне роботом, которому придали вполне человеческий вид, даже аккуратно зачесали реденькие волосы, чтобы скрыть раннюю лысину, одели в серый костюм самого модного покроя, — о таких много теперь пишут фантасты. Может быть, под этим высоким лбом с чуть приплюснутыми висками спрятан электронный мозг?
Морис очень заинтересовался Гансом и ведет над ним постоянные наблюдения вот уже шестой год. Он сделал ловкий ход, которым весьма гордится: пригласил Ганса стать его секретарем. Лучшего секретаря, конечно, не придумаешь.
Ганс ничего не записывает, но все запоминает, а потом составляет протокол каждой беседы или опыта. Очень удобно.
И Ганс доволен своей жизнью, хотя иногда и начинает в шутку стыдить Мориса, будто тот его безбожно эксплуатирует. Но жалованье он получает щедрое да, кроме того, частенько подрабатывает, выступая вместе с Морисом и всех удивляя своими феноменальными способностями. Деньги он бережливо копит на старость и станет, наверное, скоро миллионером, потому что одинок, скуповат, не пьет и не курит.
— Кто зарабатывает только на хлеб, сыт не бывает, — рассудительно отвечает Ганс, когда мы с Морисом начинаем подшучивать над ним.
Голова его напичкана пословицами, и он очень любит их приводить кстати и некстати.
Некоторые его странности меня пугают. Ганс может, например, преспокойно сказать:
— Ну, как же вы не помните это место?… Там еще такой зеленый солоноватый забор…
Цвета для него имеют вкус, и звуки тоже он, как уверяет, воспринимает на вкус и в красках. Это помогает ему якобы все запоминать.
А может, он просто выдумывает? Ганс большой фантазер. Если его попросишь куда-нибудь сходить, он подробно и обстоятельно, с массой точнейших деталей, расскажет, что там видел. А потом выяснится, что он вовсе никуда не ходил и ничего не сделал, просто-напросто все вообразил! И уверяет при этом, что такова, видите ли, его натура: он, дескать, постоянно путает реальные события с воображаемыми, и это мешает ему жить. Меня такие штучки бесят, а Морис всегда смеется и поддерживает Ганса.
Морис проводил специально опыты и убеждает меня, что феноменальный Ганс действительно обладает необычным воображением. Ему достаточно лишь вообразить, будто кладет левую руку на край горячей плиты, а в правую зажимает кусок льда, и температура одной руки повышается, а другой понижается сразу на два-три градуса!
Я бы не поверила этому, если бы не видела градусник собственными глазами.
Ганс может ускорить биение своего сердца — для этого ему достаточно лишь представить себя бегущим по улице за автобусом. А зубы он лечит без всякого наркоза: просто представляет сидящим в зубоврачебном кресле не себя, а кого-нибудь другого.
— Хотя бы вас, — галантно сказал он как-то мне. — Это очень отвлекает.
— Благодарю! — засмеялась я. — Вам, конечно, удобно. Хорошо хоть я при этом не испытываю зубной боли…
— А вы потренируйте ваше воображение, — всерьез посоветовал он. — Мне кажется, это доступно всем, только надо тренироваться.
Он ничего не забывает.
Морис иногда проверяет его и, заглядывая в свои записи, спрашивает:
— Скажите-ка, Ганс, какой опыт мы с вами проводили пятнадцатого июня шестьдесят третьего года?
— Пятнадцатого июня? — переспрашивает Ганс и на миг задумывается, морща высокий лоб. — Подождите… вы были в сером костюме… Я сидел против вас у окна. А, мы запоминали таблицу цифр.
— Вы можете ее вспомнить?
— С удовольствием… — И Ганс начинает без запинки сыпать четырехзначными числами.
Морис едва успевает их проверять по своим записям, ошеломленно качает головой и восхищается:
— Ни одной ошибки!
Конечно, при такой необыкновенной памяти любой человек кажется Гансу притворяющимся, если он что-то забыл. Он просто не может себе представить, как это возможно — забывать…
— Ну, а ты что думаешь о нашем госте? — спросил Морис у меня.
— История очень трогательная. Ты должен ему помочь. Это возможно?
Постукивая пальцами по столу, муж задумчиво ответил:
— Слишком мало мы еще знаем о загадочных процессах человеческой памяти. Последние исследования, кажется, внушают уверенность, что мы запоминаем практически все когда-либо привлекавшее наше внимание, только не умеем вспоминать по желанию. Похоже, вся информация, поступающая в наш организм, оставляет где-то в нервных клетках вечный, нестираемый след. Но где? И как добраться до этих записей?
— Для меня нет ничего проще, — горделиво сказал Ганс.
— К сожалению, только для вас. И если бы вы могли поделиться этой чудесной способностью с другими, научить нас все запоминать и в любой момент вспоминать по желанию… Но ведь вы даже не можете рассказать, как это вам удается.
— Да, — смущенно согласился Всепомнящий Ганс. — Я просто вспоминаю, и все. Никаких секретов.
— Очень просто, — насмешливо подхватил Морис. — А как подобрать ключи к памяти Томаса?
— Он действительно сирота? — спросила я.
— Да. Был в сорок пятом году приведен неведомо кем в одно селение возле Сен-Мориса. Крестьяне передали его в ближайший монастырь святого Фомы. Там его воспитывали до пятнадцати лет, потом пристроили куда-то батраком.
— Он и сейчас, похоже, живет неважно, бедняга. Мне его жалко, — сказала я.
— Работает слесарем на бензозаправочной станции. Зарабатывает, конечно, гроши. Женился неудачно, через полтора года жена его бросила. Кажется, попивает, хотя и не признается. Вообще неудачник. А мимо проносится в «кадиллаках» сладкая жизнь, едут богатые дамы и господа. Вот ему и стало казаться, что, может, родители его тоже богатые люди. Хорошо бы их отыскать, получить богатое наследство…
— Откуда ты знаешь? — удивилась я. — Он об этом ничего не говорил. Или ты уже беседовал с ним раньше?
— Нет, мне рассказывал кое-что профессор Рейнгарт. Томас обращался к нему, он и попросил меня заняться этим делом. Старик Рейнгарт опасается, как бы эти навязчивые мысли о наследстве и богатых родичах не переросли в психоз, тогда копаться в памяти Томаса Игнотуса станет поздно. Не разберешься, где правда, а где мечты.
— Ты думаешь, он все выдумал, а на самом деле родился где-то в Швейцарии? — спросила я.
— Конечно, выдумал, — решительно вмешался Ганс. — Женщины на углях. Просто притворяется, будто все забыл.
— Посмотрим.
— Ты хочешь его усыплять?
— Пока нет. Внушаемость у него хорошая: вероятно, легко будет добиться самой глубокой, сомнамбулической стадии. Но с гипноза начинать мне не хочется.
— Почему? — удивился Ганс. — У вас это ловко получается.
— Спасибо за комплимент, но я опасаюсь, как бы он не начал под гипнозом фантазировать вроде вас, уважаемый Всепомнящий.
— Опасаетесь ложных воспоминаний? — кивнул с глубокомысленным видом Грюнер.
Работая вместе с Морисом, он сам уже, по-моему, стал профессором, во всяком случае, научился ловко щеголять научными терминами.
— Вот именно, — сказал Морис. — Если у него эти сны возникают лишь от все нарастающей мании богатых родственников, как бы их не закрепить внушением в его памяти так прочно, что потом и не разберешься, где правда, а где выдумки.
— Значит, вы решили попробовать химические стимуляторы памяти, — кивнул Ганс.
Морис рассеянно посмотрел на него:
— Возможно… Хотя не очень в них верю.
— Почему? Ты же сам мне рассказывал о каких-то «таблетках памяти», изобретенных в Америке? — спросила я.
Морис с шутливым ужасом замахал руками:
— Мои помощники становятся слишком опытными! Если так дело пойдет и дальше, придется мне вас уволить.
Заметив по моему лицу, что его тон меня немножко задел, он поспешил пояснить:
— Ты имеешь в виду сайлерт? Эти таблетки расхвалили для рекламы. Ничего особенного — просто нуклеиновые кислоты из дрожжей. Есть данные, будто они облегчают процессы запоминания и последующего воспроизведения, ко далеко не у каждого…
— С чего же ты тогда хочешь начать свои опыты? — перебила его я, потому что эта научная лекция понравилась мне еще меньше, чем выговор, который он решил ею «подсластить».
— Не угадаете, мои мудрые и многоопытные помощники. Как гласит народная мудрость: «Первая мысль не всегда самая лучшая…»
— Он заразился этой мудростью от вас, Ганс. Так с чего же ты решил начать?
— Пожалуй, с гадания по зеркалу, — неожиданно ответил Морис.
Женаты мы уже больше года, но все никак не могу понять — когда он говорит серьезно, а когда подсмеивается надо мной.
Ганс тоже смотрел на него недоумевающе.
— Что ты задумал? — сердито спросила я.
— Погадать с зеркалом. Ты же видела, у меня в кабинете висит большое зеркало. Старинное, им пользовалась для гадания еще мадам Русико в Париже в шестнадцатом веке, и, как свидетельствуют современники, с большим успехом. Потом оно каким-то загадочным образом попало в ловкие руки известного графа Сен-Жар-мен…
— Я не только видела это зеркало, но мне уже надоело каждый день вытирать с него пыль, — сказала я. — И эти легенды тоже слышала не раз. Ты любишь украшать свой кабинет всякими магическими раритетами и сочинять о них таинственные истории. Скоро он превратится в музей. Вот я доберусь до этого зеркала!…
— Пожалуйста, будь осторожнее с ним! — поспешно сказал Морис. — Это ценный научный прибор.
— Какой еще там прибор! — отмахнулась я.
— Напрасно ты мне не веришь. Я сам порой пользуюсь им, чтобы вспомнить что-нибудь забытое…
— Представляю, как ты сидишь перед зеркалом, словно старуха гадалка!
Грюнер засмеялся.
— И тебя в самом деле посещают видения? — продолжала я нападать.
— Редко, — невозмутимо ответил Морис. — Я слишком скептичен для этого. Но с Томасом, мне кажется, должно получиться. Он человек более эмоциональный и к тому же не лишен суеверий: сказывается монастырское воспитание.
— Хватит надо мной издеваться! — уже серьезно сказала я. — Ты что, в самом деле пытаешься меня убедить, будто веришь в гадания по зеркалу? Это ты-то — старый, закаленный борец с глупыми суевериями?!
— Это не гадание, а одна из форм самогипноза. Ее с древнейших времен используют жрецы, и успешно. Или ты думаешь, будто колдуны и чародеи ухитрялись много веков дурачить миллионы людей лишь путем простого обмана, ловкими трюками? Ошибаешься. Магия предшествовала науке и эмпирическим, опытным путем сделала немало важных открытий: гипноз, внушение и психотерапия, лекарственные травы — все это ведь известно с незапамятной древности. И маги умели превосходно пользоваться своими открытиями.
— Хорошо, с гипнозом и травами согласна. Но гадание по зеркалу! — продолжала я сомневаться.
— Да, тут вы, пожалуй, хватили через край из-за своей тяги к необычному и загадочному, — поддержал меня Грюнер. — Имейте мужество сознаться, дорогой профессор: вы просто решили нас поразить и теперь вынуждены упорствовать, упрямо защищая явную чепуху.
— Ах, вы мне не верите? Не стану вас уговаривать. Завтра убедитесь сами. Как говорится: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…»
2
С утра Морис в самом деле стал возиться с «магическим» зеркалом — снял его со стены, тщательно протер и установил на столике напротив мягкого кресла. Потом завесил стену за зеркалом какой-то пестрой восточной шалью, плотно закрыл шторы на окнах и зажег несколько свечей в разных углах комнаты.
То и дело он усаживался в кресло и смотрелся в зеркало, что-то проверяя и подправляя с весьма деловым видом.
Что за человек! Доктор философии, профессор Сорбонны и Цюрихского университета, его исследования скрытых возможностей человеческого мозга ценят во всем ученом мире — и вдруг дружит с цирковыми фокусниками, хвастает дипломом короля современной магии, который получил на международном конкурсе иллюзионистов и фокусников.
Да и сейчас, выступая с лекциями о скрытых резервах и возможностях человеческого организма, он показывает порой удивительные вещи: прокалывает себе руки и ноги, лежит на остриях гвоздей словно на мягкой перине, дает себя прострелить насквозь, танцует на раскаленных углях…
А после поразительных фокусов объясняет ошеломленным зрителям, что нет тут ничего таинственного и мистического — просто долгая тренировка и мастерское владение своим духом и телом.
Не ограничиваясь такими «лекциями с фокусами», как мы их называем, Морис еще преследует и разоблачает всяких шарлатанов, которые уже не со сцены, а в жизни пытаются дурачить простаков, ловко спекулируя на всяких суевериях.
— Это я веду атеистическую пропаганду, — смеется Морис.
Он уже вывел на чистую воду не один десяток разных гадалок, ясновидящих, спиритов, главарей шарлатанских сект, нажив, конечно, немало врагов и не раз рискуя жизнью. Одно из таких приключений — когда Морис разоблачил загадочный «глас небесный» и спас мою тетю, как я уже рассказывала, — и познакомило, свело нас с ним. Вскоре я стала его женой. А теперь он вдруг сам затевает какие-то штучки с «магическим» зеркалом, — ну разве можно понять такого человека и привыкнуть к его странным затеям?
Когда пришел Томас, Морис провел его в лабораторию, усадил в кресло и сказал:
— Для начала попробуем погадать по зеркалу.
— Погадать? — переспросил Томас, озираясь по сторонам. Он был удивлен, но явно удивлен приятно.
— Да. Это старинное зеркало, магическое. Я сам им нередко пользуюсь, когда надо что-нибудь припомнить. Сидите спокойно, расслабьтесь и смотрите в зеркало, не отводя глаз, если даже они устанут. Смотрите и запоминайте видения, которые появятся в зеркале. Они обязательно появятся!
Мы с Гансом переглянулись, и он пожал плечами, Мы сидели с ним в соседней комнате и не только все хорошо слышали через динамик, но и прекрасно видели благодаря остроумной выдумке Мориса.
В стене между этой комнатой и лабораторией было устроено потайное окно, замаскированное под самое обыкновенное зеркало. Сквозь него было видно все, что делается в лаборатории. И порой бывает очень смешно наблюдать, как ничего не подозревающий пациент, оставшись в лаборатории один, подходит к этому «зеркалу» и начинает старательно прихорашиваться, порой даже строя уморительные гримасы…
— Не буду вам мешать, — сказал Морис.
Оставив Томаса наедине с «магическим» зеркалом, он пришел к нам с какой-то книжкой в руках.
— Сидит спокойно, не вертится? — спросил Морис, заглядывая в потайное окно. — Отлично. Пока он грезит, могу прочитать вам маленькую лекцию. Вы видите в гадании по зеркалу только глупое суеверие. Но это гадалки так обставляют свои манипуляции, что нелегко разглядеть скрытое рациональное зерно, лишенное всякой мистики. Это же вовсе не гадание!
— А что же? — удивилась я.
— Ты же видела, как нередко, чтобы погрузить кого-нибудь в гипнотический сон, я заставляю его смотреть на блестящий металлический шарик или просто на свой докторский молоточек. Видела?
— Видела.
— Так вот зеркало попросту играет роль такого же блестящего предмета. Оно притягивает к себе взгляд и помогает погрузиться в легкий гипнотический сон. Происходит как бы самоусыпление. Конечно, это сон относительный, поверхностный, неглубокий. Человек, смотрящий в зеркало, не теряет контакта с окружающей обстановкой. Но даже такого слабого гипнотического состояния оказывается для некоторых впечатлительных людей вполне достаточно, чтобы какие-то зрительные впечатления, хранившиеся неосознанно для них где-то в глубинах мозга, перешли в сознательную сферу. Они всплывают в сознании, будто смутные видения, якобы возникающие в зеркале. Конечно, на самом деле в зеркале ничего не появляется. Все происходит где-то в мозгу. А зеркало, как я уже, по-моему, достаточно популярно объяснил, лишь помогает этому переходу вспоминаемых зрительных впечатлений из подсознания в сознание, помогает пробуждению памяти…
Он открыл книжку на заложенной странице:
— Подробное и весьма точное описание таких «гаданий» сделал еще в средние века арабский ученый Ибн-Халдун и дал им совершенно правильное объяснение. Вот, пожалуйста, выдержка из его трудов, чтобы вы, наконец, поверили: «Сосредоточивая свой взгляд на предметах с гладкой поверхностью, они внимательно созерцают их, пока не увидят того, что им нужно возвестить…» — очень тонко подмечено: именно «что им нужно возвестить»!
«Некоторые полагают, что видимый при этом образ вырисовывается на поверхности зеркала, но это неверно, — продолжал он читать, назидательно подняв палец. — Прорицатель пристально глядит на поверхность зеркала, пока она не исчезнет и пока между ним и зеркалом не явится как бы завеса из тумана. На этой завесе выступают образы, которые он желает видеть… Прорицатели в этом состоянии не видят того, что можно действительно видеть в зеркале, у них является совершенно особый род восприятия…»
Очень верно и точно все объяснено, — сказал Морис, закрывая книжку. — Именно так: «совершенно особый род восприятия» — воспоминания в самогипнозе. Молодец Ибн-Халдун!
Ганс, не отрывавшийся от потайного окна, вдруг вскрикнул приглушенно:
— Он заглядывает в зеркало. Он в самом деле в нем что-то видит!
Томас действительно, вцепившись в подлокотники кресла, весь подался к зеркалу, словно пытаясь что-то рассмотреть в нем получше.
— Отлично! — потирая руки, сказал Морис. — Кажется, получается. И без всяких моих расспросов, которые могли бы его толкнуть на путь ложных воспоминаний. Он видит лишь то, что в самом деле таится где-то в глубинах его памяти.
Я слушала Мориса, а сама не отрывалась от окна: что видит Томас в «магическом» зеркале? Не терпелось узнать…
Вскоре Томас начал вертеть головой, поводить плечами, ерзать в кресле.
— Устал. Надо кончать, — сказал Морис и пошел к нему в лабораторию. — Ну, видели что-нибудь? — спросил он у Томаса.
— Видел, профессор, видел, — радостно ответил тот. — Жалко, не очень отчетливо…
— А что вы видели?
— Жену, — услышали мы с Гансом и переглянулись. — Она была в той самой голубой кофточке, что я ей подарил на рождество.
— Да? — несколько обескураженно сказал Морис и покосился на потайное окно, зная, что мы все слышим и видим. — А больше ничего не видели?
— Больше — нет.
— Хорошо, на сегодня хватит. Вы и так устали, взволнованы. Приходите завтра…
— Завтра я не смогу, профессор. Заболел мой сменщик, приходится работать и за него. Если можно, послезавтра? Хозяин обещал отпустить меня.
— Пожалуйста.
Проводив Томаса, Морис, затягиваясь сигареткой, вошел к нам в комнату.
— Успехи невелики, но я и не ждал большего, — с довольно наигранной бодростью сказал он, опережая наши насмешки. — Он, видно, так любил сбежавшую жену, что она до сих пор заслоняет от него все прежние воспоминания. Ничего, мне гораздо важнее психологический выигрыш.
— Какой? — спросил Ганс.
— Я затеял этот фокус с зеркалом больше для Томаса. Он довольно склонен к суевериям, хотя и стыдится признаться: бережет татуировку как талисман, верит в предчувствия и приметы. Вот я и подумал, что «гадание» по зеркалу должно поразить его, вызвать суеверное почтение ко мне. И кажется, не ошибся. Благодаря такому «гаданию» мне удалось завоевать его доверие.
Но больше колдовать с зеркалом Морис все-таки не стал, небрежно заметив на следующий день за завтраком:
— Метод слишком древний, кустарный, малопроизводительный. Надо расшатать психологический барьер в его памяти более сильными средствами. Попробуем пробиться к воспоминаниям о детстве с помощью химии.
— Все-таки «таблетки памяти»?
— Не только. Есть немало новейших средств, позволяющих провести так называемый наркоанализ.
— А в чем он заключается?
— Ну, пациент начинает как бы бредить, испытывая склонность к откровенности. Надо только умело задавать вопросы. Правда, он станет произносить довольно бессвязные фразы. Включим магнитофон, а Ганс для контроля станет все запоминать и потом запишет: таким образом я убью сразу двух зайцев — и память Ганса лишний раз проверю, и постараюсь пробудить давние детские воспоминания у Томаса.
— А поговорку о двух зайцах ты не забыл? — спросила я.
Но муж сделал вид, будто погрузился в свои ученые думы и меня уже не слышит…
— Ну, каковы успехи? — спросила я его вечером.
Морис поморщился:
— Опять пока не блестяще. Почему-то он отнесся к таблеткам весьма настороженно и даже испуганно. Я стал успокаивать, что они совершенно безвредны. Спрашиваю: «Вам какие-нибудь таблетки давали раньше?» — «Нет, — отвечает. — Не помню. По-моему, не давали». — «Так почему же вы их боитесь?» — «Вообще не люблю принимать лекарства», — отвечает, но, по-моему, он что-то скрывает, кривит душой. Совершенно непонятно, почему его так напугали эти таблетки? Все-таки я его уговорил, и он принял их. Стал расспрашивать, когда уснул. Он говорил много, но разобраться в этом «потоке сознания» нелегко. Воспоминания сравнительно недавние, связанные все больше с тем, как его обманула и бросила жена…
— Представляю, что он наговорил. Хорошо, что меня не было.
— Да, мы с Гансом чувствовали себя довольно неловко, слушая его признания. Я даже не решился дать ему прослушать запись. Видно, уход жены оставил в его памяти очень прочный и болезненный след…
— Еще бы!
— Получился своего рода шоковый барьер, и, как через него теперь пробиться к его детским воспоминаниям, просто не знаю.
Нечасто приходится слышать от Мориса такие признания.
Значит, орешек ему попался действительно крепкий.
— Понимаешь, — продолжал он, — получается стрельба вслепую, наугад. Даже повторений воспоминаний не получаем, хотя бы как в опытах Пенфилда…
— А что это за опыты?
— Разве ты не знаешь? Стыдно.
— Но ведь я недавно замужем за психологом.
— Неважно. Это одно из важнейших открытий последнего времени. Профессор Пенфилд — известный канадский нейрохирург, пожалуй, даже крупнейший сейчас в мире. Несколько лет назад, делая операции на мозге, он натолкнулся на очень важные и интересные явления. При таких операциях исследователи стараются воспользоваться представившейся редкой возможностью и, разумеется с согласия пациента, проводят некоторые исследования, скажем, вживляют в кору головного мозга тончайшие электроды и…
— Ну уж я бы не разрешила, чтобы копались в моих мозгах.
— Напрасно. Это совершенно безопасно и безболезненно. Мозговая ткань — единственная в нашем организме, полностью лишенная болевой чувствительности. Вскрыв черепную коробку под местным наркозом, можно потом вести операцию и при этом беседовать с пациентом на любые темы — он ничего не чувствует.
— Ты думаешь, меня успокоил, рисуя такую идиллию? Ужас!
— Просто у тебя слишком живое воображение. Но зато такие операции дают бесценную возможность изучать живой мозг. Пенфилд воспользовался ею и попробовал раздражать височные доли мозга своих пациентов слабым электрическим током. Результаты оказались поразительными. При раздражении некоторых извилин люди явственно, во всех деталях и красках, вспоминали картины давно пережитого. Один из пациентов услышал, как его знакомая играет на пианино старую, забытую мелодию, слышал ее шутки и смеялся вместе с нею. Другой вдруг увидел грабителей с ружьями, словно иллюстрацию к детективному роману…
— А может, он в самом деле просто вообразил эту сценку, а вовсе не вспомнил? Как Ганс.
— Нет, ему действительно довелось пережить такую встречу с грабителями в юности. Несомненно, ожившее воспоминание. И его удавалось воскрешать снова и снова во всех подробностях, раздражая тот же участок мозга. Пациенты рассказывали, что воспоминания развертывались перед ними в строгой временной последовательности, словно кинофильм. И длились они, по наблюдениям Пенфилда, столько же времени, сколько заняли бы реально совершающиеся события. Значит, все увиденное и пережитое словно действительно где-то записано в памяти.
— Очень интересно! Значит, все наши воспоминания хранятся здесь? — спросила я, приложив ладони к вискам.
— Если б так просто… К сожалению, все гораздо сложнее. У некоторых людей приходилось удалять поврежденные височные доли мозга, и они не теряли памяти. Значит, эти доли вовсе не являются хранилищем воспоминаний.
— Как же так, не понимаю.
— Видимо, механика памяти гораздо сложнее. Височные доли как бы играют роль «двери» к воспоминаниям, вот почему при их удалении память все-таки сохраняется.
— Но где же тогда она хранится?
— Если бы я мог ответить, то стал бы наверняка лауреатом Нобелевской премии, — засмеялся Морис. — Этого пока никто не знает. Может, в нервных клетках, запрятанных во всей толще головного мозга. Возможно, даже в глии — так называют особые клетки, составляющие до девяноста процентов всей массы мозга. До недавнего времени считали, будто они играют второстепенную, вспомогательную роль по сравнению с нервными клетками, лишь питают нейроны энергией. Но последние исследования Галамбоса и других ученых заставляют задуматься о том, не играет ли именно глия основную роль в хранении информации. А теперь уже очевидно, что тайники памяти надо искать еще глубже — в молекулах и нуклеиновых кислотах. Но это уже ведомство биохимиков.
— Так что ты «стреляешь» таблетками совершенно вслепую, наугад, не имея даже смутного представления, где находится цель? — покачала я головой.
— Н-да, как справедливо изрекла сегодня народная мудрость устами Ганса Всепомнящего: «Мало целиться — надо попасть…»
— Ну, пря таком методе бедный Томас успеет состариться, так и не вспомнив, где родился и провел детство.
— Ты рано падаешь духом. Попробуем гипноз.
— А в нем ты уверен? Вдруг получится так же мало проку. Жалко, очень хочется помочь бедному Томасу. Он такой одинокий и неухоженный.
Похоже, неудачи подействовали даже на Мориса, потому что он ответил без привычной самоуверенности:
— Конечно, полной гарантии нет. Но удавалось делать любопытные вещи — гипнозом я владею неплохо.
Он посмотрел на меня с тем внимательно-отсутствующим взглядом, который всегда мне не нравится, потому что я начинаю сразу чувствовать себя каким-то подопытным кроликом, и вдруг спросил:
— Ты сегодня пешком ходила на рынок, не на машине ездила?
— Пешком. А что такое?
— Сколько столбов с уличными фонарями попалось тебе по дороге?
— Вот уж не считала.
— Знаешь! — настаивал он. — Ты все их пересчитала, только не можешь вспомнить. А хочешь, я тебе помогу?
— Каким образом?
— Усыплю тебя, и ты прекрасно вспомнишь, сколько именно столбов насчитала.
— Морис! Ведь мы договорились! — Я отодвинулась от него подальше и даже закрылась ладонью. — Ты же обещал, что никогда не станешь меня гипнотизировать и вообще не будешь проделывать надо мной никаких опытов. Только с таким условием я вышла за тебя замуж, забыл!
— Не беспокойся, твои прежние увлечения меня не интересуют, я хочу жить спокойно, — засмеялся Морис. — А поскольку вся информация, какую мы воспринимаем, оставляет в нас неизгладимый след» то лучший способ сохранить покой — это неведение.
— Кто ничего не слушает и не видит, тому нечего и вспоминать?
— Вот именно. Просто я хочу тебя убедить в силе гипноза.
— Твои способности мне хорошо известны, потому и не хочу служить подопытным кроликом. Демонстрируй их лучше на бедном Томасе. Может, они ему помогут вспомнить и отыскать богатых родичей.
3
Через два дня Морис провел первый сеанс гипноза.
— Кажется, обстановка подходящая, — озабоченно сказал он мне утром. — Атмосферное давление быстро падает, похоже, погода переменится, приближается фен,
— Ну и что?
— Это поможет пробиться к глубинам его памяти. Надеюсь, он увидит сны, которые нам нужны.
— А при чем тут погода? Морис, мне иногда кажется, что ты сам становишься суеверным. Веришь, будто к дурной погоде приснятся давно умершие родители?
— А в этом народном поверье нет никакой мистики, — ответил муж. — Просто точные наблюдения. Перед плохой погодой обыкновенно наступает состояние глубокой сонливости, и тогда чаще всего всплывают во сне из глубин памяти самые давние образы и сценки. На это я и надеюсь.
Когда Томас пришел, в лаборатории было уже все готово. Шторы задернуты, горит неяркая голубоватая лампа. Молчаливый Ганс пристроился в углу возле магнитофона.
Морис расспросил Томаса, как он себя чувствует, предложил снять пиджак, галстук, расстегнуть ворот рубашки и прилечь на тахту.
Я наблюдала за всем через потайное окно из соседней комнаты. Правда, это было примерно то же, что смотреть театральный спектакль по телевизору: впечатление слабее.
— Почему вы опять так насторожены и волнуетесь? — спросил Морис. — Вас когда-нибудь гипнотизировали?
— Нет, никогда.
— Это совершенно безобидная штука, после нее вы будете чувствовать себя лучше, спокойнее, свежим и отдохнувшим.
Делая вид, будто что-то поправляет, Морис повернулся к зеркалу — потайному окну, подмигнул мне и неожиданно спросил у Томаса:
— Вы шли ко мне пешком?
— Нет, ехал на автобусе.
— Ага, значит, поднимались по лесенке от Нижней площади?
— Да.
— Скажите: сколько у этой лестницы ступенек?
— Двенадцать.
«Вот это память!» — удивилась я.
Морис тоже опешил.
— У вас удивительная наблюдательность, — сказал он. — Как вам удалось это запомнить?
— Я их нарочно считал, — смущенно пробормотал Томас.
— Зачем?
— Загадал, четное будет число или нет.
— А, счастливая примета! — с облегчением воскликнул Морис и рассмеялся. — Ну, а сколько столбов с фонарями вам попалось на пути от остановки автобуса до нашего дома?
— Столбы я не считал.
— Не считали? И не знаете сколько?
— Нет.
— Очень хорошо. Ну, устраивайтесь поудобнее и смотрите вот на этот блестящий молоточек, который я буду держать перед вашими глазами. И прислушивайтесь к стуку метронома.
Метроном начал размеренно и неторопливо отстукивать.
— Смотрите пристально на блестящую точку. Постепенно ваши глаза начнут утомляться, веки будут тяжелеть. Вас охватывает приятная усталость. Все тише, все спокойнее, все темнее становится вокруг. В голове возникает легкий туман… Он нарастает, усиливается… Вас охватывает сонливость. Веки отяжелели, словно налились свинцом. Вам хочется спать… становится все труднее различать предметы…
Морис говорил негромко, монотонно, слегка «в нос». От его голоса у меня тоже начинали слипаться веки, и я поспешила выключить на время динамик, чтобы самой не уснуть. Наконец Морис подал знак, что я могу зайти в лабораторию.
Томас спокойно и глубоко спал. Я видела подобное не однажды и уже знала, что ничто не может вывести его из этого сна, кроме приказания Мориса. Но все-таки никак не могла привыкнуть, старалась двигаться осторожно и разговаривать шепотом.
— Начнем? — нетерпеливо спросил Ганс, сидевший возле магнитофона.
— Минуточку, пока не включайте, — ответил Морис и, кивнув мне, громко спросил у спящего Томаса: — Слушайте меня внимательно, Томас. Вы шли ко мне пешком от автобусной остановки?
— Да, — ответил тот, не открывая глаз.
Никак не могу привыкнуть! Все кажется, будто они притворяются, эти гипнотики, а вовсе не спят. Хотя Морис заставляет их порой выполнять такие поразительные вещи, какие без гипноза никто бы ни за что не сделал…
— Сколько столбов с фонарями вам попалось по дороге на улице?
Спящий Томас помедлил лишь мгновение и уверенно ответил:
— Шестнадцать столбов.
— Повторите: сколько?
— Шестнадцать столбов.
Морис повернулся ко мне и сказал уже другим, обычным тоном:
— Можешь завтра проверить.
Я, конечно, не удержалась, так и сделала! И что вы думаете? Столбов оказалось шестнадцать! Неужели мы действительно замечаем и запоминаем все до мелочей, только бессознательно, даже не ощущая этого, и можем вспомнить лишь под гипнозом?
Теперь я начала верить, что гипноз поможет Томасу вспомнить детство, хотя первый сеанс и не принес особых результатов. Морис просто дал Томасу возможность крепко поспать часок и посмотреть сны, властно приказав:
— Вам снится сон. Вы запомните его содержание во всех подробностях и расскажете мне, когда я вас разбужу.
Томас спал спокойно и крепко, изредка смешно причмокивая. Два раза он улыбнулся.
— Приятный сон видит, — сказал Грюнер. — Интересно, что он расскажет.
В полутемной комнате с занавешенными окнами было душно. В самом деле, чувствовалось приближение фена. У меня начинало ломить виски.
Я всегда его плохо переношу, этот ветер, прилетающий через Альпы откуда-то из африканских знойных пустынь. Он резко меняет погоду, приносит какое-то беспокойство и раздражительность. Морис говорит, что статистика показывает, как с наступлением фена возрастает сразу число инфарктов, преступлений и самоубийств.
Но, может, Томасу фен действительно поможет вспомнить детство?
Через час Морис сказал, чтобы мы с Гансом ушли в соседнюю комнату, и подошел к спящему Томасу. Он проверил у него пульс и громко сказал:
— Вы чувствуете себя прекрасно. Вы хорошо выспались и отдохнули. Теперь проснетесь, когда я сосчитаю до пяти. Все, что вам снилось, вы припомните во всех подробностях и все расскажете мне…
После небольшой паузы он начал размеренно считать:
— Раз… Два… Три… Четыре… Пять!
Томас тут же открыл глаза, сладко потянулся и смущенно начал приподниматься, с некоторым недоумением озираясь по сторонам.
— Лежите, лежите, — приветливо сказал ему Морис. — Как себя чувствуете?
— Хорошо, — с улыбкой ответил Томас.
— Не снилось ли вам что-нибудь?
— Снилось. Хороший сон… Я был в саду возле моря.
— Где?
— Не знаю, — виновато ответил Томас. — Большой сад Я там собирал яблоки. Только все время пчелы вокруг летали.
— Вы были один?
— Нет, там были еще какие-то мальчики. Я их не видел, но слышал голоса в кустах.
— На каком языке они говорили?
Томас ответил с некоторым недоумением:
— На обыкновенном.
— На немецком языке?
— Конечно, я все понимал.
Он задумался, потом неуверенно добавил:
— А может, это был какой-то другой язык. Но я все понимал!
— А откуда вы знаете, что неподалеку было море?
Томас пожал плечами и смущенно ответил:
— Просто знаю, и все. — Вы были на море?
— Во сне? В этот раз — нет. А вообще оно мне иногда снится.
— А на самом деле вы действительно ни разу не бывали на море?
— Нет, когда же.
— Может, вам все-таки снится не море, а большое озеро? Ведь на Женевском озере, на нашем Лазурном берегу, вы наверняка когда-нибудь бывали?
— Бывал, с женой. Но это другое. Мне снится море, там такие большие волны. — Томас взмахнул рукой.
— Что еще вы видели сейчас во сне?
— Больше ничего, только собирал яблоки в саду… Хотя нет. Впечатление было, будто я оторвался на миг от земли и полетел… Приятное такое ощущение, и немножко страшно. Давно так не летал, пожалуй, с детства.
— В том же саду летали?
— Над садом.
— А море при этом видели?
— Нет.
— И никаких домов, строений не видели?
— Нет, только сад.
Через некоторое время Морис усыпил его снова, опять внушив рассказать при пробуждении все, что увидит во сне.
Когда Томас заснул и мы вошли в лабораторию, Морис сказал:
— Он летал во сне. Хороший признак!
— Почему ты считаешь это хорошим признаком? — спросила я.
— Летают во сне обычно в детстве, пока человек растет. Похоже, удалось его настроить на детские сновидения. И сад этот… Наверняка какие-то детские воспоминания пробуждаются. В монастыре у них не было никакого сада,
— И детские голоса слышит — видимо, сам тоже был во сне ребенком. Вы правы, профессор, — вставил оживленно Ганс и тут же испуганно посмотрел на Томаса.
Тот вдруг негромко застонал.
Мы замерли
Томас дернулся и повернулся на правый бок.
— Просыпается? — испуганно прошептала я, пятясь к двери.
— Без моего приказа? Что ты, — успокоил меня Морис.
Томас громко вздохнул и закинул левую руку за голову.
— Кажется, теперь ему снится что-то не слишком приятное, — озабоченно проговорил Морис.
Мы помолчали, глядя на спящего.
— А на каком же языке они разговаривали, мальчики в саду? — спросил Мориса секретарь. — Он ведь никакого языка, кроме немецкого, не знает, но почему-то заколебался, отвечая на ваш вопрос. Или в детстве он говорил на каком-то другом языке и понимал его во сне?
— Вполне возможно. Одна француженка в глубоком гипнозе вдруг заговорила на языке, который никто из окружающих не мог понять. Оказалось, она говорит на одном из наречий, которое слышала, когда жила маленькой девочкой с родителями в Индии. А проснувшись, разумеется, ничего не понимала на этом наречии и не могла даже поверить, что знает его.
— Может, она притворилась? — недоверчиво сказал Ганс.
— Зачем? И любопытно, что самые давние воспоминания вдруг оживают, когда человек становится старше. В нью-йоркской больнице долго лежал один тяжелобольной старик. Родился он и провел детство в Италии, юность — во Франции, а последние годы жил в Америке. В начале болезни он говорил только по-английски. Потом вдруг забыл этот язык и стал говорить по-французски. А перед смертью он говорил и понимал лишь по-итальянски, на языке далекого детства. Не случайно и Томасу «странные сны» начали видеться лишь теперь, а раньше, пока он был помоложе, детство ему не снилось.
— А море? Он же уверяет, будто никуда не выезжал из Швейцарии, никогда не был на море. Как же он видит его во сне? — спросила я.
— Ну, с морем дело темное, — покачал головой Морис. — Оно может присниться, даже если он и никогда не был на море. В кино-то он его наверняка видел. Мы, современные люди, смотрим слишком много кинофильмов и телевизионных передач. Мир для нас так знаком, что порой начинаем путать, что видели в кино, а где были на самом деле.
— Опять он стонет, — сказала я. — Мне его жалко, Морис. Может, лучше его разбудить?
— Пожалуй, пора.
Мы с Гансом вышли, и Морис начал будить Томаса, предварительно внушив ему, что, проснувшись, он будет чувствовать себя здоровым, свежим и бодрым, все его опасения и тревоги пройдут.
На счете «пять» Томас открыл глаза.
— Ну, как поспали?
— Хорошо. Только неприятный сон видел.
— Какой?
— Будто я с какими-то мальчиками заперт в комнате. В сад не пускают… Душно, неприятно.
— В какой сад? В тот же, который снился вам раньше?
— Да.
— Откуда вы знаете, будто это тот же сад? Вы видели его из окна?
— Нет. Окно маленькое, высоко, под самым потолком. И на нем решетка. Но за стеной сад, я чувствую.
— Что же это тогда за комната? Тюрьма?
— Не знаю. Нет, не похоже. Но мы чем-то напуганы. Стучим, а дверь не открывают. Страшно.
— А обычно, в естественном сне, вы видите неприятные вещи?
— Последнее время часто, — хмуро ответил Томас.
— Этот сон сейчас был очень неприятный?
— Неприятный… страшный…
— Ну ладно, больше вас мучать сегодня не буду. До завтра!
— До свидания, доктор!
Просматривая вечером стенограмму своих разговоров с Томасом, Морис откинулся на спинку стула и недовольно сказал:
— Мало он рассказывает подробностей о своих снах. Наверное, стесняется, смущает непривычная обстановка. Попробуем изменить методику и разговорить его.
Усыпляя Томаса на следующем сеансе, Морис дал ему такой приказ:
— Вам снится сон… Вам снится приятный сон. Все, что вы видите и переживаете в этом сне, говорите громко, вслух, не пробуждаясь!
«Неужели и это возможно?» — подумала я. Морис взял Томаса за руку, высоко поднял ее и отпустил. Рука безвольно упала.
— Отлично, третья стадия…
— Одну минуточку! — вдруг раздался голос Ганса. — Прошу вас, профессор, сидите так возле него, не шевелитесь.
— Что вы задумали? — недовольно повернулся к нему Морис. — Притащили сюда блиц, хотите снимать? Зачем?
— Для истории. Будут хорошие снимки для нашего маленького музея…
— Незачем… Да и опыты только начинаются, — поморщился Морис, но махнул рукой: — Ладно, фотографируйте скорее, раз уж нацелились.
— Минуточку!
Лампа ослепительно вспыхнула в руках Ганса раз, другой, третий.
Томас вдруг отчетливо сказал, не открывая глаз:
— Пить очень хочу…
— Бросьте аппарат, следите за магнитофоном, — сказал секретарю Морис.
Помолчав, Томас жадно облизал губы и проговорил:
— Жарко мне… Немножко хотя бы… Еще полежим немножко на солнышке… Нет, не могу больше лежать. В сердце колет… — Он покачал головой и забормотал: — Я не собираюсь… Хорошо, пойдем. Не могу больше. Нет, газированной я не люблю, лучше простой…
Полежал спокойно, потом опять завертел головой, словно ему что-то мешало:
— Солнце светит прямо в глаза. Перейдем на ту сторону…
Мы поспешили выйти в соседнюю комнату, и Морис разбудил Томаса.
— Хорошо поспали? — спросил он.
— Хорошо, — ответил тот, быстро вставая и потягиваясь. — Ноет рука что-то. Наверное, отлежал.
Морис задумчиво кивнул и спросил:
— А вообще как себя чувствуете?
— Прекрасно.
— Что-нибудь снилось?
— Мы были на пляже… Большой пляж на Лазурном берегу. Лежу на песке, и очень жарко стало. Масса народу, пить страшно хотелось. Губы сохли. Мне и сейчас хочется пить. Могу я вас попросить?
— Пожалуйста. — Морис налил ему стакан воды и спросил: — А у кого вы просили пить во сне?
— У жены.
— Вы с ней были на пляже?
— Да. Я не могу долго лежать на солнце. А ей хоть бы что.
— Это она предлагала вам пить воду?
— Да.
— Какую?
Морис, конечно, не случайно задал этот вопрос, и мы с Гансом переглянулись, услышав ответ Томаса:
— Газированную. Я ее не люблю. Ею никак не напьешься. Простой водой быстрее напьешься.
Значит, он в самом деле говорил во сне именно то, что чувствовал!
— А больше вы ничего не видели? — спросил Морис.
— Нет, больше ничего.
— Значит, приятный был сон?
— Очень приятный.
— Н-да, — задумчиво произнес Морис, когда Томас ушел и мы собрались в лаборатории. — Для него сон был приятный: повидал жену, которую любит до сих пор и никак не может забыть, а для нас… Опять уперлись в этот барьер. А нам нужно, чтобы ему снилось детство… Ладно, попробуем его направлять, поможем ему.
— Все-таки решились задавать наводящие вопросы? — поинтересовался Ганс.
— Нет, опасно. Применим соответствующие раздражители. Вы не поняли, почему ему нынче приснился знойный пляж?
— Нет, — ответила я. Ганс покачал головой.
— Это сделала вспышка вашего блица. Раздражение ничтожное, но в его сознании оно вызвало ощущение палящего солнца и картину жаркого дня на пляже, ему даже пить захотелось. Вот мы и попробуем направлять его сновидения в нужную сторону такими легкими раздражителями. Это дает неплохие результаты. Начнем с дороги, с вокзала.
Ночью наконец прогремела гроза, принесенная феном. Стало прохладнее и легче дышать.
В этот раз, усыпив Томаса и наказав опять рассказывать все, что он увидит во сне, Морис включил приготовленную заранее магнитофонную запись. В полутемной комнате шумно отфыркивался паровоз, раздавались гудки и голоса людей, толпившихся на перроне.
Томас некоторое время спал спокойно, потом заворочался и пробормотал:
— Я не хочу, не хочу… Смотри, какая старуха… Я не знаю…
Он успокоился, довольно долго молчал, потом снова заговорил:
— Осторожно, отойди подальше, видишь, поезд!
— Какой это вокзал? — быстро спросил его Морис.
— Я не знаю.
Длинная пауза, потом:
— Нет, не хочу… Когда нас выпустят? Я хочу домой!… Не буду, больше не буду…
Он резко дернулся, повернулся на правый бок и затих, негромко посапывая.
— Как вы чувствуете себя? — спросил с интересом Морис, разбудив Томаса.
— Ничего.
— Что-нибудь снилось?
— Снилось, будто я на вокзале каком-то… Поезд подходит с шумом. Освещено все.
— Где освещено?
— Перрон. Женщины, солдаты их не пускают. Нехороший сон.
— Почему нехороший?
— Не знаю. Неприятно как-то… И странно: вагоны простые, товарные, а в них дети. Одни мальчики. Озираются испуганно…
— А что это за вокзал?
— Не знаю. Кто-то спрашивал: какой вокзал?
— Во сне спрашивал?
— Во сне. Меня спрашивали там, на перроне: какой вокзал?
— И что вы ответили во сне?
— Что не знаю, какой это вокзал.
— Опишите его, пожалуйста, подробнее: как выглядел вокзал?
— Вокзал небольшой… И где-то рядом море, гавань.
— Опять море? — нахмурился Морис. — Откуда вы знаете?
Томас растерянно пожал плечами.
— Вы видели море во сне? — спросил Морис.
— Нет, но я чувствовал: оно рядом.
— Странно. Вокзал — и рядом море? Что еще вам снилось? Кто был на вокзале?
— Людей на перроне мало было. Женщины, солдаты в касках…
— Вы сказали, солдаты не пускали женщин к поезду?
— Да, отталкивали их прикладами. У них винтовки такие коротенькие…
— Автоматы?
— Да, пожалуй, автоматы.
— Женщины хотели сесть в поезд?
— Нет, по-моему, нет.
— Они встречали детей, которые в нем приехали? Или провожали их? Дети уезжали или приехали откуда-то?
— Не знаю. Женщины как будто удивлялись. Некоторые плакали.
— Попытайтесь вспомнить еще что-нибудь, тут важна каждая подробность!
Томас задумался, уставившись в пол, потом поднял голову и неуверенно сказал:
— Вот что меня удивило… Одна женщина что-то спросила у другой. Та ответила: «Да», а сама при этом отрицательно покачала головой. Странно…
— Вот так? — спросил Морис и покачал головой.
Меня насторожило, что у мужа вдруг стал такой напряженный голос. Почему он разволновался?
— Да, так, — подтвердил Томас. — Говорит «да», а сама качает головой. Нелепый сон.
— Любопытно, — задумчиво пробормотал Морис, поспешно записывая что-то в блокнот. — День был жаркий?
— Да, — оживился Томас. — Очень яркое солнце. У вокзала белая стена, на нее было больно смотреть. А с моря тянуло прохладой.
— Вы уверены, что рядом с вокзалом море?
— Да. Слышны даже пароходные гудки.
— Может быть, это гудят паровозы?
— Нет, у них гудки другие, мягче, протяжнее.
— Ну что же, на сегодня хватит. Отдыхайте, — сказал Морис. — До завтра. Извините, я вас не провожаю. Надо кое-что записать.
Едва Томас скрылся за дверью, мы с Гансом поспешили в лабораторию. Морис быстро писал, пристроившись на краешке стола.
— Что-нибудь узнал важное из этого сна? — спросила я.
Морис посмотрел на меня отсутствующим, далеким взглядом и рассеянно ответил:
— Кажется…
— А что? — спросил Ганс. — Ведь название вокзала он так и не вспомнил.
— Неважно. Все равно кое-что, кажется, проясняется.
— Что же ты все-таки узнал? — допытывалась я.
— Не будем спешить с выводами, — уклончиво ответил Морис. — А то я сам, боюсь, начну незаметно и бессознательно толкать его на ложную тропу, увлекшись своими предположениями. Пока ничего не скажу. Станем проверять.
Морис бился с этими снами две недели, устраивая сеансы гипноза почти каждый день. Разобраться в них было нелегко. Чаще всего Томасу снилась всякая будничная чепуха: во сне он ругался со своим, видно, изрядно надоевшим ему злым хозяином, ходил по магазинам, мыл чужие машины, снова встречался с женой. Более ранние воспоминания проскальзывали в его снах лишь изредка и то такими отрывочными и бессвязными, что ничего понять толком не удавалось.
— Он порядочный фантазер, вроде Ганса, — жаловался мне муж. — Тоже натура впечатлительная, да и жизнь ему нервы крепко потрепала. Боюсь, многое он выдумывает, накручивает. Уж больно запутанные и сумбурные сны.
Поиски осложнились тем, что вскоре Томас вдруг угрюмо сказал Морису, понурив голову:
— Пожалуй, ничего у нас не выйдет, герр профессор.
— Почему?
— Я не смогу к вам больше ходить. Времени нет. Хозяин ругается, что часто отлучаюсь. Грозится уволить, а где я сейчас найду работу…
Морис подумал и спросил у него:
— А ночью ведь вы свободны?
— Ночью я сплю.
— Вот и будете спать здесь, в лаборатории.
Сеансы начали проводить по ночам. Я на них теперь редко присутствовала. Ганс из любопытства согласился на ночные бдения, хотя и ворчал, и потребовал прибавить ему жалованье.
Но, похоже, что-то начинало проясняться. Иногда Морис веселел и, хотя и не рассказывал мне подробностей, оживленно говорил:
— Кажется, теплее… теплее. Знаешь, как в детской игре?
— Когда же ты наконец скажешь: «Горячо»?
— Надеюсь, скоро. Потерпи немного.
И вот этот день настал! Мне повезло: Томас был свободен, сеанс проводился днем, и я на нем присутствовала.
Когда Томас заснул с обычным приказом рассказывать все, что увидит во сне, Морис зажег над его головой довольно яркую лампочку. Одновременно он включил магнитофон, и в лаборатории, сменяя друг друга, негромко зазвучали незнакомые мелодии. Похоже, высокие женские голоса исполняли какие-то народные песни — протяжные, задумчивые, немножко грустные.
— Какой это язык? — спросила я мужа.
— Угадай!
— А вы не знаете, Ганс?
— Похоже, один из славянских языков. Кажется, польский, но я не уверен. Или сербский.
— Разве Ганс не помогал тебе готовить эту пленку? — спросила я у мужа.
— Нет, я все сделал сам…
Но тут спящий Томас вдруг заговорил:
— Зачем они это делают? Они сгорят, обожгутся!… Мне страшно… Давайте уйдем. Сейчас вспыхнет, вспыхнет!
Он заметался на тахте, пытаясь укрыться от света лампы.
— Опять ему снится пляж? — недоуменно спросил из своего угла Ганс.
Я тоже было подумала так. Но нет, не похоже.
— Ух как здорово! — бормотал спящий Томас. — Почему же им не больно? Ведь они босиком… Они заколдованы? Нет, я боюсь…
Он опять заворочался.
— Разбуди же его скорее, а то он еще забудет, что видел, — попросила я мужа. — Или вдруг ему начнет сниться другой сон и перебьет первый.
— Хорошо, иди к себе в комнату, — согласился он. Проснувшись, Томас смущенно рассказал, будто снова видел женщин, пляшущих на раскаленных углях.
— Горел большой костер, и они ходили вокруг него. А потом стали танцевать на углях… Босыми ногами — и ничего. Опять мне снится какая-то чертовщина.
— Женщины были старые и молодые? — спросил Морис, быстро записывая что-то в блокнот.
Зачем? Ведь магнитофон включен, он все запишет на пленку.
— Всякие женщины, — ответил сумрачно Томас.
— Эти женщины кивают утвердительно, когда говорят «нет»?
Помедлив и с недоумением глядя на Мориса, Томас нерешительно ответил:
— Пожалуй, они так тоже делают. Не помню точно.
— И опять они были в черных платьях и белых платках?
— Да. Откуда вы знаете?
— Вы рассказывали в прошлый раз.
— Ага, а то уж я подумал…
— Что вы подумали?
— Что вы в самом деле чародей: умеете мысли читать и даже чужие сны видеть.
— Нет, этого я, к сожалению, пока не могу, — засмеялся Морис — Ну ладно, идите домой отдыхайте, а я подумаю о вашем сне.
— Странный сон, правда, профессор?
— Да, любопытный.
— Может, я болен?
— Нет, что вы.
— А почему же мне снится такая чертовщина?
— Как определил один мудрый ученый, сны — это небывалая комбинация бывалых впечатлений.
— Как это, не понимаю? Вы хотите сказать, будто я нечто подобное когда-то видел наяву?
— Возможно. А во сне ваши впечатления причудливо перепутались.
— Да, нелегко вам со мной разобраться, — сочувственно покачал головой Томас и стал прощаться.
— По-моему, он морочит вам голову, уважаемый профессор, — сердито сказал Ганс, когда мы, как обычно, собрались в лаборатории. — Все выдумывает. У кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. Он или жулик, или больной человек, маньяк. Снятся ему женщины, танцующие на раскаленных углях… Не в Индии же он родился, среди факиров и йогов?
— А может, его детство прошло среди фокусников? — засмеялся Морис. — Не забывайте, что я тоже умею плясать на огне.
— Слышал и давно мечтаю увидеть этот трюк, — кивнул Ганс. — Ведь это ловкий трюк, верно?
— Не совсем. Знание законов физики, некоторая тренировка и, главное, самовнушение.
— Ага, понятно. Вы просто воображаете, будто никаких углей нет, — как я со льдом или с горячей печкой? Надо и мне попробовать проделать фокус с углями, думаю, что получится…
— Хотите, попробуем сейчас? — предложил лукаво Морис. — Клодина, угли в плите, наверное, разогреть нетрудно?
— Нет уж, сначала я потренируюсь на чем-нибудь другом, — ответил поспешно Ганс и передернул плечами, видимо живо представив себе, как ступает босыми ногами по раскаленным углям. — У меня даже ноги жжет, — жалобно добавил он, болезненно морщась.
— А вы не воображайте подобные сцены, — засмеялся Морис.
— Но я же не виноват, что у меня такая натура…
— Переключите свою фантазию, — посоветовала я. — Представьте себе, что вы катаетесь на коньках где-нибудь в Антарктиде.
Ганс недоверчиво посмотрел на меня и обиженно ответил:
— Вы не верите и смеетесь надо мной… А что? Это идея.
Он принял сосредоточенный, отрешенный вид, и постепенно по его лицу стало разливаться выражение блаженства.
— Что вы вообразили? — заинтересовался Морис.
— Будто я опустил ноги в таз с ванильным мороженым, — хитро прищурившись, ответил Ганс.
Мы все расхохотались. В нашем милом доме не заскучаешь- и Морис и его феноменальный секретарь стоят друг друга.
— Вас это сбивает с толку, кажется загадочным и непонятным, а для меня наоборот — все стало ясным. Я нашел его родину, — с гордостью сказал Морис.
— Где же он родился? — спросила я.
— Есть только одна страна на свете, где существует забавный обычай: когда люди там говорят «да», то отрицающе качают головой. А когда отрицают что-нибудь, то, наоборот, кивают, как мы бы сделали в знак согласия. Ну, что это за страна?
Мы с Гансом переглянулись и довольно тупо уставились на Мориса.
А он, конечно, хотел продлить удовольствие:
— Такой обычай сбивает поначалу с толку всех туристов и запоминается каждому, посетившему эту страну. Позор! Вы, оказывается, совсем не знаете географии. Секретаря я еще могу за это уволить без выходного пособия. Но как мне поступить с женой?
— Что это может быть за страна? — растерянно спросила я. — Не мучай нас, скажи!
— Болгария.
— Болгария? — недоуменно протянул Ганс. — А пляски на костре? При чем тут Болгария? Значит, он их выдумал? Такое можно увидеть лишь где-нибудь в Индии.
— И в Болгарии тоже! По описанию этих необычных танцев, которые он не мог выдумать, а несомненно видел когда-то и теперь вспомнил, мы сможем даже установить, в каком именно районе Болгарии родился Томас. Подождите минуточку!
Морис выскочил за дверь и быстро вернулся с географическим атласом и какой-то книжкой в руках.
— Вот, пожалуйста: так называемый Странджанский край. Юго-восточный уголок Болгарии, на берегу Черного моря и на границе с Турцией. Вот здесь — города Мичурин, Ахтополь… Жалко, карта очень мелкая. А вот что сказано в путеводителе, — добавил он, раскрывая книжку и отыскивая нужную страницу: — «В селе Былгари можно посмотреть интересные пляски на… раскаленных углях босиком. Это имеющие вековую историю и связанные с религиозными языческими обрядами так называемые «нестинарские игры». Их можно увидеть и в других селах Странджанского края, где они устраиваются по разным поводам и в различные праздники»… — Морис победно посмотрел на нас и продолжал, помахивая книжкой: — О таком любопытном обычае мало кто знает, так что я вас прощаю. Сам узнал о них не так давно, изучая фокусы всяких современных факиров с пылающими углями. Хогел непременно побывать в Болгарии и посмотреть эти пляски своими глазами, да пока не удавалось. А теперь — судьба.
— Но почему же Томасу ты ничего не сказал о Болгарии? — спросила я. — Не уверен до конца?
— Уверен, но на всякий случай хочу еще проверить, — ответил он со своей всегдашней непоследовательностью. — Дело тонкое, деликатное, лучше проверить сто раз. Теперь его можно расспрашивать смелее.
На следующий день Морис учинил Томасу форменный допрос под гипнозом, пригласив, кроме меня с Гансом, уже как официальных свидетелей, еще знакомого врача, болгарина по национальности, молчаливого старика с седой головой и лохматыми, совершенно черными, словно приклеенными бровями.
Сеанс проходил необычно. Усыпив Томаса, Морис вдруг сказал ему:
— Сейчас тысяча девятьсот сорок четвертый год. Сколько тебе лет, мальчик?
— Не знаю, — нерешительно ответил Томас.
— Разве ты не умеешь считать?
— Умею.
— Сколько тебе лет?
— Мне девять лет.
— Так, — пробормотал Морис. — Сейчас ему тридцать два — тридцать три, во всяком случае на вид. Когда он попал в монастырь в сорок пятом, ему было действительно лет десять. А в сорок четвертом — девять лет. Все верно. Он не обманывает и чувствует себя девятилетним.
Он снова склонился над спящим Томасом:
— Ты уже учишься в школе?
— Да.
— Тебе нравится учиться в школе?
— Нет, — так искренне и поспешно ответил спящий, что мы все рассмеялись, не зная тогда, какие переживания оживают в этот миг в душе бедного Томаса, вновь превратившегося во сне в девятилетнего мальчонку…
— Ты умеешь писать? — спросил Морис.
— Умею.
— Ты спишь теперь так крепко, что ничто не в состоянии внезапно тебя разбудить. Ты слышишь только то, что я тебе говорю. Я теперь открою твои глаза, и ты будешь продолжать спать с открытыми глазами. Я считаю до пяти Пока я буду считать, твои глаза начнут медленно открываться. Раз… Два…
На счете «пять» Томас открыл глаза.
— Сядь! Вот тебе листок бумаги и карандаш, напиши, сколько тебе лет.
Томас послушно сел, взял у Мориса карандаш и начал писать. Но он спал при этом по-прежнему крепко!
«Мне девять лет», — вывел он на листке бумаги неуверенным детским почерком.
— Теперь напиши, как тебя зовут, — сказал Морис. «Томас», — подписался спящий.
— Нет, тебя зовут не Томас. Как тебя зовут?
— Томас, — упрямо ответил тот и нахмурился.
— А как твоя фамилия?
— У меня нет фамилии, — прозвучал неожиданный ответ.
— Ложись опять на тахту, так тебе будет удобнее, — нахмурился Морис. — Закрой глаза, спи спокойно, крепко. Ты слышишь только мой голос. Слушай меня внимательно и отвечай правду.
Заглянув в блокнот, Морис вдруг спросил, видимо по-болгарски:
— Как е вашето име? — и посмотрел на врача-болгарина.
Томас нахмурился, покачал головой и неуверенно ответил:
— Томас.
Он понимает по-болгарски!
— Как е името на вашия баща?
— Не разбирам.
— Как зовут твоего отца? — повторил Морис тот же вопрос по-немецки.
— Не знаю.
— Как зовут твою мать?
— Не знаю.
— Къде живеят те?
— Не зная.
— Где они живут? — переспросил Морис по-немецки.
Но Томас ответил то же:
— Я не знаю.
— Какъв е вашият адрес? — слегка запинаясь, прочитал Морис по бумажке.
Томас молчал.
— Защо мълчите? Отговорете! — вмешался болгарин, забыв или не зная, что спящий Томас сейчас слышит лишь голос гипнотизера.
Конечно, Томас ему не ответил.
Морис начал перечислять по бумажке названия разных болгарских городов и селений, все время вопрошающе поглядывая на Томаса. Тот внимательно слушал, наморщив лоб и шевеля губами, и вдруг сказал:
— Не разбирам. Говорете по-бавыо. Морис повернулся к врачу-болгарину.
— Он сказал: «Не понимаю, говорите медленнее»! — возбужденно воскликнул тот. — Вы не ошиблись, коллега, он знает болгарский.
Какой это был волнующий момент! Морис продолжал задавать вопросы то по-немецки, то по-болгарски, советуясь с консультантом.
— Где твой дом? Как зовут твоих родителей?
Но Томас отвечал все то же:
— Не зная.
— Далеко ли твой дом от школы?
— Не разбирам.
— Где ты родился? — перешел Морис снова на немецкий.
— Не знаю.
— Ты родился в Швейцарии?
— Нет. Где это?
— Ты не знаешь, где Швейцария?
— Нет. Мы еще не учили.
Мы опять все переглянулись. А Морис настойчиво продолжал:
— Ты жил в городе?
— Нет.
— Значит, ты жил в деревне?
— Да.
— Где?
— Не знаю.
— Есть ли у тебя братья?
— Нет.
— А сестры есть?
— Нет, — тихо ответил Томас после долгой паузы.
— Надо кончать, — сказал Морис, осторожно вытирая пот, выступивший на лбу и щеках Томаса. — Он устал.
— Поразительный эксперимент! — воскликнул болгарин, пожимая ему руку. — Поздравляю вас, коллега. Никаких сомнений: он родился в Болгарии! Вы нашли ему родину.
— Спасибо. Но почему он помнит так мало болгарских слов? — задумчиво проговорил Морис, вглядываясь в лицо спящего Томаса — То и дело твердит: «Не понимаю»…
— Не удивительно, коллега, ведь столько лет прошло.
— Все-таки непонятно, — покачал головой Морис. — И почему упрямо уверяет, будто его зовут Томасом? Совершенно не болгарское имя. — Он посмотрел на врача и спросил: — А не скрывает ли он что-то? Вам не кажется? Словно не хочет отвечать по-болгарски? У вас нет такого ощущения? — повернулся он к нам с Гансом.
— Пожалуй, — задумчиво ответила я. — На все твои вопросы о родителях и об их адресе он упорно твердит: «Не знаю».
— Молчание тоже ответ, — многозначительно вставил Ганс.
— Не мог же он забыть, как зовут родную мать и отца? — продолжала я. — И так быстро: ведь он воображает себя сейчас во сне девятилетним ребенком. Он теперь далек от нас, на двадцать три года моложе, — так ты ему внушил.
— Да, непонятно, чего-то он боится, — пробормотал Морис. — Тут еще много темного. Но главное мы узнали. Ну что же, буду его будить и порадую новостью.
4
Узнав о том, что его родина Болгария, Томас не выразил особой радости, так что я даже слегка обиделась за Мориса. Столько он старался, затевает теперь поездку в Болгарию, а Томас довольно равнодушен.
Похоже, он был скорее обескуражен и растерян, чем обрадован. Я не удержалась и прямо спросила его об этом. И он ответил мне с такой же очаровательной прямотой:
— А чего мне особенно радоваться? Ведь в Болгарии никаких родственников-миллионеров не найдешь. Да и вообще, как пишут в газетах, страна эта небогатая, в основном земледельческая…
— Но ведь это же ваша родина! — не удержалась я. — Нельзя же жить по циничной пословице: «Ubi bene, ibi patria».
— «Где хорошо, там и отечество», — перевел он, явно радуясь возможности показать, что не забыл монастырскую латынь, и поспешно добавил не очень искренним тоном: — Да, конечно, вы правы, фрау Клодина. Пусть бедная, но это родина. А родина священна для каждого человека. Я с удовольствием поеду в Болгарию.
— Кто надеется башмаки в наследство получить, всю жизнь босиком ходит, — назидательно произнес Ганс, когда я рассказала за обедом об этом разговоре с обескураженным Томасом.
Но муж меня успокоил:
— Ничего, в Болгарии у него проснутся родственные чувства.
Устроить эту поездку было Морису не так-то просто. Хлопоты о визах требовали времени. И работа не позволяла ему отрываться надолго. Но главное, конечно, как всегда, не хватало денег.
А их требовалось немало. Кроме всех дорожных расходов, надо было обеспечить Томаса. Хозяин отказался дать ему платный отпуск, заявив:
— Я не знаю, сколько ты будешь кататься по чужим странам. Придется найти кого-нибудь на это время тебе взамен, а он ведь не станет работать бесплатно.
Томас так боялся потерять работу — видно, совсем утратив надежду на богатое наследство, — что даже начал отказываться от поездки:
— А если временный мой заместитель больше понравится хозяину? Тогда я вернусь, а место занято, он рассчитает меня.
Чтобы успокоить его, Морис добился специального контракта, по которому место закреплялось за Томасом. Хозяин не решился отказать профессору философии.
— Ничего, как-нибудь выкрутимся, — беззаботно решил Морис — В Болгарии обо мне слыхали, там у меня есть друзья среди фокусников, в крайнем случае устроят мне несколько выступлений. Это даже неплохо, а то я давно не выступал, теряю форму.
Его «лекции с фокусами» всегда пользовались большим успехом и давали хорошие сборы. Все деньги шли на его научную работу и лабораторное оборудование. Без них Морис не смог бы вести свои исследования.
Решили, что поедем втроем: Томас, Морис и я. Ганс был огорчен, что его не берут, но утешал себя:
— Будет много новых впечатлений, а для меня это всегда мучительно. Слишком впечатлительная у меня натура.
— Вот именно, — насмешливо поддержал Морис. — Учитесь ее обуздывать, дрессируйте себя. Вам это полезно.
Накануне они с Гансом поссорились. Открыв утром за кофе газету, Морис вдруг сердито швырнул ее на пол.
— Ты с ума сошел! — возмутилась я.
— С такими помощниками недолго и рехнуться. Вот полюбуйся, — буркнул он, протягивая мне газету. — Где этот проклятый Всепомнящий Ганс? Это его штучки! Недаром он и к завтраку не явился: знает сорока, где зимовать…
Открыв газету на шестой странице, я поняла, что его так разозлило. Над фотографией и небольшой заметкой лез в глаза крикливый заголовок:
«Во сне он обрел родину!»
На сильно заретушированном снимке был запечатлен Морис, склонившийся с довольно глупым выражением лица над спящим Томасом. Это был один из снимков, сделанных во время сеанса гипноза Гансом Грюнером «для музея»…
И заметку, конечно, написал Ганс. В ней в привычных для него выспренних выражениях расписывалась горестная судьба сироты, подкинутого к монастырским воротам и долгие годы обреченного мыть на бензозаправочной станции роскошные машины богатых господ, мечтая о потерянных родителях и мучительно страдая от одиночества…
Дальше Ганс в сенсационном тоне рассказывал об опытах «нашего выдающегося ученого, известного профессора Мориса Жакоба», то и дело щеголяя научными терминами, которые выглядели так устрашающе-внушительно, что даже строгий редакторский карандаш не решился их вычеркнуть.
«Итак, Томас Игнотус нашел свою родину, — патетически заканчивалась заметка. — Он скоро отправится на свидание с нею. Пожелаем ему счастья! Но призраками впереди маячат еще многочисленные загадки. Что означает таинственная татуировка «Х-66р» на запястье у Томаса? Почему он забыл почти все родные болгарские слова? Каким образом попал из далекой Болгарии в монастырь святого Фомы? И самая главная загадка: кто же его родители и где они? Мы надеемся вскоре рассказать читателям о том, как будут разгаданы и эти загадки».
— Зачем вы устроили эту слюнявую шумиху? — напустился Морис на Ганса, когда тот все-таки решился появиться к обеду, старательно напустив на себя совершенно независимый и беззаботный вид.
— В обязанности секретаря входит и общение с прессой, — попытался отшутиться Ганс. — Не скромничайте, профессор, ваши интересные и ценные опыты заслуживают того, чтобы о них знала широкая общественность…
— В таком виде да еще когда они далеко не закончены? — продолжал бушевать Морис. — Ей-богу, Грюнер, я вас уволю за такие штучки.
Ганс обиделся или просто вспомнил, что лучший метод защиты — наступление, и тоже повысил голос:
— Не пугайте меня, мосье Жакоб! Вы и так эксплуатируете меня как негра, а еще считаете себя коммунистом. Могу я иметь хотя бы маленький дополнительный приработок?
— Вот как: я, оказывается, вас эксплуатирую! — возмутился Морис. — Слушайте, Ганс, это переходит уже все границы…
— Конечно, эксплуатируете. Платите мне как секретарю, а в то же время постоянно ведете наблюдения над моей феноменальной памятью.
— Но ведь это для науки… А жалованье я вам плачу министерское!
Начинавшаяся ссора, кажется, переходила в довольно обычную полушутливую перепалку, так что мне можно было не вмешиваться. К тому же — Ганс заявил в конце концов, приняв торжественный вид:
— Эта заметка, за которую вы на меня так напрасно напали, еще поможет вам, уважаемый профессор.
— Это каким же образом?
— В судьбе Томаса в самом деле немало всяких загадок и темных мест. Мою заметку в газете могут прочитать люди, знавшие Томаса в детстве, — вот они и откликнутся, придут вам на помощь…
Кажется, слова Ганса показались Морису резонными, во всяком случае нападать на него он больше не стал.
Но эта злополучная заметка вызвала совершенно неожиданные события.
Через несколько дней, когда сборы уже заканчивались, Морису позвонил по телефону незнакомый женский голос и сказал, что делает это по просьбе Томаса Игнотуса:
— Он находится у нас в больнице и просит, чтобы герр профессор его навестил, если может. Вторая кантональная больница, хирургическое отделение.
— Что с ним случилось? — встревожился Морис.
— Несчастный случай. Он попал под автомашину. Морис тут же помчался в больницу.
— Странная история, — сказал он, вернувшись. — Вчера поздно вечером, когда Томас уже собирался закрывать станцию, возле нее остановилась машина, новый «оппель-капитан». Думая, что он хочет заправиться, Томас крикнул, чтобы водитель поторапливался, и стал подтягивать шланг, Машина начала задом пятиться к бензоколонке, а потом вдруг резко рванулась назад и чуть не притиснула Томаса к стене. Он едва успел отшатнуться и свалился в канаву, вырытую для прокладки труб. Это его спасло. Сломал левую руку и два ребра.
— Лучше сломать ногу, чем голову, — машинально пробормотал Всепомнящий Ганс.
— Ужас! — сердито посмотрев на него, воскликнула я.
— А что говорит этот лихой водитель?
— Он скрылся. Томас его даже не успел рассмотреть. Машина тут же рванулась и умчалась по шоссе, не зажигая фар. Томас с трудом выполз из канавы, долго звал на помощь, пока его не отвезла в больницу какая-то проезжавшая мимо супружеская пара.
— Какая нелепая случайность! Придется отложить отъезд.
Когда Ганс ушел и мы с мужем остались одни, Морис сказал:
— Самое печальное, что это, похоже, вовсе не случайность. Томас уверяет, будто на него покушались.
— Покушались?
— По всем признакам водитель весьма опытен, он никак не мог притиснуть Томаса к стене случайно, по неосторожности. И сразу умчался, не сделав ни малейшей попытки помочь пострадавшему…
— Ну, это теперь не редкость. Почитай газеты. Но ведь его легко найти. Томас запомнил номер?
— Нет.
— Вот уж непростительная невнимательность для человека, столько лет имеющего дело с шоферами, — огорчилась я.
— Номер был густо заляпан грязью, явно нарочно, считает Томас. Никакого дождя вчера не было.
— Пожалуй, он прав. Похоже, все действительно хитро продумано. А нельзя машину найти по следам колес? Пусть полиция этим займется. Они же хвастают, что легко и быстро находят всех виновников дорожных катастроф.
— Только хвастают. Какие там следы! Ведь у колонки бывают за день сотни машин. Полиция вообще не хочет видеть в этом происшествии никакого преступления. Просто неосторожность водителя, не вызвавшая, к счастью, серьезных последствий, — так уверяют в полиции.
Он помолчал, размышляя, потом добавил:
— А я согласен с Томасом: тут дело нечисто, хотя и постарался его разубедить, чтобы не пугался слишком. Начнет еще накручивать всякие страхи, чего доброго, откажется от поездки. И Гансу ты, пожалуйста, не проговорись, а то напишет еще какой-нибудь сенсационный детектив. Покушение совершили после появления его глупой заметки. Тоже, по-моему, не простое совпадение. Он расписал все приметы: детство в монастыре, загадочная татуировка. Кого-то встревожило, что мы ведем поиски. Раньше никто о Томасе ничего не знал, вот он и жил спокойно…
— Ты прав, — согласилась я. — Но кому нужно нападать на бедного Томаса? Зачем?
— Я тоже над этим ломаю голову: кто и почему? Кому вдруг помешал Томас? Денег у него нет, а бедняков зря не убивают, — помнишь хорошую повесть Сименона? У него Мегрэ ищет преступника именно по этому признаку: бедняков зря не убивают… Видимо, Томас что-то знает, хранит в глубинах памяти какую-то важную тайну, пока не подозревая об этом. И кто-то боится, что мы поможем ему ее вспомнить…
5
Несчастье с Томасом задержало нас, и только через три недели, жарким июньским полднем, мы вышли из самолета на аэродроме возле Бургаса.
Морис заранее списался с болгарскими властями, и нас встретил высокий черноволосый человек лет тридцати, с красивым, точеным профилем.
— Добър ден! Георги Раковский, — представился он и поспешно добавил на безукоризненном немецком языке, видно, чтобы сразу внести полную ясность: — Сотрудник государственной безопасности.
Я с любопытством посмотрела на него. Мне понравилась его прямота. Конечно, помогать в наших поисках должен был сотрудник именно такого учреждения: ведь все материалы, связанные с военным временем, наверняка хранятся у них. К тому же, как предупреждал Морис, поиски нам придется вести в пограничной зоне, — еще удивительно, как нас туда вообще пускают.
Раковский был в штатском — белая рубашка с закатанными рукавами и распахнутым воротником, безукоризненно выутюженные серые брюки. В свою очередь, он так пристально рассматривал Томаса, словно мысленно сличал его лицо с какими-то фотографиями, возможно хранящимися у них в архивах… И татуировку у него на запястье он сразу заметил, так и впился в нее глазами.
Это внимание, похоже, немного напугало бедного Томаса. Он словно почувствовал себя преступником и, наверное, сам уже был не рад, что начал поиски богатых родичей…
Расспросив, как долетели, Раковский учтиво осведомился, хотим ли мы сразу отправиться в путь или желаем отдохнуть и осмотреть Бургас.
— Нет, давайте не терять времени! — по-моему, не слишком вежливо ответил Морис.
Раковский склонил голову, выражая полную покорность, и сказал:
— Хорошо. Тогда поедем в Ахтополь. Там остановимся и будем тщательно осматривать окрестности. Собственно, административный центр Странджанского края — городок Малко Тырново. Но он довольно далеко от моря…
— Нет, искать надо на побережье, — перебил Морис. — Ему все время снилось море где-то поблизости.
— Тогда надо остановиться в Ахтополе, — кивнул Раковский.
— Это далеко отсюда?
— Восемьдесят два километра.
— Туда можно добраться самолетом? Хотя нет, лучше поездом: может, Томас узнает дорогу.
— Машина ждет, — ответил Раковский. — Это недалеко, а поезда туда не ходят. Здесь конец железной дороги, в Бургасе.
— Тупик? — оживился Морис, — А где вокзал?
— В городе. Рядом с портом.
— Надо туда непременно заглянуть, — сказал Морис и многозначительно кивнул мне.
Я его поняла без слов: вокзал рядом с гаванью, — неужели тот самый, что Томас видел однажды во сне?!
Мы сели в большую, просторную машину, кажется советского производства, и помчались по широкому шоссе. Раковский вел машину сам, и, надо сказать, мастерски.
Он все-таки ухитрился, не отклоняясь от цели, показать нам Бургас.
Город был зеленый, тенистый, с прямыми улицами и широкими бульварами.
— Драматический театр, один из лучших в Болгарии, — пояснял наш проводник. — А это опера. Поют любители, но очень неплохо… Картинная галерея… А вот и вокзал.
Мы вышли из машины, с любопытством озираясь вокруг. Вокзал был большой, нарядный, монументальный, а прямо перед ним раскинулся шумный порт. Мы постояли на площади, прислушиваясь к уличному шуму и пароходным гудкам, потом осмотрели здание вокзала, вышли на перрон, заполненный спешащими людьми…
Нет, все это явно ни о чем не напоминало Томасу.
— В Бургасе один вокзал? — разочарованно спросил у Раковского Морис.
— Нет, — ответил тот и при этом утвердительно кивнул.
Я как зачарованная уставилась на него. И потом, до самого конца нашей поездки, так и не могла привыкнуть к этому удивительному обычаю, хотя и сталкивалась с ним буквально на каждом шагу, по нескольку раз в день.
— Есть еще один вокзал, имени Павлова, — продолжал Раковский, в свою очередь удивленно поглядывая на меня и не понимая, что в его поведении вдруг так меня заинтересовало. — Он поменьше.
— И дальше от моря? — спросил нетерпеливо Морис.
— Нет, тоже совсем рядом. Мы осмотрели и этот вокзал.
— Кажется, я здесь бывал, — нерешительно пробормотал Томас, покосившись на стоявшего рядом Мориса.
Тот засмеялся и хлопнул его по плечу:
— Хотите сделать мне приятное? Не надо, Томас. Прошло столько лет, и тут наверняка все изменилось, так что вряд ли вы узнаете тот вокзал. К тому же товарный поезд, который вам тогда снился, стоял, наверное, где-то на дальних путях. Вы же рассказывали, что к нему никого не подпускали. Чтобы найти это место, нам придется облазить все пути на всех вокзалах Болгарии. Нет уж, давайте лучше искать прямо ваш родной дом. Уж его-то вы сразу узнаете наверняка. Едем в те края, где женщины танцуют на раскаленных углях. Мы увидим, надеюсь, эти пляски? — повернулся Морис к улыбающемуся Раковскому.
— Боюсь, что нет, — ответил тот, опять утвердительно кивая. — Они бывают обычно весной.
— Жаль. Но все равно — едем!
— Но вы должны хотя бы пообедать перед дорогой, — смутился Раковский. — У нас так не принято встречать гостей…
— Ничего, перекусим на месте. Времени у нас мало. Едем!
Мы переехали через мост и помчались по дамбе, проложенной между морем и огромным озером, густо заросшим тростником. Потом шоссе вырвалось на простор, и Раковский прибавил скорость. Мелькали мимо современные отели из стекла и бетона, маленькие живописные домики в зелени садов.
Дорога шла по самому берегу моря. Оно то исчезало ненадолго за садами, чтобы потом вырваться к самому шоссе какой-нибудь узкой, скалистой бухточкой, то победно открывало взору весь свой неоглядный простор, где разгуливал над песчаными пляжами свежий, бодрящий ветер и призрачно маячили в туманной дали пестрые паруса.
Нас, привыкших с детства к горным долинам Швейцарии, этот простор очаровал больше всего. Ничего подобного у нас не увидишь.
Горы были и здесь: смутно виднелись в голубом мареве справа на горизонте, но совсем иные, чем у нас, — пологие, словно игрушечные, уютные, с мягкими очертаниями. Томас жадно вглядывался в них. Ему явно что-то припоминалось!
Мы молчали, чтобы не мешать ему. День выдался жаркий, но в машине было прохладно. Серая лента дороги слепила глаза. Бетон шелестел под шинами, звонко стучали мелкие камушки.
Потом горы словно выросли и прижали дорогу к самому морю. На их пологих склонах густо росли дубы и буки, вонзались в бледное, словно выгоревшее от зноя небо, острые вершины кипарисов.
— Странджа-Планина, — сказал Раковский. — Начинается Странджанский край.
Мы приникли к стеклам, стараясь получше рассмотреть родину Томаса, которую так долго искали.
Мелькали зеленые сёла, рыбачьи поселки. В сущности, таким небольшим поселком был и Ахтополь, приютившийся на скалистом полуострове, далеко вдававшемся в голубой залив.
Тишина. Прямо на камнях набережной сохнут рыбачьи сети.
Раковский привез нас в маленькую, но очень уютную гостиницу, где все было как-то по-домашнему. Когда мы устроились, он предложил показать нам город, но ни у кого не оставалось сил.
— Потом, потом, в свободное время, — сказал Морис. — Ведь Томас сказал во сне, что родился и жил не в городе. Город от нас не уйдет.
Поужинав в небольшом ресторанчике возле гостиницы, мы завалились спать.
А рано утром неугомонный Раковский уже повез нас по окрестным селам. Наверное, мы повидали их за день не меньше тридцати и к концу поездки уже тупо смотрели вокруг.
Несколько раз Томас как будто что-то припоминал и просил остановиться. Но потом обескураженно покачивал головой, молча вздыхал, и мы снова садились в машину.
— Не огорчайтесь, — утешал его Морис, — С каждым бывают такие случаи, когда он вроде узнает места, где на самом деле никогда не бывал раньше. У нас, у психологов, эта особенность человеческой памяти так и называется; «уже видел», специальный термин даже есть — «deja vu». А тем более при вашем настроении, когда вы смотрите на все вокруг со страстным желанием узнать, вспомнить. Не беспокойтесь — вспомните!
На другое утро поиски продолжались, и снова сёла мелькали перед нами словно в калейдоскопе.
До Мориса даже не сразу дошло, когда Раковский, остановив машину возле каменного бассейна с фонтанчиком на площади одного из селений, многозначительно сказал ему:
— Это Былгари.
— То самое? — Глаза у Мориса загорелись, он начал оглядываться по сторонам.
— То самое, — подтвердил наш проводник. — Но нестинарские игры бывают тут лишь весной, по большим праздникам.
— Может, удастся их уговорить, чтобы показали нам эти пляски сейчас? — с надеждой спросил Морис.
— Вряд ли, — ответил Раковский. — Ведь это не цирк, дело для них серьезное, связанное с религией, старыми обычаями.
— Да, конечно, вы правы, — смутился Морис и повернулся к Томасу. — Ну, здесь вы видели женщин, пляшущих на углях? Узнаёте селение?
Тот неуверенно покачал головой:
— Не знаю.
— Впрочем, пляски здесь бывают ведь и в других селениях, — сразу устало сникая, проговорил Морис — Ладно, едем дальше. Нам важно родной дом ваш найти, а ведь он где-то здесь, рядом.
«Может, и рядом, — вяло подумала я, — может, мы даже уже проезжали мимо него, да Томас не узнал родной дом. Сколько ведь лет прошло. Может, даже его мать выглянула из окошка, посмотрела вслед нашей промчавшейся в клубах пыли машине — и тоже не узнала родного сына», — но ничего не сказала.
Видимо, Раковский думал о том же, потому что проговорил, не оборачиваясь:
— Имя… Если бы знать ваше настоящее имя, Томас. Мы бы тогда быстро нашли…
И вдруг Томас рванулся и громко вскрикнул:
— Здесь! Здесь! Остановите!
Раковский так резко затормозил, что мы намяли себе бока при толчке. Георгий начал извиняться по-болгарски и еще больше смутился, сообразив, что мы его не понимаем.
Но его просто никто не слушал.
Мы поспешили вылезти из машины и оглядывались вокруг. Пустынная дорога. Справа — поля до самого горизонта, слева — глухие заросли.
— Здесь вы жили? — недоверчиво спросил Морис, повернувшись к Томасу. — Но это явно какой-то старый, заброшенный сад. Никакого жилья не видно.
— Да, это старый сад, — подтвердил Раковский и, сверившись с картой, добавил: — До ближайшего селения шесть километров. А здесь нет даже никакой сторожки. Сад давно заброшен, одичал и не охраняется.
— Здесь должен быть дом, — упрямо сказал Томас. Глаза у него лихорадочно блестели. — Большой каменный дом… в два этажа. Там, за забором. Вот и остатки забора, видите?
Он подбежал к торчавшему среди кустов покосившемуся каменному столбу с обрывками проржавевшей колючей проволоки.
— Могу я войти туда? — спросил Томас у Раковского.
— Конечно! Идите смело, мы за вами.
Вслед за Томасом мы стали продираться сквозь густые кусты. Сад совсем зарос. Старые яблони и груши одичали — их задушил колючий кустарник. Плоды на них были маленькие и кислые даже на вил.
Никаких тропинок уже не осталось. Но Томас пробирался через заросли с видом человека, все лучше вспоминающего знакомую дорогу.
— Нет, надо направо, — бормотал он, и мы послушно сворачивали за ним направо. — Вот, — тихо проговорил Томас, останавливаясь перед грудой кирпичей, заросшей бурьяном.
— Здесь был ваш дом? — так же негромко и сочувственно спросил Раковский.
— Не знаю, кажется… Мы здесь жили.
Было пусто в старом, заброшенном саду. Только в листве весело перекликались птицы.
— Я устал, — сказал Томас. — Я очень устал.
Морис взял его под руку, и мы выбрались обратно на пустынную дорогу.
Раковский отвез нас в гостиницу и ушел наводить справки. Морис велел Томасу хорошенько отдохнуть и успокоиться и дал ему какую-то таблетку, чтобы он ненадолго уснул. Томас принял ее, но опять с некоторым колебанием и опаской.
Меня сморила жара, и я тоже решила немножко отдохнуть.
Проснулась я уже под вечер от голосов в соседней комнате. Морис и Раковский старались говорить потише, но, увлекаясь, то и дело повышали голос. Я начала причесываться, прислушиваясь.
— Здание тщательно охранялось, — говорил Раковский. — В саду днем и ночью дежурили часовые с овчарками.
— И в нем жили дети? — недоверчиво спросил Морис, — Странно… Насколько мне известно, гестаповцы не устраивали детских домов.
— Местные жители считают, что это было нечто вроде школы.
— Школы? Какой школы?
— Неясно. Она была тщательно засекречена. Детям лишь очень редко удавалось общаться с местными жителями, и они уклонялись от разговоров о школе. Не сохранилось никаких документов. В августе сорок четвертого года всех детей куда-то вывезли, а здание гитлеровцы взорвали, убегая в сентябре.
Я постучала в дверь, вышла к ним и спросила:
— Я не помешаю?
— Нет, конечно, что вы, — поспешно ответил Раковский.
А Морис воскликнул:
— Ты слышала? Георгий уверяет, будто в саду была какая-то школа, а вовсе не дом Томаса.
— Слышала. Странно…
— Что за школа в глухом месте, вдалеке от жилья? Ладно, попробуем его порасспросить, — сказал, тряхнув головой, Морис. — Проведу сейчас сеанс.
— Смогу я присутствовать? — спросил Раковский. — Для нас тоже очень важно…
— Конечно. Как только он уснет, я вас позову. Пойду посмотрю, как он себя чувствует, наш Томас, — поспешил Морис.
Не возвращался он довольно долго, а войдя в комнату, сказал:
— Спит как сурок. И улыбается во сне. Не стал его будить, а то опять разволнуется. Так даже лучше. Просто перевел его из обычного сна в гипнотический. Идемте.
Томас крепко спал у себя в комнате на широкой деревянной кровати. Над его головой в раскрытое окно тянулась ветка, вся увешанная мелкими румяными яблочками.
— Можете нормальным голосом задавать мне любые вопросы, курить, ходить — вообще чувствуйте себя совершенно свободно, — сказал Раковскому Морис, заметив, что тот вошел на цыпочках и боится подойти ближе к кровати. — Никогда не приходилось присутствовать при таких сеансах?
— Нет, — ответил Раковский, с любопытством рассматривая спящего Томаса.
— Присаживайтесь вот сюда, поближе. Да не бойтесь вы: его сейчас пушками не разбудишь. Он слышит только мои приказы. Покажу вам сегодня любопытные вещи и довольно редко применяемые, — не удержался похвастать Морис и тут же виновато посмотрел на меня. — Клодина, будь добра, займись, пожалуйста, магнитофоном. Надо записать все получше!
— Хорошо.
Он, конечно, мог гордиться своими знаниями и способностями. Морис творил настоящие чудеса, и так спокойно, ловко, уверенно, что я залюбовалась им, а Раковский притаил дыхание, замер, словно его и не было в комнате.
Морис снова внушил спящему Томасу, будто ему девять лет, и вернул его в давний сорок четвертый год.
Морис не терял времени зря и еще дома, ожидая, пока Томас выйдет из больницы после загадочного покушения, занимался болгарским языком. И он начал теперь задавать вопросы по-болгарски:
— Где ты живешь?
— Не зная.
— Твой дом здесь, в большом саду?
— Не.
— А где твой дом?
— Не зная.
— А что было в саду?
— Това е лошо място, — ответил Томас и быстро добавил, понизив голос: — Не бива да се ходи там.
Морис вопрошающе посмотрел на Раковского.
— Там плохое место. Не надо туда ходить, — торопливо перевел тот.
— Защо? — спросил Морис у Томаса. Томас промолчал, словно не слыша вопроса.
— Тут была школа, в большом доме, в саду?
— Не разбирам, — помотал головой спящий.
Морис повторил вопрос по-немецки.
И Томас ответил:
— Да.
Морис опять попробовал перейти на болгарский:
— Как тебя зовут?
— Томас.
— А как зовут твоего отца?
— Не зная.
— Как зовут твою мать?
— Не зная.
— Къде живеят те?
— Не зная, — помолчав, Томас вдруг добавил не очень уверенно по-немецки: — Они умерли.
— От каквоса умрели?
Молчание.
Морис повторил вопрос.
— Не разбирам.
— Вспомни: как ты называл своего отца? — спросил Морис по-немецки.
Молчание.
Лицо спящего Томаса стало вдруг напряженным и побледнело.
— Мой отец — фюрер, — неожиданно громко произнес он и выкрикнул что есть мочи: — Хайль Гитлер!
Мы все трое переглянулись.
— Любопитно… Много любопитно. — Раковский от возбуждения тоже перешел на родной язык.
— Ты учишься в этой школе? — продолжал допытываться на немецком Морис.
— Да.
— Как называется твоя школа?
— Школа, — с некоторым недоумением ответил Томас.
— Как зовут директора школы?
— Герр Лозериц.
— Он строгий?
— Да.
— Ты хорошо учишься?
— Да.
— Какие предметы вам преподают?
— Нельзя говорить, — нерешительно ответил Томас. — Всякие…
— А какие предметы ты любишь?
— Географию. Как находить дорогу в лесу.
— Пожалуй, хватит, — пробормотал озабоченно Морис. — Очень он волнуется. Пусть отдохнет. Спи спокойно, крепко. Когда ты проснешься, будешь чувствовать себя здоровым, бодрым, хорошо отдохнувшим…
Сделав мне знак, чтобы я выключила магнитофон, Морис спросил у Раковского:
— Ну как?
— Потрясающе! — воскликнул тот и развел руками, — Никогда бы не поверил. Вы настоящий маг и волшебник!
Морис заулыбался, но я поспешила вернуть его на землю, спросив:
— Что же это за странная школа, о которой он не хочет вспоминать?
— Да, действительно весьма любопытно, — подхватил Раковский. — Мне кажется это важным. Нельзя ли его расспросить о ней подробнее? Так была засекречена, и не случайно, конечно, немцы ее взорвали.
— Попробуем, — сказал Морис. — Хотя почему-то рассказывает он о ней неохотно. Такое впечатление, будто ему внушали что-то забыть, никому не рассказывать и хранить в строгом секрете. Мои вопросы о школе его явно волнуют, беспокоят.
— Под гипнозом внушали? — переспросила я. — Ты думаешь, его гипнотизировали?
Морис пожал плечами, рассматривая лицо спящего Томаса, и задумчиво ответил:
— Возможно… Не случайно же он так боится таблеток и засыпал первый раз неохотно.
Что же это в самом деле была за необычная школа, где детей подвергали гипнозу? И зачем? Я не могла понять, а донимать Мориса расспросами при Раковском стеснялась.
Дав Томасу немного поспать спокойно, Морис снова внушил, будто ему девять лет, и опять начал задавать вопросы:
— Как е вашето име? Къде живеете?
Он спрашивал его по-болгарски о родителях, о странной школе, о друзьях.
Томас отвечал неохотно и все одно и то же:
— Не разбирам… Не зная, — и то и дело старался перейти с болгарского на немецкий язык. Он вертел беспокойно головой, дергался, по лицу его катился пот; Морис несколько раз вытирал его осторожно полотенцем. Расспросы о школе явно мучали бедного Томаса.
Тогда Морис переменил тему и стал спрашивать его по-немецки:
— А после занятий вы что делаете?
— Играем. Играем в саду.
— Как вы играете?
— Как хотим. В сыщиков. В боевые операции.
— Сад тебе нравится?
— Очень нравится, — с улыбкой, странно выглядевшей при крепко закрытых глазах, ответил Томас.
— А яблоки вам разрешают рвать? Ягоды есть?
— Нам всё разрешают. Делай что хочешь после занятий.
Вспоминать это Томасу было приятно. Даже голос у него изменился, стал радостным, веселым, и по губам то и дело пробегала улыбка.
— А гулять вас пускают?
— Иногда разрешают ходить с учителем на речку, рыбу ловить. Только редко.
— Ты любишь ловить рыбу?
— Да.
— А куда-нибудь еще пускают?
— Нет, — грустно ответил Томас и громко вздохнул.
— И вы никуда не ходите?
— Только с учителями. И все вместе. Редко.
— А домой вас отпускают, повидаться с родителями?
— Нет.
— А где ты родился?
— Далеко отсюда, — неожиданно ответил Томас, и губы у него задрожали, как у обиженного ребенка.
— Колко далече?
— Не зная.
— Где же ты родился? — Морис опять перешел на немецкий.
Томас молчал, весь напрягшись.
— Как тебя звали там, дома, твои родные? Не бойся, мне ты можешь сказать. Как тебя звали дома?
— Павел…
Мы так и замерли.
— Очень хорошо, Павел. Хорошее имя. А фамилия твоя как?
— Петров.
— Дома тебя звали Павел Петров?
— Да.
— А как звали твоего отца?
— Не знаю.
— А как звали твою маму?
— Не знаю, — упрямо повторил Томас — или теперь его нужно называть Павлом?
— Но где же они жили, где твой дом? Ты сказал: далеко отсюда. Где?
— Не знаю. — Опять он явно не хотел отвечать на эти вопросы.
Морис не стал его больше мучать, сделал внушение, что он будет спокойно и крепко спать до утра, а когда проснется, станет чувствовать себя веселым и бодрым, хорошо отдохнувшим, и мы ушли в свой номер, оставив Томаса одного.
— Павел Петров… — сказал Раковский, просматривая записи в блокноте. — И родился не здесь, а где-то в другом районе. Искать будет нелегко. У нас в Болгарии много Петровых да и Павел довольно распространенное имя. Если бы еще хоть какие-нибудь детали. Имена отца, матери…
— Вы же видите: приходится из него буквально вытаскивать новые сведения, — устало ответил Морис. — Почему он так упирается? Не пойму.
— Да, — сочувственно произнес Раковский. — Форменный детектив. Ни разу еще, пожалуй, не приходилось мне вести такое сложное и запутанное следствие. Но у вас это великолепно получается.
— Благодарю, — склонил голову Морис. — Но почему ему вспоминается так мало болгарских слов? Забыл? Но он уже в монастыре говорил только по-немецки — я специально справлялся. Не мог же он так скоро забыть родной язык.
— Видимо, в этой школе их усиленно заставляли его забыть, — угрюмо проговорил Раковский.
— Вероятно. — Морис вздохнул и потянулся. — Как я устал…
Я тоже так устала, что решила отложить расшифровку пленки до утра, хотя и страшно не люблю рано вставать.
6
Следующий сеанс принес новую неожиданность. Усыпив Томаса как обычно, Морис опять начал расспрашивать его о доме и родителях, все время успокаивая и ободряя:
— Где ты родился? Может быть, в Софии? Или в Бургасе?
— Не знаю.
— Постарайся вспомнить, Павел. Тогда мы найдем твоих родителей. Ты хочешь их увидеть?
— Хочу.
— Будешь снова жить дома, ходить на речку, ловить рыбу. Ты ведь любишь ловить рыбу?
— Люблю.
— Спросите его, пожалуйста, чем они ловят рыбу: удочкой или сетью? — зашептал вдруг Раковский, хватая Мориса за локоть.
— Зачем? — удивился тот. — Разве это важно?
— Пожалуйста, спросите. Я вам потом объясню.
Морис пожал плечами:
— А как будет «удочка» по-болгарски?
— Въдица.
— Въдица? Трудное слово. А сеть, кажется, — мрежа?
— Да.
Морис, запинаясь, задал этот, по-моему, совершенно пустой и ненужный вопрос. Томас ответил:
— Не разбирам.
Морис повторил вопрос снова, уже увереннее. Ответ был тот же:
— Не разбирам… Нищо не разбирам.
— Не понимает! — радостно воскликнул Раковский, хватаясь за блокнот.
— Но я тоже не понимаю: зачем вы задали этот вопрос и чему радуетесь? — спросил удивленно Морис.
— Что это за мальчишка, который не знает, как называется удочка?! Понимаете? Он не знаег этого слова. Вам не кажется это странным?
— Пожалуй, — пробормотал Морис и опять склонился над спящим Тамасом. — Ну, Павел, вспомни! Как зовут твоего отца?
— Не знаю.
— А как зовут твою маму? Может быть, Христина? Или Лиляна?
— Не знаю, — ответил Томас и вдруг, помедлив и понизив голос, добавил что-то еще чуть слышно.
Мне показалось, что он сказал это на болгарском языке. Но Морис и Раковский вдруг необычно оживились.
— Он сказал по-русски: «Мою маму зовут Ольга»! — пояснил мне Морис.
— По-русски?
— Да!
Морис два года занимался научной работой в Институте мозга в Москве и неплохо знает русский язык. Он начинал задавать вопросы по-русски, и Томас отвечал так же, но опять неуверенно, неохотно, словно с опаской:
— Ты знаешь русский язык?
— Да.
— Значит, ты родился в России?
— Нет.
— А где ты родился?
— Не знаю, — испуганно ответил спящий.
— А твои родители где живут? Здесь, в Болгарии?
— Не знаю… Я не знаю. — Голос Павла звучал так умоляюще, что Морис поспешил прекратить мучительные расспросы.
Он внушил, что сон постепенно перейдет в обычный и, проснувшись, Павел будет чувствовать себя хорошо, и мы перешли в наш номер, оставив спящего в покое.
— Может, он родился все-таки не в Болгарии, а в России? — сказала я. — Ты ошибся, Морис?
— Не знаю. Он ведь отрицает, но это надо еще проверить, — озабоченно ответил муж. — По-моему, он был кем-то очень запуган и многое скрывает.
— Кем запуган?
— Гитлеровцами, — ответил мне вместо Мориса Раковский. — Во время войны они вывезли из Советского Союза не менее сорока тысяч детей и подростков. Многие из них попали к нам, в Болгарию. Прошло уже четверть века после окончания войны, а мы все еще продолжаем искать по просьбам безутешных родителей этих злодейски украденных детей…
— Я слышал об этом, — кивнул помрачневший Морис. — «Хеуакцион» — это вы имеете в виду?
— Да, — подтвердил Раковский. — «Акция «Сено» — так она называлась на секретном фашистском жаргоне.
— Но зачем они воровали и вывозили детей? — спросила я. — Какие из малышей работники?
— Их вывозили не на принудительную работу, — угрюмо пояснил Раковский. — Как указывалось в секретных приказах, старались этим «уменьшить биологический потенциал Советского Союза». А кроме того, фашисты мечтали вырастить из похищенных детей будущих палачей своего родного народа, слепо преданных фюреру. Их отдавали на «воспитание» в особые лагеря СС. А в конце войны попробовали даже создавать секретные школы для подготовки шпионов и диверсантов.
— Из детей?!
— Да.
— Но это же чудовищно! Бесчеловечно!
— Фашизм вообще бесчеловечен, — пожал плечами Раковский.
Я посмотрела на мужа. Морис мрачно кивнул и сказал:
— Да, тоже слышал о таких школах. Фашисты считали, что детей будут меньше подозревать и опасаться. Маленькие шпионы, надеялись они, смогут всюду проникать беспрепятственно.
— И вы думаете, что несчастный Павлик попал в такую школу?
Раковский кивнул и сказал:
— Очень подозрительна эта загадочная школа в тщательно охраняемом саду. И этот номер на запястье у Павла. Школа была строго засекречена, детей в ней всячески запугивали, — понятно, почему он вспоминает о пребывании в ней так неохотно.
Морис в задумчивости прошелся по комнате и сказал:
— Пожалуй, Георгий прав: кажется, наш Томас — Павел побывал именно в таком шпионском притоне, где старательно выбивали из каждого ребенка память о прошлом — о родном доме, о близких. И не случайно кто-то испугался, что он может вспомнить виновников этих преступлений.
Морис рассказал Раковскому о покушении на Томаса возле бензоколонки.
— Вот видите, — сказал болгарин. — Это еще одно подтверждение, что наши догадки правильны. Его старались заставить забыть прошлое, это несомненно!
— Но ведь он послушно воображает себя девятилетним мальчиком по одному слову Мориса, — сказала я. — Он полностью подчиняется ему, когда спит. Мне кажется, он бы ничего скрывать не стал. Нет, Морис, наверное, он в самом деле не помнит ни своей родины, ни родителей.
Морис покачал головой.
— Ты переоцениваешь гипнотическое внушение, а оно не всесильно. Нельзя внушить человеку поступки, противоречащие его моральным убеждениям, — я уже, кажется, тебе объяснял.
— Пытая Эрнеста Тельмана в своих застенках, гестаповцы пробовали его заставить под гипнозом выдать товарищей и назвать их адреса, но у них ничего не вышло, — сказал Раковский.
— Верно, — кивнул Морис. — Отличный пример. Даже под гипнозом человек не станет говорить о том, что хочет скрыть. Поэтому напрасны надежды некоторых полицейских чиновников использовать гипноз при допросах, так же как и всякие «эликсиры правды». Насколько мне известно, ни в одной стране показания, данные под гипнозом, юридической силы не имеют. Ведь я могу внушить Томасу, будто ему не девять лет, а шестьдесят. И он станет вести себя и отвечать на мои вопросы соответственно, хотя стариком еще не был! Но он вообразит себя стариком, и, можете поверить, весьма убедительно. Так что ко всем ответам человека, находящегося в гипнотическом сне, надо подходить строго критически, отделяя вымысел от правды.
— И проверять эти показания другими данными, — вставил Раковский.
— Совершенно верно, — согласился Морис. — Только тогда мы будем застрахованы от возможных ошибок.
— В таком случае, может, Томас-Павел и свои детские воспоминания сочиняет? Притворяется, играет перед нами, как хороший актер? — сказала я. — Разве этого не может быть?
— Нет! — решительно ответил муж. — То, что человек испытал, пережил, он вспоминает под гипнозом вполне искренне и правдиво. Могу привести вам такой пример: у новорожденных каждый глаз еще движется независимо от другого — они «плавают», как говорят медики. И вот один исследователь — кстати, ваш земляк, профессор Лозанов, — повернулся Морис к Раковскому, — попробовал некоторым людям внушать под гипнозом, будто им всего два дня от роду. Невероятно, но глазные щели суживались, взрослые люди начинали косить, как младенцы, и глаза у них «плавали»! Такого не сыграет самый гениальный актер…
Морис закурил, несколько раз жадно затянулся и добавил:
— Муштровка в этой школе создала у Павла в памяти, видимо, второй психологический барьер. Первый, связанный с его семейными переживаниями, мы благополучно преодолели. Перескочим и через второй барьер! Попробую перенести его внушением еще в более раннее детство, хотя бы на год.
— В сорок третьем ему было восемь лет — уж больно ранний возраст, вспомнит ли он что-нибудь? — засомневался Раковский.
Томас вспомнил!
На следующем сеансе Морис внушил Томасу, будто ему только восемь лет, и начал задавать вопросы по-русски. И Томас отвечал без запинки, хотя в нормальном состоянии, не в гипнотическом сне, мог бы поклясться, что не знает ни слова по-русски! Это было поразительно.
Раковский знал русский язык, а мне муж переводил вопросы и ответы:
— Как тебя зовут?
— Павел… Павлик.
— А как твоя фамилия?
— Петров.
— Сколько тебе лет?
— Восемь.
— Ты уже ходишь в школу?
— Нет, — ответил он с явным сожалением.
— Почему же ты не ходишь в школу?
— Немцы ее закрыли.
— Где ты живешь?
— Здесь.
— Где — здесь? Ты живешь в городе или в деревне?
— В деревне.
— А как называется ваша деревня?
— Вазово… Нет, Васино.
— От вашей деревни далеко до города?
— Далеко.
— Ты был когда-нибудь в городе?
— Нет, ни разу.
— Как он называется?
— Название не помню.
— Когда ты родился?
— Не знаю.
— А когда празднуют твой день рождения?
— В мае. Пятнадцатого мая.
— А где же находится ваша деревня?
Молчание.
— Ваша деревня в Белоруссии? Или на Украине?
— Я не знаю.
— Ваша деревня в лесу или в степи?
— В лесу. Большой лес, хороший.
— А речка у вас есть?
— Есть. И пруд. Мы там рыбу ловим.
— А как называется ваша речка?
Пожав плечами, спящий ответил, как ребенок:
— Просто речка.
— Спросите его, какие культуры там выращивают на полях? — подсказал шепотом Раковский.
— Это идея! — одобрил Морис и задал такой вопрос спящему Павлику.
— Погоди-ка, сейчас скажу… Рожь сеют… Пшеницу… Горох, овес сеют. Лен…
— Очень хорошо, — обрадовался Морис. — Значит, северо-западные области России. Но вряд ли Украина или Белоруссия: он говорит, по-моему, без всякого акцента. Надо будет потом проверить, знает ли он украинский или белорусский язык. Продолжим. У тебя есть братья» Павлик?
— Есть брат.
— Как зовут твоего брата?
— Боря… Борис.
— Он старше тебя?
— Да.
— Сколько ему лет?
— Четырнадцать.
— А сестренка у тебя есть?
— Да.
— Одна сестренка?
— Да.
— Как ее зовут?
— Наташка, Наташка очень красивая, — добавил он вдруг с нежностью и забавной детской гордостью.
— Она маленькая?
— Да.
— Сколько ей лет?
— Четыре годика.
— А бабушка у тебя есть?
— Она умерла в прошлом году.
Отвечая на вопросы Мориса, спящий Павел рассказал, что его отца зовут Николаем и он сторожит лес, а маму — Ольгой, она работает на ферме в колхозе. Назвал он и несколько имен своих приятелей-мальчишек.
— Сколько сразу нового мы узнали, — радовался Морис, потирая руки. — Вот теперь можно искать.
— Но почему он заговорил вдруг так свободно и откровенно? — встревожилась я. — Ничего больше не скрывает. Тебе не кажется это странным?
— А чего же ему скрывать? — рассмеялся муж. — Ведь мы забрались по ту сторону последнего шокового барьера. Ему сейчас восемь лет, и он еще не знает, что через год попадет в эту проклятую школу, где будут пытаться заставить его забыть о родном доме и близких… — Посмотрев на спящего, Морис добавил: — Ну вот, теперь ты можешь спать спокойно, Павлик. Томас Игнотус исчез навсегда.
Когда Павел проснулся, Морис рассказал ему, что мы узнали из его ответов, и деловито добавил:
— Ну, нашли вашу родину, теперь-то уж наверняка. Дело сделано, и можно собираться домой.
— Вы уже хотите уезжать? — насторожился Раковский.
— Да. Дела ждут. А потом надо и собираться в Россию. Ведь задача перед нами стоит далеко не простая. Павел родился несомненно в России, но где именно — этого мы пока не знаем. Поедем искать, а пока я спишусь с нужными организациями и с моими русскими друзьями и коллегами, они постараются нам помочь. Согласны?
Павел молча кивнул. По-моему, он был вконец ошеломлен всё новыми и новыми неожиданностями, обрушившимися на него. Он сидел молчаливый, притихший.
Только теперь Морис дал ему прослушать все записи, сделанные во время сеансов гипноза, сопровождая каждую подробными комментариями.
Поразительно, что, слушая собственный голос, Павел все-таки не понимал самого себя, говорящего во сне по-русски. Морису приходилось переводить ему свои вопросы и его собственные ответы!
— Видите, дружище, даже кратковременное пребывание в этой зловещей школе оставило в вашей психике шоковый барьер, — пояснял ему Морис. — Но теперь мы, кажется, его преодолели, и дело пойдет легче. Важно, чтобы вы поняли: воспоминания о школе не опасны, в них нет теперь ничего секретного, ничто вам не угрожает. Когда вы хорошенько свыкнетесь с этой мыслью, воспоминания тех лет начнут все чаще и свободнее всплывать в вашем сознании — я уверен в этом.
— Мне уже кое-что вспоминается, — сказал Павел. — Отдельные сценки, лица…
— Отлично! — обрадовался Морис — Значит, дело пойдет на лад.
— Записывайте, пожалуйста, все, что вспомнится об этой школе, я вас очень прошу, — вмешался Раковский — Для нас важна каждая деталь. Особенно имена.
— Да, ведь один из тех, кто мучал вас в ней, и сейчас преспокойно ездит по дорогам Европы в своем новеньком «оппель-капитане» и даже пытался вас убить. Так что в самом деле все записывайте, что вспомнится. Юридической силы, правда, ваши воспоминания иметь не будут, но Георгию могут пригодиться. А кроме того, это будет неплохая гимнастика для вашей памяти. Надо постараться ее получше расшевелить.
Морис не может сидеть без дела и, видно, очень соскучился по своим исследованиям. Как ни уговаривал Георгий нас задержаться, через два дня мы отправились домой.
Раковский сам отвез нас на аэродром.
— Я так виноват перед вами, — забавно сокрушался он.-Здесь кругом ведь такие живописные места, леса, пляжи. А вы ничего не успели увидеть.
— Ничего, — утешила его я. — Мы сами виноваты, Приедем сюда специально в следующий раз, чтобы отдохнуть на пляже и осмотреть все красоты.
— И поплясать на кострах с вашими красавицами, — подхватил Морис. — Мы вам напишем, Георгий, и непременно приедем.
— Да, я вас очень прошу написать, как пойдут дальше поиски. Меня тоже захватила ваша судьба, — повернулся Раковский к Павлу. — От всей души желаю вам поскорее найти родных.
— Спасибо! Хорошая у вас страна! — вдруг с непривычной для него порывистостью сказал Павел, крепко пожимая ему руку. — Честное слово, жалко, что я не здесь родился.
Раковский был явно растроган, но торжественно ответил:
— Россия — хорошая родина…
7
В Россию мы попали лишь на следующий год.
К этой поездке следовало тщательно подготовиться, чтобы не искать вслепую. Россия велика, мало ли в ней деревень, которые называются не то Вазово, не то Васино и где сеют лен среди лесов, возле прудов и речек? И тысячи людей ведь потеряли там близких в годы войны, — не так-то просто найти среди них Николая и Ольгу Петровых, брата Борю и сестрицу Наташу. Да и живы ли они?
Забот было немало, так что осень и зима пролетели быстро. Всепомнящий Ганс соскучился без нас и опять услаждал меня и Мориса чужой мудростью и удивлял своими штучками.
— Куда исчез кувшин с молоком? — спрашивал он вдруг за обедом.
— Вот он, перед вами.
— О простите, Клодина! Я уже не раз замечал, что если мысленно представлю, будто молочник стоит на левом конце стола, а там его не окажется, то уже вообще не могу увидеть кувшина, даже если он у меня под самым носом. Такие вещи делают меня совершенно растерянным и несообразительным…
Или он жаловался:
— Зашел сейчас в кафе, попросил мороженого. «Вам сливочного или шоколадного?» — спрашивает официантка таким грязным голосом, что сразу как осколки угля посыпались на это мороженое, Разве его можно есть? Я встал и ушел.
Да, с нашим Гансом не заскучаешь.
С Павлом мы виделись довольно редко: ему приходилось много работать. Но Морис все-таки заставил его учить — вернее, вспоминать — русский язык, не упустив, разумеется, случая испытать на нем гипнопедию: иногда
Павел ночевал у нас и магнитофон нашептывал ему, спящему, русские слова и правила грамматики
Память о прошлом постепенно возвращалась к нему. Постепенно он действительно припомнил немало важных подробностей о своем пребывании в фашистской школе. Вспомнил имена некоторых преподавателей и то, как старательно пытались они выбить из детей все воспоминания о прошлом. За подслушанный разговор с другими ребятами о доме тут же сажали в карцер на несколько дней, давали только по куску черствого хлеба вместо обеда, а угром и вечером лишь по стакану воды, вспоминал Павел.
Выпустив из карцера, ребенка вызывали и спрашивали: как зовут отца и мать? Если он по неосторожности отвечал, ему делали укол каким-то лекарством и снова отправляли в карцер.
— Такую проверку постоянно устраивали, — рассказывал Павел. — Играешь в саду с ребятами, тебя остановят и спросят: «Как имя твоей матери? Надо уточнить в анкете». Ответишь — тебе укол и в карцер…
Эти отрывочные воспоминания, постепенно всплывавшие в памяти Павла, делали теперь понятным многое, что озадачивало Мориса в его поведении.
Видимо, подвергали детей и гипнотическому внушению.
— Нас вызывали и заставляли смотреть в глаза, — вспоминал Павел. — Или велели глядеть на такой шарик блестящий, качается на нитке.
Морис кивнул и сказал:
— А дети ведь особенно легко поддаются гипнозу. Не удивительно, что при такой «обработке» он подсознательно боялся пилюль и таблеток, тревожился на первом сеансе, а на все мои вопросы отвечал: «Не знаю…»
Понятной стала и фраза, однажды сказанная во сне Павлом: «Нам все разрешают. Делай что хочешь после занятий…» Оказалось, это было вовсе не проявлением хоть какой-то небольшой заботы о детях, а тоже изуверским расчетом, дьявольской психологической ловушкой. Детям нарочно разрешали делать все, что дома не позволяли родители. Их учили быть жестокими и поощряли драки, всякие подлые поступки, чтобы вытравить все человеческое, доброе, сделать послушными исполнителями «воли фюрера»,
Морис провел еще несколько сеансов гипноза, потому что неясным оставалось многое: например, как мальчика вывезли фашисты из родных мест и каким образом он после Болгарии попал в Швейцарию. Но эти расспросы мучали Павла.
Судя по отрывочным воспоминаниям, в Швейцарию его вывез кто-то из охраны школы, сумевший, видно, дезертировать в горячке фашистского бегства. Рядовому это было сделать проще: Павлу смутно припоминался какой-то «добрый солдат Альберт». Возможно, этот Альберт был родом из Швейцарии. А Павлик помог ему пробраться туда, служа своего рода «охранной грамотой»: кто заподозрит беглого солдата в отце, везущем домой сынишку?
Когда же мальчик стал обузой, его подкинули в монастырь.
Конечно, так ли все это было, мы могли лишь гадать. Морис не хотел злоупотреблять и копаться без крайней нужды в детских воспоминаниях Павла. Важно, что мы узнали главное. А с тем, что многое в его биографии, видимо, навсегда останется неясным, придется примириться, — так ведь обычно и бывает в жизни, в отличие от романов.
— Если бы научиться свободно управлять памятью и легко вызывать любые воспоминания! — мечтал Морис. — Заново пережить молодость, унять боль старых горестей — ведь это было бы настоящее путешествие во времени. Заманчиво, верно?
— Очень.
— Точи нож, да не слишком: лезвие выщербишь, — довольно ехидно вставил тут поучающим тоном Ганс, но Морис сделал вид, будто не слышит.
— Тогда бы мы научились и легко и быстро наполнять память нужными знаниями, за несколько минут закреплять в ней навыки, на приобретение которых теперь уходит вся жизнь. Но пока, к сожалению, память шутит над нами, — добавил он, вздохнув. — В голову лезут всякие пустяки, а нужное и важное мы никак не можем припомнить.
Все-таки Павлу удалось вспомнить еще несколько примет родного дома: имя покойной бабушки, пруд со старыми деревьями возле села.
— А горы есть возле вашей деревни? — усыпив его, снова начинал Морис.
— Нет, гор нет. Откуда?
— Что ты любишь делать?
— Рыбачить. В речке или в пруду.
— Павлик, а ты хочешь увидеть маму?
— Мамочку? Да я и сейчас вижу мамочку… И сейчас… — Голос у спящего Павла вдруг задрожал, на глазах выступили слезы.
— Как выглядит твоя мама? Она полная? Или худенькая?
— Полная.
Во время одного из сеансов Морис пробовал задавать ему вопросы на украинском и белорусском языках. Выяснилось, что Павел их не знает.
Все эти сведения муж сообщал в письмах в Москву. В ответ мы получили оттуда много адресов из организаций, специально занимавшихся розыском людей, потерявших друг друга. Их сотрудники, желавшие всей душой помочь Павлу найти родных, проделали огромную работу.
Особенно заинтересовали Мориса два адреса — в Смоленской области и под Ленинградом.
В сведениях о них вроде сходилось все с теми приметами, которые припомнил Павлик: имена родителей, брата и сестры, даже имя бабушки — «баба Люба». Обе деревни находились в лесу и возле речек. И в той и в другой сеяли лен.
Пруд, правда, был только в смоленской деревне. Но она называлась Вагино, а деревня под Ленинградом зато точно так, как помнилось Павлу, — Васино.
С нее мы и решили начать и в начале мая, опять втроем, оставив огорченным очень хотевшего отправиться с нами Ганса, вылетели в Ленинград.
В деревне Васино нас приняли очень радушно. Встречал даже колхозный хор, женщины в старинных костюмах пели русские песни, надеясь, что они помогут Павлу вспомнить родные места. Но, увы, ничего тут ему не вспомнилось. И в семье Петровых не признали в нем своего пропавшего без вести сына. Это была не та деревня.
Неудача постигла нас и в Смоленске. Мы долго ходили по деревне, сидели на берегу речки и пруда, но Павел не узнавал этих мест.
Больно было видеть, как седая женщина, Ольга Ивановна Петрова, потерявшая в годы войны не только сына, но и мужа, жадно всматривалась в лицо Павла и все повторяла дрожащим голосом, уже отчаявшись, но все еще надеясь:
— Павлик, ты вспомни, сынок: у тебя был такой зеленый грузовик… Заводная машинка… Отец тебе подарил. Помнишь, ты еще потерял ключик от него и сильно плакал. Помнишь?
— Мне очень жаль, — тихо ответил Павел и низко опустил голову.
Я отвернулась, не могла на них смотреть.
Грустные, усталые и разбитые вернулись мы в Смоленск. Вместе с сопровождавшим нас местным журналистом молча сели в холле гостиницы возле круглого стола, покрытого пыльной скатертью.
— Н-да, — вздохнул Морис. — А я, признаться, на эти адреса надеялся. В других письмах многие приметы не сходятся.
Помолчав, он сказал Павлу:
— Может, вспомните еще какие-нибудь приметы? Пусть мелочь, пустяк. Иногда они больше запоминаются.
— Вспомнился мне такой случай, — неуверенно проговорил Павел. — Глупость, пустяк. У меня разболелся зуб. Братишка стал пугать, что в больнице сделают больно, и предложил: «Давай, я его тебе сам вырву». Я Борису верил и согласился. Мы пошли куда-то за сарай. Помнится, там были кусты малины, кажется. Борис привязал мне к зубу прочную нитку и дернул. И дернул так сильно, что зуб вырвался, а сам он упал. — Павел посмотрел на нас и нерешительно спросил: — Забавно?
— Забавно, — протянул задумчиво Морис. — Может, и пригодится. А кто-нибудь еще был при этой операции, не помните?
— Нет. Кажется, никого больше не было. Мы же нарочно ушли за сарай, чтобы никто не помешал.
— Да, это верно. Клодина, запиши, пожалуйста, со всеми подробностями на всякий случай.
По тону Мориса, однако, чувствовалось, что он не возлагает на это детское воспоминание больших надежд. Вряд ли оно, конечно, могло помочь в наших поисках. Но я все-таки начала записывать.
— Вот еще что вспомнилось, такая маленькая деталь, — сказал вдруг Павел. — Крыша у нашего дома была несколько необычная…
— Чем? — оживился Морис.
— Одна половина ее была из черепицы, а другая… Из какого-то странного материала, не знаю, как он называется. Вроде щепочек…
— Дранка? — подсказал журналист.
— Возможно. Отец, помню, очень гордился, что достал черепицы хотя бы на половину крыши. — Он посмотрел на нас и виновато добавил: — Всё такие мелочи вспоминаются.
— Ничего. Эта примета интересна. Она наверняка пригодится, — утешил его Морис. — Крыша пестрая, из разного материала — такое бросается в глаза и запоминается. Наверняка ее запомнили и ваши соседи.
— Только как их отыскать… — пробормотала я.
— Да, ты права: только как их отыскать… — повторил невесело Морис.
Морис пошел прогуляться — ему лучше думается на прогулках, а я прилегла отдохнуть. Но вернулся он подозрительно быстро и какой-то обескураженный.
— Что случилось? — спросила я.
— Ничего. Чудесно погулял.
— Скажи мне, в чем дело. Я же вижу тебя насквозь.
— Ты колдунья? — засмеялся он.
— Колдунья не колдунья, но тебя-то я хорошо знаю. Что случилось?
Он отнекивался, пытался перевести разговор, но я все-таки заставила его рассказать о том, что случилось на прогулке.
— Только поклянись, что никогда никому не расскажешь, — просил он. — Меня засмеют.
Случай был действительно весьма забавный и позорный для закаленного и опытного борца с жульничеством и суевериями.
— Гулял я по бульвару на набережной, — рассказал Морис. — Погода чудесная, солнышко, птицы поют. Настроение у меня постепенно улучшалось. И вдруг вижу старую цыганку. Пристает к редким прохожим, предлагая погадать. Подошла и ко мне. Я улыбнулся, покачал головой, но все-таки сунул руку в карман и дал ей какую-то монету — просто так, из человеколюбия и от хорошего настроения. Я вообще люблю этот бродячий веселый народ, происхождение которого до сих пор остается загадочным для ученых мужей.
Он замолчал, улыбаясь каким-то мыслям.
— Ну? И ты из человеколюбия согласился, чтобы она тебе погадала, эта симпатичная цыганка? Что же тебя ждет?
— Нет, гадать я, конечно, не стал. Это было бы смешно. Правда, она пыталась, но я сказал, что дал ей деньги просто так и ничего не хочу за них. Она даже удивилась…
— Еще бы!
— Если ты будешь издеваться, я не стану дальше рассказывать.
— Не буду, не буду.
— Тогда старуха, видно, тоже решила совершить добрый поступок и познакомила меня с колдуньей.
— С колдуньей?
— Да. Еще не старая и довольно красивая дама в пестром платке. «Это хороший человек, — представила ей меня старуха. — Он дал мне денег… — и добавила что-то еще на своем наречии. — А ты ее слушай, — сказала она мне. — Она настоящая колдунья, не сомневайся. Ее все у нас уважают…» — Морис покачал головой, засмеялся и продолжал: — Мне, конечно, стало любопытно, и я дал колдунье отвести меня в сторонку, за какой-то ларек. «Ты в самом деле колдунья?» — спросил я у нее. «Конечно. Не сомневайся. О чем ты хочешь, чтобы поколдовала?» Я, видимо, стоял с довольно глупым видом, потому что она стала подсказывать: «Любовь? Деньги? Здоровье? Ну, чего тебе нужно?» А я никак не мог решить, чего же мне в самом деле попросить у нечистой силы. Любовь? Но, кажется, пока я ею не обижен…
— Спасибо, — перебила я мужа. — Только не сглазь!
— Это еще что? — возмутился Морис. — Где ты нахваталась этих суеверий?! Моя жена!
— Ладно, ладно, сам тоже хорош: гадаешь у цыганок!
— Не гадаю, а познакомился с колдуньей. Просто показалось забавным…
— Какая разница. Тем более. Рассказывай дальше.
— «Хорошо, — сказал я ей, — поколдуй мне об успехе в делах». — «Пожалуйста. Дай какую-нибудь бумажку…» Она при этом весьма наглядно пошевелила пальцами. «Денег? Э нет. Я в это не верю…» — «Да не для этого! — перебила она меня. — Ты уже заплатил, я знаю. Для колдовства нужна бумажка. Если не веришь, запиши номер. Она будет цела, не бойся». Я достал рублевую бумажку и подал ей. Колдунья свернула из нее маленький кулечек, спрятала его в кулаке и начала что-то шептать. Я с любопытством наблюдал за нею… «Давай еще бумажку, — сказала она. — И повторяй за мной». Я снова полез в кошелек. Рублей больше не оказалось, только бумажка в три рубля. Я держал ее в руке и не решался отдать этой шустрой даме. «Чего ты боишься? — сказала она. — Цела будет. А не веришь — запиши номер». Она ловко выхватила деньги у меня и тоже спрятала в кулаке. Забавно, что эти глупые слова «запиши номер», которые она повторяла словно заклинание, действовали успокаивающе. «Да и чего мне опасаться? — подумал я. — Разве может ограбить среди бела дня на бульваре какая-то колдунья мужчину в расцвете сил и здоровья, к тому же прекрасно знакомого с изощренными и сложными фокусами всех времен и народов?»
— Разумеется.
— Она опять пробормотала какую-то тарабарщину. Потом трижды дунула на свой грязный кулак с зажатыми деньгами. «Дунь и ты три раза, — сказала она мне. — Ну!» Это было, конечно, глупо, но я дунул. Она разжала кулак и показала мне пустую ладонь. «А где же деньги?» — спросил я. Представляешь, какой был у меня глупый вид?
— Представляю, — ответила я и расхохоталась.
— Я чувствовал себя очень глупо, но все-таки не хотел остаться совсем в дураках и начал пугать ее милицией. «Слушай, милый, — сказала она. — Ну, придем мы в милицию. Ты все расскажешь. Все только смеяться будут. Ты сам дунул, верно? Сфотографируют тебя и повесят на стенку: «Не проходите мимо». Тогда весь город смеяться будет…»
— И что же ты сделал?
— Попасть на эту фотовитрину, которые мы с тобой видели на улицах, было, конечно, мало приятно. К тому же чувство юмора и восхищения этой ловкачкой уже стали брать верх. Но я все-таки еще разок попытался пугнуть ее милицией и, кажется, даже возможными дипломатическими осложнениями…
— А она?
— Ну, тут она закричала на весь бульвар: «Ты же сам дунул! Что ты хочешь? Чтобы тебя записали на машинке и передали по радио? Тогда над тобой вся Россия, весь мир смеяться будут. Нет у меня никаких денег. На, обыщи!» — тут она начала весьма энергично и деловито расстегивать кофточку…
— И ты позорно бежал?
— Да, — сокрушенно склонил голову Морис и жалобно спросил: — А что еще, дорогая, по-твоему, мне оставалось делать?
— Хороший урок. Будешь знать, как связываться с колдуньями. Вот я всем расскажу…
— Ты дала слово!
— Нет уж, стану рассказывать эту историю при каждом удобном случае, чтобы ты не слишком зазнавался. Это будет мой коронный номер! «Назидательная новелла о том, как русская колдунья провела вокруг пальца почетного мага и чародея, известного профессора Цюриха и Сорбонны, доктора философии Мориса Жакоба…» Уверена, номер будет пользоваться большим успехом.
— Неужели тебе меня не жалко? Разве я мало наказан? — укоризненно сказал он и смешно передразнил колдунью: — «Запиши номер… Ты же сам дунул… Хочешь, чтобы тебя передали по радио?… Вся Россия смеяться будет…»
Я опять не могла удержаться от смеха. Но Морис вдруг стал серьезен и словно забыл обо всем.
— Вся Россия… — повторил он. — Слушай, это идея! Что, если нам рассказать о судьбе Павла по радио? Нас услышит и придет на помощь вся Россия, а?
— Хорошая мысль, — согласилась я.
— Вот видишь, все-таки встречаться с колдуньями небесполезно.
Эта мысль в самом деле оказалась плодотворной. Выяснилось, что московское радио уже давно организует специальные передачи, чтобы помочь людям, разлученным войной, найти друг друга. Они так и называются — «Найти человека!», и ведет их поэтесса Агния Барто. Эти передачи помогли уже обрести радость и счастье многим людям.
Мы приехали в Москву, и в очередной передаче Морису любезно предоставили слово. Он рассказал о судьбе Томаса — Павла и перечислил все — увы! — немногие и скудные приметы, которые могли бы подсказать, где же была его родная деревня. Упомянул Морис о приметной крыше, половина которой была из черепицы, а другая из какого-то иного материала, а также и о том, как старший братишка рвал Павлику зуб и упал при этом.
— Как видите, примет немного, дорогие друзья, — закончил он свое выступление. — Но, может, они запомнились и родным Павла Петрова, друзьям его детства и односельчанам. Пусть они откликнутся и помогут нам в поисках. Мы ждем вашей помощи, друзья!
Письма стали приходить уже на второй день после передачи. Правда, от этих первых писем толку было мало, так что я даже стала сомневаться в успехе. В них разные люди лишь выражали сочувствие Павлу и желали нам успеха.
В одном письме оказался детский рисунок. Смешно и неумело была нарисована большая и очень добродушная собака с длинным носом и огромными настороженными ушами, а внизу приписано крупными каракулями:
«Это Джильда. Возьмите мою овчарку с собой в разведку. Пускай она вам поможет поскорее найти братишку и сестренку Павлика. У нее чутье во какое! Юра Гремичев из Подольска».
— Надо ему поскорее ответить, а то еще заявится к нам на студию с овчаркой, — озабоченно сказала Рая, милый и отзывчивый редактор передачи. Видно, подобные случаи в ее практике бывали.
Присылали в письмах и предполагаемые адреса, но все они вызывали серьезные сомнения. Одно письмо пришло даже из Казахстана. В нем Арсений Андреевич Петров спрашивал, не племянник ли его Павел -Томас, убежавший из дома еще до войны. Письмо заканчивалось трогательно:
«Если Павлик не окажется моим племянником, все равно пусть приезжает жить ко мне в память моей сестры Валюши, его покойной матери. Я старик, пенсионер, живу один в большом доме. Приезжай, Павлик!»
Морис с редактором вскрывали всё новые и новые конверты, передавали письма Павлу…
И вдруг муж воскликнул:
— Постой-ка! «Пишет вам, уважаемые товарищи, колхозник из села Вязовье, — начал он читать, делая остановки, чтобы разобрать мелкий почерк. — Был наш район до войны Калининской, потом Псковской, а теперь снова Калининской области. Многие приметы, о которых говорилось в вашей передаче о трудной судьбе Павла Петрова, сходятся с нашими краями. Есть у нас речка Сорица, неподалеку от деревни есть маленькое озеро. Правда, теперь оно почти высохло и заросло совсем камышом, но до войны в нем купалась ребятня. Лен у нас сеют издавна. И Петровых у нас в деревне есть несколько семей. Есть среди них, конечно, Николаи и Ольги тоже. Вовремя войны немец многие семьи порушил, долго он у нас стоял — до весны сорок четвертого. И детей фашисты угоняли с собой, когда отступали. Думаю, Павлу надо непременно приехать к нам в Вязовье…» Сомнительно… — сказал Морис, кончив читать.
Но Павел перебил его, остановив жестом.
— Вязовье… Вязовье… — повторял он с каждым разом все увереннее и вдруг воскликнул: — Конечно, нашу деревню звали Вязовье, как же я мог забыть! Вязовье, а не Вазово.
— Возможно, — пробормотал Морис, не сводя с него глаз. — Может, и вправду вы тогда ошиблись? Вязовье — трудное название для иностранца…
— Какой же я иностранец? — неожиданно с обидой ответил Павел. — Я же русский, только язык немножко забыл.
8
Вязовье оказалось маленькой, но удивительно уютной деревушкой в сосновом лесу, на берегу тихой и неширокой речки с темной водой. Все дома в ней были новыми, ладными.
— Это мы уже после войны отстроились, а то все немец опалил, — рассказывал нам председатель местного колхоза, в очках, в темном костюме и белоснежной рубашке с красивым галстуком, больше походивший на профессора, чем Морис.
В первый момент Павел растерялся.
— Нет, это опять не та деревня. Я ошибся, — сказал он. — Речка похожа, а селение не узнаю.
Он шел вместе с нами по улице, в окружении большой толпы любопытных, собравшихся, по-моему, даже из других деревень, и покачивал головой.
— Опять «уже видел»? — недовольно пробормотал Морис.
Но Павел вдруг остановился возле одного дома и начал озираться вокруг.
— Тут была школа? — спросил он.
Председатель пожал плечами, но какой-то пожилой колхозник из толпы громко сказал:
— Точно! Была у нас до войны маленькая школа. Просто изба. Она как раз тут стояла, растащили на дрова в войну. А теперь у нас школа за околицей, новая, каменная. А старая здесь была, это точно!
Его поддержало еще несколько голосов.
Мы со всей толпой двинулись дальше, и теперь Павел с каждым шагом начал узнавать родное селение!
Все ускоряя шаги, он свернул в переулок, вышел на берег реки, где плотники, сверкая на солнце топорами, строили новый мост, и, остановившись перед зарослями крапивы и бурьяна, дрогнувшим голосом сказал:
— Здесь был наш дом.
Толпа притихла. Потом раздался звонкий женский голос:
— Так это Ольги Петровой сынок, они здесь жили.
— Правильно!
— Точно! — зашумели вокруг.
Какой-то высокий человек с густой седеющей бородой и с черной повязкой, закрывающей левый глаз, протиснулся сквозь толпу и вдруг крепко, по-медвежьи обнял растерянного Павла.
— Здравствуй, племянничек! — прогудел бородач басом. — Узнаешь? Я ж твой родный дядя. Дядя Федя. Родный брат твоей матери, Ольги-покойницы…
— Она умерла? — спросил Павел.
— Умерла, в пятьдесят втором умерла. Хату спалили немцы, муж погиб, оба сына пропали — тосковала она шибко. Жила у меня вместе с Наташкой. Сестренку-то помнишь?
Павел совершенно растерялся от обрушившихся на него лавиной новостей и воспоминаний. Он стоял бледный, пошатываясь, вот-вот в обморок упадет.
Мы отвели его в дом дяди, Федора Васильевича Петрова, и тут узнали все печальные подробности о судьбе его родных.
В годы войны в этих местах был настоящий партизанский край. В глубоком тылу немецких войск существовали партизанские комендатуры, работали школы, библиотеки, колхозники спокойно выращивали хлеб и кормили партизан, ничего не давая немцам. Оккупанты ничего не могли с этим поделать, хотя и затевали против партизан несколько больших карательных экспедиций.
Отец Павла — Николай Семенович Петров, работавший до войны лесным объездчиком, возглавлял один из самых боевых партизанских отрядов.
— Всю войну действовали успешно, никак враг их обнаружить не мог. А вот как фронт подошел, уже артиллерию нашу стало слышно, тут и случилась беда, — рассказывал Федор Васильевич. — Видно, самоуспокоились на радости, что победа уже близка.
Чтобы укрепить свои тылы, немцы как раз в это время решили провести сокрушающую карательную экспедицию.
Каким-то образом им удалось найти в лесу и окружить базу партизан. Запасы оттуда уже вывезли, там в это время находилась лишь небольшая часть отряда, всего семеро партизан.
Все они погибли в неравном бою вместе со своим командиром.
Стоя у печки и подперши подбородок рукой, пригорюнившись, слушала рассказ Федора Васильевича его дочка Елена. В дверь и в окна, не решаясь зайти, заглядывали любопытные ребятишки.
— Ты ведь тогда с ними в лесу был, на базе, — -сказал Федор Васильевич, поворачиваясь к Павлу. — Ты и твоя сестренка, Наташенька.
— Как так?
— А вы понесли отцу какую-то записку, из штаба прислали. Вот мать вас и отправила в лес. Вы частенько туда ходили, будто бы по ягоды аль по грибы. Или, дескать, корову ищете, чтобы немцы не придрались. Так что все на деревне были уверены, что и вас с Наташей тогда убили душегубы. Мать несколько дней по лесу бродила, все вас искала…
Помолчав, он добавил, опустив седую голову:
— Все никак до самой смерти не могла себе простить, что именно в тот день вас в лес послала, на верную погибель. Оттого и зачахла, я так думаю. Ты не помнишь, что там в лесу произошло? Боя не помнишь? — спросил он у Павла.
— Нет. — Павел медленно покачал головой.
— Конечно, мал еще был. Да и сколько лет прошло, тоже понимать надо.
— А сестра моя так и не нашлась?
— Наташа? Нет.
Мы с Морисом молчали, потрясенные горестной историей семьи Петровых. Отец, окруженный в лесу карателями перед самым освобождением родной деревни. Мать, бродящая по лесу и тщетно окликающая пропавших дочку и сына…
— А Борис куда делся, старший брат? — спросил Павел.
— Борис? Он в партизанском отряде был вместе с отцом… Только не угодил он в этот бой, находился в тот день в другом месте. Ну, как наши пришли, партизанский отряд расформировали. А Борис говорит: «Буду, мол, мстить до конца за погибших отца-героя и безвинных братишку с сестренкой» — и ушел дальше с бойцами. Погиб он где-то под Берлином, после победы, кажись, пришла уже похоронная.
Я смотрела сквозь слезы на бледного, погруженного в невеселые мысли Павла, и сердце мое разрывалось от сочувствия и жалости. Вот обрел он родину. Мечтал о богатом наследстве, а нашел пепелище и горе.
А Федор Васильевич, глядя на него, вдруг сказал:
— Ну, вылитая мать, вылитая мать! Правда, похож? — и в какой уже раз стал снимать со стены и показывать всем старую, пожелтевшую любительскую фотографию.
На ней в каменных позах и с напряженными лицами сидели на скамейке и смотрели прямо в объектив трое мужчин в новых костюмах, женщина в белом платочке с девочкой на руках и босоногий мальчик в матроске.
— Это ты, ты, — твердил Федор Васильевич, тыча в мальчика кривым, заскорузлым пальцем. — А это Наташенька у матери на руках. Совсем маленькая еще. Аккурат перед войной снимались. Видишь, отец твой как вырядился.
— А это кто рядом с ним?
— Да я, неужели не признаешь?! Хотя, конечно… Это я рядом стою, тоже ничего еще был. А третий — тракторист один, к отцу в тот день в гости зашел. Прокопий Кузин. Вот и снялся с нами. Он тоже в партизанах был.
— Как его фамилия? — переспросил Павел, наморщив лоб.
— Кузин. Тоже в партизанах был, дружил с твоим батькой. Очень тогда горевал, что не оказался с ним в последнем бою. Он в другом месте был ранен, три дня по лесу блукал, кое-как дотащился до деревни. А тут уже все немцы пожгли, злобу свою вымещали, убегая. И его дом спалили, Кузина-то. Так что он вскорости в город подался, как рана зажила. Не знаю, где теперь — может, в Москве, может, еще где.
Павел долго рассматривал фотографию, потом резко отодвинул ее, встал и вышел из комнаты.
— Переживает, — вздохнул Федор Васильевич и покачал головой.
А Морис, сидевший на лавке рядом со мной, вдруг начал нашептывать мне на ухо стихи;
Когда мы в памяти своей
Проходим прежнюю дорогу,
В душе все чувства прежних дней
Вновь оживают понемногу,
И грусть, и радость те же в ней,
И знает ту ж она тревогу…
Перевести?
— Нет, я все поняла.
— Ты тоже делаешь большие успехи в русском языке. Нравятся?
— Да. Чьи это стихи?
— Поэта Огарева, друга Герцена.
— А ты, оказывается, прекрасно знаешь русскую литературу? — удивилась я. — Помнишь даже стихи наизусть?
— Нет, я их только сегодня прочел, — засмеялся муж. — Попалась утром на глаза книжка, стал ее листать. Правда, хорошие?
Мне стихи Огарева тоже так понравились, что я даже решила, как вы видели, поставить их эпиграфом к этому рассказу о наших поисках родины Томаса — Павла.
Мы прожили в деревне три дня. Стоило только Павлу появиться на улице, как его тут же непременно кто-нибудь зазывал к себе в гости, и опять начинались бесконечные воспоминания. Его «узнавали» все, и каждый что-нибудь «вспоминал», хотя, конечно, вряд ли кому мог особенно запомниться ничем не примечательный и обыкновенный деревенский мальчишка, бегавший босиком по улице.
— Типичные ложные воспоминания, хоть в учебник психологии каждое вставляй, — ворчал Морис.
Но несколько человек действительно вспомнили, что крыша в доме Петровых была лишь наполовину покрыта черепицей, и даже в подробностях рассказывали, как по этому поводу судачили тогда в деревне.
— Вот одна из причуд памяти, — говорил Морис. — Важное, существенное забывается, а вот такие пустяки застревают прочно. Много тут еще любопытного.
Но Федор Васильевич с ним не соглашался.
— Это не пустяки. — И говорил Павлу: — Видишь, тебя каждый тут знает. Оставайся жить у нас. Женим тебя, дом колхоз построить поможет. Ты человек самостоятельный, готовый механизатор.
— Да, я опытный механик, — подтверждал задумчиво Павел.
— Механик. Тем более! На кой тебе эта Швейцария? Нам механики во как нужны! — И, покачивая головой, вздыхал снова, глядя на Павла: — Вылитая мать, вылитая мать…
Надо было уезжать, но мы не решались торопить Павла. А он все бродил по окрестностям деревни, часами сидел на берегу речки или совсем заросшего камышами пруда и порой бормотал, потирая лоб:
— Что-то я должен вспомнить важное… Что? Вот проклятая память…
Побывали мы и там, где погиб в неравном бою отец Павла. Это оказалось недалеко от деревни, но место было глухое, со всех сторон окруженное болотами, лишь одна тропка вела через них.
Федор Васильевич сам повел нас туда через дремучий лес, часто останавливаясь и спрашивая у Павла:
— Вспоминаешь дорогу? Вот у той сухой сосны куда надо поворотить?
— Не помню, — виновато отвечал Павел.
Но вдруг при очередном вопросе неожиданно ответил:
— А здесь надо повернуть налево, вот через те кусты.
— Правильно! — обрадовался старик. — Значит, вспоминаешь.
База партизан пряталась в самой чащобе, возле маленького озерка с темной и маслянистой, как нефть, водой.
Никаких следов здесь не осталось, кроме двух неглубоких ям, где были когда-то землянки, густо заросшие кустарником. Да Морис высмотрел своими зоркими глазами и выковырял из земли позеленевшую винтовочную гильзу.
Павел долго рассматривал ее, озирался вокруг, что-то шепча про себя, потом удрученно покачал головой и устало сказал:
— Нет, не вспомню…
— И как их тут немцы выследили, до сих пор ума не приложу, — сокрушался Федор Васильевич, присев на пенек и свертывая папироску. — Ведь глухое место, надежное. Николай, твой отец, сам выбирал, а уж он-то наши леса знал.
Вернулись мы в деревню уже в сумерках, страшно усталые. Один за другим медленно поднялись по скрипучим ступенькам. Павел шел впереди — и вдруг замер на пороге. Я в недоумении заглянула через его плечо и увидела сидящую на лавке Раю, редактора нашей радиопередачи Как она здесь очутилась?
А навстречу Павлу неуверенно, как слепая, вытянув вперед руки, шла какая-то незнакомая молодая женщина…
— Павлуша! — вскрикнула она. — Братик! — и бросилась к нему на шею.
9
С первого взгляда можно было догадаться, что это в самом деле его потерявшаяся сестра Наташа! Она очень походила на Павла — такие же крутые брови, серые глаза, только все черты лица у нее были тоньше, нежнее.
Наташа тоже ничего не могла вспомнить О том, что случилось с ними после трагического боя в лесу: ведь ей было тогда всего пять лет. Она только знала, что окончание войны застало ее в детском доме под Москвой. Потом ее удочерила одна пожилая женщина и увезла к себе в город Киров. Она вырастила, воспитала ее и стала для девочки второй матерью. Наташа выросла, закончила медицинский институт. У нее уже была своя семья, подрастала дочка.
Воспоминания о детстве сохранились у нее еще более смутными и отрывочными, чем у брата. Но она знала, что ее удочерили, и пыталась разыскать родителей.
— Особенно как у меня самой дочка родилась, — рассказывала она сквозь слезы. — Тогда по-настоящему почувствовала, каково было моей маме потерять меня. Как подумаю об этом, места себе не нахожу.
Но примет ей запомнилось слишком мало. Она не знала своей фамилии. Не помнила названия деревни. И вспоминались ей только садик под окнами дома, огород, старый дуплистый тополь под окнами — очень ведь узок и ограничен был еще мирок маленькой девочки. А как найти родину по таким приметам?
— И как же в самом деле вы нашли нас? — спросил Морис. — Что вспомнили?
— Услышала передачу «Найти человека!». Последнее время постоянно их слушала, словно предчувствие какое было. Слышу имена: Николай Петров, его жена Ольга, Наташа, Павлик, старший брат Борис. Сердце у меня так и екнуло. А тут рассказали, как Борис у Павлика зуб вырывал, я так и закричала: «Это ж мои братья родные!» — Повернувшись к Павлу, она живо добавила: — Я ведь тоже запомнила, как он дернул у тебя… у вас зуб за веревочку — и сам упал. Я так перепугалась тогда.
— Разве ты была с нами тогда? Я не помню, — удивился Павел.
— А я в малине сидела, — сквозь слезы засмеялась Наташа.
Она все говорила, говорила, смеясь и плача, не сводя с брата сияющих глаз, путая «вы» и «ты». Рассказывала, как поехала в Москву, примчалась на радио, и Рая, редактор, тут же повезла ее вслед за нами в Вязовье.
— Вот мы и встретились, братик…
Федор Васильевич теперь стал ходить вокруг нее, приговаривая свое:
— Вылитая мать, ну вылитая мать…
Опять он снял со стены старую фотографию, и брат и сестра рассматривали ее, сидя рядом на лавке.
— Это вот ты. Это я стою. А это Кузин Прокопий…
— Кузин… — задумчиво повторил Павел и повернулся к Морису: — Эта фамилия мне кажется знакомой. И, по-моему, с ней связаны какие-то неприятные воспоминания. Только не могу припомнить, как ни стараюсь. Но чувствую: вспомнить это очень важно. Вы не могли бы помочь?
— Можно попробовать, — ответил Морис и спросил у Федора Васильевича: — Какого числа был тот бой, в котором погиб отец Павла?
— Было это в марте, а вот какого числа, дай бог памяти… — Федор Васильевич задумался. — Помню, аккурат Герасим-грачевник был — такой у нас праздник. Значит, семнадцатого марта. Да. Точно, семнадцатого. А через неделю уже наши пришли.
— Попробуем, хотя попасть точно вряд ли удастся…
Вечером Морис провел сеанс гипноза. Усыпив Павла, как обычно, он сказал:
— Сегодня восемнадцатое марта тысяча девятьсот сорок четвертого года. Ты понял меня? Сегодня восемнадцатое марта тысяча девятьсот сорок четвертого года. Сколько тебе лет, Павлик?
— Восемь лет… Мне восемь лет.
— Ты помнишь, что было вчера?
— Помню. — Спящий вдруг весь напрягся.
Я замерла возле магнитофона, прижав ладони к щекам.
— Что было вчера, Павлик?
— Бой был… Немцы напали на базу.
— Ты был в это время на базе? Был с Наташей?
— Да.
— Расскажи: что ты видел?
— Я принес бате записку… Он прочитал и начал писать ответ. А тут стрелять стали. Батя говорит: «Немцы!»
— А Кузин, Прокопий Кузин тоже там был, на базе?
— Нет, — ответил спящий и вдруг закричал: — Кузин предатель! Кузин предатель!
— Не кричи, — остановил его Морис. — Отвечай мне спокойно. Откуда ты знаешь, что Кузин предатель?
— Так батя сказал.
— А откуда он узнал об этом?
— Ему дядя Сережа сказал. Как начали стрелять, прибежал дядя Сережа. «Идут немцы, — сказал. — Нас окружили. Их, говорит, Кузин привел. Я сам видел. Это он, говорит, им дорогу показал». Тут батя и сказал: «Кузин предатель!»
— Успокойся, не волнуйся так. А что потом твой отец сделал?
— Стал нас домой отправлять… Написал записку и мне дал.
— Какую записку?
— Что Кузин предатель… Велел в деревню отнести, мамке отдать, чтобы все знали.
— Где эта записка? Куда ты ее дел?
— Я ее в патрон спрятал и смолой заткнул.
— А где этот патрон с запиской? Куда ты его дел?
— В дупло бросил.
— Зачем?
— Чтобы немцы не отобрали.
— Вас поймали с Наташей в лесу солдаты?
— Да… Немцы.
— И ты тогда бросил патрон с запиской в дупло?
— Да.
— Далеко это было от базы?
— Нет, недалече.
— А отец твой остался на базе?
— Да… Поцеловал меня, потом Наташку и сказал: «Бегите быстрее, а то немцы близко». А сам остался в лесу, там бой был.
Оглянувшись на меня, муж сказал:
— Надо бы его еще расспросить, но он так волнуется…
— Не мучай его.
— Ладно, задам еще один вопрос… — Он опять склонился над спящим Павлом: — А вас с Наташей немцы забрали?
— Да… В Сосновку отвезли на машине.
— Успокойся и спи спокойно. Ты проснешься здоровым, бодрым, хорошо отдохнувшим. Никакие тревожные мысли не будут мучать тебя…
Когда мы, пригласив председателя колхоза и нескольких бывших партизан, дали прослушать эту пленку, Федор Васильевич сказал Павлу:
— Кузин предатель? Прокопий Кузин? Не может этого быть. Ты на него наговариваешь.
— Да ведь Павел сам впервые слышит об этом, — сказала я старику. — Не мог он такого выдумать. Посмотрите на него: слушает самого себя и удивляется. Ведь он это во сне говорит.
— Во сне? — удивился Федор Васильевич и покачал головой. — Тем более. Мало ли что во сне пригрезится может… Надо же: Прокопий Кузин — предатель.
— А как вы считаете, профессор, не мог он все это в самом деле выдумать? — спросил у Мориса председатель колхоза, протирая очки.
— Вряд ли. Такое не выдумывают. Тем более у Павла ведь нет никаких оснований наговаривать на Кузина. Он его не знает и просто повторяет разговор взрослых, который слышал в тот день.
— Но, может, он ослышался? Чего-нибудь недопонял? — спросил один из бывших партизан. — Хотя многое совпадает, такого не выдумаешь. Дядя Сережа, которого он поминает, это не иначе как Сергей Лавушкин, разведчиком в отряде был. Он погиб в том бою, это точно.
— И в Сосновку, говорит, ребятишек немцы отвезли, — вмешался другой партизан. — Тоже правильно, не выдумывает. Там у них комендатура была, у немцев.
— Но все равно надо проверить, — покачивая головой, сказал председатель. — Ведь речь идет о делах серьезных, судьба человека затронута.
— Верно, — согласился Морис. — Поэтому во всех странах и считают, что такие заявления, сделанные под гипнозом, юридической силы не имеют. Но мы можем проверить его.
— Каким образом? — спросил председатель.
— Павел упоминает о записке, которую запрятал тогда где-то в дупле. Надо попытаться ее найти.
— Легко сказать… — покачал головой председатель.
На следующий день с утра больше десятка бывших партизан начали под руководством приехавшего из города молодого человека в штатском, но с явно военной выправкой обшаривать лес вокруг бывшей партизанской базы. Они не пропускали ни одного дупла, часто обращаясь с вопросами к Павлу.
Но он ничем не мог им помочь, потому что вспоминал о записке и о тайнике только в гипнотическом сне. Многие никак не могли этому поверить, несмотря на разъяснения Мориса, удивлялись, переглядывались, недоверчиво качали головами.
Искали с двумя коротенькими перекурами почти до самого вечера, но тщетно.
— Ничего не выйдет, — сказал председатель, устало опускаясь на ближайший пенек. — Пустое дело, все равно что иголку в сене искать.
Тогда Морис задумчиво проговорил:
— А что, если попробовать… Рискнем!
Ничего не объясняя, он попросил всех пока оставаться на месте и отдыхать, а кого-нибудь одного из партизан отвести его с Павлом снова на то место, где находилась база.
— А я?
— Пойдем и ты с нами, — кивнул мне Морис. — Будешь все записывать. Жалко, магнитофон не захватили. Ничего, достаточно будет и этого протокола, потом все подпишем.
Нас повел председатель колхоза. Когда мы пришли к двум ямам, оставшимся от прежних землянок, Морис отвел Павла в сторонку и усыпил. Теперь это происходило очень быстро: Павел слушался его с полуслова.
— Вы спите так крепко, что ничто не в состоянии внезапно разбудить вас… (Странно это звучало в лесу.) Вы слышите только то, что я вам говорю. Я теперь открою вам глаза, и вы будете продолжать спать с открытыми глазами. Я считаю до пяти. Пока я буду считать, ваши глаза начнут медленно открываться… Раз… Два…
— Открывает! — прошептал рядом со мной пораженный председатель. — Смотри, открывает!
То, что довелось им увидеть в этот день, многие наверняка запомнили на всю жизнь.
— Сегодня семнадцатое марта тысяча девятьсот сорок четвертого года. Ты находишься возле партизанской базы. Где ты находишься, Павлик?
— На базе.
— Ты узнаешь эти места? Посмотри внимательно вокруг.
Павел осмотрелся и ответил:
— Узнаю.
— Теперь найди дупло, в которое ты положил патрон с запиской. Ты помнишь к нему дорогу?
— Помню.
— Иди!
Павел бросился в лес, мы за ним. Он почти бежал, часто меняя направление, прислушиваясь и затаиваясь ненадолго в кустах.
Так мы появились на глазах ошеломленных колхозников, ожидавших нас в лесу, — впереди Павел, за ним, запыхавшись, мы.
Морис поспешно махнул рукой, чтобы все молчали и не двигались, хотя эго, конечно, не могло помешать Павлу.
Он ничего не видел и не слышал вокруг, хотя и шел с открытыми глазами. Он был далеко — за двадцать четыре года от нас! — в тревожном партизанском лесу…
Все зачарованно не сводили с него глаз.
— Немцы! — вдруг вскрикнул Павел и бросился в кусты.
Сейчас он должен прятать патрон с запиской… Но Павлик как-то странно замешкался. Он озирался по сторонам, но не подходил ни к одному дереву. Забыл?! «Вспомни! Вспомни!» — едва не крикнула я.
— Ага, вот в чем дело, — пробормотал Морис и, подойдя к Павлу, резко сказал: — Найди дерево, где ты прятал патрон с запиской. Отец приказал тебе отнести ее в деревню, чтобы люди знали о Кузине. Найди записку и отнеси в деревню!
Мы притаили дыхание.
Павел напролом, через кусты, бросился к старой березе и засунул руку в дупло. Он шарил в нем, стараясь дотянуться…
— Ничего там нет, я смотрел, — не выдержал кто-то из партизан.
На него зашикали.
Павел вытащил руку из дупла, что-то крепко зажав в кулаке…
— Дай мне патрон с запиской! — сказал Морис, протягивая руку.
Павел попятился, пряча кулак за спину.
— Отдай мне записку! Я твой друг, ты же знаешь.
— Я должен отдать ее маме… Так батя велел.
Что делать? Не отнимать же у него записку силой?!
Я уже подумала, что Морис решился на это, и вскрикнула, когда он шагнул к Павлу…
Но Морис только сказал:
— Теперь я тебя разбужу. Я буду считать до трех. Я буду называть цифры, а ты станешь просыпаться. Когда я скажу «три», ты проснешься окончательно. Раз… Два… Три!
Павел медленно разжал кулак и с недоумением уставился на позеленевшую от времени винтовочную гильзу, лежавшую у него на ладони…
Он поднял голову, посмотрел на нас — и все понял. Поспешно начал неповинующимися пальцами выковыривать из гильзы застывшую смолу. Все обступили его, кто-то подал нож…
Павел расковырял смолу и осторожно вытряхнул на ладонь из патрона комочек бумаги. Он медленно развернул его и разгладил, прочитал и молча подал Морису. Я заглядывала через плечо мужа.
На мятом листке бумаги неровные, торопливые строчки. Местами буквы расплылись от попавшей в патрон воды. Но все равно можно было прочесть:
«Мы окружены. Прокопий Кузин — предатель, показал тропу немцам, знайте об этом! Нас осталось семеро, боеприпасов мало, всего три десятка гранат. Если свидеться не удастся, помните: мы погибли за нашу Советскую Родину!»
10
Вот и закончились поиски. Мы вернулись домой, в Монтре, и опять начались спокойные будни. Морис снова увлечен своими исследованиями и целыми днями пропадает в лаборатории.
Павел вернулся на опостылевшую бензоколонку, моет и заправляет чужие машины.
Как плакала Наташа, не желая отпускать только что обретенного брата! Все уговаривали Павла остаться в родной деревне. Но он решил вернуться с нами в Швейцарию. Видно, нелегко в таком возрасте менять привычный образ жизни.
Зачем мы искали ему родину? Не знаю.
Конечно, для науки все это любопытно. Морис вечерами пишет большую статью в научный журнал.
Небесполезны оказались и сведения, которые удалось получить о загадочной школе в старом саду под Ахтополем.
Раковский писал, что им удалось разыскать еще двух ее бывших воспитанников. Их опознали по такой же татуировке, как у Томаса-Павла. Теперь ведутся поиски родителей, с которыми их в детстве так злодейски разлучили фашисты.
Через московских друзей Мориса узнали мы и об аресте Кузина. Он признался в предательстве. Оказывается, за два дня до боя в лесу он, раненный в руку, попал к немцам в плен. Его били, пытали, пригрозили расстрелом. Воевал он, кажется, честно. Но так же честно умереть перед самой победой у него не нашлось сил. Он не выдержал, показал тропу к партизанской базе. Во время перестрелки ему удалось бежать. Три дня скрывался он в лесу, не решаясь выйти к людям. Потом повстречал знакомого, узнал из разговора, что все, окруженные на базе, погибли в бою.
Кузин решил, что о его предательстве никто теперь не узнает. Он пришел в деревню, и его в самом деле чествовали как храброго партизана. Но все-таки он предпочел уехать подальше. Арестовали его где-то в Сибири, и он сразу во всем признался.
— Только подумать, как он жил двадцать пять лет, каждый день опасаясь разоблачения… — сказала я мужу. — Даже представить страшно.
— Я не интересуюсь переживаниями предателей и подлецов, — холодно ответил Морис.
Итак, возмездие все-таки настигло предателя, хотя и через четверть века. Но те, кто отнимал детей у родителей, мучал их, калечил им души, еще разъезжают по дорогам Европы.
Эхо войны не умолкает. Еще взрываются старые мины, тревожные сны не дают людям покоя, й давно уже ставшие взрослыми дети все ищут своих матерей и отцов.
Об этом нельзя забывать! Как сказал (устами Ганса Всепомнящего) один мудрый философ: «Те, кто забывает прошлое, осуждены пережить его вновь…»
Стал ли счастливее Павел — вот что мучает меня.
И вдруг он пришел к нам однажды вечером без предупреждения и сказал:
— Я больше не могу. Я уезжаю в Россию. Там моя родина, и я не могу… Наташа пишет жалобные письма, зовет. И дядя Федя зовет, — добавил он по-русски.
— Вам давно надо было сделать это! — радостно воскликнула я.
— Да. Конечно. Вот я и еду. Там моя родина, там! И там моя сестра, она одна у меня. Там все живут спокойно, не тревожась о завтрашнем дне. Там легко дышится, понимаете? Свободно! — Разволновавшийся Павел пытался пояснить свои слова, размахивая руками.
Но мы и так прекрасно понимали его.
[1] Йодли — песни горцев Швейцарии и Австрии, исполняемые в особой манере — с переливами.
(обратно)[2] Оккультизм — антинаучное мистическое учение о «таинственных силах природы» и «непостижимых свойствах» вещей, доступных якобы познанию только «избранных», необычных натур.
(обратно)[3] Несколько нарушая «литературный этикет», считаю необходимым подчеркнуть: все приведенные здесь имена, факты, цитаты подлинные. Они взяты из различных современных зарубежных газет. — Автор.
(обратно)

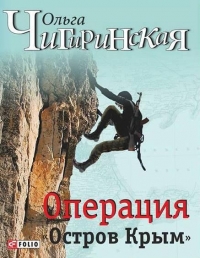


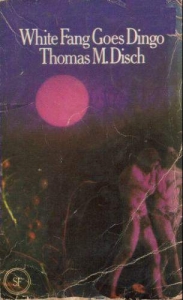



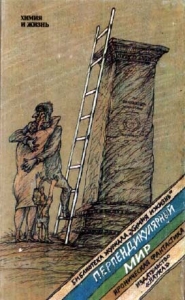

Комментарии к книге «Голос в ночи. «Вспомни!»», Глеб Николаевич Голубев
Всего 0 комментариев