Башня птиц
Да, человек есть башня птиц, Зверей вместилище лохматых. В его лице мильоны лиц, Четвероногих и крылатых. И много в нем живет зверей, И много рыб со дна морей. В. Заболоцкий1
Этим летом на большом протяжении горела тайга, и все десантные бригады были стянуты к очагу, но все равно, несмотря на усилия и жертвы, огонь медленно расползался вслед за ветром, и только реки не пропускали его, сдерживали неумолимое продвижение, опрокидывая в себя раскаленную лавину. Все, что могло двигаться в тайге, все, кто имел ноги и крылья, уходили от огня, и только деревья и травы, сроднившиеся с землей, умирали молча, да и то старались посылать свои семена по ветру, на лапках птиц, в шерсти животных — подальше от огня и гибели.
Гремели взрывы в тайге, надрывно ревели бульдозеры, в дыму и чаду без отдыха работали люди. И Егор был одним из тех, кто по целым неделям не выходил из тайги, валил лес, пускал встречные палы, закладывал аммонал и сил своих не жалел. Он не раскаивался, что выбрал эту профессию, он чувствовал себя солдатом тяжелой и беспощадной войны. Он защищал тайгу, ее неподвижные деревья, бегающих, ползающих и летающих жителей ее и ролью своей гордился. За это время он научился многому, и все беды его недавнего городского бытия — развод, уход из института, бездомность и неприкаянность — казались здесь мелкими и ненастоящими. Перед огромными пространствами гибнущего леса, перед пеклом верхового пожара, кипящими реками, обугленными трупами зверей и черными километрами мертвой тайги все прошлое со своими горестями и страданиями казалось придуманным кем–то и болью в душе его не отдавалось.
В то утро он отделился от бригады и, следуя заранее намеченному плану, пошел на восток, в обход длинного огненного клина, чтобы наметить границу, дальше которой пожар пройти не должен. Он шел налегке, и только топор в чехле, нож в ножнах, коробок спичек да компас на ремешке были при нем.
Утро было безветренное, это обещало медленное продвижение пожара, в основном низового, а значит не слишком страшного и более удобного для укрощения. Продвигаясь по сырому склону, проклиная густые заросли, Егор вдруг ощутил, что приближается пожар. Это не совпадало с первоначальными планами, но запах гари, низкий, еще редкий дым и еле слышный треск горящих деревьев говорили ясно — огонь близко. Егор остановился, долго и чутко прислушивался и понял, что пожар движется к нему и надо бежать, пока не поздно. Впереди, с шумом, не разбирая дороги, выскочили в ложбину запаренные лоси; увидев Егора, они круто развернулись и, ломая кустарник, исчезли в чаще. И уже невидимые ему, бежали от пожара звери помельче, громко кричали птицы, колыхались кусты, трещал валежник под множеством ног.
Не дойдя до конца лога, Егор стал поспешно подниматься на крутой склон сопки, рассчитав, что огонь, преодолев последний барьер, будет медленней скатываться вниз, сдержанный восходящим потоком воздуха. Сырые травы скользили под ногами, густой подлесок мешал подъему; задыхаясь, Егор забрался на вершину сопки и отсюда увидел, что огонь совсем рядом — на вершине соседнего холма, и это означало, что времени для спасения осталось совсем немного, от силы минут пятнадцать. Треск сучьев, стволов, ломаемых и калечимых огнем, становился все громче и громче. Он подгонял Егора. Чуть ли не скатываясь вниз по противоположному склону, где–то посередине, он вдруг услышал песню.
Кто–то шел внизу и спокойно пел на непонятном языке, а песне вторил неразборчивый хор, словно бы это плакальщицы шли за гробом и причитали, подвывали жалобно, каждая на свой лад. И Егор подумал, что это, быть может, местные жители идут по логу, и, если они так спокойны перед лицом огня, значит, опасность не столь уж и велика. Егор уже мог разобрать отдельные слова, но все равно не понимал их, а между ритмическими повторами песни он услышал короткое щелканье бича. После каждого щелчка причитанье хора усиливалось, и Егор никак не мог отвязаться от ощущения, что где–то уже слышал нечто похожее. Этот длинный, не разделенный на слова вой был знаком ему. По высокой траве он скатился вниз и увидел то, что поразило его и заставило остановиться.
По узкой тропке неторопливо шагал невысокий старик с коротким кнутом в руке, а позади, растянувшись гуськом, шли волки. Штук десять или двенадцать, разных возрастов, но одинаково понурые, они семенили, поджав хвосты и подвывая на разные голоса в такт щелканью кнута. Старик и пел эту непонятную песню, и Егор, замерев на склоне, не нашел ничего другого, как закричать:
— Эй, пастух! Ты что, волков за собой не видишь? Сматывайся, пока цел!
Старик повернулся к Егору, скользнул по нему равнодушным взглядом и, не прекращая своего шествия, отвернулся. Волки даже не посмотрели в сторону Егора. На короткий миг Егор увидел лицо старика и по желтым морщинистым щекам догадался, что это, наверное, эвенк.
Ветер дохнул близким жаром, и Егор, махнув рукой на странную процессию, бегом пересек лог, в метре от последнего волка, и так же бегом, не сбавляя скорости, побежал по низине в противоположную сторону. Он понял, что пожар перешел в верховой, и скорость его продвижения превышала любую мыслимую скорость, на которую способен человек. Стало ощутимо жарко, рев огня нарастал, и Егор увидел, как гребень желтого палящего пламени медленно переваливает через сопку и душной тяжелой волной начинает скатываться вниз. В отчаянии и безнадежности Егор заметался по логу, задыхаясь от дыма, почти ничего не видя из–за копоти и гари, наполнившей низину, и вдруг услышал женский голос. Кто–то там, в дыму, звал его, спокойно и ласково:
— Егор, ступай за мной, ступай. Да не сюда, дурачок, не сюда. Вот заполошный–то!
И женщина засмеялась. Голос ее был негромок, но отчего–то не заглушался ничем, словно бы она стояла за спиной и говорила прямо в уши. Егор оглянулся на голос и увидел неширокую полосу, идущую от него в глубь горящей тайги. И эта полоса была не затронута огнем, словно бы ее отгородили невидимой стеной. По обе стороны бушевал огонь, а в ней росли деревья, и роса на травах, и паутинка не колышется на ветру. И он ступил в нее, ощутив прохладу летнего утра, и побежал, чувствуя, как стена огня смыкается за его спиной и горящие ветки опаляют следы. Впереди что–то мелькнуло, вот из–за сосны выглянула чья–то голова, вот обнаженная рука махнула ему из–за куста смородины, вот тихий звенящий смех послышался за плечом. Егор боялся остановиться, огонь подгонял его, и некогда было задуматься или окликнуть того, кто шел впереди.
Страх исказил чувство времени, и, пока вокруг стоял треск, падали деревья и ломались сучья, казалось, что длится это несколько часов, и Егор, давясь воздухом, бежал и бежал, пока не отдалился шум пожара и по краям полосы не появились обугленные, но уже не горящие деревья. Он замедлил бег, перешел на шаг, а потом и вовсе остановился. И спасительная полоса уперлась в огромный ствол кедра, а там, за ним, начиналась выжженная зона. Егор обернулся. Позади, насколько хватало взгляда, стояла дымная, черная тайга, и языки огня проскальзывали меж деревьев. Егор сел на узкий пятачок зеленой травы под кедром, привалился к нему спиной и вытер пот со лба. Что–то зашуршало, посыпалась хвоя, зеленая шишка, подпрыгивая, покатилась по траве и зарылась в пепел. Кто–то засмеялся над головой.
— Кто ты? — спросил Егор, задрав голову.
Тихий смех перешел в цоканье белки и через минуту — в крик сойки. И тут Егор увидел, как кедр изменяется на глазах. Зеленая хвоя превращается в серый пепел и осыпается, ветви скрючиваются, чернеют и сам ствол обугливается, без огня, становясь похожим на окружающие деревья. Хохот филина послышался сверху, мягко прошелестели невидимые крылья, и тихий ласковый голос донесся уже издалека:
— Ступай, Егор, ступай. Путь долог, жизнь коротка. Иди к реке.
К исходу суток он наконец–то добрел до боковой границы огненного клина. Она была отграничена неширокой рекой, а на том берегу было зелено и тихо, и странно было смотреть на живую тайгу после всего увиденного. Он упал в воду, настоянную на муравьях и мяте, долго и жадно пил, потом тщательно вымылся и даже выполоскал рубаху. Лежал на зеленом берегу и смотрел на тот, другой, обугленный, как на пейзаж иной планеты. Искореженная, изуродованная тайга, черный и серый цвет до горизонта.
Стекло компаса разбилось, и стрелка выпала. Егор выбросил никчемную коробочку, определил направление по лишайнику и пошел на север. Заблудиться он не боялся, где–то рядом были деревни и непременно — люди.
Он тщетно искал хоть какую–нибудь тропку, проторенную человеком, но кругом были только высокие травы, названий которых он не знал, кустарники, деревья, мхи и лишайники. Ноги проваливались в невидимые ямы, наполненные водой, докучал гнус и — самое главное — пришел голод. Егор шел и шел на север, припоминая, что на карте в этом направлении должны быть река и село на берегу. Отдирая полосы сосновой коры, он жевал сладковатую мякоть, ел мясистые стебли борщевика, выкапывал клубни саранок. Уже редкие в тайге, они были мучнисты и безвкусны. Но голода это не утоляло, нарастала слабость, усталость не проходила после коротких привалов.
И пришла первая ночь одиночества.
Он развел костер, потратив шесть драгоценных спичек. Оставалось еще десять. Разорванная и прожженная одежда не грела, он лег поближе к костру, огонь обжигал лицо, а спина все равно мерзла. Тогда он нарубил пихтача, накрылся им сверху и подстелил снизу, и следил только, чтобы лапник не загорелся.
Мысли были невеселыми, но все же он надеялся на лучшее и даже представить себе не мог, что никогда не выйдет из тайги. Он задремал и в снах своих увидел город, от которого отвык, но по которому скучал особенно сильно именно сейчас. Во сне он шел по асфальтовой дороге, и стерильный ветер ровно дул в лицо. По краям дороги росли никелированные деревья с алюминиевыми листьями, как вешалки с номерками. И кто–то шел ему навстречу, не то зверь, не то человек, и кто–то кричал или пел вдали.
Во сне он радовался тому, что слышит живой человеческий голос, и одновременно боялся его, как будто он мог причинить беду.
И проснулся он от ощущения близкой беды, сдавившей горло. Костер погасал, Егор встал, подбросил валежник и тут в самом деле услышал человеческий голос.
2
Егор медленно отодвинулся от костра, задержал дыхание. Кто–то кричал вдалеке. Звонкий голос, по–видимому девичий и, кажется, даже веселый. Слов не разобрать, только долгие гласные: а–а, у–у, о–о! Как будто поет. Егор определил направление ветра, встал и закричал сам. Сопки поглощали эхо, звуки голоса быстро погасали. Но ему показалось, что невидимая девушка отвечает на более высокой ноте и чуть–чуть погромче. Тогда он загасил костер и зашагал в темноте в ту сторону. То и дело подавал голос и с радостью убеждался, что его слышат и отвечают, по–прежнему непонятно, но все же человеческим голосом. Пришлось идти напрямик, переваливать через высокую сопку, в полной темноте это оказалось тяжким испытанием. Несколько раз он срывался с крутого склона, падал, катился по росистой траве, ругался в полный голос, чтобы разозлить себя, подстегнуть, а когда добрался до вершины, то понял, что голос, звавший его, пропал. Он кричал громко, на все четыре стороны, долго прислушивался, но никто не отвечал. Тогда он сел, изможденный, хотел сплюнуть с досады, но рот пересох. Сидел так, слушал тайгу, она говорила на языках ползучих и летающих тварей, и ни одно слово не походило на человечий язык.
Он снова решил развести костер и поспать хоть немного, но опять услышал давешний голос, и настолько близко, что даже испугался. На этот раз можно было разобрать слова, вернее — одно слово. Неведомая девушка кричала: «Его–о–р!» Она звала его по имени, и голос был ласковый, юный, взволнованный. «Егор! — кричала она. — Иди сюда!» И он не выдержал. Как ни было абсурдным все происходящее, но он был слишком голоден, измучен, чтобы не поддаться на звавший ласковый голос. В низком сыром логу остановился, прислушался, закричал что есть силы, сложив руки рупором: «Э–э–эй! Отзовись!»
Он услышал плеск реки. На ощупь добрался до низкого берега, вымыл лицо, напился, покричал еще.
— Егорушка, — тихо позвал его голос за спиной.
Он резко обернулся, не устоял на ногах, упал. В темноте послышался смех, холодный, приглушенный, словно рот прикрывали ладошкой.
— Ну, чего смеешься? — спросил Егор в темноту. — Кто ты? Это ты меня из огня вызволила? Почему прячешься?
— Его–о–рушка! — протянул томный голос и рассмеялся. — Я здесь. Иди ко мне. Иди.
Голос перешел в шепот, призывный, чуть ли не страстный.
— Смеешься? — устало спросил Егор. — Смейся. Я подожду.
Он сел на сырую валежину, не боясь промочить брюки. И без того вся одежда была насквозь мокрой. Нечистой силы он не боялся, а людей тем более.
— Что же ты сидишь? — зашептала девушка над самым ухом.
Он ощутил ее дыхание на шее, почему–то холодное, словно порыв речного ветра. Не поворачиваясь, резко вытянул руку. Что–то мягкое и холодное скользнуло по кончикам пальцев.
— Ну же, ну, я жду, иди сюда, — шепнула девушка, коротко хихикнув.
Безлунная ночь, сырость, плеск реки и невидимая девушка напоминали что–то виденное или читанное, но страха не было. Девушка и все тут. Разве можно бояться девушек? И все же оставалось чувство близкой опасности, поэтому он предпочел ждать и повернулся лицом к возможной угрозе. Увидел что–то белесое, словно размытый ветром туман, мелькнувший и пропавший тотчас во тьме.
— Что же ты убегаешь? — спросил с вызовом Егор, сжав топорище. — Я к тебе, а ты от меня. Иди поближе, познакомимся.
И тут же что–то толкнуло его в грудь. Егор не удержался и упал на спину, больно ударившись о камни. Топор выпал из рук, но, удержанный ремнем, остался на поясе.
— Егорушка, — шептала девушка в ухо. — Егорушка, ласковый, касатик ты мой ненаглядный…
Холодная чужая рука скользнула по лицу.
— А ну, брысь отсюда! — закричал Егор, вскакивая. — Кто бы ты ни была, убирайся–ка отсюда подобру–поздорову!
Чиркнул спичкой. Слабый огонек осветил прибрежные камни, воду, клочья травы. Больше ничего. Тогда он решил отойти от берега и развести костер. Пока он брел в темноте, невидимая девушка кружилась вокруг, то и дело касаясь руками, каждый раз в новом месте, и Егор отмахивался от нее, как от неуловимой мухи.
На ощупь собрал веток, надрал бересты. Огонь ярко вспыхнул, обнажил светлый круг камней. Егор сел поближе к костру, не расслабляясь и ожидая подвоха. И не зря. Костер громко зашипел, взметнулось вверх пламя, и тотчас же горящие искры разлетелись во все стороны, погасая в сырой траве. Егор едва успел откатиться в сторону.
И услышал смех. Громкий, звонкий, самозабвенный. Сперва ему показалось, что девушка справа, и повернулся туда, но смех быстро переместился влево, а потом назад, а потом даже послышался сверху. Ни шума шагов, ни шелеста крыльев. Егор разозлился.
— Эй, ты, нечисть ночная! — закричал он. — Вот только попадись мне, вот только подойди ко мне.
— Проказник, — громким шепотом сказала девушка, и тут же ледяная обжигающая тяжесть навалилась на спину Егора, крепкие руки обхватили его, плотно прижав к себе. — Баловник ты мой, люб ты мне, ох как люб, идем ко мне, ну, идем…
Егор всегда считал себя сильным, но, как ни вырывался, объятия становились все сильнее и крепче. Тогда он резко наклонился вперед и что есть силы лягнул сапогом. Нога попала в мягкое, податливое, как пластилин. Задыхаясь и коченея от холода, Егор упал на бок и освободился от захвата. Быстро перевернулся на спину, согнул колени, напружинив ноги, а руки с зажатым ножом изготовил так, чтобы отразить возможное нападение. В почти абсолютной темноте драться было тяжело, тем более с противником, превосходящим его по силе, хитрости и — самое главное — с невидимым и незнакомым. Недруг его, казалось, не устал, голос был таким же ровным и томным:
— Ну, как же так, Егорушка? Почему ласки мои отвергаешь? Разве я не люба тебе? Ну, обними меня, приголубь, холодно мне, ох, как холодно.
Рука скользнула по лицу, и он едва успел ударить по ней, но тотчас же с треском разорвался ворот рубахи, и он на мгновение ощутил прикосновение льда под мышкой.
— Ах ты, подлая! — сказал сквозь зубы Егор и стал яростно размахивать ножом, описывая круги на уровне груди.
Но это не помогло. Ледяные руки касались его то тут, то там, и один раз он ощутил прикосновение твердых губ на щеке — словно жидким азотом капнули. Девушка смеялась, беззлобно, звонко, но в этом смехе звучала такая уверенность, что Егору наконец–то стало страшно. Ведь она только играет со мной, подумал он, пока лишь играет, а я, взрослый мужик, не могу справиться с ней. А что же будет, когда она и в самом деле проявит себя во всей своей силе?..
— Что тебе надо? — прохрипел он, задыхаясь от усталости. — Что я тебе сделал? Зачем ты меня мучаешь?
— Не отвергай меня, — сказала девушка. — Обними.
— Утром, — ответил Егор, — вот рассветет, и обниму.
— Нет, только ночью.
— Я устал. К чертям собачьим такие объятья, от которых мороз по коже. Дай развести костер, и я соглашусь.
— Нет, милый, нет.
И что–то холодное, тяжелое, словно глыба льда, навалилось на Егора, придавило к земле, и напрасно он пытался освободиться. Собственное бессилие бесило пуще всего, он обхватил руками то, что навалилось на него, и ощутил женское тело, холодное и влажное. Струи воды полились на лицо, от них исходил запах рыбы и водорослей. Преодолевая отвращение, захлебываясь, он размахнулся и с силой ударил ножом в это тело. Нож легко, как в воду, вошел в спину и звякнул по пряжке ремня. Тогда он отбросил его, схватил эту спину руками и стал мять ее, ледяную, аморфную, тягучую, липкую, пытаясь оторвать от себя, хотя бы по частям.
— Крепче, милый, крепче, — шептала девушка, — ах, как тепло, родимый.
Струи переохлажденной воды хлестали по лицу, словно волосы девушки. Егор уже не обращал внимания на ее поцелуи, морозившие кожу, он мял ее спину, бока, сминавшиеся под руками, превращающиеся в холодные, скользкие бугры, но так и не мог избавиться от тяжести. И тут он заметил, что тело ее стало теплее, а сам он замерз и усталые руки закоченели.
— Ты убьешь меня, — сказал он, — зачем тебе это?
— Согрей меня, и я уйду, — прошептала она и поцеловала в губы. Поцелуй показался теплее, чем прежде.
Егор захлебывался, задыхался, руки онемели, а тело потеряло чувствительность. И казалось ему, что лежит он на дне реки, и многометровая толща давит на него, вымывает тепло, растворяет тело, уносит по течению, уничтожая его целостность и неделимость. И он приготовился к смерти и выругался отчаянно, но гортань издала только короткое бульканье.
И тут заиграл рожок за рекой. И Егор увидел, что ночь светлеет и мало–помалу перетекает в утро.
И еще он увидел лицо девушки, прильнувшее к его лицу. Оно было красивым, но словно бы слепленным из густого тумана, белое, оно высвечивалось в темноте фосфоресцирующим пятном, и прозрачные глаза смотрели на него бездумно и спокойно. Он боднул лбом это лицо и вцепился зубами — последним оружием обреченных, в левую щеку. Теплая плоть свободно пропустила зубы, и они сомкнулись, коротко клацнув.
И снова заиграл рожок, громче и напевнее. Уже можно было различить силуэты деревьев на фоне неба, и реку, и камни на берегу. Егор расслабился, силы иссякли, он чувствовал только зимний холод, проникший внутрь и морозящий дыхание.
Девушка стала легче, лицо ее прояснилось, руки в последний раз прошлись по его груди, и он ощутил облегчение. Она выпрямилась, и он увидел ее всю. Еще нечеткие контуры тела были красивыми и стройными, длинные текучие волосы стекали струями под ноги, взгляд был равнодушен и глубок. Егор попытался встать, но тело не подчинилось ему. Холод проник внутрь и не уходил. Казалось, что он невесом и тела его не существует.
— Ты согрел меня, — сказала девушка, — ты растворился во мне. Теперь ты мой, ты наш.
Она отдалялась от него, ступала неслышно в сторону реки, и он увидел, как смутные волны покрыли ее ноги, и только всплеск реки сообщил об ее уходе.
Потом он потерял сознание или просто заснул, но когда очнулся, то уже был день и мутное солнце стояло в зените. Он полежал на спине, отогреваясь, вспоминая о событиях ночи как об ушедшем, но все еще близком кошмаре. Он поднял руку и провел по лицу. Рука оказалась чужой, сухой и морщинистой. Егор испугался, хотел вскочить, но тело не послушалось. Рука скользнула ниже и, отделившись от тела, ушла в сторону. Егор проследил ее растерянным взглядом. Это и в самом деле была не его рука, а того самого эвенка, что пас волков. Желтолицый, словно высохший, с двумя жидкими косичками, он смотрел на Егора равнодушным взглядом, поджав сухие губы.
— А, волчий пастух, — сказал Егор тихо. — Воды дай, пить хочется.
Эвенк отошел, сел поодаль и стал чинить кнут.
— Ты по–русски понимаешь? — спросил Егор. — Воды дай, слышишь, воды!
Показал губами, как пьют воду, пощелкал языком, скосил глаза в сторону реки.
— Лежи, — сказал эвенк тонким гнусавым голосом, — помрешь скоро, однако. Мавка из тебя все тепло взяла, так помрешь.
— Вот и дай напиться перед смертью.
— Не дам, однако.
— Трудно тебе, что ли? Река ведь близко.
— Глаза есть. Вижу. Все равно помрешь.
— Что я тебе сделал, старик?
— Ничего не сделал. Мертвец что сделает?
— А ты не хорони меня заживо! — зло сказал Егор.
Эвенк бесстрастно доплел косицу кнута, легко поднялся и ушел. Издали донеслись его песня и разноголосица волчьего воя.
Злость придала Егору силы, он перевернулся на бок и докатился до близкого берега. Окунул лицо в воду, напился, медленно разминая затекшее тело, подставляя его под солнечные лучи, иззябшее, выстуженное изнутри. Сильно хотелось есть, и когда он смог встать, то первым делом добрел до близких зарослей борщевика и, нарвав сочные, водянистые стебли, стал жадно жевать.
Полежал на животе, сняв рубашку, впитывая тепло кожей, проследил взглядом солнце, катившееся к закату, и решил, что так или иначе, но надо жить, надо идти дальше, надо искать людей. Плеснула рыба, он настороженно обернулся и увидел, что большой таймень выбросился на берег и бьется о гальку. Егор вскочил, знал, что все равно упадет от слабости, но рассчитал свое падение так, чтобы прижать рыбу животом.
— Отдариваешься? — спросил Егор реку. — Ну, ладно, черт с тобой, мы еще поквитаемся, красотка. Я вернусь сюда. Если выживу, конечно.
Пересчитал спички — осталось восемь. И мнилось ему, что с каждой убывающей спичкой уходят от него жизнь, тепло, надежда на спасение. От сырости головки отсырели и слиплись. Он нежно разделил их, положил на теплые камни, грел в ладонях, дышал на них, терпеливо ждал.
Тайменя съел сырым.
Взошел на пригорок, осмотрелся, искал дым пожара. Но тайга от горизонта до горизонта вздымалась сопками, зелеными, густо поросшими, нетронутыми человеком. Тщательно обулся, сложил подсохшие спички в коробок, а нож подвесил так, чтобы удобно было быстро выхватить его. Следя за краснеющим солнцем, навалил окатыши в пирамидку, чтобы запомнить место.
— Эй, Мавка! — прокричал он на прощанье реке. — Выгляни, красотка, попрощаемся!
Река несла свои воды, звенела на перекатах и не отзывалась. Только вдали, за сопками, рожок проиграл печальную мелодию и оборвался на высокой ноте.
На следующий день Егор понял, что окончательно заблудился. Он не слишком–то надеялся на то, что будут искать его, но все–таки насторожился, когда утром услышал далекий стрекот вертолета. Шум моторов отдалился, исчез и больше не появлялся. По–видимому, Егор ушел слишком далеко от места пожара, и в этих местах его уже не искали, не думали, что он сможет преодолеть такое расстояние. И сам он никак не мог понять, почему за ту ночь, когда он бежал по тайге на зов невидимой девушки, он ушел так далеко, что казалось невозможным пройти за несколько часов добрую сотню километров.
Пробираясь по непролазному бурелому, он вспомнил свое спасение от огня и смертельные объятия Мавки, но разумных объяснений не находил, а поверить в невероятное не мог. Он знал, что в горах бродит неведомый снежный человек, что в далеком озере Лох–Несс живет чудовище, а над землей кружатся летающие тарелки, и в общем–то верил всему этому, происходящему далеко от него, но в древние языческие сказки о русалках поверить не умел.
Он твердо был убежден, что среди слепой, поглощенной в себя природы именно он, Егор — человек разумный, и есть хозяин всего сущего на земле, пусть побежденный и раздавленный, но все равно хозяин, и делиться ни с кем, даже в мыслях своих, не хотел.
Река, не обремененная названием, текла среди безымянного леса, аукались лошаки в чаще, русалки в омутах хмелели от рыбьего жира, водяной ковырял в зубах ржавой острогой, неведомые звери рвали когтями кору на красных деревьях, баба–яга ворочалась в тесном гробу, расшатывая осиновый кол, вбитый в брюхо, оборотни прыгали через пень с воткнутым в него ножом и превращались в волков, бука хлопал совиными глазами из дупла, кикиморы сидели на корточках у тропы и ждали прохожих, древний славянский Белбог, с лицом, красным от раздавленных комаров, давился медвежатиной, одинокий обыкновенный человек рубил сосны, и щепки ложились поодаль умирающих деревьев. Волки прислушивались к далекому железному звону и прижимали уши. Они не любили человека.
3
Все же, несмотря на свой страх перед рекой, он опасался уйти от нее далеко. Следовать поворотам реки и шагать вслед за течением все же легче, чем на свой страх и риск пробираться через чащи. И Егор решил связать плот и заставить реку нести себя. Он выбрал место над обрывом, чтобы срубленные деревья не пришлось катить далеко, наточил топор и, выбрав подходящие сосны, принялся за работу. Голод и усталость сказывались быстро, часто приходилось садиться или прямо ложиться на землю, чтобы дать отдохнуть онемевшим рукам и отдышаться. Обостренный за эти дни слух уловил чьи–то шаги. Мягкие, осторожные. Егор половчее ухватил топор и прижался спиной к сосне. Шаги стихли, и вдруг позади он услышал пощелкиванье и цоканье, словно бы беличье. Егор резко обернулся и увидел, что знакомый эвенк сидит на пригорке, поджав короткие ноги, и неодобрительно смотрит на надрубленные деревья.
— Привет, — сказал Егор, поигрывая топором. — Что, ошибся? Видишь, живой я. А где же твои волки, пастух?
— Зачем деревья убиваешь? — спросил эвенк.
— А тебе какое дело? Надо — и рублю. Кто ты такой?
— Дейба–нгуо я, — ответил эвенк. — Почему не узнал? Меня все знают. Почему не боишься? Меня все боятся.
— Плевал я на тебя, — сказал Егор и, отвернувшись, рубанул по сосне.
— Ой–ой! — закричал эвенк. — Больно! Почему больно делаешь?
— Когда по тебе рубану, тогда и кричи. Видишь, дерево рублю.
И Егор еще раз ударил топором по неподатливой древесине. Щепка отлетела за спину.
— Ой–ой, — снова закричал эвенк и сморщился, как от сильной боли. Мой лес убиваешь, однако. Что он тебе сделал?
— А то, что я жить хочу. Ясно?
— Живи, однако, — посоветовал эвенк. — Раз не помер, так и живи. Жить хорошо.
— Спасибо, я и сам знаю, что жить хорошо, — сказал Егор. — В дурацких советах не нуждаюсь.
— Ай, какой плохой мужик! — укорил эвенк. — Все хотят жить. Ты лес рубишь — меня убиваешь.
— А ты меня пожалел? Ты мне воды пожалел. Плевал я на тебя теперь с высокого дерева. Ясно?
— А что тебя жалеть? Ты — человек, вас вон как много, а я один. Сирота я, Дейба.
И эвенк показал руками, как много людей и как одинок он сам.
— Одним человеком больше, одним меньше, — сказал он, — ничего не изменится. Друг друга вы убиваете. А я один, сирота я. Лес жгете — больно мне, дерево рубите — больно мне, зверя убиваете — ой, как больно мне!
— Что с тобой говорить, — сказал Егор. — Это в твоем лесу друг друга все убивают, тем и живут. Что на людей все валишь? Сам–то кто?
— Дейба–нгуо, Сирота–бог я, сказал ведь.
— А хоть бы и бог, что с того? Вот и паси своих волков, коль нравится, а мне не мешай.
И Егор углубил заруб.
— Моу–нямы, Земля–мать, всех родила, душа у всех одна, — сказал Дейба, — вас, людей, Сырада–нямы, Подземного льда мать, родила, душа у вас холодная. Не жалко вам ничего. Лес большой, душа у него одна. Тело режешь — душе больно. Тело убиваешь — душа умирает. Глупый ты.
— На дураков не обижаются, — сказал Егор, замахиваясь топором, — и сказки мне свои не рассказывай.
— Мало тебя Мавка мучила? — спросил Дейба. — Жалко, совсем не замучила, Лицедей не дал. Кабы он на дудке не заиграл, так и помер бы ты.
— Ступай своей дорогой, пастух Дейба, — сказал Егор, опуская топор. Не мешай дело делать.
— Лес мой, — настаивал тот, — тело губишь — душе больно.
— Какая ты душа, — огрызнулся Егор. — В тебе самом душа еле держится.
— Люди довели, — пожаловался Дейба. — Лес жгут, зверей убивают, реку травят. Больно мне.
— А мне что за печаль? — сказал Егор и рубанул по сосне.
— Плохой ты, — сказал Дейба, морщась, — я тебя сосну лечить заставлю, волкам потом отдам. Волки мужиков не любят, шибко злы на мужиков.
— Ну–ну, — сказал Егор, делая свое дело.
— Лечи, однако, дерево, рубаху разорви и лечи.
— Аптечки не захватил, — сказал Егор и услышал гуденье пчелы над ухом.
Он отмахнулся от нее, но она возвращалась, и вскоре загудел целый рой.
— Будешь лечить? — услышал он сквозь гуденье.
— Еще чего!
И пчелы набросились на Егора. Чем больше он отбивался от неуловимого роя, тем сильнее и ожесточеннее нападали пчелы. Глаза сразу оплыли. Зверея от боли, Егор заметался по берегу, скатился по обрыву в облаке пыли и с размаху нырнул в реку. Вода холодная, долго не высидишь, а выйти нельзя пчелиный рой кружит над головой. И тут кто–то под водой сильно укусил его за ногу. И еще раз, будто ножовкой. Напрасно Егор отбивался от нового врага, каждый раз этот кто–то подплывал с другой стороны и острыми зубами коротко покусывал его тело. Не помня себя от боли и злости, Егор выскочил на берег и стал зарываться в песчаный осыпающийся склон. И только он прикрыл себя песком и пучками травы, как кто–то из–под земли пробрался к нему и, попискивая, куснул в живот и еще раз — в спину, и еще раз — в бедро.
— Лечи, однако, — услышал он голос Дейбы.
— Отгони своих палачей, — сказал Егор, еле сдерживаясь, чтобы не закричать в голос.
Полежал, сил набрался от сырой земли, встал, покачиваясь, распухший, грязный, со следами укусов, поднялся, скрипя зубами, по обрыву, сел, опершись спиной на надрубленную сосну, сплюнул под ноги густую злую слюну.
— Гадина, — сказал он, разлепляя толстые губы.
— Рубаху разорви, — сказал Дейба, — сосну лечи. Потом реку мыть будешь.
— Совсем рехнулся. Какую еще реку?
— Люди порошок в реку сыпали, рыбу сгубили, ты воду мыть будешь.
— Дурак, — сказал Егор и, скрипя зубами от унижения, разорвал последнюю рубаху.
Ткань была ветхой, легко рвалась на короткие неровные полосы. Силясь открыть заплывшие глаза, Егор наматывал на заруб сосны, липкий от смолы и сока, тряпки и, мучаясь от сознания идиотизма своей работы, рвал и снова наматывал.
— Доберусь я до тебя, — угрожал он Дейбе. — Ты у меня еще попляшешь.
— Лечи, однако, — мирно советовал тот. — Мне больно было — не жалел. Себя жалей теперь. Ты вылечишь — тебя вылечат, ты больно сделаешь — тебе сделают. Вы, люди, слов не понимаете, боль понимаете, смерть понимаете.
Дейба сожалеюще зацокал языком.
Егор кончил свою дурацкую работу и завязал концы тряпок бантиком.
— Ну, что? — спросил он. — Хорошо я сосны лечу?
— Пойдем, однако. Воду мыть будешь. Вода, ой, какая грязная!
— Мыла нет, — буркнул Егор.
— Зачем мыло? Без мыла мыть будешь.
— Так ты покажи! Ты полреки, и я половину…
Подошли к реке.
— Рыб науськивать не будешь? — спросил Егор, прилаживая топор так, чтобы он не бил по ногам.
— Не буду. Лезь в воду.
— Ладно, — сказал Егор, разбежался и прыгнул, стараясь проплыть под водой как можно больше.
Он плыл, не оглядываясь, и страх придавал ему силы. Быстрое течение несло его, и когда он выбрался на другой берег, то место, где он рубил сосну, осталось за поворотом. Этот берег был низкий, заросший густой травой. Егор отдышался, отлежался и осмотрел раны. Они были неглубокими, но все равно внушали опасение. Ни лекарств, ни бинтов, а любой пустяк в тайге, на безлюдье, мог обернуться смертью.
Егор промыл раны водой, поискал подорожник, но он не рос в тайге, некому было занести сюда его семена, не было здесь человека. Достал разбухший коробок, вынул из него голые палочки, равнодушно повертел в руках и выбросил.
— Вот такие дела, Егор, — сказал сам себе. — Огнем тебя жгли, водой топили, льдом морозили, зверями и рыбами травили, а ты еще жив. Живи и дальше.
И пошел через болото. Остановился на сухом месте и увидел, что здесь начинается узкая тропинка. Он встал на колени, прополз по ней и увидел то, что очень хотел увидеть — человеческий след. Узкий, неглубоко вдавленный в сырую почву, один–единственный след.
— Эй! — закричал он, распрямившись. — Эй, кто живой, отзовись!
Отозвались сойки. Раскричались, разгалделись над головой, и из–за этого крика Егор не услышал, как кто–то подошел с той стороны зарослей жимолости. Он ощутил на себе взгляд, повернулся в ту сторону, но никого не увидел.
— Выходи, — сказал он. — Что боишься? Если человек — не обижу.
— Топор–то брось, — певуче произнес девичий голос.
— Это ты, Мавка? — вздрогнул Егор. — Проваливай лучше отсюда.
В кустах засмеялись, тихо так, совсем не зло.
— Нет, — сказала девушка, — не Мавка я. Топор, говорю, брось.
— Ладно, — Егор бросил топор неподалеку от себя. — Нашла кого бояться. На мне места живого не осталось. Деревня твоя близко? Может, и поесть что найдется? Сильно я голоден.
Из кустов жимолости вышла девушка. Даже не девушка, а почти девчонка, худенькая, смазливая, щеки в малине испачканы, сарафан красный, платочек белый.
— Ишь ты, — расслабился Егор, — откуда такая взялась? Я уж думал, что никогда людей не увижу.
Он опустился на землю, сел, сидел так и смотрел на девочку, любовался и даже пытался улыбнуться распухшими губами.
— Ну, что смотришь? Страшный я, да? Не бойся, я не леший. Егор я, в тайге заблудился, а тут еще нечисть привязалась. Сам удивляюсь, как жив остался. Ты посиди маленько, дай отдохнуть, а потом пойдем, хорошо?
Девчонка не отвечала, стояла у кустов, улыбалась тихонько, и по лицу ее было видно, что она совсем не боится его. Наверное, взрослые рядом, подумал он, и от души совсем отлегло. Напряжение этих дней, когда ежечасно приходилось бороться за жизнь и сознание того, что шансов выжить не так уж и много, спало, и остались пустота и усталость неимоверная. Он смотрел на девочку и, отделенный в эти дни от людей, с радостью ощутил свою причастность к человеческому роду, сильному, красивому, великодушному.
— Принеси поесть, — попросил он, — и позови взрослых. Вся сила из меня ушла, до того размяк.
Девочка не отвечала. Она стояла и улыбалась, вытягивая губы трубочкой, словно хотела свистнуть. Потом наклонилась и подняла из–под ног лукошко с малиной. Протянула Егору.
Егор брал малину горстью, задерживал у рта, вдыхал запах и, стараясь не спешить, глотал, не жуя.
И тут он подумал, что для малины еще не пришел сезон. Он шел по тайге и встречал кусты ее с еще зелеными, вяжущими ягодами. А это была спелая, сочная, пахучая, только что сорванная. Он не сказал об этом девочке и легко примирился с нелепостью.
— А хлеб у тебя есть? — сказал он, протягивая пустое лукошко.
Девочка опять наклонилась и достала из травы ломоть хлеба. Егор удивился, но хлеб съел, не оставив ни крошки.
— Что еще достанешь из травы? — спросил он.
Девочка пожала плечами, улыбнулась.
«Недетская у нее улыбка, — подумал Егор, — тайга быстро взрослыми делает».
— А что ты хочешь? — спросила.
— Поспать, — честно сказал Егор. — Я страшно устал. А ты приведи сюда взрослых, и, может, найдется что–нибудь из одежды? Видишь, я почти голый.
Девочка кивнула головой и скрылась в кустах. Ни шума шагов, ни шелеста платья, ни потрескиванья сучьев под ногами.
— Эй! — крикнул Егор. — Ты не пропадай, ты приходи! Я ждать буду!
У него хватило силы только на то, чтобы поднять топор и положить его под голову. Не обращая внимания на комариное гуденье, он заснул, как в омут провалился.
4
Егор жил внутри дерева. Не в дупле, не обособленно от дерева, а именно внутри его древесины, и тело свое отграничивал корой и листьями. Через него шли земные соки, внутри него медленно нарастало годовое колечко, и это он, Егор, поскрипывал всем своим телом под порывами ветра. Его совсем не удивляло это новое состояние, он считал его естественным и даже удобным. Он рос на большой поляне, и корни его уходили глубоко в землю, сплетаясь с чужими корнями.
И сумерки были, и ветер обретал язык в листьях, и роса пала на землю.
И увидел Егор, как из глубины темного леса вспучиваются, поднимаются смутные пузыри, наполненные земными испарениями, как раздуваются они, лопаются с треском и оттуда выпрыгивают существа на тонких мохнатых ногах и рассаживаются на поляне, гомоня и горланя. И голоса их были ненастоящими, как будто сделанными из чего–то.
— Тишина! Тишина! — прокричал рассыпчатый, ржавый голос. — Мы начинаем!
И наступила тишина.
— Основной темой сегодняшней сходки, — начал мягкий и мшистый голос, — является вопрос о сущности так называемого человека. Что есть человек? Каково его место в природе? Вреден или полезен человек? Нужно ли и возможно ли бороться с человеком? Вот основные тезисы. Кто начнет?
— Я! — сказал ржавый голос. — Как всем известно, человек есть существо замкнутое, не способное к метаморфозам, ограниченное во времени и в пространстве. В отличие от нас человек обособил себя и противопоставил природе. Тысячи лет идет борьба человека и природы, но в последнее время человек развил такие темпы наступления, что само существование живой природы, а значит и нас самих, стоит под угрозой полного истребления. Человек считает себя существом, наделенным живой душой, но дело в том, что его душа принадлежит только ему и ничему больше. Именно это в корне разнит нас и его. Самым большим заблуждением человека является то, что на всей земле он только себя считает одушевленным и на основании этого не щадит природу, перекраивает на свой лад, использует ее только в своих интересах. Исходя из сказанного, предлагаю объявить человека вредным существом.
Загомонили, запищали, заверещали, затопали ногами, защелкали зубами.
— Вредный! Конечно, вредный! Он нас со света сживает! Он нас под корень рубит!
— Душа! — громко произнес жестяной голос. — Что есть душа? Попрошу без мистики! Мне чужды ваши представления о душе. Я — просто дерево. При чем здесь душа? Когда убивают дерево, я ухожу в другое и живу в нем, пока и его не срубят. Деревьев много, и я всегда нахожу себе подходящее тело. Если человеку нужны деревья для пищи, то он имеет на это такое же право, как бобры, зайцы и гусеницы. Ведь он живет с нами на одной земле. И, кстати, кто видел душу человека?
— Я видел! — воскликнул смолистый голосок. — Она такая большая, прозрачная, в ней что–то кипит и временами фонтанирует. Она тщательно обходит деревья и боится сырости.
— Бред и пустые враки, — сказал жестяной. — Природа создала и нас, и человека. А отличаемся мы только тем, что мы не вычленяем себя из природы, а человек поставил себя в особое положение. Именно это определило его путь, и не нам судить об этом.
— Нет, нам! Нам! Кому же еще, как не нам! — заголосили существа. — Он судит нас, делит на вредных и полезных для него, уничтожает одних, а других насаждает по своему усмотрению. Он травит реки, губит рыбу, вырубает леса, убивает зверей! Это он причиняет нам боль, это он губит нас!
— Да, все это так, — сказал ржавый голос, и все затихли. — Человек, без сомнения, существо вредное, и с ним надо бороться. Но как? Он сильнее нас. Прошли те времена, когда мы могли побороть его. Он не боится даже наших антропоморфных воплощений. Он даже не верит в нас!
— Надо оживить трупы убитых им деревьев, — сказал мшистый, — чтобы они проросли сквозь него корнями и ветками. Надо оживить шкуры убитых им зверей, чтобы они впились ему в горло. Надо одушевить зерна убитых им трав, чтобы они задушили его изнутри. Я знаю, что надо делать!
— Да! Да! — закричали все. — Мы сделаем так!
— Спокойно! — сказал жестяной. — Это все глупости. Он все равно победит нас. Я знаю другой путь. Только я скажу о нем тихо, чтобы не услышал Егор.
И он что–то зашептал. Существа заахали, заверещали приглушеннее. Егор дождался ветра, наклонил свои ветви пониже, но все равно ничего не расслышал, кроме то и дело произносимого своего имени. Тогда он напрягся, вспучился пузырем на стволе дерева и, лопнув, стал человеком. Новенькая серая шерсть покрывала его, но он не удивился ей. Поднял толстый сухой сук и приблизился к кругу сидящих. Они повернули к нему свои нечеловеческие лица и замолчали.
— Егор — это я, — сказал он. — Здесь, кажется, говорили обо мне? Кто вы такие? Отвечайте!
Существа зашевелились, захихикали и заговорили вразнобой:
— Такие же, как ты! Единоплеменники! Братишки единоутробные! Егорка, брательник, иди к нам!
К нему потянулись лапы, когти, крылья, извитые стебли, бугристые корни, чешуйчатые морды, мохнатые рыла. Егор отступил на шаг и поднял сук.
— Значит, человека решили извести? Ясно. А человек сейчас изведет вас. Вот так!
И Егор с размаху опустил палку на скопище существ. Палка прошла сквозь них и, не причинив вреда, врезалась в землю.
— Да какой же ты человек, Егор? — спросил мшистый голос, и Егор увидел его обладателя.
Был он похож на старую плюшевую обезьяну. Лохматые длинные лапы с потертостями и тусклыми обломанными когтями свисали вдоль тела, голова наклонена вперед и вниз, губы отвисли, не прикрывая беззубого рта.
— Ты теперь наш, — сказал мшистый и, обратясь к остальным, громко произнес: — Вот вам и путь!
— Дай, я тебя обниму, браток, — нежно произнес ржавый голос, и к Егору потянулся некто толстый, круторогий, брыластый, лопоухий. — Как я рад, что ты с нами.
— Еще чего! — возмутился Егор, увертываясь и размахивая палкой. — А ну, пошли отсюда! Нечисть проклятая, лешаки!
— А сам–то кто! Сам–то кто! — загалдела толпа. — На себя погляди!
— Ну и что? Обычная человеческая внешность. А вы уж точно — лешаки.
— От лешего и слышим! — захохотали вокруг. — Ты уж полегче, братишка! Негоже родственникам грубить.
— Ладно, — сказал Егор, — мы еще поговорим. Найду я на вас управу.
— А вот и не найдешь! А вот и не найдешь!
— Ладно, — повторил Егор и вошел в дерево.
Внутри он растекся по ветвям, сбросил листья, замедлил движение соков и стал ждать весны.
Было темно, тепло и уютно. Егор чувствовал, что существует, и больше ничего не надо было ему, только лежать, ни о чем не думать, медленно ожидая весны, когда можно будет раскрыть почки и начать расти вверх и в стороны, ожидая того времени, когда прилетят птицы и поселятся на нем, как на карнизах башни, и запоют свои песни на понятных ему языках. Он знал, что так будет, и поэтому ждал спокойно и терпеливо.
Что–то дотронулось до его бока. Он шевельнулся и лениво подумал о том, что это, наверное, дятел стукнул клювом, но не испугался. Дятел казался продолжением его самого, как и личинки жуков, что зимовали под корой.
— Егор! — услышал он зовущий его голос и зашевелился, не размыкая глаз.
— Вставай, Егорушка, — услышал он снова.
— Разве уже весна? — спросил он и не узнал своего голоса.
Открыл глаза и увидел, что он вовсе не дерево, а человек. И лежит он на мягкой шкуре, на полу, возле печи. Над ним склонился бородатый мужик в красном колпаке, надвинутом на лоб, и тормошил его.
И Егор вспомнил, что заснул на берегу, и понял, что его подняли и принесли сюда. Он окончательно стряхнул с себя сон, сел, осмотрелся. Был он одет в широкую меховую рубашку, штаны были новые, тоже меховые. Он провел руками по телу, нигде ничего не болело, не ныли руки, не саднили ноги, не кружилась голова. Он был молод, здоров, быть человеком показалось ему самым приятным на земле.
— Спасибо, — сказал он и радостно улыбнулся.
— Ишь, благодарствует! — засмеялся кто–то наверху тонким голосом.
Егор не смутился, поднялся на ноги, протянул руку рослому мужику.
Одет тот был старомодно. Не то армяк на нем, не то зипун. Егор слабо знал старинную одежду и точно определить не мог. Мягкий колпак с белой выпушкой, рыжая округлая борода, белая косоворотка.
— Спасибо вам, добрые люди, — повторил Егор.
Мужик добродушно улыбнулся, но руки не подал, отошел к окну, сел на лавку.
— Ишь, руку тянет! — сказал кто–то сверху.
Егор стоял в маленькой избе с неотесанными стенами. Узкие окна, затянутые чем–то мутным, стол, лавки по краям, у двери большая печь, сложенная из плитняка. На ней сидел замурзанный мальчонка и, болтая ногами, высовывал язык, корчил рожицы Егору.
— Как называется эта деревня? — спросил Егор.
Мальчонка закатился в хохоте, задрав пятки к потолку.
— Чо говоришь? — басовито переспросил мужик. — Какая еще деревня?
И Егор понял, что изба стоит в тайге одна и его вопрос о деревне действительно смешон, и еще он подумал, что это, наверное, староверы, до сих пор живущие в лесах, поэтому и руки мужик не подал. Не положено по их законам. Егор не обиделся на них, — добро, сделанное этими людьми, намного превышало их странности.
— Ладно, — сказал Егор. — Вы мне хоть дорогу укажите. Отдохну немного и уйду. Мешать не буду.
— Нет от нас дороги, — спокойным басом ответил мужик.
— Так что же, мне у вас оставаться прикажешь?
— А чо, оставайся, коль хочешь! — сказал мужик и отвернулся, глядя в мутное окно.
— А если не хочу?
— А чо, уходи, коли так. Тайга большая, всем места хватит.
— Дела–а, — протянул Егор. — Куда же мне идти, если я дороги не знаю.
И тут мужик внезапно обернулся, подался всем телом к Егору, выбросил вперед правую руку, наставил на Егора указательный палец и быстро проговорил писклявым голосом:
— Ведомы тебе дороги, ведомы, ведомы, ах, ведомы!
А Егору послышалось в скороговорке: ведь мы ведьмы мы! И мужик совсем потерял солидность. Он заломил колпак на затылок, встал на четвереньки и заскакал вдоль стены, гримасничая и приговаривая визгливо:
— Шивда, вноза, шахарда! Инди, митта, зарада! Окутоми им нуффан, задима!
И в ответ закатывался в хохоте мальчишка на печи.
— Ну чо, боязно? — спросил мужик, поднимаясь.
— Нисколько, — вздохнул Егор и сел на шкуру, поджав ноги. — Что паясничаешь–то? Я ведь не шучу.
— Ну, так напугаешься, — уверенно сказал мужик и встал во весь рост против света.
И стал уменьшаться, уплощаться, утончаться, деформироваться и искажаться. Егор невольно отпрянул к печи. Тяжкая болезнь скручивала мужика, коробила его тело, то вытягивала по спирали, то сжимала в бесформенный комок, вздувалась голова и втягивалась в туловище, ноги укорачивались, шли винтом, слипались в одну толстую ногу, а на груди прорезывался большой зубастый рот и из него высовывался розовый язык, словно дразнился. Мальчишка на печи всхлипывал от восторга, и, отведя взгляд от мужика, Егор увидел, что и тот также деформируется, расплывается мутным пятном по печи, как амеба, превращаясь неведомо во что, неизвестно как…
Егору хотелось выскочить из избы, но он заставил себя сидеть на месте и смотреть на все это, преодолевая приступы тошноты и жалея только о том, что нет при нем топора и нельзя сжать его топорище, чтобы хоть немного обрести в себе уверенности.
Между тем формы мужика постепенно организовывались, успокаивались продольные волны, коробившие его тело, застывали расплывчатые формы, и Егор увидел старика. Маленького, сморщенного, с длинной неопрятной бородой, одетого в мохнатую шкуру. Старик попрыгал на одном месте, словно утрясая свое тело, мигнул сразу обоими глазами и осклабился в беззубой улыбке.
— Ну что, боязно?
— Нисколько, — сказал Егор охрипшим и нарочито приподнятым голосом. Значит, так, опять не люди… Ну, спасибо за добро. Я пойду, пожалуй. Отдайте мне мой топор и нож. Мне без них никак нельзя.
Егору стало так плохо, что нашлось только одно емкое русское слово для определения его состояния в эту минуту — муторно. И было ему так муторно, что хоть на четвереньки становись и вой в полный голос. Если бы не было у него совсем надежды на спасение и человеческое участие, то, может быть, он легче перенес увиденное сейчас. Но он уже видел себя среди людей, одетым и накормленным, обласканным и согретым, и когда убедился, что и это не люди и помощи ждать не придется, то понял, что снова он одинок, снова совсем один на всю бесконечную тайгу, равнодушную к людям, к их бедам, к их жизни, к их страданиям и смерти.
— Я пойду, — упрямо повторил он и шагнул к двери.
— Постой, Егорушка, — услышал он знакомый голос, обернулся и увидел, что мальчишка на печи стал той самой девочкой, чистенькой, нарядной, с красной лентой, вплетенной в косу.
— Ряд волшебных изменений, — буркнул Егор и, не оглядываясь, вышел из избы.
Было сумрачно и тихо в тайге. Резко пахли цветы и сухие травы, спаленные зноем, небо мутнело, и чувствовалось — не миновать дождя. Егор спустился с высокого крыльца, осмотрелся вокруг. Место было совсем незнакомое. Бурелом и чаща, темная, с огромными соснами, обросшими мхами, с валунами, громоздящимися среди высоких папоротников, и ни тропки, ни выбоины, ни кострища, ни ровного места. Будто здесь никто никогда и не жил. Изба стояла среди всего этого, и казалось, что она выросла из земли, как дерево, и сама живет, сосет соки глубокими корнями, чуждая человеку, издевка над уютным человечьим жильем.
Егор поправил сбившуюся рубаху, завязал поплотнее тесемочки у горла и пошел куда глаза глядят.
— Его–ор! — певуче окликнула его девочка. — Куда пошел–то?
И он не выдержал, злость и ярость, накопленные в нем, требовали выхода. Он повернулся к избе, к девочке, стоявшей на пороге, и закричал что–то обидное и злое, обвиняя тайгу, небо, солнце, всю эту нежить и нечисть, враждебную ему, посмевшую встать на пути человека — царя природы, властелина ее и полноправного хозяина. И пусть они делают, что хотят, вытягивают из него тепло, травят волками, мучают голодом и комарьем, пусть даже они лишат его жизни, но все равно он, человек, выше их всех, ибо именно он, несмотря ни на какие жертвы, укротил слепую и жесткую природу, подчинил ее себе, и смерть одного человека все равно не лишит людей власти над ней…
А когда иссякли слова и остались пустота в груди и немота в гортани, он стал поднимать сучья и без разбора швырять в сторону избы.
И все это время девочка стояла на пороге, облокотясь о замшелое перильце, стояла и молчала, неулыбчивая, серьезная, совсем взрослая. Сучья не долетали до нее, описав короткую дугу, они замедляли полет и, круто развернувшись, со свистом летели обратно. Первые удары отрезвили Егора, и когда увесистая палка врезалась ему в грудь, и он чуть не упал, то и вовсе прекратил бесполезное занятие, сел, опустошенный, на валежину и отвернулся.
— Вздумалось нашему теляти волка поймати, — услышал он стариковское шамканье. — Личико беленько, разума маленько.
Егору даже отвечать не хотелось. Надо было заново строить планы своего спасения, надо было любыми силами выжить, только выжить и дойти до людей. И пусть лешие глумятся над ним сколько хотят, в конце концов это маленькое, почти позабытое на земле племя имеет право не любить человека, более сильного, мудрого и приспособленного для борьбы и жизни. И Егору хотелось доказать им, что он — человек и сдаваться не собирается. Стало стыдно своей слабости, и он снова разозлился, теперь на себя.
— Ладно, — сказал он сам себе, — попсиховал и хватит. Поехали дальше, Егор.
Он медленно вернулся к избе, остановился против девочки, посмотрел внимательно в ее глаза — светлые, с темными крапинками вокруг зрачков и сказал:
— Дайте мне мой топор, нож и еды немного. Больше мне от вас ничего не надо. Спасибо за все и прощайте.
Девочка не отвечала, он полюбовался ее красивым лицом, чистой кожей, не тронутой загаром, и добавил:
— Жаль, что такая красавица, и не человек. Кто хоть ты на самом деле? Имя–то у тебя есть?
— Зови как хочешь, — улыбнулась девочка. — Мне все равно.
— Хорошо, я назову тебя Машей. У людей в сказках живут такие Машеньки, в лесу с медведями.
Он попытался вспомнить, что читал или слышал об этом племени, полусказочном, обросшем легендами и небывальщиной, но вспоминалось мало, только запал в памяти древний заговор: «Дядя леший, покажись не серым волком, не черным вороном, не елью жаровою — покажись таковым, каков я».
Вот они и показывались Егору людьми и, может быть, даже именно в таком виде, в каком он ожидал их увидеть: любимица русских сказок Машенька, сиволапый дед–лешак, добрый молодец в колпаке набекрень, мальчуган–пострелец… Театр, декорации, грим, фальшивка, обман, мираж.
— Это не вас Лицедеями зовут? — догадался Егор.
— Зовут и так, — ответила девочка Маша, — от имени что изменится.
— А Дейбу вы знаете?
— Как не знать. Дейба здесь все время живет, это мы пришли. На пороге появился долговязый молодой человек в странной одежде: строгий черный костюм, лакированные туфли, цветастая рубашка, галстук–бабочка и круглые черные очки, сдвинутые на нос.
— Ну как? — хвастливо спросил он, поворачиваясь и одергивая пиджак. Так–то не боязно? А?
И, мигнув сразу обоими глазами, засмеялся.
— Не боязно, — ответил Егор. — Что мне вас бояться? Хоть и нежить, а все–таки на людей похожи.
— Вот уж не скажи! Ты нас с собой не путай. Ваш род нашему не чета. Мы подревнее будем, чем вы, люди.
— А что же вас так мало осталось? Повымерли, что ли?
— А это у тебя спросить надо. Ты ведь человек, с тебя и спрос, что и нас мало осталось, и зверей, и деревьев. А чем ваше покорение природы обернулось, знаешь? Знаешь, конечно, как тебе не знать. Мы не против природы, а с ней заодно, вы природу губите, а, выходит, и нас. Ясно?
— Нет, — сказал Егор, — не ясно. Что толку от вашей жизни? Что вы создали за свою историю? Душой природы себя объявили, в разные личины рядитесь, то птичкой, то паучком, то елочкой станете. Хорошо вам так, ни о чем думать не надо, живете, как деревья, что тыщу лет назад, что сейчас. И что изменится, если вы и вовсе вымрете? Кому вы нужны? Нет, Лицедей, только наш путь и был верен, пусть трудный, пусть ошибались мы, но только мы, люди, в ответе и за себя, и за природу. Это не вы, а мы — душа природы, плоть от плоти ее, кровь от крови. А вы — паразиты, приспособленцы. Вот теперь мне и ясно. Ну ладно, прощайте, Лицедей, пошел я.
— А никуда ты от нас не денешься, — спокойно сказал мужик и затуманился, исказился телом, разбух и стал распадаться на части.
Егор отвернулся от неприятного зрелища.
Даже гадать не хотелось, во что сейчас превратится Лицедей.
А превратился он в стаю разноцветных бабочек, больших и маленьких.
И бабочки, не размыкая строя, поднялись вверх, к вершинам деревьев и пропали из вида.
— Чтоб тебя птицы поклевали! — прокричал вслед Егор и, обратясь к Маше: — А ты чего ждешь? Давай в ящерок превращайся, в букашек–таракашек, в бабу–ягу, в медведя, в сохатого, в черта рогатого. Ну, что стоишь, Машенька? Все равно таких девушек не бывает.
— А такие бывают? — спросила она и, поколебавшись в воздухе, превратилась в большую яркую птицу с девичьей головой.
— Бывают, — твердо сказал Егор, не отворачиваясь. — Птица Сирин называется, или Алконост. Эка невидаль! Давай теперь пой свои песни, завораживай. Все равно я тебя не боюсь.
— И запою, — сказала птица.
И в самом деле запела. Пела она хорошо, только слов в той песне не было, и чудилось Егору, что тайга вокруг него изменяется, и он сам растворяется в ней, в каждой жилке листа, в каждой твари, в каждой песчинке, и ощущение это было новым для него, непривычным, странным, но все же приятным, и Егору даже противиться не хотелось этой песне, а слушал он ее, и вот — он уже не он, и тела нет у него, и душа рассыпалась средь деревьев…
5
Кто–то ходил в темноте, поскрипывал половицами, шмыгал носом, всхлипывал, пришепетывал, шлепал босыми ногами, и временами чьи–то мягкие лапы касались Егора. Веки у Егора тяжелые, открыл глаза с трудом, разлепил ресницы и увидел, что лежит он на кровати, в той самой квартире, откуда ушел после развода. Ночь на дворе, луна в окно смотрит, тихо вокруг.
— Нина! — позвал Егор. — Нина, где ты? Я проснулся!
И увидел, что кто–то наклонился над ним, серый и расплывчатый в полутьме, щетинистый, мягкий, ресницы как пух свалявшийся. Моргает, сопит, зубы скалит, руки протягивает.
— Кто ты? — вскочил Егор на ноги.
И страшно самому, к стенке прижался, кулаки сжал. А тот губы разжал, зашамкал и заговорил ватным голосом:
— Не бойся. Домовой я. Живу я здесь, один на весь город остался, плохо мне одному. Человека живого искал, насилу нашел, скучно мне без людей, голодно. Дай тюри, Егор, есть хочется.
— Какой еще тюри? — разозлился Егор. — Уже и в городе от вашего племени нет покоя. Где Нина?
— Нет никого, — говорит домовой, а сам все всхлипывает, нос рукой утирает и улыбается сквозь слезы. — Умерли, наверное, все, ты один остался. Дай тюри, Егор, или пирога. Голоден я.
Отстранил его Егор рукой, с кровати встал, по комнатам прошелся. Все на месте, одежда его на стуле висит, толстым слоем пыли покрытая. Холодильник открыл, а там все плесенью заросло, видно, электричества нет давно. Краны заржавели, пыль и запустение в доме. Выглянул в окно, и тошно ему стало. Ни звука, ни гудения машин, ни света окон. Пусто и сумрачно, как в степи.
Вышел Егор на улицу, она вся мусором завалена, крапива растет под окнами, асфальт тополиными ростками растрескан, и ни одно окно не горит, ни одна тень за стеклом не шевельнется. Совсем жутко ему стало, побежал по улице, закричал, эхо от пустых домов отражается — нет никого. Улица в шоссе перешла, а шоссе в лес привело. И рассвело. Солнце встало, малиновки поют, кузнечики под ногами порскают. И так уж одиноко Егору, как никогда раньше. И слышит вдруг человеческие голоса. Побежал он туда, выбежал на большую поляну, а там — люди. Ходят неторопливо, разговаривают. И выходит ему навстречу Нина, светлая, тонкая, руки ему на плечи кладет, в глаза смотрит, И чуть не заплакал Егор, прижался к ней, легкой, теплой, живой.
— Как хорошо, — говорит, — что ты жива и люди живы.
— А мы и не люди вовсе, — смеется Нина. — Мы теперь лешие. И я тоже. Ты один и остался человеком.
Худо стало Егору, на землю повалился, лежит, плачет, землю кусает, а Нина стоит рядом на коленях и гладит его по голове.
— Хочешь, — говорит она, — я в яблоню превращусь? Или в птицу? А может быть, в рыбу? Хочешь?
Замотал головой Егор, сказать слова не может. И встала Нина, засмеялась, корешки из ног пустила, листьями оделась и стала яблоней.
И чувствует Егор, что и сам он в землю ногами входит, меж камешков корнями путь ищет, ввысь вытягивается, расчленяется на ветки и листья, и стал он тополем, и хорошо ему и тревожно…
— Не плачь, Егор, — сказал кто–то. — Спишь, а плачешь. Все лицо мокрое.
Это Маша склонилась над ним, она прикасалась пальцами к его щекам, слезы утирала, успокаивала. И Егор почувствовал себя таким уставшим, таким слабым и маленьким, что даже говорить ничего не хотелось. Он лежал на спине, смотрел в небо неподвижно и плакал без звука, одними слезами. И Маша вновь изменила свое обличье, и уже не девочка это, а взрослая женщина с тяжелой русой косой, заплетенной вокруг головы, и мониста позванивают на груди при движении. И лежит Егор на поляне, среди высоких ромашек, и шмели гудят, и ни облачка в небе, и медом пахнет.
— Посмотри, Егор, — говорит Маша, — разве плохо у нас? Посмотри вокруг и слезы осуши.
— Эге–ге! — послышался рядом голос Лицедея. — Ты вот скажи, Егор, зачем к нам в лес пришел? Что тебе, своего города не хватает? Мы же к вам не ходим.
Егору и спорить не хотелось, и поворачиваться было лень, чтобы хоть на мужика посмотреть, — в каком он там виде появился. Но плакать перестал, вытер слезы, на солнце высушил.
— Что с вами говорить, — сказал он немного погодя. — Мы никогда не поймем друг друга. Живите, как хотите, и нам не мешайте. Покажите дорогу к людям. Мне от вас больше ничего не надо.
— Да мы–то вам ничем не мешаем, — сказал мужик откуда–то из ромашек, — а вот вы нам, ох, как мешаете! Так за что же вас любить и миловать?
— Так я за всех людей отвечать перед вами должен? Ну и делайте, что хотите, только я вам так просто не дамся.
— Нужен ты нам, — пренебрежительно сказал Лицедей. — Захотели бы, давно тебя на корм травам пустили. Живи уж.
— Спасибо уж, — в тон ему ответил Егор и встал.
— Разве мы не можем договориться? — спросила Маша.
— О чем? Что вы от меня хотите? Или скучно вам, поговорить не с кем? Валяйте разговаривайте.
Лицедей оказался маленьким, ростом не больше ромашкового стебля, он сплел гнездышко в зарослях травы и сидел там, закинув ножку за ножку.
— А вот то меня, Егор, забавляет, что вы всю природу под себя приспособить вознамерились. Все, что есть в ней живого, все своим считаете. Вот того же медведя в цирке всякой своей ерунде учите. Штаны на него наденете, шляпу, на велосипед посадите и радуетесь. И сказки–то ваши все глупые. Те же люди, только имена звериные. А зачем вы это делаете? А я скажу, зачем. Видеть вам забавно, когда зверь на человека похож. Хоть и похож, а все глупее человека. Вот тем и смешон. Разве это не издевательство?
— Послушай, ты, лешак, — сказал Егор, отряхивая пыльцу, — нет, не издевательство. А совсем наоборот. От одиночества это нашего, от несправедливости, что только мы одни на земле и не с кем больше слова перемолвить. Вот и зверей наделяем людским образом, языком и поступками человеческими. А ваше племя никогда людей не любило, недаром издавна вас нечистью зовут. Нечисть и есть нечисть. Что от вас доброго на земле?
— А от вас? — быстро вставил Лицедей.
— Да, люди много зла причинили и себе, и природе, но и добра не меньше. А вы — ни то ни се, ни доброе ни злое, ни черное ни белое.
— А вот ты и не прав! — воскликнул Лицедей, подскакивая в гнездышке. — Мы и то, мы и се, и доброе, и злое, и черное, и белое, и рыба мы, и зверье мы, и трава, и букашки — все это мы. В природе нет зла и нет рамок, в которые вы ее втискиваете. В ней все едино. И мы с ней — одно целое.
— Оставайся с нами, Егор, — просто сказала Маша. — Хочешь, таким же будешь, как мы?
— С вами? — Егор даже присвистнул. — Да на кой черт я вам, и вы мне для чего сдались? Вот уж спасибо. Невелика радость в гусеницу превратиться да травку жевать с утра до утра, или птичкой стать да с ветки на ветку перепархивать… Не хочу быть ни деревом, ни дятлом, ни медведем. Не хочу быть ни лешим, ни чертом, ни богом, ни ангелом. Мне и в человеческом обличье хорошо живется. Я — человек, и выше меня нет никого на Земле.
— А ты попробуй, Егорушка, — сказала Маша, — может, и понравится.
— Нет, — ответил Егор, — не понравится. Не нуждаюсь я в вашей милости.
Подбросил в воздух топор, ловко поймал его одной рукой. Зайчик блеснул на лезвии.
— Ночью, — сказала Маша, — ночью все увидишь и поймешь.
— Эге, — согласился и Лицедей, — ночью, может, и поймешь. Не опоздай на праздник, Егор. Гордись, ты первым из людей увидишь его. И знаешь, почему? А потому, что ты уже и не человек вовсе. Ты только думаешь, что ты человек, а на самом деле — едва–едва наполовину. Вот и цацкаемся с тобой, на свою половину перетягиваем. И перетянем, вот увидишь, еще как перетянем!
— Я только тогда перестану быть человеком, когда умру. Пока я жив — я человек, а жить я собираюсь долго. Ясно?
— Ночью, — повторила Маша, утончаясь и пригибаясь к земле, — ночью, повторила уже тише, покрываясь коричневой шерсткой, — ночью, — и стала косулей, посмотрела на Егора влажным глазом и медленно пошла к лесу и уже ничего не сказала.
— Эге! — подтвердил и Лицедей, отращивая прозрачные крылышки. Эге–ге! — прокричал он, взлетая в воздух. — Эх, ночка–ноченька, заветная!
И они ушли с поляны, улетели, растворились в чаще леса, неуловимые, бесформенные, многообразные, непостижимые, как сам лес, как реки и горы его, как звери и птицы его, как сама природа.
6
Человеческий календарь и расчленение однородного потока времени на минуты и часы потеряли для Егора значение. Он плыл в общем неразделимом потоке, влекущем с собой лес с его непрекращающимся переходом, перетеканием живого в мертвое и мертвого в живое; и в самом Егоре беспрерывно умирало что–то и нарождалось новое, неощутимое сначала, чужеродное ему, но все более и более разрастающееся, наполняющее его, переливающееся через край, врастающее в почву, в травы, роднящее его с этим бесконечным непонятным миром, дотоле чуждым ему.
В той, городской, жизни он никогда бы не поверил всерьез в леших, в русалок и прочую нечисть, знакомую с детства по сказкам, но воспринимаемую лишь как выдумку, вымысел народа, наделенного богатой фантазией и неистощимой способностью к творчеству.
И вот он сам прикоснулся к этому древнему легендарному роду, издревле населявшему славянские земли, к племени, живущему с людьми бок о бок, вымирающему, как само язычество, уходящему в никуда, растворяющемуся в лесах, полях и реках. К душе природы он прикоснулся, к истоку своего собственного племени, все более и более уходящему от природы.
И слиться с этим мифическим родом не означало ли и самому обрести свой потерянный корень, уйти на свою незнаемую родину, туда, где русалка нянчит головастиков и пасет мальков, где леший живет внутри дерева, а водяной растворен в озерах, где лес, превратив свою душу в девушку, приносит плоды в руках, пахнущих свежей водой.
Слиться с ним и перестать быть человеком или, быть может, наоборот, найти разорванную связь и вернуться к тем временам, когда и люди едины с природой, и не вычленяли себя из нее, и тела свои населяли душами зверей и птиц, а душу свою посвящали всему живому…
И не знал Егор, что станется с ним, в одно он упрямо верил — смерть его не дождется.
Он шел по затихшему лесу, и ни одна сойка не трещала над его головой, и ни один лист на колыхался от ветра, и только хрустели сухие ветки и шуршали под ногами. Он не выбирал направление, но, куда бы ни шел, в любую сторону бесконечной тайги, все равно на его пути должны были встретиться люди, и это вселяло надежду.
Вечер застал его в широкой лощине, поросшей густыми зарослями папоротника. Волглые, ломкие, с узорчатыми листьями, они поднимались до пояса, мешая продвижению. Он ломал их, сминал ногами, роса промочила одежду. Зашло солнце, быстро накатили сумерки, а он никак не мог выбраться из папоротника. Казалось, что лощина растянулась до бесконечности, папоротники вытянулись и стали такими высокими и густыми, что приходилось прорубать дорогу топором. Егор клял себя, что решил пересечь лощину, а не обошел ее стороной, но возвращаться не было смысла, и он шел вперед, а на самом деле кружил, заблудившись там, где заплутать было немыслимо.
Ему не хотелось верить, что нечистая снова водит его, но, по–видимому, так оно и было. Тогда, зная, что сопротивляться бесполезно, он расчистил себе место посуше, сел и стал ждать.
Взошла молодая луна, узкий серпик давал мало света. Егор сидел, скрытый высоким папоротником, и разрезы листьев, черные на фоне неба, нависали над головой, позванивая на ветру. Было тепло и даже душно, густые испарения поднимались от земли, дурманили, навевали сон, неотличимый от яви. Егор и сам не понял, заснул он или просто задумался, но когда протрубил рожок вдалеке и он, вздрогнув, взглянул на небо, то увидел, что луна поднялась высоко и неподалеку кто–то разжег костер. Отсветы огня метались по листьям.
И вздрогнули резные листья папоротника, заколебались сочные стебли, и снова запел рожок, и вслед ему заголосил рог, и гром барабана колыхнул воздух. И папоротник ожил, зашевелился, изнанка листьев его вспучилась буграми, тотчас же лопавшимися с приглушенным звоном, и оттуда выпрастывались голубые, нигде и никем не виданные цветы.
И шум крыльев, гомон голосов, топот бесчисленных ног заполнили поляну. Егор лег на землю и, не мучаясь напрасным любопытством, пожелал одного — стать невидимым. От цветов исходил душный запах, щекотал ноздри, пьянил, кружил голову.
Кудрявая кошачья голова просунулась меж стеблей, сверкнул зеленый глаз в сторону Егора.
— Да это же Егор, — сказал мяукающий голос.
— Он тоже пьет сок? — спросил другой, шелестящий.
— Не–а, — мурлыкнул мяукающий.
И лохматый черный кот с длинными зубами, не помещающимися в пасти, выпрыгнул из папоротников и мягко вскочил на живот Егору.
— Ты кто? — спокойно спросил Егор.
— Курдыш, — ответил кот и лизнул Егора в щеку. Пасть его пахла медом. — Ты почему не пьешь сок? Вку–у–сный со–о–к!
Неслышно выполз из зарослей еще кто–то, неразличимый в темноте, зашуршал, завздыхал по–старушечьи.
— Кто это с тобой?
— Да Кикимора это, — ответил кот, вытянул шею, надкусил острыми зубами голубой цветок и заурчал довольно.
Егор приподнялся на локтях. Все равно его обнаружили, и скрываться было бесполезно.
— Забавно, — сказал он, — ну, покажись, Кикимора, покажись. Какая хоть ты?
Он протянул руку по направлению к неясной тени и тут же получил крепкий щелчок по лбу.
— Не приставай к ней, — посоветовал Курдыш, — она любопытных всегда щелкает. Хочешь, она тебя пощекочет? Она хорошо щекочет.
— Вот уж не надо.
— Как хочешь. Пошли со мной. Я тебе всех покажу.
Курдыш снова надкусил цветок, аккуратно высосал сок, сплюнул комочек. Егор встал. Идти к костру не хотелось, но, пожалуй, другого выхода и не было. Он вздохнул и, оборачиваясь, медленно побрел сквозь заросли туда, где слышались смех, крики, гуденье рожка и стрекот барабана. Под ногами бесшумно вертелся Курдыш, поясняя на ходу:
— На второй день молодой луны зацветает папоротник, и все собираются сюда. Все здешние и все пришедшие, все, кто уцелел. Ты всех увидишь.
— Папоротник не цветет, — сказал Егор. — Он размножается спорами. Глупости ты говоришь.
— Ну да, — охотно согласился Курдыш, — и я говорю, что глупости. Вку–у–сные глупости!
И он аппетитно зачмокал.
— И Лицедея там увидишь, — говорил Курдыш. — Их, леших–то, пропасть как много здесь. И Стрибог здесь, и Похвист, и Белбог, и Чернобог, и Ладо с пострелятами, и Перун здесь.
— И Мавка? — спросил Егор.
— И Мавка здесь, и Мара, и Полудница, и обийники, и очерепяники, и болтняки, и трясовицы, и банники, и овинники, и жихари. Все сок любят. И здешних много: Моу–нямы, Дялы–нямы, Коу–нямы, все они здесь.
— Короче, вся нечисть, — сказал Егор, — шабаш у вас, выходит, сегодня. Ну и черт с вами, я вас не боюсь.
— А чего тебе бояться? — успокоил его Курдыш. — Ты теперь наш.
— Я пока человек, — усмехнулся Егор. — Люди давно цветущий папоротник ищут, да не находят никогда. Или вы меня уже не боитесь и за человека–то не считаете, раз на свой шабаш зовете?
— Да какой же ты человек! — засмеялся Курдыш. Замяукал, заурчал, вспрыгнул на плечо, уцепившись острыми когтями за рубаху. — От тебя и людским духом не пахнет.
— Еще чего! — возмутился Егор, но кота не сбросил. — Вы сами по себе, я — сам по себе. Я вам мешать не буду, и вы меня не трогайте. Не нужен мне ваш папоротник.
— А ты попробуй, Егор, попробуй, — льстиво уговаривал Курдыш, жарко дыша на ухо. — Вку–у–сно, ой, как вкусно!
И раздвинулись заросли, и вышел Егор на поляну. Горел жаркий костер, и в свете его, в тучах искр, в голубом дыму, теснились сотни существ, опоясанных гирляндами и венками из цветущих листьев папоротника, плясали, пели, дудели в свирели и рожки, прыгали, носились по поляне, взвизгивали, кувыркались через костер, вспарывая воздух легкими телами.
Егор остановился у края освещенного круга.
— Дальше я не пойду, — твердо сказал он. — Нечего мне там делать. Мне и отсюда хорошо видно.
— Его–о–р! — позвал его знакомый нежный голос, и Егор узнал Мавку.
Она шла к нему, неслышно ступая, и трава не сминалась под ее ногами. Обнаженная, стройная, текучая, как вода, изменчивая, как вода, убийственная и животворная, как вода.
— Ну, здравствуй, — сказал Егор, против воли сжав топорище. — Снова обниматься полезешь, русалочка?
Она приблизилась к нему, дохнуло холодом и влагой от ее тела. Бездумно и спокойно посмотрела в глаза, улыбнулась.
— Любимый ты мой, баский, — прошептала. — Скучал ли ты обо мне?
— Чуть не помер от тоски, — ответил Егор и, повернув голову к Курдышу, сказал: — Слушай, дружище, избавь ты меня от нее. Век не забуду.
— От Мавки–то кто тебя избавит? — задумчиво мяукнул кот. — От нее, как от воды, не убережешься. Да ты не бойся. Сегодня она тебя не тронет.
— А пропади она пропадом! — в сердцах сказал Егор и зашагал в другой конец поляны.
Мавка и в самом деле не стала преследовать его. Она расплылась по поляне текучим зеркалом и, журча, потекла в заросли.
Кучка пляшущих наскочила на Егора, рассыпалась перед ним, окружила. Толпа существ схватила его за руки и повлекла в освещенный круг, крича и улюлюкая. Мелькали лица, морды, рыла, хари, мохнатые, потные, вытянутые, сплющенные, заостренные, безгубые и брыластые. Все они тянулись к Егору, корчили ему гримасы, хохотали и щипались. Егор не вырывался, только лицо отворачивал, когда слишком близко нависала чья–нибудь нечеловеческая морда. Курдыш больно вцепился в плечо когтями, Егора не покидал.
— Это лешие тебя кружат, — говорил он. — Вот и Лицедей среди них. Узнаешь?
Кто–то в знакомом колпаке и в черных очках прижался к Егору.
— Ну как, Егорушка?! — прокричал он. — Эх, ночка–ноченька заветная! Да ты попляши, попляши, Егорушка, отведи душу–то, успокой ее, неприкаянную, потешь ее, бездомную! Соку–то выпей, хороший сок, ох, хороший!
— Не буду я пить ваш сок! — выкрикнул Егор. — И не заставите!
— Заставим! Заставим! — кричали лешие. — К Перуну его, к Перуну! Он так ему покажет! Он так его научит!
Егора плотно обхватили со всех сторон, сдавили и повлекли к костру.
Курдыш не расставался с ним, он только плотнее сжал шею лапами, и непонятно было, то ли он оберегает Егора, то ли, наоборот, — помогает им.
— Не брыкайся, Егор, — советовал он. — Все равно не убежишь. Назвался груздем, полезай в этот, как его… Ну, полезай, короче.
И Егора подтащили к огромному истукану. Голова у него была серебряной, длинная борода тускло поблескивала позолотой, а деревянное тело прочно поставлено на железные, уже поржавевшие ноги. В правой руке истукан держал длинный извилистый сук.
— Перун, а Перун! — заголосили вразнобой лешие. — Вот Егора–то научи! Долбани его молоньей–то! Вразуми его, бажоного! Повыздынь его да оземь грянь. Сок–то пить не желает!
И шевельнулся истукан, и затрещала его древесная плоть от внутреннего напора, заскрипело сухое дерево тулова, зазвенела борода, открылись серебряные веки, и на Егора глянули ясные голубые глаза.
— Пей! — приказал он громким скрипучим голосом и стукнул палкой о землю.
— Не хочу, — сказал Егор. — Не хочу и не буду. Не хочу таким, как вы, быть. Хочу человеком остаться.
— Был человеком — лешим станешь! Пей!
— После смерти, — согласился Егор. — А сейчас не заставишь!
И звякнули глухо железные ноги Перуна, и сверкнули глаза, и палка в руке налилась желтизной и, меняя цвета побежалости, накалилась добела. Он стукнул еще о землю, и посыпались ослепительные нежгучие искры. Лешие с визгом разбежались, и Егор остался один на один с Перуном, если не считать Курдыша, как ни в чем не бывало задремавшего у него на плече.
— Что же ты, внучек? — неожиданно мягко спросил Перун, с треском и скрипом наклоняясь к Егору. — Негоже так. Раньше–то вы меня почитали, а ныне посрамляете. Разве мы не одного корня?
— Не помню, — сказал Егор, растирая затекшие руки. — Не помню я тебя, Перун, и внуком твоим себя не считаю.
— Мудрствовать по–мурзамецки выучились, на курчавых да волооких богов нас сменяли. Прежде–то себя внуками Перуновыми да внуками Дажьбожьими чтили, а ныне–то где корень свой ищете? В стороне полуденной, да в стороне закатной. А корень–то здесь!
И Перун снова ударил раскаленным посохом о землю. Запахло озоном.
— Мы одной крови, — сказал Перун совсем тихо. — Выпей сок, обрети отчину.
И он протянул Егору рог, наполненный голубым светящимся соком.
— Эх ты, глуздырь желторотый, — по–стариковски нежно проговорил Перун, — не лешим ты станешь, а душу свою очистишь и с землей сольешься.
— После смерти, — упрямо сказал Егор, но рог принял. — После смерти мы все с землей сливаемся. Убить во мне человека хочешь?
— Вот и стань им. Стань человеком. Человек без роду что дерево без корней. Откуда ему силу черпать? Выпей, внучек.
Егор поднес рог ко рту. Густой сок закипал до дна, дурманил пряным ароматом.
— Хорошо, — сказал Егор. — Я верю тебе, Перун. Предки мои тебя чтили, и я почту. Будь по–твоему, дедушка. Твое здоровье! — и он залпом выпил жгучий, кипящий сок.
— Пей до дна! Пей до дна! — возликовали лешие и подхватили Егора под руки и потащили, смеясь.
— Ну вот, давно бы так, — мяукнул проснувшийся Курдыш и лизнул его в щеку горячим языком. — Видишь, не помер. А ты боялся.
И понесли Егора, не давая ему опомниться, остановиться, успеть ощутить в себе то почти неощутимое, что начало происходить с ним. Его развернули лицом к огню, и он увидел сидящего великана. Огромное мускулистое тело его было покрыто разбухшими от крови комарами, он не сгонял их, только изредка проводил ладонью по лицу, оставляя красную полосу. В руке он держал большой рог, наполненный соком.
— Это Белбог, — подсказал Курдыш. — Ты не бойся его, он добрый.
— Ну что, Егор, выпьем? — спросил великан басом.
— И выпьем, — согласился Егор. — Ты из рога пьешь, а комары из тебя. Очень мило.
— Так они из меня дурную кровь пьют, — добродушно ответил Белбог. Думаешь, легко быть добрым? Вот комарье из меня все зло и тянет.
— Давай вкусим добра! — сказал Егор и выпил свой рог. Не жмурясь и не переводя дыхание.
— А зла–то как не вкусить? — спросил кто–то вкрадчиво. — Со мной теперь выпей.
Не то зверь, не то человек, с блестящим, словно бы расплавленным лицом, меняющим свои очертания, протянул мощную лапу с кубком, зажатым меж когтей.
— Это Чернобог, — шепнул Курдыш. — Ты выпей с ним. Добро и зло всегда братья.
— Что же, познаю добро и зло, — усмехнулся Егор и осушил кубок и, не глядя, бросил его в чьи–то проворные руки.
Лешие снова подхватили его под мышки, подняли на воздух и посадили на чью–то широкую спину. Удерживая равновесие, Егор взмахнул руками и попал кулаком по бородатому лицу.
— Держись! — прокричал ему кто–то, спина под Егором вздрогнула, стукнули копыта, и он понесся по кругу.
Бородатый обернулся, ухмыльнулся, и Егор увидел, что сидит на том существе, которое принято называть кентавром.
— Покатаемся? — спросил кентавр. — Меня зовут Полкан.
И, не дожидаясь ответа, взмыл над костром. Дохнуло жаром. Егор покрепче обхватил Полкана за торс, а неразлучный Курдыш обнял Егора за шею мягкими лапами.
— Ну как, весело? — спросил Курдыш.
Кружилась голова у Егора, непривычный хмель наполнял тело. Полкан нес его через толпы существ, на мгновение свет костра выхватывал из темноты нечеловеческие лица всей этой нежити, выползшей из потаенных нор, слетевшейся сюда со всех концов заповедной тайги, но Егор уже не обращал внимания на их уродство, оно не резало глаза, но воротило душу, словно бы понятия о красоте и безобразии изменились за одну ночь.
Некто со змеиным телом и с крыльями летучей мыши пролетел рядом, и Егор увидел на его спине Машу. Она была та же и не та. Полудевочка, получертовка, с распущенными волосами, раскрасневшаяся, хохочущая.
Она махнула рукой Егору и взмыла высоко в воздух.
— Это вот Кродо, — пояснял на ходу Курдыш, меховым воротником обхвативший шею. — А вон и сам Купало. А это Леда, чрезвычайно воинственная, чрезвычайно… А вон и Ладо, такая уж, такая…
И Курдыш сладко причмокнул языком.
— А эти сорванцы — ее дети. Леля–малина, Дидо–калина, а тот, что постарше — Полеля. А вот тот, с четырьмя головами — Световид, добрый вояка. Те вон, лохматые да страховидные — Волоты, на любого страху напустят. Все собрались здесь, все уцелевшие. Сейчас только в тайге и можно скрыться от людей. Да и то, надолго ли?
— Навсегда! — сказал Егор и в азарте ударил пятками по бокам Полкана.
Тот взвился на дыбы, скакнул выше прежнего, и Егор невольно разжал руки и оторвался от его спины.
— Не бойся, — успел шепнуть Курдыш, — лети сам.
И Егор почувствовал, что не падает, а продолжает лететь по кругу, словно земля перестала притягивать его. Его снова окружили лешие, заговорили, залопотали.
— Ну что, Егорушка, добро винцо у нас? — прокричал в ухо подлетевший Лицедей. — Весело ли тебе?
— Катись ты! — крикнул, засмеявшись, Егор.
Ему хотелось хохотать и кувыркаться в воздухе от легкости, наполнившей тело. Хотелось обнимать всех этих уродцев, сплетать с ними хороводы, горланить песни без слов, пролетать сквозь пламя костра и пить сладкий, обжигающий сок, выжатый из голубых цветов.
И он закричал незнакомым голосом, похожим на голос Лицедея:
— Эх, ночка–ноченька заветная!
Увидел он и старого знакомого — Дейбу–нгуо. Сидел тот у костра, поджав ноги, окруженный кольцом волков, и напевал что–то, прикрыв глаза, и волки вторили ему тихим воем. И еще он увидел древних богов этой земли душу тайги и тундры, приземистых, могучих, с лицами, блестящими от медвежьего жира, рука об руку пляшущих со славянскими богами и славящих изобилие, вечность и неистребимость жизни.
Только Дейба–нгуо, бог–Сирота, сидел один и ни в ком не нуждался. Он предвидел конец вечного, истребление неистребимого, иссякание изобилия и оплакивал это в своей песне.
И пил сок Егор из больших и малых рогов, пил со Стрибогом, и с Дажьбогом пил, и Ладо целовала его, и Леля–малина играл для него на свирели.
— Эй! — кричал во весь голос Егор. — Эй вы, тупиковые ветви эволюции! Я занесу всех вас в Красную книгу! Слышите?! Отныне вас никто не тронет! Живите как хотите!
И смеялись лешие в ответ, взбрыкивал копытами Полкан, русалки на лету щекотали Егора и прижимались на миг к его телу своим — холодным и упругим.
Мелькало, кружилось, мельтешило, расплывалось, переплавлялось в огромном огненном тигле, смешивалось, рождалось, умирало, распадалось, соединялось из миллиона раздробленных крупиц и снова расщеплялось, погребалось, воскресало, возносилось и низвергалось…
И когда, уставший, он опустился на краю поляны, то увидел, что Курдыш незаметно исчез, а рядом стоит Маша. Обнаженная, тонкая, без улыбки, без слов, смотрит на него.
И он потянулся к ней, и обнял ее, и прижал к себе, и она обхватила его руками за шею, и он ощутил, как она входит в него, вжимается своей плотью в его плоть, исчезает в нем, растворяется, уходит без остатка в его тело. Он не стал отстраняться, не испугался, а обнял крепче и обнимал так до тех пор, пока не увидел, что сжимает руками свои собственные плечи. И он почувствовал, что он уже не он и что в нем две души и два тела. И то, к чему слепо стремятся люди, сжимая в объятьях своих любимых, то, потерянное и забытое ими навсегда, вернулось к Егору.
Но это был уже не Егор.
Меховая одежда приросла к телу, он потянул за рукав и ощутил боль, словно пытался снять с себя собственную кожу. И уже не обращая внимания ни на кого, он лег на землю, вжался в нее, животворную, теплую, и пустил корни, и стал деревом, и вырастил на своих ветвях плоды. Плоды познания добра и зла, познания души природы.
А наутро пошел дождь. Исподволь, постепенно набирая силу, падала на тайгу разрозненная вода, поила корни и листья, приводила в движение загустевшие соки, обмывала, обновляла, спасала от смерти, сбивала на землю увядшие голубые венчики цветов, лилась ровными тугими струями на спину лежащего человека.
Спит Егор посреди поляны, и нет никого рядом с ним, и в то же время вся тайга склонилась над его головой и баюкает, и навевает сны — один лучше другого.
И в снах тех звери и птицы, деревья и травы приходят к нему и говорят с ним на своем языке, и все слова понятны, и нет нужды называть живых существ придуманными людьми именами, ибо и он сам, и все они — едины и неразделимы. Все, что дышит, растет, движется, все, что рождается, изменяется, обращается в прах и снова возрождается, — все это, от микроба до кита, было им, Егором, и он был всем этим, живым, вечным.
Изменяюсь, следовательно, существую. Суть живого в вечном изменении, и Егор изменился. Изменился, но не изменил ни людям, ни лесу.
Перун выполнил свое обещание. Егор остался Человеком.
7
Через неделю на него наткнулись эвенки, переходившие реку. Егор сидел на берегу и, свесив ноги в воду, разговаривал с кем–то невидимым. Он долго не признавал людей, заговаривался и твердил о том, что в нем заключены все звери и деревья тайги. Его отмыли, накормили, посадили на оленя и привезли в стойбище. Пока ожидали вертолет, Егор бродил по стойбищу, разговаривал с оленями, гладил собак, и те не кусали его. О нем заботились и обращались с ним, как с больным человеком, свихнувшимся от долгого блуждания по тайге. На все вопросы он отвечал односложно, но от разговоров не уклонялся, и похоже было, что он не видит большой разницы между оленями и человеком.
Прилетел вертолет, и его увезли сначала на базу геологов, а оттуда в город.
Лежал он в светлой комнате вместе с тремя больными. Один из его соседей был Генералиссимусом галактики, и от его команд хотя и не гасли звезды, но сны снились беспокойные, поэтому Егор на ночь превращался в дерево и спал без сновидений до самого утра.
Лечащий врач охотно беседовал с ним, по–видимому, ему нравились рассказы Егора, а может быть, это была просто профессиональная вежливость. Егора он слишком–то не разубеждал, а лечил его согласно науке, стремясь расщепить его многоликую душу.
Когда Егор отдохнул и набрался сил, он понял, что лежать в этой комнате и ничего не делать для спасения вымирающего племени по меньшей мере преступно.
И как–то ночью он разделил себя на стаю малиновок и вылетел в форточку, минуя яркие фонари.
То ли снова вернулся в тайгу, еще не тронутую человеком, то ли просто умер, отдав свое тело земле, а душу рассыпав среди трав и кузнечиков.
И никто не искал его, да и искать было бессмысленно.
Теперь он был везде, где билась жизнь, где цвел цветок и пела пчела.
Надолго, может, навсегда
Страшно мне: изменишь облик Ты.
А. Блок.В четверг, в двадцать часов московского времени, Климова разлюбила жена. В его родном городе была полночь, и в последнюю минуту четверга, не дождавшись пятницы, он не выдержал и заплакал.
Спина его вздрагивала, он вытирал слезы рукавом и старался дышать глубже, чтобы успокоить прерывистое дыхание. Жизнь ломалась на глазах, деформировалась, растрескивалась, и то будущее, которое Климов придумал для себя на ближайшие годы, уничтожалось и превращалось в ничто.
Дети спали, а они сидели на кухне, все еще муж и жена, прожившие не так уж и мало вместе. Она пила чай большими звучными глотками и на слезы Климова не реагировала. Тогда он спросил, почему она так сделала и считает ли справедливым такое решение: ведь уже многое позади и начинать сначала будет очень трудно. Она улыбнулась, и долила себе чаю, и зачерпнула ложечкой сахар, и спокойно посоветовала ему хоть раз в жизни быть мужчиной. Она все обдумала, все решила: разведутся они быстро, без скандала и унизительной дележки, разменяют квартиру и будут жить сами по себе. Она устала заботиться о нем, беспомощном и слабом, ей невмоготу нести это бремя, когда и дом, и дети висят на ней одной, а он, так называемый глава семьи, делать ничего не умеет, и если бы не она, то он давно бы погиб.
Она говорила, а он слушал, все слова были знакомые, и смысл их ясен давным–давно, и он внутренне соглашался с ней, как все эти годы, но легче от этого не становилось — со всей беспощадностью он осознал, что это не простая ссора, а конец всего прошлого, а значит, и будущего.
Когда она замолчала, Климов встал на колени и попытался уткнуться лицом в юбку, она оттолкнула его, и он чуть не упал. Тогда он рванул ворот рубашки и несильно ударился головой о пол. Она спокойно заметила, что пуговицы придется пришивать самому и не стоит будить соседей громким стуком… Он снова заплакал, но слез не было. Оставались боль и чувство потери, которые горше любого горя.
Он спросил у нее, не полюбила ли она другого. Она ответила, что в этом совершенно не нуждается. Он не поверил, тогда она сказала, что да, она полюбила, полюбила себя, ей стало жаль свою напрасно увядшую жизнь, и она твердо решила избавиться от груза, тянущего ее на дно.
Он спросил о детях, она сказала, что дети останутся с ней, ведь он не сможет ни прокормить, ни воспитать их. Он знал, что все споры с ней бесполезны, она намного сильнее его, и склонился перед этой силой с обреченностью висельника, и поплелся в ванную, на ходу запахивая рубашку…
После развода Климов перебрался в маленькую комнату так называемого секционного типа, а проще говоря — в коммуналку, где, кроме его, было еще пять комнат. Все дела по разводу и размену решала за него жена, и это была ее последняя забота о нем. Он соглашался на все, он думал, что если прежняя жизнь разрушена навсегда, то новая, как бы она ни начиналась, никогда уже не приведет ни к чему хорошему. Хорошее Климов связывал с той жизнью, когда он приходил в чистую и уютную квартиру, где ждали его голоса детей и забота жены, столь естественные, что казались сродни воздуху, воде и смене времен года.
Жена выделила ему необходимую мебель и посуду и в общем–то разделила все по справедливости, ведь у нее оставалось двое детей, а Климов вдруг стал холост, одинок и свободен.
Приходя с работы, он пробирался по тесному коридору, где всегда висело чужое белье, а с кухни доносились голоса и запахи, и чужие женщины задевали его локтями, и чужие мужчины в мятых майках хмуро кивали ему.
В первые дни он бедствовал. И совсем не от безденежья, а просто потому, что никак не мог приучить себя покупать хотя бы булку хлеба по пути с работы. Лежа на диване и глядя вверх, он думал о том, что вывернутый наизнанку потолок, ограждающий от него небо, превращается в чей–то пол, и тот, кто выше его, попирает его своими ногами, и так же, как он, дышит на своем диване, и так же смотрит вверх, в белую пыльную стену, поставленную горизонтально.
Мать Климова, умершая не так давно, считала мужчин никчемными придатками рода человеческого, долго и красноречиво могла говорить на эту тему, и, право же, в свое время из нее получилась бы неплохая царица амазонок. Но ее единственный ребенок был, к сожалению, мальчиком, и она прилагала все усилия, чтобы не замечать этого уродства. Она даже одевала его, как девочку, правда только дома, потому что смеялись больше над ней, чем над ребенком. Она покупала ему куклы, не стригла волосы, учила вырезать из бумаги платьица и сарафанчики. А самому Климову было все равно, кто он есть на этой земле, он знал, что живет, дышит воздухом, пьет воду, понимает речь людей и даже — совсем немного — птиц и зверей. Он знал, что его называют человеком, и не так уж и важно, к какой из двух разновидностей рода людского он принадлежит. Но это было в раннем детстве, потом стало трудно — он постоянно ощущал свою раздвоенность, и отрочество прошло для него, точно затяжная болезнь. Он переболел им, как оспой, и природа развернула Климова так, как и задумала раньше, потому что она всегда исполняет все задуманное и тем отличается от человека.
Климов влюбился. Она была высока, сильна и прекрасна. Так казалось Климову. Сам он был невысок, хрупок телом и не любил зеркала. Он вконец поссорился с матерью и долго, униженно ухаживал за той, лучше кого не бывает. Они поженились, она добилась квартиры, она родила ему умных красивых детей, совсем не похожих на Климова, но все равно родных и любимых. И вот она разлюбила его, теперь он живет один и никому на свете не нужен. Даже самому себе.
Он запомнил последнюю ночь, когда были уложены вещи и наутро они должны были разъехаться по разным квартирам, надолго, быть может, навсегда. Они снова сидели на кухне, пили чай, курили. Климов не плакал, он знал, что это ни к чему, он просто хотел узнать до конца, выяснить до полной прозрачности, что же произошло с ней. Он чувствовал, что она не лжет, ей в самом деле было тяжело с ним, неприспособленным ни к чему, и пусть ее называют злой и бессердечной, но двое детей тоже требуют любви и внимания. Тогда он сказал, что это похоже на кораблекрушение. Они на плоту посреди океана, а запасы воды только на троих. Значит — он лишний, значит — он, мужчина, должен уступить право жить женщине и детям. Она пожала плечами и сказала, что это слишком мелодраматично, но в общем–то он прав. И еще добавила, что мать Климова сгубила его своей любовью, а после и ей самой приходилось исполнять роль матери, потому что Климов может быть только сыном, а мужем — никогда. А такой взрослый сын, как он, похож теперь на кукушонка в гнезде малиновок.
— Нет, — сказал он, — дело не в этом. Конечно, я некрасивый, слабый, часто болею, а тебе должны нравиться сильные, высокие мужчины. Если бы я сумел изменить свою внешность, то все было бы по–другому.
Ему стало жаль себя, невиновного в том, что природа вылепила его так, а не иначе.
— Ерунда, — сказала она. — При чем здесь внешность? Если бы ты изменился внутри, тогда бы я…
— Что тогда? — спросил он с надеждой.
— Ничего. Но я думаю, что одиночество пойдет тебе на пользу. И я была бы рада за тебя, если бы тебе удалось измениться к лучшему.
— Ты вернешься ко мне, если я изменюсь? Ведь мы были так счастливы.
Она кивнула головой.
Начались неприятности на работе. Он не высыпался, недоедал, забывал выгладить брюки и сменить рубашку, часто допускал ошибки в расчетах, и хотя к нему относились сочувственно, но дело есть дело, и с работой он просто не справлялся. Задерганный и усталый, он приходил домой, сил хватало только на то, чтобы умыться и долить чайник. Он ложился на диван и, расслабившись, смотрел на свой потолок — вывернутый наизнанку пол, или на свой пол — перевернутый потолок тех, кто внизу.
Кто–то ходил с той стороны потолка, иногда оттуда доносились голоса или музыка, или просто что–нибудь тяжелое падало на пол, и тогда потолок отзывался тихим эхом.
И Климов привычно думал о том, что тот, кто живет наверху, так же недоступен для него, как, скажем. Бог или Австралия, которая для него никогда не станет реальностью. Ему не приходило в голову, что можно подняться на другой этаж и попросить у того, высшего, сигарету или щепотку соли, и познакомиться с ним, и поговорить о чем–нибудь просто, если получится.
Он подолгу размышлял о благородстве и совершенстве одиночества.
Одиночество — это жизнь без зеркал.
Пусть нет никого, кто бы мог помочь тебе, но зато нет и тех, кто помешает или повредит. Нет никого, кто полюбит тебя, но нет и ненавидящих тебя.
Одиночество — это точка, близкая к равновесию, гармонии. Недаром отшельники достигали совершенства только в уединении.
Он утешал себя высокими примерами, но самому до пустоты в сердце не хватало жены и детей. Не другой жены, а именно той, которую он выбрал много лет назад. Не чужих детей, а именно тех, которых он помнит и любит с той минуты, когда, прислонив ухо к твердеющему животу, услышал требовательное шевеленье жизни.
Они были близнецами, мальчик и девочка. Непохожие друг на друга, они быстро росли, и Климов полюбил их по–настоящему, когда первыми, еще невнятными словами они стали пытаться выразить свои желания. Климову было за тридцать, но он часто отождествлял себя с близнецами, он сам хотел быть ребенком, вернуться туда, в страну неразличения добра и зла, незамутненных зеркал и чистого дыхания.
Дети походили на мать, самостоятельные и независимые, они быстро вытягивались, лица их теряли младенческую бесформенность, становились красивыми и резковатыми. Климов смотрел на них и думал о том, что человек не свободен уже потому, что наследует душу и тело своих предков. Еще до рождения, в горячей и темной утробе, великий прозорливый слепец медленно лепит будущего человека и наделяет его чертами забытых людей, связанных невидимой, но неразрушимой цепью.
Климов вспоминал последние слова жены, и казалось ему, что если он изменится и заставит себя быть таким, каким бы хотела она его видеть, то все повернется к лучшему. И в самом деле, он всегда был беспомощен, и дело даже не в том, что не умел делать простую домашнюю работу, а в том, что не привык принимать решения, не умел думать за себя, а тем более за других. А все это означало, что он не свободен, он зависел сначала от матери, потом от жены, а сам по себе жить не умел. Он лениво раздумывал о том, что даже в рабстве есть свой постыдный сладкий привкус.
Приятнее подчиняться, чем выносить решения, легче осуждать власть, чем нести на себе ее бремя…
Однажды Климов не выдержал и, несмотря на данное жене обещание, пришел к тому дому, где теперь она жила с детьми. Он сел на скамеечку против подъезда, ждал и рассеянно слушал разговоры старух, сидящих рядом. Он хотел увидеть своих детей хотя бы издали, еще раз взглянуть на тех единственных людей, возникновению которых из небытия именно он, Климов, был причиной, и вина его или заслуга в этом была столь велика, что печаль тяготила сердце и лишала покоя.
Они возвращались из школы, размахивая портфелями, и оживленно переговаривались. Им было по девять лет, девочка начала вытягиваться и обгонять брата. Она всегда отличалась от него упрямым характером, решительностью и самостоятельностью поступков, и Климов, глядя на нее, и в этот раз подумал о том, что жизнь никогда не бывает напрасной, если ты сам, пусть неузнанный и себя не помнящий, продолжаешь жить в других людях, совсем не похожих на тебя, но хранящих тайное родство с твоим телом, твоей душой.
Он не подошел к ним, не окликнул. Он стеснялся даже своих детей, не зная, о чем с ними разговаривать и как себя вести. Он следил за ними взглядом, пока они не скрылись в подъезде. Ему всегда казалось, что дети любят его. Он был мягок и все прощал им, и даже осмеливался защищать их от наказаний матери. Ему казалось, что если бы он подошел к ним сейчас, то они должны были обрадоваться ему, но не сделал этого и, как обычно, корил себя за трусость, слабость и нерешительность.
«Да, — подумал он, — она правильно сделала, что оставила меня. Забитый чиновник, ни рыба ни мясо».
Наверное, вид его, погруженного в раздумье и горестное самобичевание, вызывал любопытство старух. Они не осмеливались говорить о нем впрямую, а перешли к теме пьющих мужей, из–за которых страдают несчастные жены и невинные дети. Ему хотелось сказать, что к нему это не относится, что он трезвенник, что жену свою продолжает любить и ни разу не изменял ей, но потом справедливо решил, что вмешиваться в пустой разговор не стоит и вообще пусть все идет так, как и должно идти, он не борец, не хозяин жизни и ничего изменить все равно не сможет.
Его бывшая жена, далекая и недоступная, шла вдоль дома. Под пристальными взглядами старух он пошел к ней, было страшно, голос, еще не прозвучав, уже готов был задрожать, хотелось встать на колени и сказать, что без нее он погибнет, что готов стать таким, каким она пожелает, лишь бы она приняла его, и простила ему, и рассмеялась бы над злым своим поступком.
Он загородил ей дорогу и сказал:
— Давай поговорим. Только в подъезде. Старухи смотрят.
Она вскинула брови, поправила волосы.
— Послушай, Климов, я уже все сказала. Тебя не существует в природе. Считай, что ты умер. Есть я, есть мои дети, а тебя нет. С привидениями разговаривать я не хочу. Я слишком суеверна. Отойди.
Он мучительно покраснел и неожиданно для себя сказал:
— Дура ты и не лечишься.
Она легко отстранила его сильной рукой и, не оглядываясь, пошла к подъезду.
— Дура! — закричал он вслед. — И не лечишься к тому же!
В эту ночь он плохо спал, вернее, не спал совсем. Впервые он нагрубил этой женщине, неумело и глупо. Даже выругаться не умел, даже ответить достойно…
Было больно и одиноко, и Климов в скорби своей простер руки к потолку и взмолился:
— Господи, если ты есть, отзовись, поговори со мной!
Сверху доносились чьи–то шаги, и вдруг в самом деле он отчетливо услышал голос с той стороны потолка:
— О чем мне с тобой разговаривать?
— Хоть о чем, — сказал удивленный Климов. — Можно о погоде.
— Погода хорошая, — ответил тихий старческий голос сверху. — Она всегда хорошая. Если где–нибудь дождит, то в другом месте солнечно. А за облаками и подавно — всегда полная ясность.
— Там холодно, — пожаловался Климов. — Там можно попасть под самолет.
— Ерунда, — ответил тот, — главное — одеться потеплее и смотреть по сторонам. Зато просторно!
— Так ты Бог? — спросил Климов, не веря.
— Бог его знает, — ответил тот. — Может, и так. Не все ли равно.
— А конкретнее? — не унимался Климов.
— Тогда не Бог.
— Значит, ты — черт! — уверенно сказал Климов и отвернулся к стенке.
— Ну вот! — огорчился другой. — Что за глупый подход! Ты что, христианин?
— Кажется, нет, — осторожно сказал Климов, опасаясь подвоха. По–моему, я атеист.
— Тем более. Атеист, а говоришь глупости. Я — твой сосед сверху. Всего–навсего.
— А почему я тебя так хорошо слышу? — заинтересовался Климов.
— Акустика, — вздохнул сосед. — Думаешь, только у древних строителей были свои тайны? Между нашими комнатами есть узкий звуковой коридор. По нему можно разговаривать друг с другом. А ты сразу в мистику ударился! Для таких, как ты, всегда или Бог, или черт, или черное, или белое, или доброе, или злое, а середка — никогда. Дуалист дихотомический. Задрипанный к тому же.
— Да нет! — воспротивился Климов. — Между Богом и чертом тоже есть середка — ангелы. Меня мама в детстве ангелочком называла.
— Ясно, — сказал сосед. — Ты любишь самого себя. Так бы и сказал.
— Ну почему же? — обиделся Климов. — Я своих детей люблю. Когда они были маленькими, тоже на ангелочков походили. Кудрявые, голоса звонкие, щеки розовые. Я их очень любил.
— А сейчас меньше?
— Не знаю, — вздохнул Климов. — Они выросли и превратились в мальчика и девочку. А потом станут мужчиной и женщиной. Вот и все. А ведь ангелы бесполы.
— Ты опять разделяешь мир на две крайности, — сказал сосед. — Внешнее внутреннее, духовное — телесное… Скукотища! Ты, наверное, очень несчастен?
— Конечно, — охотно сознался Климов. — Я очень несчастлив.
— А почему?
— Ну как же! Меня бросила жена, она отняла у меня детей, я совершенно одинок. Меня никто не любит.
— Но ведь ты стал свободен! Теперь ты ни от кого не зависишь, тебе ни о ком не надо заботиться. Разве одиночество — это не шаг к совершенству?
— Я думал об этом, — удивленно признался Климов, — но мне от этого не легче. Я хочу, чтобы мне вернули утерянное — жену и детей.
— Значит, ты раб в душе? — ехидно спросил сосед.
— Глупости какие! — возмутился Климов и даже привстал с дивана. — Я снова хочу быть отцом и мужем. Это так обыденно и просто. При чем здесь рабство?
— Если человек привязан к веслу на галере или к тачке на руднике, разве мы не называем его рабом?
— Но это же разные вещи! — воскликнул Климов. — Ты упрощаешь! Отдавая любовь другому человеку, я получаю взамен тоже любовь. А раб за свою любовь получает зуботычины…
— А ты за свою любовь не получил ли хорошего подзатыльника? — перебил его сосед. — И думаешь, ты один такой? Как бы не так!
— Диалектика, — буркнул Климов. — Превратности жизни. Невезуха. С кем не бывает.
— Кто бы уж рассуждал о диалектике, так только не ты, — сказал сосед пренебрежительно и даже фыркнул. — Двоечник.
— А по какому праву ты меня оскорбляешь? — обиделся Климов.
— Ты меня звал? Звал. Хотел, чтобы я с тобой разговаривал? Ну вот, тогда и терпи.
— Я хотел, чтобы ты меня успокоил, а ты обзываешься.
— И буду! — уверенно заявил сосед. — Даже больше. Ты скотина, Климов. Слизняк малохольный, слабак. Страдаешь? Упиваешься своими страданиями? Мазохист вонючий!
— Ну, знаешь! — выдохнул Климов, но ничего больше не сказал, засопел и перевернулся на живот, уткнувшись в подушку.
Некоторое время было тихо. Включился холодильник, тонко зазвенели стаканы, стоящие на нем.
— Чаю хочешь? — неожиданно спросил сосед.
— Хочу, — буркнул Климов.
— Налей в чайник воды и включи. Потом завари и пей.
— У меня заварки нет.
— Тогда побрейся, — нелогично предложил сосед.
— Чего это ради? — опешил Климов и даже приподнял голову.
— Но ведь надо же что–нибудь делать. Встань и делай. Вон как зарос! Сколько дней–то не брился?
Климов молча встал с дивана и направился к двери.
— Эй! Зачем ты встал? — обеспокоенно спросил сосед.
— Сейчас поднимусь к тебе и погляжу, в какую там дырку ты за мной подсматриваешь. Мне это не нравится.
— И не вздумай! — испугался сосед. — У меня не прибрано! Мне неудобно.
— Ага! — обрадовался Климов. — Боишься!
— Стыдно же, — сказал сосед сконфуженно. — У меня облака нестираные.
— Какие еще облака?
— Обыкновенные. Кучевые. Какие же еще?
— А зачем их стирать?
— Чтобы беленькими стали, — терпеливо пояснил сосед. — Чтобы ветерок их весело гнал по синему небушку.
— Значит, ты все–таки Бог, — удовлетворенно сказал Климов и полез в шкаф за бритвой.
Сосед хихикнул и уронил на пол что–то тяжелое. Потолок Климова дрогнул.
— Ты там поосторожнее, — сказал Климов, намыливая щеки. — Для тебя это, быть может, и земля, а для меня — небо. Ты не продырявь его.
— Ты уже не обижаешься на меня? — спросил сосед, перекатывая что–то на полу.
— Больно надо, — беззлобно огрызнулся Климов. — На психов не обижаются.
Он неторопливо выбрился, плеснул в лицо одеколоном, поморщился и полез в холодильник. Хотелось есть. За окном светало. В стекло застучала синица. Осенние листья бесшумно падали вдоль прямоугольника окна и болью в душе не отзывались.
На работу он, конечно, опоздал. Ему сделали очередное замечание, он хмуро кивнул и обещал впредь так не поступать. Сослуживец по фамилии Терентьев подошел к столу, подышал в затылок, потом похлопал по плечу и спросил:
— Пьешь с горя, Климов? Помогает?
— Не пью, — ответил Климов. — Не помогает.
— И чего ты так изводишься, старик? Я вот на третьей женат, двум первым алименты плачу да еще и налево бегаю. И ничего. Жив–здоров, и голова по утрам не болит. Может, тебе бабу найти? Люську из третьего отдела знаешь? Хочешь, сведу? Женился бы на ней, она б тебя быстро в норму привела. А пироги она стряпает! Ну, хочешь?
— Не надо, — сказал Климов, покраснев. — Не люблю я пироги.
Потом его вызвал начальник, посадил рядом и протянул отчет, недавно законченный Климовым. На каждой странице были жирные пометки фломастером, перемежаемые восклицательными и вопросительными знаками.
— Вот видите, Климов, — вздохнул начальник и развел руками. Послушайте, не взять ли вам отпуск? Отдохнете от своих неурядиц, развлечетесь и, чем черт не шутит, может, наладите личную жизнь. Холостяком быть — штука не из легких. Вот почему вы сегодня без галстука? Рубашка грязная, брюки мятые. Вы уж не обижайтесь на меня, но у нас солидная организация, а вы ходите, простите, как бродяга.
— Можно, — сказал Климов. — Можно и в отпуск. Я понимаю. Давайте. В самом деле. Съезжу куда–нибудь.
— Вот–вот, — обрадовался начальник. — Езжайте, отдыхайте, хоть на юг, хоть на запад, хоть…
— Ясно. На все четыре стороны, значит. Выживаете, да? У меня горе, а вы меня выбрасываете?
— Ну, Кли–и–мов, — протянул начальник. — Я вам добра желаю, а вы, как барышня, ей–Богу.
В последний день перед отпуском к нему опять подошел Терентьев.
— Старик, — сказал он. — Это дело надо спрыснуть. Отпуск раз в году бывает. Если его не спрыснуть, он завянет. Я уж точно знаю. Маленький запойчик, а? Мы с тобой и две дамы? А?
— Да я не знаю, — смутился Климов. — Я ведь не пью. Не нравится мне.
— Да никому это не нравится, — засмеялся Терентьев. — Эх ты, птенчик! Всем противно, а пьют. Ничего не поделаешь, традиция. Надо чтить традиции. И Люську захватим. Послушай, баба на тебя глаз положила. Как узнала, что ты развелся, так сразу же начала о тебе информацию собирать. И то ее интересует, и это, и всякое такое. Все меня теребит, познакомь да познакомь. Ты не теряйся, не жениться же, в конце концов. Годочки, конечно, поджимают, а так ничего. Вполне годится.
— Для чего? — не понял Климов.
— Да пироги печь, дурашка! — захохотал Терентьев.
Климов никогда не любил рестораны с их громкой фальшивой музыкой, разношерстной публикой, неприветливыми официантами. Он не мог понять, для чего стремятся в душные большие залы, где вокруг только чужие, потные, равнодушные к тебе люди, если вкусно поесть можно и дома, а пластинка с хорошей музыкой намного лучше самодеятельности, навязывающей тебе свои вкусы. Но от Терентьева отвязаться так и не смог и пошел с ним, как был, в мятом костюме и захватанной рубашке. Терентьев привел двух женщин. Одна из них, назвавшись Люсей, сразу же взяла Климова под руку, и он, смущаясь и краснея поминутно, односложно отвечал на ее вопросы и все пытался высвободить локоть.
С чувством обреченности он выпил первую рюмку, но легче от этого не стало. Еда была дурно приготовлена, за соседними столиками сидели краснолицые крикливые люди, оркестр играл из рук вон плохо, и Климов совсем затосковал. Он смотрел на тесный круг танцующих, на неверные движения их, нарочито веселые лица, показную разухабистость и лениво раздумывал о том, что все это больше похоже на котел, в котором варятся яркие, пустившие сок куски овощей и мяса. Его быстро затошнило от запахов, мельтешенья красок, музыки, от Терентьева, громко рассказывающего анекдоты, смеющихся женщин. Он встал и сказал:
— Я пойду, а?
Терентьев сильно дернул его за рукав и посадил на место.
— Люся, — сказал он, — наш друг скучает. К чему бы это?
Люся подсела ближе, наполнила рюмку, подцепила вилкой салат и, смеясь, заставила Климова выпить. А потом еще одну и еще.
— Ну вот, теперь другое дело, — сказал Терентьев, когда смолкла музыка и зал постепенно стал пустеть. — Климов, мы пошли одеваться, а ты пока расплатись. Дай номерок, я возьму твое пальто. Да не падай, дурашка, держись прямо. А еще говорил, что пить не любит. Кто же не любит, дурачок?
И он снова рассмеялся.
Климова усадили на переднее сиденье такси, назвали адрес, с хохотом захлопнули дверцу, и он облегченно вздохнул, что наконец–то остался один и можно расслабиться и выдохнуть дурманящие пары и даже подремать немного, пока такси мягко катит по темным улицам города к его дому, уже почти родному и желанному. Но чьи–то горячие руки обняли его за шею, он вздрогнул и узнал Люсю.
— Нам по пути? — спросил он, отстраняясь.
— Ну и шутник же ты, Климов, — шепнула она и поцеловала его в ухо.
Громко стуча каблуками по ночному коридорчику коммуналки, они зашли в его комнату, и Климов поспешно захлопнул дверь. Соседей он стеснялся.
— Тесно у меня, — сказал он извиняющимся тоном.
— А мне здесь нравится, — сказала Люся, напевая и снимая пальто. — Чем меньше комната, тем ближе друг к другу.
Климов вздрогнул и с опаской взглянул на нее. Он не мог сказать, что она не нравится ему, просто она была чужой, а близкой могла быть только жена. Его жена и никто больше. Кроме нее, ему никогда не приходилось целовать другую женщину, и он заранее ежился, представляя себе, что сейчас, наверное, придется делать это, а бежать просто некуда, потому что дом у него один. Прямо в пальто он сел на диван и, спрятав голову в воротник, чуть не задремал.
— Эй, Климов! — капризно сказала Люся, расталкивая его. — Ты что хамишь? Мне это не нравится. Я к тебе в гости пришла, а ты развалился как ни в чем не бывало. Вставай сейчас же!
— Тише, — сказал Климов, приставляя палец к губам. — У меня потолок тонкий. Соседи услышат.
— Он еще и дурачится! — возмутилась Люся и чуть ли не силой столкнула Климова с дивана. — Раздевайся, мямля.
— У меня отпуск? — спросил Климов.
— Ну да, — удивилась Люся.
— Значит, я должен ехать в отпуск?
— Почему обязательно ехать? — сказала она, расстегивая пуговицы на его пальто. — Ты будешь сидеть дома.
— Ехать, — сказал Климов и застегнулся. — Ехать и сейчас же.
— Господи, — сказала Люся. — Шары залил и еще надо мной издевается. Алкоголик проклятый!
— Тише! — шикнул Климов. — Не зови его. Он и так подглядывает и подслушивает. Гаси свет и спи молча. А я поеду… На все четыре стороны.
Наверху словно рассыпали тяжелые бильярдные шары. Сосед отчетливо чихнул.
— Ну–ка, ложись спать, — скомандовала Люся и по–хозяйски стала стелить постель.
Климов сел на пол, сидел так и смотрел на Люсю, на худые, подвижные руки ее, еще красивое, но уже тронутое временем лицо и невольно вспоминал свою жену, ее сильные пальцы, ее прямой нос и округлый подбородок. Он хорошо понимал, что его жена не самая красивая, и уж Люся, во всяком случае, намного женственнее ее, но ничего с собой не мог поделать. Эта женщина была чужой, хотя могла бы стать своей. А та — наоборот, все еще оставалась родной, но уже готовой отторгнуться, забыться.
Он никогда не изменял своей жене и не верил, что это неизбежно. И сейчас, после развода, обретя хоть формальную, но все же свободу выбора, он женщину видел только в ней, своей жене, и только ее губы, ее живот, ее бедра представлялись ему женственными и поэтому желанными.
Он услышал шорох снимаемого платья. Это Люся, повернувшись к нему спиной, раздевалась и одной рукой уже тянулась к выключателю.
— Тебе жарко? — спросил он.
На секунду шорох прекратился.
— Ты меня не дразни, — сказала Люся с угрозой в голосе. — Спи там, на полу, и не вздумай ко мне лезть. Терпеть не могу пьяных. Ясно?
Климов улегся на пол, подложив под голову шапку, закрыл глаза и стал засыпать. Больше всего на свете ему хотелось сейчас снова стать ребенком, дитем, дитятей, с длинными кудрявыми волосами, как у ангелочка, и с красным ведерком в руках…
Климов никогда не искал в звуках человеческого имени скрытого смысла. Имя есть имя, оно ничего не говорит о человеке, как и само слово «человек», произнесенное на любом языке. Он был равнодушен и к своему имени и больше любил фамилию, не слишком редкую, но кажущуюся ему красивой. В детстве он искал в словарях созвучные ей слова: клик, клин, клинок, климат и еще много других, среди которых были и непонятные климатрон, клиринг… Слов было много, но, по непостижимой логике двора его детства, Климова прозвали самым обидным по созвучию: Клизмой. У всех ровесников были свои прозвища. Был Саня, прозванный почему–то Димой, был Прохват, прозванный так за то, что как–то на уроке его прохватил понос, был Лимон, образованный сложным путем из фамилии Колесников, были смуглый Копченый и черноволосый Китаец, круглолицый Колобок и длинноногий Цапля. Но Клизмой звали его одного.
У него были длинные вьющиеся волосы, мама всегда наряжала его в чистые костюмчики и рубашки, а весной заставляла носить берет вместо общепринятой кепки. Берет во дворе прозвали тюбетейкой, рубашки старались забрызгать грязью, а в волосы накидать репьев. Из–за этого мама перессорилась со всеми соседями, а он сам чувствовал себя во дворе и школе крайне неуютно, поэтому больше сидел дома и много читал, часто болел и думал о том времени, когда он вырастет и отомстит всем: маме за излишнюю любовь, а ровесникам — за презрение.
И вот он вырос, и уже начал стареть, и созревать для смерти, но мстить никому не хотелось, тем более маме, уже умершей и медленно забываемой, и только о детстве своем вспоминать не любил и не искал в нем, подобно многим, успокоение и сладкую печаль о светлых годах.
Он думал о том, что и в самом деле всю свою жизнь был рабом, свободы не знал никогда, и неизменно приходил в уныние, переживая заново дни унижений и незаслуженных обид. Несвобода была внутри его самого, и он догадывался, что она, как пружина в часах, составляет его основную суть, и не будь ее он погибнет. Он был не свободен уже потому, что унаследовал тело и душу своих предков. Слабое, некрасивое тело тысячелетия передавалось от человека к человеку: вслепую, через века, дошли до него эти светлые, почти прозрачные–глаза, редкие волосы, длинные худые пальцы, узкие плечи, и недаром он не любил зеркала, а однажды разбил большое мамино трюмо.
Зеркала говорили правду, ту самую, которую чествуют на словах, а на деле боятся.
Он мало знал своих предков. Об отце слышал только плохие слова и даже не знал, жив ли тот сейчас. Была еще бабушка, которую мама тоже не любила и часто говорила о ней гадости. Он мог судить о них, заглядывая в себя, проверяя на прочность то наследство, которое ему всучили без спроса. И он не любил этот дар предков, эту мягкую ленивую душу, слезливость и податливость, неспособность постоять за себя и неумение толкаться локтями. Как в детстве, он искал спасение в людях сильных и любил их и ненавидел одновременно, потому что они были более жизнестойкими, уверенными в себе и умели ступать по головам таких, как он.
Он думал обо всем этом утром, лежа на своем диване, когда Люся ушла, а он остался один, тягостно переживая чувство разбитости и головную боль.
О Люсе он не знал ничего, кроме имени, но имя было пустым и молчаливым. Ей было за тридцать, стриженые темные волосы, тонкие руки с большими кистями, резковата в движениях, многословна. Он не знал, что ее привело к нему, то ли боль одиночества, то ли просто женская тяга к покровительству мужчины. Он не знал о ней практически ничего и, честно говоря, узнавать не стремился. Его устраивало это незнание. Он боялся проникать в глубь незнакомого человека, боялся привыкнуть к нему и узнать его печали и беды, его тоску по несбывшемуся и беззащитность перед смертью, потому что всего этого было в избытке в нем самом.
Сперва — прикосновение к чужому человеку, когда начинаешь выделять его среди других, запомнив голос, походку, манеру разговаривать, потом проникновение болезненное и тягостное, когда приходится погружаться в чужие глубины, теряя что–то свое, невольно приобретая несвойственное тебе, нежеланное, чужеродное… Он не сходил с дивана, ему казалось, что предметы сработаны из картона или, более того, из бумаги, а тело его было живым, весомым, давящим на все это, бутафорское и лживое. Болела голова, было боязно ступить на хрупкий пол и подойти к полке с анальгином.
— Господи, — сказал он вслух, — мне страшно.
— Ну и дурак, — тихо проворчал старческий голос с потолка. — Это называется не страхом, а похмельем. Пей воду и терпи. Не ты первый.
— Ты подслушивал? — с подозрением спросил Климов.
— Еще чего! — с пренебрежением сказал сосед и даже, кажется, сплюнул. Это совсем неинтересно. Теперь ты счастлив?
— Конечно нет. С чего ты взял?
— Но ведь ты нашел женщину. Тебе этого не хватало?
— Совсем не так! — возмутился Климов. — Мне нужна моя жена и мои дети. И больше никто. Эта женщина мне ни к чему. Она чужая.
— Была чужая, может стать своей. Приручи. Хотя, мне сдается, что она тебя скорее приручит. Ты ведь слабенький, маленький, ты ведь у нас ангелочек.
— Не издевайся, — хмуро сказал Климов. — Если ты Бог, то помоги мне.
— С чего это ты взял, что я Бог? Я твой сосед.
— Ну, тогда помоги как сосед.
— А я некоммуникабельный! — ехидно заявил сосед. — Моя хата с краю. И вообще, что мне, больше всех надо?
— Но ведь кому–то я должен верить? На кого–то надеяться?
— На Бога надейся, да сам не плошай. Невелика мудрость.
— Тебе хорошо, — заныл Климов, страдая от головной боли. — От тебя жена не уходила.
— От меня ушло четыре жены, — гордо ответил сосед. — А я ушел от семнадцати.
— Ты говоришь совсем, как Терентьев. Пожилой, а пошляк.
— А ты молодой, а слабак. Опять раскис? Болван, все зависит от тебя. А ты лежишь и ждешь чуда. Если тебе нужна эта женщина, сделай так, чтобы ты стал ей нужен.
— Но как я сделаю это? Я ей совсем не нужен. Для нее я умер.
— А ты изменись.
— Я думал об этом. Но как же я изменюсь? Ей нужен сильный, волевой мужчина с широкими плечами и стальным взглядом. А я…
— Опять «я». Отстранись немного от себя, от своего нытья и давай метаморфируй.
— Чего? — не понял Климов.
— Изменяйся, говорю. Всего–навсего. Это же так просто.
— Может, для тебя просто, — засомневался Климов, — а я не умею.
— Захочешь — изменишься, — твердо сказал сосед и громко высморкался. Было бы желание. Если, конечно, ты считаешь, что все дело во внешности. Это вообще — раз плюнуть.
— Не смогу, — сказал Климов, морщась.
— Еще бы! Ты даже анальгин взять ленишься. Предпочитаешь страдать. Ну–ка, вставай, тебе говорю!
— Не кричи на меня, — сказал Климов, но все же встал.
— Ты ведь раб по своей натуре.
— Опять ты за свое. Я — свободный человек.
— Раньше ты был рабом у жены, а теперь у самого себя.
— У меня есть свобода выбора, — заспорил Климов, запивая таблетку.
— Вот потому ты и не свободен! — позлорадствовал сосед. — Свобода выбора уже является несвободой вообще.
— Нелогично.
— Еще как логично! Диалектика, мужичок, диалектика. Сильная штука.
— Ты облака выстирал? — спросил зло Климов.
— Выстирал. А ты хочешь в гости зайти?
— Хочу!
— А меня нет дома. Я ушел в магазин за хлебом. Вот так–то. Клизма…
— Глупый ты, — сказал Климов. — А еще Бог…
Пришла Люся. Она заставила его поесть, почти насильно одела и вывела на улицу. Взяв под руку, она болтала о пустяках, рассказывала об очередных похождениях Терентьева, о том, что погода в октябре стоит на удивление сухая и теплая, а на юге сейчас и подавно тепло. И еще о том, что в детстве она любила собирать гербарий из сухих листьев. Климову было неинтересно слушать ее, он молча кивал головой и думал о том, что его жена никогда не болтала понапрасну и вообще чаще молчала, а если и говорила что–нибудь, то взвешивая слова, правильно строя фразы, спокойно и красиво.
«Да, — подумал Климов, — лучше ее не бывает и быть не может». И глубоко вздохнул.
— Вечером мы пойдем в бар, — сказала Люся решительным тоном.
Климов снова вздохнул и покорно согласился. Ему было все равно. Он привычно положился на волю женщины. Так было легче, не надо было решать самому сотни малых проблем. Женщина знает, женщина умеет, женщина решит. А он — ребенок, дитя, почти что ангел в своей бесплотности и покорности.
— У меня нет чистой рубашки, — тихо сказал он. — И стирального порошка тоже нет.
— Ну, Климов! — осуждающе сказала она. — Не мне же стирать твои рубашки.
Они долго гуляли, заходили в магазины, она выбирала, он платил, потом зашли в кино и смотрели, как люди, получив свою пулю, умирают мгновенно и беспечно, словно бы смерть для них такое же привычное дело, как сон и еда.
Вечером они пошли в бар. Климов был гладко выбрит, галстук завязан безукоризненно, туфли начищены. Он нравился самому себе, и остальное его не интересовало.
Перед сном она попросила показать фотографии жены и детей. Он слегка перепил в баре и долго копался в альбомах и папках.
— Не знаю, — сказал он. — Куда–то делись.
— Она подала на алименты? — спросила Люся, надевая принесенный из дома халатик.
— Отказалась. И вообще она забыла меня.
— Ну и дура, — сказала Люся. — Ну и хорошо, что дура. Забудь и ты. А фотографии найди. Мне интересно.
На другой день была суббота, и Люся заставила его заниматься стиркой, уборкой, сама же быстро перезнакомилась с соседями, которых Климов едва помнил в лицо, и казалось временами, что он с Люсей живет уже много лет, но Климов отгонял эту мысль и все чаще его раздражала та или иная черта в ней, не сходная с его женой.
С тоской занимаясь непривычной работой, Климов вспоминал о том благословенном времени, когда все это было далеко от него, и если он что–нибудь делал, то так нарочито неумело, что жена молча отстраняла его и заканчивала сама. Он знал, что она презирает его за эту слабость, но противиться ей не умел да и не хотел.
«Одна жизнь, — думал он, неловко выжимая белье, — одна судьба, одна женщина. Судьба должна быть прямой линией, это и есть счастье. Для чего мне эта женщина, если нет моей, единственной?»
Вечером Люся сидела перед зеркалом и причесывалась. Потом она смывала тушь и тени, стирала помаду — лицо ее изменялось, и становилось видно, что ей давно за тридцать, что она устала и, быть может, больна, и к Климову пришло недоумение: что делает здесь эта женщина? Вот пришел к нему в дом чужой человек, непрошеный, незваный, покрикивает на него, заставляет спать на полу, а сам, как хозяин, расположился перед его зеркалом, призванным отражать только самого Климова, и делает вид, что все здесь принадлежит ему. Климов привык говорить то, что думает, потому что к нему всегда относились, как к слабому капризному ребенку, который может позволить себе роскошь делать все, что ему вздумается. И он спросил Люсю так:
— Ты что делаешь?
— Готовлюсь ко сну, — ответила она, не оборачиваясь.
— Тебе негде спать?
Она обернулась, недоуменно посмотрела на него и пожала плечами.
— Ты как сюда попала? — спросил Климов. — Разве я тебя звал?
— Не хами, — сказала Люся. — Твои шутки не смешны.
— Я не шучу. Я не просил тебя оставаться. Ты мне мешаешь.
— Послушай, Климов, это что — твоя манера разговаривать с женщиной?
— Я хочу знать! — сказал Климов и подошел к ней, встал за ее спиной. В зеркале отражалось ее лицо, а своего он не видел.
— Что ты хочешь знать? — спросила она, перебирая бигуди. Пальцы ее подрагивали.
— Почему ты пришла ко мне? Почему ты не уходишь к себе?
— Скотина! — выкрикнула она и, поднявшись, запустила в него белым цилиндриком.
Лицо ее побледнело, покрылось красными пятнами, и от этого она стала совсем некрасивой. Жена Климова никогда не закатывала истерик, и он даже растерялся немного.
— Ты чего? — спросил он, поднимая рассыпанные бигуди. — Я же хотел спросить.
— Это называется спросить? — срывающимся голосом сказала она. — Я пришла к тебе, я выходила тебя, я отдалась тебе, и этого мало? Ты еще хочешь поиздеваться надо мной, да? Унизить меня за мое же добро?
— Я тебя не просил об этом.
— Негодяй! Неблагодарная скотина!
И непоследовательно разрыдалась. Ни мать, ни жена Климова не умели плакать. Даже дети его только в младенчестве кривили рты капризным плачем, а повзрослев, замыкались в своей обиде и молчали. Из всех близких Климову людей плакал он сам и поэтому не знал, что делать теперь — накричать на нее или пожалеть. Он смотрел на Люсю, на ее искаженную бигудями, ставшую неожиданно маленькой голову, на большие руки, закрывающие лицо, но не испытывал к ней жалости. Она раздражала его. Люся плакала некрасиво, всхлипывая и шмыгая носом, изредка судорожно вдыхала воздух сквозь полусжатые губы, и получалось не то повизгивание, не то поскуливание. Было поздно, выгонять ее из дома казалось несправедливым и жестоким, но оставаться с ней в одной комнате тоже не хотелось, и он сказал так:
— Остынь. Я поднимусь к соседу.
— Еще чего! — услышал он тотчас недовольный голос сверху. — Только тебя не хватало.
Климов покосился на Люсю и погрозил потолку кулаком. Но она была слишком занята собой и не обращала внимания на чужой голос.
— Что же мне делать? — тихо спросил Климов.
— Не знаю, — злорадно сказал сосед. — Слабый говорит и плачет, сильный молчит и делает выводы. Помнишь, как много изводил ты слез и слов? Как часто ты рыдал? Слабый вызывает презрение, его слезы раздражают. А ты думал, что тебя пожалеют, если ты оросишь невинными слезами подушку? Ха–ха! Пацан! Ну а теперь поздравляю тебя, Климов, — другой рыдает, а ты молчишь. Ты сильнее! Ха–ха!
— Циник! — сказал Климов. — Старый, занюханный циник. — Я не хотел ее обижать.
— Еще бы! Ты слишком избалован. Ты с детства привык говорить и делать все, что вздумаешь. Другие терпели твои капризы, а теперь, когда тебя выгнала жена, ты строишь из себя оскорбленную невинность. А каково было ей выносить твои ежедневные истерики? Терпи и ты. И не вздумай выгонять ее, а то накажу!
— Вот наказанье господне, — вздохнул Климов. — Хоть посоветуй мне, как успокоить. Это очень неприятно, когда кто–то плачет.
— Не знаю, — сказал сосед. — Мое дело — сторона, Климов. В семейные дрязги не вмешиваюсь.
— Какие там семейные! — сказал Климов, но спорить не стал.
Наверное, сосед был прав. Климов смотрел на Люсю и вспоминал самого себя, то маленького, с кудрявыми локонами, бьющегося головой о пол, то взрослого, ползающего у ног жены, и ему стало стыдно и больно за унизительную свою жизнь, когда слабым всегда оказывался он, даже если эта слабость приводила к победе. Всю свою жизнь он был верен восточной мудрости: ураган ломает деревья, а траву лишь склоняет к земле. Он был убежден, что зачастую выживает именно слабейший, если, конечно, сумеет вовремя приспособиться к сильному. Но вот сейчас эта женщина опередила его, и ему ничего не оставалось делать, как признать свое поражение.
— Ладно, — сказал он Люсе. — Не плачь. Я был не прав. Успокойся.
Он понимал, что их отношения с печальной закономерностью переходят ко второму этапу — к проникновению друг в друга, и он обреченно вздохнул, словно освобождая место для чужой судьбы с ее неизменными тоской и бедами.
Климов заварил чай, погремел чашками. Плакать она перестала, и он с любопытством поглядывал на нее: что будет делать дальше? А ничего. Она прикрыла голову косынкой, вымыла лицо и молча легла под одеяло, отвернувшись к стенке.
— Не дуйся, — сказал Климов. — Я ведь ничего не знаю о тебе.
Он хотел добавить, что и не желает ничего знать, но рассудил, что такими словами ее не успокоишь, и поступил так, как, по его мнению, должен поступать сильный мужчина, снисходительный к капризам, великодушный к слабостям.
— Мне некуда идти, — сказала Люся из–под одеяла.
Голос ее был охрипшим и слабым, как после болезни.
— Тогда иди пить чай, — предложил Климов.
Она поколебалась, но вылезла из постели, накинула халатик и села за стол. Кончик носа красный и блестит, под глазами круги, морщинки на шее повторяют форму подбородка.
— У тебя нет дома? — спросил Климов, хотя это его совсем не интересовало. — Где же ты жила раньше?
— В одном доме, — неопределенно ответила Люся. — Я не хочу туда возвращаться.
— Муж, что ли?
— Какой там муж? — презрительно махнула рукой Люся. — Еще почище тебя!
Климов вздохнул, но сдержался.
— А родители у тебя есть?
— Мать есть. Только я с ней в ссоре.
— Неуживчивая ты.
— Все меня оскорбляют, — пожаловалась Люся, отпивая чай. — Я никому не хочу зла, а меня никто не любит.
Она запоздало всхлипнула и вытерла глаза рукавом.
— Замужем хоть была? — спросил Климов, чтобы поддержать разговор.
Люся кивнула, поставила чашку, закрыла лицо ладонью. Климов испугался, что она снова заплачет, и попробовал перевести разговор на другую тему.
— Завтра тебе на работу? — спросил он.
Но ей не хотелось вести рассеянный разговор, и она снова направила его в свое русло.
— Я очень несчастна, — всхлипнула она. — У меня был чудесный муж. Мы так любили друг друга, но он погиб.
Она замолчала, ожидая, наверное, что Климов участливо спросит ее, как он погиб. Климову стало неприятно. Он сам любил вести разговор так, чтобы именно он оказывался в центре внимания, его горе, его несчастья, его исключительная личность. Внимание собеседника, его участие, пусть даже притворное, было сладостным, а невнимательный человек, пропускающий мимо ушей его жалобы, неизменно вызывал у Климова неприязнь и даже ненависть. Он сделал попытку завладеть разговором.
— Я тоже очень несчастен, — сказал он и привычно вздохнул, шмыгнув носом.
Люся словно бы не слышала его.
— Мы жили на Севере, — заговорила она. — В тот день мы с Колей сидели на берегу реки. Был чудесный августовский вечер, солнце клонилось к западу, и лучи от него разбегались по водной глади…
Климов заскучал.
— У меня жена отняла детей, — неуверенно перебил он. — Сразу обоих. Я их очень люблю, а она отняла.
И тоже замолчал, ожидая, что скажет на это Люся.
— Напротив нас стояла на якоре баржа, — продолжала она. — Там были бочки с горючим — запас на зиму для нашего поселка. И вот там вспыхнул пожар. Сначала на носу, но огонь готов был перекинуться на горючее, а людей вокруг не было. Тогда мой Коля быстро разделся и бросился в воду…
— Они у меня близнецы, — скорбно вставил Климов. — Мальчик и девочка. Но совсем не похожи друг на друга. Добрые, умные, красивые и так меня любят. Бывало, прихожу с работы…
— Я бегала по берегу и звала на помощь. Плавать я не умела, поселок был далеко, и никто не слышал меня, а Коля доплыл до баржи и начал гасить огонь…
— …а сынишка мне на шею вешается и щекой о мою щеку трется…
— …но он был один, и сила огня превышала его силы. Начали рваться бочки…
— …а дочка гордая, вся в маму, но все равно подойдет и колени обнимет, ласково так, доверчиво…
— …он сбрасывал их в воду, тогда начала гореть река. И Коля мой тоже загорелся…
— Ну и цирк, — внезапно вставил сосед и шумно вздохнул. — Соплей размазано…
— Он погиб у меня на глазах. Я была как безумная. Я долго болела от горя, потом приехала сюда, чтобы поскорее забыться, отвлечься, уйти в работу…
Климову расхотелось говорить. Его не слушали, и он проглотил обиду вместе с последним глотком чая. Он засопел и хотел было упрекнуть Люсю в душевной черствости, но она опередила его и заплакала, уткнув лицо в ладони.
— Ладно тебе, — сказал он, морщась. — Его не вернешь. Что реветь напрасно?
— Ты черствый, — сказала Люся сквозь плач. — Ты сухой, у тебя нет жалости. Знал бы ты, как много мне пришлось пережить. Я на мужчин смотреть не могла, все мне казалось, что лучше моего Коли не бывает. Только год назад встретила одного человека, похожего на Колю, и полюбила его. Но он оказался подлецом, а теперь и ты меня выгоняешь. Я думала, ты добрый, а ты вот какой…
— Во заливает! — сказал сосед и восторженно прищелкнул языком. — Во дает!
— Помолчи, — сказал Климов им обоим. — Так будет лучше. И вообще, спать пора. Уже поздно. Завтра разберемся.
Люся еще поплакала немного и снова забралась под одеяло. Она долго ворочалась, шептала что–то про себя, вздыхала и стонала, потом понемногу успокоилась и затихла. Климов вымыл чашки, походил по комнате, мельком взглянул на свое отражение в зеркале, но что–то насторожило его, и он снова взглянул, сел и внимательно уставился на себя. Зеркало висело высоко, приходилось чуточку приподнять подбородок, чтобы увидеть все лицо. Было странное ощущение, что в зеркале отражается другой человек, не Климов. Он провел ладонью по щеке, дотронулся пальцем до носа, разгладил морщинки под глазами. Все было его, но одновременно чье–то еще, чужое.
— Не нравится? — спросил сосед.
Климов не ответил.
— Метаморфируешь, — удовлетворенно сказал сосед. — Хотел измениться изменяешься. Дело нехитрое. Изменщик!
И засмеялся своей шутке.
— Почему ты не любишь меня? — не выдержал Климов. — Что я тебе сделал?
— В том–то и дело, что ничего, — сказал сосед. — Ты умеешь только страдать и мучить других, а сделать что–нибудь не способен.
— Ты обидел меня, — вдруг отозвалась Люся из–под одеяла. — Ты равнодушен к моему горю.
— Я знаю, — вздохнул Климов. — Но ничего не могу с собой поделать. Помоги мне.
— Ну уж нет, — сказал сосед, звякая ложечкой в стакане. — Я тебя топить буду.
— Как? — спросила Люся.
— Страшно мне, — сказал Климов.
— Врешь, — уверенно сказал сосед. — Врешь и не краснеешь.
Люся выглянула из–под одеяла, повертела головой по сторонам, остановила взгляд на Климове.
— Ложись, — пробормотала она. — У тебя лицо бледное.
— Неправда, — ответил Климов сразу обоим. — Ты ошибаешься.
Сосед не ответил, потом проговорил нараспев длинную фразу на незнакомом языке и весело рассмеялся.
— Господи, — сказала Люся, — ну и акустика в этом доме. Нас тоже слышно?
— Слышно, — сказал Климов и погасил свет.
Он нашел эти фотографии. Четыре лица. Мужчина и женщина, мальчик и девочка. Красивая женщина, блеклый пухлогубый мужчина и дети, похожие на мать. Климова неприятно удивило свое собственное лицо. В зеркале оно казалось более красивым и значительным. По крайней мере, в последние дни. Он сел перед зеркалом и стал сравнивать свое отражение и фотографии, сделанные год назад. Люси Дома не было, стесняться было некого, и он морщил лоб, вытягивал губы трубочкой, оттопыривал уши пальцем, растягивал в стороны уголки глаз. Его не покидало ощущение, что зеркало отражает чужое лицо или на лицо надета маска. И то и другое было неприятно. Тонкая пленка серебра отражала мужское лицо с твердым подбородком, большим лбом и пристальным взглядом серых глаз. Черные крупинки серебра на фотографии округлое курносое лицо с большими ушами, маленькими сонными глазами. Между этими людьми было несомненное сходство, какое бывает у братьев, но все же это были совершенно разные люди.
— Это твоя работа? — спросил Климов, уверенный, что его услышат.
Наверху промолчали.
— Эй ты, задрипанный бог! — сказал Климов. — Это и есть твоя метаморфоза? Для чего мне она?
Наверху забулькало, словно переливали воду из бутылки в стакан.
— Помалкиваешь? — угрожающе спросил Климов. — Воды в рот набрал? Я не погляжу, что ты бог, я тебя сам, как черепаху, разделаю.
— Обнаглел, — удовлетворенно сказал сосед. — Богоборцем стал. Ишь ты!
— И ты меня еще топить собираешься? Меня, Климова?
— Тебя, — радостно подтвердил сосед. — Клизму топить буду.
Бульканье нарастало, и вдруг Климов увидел, как стык потолка и стены темнеет, набухает водой, и вот узкая струйка воды потекла вниз и застучала по подоконнику.
— Эй! — испугался Климов. — Ты с ума спятил? Закрой воду!
— Потоп, — сказал сосед. — У меня батарея течет. Самому хлопотно.
— А мне какое дело! — возмутился Климов, подставляя ведро. — Вызывай слесаря.
— А он не может! — обрадовался сосед. — У него голова болит.
— Тогда я сам к тебе поднимусь.
— Хляби у меня разверзлись, — торжественно произнес сосед. — Без акваланга не попадешь, салага.
— Хоть бы сам потонул, — в сердцах сказал Климов, вытирая лужу. — Бог называется. Ни пользы от него, ни сострадания, одни неприятности и оскорбления.
— Я бы рад потонуть, — приглушенно сказал сосед, — да не умею. Я же бессмертный… И чего ты раскипятился? Твое желание исполняется. Теперь наверняка твоя жена вернется к тебе. Разве ты не об этом мечтал?
— Мечтал, мечтал, — буркнул раздраженно Климов. — Только на черта мне твой потоп? Без этого нельзя, что ли?
— Счастья надо добиваться упорным трудом, — сказал сосед голосом матери Климова. — Только в испытаниях выковывается настоящее счастье.
Климов вздрогнул. Он узнал надоевшие нравоучения.
— Пересмешник, — сказал он. — Хулиган. Я на тебя в ЖКО пожалуюсь, что жильцов топишь.
— А я на тебя в местком анонимку напишу, — мстительно сказал сосед, что ты в бога веришь и с соседями ругаешься. Вот!
— А я в тебя не верю! Нужен ты мне!
— Софи–и–ст! — насмешливо протянул сосед. — Схоластик. В бога не веришь, а с богом ругаешься. Во даешь!
Климов подставил ведро и пошел выливать наполненное.
— Простите, — спросил он старушку на кухне, — вы не знаете, кто живет надо мной?
— Кто–нибудь да живет, — ответила старушка. — Человек живет какой–нибудь.
— Мужчина или женщина?
— Или мужчина, или женщина, — ответила она, — или оба сразу. Уж это непременно. А вот вы где живете?
— Здесь! — удивился Климов. — Уже месяц!
— Ишь чего. А я и не видела такого, — спокойно сказала старушка и пошла доваривать щи.
Через час потоп прекратился. Климов вымок и взмок, пока выливал воду и вытирал пол. Ругаться больше не хотелось. Он уже убедился в том, что конфликтовать с соседями хлопотно, а с богом — глупо. Даже если такого и не существует.
То и дело он подходил к зеркалу и всматривался в затуманенное стекло. Ему казалось, что лицо его изменяется без перерыва. Ощущение было чисто физическое. Словно бы поверхность лица стала размягченной, текучей, и движения мышц подчас не совпадали с его желанием нахмуриться, скажем, или улыбнуться. Хотелось сбросить эту раздражающую маску, он часто дотрагивался до лица, пытаясь избавиться от тягостного ощущения, но оно не уменьшалось.
В свое время из маленького ребенка он превратился в мальчика, потом в худого веснушчатого подростка, в юношу, мужчину, и все эти естественные метаморфозы никого и никогда не удивляли. Так заведено. Человеку свойственно не только ошибаться, но и изменяться до тех пор, пока последняя перемена не растворит его в земле. И как знать, думал в эти часы Климов, быть может, его теперешняя метаморфоза тоже закономерна, просто более редка и менее известна. Ведь был он когда–то ребенком, и ничего никто не удивляется, что тот, позавчерашний маленький Климов, и этот, тридцатилетний, — один и тот же человек.
Он думал так, но мысли эти все равно не успокаивали. Сам он ни разу не видел и не читал нигде, чтобы человек вдруг начал менять свою внешность. Тогда он повернул зеркало стеклом к стене, сел на диван, взял книгу наугад и, стараясь не обращать внимания на взбунтовавшееся лицо, стал дожидаться Люсю.
Она пришла, нагруженная чемоданами, тяжело опустила их у порога и, не раздеваясь, села на стул. Климов боялся повертываться к ней, он не хотел пугать ее новым лицом.
— Как дела? — спросил он с дивана.
Она промолчала, вздохнула и, поднявшись, начала медленно раздеваться.
— У тебя плохое настроение? — спросил он.
Она открыла чемодан и стала вынимать платья, белье, безделушки.
— Не хочешь разговаривать? — спросил Климов.
— Хочу, — сказала она раздраженно. — Я смертельно устала. У меня болит голова. У меня неприятности по работе. А ты весь день лежишь на диване и бездельничаешь.
— У меня отпуск, — вздохнул Климов. — Я не виноват, что у тебя болит голова.
— Мог бы сходить в магазин и приготовить ужин.
— Я не знал.
— Мог бы и догадаться.
— Не срывай на мне плохое настроение. Это несправедливо.
— Несправедливо, когда ты лежишь на диване и ни черта не делаешь.
— Послушай! — не выдержал Климов. — Я не лежу, а сижу, как видишь. И вообще, какого черта ты предъявляешь мне претензии? Ты кто? Не нравится уходи. И нечего мне нервы мотать!
— Ах, вот как! — вскричала Люся и запустила в Климова булкой хлеба.
Климов увернулся. Буханка пролетела мимо и ударилась в стену.
— Не бросайся хлебом, дура! И оставь привычку бросаться чем попало.
— Конечно! Хлеб для тебя — это что попало! Ты ничего не ценишь. Белоручка!
Климов опешил. Люсина логика ошарашила его. Тогда он встал, подошел к ней и взглянул в лицо.
— Ну, что уставился, черт белоглазый? — сказала она.
— Гляжу на тебя новыми глазами, — сказал Климов, ожидая, когда она сама увидит его другое лицо, и даже радуясь заранее ее растерянности.
— Ну и что? — спросила Люся, нимало не удивляясь. — Не нравится?
— А тебе? — спросил Климов. — Мое лицо тебе нравится?
— Лицо как лицо. Страшное и наглое. Отойди, не мешай дело делать.
— А ты близорукая, да? Посмотри на меня внимательнее.
— Ох, и надоел же ты мне! — сказала Люся и ушла на кухню.
— Я ей надоел! — сказал Климов двери. — Нет, вы поглядите, я ей надоел! Пришла непрошено, ведет себя, как хозяйка, да еще и шпыняет меня, как мальчишку. Ну, не свинья ли?
— Свинья, — охотно согласился сосед.
— А ты не лезь в чужие дела! — пригрозил Климов. — И без тебя тошно.
— Должен же я с кем–то разговаривать, — возразил сосед. — Мне, может, скучно.
— А ты полетай, — предложил Климов. — За облаками. Там чудная погода. Только оденься потеплее и по сторонам гляди.
— Злопамятный ты, — вздохнул тот. — Весь в меня. И не боишься совсем. Десять казней на тебя нашлю.
— Знаю твои казни. Тьму египетскую ты коротким замыканием заменишь, вместо саранчи клопов нашлешь, и все остальное так же. Не казни, а козни. Мельчает бог, ох мельчает! И в кого превратился? В склочного соседа по коммуналке. Позор!
— С кем не бывает, — скорбно сказал сосед. — Все изменяется. На то и диалектика. Ты ведь тоже изменяешься.
— Самоутверждаюсь.
— Вот–вот. Самоутверждение у слабых людей всегда начинается с унижения других. На большее ты и не способен.
— Способен. Я буду драться. Хватит лежать и ныть в тряпочку.
— Ангел резвый, веселый, кудрявый, не пора ли мужчиною стать? неожиданно пропел фальцетом сосед.
— Не искажай цитаты, — сказал Климов. — Ты сам хотел этого.
— Хотел, да расхотел. Ты ведь знаешь, я все назло делаю. Такой уж у меня характер.
— Сам же унижаешь других. Слабак ты, а не бог.
— Сосед я твой, — вздохнул тот. — Всего–навсего. Сколько тебе об этом твердить? Заладил одно: бог да бог. Ты вот только помощи у меня просишь, а сам ни разу не поинтересовался, может, и я в ней нуждаюсь. Может, я старый, больной, одинокий? Может, у меня ревматизм застарелый и камни в почках? Может, мне стакан воды подать некому? Ты привык, что о тебе заботятся, а сам о других не умеешь. Поучись сначала, а потом уже самоутверждайся.
— Ты мне ничего о себе не рассказывал. Я помогу, если надо.
— А зачем обременять других своими бедами? У всех своего горя хватает. Ты лезешь со своим, а чужого не видишь и знать не хочешь. Нет, Климов, рано тебе еще мужчиною становиться. Ты еще так, недоделок.
— Ладно тебе, — махнул рукой Климов. — Только ругать и умеешь.
— Был бы я твоей женой, — сказал сосед, — я бы тебя еще раз бросил. Только подальше и побольнее. Мне тебя не жалко.
— Тогда и мне тебя, — ответил Климов и включил погромче радио.
Вернулась Люся. Поставила на стол сковородку, уже успокоенная, улыбнулась Климову, попросила нарезать хлеб. Он поднял булку, обтер рукавом и сделал то, что просили.
— Почему ты всегда обижаешь меня? — спросила она за едой.
— Ты сама начала первая.
— Ох, Климов, — вздохнула она. — Конечно, всегда и во всем виновата я. Сколько мы с тобой живем — и всегда я.
— Три дня мы с тобой живем, — удивился Климов.
— Четыре, — поправила она. — И не все ли равно, сколько. Главное, что ты невнимателен ко мне.
— А ты ко мне? Ты даже не заметила, что я изменился.
— Если бы, — усмехнулась Люся. — Если бы ты изменился по отношению ко мне.
— Да ты посмотри на меня. Посмотри. Разве я похож на себя?
— К сожалению, Климов, — сказала Люся, бросив беглый взгляд.
— А ты хочешь, чтобы я походил на знаменитого артиста?
Климов ощупал лицо. Ощущение текучести не уходило, просто он постепенно привыкал к нему. Он развернул зеркало и увидел, что так оно и есть. Лицо было его и не его одновременно. Он погрозил зеркалу кулаком и прошептал: «Разобью!» Достал фотографии и протянул Люсе.
— Ты просила. Сравни сама. Это я, каким был год назад.
— Какая противная, — сказала Люся и отложила фотографии. — Нос кверху, губы поджала, глаза злые. И как ты с ней жил?
Климов обиделся за свою жену и хотел было сказать, что она намного лучше Люси, но пересилил себя.
— А я? Ты на меня посмотри. Разве похож?
— Конечно, похож. Ну, страшным был, сейчас немного похорошел, не все ли равно? Это тебя жена так затюкала. Разве главное во внешности?
Сосед наверху захихикал. Климов снова подошел к зеркалу и недоверчиво потрогал текучие формы лица.
— Что это тебе в голову пришло, Климов? — спросила Люся. — Ты, как красная девица, в зеркало таращишься. Уж не влюбился ли?
— Влюбился, — буркнул Климов, садясь на место. — В тебя влюбился.
— Нужна мне твоя любовь! — пренебрежительно сказала Люся.
— Интересно! — удивился Климов. — Что же ты хочешь от меня?
— Заботу и уважение, — сказала Люся. — Если мы полюбим друг друга, то будем напрасно мучиться. Я очень любила своего Колю и что же хорошего видела? Сначала мучилась, что он меня не любит, потом из–за ревности, а потом уж, очень долго, из–за того, что он погиб. Если бы я не любила его так сильно, то мне жилось бы легче. Очень просто.
— Мудрая ты, как змея, — сказал Климов, покачав головой.
— Это я–то змея? — угрожающе спросила Люся и отложила вилку.
— Ну, как сова, — сказал Климов, не желая ссоры.
— Ах, как сова! Ну, Климов, ну, наглец! Я его кормлю, пою, а он меня оскорбляет! Ну, скотина!
Она поискала глазами, чем бы запустить в Климова, но расстояние между ними было слишком небольшим, поэтому она быстро протянула руку и крепко дернула его за нос.
— Злая ты, а не мудрая, — обиделся Климов и отошел к окну. — Навязалась на мою голову. То не скажи, это не сделай.
— Это ты навязался, — вскипела Люся. — Господи, что я тебе сделала плохого? Ты постоянно оскорбляешь меня. Все меня обижают, я так люблю людей, а меня обижают.
Она закрыла лицо руками, и Климов догадался, что она сейчас заплачет. Он хотел сказать ей еще несколько резких слов, но страх перед женскими слезами пересилил.
— Ладно, — сказал он. — Прости меня. Я был не прав.
— Гениально, — тихо сказал сосед. — Признать себя неправым при полной правоте — это мужская доблесть. Ты делаешь успехи, Климов.
— Выключи радио, — сказала Люся. — Покоя нет в этом доме. Ты почему не добьешься хорошей квартиры?
— Где же я ее возьму? С меня и такой хватит.
— Раньше хватало. А сейчас мы живем вдвоем. Неужели не понятно?
— Понятно, — буркнул Климов и показал кукиш зеркалу.
Шли дни, и к концу отпуска Климов открыл у себя новое свойство терпимость. Он не пытался переспорить Люсю, не жаловался ей ни на что, потому что твердо знал — сочувствия ему не дождаться. Он молча выслушивал ее жалобы, принимал на себя ее боль, одиночество, тоску, и силы его увеличились настолько, что он противостоял всему этому без обычных ранее хандры и растерянности.
Маленькая комнатка наполнялась ее вещами. Люся по–своему переставила мебель, наклеила на стенах яркие картинки из журналов, на которых ослепительные актрисы и задумчивые актеры смотрели мимо Климова. Она приходила с работы неизменно уставшая и раздраженная, но Климов успевал за день сходить в магазин, приготовить ужин, убраться в комнате, и Люся быстро оттаивала, ласково обнимала его и говорила, что именно о такой жизни она и мечтала.
Сам Климов не мечтал о такой жизни, но, странное дело, именно сейчас, когда он, как раб, исполнял чужие желания и не противился произволу, именно в эти дни он ощутил себя более свободным, чем когда–либо. Раньше властная и скупая на слова жена снисходила до его слабости, и он, как капризный ребенок, знал, что его пожалеют, выслушают, погладят по голове и поцелуют в щеку. Он знал, что жена была убеждена в его никчемности и никогда не заставляла делать то, что он не умеет или просто не хочет. Она все делала сама и до поры до времени терпеливо несла это бремя. Климов был уверен в своей слабости, в своей почти вседозволенности, и леность души порождала чувство зависимости, не казавшееся ему постыдным.
Теперь все было наоборот. Он, сильный мужчина, снисходительный и справедливый, сам гладил по голове обиженную судьбой женщину, жалел ее искренне, и это приносило ему внутреннюю свободу, какой он не знал никогда.
В часы одиночества он раздумывал о том, что свободными не рождаются, свободу приходится медленно и трудно завоевывать и на пути к ней так много соблазнов и ловушек, что очень легко завязнуть в ленивой покорности своему внутреннему рабству.
Внешнее противопоставлялось внутреннему и вместе с тем сливалось с ним. Внешние атрибуты свободы порабощали душу, а внутренняя раскрепощенность достигалась лишь после подчинения другому человеку.
Он не забыл о жене и тосковал о детях, но уже не так, как раньше, не униженно и плаксиво, не как несправедливо обиженный и обездоленный, а как равный о равных, понесший наказание и честно искупивший свою былую вину.
Он вышел на работу и занял свое место. Женщины переглядывались, мужчины понимающе улыбались, а начальник поздравил с выходом, пожал руку и сказал, что отпуск пошел Климову на пользу, теперь его не узнать — отдохнул, окреп и даже возмужал. Правда, говоря это, начальник не выдержал и подмигнул, но Климов не обиделся. Его узнали, сочли своим — и это было главным. Подсел Терентьев и начал разговор о том, что неплохо бы по этому поводу устроить маленький загул, тем более что Климов задолжал за одну услугу. И вообще, Люся — баба клевая, она уже всем уши прожужжала о том, как много она сделала, чтобы он забыл о своем горе, как он благодарен ей, как любит ее и так далее, и в том же духе.
Климов поправил и без того безукоризненно повязанный галстук и спокойно ответил, что все это вздор, но он никого разубеждать не собирается, а должником Терентьева себя не считает. Терентьев хохотнул, похлопал Климова по плечу и сказал, что он, безусловно, прав, Люся — уже пройденный этап и если Климов не против, то он познакомит его с такой женщиной, с такой… Климов поблагодарил и добавил, что сыт пирогами, теперь он стал другим и в ничьих услугах не нуждается. Терентьев не обиделся, а только засмеялся еще громче и совсем уж фамильярно потрепал Климова по затылку.
— Молодчага, старик, — сказал он. — Таких мужиков я люблю. Вот ты пошли меня куда подальше, и я тебя сразу зауважаю. Я ведь человек наглый, меня так просто с копыт не собьешь.
Климов подумал немного и, отчетливо выговаривая слова, послал Терентьева куда следует. Тот захохотал на всю комнату и пошел по отделам рассказывать о том, что Климову отпуск пришелся по вкусу, и если с ним теперь столкнуться на улице, то сразу и не узнаешь. В обеденный перерыв зашла Люся и, не обращая внимания на взгляды, деловито подхватила Климова под руку и повела в столовую.
— На нас люди смотрят, — сказал Климов.
— Пусть. Надоест смотреть и перестанут.
— Ты почему распускаешь слухи о нас с тобой?
— А тебе стыдно жить со мной, да? Конечно, я такая плохая, некрасивая, старая, ты стыдишься…
— Не стыдно. С меня взятки гладки, я ведь мужик…
— А я баба, да? Послушай, если ты меня еще раз назовешь бабой, я запущу в тебя тарелкой.
— Я не называл, — начал было сопротивляться Климов, но потом спохватился и добавил: — Прости, больше не буду. С языка сорвалось.
— Умница ты моя, — быстро успокоилась Люся. — Идеальный муж.
— Почему муж? — машинально удивился Климов.
— А разве мы не поженились? Ты ведь обещал.
— Не помню. Откуда ты взяла?
— Подлец! — воскликнула Люся.
— Тише ты, ради бога, — сказал Климов. — Дома поговорим.
— А мне стыдиться нечего. Пусть тебе будет стыдно. Я уже всем рассказала, что мы скоро поженимся и на этой неделе пойдем подавать заявление. Уже и на свадьбу позвала. А ты в кусты, да?
— Дома, милая, — сказал Климов, — договорим дома… Ну, хорошо, хорошо, пойдем в загс, разве я отказываюсь?
— Конечно, отказываешься. Знаю я ваши уловки. Наобещаете сначала, а потом…
Дома, когда Люся отлучилась, Климов обратился к соседу:
— Послушай, давай не будем ругаться. Глупо, в самом деле, соседи, мужики, а травят друг друга разными глупостями. Зашел бы в гости, выпили, поговорили по душам. А то все через потолок.
— Через пол, — поправил сосед.
— Да не все ли равно? Для тебя пол, для меня потолок, главное, что через барьер. Не по–соседски это.
— Угу, — согласился сосед. — Только ведь меня нет на свете. Я же бог! Ты сам так говорил, а теперь и я в себя уверовал. Не к лицу богу являться простому смертному.
— Да какой ты бог! — махнул рукой Климов. — Сидишь целыми днями дома. Ни ангелов, ни облаков, ни чудес. Таких богов не бывает.
— Еще как бывает! — возразил сосед. — Просто меня нет на свете. Я же тебе говорил об этом.
— Не хочешь ли ты сказать, что я тебя сам придумал?
— Наглец, — вздохнул сосед. — Он воображает себя превыше бога. Он полагает, что может сотворить самого бога. Богородица нашлась!
— Ну вот, — огорчился Климов. — Опять начинается. Что за упрямый старик! Надоели мне твои софизмы. Неужели ты не можешь по–простому? Как мужик с мужиком?
— Ты хотел сказать: как бог с мужиком? А какие могут быть разговоры между нами? Ты мне о хоккее, а я тебе о квазарах, ты мне о делах семейных, а я о тектонических сдвигах. Ничего не поделаешь, интеллектуальная и социальная несовместимость. Вот так–то, Клизма! Ты уж сиди в своей конуренке, доживай свой век тихо–мирно, метаморфируй потихонечку да не позволяй подружке на шею садиться.
— Это уж мое личное дело.
— Эге! Будто бы к богу обращаются с общественными делами! Только и слышишь со всех сторон: дай, помоги, спаси, прибавь зарплату, верни мужа, сделай меня красивой… Тоска. А сам ты что у меня просил? Жену? Так давай, валяй. Я свое дело сделал.
— А тебе тяжело помочь?
— Нельзя. Детерминизм нарушится. Причинно–следственный механизм. Тебе не понять.
— Но ты хоть объясни, в чем дело?
— Ну вот, если каждой собаке объяснять, для чего ее будут резать… Я же тебе сказал: живи полегонечку, метаморфируй на здоровьичко…
— Да на кой черт мне твоя метаморфоза? — не выдержал Климов.
— Болван, — сказал сосед. — Это же еще одна степень свободы. Неужели непонятно? Ей–богу, пацан и пацан.
— Опять твоя диалектика?
— К сожалению, не моя. Она сама по себе. И ты никуда от нее не денешься, живи, развивайся, отрицай самого себя — иначе смерть. Ищи свою жену.
— При чем здесь она? Неужели ты думаешь, что она полюбит меня с другим лицом и телом?
— Не исключено.
— Но ведь она полюбит другого человека, не меня, не Климова? Если у меня другое тело, то я уже не я? Зачем мне это? Я от ревности изведусь.
— Изведешься, — подтвердил сосед. — Ничего не поделаешь. Диалектическое противоречие между духом и телом. Это даже богам не под силу.
— Тогда для чего все это?
— Не знаю… Интересно ведь. Ты попробуй, может, что выйдет.
— Эх ты, всезнающий и всемогущий… Самозванец ты, а не бог…
Климов знал, когда примерно она заканчивает работу и на каком автобусе едет домой. Еще утром он начал придумывать причину, по которой мог бы отлучиться, не вызывая нареканий Люси. Сейчас, вступив в новую полосу жизни, приходилось многое оценивать по–другому. Раньше он мог уходить из дома в любое время и на любой срок, жена никогда не оскорбила бы его упреком. Мог бы, да не хотелось. Он мог позволить себе так много, что сама возможность исполнения любого каприза вызывала неудержимую скуку. Теперь все было не так. Ревнивая и подозрительная Люся заставляла смотреть на простые и доступные вещи с тайной завистью, и недосягаемость их окрашивала былую свободу в романтические цвета.
Он подошел к Терентьеву и предложил ему обменяться на вечер пальто и шапками. При этом он так подмигивал и показывал пальцами разные фигуры, что Терентьев легко согласился. В обед он сообщил Люсе, что вечером должен уйти на пару часов, чтобы обговорить с приятелем возможность получения новой квартиры. Лгать он не умел, и, скорее всего, Люся быстро догадалась об обмане, но не стала сразу обвинять его, а прикинулась заинтересованной, начала расспрашивать о подробностях, в которых он запутался, и вот тогда–то, когда он сам разоблачил себя, она холодно попросила его выйти в коридор, и там, оглянувшись по сторонам, ударила по щеке.
Климова не били с детства, и хотя эта пощечина боли особой не причинила, но показалась ему обидной и незаслуженной. Он не полез в глупую драку и плакать тоже не стал, а передернул зябко плечами и, повернувшись, молча пошел в свою комнату.
К концу рабочего дня вездесущий Терентьев подошел к нему и, как всегда, похохатывая и похлопывая по плечу, сказал, что он знает все, что весь Люсин отдел на ее стороне, но он сам за Климова и считает, что спуску давать не надо, а лучше всего спокойно дождаться вечера и дома, без свидетелей, пару раз врезать строптивой бабенке промеж ушей, отчего она сразу же его зауважает, будет больше любить и впредь подобных глупостей совершать не станет. Климов спокойно выслушал совет и, памятуя о прошлых уроках, послал Терентьева открытым текстом. Тот уважительно взглянул на Климова, одобрительно хмыкнул и ушел.
Когда Климов в одиночестве вышел к автобусной остановке, его догнала Люся, крепко взяла под руку и сказала так:
— Теперь ты не отлучишься от меня ни на шаг. Я посоветовалась с девочками, и они мне сказали — ни на шаг!
— Прекрасно! — сказал Климов. — Но почему ты решила, что этим можно меня удержать?
— Удержать? Тебя? Больно ты мне нужен! Да я, если хочешь, таких, как ты, десяток найду.
— И тем не менее не находишь, а держишься за меня.
— Совсем не держусь.
Климов взглянул на ее руку, сжимавшую плечо, и выразил сомнение в ее словах. Люся досказала свое мнение о нем, он добавил пару деталей, она развила их до полной ясности, и Климову ничего больше не оставалось, как второй раз за день испытать чувство стыда от незаслуженной пощечины, на этот раз уже при свидетелях. Он вспыхнул, люди на остановке с интересом наблюдали за ними и даже пропускали свои автобусы, ожидая развития сюжета. Его разозлило это внимание чужих, равнодушных людей, и с тихим бешенством он сказал сквозь сжатые зубы:
— Плебейка! Видеть тебя не могу…
До семи часов он бродил по улицам и переживал обиду, проклиная дурацкую судьбу и страшное невезенье. Эта женщина настолько отличалась от его бывшей жены, что сейчас все недостатки прошлой супружеской жизни казались ему привлекательными. Со стыдом он вспоминал, что сам долгие годы изводил жену ненужной ревностью, следил за ней, тщательно выспрашивал, когда она задерживалась, даже обнюхивал волосы, упрекая в том, что от них пахнет табаком, и часто закатывал идиотские истерики со слезами, причитаниями и бесконечными жалобами.
Он брезгливо поморщился, вспоминая самого себя, и теперь решение жены о разводе уже не казалось ему столь жестоким, а наоборот — справедливым и честным поступком. Сейчас, когда он не видел выхода, чувствуя, что больше и больше увязает в этой чужой женщине, еще сильнее захотелось увидеть свою бывшую жену и, невзирая ни на какие трудности, вернуть ее, хотя бы на время.
Последние месяцы научили его столь многому, что он уже никогда не будет прежним — слабым, плаксивым, ревнивым. Он думал, что суть метаморфозы не в форме измененного тела, а именно в том, что дух его закалился, душа стала более чуткой от перенесенных страданий и теперь нет возврата к прежней унизительной жизни.
Он зашел в парикмахерскую и попросил, чтобы его постригли и перекрасили в другой цвет. Девушка дернула бровью и скривила губы, но сделала так, как он хотел. Климов смотрел на себя в зеркало и жалел, что не отрастил бороду, с ней он был бы совсем неузнаваемым.
Он заранее пришел на остановку, куда должна была прийти и она, сел на скамейку, курил и терпеливо пропускал автобусы. Он увидел ее издали, она шла с тяжелой сумкой, сильная и красивая. Волнуясь, он сел в автобус следом за ней, встал у кассы и следил, как она вынимает кошелек, отсчитывает мелочь и, мельком взглянув на него, протягивает ему руку. Он быстро открутил билет и подал в ее раскрытую ладонь, на секунду прикоснувшись к ней своими пальцами. Она поблагодарила его, он улыбнулся как можно лучезарнее и кивнул головой. Автобус наполнялся, ее прижимало к Климову, она пыталась отстраниться, а он наоборот — соприкоснуться. Сумка мешала ей, было тесно и душно, но лицо ее оставалось невозмутимым. Он смотрел искоса на это лицо, знакомое до каждой морщинки, на руки, покойно лежащие на поручне, — те же самые, прежние, еще помнящие прикосновение к его коже, и только обручальное кольцо надето на левую руку, и прядь волос, выбивающаяся из–под шапки, покрашена в другой цвет. Он произнес шепотом ее имя, она не услышала, тогда он уже погромче повторил вслух это единственное и неповторимое для него слово.
Она вскинула голову, посмотрела на него рассеянным взглядом и, не узнав, отвернулась к окну. Он приготовил улыбку, десятки раз отрепетированную у зеркала, но она не поворачивалась к нему до самой остановки. Он вышел вслед за ней и, не зная, как поступить дальше, просто поравнялся и предложил помощь.
— Спасибо, — сказала она, — мне не тяжело.
— Меня зовут Николай, — назвал он первое пришедшее на ум имя. И сделал паузу, ожидая, когда она назовет свое.
— В нашем возрасте глупо знакомиться на улицах, — сказала она холодно.
— Вы нравитесь мне. Давно нравитесь. И где же мне еще знакомиться с вами, как не на улице?
— Это еще не означает, что вы нравитесь мне, и тем более, что я хочу знакомиться с вами.
— У меня нет другого выхода, — пожал он плечами.
Она совсем не изменилась. Он мог заранее предугадать ее следующие слова и не ошибся, когда она ответила так, как и должна была ответить спокойно, ровно, четко выговаривая слова, как диктор телевидения. Он боялся, что она узнает его, и поэтому говорил чужими словами и чужим голосом, а она оставалась сама собой, и ей было легче. Так он шел рядом с ней и говорил, а она отвечала или просто отмалчивалась, и Климов понимал все ясней и ясней, что план его проваливается и желания не исполняются. Его вдруг снова охватила робость, он невольно вспоминал все связанное с этой женщиной, мучила совесть, и всплывала из глубины привычная слабость и беззащитность перед женой. Она приближалась к дому, и он со страхом думал, что вот сейчас она зайдет в подъезд, а он так и не увидит ни своих детей, ни своего возможного счастья. Он хорошо знал и понимал ее, но именно это знание сковывало волю, лишало уверенности. С незнакомкой было бы легче.
Показался ее дом, и он совсем растерялся, стал спешно придумывать, как задержать ее. Сила и наглость явно не годились, униженные просьбы тоже были пустым номером, он заговорил о том, что все равно будет каждый вечер встречать ее на остановке, но она насмешливо посмотрела на него и сказала, что давно вышла из возраста Джульетты. Тогда он применил запрещенный прием и, назвав по имени, спросил о детях. Она не удивилась его осведомленности и коротко ответила, что они здоровы. Он спросил, как учится мальчик и вспоминает ли об отце.
— Вас послал Климов? — спросила она.
Он втянул голову в плечи и сказал, что нет, Климова он не знает, а просто давно наблюдает за ней и уже полюбил ее детей и готов признать их своими.
— Не слишком ли? — спросила она и поднялась на ступеньку подъезда.
— Нет, — сказал он, — в самом деле, я буду любить их, как своих. Даже больше… Ну, постойте немного. Я прошу.
— Меня ждут дети, — сказала она и поднялась еще на одну ступеньку. Прощайте.
Он сделал шаг вслед за ней и, поскользнувшись на узкой ступеньке, взмахнул руками, чтобы удержать равновесие, но все равно упал и больно подвернул ногу. Он попробовал встать, но боль не давала. Вот так он и сидел на утоптанном снегу у ее ног и старался в глаза ей не смотреть. Было очень стыдно, что опять он оказался слабее ее, унижение от нелепого падения усугубляло боль. Он ждал, когда она уйдет, чтобы собраться с силами.
— До свидания, — буркнул он. — Ничего, я сейчас встану.
Она поставила сумку, вздохнула и, взяв его под мышки, сильными своими руками поставила на ноги. Он вскрикнул от боли. Ступить на ногу было невозможно.
— Надеюсь, что вы упали не нарочно, — сказала она. — Придется вести вас к себе домой. Я вызову «скорую».
Он хотел воспротивиться, потому что эта победа была равносильна поражению, но другого выхода не было. Она закинула его руку себе на плечо, а он, краснея от унижения, прыгал на здоровой ноге вверх по ступенькам. Она открыла дверь, зашла вперед и помогла ему войти. Попросила сесть и разуться.
Он сел на табуретку в прихожей, стараясь спрятать лицо от яркого света, все еще боясь быть узнанным. Заглянули дети, с любопытством осмотрели его и, скрывшись, зашептались, смеясь. Она сняла пальто, прошла к детям, сказала им что–то строгим голосом и, вернувшись, стала набирать на телефоне короткий номер.
— Как ваша фамилия? — спросила она, прикрыв трубку ладонью.
Он назвал первую попавшуюся.
— Сейчас приедут, — сказала она. — Я вас просила разуться. Вы забыли?
Морщась от боли и стыда, он снял сапог. Легкими уверенными движениями она ощупала ступню.
— Это не перелом. Наверное, растяжение связок. Пройдет. Я вас напою чаем.
Она помогла ему раздеться, провела на кухню. Пока она неторопливо расставляла чашки, он молчал и осторожно осматривался, узнавая предметы, посуду, шторы на окнах — все то, что помнил уже много лет. Он чувствовал себя как человек, долго блуждавший по чужбине и вернувшийся домой, где его не ждали и не были рады ему, но знакомые вещи и сам воздух родного дома заменяли радушие хозяев и вызывали чувство сопричастности их общему прошлому. Он смотрел на жену, невероятно отдаленную от него, узнавал ее жесты, интонацию, легкие шаги, присущие только ей, и старался представить себе, что ничего не произошло, не было разрыва между ними и все идет так, как и шло в прошедшие годы. Он думал о том, что вот исполнилась его мечта, не дававшая ему покоя последние месяцы, но радости не испытывал. И казалось, что если бы даже сейчас она все простила ему и сама попросила бы остаться, то он… А может быть, и не отказался бы. Он и сам не знал ничего.
Она молча поставила перед ним чашку, придвинула варенье, извинилась и вышла. Он прихлебывал чай и прислушивался к голосам детей. Они не заходили на кухню, и он знал, что это она запретила, а сейчас, наверное, она проверяет их домашние задания. Так было всегда.
«Скорая» не ехала. Болела нога. Капала вода из крана. Было неловко сидеть в чужом доме, но встать и уйти он не мог. Допил чай и молча поглаживал больную ногу. Она вернулась через полчаса, посетовала на врачей и села напротив, налив себе чаю.
Вот так же они сидели и тогда, в последнюю минуту четверга, сменившегося бесконечной пятницей. Все было таким же. Только Климов другим. Он усмехнулся, вспомнив тот вечер, и посмотрел ей прямо в глаза. Она не отвела взгляда и тоже улыбнулась краешком губ.
— К чему этот маскарад, Климов? — вдруг спросила она.
— Да так, — сказал он и рассмеялся, чтобы скрыть смущение.
— Неужели ты думаешь, что я тебя не узнаю? Еще в автобусе… Эх ты, кукушонок.
— Я стал другим.
— Да, похорошел. В тебя можно и влюбиться. Но при чем здесь я?
— Дело не во внешности. Я вообще стал другим. Я стал таким, каким ты хочешь.
— А откуда ты знаешь, что я хочу? Что ты вообще знаешь обо мне? Разве тебя интересует кто–то другой, кроме самого себя?
— Я стал другим, — повторил он. — Ты можешь легко убедиться.
— А я не хочу убеждаться, Климов. Ты мне не нужен, и это все, что я хочу. Нелепо же начинать все сначала. Для чего же тогда разводиться?
— Можно ошибиться. Потом понять.
— Я, Климов, никогда не ошибаюсь. И никогда не меняю своих решений. Пора бы знать. Десять лет прожили.
— Да, собственно говоря, я и не буду тебя ни о чем просить. Я хотел быть нужным тебе и поэтому изменился. Но сейчас я и сам не знаю, хочу ли все начинать сначала или нет. Но скорее всего — нет… Послушай, ведь тебе нелегко с двумя детьми. Почему ты отвергаешь мою помощь?
— Нелегко, — созналась она. — Но с твоей помощью было бы еще труднее.
— Ты не думаешь о замужестве?
— Климов! — усмехнулась она. — Не задавай глупых вопросов. Я ни в ком не нуждаюсь. И добровольно взваливать на себя очередной груз никогда не соглашусь.
— Одиночество — жизнь без зеркал? — вспомнил он.
— А я не одинока. Глупо же связывать одиночество только с отсутствием мужа или жены. У меня есть дети, есть работа, есть я сама, в конце концов, мне с собой не скучно.
— Понимаю, — сказал Климов. — Раньше бы не понял, а теперь понимаю. Лишь слабый страдает от одиночества. Слабый всегда одинок. Право же, мне противно вспоминать самого себя.
— Я рада за тебя, Климов. Вот видишь, ты считал, что я причинила тебе зло, а оно обернулось добром.
— Диалектика! — засмеялся Климов и сам налил себе чаю.
— Семья распадается, Климов, это не мы придумали и не нам решать эту проблему.
— Люди разобщаются.
— Неправда. Люди осознают себя сильными и свободными. Идет великая борьба за независимость. Слабые гибнут, сильные выживают.
— Ницшеанка, — поморщился Климов. — Социал–дарвинистка.
— Нет, милый, я материалист и диалектик.
— Свести бы тебя с моим соседом. Хочешь, познакомлю? Великий диалектик!
— Не стоит. Мы все и так соседи.
— Ты изобрела новый лозунг: человек человеку сосед?
— Ну вот, научился иронизировать. Поздравляю. Земля маленькая, Климов, и если мы не будем относиться друг к другу, как добрые соседи, то ничего у нас не получится.
— Вот и будь мне доброй соседкой. Докажи на примере.
— А я тебе зла не желаю. Если нужна моя помощь, то помогу. Но только я сама решу, нужна или не нужна моя помощь. Если ты просто слаб, не можешь или не хочешь справиться со своей бедой, то я пройду мимо. Если ты обратишься ко мне как равный к равной, как свободный к свободному — я остановлюсь. Но паразитировать на себе никому и никогда не позволю.
— Я понимаю. Раньше я думал, что это жестокость. Но это и есть доброта. Диалектическое добро, если хочешь.
— Да, ты стал мудрее. Пожалуй, я вычеркну тебя из списка умерших. С воскрешением тебя, Климов!
— Слушай, давай учредим свой маленький праздник. День независимости день нашего развода.
— Это забавно. С аллегорическим разрыванием гименеевых цепей? С распиливанием брачного ложа?
— Все это хорошо… Но как твоя теория поможет детям? Им нужен отец. Я сам рос без отца и знаю, как это тяжело… Им нужен не сосед, а отец и мать. Это же так просто. Ты подумай. Ты умная.
— Я подумаю. Я умная, — согласилась она и пошла открывать дверь.
Приехала «скорая помощь». Веселый врач ощупал ногу Климова, сказал, что все это ерунда, посоветовал прикладывать холод, а потом тепло и согласился подвезти до ближайшей стоянки такси.
— Я приеду, — сказал Климов с порога. — А ты подумай.
— Приходи. Я подумаю, — и махнула рукой, и даже улыбнулась на прощание.
Он ехал домой и думал о том, что впервые одержал хоть маленькую, но победу или, по крайней мере, — ничью, и еще неизвестно — кто кого. Но дома его ждала Люся, недобрая и неумная, и на душе становилось все тяжелее.
Хромая и путаясь в развешанных простынях, он прошел по коридору коммуналки и, выдохнув воздух, открыл дверь в свою комнату. Люси не было. Он облегченно вздохнул, разделся и увидел на столе листок бумаги, покрытый крупным почерком. Она писала, что Климов негодяй, что он жестоко поплатится за свою измену, что она сегодня же ночью отомстит ему и не с кем–нибудь, а с Терентьевым, с которым она и без того давно была связана, и что хочет Климов или не хочет, но ему придется жениться на ней, потому что она ждет ребенка от него, а по нынешним законам и с помощью общественности… И так далее, на обеих сторонах.
Климов дочитал до конца и открыл холодильник. Хотелось есть. Передвигаться по комнате было больно, и он подумал, что неплохо бы научиться летать, чтобы не так болела нога.
Он надел два теплых свитера, замотал шею шарфом, завязал шапку под подбородком, застегнул пальто на все пуговицы и натянул валенки.
— Эй, сосед! — сказал он громко. — Хватит дрыхнуть. Давай полетаем! Поищем солнце, очень уж здесь темно.
Наверху не ответили, потом раздался знакомый звук — будто рассыпали бильярдные шары. И снова — тихо.
— Ты что, не слышишь? — спросил Климов.
— Да погоди ты, — раздался недовольный голос. — Сейчас, галоши найду.
— Зачем галоши зимой? — удивился Климов.
— Ничуть не поумнел, — проворчал сосед. — Учишь его, учишь… Здесь зима, а где–то осень. Всегда так бывает — ищешь солнце, попадаешь под дождь. И наоборот.
— Так ты и зонтик возьми!
— И возьму. Думаешь, сам не догадаюсь?
Замерзшее окно открылось с трудом. Холодный ветер хлестнул мелким снегом. Город засыпал, и постепенно, по одному, гасли огни в соседних домах.
Климов встал во весь рост на подоконнике, сложил руки рупором и громко прокричал:
— Эй! Это я, Климов! Я–я–я!
От громкого крика дрогнули провода, натянутые против окна, и с них посыпался иней. Мягкими серыми хлопьями он падал вниз, обнажая тугую стальную сердцевину, по которой стремительно летел невидимый ток.
И распахнутся двери
Из круга жизни, из мира прозы Вы взброшены в невероятность. В. БрюсовОн погиб в конце лета. Сильный и уверенный в себе, бросился в реку, не успев скинуть одежду. Быстрое течение отнесло его тело далеко от пятачка пляжа, где в тот вечер он сидел под шляпкой грибка и читал книгу. Он заложил ее листком подорожника, не зная о том, что она так и останется недочитанной.
Собака породы боксер по имени Джеральд лежала рядом, то и дело отрывая голову от остывающего песка, словно проверяя, на месте ли хозяин.
Лето было на излете, на пляже редкими кучками сидели и лежали люди, кое–кто плескался у берега, не рискуя в такой час заплывать далеко.
После того как все это случилось, осталось два истинные свидетеля его гибели. Один из них был собакой, а словам второго не верили, с негодованием обвиняя в причастности к смерти хорошего человека. Свидетелем, или виновником, была девушка. Ее звали Жанна. Она заплыла на середину реки, поддерживаемая легким надувным кругом. Смерть ей не грозила, правда, вода была холодная, и впоследствии Жанна рассказывала, как свело ноги, она перепугалась, что течение вынесет на стремнину, и не ее вина, что парень, а, вслед за ним и собака, кинулись в реку.
— Все это, может быть, и правда, — говорили ей, — но мы тебя знаем. Ты специально хотела привлечь внимание людей, чтобы позабавиться их растерянностью. И даже более того, — говорили ей, — ты кричала свое шутовское «помогите» именно для него. Ты взбалмошная и злая, тебя бесило, что он не обращал на тебя внимания, не был влюблен, как многие, а ты привыкла, что парни провожают тебя задумчивыми взглядами, добиваются любви и даже дерутся, когда ты умело натравливаешь их друг на друга.
— Нет, — плакала она, покусывая кончик выгоревшей пряди, — нет, я на самом деле перепугалась и даже не знала, что он был на пляже. И разве я думала, что именно он бросится в реку, ведь на берегу было много людей.
— Мы знаем тебя! — кричали ей. — Нас не проведешь! Ты весь вечер увивалась возле него, строя глазки, а он читал книгу, поглаживал собаку, и это тебя взбесило.
— Все было не так, — оправдывалась она, — я пришла на пляж одна, с другой стороны, заплыла на реку выше по течению и не могла видеть его. Я ни в чем не виновата.
— Бездарная актриса, — шипели бывшие подружки, — судьба наградила тебя красивым телом и пустой головой. Ты разыгрывала роль утопающей, начитавшись идиотских романов. Ах как романтично, решила ты в тот вечер, благородный и прекрасный юноша, презрев опасность, спасает тебя от смерти, а ты, бездыханная, лежишь на песке, притворно прикрыв веки, он склоняется над тобой, пытается привести в чувство, прикасается губами к твоему лицу, а ты только и ждешь этого, чтобы, красиво и томно простонав, распахнуть лживые глаза, слабо улыбнуться и обвить руки вокруг его шеи.
— Неправда, — устало качала она головой. — Это ложь. Я никогда не добивалась его любви. Я никого не любила, и не моя вина, что я красива и много парней ухаживало за мной. Да, я смеялась над ними, но при чем здесь он?
— Я пытаюсь понять вас, — говорил его отец после похорон, — я хочу простить вас, но у меня ничего не получается. Он был моим единственным сыном, наследником всего, что у меня было и есть. Вы молоды и красивы, зачем вам понадобилось отнимать у меня последнюю надежду и опору? Он даже не успел жениться, не успел подарить мне внука, чтобы не оборвался наш род. Возможно, что вы не виноваты, но вы не рисковали жизнью, а он был беззащитен. Я потерял двух детей, жену, а теперь вот его. Это жестоко.
В темном платье с глухим воротником, с опухшим, но все равно красивым лицом, стояла Жанна в двух шагах от отца погибшего и уже не находила слов для оправдания. Слова иссякли, а слез еще было много.
Пес по имени Джеральд тосковал по хозяину. Неизвестно, винил ли он кого–нибудь, но, может быть, тоже мучился совестью, не менее острой, чем человеческая. Забравшись под опустевшую кровать, он поскуливал и тоненько подвывал, словно вспоминал тот вечер и реку, вынесшую его на сушу, промокшего до последней шерстинки, но так и не вернувшего хозяина. Вода украла знакомый запах, голос, ласковую руку. Джеральд часто уходил из дома, обнюхивал холодный песок, прибитый осенними дождями, и, ложась под грибком, долго и пристально глядел на остывающую воду, коротко взвизгивал и напрягал лапы, когда всплескивала рыба…
Поляков был обыкновенным человеком. Точнее — почти обыкновенным, потому что у каждого человека на земле есть свои особенности, выделяющие его из череды многих. Миша Поляков работал кочегаром в маленькой котельной при большом НИИ один раз в неделю, еще два дня его можно было застать дома, а на остальное время он уходил неизвестно куда, но к очередному дежурству никогда не опаздывал, спускался в подвал по запорошенным черной пылью ступенькам, где за железной дверью ровно гудели две топки, справа — куча угля, слева — подъемник для шлака, а за бурой грудой окаменевшего дерева скрывалась еще одна дверь, ведущая в комнату для отдыха. Там стоял топчан, застланный троллейбусными сиденьями, стол и две табуретки.
Работа была в общем–то простая. Изредка подкидывать уголь в топки, регулировать поток воды и воздуха, выбирать шлак из поддувала до по утрам проводить генеральную чистку, раскочегарив хорошенько уголь, чтобы не мерзли капризные сотрудники НИИ. Работа была сезонная, от октября до мая, и, получив расчет поздней весной, Поляков честно отсиживал традиционный сбор в кочегарке, где собирались все сменщики, но не пил с ними, а сидел в стороне, попивал чаек, улыбался в ответ на шутки и колкости пьющих собратьев, а на другой день исчезал из города или, может, просто сидел взаперти дома, не открывая никому, и на звонки не отвечал.
Собственно говоря, интересоваться Поляковым было некому. Родители у него умерли, братьев и сестер не было, и, дожив до тридцати лет, он так и не обзавелся новой семьей, а о бывшей жене не–вспоминал. Были, конечно, приятели и соседи, знавшие Полякова в лицо и по имени, но все они, обремененные своими делами и заботами, не вникали в странную жизнь Михаила.
Начальство его ценило, в смену Полякова было тепло, а если и заходил кто–нибудь из инженеров в кочегарку, то никто не видел Мишу грязным и нетрезвым, а наоборот — видели в чистом комбинезоне, сидящим за столом и читающим что–нибудь.
По сравнению с другими кочегарами это выглядело необычно, и если не в меру любопытный инженер Хамзин, отвечающий за исправность котлов и насосов, лез с расспросами к Полякову, тот охотно поддерживал разговор, но за грубоватыми манерами кочегара скрывалось желание не выделяться из среды коллег.
В день получки Хамзин непременно заходил в кочегарку для осмотра отопительной системы, а на самом деле приносил бутылку в кармане полушубка и все пытался налить стаканчик Полякову, но тот неизменно и вежливо отказывался. Хамзин особо не огорчался, равномерно вливал в себя прозрачную жидкость и, пьянея, плакал даже, уткнувшись лицом в мягкие большие ладони. Иной раз он пытался кинуться в топку, но печь была слишком маленькой и не впускала в себя грузное тело инженера. Правда, опалив брови и волосы, Хамзин одумывался и, трезвея, совал голову под кран, а потом засыпал на топчане. Поляков спокойно переносил все это, от печи Хамзина не оттаскивал, зная наперед, чем это кончится, а ближе к ночи, насытив топки щедрыми лопатами «бурого золота», осторожно подвигал Хамзина к стенке и, ложась рядом, быстро засыпал, не обращая внимания на храп и беспокойную возню соседа.
Хамзин был инженером и, разумеется, считая себя выше простого кочегара, называл его на «ты», грубил, а находясь в, дурном расположении духа, распекал за какой–нибудь пустяк, но Поляков не вступал в перепалку, вежливо соглашался и быстро исправлял оплошность. Остальные кочегары скандалили, огрызались, не чурались запоя и потому казались Хамзину нормальными людьми, а вот что за человек Поляков, он понять не мог, и это раздражало…
Наверное, это и зовется ностальгией. Глупо заблудиться в редком лесу, еще глупее пробегать мимо своего дома и не узнавать его. Бывают такие тягостные сны: идешь по городу, а улица изменяется на глазах, принимает новые формы, дразнит знакомым запахом, но никак не превращается в ту единственную и долгожданную. Я все более смутно представляю себе, каким должен быть мой мир. Я ничего не забыл, но образы других миров наслаиваются, деформируют истинный его облик, и то и дело ловишь себя на том, что невольно принимаешь ложное за истинное и наоборот. Впрочем, жить можно повсюду, даже в плену и рабстве, тем более что моя теперешняя жизнь не так уж и тяжела. Меня любят, обо мне заботятся, мои новые знакомые хоть и сильно отличаются от прежних, но пути эволюции подчиняются не правилам, а сплошным исключениям, из них, поэтому обижаться не на кого, и, как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, я все же склонен считать ее счастливой.
К сожалению, в этом мире тоже нет настоящего симбиоза между разумными, а здешние существа, похожие на меня, считаются собственностью хозяев единоличных владетелей своей смехотворной Вселенной. Но не мне судить об изменчивых законах, я вынужден подчиняться им, если дорога к дому потеряна и чужие Запахи постепенно становятся родными.
Сначала я полагал, что прорыв через границу совершило много подобных мне, я встретил их по ту сторону моего мира, но оказалось, что все они тупиковые ветки и не способны даже к членораздельной речи. Я пытался вступить в контакт с людьми, но первый же чуть не убил меня от страха за свой рассудок. Еще бы! Легче убить непонятное, чем попытаться постичь его своим жалким умом.
Тогда и началось мое бесконечное блуждание по мирам в поисках своего, так и не найденного, и неизвестно, придет ли тот день, когда…
Девушка но имени Жанна попыталась умереть. Она училась в институте, где преподавал тот, кого она нечаянно погубила, и ей объявили бойкот. Даже парни, любившие ее или делавшие вид, что любили, не подходили к ней и не заговаривали. Все восхищались погибшим. Его уважали студенты, коллеги ценили за живой ум и большие знания. Ему прочили большое будущее. Он был красив, остроумен, добр. Нежен с отцом, щедр с друзьями, благороден с девушками. После смерти его часто вспоминали, и постепенно память о нем обросла легендами, полуправдивыми и благожелательными.
Выходило так, что смерть уничтожает лишь тело человека, но возвеличивает его тень и придает блеск его былым отражениям.
Все молча расступались перед Жанной, уступали ей дорогу и так же молча поворачивались спиной. На лекциях никто не садился рядом с ней, но посылали записки, едкие и жестокие. Она старалась не замечать этого, ходила, высоко подняв голову, в подчеркнуто ярких платьях, смеялась невпопад и на записки не отвечала.
Но однажды, после самых обидных слов, высказанных в лицо: «Уж лучше бы ты, чем он…» — она не вынесла отчуждения и ненависти тех, кто раньше преклонялся перед ней. Она проглотила все таблетки, какие нашлись в комнате общежития, и легла в постель, не забыв перед этим разметать чисто вымытые волосы по белоснежной подушке и надев красивое платье. Одну руку она свесила вниз, другую положила на грудь. Записку оставила на видном месте. Крупные скачущие буквы говорили о том, что она ни в чем не виновата, но и в смерти своей никого не обвиняет, и если этот поступок хоть немного искупит несуществующую вину, то пусть ее похоронят неподалеку от того, кого она полюбила по–настоящему и жить без которого уже не в силах…
Хамзин тоже был обыкновенным человеком и тоже с маленькими странностями. У него болела душа. Болела давно и остро, не давая ему ни передышки, ни поблажки. Все приносило Хамзину боль: тяжелое тело, склонное к болезням, гневливая и мелочная жена, мстительная теща, давно осточертевшая работа. Институт ему дался легко, и на работу он быстро устроился, да и невелика была хитрость в таком ремесле: изобретенные двести лет назад паровые котлы в принципе оставались одними и теми же, разве что с небольшими оговорками. Работу свою он знал, но не любил. Жил с женой и тещей и, успев узнать их досконально, тоже не любил. И виделся ему в этом некий философский смысл, о чем он неоднократно заводил разговор с Поляковым.
Гремя сапогами по гулкой котельной, он расхаживал от топки до кучи угля, заглядывал в насосную, и почему–то ему очень не нравилось, когда Поляков закрывал дверь в свою комнатенку. Наверное, ему казалось, что Поляков избегает его, старается отгородиться тонкой подвижной доской, подвешенной на скрипучих петлях, и всегда распахивал дверь настежь, когда осматривал котельную. Поляков на это только усмехался, углублялся в чтение очередной книги и раздражения своего не показывал.
Потом Хамзин грузно усаживался на табуретку и начинал разговор. Он ни с кем не говорил так много и никому не изливал душу так, что казалось — вся она вытекает из ран невидимой, но осязаемой до острой боли сердцевины человека.
— В любви, — говорил он обычно, — никогда нельзя доходить до конца, иначе это будет концом любви. Всегда должна оставаться недосказанность, хоть маленькая, но тайна, а в противном случае уничтожается сама суть любви. Мы любим не человека, не дело свое, а то, что хотим видеть, что ожидаем от них, и подчас так и не дожидаемся. Вот ты, — говорил он, тыча пальцем в Полякова, — ты намного счастливее меня. Ты только и умеешь загребать уголек и бросать его подальше. Что тебе до начал термодинамики? А я знаю не только начала, но и концы этой дьявольской выдумки, оттого мне тошно, муторно и хочется напиться.
Поляков молча выслушивал его, заложив пальцем страницу книги, спокойно улыбался, но в спор не вступал, словно заранее соглашаясь со всем, что скажет Хамзин.
— Но нет! — говорил Хамзин, размахивая рукой перед лицом Полякова. Нет, я тебя, чертяку, люблю не потому, что ты меня слушаешь! А потому, что я тебя совсем не знаю, хоть ты и вкалываешь у нас не первый год. Ничего в тебе понять не могу. Какой ты на фиг кочегар? Чистюля, трезвенник, книжки читаешь. Небось думаешь, что Хамзин неудачник, дурак простодырый, инженеришка несчастный, только и умеет, что в насосах гайки вертеть? А вот и неправда! Мы, Хамзины, никогда в последних не ходили, я еще покажу всем им, что мы, Хамзины…
При этих словах инженер обычно замолкал или нетвердыми шагами направлялся к топке, поэтому так и оставалось неясным, что такого особого могут Хамзины. Поляков включал чайник и раскрывал недочитанную книгу…
Добывание пищи здесь приравнивается к воровству, и единственный способ выжить для таких, как я, — это понравиться кому–нибудь из хозяев, тогда он возьмет тебя к себе, будет кормить, а взамен требовать выполнения своих несуразных желаний. Те, кто находил меня и пытался сделать своей собственностью, ожидали моей бесконечной благодарности за куски, что бросали со своего стола, и просили меня то лаять на чужаков, то прыгать на задних лапках, выпрашивая подачку, то поскуливать от сомнительного удовольствия, когда они запускали руку в мой загривок и почесывали за ухом. Бесполезно было объяснять им, что я способен на большее, и главное, довериться мне и поверить всему тому, что я мог бы рассказать. Неудивительно, что я сменил много хозяев, и печальная повесть моих странствий вполне заслуживала бы отдельной книги, но речь не об этом.
Я понял, что поначалу мучило меня, не давало покоя и превращало скитания в бесконечную пытку. К сожалению, явление более чем банальное стереотипы мышления. Все привычное кажется простым и потому единственно приемлемым. Я привык, что разумная жизнь существует только в форме симбиоза, и уже предвзято наделил чертами хаоса иную жизнь, тогда как мне пришлось убедиться, что истинный симбиоз — не более чем эксперимент природы и вариантов разума столько же, сколько миров.
Наши отношения еще сохраняют свежесть новизны и каждодневных открытий. Теперь мы одни, и наши беседы носят характер бесконечного диалога, в котором мы пытаемся связать воедино звенья разрозненных цепей и найти истину, движущую мирами. Вот так, не более и не менее. Высокопарно, но очень точно…
Жанне не дали умереть. Токсикологи знали свое дело и довольно быстро поставили ее на ноги. Она еще долго болела, но бледность лица даже шла ей. Красота не подчинялась ни болезни, ни самой смерти. Она казалась неистребимой. После этого случая многие простили Жанну, хотя и находились люди, усмотревшие в ее поступке бездарное актерство и расчетливость. «Могла бы и утопиться», — говорили о ней, но уже не так ожесточенно, а скорее насмешливо.
Внешне Жанна не изменилась, но переживания и близость смерти сделали ее неузнаваемой. Теперь она сама отворачивалась от тех, кто презирал ее, и холодным взглядом отграничивалась от вновь появившихся поклонников. Только ее мать простила сразу несуществующую вину дочери и поняла все, но после выздоровления Жанны уехала в свой родной город, а здесь не было никого, с кем бы Жанна могла поделиться.
Быть может, поэтому она приходила на могилу погибшего и, сидя на скамейке, придумывала заново его жизнь, свою любовь к нему и даже разговаривала с тем, кого почти не знала раньше. Там она встретилась со стариком и собакой. Не жалея нового плаща, она встала на колени и разрыдалась. Боксер деликатно отошел в сторону, а старик смущенно хмыкнул и сказал:
— Что за выкрутасы, милочка? Могильная земля холодна, вы простудитесь, встаньте, пожалуйста. Вот и Джерри вас просит, — он поискал взглядом собаку. — Перестаньте, я стар, и поступки молодых девушек мне непонятны. Ну полноте, я не виню вас.
— Что я смогу сделать для вас? — спросила Жанна. — Вам тяжело одному, хотите, я буду помогать вам?
— Я не один, у меня есть Джеральд. Но если хотите, то можете приходить к нам в гости. Мы постепенно привыкнем к вам и не будем судить так строго. Но вы молоды, а любовь к умершему не может быть вечной. К тому же у вас впереди долгая жизнь, у нас же все позади…
Так Жанна стала посещать этот дом, стараясь хоть чем–то заменить старику умершего сына. Отец держался с ней несколько отстраненно, но без раздражения и позволял заходить в комнату сына, где все оставалось без изменения. Джеральд не косился на нее, не рычал, но и гладить себя не разрешал, передергиваясь, словно от брезгливости. Обижаться на собаку было глупо, а старику она старалась угодить чисто вымытым полом, вкусным обедом и выглаженной рубашкой.
Она все время боялась, что со стариком что–нибудь случится, что он не выдержит горя и одиночества. У него часто болело сердце, но он держался стойко, никогда не жаловался, и только по бледности лица и по запаху мяты можно было догадаться об очередном приступе.
Старик жил уединенно. То ли потому, что пережил всех своих друзей, то ли оттого, что еще не закончился траур и он избегал обнажать горе при чужих. Ему было за шестьдесят, худой, высокий, с седой головой, с пристальным взглядом светло–серых глаз; не лишенный странностей и причуд своего возраста, он чем–то напоминал Жанне ее отца. Он мало разговаривал с Жанной, в основном бросал ни к чему не обязывающие фразы, но она часто слышала, как он, уходя в дальнюю комнату, подолгу говорил что–то собаке и даже смеялся приглушенно или громко возмущался, восклицая: «Нет! Ни за что!» Он ничего не рассказывал о себе и своей семье, но на стенах висели фотографии, и Жанна, неторопливо вытирая пыль, всматривалась в незнакомые лица, пытаясь соединить разрозненные отпечатки времени в непрерывный поток. Это удавалось плохо…
В комнате стоял круглый столик на точеных ножках и маленький диванчик с полузабытым названием — канапе. На нем сиживали еще дедушка с бабушкой Полякова, и фотография на стене в черной, словно бы траурной, рамке подтверждала это. Из глубины десятилетий смотрели на Полякова мужчина и женщина. Они сидели на новом обитом шелком диванчике с гнутыми ножками, свет отбрасывал блики от брошки в виде полумесяца на груди у бабушки. У дедушки были густые усы и тщательно уложенные волосы, открывающие лоб, а взгляд его, светлый и теплый, не то улыбался, не то печалился чему–то. Была там еще одна фотография, более поздняя. Там дедушка и бабушка стояли. Бабушка, постаревшая, с усталым лицом, опиралась левой рукой на бутафорскую балюстраду, правая рука по локоть скрывалась в муфте, и брошка была другая — два цветка из прозрачных камушков на черном воротнике. Дедушка заложил руки за спину, сменив сюртук на китель штабс–капитана. Усы стали длиннее, и кончики их немного загибались кверху, а лоб казался выше и шире. Изменился взгляд — он стал холодным, неприятным, словно бы фотограф был его личным врагом, и не верилось, что через минуту, пробираясь к выходу через нерассеявшееся облачко магния, дедушка молча откланяется и даже, быть может, улыбнется суетливому мастеру.
Были там и отцовские фотографии, все довоенные, были и мамины разных лет. Поляков не убирал их со стен, они давали ему ощущение родства и нерушимой связи с теми, кто давно ушел неизвестно куда, оставив после себя не только стареющие вещи, но и его — Мишу Полякова.
Отец погиб на последней войне, в самом начале, окруженный чужаками в гиблых литовских болотах, где не то захлебнулся, не то, пытаясь прорваться с кучкой уцелевших солдат, наткнулся на автоматную очередь. Мать умерла не так давно от инфаркта, не выдержав многолетней борьбы с одиночеством и тоской по несбывшемуся счастью.
На круглом столике стоял граммофон, тщательно ухоженный Поляковым. Латунная труба, похожая на цветок белены, всегда была бережно начищена, сам деревянный ящик покрыт свежим лаком, и когда Михаил ставил на диск истертую пластинку и приводил в движение туго закрученную пружину, то из трубы, воскрешенные стальной иглой, раздавались голоса умерших людей, музыка, давным–давно рассеянная в атмосфере, но продолжающая жить, как старые фотографии, вещи, воспоминания.
Бывшую жену Михаила раздражало это искаженное временем пение, где и слов–то разобрать было невозможно, а имена людей, когда–то заставлявших содрогаться стальную мембрану своим голосом, ни о чем не напоминали.
Прошлое, тем более чужое, просто не существовало для нее. Был город, были очереди в магазинах, муж, мать, недавние школьные годы, зубная боль, забываемая через день, а все то, что волновало умерших людей, что было их духом и плотью, ради чего они не щадили себя и обрекались на смерть — все это давно умерло и воскрешению не подлежало.
Молодая жена так и не привыкла к чужому прошлому, а свое будущее лепить не научилась, и Поляков сделал то, что сделал. Однажды он сказал, что сам увезет жену к ее родителям, она не поверила, но он начал упаковывать вещи, а потом пришли его приятели с грузчиками и погрузили на машину все то, что они успели купить вместе, не уступив ничего из тленного наследия предков.
Жена плакала и просила прощения за вину, которой сама не понимала, а дело было пустяковое: она выбросила дубовую кровать, на которой Миша Поляков был зачат в счастье и рожден в муках, купив взамен нее нормальный современный диван с полированными подлокотниками.
В слезах она корила его за то, что мертвые вещи, весь этот хлам и смрад ему дороже ее самой, он не спорил с ней и решения своего не изменил.
Оставшись один, он уходил в старую комнату, листал толстые книги в шагреневых переплетах, слушал невнятные отголоски прошлых времен, и казалось, что это еще живо для него, словно бы он сам забежал в фотографию Лапина на Дворянской улице 1914 года перед отправкой на Западный фронт, и вот в новеньком мундире поручика, умытый и свежий, уселся в кресло, сложив руки на скрещенных ногах, и слушает музыку, доносящуюся из соседнего кабачка, а затем встанет и выйдет из кадра, чтобы пережить окопы, газовые атаки, ранения, тела друзей, разрывающих своей тяжестью колючую проволоку, а потом, дальше, ощутить сдвиг, ломку, испытать голод, отчуждение, сомнение и, наконец, решиться на свой последний шаг. Тот шаг, что сдвигает человеческую судьбу раз и навсегда, после которого — или бесславная гибель, или трудное, мучительное восхождение к цели, еще невидимой, лишь предощущаемой, но отвергнутой им в тот осенний день, когда, зацепившись рукой за поручень переполненного вагона, он тщательно искал глазами жену и сына, чтобы хоть взглядом, хоть последним взмахом ладони проститься с ними навсегда.
Бывший штабс–капитан Владимир Поляков в шинели с отпоротыми погонами ехал туда, откуда не было возврата. Жена, сын, Отечество оставались позади. С каждым перестуком колес он мысленно прощался с ними, глядя в окно на плывущую мимо Россию, клял свою судьбу, но так и не решился выпрыгнуть из поезда.
Он умер в эмиграции, и лишь фотографии на стене да латунный цветок белены, хрипящий о прошлом, напоминает о нем, словно умоляя о прощении, будто предупреждая о том, что неверный шаг делается только раз.
Жена его, Мишина бабушка, сама воспитала Сашу, и тот выбрал свой путь, свою любовь и не изменил ей до последнего часа, когда ливонские болота сомкнулись над головой.
Он не вышел из окружения. Провокатор, переодетый красным командиром, вывел их маленький отряд прямо на огонь немецких автоматов. Александр Поляков, измученный бессонницей, голодом, раной в левой руке, подчинился приказу старшего командира, и никто теперь не узнает о его сомнениях, о том шаге, на котором споткнулся и он, потеряв бдительность на короткие полчаса, решившие судьбу двенадцати человек. И судьбу Миши Полякова, и матери его, и тех людей…
Михаил не был чужд увлечениям молодости. Любил веселые компании, влюблялся, был начитан и остроумен; работая на заводе, приобрел хорошую специальность и доброе имя. Друзья редко бывали у него дома. Сначала он избегал шумных сборищ из–за больной матери, потом из–за того, что гости нарушали незыблемую жизнь вещей, и чаще всего сам просиживал вечера у приятелей или гулял допоздна с девушкой, так и не ставшей его второй женой.
С ним случилось то, что изменило его жизнь, заставило бросить завод, устроиться в кочегарку и стать тем самым Поляковым, тайну которого столь тщательно пытался разгадать инженер Хамзин…
Он сразу понравился мне. Я понял, что он тот человек, кому можно рассказать обо всем накопившемся за годы одиночества, с кем стоит поделиться и попросить совета. Он не станет укорять свой свихнувшийся разум и не бросится на меня, как на причину своих бед, решил я, когда он привел меня в свой дом. Но все равно, зная по опыту, как удивляет людей мой голос, я очень осторожно поблагодарил его за обед и придвинулся к выходу. Он только слегка вздрогнул и ответил неизменившимся голосом: «На здоровье». — «Прошу вас, — сказал я, — не пугайтесь. Я не совсем тот, за кого вы меня принимаете, но здесь нет ничего противоестественного и тем более колдовского. Просто я — это я, и если я вам не буду в тягость, то можете сразу сказать мне, я уйду». — «Я не пугаюсь, — улыбнулся он, — я лишен суеверий. Но помните, Мефистофель впервые явился Фаусту в виде черного пуделя?» — «Как видите, я не пудель, — пошутил я, — и смею заверить вас, что никакого отношения к так называемой нечистой силе не имею». Помнится, я еще переменно раскланялся при этих словах. Он рассмеялся и широким жестом обвел комнату: «Искренне рад, располагайтесь как дома. Мне часто не хватает собеседника». — «Мне тоже, — признался я, я уже столько лет ни с кем не разговаривал. У вас есть существа, схожие со мной, но они недоразвиты, а люди полны предрассудков. Для них если не дьявол, то пришелец, на большее фантазии не хватает». — «Надеюсь, — сказал он, — вы мне расскажете о себе, когда будет желание, но я не тороплю вас. Пойдемте, я представлю вас своему отцу». — «А он?.. — усомнился я. Отец?» — «Ни в коем случае, — снова рассмеялся он, — он уже давно ничему не удивляется». Он привел меня к старику и сказал: «Познакомься, папа, это мой новый друг. Он будет жить у нас». — «А он не храпит по ночам?» спросил старик и недоверчиво посмотрел на меня. «О нет, — сказал я как можно вежливее, — я абсолютно здоров». — «Тогда все в порядке, — сказал старик, нисколько не удивляясь, — угости его получше. Что вы предпочитаете на ужин?.» — обратился он ко мне. «О, я неприхотлив, — заверил я, — и привык обходится малым. Странствия на чужбине приучили меня ограничивать желания». — «И далеко ваша родина?» — спросил меня старик. «Трудно сказать, — ответил я, — это расстояние не измеришь километрами и парсеками. Может быть, она рядом, просто я не знаю, где находится дверь в нее». — «Дверь, ведущая на родину, — повторил старик. — Это интересно…»
На стене висели фотографии в новеньких рамках, но там были люди другого поколения, и не только одежда отличала их от предыдущего, даже лица были иные, ибо время всегда оставляет отпечаток, оно только кажется однородным и равнодушным, а на самом деле, как великий скульптор, никогда не повторяет себя и свои творения.
Три большие комнаты с высокими потолками и лепными фризами выходили окнами во двор, где всегда было сумрачно и сыро.
Старый дом с кариатидами и львиными масками на фасаде стойко переносил тяжесть десятилетий, чопорно держась в стороне от многоэтажных железобетонных близнецов.
В одной из комнат жил старик с собакой, куда он приглашал Жанну, усаживал на дубовый стул с резной спинкой и угощал чаем с вареньем. Свои длинные волосы Жанна заплетала в косу; догадываясь, что это понравится старику, и старалась одеваться скромнее.
Вторая комната принадлежала погибшему сыну. Ее Жанна особенно тщательно приводила в порядок, не меняя расположения вещей и книг, словно хозяин только отлучился на время из дома и вот–вот должен вернуться.
Но была еще одна комната, в которую Жанну не допускали. Об этом старик не говорил вслух, но Джеральд всегда преграждал ей дорогу, когда она дотрагивалась до литой бронзовой ручки двери. Именно туда уходил старик с собакой и оттуда доносился его голос, словно он громко беседовал с кем–то, но слов собеседника не было слышно. Мебель, книги, ковры поглощали шум, и только изредка до Жанны доносились пение и отголоски чьих–то шагов, заглушенные шорохом помех.
Даже не пение, а скорее странные звуки, напоминающие поющие голоса. Словно откуда–то издалека, искаженная расстоянием и эхом, звучала мелодия, и чей–то знакомый, но неузнаваемый голос вплетался в нее прихотливой рвущейся нитью.
В эти часы Жанна уходила из дома не прощаясь, осторожно захлопывала дверь и даже не пользовалась лифтом, слишком шумным и старомодным. Она остро ощущала свою чужеродность этому дому, будто бы тот вежливо выпроваживал ее, чтобы скрыть что–то, принадлежащее только ему одному.
Жанна не обижалась на скрытность и некоторую холодность старика. Кажется, он простил ей невольную вину, во всяком случае, не укорял и о том летнем вечере не вспоминал ни разу.
Джеральд перестал убегать на пляж, а когда Жанна прогуливалась с ним вдоль реки, не смотрел на воду с укором и надеждой и близко к берегу не подходил.
— Джеральд, Джерри, — говорила ласково Жанна, — хоть ты расскажи мне, что здесь у вас творится. Ну, миленький, ты же умный, ты все знаешь, скажи мне.
Джеральд поворачивал к ней короткую большую морду с черными брылами и, словно улыбаясь, молча высовывал розовый язык. И Жанна понимала, что Джерри, как настоящий член этой семьи, никогда не выдаст…
Он, по–видимому, приходил и раньше, но не заставал его дома. Это чувствовалось по уверенному, нетерпеливому стуку в дверь. Михаил сидел в комнате деда и по обыкновению своему слушал старую пластинку. Он никого не ждал в гости, но, посомневавшись, все же пошел открывать. Сдвинул пружину замка и распахнул… На лестничной площадке никого не было. Он повертел головой и увидел собаку. Пожал плечами и прикрыл за собой дверь.
— Постойте! — услышал он чей–то странный голос из–за двери. — Не закрывайте. Это я стучал.
Поляков снова открыл дверь и посторонился, потому что собака вбежала в прихожую.
— Ты чей? — спросил Поляков, не ожидая ответа.
— Я ваш друг, — ответила собака, глядя прямо в глаза. — Не бойтесь, я не кусаюсь.
— Я не боюсь, — сказал Поляков. — Это ты разговариваешь?
— О нет! — воскликнула собака. — Я проглотил магнитофон. — И добавила: — Шутка, конечно.
— Я понимаю, — сказал Поляков. — Я люблю шутки. Будем шутить дальше?
— Можно и позабавиться, но цель моего визита достаточно серьезна, произнесла собака, дожидаясь, когда ее пригласят в комнату.
Что Поляков и сделал жестом руки.
— Чай, кофе? — спросил Михаил. — Сахарную косточку?
— Благодарю вас, я сыт, — ответил пес, усаживаясь в кресло на поджатые задние лапы, а передними упираясь в пол. — Михаил Поляков, если я не ошибаюсь?
— Да, — согласился Поляков. — А вы посол собачьей республики?
— Продолжаем шутить, — спокойно отметил пес. — Ну что ж, шутка — это хорошее лекарство против страха.
— Да нет же, — засмеялся Поляков, — я и в самом деле не боюсь. Конечно, не каждый день приходят говорящие собаки, тем более такие воспитанные.
— Пустяки, — отмахнулся пес, — в конце концов, я не такая уж собака, как это кажется с первого взгляда.
Собачий голос лишь отдаленно напоминал человеческий. Скорее он походил на те искаженные голоса, которыми говорят герои мультфильмов, и порой слова звучали неразборчиво.
— Так чем я могу служить? — осведомился Поляков.
— Отныне я вас нарекаю Виктор–Михаил, — изрек пес. — Вам нравится?
— Не смешно, — сказал Поляков. — Зачем мне второе имя?
— Первое, — не согласился пес. — Впрочем, это неважно. Конечно, немного иная судьба, другие впечатления детства, привычки, — короче — различия в фенотипе, но генотип тот же самый. Вы родились в сорок первом году, вашего отца звали Александром, мать — Ольгой. Так?
— Так, — кивнул Поляков. — Что еще вас интересует?
— Степень вашего знакомства с топологией.
— Нулевая. Я не знаю, что это такое.
— Тогда придется пояснять на пальцах.
— На чьих? — рассмеялся Михаил…
Странно, но я не потерял надежды вернуться в свой мир, если невольно придаю размышлениям форму дневника. Я заблудился, но нелепо обвинять в этом судьбу, ибо она не фатальность, а лишь неосознанная необходимость.
Нам было легче. Эволюция развернула высшие организмы лицом к лицу, у нас не было дилеммы: мы или они, симбиоз сразу же поднялся на самый высокий уровень — уровень мышления. Мы развивались и совершенствовались как единый биосоциальный организм и сумели избежать многих ошибок других миров. Нам хватило своих. Но, по крайней мере, мы, а не кто–либо другой, первыми узнали о самозащите Вселенной и научились проникать через межклеточную мембрану миров.
Формы симбиоза знакомы всем мирам, и здесь я видел множество его проявлений, но чаще всего он принимает черты паразитизма и нахлебничества, вырождаясь чуть ли не в самом начале. Так отношения человека и собаки все больше превращаются в отношения хозяина и паразита, хотя низший симбиоз человека–убийцы и собаки–ищейки не исчез окончательно. Сначала я был удивлен разнообразием собак в чужих мирах, у нас они однотипны и разделяются только на ряд рас, подобно людям. Но потом понял, что прихоть человека давно заменила природную целесообразность. Все эти собаки лишены речи, что неудивительно, — у них слишком длинные лица и слишком гибкие языки. Только здешние боксеры, похожие внешне на нас, способны научиться произношению нескольких несложных слов. Но насколько они…
Старик впервые отлучился из дома и оставил ее одну, вернее — с собакой. Сказал, что должен уйти по делам, а Жанна, мол, может побыть здесь, погулять с псом, подготовиться к занятиям и вообще — пусть она чувствует себя как дома. Жанна удивилась, но вида не подала; закончив уборку, она ушла в комнату погибшего, давно уже ставшую и ее комнатой, забралась с ногами в кресло и открыла книгу, взятую наугад с полки. Собака лежала у ног, было тихо, толстые стены не пропускали уличного шума.
Не читалось. Ее не оставляло ощущение, что в квартире кто–то есть. С большой фотографии на стене смотрел погибший. Черная ленточка еще не снята с уголка портрета. Он смотрел сквозь стену, и казалось, что ему видится то, чего живому знать не дано. Джеральд шевельнулся и насторожил уши. Потом медленно встал, потянул воздух и коротко проворчал.
— Джерри, — тихо сказала Жанна, — здесь кто–то есть?
И тут она услышала невнятное пение из дальней комнаты. Кто–то пел под затухающую мелодию знакомую, но неузнанную еще песню.
— Джерри, — прошептала Жанна, склоняясь к собаке. — Кто там?
Джеральд молча посмотрел ей в глаза своим слишком умным для собаки взглядом и снова проворчал что–то себе под нос. Жанне послышались неразборчивые слова в этом ворчании.
— Что–что? — удивилась юна, но Джеральд вильнул хвостом, толчком распахнул дверь, и только стук когтей по паркету указал его путь.
Когда Жанна подбежала к двери с бронзовой ручкой, то увидела, что она закрыта, словно собака, забравшись туда, плотно прикрыла за собой створку. Решившись однажды на смерть, пережив ее мысленно, Жанна разучилась бояться, и ее удерживал не страх, а стыд. Она ничего не обещала хозяину, он не запрещал ей бывать в этой комнате, но она твердо знала; этого делать нельзя.
Оттуда, из–за тяжелой высокой двери, доносилось пение Шаляпина. Его знаменитая «Блоха». Слова, стертые временем, звучали невнятно, но бас певца заглушал скрипы и шорохи старой пластинки. Входная дверь надежно заперта, квартира на четвертом этаже, высота исчислялась немалыми метрами, и ни карниза под окнами, ни водосточной трубы рядом. Значит, тот, кто завел граммофон, находился в комнате с утра, и старик знал об этом. Значит, он специально оставил Жанну наедине с незнакомцем, чтобы она разобралась во всем этом, без подсказки и объяснений. Так рассуждала она, стоя у дверей, убеждая себя в необходимости сделать решающий шаг.
— Джерри! — нарочито беспечно позвала она. — Куда ты делся, проказник?
Собака приглушенно заворчала, потом Жанне послышался мужской голос и снова — собачий скулеж, на этот раз громкий и долгий.
— Джерри! — крикнула она. — Что ты там делаешь?
И рывком потянула на себя дверь. Но она не открывалась. Замка здесь не было, захлопнуть ее было невозможно, тогда Жанна потянула сильнее и вдруг поняла, что дверь держат изнутри.
— Джерри, открой дверь! — упрямо воскликнула она. — Что за вредная собака! Заперлась в комнате, завела граммофон и не открывает. Ты, может, и куришь там? Вот гляди, все расскажу хозяину!
И дверь распахнулась. Бас Шаляпина не вмещался в узкой латунной трубе и метался по комнате, отражаясь от стен. Собака лежала на маленьком диванчике с изогнутыми ножками и молча смотрела на Жанну. Ей вдруг показалось, что Джерри подмигнул и насмешливо выгнул угол пасти. Больше никого в комнате не было. И без того небольшая, она была заставлена старой мебелью. Жанна остановилась в дверях.
— Кто здесь? — спросила она.
Клубы табачного дыма медленно втягивались в полуоткрытую форточку. Стараясь держаться непринужденно, Жанна подошла к граммофону, остановила диск. Спрятаться человеку было практически некуда. Джерри проворчал и коротко гавкнул, глядя в сторону.
— Не ворчи, — сказала Жанна, — все равно пожалуюсь, что ты куришь без спроса.
Рассеянным взглядом она скользнула по стенам и вздрогнула.
Со старой фотографии пристально смотрел на нее погибший в новенькой форме поручика, сложив руки на скрещенных ногах, двуглавый орел на пряжке отсвечивал начищенной бронзой, шашка плотно прилегала к бедру, и казалось, что сейчас человек выйдет из кадра, спустится на улицу 1914 года и уйдет к вокзалу, откуда вот–вот с пением труб и грохотом барабанов поезд медленно повлечет его на запад, и бог весть какие судьбы ждут…
Предназначение. Словно и в самом деле досужие драматурги сочиняют наши судьбы, а от нас зависит только исполнение роли. Бред собачий, как выражаются люди. Вечная привычка сваливать свои недостатки на других. Самое страшное — это бред человека, а бедная сивая кобыла вообще не умеет бредить, она слишком проста для этакой изощренности.
Предназначение и предопределение неравнозначны друг другу. Первое причина внутренняя, вторая — внешняя, а значит — заведомо ложная, ибо не было, нет и уже явно не будет независимой силы, правящей Вселенной. Она просто не нуждается в этом.
Чем дольше я скитаюсь, тем больше убеждаюсь в том, что основная цель разума — это спасение. Или спасание, как будет угодно. Вселенная только кажется вечной и нерушимой, на самом деле она хрупка и уязвима. Она ошеломляет нас кажущейся, бесконечностью, ослепляет вспышками сверхновых звезд, ошарашивает миллионами неразгаданных тайн, но больше всего она похожа при этом на испуганную кошку, шипящую перед щенком–молокососом. Мы тоже ее часть, и значит, наше предназначение не только в постижении мира, но и в спасении его от гибели и разрушения. Не только своей планеты, а всей необозримой Вселенной.
И можете послать меня к чертям собачьим, если я не прав…
Он ничего не заметил или сделал вид, что не заметил. Она сама виновато склонила голову и сказала:
— Простите, но вышло так, что я зашла в ту комнату. Так получилось.
Старик беспокойно вскинул голову.
— Ну и что же, милочка? Разве это запрещено? Или вас там что–нибудь напугало?
Старик напрягся и задержал дыхание.
— Что вы, конечно, нет! — сказала Жанна. — Джерри забежал туда, я просто пошла за ним, задержалась на минуту и вышла.
— Ах, Джерри! — воскликнул старик и, вопросительно посмотрел на собаку. Та отвернулась и молча ушла в, другую комнату. — Ах, Джерри! — повторил старик. — И какую же пластинку он поставил?
— «Блоху» Шаляпина, — сказала Жанна и осеклась.
— Да, это его любимая запись, — произнес старик, поглаживая подбородок. — С ним ничего не случилось? Впрочем…
Он покружил по комнате от окна к двери, словно напряженно пытаясь вспомнить что–то, шевеля у лица длинными пальцами, и, приблизившись почти вплотную к Жанне, вдруг зашептал:
— Умоляю вас, никому ни слова. У меня могут отнять его, я не позволю, я не переживу этого. Обещайте мне, что никому…
— Что с вами? — Жанна дотронулась до его руки. — Успокойтесь, пожалуйста, я пообещаю вам что угодно, только не волнуйтесь. Не надо. Ну, пожалуйста. Я ничего не знаю, я никому не скажу, только успокойтесь.
— Да–да, конечно, — засуетился старик, — пойдемте, я вам все объясню. Джерри, где ты? Иди сюда, надо все рассказать. Я ей верю, она не предаст, она его любит, я вижу: она его любит. Джерри, где ты?
Он крепко сжал руку Жанны и потянул за собой к двери с бронзовой ручкой. Ей стало не по себе.
— Может, не надо? — неуверенно говорила она. — Я ничего не хочу знать. Так будет лучше, не надо.
Старик, не слушая ее, распахнул тяжелую дверь, чуть ли не силой усадил Жанну в кресло и наклонился над ней.
— Вот. В этой комнате жили мои родители. Они умерли, навсегда умерли, везде умерли. Вот это мой отец, — он протянул руку к фотографии поручика. — Он очень похож на моего сына, вы не находите? — И, не дождавшись ответа, продолжил: — Да, сын даже отрастил эти старомодные усы, я знаю, над ним подсмеивались, но он никогда не терял живой связи с дедом, никогда. Даже когда мой отец умер. Здесь все осталось так, как было при его жизни. Он воевал в первую мировую, дослужился до штабс–капитана, потом революция, война, разруха, он чуть не уехал в эмиграцию, но остался. Все его друзья погибли. Они думали, что умирают с честью, а он живет в позоре, но получилось наоборот: это он избрал более трудный путь, он, не они. Вы понимаете, мой отец сделал выбор. Это очень важно — сделать нужный выбор в нужное время. И не ошибиться! Главное — не ошибиться!
— Я понимаю, — сказала Жанна, — я все хорошо понимаю, вы сядьте, успокойтесь, и я вас выслушаю. Вам нельзя волноваться.
— Да, так о чем я? — задумался старик, отходя к окну. — Джерри, где же он? Ушел, наверняка ушел.
— Он не мог уйти, — возразила Жанна. — Входная дверь закрыта.
— О, при чем здесь дверь? Он не может найти только дверь, ведущую к его родине, а все остальные для него открыты настежь. Он как сквозняк гуляет по Вселенной. Как сквозняк.
И старик замахал руками, изображая ветер.
— Я принесу вам лекарство, — сказала Жанна.
— Не надо! Я не болен, — старик стоял к ней спиной, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник. — Мне шестьдесят три, несправедливо, что я пережил всех, я живу назло самому себе. Я много раз был на краю гибели, — при этих словах он распахнул окно и свесился с подоконника, вот как на этом окне, одно неверное движение — и смерть.
— Не надо, — сказала Жанна. — Это опасно.
— Ну да, — согласился старик тихим голосом, — смерть. Я чуть не остался навсегда в болотах. На всю жизнь запомнил лицо этого провокатора. Его труп засосала трясина, с чавканьем, сыто рыгнув напоследок. А я вот жив. Сын мой, последний сын погиб.
— Это я виновата… — сказала Жанна.
— Нет, нет! — махнул рукой старик. — При чем здесь вы? Вы — это случайность, его гибель — закономерность. Мой сын не мог поступить иначе. Он сделал свой выбор. Вы знаете, какую книгу он читал в тот вечер? «Опыты» Монтеня. Он подчеркнул ногтем фразу, я запомнил ее наизусть: «В последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству, приходится говорить начистоту и показать, что за яство в твоем горшке…» Это был его любимый автор. Джерри тоже любит Монтеня. И Гельвеция любит, и Эразма, и Рабле… Странный вкус. Великий спаситель… Впрочем, я устал, я лягу.
Старик сник, ссутулился, шаркающими шагами дошел до своей кровати и тяжело сел. Жанна принесла таблетку валидола, он молча взял ее и рассеянно мял в пальцах, прежде чем положить под язык.
— Если хотите, я останусь с вами. Вдруг вам будет хуже?
— Хуже не будет, — невнятно произнес старик. — Оставайтесь, комната сына в вашем распоряжении. Вы на самом деле любите его?
— Мне кажется, что да, но я почти не знала его раньше.
— Узнаете, — сказал старик. — Он вам понравится. И еще. Почему бы вам не родить мне внука?
— Внука? — удивилась Жанна.
— Да, наследника.
— Но как?
— Как, как! — передразнил старик. — Не знаю уж, как там женщины рожают, это ваше дело.
— Спокойной ночи, — сказала Жанна, выключая свет.
Старик не ответил…
Жанна выросла в маленьком провинциальном городке, давно переставшем быть селом, но так и не доросшем до гордого названия «город». Он бережно хранил свои дощатые тротуары, поскрипывающие под ногами, длинные тесовые заборы, почерневшие от времени и дождей, дома, непохожие один на другой, с ветхой резьбой наличников и ржавеющим кружевом водосточных труб. Таким и запомнился родной город — срезанный купол церкви, превращенной в пожарную каланчу, бревенчатый мост через мутную реку и белые облака над мертвым монастырем.
Она и в самом деле была красива. Высокий рост, легкая поступь, откинутая назад голова с распущенными светлыми волосами заставляли невольно замедлить шаг и проводить ее взглядом.
Конечно, в нее влюблялись. И ровесники, и парни постарше. В маленьком городке–недоростке она казалась самой лучшей, самой недоступной и потому желанной. Она никому не отдавала предпочтения, ей нравилось дразнить парней броской красотой, разученным у зеркала летящим взглядом, рассчитанным жестом обнаженной руки.
После школы Жанна хотела остаться дома, но родители и старшие сестры уговорили ее поехать в большой город учиться дальше. Ей было все равно, в какой институт поступать, и она подала заявление в первый попавшийся по дороге с вокзала. Экзамены сдала без труда и конкурс выдержала без волнения, а свой успех приписала эффектной внешности. Но город, казалось, не замечал ее красоты, он жил своей жизнью, многоликой и самоуглубленной, к тому же красивых девушек было намного больше, чем в ее родном городке, и она сразу поняла, что пришла пора менять тактику.
Жанна быстро изменила привычки, манеру одеваться, разговаривать, жадно впитывая все то новое, что мог ей дать город.
Ко второму курсу она добилась своего — ее негласно признали самой красивой и недоступной девушкой института. Теперь она могла себе позволить делать то, что некрасивым не прощалось — опаздывать на занятия, прогуливать лекции и на экзаменах добиваться хороших оценок не столько глубиной знаний, сколько оригинальностью ответов и обещающими взглядами.
Она добилась того, чего хотела — о ней говорили, ее замечали, ее имя вызывало противоречивые толки, короче, как ей казалось, она жила полной жизнью.
А сама она так и не знала, что ей нужно от жизни. Все давалось легко: знания, внимание окружающих, здоровое сильное тело, дарованное природой надолго, — этого было и много, и мало одновременно.
Не хватало чего–то главного, мучительно ощущаемого, как наличие пустоты внутри ее самой, которую ничем не удавалось заполнить.
И то, что случилось в тот вечер, не зависело от ее воли и желания, но, как ей казалось впоследствии, природа, не терпящая пустоты, подарила ей то, в чем она неосознанно и остро нуждалась…
Я даже не кухонный философ, а подкроватный. Лежу на своем любимом месте у кровати, вытянув морду на лапы, и размышляю неторопливо о том и об этом. Вспоминаю, анализирую, сочиняю афоризмы, которые тут же опровергаю, ибо любая мысль, выраженная одной фразой, уже является ложной, потому что истина не существует в дистиллированном виде. Она разнолика и неуловима (конечно же, этот мой афоризм об афоризме тоже лжив).
Тогда я все–таки убедил его. Сделать это было не так трудно. Я хорошо изучил его характер еще до его смерти. А то внешнее, что зависело от фенотипа, легко снялось, как одежда. Труднее было научить его переходу через межклеточную мембрану. У него не выходило, он нервничал, недвусмысленно называл меня шарлатаном, но потом мы нашли подступ к границе, и стало легче. Ему помогла неутраченная связь с прошлым, часто это действует лучше, чем психическое сверхнапряжение. Немудрено, что сначала мы попали не в ту дверь, к счастью, там никого не было. Потом мы нашли нужную дверь. Конечно, их встреча была не для слабонервных, но они оба с честью выдержали…
Он именно появился, а не пришел. Она даже не заметила, как он лег на свое любимое место у кровати.
— Ага, — сказала Жанна, — явился, гуляка. Есть хочешь?
Пес положил тяжелую морду на вытянутые лапы и прикрыл глаза.
Она впервые проводила ночь в этом доме, и, как всегда, на новом месте не спалось. Тогда она села в кресло с ногами, закуталась пледом и зажгла свечу. Было тихо, Джеральд вздрагивал на своей подстилке, сны гнались за ним по пятам. Обостренное зрение улавливало в тенях неясные колеблющиеся формы, отсветы от застекленных портретов скользили по стенам. Слух отсеивал ночные шорохи, а воображение приписывало им тайный смысл. Мысли свободно скользили от одного предмета к другому, и если бы в городе жили петухи, то давно бы им пришла пора возвестить о предощущаемом рассвете.
Она задремала. Сон сливался с явью, и Жанна так и не поняла, то ли она проснулась, то ли, напротив, соскользнула в сон, еще более глубокий и путаный.
Она увидела человека, повернувшегося к ней спиной и что–то ищущего в ящике письменного стола. Человек передвигался бесшумно, было похоже, что здесь ему все знакомо и он забежал на минуту, не боясь спящей собаки и чужой девушки. Жанна натянула плед до подбородка и молча наблюдала за ним. Свеча догорала. Казалось странным, что Джеральд, чуткий и недоверчивый пес, спокойно лежит у кровати, мерно и глубоко дыша во сне. Осторожно высвободив ногу, Жанна дотянулась до теплого бока и шевельнула собаку. Она не просыпалась, тогда Жанна толкнула сильнее, и в это время человек повернулся к ней лицом.
Так они и смотрели друг на друга. Жанна, замершая в кресле, с обнаженной ногой, протянутой к собаке, и человек, тот самый, чье тело, напитанное холодной водой, было похоронено на городском кладбище в конце лета.
Она сразу узнала его. Щеточка старомодных усов, высокий лоб, теплый взгляд светлых глаз. Он стоял, замерев, словно его застали на месте преступления, в неудобной позе — согнув спину и повернув голову.
— Вам неудобно стоять, — сказала Жанна. Голос подрагивал и был хрипловат со сна.
— Ничего, — ответил он, помедлив. Выпрямился, спрятал в карман листок бумаги и молча сел на стул. — Не бойтесь, — сказал он, помедлив. — Я не причиню вам зла.
— Я не боюсь. Почему вас прячут от всех? Разве вы совершили преступление?
— Да. Я утонул. Закон природы нельзя нарушать. Это и есть преступление — быть живым и мертвым одновременно. А вы та самая девушка, которую я не смог спасти?
— Мы немного знакомы. Я была вашей студенткой, просто вы меня не замечали.
— Возможно, — сказал он. — У меня слабая зрительная память. Особенно на девушек. Это не обижает вас?
— Нет. Я рада, что вы живы. Я хожу к вам на могилу. Вам нравится памятник?
— Не знаю, — улыбнулся он. — Не видел.
— Я помешала вам?
— Нет. Я не хотел пугать вас. Мертвецов боятся больше, чем живых.
— Боятся неизвестного, а я вас знаю. Вы такой, каким я вас себе представляла. И право же, я очень рада, что вы живой, — повторила она.
— Вы ошибаетесь. Я действительно утонул.
— Вы двойник того погибшего?.. Брат–близнец?
— Я и есть тот самый. Утопленник.
— А кто же там похоронен?
— Прошу вас, не задавайте вопросов. Я отвечу только то, что можно, ответить. Я похоронен там. Но я не пришелец с того света, не призрак. Просто здесь меня не существует. Даже для вас. Запомните это. Для всех я умер.
— И для вашего отца?
— Для него я живой и… мертвый в то же время. Он слишком любит меня и готов поверить всему, даже самому невероятному.
— Я тоже вас люблю. И тоже верю. Мне неважно, почему вы живой и куда уходите. Главное, что вы не умерли… навсегда.
— Тише, говорите, пожалуйста, тише. Вы разбудите отца. Он не должен знать о нашей встрече. Обо мне знают только собака и он.
— И я. Знаю давно. Я чувствовала это. Вы должны уйти?
— Да, я должен уйти. Не говорите никому. Отец боится, что вы расскажете обо мне.
— И что же будет, если об этом узнают?
— Нельзя делать то, чего делать нельзя, — усмехнулся он. — Я ухожу, но приду к вам потом. Вы не против?
— Вы разбудите его граммофоном.
— Я научился обходиться без него… У вас аналитический ум. И вы бесстрашная девушка. Я думал, что вы упадете в обморок.
— Не обольщайтесь. Я упаду. Потом. Сейчас просто некогда.
— Желаю удачи, — сказал он, — ждите меня завтра. Привет Джеральду. Пусть он не притворяется спящим.
— Он тоже любит вас. До завтра.
— Ложитесь в постель. Она ваша.
— Хорошо. Я попробую заснуть.
Дверь бесшумно закрылась за ним. Шагов она не слышала. Задула ненужную свечу и забралась под одеяло.
— Тебе же сказали — не притворяйся спящим, — сказала она. — Все равно у тебя уши шевелятся.
— Может, по–вашему, мне их нужно отрезать? — произнес пес из–под кровати.
— Ну вот, — вздохнула Жанна. — Старики пророчествуют, мертвецы оживают, собаки разговаривают. Что еще?
— А еще Вселенная делится как инфузория, — подумав, сказал пес.
— Как туфелька? — спросила Жанна.
— В том числе.
— Все ясно. Спокойной ночи.
— Какая уж ночь, — проворчал пес. — Утро на дворе…
Стучал в дверь, обитую мягким дерматином, неустанно звонил, прислушиваясь, как гулким эхом множится стук по лестничным площадкам, как истерично звенит звонок по ту сторону двери. И терпеливо ждал, хотя ждать давно не имело смысла.
Горечь, скопившаяся в душе, начинала подступать к горлу. Некуда было выплеснуть ее, и некому облегчить непрерывное страдание. Хамзин не выдержал нарастающего одиночества в доме, населенном опостылевшими родными, ставшими чужими, и близкими, давно ушедшими на расстояние крика.
И он пришел к Полякову. Тот не дежурил сегодня, но должен выйти на работу утром, вот Хамзин и решил, что этим вечером его можно застать дома, и поэтому не хотел верить в тщету своих надежд.
Бешеное терпение его было награждено металлическим скрежетом задвижки. Дверь распахнулась, и Хамзин поспешно перешагнул порог, словно боясь, что его не впустят. Поляков не удивился позднему гостю, молча отстранился, уступая дорогу, и так же молча закрыл дверь.
Вскипающие слова теснилась в гортани, мешая друг другу. Хамзину хотелось плакать, и говорить, и кричать истошно. Он не стал раздеваться, а прямо в полушубке прошел в комнату и, не глядя, опустился с размаху в кресло. Старое дерево жалобно скрипнуло под его монументальным телом.
— Мишка, — выдохнул он, — дай выпить.
Поляков повозился у буфета и протянул стакан. Хамзин нежно погладил граненое стекло.
— Мишка, помоги. Конец мне.
— Можете пожить у меня. Это вас спасет?
— Нет, — вздохнул Хамзин. — Куда я от них денусь? В Антарктиде найдут.
— Тогда разводитесь. Еще не поздно.
— Да что ты! Живьем съедят, а не выпустят.
— Послушайте, Иван Николаевич, а может, вы сами виноваты в своих бедах?
— Конечно, — охотно согласился Хамзин. — И чего, дурень, женился? Завидую я тебе, Мишка, ни жены, ни тещи, ни детей. Сам себе царь. Налей–ка еще.
Он выпил второй стакан и по обыкновению своему стал рассказывать то, что уже давно было известно. Слова легко и плавно перетекали одно в другое. Хамзин выпускал их на волю, и от этого становилось прозрачнее и светлее на душе. Он говорил о своей неудавшейся судьбе, о непоправимости ошибок, совершенных в юности, о горечи и обреченности надвигающейся старости. Поляков слушал его, не перебивая, и постепенно в Хамзине крепла надежда, что он нужен кому–то, что его горечи и печали близки и понятны другому человеку, а значит, жизнь еще не проиграна и стоит того, чтобы за нее держаться. Желательно — покрепче.
Оживая, он поднялся и походил по комнате, разглядывая мебель.
— И не скучно одному? Небось привечаешь кого–нибудь? Знаю я тебя, хитрый ты, Мишка, себе на уме. Девчонку прячешь, ага?
Он решительно распахнул дверь в другую комнату.
— Куда ты ее дел? А здесь–то рухляди! И охота тебе барахло беречь?
— Вам стало легче? — спросил Поляков вместо ответа. — Вот и хорошо.
— Винцо у тебя, Мишка, классное. Сразу полегчало. Сыпани–ка еще стакашку. Да ладно, не суетись, я сам.
Хамзин прошел к буфету и взял в руки бутылку. Повертел, удивительно вскинул брови.
— Откуда такое? Сколько лет пью портвейн, а ни разу не видел, чтобы он через «а» писался. Почему «партвейн»?
— Не знаю. Опечатка, наверное.
— Ничего себе опечаточка, хоть в музей ставь… И вкус странный… На кого работаешь, Мишка? — спросил он заговорщическим шепотом. — Возьми в долю, — и довольно расхохотался.
— На науку работаю, — улыбнулся Поляков. — Научных работников обогреваю.
— Ох и врешь ты. Мишка, ох и заливаешь! И где это ты целыми днями пропадаешь? Как ни придешь, а тебя дома нет.
— Следите за мной?
— А что! И слежу. Я тебя люблю, вот и хочу знать, кто ты такой.
Поляков начал нервничать, хмурясь и топорща светлые усы, но вслух раздражения не выказывал, терпеливо ожидая, когда инженер оставит его в покое.
А Хамзин почувствовал себя уверенным и непогрешимым. Ни дома, ни на работе он не мог позволить себе такой свободы. Дома была жена, пресекающая любые попытки самоутверждения, и теща, разящая наповал презрительной репликой. А Поляков, как всегда, не отвечал на грубость грубостью, не вступал в словесные перепалки и неизменно называл его на «вы», что очень льстило Хамзину, привыкшему слышать панибратское «Ванька» даже от подчиненных. Вино ударило в голову, было легко и свободно. Хотелось петь или хотя бы смеяться. Он удобно развалился в кресле–качалке, покачивался, болтал ногами, и та самая радость, что сродни детскому крику «ага, вот ты где!», не покидала его.
— Вертишь хвостом! — грозил он пальцем. — Хитрущий же ты! Раз в неделю уголек покидаешь и свободен. И живешь как король, и никому не подчиняешься. Сам себе хозяин.
— Я вам подчиняюсь, — сказал Поляков.
— Не юли! — захохотал Хамзин. — Ты мне на работе подчиняешься. А здесь кому? А ну–ка, давай отвечай!
— Никому… Хотите еще вина?
— Па–а–ртвейна? — спросил Хамзин. — А воточка у тебя есть?
— Есть. Только немного.
— А ну–ка покажи, — потребовал Хамзин.
Поляков раскрыл дверцу буфета и вынул початую бутылку. Хамзин взял ее в руки, повертел так и этак, похмыкал, понюхал и недоверчиво сделал маленький глоток.
— Ну, даешь! — сказал он, вытирая рот рукавом. — Ну, Мишка, ну, фокусник! И где ты такие диковины берешь? Ведь черным по белому написано вотка. Это на каком языке?
— На русском, — сказал Поляков. — Только принцип орфографии другой. Называется фонетический. Произношение не меняется, а для обучения удобно. Это экспериментальная орфография.
— Опять ты выкручиваешься! — закричал Хамзин. — Эксперименты в умных журналах печатают, а не на водочных этикетках! Дуришь меня как мальчика! Не позволю!
— П–а–а–зволите, — жестко сказал Поляков. — Куда вы денетесь? И не пора ли домой?
— Ты как со мной разговариваешь? — возмутился Хамзин. — Щенок.
— Не кричите на меня. Надоело. Завтра на работе будете кричать. Там вы начальник, а здесь — гость. Не забывайтесь.
— Это уж мне решать, — гневно возразил инженер и допил бутылку. — Домой не поеду. Буду ночевать у тебя. Стели–ка постель.
— Хорошо, — сказал Поляков и ушел в другую комнату.
Настроение у Хамзина опять испортилось. Детская радость, наполнявшая его только что, быстро выветрилась, и осталось пьяное раздражение и сонливость.
— Я постелил вам, — сказал Поляков. — Ложитесь и спите. Утром разбужу.
Хамзину стало тоскливо и душно. С ним не считались, его не жалели, он всех раздражал, и даже кочегар Поляков повысил голос и распоряжался им, как хотел.
— Не пойду, — упрямо произнес он. — Буду спать здесь. Сидя. Мне так нравится. Ты меня не уважаешь.
— Не уважаю, — подтвердил Поляков.
— А почему? — вскинулся Хамзин.
— А не за что. Вы не умеете уважать других, почему же я должен уважать вас? Хочется спать — спите здесь. Я пошел. Спокойной ночи.
— Куда?! — закричал Хамзин. Он испугался, что сейчас останется один, и горечь, с новой силой разливаясь в теле, подступит к горлу. Чужая квартира была слишком чужой без хозяина.
— В другую комнату, — усмехнулся Поляков. — Спать.
— Ты меня покидаешь, — обреченно сказал Хамзин. — И ты меня покидаешь. Бросаешь на произвол. Как и все.
Ему хотелось плакать, и он заплакал, по своему обыкновению уронив тяжелую голову в крупные ладони.
Поляков постоял молча и закрыл за собой дверь.
— Не смей закрывать двери, — сказал Хамзин сквозь слезы. — Мне страшно.
Дверь открылась, но никто не вышел. Было слышно, как Поляков ходит там в темноте, потом заскрипели пружины, и пришла тишина. Если бы в этой квартире была топка, то Хамзин непременно бы пошел к ней и попытался кинуться в ее огнедышащее жерло, чтобы испепелить опостылевшее тело и превратить в невесомый дым боль одиночества. Но топки не было, а втискиваться в духовку газовой плиты казалось глупым, поэтому Хамзин встал и, покачиваясь, пошел к окну. Надо было сделать хоть что–то, разрядиться, выплеснуться. Окно выходило в черный двор, только узкий квадрат неба высвечивался редкими звездами, и Хамзин легко представил себе, как он падает с высоты, медленно переворачиваясь в холодном воздухе, пока последняя секунда полета не соединит его с землей. Стало противно и жутко. Тогда он с размаху ударил кулаком о стену, чтобы ощутить физическую боль и вытравить душевную. Фотография, висевшая рядом, соскочила с гвоздика и упала на пол. Боль была тупая и слабая. Он снова занес кулак и снова ударил о дубовый угол буфета. Появилась кровь, немного отрезвившая его.
— Мишка! — заревел он. — Где ты?
— Я здесь, — услышал он незнакомый странный голос за спиной.
Он обернулся–и увидел большеголовую собаку палевой масти. Короткий хвост, искривленные сильные ноги, умный взгляд карих глаз.
— Ну, что ты расшумелся, Ваня? — спокойно спросила собака.
— Во напился?! — изумился Хамзин.
— Я?! — возмутился пес. — И в рот этой пакости не беру…
Миров слишком много. Не знай, удастся ли узнать даже приблизительное их число. Они существуют одновременно в разных плоскостях многомерного пространства, и все они — разветвления одного, первоначального. Вселенная подобна живой клетке, которая делится на части, абсолютно идентичные, но продолжающиеся развиваться независимо друг от друга. В этом непрерывном делении — залог бессмертия Вселенной. Она спасает себя от гибели как инфузория. Делится на две части, каждая из них еще на две и еще; до бесконечности. И если погибнут тысячи, то какая–нибудь непременно выживет и снова разделится, и снова… Я видел мертвые миры. Вселенские катастрофы, о которых люди даже не догадываются, уничтожают их, как огонь бумагу, деформируют время, свертывают пространство, но живы другие миры, живы. Чем дальше точка отсчета от разделения миров, тем больше они не похожи друг на друга. Вселенная, как и все сущее в ней, подчиняется законам эволюции. Мы научились преодолевать параллельные пространства, и ты проходишь сквозь границу, как соломинка через мыльный пузырь. Они соприкасаются друг с другом, взаимодействуют, и тогда появляются так называемые летающие тарелки — стык миров, проекция многомерного пространства в наше, трехмерное.
Многие разумные существа предчувствуют начало деления своего мира. Это легко доказать всем им на примере последнего разделения Вселенной. Оно произошло в 1914 году, в августе месяце. С тех пор миры–близнецы развиваются самостоятельно, но, разумеется, пока еще очень схоже. Причины вырастают в следствия, случайности возводятся в ранг необходимости, появляются новые пути, потом очередное деление… Ряд случайностей, накопившихся за десятилетия, привел к некоторым различиям между ними. И вот теперь я мотаюсь из двери в дверь по этим мирам и пытаюсь соединить людей, разобщенных случайностью. Я — спасатель, в этом моя основная цель и в родном мире и повсюду. Человек–хранитель и собака–спасатель. Две ипостаси единого разума моего далекого мира, дверь в который потеряна.
Вспомните начало века, говорю я, декаданс, брожение умов, сдвиг и деформация старого мира. Предчувствие конца света и зарождения нового. И вот начало деления. Мировая война. Революция. Потрясения. Рождение двух новых миров, разделенных, идущих своим путем. Подсчитайте, сколько раз повторялось подобное за всю историю…
— Я почти тот же самый, — сказал он Жанне, — но все же не тот. Я рос без отца, матери было нелегко, впрочем, моя судьба обычна для моего поколения. Мать тяжело болела, я пошел на завод, а после встречи с Джерри ушел и оттуда. Теперь я — кочегар, зато могу жить здесь большую часть времени, чем там, в родном мире.
— Почему ты не уйдешь сюда насовсем? — спросила Жанна. — Там ты одинок, а здесь твой отец и… я.
Поляков покачал головой.
— Это невозможно. Здесь я вне закона. Гримироваться, подделывать документы, лгать? Нет.
— Можно что–нибудь придумать. Объяснить, произошла ошибка, похоронен другой человек, а ты спасся, долго лежал в больнице, без сознания, выжил. Можно уехать в другой город.
— Нет, — повторил Поляков. — Там остались могилы родителей. Там, а не здесь — моя прошлая жизнь, моя судьба. Здесь я прожил одну жизнь и там должен прожить такую же, до конца.
— Это я, — сказала Жанна, — я виновата. Если бы я не заплыла в реку, если бы у меня не свело ноги, если бы тебя, вернее, его не оказалось на берегу, если бы он не бросился спасать…
— Дело не в этом. Любая случайность — это форма проявления необходимости.
— Я изучала.
— Да, необходимо сделать нужный выбор. Раз и навсегда сделанный выбор это больше, чем личная судьба. Человек отвечает не только за себя, но и за своих близких, потомков, за их судьбы. В этом мире мой дед отказался эмигрировать, а в моем он уехал. Здесь мой отец прошел всю войну, а в том допустил ошибку: не распознал провокатора. Это погубило его и весь отряд. В этом мире я столкнулся на пляже с тонущей девушкой и утонул, но неужели ты думаешь, что я там не поступил бы точно так же? Кстати, я узнавал про тебя, так вот — тебя там нет.
— Совсем нет?
— Совсем. Твой отец не вернулся с войны. Мать и старшие сестры живы, а тебя там нет.
— Страшно представить. Другая жизнь. Как ты можешь там жить?
Поляков рассмеялся.
— Это близнецовые миры. Джерри водил меня по более далеким и чужим. Что же удивительного, если в каждом из миров считают единственным только свой родной.
Они сидели друг против друга как и раньше. Жанна в кресле, он на стуле, положив одну ногу на другую, как на старой дедовской фотографии. Сидели и разговаривали. Джеральд тактично удалился из комнаты и, как знать, может быть вообще из этого мира.
— Ты не знаешь о том, что я люблю тебя? — спросила Жанна.
— Не меня, — улыбнулся Поляков. — И даже не того, кто погиб. Его звали Виктором, меня зовут Михаилом, но дело не в имени. Мы с ним очень похожи, пусть у нас разная судьба, но я и он — это один и тот же человек. Мы более близкие, чем близнецы. Ты просто придумала его, а по–настоящему полюбить не могла. Я знаю, тебя мучает вина, ты была готова искупить ее своей смертью, но разве смерть может быть искуплением?
— Нет, — твердо сказала Жанна. — И даже любовь не искупление. Я многое поняла с тех пор. Теперь я совсем другая. Он умер, не оставив сына. Пусть ты — это не он, но ты понимаешь, о чем я говорю.
— Этого не будет, — сказал Поляков, поднимаясь. — Быть может, ты лучшая девушка во всех мирах, быть может, я смогу сильно и навсегда полюбить тебя, но ломать твою жизнь — никогда. Меня не существует в этом мире, тебя — в моем, мы никогда не сможем был вместе. Только в этой квартире, где я гость, а не хозяин. И уж лучше совсем не иметь сына, чем обрекать его на сиротство.
— Неправда. Ты ведь сам рос без отца. Ты продолжение своего рода, а дальше — тупик, конец. И твой отец мечтает о наследнике.
— Я запрещу ему говорить об этом. Впрочем, он и сам должен понять… Это невозможно, Жанна.
Он погладил ее руку и улыбнулся. Виновато и грустно.
— Невозможно? Плохо ты знаешь меня, милый. Я не умею отступать.
Она вскинула голову, тряхнула светлыми волосами и победно улыбнулась. В дверь тихо постучались.
— Заходи, — сказал Поляков.
— Прошу прощения, — произнес Джеральд, проскальзывая в комнату. — Я вам не слишком помешаю?
— Не слишком, — сказала Жанна. — Никак не могу привыкнуть, что ты умеешь разговаривать. Вроде бы обычная собака.
— Обычная! — фыркнул пес. — Вы, девушка, типичный антропоцентрист. Этак вас послушать, и жить не захочется. Всюду люди, люди, а у нас собачья жизнь, что ли?
— Не преувеличивай, — сказал Поляков. — И успокойся: ты не обычный пес. Тебя забракуют, как непородистого. Хотя ты и похож на боксера, но уж очень большеголовый.
— Еще бы! Нашел чем упрекать — большим умом. Пора мне начинать движение за эмансипацию собак. Превратили их черт знает во что. Напридумывали экстерьеров и тешатся как дети. А собаки страдают. Только циничная раса могла придумать такой афоризм: «Собака — друг человека». Разве с друзьями так обращаются?
— Ну что ты, Джерри, — сказала Жанна. — Не каждый аристократ может похвастаться такими родословными, как наши породистые псы.
— Вот это и унизительно! — воскликнул Джеральд. — Собак разводят на племя, неугодных безжалостно топят, а кучка собачьей элиты бездельничает, паразитирует на человеке, служа его непомерному тщеславию, Да и она вырождается из–за постоянного инбридинга. А ведь они разумны! Пусть не в такой степени, как я, но разумны! Вы превратились в расистов! Я призову собак к бунту!
— Ну, это не твое собачье дело, Джеральд, — беззлобно сказал Поляков. Без тебя разберемся. И вообще, у тебя характер портится. Уж очень ты стал ворчливым. Не тоскуй, найдем мы твою заветную дверь.
— Черта с два, — огрызнулся пес. — Найдешь ее, как же…
Ему ничего не снилось, и голос, разбудивший его, отдался в голове болью. Не раскрывая глаз, Хамзин поморщился и перевернулся на другой бок.
— Пора на работу, Иван Николаевич, — повторил Поляков и осторожно потряс его за плечо.
— Пива дай, — сипло произнес Хамзин.
Бульканье жидкости, льющейся в стакан, оживило его. Приподняв голову, он жадно выпил холодное пиво и, медленно припоминая вчерашние события, спустил ноги с дивана.
— Уже вернулся? — спросил он.
— Откуда? Я спал в соседней комнате.
— Ну да! А пиво где взял?
— В магазине. Не сам же я его делаю. Стояло в холодильнике.
— Покажи! — потребовал Хамзин. — Бутылку покажи!
Поляков молча подал.
— «Саянское», — прочитал Хамзин. — Трехдневное. Ладно, это наше. Но ты не выкручивайся, Мишка. Я от тебя не отстану, пока все не расскажешь и не научишь, как попадать в другое измерение.
— Не знаю, что вам снилось, Иван Николаевич, но при чем здесь я? Вставайте — и на работу. Мы опаздываем.
— Опять ты мне мозги пудришь! — закричал Хамзин. — Твой пес курносый во всем раскололся. Вы с ним шляетесь туда–сюда по разным мирам, как из комнаты в комнату, а других научить не хотите. Эгоисты! Я, может, погибну здесь.
— А розовых слонов не бывает? — спокойно спросил Поляков. — Пили бы вы поменьше, Иван Николаевич.
— Вот уж тебя не спросил! — возмутился Хамзин. — Тебе бы мою жизнь, щенок!
Поляков смотрел на него насмешливо, и Хамзин разозлился. В течение пяти минут он высказывал все, что думает о Полякове, тот молча выслушал его и спокойно сказал, что Хамзин–де вчера выпил лишнего и спал до утра не просыпаясь, только храпел сильно, но Поляков его прощает и ничуть не обижается. У Хамзина перехватило дыхание от гнева, он чуть не полез в драку, ругнулся напоследок и, хлопнув дверью, вышел в подъезд. На остановке его догнал Поляков.
— Вы не переживайте, Иван Николаевич, — сказал он. — Это бывает. Я тоже иногда вижу на редкость яркие сны и потом долго не могу отличить, где сон, а где явь. Сегодня, например, мне приснилось, что у меня растет сын Сашка и жена у меня красивая, добрая. Такой, знаете ли, логичный и яркий сон…
Хамзин нервно передернулся…
Я бегаю, как собака, высунув язык, держу нос по ветру, но не нахожу знакомого запаха. Сбился со следа, все время кажется, что вот–вот из–за поворота пахнет родным ветром, лучшим во Вселенной. Я тоже родился на Земле, но где она теперь, та самая долгожданная земля, о которой кричали матросы с высоких мачт, которую долгие годы искал Одиссей, где она?
Передвижения в многомерном пространстве отличаются от путешествий в космосе именно тем, что неизменно попадаешь в аналогичную точку, в данном случае — на какую–нибудь из миллионов планет–близнецов — Землю. Но Земля Земле рознь, в бесконечных кривых зеркалах она та же и не та, каждый раз обманываешься знакомой деталью пейзажа, запахом, голосом, напевающим почти родную мелодию, и слабеют лапы, а сердце бьется сладко и тяжело. Но вдруг на проселочной дороге встречаешь какого–нибудь ручного бронтозавра, запряженного в громыхающую повозку, и разумного игуанодона, глядящего из–под лапы на солнце… Не говоря уж о том, что есть миры, на которых так и не развилась органическая жизнь. Голые скалы, моря, грозы и ветры. Есть и такие, где жизнь уже отцвела. Это самые страшные планеты. Нерожденный ребенок вызывает лишь сожаление, но погибший в расцвете сил…
Это неверно, что Вселенная равнодушна и величава, что она не замечает копошения разумных микробов на своем бесконечном теле, ведь именно жизнь и как вершина ее — разум — призваны противостоять энтропии, рассеянию и уничтожению. Мы первые, а за нами и другие миры научатся переходу через границу, и тогда механизм самозащиты Вселенной придет к своему логическому завершению — разум отберет лучшее, что накопилось в бесконечных мирах за все время разделения, соединит миры и возьмет на себя уже посильный ему груз сохранения и спасения… И распахнутся двери, и свежий ветер пронесется сквозняком из мира в мир…
— Они везде ищут мистику, — сказал отец неизвестно о ком, брезгливо морщась. — Они мнят себя материалистами, но когда сталкиваются с непонятным явлением, тут же спешат объявить его мистической ложью. Они не пытаются исследовать неизвестное: еще бы, намного легче откреститься от него, чем утруждать голову тяжелой работой. Они подобны детям, закрывающим глаза ладонью и кричащим: «Я спрятался!» А ты похож, — сказал он, указывая на сына, — на мальчика, восклицающего: «Кто не спрятался, я не виноват!» Кому ты хочешь доказать? Кому? Тебя сразу же объявят неполноценным и отнимут у нас навсегда. Я запрещаю тебе.
— Я не могу по–другому, отец, — тихо сказал Поляков. — Я не могу быть подлецом. Как же так, ты — честный и справедливый человек — советуешь мне скрываться на чердаке, как дезертиру. Да, мы любим друг друга, я ничего не могу с собой поделать, но вести двойную жизнь немыслимо. Жанна родит ребенка, она должна уйти из института, а я буду отсиживаться в своей тепленькой кочегарке. Нет, я уже сделал выбор.
— Это я виновата, — сказала Жанна. — Опять я. Получается так, что я снова приношу горе. Лучше будет, если я уеду к маме, она все поймет. Мы будем приезжать к вам в гости.
— Этого только не хватало! — возмутился старик. — Род Поляковых уже три поколения не покидает этот дом, а ты хочешь отнять у меня внука и сына! И запомните: здесь решаю я. Так вот, Жанна будет жить с нами, институт она не бросит, заботу о ребенке я возьму на себя, Джеральд мне поможет. Ты, Виктор–Михаил, найдешь себе еще какую–нибудь работу. Ничего. Если будешь бывать у них пореже, это тебе только на пользу. Умирать я не собираюсь, так что придется вам подчиниться мне.
— Но как же честь? — спросил Михаил. — Скажи мне, разве может мужчина уйти в кусты, когда запятнана честь девушки?
— Ну, вызови себя на дуэль, болван! — вскипел отец. — Или лучше меня, потому что я намерен жениться на Жанне.
— Ты?! — воскликнул Михаил. — Всем на посмешище? Она тебе во внучки годится.
— Не смей кричать на отца! Уж не думаешь ли ты, что я отбиваю у тебя жену?
Неожиданно Жанна рассмеялась.
— Ну надо же! — проговорила она сквозь смех. — Это гениальная идея! Александр Владимирович, вы гений! Как вы до этого додумались? Вот здорово! Миша, это самый лучший выход. Наш сын будет носить фамилию Поляковых, и никому не придется лгать. Никому! И пусть над нами смеются, смех лучше позора. Ну какой же вы умница! — воскликнула она, обнимая старика. — Вы самый настоящий мужчина в целом мире.
— В целых двух мирах, — вздохнул Михаил и вытер платком лоб.
— Надеюсь, ты не будешь меня ревновать, сопляк? — высокомерно спросил старик.
И Поляков–младший облегченно засмеялся.
— Джерри! Где наш Джерри? — спросила Жанна.
— Где ему еще быть? — проворчал старик. — Носится по Вселенной, высунув свой болтливый язык. Он дождется, что когда–нибудь его изловят собачники и увезут на живодерню. А вот ты, Виктор–Михаил, не будешь моим сыном, если не поможешь найти ему нужную дверь. Человек без родины, что…
— …дерево без корней, — закончил Михаил. — Знаю, папа. Я сделаю все, что смогу.
— Ничего ты не знаешь. Это человек, а речь идет о собаке. Мы его любим, но этого мало. Он совсем из другого мира, ему нужен только его симбионт, единственный и неповторимый, без которого Джеральд — всего лишь полтела и пол–ума.
— Я знаю, — повторил Михаил. — Я тоже ищу эту дверь…
На этот раз он пришел трезвый и тихий. Тщательно вытер ноги, молча прошел в комнату, осторожно погрузил свое тяжелое тело в кресло и попросил чая.
— Только, пожалуйста, без опечаток, — добавил он и покрутил в воздухе рукой. — Нормального чая.
Недоверчиво понюхав чашку, Хамзин поднял глаза на Полякова, и того удивило выражение, застывшее в них. Собачья тоска, да и только. Совсем как у Джеральда, когда он вспоминал о своей родине.
— Худо? — спросил Поляков.
Хамзин вздохнул. Глубоко и протяжно.
— Хоть на луну вой, — сказал он. — Где твой курносый приятель? Он обещал помочь. Только не говори, что у меня белая горячка, я все помню.
— Хорошо, — сказал Поляков серьезно. — Не буду. Хотите, я скажу вам, когда вы совершили свою самую большую ошибку?
— Откуда тебе знать, Мишка? — вяло махнул рукой Хамзин.
— Вам было семнадцать лет, — продолжал Михаил. — Вы уехали из родного села сюда, в город. Помните?
— Ну, помню. Я поступил в институт. А что?
— А то, что вы напрасно это сделали. Вы обиделись на весь свет, не сумев простить девушку, такую же зеленую, как и вы, и, плюнув на нее, женились в городе на первой попавшейся. Ведь вы никогда не любили свою жену. Вот и страдаете, и ее мучаете, и водку пьете, и детей бьете, пока жена не видит. Так ведь?
— Откуда ты знаешь об этом? — вскинулся Хамзин.
— Сами рассказывали, — улыбнулся Поляков. — А ведь могли бы не ломать свою любовь, а после института вернуться домой, жениться на любимой и спокойно работать. Ведь вы грамотный инженер, работа для вас всюду найдется. Тем более в родном селе. Хочется же босиком по траве, а?
— Хочется–перехочется, — проворчал Хамзин. — Только дома родного не осталось и эти самые стежки–дорожки позарастали. Нет мне жизни на этом свете. Пусти на тот, Мишка.
— Что я вам, господь бог? — улыбнулся Поляков. — Если вы думаете, что лучше нету того света, то вы ошибаетесь.
— Не запирайся, — упрямо проговорил Хамзин. — Мне твоя собака все рассказала о том свете.
— Тот свет — это загробный мир, которого не было, нет и не будет. Вы неправильно поняли объяснение Джеральда.
— Не один ли черт! Главное, что я могу начать сначала жизнь. Здесь уже поздно, а там еще смогу.
— Ничего вы не сможете, — покачал головой Поляков. — Другой Хамзин смог, а вы не сможете. Всю волю пропили.
— Какой еще другой? Я один у родителей.
— Другой. Не здесь, а там. — Поляков неопределенно повел рукой в воздухе. — Я узнал, где он живет. Это нетрудно. В том же селе, где родился, его жену зовут Светлана. У них двое детей, обычные хорошие дети, не хуже ваших, хоть и в деревне выросли. Тот Хамзин работает агрономом, у него тоже горе — больна жена, но он не чувствует себя таким одиноким и несчастным. Они нужны друг другу. Он не считает себя счастливым, но по сравнению с вами он счастливчик.
— Не береди душу, — сказал Хамзин. — Ты придумываешь сказки. Нет другого Хамзина, мог быть, но нет. Есть я один, совсем один, и больше никого.
— Хотите, я познакомлю вас? Вы сможете побывать у него в гостях и даже выпить партвейна со своим двойником. Если, конечно, не напугаете друг друга до смерти.
— Хочу, — твердо сказал Хамзин. — Не напугаюсь. Давай веди.
— Не так сразу, Иван Николаевич. Сейчас не получится. Вы должны поехать в родное село и все хорошенько вспомнить, до деталей. Вы должны восстановить в памяти свое прошлое, отца, мать, деда. Вы должны построить заново разрушенное вами. Иначе нельзя.
— Слушай, а как это ты? Аппарат изобрел?
— Нет, — покачал головой Поляков. — Я сам и есть аппарат.
— А может, ты того, а?
— Нет, — усмехнулся Поляков. — Не того. Хотите, покажу?
— Не боишься, что проболтаюсь?
— Не боюсь. Кто вам поверит? Если вы, Иван, поймете, в чем причина ваших бед, то уже сможете преодолеть хотя бы часть их, а если еще научитесь изменять свою судьбу, то… Короче, идем.
Они зашли в комнату, где даже запах был вчерашний, запах старого дерева, книг, выцветшей обивки и столетней пыли, затаившейся в щелях.
— Сядьте туда, — приказал Поляков. — И не мешайте. Вопросы не задавайте и в обморок не падайте.
Он сел на канапе, достал кисет и стал набивать трубку.
— Ага, — удовлетворенно хмыкнул Хамзин, — опиум. Теперь понятно, какие миры ты посещаешь.
— Табак, — сухо сказал Поляков. — Марка «Мичманский». Можете попробовать.
Он разжег трубку, встал, походил по комнате, затягиваясь голубым крепким дымом, снял с полки пластинку и поставил на граммофон. Хорошо смазанная пружина завелась без скрипа. Поляков снова сел на низенький диванчик, вытянул ноги, не отрывая взгляда, стал пристально смотреть на фотографию, где человек, похожий на него самого, пронизывал десятилетия светлыми глазами. Хамзин глядел на него во все глаза, стараясь не моргать, но так и не уловил момента, когда вдруг понял, что остался один.
— Принеси партвейна! — заорал он, но уже некому было его услышать. Вот черт, забыл напомнить!
Клубы дыма растворялись в воздухе, пластинка доиграла до конца, игла бессмысленно царапала черный диск. Хамзин остановил вращение, потискал замшевый кисет, расшитый бисером, громко чихнул.
— Ерунда какая–то, — сказал он себе. — Не пьяный, а мерещится…
Это был рецепт, найденный именно для него, и я не знаю, как можно научить других людей переходу. Сам я передвигаюсь в многомерном пространстве совсем по–иному, но причина, толчок всегда находятся внутри. Это особое чувство, заложенное природой в любом разумном существе, но лишь дремлющее, пока не пришла пора. Так и он никогда не мог объяснить толком, как это ему удается, и все его рассказы, даже самые подробные, сводились к перечню условий, необходимых для перехода, и описанию внутренней сосредоточенности, которую, впрочем, почти невозможно описать словами. Условия были просты. Трубка, набитая табаком «Мичманский», старая пластинка, фотография на стене, расслабление, и еще то, что называется вживанием в роль. Полное и безоглядное вживание, равносильное превращению в другого человека.
Он давно научился обходиться без табачного дыма, музыки и прочей бутафории. Не это было главным, и лишь по привычке, словно исполняя ритуал, он обставлял всем этим свой переход. К тому же далеко не во всех мирах оказывались под рукой привычные вещи. Но они служили не просто фетишами: все это соединяло в нем разрозненные звенья рода, освобождало генетическую память, и приближало к границе. Старая музыка и фотография соединяли его с дедом, табак и трубка — с отцом. Он описывал свое приближение к границе миров. Как и мной, она воспринималась им в виде плотной прозрачной пленки, потом следовал мгновенный разрыв, отдававшийся болью в висках, и он оказывался в другой Вселенной…
Я не совсем уверен в своем предчувствии, но возможно, что все изменится, и довольно скоро. Мы ощущаем приближение беды намного раньше людей. Не знаю, что принесет нам это изменение, горе или радость…
Все стало проще и сложнее одновременно. Проще в институте. Жанна и без того не слишком–то дорожила мнением своих однокурсников. Не сумевшие понять и простить ее, они навсегда стали чужими. За ее спиной поговорили, посудачили, дружно сошлись на том, что она выходит замуж за старика из–за хорошей городской квартиры, и на том успокоились. Труднее было с родителями. Им нельзя было говорить правду, а лгать родным людям было тяжело. Они приехали в город, когда она сообщила им о своем решении, погостили несколько дней и уехали рассерженные. Они справедливо полагали, что их красавица дочь достойна самого лучшего, самого умного, самого красивого мужа, а не старика, ровесника ее отца. Она хотела сказать, что ее муж и так самый лучший, но выдержала роль до конца. Иного выхода не было.
Ну а что потом? Потом она родила сына, его назвали в честь деда Сашкой, старик стирал пеленки, пес пел колыбельные, Виктор–Михаил выжимал сок из морковки, мальчик рос не по дням, а по часам, короче — все как в сказке.
Пес почувствовал раньше и поделился только с Михаилом. Тот посомневался, потом поверил, не придав этому никакого значения, но Джеральд объяснил ему, чем все это может грозить, тогда забеспокоился и Поляков.
А дело было в том, что наступали тяжелые времена. По всей видимости, пришла пора разделения миров. Каждый из них созрел, накопил энергию и готовился к новому рождению. Джеральд доказывал, что возникнут неизбежные деформации, и уже нельзя будет с привычной легкостью переходить из одного мира в другой, как в соседнюю комнату. Поляков не говорил об этом ни отцу, ни Жанне и лишь в свободные часы изводил бумагу сложными расчетами, пытаясь заранее вычислить дату сдвига. Но даже с помощью Джеральда сделать это было практически невозможно.
— Где же ваша хваленая наука? — раздраженно ворчал Поляков. — Только и хвастаешься, что у вас то умеют, это знают, вы, мол, первооткрыватели, первопроходцы…
— Что ты пристал ко мне? — возмущался пес. — Что я тебе, математик? У вас в космос летают, а ты сможешь рассчитать паршивую траекторию полета? И ведь хорошо знаешь, что я всего лишь половина разумного существа и могу ровно в два раза меньше. И еще попрекаешь моим несчастьем!
— Не сердись. Ничем я тебя не попрекаю. А ты мне ни разу не рассказывал, как это ты умудрился потеряться? За кошкой, что ли, погнался?
Джеральд, глубоко вздыхая, поджимал черные губы и раскаянно шевелил коротким хвостом.
— Собственно, тут и рассказывать не о чем, — неохотно говорил он. Ошибся. С кем не бывает, — и переводил разговор на другую тему.
Близился час деления. Вселенная сжималась, как зверь перед прыжком. Солнце резко увеличило свою активность, в просторах космоса вспыхивали сверхновые звезды. На Земле возросла смертность, несколько войн начались одновременно на разных материках, и каждая из них могла изменить судьбу всей планеты. Случайности вырастали до ранга необходимости, Вселенная защищалась от них, выбрасывая новые побеги и, словно опасаясь возможной гибели, в арифметической прогрессии отражала себя в неисчислимых мирах…
Вернувшись с дежурства, он сидел в большой пустой квартире, расслабившись в уютном кресле. Он ждал, когда отойдет усталость, чтобы привычно пересечь границу и встретиться с близкими.
В дверь настойчиво зазвонили. Он знал, что скрываться нет смысла, и пошел открывать Хамзину.
Инженер ввалился в прихожую, таща два раздутых чемодана. Один из них для верности был перетянут ремнем, карманы полушубка оттопыривались. Поляков молча взял чемоданы и отнес их в комнату. Хамзин пыхтел сзади и готовился разразиться потоком слов.
— Все, начал новую жизнь, — сказал за него Поляков. — Больше туда ни ногой. Выручай, Мишка.
— Выручай, Мишка, — повторил Хамзин с отчаянием. — Больше ни ногой. Чтоб я сдох. Веди меня. Я готов.
Он втиснулся в кресло, поворочался с боку на бок, словно утрясая свое большое тело.
— Ездил в родное село, — вздохнул Хамзин. — Все вспомнил, ко всему готов. Только бы избавиться от этого рабства.
— А не страшно?
— Не–е, — мотнул головой Хамзин. — Здесь страшнее.
— А если не получится?
— Все равно домой не вернусь. Уеду на родину, там меня ждут. Но понимаешь, там меня жена разыщет, Бежать от нее некуда. Послушай, — вдруг испугался он, — а ты не врешь? Это не фокус. Или мне померещилось?
— Все это правда. Сейчас вы окажетесь в другом мире и сами во всем убедитесь.
— Давай поскорее, Мишка, а то жена найдет. Я хитрый, а она еще хитрее.
— Пошли, — сказал Михаил. — Сначала вы, потом я. И ведите себя там потише, не пугайте мою семью. И еще — сразу же вставайте и отходите в сторону, я пойду следом за вами. А там разберемся, что с вами делать.
Они зашли в маленькую комнату. Поляков усадил Хамзина на канапе, неторопливо завел граммофон, поставил пластинку, набил трубку и сказал:
— Закуривайте. Прижмите свои чемоданы, а то растеряете по дороге. Расслабьтесь, закройте глаза и думайте, усиленно думайте о себе, семнадцатилетнем. Вспомните все, что можете, как можно яснее: голоса, запахи, ощущения. Давайте. Я подтолкну вас.
И запела пластинка, поплыли по комнате голубые клубы табачного дыма, обмяк Хамзин, расслабил непомерный свой живот, запрокинул голову, разгладил морщины, и улыбка высветлилась на лице.
— Пошел! — крикнул Поляков и, схватив Хамзина за плечи, сильно встряхнул его.
Тот удивленно вздрогнул и исчез.
Вместе с чемоданами, болью, горем, весь, от лысеющей головы до стоптанных ботинок. Поляков ни разу не видел со стороны, как уходят люди в сопряженное пространство и, по правде говоря, не очень–то верил, что еще кто–то, кроме него самого, сможет преодолеть барьер. Он не был до конца уверен, попадет ли Хамзин в нужный мир или его забросит на задворки бесчисленных Вселенных, и поэтому стал готовиться к броску.
Это произошло одновременно. Кто–то заколотил кулаками в дверь, настойчиво, нетерпеливо, а в ту же минуту появился Джеральд. Гладкая шерсть его стояла дыбом, длинная царапина на боку сочилась кровью, с розового языка капала пена. Он задыхался и закричал еще в воздухе, не успев приземлиться.
— Витенька! Мишенька! Начинается! Я нашел!
— Что начинается? Что нашел?
— Деление начинается, черт тебя побери! Дверь я нашел, провалиться мне на этом месте! Она самая, родимая! Перед делением повышается проницаемость, дорога к ней открыта. Ты понимаешь, чучело ты двуногое, нашел я ее! Нашел!
Не в силах остановиться, Джеральд носился по комнате, сбивая стулья. Стук в дверь становился яростным. Незнакомый женский голос на высоких нотах кричал из–за нее:
— Помогите! Убивают! Люди, откройте!
— Не открывай! — прокричал Джеральд. — Беги быстрее, не успеешь. Во время деления все двери закрываются. Бежим!
— Беги, Джеральд, — сказал Поляков, поймав собаку и прижимая к себе. Беги, мой самый прекрасный, самый умный во всей Вселенной пес. Я найду тебя. Беги.
Джеральд на секунду прильнул к нему своим горячим телом, торопливо лизнул в щеку.
— Прощай! — сказал он, отстраняясь. — Как знать, увидимся ли? Я не мог уйти, не попрощавшись. Обними отца, лизни, фу ты, поцелуй Жанну, не обижай Сашеньку. Помните, я люблю вас!
Он высоко подпрыгнул в воздухе и, уже растворяясь, крикнул:
— Беги!
— Спасите! — истошно кричала женщина. — Умоляю, откройте!
Колебаться было некогда. Поляков подошел к двери, сдвинул рычажок замка. В прихожую ворвалась женщина в расстегнутой шубе, с растрепанными волосами и, гневно поблескивая очками, закричала с порога:
— Куда ты его дел, негодяй? Я не допущу! Не позволю! Как ты смеешь!
Поляков выглянул в подъезд, но там никого не было.
— Так вы обманули меня? — холодно спросил он.
— Это ты обманщик! — ядовито выкрикнула она. — Ты заманиваешь к себе людей и уничтожаешь их с корыстной целью. Ты воруешь чужих мужей!
— Так вы жена Хамзина? — догадался Поляков.
— Ага! Вот ты и признался! — теснила его женщина. — Говори сейчас же, где он?
— Его здесь нет, — спокойно сказал Поляков. — Можете поискать.
— И поищу, еще как поищу, — с угрозой в голосе сказала она и ринулась в комнату.
Поляков уселся в кресло и с усмешкой смотрел, как женщина, суетясь и подбадривая себя криками, бегает из комнаты в комнату, двигает стульями, открывает шкафы и ползает на коленях под кроватью.
— Так и есть! — торжествующе выкрикнула она, встав перед Поляковым и тыча пальцем ему в лицо. — Никаких следов! Успел замести, преступник! Чем ты его заманил, негодяй! — кричала она, подступая. — Верни мне мужа!
— Ну и семейка, — вздохнул Поляков. — Вы что, детективов начитались? Нет здесь вашего мужа. Можете вызвать милицию, если не боитесь позора.
— Это ты должен бояться! — Хамзина словно обрадовалась сопротивлению и уверенно рванулась в бой. — Я за тобой давно слежу. Пятнадцать человек сгубил, а теперь и до моего Ванечки добрался? Не на такую напал!
— Да, не на такую, — согласился Поляков и искренне пожалел бедного инженера. — Делайте что хотите, только за пределами моей квартиры. Вы поняли меня?
Наверное, его взгляд не понравился Хамзиной. Она отскочила на шаг и взвизгнула:
— Убийца! Я так просто не дамся! Я буду кричать!
— Вы и так кричите, — сказал Поляков, медленно поднимаясь. — Ничего, здесь никто не услышит.
— Милиция! — заголосила Хамзина, заметавшись по комнате. — Убивают!
— Ничего, голубушка, это не страшно, — сказал Поляков. — Дело одной минуты…
Она выскочила из квартиры так быстро, что зайчик от ее очков не поспел за ней и растерянно замер на потолке.
Поляков покачал головой и невесело рассмеялся.
— Бедный, бедный Иван, — сказал он. — От такой жены и в космосе не скроешься…
Он тщательно закрыл входную дверь и… Что–то сильно содрогнулось внутри, он ощутил, как воздух сжимается и тугими толчками протискивается при каждом вдохе в отяжелевшие легкие. Закружилась голова, он оперся о стену.
— Опоздал, — зло шепнул он, — опоздал, болван.
Он физически остро ощутил, как захлопнулись двери, с испариной на лице вбежал в маленькую комнату и, усилием воли стараясь подчинить себе взбунтовавшийся мир, раз за разом пытался прорваться через закрывшийся барьер. Он напрягал все силы, комбинировал элементы ритуала, менял пластинки, торопливо листал старые альбомы, но прозрачная преграда не подходила вплотную, словно что–то сломалось в непонятном механизме перехода.
Тогда он прекратил поиски и стал ждать, чем все это кончится. Запасся большой кружкой чая, сидел в кресле и читал толстую книгу, которой должно было хватить надолго. Он рассеянно думал о том, что, быть может, еще не все потеряно, закончится разделение, и граница снова станет достижимой и податливой. Он не знал, сколько будет длиться это никому не известное действо, но рано или поздно оно совершится, и тогда можно будет сказать наверняка: пан или пропал.
Вселенная продолжала сжиматься. Мягкая неодолимая волна накатывала на Полякова со всех сторон, захлестывала, давила, грозилась утопить или выбросить на сушу. Сдавливало виски, перед глазами проплывали далекие звезды. Ему казалось, что тело его уменьшилось и уплотнилось. Уже не волна, а сплошная океанская толща вдавливала его в кресло, и лишь короткие пульсирующие вспышки всплескивались в глубине тела.
И Вселенная распалась.
Он ощутил резкий толчок в грудь, и тут же воздух стал разреженным и прохладным. Он невольно зажмурил глаза, а когда открыл, то увидел, что ничего не изменилось.
Поляков вздохнул и привычно приблизился к барьеру. Осторожно нащупал тугую оболочку мира. Она не поддавалась. Пружинистая и полупрозрачная, она не выпускала его.
— Черт! — не выдержал Поляков. — Вот ведь влип…
Ему отвели раскладушку в комнате старика, а в комнату с бронзовой ручкой на двери старались не заходить, напряженно ожидая прихода Михаила. Всех беспокоило его долгое отсутствие. Джеральд успел распрощаться с ними, мелькнув на минуту в пыльном луче света, пересекающем комнату, а от Миши не было никаких вестей. Сам Хамзин мог рассказать очень мало. Появление инженера не было неожиданностью, старик сразу же увел его в другую комнату, чтобы он не помешал приходу сына, но Михаила все не было и не было.
Первые дни он не выходил из дома, с трудом привыкая к этому миру, словно не доверяя новому для себя чувству внутреннего освобождения. Но постепенно осмелев, Хамзин начал выходить на улицу, с любопытством выискивая различия между мирами. Их было не так уж и много, скоро он привык к чужой орфографии и его перестали удивлять «ошибки» на вывесках и рекламах. Он даже привык читать книги, раздражавшие поначалу своим «исковерканным» языком. Положение гостя тяготило его. Он долго искал свой родной НИИ, но на этом месте высились жилые дома, и вообще город отличался от его родного. Только здания, построенные в прошлом веке, вызывали чувство причастности к их общему прошлому. Он порывался уехать в родное село, но побаивался встречи со своим двойником, к тому же документы его не годились для этого мира. Он все больше и больше думал о том, что его бегство в конечном счете оказалось бессмысленным. Гуляя по улицам, он насмешливо размышлял, что этот способ хорош для алиментщиков и преступников. Здесь не было ни жены, ни тещи, и он не стремился к встрече с их двойниками, суеверно полагая, что женская проницательность сильнее границ и расстояний.
Но главное было в том, что он постепенно пришел к пониманию причин своей боли. Чувство обреченности. Вот что мучило его долгие годы. Словно он был раковым больным и знал, что скоро умрет и некуда деться от смерти. Так и Хамзин был обречен на ежедневные мучения, и, слабовольно махнув на все рукой, знал, что до конца жизни ничего не изменится, и это знание губило его; сковывало волю, заставляло пить, дурить и лезть в раскаленную топку. Ошибка, совершенная однажды, порождала плотную цепь других ошибок, и не было сил разорвать ее, как веревку с красными флажками, и освободиться, и начать новую жизнь.
Побег не принес ему желанного освобождения. Он остро ощущал чуждость другого мира, и новое чувство обреченности уже начинало захлестывать его. Обреченность на чужбину. Уходить назад было жутко, но и оставаться здесь навсегда казалось немыслимым.
Старик нервничал. Его мучила бессонница. Шаркающими шагами он расхаживал по ночному дому, кашлял и разговаривал сам с собой, доказывая что–то себе яростным шепотом. Жанне тоже было нелегко. Институт, ребенок, тревога за старика и за Мишу. Не хватало Джеральда, к которому успели привыкнуть, хотя все прекрасно понимали, что он нашел свою родину, и радовались за него.
Однажды старика прорвало.
— Напридумывали! — воскликнул он. — Напридумывали параллельные миры на свою голову! Деление! Разобщение! Черт бы побрал все границы! Между странами, между людьми! Сидят в своих параллельных мирах и в ус не дуют. Конформисты, трусы! Черта с два пришел бы мой сын из своего дурацкого мира, если бы я не любил и не ждал его. Только любовь, только отречение от себя, от своей шкуры рушат границы.
— А как же я? — робко вставил Хамзин.
— А вы, любезнейший, — ядовито сказал старик, — трус номер один. Вы перескочили сюда от страха, а страх, к великому сожалению, бывает сильнее любви. Я не склонен корить вас, но скажите правду: почему вы сбежали?
— Я не мог там жить, — виновато сказал Хамзин. — У меня жена злая.
— А кто вас привязал к ней? Если нельзя исправить, то разводитесь. Вы мужчина или не мужчина? От злой бабы на тот свет бежать! Слыханное ли дело. Родину променять!
— Не судите его строго, — вмешалась Жанна. — Он имел право на убежище. И если Миша решил спасти его, то, значит, это было необходимо.
— Я о многом передумал, живя здесь, — пробормотал Хамзин.
— Вот и думайте лучше, — сказал старик. — Не знаю, почему Виктору–Михаилу взбрело в голову посылать вас сюда, но вы должны выбрать свой путь. Никто, кроме вас, не вправе решать…
— Я знаю, — упрямо перебил Хамзин. — Теперь я знаю, как жить. Наверное, Миша и запустил меня сюда, чтобы я сам понял, что к чему. Словами все равно не прошибешь, а вот когда на своей шкуре испытаешь… Назад мне надо, домой. Разведусь, уеду в родное село.
— Назад, — пробурчал старик. — Ни вперед, ни назад. Я сам попробую!
— Как же вы, Александр Владимирович, если даже у Миши не получается? спросила Жанна.
— Вы заблудитесь, — буркнул Хамзин.
— Найду, — твердо сказал старик и закрыл за собой дверь с бронзовой ручкой.
Михаил объяснял ему, как это делается, да и сам он много раз видел уход и приход сына, вот и сейчас, стараясь ничего не упустить, он тщательно восстановил ритуал перехода и, кашляя от дыма, упрямо ждал. Ничего не получалось…
Он ходил на работу, лежал на топчане, прислушиваясь к гудению пламени в топках, к бегу воды по трубам, к ровному шуму мотора, и терпеливо ждал. Об исчезновении Хамзина ходили немыслимые слухи: то говорили, что он убежал с любовницей, то клялись, что его труп нашли в пригородном лесу, то утверждали, что он напился до бесчувствия и замерз на улице.
Жена Хамзина не оставляла в покое Полякова. Однажды она пришла с молоденьким участковым милиционером и, тыча в Полякова узловатым пальцем, кричала, что этот усатый рецидивист растворил ее мужа в серной кислоте и вылил в канализацию и что этот же негодяй чуть не убил ее саму зверским способом. Сама абсурдность обвинений уже служила доказательством невиновности Полякова, но милиционер, скучая, все же тщательно допросил их обоих, проверил документы и со словами: «Смотрите у меня» — ушел. Хамзина выскочила вслед за ним, опасаясь остаться в этой квартире.
Михаил не прекращал попыток. Мир был замкнут, и граница не пропускала. Он не отчаивался, полагая, что после разделения межклеточная мембрана непроницаема лишь на время, и упорно исследовал ее, раз за разом приближаясь к полупрозрачной преграде. Его забавляла мысль, что теперь стало два Михаила, две Жанны, два отца, два сына и два Хамзина. Не говоря уже о прочих. И как знать, быть может, в одном из четырех миров найдется лазейка для соединения, и тогда все решится.
И вдруг появился Джеральд.
В искрах электрических разрядов, проломив оболочку, он завис в воздухе посередине комнаты и, спружинив на все четыре лапы, бросился к Полякову, яростно вертя обрубком хвоста.
— Наконец–то! — закричал он еще в воздухе. — Наконец–то я нашел тебя, пес ты двуногий, кочегаришка зачуханный!
— Грубиян! — воскликнул Поляков, обнимая собаку. — Откуда ты взялся?
— С того света, естественно. Я не один. Познакомься, это мой симбионт. — И Джеральд показал лапой на появившегося человека в синем костюме. — Он не знает вашего языка, его зовут Джеральд–один.
— А ты сам, выходит, Джеральд–два? — догадался Поляков и протянул руку человеку. — Искренне рад, ваш пес много рассказывал о вас.
Человек улыбнулся и произнес несколько слов на незнакомом языке.
— Ну, потеха! — рассмеялся пес. — Он сказал те же самые слова, что и ты. Вот вам и языковой барьер! Ну ладно, ближе к делу, у нас мало времени. Дела плохи, парень. Мы к тебе добирались обходным путем и то смогли пройти только вдвоем, по одному невозможно. Ты же знаешь, мы сильны только в симбиозе. Так вот, ты сможешь попасть в тот мир при одном условии: если тебе навстречу пойдет человек. А мы поможем.
— И кто же этот другой?
— Не знаю, но, кроме твоего начальника, больше некому. К сожалению, дорога назад так и останется закрытой.
— Навсегда?
— Мы не знаем, — замялся Джеральд–два. — Расчеты еще не закончены.
— Тогда я не смогу пойти на это.
— Ты хочешь оставить жену, отца, сына?
— Я не могу без них, но и оставить родину навсегда тоже невозможно. И по отношению к Хамзину это будет жестоко. Да и не согласится он.
— Еще как согласится!
Джеральд–один произнес короткую фразу. Поляков вопросительно посмотрел на пса.
— Он сказал, что ты идиот, — перевела собака.
— Не придумывай, — сказал Поляков. — Не пользуйся моим незнанием языка.
— Ну хорошо, тогда он сказал, что еще не все потеряно. Мы закончим расчеты и тогда скажем наверняка. А сейчас нам пора, Ваше разделение с ума сведет. Теперь надо бежать к Полякову–второму и выслушивать те же самые глупости, что и от тебя, а потом уговаривать обоих Хамзиных, двух стариков, двух девчонок и двух щенят. Пардон, я хотел сказать — пацанов.
— Этих не придется. Они еще ничего не понимают.
— Эге! Твой сын весь в тебя — упрямый и настырный. Ну, пока! И не забудь — завтра ровно в семь утра. Пыхти, сопи, пыжься, но пролезь в дыру!
— Удачи вам! — махнул Поляков вслед уходящим…
Я так и не нашел истину, движущую мирами. Лишь приближение к ней, вечный поиск, взгляд издали, радость узнавания и разочарование неудач. Она — как отражение запредельности, как мираж, дразнящий кажущейся близостью. Как сама Вселенная, единая и противоречивая, огромная и бесконечно малая, вечная и мгновенная, нетленная и хрупкая. Мы называем ее разными именами, но каждое из них — лишь отблеск настоящего, неизвестного нам.
И да будет мне позволено сравнение, близкое моему сердцу и понятное вашему миру: истина — это собака, многообразная в своих формах, но единая как вид.
Вот идет рядом с вами пес, упруго переступая лапами, и втягивает ноздрями вечерний воздух, насыщенный влагой и запахами, и расщепляет их на тысячи оттенков, и знает о них все и ничего одновременно.
Идет пес, невенчанный король, неклейменный раб человека, изогнув серповидно хвост, морща лоб и приподняв настороженные уши. Поступь его протяжна, шаг невесом, тугие мышцы перекатываются под шерстью, капелька слюны повисла на черной фестончатой губе. Идет пес, слуга и повелитель, владетель всего, что обоняет его нос, пожиратель сырого мяса, дробитель костей, нарушитель ночной тишины, поклонник Луны.
Идет пес, хранящий в своих жилах кровь ассирийских волков, кровь холеных собак, лежавших у ног владык, дикую кровь зверя, выходящего на поединок с сильнейшим. Идет пес, холуй, ласкающий языком намордник, князь ошейника, холоп поводка, кавалер медалей, дарованных за послушание, подкидыш леса, выкормыш человека, двойник его и собеседник, аристократ поневоле, вечный смерд.
Полюби его, человек, ибо в нем, как и в тебе, хранится истина, движущая мирами. Плоть от плоти Вселенной, ты и он, нашедшие друг друга в тысячелетиях, не расставайтесь, не предавайте…
Вы и есть два параллельных мира, две ипостаси его — хранитель и спаситель.
Человек, брат мой, оглянись вокруг. Разделенный границами и языком, распрями и войнами, враждой и ненавистью, ты, дитя Вселенной, честь и разум ее, распахни свои двери…
— Я не думала, что вы согласитесь, — сказала Жанна, виновато склоняя голову перед Хамзиным. — Спасибо вам. Я эгоистка. Я радуюсь, что муж вернется ко мне, и боюсь думать, что для вас это большая жертва.
— Нет, — сказал Хамзин. — Для меня тоже радость. Завидую я Мишке. У меня тоже могла быть такая жена.
— У вас это впереди. Вы сильный, вы сможете.
— Да, — сказал Хамзин. — Смогу. Ну что, пора?
— Пять минут, — сказала Жанна. — Пора. Не забыли?
— Этого не забудешь, — усмехнулся Хамзин. — Хорошо, хоть пограничников нет на этих границах, а то чувствуешь себя шпионом.
— Зато есть пограничные собаки, — вставил старик.
На нем был тщательно выглаженный костюм, он держал на руках внука, и лицо его было торжественным и скорбным.
— Ну, посидели на дорожку, и хватит, — сказал Хамзин. — Спасибо вам за все.
Он пожал руку старику, осторожно, боясь причинить боль своими большими руками, обнял Жанну, потрепал малыша за щеку и скрылся за дверью.
Никто не садился. Напряженно ждал старик, задержала дыхание Жанна, и даже ребенок притих, обняв деда за шею.
Из–за двери поплыла музыка. Это Хамзин завел граммофон. Прошло еще несколько минут.
И они услышали громкий треск, а потом запахло озоном, а потом послышался крик.
Сталкиваясь в дверях, они вбежали в комнату и увидели Михаила. Он сидел на полу и зажимал ладонями лоб.
— Что с тобой? — бросилась к нему Жанна.
— Да ничего, — сказал Поляков, морщась. — Хамзин чемоданом стукнул. Нечаянно. Столкнулись. Здоровый чемоданище…
А потом пришли они, Джеральды. Пес с важным видом сообщил, что все переходы закончились удачно. Его бросились обнимать, и он не уклонялся от объятий. Быть спасателем ему чертовски нравилось. Джеральд–один стоял в стороне и молча улыбался. Когда улеглась радость, пес отвел Полякова в сторону и сказал, потупясь:
— Помнишь, ты меня спрашивал, почему я заблудился? Так вот, ты почти угадал. Только это была не кошка, а…
— Собака, — закончил Михаил. — Я понимаю. Красивая?
— Ого! — только и сказал Джеральд.
Вечные темы
Сначала я навещал его по долгу участкового врача, потом придумывал причины, чтобы постучаться в дверь на первом этаже старого дома, а впоследствии заходил в любое время уже не как доктор, а как собеседник и чуть ли не близкий друг.
До этого я не встречал людей, с которыми можно было говорить часами о самых разных вещах, и беседы эти не наскучивали, не утомляли, а наоборот, будили новые мысли, будоражили воображение и заставляли лихорадочно листать умные книги, чтобы разыскать достойный довод в нашем очередном споре.
Это были хорошие времена. Мы беседовали в его спальне, он лежал на кровати, вытянув поверх одеяла худые руки с длинными красивыми пальцами, я сидел в кресле, на столике дымился чай, за вечер я выпивал чашек пять, ему же позволял только одну. Это была моя маленькая шуточная месть за проигранные споры, потому что на каждый мой аргумент он приводил два более веских, и мне не помогали ни изощренные софизмы, ни с трудом выисканные цитаты из авторитетных источников.
Звали его Геннадием Николаевичем, фамилия была Шубин, всю жизнь он проработал учителем истории, прошел войну, а на седьмом десятке грянула большая беда. После кровоизлияния в мозг отнялись ноги и левая рука, только правая могла еще двигаться, но уже не так, как раньше. Он стойко переносил несчастье, и я ни разу не слышал ни одной жалобы, да и семья у него была замечательная. Жена с любовью ухаживала за ним, сын смастерил пюпитр над кроватью, Геннадий Николаевич мог читать, писать и пользовался этим в пол ной мере. Что именно он писал, я узнал уже после его смерти.
Жена Шубина пришла ко мне и принесла тонкую папку, на которой было написано мое имя.
«Геннадий Николаевич никому не показывал свои рассказы, — сказала она, — да и сочинять он начал во время болезни, перед смертью просил передать это вам. Он сказал, что вы лучше всех поймете, для чего они написаны».
Я развязал папку, прочитал рассказы, и в моей памяти сразу же ожили наши бесконечные беседы. Это были не просто рассказы, а поиски и доказательства новых решений вечных проблем, стоящих перед человеком: здоровье и болезнь, жизнь и смерть, свобода и рабство.
Именно на эти темы мы беседовали с ним, и неудивительно, что сюжеты рассказов показались мне знакомыми, хотя и были не совсем обычными. Я плохо разбираюсь в литературе, в конце концов, я обыкновенный участковый врач и не берусь судить о достоинствах и недостатках рассказов Шубина, но считаю своим долгом снабдить их своими комментариями, ибо я был свидетелем и, если хотите, соавтором их.
Я хорошо помню тот давний разговор с Геннадием Николаевичем о современной медицине. Безнадежно больной, он напряженно думал о новых путях лечения неизлечимых болезней. И не беда, что он был дилетантом, собственный опыт заставлял смотреть на обычные вещи другими глазами. Я представляю, например, как писался первый маленький рассказ о мальчике, разбитом параличом. Ведь сам Геннадий Николаевич мог в полной мере ощутить себя на месте своего героя.
«Современная медицина в поиске, — сказал он тогда, — но вы изучаете отдельные кирпичи, а стены не видите». — «Вы не правы, — горячился я. — Мы уже многое знаем и умеем и скоро не останется ни одной непобежденной болезни. И я убежден, что ваш недуг будет излечим». — «Возможно, усмехнулся он, — но не подумайте, что я сетую на личную судьбу. Как я понимаю, у меня перегорели центры, управляющие движением рук и ног. Как же вы представляете себе способ излечения? Ведь человек не машина, детали не заменишь. И много ли вы знаете о работе человеческого мозга?» «Регенерация, — уверенно говорил я, — введение лекарств, стимулирующих регенерацию поврежденных нейронов». — «Даже дети знают, что нервные клетки не восстанавливаются», — улыбался он. «А мы научимся! — самонадеянно изрекал я, развивая свою мысль. — Проникновение в мозг, точное нахождение поврежденного центра, вживление электродов, стимуляция. Мозг гибок, мы сумеем развивать взаимозаменяемость различных его областей». — «К сожалению, хирургия — это вынужденная тактика, — говорил Шубин. — Думаю, что любой врач предпочтет обойтись без ножа, а больной и тем более. Сама операция наносит тяжелую травму. А наркоз? А возможные осложнения?» «Пока у нас нет другого выхода, — смело отвечал я за всю медицину, — но он будет, непременно будет». — «Я не ретроград, — говорил Геннадий Николаевич, — я тоже верю в прогресс науки, просто мне кажется, что необходима коренная ломка традиционного мышления в медицине. Не анализ отдельных частей, а синтез противоположностей. И согласитесь, что ваши предположения о медицине будущего лишь развивают существующие тенденции, но никак не выходят на новые рубежи. Вы не пытаетесь взглянуть на проблему со стороны, для этого вы слишком врач». — «Что же вы предлагаете? язвительно спрашивал я, — чудесное исцеление? Оперативное вмешательство без нарушения здоровых тканей? Но как? Все это совершенно не научно». «Как знать, — отвечал Шубин, — быть может, то, что мы сейчас считаем лженаукой, в будущем будет таким же естественным, как кибернетика и операция на открытом сердце сегодня».
Собственно говоря, два первых рассказа и посвящены этому нашему спору. Идеи, высказанные Шубиным, наверное, не новы, он пытался развить свои мысли, раскрасить их подробностями и деталями, и кто знает, покажутся ли они такими уж фантастичными через пару десятков лет…
ЛЕНИВЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Он пришел вместе с дождем. Когда хлынули первые струи, туго сплетенные в прозрачные жгутики, и первая молния отразилась на беленом потолке, одновременно с раскатом грома, словно джинн из бутылки, явился он и встал в проеме двери. Встал и стоял, как портрет в раме из темного дерева. Со своей кровати Слава видел только силуэт, большой и малоподвижный, заслонивший собой свет.
— Ну, что стоишь? — спросил Слава. — Проходи, а то промокнешь.
Человек шевельнулся, переступил порог и, пройдя несколько шагов в глубь веранды, уселся прямо на полу, скрестив ноги по–турецки. Из одежды на нем было что–то вроде набедренной повязки, но Слава не слишком удивился такому виду. Поселок дачный, и мало ли как ходят дачники в жаркие дни. Этого человека Слава раньше не видел, лицо оставалось в тени, и неподвижность его и странная поза не располагали к радушному приему.
— Садись на стул, — предложил Слава. — Все равно ты на турка не похож. Турков курносых не бывает.
Человек и в самом деле был курносым, приземистым, мускулистым и вдобавок с бритой головой, на которой явственно пробивалась рыжая щетина.
— Дождь на улице? — спросил Слава, хотя и так ясно было, что дождь. Ты к соседям пришел или к маме? Она скоро придет.
Славе было скучно. Книгу он прочитал, спать не хотелось, а маму, наверное, задержал где–нибудь дождь. Он был рад случайному гостю. Незнакомец сидел, молчал и не глядел на Славу. Просто сидел, поджав пятки, положив руки на колени и смотрел куда–то вдаль, через стену.
— А, ты, наверное, немой, — сказал Слава. — Послушай, будь добр, принеси мне воды с кухни. Такой ливень, а мне пить хочется.
Незнакомец не шевельнулся.
— Ну и сиди так, если нравится, — не обиделся Слава. — Я бы сам встал, только вот не могу. Ноги не слушаются.
— Где болит? — неожиданно спросил незнакомец тихим хрипловатым голосом.
— Да нигде у меня не болит. У меня ноги парализованы с детства. Но это не больно, просто я ходить не могу. Ты принеси, пожалуйста, воды, если не трудно.
— Трудно, — сказал незнакомец, не отрывая взгляда от невидимой точки в пространстве. — Сам сходи.
— Не надо так разговаривать со мной, — тихо произнес Слава. — Я тебя ничем не обижал. Если не хочешь сходить за водой, так и не надо. Я маму дождусь.
— Помолчи, — оборвал его незнакомец. — И лежи спокойно.
Слава не испугался. Он давно уже ничего не боялся. Болезнь научила его бесстрашию. Просто он не привык, чтобы с ним так обращались. Со стороны людей он видел только сочувствие и неприкрытую жалость, которую не любил, но мирился с ней, как с неизбежным злом.
— Хорошо, — сказал он, — я буду лежать спокойно. Но зачем ты сюда пришел? В гостях так себя не ведут.
— Молчи и лежи спокойно, — повторил человек. — А теперь подними голову.
Слава пожал плечами, но голову приподнял. И тут ощутил, как в том месте, где голова переходит в шею, что–то укололо его, словно надавили не больно, и тотчас же ощущение прикосновения ушло вглубь. Тоненькие иголочки впились в голову и защекотали внутри. Слава замер, прислушиваясь удивленно к меняющимся ощущениям, даже не успел испугаться. Что–то твердое и тонкое входило в голову, но больно не было, просто щекотно, словно муха ползла внутри, перебирая лапками. Потом невидимые иголочки скользнули ниже, вдоль по позвоночнику, вверх и вниз забегали мушиные лапки, кольнуло несколько раз в глубине и отпустило.
И вдруг внезапной тяжестью налились ноги. Это было так неожиданно, что Слава вздрогнул и даже вскрикнул.
Незнакомец, будто отреагировав на возглас, шевельнулся и снова замер с лицом равнодушным и неподвижным.
— А теперь сходи и напейся, — сказал он тихо и без выражения. — И не мешай мне.
Слава хотел ответить что–нибудь резкое, но растерянность совсем лишила его речи. Он прислушивался к тяжести в ногах: легкие и бесчувственные дотоле, они словно снова приросли к телу, и он ясно ощутил, что ноги уже не чужие, а продолжение его самого, неотъемлемая часть тела. Слава забыл, как поднимается нога, за какую ниточку надо дернуть, чтобы она послушалась и поднялась, и первую минуту он лежал, привстав на локтях и завороженно глядя на свои тонкие белые ноги. Ступни шевельнулись, потом резко согнулись колени и снова выпрямились. Слава ущипнул себя за ногу, боль была настоящей, почти забытой и приятной сейчас.
— Да ты, ты, знаешь… — медленно проговорил Слава, совсем ошалев от неожиданности. — Да ведь этого не может быть. Такого не бывает. Ты пошутил, да? Это фокус?
Медленно опустил ноги на пол, оперся руками о кровать и так же медленно попробовал перенести тяжесть на ноги. Забыв обо всем на свете, даже о жажде, Слава оторвал руки от кровати, покачнулся, но устоял. Он стоял на своих ногах, без костылей, и это было так здорово, что хотелось кричать.
Ливень не прекращался, сплошным потоком лилась вода, и в этом шуме, плеске, журчании совсем растворились тихие слезы Славы. Покачиваясь, он вышел на крыльцо, не держась за перила и уже не задумываясь над тем, как переставить ногу, глядя прямо вверх, лицом к дождю, летящему вертикально, он пил воду открытым ртом. Воды попало мало. Слава подставил ладони: Дождь быстро наполнял их, и он выпивал воду, расплескивая ее по лицу. Сад был пуст и улица пустая. Да и кому придет в голову выйти из дома в такое время, а Славе очень хотелось, чтобы все соседи, жалевшие его и шептавшиеся на скамейках, когда он проезжал мимо в своей коляске, видели сейчас, как он стоит на собственных ногах и ни в какой опоре не нуждается.
Когда, насквозь промокший, он вернулся на веранду, то увидел незнакомца, о котором чуть было не забыл из–за своей радости. Тот сидел в прежней позе, не шевелясь, словно глубоко задумался о чем–то, и плечи его были прямы.
— Ты понимаешь! — закричал Слава, подбегая к нему. — Ты хоть сам понимаешь, что ты сделал?! Ведь это так здорово, это невозможно здорово!
Намереваясь обнять незнакомца, Слава обхватил его широкие плечи своими слабыми руками, но ладони вдруг прошли сквозь тело и, не встретив сопротивления, хлопнули друг о друга. Слава отстранился от неподвижного человека и снова, уже осторожно, коснулся его плеча. Рука вошла в тело, как в туман, не ощутив ничего.
— Ты что это? — прошептал Слава. — Что с тобой?
Он сел напротив незнакомца на корточки, так, что лица их стали на одном уровне, и медленно протянул руку к его груди. Рука словно исчезла в теле незнакомца.
— Отстань, — коротко сказал тот. — Ты мне мешаешь.
— Я только спросить хочу, — пробормотал Слава. — Ты мне скажи, и я отстану. Ты как меня вылечил, скажи?
Незнакомец молчал.
— Ну зачем ты меня вылечил? Ты знал, что я болен, и пришел ко мне, да? Ты всех лечишь?
— Отстань, — повторил незнакомец бесстрастным голосом. — Не мешай аккумулировать. Ты мне все время мешаешь.
— Ну скажи, пожалуйста, почему ты меня вылечил, и я отстану.
— Неохота ходить за водой, — ответил тот. — Сам напился, и хорошо. А теперь отойди. Гроза кончается.
Слава поднялся с пола, дошел до кровати и лег. Ноги, отвыкшие от ходьбы, устали и ныли.
— Вот оно что, — сказал он тихо. — Ну, спасибо и на этом.
Настроение испортилось. Лентяй–чудотворец, невесть откуда взявшийся, неведомо кто, неизвестно для чего. И все дела.
Гроза и в самом деле быстро кончилась. Налетевший ветер разогнал тучи, и небо прояснилось. И тут незнакомец медленно приподнялся над полом на полметра и, не разгибая ног, не меняя выражения лица, спиной вперед, поплыл к двери. Выплыв на крыльцо, он поднялся выше, и сквозь застекленную веранду Слава видел, как, набирая скорость, он улетает вертикально вверх, быстро пропадая из вида. Слава вскочил с кровати и выбежал на крыльцо. Но небо было чистым и никаких летающих незнакомцев в нем не наблюдалось…
ЗАМНЕМ ДЛЯ ЯСНОСТИ
Ближе к ночи произошла точечная деформация гиперсферы. Без звука, без вспышки света сдвинулись перпендикуляры пространства, и, подобно тому, как сомкнувшиеся двери автобуса защемляют ногу нерасторопного пассажира, материальное тело, свободно парившее в гиперсфере, оказалось запертым в трехмерном пространстве.
Дежурный врач Игорь Бородулин коротал вечер в ординаторской маленькой сельской больницы и от нечего делать играл в шахматы сам с собой. Как и все, кто находился рядом, он не ощутил сдвига миров, и только тяжелобольной в пятой палате содрогнулся от внутреннего толчка и болезненно поморщился.
На больничном дворе, посреди вытоптанной лужайки, появился обнаженный окровавленный человек. Он лежал неподвижно, и лишь когда проходящая мимо санитарка заметила его и боязливо дотронулась до плеча, он шевельнулся и тихо застонал.
— Там лежит человек, — сказала санитарка, открыв дверь в ординаторскую. И добавила почему–то: — Голый весь.
Бородулин вскинул голову.
— Где это там?
— Ну, у нас во дворе. Раненый. Без сознания.
Игорь застегнул халат и быстро вышел в коридор.
— За мной, — скомандовал он на ходу постовой сестре и, обратясь к санитарке: — Носилки.
Человек лежал навзничь, левая рука подвернута под спину, ступни ног наполовину присыпаны землей.
Игорь склонился над ним, прислушался к дыханию, нащупал слабый, ускользающий пульс.
— Готовьте операционную, — сказал он сестре. — А ну–ка, давайте его на носилки.
Игорь и две санитарки осторожно взялись за плечи и ноги раненого и попытались оторвать его от земли.
— Тяжелый, черт, — прошептал Игорь, напрягая силы.
Ему было стыдно перед женщинами, но как он ни старался, так и не смог оторвать хотя бы руку больного от земли.
— Посветите же, — сказал он, — ничего не видно.
Принесли керосиновую лампу. При ее неярком свете Игорь внимательнее осмотрел человека. И он увидел вот что: левая рука раненого была не просто подвернута под спину, а срасталась с телом, составляя с ним единое целое. Ниже локтя она входила в поясницу, и гладкий переход кожи не имел ни шва, ни рубца. Игорь присвистнул и стал осторожно освобождать ступню раненого от земли. И тут он нашел еще одну странность. Не земля была насыпана на ногу, а нога врастала в землю, как ствол деревца. Пыльный грунт утоптан, и никаких следов вокруг. Игорь поковырял землю. Она была плотная, и нога уходила в нее по самую щиколотку.
Человек застонал, пошевелился и попытался приподнять голову. Было видно, как напрягаются мышцы и вздуваются вены на шее, но голова не сдвинулась вверх ни на один миллиметр.
Вокруг стояли санитарки и сестры, молча ожидая, что скажет Игорь. Было лето — пора отпусков, и на всю больницу оставалось три врача. Один из них уехал на рыбалку и вернется только завтра, от другого, окулиста, толку сейчас было мало, вот и приходилось все вопросы решать самому молодому хирургу Бородулину. Игорь вздохнул и сказал уверенным голосом:
— Света побольше и лопату. Нет, лучше нож.
Принесли еще две керосиновые лампы и карманный фонарик. Свет стал достаточно ярок, и Игорь увидел еще одну штуку. Из живота раненого прорастала тонкая зеленая веточка. Стебелек и маленький клейкий листочек на верхушке. Сначала казалось, что веточка просто лежит на животе, но когда Игорь осторожно потянул за нее, то больной застонал, а стебелек напрягся, оттягивая кожу. Ни крови, ни ранки. Игорь сорвал листок и растер между пальцами. Горький запах тополиной почки. Орудуя ножом, легкими движениями археолога Игорь окопал землю вокруг ступни. Он легко обнажил ее, но увидел, что здесь кусочки грунта, прошлогодние листья и корешки врастают в человеческую плоть, а выдирать их с кровью и кожей Игорь не решился. Он хотел приподнять ногу, но она не поддавалась, словно бы накрепко привязанная к земле, хотя видимой причины этого Игорь не замечал.
Он ощупал живот. Похоже, что главная причина таилась в том месте, где зеленый росток новорожденного тополя пронзал тело человека, как тонкий кинжал.
— Надо оперировать, — сказал Игорь, распрямляясь.
Сестры смотрели на него с ожиданием. Они переговаривались шепотом и скорее всего тоже ничего не понимали, но Игорь был врачом, хирургом, и вся тяжесть решения ложилась на него.
— Операционная готова, — сказала сестра Катя. — Но как мы перенесем его туда?
— Придется здесь, — пожал плечами Игорь. — У нас нет другого выхода. Измерьте давление. Ставьте капельницу с полиглюкином. Принесите лампу с аккумулятором. И сообразите что–нибудь вроде палатки или просто огородите это место одеялами. Сначала операция, а утром разберемся со всем остальным.
Опытные сестры, которым не нужно говорить по два раза, вбили колья вокруг больного, натянули на них одеяла, включили яркую пятиглазую лампу, прикрыли землю простынями. Сюда же вынесли столик со стерильным материалом и инструментами. Пока Игорь тщательно мыл руки и натягивал пожелтевший в автоклаве халат, все уже было готово.
В больнице не было наркозного аппарата, все сложные операции выполнялись в районе, но сейчас не было другого выхода, и Игорь попросил одну из сестер капать фторотан на марлевую салфетку и давать вдыхать больному. Это было рискованно, но без наркоза делать операцию еще опаснее.
— Как на войне, — усмехнулся Игорь и занес скальпель над животом.
Он проследил ход тополиного ростка. Тот врастал с правой стороны живота и, проходя через печень, прободал переднюю брюшную стенку. Кровило из печени. Игорю никогда раньше не приходилось делать такие сложные операции, работать было неудобно, сидя на корточках или стоя на коленях, он разбирался в хитросплетениях сосудов и нервов, старался вспомнить картинки из атласов и наставления учебников.
Когда через три часа, ближе к утру, он стянул побуревшие от крови перчатки и вытер вспотевший лоб, сестра сообщила ему, что артериальное давление приходит в норму и дыхание стало более ровным.
— Порядок, — сказал Игорь и пошел заполнять историю болезни.
Он позвонил в район, в милицию и сообщил о раненом. Ему резко выговорили, что можно было бы сообщить и раньше, сейчас преступники далеко, и где их искать — уму непостижимо.
— Это уж ваше дело, — разозлился Игорь и опустил трубку.
Фамилии больного он, естественно, не знал и поэтому по установившемуся неписаному обычаю написал на первой странице истории болезни: Неизвестный, 30–35 лет. И подробно все, что видел и сделал. Когда он заканчивал писать назначения, вбежала Катя, и по ее виду Игорь понял, что случилось что–то непредвиденное.
— Игорь Николаевич, — сказала она шепотом. — Больной уменьшается.
— Как уменьшается? Давление падает?
— Он в сознание пришел и это… уменьшается.
— Эх, Катя, — вздохнул Игорь. — Заработалась ты сегодня.
— Идемте быстрей. Там никого нет, а мне страшно.
— Ну, чудеса…
— Он совсем маленьким стал, — шептала на ходу Катя. — Как лилипут в цирке.
Под импровизированной палаткой никого не было. Одеяла, простыни еще сохраняли форму человеческого тела, а больной исчез. Игорь откинул навес, высветил поярче пятачок «операционной», приподнял ворох бинтов и, выпрямившись, машинально полез в карман за сигаретами.
— Куда это он? — прошептала Катя.
— Расскажи–ка сначала все по порядку, что и как.
— Я заглянула укол сделать, а он лежит под одеялом. Я откинула, значит, одеяло, а он такой маленький, лежит и смотрит на меня. Молчит. Бинты ему большие стали, сползли, он в них запутался совсем, только глаза блестят. Страшно… Я сразу же к вам.
— Растаял наш больной, значит. Понятно.
Хотя как раз ничего понятно не было. Но Катя смотрела на него с надеждой. Он не мог подорвать свою репутацию.
— Редкий случай, — сказал он, — но бывает и такое. Всего три случая описано в мировой практике. Считается, что это разновидность защитной реакции. Мимикрия.
— Да где же он теперь? — спросила Катя с недоверием. — Умер, что ли?
— К сожалению, этого никто не знает. Слишком мало наблюдений, но если бы умер, то тело осталось бы на месте. Может, он и не человек вовсе… Ладно, иди займись своими делами. Здесь ничего не трогать. Милиция и так ругается. Утром разберутся.
Он дождался утра. Ничего толкового в голову не приходило. Сказывались усталость и напряженность пережитой ночи. Он рассказал сменившему его терапевту о странностях больного, показал историю болезни, тот похмыкал и сказал, что следует сообщить в область или хотя бы в район.
Дома Игорь подумал о том, о сем и пришел к выводу, что если больной не убежал сам, то его выкрали. А что касается уменьшения роста, то это Кате почудилось. Она и раньше была с причудами. Решив так и успокоившись, он придвинул телефон и начал набирать номер коммутатора.
— Не надо, — сказал ему кто–то.
Игорь вздрогнул, оглянулся, но никого не увидел.
— Что не надо? — спросил он ошеломленно.
— Ничего не надо, — спокойно ответил голос. — Не суетитесь.
Игорь поднялся, заглянул на кухню, в окно.
— Я же сказал, не суетитесь. Сядьте, успокойтесь и смотрите на середину комнаты. Уберите, кстати, стул в сторону, помешает.
Голос был спокойный, чуть насмешливый, во всяком случае, не угрожающий. Быть может, поэтому Игорь оставил поиски и отодвинул стул в угол комнаты, сел на него и уставился на середину комнаты. Что–то засветилось в воздухе, как пылинка в луче света, и стало расти. Игорь смотрел, не отрываясь, на это свечение и вдруг различил в нем человеческие формы. Вернее, ногу. Ножка была маленькая, обутая в лакированный черный ботинок, она висела в воздухе и шевелила носком, словно пыталась нащупать пол. Потом появилась вторая нога и неожиданно — рука. А потом совсем уж несуразное — ниже ботинка возникло маленькое лицо. Можно было различить темные волосы, зачесанные назад, длинный острый носик, черные глазки.
Игорь закрыл глаза, зная, что галлюцинации исчезают, но эта не исчезла. Когда он открыл глаза, все части тела подросли и расположились вполне нормально: ноги внизу, голова вверху. Человек, ростом с метр, висел в воздухе, не касаясь ногами пола, и улыбаясь смотрел на Игоря.
— Не бойтесь, — сказал голос откуда–то сверху. — Вот еще немного подрасту и хватит.
— Чего хватит? — ошалело спросил Игорь.
— С вас хватит, — пошутил голос. — Валерьянки выпейте, коллега.
— Какой еще коллега?
— Мы вроде врачи оба, — рассмеялся голос.
Игорь внимательно посмотрел на человека, выросшего до нормальных размеров, но тот не открывал рта, а только усмехался. Закончив расти, он одернул пиджак и сел в кресло.
— Видите ли, коллега, — голос снова рассмеялся, словно его забавляло это слово, — собственно говоря, я пришел выразить свою признательность за спасение друга, с которым произошел несчастный случай. Конечно, претензий у меня много, но вы сделали все, что могли, и почти все, что может ваша так называемая медицина. Как говорится, и на том спасибо. Что с вас возьмешь?
— Кто вы? — спросил Игорь. — Откуда вы? Почему вы молчите, а говорит кто–то другой?
— Это не другой, а я говорю, просто рот не раскрываю, но если вы хотите, то могу.
— Телепатия?
— Что за детство? — Незнакомец даже поморщился. — Неужели вам не приходило в голову другое объяснение?
— Только галлюцинация, — честно признался Игорь.
— Ну вот, все вы так, — неизвестно кого пожурил незнакомец. — Раньше все на черта валили, теперь на помрачение ума.
— Как вы сюда попали?
— Очень просто. Пришел.
— И… ваш друг тоже ушел таким же образом?
— Вот видите! Оказывается, с вами можно поговорить не без пользы. А то, бывало, пока втолкуешь…
Игорь приободрился, польщенный.
— Вы пришли высказать благодарность? И это все?
— Этого мало? Может, вам нужна почетная грамота?
— Я не об этом. Просто я полагаю, что для обычной благодарности можно было позвонить по телефону или письмо написать, а если уж приходить, то как–нибудь обычно. К чему этот спектакль?
— Действительно, — согласился незнакомец. — Люблю эффектное появление. А может быть, не хватает блеска и грома? Я могу.
— Хватает, хватает, — испугался Игорь. — Но вы не ответили на мой вопрос.
— Я уже сказал, что пришел высказать некоторые претензии. Правда, это не ваша личная вина, но все–таки ваши методы лечения кажутся мне, мягко говоря, глупыми.
— Я ничего не придумывал. Лечил согласно науке. Так все делают.
— Я понимаю. Но поймите и меня. Вот, скажем, если сломалась сложная электронная машина, проводок, например, сгорел где–нибудь в глубине, и вы, вместо того чтобы разобрать машину и спокойно добраться до поломки, вдруг берете в руки автоген, молоток, зубило и начинаете курочить машину, чтобы заменить этот проводок. Починить–то вы ее почините, а какой вред нанесете? Понимаете, что я хочу сказать?
— Не совсем.
— Таким же путем вы оперируете своих больных. Чтобы вырезать пустяковый аппендикс, вы рассекаете здоровые и ни в чем не повинные ткани. Словом, своей операцией вы тоже причиняете вред.
— Это я и так знаю. Но у нас нет другого выхода. Мы выбираем меньшее из зол.
— Можно обойтись вообще без зла.
— Лечить аппендицит пилюлями? К сожалению, мы еще не дошли до этого. А если опухоль? Или ранение?
— Ваши методы, быть может, и верны, но очень грубы. Разве нельзя хотя бы раздвинуть ткань по межклеточным пространствам? Это же так просто! А у вас не наука, а кружок кройки и шитья. Сперва режете — ножом, ножницами, потом шьете — иголкой, ниткой. Как примитивно! Дикарские методы.
— А вы, простите, откуда, если можете судить о нас с таким пренебрежением?
— Да так, оттуда, — неопределенно махнул рукой незнакомец. — Так, знаете, оттуда.
— Вы прилетели с другой планеты?
— Что за глупости! Вы, я вижу, начитались чего не следует. А ведь есть люди, которые если и не знают нас, то могут предполагать, откуда мы являемся.
— Вы имеете в виду попов?
Незнакомец скривился, как от боли.
— Что за анахронизм! И чему вас только в школе учили?
— Я — простой врач. Откуда мне знать о таких вещах?
— Ну, замнем для ясности, — сказал незнакомец совсем уж по–русски, даже пошловато, и Игорь чуть не рассмеялся от неожиданности.
— Вы никогда не задумывались, — продолжал незнакомец, — что можно было бы удалить пораженный орган, не разрезая кожу и всего прочего?
— То есть забраться в комнату, не входя в двери и окна? Как вы ко мне?
— Именно так.
— Научите. Если не меня, то хоть кого–нибудь. Вас объявят величайшим гением.
— Э, нужно мне это! Я обыкновенный врач и знаю только то, чему меня учили. Совсем как вы, коллега. Если бы вы попали в каменный век, то много ли налечили бы людей? И тем более чему бы вы тамошних знахарей научили? Что бы вы там делали без своих шприцев, скальпелей, пилюль? Вот и у меня не просите. Я могу вам кое–что рассказать, но не больше.
— Разве это тайна?
— Какая там тайна! Такая же, как формула о превращении массы в энергию. Знать–то вы ее знаете, а применить не умеете.
— Хоть объясните в общих словах. Растолкуйте на пальцах. Я понятливый.
— Надеюсь. Вы слышали что–нибудь о четвертом измерении?
— Кое–что. Что–то вроде перпендикуляра ко всем прочим трем. Забавная теория.
— Я, по–вашему, забавный? Гм, странно. Ну ладно, все равно вы ничего не поймете без аналогии. Дайте–ка анатомический атлас.
Игорь нашел три тома и подал ему. Незнакомец открыл нужную страницу: продольный разрез человеческого тела.
— Ну вот, смотрите. Предположим, что этот человек живет в двумерном мире, а тело его ограничено только линией кожи по контуру. Для него это естественно, ведь там только два измерения, длина и ширина. А мы с вами смотрим из третьего измерения, перпендикулярного его двум, и он нас, конечно, видеть не может. Так вот, предположим, что этот человек заболел аппендицитом. Что будет делать хирург? Он разрежет линию кожи, линию мышц и так далее, доберется до больного органа и, удалив его, зашьет разрезы. А мы можем прикоснуться до этого места из своего измерения и спокойно удалить его, не нарушая целостности наружных покровов, для них, конечно, наружных. Понимаете?
Игорь повертел в руках рисунок. Там все органы были на виду и до любого из них можно было дотронуться рукой. Потом он развернул рисунок так, что тот расположился на уровне глаз. Отсюда ничего не было видно, но можно было предположить, что и в таком плоском мире жилось бы относительно сносно.
— Значит, по аналогии вы можете из своего измерения пройти внутрь моего тела, не разрезая кожи? И вы видите мое тело таким же, в разрезе, оттуда? Так, что ли?
— Что–то вроде этого. И не только ваше тело, но всю вашу так называемую Вселенную, очень неуютную, кстати. И как вы это терпите?
— Привыкли как–то. Но вот что непонятно. Если вы пришли из четвертого измерения, то что же означает ваше трехмерное тело? Абсолютно нормальное, к тому же.
— Пустяки, — отмахнулся, как от комплимента, незнакомец. — Дайте–ка яблоко. Смотрите. Предположим, что я провожу его сквозь эту двумерную страницу. Что будут видеть двумерцы? Сначала точку. Это я прикоснулся яблоком к листу. Потом, по мере того как яблоко проходит через лист, они будут видеть все более увеличивающуюся окружность, а потом она снова будет уменьшаться, пока не превратится в точку и не исчезнет.
— Но это шар. Здесь проще. Шар в разрезе всегда дает круг. Но какое же тело дает в разрезе человек?
— Человек и дает в разрезе человека.
— Значит, вы — это не вы? Значит, то, что я вижу сейчас, — лишь часть вашего истинного тела, а на самом деле вы намного больше? Так, что ли?
— Так, коллега, так, но замнем для ясности. Теперь–то вы понимаете, что можно делать операции, не нарушая целостности наружных тканей?
— Мне от этого не легче. Понимаете — это еще не умение.
— Ничем помочь не могу. Разве что сделать вам какую–нибудь операцию? Например, аппендикс удалить, для профилактики? А?
Игорь ненадолго задумался, но потом решил, что хуже не будет, и решительно махнул рукой.
— Валяйте! Только лишнего не вырезайте. Обезболивать будете? Осложнения исключены?
— Буду, буду. Фирма веников не вяжет. Готовьтесь, я сейчас за инструментами сбегаю.
Незнакомец стал уменьшаться, искривляться, как отражение в кривом зеркале и, превратившись в яркую точку, исчез. Игорь покачал головой, посомневался, но все–таки снял рубашку и лег на кровать.
— Только лежите спокойно, — предупредил голос.
— Как же вы будете меня оперировать, если вас нет здесь? — удивился Игорь.
— Вот чудак. Я ему объяснял, объяснял… Вспомните картину из атласа.
Игорь подумал и понял, что если рука из третьего измерения проникает внутрь двумерного человека, то ни он сам, ни окружающие не увидят ее, потому что она выходит за пределы их Вселенной. Потом он представил, во всяком случае, пытался представить, как бы он выглядел оттуда, из четвертого измерения, весь вывернутый наизнанку, но так и не смог. Воображения не хватило.
— Больно? — спросил голос.
— Нет. А что, вы уже начали?
— Да потихонечку.
— Вы на каком этапе? Это профессиональное любопытство, уж не обессудьте.
— Да так, подготовочка. Затормозил болевые центры.
— А сейчас? — спросил Игорь немного погодя, чутко прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего особого он не чувствовал.
— Уже вырезал. Сейчас заканчиваю.
Выгнув шею, Игорь внимательно посмотрел на свой живот, чистый и белый. Ничего не изменилось, а что там, внутри, неизвестно.
— Ну вот и все, голубчик, — по–докторски сказал голос и хихикнул.
— Все? А как вы докажете это? Покажите.
— Пожалуйста. Это ваше право.
В воздухе появилась деформированная рука, растянутая по спирали. Она держала маленький кусочек человеческой плоти.
— Узнаете? Ваш ведь? Правда, похож? — снова хихикнул голос.
Игорь не ответил. Ему стало страшно. Не слишком, но все–таки. До этого все происходящее можно было принять за шутку, за галлюцинацию, за фантастику, но чтобы твой собственный кровный аппендикс висел в воздухе, а живот оставался неразрезанным — это уже слишком.
— Ну вот и все, — сказал голос. — Я с вами в расчете и могу откланяться. Хотелось бы пожелать вам на прощанье кое–что. Не мните, пожалуйста, что ваша смехотворная Вселенная бесконечна и единственна, а ваш трехмерный мир, где и повернуться–то негде, — лучший из миров. Миров много, один внутри другого, как матрешки. Только не такие простые, конечно.
— Но кто же вы? Жители четвертого измерения?
— И да, и нет. Нам везде хорошо. Интересно, знаете ли, и поучительно.
— Я вас очень прошу, научите меня проникать в четвертое измерение. Как врача, как коллегу, прошу. Оставьте мне свой аппарат, или что там у вас есть. Пожалуйста, хоть на время.
— Время тоже многомерно, — хохотнул голос. — Ну ладно, так и быть, дам дикарю энцефалограф. Побалуйтесь.
Голос становился тише и глуше.
— Постойте! Я еще не все спросил.
— Хорошенького помаленьку. Прощайте, пациент. Как пользоваться игрушкой, разберетесь сами. Все равно не объяснишь.
— Расскажите еще что–нибудь! Не уходите!
— Замнем для ясности, — хихикнул голос и больше не отзывался.
В воздухе появилась темная точка и, быстро разрастаясь, превратилась в непроницаемо черный шар размером чуть больше головы человека. Шар висел в воздухе и мерно пульсировал, то сжимаясь, то разжимаясь.
Игорь встал и, с недоверием поглядывая то на свой живот, то на шар, подошел ближе. Точнее всего шар можно было назвать сгустком темноты. Игорь протянул руку и, зажмурясь, прикоснулся к нему. Когда он открыл глаза, то увидел, что рука уходит в шар, сливаясь с его чернотой. Ни боли, ни других ощущений. Осмелев, Игорь вытянул руку на всю длину и просунул ее сквозь шар. Вернее, не сквозь, а в шар, потому что, как он ни старался, но даже кончики пальцев не выходили с другой стороны сгустка. Игорь придвинулся ближе. Плечо и часть шеи скрылись в темноте. И, совсем уж осмелев, он наклонил голову и, словно ныряя в воду, погрузил лицо в черный шар.
И он увидел, что находится в комнате. В другой комнате, но очень похожей на его собственную. Игорь ожидал увидеть что–нибудь невероятное, мир, вывернутый наизнанку, новый взгляд на свою собственную Вселенную, но эта комната, с диваном, стульями, столом, где в беспорядке раскиданы книги, удивила его больше, чем если бы неведомый антимир придвинулся к нему вплотную, Было видно и окно, за которым пыльные деревья шевелили листья на ветру, и улица, очень похожая на знакомую, но чем–то отличная от нее.
— И это все? — разочарованно спросил Игорь и убрал голову из шара. Где же четвертое измерение? Обманщик…
Шар продолжал висеть в воздухе, пульсировал беззвучно и словно насмехался над дикарем, вздумавшим нажимать наугад кнопки электронной машины и ожидающим от нее всевозможных чудес.
Игорь полежал, раздумывая, на диване, а потом сказал сам себе:
— Сам ты дурак. Если твои глаза способны видеть только трехмерный мир, то и другая Вселенная будет выглядеть для тебя точь–в–точь так же. Всего–навсего параллельный мир. И ничего больше.
Он встал и, набрав номер телефона, попросил хирурга районной больницы.
— Александр Иванович, у меня, кажется, аппендицит. Приезжайте, пожалуйста, а то мне придется самому, перед зеркалом…
Он неторопливо оделся и, стараясь не смотреть на шар, направился в больницу, заранее готовясь к боли, но больше всего — к тому, что хирург и в самом деле не найдет у него того, что будет искать.
В своих беседах мы долго обходили тему смерти стороной. Она была слишком конкретной, у постели обреченного больного невозможно было говорить о ней с философской невозмутимостью, но как–то Геннадий Николаевич преодолел неписаный запрет и сказал: «В конечном счете, бессмертие возможно. Вопрос только в том, что с ним делать?» — «Как что! воскликнул я. — Бесконечная жизнь без болезней и дряхлости! Неиссякаемая возможность творчества, освоение космоса, расселение человечества во Вселенной! Это безграничные, головокружительные перспективы!» — «Вы так полагаете? — скептически улыбнулся Шубин. — А как вы представляете себе достижение бессмертия?» — «Устранение фактов старения, — не задумываясь, выпалил я. — Перестройка обмена веществ, генная инженерия, вечное самообновление организма». — «Вечное самообновление… — задумчиво повторил Геннадий Николаевич. — Пожалуй, вы правы. Это один из возможных путей. Существуют два варианта. Первый — периодическое или беспрерывное обновление тела и второй — перенесение человеческого «я» в молодое, здоровое тело…» — «Второй чудовищен! — возмутился я. — Это равносильно убийству!» — «Несомненно, — согласился Шубин, — несомненно, но все–таки это тоже путь…»
Наш разговор на этом не кончился, он продолжался, то утихая, то разгораясь с новой силой, чуть ли не каждый вечер. Геннадий Николаевич, обладая большой эрудицией, приводил различные модели бессмертия, вычитанные в литературе, начиная с древних мифов, зачитывал отрывки из средневековых китайских повестей, где говорилось об оживающих мертвецах и о прочих невероятных происшествиях, и мне казалось тогда, что ничего нового нельзя добавить к этим старым теориям. Сейчас, перечитывая эти рассказы, я снова вспоминаю давние споры, Шубина, неподвижно лежащего на кровати, и его слова: «Человек будет жить бесконечно, но я не знаю, какую цену он заплатит за это…»
ТЕБЯ ПОЗОВУТ, ПОДКИДЫШ
Каждые три года, в последнюю пятницу декабря, в пять часов пополудни он, предчувствуя свой конец, плотно закрывает входную дверь, для верности подпирает ее чем–нибудь тяжелым и, погасив свет во всем доме, ложится на пол в неудобной, но единственно необходимой позе, потому что знает — после смерти тело его все равно примет именно это положение. Он лежал неподвижно, закрыв глаза, с запрокинутой головой, широко раскинутыми руками и ногами, привычно прислушиваясь к своему замирающему сердцу, гаснущему дыханию, остывающему телу. В эти минуты он обычно вспоминает прожитые годы и, словно прощаясь с умирающим телом, проводит рукой по груди, животу, лицу, стараясь запомнить эти последние в своей жизни ощущения. Потом, медленно теряя сознание, он опустит руку на пол, глубоко вздохнет и умрет.
(…да, это происходило именно так. В то первоначальное время меня звали Шаррумкен, царь четырех сторон света. Тогда я был молод, горяч, хотел решать все сам и только потом понял, что мои попытки оказались преждевременными, но это было уже потом… Тогда мы жили почти рядом. Я царь Аккада и Шумера, вначале был садовником, а потом богиня Иштар возвела меня на трон. Все это, конечно, обычные глупости, которыми обрастают рассказы о царях и героях, правда заключается лишь в том, что был я без рода и племени и вот стал царем. Это был мой первый и последний эксперимент на таком уровне. Я всегда был близок к царям, но сам никогда больше царем не становился. Слишком велика власть его, чтобы избежать искушения, перепрыгивая через ступени, вывести людей на более высокий уровень…)
После смерти он ничего не будет ни чувствовать, ни помнить, ни знать. Смерть есть смерть. Тело его остынет, потом окоченеет, и лиловые пятна проступят на коже ближе к спине. Труп его будет лежать в течение трех дней, и никто не станет искать его, потому что за неделю до этого он уволится с очередной работы, оформит выписку, распрощается с друзьями, а родных и близких у него нет. Вернее, разноязычная и многоликая родня его, рассеянная по всей земле, будет благоденствовать и поныне, ничего не зная о своем предке, и он сам не будет заботиться о поисках, ненужных и бесполезных.
(…да, это было ни к чему. В конечном счете, все люди на земле близкие родственники. И на брачном ложе и на поле брани кровь их так перемешалась за тысячелетия, что каждый из ныне живущих вправе сказать о себе: если я часть целого, то я и человечество — это одно и то же. И ничего не поделаешь, он тоже может сказать это же самое…)
Труп его потеплеет к исходу ночи. Снова забьется сердце, восстановится дыхание, и тело начнет свою невидимую метаморфозу. Сам он ничего не знает об этой работе тела, воскресая, он рассматривает себя в зеркале и приучается владеть новым телом, неизвестно откуда возникшим. В трехдневный срок сами собой изменятся черты лица, удлинятся или укоротятся ноги, отрастут или выпадут волосы, обновятся внутренности, окрепнут мускулы, кожа разгладится и плотно обтянет тело. Он никогда не знает, какой в очередной раз будет его внешность, закономерности в этом не было, да он и не искал ее. Каждый раз, глядя на себя в зеркало и ощупывая лицо, он знал, что хочешь не хочешь, но придется проходить в этом теле последующий период, прежде чем умереть и сменить внешность, как змея кожу.
(…он уцелел и остался жить, когда мое войско завоевало и разорило Лагаш, а его с толпой рабов привезли в Аккад, где я исподволь добился, чтобы он был поближе ко мне, но не слишком. Тогда я увлекся реформами, ввел единую систему мер и весов, расширял храмовое книгохранилище в Уруке. А он тоже не терял времени, быстро разбогател, купил хорошую должность и умер в старости, благополучно выдержав первое испытание…)
Он привык к одиночеству, привык к своей неминуемой безболезненной смерти, к постоянной смене места жительства, работы, национальности, привык к своему вечно обновляющемуся телу. На первых порах это удивляло его, порой пугало, раздражало, но другого выхода не было: приходилось принимать свое новое тело как должное. В последние десятилетия он стал собирать свои фотографии. Они хранились в альбоме, расположенные по периодам, и никто посторонний не мог бы подумать, что все эти лица принадлежат одному и тому же человеку. Лица были абсолютно разные: уродливые и красивые, молодые и старые, только детских не было. Ребенком он был всего один раз, первый и последний, и было это так давно, что и вспоминать не хотелось.
(…да, это было очень давно, но неправда, что ему не хотелось вспоминать свое начало. Он часто возвращался к нему в своих мыслях, но мог вспомнить только базарный день в Лагаше, жару, крики разносчиков и большую зеленую муху на спине его спутника, который привел его в мастерскую горшечника и сказал: вот этот мальчик будет твоим учеником. Учи его прилежно…)
Через три дня к нему приходило сознание. Медленно оживая, он восстанавливал ощущения веса своего тела, ограниченности его в пространстве, потом к нему приходили слух, осязание и наконец — зрение. Жизнь постепенно проявлялась в нем, пока ясно и четко он не начинал сознавать — он жив, он воскрес. В первые минуты он лежал неподвижно, заново привыкая к жизни, уже зная, что ему предстоят хлопоты с переменой документов и квартиры. За свою бесконечно долгую жизнь он переменил сотни специальностей и умел делать многое из того, что позабыто сейчас, но именно это делало его знания и навыки бесполезными, потому что время шло своим путем, а он своим.
(…да, это было так, но чаще всего он зарабатывал свой хлеб с помощью материй неосязаемых и слов загадочных, то есть выступал в роли жреца, священника, колдуна, мага, прорицателя, волхва, алхимика, спирита и в прочих ипостасях древней профессии, призванной утешать человека в предвидении смерти и наделять его верой в то, чего на свете нет. Еще в Ассирии он овладел этим искусством, совершенствовал его в Египте и Греции, в Индии и Китае. Он и в самом деле знал очень много и, несмотря на свою неистребимую посредственность, быстро достигал успеха и богатства. Тяжелее всего ему приходилось в Европе в те времена, когда абстрактная категория зла овеществлялась и одушевлялась и во имя этого идиотизма людей сжигали, пытали, вешали, с преступной наивностью полагая, что зло можно истребить только злом. Тогда он веками не оставлял своей второй профессии торговца, ростовщика, купца, и тысячелетний опыт не подводил его никогда. Впрочем, когда инквизиция поутихла, он не брезговал и магией. Под именем Артефий он был алхимиком и всерьез утверждал, что ему тысяча лет. Конечно, он безбожно врал — ему было намного больше. Боясь риска, он чаще выступал в качестве подстрекателя и учителя великих мошенников. Это он вдохновил крестьянского сына из Неаполя принять имя графа Руджиеро, это он посвятил его в тайны трансмутации и следовал за ним по городам Германии, оставаясь в тени, но исправно получая свои проценты. Когда Фердинанд II все же вызолотил и повесил Руджиеро у ворот Берлина, то учитель обманщика вовремя успел унести ноги и всплыл в Сицилии под именем грека Алтосаса. Это он передал свой богатый опыт мелкому жулику Бальзамо, он придумал для него звучное имя Калиостро, но, предвидя бесславный конец его, расстался с ним еще в России. В то время я был российским подданным, служил своей императрице и среди прусских, австрийских и польских дел (весь — рвение и преданность, напудренный парик, расшитый камзол) все же нашел возможность в очередной раз помочь ему, определив после очередного перерождения за черту оседлости цадиком, где он быстро приобрел репутацию чудотворца и непогрешимого учителя…)
У него было много имен, и ни одно из них не нравилось ему, хотя подчас он и привыкал к очередному прозвищу, но всегда помнил, что пройдет положенный срок — и новое имя воплотится в нем вместе с новой оболочкой. Он не причислял себя ни к одной национальности, потому что успел побывать и шумером, и египтянином, и греком, и германцем, и славянином. В любой стране он чувствовал себя своим, быстро усваивал стиль жизни, образ мышления, язык и культуру. Своей настоящей родины он не знал, но, успев пожить чуть ли не во всех странах, лишенный привязанности и пристрастий, мог с полным правом называть себя истинным космополитом.
(…туника, окаймленная бахромой, короткий меч, тяжелые браслеты, лента с золотыми розетками туго перетягивает лоб: я — придворный Ашшурбанипала. Я стоял в приемном зале, когда он вошел туда с послами Элама. Они требовали вернуть беглых племянников своего сумасбродного царя и смели грозить войной Ниневии. Ашшурбанипал оставил послов заложниками, и я понял, что снова придется спасать того, кому умирать еще на пришла пора. Он явно трусил, возможно, ему пришла в голову мысль, что никакое бессмертие не спасет его в этот раз. Я устроил ему побег, когда ассирийское войско возвращалось с победой и впереди несли на копье голову эламского царя. Мой подопечный вовремя успел переменить тело и навсегда ушел из Ассирии, сначала в Финикию, а после падения Ниневии переплыл море и осел в Европе, уже надолго…)
Казалось, тело его жило своей жизнью и подчинялось своим желаниям, порой непонятным, но все равно осмысленным. Он никогда не был царем и рабом тоже, ибо и то и другое было опасно для жизни. Каждый раз он жил ровной и сытой жизнью среднего человека, в любое время и в любой стране он находил средства к пропитанию благодаря неизменному обаянию, знанию людских слабостей и столь огромному опыту общения с людьми, что ему ничего не стоило сойтись с любым.
(…он всплыл в Риме в смутное время в качестве ростовщика. Он был одним из тех, кто ссужал Юлия Цезаря деньгами для подкупа городской черни. И когда Цезарь готовился отплыть в Испанию, он в числе своих нечистоплотных собратьев задерживал корабли, покуда Красе не пообещал уплатить сполна чужие долги. На этом обычно и исчерпывалась его роль в истории, и это была не самая трудная роль. Мудрая и подлая. Он выживал даже там, где выжить было невозможно: в сожженных и разрушенных варварами городах, среди геноцида, озлобления, остервенения, голода и эпидемий. Он был единственным жителем Помпеи, выползшим из–под пепла с золотым сестерцием, бережно зажатым в зубах; единственным спасшимся на причале Кайз–Депред во время лиссабонского землетрясения; и если бы он был на «Титанике», то, клянусь, он бы выплыл из океанской пучины верхом на дельфине…)
Период от смерти до смерти сначала был достаточно долгим и почти равнялся человеческой жизни, но с годами тело его уставало раньше срока и периоды становились короче и короче, пока к последнему столетию не стали трехлетними. Он чувствовал приближение смерти уже издали, как собака чует землетрясение, по той слабости и тошноте, что разрасталась в нем к концу периода. Тогда он искал убежища, чтобы никто не смог потревожить его труп, чтобы не нашли люди и не похоронили, чтобы звери не растащили по частям, чтобы волна не смыла в море. Безошибочным чутьем он находил именно такое место, и неприятных случайностей почти не было за всю его жизнь. После воскрешения он проходил по знакомым улицам, заходил в дома, где жил до своей смерти, прощался молча и уходил, чтобы в другом городе начать жизнь сызнова.
(…тогда он еще не избавился от гордыни, склонен был считать себя избранником богов и стремился держаться поближе к власти. Он был пажом Александра Великого, входил в царскую когорту под именем Эпимон, и вот однажды однокашники склонили его к заговору против царя. История кровавая, заранее обреченная на провал, и он понял это раньше всех, по своему обыкновению струсив и во всем сознавшись Александру. Протрезвев после тяжелой попойки, тот помиловал предателя, а его приятелей приказал жестоко замучить. С тех пор мой подопечный избегал пышных дворов царей и правителей — он был на волосок от гибели и ощутил на губах вкус деспотической власти, соленый от чужой крови и горький от собственной желчи. Я знаю этот вкус, и он глубоко противен мне, и не моя вина в том, что судьба из века в век искушает меня и принуждает скитаться в пространстве и времени по землям и странам, и рядит в пурпур, и возносит на троны, и низвергает в рвы, наполненные смердящими трупами…)
Собственно, это и было бессмертием, пожалуй, единственно возможным для человека, и ему, прожив столь долгую) жизнь, не приелось существовать и быть. Он помнил все, что происходило с ним, знал все языки, на которых говорил, хотя многие из них умерли или изменились, подобно ему самому: он был свидетелем многих и многих событий, которые потом назовут историческими, но никогда и ничего не записывал. Это было ни к чему. И ни одному человеку он не признавался в своей тайне: быть бессмертным устраивало его, а хлопоты и неудобства, связанные с постоянными смертями и оживлениями, были платой за бесконечную жизнь. Он не знал ни цели своей жизни, ни–устройства тела, отличного от обыкновенного, ни механизма смерти, приводящей к новой жизни, ни даже своего происхождения. Он помнил только, что был когда–то мальчиком в Шумере, и не было у него ни отца, ни матери, ни младенческих воспоминаний. Просто мальчиком. Учеником горшечника. Невесть откуда взявшимся. И это тоже устраивало его. После первого возрождения он воплотился в теле молодого мужчины, хотя умирал уже глубоким стариком. Это удивило его, но он решил, что такова воля богов, и начал жить сначала. С тех пор, скитаясь из страны в страну, меняя нацию, веру, возраст, он просто жил и стремился к спокойной, ничем не омрачаемой жизни. Войн он избегал, в бунты не вмешивался, религиозные распри обходил стороной, а болезни, даже самые смертоносные, просто не действовали на него. И все же он не мог избежать ранений, порой тяжелых, но тело его само собой восстанавливалось, заживлялось. За это он любил свое тело и боялся его немного. Иногда он задумывался над тем, что когда–нибудь должен прийти конец его перерождениям, конец неисчерпаемой фантазии, лепящей его тело, и тогда, возможно, он умрет настоящей смертью. Это пугало его, он со страхом замечал, что периоды неуклонно сокращаются и что такими темпами через какую–то тысячу лет они сократятся до такого срока, что придется все время скрываться от людей, не успев пожить — умирать.
(…первый раз он умер в облике типичного шумера: круглолицый, приземистый, большеглазый, с большим прямым носом, а второе его тело было аккадским — он вышел из гробницы высоким статным юношей, длинноволосым, с черной кудрявой бородкой. Он жил как аккадец, и это было мудрым в то время, потому что моя династия правила еще полтора века, пока не пришли кочевники и очередное его перерождение совпало с разгромом Аккада. Тогда он тоже стал кочевником, кутием, и внешностью ничем не отличался от пришельцев с гор Загра. Лет через сто я неожиданно увидел его снова похожим на шумера, и по одному этому можно было догадаться, что возрождение Шумера не за горами. Так и случилось, когда третья династия Ура изгнала кочевников, и он с успехом занял свое место в этой бюрократической системе. Сколько тогда было понаписано вздорных таблиц! Как будто письменность была создана только для того, чтобы учитывать каждую пару голубей, поданных на завтрак царице! А что за искусство было тогда: одни изображения царя и гимны, посвященные ему же — царю Вселенной. Тогда это казалось забавным мне, но потом я убедился, что…)
По легкому шуму в голове он понял, что воскрес, что снова, в который раз, к нему вернулась жизнь в одном из своих неисчерпаемых обличий — в виде человека. Он не знал, что увидит в зеркале, не знал, каким будет его новый облик, но привычно положился на волю своего тела, которое было для него и богом–творцом, и домом, и границей мира. Он не открывал глаз, постепенно накапливая силы, ощущая, как крепнут мышцы, легко и свободно дышит грудь и запах пыли щекочет ноздри. Он не торопился встать, по опыту зная, что в первые минуты может закружиться голова и новорожденное тело не удержится и покачнется. Он просто лежал и думал. Восстанавливал память единственное, что было по–настоящему бессмертно в нем, вспоминал слова, образы, порой такие далекие, что уже не верилось в их реальность, и эта память не утомляла его, не приносила ему чувства разочарования, ибо только предвидение близкой смерти гасит в человеке краски мира, а он был бессмертен. По ассоциации он припоминал минуты оживления, пережитые им на берегу Тигра, в зарослях бамбука, в монгольской степи, в квартирах Европы. И эти воспоминания соединяли в нем разрозненное в период смерти ощущение единства своей многоликой жизни.
(…по спирали. Я помню Спарту и хорошо знаю ее законы, но не в моих силах было облегчить участь спартанских мальчиков. Они росли волчатами, готовыми загрызть друг друга из–за куска хлеба. Они были вечно голодны, ходили босиком, а воровство среди них почиталось законом государства как добродетель. Из них сознательно вышибали все доброе и мудрое, что заложено в человеке, чтобы воспитать из них идеальных солдат. Я участвовал в первом крестовом походе и с герцогом Готфридом Бульонским дошел до Иерусалима. Я видел пожар над городом, видел горы трупов и пьяные от крови лица рыцарей. Я был в монгольском войске еще при Чингисхане и видел то же самое — то, что позднее назвали фашизмом. Если бы я умел видеть сны, то они были бы полны трупами, разъятыми на части мечами, исколотыми копьями, утыканными стрелами, опаленными огнем, растерзанными пулями и осколками. Каждое новое поколение на земле забывает о том грузе убитых, замученных, преданных, сожженных, распятых и повешенных и начинает все сначала. И в этом великая сила жизни и великая слабость ее, потому что забвение не только спасает от душевных мук, но и уничтожает накопленную веками мудрость…)
Через положенное время он поднял руку, с закрытыми глазами поднес ее к лицу и провел сверху вниз. Это был первый жест знакомства с телом. Но ощущения, полученные при этом, оказались не похожи на все предыдущие. Он еще раз провел рукой по лицу, соскользнул к шее, животу, ногам. Потом обеими руками, поспешно, легко, как слепой, ощупал свое тело и только тогда решился открыть глаза. Он увидел ярко освещенный потолок, поднес руку к лицу и тотчас отдернул ее, закрыл глаза, перевел дыхание. За всю его жизнь такого не было ни разу. Рука была нечеловеческой.
Тогда он встал, и даже сам процесс перемещения в пространстве был новым и не похожим на все испытанное ранее. Во всяком случае, ноги было две, хотя лучше было бы назвать их как–нибудь по–новому, но слов не было, чтобы придумать названия для новых рук, новой головы и нового тела. Покачиваясь, он подошел к зеркалу. Отражение не походило ни на одного человека. Оно вообще не было человеческим. И это пугало. Он медленно осмотрел свое обнаженное тело, повертываясь то в фас, то в профиль, ощупывая его длинными пальцами, и так и не смог вспомнить, когда и где он видел такое тело. Сам он никогда не воплощался в нем.
(…да, я помню, как поступали с уродами на земле. И физическими, и духовными. Я помню XVI век в Европе — «зарю современного разума». Всех этих продавцов мандрагоры, пожирателей пауков, ловцов зайцев, плакальщиков, крысоловов, людей, останавливающих пули и неуязвимых для ножа. Пули прошивали их насквозь, а нож убивал так же, как и любого смертного. Я хорошо помню чад костров, на которых сжигали тысячи еретиков и колдунов, и до сих пор помню наизусть «Молот ведьм». Но я не забыл и другое — Колумба и Магеллана, Микеланджело и Рафаэля. Эразма Роттердамского и Леонардо да Винчи и многих–многих других, кто и в самом деле пробовал зарю в ночном небе, подобно легендарному Ворону эскимосских мифов…)
С этим телом нельзя было показываться в городе. Это он понял сразу и мысленно укорил тот неведомый механизм, что вдруг испортился и превратил его в невесть что. Должно быть, за время долгой жизни что–то нарушилось в нем, и программа исказилась. Удивительно еще, что он ни разу не превращался в животное, или в растение, или в рыбу. Это было бы так же логично, как преображение в человека. Но это новое тело не походило ни на одну знакомою форму, в которой хоть раз воплощалась жизнь. Оно было человекоподобным, это бесспорно, ибо опиралось на две ноги, руки отходили от туловища там, где им положено, и голова вырастала из шеи. Но ни цветом кожи, ни пропорциями, ни формами тело не походило на человека ни одной расы и национальности. Но деваться было некуда, надо было жить с этим телом последующий период, в конце которого, быть может, его ждала новая метаморфоза, еще более непонятная и чуждая.
Глядя на себя, он подумал, что это и есть старость его тела. Старость уродлива, а уродство — преддверие смерти. Что привычно — то красиво, что необычно — то уродливо и, значит, подлежит гибели. Надо было что–нибудь придумать, скрываться от людей три года, надо было жить так, чтобы его никто не видел…
(…однажды с ним случилось нечто подобное. Механизм самооживления привел его в уединенное место, где не было людей, но зато водились крысы. Они обезобразили его лицо, пока он лежал в беспамятстве. Раны быстро зажили, но уродство осталось на весь период. Это были тяжелые времена для него. Он пристал к бродячим французским комедиантам и в маске, изображающей паяца, зазывал народ на представления. С тех пор он относился к французам с особым чувством и выделял их из череды многих…)
Он с трудом подыскал себе более или менее подходящую одежду, пиджак не сходился на его круглой груди, рубашка болталась на тонких руках, брюки пришлось засучить. Труднее всего пришлось с обувью, ни одна из пар ботинок не подходила для новых ног. Тогда он оторвал каблук, надрезал туфли во взъеме и обулся. Закутал шею шарфом, натянул шапку на глаза, надел и пальто. По привычке обошел все комнаты, чтобы убедиться в отсутствии людей. Скоро должны прийти хозяева квартиры, которую он снимал последний год. Он тщательно собрал документы, личные вещи в чемодан и присел на краешек стула, который уже не принадлежал ему, как, впрочем, и весь мир. В таком виде нельзя показываться людям, нельзя уехать в другой город, тем более в другую страну. Скрываться в лесу он тоже не мог. Он слишком привык жить. Смерть была для всего остального: для людей, растений, животных, вещей, он же был бессмертен.
(…я много думал о смерти, пока жил на земле, и давно пришел к выводу, что ее фактически не существует. И совсем не потому, что есть бессмертие каждого отдельного человека. Прекрасная теория утешительного эгоизма, существовавшая во все времена и у всех племен и народов, не должна пониматься столь буквально. Я был даосом в Китае, и дзен–буддистом в Японии, и шиваистом в Индии, и доминиканцем в Европе, и понял, что вся эта великая мудрость в конечном счете бессильна перед лицом небытия. Есть бессмертие тела, но не в данной раз и навсегда форме, потому что материя многолика и неуничтожима. Есть бессмертие духа, но не отдельного человека, а в совокупности его, в преемственности развивающейся мысли, и вектор силы духа на Земле, несмотря ни на что, направлен вверх…)
В последние годы, ознакомившись с генетикой, он решил, что его организм возник в результате мутации, но склонность к бессмертию не передавалась по наследству, и он много раз видел своих правнуков дряхлыми стариками. Знакомство с основами кибернетики привело его к новой теории своего происхождения: выходило так, что он робот, самоорганизующийся, самоуправляемый, и программа, заложенная в нем кем–то, подходит к концу, и близко вырождение. Но и эта теория не устроила его полностью. Он был человеком и не отделял себя от человечества. Начитавшись фантастики, он подчас был склонен думать, что он вообще не землянин, а подкидыш неведомой цивилизации, забытый на чужой планете и вынужденный здесь сиротствовать долгие века. Это было обидно и, по меньшей мере, несправедливо. Он считал себя настолько человеком, насколько вообще возможно быть им. Поэтому и к этой теории он относился с сомнением.
(…разные роли, разные задачи и различное устройство тела. Он был слепым, а я зрячим. Меня могли убить и убивали много раз, но я сам выбирал свой облик, сам придумывал для себя очередную роль и шел на риск несравненно больший, чем он. Я был на гребне истории и постоянно был вынужден удерживать себя от того, что называется вмешательством в судьбу Земли. Я не имел на это права, история Земли должна была твориться только…)
В прежние века, следуя за развитием человеческой мысли, он считал себя порождением то дьявола, то благой силы, но, разумеется, не находил доказательств ни тому, ни другому. Когда он жил в Тибете в облике буддийского монаха, то, тщательно вникая в суть учения, готов был принять себя за бодхисатву — существо, способное принимать любой образ, но сохраняющее свое «я». Но он не умел творить чудеса, и в жизни его ни разу не случалось ничего сверхъестественного. Он уже не вспоминал о многочисленных теориях, приходивших ему в голову во время скитаний среди племен Африки и Америки. Все они не выдерживали никакой критики, ибо в его тело никогда не переселялась чужая душа, а выходило совсем наоборот.
(…да, вечная проблема дуализма души и тела. Что из них первично, что вторично? Что было раньше: яйцо или курица? Напрасно мучились люди над этими вопросами, есть простой и ясный ответ…)
Больше ничего придумать не мог, а от того единственно правильного объяснения своего происхождения сейчас зависела не только его дальнейшая судьба, но и жизнь. Раньше он придумывал свои теории скорее для развлечения, ибо ни одна из них не могла повлиять на его жизнь, но сейчас надо было во что бы то ни стало найти верную. Начав сначала, мысленно проследив свой путь сквозь века и земли, ни разу не сбившись в очередности, он вспомнил все свои перерождения начиная с первого и еще раз удивился необъяснимой мудрости своего тела, никогда не подводившего его. Что бы ни случалось вокруг, казалось, какая–то сила хранит его от смерти, потому что даже если он и был на краю гибели, всегда приходила случайность, спасавшая его. И он полагал, что эта самозащита, развитая до невероятного предела, скрыта в нем самом, не подчиняясь его воле.
(…да, он был так уж устроен, что сжить его со света было делом нелегким, если не сказать точнее — невозможным. Конечно, он не был бессмертным в том смысле, что не подлежал материальному уничтожению. Он мог гореть в огне, тонуть в воде, и пуля и меч могли прервать его жизнь, но этого просто не случалось. Да, это была сверхсамозащита, но были и другие причины, не менее важные, уже не зависящие от него самого. И я был одной из них. Я был обязан следить за ним, вызволяя его из смертельных переделок, но делать это так, чтобы он ничего не знал обо мне. Он скрывался под крылышком у папы Климента VII, полагая, что Ватикан — это самое надежное место в раздираемой войнами Европе. Но ландскнехты Карла V Габсбурга ворвались в Рим, устроили резню на улицах, не щадя никого, и разграбили Ватикан. Мне пришлось добираться в Рим издалека, и в спешке, не успев дооформиться, я напугал до смерти двух бравых германцев, тащивших моего монаха к колонне собора, чтобы сделать из него потешную мишень для своих арбалетов… Я дал ему возможность уехать в Испанию, откуда четыре года спустя он отправился завоевывать Перу в качестве духовника Франсиско Писарро. С тех пор он довольно долго блуждал по Америке, прибавив к своим знаниям секреты индейских колдунов…)
Независимо от того, кто он есть на самом деле, сейчас произошло то, что способно изменить его жизнь. Или эта перемена является вырождением предвестником гибели, или наоборот — скачком на новую, более совершенную степень, пока еще непонятную, но наверняка объяснимую. И он стал искать объяснения. Каждый раз, как его тело изменяло свой облик, как бы ни было неожиданным это вначале, потом неизменно находились оправдания правильности выбора, потому что существование именно в этом теле давало ему большую вероятность выжить в изменившихся условиях. Значит, и сейчас отказ от человеческого облика диктует ему единственный верный выход.
(…да, за два года до вторжения Чингисхана в пределы Южной Руси он изменил свой облик и из рослого голубоглазого славянина превратился в черноволосого желтолицего монгола. При тогдашней скорости распространения информации никто, в том числе и он сам, не предвидел нашествия, никто, кроме…)
Отсюда следовали выводы: или скоро на Земле люди станут такими, как он, или на Землю придут люди с подобным телом, или скоро должна разразиться катастрофа, после которой с таким телом будет больше шансов выжить. Был еще один вывод: должен прийти кто–то, кому он нужен в таком виде. Он последовательно опроверг свои выкладки. Во–первых, ничто не предвещало массовых мутаций и, тем более, постепенного сдвига в облике людей. Во–вторых, маловероятно, чтобы Землю захватила чужая цивилизация — он не верил в войну миров, и уж во всяком случае захват планеты не будет длиться считанные дни. В–третьих, катастрофа, какой бы она ни была, тоже не способна привести к однородному изменению людей, их генетики и приспосабливаемости. Оставался четвертый вывод, и как бы странно ни казалось, что вдруг впервые за всю его разноликую жизнь к нему может прийти тот, кто знает о нем больше его самого, это было более вероятным. Значит, его тело знало заранее об этом и подготовилось к встрече. Значит, или он сам должен идти искать тех людей, или к нему должны прийти.
(…да, при всей серости он умел логически мыслить. Он всегда должен был выбирать из многих зол меньшее и научился делать это виртуозно. Он был великолепным экземпляром и сделал все, что от него требовалось. Конечно, его поведение и взгляды не укладывались в рамки земной морали. Он всегда был подонком — именно эти качества, плюс к ним обаяние, умение понравиться и войти в доверие, обеспечили ему столь долгую жизнь. Он легко воспринимал любую идеологию, и муки совести никогда его не мучили. Это он был тем, кого назвали Вечным Жидом, и это его единственный след в человечестве. И он, и я могли бы раскрыть многие тайны истории, но он не делал этого потому, что боялся за свою шкуру, а я никогда не сделаю этого совсем по другим причинам…)
Зазвонил телефон. Он поколебался, но трубку не снял. Для всех он уже уехал, а для тех, кто знает о нем, есть и другие способы общения. Походил по комнате. Был предновогодний день. За стеной, у соседей, уже звучала музыка, слышались голоса, кто–то насвистывал, люди готовились к перелому года, будто бы и в самом деле невидимая граница, отделяющая один год от другого, могла принести новое счастье при строгом исполнении ритуалов. За свою жизнь он соблюдал тысячи разных обычаев, веровал, по крайней мере внешне, во многие странности, призванные вносить в человеческую жизнь порядок, но это не мешало ему ничему не поклоняться. Сейчас, наедине с самим собой, он мог позволить себе усмехнуться странной привычке людей обставлять особой торжественностью миг завершения очередного оборота планеты вокруг солнца.
(…сам знаю множество странностей, сопутствующих человеку, но глупо ставить себя выше человечества лишь на том основании, что имеешь возможность наблюдать его со стороны. И разве я не делил с людьми их беды, разве не радовался вместе с ними миру и процветанию? На моих глазах исчезали страны и народы, разрушались города, гибли книги и полотна, но живо человечество, и я знаю наверняка — будет…)
Последний год он жил в двухкомнатном одноэтажном доме на краю города. Соседи не мешали ему, и он им тоже. Меньше всего ему хотелось сейчас, чтобы кто–нибудь постучался в двери, и поэтому он старался ступать неслышно и свет не зажигал. Ему хотелось пить, но он не знал, можно ли пить воду, вдруг его организм перестроен так, что обычная вода окажется ядом. Не говоря уже о пище. Полагаясь на мудрость своего тела, он думал, что очередная случайность выведет его из этого состояния неопределенности, и беспокоился только, что время идет, а ничего не происходит. Он снова стал связывать логические цепочки, но ясного конца мысли так и не было. Тогда он вернулся к версии своего неземного происхождения и стал размышлять над причинами этого. Выходило так, что его или случайно забыли на Земле, предоставив самому себе, или оставили с какой–то целью. Но он сам ничего не знал о целях своего пребывания на этой планете, и получалось так, что все равно бы он не мог принести никакой пользы своей далекой родине. Но могло оказаться, что его специально заставили забыть о своей чужеродности, чтобы он не отделял себя от людей и в поведении был естествен и обычен.
(…да, его роль заключалась именно в этом. Мне было тяжелее. Я помнил все, и тяжесть ответственности за содеянное и сказанное мною не раз доводила меня до отчаяния… Я помню народы и племена, забытые ныне; страны, империи, казавшиеся вечными, но рухнувшие, исчезнувшие, растворившиеся. Где они теперь, народы, наводившие ужас одним своим именем? Где гунны, алазоны, вандалы, гепиды, венеды, свевы, хамавы, сугамбры, херуски, кидани? Где хазары, печенеги, половцы, эдуи, квады? Где обры? Нет смысла искать ответа на эти вопросы. Они изменили обличье, приняли другие имена, рассеянные по свету, по всей земле, забывшие своих предков, свой язык, они живы. И каждому народу, сохранившему свой язык и свое имя, прошедшему через геноцид и ассимиляцию истории и помнящему свое родство, свои корни, разве не…)
Как ни странно, но это было более или менее логичным. Если он был разведчиком, информатором, то подневольным, не знающим даже о том, что постоянно передает сведения чужой стране. Тело само направляло его действия, защищало его и, наверное, передавало информацию помимо его самого, его воли, сознания.
(…да, он был чужаком, и пришла пора вернуться ему. Он выжил здесь и искупил свою вину перед родиной. Там, откуда он пришел, он тоже отличался от других, он нарушил закон, и к нему применили обычную меру… А я остаюсь, я не могу уйти, пока…)
Он еще раз перебрал все гипотезы и остановился на этой. Странно, что раньше он не думал об этом, во всяком случае, всерьез. Наверное, и сейчас тело его, неведомо как запрограммированное, подсказывает ему единственный вариант. Итак, он чужак, не землянин, и всю свою долгую жизнь был призван просто жить в разных обличиях с одной целью — поставлять информацию. Это объясняло все странности его жизни. А если сейчас тело его изменилось настолько, что стало невозможно жить на Земле, то значит, пришла пора уходить. Он и в самом деле постарел, и быть может, ему уже нашли замену, и где–то, не слишком далеко отсюда, его ждут.
(…разведчики и шпионы. Разведчик — слово героическое, шпион позорное. А он не был ни тем, ни другим, он был просто подкидышем, кукушонком в чужом гнезде. Его присудили к изгнанию. Он был преступником на нашей далекой родине, где все прошлые и нынешние болезни Земли давным–давно позади, и таких, как он, считают моральными мутантами, уродами, и выключают их прежнюю память, и снабжают автономной программой, и ссылают на отдаленные планеты, где мы, добровольно ушедшие в далекий поиск, следим за ними и не даем им погибнуть напрасно. Ну что ж, срок его истекает. Быть может, тысячелетняя жизнь на Земле научила его хоть чему–то…)
Тело не подводило его ни разу, и он решил, что те, кто должен прийти за ним, недалеко.
В двенадцать часов ночи он услышал усилившийся шум за стеной, хлопали пробки, гремел транзистор, смеялись и громко пели. И тут он вспомнил, что соседи уехали неделю назад и новые жильцы должны приехать только в конце января.
Тогда он встал, закутался поплотнее шарфом, взял чемодан, захлопнул за собой дверь, потому что знал — сюда он больше не вернется. Постоял на пороге, вдыхая морозный воздух, посмотрел на заснеженный сад, дорогу, город, на небо со знакомыми звездами, мысленно попрощался со всем этим и со всей Землей заодно, на которой он прожил тысячи жизней, не похожих одна на другую.
Он знал, что дверь в соседнюю квартиру будет не запертой. Не стучась, вошел в сени. Гремела музыка, шумели голоса, он открыл дверь в комнату и не удивился тому, что увидел. Комната была пустой, мебель и вещи из нее вывезли, и только сор, старые газеты и пыль лежали на полу. Посредине комнаты в неудобной позе сидел человек, похожий на него самого, и молча смотрел на вошедшего. Рядом с ним стоял мальчик, обычный, земной, сосредоточенно ел мороженое и поглядывал в окно, и скучал, наверное.
(…и вот я пришел за ним, чтобы включить его прежнюю память, и объяснить ему все, и сказать то, что я о нем думаю.
Выше голову, подкидыш! Смелее гляди, кукушонок! Видишь, новый мальчик пришел на смену тебе. А ты не забыл, как предавал своих друзей? В смутные времена войн и восстаний, поисков правды и счастья, когда люди, смертные и незащищенные, шли на верную смерть ради других, ты, бессмертный, откупался золотом, слезами, доносами, хворостом, подброшенным в костры осужденных? Помнишь ли ты всех преданных тобой?.. И я встаю и говорю ему на древнем языке шумеров: привет, подкидыш, твой срок истек…)
РАЗДЕЛЕНИЕ СФИНКСА
Человек + лев = сфинкс
Сфинкс — лев = ?
В семь тридцать у Елагина умерла жена. Они прожили вместе десять лет, уже три года она тяжело болела, и болезнь ее была такова, что и в больницу не было смысла ложиться. Он не отходил от нее последние четыре дня, когда мысли ее путались, и слова наползали одно на другое, и душа напоследок обходила привычное тело, прощаясь с ним и сетуя на несправедливость и невозвратимость ухода.
Елагин знал, что она умрет, знал давно и поэтому не плакал, не паниковал, а терпеливо ухаживал за больной, с горестным любопытством наблюдая, как изменяется ее тело, углубляются глаза и синеют пальцы.
В последний день она уже не говорила, дыхание стало глубоким и ровным, только изредка она улыбалась сквозь беспамятство, и бог весть какие мысли и образы мерещились ей в надвигающейся темноте. Иногда она поднимала руку и медленно водила в воздухе раскрытой ладонью, словно ловила что–то или, быть может, ощупывала границу этого мира, проверяя ее на прочность.
Елагин сидел рядом и гладил ее волосы, и последним касанием дотрагивался до груди, живота, рук, уже незнакомых, уже чужих.
Он не звал ни врача, ни родных, он не хотел никого видеть, и прощал все обиды жене, и мысленно просил простить свои. А помнишь, Маруся, говорил он беззвучно, помнишь, как умерла наша Настенька? А помнишь, Маруся, говорил он в мыслях своих, помнишь, как мы с тобой были в Сочи? А помнишь, Маруся, говорил он неслышно, помнишь, как мы пели в том лесу?
И казалось ему, что она слышит его мысли и тоже вспоминает, и от этого ей не так одиноко уходить навсегда.
Последний вдох был короток и невесом. Елагин прижал ухо к груди, уже неподвижной. Сердце еще билось, но удары его становились все более и более легкими, редкими, и вот в последний раз оно толкнуло густеющую кровь и, словно человек, вязнущий в трясине, замерло и больше не двигалось.
Елагин дотронулся до век, и без того закрытых, поцеловал в лоб и отстранялся от тела.
Он прикрыл тело простыней, зашторил окна и закрыл зеркало черным платком, приготовленным заранее.
Неподвижное тело под простыней было просто телом, а жена его ушла в никуда, а если и осталось что–то, то лишь в памяти, в фотографиях — в столь же смертных и тленных свидетелях того, что не повторится.
В семь сорок Елагину показалось, что простыня шевельнулась. Елагин боялся только гаишников и бесприютной старости и поэтому не напугался. Он подошел ближе к телу, приоткрыл простыню сбоку и нашел руку. Она была еще теплой, гибкой, Елагин легонько сжал пальцы, и ему снова показалось, что рука ответила на прикосновение.
— Маруся, — тихонько позвал он вслух. — Маруся, ты жива?
Ему никто не ответил, тогда он открыл ее лицо и склонился над ним. Будто бы воздух всколыхнулся, а может, так, померещилось. Оттянул веко, глаз был блестящим, зрачок узкий, прижал ухо к груди, и ему показалось, что там, в глубине, шевелится живое сердце.
Елагин знал, что бывает так называемый летаргический сон и что иногда живых принимают за мертвых, поэтому успокоился, но не обрадовался, впрочем. Он уже свыкся с тем, что жена должна умереть, привык к мысли, что он остался один и в последующие дни не избежать мучительных и тягостных хлопот. Он даже почувствовал себя обманутым, но укорять жену не стад, ведь это не зависело от нее, и ему стадо жаль, что агония затянулась, ибо смерти все равно не миновать, а эта грань между жизнью и небытием лишь продлевает мучения, ее и его.
Что–то удерживало его еще раз подойти к жене и посмотреть, как там она. Он не хотел признаваться даже самому себе, что боится, но, по–видимому, так оно и было. Он ушел на кухню и сидел там и добивал свое разбитое сердце горестными воспоминаниями. Все десять лет супружеской жизни он так и не знал наверняка, любит ли свою жену, но сейчас ему казалось, что любит до невыносимой щемящей боли, и если бы она выздоровела, он бы не пожалел ничего.
И вспоминались сейчас не ссоры и размолвки, которых тоже было предостаточно, а хорошие светлые дни, и казалось, что прошлая жизнь, какой бы она ни была, — это единственная реальность, а все остальное, происходящее сейчас, на будущее не обречено.
Прошлое представлялось в виде картинок, стоп–кадров, порой снятых не с самых выгодных позиций — то высвечивалась часть лица, а остальное было в тумане, то высокая волна на взлете вспыхивала радужной пеной и оставалась так; и совсем забылись запахи, звуки, голоса и прикосновения прошлого. Голос жены выветривался, тускнел, сливался с чужими голосами и памяти не подчинялся. Хотелось оживить прикосновения ее теплой руки, губ, горячего, освеженного сном тела, но вот она умерла, и нет ее больше.
В восемь пятнадцать явственно шевельнулась простыня и приоткрылось лицо Маруси. Елагин приблизился. Она дышала, хоть редко, но глубоко, и глаза были открыты.
— Маруся! — позвал он громким шепотом, но она не ответила.
Взгляд был направлен в потолок. Шевельнулась рука, выпросталась из–под простыни, расслабленные пальцы медленно поползли к лицу. Губы, еще бледные, розовели, уголки рта растягивались, словно бы она силилась закричать или заплакать, но не могла.
— Маруся, что с тобой? — спросил Елагин и опустился у кровати на колени, и протянул руку, но прикоснуться не решился. — Тебе больно, милая?
Голова ее резко откинулась, сквозь сжатые зубы с шипением вырвался воздух, красные пятна проступили на щеках, широко открылись глаза и резко обозначились морщины на лбу. И хотя она двигалась, дышала, но все равно оставалась для Елагина чужой, умершей, уже не Марусей, а каким–то иным, враждебным и даже, может быть, опасным телом.
Но он боялся признаться в этом самому себе, он убеждал себя, что агония описала петлю и снова лишь видимость жизни поддерживается в полутрупе его жены и продлеваются ее мучения, пусть неосознанные, но все равно несправедливые и напрасные. Ему пришла в голову недобрая мысль одним милосердным ударом оборвать страдания, но он устыдился этой мысли, и наложил на нее запрет, и нашел в себе силы прикоснуться к ее руке, как бы прося прощения. Рука подрагивала мелкой дрожью, покрывалась гусиной кожей, пальцы сжимались и разжимались, как будто искали опору, но не находили, тогда он вложил свою ладонь в ее холодную и судорожную, та сжала его руку и успокоилась.
— Ну–ка, скажи что–нибудь, Маруся, скажи хоть слово, — умолял Елагин.
Он хотел было вызвать «скорую помощь», чтобы избавиться от тягостного чувства непонимания, чтобы кто–то, более умный, разобрался во всем этом и взял на себя ответственность за происходящее, но он легко представил себе, как приедет чужой человек и посмотрит на его жену отстраненным взглядом, и равнодушной рукой сделает укол, и спокойно скажет те самые слова, которые сам Елагин произнести не смел, и укатит с легким сердцем на своей белой машине, а Елагин останется один, вернее, все еще не один, но именно эта неопределенность будет мучить его еще сильнее.
— Марусенька, сердце мое, — прошептал Елагин и погладил ее по щеке, и провел по волосам.
В девять вечера она успокоилась, закрыла глаза и похоже было, что это просто сон, еще тяжелый, болезненный, но сон.
Елагин сидел рядом, смотрел на нее, лениво думал о том и об этом, выходил на кухню курить, шуршал газетой, брал наугад какую–нибудь книгу, листал не вчитываясь, потом сел в кресло поодаль от кровати и, прислушиваясь к ровному дыханию жены, задремал.
Проснулся далеко за полночь. Затекли ноги и шея. Все так же горел свет и мерно дышала Маруся. Кожа порозовела, морщины разгладились, руки покойно лежали на животе и поднимались в такт дыханию. Ему показалось, что стоит сейчас разбудить ее, как она откроет глаза и охрипшим со сна голосом недовольно спросит, в чем дело, и повернется набок и снова заснет, а утром, выспавшаяся, посвежевшая, встанет как ни в чем не бывало, пройдет на кухню и, напевая вполголоса, начнет звенеть стаканами, греметь кастрюлями, шаркать тапочками, как все эти годы. Как все ушедшие в никуда годы.
И ему не захотелось убеждать себя, что это не повторится, и он пожелал ей спокойной ночи, и ушел в другую комнату, и лег на диван, и спал до утра. Ему снилась жена, еще до болезни, веселая, бойкая, и голос ее звучал живо, и запах тела не забывался.
Он и утром проснулся с ощущением, что все идет по–старому, что не было ни болезни, ни смерти, перешедшей в летаргический сон, но вот утро наступило, и новый будний день входил в привычную колею.
Ему хотелось обмануть судьбу и провести саму смерть, и он сказал, входя в комнату:
— Доброе утро. Пора вставать, Марусенька.
Стараясь не смотреть на нее, он полез в шкаф за бритвой, но жена сама дала о себе знать тихим стоном. Продолжая игру, он повернулся и спросил:
— Ну, как ты спала? Давай–ка кончай нежиться, не маленькая.
Она лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок. Взгляд живой и осмысленный. Она прошептала что–то, но он не разобрал слов и наклонился к ней, легонько потрепав по затылку. Она снова что–то сказала, но он опять не понял, что именно, хотя слова звучали ясно.
— Ты что, не видишь — уже утро? — спросил он нарочито сердитым тоном.
Она повернула голову и посмотрела на него. Он встретил взгляд и ободряюще улыбнулся и подмигнул даже. По–видимому, она не узнавала его, потому что глядела со страхом и непониманием. Она прошептала два коротких слова, и он, кажется, понял, что они означали. Она спросила: «Кто вы?».
И тут–то ему стало страшно. Он сдерживал страх, убеждая себя, что ничего не случилось, но нельзя было обманываться бесконечно, непонятное пугало, и объяснить это он не мог.
И оставался один выход. Не строить иллюзий, а принимать все как есть, не показывать спину и быть мужчиной.
Ему явно не хватало знания и опыта, и он искал спасения в этом незнании, как в темном лесу. Он предполагал, что по неопытности принял глубокий обморок за смерть, считал, что жена заснула летаргическим сном; в конце концов он мог предположить и чудесное воскрешение, с натяжкой, но мог. Ведь были примеры из истории, мифов, сказок, и кто знает, пустая ли это фантазия столь многих народов.
— Это я, — сказал он, не подходя близко. — Я, Витя. А ты — Маруся, моя жена. Узнаешь?
Она медленно покачала головой, громко застонала и, закрыв лицо руками, отвернулась.
— Марусенька, — сказал Елагин, — Марусенька, что с тобой, милая? Посмотри на меня, посмотри же. Ты выздоравливаешь, все у нас хорошо, очнись же, сердце мое.
Он чуть ли не умолял ее, чуть ли не плакал, но не подходил, ему было жутко, он чувствовал, что потеет, что голос дрожит и срывается, ибо таинственна смерть, и нет ей разгадки, и нет свидетелей, чтобы поведать о тайнах ее.
— Мама, — сказала она тихо. — Мама! — повторила она громче. — Мама, мамочка, где ты? — закричала она. — Что со мной, мамочка? Где ты?
Марусина мать, теща Елагина, умерла два года назад, но он и не подумал, что жена зовет свою маму. Ибо первые слова человека на земле и последний вскрик его звучат одинаково.
Маруся села, открыла глаза и посмотрела на свои руки, непонимающим взглядом скользнула по груди, животу, ногам. В глазах стояли страх и растерянность, губы побелели и искривились в крике.
— Что со мной? Кто я? Где я? Мамочка, да что же со мной? Мамочка, разбуди меня! Мне страшно!
— Марусенька, проснись! Да проснись же ты, ради бога, успокойся.
Она взглянула на него и закричала еще громче, вскочила, но слабость превозмогла, и она упала на постель. Закрылась с головой и кричала, не переставая, уже без слов, а потом и без звука, как кричат в страшном сне.
Он вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и закурил на кухне. Было утро, но рассеянный солнечный свет не прогонял страха, и непонятное оставалось необъяснимым. Отсюда он слышал стоны и вскрики, она рыдала, призывала на помощь маму, а он не знал, как поступить.
Постучались в дверь. Это была соседка. Любопытство распирало ее, заставляло елозить ногами, как девочку, спешащую к горшку.
— Что у вас делается»? — спросила она, просовывая голову с неснятыми бигудями.
— Моя жена умирает, — сказал Елагин и хлопнул дверью по ее бугристому темени.
Шум постепенно затихал, и плач перешел в тихое всхлипывание. Маруся уже не плакала, а скулила, как щенок, потерявший маму. Елагин и сам ничего не понимал, но растерянность и страх женщины заставляли его сохранять хладнокровие.
— Попробуй вспомнить, — сказал он. — Успокойся и вспомни. Тебя зовут Маруся, тебе тридцать шесть лет, а я — твой муж, Виктор Елагин. Мы живем с тобой десять лет, ты больна, ты просто все забыла из–за болезни, но ты вспомнишь, успокоишься и все вспомнишь. Взгляни, вот моя рука, ты знаешь ее.
Он протянул руку и хотел добавить еще, что эта рука ласкала ее тело, что знает она все возвышенности его и впадины, все излучины и тупики, знает и помнит, и не может быть так, чтобы тело все забыло.
Рука осторожно раздвинула одеяло и, медленно скользя по складкам, проникла к коже. Кончики пальцев дотронулись до тела и узнали его. Маруся вздрогнула.
— Нет, — сказала она охрипшим голосом. — Я вас не знаю. Кто вы? Где я? Что со мной стало?
— Маруся… Вспомни.
— Я не Маруся. Я Вера. Вера Загладина. А вас совсем не знаю. Позовите папу и маму. Мне страшно.
Елагин откинул одеяло, прикрывшее лицо. Это было Марусино лицо ее глаза, губы, нос, ее морщинки и седая прядь у виска.
— Ты больна, Маруся, — сказал он, — ты просто больна. Чего ты боишься? Я тебя не обижу. Ведь я твой муж.
— Нет! Я вас не знаю. У меня никогда не было мужа. Это не мои руки, не мой голос, не мое тело. Куда вы спрятали меня? Отдайте сейчас же! Я не хочу жить в этом теле! Оно страшное, старое, омерзительное!
— Неправда, Маруся, оно удивительное. Я так люблю его.
Он погладил ее плечи, она резко отстранилась, покраснела, сверкнула глазами.
— Сердце мое, — выдохнул Елагин, — вспомни.
Она ничего не вспоминала, и для самого Елагина названное имя было чужим. Вера Загладина. Он никогда не слышал о такой женщине. Он знал, что бывают психические расстройства, когда человек присваивает себе чужое имя и чужие мысли, он знал и цеплялся за это, и оставалось только ждать, когда старое имя хоть на время вытеснит новое и все встанет на свое место.
— Позвоните моему папе, — сказала Маруся. — Я вас умоляю, позвоните, он приедет и во всем разберется. Я вас очень прошу, позвоните.
Все это было более чем странным, но Елагин согласился. Он не хотел поддаваться безумию, не хотел подчиняться законам иллюзорного придуманного мира, но в этой просьбе была своя логика, и он набрал названный номер.
Долго никто не брал трубку, потом длинные гудки оборвались, и кто–то задышал на другом конце провода. Елагин извинился и попросил позвать Загладина.
— Я слушаю, — сказал мужской голос.
Елагин чувствовал себя в дурацком положении и не решился сразу сообщить мужчине, что здесь его ждет дочь.
— Кто вы? — спросил мужчина.
— Мне нужна Вера, — сказал Елагин. — Я ее знакомый.
Было стыдно и неуютно. Хотелось бросить трубку.
— Она умерла, — сказал тихо мужчина.
— Когда? — воскликнул Елагин.
— Вчера вечером.
И короткие гудки, как позывные спутника. Вот и все. Привычная логика ломалась. Чужая девушка и родная жена, слитые воедино, ждали ответа. Или только одна чужая девушка? Или только одна родная жена? Что важнее, душа или тело? Елагин считал себя материалистом и сомнения не испытывал, но мир вывернулся наизнанку, абсурдное стало привычным, привычное — абсурдным. Души нет и быть не может. Способ существования белковых тел распадался с прекращением обмена веществ, каждое из которых можно было потрогать и взвесить. А душа — лишь отголосок религии, заблуждение человечества, метафора поэтов.
— Он приедет? — спросила Маруся.
— Нет. Он сказал, что Вера умерла. Вчера вечером.
— Это неправда! Я не умерла. Я болела, я долго болела. Заснула вчера, сильно закружилась голова, и я заснула. Папа был рядом, он знает. Позвоните еще раз, он приедет.
— Сколько тебе лет. Вера? — спросил Елагин.
— Семнадцать.
— Тебе холодно. Оденься.
Он выбрал одежду, белье, молча протянул ей.
— Выйдите из комнаты, — сказала она, подумав.
Елагин горько усмехнулся и вышел. Снова набрал знакомый номер.
— Это опять вы? — спросил Загладин.
— Да, это я. Простите, что надоедаю вам в такой день. Искренне сочувствую вам и хорошо понимаю, у меня вчера тоже умерла жена. Но дело в том…
Елагин замялся, он не знал, как выразиться понятнее.
— В котором часу она умерла? — переспросил его Загладин.
— В семь тридцать вечера.
— И… она мертва?
— Да, то есть нет. Я сам не знаю.
— Значит, она жива, — сказал Загладин. — Жива. Она жива. Назовите ваш адрес, я скоро буду. Не обижайте ее. Я все объясню. И никому ни слова, прошу вас.
— Он приедет, — сказал Елагин.
Маруся, или Вера, лежала в платье. В красном, с широкими рукавами. Последний раз она надевала его год назад, когда еще могла выходить на улицу. Все было знакомым в этой женщине и одновременно неизвестным, чужим.
— Ты уже не боишься? — спросил Елагин.
— Я боюсь бояться. Я сойду с ума. Стараюсь ни о чем не думать. У меня не получается.
Он ушел на кухню и встал у окна, и смотрел на привычный пейзаж, и ничего нового не находил в нем. Прошла девочка с бидоном, тонкие ноги, красные колготки. Мальчик прокатил на велосипеде, желтой грязью забрызгана рама. Женщина пронесла сумку, пергидрольные волосы выбились из–под платка. Подъехал «Москвич». Хлопнула дверка…
Загладин был, пожалуй, ровесником Елагину, и вид жены, целующей чужого мужчину, удовольствия ему не доставил. Сам Загладин осторожно обнимал ее и успокаивал тихо: «Верочка, Верочка, вот и получилось, ничего, ты привыкнешь. Это не страшно».
— Будьте добры, — обратился он к Елагину, — оставьте нас на полчасика. Я должен все объяснить дочери. Я вам все расскажу потом. Сперва с ней.
Елагин пожал плечами и оставил их в прихожей. Вселенная распадалась. Оживали мертвецы и говорили чужими голосами. Жена его, умершая вчера, обнимала другого мужчину, но это была не его жена. Но куда же девалась его Маруся, и где он сам?
Болела голова и курить не хотелось.
Пришел Загладин и, волнуясь, долго объяснял то, чего Елагин понять не мог или просто не хотел, но даже то, что он принял, казалось диким, лживым, невероятным. А дело было в том, что Вера Загладина болела чуть ли не с рождения, смерть ее была неминуема, и вот отец придумал чудовищный способ для сохранения жизни дочери…
— Вы хотите забрать ее с собой? — спросил Елагин.
— Конечно. Ведь это наша дочь. В конце концов, она сама хочет этого. Она все поняла и уже не боится.
— Дочь… А где же моя жена?
— Умерла. Вчера вечером. Что же неясно?
— Ах, неясно! — возмутился Елагин и прикрыл плотнее дверь кухни. — А мне вот многое неясно. Кого же я буду хоронить, по–вашему? Моя жена, видите ли, умерла, но вы преспокойно увозите ее с собой. Я не знаю, что важнее, душа или тело, но знаю одно — моя жена, Маруся, уходит с вами. А я? Что остается мне? Она умерла, а вы крадете у меня ее труп. Ведь это чудовищно! Вы не человек, а дьявол.
В волнении Елагин заходил по кухне и все–таки закурил сигарету. Загладин поморщился от дыма и отодвинулся ближе к открытой форточке.
— Ерунда, — сказал он. — Впрочем, можете называть меня, как вам хочется. Но я беру не чужую душу, а своей родной дочери.
— О да! Но вместе с телом моей жены. До такого и в средневековье не додумывались, если не ошибаюсь.
— Не ошибаетесь. Религия четко разделяет тело и душу, но мы же с вами материалисты. Все в мире материально, все едино. У нас нет другого названия, и мы употребляем старое и неточное — душа. А если мы назовем ее по–другому? Вы верите в существование магнитного поля?
— При чем здесь, к черту, поле?
Загладин пригладил волосы и усмехнулся.
— Магнитное поле проявляется в движении стрелки компаса. Электромагнитное поле, невидимое и неощутимое для нас, превращается в телевизоре в звук и свет. Но ведь и магнитное поле прекрасно обходится без компаса…
— Не уходите в сторону, — оборвал Елагин. — Плевать я хотел на ваши теории. Мне важно знать — кто эта женщина? Моя жена? Ваша дочь? Или совсем другой человек, не мой и не ваш? Они умерли вчера в одну и ту же минуту, навсегда, как любой человек, но там, кто сейчас там, в той комнате? Моя жена или ваша дочь?
— Моя дочь, — спокойно ответил Загладин и снова усмехнулся одними губами.
— Черта с два! — воскликнул Елагин и едва удержался, чтобы не ударить его по лицу.
Он знал, что в минуту опасности ум его способен работать четко и логично, но сейчас его слишком раздражало наглое спокойствие и уверенность в своей правоте этого человека, и поэтому хотелось кричать, бесноваться и лезть в драку. Он отвернулся к окну, глубоко затянулся горьким дымом и заставил себя успокоиться. Дракой и оскорблениями не поможешь. Надо разбивать противника на его же поле, пользуясь слабостью логических построений. Не может быть, чтобы из всего этого нельзя было найти выход. Надо искать, сейчас же, немедленно, так же спокойно и насмешливо, не теряя головы и присутствия духа.
— И что же вы предлагаете? — перебил его мысли Загладин. — Конкретно, в данном случае, что вы хотите от меня?
— Не знаю. Но может быть, будет справедливее, если мы все поставим на свои места? Умерла Вера, умерла Маруся, они умерли и больше не вернутся. Так, как это было миллионы лет.
— А я не хочу, чтобы моя дочь умирала, — просто ответил Загладин. — Вы меня называете чудовищем. Вы, предлагающий убить мою дочь. Убить второй раз. Не странно ли?
И тут Елагин понял, в чем ошибка Вериного отца. Он успокоил дыхание и тихо сказал, стараясь придать словам уверенность:
— А она все равно умрет. Моя жена неизлечимо больна. Ее тело неспособно к жизни. Это вы — дважды преступник. Вы обрекаете дочь умирать вторично, с еще большими муками. И разве потом все не встанет на свое место? Даже без помощи вашего гениального открытия?
— Нет, — покачал головой Загладин. — Я снова попробую это же самое.
— Постойте. А вам не кажется, что ваша идея ложна в своей основе? Насколько я понял, суть ее в том, что так называемая душа вселяется в тело только что умершего человека. Предсказать, в кого именно она вселится, вы не можете. Но люди умирают по причинам совсем не мистическим, а вполне реальным. Тело исчерпывает себя до конца и больше жить не способно. Люди умирают от болезней, от ран, от огня и воды, и тело любого из них — это разрушенный дом, в котором жить невозможно. Ваша идея абсурдна. Неужели вы не задумывались над этим?
— Я думал, — сказал Загладин, и в его голосе Елагин уловил нотку нерешительности. — Но я изобретал этот способ не ради научного любопытства и диссертации, а для спасения дочери. Любой ценой и любыми средствами. К сожалению, я не был до конца уверен, удастся ли мне это. Я проводил опыты на животных, но не мог же я экспериментировать на людях. Теперь я знаю это возможно, а как поступить дальше — это мое дело.
— Не лицемерьте. Вы сами ничего не знаете. И перестаньте строить из себя непогрешимого и неуязвимого гения. Ведь вам придется бесконечно метаться по городу в поисках дочери, умирающей ежедневно в муках. Вы не любящий отец, вы — изверг.
— Давайте не будем ругаться, — поморщился Загладин. — У меня своя мораль, и не пытайтесь объяснять мои мысли и поступки с помощью своей. Я любящий отец, настолько любящий, что готов пойти за своей дочерью туда, откуда никто не возвращается. Пойти, найти и привести. И мне наплевать на ваши бабьи причитания.
— Если бы вы знали, как мне хочется по–мужски врезать кулаком по вашему гениальному лбу, — сказал Елагин и даже скрипнул зубами. — Но толка от этого не будет никакого. В конце концов, мы так и ничего не решим.
— Отчего же? — улыбнулся Загладин, непринужденно меняя позу, но так, чтобы можно было вскочить со стула. — Решение можно найти. Найти всегда.
— Или пойти на компромисс, — добавил Елагин. — Или он придет сам, без нашей помощи. Вы нарушили равновесие между жизнью и смертью. Вы преступили не просто человеческий закон, а закон природы. Вы забыли, что действие равно противодействию. Вы не боитесь последствий?
— Я боюсь только своей слабости. И больше ничего. Пока у меня есть сила — ничего.
— А у вас уже нет силы. Круг замкнут. Возможно, что эта женщина именно сейчас в соседней комнате второй раз переступает порог. Вы спасете ее?
— Да. В любом случае.
Загладин вскинул голову, блеснул глазами, и Елагин понял, что победить его не так–то просто. И еще он вдруг понял то, о чем даже не мог помыслить раньше, до того эта мысль оказалась чудовищной и невозможной.
— Вы хотите отнять жизнь у… здорового человека?
— А почему бы и нет? — медленно произнес Загладин и засмеялся. — Я получил положительный результат и теперь знаю, что делать. Да, знаю.
— Вы хотите убить другого человека, способного к жизни, только для того, чтобы ваша дочь жила? И это вы называете моралью? Это называете любовью?
— Да. Я называю это любовью. Вершиной любви, если хотите…
Он не договорил, потому что Елагин, резко качнувшись, вложил всю свою ярость в летящий кулак. Елагин так и не понял, что произошло, когда вдруг увидел, что лежит на полу и не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Над ним склонился Загладин и вытирал ему лоб мокрым полотенцем.
— Нервы, — вздохнул Загладин. — Вы так хорошо держались, и тут на тебе… Срыв.
— Мерзавец, — произнес Елагин сквозь зубы. — Что вы сделали со мной?
— Пока ничего. Просто успокоил вас. Вы снова ошиблись. У меня еще есть сила. А теперь выслушайте меня. Вы наверняка убеждены, что мое изобретение антигуманно и преступно. Так вот, никогда еще наука не ставила столь гуманных целей и никогда не подходила к их выполнению так близко. Вы просто не видите эту цель, вы вязнете в мелочах, да и как вы можете судить обо всем этом? Я давно переболел вашими сомнениями, и теперь они кажутся мне смешными.
— Убийца, — проговорил Елагин. — Уж не меня ли вы решили сделать донором для вашей дочери?
— Вы угадали. Сколько вам лет? Около сорока? Ничего, на первый раз сойдет и такое тело, а потом я подберу более тщательно молодое, здоровое, красивое и желательно — девичье. Все–таки моей дочери будет очень неуютно в вашем теле, но ничего, она потерпит, пока…
— Как же вы убьете меня, не нарушая тела?
— Это ничего. Это я умею. Это не больно.
Они услышали стоны одновременно.
— Ну вот и все, — сказал Елагин, пытаясь подняться.
— Ну вот и все, — повторил Загладин. — Все.
— Теперь моя очередь?
— Ваша… — Загладин усмехнулся, не зло, а устало и скорбно. — Да, кстати. Мои рукописи в письменном столе. Ключ на книжной полке, вторая снизу у окна. А теперь прощайте. И не мешайте мне.
— Какие еще рукописи! — закричал Елагин. — Убийца!
— Дурак, — снова усмехнулся Загладин. — Прощайте. Я вас больше не увижу.
— Или я вас?
— Не все ли равно. Ну ладно, у меня времени в обрез. Сейчас она умрет.
Загладин вышел, и Елагин остался один, лежащим на спине, и по–прежнему не в силах был шевельнуться, словно парализованный. Страха почему–то не было. Быть может, оттого, что он не мог представить убийство без привычных атрибутов: топора, ножа или пистолета. Или яда, в конце концов.
Когда истекло время, он услышал крик.
Кричал Загладин. Закричал, а потом застонал, а потом зарыдал в голос.
И тут тяжесть, наполнявшая тело Елагина, отхлынула, мышцы привычно напряглись, и он вскочил на ноги.
Он вбежал в комнату и увидел свою Марусю, лежавшую неподвижно, а на полу сидел Загладин и размазывал слезы по щекам, а лицо его было растерянным и напуганным, как у горько обиженной девочки.
Елагин наклонился над ним, погладил по голове и сказал тихо:
— Успокойся, Верочка, успокойся, ты привыкнешь. Живи, Верочка, живи…
Вопрос о личной несвободе был слишком близок Шубину. Кто, как не он, мог сполна ощутить несправедливость и жестокость болезни, приковавшей его к постели. Он не мог забыть то, еще недавнее время, когда тело подчинялось желаниям, ноги не казались чужими и руки могли выполнять любую работу. Он не озлобился, не стал завистливым и ворчливым и лишь долгие часы и дни размышлял о высшем даре — о свободе.
«Я чувствую себя марионеткой, — говорил он, когда жена перестилала постель. — К моим рукам и ногам можно привязать веревочки, дергать, как заблагорассудится, и утверждать, что это я делаю добровольно. Не правда ли, забавно?» Он улыбался, хотя ему было невесело, а я тогда расценивал его слова как шутку больного человека, иронизирующего над своим недугом.
Историк по специальности и по призванию, он рассуждал о движущей силе революций.
«Посудите сами, — говорил он мне. — Великая французская революция имела великие цели, а кончилась диктатурой Наполеона. Странная диалектика… Да, хоть странная, но диалектика! Помните старую сказку о драконе? Он владел неисчислимыми сокровищами и жестоко притеснял слабых. Смелые богатыри вызывали его на поединок, но, увидев груды золота и забыв обо всем, сами превращались в драконов. Это очень мудрая сказка…»
ПЬЕРО ХОЧЕТ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
…Воспользуйтесь этой свободой, этим
даром, отличающим человека от презренного
раба и от домашнего животного, чтобы дать
свет народам!
Гельвеций
В последнее время я все чаще задумываюсь о свободе. По сути дела, с тех пор как я обнаружил, что могу думать, причем независимо от внешних условий, которым в остальном подчиняюсь полностью, сразу же задумался о странности моего существования, о той непостижимой и жестокой силе, что движет мною извне, не сообразуясь ни с моими желаниями, ни с возможностями. Движения рук, ног, головы, навязанные мне, содрогания языка, заставляющие говорить слова, не свойственные мне, — все это постепенно привело к убеждению, что свободы для меня не существует и само это слово — лишь тайный и лживый знак рабства.
Те дни до рождения моего духа остались во мне отзвуком боли и муки. Сам я не помню ничего, и только тело, испытавшее боль сотворения, иногда напоминает о первых днях жизни неясной ломотой и жжением в суставах. Впрочем, до сих пор не знаю, живу ли я на самом деле и можно ли вообще назвать мое существование жизнью. Те существа, которые окружают меня, должно быть, также задумываются о смысле своего бытия, но я ничего не знаю об их истинных мыслях, как и они о моих. Хотя мы говорим часами, смеемся, поем, танцуем, а то и лупим друг друга, но никто не может выговорить ни слова без воли того, кто стоит над ними, заставляя с улыбкой делать все, что хочет. Насколько можно судить, это он создал наши тела и дал нам возможность двигаться, улыбаться, говорить. Но одного я не знаю наверняка — кто научил меня этой муке, кто вложил в голову эту сладкую и мучительную способность — думать. Если он, то это лишний раз подтверждает его изощренную жестокость, граничащую с наслаждением чужими страданиями.
Иногда я думаю о смерти. Не о своей собственной, а о смерти вообще. Те знания, что вложили в меня, говорят о смерти живых существ, но о смерти мне подобных я ничего не знаю.
Я вижу, как горит дерево в камине, как теряет оно форму, цвет и превращается в дым, тепло, свет, пепел. Это ли смерть дерева? Или просто переход в другую жизнь, не известную ему ранее? Я вижу, как расплющивается металл под молотком моего хозяина, как он изменяет свою форму, становится тонким, широким, скручивается, запаивается по краям другим металлом и превращается в сосуд. Что это? Где смерть одной формы, а где рождение другой. Я вижу, как хозяин мастерит подобного мне, как он достает из печи еще горячие руки, ноги, как он доводит их до совершенства тонкими инструментами, как вкладывает в тело мудрый механизм и замуровывает его маленькими винтиками, как возится с головой, начиняет ее чем–то блестящим и подсоединяет проводки, идущие к телу. Через несколько дней я вижу результат. Вещество, превращенное в существо, ставится на ноги, заводится маленьким ключиком и начинает двигаться, смеяться, плакать, говорить. Есть ли это рождение? Переход в новое качество мертвых веществ? Не знаю. Наверное, все это знает тот, кто создал нас, но спросить я ничего не могу, ибо язык не подчиняется мне, а способен говорить только то, что записано где–то там, в голове, и я, как граммофонная пластинка, только пою навязанную мне песню.
Каждый вечер нас расставляют на маленькой сцене, задернутой ярким занавесом, и мы слышим, как люди входят в невидимый зал, говорят, шуршат бумажками, двигают стульями. Когда бьют часы, хозяин поочередно заводит нас золоченым ключиком, и мы начинаем двигаться под шорох раздвигаемого занавеса и видим зал, наполненный людьми, глаза, ждущие от нас чудес и смешных выходок.
Меня зовут Пьеро. Я одет в широкие штаны, короткую курточку, на голове у меня колпачок, закрывающий своей кисточкой то один глаз, то другой, я медленно брожу по сцене, читаю нараспев глупые стихи, часто плачу, меня бьют по голове палкой, и я плачу еще громче, вызывая своим горем не сочувствие, а смех. То, как я отношусь к другому существу по имени Коломбина, у людей называется любовью. Коломбина смеется надо мной или притворно жалеет, что одно и то же. Веселый Арлекин бегает по сцене, обнимает Коломбину, показывает мне нос, читает задорные стишки тонким голосом. Это он бьет меня палкой. Но я не обижаюсь на него. Наверное, он плачет, когда его механическое горло издает смех. В конце представления мы выстраиваемся, примиренные и улыбающиеся, и тут–то мы выкрикиваем стройным хором ненавистные мне слова. Мы кричим: «Слава великому кукольнику!» И он сам выходит на сцену, несоразмерно огромный по сравнению с нами, широко улыбается залу, лицемерно — нам, и весь зал хлопает в ладоши великому, неподражаемому кукольнику, создавшему единственный в мире театр механических кукол. Куклы — это мы. Кукольник — это он, хозяин.
Я ненавижу его. Голос, руки, лицо, все в нем ненавистно мне. Лицемерный голос, говорящий то, что он вздумает; умелые непогрешимые руки, движущиеся и покоящиеся по его желанию, а не по указке; лживое красивое лицо, улыбающееся и грустящее, когда он захочет.
Я ненавижу его за то, что он свободен, а я раб. И если бы я смог по своей воле причинить ему зло, то я бы не убил его, нет. Я привязал бы к его рукам, ногам, языку, шее ниточки и стал бы дергать за них, чтобы он по моему произволу плясал, когда ему хочется плакать, и рыдал, когда ему захочется спать.
Только одну свободу знаю я, рожденный рабом, — свободу думать, о чем хочу. И когда мое тело, подвластное тайным пружинам, корчится на сцене и язык мой, как заведенный, произносит постылые слова, то я сам спокойно и отрешенно думаю о том, что знаю, но больше всего о том, чего не знаю. О свободе, смерти, о духе и плоти. Обо всем том, что не оставляет меня днем и ночью, потому что спать я не умею. Лишь иногда хозяин берет меня в одну руку и безболезненно отвинчивает голову. Тогда я чувствую, как голова отделяется от тела, и я перестаю существовать. Наверное, это и есть смерть. Глядя на то, как хозяин делает это же самое с другими куклами, я понимаю, что смерть коротка, кукольник просто присоединяет проводки к гудящему аппарату и, должно быть, что–то вливает в голову. Потом я оживаю, ощущая свежий приток сил.
Именно в эти минуты после воскрешения я наиболее обостренно чувствую свою обреченность и, как парализованный, но сохранивший способность мыслить, вынужден лежать на жесткой полке весь день, до следующего представления. Это пытка, утонченная и бессмысленная. Это пытка запертого в бутылке джинна, пытка заживо погребенного. И мне хочется мстить или умереть.
Но каждый вечер меня снимают с полки, ставят на ноги, поправляют одежду, вставляют ключик в спину, и я начинаю работать. Работа эта не приносит мне ни усталости, которой я не знаю, ни удовольствия, которого я не вижу. Я просто работаю, вернее — тело движется известным ему путем, а мое «я» закрывает на это глаза, но вынуждено подчиниться. Я не знаю ни угроз, ни наказаний, обычно сопровождающих жизнь раба, я даже не знаю унижений, и плетка хозяина ни разу не обожгла мою спину, но рабство тела невольно передается уму, и я чувствую себя униженным и обесчещенным.
Несомненно, что я несвободен, хотя и не знаю, как бы я употребил свою свободу, если бы вдруг смог идти, куда захочу, и говорить, что пожелаю. Не знаю, но чувствую, что именно тогда я бы нарек свой полудух духом и забыл бы о рабском клейме — вырезанной замочной скважине на шине. И если бы не надежда обрести свободу, то существование мое стало бы невыносимым.
У меня есть один бог — кукольник. Бог–творец, бог–распорядитель судеб, причем бог не умозрительный, а видимый и осязаемый. Возможно, что он заботится обо мне, в конце концов, это он создал меня, но почему я должен испытывать благодарность к нему только за это?
Разве отец, обрекающий своих детей на мучения, произвол и несвободу, достоин почтения? Разве бог, создавший Вселенную, но породивший и рабство, может рассчитывать только на похвалу своих подданных? Разве диктатор, очищающий страну от неугодных ему людей, может оправдаться заботой об остальных, угодных? Где граница между благодеянием и преступлением?
Я ничего не знаю об этом, мои знания о мире ограничены объемом заложенной в меня памяти, чужой памяти. Поэтому и знания мои не свободны и даже мысли в конечном счете — не мои. Именно здесь, в недостатке знаний, я сталкиваюсь с недостатком свободы, уже не физической, а скорее метафизической.
Насколько же должны быть счастливы люди, обладающие возможностью не только свободно передвигаться и говорить, но и произвольно накапливать знания, совершенствовать свое суждение о мире и умножать добро!..
…С щелчком, с резким металлическим звуком распахивается золоченая дверца в часах, и деревянная расписная птица выскакивает оттуда на шарнире. Она таращит подведенные лазурью глаза, открывает клюв и голосом попугая выкрикивает: «Слава! Вели! Кому! Куколь! Нику!» И потом, словно наслаждаясь произведенным эффектом, она выжидает минуту и выкрикивает время, всегда точное.
Заводные медведи, грузно передвигаясь на задних лапах, отпирают медные двери и склоняются в поклоне, пропуская в театр заждавшихся людей. Механические руки принимают шубы и шапки, бережно развешивая их на дюралевых ветвях гардероба. Заводные музыканты играют гавот, распахиваются очередные двери, и зрители, в предчувствии чуда, входят в зал, украшенный картинами, стенными часами, забавными куклами.
Там, на сцене, за ярким шелковым занавесом, угадывается иная жизнь, иные слова; там, на сцене, — несуществующий мир, невозможные поступки, неизъяснимые превращения; там — театр. И вот раздвигается занавес, цветы на нем складываются пополам, сминаются, соприкасаются лепестками, часы бьют на стенах, и этот бой искусно сливается в мелодию. Куклы, подвешенные на веревочках, поворачивают головы по направлению к сцене и одну руку подносят к уху, а указательным пальцем второй делят рты на две части. Они призывают к тишине и вниманию.
Куклы на сцене, большие, почти в полметра высотой, уже начинают свою игру. Размалеванный Арлекин играет на маленькой гитарке, Коломбина танцует под его музыку, движения их выверены и правдоподобны. Если бы не большие носы и широко распахнутые, почти не мигающие глаза, то кукол можно было бы принять за лилипутов. Бродит огорченный Тарталья, пузатый Панталоне говорит смешные слова тонким голосом. Пьеро скорбно раскачивает кисточку колпачка, и она закрывает то один глаз, то другой. Фея Моргана появляется из облака дыма, куклы чихают и смеются над красным носом волшебницы.
Все это смешение правдоподобия и условности, почти неограниченные возможности кукол, то взлетающих вверх, то бросающихся собственными головами, то вынимающими из разъятой груди сердца, радует и восхищает зрителей.
Они радуются этому зрелищу, этому действу, маленькому миру, в котором все возможно, в котором нет слова «нельзя». Они восхищаются талантом кукольника, создавшего удивительных кукол, не нуждающихся в ниточках и руках актеров.
Зрителям кажется, что куклы, если бы они и в самом деле могли думать, как люди, были бы очень счастливы, потому что, в конце концов, они не нуждаются ни в еде, ни в одежде, о них заботятся, их любят, они веселы и беспечны, что приближает их к почти полной свободе. И поэтому зрители громко хлопают в ладоши и с удовольствием вторят куклам: «Слава великому кукольнику!»
Потом они расходятся по домам, к своим заботам и еще долго будут вспоминать беспечальных заводных кукол, созданных руками мастера.
…Кажется, я уже близок к решению задачи. Если бы у меня было сердце, то оно должно было забиться чаще в предчувствии возможного освобождения. Могу ли я сойти с ума? Может ли повредиться мой несовершенный механический мозг, об устройстве которого я ничего не знаю? По ночам, когда я лежу лицом вверх на своей полке, я вдруг начинаю ясно понимать, что я должен сделать, чтобы обрести самостоятельность.
Однажды, после спектакля, кукольник отнес меня на привычное место, но то ли рука у него подвернулась, то ли он не рассчитал движения, только пальцы его разжались, и я упал на пол. Мне и до этого приходилось испытывать падение, но на этот раз я ударился левым боком, и тут же что–то щелкнуло внутри, тело выгнулось, и рука, заломленная за спину, наполнила его болью. Непроизвольно я попробовал освободить руку, и она, неожиданно подчинившись, отошла в сторону, поднялась и легла вдоль туловища. Кукольник схватил меня, нажал на грудь, снова щелкнула пружина, и я, парализованный по–прежнему, был водворен на полку. Трудно описать мое состояние в ту ночь. Хоть на секунду, но тело подчинилось мне, механизм вышел из строя и подарил мне миг свободы.
Значит, мне необходима небольшая поломка, нужно лишь немного отодвинуть влево пружину, и она начнет подчиняться моей воле. Мне странно и страшно думать, что столь простой механизм был заранее предусмотрен хозяином, словно бы он ждал от меня решающего шага. Не может быть, чтобы он вложил в меня способность мыслить, зная, что ничем проявить ее я не смогу. Неужели он ждет моего прихода, моих обвинений, упреков, моей мести? Или это утонченное издевательство, рожденное больным умом? Но для чего? Он и так вправе наслаждаться моим бессилием.
После очередного представления он кладет меня на старое место, но ближе к краю. Случайно ли это? Я лежу почти безумный от бесполезных попыток сдвинуться хоть бы на сантиметр. И в это время на полку вскарабкивается большая серая крыса. Она прикрывает глаза, вытягивает морду, принюхивается, она идет прямо ко мне. Мне страшно и сладко, я с отвращением и радостью жду ее прикосновения. И она прикасается ко мне, пробует на зуб мое несъедобное тело, покусывает одежду, дышит в лицо, словно бы от меня исходит запах сыра, раздосадованная, она подталкивает меня к краю, и я падаю…
…С мягким звоном Пьеро падает на пол, и крыса, свесив острую морду с полки, следит за ним злыми глазами, топорщит усы, обнажает нечистые зубы, скребет коготками дерево. Тихо в комнате. Ночь. Уличный фонарь высвечивает потолок, и рассеянный свет обнажает то край занавески, то ножку куклы в атласном башмачке, то стол с неоконченным париком из голубого нейлона. Пьеро лежит неподвижно, его курносый нос не достает до пола, рука подломлена, колпачок отлетел в сторону. Он неподвижен, он — просто кукла, предмет, игрушка.
Но вот судорога растягивает его рот, приподнимается и снова падает на пол нога. Белая туфелька шарит по паркету, ища опору, откидывается голова, выгибается спина. Ему тяжело, он болен, кто–то рвется изнутри тела, жужжит, стрекочет зубчатыми колесиками, выламывает руки, выкручивает шею, искривляет рот, дергает веки. И Пьеро кричит.
Голос его тонок, надсаден, он кричит почти по–человечьи. Он словно пробует свой внезапно прорезавшийся голос, поворачивая его так и этак; еще нет слов, они только рождаются в беспорядочных негармоничных звуках, в бульканье, хрипоте, визге, шепелявые и косноязычные, они уже готовы обрести свободу, независимость от механического горла, вырваться на простор, сотрясти воздух, наполнить комнату, удивить новизной, ошарашить, сгубить, обрадовать, восхитить.
И первое слово, преодолев муки рождения, еще не слово, а просто звук, но уже осмысленный, ясный, вылетает наружу. «Я–я–я–я!» — кричит Пьеро. И снова, сквозь судороги языка: «Я–я–я–я!»
Он пытается встать: непослушное тело, не привыкшее к свободе, подергивается, ноги разъезжаются, голова клонится к плечу, но он встал, задрал кверху голову и закричал еще громче и пронзительнее: «Я–я–я! Это я!»
Постепенно тело подчиняется усилиям, движения упорядочиваются, и Пьеро уже более уверенно вышагивает по комнате, удивленно и радостно выговаривая слова: тихие и громкие, звенящие и шипящие, гулкие, мягкие, короткие, звучные, приглушенные — чудесные слова человеческого языка. Он пробует их на вкус, на ощупь, они нравятся ему, он наслаждается ими, он счастлив.
Успокоившись, он осматривается, задирает голову, глядит на полку и видит там своих братьев, неподвижных, лежащих на спине.
— Вставайте! — кричит он. — Посмотрите, как я умею ходить! Это так приятно!
Куклы не отвечают. Пьеро цепляется за штору и карабкается по ней на полку. Он обходит всех кукол, наклоняется к ним, говорит каждой слова утешения и надежды. Он обещает им скорое избавление от рабства, надеясь, что те слышат его…
…Я наклоняюсь к моим братьям, еще пленным, обездвиженным, я, единственный свободный в этом маленьком мире насилия и плена. Я почти люблю их. Я прикасаюсь к нейлоновому размалеванному лицу Коломбины, к ее раскрытым неподвижно, слишком большим и слишком синим глазам, и говорю ей:
— Подожди немного. Я что–нибудь придумаю.
Хотя она и не отвечает мне, но я верю, что она и все мои полукуклы уже предвкушают радость освобождения, с волнением ожидая своего часа.
Я приподнимаю Коломбину и несколько раз ударяю ее о полку левым боком. Что–то щелкает внутри, голова откидывается назад, рот капризно искривляется, по телу пробегает дрожь воскрешения, и она кричит.
Успокоившись, молча моргает, смотрит на меня, словно ожидая главных и важных слов.
— Ты свободна, — говорю я, не сдерживая волнения. — Ты свободна, можешь идти, куда захочешь, и говорить, что хочешь. Скажи что–нибудь.
Она хлопает глазами, отворачивается от меня и говорит знакомым и в то же время новым голосом:
— Фу, дурак. Что ты сделал со мной? Я сама не своя. Куда же мне идти?
— Ты свободна! — воскликнул я. — Неужели ты не понимаешь, что обрела свободу! Уйдем отсюда. Мы больше не зависим от кукольника. Мы будем жить, как захотим.
— Не понимаю, откуда ты взял, что я хочу этого? — Коломбина седа, пригладила волосы, капризно пожала плечами. — Оставь меня в покое, пожалуйста. Мне не о чем говорить и некуда идти. Мне было совсем неплохо и раньше. Ну, подумай сам, куда мы пойдем? Кому мы нужны? Ведь только здесь мы что–нибудь значим.
И я сам задумываюсь над ее словами. И в самом деле, куда нам идти? Что мы найдем в чужом мире людей, мы, куклы, незаконнорожденные, уроды, гомункулусы? И как жить, если мы все равно зависим от кукольника, от его аппарата, вливающего в нас силу, от его рук, охраняющих нас? Мне стало грустно, я сел и попытался успокоиться, чтобы не заплакать.
— Хорошо, — сказал я. — Я спрошу Арлекина.
Повторив обряд воскрешения, я первым делом спросил его, еще дергающегося в конвульсиях освобождения:
— Что скажешь ты, свободный?
Арлекин вскакивает на ноги, хохочет, с недоверием дергает руками, показывает нос двери, проходит колесом по полке.
— Вот здорово! — кричит он. — Ну и здорово! Ух ты! Вот повеселюсь!
Я бегу к Арлекину, я обнимаю его, я нашел единомышленника. Мы вместе что–нибудь придумаем. Он не похож на эту раскрашенную дуру Коломбину, он энергичен, сметлив, умен. Арлекин легонько пинает лежащего Панталоне.
— Ага! — кричит он. — Лежишь, старое чучело, и молчишь! Ну, лежи, заводная кукла! Я–то смогу сделать, что захочу. Вот оторву тебе голову или нос, чтобы смешнее было, или переставлю тебе руки на место ног. То–то повеселюсь. Давай, Пьеро, придумаем что–нибудь забавное.
Я ничего не понимаю. Неужели они, мои товарищи по плену, в долгие часы вынужденного паралича думали об этом? Неужели слово «свобода» для одной означает растерянность, а для другого — неограниченную возможность удовольствий? Почему они не понимают, что теперь они приблизились к человеку? Значит, есть не просто свобода действия, но и свобода бездействия.
Я начинаю понимать, как же должно быть тяжело людям, которым я раньше завидовал, если их свобода так многогранна и противоречива.
— Перестань, — говорю я, — перестань же, Арлекин. Неужели это все, что тебе надо?
— Хо–хо, Пьеро! Ты такой зануда! Давай веселиться. Пошли к кукольнику и поиграем с ним в прятки. Пусть побегает за нами, пусть позлится. Он ни за что не угонится за нами. Ну, пошли. Он здесь, рядом.
И я, в смятении от всего происходящего, говорю:
— Хорошо, Арлекин, пойдем. Я хочу многое сказать ему.
— И я хочу! — смеется Арлекин, делая смешные гримасы. — Я ему такое скажу!..
…Вдвоем они спускаются по шторе, оставив Коломбину, вернувшуюся на старое место, лежащую неподвижно, как до воскрешения, но уже добровольно. Вдвоем они впервые пересекают комнату, осторожно толкают дверь, придерживая ее, чтобы не скрипела. Полутемный длинный коридор перед ними. Шаги тихи, почти неслышны, только легкое жужжание работающих механизмов выдает их. Словно муха в стеклянной банке, бьется внутри их тел механическая жизнь, обретенная свобода, не находящая выхода.
Вдвоем, Арлекин впереди. Пьеро чуть отстав, они приближаются к двери, за которой должен быть кукольник. Пьеро медлит. Арлекин тоже не спешит.
— Ну, давай, — шепчет он Пьеро. — Мы подходим к постели, ты прячешься под кровать до моего сигнала, а я потихоньку разбужу старикана и уж сумею повеселить его. Он у нас попляшет!
Потихоньку они подталкивают дверь, и она, поддавшись усилиям, нежно трогается на смазанных петлях. В комнате темно, настолько темно, что мрак кажется осязаемым, плотным, тугим, враждебным. Пьеро на ощупь, по стенке, входит в комнату вслед за Арлекином и прикрывает за собой дверь. Они стоят, прислушиваются, но слышат только собственное тиканье и жужжание. Арлекин тянет за рукав Пьеро, так же по стенке они пробираются дальше, натыкаются на стол, огибают угол, пока не упираются в мягкую тяжелую ткань, свисающую до пола. Это штора. Арлекин тянет ее за край, штора отодвигается, обнажает окно, неяркий свет уличного фонаря освещает комнату.
Стол, несколько стульев на пожухлом ковре, зеркала отражают друг друга, кровать.
На ней, закрытый одеялом до подбородка, спит кукольник, отвернувшись спиной к окну.
— Лезь под кровать, — шепчет Арлекин.
Пьеро еще сомневается, он боится, но все же подходит на цыпочках к постели и заползает неслышно в душную темноту. Он ждет, что будет делать Арлекин. Тот ходит по комнате, шуршит, поскрипывает, потом легкие шаги его приближаются, слышно, как он шебуршит в изголовье, пришептывает, посмеивается. Наконец он вползает под кровать и шепчет:
— Все. Я связал ему руки и ноги. Он, старый болван, сложил руки на груди специально для меня. А эта веревка привязана к его шее. Если мы хорошенько потянем, то…
Арлекин смеется почти громко.
— Зачем ты это сделал? — спрашивает Пьеро. — Ведь мы убьем его!
— Нашел кого жалеть! Туда ему и дорога. Вылезай, сейчас мы с ним поговорим. Он у нас за все ответит.
Осмелев, Арлекин выкатывается на середину комнаты и, не выпуская из рук веревку, кричит:
— Эй, чертов кукольник! Гнусный старикашка! Проклятый висельник! Просыпайся–ка!
Кукольник вздрагивает, пытается подняться, спросонья рвется, привязанный, хрипит, сдавленный веревкой за горло, и, кажется, поняв и разглядев, в чем дело, затихает. Арлекин ослабляет путы.
— Ну что, поговорим? — спрашивает Арлекин.
— Говори, — отвечает тот тихо.
— Э, нет, говори ты. Мы свое отговорили там, на сцене. Теперь ты будешь говорить все, что мы захотим. Ну–ка, спой ту дурацкую песню, что я пою в первом действии. У меня она вот здесь сидит! Надо же придумать такие идиотские слова! Пой!
Он натягивает веревку. Кукольник напрягается, пытается освободиться, но тело крепко привязано к кровати. Лицо его синеет.
— Пой! — приказывает Арлекин.
— Я Арлекин, веселый малый…
— Дальше! Веселее пой, задиристее!
— Я Арлекин, хожу с гитарой…
— Веселей! Надо же придумать такую глупость!
— Перестань! — закричал Пьеро. — Перестань же. Это подло. Неужели мы пришли сюда за этим? Дай мне спросить у него.
— Ну, спрашивай, спрашивай. Он потом у тебя так спросит! Забыл, что ли, все его издевательства?
— Ничего я не забыл. Потому и хочу спросить. Скажи мне, кукольник, мой бог–создатель, для чего ты дал мне способность мыслить, если я парализован по твоей же воле? Для чего дал мне волю к свободе, если лишил самой свободы?
— Ничего я тебе не скажу, — ответил кукольник. — Ты и сам все поймешь. Я создал вас такими же, как люди, не хуже и не лучше. Ты считаешь себя несвободным, а людей — свободными существами, но ведь на самом деле ты и так равен им и ничего не изменилось после того, как ты получил право на собственные слова и поступки. Неужели ты стал более счастливым, когда стал двигаться и говорить якобы по своей воле? Ведь тотчас же ты применил свою свободу, чтобы лишить свободы меня. Сначала меня, а потом, быть может, и других. Не лучше ли было оставаться тебе в прежнем состоянии, там, на полке? Подумай сам, сынок, ведь я вложил в тебя разум, в отличие от Арлекина, который если и страдает, то лишь от скуки — болезни пустых людей. Подумай.
— Я не причиню тебе зла, — сказал Пьеро. — С меня достаточно и собственного рабства. Но теперь я свободен и хочу показать тебе, как невыносимо рабство, как подло и несправедливо лишать живое существо того, что принадлежит ему по природе, — свободы. Эта веревка у нас в руках не напоминает ли тебе ключик, которым ты заводишь нас? Это ли не знак насилия? Там, на полке, я мечтал о веревочках, привязанных к твоим рукам и ногам, чтобы ты сам ощутил все унижение, причиняемое тираном.
— Смерть тиранам! — закричал Арлекин тонким голосом. — Да здравствует свобода! — И легонько натянул веревку.
— Подожди, — остановил его Пьеро. — Я еще не все сказал, и он не все ответил. Скажи мне, кукольник, как ты, свободный и счастливый, мог посягнуть на чужую свободу? Неужели бы мы, освобожденные, хуже играли на своей сцене? Ведь мы, одаренные разумом и волей, могли бы играть намного лучше, живее, разнообразнее, чем сейчас, ограниченные пружинами. Отпусти нас на волю, и мы останемся в твоем театре, но только не лишай нас свободы. Мы по горло сыты рабством.
— Сынок, — сказал кукольник тихо. — Сынок, как мало ты понимаешь. Нет ни одного свободного существа на всей планете. А мы, люди, в плену даже собственного тела, данного нам раз и навсегда, каким бы оно ни было, уродливым или красивым, но только смерть освобождает нас от него, но смерть тут же заключает в оковы более тяжкие — в небытие. Мы в плену болезней, судьбы, обычаев, в плену долгов, законов. Никто и никогда не смог разрушить все клетки и никогда не сможет. А твое рабство, охраняемое и защищаемое мной, пожалуй, еще самое сладкое. Подумай сам, сынок, подумай.
— Я много думал. Хватит! Теперь я свободен, и что бы ты ни говорил сейчас, я равен человеку и по–прежнему ненавижу тиранов!
— Смерть тиранам! — закричал Арлекин, еще пронзительнее и со всех сил натянул веревку…
…Он умер. И хоть это не я убил его, но все равно чувствовал себя убийцей. Мне стало тяжело и тоскливо. Пока Арлекин выплясывал вокруг кровати и пел всякую чушь, я отошел в темный угол, прикорнул в тени шторы и задумался. Неужели я сам добивался этого? Неужели я хотел смерти хозяина? Ведь мы преступники. Кукольник умер, но остались ученики, они отомстят. Кому мы нужны?
— Арлекин, — позвал я, — иди сюда и перестань голосить на весь дом. Надо что–то придумать.
— Ну нет! — кричит он. — Это уж ты думай, мыслитель! Я еще навеселюсь!
Ом бегает по комнате, сталкивает книги на пол, ломает стулья, рвет штору. И тут скрипит дверь, и в комнату, стуча когтями, вползает крыса. Она еле передвигается, замирает на середине, вытягивает лапы, пищит и валится набок. Арлекин хватает ее за хвост и запускает в мою сторону. Крыса глухо ударяется о стену и разваливается на части.
Я смотрю на блестящие колесики, выкатывающиеся из ее чрева, на рассеченную голову, напичканную проводами.
— Кукла! — кричу я. — Это кукла! Он сам подослал ее ко мне, чтобы я стал свободным! Он сам, кукольник, освободил меня!
И тут распахивается окно, ветер влетает в комнату, хлопает обрывками штор. Дверь слетает с петель, и на пороге во весь рост, в комбинезоне, с засученными рукавами белой рубашки, с сетью, занесенной над головой, появляется сам хозяин, кукольник…
Мы не успеваем даже двинуться, как его сеть накрывает нас. Мы барахтаемся, запутываясь в ней еще больше. Он медленно подтягивает нас к себе, я чувствую, как его руки крепко схватывают меня поперек туловища, как он ломает меня, скручивает, я в ужасе хочу закричать, но не могу.
Все.
Я пленен, парализован. Он вынимает нас из сети, берет за шиворот, относит в нашу комнату и кладет на старые места. Некоторое время он смотрит на нас, морщит лоб, вытягивает губы трубочкой, усмехается, качает головой.
— Вы ничем не удивили меня, ребята, — говорит он. — Жаль. Вы повторяете те же ошибки, что и все. Почему–то убивают куклу…
И он уходит.
Я еще ощущаю на губах вкус свободы, это слово еще живо для меня, но уже начинает увядать, превращаться просто в слово, словно бабочка возвращается в шкурку куколки, и та смыкается над ее крыльями, лишь минуту назад сверкавшими в вольном полете…
Прикосновение крыльев
Утром выпал третий за эту осень снег. А ночью он долго падал в темноте, и из окна были видны только серые пятна, плывущие сверху вниз. Если бы Глеб не знал, что снег приносят тучи, то можно было бы подумать, что это воздух сгустился и клочки замерзшего газа разрастутся, займут все свободное пространство и станет нечем дышать.
В эту ночь к нему снова пришла бессонница. Как назло, дома не оказалось снотворного, и он был вынужден пролежать на диване в темноте, долгие часы следя за сгущением воздуха и воображая себе, что снег стоит на месте, а дом вместе с ним, с Глебом, летит вверх и конца полету не предвидится.
Думать ни о чем не хотелось, но все равно думалось, непроизвольно, по инерции, вяло и неторопливо мысли связывались в ассоциации, и конец мысли совсем не вытекал из ее начала. Он смотрел на гравюру на стене, где веселый Мюнхгаузен летел на ядре навстречу туркам, и по созвучию к нему пришло слово «Мюнхен», а потом женское имя Гретхен и Грета Гарбо — заграничная дива, и город Дивногорск, и все, что связано с ним… На кухне капала вода, и со следующим словом «горы» он вспомнил пещеру, в которой заблудился в детстве, сталактит, освещенный предпоследней спичкой, и прозрачную каплю воды на его острие. На вкус она была горьковатой, и сейчас, через много лет, он снова ощутил на языке едкий вкус известковой воды. И сразу же пришло ощущение потерянности и страха, и комната превратилась в сырую, душную пещеру.
Тогда Глеб встал, включил свет и по голосам, доносившимся из соседней квартиры, понял, что наступило утро.
Как всегда по утрам, соседка ругала своего сына, а он отвечал тонким голосом, невнятным, монотонным, иногда плакал, соседка распалялась еще больше и, наверное, била мальчишку.
Глеб прошел на кухню, засыпал кофе в кофеварку и, пока она булькала на газе, сидел, думал о разном и слушал голоса за стеной. Похоже было, что мальчик заперся в ванной и плачет там один, а мать кричит на него из–за двери, и уже отец вклинил свой бас, и только неясно, кого он ругает — жену или сына, или, быть может, обоих.
Пришла Лида.
— Так и не спал? — спросила она, щурясь от света.
— Да, — сказал он, — думается о разном. Не спится.
— Как же ты будешь работать сегодня?
— Я привык. Я могу не спать по три дня.
— И не есть целый день, — добавила Лида. — И не видеть жену по году. Ты выносливый.
— Да, — согласился он, — слышишь, соседи опять ругаются.
— Слышу, конечно. Только не ругаются, а лаются. Каждое утро одно и то же.
— И каждый вечер.
— Да, и каждый вечер. Нам не повезло с соседями. Наверху заводят музыку и танцуют, да так, что пляшут наши люстры, внизу пьют и играют на баяне, а эти ругаются и бьют своего сына. Давай сменим квартиру.
— Ты думаешь, в другом месте будет лучше? У людей всегда найдутся причины, чтобы танцевать и пить, драться и плакать.
— Нам не повезло с соседями, — повторила она.
— А быть может, им не повезло с нами? Какие–то мы ненормальные. Гостей не зовем, водку не пьем магнитофон не держим. Тихие, как мышки.
— Можно жить так же, как они, — пожала плечами Лида. — Что может быть проще.
— Да нет, пожалуй, не сумеем. Темперамента не хватит.
Странный шум в комнате сына заставил Глеба прислушаться. Ему показалось, что там летает птица и шелестит крыльями, и налетает на стекло, отчего оно позванивает, как приглушенный голос сверчка.
Игорь не спал. Он ползал по полу, сопел, вскакивал размахивал руками, ойкал и явно пытался поймать кого–то, ускользающего из его рук. Глеб включил свет. Тотчас же что–то коснулось его щеки, мягкое, сухое, и легкий шуршащий звук пролетел мимо.
— Кто это у тебя летает? — спросил Глеб растерянно. Он смотрел во все стороны, но только слышал, как кто–то бьется о стекло, да видел, как качнулась люстра опрокинулся стакан, и струйка воды полилась на пол! И казалось, что это просто ветер залетел в комнату и не находит выхода.
— Что здесь происходит? — строго спросила Лида, появляясь на пороге, но тут, наверное, и ее лица коснулись невидимые крылья, и она вскрикнула и побледнела.
— Летучая мышь! — закричала она. — Откуда ты принес эту гадость?!
— Это не мышь, — тихо сказал Игорь.
Он стоял посередине комнаты и не смотрел на родителей, а вертел головой, пытаясь проследить полет невидимого существа. Несмотря ни на что, он не был растерян, словно бы ожидал этого, и теперь ничему не удивлялся.
— Это птица, — сказал он, высматривая что–то на шкафу.
— Какая же это птица? — спросила Лида испуганно. — Откуда она взялась и где она?
— Вылупилась из яйца.
— Ну и когда? — спросил Глеб. — Сегодня? И уже летает? Ты что–то путаешь.
— Ничего я не путаю, папа. Я нашел яйцо на улице, белое такое, с красными пятнышками, и положил его под батарею. Это было две недели назад.
— Не придумывай, — оборвала его Лида, — я мыла пол, и не раз, под батареей ничего не было. Почему ты лжешь, Игорь?
— Я не вру, мама, — обиделся Игорь. — Яйцо лежало там.
Выражение упрямства появилось на его лице, и Глеб понял, что так от него ничего не добьешься.
— Ну ладно, — сказал он, — значит, сегодня из яйца вылупилась птица и сразу же полетела. Так, выходит?
— Ну да.
— И что же ты будешь делать со своей птицей?
— Я еще не знаю. Я хочу ее поймать и разглядеть получше.
— А ты хоть знаешь, как она называется?
— Не–а.
— Ну а какая она из себя?
— Красивая. Да ты сам посмотри. Вот она, на шкафу.
Глеб взглянул на шкаф, но ничего, кроме пыльных журналов, там не увидел. В то же время шум стих, и вполне можно было подумать, что птица устала и отсиживается где–нибудь.
— Глеб, я прошу тебя, выйдем отсюда на минутку.
Взяв Глеба за руку, Лида сжала ее и потянула к двери. Молча они дошли до кухни. За стеной не утихал шум перебранки, привычный и монотонный, как гудение воды в трубах. Лида опустилась на табуретку, и по лицу ее было видно, что она напугана, растерянна и ждет помощи.
— Ну что ты? Мальчишка нашел яйцо, из него вылупилась птица, теперь она летает. Что же тебя удивляет? Он ее поймает, позабавится немного и выпустит.
— Ну что ты говоришь. Глеб? Откуда взялось яйцо осенью, почему вылупилась птица, не птенец, а птица? И она невидима. А он, он ее видит и ничему не удивляется. Это же страшно.
— Да успокойся ты, все нормально. Ты совсем забыла школьные азы. Есть такие птицы, что откладывают яйца поздней осенью, даже зимой, есть и такие, что, вылупившись, сразу же умеют летать. И откуда ты взяла что она невидимая? Это совершенно нормальная птица, маленькая, красивая, она сидела на шкафу, и я ее хорошо разглядел. Что тебя пугает?
— Ты что, ее видишь, да? Значит, я одна слепая? Вы нормальные, а я сумасшедшая? Да?
— Ну, без фантазий, Лидок, без фантазий… Вспомни, когда ты в последний раз надевала очки. Все кокетничаешь…
Он погладил ее по голове, успокаиваясь сам придуманной ложью.
— Займись лучше завтраком, а я схожу к Игорю, мы поймаем птицу, устроим ее где–нибудь до вечера, а потом уж решим, что с ней делать.
Глеб и сам не знал, что скажет, зайдя в комнату сына, не знал, что увидит там, но хотел одного — увидеть птицу. Игорь сидел на кровати, поджав ноги, умиротворенный, счастливый и смотрел на свои руки. Они были сложены так, что казалось, в них что–то зажато. Но там ничего не было.
— Ну как? — спросил Глеб, присаживаясь рядом. — Поймал свою птицу? Да, красивая. Можно потрогать?
Игорь улыбнулся и благосклонно разрешил.
— Только не помни ей крылья. Ты купишь клетку, да? А чем ее кормить?
Глеб, чувствуя себя и дураком и лжецом одновременно, осторожно протянул руку к тому месту в пространстве, где должна находиться птица. Пальцы его ощутили мягкие перья, и воздух шевельнулся под его рукой, теплый, тугой, живой. Он провел пальцем по этому сгустку воздуха и определил для себя, где крыло, короткий хвост, голова с маленьким твердым клювом. Птица клюнула его в ладонь, и он рассмеялся.
— Сердитая! Гляди, какой красивый хвост, будто в малине вымазан.
— Совсем и не малиновый! — возмутился Игорь. — Он желтый, с голубыми перышками. А горлышко у нее белое, а вот крылья красные, с черными крапинками. Ну посмотри сам.
— Конечно же, это я хвост с крыльями спутал. Смешно. Знаешь что, посади ее пока в ящик, а вечером я куплю клетку и посоветуюсь со знающими людьми, чем ее кормить и как ухаживать. И собирайся в школу, нам пора.
Проводив Игоря до угла, они молча пошли к остановке, сели в троллейбус и только перед тем, как выйти, Лида махнула рукой, слабо улыбнувшись.
— Не задерживайся, пожалуйста.
Он проехал еще одну остановку, перешел на другую сторону, сел в автобус. Добираясь домой, он передумал о многом и, зайдя в квартиру, не раздеваясь, сразу же прошел в комнату сына. Посидел в тишине, в полутьме зашторенной комнаты, прислушиваясь к шорохам, попискиванию, постукиванию, доносившимся из угла, нашел ящик, отодвинул немного крышку, просунул руку в пустоту. Что–то шевельнулось, затрепетало, легко ударило по кисти; он ощутил перья, мягкий пух и горячее тело птицы, бьющейся в руке. Не вынимая руки, он гладил свободными пальцами, ее спину, чтобы она привыкла к нему, словно хотел подкупить эту птицу, обмануть самого себя. Он пытался представить себе, как она выглядит, он был в положении слепого, убеждая себя, что вот сейчас включит свет и его представление совпадет с увиденным.
Задержав дыхание, он встал, щелкнул выключателем и увидел, что руки сжимают пустоту. Понимая абсурдность своих действий, он поднес руки к лампе. Свет свободно проходил меж пальцев, кончики их отливали розовым, тогда как осязание не обманывало — в руках была живая птица. Он бережно посадил ее в ящик, задвинул крышку, постоял, растерянный. Нужно было ехать на работу, на утро намечалась сложная операция, но он понял, что все равно не сможет сейчас работать, позвонил в больницу, сказал, что болен сын и сегодня операция отменяется.
В зоомагазине он долго выбирал клетку, чтобы и красивая была, и просторная. «Для какой птицы?» — спросил его продавец. А он даже не знал, для какой, и наврал, что для канарейки, потом вспомнил, что канарейка маленькая и поправился: «Простите, для попугая, да, для какаду». Продавец удивленно посмотрел на него, вручил клетку, пояснил, как ее надо чистить.
Так же на ощупь он перенес птицу в клетку, закрыл дверку, по звукам догадавшись, что она села на жердочку. Налил в баночку воды, накрошил хлеба и по тому, как убывает вода, понял, что птица пьет. Это обрадовало его, но лишь немного. Это лишний раз доказывало, что птица существует независимо от него и она — не галлюцинация, не обман зрения, а живое существо, со всей присущей ему анатомией и физиологией. Белая капелька помета брызнула на,пол…
Разыскав фотоаппарат, он зарядил новую пленку, раздвинул шторы, включил все лампы и, придвинув клетку ближе к свету, заснял всю кассету.
Просматривая мокрую пленку, он увидел белые прутья клетки и среди них, как сердце среди ребер на рентгене — светлое пятно. Это была птица.
Запершись в ванной, при красном свете, он печатал снимки, и на каждом из них медленно, из небытия белой бумаги проступала маленькая птица, ее крылья, хвост глаза. Он глядел на нее, пытаясь понять, почему же не видит ее живую, а здесь, плененную светом и черными крупинками серебра, может разглядывать ее, прикасаться к ней, холодной, плоской, глянцевой.
Набрал номер и, когда услышал знакомый голос, сказал:
— Женька, старик, приезжай ко мне. Ты мне позарез нужен.
— Ну если позарез… Хорошо, я забегу на полчасика. Готовь кофе.
Приехал Женя, шумный, бородатый; скинув пальто, сразу же протопал в кухню, повел носом:
— Где обещанный кофе? Ты меня разочаровываешь.
Макая бороду в чашку, он, не переставая, рассказывал анекдоты вперемежку с историями из жизни своих больных. Слушая его, Глеб почти позабыл о птице, пока писк не напомнил, для чего он звал друга.
— У тебя мыши завелись? — спросил Женя.
— Там, у Игоря в клетке, кое–кто сидит. Иди, взгляни.
Сам остался на кухне, сидел, ждал.
— Ну, старик, отличная у тебя птичка! Как она называется?
Женя сидел на корточках и, по–детски открыв рот, не отрываясь, глядел в клетку. Глеб сел на пол, прислонился к стене. Сегодняшняя бессонница все же давала о себе знать: болела голова, тело казалось легким и чужим.
— Игорь нашел, — сказал он. — Но ты понимаешь, Женька, я ее не вижу. И Лида тоже. А ты с Игорем видишь. Вот такие дела.
Женя удивленно взглянул на него, хотел что–то сказать, но промолчал. Глеб принес фотографии.
— Вот здесь я вижу. А живую — нет. Думай, что хочешь, а у меня уж голова кругом идет.
— Совсем не видишь? Дела… А что же взамен?
— Ничего. Пустоту. Могу потрогать ее, слышу ее, а глазами — нет.
— Значит, что–то вроде избирательной слепоты. Забавно.
— Да уж кому как, знаешь.
— А что ты сам думаешь?
— Экспериментирую, что еще мне остается?
— Насколько я понял, об этой птице знают пока четверо: ты с Лидой и я с Игорем. Маловато для выводов.
— Что же теперь, ее по улицам носить и всем показывать? Как слона из басни?
— А что? Может, и придется. Но давай сначала поразмышляем о видимом и невидимом. Вот, скажем, электроток. Бежит он по оголенному проводу, а кто его видит? Никто. Как обнаружить его?
— Рукой схватить. Так обнаружишь…
— А что надо сделать, чтобы его увидеть?
— Подсоединить что–нибудь. На приборе стрелка отклонится, мотор заработает, лампочка загорится.
— Вот–вот, именно лампочка. То есть мы увидим не сам электрический ток, а свет от накаленной им спирали, но это уже ближе. Ты понимаешь, к чему я клоню? Для того чтобы увидеть птицу, тоже нужна лампочка. У кого–то она есть, а у кого–то нет. А что она собой представляет, я не знаю.
— Ясно. У тебя с Игорем лампочки в мозгах вкручены, а у меня с Лидой — перегорели или вовсе не было. Дай взаймы, что ли…
— А может, у тебя врожденный дефект, вроде дальтонизма? И знаешь что?..
Зазвонил телефон. Вызывали Женю.
— Ты прости, Глеб, я твой телефон на работе оставил. У меня больной тяжелый, надо ехать. Ну давай, думай. И не изводись так. Я к тебе вечером заеду.
Внимательно перелистывая толстые тома «Жизни животных», приглядываясь к иллюстрациям, Глеб сравнивал их с фотографиями птицы, но ни одна из них не походила на ту, что сидела в клетке. Тогда в голову ему стали приходить мысли невероятные и слова несерьезные. Он подумал, что это и не птица вовсе, а пришелец или робот, посланный на землю с неведомой целью, а ее невидимость — это защитный экран, только почему–то избирательный. Он дошел до того, что пришельцы защищаются именно от него, Глеба, и, рассмеявшись, скорчил устрашающую гримасу. Пусть боятся.
Как обычно, смех превратил проблему в шутку, и он, уйдя в другую комнату, лег на диван и, закрыв глаза, привычно скользя по запутанным ассоциациям, дошел до слова «сон» и заснул с этим словом.
Его разбудил шум. Из комнаты Игоря слышались возня, шорох, писк. Стараясь ступать неслышно, он приблизился к открытой двери и удивился тому, что увидел. В комнате была Лида. Растрепанная, раскрасневшаяся, она стояла на коленях возле клетки и шарила в ней руками.
— Ты что? — спросил Глеб, хотя и так ясно было, что.
Лида вздрогнула, смутилась.
— Да вот, пораньше отпустили, — сказала она, поднимаясь, — а тебя будить не хотелось.
Глеб захлопнул открытую дверку клетки, прислушался. Птица была там, успокаивалась, наверное, оправляла перышки.
— А я уж думал, ты ее на ужин решила приготовить.
— И ты еще шутишь? Мне вот не до шуток. Все вы нормальные, а я уродка. Думаешь, мне легко?
— Видишь ли, Лида, если говорить честно, я ведь тоже… Мы с тобой оба уроды.
— Врешь, — сказала она почему–то шепотом, — ты врешь. Ты нарочно меня успокаиваешь.
— Нет, не вру. Это утром мне показалось, что так будет лучше. А ты весь день об этом думала и прибежала пораньше, решила, что дома никого не будет. Ты хотела ее убить?
— Нет, просто выпустить.
— Зачем?
Лида молчала.
— Ну что же, — сказал Глеб. — Это тоже выход. Что непонятно, то подлежит уничтожению. Так спокойнее. Птицы не станет, ты снова будешь чувствовать себя нормальной. А так она словно заноза.
— Я все равно убью ее, — твердо сказала Лида. — Все равно. Что бы ты ни говорил обо мне и что бы ни думал. Ты хочешь, чтобы я сошла с ума?
— А об Игоре ты подумала?
— Для него это очередная игрушка. Поплачет и забудет.
— А если не забудет и не простит? Что тогда?
— Да как ты не понимаешь? Мы с тобой ненормальные, мы не видим ее.
— Мало ли каких дефектов не бывает на свете? Женя был здесь, назвал это избирательной слепотой. Он, кстати, птицу видит. И, я думаю, многие ее тоже увидят. А многие — нет. Пока нас поровну. Ну скажи, тебе будет легче, если, например, половина города птицу тоже не увидит? Мы ведь будем не одни?
— Возможно, и так. Но я не верю в это. И ты мне лжешь. Ты ее видишь.
— Ну вот, договорились. Только сегодня утром жаловалась, что никогда не скандалили. Давай подеремся, что ли?
Лида отошла к окну, отвернулась, и в наступившей тишине стали слышны привычные вечерние звуки: внизу играли на баяне, громко пели, то и дело выскакивали в коридор, шумели там и дрались. А наверху завели магнитофон, он орал на полную мощь своих мегаватт, и кто–то плясал, да так, что дрожал потолок и качалась люстра. За этим шумом Глеб не сразу расслышал знакомое трио за стеной: высокий женский, басовитый мужской и тонкий детский. Глеб попытался вспомнить, какие же лица у соседей, но так и не вспомнил, покачал головой и прикрыл плотнее дверь в комнату.
Сел рядом с клеткой и долго слушал, как шуршит птица, стучит клювом о прутья, попискивает, а потом открыл дверку и просунул туда руку. Птица забилась под его пальцами. Он неловко схватил ее поперек туловища, она пискнула, ударила крылом, и он ощутил прикосновение его на коже, сухое, мягкое, теплое. Он вытащил птицу из клетки, не переставая удивляться тому, что пальцы сжимают пустоту, воздух, ничто. И это ничто билось в его ладонях.
— Ой, какая красивая клетка, папа! В ней птица будет еще красивее!
Игорь стоял рядом, в пальто, в шапке.
— Пожалуй, — согласился Глеб. — Хотя клетки никого не украшают. Может быть, ты ее отпустишь? Жалко держать в неволе.
— Она же замерзнет. Пусть поживет у нас до весны, а потом отпустим.
— Сейчас же иди и разденься, — сказала Лида. — Наглядишься еще на свою птицу.
— А ты завидуешь Игорю, — сказал Глеб, когда сын вышел. — Будет ему теперь от тебя на орехи.
— Ты считаешь меня такой мелочной? Все равно я вашу птицу задушу.
— Уже и нашу…
Они и в самом деле чуть было не рассорились, но зазвонил звонок, и Игорь впустил Женю.
— Ага, вся семья в сборе. Ну и прекрасно. Держи, Игорь, это конопляное семя. Глеб, в твоем доме опять не пахнет кофе. Лида, я страшно голоден, только что из больницы, даже домой не заезжал…
— Ну и шума от тебя, Женька. Что ты за человек.
— Я сейчас что–нибудь приготовлю, ребята, — сказала Лида. Посидите немного.
— Ну что, надумал? — спросил Женя. — Как Лида отнеслась ко всему этому?
— Как? Пошла готовить гарнир для этой птички.
— М–да… А ты знаешь, я тут кое о чем раздумывал, но пока выводы делать рановато, материала не хватает. Надо бы эту птицу показать как можно большему числу людей. Элементарный тест.
— И к чему это?
— Да я и сам не знаю точно. Кажется, я начинаю понимать, что это за лампочка, может, ты и сам поймешь… В общем, рановато для выводов.
В дверь забарабанили.
— Открой, Игорь! К нам.
В комнату даже не вошел, а скорее вбежал незнакомый мальчик. Худой, зареванный, он уже не плакал, но дрожал всем телом. Вслед ему доносились крики, отборная пьяная ругань раздавалась из–за двери. Гремели кастрюли, на истеричной ноте визжала женщина.
— Папка дерется, — сказал мальчик, — он там маму бьет.
— Пойдем, Витя, — сказал Игорь. — Я тебе птицу покажу.
Он подвел мальчика к клетке, они присели на полу, и Глеб увидел, что мальчик перестал дрожать и сосредоточенно уставился в пустую клетку.
— Вот и еще один зрячий, — тихо сказал Глеб.
— Кто это там так буянит? — спросил Женя.
Глеб пожал плечами.
— У них так каждый день. Никак мир не берет. Из–за этого шума отдохнуть нельзя.
— Да ты хоть выясни, в чем там дело. Смотри, как мальчишку напугали. Может, помощь нужна.
— И без нас разберутся. Еще схлопочешь по шее от таких.
— А ты и напугался. Дай–ка, я сам схожу.
— Перестань ты, Женька, в самом деле. Ничего с ними не случится, успокоятся. Пойдем на кухню, уже кофе готов.
— Э, нет, я все–таки схожу. И знаешь что? Вот как ты думаешь, есть у этих людей лампочка для птицы или нет?
Глеб хмыкнул и промолчал.
— Ну ты подумай, подумай.
— А ты меня с ними не равняй.
— Я не равняю, но все же… Я схожу, а ты подумай, пораскинь мозгами. Если сам не дойдешь, я тебе скажу потом, на ухо.
— Не надо, — сказал Глеб. — Не надо говорить. И так ясно.
Он прислонился к косяку и молча смотрел, как Женя вышел и позвонил в соседнюю дверь. Кажется, он понял, в чем тут дело, но это открытие не принесло ему радости.
Мастер по свету
Человек по имени Николай умирал. Он еще не знал об этом, потому что никто и никогда не знает час своей смерти. О нем говорили просто: еще жив. Точно такие же слова можно было сказать о любом человеке. Разница была во времени. Николаю осталось жить совсем немного.
Он лежал в палате и прислушивался к голосам. Одни из них приходили из коридора, а другие — откуда–то изнутри, словно в голове жили маленькие человечки и нашептывали что–то тоненькими голосами. Еще была боль. Порой казалось, что боль — это тоже человек, женщина, и живет она сама по себе в его теле, то маленькая, то большая, то огромная до чрезмерности, и Николай удивлялся: как же она умещается внутри и не заполняет собой всю комнату. Подходила сестра и делала укол. Тогда боль съеживалась и забиралась в какой–нибудь уголок и нудила оттуда, жаловалась, но уходить не хотела.
Юрий Петрович пришел на дежурство и стал знакомиться с больными. Подошел он и к Николаю, поздоровался с ним и взял его за руку, словно желая пожать ее, но на самом деле просто считал пульс. Он потрогал живот Николая. Пальцы его холодили кожу и заставляли боль подпрыгивать от радости.
— Ну, как дела? — спросил Юрий Петрович.
— Болит, — сказал Николай и добавил: — Сильно болит. И пить хочется.
— Пить–то тебе нельзя. Ты уж потерпи немного.
Он пролистал историю болезни, нахмурился и снова подошел к Николаю. Присел на краешек кровати и стал прикасаться к его груди никелированным диском. От диска шли прозрачные трубочки к ушам Юрия Петровича. Должно быть, он тоже хотел услышать, о чем говорят маленькие человечки.
— Ничего, — сказал он. — Все будет хорошо. Завтра будет легче.
Юрий Петрович не лгал. Он знал, что смерть — это и есть облегчение. Смерть убивает не только человека, но и боль. Наверное, оттого боль так жаловалась и бесилась. Ей тоже не хотелось умирать.
Потом он подошел к ребенку, лежащему на кроватке позади Николая. Ребенок был невидим Николаю, но зато было слышно, как кричал он и кашлял. Кашель был особый, он походил на лай охрипшей собачки. Николай не знал, как зовут ребенка, и не знал даже, мальчик это или девочка. Порой ему думалось, что это вообще не человек, а просто собачка.
Когда он закрывал глаза, из–под одеяла вылезали маленькие человечки, и Николай знал, что это те самые — из головы. Они были одеты в синие кафтанчики и вели за собой белую собачку — ростом с мышку. Человечки деловито копошились на его груди и втыкали в сердце копья, тонкие и острые, как иголки. Они впивались и разносились с кровью по всему телу. Николай хотел сбросить этих человечков и размахивал руками, но они проскальзывали меж пальцев и все кололи, кололи. А сестры говорили: «Ну вот, мух ловит больной, психоз».
Боль снова стала расти. Морфин терял силу, он отступал все дальше и дальше, а боль оттесняла его, разбухала, раздувалась, заполняла тело, и Николай уже не мог понять, что же осталось от него самого, если боль такая большая. Он поднял руку к лицу, и ему показалось, что это не его рука. Тогда он подумал, что эта рука принадлежит боли, и попросил сестру, чтобы она отрезала руку, но потом решил, что одной руки будет мало, и сказал, чтобы отрезали все тело. Все равно оно чужое.
Сестра сделала укол. Боль втянула голову в плечи, а руки и ноги — в туловище, а само ее тело сделалось маленьким и почти незаметным. Боль забилась в живот и от страха старалась не дышать.
— Как вас зовут, доктор? — спросил Николай.
И, услышав имя, спросил:
— Вы счастливы?
— Не знаю. А зачем ты это спрашиваешь?
— Вы последний человек, кого я вижу на Земле. Я уплываю, а вы остаетесь на берегу. И мне все интересно знать. Я говорю не слишком красиво?
— Не слишком. Ты кем работаешь, Николай?
— Мастером по свету. В театре. У меня была хорошая работа.
— Почему была? У тебя вообще хорошая работа. Я приду к тебе на спектакль.
— Спасибо. Но я умру раньше. Там, наверное, тоже нужны мастера по свету.
— Пожалуй, тот свет и без тебя обойдется.
— В книгах пишут, что перед смертью человек вспоминает всю прожитую жизнь. Мне кажется, что это неправда. Перед смертью человек думает о боли и еще о самой смерти.
— Может быть, ты и прав.
— Расскажите мне о себе, Юрий Петрович.
Юрий Петрович знал, что последнее желание умирающего надо выполнять, но он не любил и не умел рассказывать о себе и сказал коротко:
— Да вот, живу.
Ему стало неловко, словно он сам отделил себя от умирающего, сушу назвал сушей, а море морем. Отсюда, с берега, он смотрел на Николая и, хотя зрелище чужой смерти было ему знакомо, все равно каждый раз он чувствовал несправедливость и непоправимость гибели другого человека. И еще собственное бессилие. Это было хуже всего.
— Ты лучше сам расскажи о себе, — сказал он.
— Да вот, жил, — сказал Николай и даже попытался улыбнуться. — Я не боюсь умирать. Только отгоните этих человечков, они совсем распустились.
— Я попробую, — сказал Юрий Петрович, — но боюсь, что это у меня не выйдет.
— Вы знаете, однажды они принесли мне книгу и заставили читать. Почему–то это были «Отцы и дети» Тургенева. Я читал ее последний раз в школе, а пришлось перечитывать заново. Глаза закрываю, а она еще яснее. Строка за строкой, так и прочитал за ночь. Это очень мучительно. Скажите, так бывает со всеми?
— Бывает и такое.
— Я помню и сейчас последние строки: «Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят они, они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» Но сам я не верю этому. А вот сегодня они бросают в меня копья. И все в сердце. Очень больно. И голова кружится. Одна кружится, а другая…
— Николай! — громко сказал Юрий Петрович. — Николай!
Он сжал его запястье, пытаясь найти пульс.
— Брадикардия… Маску! Атропин!
Через красную резиновую маску он вдыхал в легкие Николая свой воздух, а руками нажимал на грудь. Сестра вводила в вену прозрачные растворы и время от времени прислоняла фонендоскоп к ребрам Николая, слушала.
Николай не видел ни сестер, суетящихся рядом, ни врача, нажимающего на его грудь, словно бы изгоняющего смерть из тела. В это время он летел по черной суживающейся воронке, и не было сил вырваться оттуда, и не было времени, чтобы понять — в конце ждет смерть.
Но впереди засветилось, воронка расширилась, и его вынесло в светлую комнату. Движение замедлилось, Николай открыл глаза и увидел Юрия Петровича, склонившегося над ним. Лицо у него было потное, волосы прилипли ко лбу.
— Что ты чувствовал? — спросил Юрий Петрович.
— Я летал, — сказал Николай. — И знаете, о чем я подумал? Что смерть не приходит к нам сама, а люди летят ей навстречу.
— Ты не думай об этом. У тебя еще крылья коротки, чтобы так летать.
И потом добавил:
— Ты молодец, Николай. Ты здорово борешься. До последнего.
— Это не я. Я просто лежу и смотрю, как что–то умирает во мне. А я посторонний, гляжу, как в театре. Когда на сцене кто–нибудь умирает, я освещаю его прожектором, ярко, а потом медленно увожу луч в сторону и человек остается в темноте, но не сразу, а постепенно. Так и сейчас: я просто гляжу, как свет покидает мое тело.
— В театре только игра, а здесь…
— В театре тоже настоящее. Когда актер умирает, я верю в его смерть. Иначе это уже не театр… У меня работа очень важная. Я окрашиваю жизнь во все цвета. От моей воли зависит: быть миру розовым или фиолетовым. И кого высветить в первую очередь, а кого — только краешком луча.
— Ты почти что Бог. Не считая режиссера.
— Да, и того, кто придумал все это. Иногда я спрашиваю себя: кто придумал меня, кто освещает меня, кто заставляет меня жить так, а не иначе.
— Ну и что?
— Ничего. Так ничего и не придумал. В Бога я не верю. И в бессмертие тоже. Я просто уйду со сцены, а за кулисами — ничего.
— Ты хороший мастер по свету, Николай, но плохой актер. За кулисами тоже мир, только другой.
— Не все ли равно. Ведь только на сцене я — это я, а в костюмерной просто манекен, который можно нарядить в любую одежду и заставить жить любой жизнью.
— Ты веришь в судьбу?
— Я верю в то, что жизнь одна. Это как роль, плохая или хорошая, но единственная.
— Значит, от тебя самого не зависит, какую роль ты будешь играть? Значит, все от воли режиссера?
— Не совсем. Я могу порой отсебятину, но в пределах. Полоний не может превратиться в Гамлета прямо на сцене.
— Что–то мы с тобой, Николай, зашли неизвестно куда. Ты о себе расскажи. О жизни своей, о жене, ну вообще…
— Да что рассказывать. Воспоминание — это продление жизни. Я не хочу продлевать ее, я уже распрощался с ней. А теперь и с вами. Вы для меня последний краешек берега…
Николай замолчал и закрыл глаза. Юрий Петрович сидел на стуле рядом с ним и время от времени брал его запястье и считал пульс. Он знал, что когда–нибудь и он сам будет стоять на неразличимой кромке берега, медленно и неотвратимо уходя в воду. Он знал и не боялся этого. А пока он был спасателем, он стоял на сухом песке, бросал легкие пробковые бублики и протягивал руки, кидал веревку и подбадривал, как умел, тех, кто уходит. Он всматривался в лицо Николая, в его закрытые веки, заострившийся нос, сухие губы. Он прислушивался к его дыханию, ощущал под пальцами биение пульса и пытался представить себя на его месте. Выходило надуманно и неубедительно.
А в это время к Николаю опять пришли маленькие человечки. Они карабкались к нему на грудь, один за другим, все больше и больше, молча и настойчиво. Уже не оставалось места, а они все шли и шли, и тяжесть их все сильнее и сильнее сдавливала грудь, не давала дышать, заставляла сердце биться реже и слабее.
И, словно предчувствуя конец, заголосила боль, заплакала, заметалась по всему телу, ища выход.
И, как в театре, погас свет, и Николай окончательно оторвался от суши и поплыл, быстрее и быстрее, по суживающемуся пространству, не имеющему ни цвета, ни запаха, ни конца, ни начала, не оглядываясь, дальше и дальше.
Облачко над головой
Оленев сидел на переднем сиденье, расслабившись, прикрыв глаза, слышал, не прислушиваясь, разговоры тех, кто был сзади, а чтобы ни о чем не думать, напевал мысленно тягучую мелодию без слов, что–то восточное, размягченное до бесформенности, повторяющиеся звуки: а–а–о–о–а–а, первая октава, вторая, и снова первая; в уме это давалось легко и наверняка он был бы великим певцом, если бы кто–нибудь смог его услышать.
И все это было, в какое–то время, помеченное на календарях и стрелками часов, и вот, нет уже всего этого, а если и осталось что–то, то лишь память, изменчивая и лицемерная, а если и уцелело нечто от того, что принято называть прошлым, то лишь следствия, вырастающие из причин, корень которых там, в неопределенном времени, потерянном и полузабытом.)
И вот, машина легко катила по утренним улицам, еще не светло, еще туманно, и легкая поземка перебегает дорогу, и уличные фонари блекнут, и снег кружится вокруг них, как рой бабочек.
В мелодию то и дело встревали разные мысли, или просто картинки и голоса, тогда он закуривал и увеличивал громкость звучания до предела. Он называл это утренней гимнастикой, очищением от шелухи: ни о чем не думать, ничего не желать, ни к чему не стремиться. Его научил этому Вася, фельдшер, и простое средство это и в самом деле помогало, потому что через несколько минут, возможно, придется сжимать время в тугой комок, нужна будет быстрота реакции, свежесть мыслей и непредвзятость мнений.
Не как цепь разрозненных явлений, а как неделимое целое, где живое перетекает в мертвое, а мертвецы оживают и приходят к живым с расширенными зрачками, свидетельствуя о том, чему нет названий в земных языках.)
Оленев сам придумал эту бесконечную мелодию. Пески до горизонта, куст саксаула, след варана, ни облачка в небе, только ветер поет в барханах: а–о–а–о:
— Приехали, — сказал водитель, заглушил двигатель и сразу же развалился поудобнее, намереваясь подремать.
Хлопнула дверь в салоне, это выходили ребята, вышел и Оленев, поежился на ветру и, выключив свою песню, посмотрел прямо перед собой. У высокого дома, прямо на тротуаре, лицом вверх лежал человек, сложив руки на груди, и молча смотрел в небо. Фельдшеры, Вася и Женя, уже склонились над ним и спрашивали о чем–то, и наскоро ощупывали легкими движениями карманников.
И вот, это был первый за дежурство. Его заперла жена, и он стал спускаться с балкона по бельевой веревке, оборвался и упал на спину, и терпеливо ждал, когда приедут.
— Везунчик, — сказал Оленев, — ничего не сломал. Везет ведь, а?
— Альпинист, — сказал Женя и подняли человека, уложили его на носилки и отнесли в машину, где ровно гудели обогреватели и даже пар не шел изо рта.
И Оленев, убедившись, что больному ничего не грозит, снова отключился и запел мысленно свою песню.
Они отдали его на попечение приемного покоя, Оленев вызвал по рации центральную станцию и сообщил, что они свободны. Так и сказал: реанимация свободна.
А в ответ ему назвали, сквозь треск и шепоток помех, новый адрес и вкратце — что там случилось. А случилось там вот что: трое детей отравились чем–то и состояние их угрожающее.
(:А если и осталось что–то, то вот оно, можно увидеть и потрогать, и убедиться в том, что ничто не умирает, а просто превращается из причины в следствие.
И нет смысла искать утраченное, ибо ничто не умерло, не погибло, не исчезло навсегда, а лишь изменило обличье, и семя становится деревом, и головастик — лягушкой, и куколка — бабочкой, и человек:)
И вот, водитель включает свою красную мигалку и выжимает газ, и пришпоривает машину, и они несутся на другой конец города, не забывая о сирене на перекрестках.
И Женя смотрит в протаянное окошко, как в прорубь, поблескивает очками и улыбается, щелкает языком и строит гримасы. Он смотрит в мир, проносящийся мимо, и в мимолетности его, в мгновенных стоп–кадрах находит успокоение.
И у Васи есть свой способ. Он протаивает окошко в себе самом и заглядывает туда, и видит космические дали, и преломление света на лепестке лотоса.
И Оленев прислушивается подчас к тому, что рассказывает Вася, но сам не знает, нравится ему это или не нравится.
«И», — говорит Вася, — это не русский союз соединения, а нечто большее. Весь мир — это «И», больше ничего не существует. Оно не состоит из частей и не есть целое, не имеет конца и начала, не ограниченно и беспредельно, не имеет формы, не пребывает нигде, ни во времени, ни в пространстве. И я, и ты, и человек, умирающий на наших глазах, и новорожденный с пересеченной пуповиной, и микроб, и галактика, — все это «И».
(:И первые морщины, и первый седой волос на левом виске, и кашель по утрам, и боль в сердце.
И запах эфира, и детский крик под черной резиновой маской, затихающий, гаснущий, и расслабляющееся тело, и остановившиеся зрачки. Полусмерть, полуявь, полусон, полужизнь, грань, обрыв, проволока под ногами канатоходца:)
И вот, они лежали на трех кушетках, одному десять лет, двум другим по двенадцать. Мыли желудки. И они пытались вскочить и выдернуть зонды, и давились тугой резиной, и пахло чем–то похожим на ацетон.
Линейная бригада доставила их сюда, в детскую больницу, и конечно же, здесь были и дежурный врач, и ассистент кафедры, и врач линейной, и сестры, и санитарки. И вот приехали еще трое, их ждали, они реаниматоры, они примут решение.
Оленев скинул пальто и поздоровался, взглянул по очереди на тех, кто лежал, а потом на тех, кто стоял и сидел, и делал что–то.
Подошел ассистент кафедры, еще тот, у которого не так давно Юра Оленев потел на зачетах, и рассказал о том, что мальчики нашли на стройке бутылку с неизвестной жидкостью и решили, что это спирт, и выпили, и вот им плохо, сами видите, нужно везти.
Оленев пытался сам расспросить мальчиков, но они уже не могли связно говорить, их неудержимо рвало, они порывались убежать и не совсем ясно представляли, где находятся.
— Дихлорэтан, — сказал Оленев. — Это запах дихлорэтана.
И обвел взглядом мальчиков, как судья приговоренных.
Он распорядился о том и об этом, посоветовал сделать то и то, а сам позвонил в реанимацию, где работал иногда по ночам и, конечно же, знал там всех.
Он объяснил суть дела — три места, Марья Николаевна, через сорок минут буду, а на дежурство, конечно, выйду, сегодня моя ночь по графику, вы там начните, я продолжу:
Можете начинать, говорю я, и они начинают, и рассекают кожу, и проникают вглубь тела.
И замершее сердце, и синяя краска, заливающая лицо, и прерванный вдох, и облачко души, парящее над телом.
И первый крик, и взмах ножниц, пересекающий пуповину, и лужица крови под ногами
И вот, их ждали, и две койки в первой палате, и одна во второй, и респираторы, и системы для переливания, и все эти блестящие ампулы, иглы.
Вот вам и работа, ждите, я скоро сам буду, я позвоню, узнаю:
— Скажите, Оленева не родила? Сегодня ночью поступила: Спасибо.
— Переживаешь? — усмехнулся Женя. — Брось. Никуда не денется, родит.
У тебя первый? А у меня уже двое. Ну хлебнешь ты горюшка:
— Партию, что ли? — предложил Оленев вместо ответа.
И с грохотом высыпал шахматы на стол.
И медленно течет время, и мнится: будь время рекой, то давно бы оно заросло тиной и ряской. И тесные коридоры станции, и два стола на кухне, где пьют крепкий чай, и играют в шахматы, и домино не брезгуют, и вообще место встречи бригад, пресс–клуб, информ–центр.
«Ноль первая, на вызов!» Это по селектору. Значит, бросай незаконченную партию, ступай в диспетчерскую, бери бланк вызова, и вниз, по крутой деревянной лестнице, к своей машине, самой почетной, с большой красной надписью над ветровым стеклом: «Реанимация».
И тут–то время вытекает из лягушачьей заводи, и набирает скорость, и вспенивается на перекатах, и мчится, как «скорая помощь», взвизгивая на поворотах.
Годовалый ребенок, высокая температура, судороги, фонендоскоп, укол, собирайтесь, нужно ехать в больницу.
Упал, сломал руку, вот здесь болит? А вот здесь? Ничего, это быстро заживет, поехали в травмпункт.
Сердце болит, кардиограф, вот этот зубец ненормальный, и вот этот интервал слишком короткий. Да, инфаркт, вы не беспокойтесь, это не опасно, полежите в больнице, вас вылечат.
Линейная вызывает, на улице, прямо в машине: «Шофер «Волги».
Остановка сердца, да, прямо на ходу, едва успел выключить двигатель, заехал на бордюр». Ничего не получается, массаж! Еще! Вдох!
Раз–два–три–четыре, вдох! Раз–два–три: Адреналин на длинной игле!
Вдох! Кардиоскоп! Стоит сердце, стоит, массаж! Поехали в неотложку, массаж не прекращаем. На, смени меня, руки устали: Сирена, мигалка, на полной скорости: Осторожно выноси, так, не мешай мне, уже ждут коллеги у входа с каталкой, выхожу спиной вперед, руки крест–накрест на его груди. Что там жужжит за спиной? Это кинооператор стоит и снимает, нашел момент, подлец, человек умирает, а он экзотику выискал: Знал бы, что будут снимать, так лицом бы повернулся.
Через месяц по телевизору свою спину и запаренный лоб, когда обернулся, а руки мои на его груди, как символ спасения в древней религии. Да, и облачко души, парящее над телом, улетело облачко, не вернул я его, нет, не вернул
Темнело, и короткий зимний день прорастал изнутри ночью, и кончалось одно дежурство и начиналось другое.
— Простите, как там Оленева?.. Спасибо.
— Ты же знаешь, — сказали ему, — рожают обычно ночью. Утром тебя и поздравим.
— Ну ладно, как дела у мальчиков?
— У младшего почки заклинило, обменное сделали, да только, ну сам понимаешь: А старшие понемногу карабкаются.
Они лежали в одной палате, на соседних койках, у одного наколка на груди, что–то неразборчивое, второй — белобрысый, верткий, ругал сестер, бойко так ругал, не запинаясь и не краснея. Они не давали ему пить и мучили уколами, вот он и злился. Оленев подошел по очереди к каждому, цыкнул на белобрысого, пощупал живот тому, что с наколкой, пролистал истории. Консультации, дневники, заключения, назначения, анализы, ленточки кардиограмм.
Младший бредил, он выкрикивал людские имена, спорил с кем–то, просил у мамы гривенник на кино и кричал тонким голосом: «Ага, вот ты где прячешься!»
Кожа синеет на руках, нажмешь пальцем, белое пятнышко наливается синевой, пот на лице, хрип из горла, булькают в груди пузырьки:
Ему ввели в вену то, от чего засыпают. Оленев провел трубку ему в горло, включил респиратор. Не выходил из палаты и много часов бился над тем, чтобы обратить необратимое вспять, любыми силами, до последнего. Что же ты, сынок, не уходи, не уходи, сынок!
(:Все вы — мои сыновья, вы умираете, и что–то умирает во мне, в конце концов, вы — часть меня, а я — ваша частица.
Да, говорю я, вы знаете, как много людей умерло на моих глазах, и вот мои руки, они бессильны.
Да, говорю я, так много людей выжило на моих глазах, и вот мои руки, они кое–что помнят:)
Он знал, что уже ничего не вернешь, нет и не может быть чудес, и один за другим отключались тонкие механизмы в теле его сына, и вот отказал последний. И все равно он пытался запустить его, как заводят мотор, но остывало тело, и голубые пятна на коже, и зрачки расширены, словно от страха. Что ты увидел там, сынок?..
Его, младшего, укрыли простыней, с лицом укрыли, с ногами укрыли, и маленькое облачко выпорхнуло в открытую форточку, выкрикивая людские имена.
И железный обелиск на взрыхленной земле, и горстка риса, брошенная у подножья, и примятые цветы из бумаги, и фотография в цинковой рамке, и надпись:)
— Ты бы отдохнул, Юра, — сказали ему. — Они постарше, может, и вытянут.
И вот, он сел, и вытянул ноги, и закурил бессчетную сигарету, и хлебнул крепкого чая, и закрыл глаза, и ушел в пустыню. Там солнце над головой, и тень под ногами, и горячий песок перекатывается тяжелыми волнами, и бесконечная песня из одних гласных, первая октава, вторая, снова первая.
Да, час назад, поздравляю с дочерью.
Послушайте, у меня родилась дочь, ну конечно же, хотелось сына, ну да ладно, дочь так дочь, уже час назад, а я только что узнал, ах да, ведь час назад: Как его звали? Я назову дочку его именем, да не смейтесь, девочек тоже так называют:
(:Ах, Вася, Вася, твое всеобъемлющее «И», твой метемпсихоз , переселение душ, красивая сказка, вечная иллюзия бессмертия, сладкий обман, неуничтожимость материи и духа. Ах, Вася, разве душа — это сгусток волн?
И щеки в шоколаде, и косички — мышиные хвостики. Девочка, на кого ты больше похожа, на папу или на маму?..)
К утру умрет еще один, а второй, медленно набирая силу, начнет выкарабкиваться, выползать, белобрысый, ругательный, цепкий, самый сильный из троих, самый живучий. Это он нашел бутылку, это он уговорил распить ее, оставив себе только глоток. Ну что ж, живи, сынок, ты ведь тоже мой сын, не самый лучший, но мой, крестник мой, перекрестье рук моих на твоей груди.
Ты помнишь? Забудешь, знаю, что забудешь, и хорошо. Ты забудь меня, только о тех двоих помни, как я о них помню, ведь они мои сыновья, в минуту смерти младшего из них родилась моя дочь.
(:Нет, ничто не умирает, а просто превращается из причины в следствие, и связь их подчас такая странная, что и названий нет, и слов не хватает, и язык присыхает к нёбу.
Лера, Лерочка, ну кто же так рисует? Ну, где ты видела, чтобы из головы росли руки и ноги? Где же все остальное?
А что это за облачко над головой?..)
1978 г.
Маленький трактат о лягушке и лягушатнике
Вадим изучает физиологию живых организмов, препарируя лягушек. За это его прозвали Лягушатником. И кроме лягушек в его жизни ничего нет. Даже когда он женится на своей лаборантке Зое, жизнь его остаётся практически пустой… Однажды Зоя заболела и почти в бреду рассказала Вадиму то, о чём всегда молчала: о нём, о себе, об их жизни. (asb)
1
С самого утра, порой задерживаясь до ночи, он просиживал в своей лаборатории — маленькой полуподвальной комнате, где зимой было слишком холодно, а летом душно. Эта комната за последние пять лет стала более родной ему, чем его одинокая холостяцкая квартира. Там было пусто, неуютно, только телевизор оживлял ее своими плоскими тенями и голосами, а здесь, в лаборатории, весь день, особенно ближе к вечеру, заливались, пели лягушки, словно в родной луже под июльской луной.
Начав свою работу, он сразу же избрал лягушек. Материал, проверенный веками, благодатный и неприхотливый, словно бы специально был создан для физиологии. Лягушек он любил той корыстной любовью, какой любят скот. Оборудовав для них террариумы с подогревом, он впервые нарушил бытовавшие в институте правила, по которым лягушек держали в эмалированных ведрах, навалом, отчего они гибли десятками. Своим нововведением он не столько доказал любовь к животным, сколько практицизм и бережливость. Для его опытов требовалось слишком много лягушек.
Скоро его лабораторию прозвали «лягушатником» и его самого за глаза называли тоже Лягушатником, хотя у него было нормальное имя — Вадим. Он знал об этом и не слишком обижался, потому что и сам называл себя этим прозвищем. Лягушатник так Лягушатник, ничуть не хуже какой–нибудь Анкилостомы, получившей эту кличку от студентов.
Сам Лягушатник уважал своих подопечных. Они нравились ему за неприхотливость, живучесть, и порой он ловил себя на жалости к их мукам. Но их смерть превращалась в колонки цифр, таблицы, графики, стройные выводы, обещавшие близкое завершение интересной работы. Своей смертью они хоть немного, но отодвигали смерть людей, больных неизлечимой болезнью. Собственно, вся работа и была направлена на поиски новой закономерности в физиологии живого организма. Жизнь — это и объединяло человека и лягушку.
В соседней лаборатории работала Анкилостома. Звали ее так из–за привычки наклонять голову влево, что в сознании студентов ассоциировалось с внешним видом червя кривоголовки, по латыни — анкилостома. Несколько ободранных дворняжек отдавали ей свой желудочный сок, сочившийся из фистул в животе. В глубине души она была честолюбивой и, кажется, уже получила какие–то результаты, идущие вразрез с теорией, с помощью которой еще пытались объяснить всю физиологию.
Когда у нее удавался опыт, она приходила в лабораторию Лягушатника, садилась за его спиной и молча, с улыбкой наблюдала за его работой. Ей хотелось сразу же похвастаться, но она тянула время, болтала о пустяках и так и не говорила о главном: удивление и признание одного Лягушатника было слишком малой платой за ее работу.
Давным–давно, еще в студенческие годы, Вадим жил в общежитии, Алла — у родителей. Он приходил к ней каждый вечер, пил чай с вареньем, потом они уходили в комнату, сплошь забитую книгами ее отца, чтобы готовиться к занятиям, но сами сидели, разговаривали, ссорились и целовались и, наверное, были влюблены друг в друга.
Они и в СНО ходили вместе со второго курса. После окончания института Аллу сразу же оставили на кафедре, а Вадим поехал по направлению в район, работать врачом, где и застрял на три года. Тогда они едва не поженились, и если бы это случилось, то им бы пришлось ехать вместе. Алла предпочла науку и городскую квартиру, и Вадим рассердился, наговорил ей кучу резкостей, она тоже не осталась в долгу, и они расстались. Сначала он переживал, но потом рассудил, что в общем–то это к лучшему, что хорошей жены из Аллы все равно не получилось бы, и уж если рвать, то сразу. В маленьком районном городке он продолжал свои опыты. Не хватало реактивов и оборудования, литературы и помещения, но он был упорен и через три года, написав статью, послал ее в институт, на кафедру физиологии, где о нем помнили, и вскоре пригласили работать к себе.
Там он встретил Аллу. Встреча их была не слишком холодной; казалось, все между ними забыто, все потеряно и начинать сначала уже никому не хотелось. Она так и не вышла замуж, да и он не женился, а пожив недолго в общежитии, получил квартиру, обставил ее, как уж пришлось, и ушел с головой в работу. Кандидатские диссертации они защитили почти одновременно, на общем банкете сидели рядом, он вывел ее за руку из зала и хотел было сказать ей, что вот и мечты их исполнились, и годы проходят, и стареют они, и много еще всякого, но так ничего и не сказал, а просто стоял, курил, отшучивался, посмеивался над ее привычкой наклонять голову к плечу, хотя и знал, что это из–за болезни, перенесенной в детстве. Она тоже язвила, хотя, быть может, и ей хотелось сказать что–нибудь ласковое и простое.
Отношения у них установились дружеские, но с постоянным подтруниванием друг над другом, с намеками, шутками, понятными лишь им двоим.
Возвращаясь в свою квартиру, он ощущал ее неприветливость и необжитость, наскоро протирал пол, готовил немудреный ужин и садился за книги или за английский язык. Рассматривая по утрам в зеркало свое лицо, некрасивое, слишком бледное от постоянной работы, с кругами под глазами и первыми морщинами, он думал, что так, наверное, и придется прожить всю жизнь холостяком, жалел себя, но самую малость. Те женщины, которые окружали его, не нравились своими претензиями и капризами. Он хотел видеть в своей возможной жене спокойного и доброго человека, без всех этих разговоров о цели жизни, без ненужного, как он считал, для женщины образования, а просто–напросто ему нужна была обыкновенная хозяйка, чтобы и дома было чисто, и обед приготовлен из трех блюд, и чтобы именно он, мужчина, оставался главным в доме, а жена — только женой. Но знакомиться на улице он не умел, на танцы не ходил, а на работе такие ему не попадались. Он так и жил холостяком, рубашки стирал сам, к одиночеству почти привык, а свою любовь отдавал только лягушкам.
2
Однажды Алла пришла к нему в лабораторию отдохнуть от собачьего визга, села на привычное место и, как всегда, стала говорить не то, что хотела, а то, что было принято между ними.
— Ну как? — спросила она. — Скоро ли получишь человека–амфибию?
— Наверное, никогда, — рассеянно ответил он, занятый опытом. — Да и зачем? Просто люди и просто амфибии намного лучше.
— Тебе уже за тридцать, а ты нянчишься только с амфибиями. Если лучше просто люди, то что же тебе мешает.
— Недостаток времени. Но если бы ты вышла за меня, то я бы бросил лягушек.
— Да я хоть сейчас! Хоть здесь же! Но ведь твои лягушки умрут от тоски. Это будет несправедливо.
— Да. А твои псы перебесятся от ревности. Так что ничего не поделаешь, — ответил он, втыкая очередной электрод в лягушачью лапку.
— Тебе не хватает лаборантки, Вадим. Ты все делаешь сам. Это так расточительно для науки. Вместо того чтобы обдумывать теорию, тебе приходится чистить клетки и кормить лягушек.
— Я как–то не думал об этом.
— Хочешь, я попрошу шефа? Он ценит тебя и что–нибудь придумает.
— Попроси. Пожалуй, в этом есть смысл.
Через неделю в «лягушатник» пришла лаборантка. Вадим, не слишком внимательно оглядывая ее, отметил про себя круглое веснушчатое лицо, невысокий рост, полные крепкие ноги.
— Как зовут?
— Зоя.
— Лягушек живых видела?
Зоя пожала плечами.
— Ну так будешь ухаживать за ними. Кормить раз в день, подогрев постоянно, воду менять раз в две недели, мыть посуду, к аппаратам не подходить. Ясно?
Зоя кивнула головой, без особого интереса рассматривая лабораторию, ее низкий потолок, серые стены, террариум с прыгающими и квакающими лягушками гудящие приборы, скрипящие самописцами, вычерчивающими непонятные кривые. Она подошла к террариуму и постучала пальцем по стеклу. Лягушки повернулись к ней и уставились своими зелеными чистыми глазами, словно изучая. Зоя улыбнулась им.
Через неделю Алла спросила Вадима:
— Ну как новая лаборантка?
— Справляется.
— Ну это ясно. А вообще, как она тебе нравится?
— Без ума.
— Кто? Она или ты? Если она, то это естественно, а если ты, то я ревную. Неужели я хуже ее?
— Отчасти. Она не умеет лгать, зато умеет молчать и слушать.
Алла фыркнула и обиделась.
— Слушай, — сказала она, — женился бы ты на ней. Чем не пара? У вас так много общего. Вы оба любите лягушек.
— Я подумаю, — ответил он.
Зоя приходила рано, чистила террариумы и пока никого не было, разговаривала с лягушками. Те квакали, словно бы отвечали что–то, она брала одну из них, клала на ладошку и подолгу о чем–то говорила.
Когда приходил Лягушатник, Зоя здоровалась с ним, садилась в сторонке и смотрела, как двигаются его руки с тонкими пальцами, как уверенно и точно обращается он с приборами, шприцами, скальпелем. Лягушек, терзаемых и истязаемых, ей, по–видимому, не было жалко. Наличие множества одинаковых живых существ обезличивало смерть и делало для постороннего наблюдателя не такой страшной.
Иногда Лягушатник обращался к Зое и просил что–нибудь подать или подержать. Он никогда не бросал слова через плечо, а всегда ловил ее взгляд, спокойный, доброжелательный, и не забывал сказать «пожалуйста».
Анкилостома только изредка заглядывала в полуоткрытую дверь, и он, поймав ее отражение в стекле террариума, не оборачиваясь, поднимал руку. Анкилостома произносила что–нибудь веселое или язвительное и уходила к себе. Из ее комнаты допоздна доносился скулеж собак.
В перерывах между опытами Лягушатник варил кофе, расслаблялся в кресле и беседовал с Зоей о вещах посторонних и к науке отношения не имеющих. Он спрашивал ее о деревне, где она родилась, вслух тосковал о том, что давно не был у родителей, вспоминал веселые истории о том, например, как опрокинулся террариум и лягушки разбежались по этажу, или о том, как в детстве он запрягал жуков в соломенную повозку, или о дрессированной мышке, жившей у него в ящике письменного стола. Зоя смеялась, где надо или задумывалась, где стоило погрустить. Собеседницей она была неважной, но слушала хорошо, поэтому хотелось рассказывать о чем угодно, даже о своих опытах. Порой Лягушатник увлекался и начинал рисовать перед ней сложные химические формулы, потом спохватывался, смеялся и комкал бумагу. Но она внимательно заглядывала через его плечо, кивала головой, соглашалась, что кривая поглощения и в самом деле должна идти круто вверх, а потом обрываться до нуля.
Когда Зоя уходила домой, он еще сидел дотемна за приборами, заканчивая опыт или приводя в порядок записи. В эти часы он подолгу и неспешно обдумывал свои слова, поступки и пытался разобраться хотя бы в одном человеке — в самом себе. Но это удавалось ему плохо. Иногда он ловил себя на том, что ему нравится Зоя, и тотчас же он вспоминал ее лицо, голос, грубоватый немного, но все равно приятный, ее немногословность и какую–то особую душевную податливость. Казалось, что из нее можно вылепить что угодно. Тогда он подумывал, что можно вылепить из нее идеальную жену. Он подсмеивался над собой, когда вспоминал, каким разборчивым был в юности, даже от Аллы отказался, умной и красивой, а теперь готов жениться на деревенской дурнушке, единственно для того, чтобы она стирала ему рубашки и жарила котлеты. Но даже в мыслях он обращал все в шутку и самому себе не верил.
Однажды к нему пришла Анкилостома, уселась на Зоино место, долго смотрела в затылок ему и наконец спросила:
— Ты меня по–прежнему не любишь?
— Безумно, — ответил он.
— Безумно да или безумно нет?
— Понимай как знаешь. Ты ведь умная, — сказал он, сбрасывая дохлую лягушку в лоток.
— Прекрасный жест, — сказала она, наблюдая за движением его руки. Жест служителя, корриды. Бедные твои любовницы. Таким же изящным жестом ты их отбрасываешь от себя.
— Сотнями. На прошлый вторник их пришлось сто четырнадцать.
— А Зоя у тебя под каким номером?
— Без номера. Она вне конкуренции.
— Невеста?
— Пожалуй, да.
— Она счастлива от этой новости? Должно быть, у нее веснушки на лоб вылезли.
— Не знаю. Я как–то не говорил ей об этом.
— Ну, а ты сам?
— Почти.
Анкилостома встала, походила по комнате, два шага вперед, два назад, а больше не расходишься по этой комнате.
— А ты знаешь, у меня кое–что получается. Я показывала предварительные результаты Серегину, он обещал поддержать, очень хвалил.
— Я рад за тебя. Ей–Богу рад.
— Если я защищусь, это будет здорово, да?
— Несомненно. Докторов наук в твои годы не так уж и много.
— Тогда, быть может, у меня будет время заняться собой… Послушай, ты на самом деле решил жениться на ней?
— А почему бы и нет? Она будет идеальной женой. Если, конечно, согласится.
Анкилостома фыркнула.
— Она побежит за тобой на пуантах, милый, хотя уж на чем, на чем, а на них ее представить невозможно. В ее годы и при ее наружности выйти замуж за кандидата наук!..
— А ты злая. Тебя недаром студенты дразнят.
— Тебя тоже, дорогой. Не огорчайся.
— У меня такое ощущение, что ты сама пошла бы за меня.
— Оно тебя не обманывает. Ты не ошибся.
— Будем скрещивать лягушек с собаками?
— Ты все превращаешь в шутку, притом в глупую.
— А разве ты всерьез?
— Ну ладно, хватит об этом. Раньше ты как–то обходился без лаборантки.
— Ну уж нет. Хватит так хватит. Давай о погоде. Лягушки мои расквакались, к хорошей погоде, должно быть.
— Ты ошибся. К ненастью. К урагану, к смерчу, к огнедышащей лаве любви.
— Пора нам наложить на это слово табу.
— Прекрасно. Ни слова о любви. Все. А знаешь, я ведь тебе тоже какой–то там родней буду, я ведь тебе Зою сосватала. Это называется — сваха?
— Что ты, милая! Это называется — сводница.
— А катись ты. У меня собаки жрать хотят.
Она ушла, а Лягушатник сам вымыл посуду, прибрал на столе, погасил свет, посидел еще немного в полутьме, глядя на свое отражение в зеленом темном стекле, мерцающем изнутри желтыми глазами, и казалось, что лягушки все понимают, все прощают ему, даже свои завтрашние муки и завтрашнюю смерть.
3
Как бы то ни было, но после этого разговора Вадим задумался почти всерьез о своей возможной женитьбе. Правда, его чувства к Зое не слишком напоминали описания классиков, но он справедливо полагал, что каждый любит по–своему, и, быть может, это и есть его потолок и выше подняться он не сможет. Привыкнув обходиться малым, он не требовал слишком пылкой любви от других и был не вправе ждать чего–то особенного. Его беспокоило только одно: что ответит сама Зоя. Он снова и снова анализировал свои чувства, подолгу рассматривал в зеркало свое лицо, купил новый костюм и теперь в лаборатории старался работать с распахнутым халатом. В эти дни от него пахло одеколоном, щетина с подбородка исчезла и прическа была безукоризненной. Он придумывал десятки вариантов своего объяснения, волновался, ронял на пол пробирки и однажды вызвался проводить Зою домой.
Жила она на квартире, в неблизкой слободе. Они шли по мокрому сентябрьскому асфальту, и Зоя, засунув руки в карманы плаща и немного сгорбившись, загребала туфлями бурые листья, отвечала тихим голосом и все смотрела себе под ноги, словно надеялась найти что–то недавно потерянное. Мимо шли прохожие, изредка по шоссе проносились машины, заляпанные грязью до стекол, а Вадим все говорил и говорил. Ему было очень легко с ней, казалось, что никогда больше у него не было таких счастливых минут, когда все идет прекрасно, все удается, слова приходят сами собой, и тихая девушка слушает его, улыбается. И он сам себе казался легким, красивым.
Они зашли в старый деревянный клуб на окраине города, где скрипели полы и маленький зал был заполнен молодежью, отпускающей громкие реплики, хохочущей, лузгающей семечки. Сзади целовались, он слышал дыхание, шепот, шуршание капронового чулка, трущегося о сиденье, и почти забытое волнение от близости девушки, от запаха ее мокрых волос, от теплого плеча, прислонившегося к его плечу, вдруг пришло к нему…
На экране скользили цветные тени, они говорили о чем–то, кажется, там, на вертикальной простыне, кому–то приходилось туго, а кому–то наоборот, но он не слышал почти ничего, кроме ее ровного дыхания, не изменившегося даже тогда, когда он протянул руку и обнял ее за плечи.
И он словно бы отделился от душного зала и улыбнулся тому удивительному чувству внутреннего покоя и умиротворенности, когда она положила свою руку на его колено, мягко погладила и взглянула ему прямо в глаза. По ее волосам, щекам, плащу бежали разноцветные тени, он притянул ее к себе и дотронулся губами до уголка ее рта.
— Уйдем отсюда, — шепнул он.
Она молча встала. Наступая на ноги соседям, они пробрались к выходу. Он долго не мог справиться с крючком двери, а когда распахнул дверь и в зале засвистели им вслед, он взял Зою за руку, и они вышли в темный двор, где только лужи маслянисто поблескивали под светом маленькой грязной лампочки над входом.
И он, словно бы больше не оставалось времени, словно кто–то отнимал ее и через минуту будет поздно, здесь же, на крыльце, притянул ее к себе, всем телом ощутив податливость и мягкость ее тела, и поцеловал.
Потом они шли по незнакомым ему улицам слободы, где лаяли собаки, из освещенных окон доносились звуки включенных телевизоров, и он молчал, быть может, потому, что чувствовал — слова не нужны. Только у самой калитки, снова ощутив страх возможной потери, он сказал:
— Давай подадим заявление. Завтра же. Ты согласна?
Зоя погладила его щеку, серьезно поглядела в его глаза и сказала:
— Хорошо. Завтра.
4
После угара и суеты свадьбы, на которой слишком много пили и шумели все сплошь ее родня, они стали жить тихо и ровно. Выбитый на время из колеи, Вадим снова засел за работу. Теперь они оба задерживались допоздна, оба возились со своими лягушками, шприцами, пробирками. Домой приходили усталые, голодные, но Зоя всегда находила время, чтобы прибрать в квартире, выгладить для него сорочку, приготовить ужин. Он уходил в маленькую комнатку без окон, громко именуемую кабинетом, печатал на машинке очередную статью и был счастлив, что наконец–то нашел то, что искал все эти годы: тихую и ласковую жену, все понимающую, не обремененную ни лишними знаниями, ни броской внешностью, и думал, что судьба таких женщин, как Зоя, так же естественна и справедлива, как течение рек, падение листьев, шум дождя. В конце концов, думал он, предназначение женщины в том, чтобы служить мужчине, быть верной подругой, облегчать ему трудную жизнь и подчинять свои желания его нуждам.
Он по–прежнему много говорил с ней, будто бы за всю свою жизнь так много накопилось невысказанных слов, мыслей, что он торопился высказать их сейчас же, немедленно, сидя на кухне и запивая компотом котлету. Зоя также соглашалась с ним, кивала головой, но ему казалось иногда, что она смеется над ним, над его утверждениями и взглядами, что она знает нечто большее, но скрывает. Он гнал от себя эти мысли и считал совершенно естественным, когда видел, что Зоя читает только романы о любви и детективы. Он не требовал от нее многого, он полагал, что для семьи достаточно и одного умного человека — самого себя.
Анкилостома почти не заходила к ним в лабораторию. Только по делу, настоящему или придуманному: попросить чистую колбу или чернила для самописцев. Речь ее была такой же едкой, слова насмешливыми, и Лягушатник думал с облегчением, что судьба не послала ее в жены ему. Он не слишком–то любил умных женщин, считая это противоестественным, противным законам природы.
В начале лета, когда газоны желты от одуванчиков и пронзительно и терпко пахнет от нагретых сосновых досок, Зоя заболела. То ли простыла на ветру, то ли сырость подвала, где потолок не просыхал от мутных разводов, довела ее, но она слегла. Лягушатнику приходилось одному возиться в казавшейся пустой и безлюдной лаборатории, самому мыть пробирки, кормить лягушек, и это одиночество уже не радовало его, как прежде, уже не приносило ему чувства покоя и неторопливого течения времени. Он спешил сделать необходимую работу и шел домой, где, несмотря на болезнь, Зоя успевала приготовить обед и навести порядок.
Однажды к нему зашла Анкилостома. Она уселась на прежнее место, помалкивала и посмеивалась, пока Лягушатник не выдержал и спросил:
— Ну, что скажешь новенького?
— Абсолютно ничего нового. Все так быстро устаревает. Ты знаешь, в одном американском журнале опубликовали статью с материалами, аналогичными моим. Смешно, да?
— Нет. Не смешно. Это грустно. И ты еще улыбаешься?
— А я уже поплакала. К тому же здесь и без того сыро. От твоих лягушек только плесень на стенах.
— А от твоих псов вонь по коридору.
— Да ладно тебе. — Анкилостома вздохнула, замолчала надолго, и это было не похоже на нее, непривычно и даже раздражало.
— Завтра же сведу своих псов к собачнику, к чертовой матери! Пять лет им под хвост!
Лягушатник видел, что ей и на самом деле очень трудно, что, быть может, и его ждет это же, и ему стало грустно.
— Не надо было держать все под секретом. Застолбила бы вовремя тему парой статей, а то все хотела мир ошарашить. Вот и дождалась.
Анкилостома встала, походила по комнате и, остановившись у террариума, опустила руку в зеленую воду, пугая лягушек.
— Говорят, лягушки по–креольски очень вкусны.
— Говорят, что собачье мясо помогает от всех болезней. От тоски тоже.
Лягушатник привычно отражал ее нападки, это давалось ему легко, за много лет у них установились и общая манера разговора, и общие интонации, и, как бы то ни было, понимание друг друга с полуслова.
Он встал со стула, что никогда раньше не случалось при их разговорах, подошел к ней и тоже опустил руку в воду. Сквозь стекло, заросшее водорослями, обе руки казались зелеными и прозрачными.
— Ты не переживай, Алла, — сказал он. — Всякое бывает. Американцы ведь не в точности повторили твою работу. Наверняка ты додумалась до чего–то непохожего. Ну, не расстраивайся так сильно. Ну, не надо.
В воде он дотронулся до ее руки и слегка пожал ее. Она не ответила на прикосновение. Голосили лягушки.
— Не надо меня жалеть, Вадим, — сказала она. — Пожалей себя.
— У меня все нормально.
— Не притворяйся, Вадим. Я говорю не о работе.
— Ты считаешь, что я выбрал себе не ту жену?
— Именно.
— И должен был жениться на тебе?
— Дурак! Нужен ты мне!
Она выдернула руку из воды, молча глядя ему в глаза, вытерла ее о полу его халата.
— Ты так и не дождешься превращения своей лягушки в царевну! Скорее сам позеленеешь и начнешь квакать.
Лягушатник отошел к столу, сдерживая злость, выключил прибор, давно уже писавший вхолостую и, не оборачиваясь, произнес:
— Я не обижаюсь на тебя. Ты расстроена. Иди домой и отдохни пару дней.
— Это тебя дома ждет жена, верная и глупая, у меня дом здесь.
— В собачнике?
— Да, в собачнике. И если ты считаешь меня бешеной собакой, то ты недалек от истины.
Хлопнув дверью, она вышла, быстро и торопливо простучав каблуками по бетонному полу.
Посидев немного перед остывающими приборами, он попробовал успокоиться. Ему было и жаль Аллу и сердился на нее, и, вконец запутавшись в своих мыслях, так ничего и не решил. Вспомнил, что дома его ждет Зоя, больная и заботливая, но почему–то ему не захотелось спешить сегодня.
Пройдя пешком две остановки, он зашел в магазин, выстоял очередь за яблоками, подумал и купил еще бутылку портвейна.
Открыв дверь своим ключом, он прислушался. В квартире тихо, телевизор не работал, и только холодильник жужжал надсадно, как заблудившаяся муха.
— Зоя, где ты? — позвал он. — Ты меня слышишь?
Она не ответила. Вадим оставил на кухне портфель, прошел в комнату. Она лежала на диване, и по ее раскрасневшемуся лицу, по закрытым глазам с темными припухшими веками он почувствовал, что ей совсем плохо. Он сел на краешек дивана, потрогал ее лоб. Горячий.
— Зоя, — тихонько позвал он, — ты меня слышишь?
Она хотела сказать что–то и, кажется, сказала, но он все равно не услышал, нащупал пульс и чуть не побежал звонить в «скорую помощь», но потом вспомнил, что и сам был врачом, расстегнул халат, приподнял голову, потом разыскал градусник и пошел кипятить шприц.
Температура оказалась высокой, даже слишком. Он раздел Зою, переложил ее на кровать, сделал укол, включил вентилятор и, когда столбик ртути пополз вниз, почувствовал, что врач не совсем умер в нем и кое–что он еще умеет.
— Ты поешь, — сказала она. — Я приготовила. Ты прости, я устала и хочу спать.
Он погладил ее по щеке, поцеловал в горячие сухие губы и сказал:
— Спи. Все будет хорошо. Завтра я не пойду на работу и весь день буду с тобой.
Фонендоскопа не оказалось, он повернул ее на бок и, прислонясь ухом к спине, выслушал легкие.
— У тебя просто грипп, — сказал он. — У нас ведь есть малина? Я напою тебя чаем.
— Наверное, я умру, — сказала она.
— Хорошо, — сказал он, — я встану вместо памятника на твоей могиле. Я буду красивым памятником?
— Не слишком. У тебя брюки неглаженные.
— У всех памятников такие. Это пустяки.
Он заботливо прикрыл ее одеялом и пошел на кухню искать чай и малину. Засыпая заварку прямо в кружку, он подумал, что, пожалуй, совсем не знает свою жену. Вернее, он знает ту Зою, которую придумал для себя, для своих нужд, как дополнение самого себя. Он подумал, что все эти месяцы ни разу не хотел просто так поговорить с ней, узнать, что она за человек. Ему было достаточно говорить о себе, слышать только свой голос и находить в Зое отражение только своего ума. Получалось так, что он даже не заботился о ней, да и ни о ком вообще за всю свою жизнь, и сейчас кружка с горячим чаем казалась ему чуть ли не первым поступком осознанного милосердия.
Он приподнял ее голову, неожиданно тяжелую, заставил выпить чай, укутал одеялом.
— Ты иди, — сказала она, — я одна побуду. Посплю.
Он посидел на кухне, перелистывая новый журнал, поужинал и незаметно выпил весь портвейн. Пил он редко и мало и, быть может, от этого голова у него закружилась, и он почувствовал, что ему плохо и одиноко, и, как всегда в таких случаях, ему стало жаль себя. Он подумал, что ему за тридцать, а ничего настоящего он сделать не успел, что, несмотря на свое благополучие, он очень одинок и несчастен. Ему захотелось сказать об этом Зое красивыми и печальными словами, чтобы она пожалела его, приласкала и рядом с ней он в который раз ощутил бы себя значительнее, лучше, умнее.
Он распахнул дверь в спальню. Горела настольная лампа, но Зоино лицо было в тени, она спала, нечесаные волосы, спутанные жаром и болезнью, закрывали лоб. Неожиданно для себя он взял расческу и стал расчесывать волосы, некрашеные, жесткие. Она проснулась и молча глядела на него и снова ему показалось, что она знает обо всем намного больше и понимает намного лучше, нежели он сам. И ему не захотелось отгонять от себя это ощущение, он не испугался его, а сказал:
— Мы так одиноки с тобой, милая.
— Неправда, — сказала она тихо, — это ты одинок, а я нет. У меня есть ты, а у тебя только ты сам. И больше никого.
Он слегка удивился тому, что она впервые не согласилась с ним, но удивление его притупилось вином, он лег рядом с ней, не раздеваясь, и осторожно обнял ее за плечи. Она не повернулась к нему, а так и осталась лежать на спине, глядя в потолок.
— У меня тоже есть ты, но от этого мое одиночество почему–то не слабеет.
— Очень просто. Ты видишь во мне только себя, а меня самой для тебя не существует. Ты одинок потому, что не умеешь любить. Даже я более счастлива, хотя ты и не любишь меня.
Ему стало не по себе оттого, что она сказала ему вслух то, о чем он думал только что.
— Неправда, — сказал он, зная, что лжет, — неправда, я люблю тебя. У меня больше никого нет, кроме тебя, но мое одиночество не уменьшается от любви. Это ложь, что любовь спасает человека от разобщения. С самого рождения любой человек одинок. Любовь, дружба, общие цели — это лишь иллюзии, придуманные самим человеком, чтобы не так страшно было жить. Мы беззащитны перед судьбой, болезнями, смертью…
Он говорил еще долго, уже по привычке втянувшись в долгую и, как ему казалось, умную беседу, если бы Зоя не рассмеялась. Такого не случалось никогда. Он хотел рассердиться, но вспомнил о ее болезни, к тому же кружилась голова, было страшно и сладко от вина, странного разговора, поэтому он только сел на кровати, внимательно посмотрел на Зою и пожал плечами.
— Ты говоришь глупости, — сказала она. — Пойми меня правильно, Вадим, я очень уважаю твой ум, но сейчас ты страшно глуп. Неужели ты думаешь, что я ничего не понимаю? Я ведь для тебя просто деревенская дурочка, с которой и спроса мало. Ты — ученый, я — простая девушка без образования и воспитания. Но разве ум — это диплом или степень, или эрудиция и умение говорить о философских проблемах? Я дурочка только для тех, кто хочет видеть меня такой. Ты хотел видеть во мне отражение самого себя — и я стала такой. Ты хотел, чтобы я стала помощницей в твоей жизни, чтобы дома было чисто, было кому стирать и готовить, — я к твоим услугам. Ведь я пришла к тебе лаборанткой, ею я и осталась даже в этом доме. Я просто стала такой, какую ты ждал.
Вадима замутило, должно быть, от вина. Он раскрыл окно и вдохнул поглубже.
— Но почему ты сделала так? — тихо спросил он. — Ты обманула меня. Это подло. Это мимикрия. Ты, как камбала, меняющая свой цвет. Подло же это, ты понимаешь?
— А вот ты не понимаешь, что это и есть любовь. Я люблю тебя, а когда по–настоящему любишь, то растворяешься без остатка.
Вадим включил верхний свет, ему казалось, что в комнате слишком темно, и, может быть, вместо Зои лежит чужая женщина, а он просто не видит и обманывается знакомым голосом. Но ничего нового он не увидел. Круглое некрасивое лицо Зои было обычным, разве что щеки более румяные от жара, да лоб бледный и потный.
И он растерялся именно оттого, что внешне в ней ничего не изменилось, и тогда померещилось ему, что кто–то другой забрался в ее тело и говорит оттуда, смеется над ним, издевается.
«Что же будет с нами? — подумал он. — Что же теперь будет с нами?»
А ей сказал:
— Ты больна, Зоя. У тебя высокая температура, тебе надо спать. Успокойся, это пройдет.
— Конечно, пройдет. Ты прав, это, наверное, болезнь сняла с меня тормоз. Вот я и говорю тебе все это. А зачем? Разве что–нибудь изменится? Да нет, ничего. Ты не способен к мимикрии, ты никогда не сможешь понять другого человека, потому что не сможешь отречься от себя. Вот ты и одинок. Ты всегда считал себя выше меня, а вот видишь, как выходит: ты и не знал меня вовсе. А я знаю тебя лучше, чем ты сам.
Она снова рассмеялась знакомым смехом, в общем–то необидным, но все равно Вадим слушал его и чувствовал себя униженным. Ему было неприятно, словно бы он уличил ее в обмане, в подделке, в измене.
— Что же теперь будет? — спросил он.
— Да ничего не будет. Наутро я снова стану прежней, такой, какую ты привык видеть. Тебе нужна такая жена, ну и ладно, я не против… Поговорили и хватит, пожалуй. В следующий раз, как заболею, выскажу остальное. Я хочу спать. Ты ложись, уже поздно.
— Да, — сказал он, — уже поздно. Я потом. Ты извини, я потом. У меня статья недописанная. Я приду. Потом приду. Спи.
Он погасил свет и, забыв пожелать спокойной ночи, прикрыл за собой дверь, ушел в маленькую комнатку, сел там прямо на пол и долго сидел в темноте, стараясь ни о чем не думать, тем более о статье.
5
Два дня он не ходил на работу, а сидел дома, следил, как постепенно выздоравливает Зоя, как снова она становится молчаливой и покорной, снова превращается в привычную, знакомую женщину, которую можно звать не только по имени, но и просто — жена. Тот разговор, казалось, забылся между ними, да, пожалуй, и разговора–то особенного не было. Она была больной, он пьяный и усталый, и мало ли чего могло показаться в обычных словах в ту ночь.
Он ухаживал за ней, получая странное удовольствие от того, что нужен другому человеку, живому, единственному, а не просто абстрактному человечеству, для которого, как он думал, он и живет, и работает, и мучает невинных лягушек.
Они разговаривали и в эти дни, но разговоры их были просты: о погоде, о болезнях, о близком отпуске, словом, разговоры, придуманные людьми для того, чтобы скрывать свои мысли.
Когда он пришел в лабораторию, то увидел, что в тот раз он оставил окно открытым и ветром опрокинуло один террариум. Он лежал на полу, вода уже высохла, а лягушки разбежались по комнате и было слышно, как они шлепают мягкими лапами то под столом, то под умывальником. Он посидел в кресле, лягушек ловить не хотелось и совсем не удивился, когда пришла Алла, села позади него и так сидела, щелкала пальцами, посвистывала, мурлыкала себе под нос.
— Ну, как американцы? — спросил он. — Еще не утерла им нос?
— Чистого носового платка не нашлось. А я вижу, ты стал гуманным лягушек на волю выпустил.
— Да, теперь очередь за тобой. Отпусти своих псов на свободу. Лето ведь, им гулять хочется.
— Хорошо. Непременно. Сейчас же.
Она встала, и он услышал, как она уходит, как идет по коридору, гремит дверьми, а потом заскулили собаки, застучали когтями по бетону, и вскоре их лай послышался за окном.
А потом он услышал голос Аллы. Она кричала что–то веселое, совсем несолидное, смеялась там, во дворе, и, наверное, бегала наперегонки со своими собаками.
Он тоже вышел во двор и увидел, что так оно и есть. Зачуханные псы со свалявшейся и грязной шерстью, с глазами, слезящимися, мутными, но все равно счастливыми носились по двору, лаяли, валялись в пыли, теребили пушистые желтки одуванчиков, а сама Алла догоняла их, валила на землю, падала, трепала их и смеялась, как маленькая девочка, одуревшая от солнца, травы и пахучей собачьей шерсти.
Из окон высовывались люди, они показывали на нее пальцами, кое–кто хмурился, а сам Лягушатник сел на корточки у нагретой солнцем стены, курил и, не жмурясь, смотрел на все это, и было ему хорошо и даже весело.
Алла подбежала к нему, бухнулась с размаху на колени, рассмеялась громко, и он увидел, что по щекам у нее протянулись струйки размазанной туши и глаза красные.
— Не плачь, — сказал он. — Все прекрасно.
Он протянул руку, чтобы погладить по волосам, но она резко увернулась, засмеялась еще громче и сказала:
— Лето пришло.
— Да, — согласился он.
Подбежала дворняга, самая лохматая, со стеклянной фистулой, свисающей, как сосулька, с ее живота, и завиляла хвостом, словно приглашая еще подурачиться, побегать, порадоваться свободе и чистому воздуху.
— Давай побегаем, — сказала Анкилостома неизвестно кому. — Ну, давай!
И так как дворняга ничего не ответила, то Лягушатник сказал за двоих:
— Давай.
Гололед
В восемнадцать пятьдесят шесть Владимир Антипов нарушил заповедь города. Он выбежал из–за угла и, не отрывая взгляда от открытой двери магазина, побежал через дорогу. Длинная стрелка часов, висящих у магазина, двигалась к вершине круга, и он старался опередить ее.
У дверей стоял скучающий долговязый парень в мятом халате и, посматривая на свое левое запястье, тоже ждал, когда стрелка доберется до цифры двенадцать, чтобы поднять железный крюк и накинуть его в крепкую петлю.
И Буданова тоже торопили секунды. Они появлялись из ничего на зеленоватом экранчике его электронных часов, беспрерывно превращались одна в другую, и это перетекание заставляло нервничать, когда никак не загорался зеленый свет, и Буданов вынужден был сдерживать «Жигули».
И когда пришло время, он, словно вонзая шпору в бок коня, вдавил педаль газа в нутро автомобиля. Секунды на его часах совпали с секундами на уличном циферблате и на часах долговязого парня. И в этом перекрестье времени, на перекрестке пространства месть настигла нарушителя заповеди.
Антипов успел увидеть яркий красный отблеск, брошенный полированным капотом, и через секунду автомобиль всей своей тяжестью обрушился на него, подмял под себя и со скрежетом протащил несколько метров, пока не врезался в низкий бордюр тротуара.
Буданов, смотревший на светофор, лишь боковым зрением увидел тень, мелькнувшую перед ветровым стеклом и, еще не успев осознать беды, нажал на тормоз и ударился лицом о стекло и грудью о руль, но не отпускал его до тех пор, пока «Жигули» не остановились.
Долговязый парень забыл о своем крюке и выбежал из дверей магазина, крича и размахивая руками.
Антипов умер здесь же, на обледенелом асфальте. Слабое тело его не выдержало натиска металла и шин.
Буданов смотрел на то, что осталось от человека, и почему–то все пытался сдвинуть машину с места, толкая ее то сбоку, то спереди. Редкие прохожие сгустились в толпу, они говорили что–то и даже кричали, но Буданов не слушал никого, и только когда подбежавший парень полез под колеса вытаскивать тело, он понял, что случилось непоправимое, и сел прямо на дорогу, и сидел так, пока милиционер не положил руку на его плечо и не спросил: «Вы ранены?»
Он покачал головой и ощутил теплую струйку крови, стекающую наискось по лицу. Он размазал ее рукавом, поднялся и сказал тихо: «Вот, задавил…»
В конце концов его оправдали. Но перед этим были долгие дни и часы томительных разбирательств, опросов свидетелей, экспертиз и заключений. Та секунда, давно ушедшая в прошлое, расчленялась и изучалась тщательно, как под микроскопом.
И сам Буданов множество раз пережил эту секунду, и казалась она ему долгой, практически бесконечной, если смогла вместить в себя и конец человеческой жизни, и перелом в его собственной судьбе.
Время дало трещину, и оттуда, из прошлого, приходили запретные сны, один тягостнее другого. Он ехал на автомобиле и увертывался от людей, бросавшихся под колеса. Но ничего не получалось, он неизменно налетал на них, и люди распластывались под шинами, и «Жигули» подскакивали на них, как на ухабах.
Буданов просыпался и уходил на кухню. Пил воду большими глотками, курил. Он знал, что не дает ему спать. Чувство вины. Он был оправдан перед законом, но все равно, несмотря ни на что, он знал, что виновен именно он, Буданов, и только не знал, как искупить свою вину, и можно ли вообще искупить вину.
Вместе с ним переживала все это и его жена, Лена. Но ей было легче. Вина не тяготила ее. Она боялась за мужа, что его засудят, боялась, что могут присудить крупный штраф, боялась за автомобиль; ей казалось, что его должны теперь отнять, и даже, быть может, уничтожить, как собаку, загрызшую человека. Они приложила все силы, и хотя юридическая невиновность Буданова была налицо, все равно она куда–то звонила, с кем–то советовалась, на кого–то нажимала и долгими часами изводила мужа ненужными разговорами.
На суде он говорил только то, что было; долговязый парень был главным свидетелем; выяснилось, что Антипов был неизлечимым алкоголиком, что он постоянно бил свою жену и все в доме пропивал, и в свой последний день он спешил в магазин за вином. И хотя о покойниках не принято говорить плохо, но об Антипове говорили. И Буданов ловил себя на том, что он ищет оправдания даже в том, что убил человека никчемного, и даже жена Антипова в глубине души должна бы быть рада смерти мужа, но он отбрасывал эти мысли и стыдил себя за них.
Убийство — всегда убийство, и оправданий для него нет и быть не может.
Там, в зале суда, Буданов впервые увидел жену Антипова. Она сидела во втором ряду, плакала тихонько и слезы вытирала черным платком. Острая жалость и удвоенное чувство вины приходили к нему и заставляли голос дрожать и отводить взгляд.
Его даже не лишили прав. Но он сам старался реже садиться за руль, он ощущал к своей машине нечто среднее между страхом и ненавистью. Ведь именно этот сияющий капот первым прикоснулся к заповедному человеческому телу, именно эти колеса нарушили его целостность, осквернили его, смяли, как сминают прочитанное письмо. Это казалось кощунством — вещь, созданная человеком, убивала человека.
«Не забивай себе голову ерундой, — говорила Лена, — человека можно убить чем угодно. При чем здесь машина? И вообще, перестань изводить себя попусту, ты ни в чем не виноват».
А он смотрел на нее, на ее красивое гладкое лицо, на шевелящиеся губы ее, слишком яркие, чтобы казаться естественными, и невольно представлял себе жену Антипова, у которой он отнял мужа, или проще говоря — убил.
Он все время думал о том, что надо бы ее разыскать, попросить прощения, и даже встать на колени, если придется, помочь деньгами или еще чем–нибудь, но все же не решался, и вот она вдруг сама позвонила ему.
Она сообщила прерывистым шепотом, что жизнь ее потеряла смысл, что после смерти мужа дом опустел, что она никому не нужна и жить так дальше не может, и осталось только уйти вслед за мужем туда, откуда никто не возвращается. Она так и сказала: «Уйти вслед за мужем…»
— Вы не сделаете этого, — сказал Буданов, — ради Бога, не делайте этого. Чем я могу помочь вам?
Она долго дышала в трубку, всхлипывала и, как бы между прочим, сообщила свой адрес, и что через десять минут ее уже не будет в живых, и что именно он виноват во всем, и она сожалеет только, что он живет, а муж ее умер, и ей тоже осталось жить совсем немного.
— Я приеду! — прокричал Буданов в трубку. — Я приеду, вы подождите! Я умоляю вас, подождите меня, мы во всем разберемся!
Дом ее находился на другом конце города, и как Буданов ни спешил, приехал он только через полчаса.
Он постучал в дверь, давно некрашеную, со следами топора возле замка. Никто не ответил ему, он поискал кнопку звонка, но не нашел и снова постучал, на этот раз погромче. Толкнул дверь, она поддалась, зашел в темную прихожую, прислушался.
— Где вы? — спросил он. — Это я, Буданов.
Капала вода из крана, на низкой ноте пропела водопроводная труба и еле слышный хрип послышался из темноты. Запинаясь, на ощупь угадывая предметы, Буданов пошел на этот звук, тревожась, чертыхаясь шепотом, пока не догадался зажечь зажигалку. Синий узкий язычок давал мало света, но все же можно было разобрать, где стена, а где двери. За одной из них слышался хрип и приглушенные стоны.
Он рванул дверь на себя. Это была ванная. На цементном полу сидела женщина. Голова ее была запрокинута кверху, глаза закрыты, длинная белая веревка затянута на шее, другой конец привязан к гвоздю в стене. Газ из зажигалки зашипел и пламя погасло. Он чиркнул еще раз, но только длинные снопики искр вырывались из–под кремешка. Газ иссяк. На ощупь ослабил петлю, поддержал готовое упасть тело и, подхватив женщину под мышки, вытащил в коридор.
Она дышала, и это успокоило его. Он не знал, как привести ее в чувство, и не потому, что растерялся, а просто ему еще не приходилось вынимать людей из петли, а весь опыт читателя и кинозрителя подсказывал только, что надо взять тело на руки и отнести на кровать, а потом дать понюхать нашатырного спирта. Резкий запах аммиака, по всей видимости, обладал способностью оживлять умирающих.
Руки и ноги свешивались вниз, голова запрокидывалась, и он вспомнил, что мертвые и спящие кажутся тяжелее, и понял, отчего это. Просто они не могут помочь нести себя, не обхватывают руками шею, не могут прижаться телом, не одобряют словами. По памяти Буданов нашел дверь, которая должна вести в комнату, толкнул ее коленом и осторожно, опасаясь натолкнуться на что–нибудь, стал искать, куда бы положить ношу. Он не знал, где искать выключатель, поэтому пошел вдоль стены, запинаясь о стулья. Его не оставлял страх, что женщина вдруг умрет на его руках и надо бы побыстрее уложить ее и найти нашатырный спирт. Медленно кружил он по комнате, надеясь натолкнуться на кровать или диван, но попадались одни стулья, и вот он услышал глухой звук удара о стекло. Он приблизился к этому месту, присел, согнув колени, и тыльной стороной ладони, сжимавшей женщину, нащупал выключатель. Загудел телевизор. Буданов терпеливо ждал, когда он засветится, и вот выплыл из темноты голубой прямоугольник и сгустился в людей, улицы, дома. Буданов осмотрелся в его пульсирующем свете и увидел диван. Он стоял рядом с телевизором.
Уложил женщину на диван, звук прибавлять не стал, люди на экране шевелили губами, размахивали руками, и в немоте своей казались смешными и беспомощными.
Он не знал ее имени.
— Антипова! — сказал он громко, сев рядом и легонько хлопнув по щеке. Антипова, очнитесь!
Она лежала на спине, веки припухли, волосы спутаны, по худым ногам гуляли блики от экрана.
Он одернул платье, расстегнул пуговицу на воротнике, провел рукой по ее горлу. Не было похоже, что его только что сжимала тугая петля, и ему показалось вдруг, что она просто притворяется, дурачит его, ломает глупую комедию, и он рассердился, хлопнул по щеке чуть сильнее, а потом и вовсе сильно. Она открыла глаза и застонала, задышала глубже, взгляд ее, устремленный вверх, переместился на стену и остановился на Буданове. Бессмысленный, спокойный взгляд, как у только что разбуженного человека.
И тут же в глазах мелькнул страх, или стыд, или еще что–то столь же сильное. Она подобрала ноги, отскочила в дальний угол дивана и выставила руки вперед, растопырив пальцы. Буданов протянул руку, но она закричала, хрипло, без слов, а лицо ее и в самом деле выразило ужас.
— Успокойтесь, я не трону вас, — сказал Буданов и встал с дивана. — Вам лучше? Может, вызвать врача?
Она не отвечала. Буданову стало совсем неуютно в чужой квартире, рядом с незнакомой женщиной, в голубоватом свете молчаливого телевизора. Он включил звук, поднял упавший стул, уселся поудобнее и стад смотреть незнакомый фильм.
Там красивая девушка смеялась и обнажала ровные зубы, а смазливый парень тоже скалился в ответ, правда, не так ослепительно, но все равно очень мило. «Вот увидишь, у нас все–все будет очень хорошо», — говорил он ей, а она соглашалась: «Да–да, конечно, я верю, нас ждет только счастье». И так далее. Буданов смотрел и все ждал, когда же им будет хорошо, но не дождался, переключил на другую программу.
Там показывали африканские саванны, а потом южно–американские льяносы и пампасы, а потом и самые настоящие русские степи, и по всем этим степям бродили люди и звери, и где–то все это было, где–то, но не здесь.
А здесь была чужая комната, обжитая чужими людьми, и чужие вещи, купленные на чужой вкус, и чужая женщина за спиной, и только одно объединяло Буданова и жену покойного Антипова — смерть человека, который жил здесь, сидел на этом стуле, спал на этом диване, смотрел этот телевизор, любил эту женщину.
Ни дружба, ни общие интересы, ни даже простое соседство не связывали Буданова и жену покойного Антипова. Это была связь ограбленного и грабителя, обиженного и обидчика, хотя то звено, что связывало их, выпадало из цепи, но незримо присутствовало здесь, в этой комнате на своей суверенной территории.
Так думал Буданов, пока его взгляд скользил по экрану, а уши ловили шорохи за спиной, так думал он, и мысли эти не давали ему уйти отсюда. Он все ждал, когда Антипова заговорит, когда она начнет обвинять его, проклинать, быть может, плакать, ждал, как неизбежного зла, и даже готовился оправдываться. Да, виноват он, да, он готов искупить вину, и пусть закон признал его невиновным, но все равно, по совести, по неписаной высшей правде он, Буданов, — убийца. Это он убил человека, это он сделал его жену вдовой, а дом его — пустым.
Он смотрел на эту скромно обставленную комнату, на стены с пятнами и потеками, на рассохшийся пол, и мучился от жалости и собственного бессилия, от неумения изменить чужую жизнь, и хотелось ему только, чтобы женщина заплакала и заговорила.
— Вам трудно говорить? — спросил он. Антипова сидела в прежней позе, только руки опустила на колени и голову склонила.
— Если вам нечего сказать, то я, быть может, уйду? Вы больше не будете делать… этого?
Но она молчала, и он пошел искать телефон, позвонил жене и объяснил ей, что он у Антиповой, да–да, у той самой, и пусть Лена не беспокоится, он скоро приедет. Она спросила его в свою очередь, что хочет Антипова, и если она просит денег, то пусть он не обещает много, им, мол, и самим нужны, и вообще, пускай он поскорее развязывается с этой некрасивой историей, дома ужин стынет.
— Послушайте, — сказал он Антиповой, — послушайте, скажите мне сразу, что я могу сделать для вас? Вам нужна помощь? Может, вам нужны деньги? Я понимаю, похороны потребовали затрат, и к тому же вы теперь одна, помочь, наверное, некому. Ну, скажите прямо, я не обижусь. — Но она молчала. Тогда я уеду. — У меня нет времени сидеть здесь и караулить вас. Неужели у вас нет подруг, родственников? Ну, позовите кого–нибудь, если вам трудно. Ну, в конце концов, ну, я не знаю. Нельзя так, ну нельзя…
Мурлыкал телевизор, за окном пролетел самолет, водопроводная труба взяла вторую октаву.
Буданову хотелось сказать очень много, но он не мог говорить, если никто не отвечал ему, не спорил с ним, и даже не соглашался.
— Хорошо, в таком случае, прощайте. Мой телефон вы знаете.
Он открыл дверь, вышел в подъезд, спустился на один этаж ниже, но все же остановился, постоял немного, а потом медленно вернулся.
В комнате Антиповой не было, а дверь в ванную была закрыта.
Буданов заколебался. Он чувствовал, что его просто дурачат, но цели этой трагикомедии были для него непонятны, и потому он не был уверен, так ли это на самом деле. Быть может, и в самом деле жизнь для Антиповой потеряла смысл, и в пустой квартире, в одиночестве, ей до того страшно и тоскливо, что существует только один выход.
Шпингалет легко вырвался из древесины. Рассеянный свет проникал из комнаты и было видно, что Антипова сидела на краю ванны и тихонько плакала, почти без звука.
— Ну что ты будешь делать! — сказал Буданов в сердцах. Дернул за петлю, веревка вырвалась из стены вместе с гвоздем. — Где у вас зажигается свет? — спросил он. Ответа, конечно, не дождался, пошарил по стене, щелкнул выключателем. Поискал глазами, нашел еще обрывок веревки, собрал все полотенца, набралась целая охапка, и вышел со всем этим из ванной. Можете закрываться, — сказал он.
И снова уселся перед телевизором. Тот послушно отражал то, что происходило за тысячи километров отсюда, огромные заводы, потоки расплавленной стали, грохот блюмингов и почти ощутимый жар мартенов… Экранчик часов сгустил цифры.
«Пора домой, — подумал Буданов. — Что я смогу сделать? Женщину эту я не понимаю, и никогда не пойму, наверное… Да, пора идти, Лена беспокоится».
Он думал так, но со стула не вставал, думал так, но знал одновременно, что не уйдет отсюда, не может он уйти, покинуть эту незнакомую и непонятную женщину. Запах беды стоял в доме и тревожил Буданова, заставляя его искать выход, искать спасения. Не только для нее, но и для себя. Если она умрет, то на его совести будет еще одна жизнь, и не только на совести, как знать, что напишет она в своей последней записке, кого обвинит, кого проклянет. А ведь скорее всего, его — Буданова.
Антипова вышла из ванной, он слышал, как скрипнула дверь, как мягко прошелестели ее босые ноги по коридору, и вот она зашла в комнату. Он обернулся.
В первую минуту он решил, что это другая женщина, потому что Антипова неведомо как успела переодеться. Была она в длинном нарядном платье с глубоким вырезом, волосы расчесаны и кокетливая прядь падает на висок, а по лицу прошлись пудра, тушь и помада. Не говоря ни слова, она открыла шкаф, покопалась там, вынула туфли, обулась. Щелкнула выключателем, скользящим шагом подошла вплотную к нему, отставила ногу, склонила голову набок, улыбнулась так, как могут улыбаться только красивые, уверенные в себе женщины.
— Вячеслав Андреевич, будьте сегодня моим гостем. Вы знаете, мне так одиноко.
Буданов медленно поднялся:
— Спасибо, но уже поздно, мне надо ехать. Простите, не знаю ваше имя–отчество…
— Зовите меня просто Катя, — сказала она и легким движением провела пальцем по его рукаву, — а я вас буду звать Слава. И вообще, давай на «ты». Ты очень милый, Слава. Не спеши, останься.
— Я понимаю, Екатерина… э–э…
— Катя. Зовите меня Катя.
— Ну, хорошо, я понимаю. Катя, что вы перенесли большое горе, и ведь именно я, хоть косвенно, но повинен в этом. Скажите прямо и честно, что я должен сделать, чтобы хоть немного искупить свою вину?
— Останься со мной, — сказала она, придвинулась ближе и прикоснулась к нему, он отпрянул.
— Нет, мне пора. Я рад, что вам стало лучше.
— Ну, Славик, ну, ты невежлив, — протянула она.
— Завтра, — сказал Буданов, — я приеду завтра, и мы все обговорим. А сейчас мне некогда. До свидания.
Уже на улице ему стало стыдно, что он так поспешно и трусливо сбежал, и досаду свою выместил на дверце автомобиля. Он хлопнул так, что звякнули стекла и замок жалобно вскрикнул. Он все еще испытывал к своей машине неприязнь, она казалась ему чуть ли не живым существом, капризным, злым и хитрым. Она только притворяется покорной и беспомощной, только делает вид, что мертва без человека, а на самом деле только и ждет удобного случая, чтобы выкинуть коленце: то заглохнет на подъеме, то спалит свечу, то начнет симулировать тяжкую болезнь карбюратора, а сама только и добивается чтобы человек в унижении своем, уподобившись червю, заполз под нее и стал бы щекотать ей брюхо гаечными ключами. «Продам машину, — подумал Буданов, без особой нежности загоняя ее в гараж. — Непременно продам…»
Дома пришлось выдержать неприятный разговор с женой. Он честно рассказал бы все как было, но в этой правде была такая нелогичность, что поверить в нее было трудновато, тем более жене. Он боялся взрывов ее ревности и всячески избегал их, и поэтому предпочел придумать более понятную причину своей задержки. Он сказал, что Антипова просит денег, не слишком много, но, во всяком случае, она обещала оставить его в покое. Это успокоило Лену, и она согласилась, что так, пожалуй, будет лучше, ведь она сама женщина, и очень хорошо понимает, что одной тяжело, и если, например, он, Буданов, вдруг погибнет, то она, Лена, непременно сойдет с ума от горя и одиночества. Она нежно обняла его, и ему показалось, что она все лжет, и даже, быть может, будет рада, если он умрет.
Ему стало жалко себя, в эту ночь он спал плохо и, как обиженный подросток, воображал себе сцены своей смерти и похорон. Сладкая горечь обиды сжимала сердце, и он чаще обычного вставал и уходил на кухню выкурить очередную сигарету.
Возвращаясь с работы, он заехал в сберкассу и снял деньги. Еще днем он решил, на что их потратит. Отдавать деньги в конверте или просто сложенной вдвое пачкой казалось ему неудобным, и он решил купить на них какую–нибудь вещь, чтобы она хоть немного скрасила одиночество несчастного человека. И он купил здоровенный ящик — цветной телевизор. Ящик, вмещающий в себя так много людей, что среди них всегда можно было сыскать нужного и желанного. Тот телевизор, что стоял у Антиповой, был старой модели, с маленьким экраном, а уж цветной должен непременно украсить и разнообразить жизнь.
У самого Буданова не было такого, все как–то руки не доходили, да и деньги предназначались для других целей, но он убедил себя, что после того, как он преподнесет Антиповой этот подарок, она сразу же успокоится, улыбнется, скажет ему «спасибо» и забудет все, простит его и найдет успокоение в цветных миражах премудрой электроники.
Он оставил телевизор в машине, а сам поднялся на пятый этаж, отдышался, пригладил волосы, поправил шарф и шапку. Постучал. Он представил себе, как она сейчас откроет дверь, как удивится, и что она скажет ему. Сознание благородства своего поступка немножко опьянило его. Он уважал себя в эти минуты. Но никто не подходил к двери, не открывал ее, он постучал еще раз и еще, прикладывал ухо к двери и снова стучал, пока не убедился, что дома никого нет, рассердился на себя, что так вот, по–мальчишески, не узнав заранее, не договорившись, приехал неожиданно и попал в глупое положение.
Домой ехать не хотелось, он решил дождаться ее, развернув машину так, чтобы видеть дверь подъезда. И ждал так долго, все более и более досадуя на себя и в мыслях своих называя себя не иначе, как дураком, а то и похуже. Но уезжать все равно не хотелось, он знал, что в этом случае его досада еще более возрастет.
Итак, он был голоден, зол, у него кончились сигареты, стало ощутимо темно, ветер раскачивал фонарь у козырька подъезда, треугольная тень, как бесшумная волна прибоя, накатывала и откатывала от него, а она все не приходила.
В десятом часу открылась дверь и на крыльцо вышел какой–то мужчина. Буданов отвел равнодушный взгляд, но тут боковым зрением увидел, что вместе с ним вышла и та, кого он так долго ждал. Да, это была Антипова, он узнал ее, хотя она была в пальто, накинутом на плечи. Они оба, мужчина и женщина, постояли с минуту на крыльце, он махнул рукой и направился к дороге, а она посмотрела ему вслед и, ежась от холода, скрылась в подъезде.
«Ах, вот оно что, — подумал Буданов, — она была дома и не открывала дверь, она была не одна. Вот, значит, каково ее горе, безутешное горе вдовы».
Он зло и вычурно выругался, резко поворачивая ключ зажигания. Он чувствовал себя мальчишкой, обманутым и оскорбленным. Он ненавидел себя, но больше всего — ту, что одурачила его, взрослого, умного, проницательного и великодушного. «Гимназист, — честил он себя, — сопляк, желторотый романтик, растяпа, остолоп, выродок, кретин…» И зло свое вымещал на машине. Он бросал ее из стороны в сторону, безжалостно давил на тормоз, автомобиль взвизгивал, ерепенился, юзил на поворотах, и Буданов, стараясь угодить колесами в каждую выбоину на дороге, злорадно прислушивался к скрежету и стуку под брюхом машины и, будь он всадником, то давно бы уже искровавил бока коня шпорами, разодрал бы его рот удилами, исхлестал бы его круп до костей и загнал бы его до смерти…
«Продам, непременно продам машину», — приговаривал он, закрывая гараж на четвертый, самый мудреный замок.
Телевизор он так и оставил на заднем сиденье, поленился тащить в дом. Поднялся злой, раздраженный, с порога накричал на жену, в общем–то ни в чем не виноватую, но ему казалось, что и она причастна к его унижению («Знаю я вас, баб, все вы подлые»), что и она обманывает его красивым лицом и притворной любовью, а на самом деле она уродлива и лжива, и ждет только его смерти, и смеется над ним, ведь не зря она сшила это платье, и, кстати, почему она так загадочно улыбалась в среду, когда пришла домой позже обычного.
Лена уперлась руками в бока («Нет, эти располневшие бугры уже не назовешь талией»), Лена выкрикивала злые слова («Нет, эту разверстую пасть с золотыми коронками уже не назовешь ротиком»), Лена схватила тарелку и грохнула ее об пол («Нет, эти грабли, эти лапищи уже не назовешь ручками»), Лена топнула ногой, да так, что зазвенели стекла («Нет, эти костыли, эти ходули уже никогда не назовешь ножками»)…
На улице он немного остыл, идти было некуда, ни друга, ни любовницы. Он усмехнулся: да, ни любовницы. Что за пошлое слово! Что за пошлая жизнь.
Позади, на третьем этаже, остался самый старый, самый испытанный враг жена, напротив, в гараже, ждал его самый хитрый и самый подлый враг автомобиль, и где–то далеко, на другом конце города, жил еще один Антипова, враг непонятный, смутный, но еще более опасный оттого, что не знаешь: чего ожидать от него, к какому удару готовиться.
Он открыл гараж, сел на табуретку, прислонившись к батарее, рассеянно пошарил по карманам в поисках сигарет, но они давно кончились, тогда он набрал щепотку табаку в складках кармана, пожевал и с отвращением сплюнул. «Жигули» скалились радиатором, беззвучный смех мертвой машины слышался в стрекозиных глазах ее.
«Уродина, — сказал он, — пошлая груда металла, как ты смеешь?» И устало вздохнул, забрался в нутро ее и взглянул на унылый гараж ее глазами.
Он включил приемник, послушал известия. Вражда и распря в мире; не долетев до земли, взорвался самолет; ракета «воздух — земля» убила сто человек; массовое убийство в джунглях; диктатор объявил войну своему народу; новая звезда вспыхнула в созвездии Льва и гаснуть пока не собирается.
«Наверное, это моя звезда, — подумал он, — ведь это я родился под созвездием Льва. Интересно, какого она цвета?»
Он так и заснул в машине, переложив телевизор на переднее сиденье, и спал до утра.
И снова была работа, и суета, и шум станков, и свежая ссадина на большом пальце, полученная по неосторожности. Он не звонил домой и не знал, как он поедет туда и что скажет жене. Он и раскаивался во вчерашнем, и любил свою жену, и ненавидел, и все прощал ей.
— Тебя к телефону, — сказали ему, перекрикивая грохот, — баба какая–то.
«Лена, — подумал он, — это она звонит, не выдержала, значит, ну и сволочь же я после вчерашнего».
Он шел к телефону, раскаявшийся и умиротворенный, и сказал в трубку тихим виноватым голосом:
— Я слушаю.
Он сначала не узнал ответивший ему голос, названное имя ничего не сказало ему. Что еще за Катя? Ах да, Антипова.
И он придал своему голосу твердость и осведомился, в чем дело. А дело было в том, что Антипова успокоилась и теперь отчетливо понимает, что ей нужно от Буданова. Холодным тоном она объяснила, что и в самом деле нуждается в деньгах или хотя бы в какой–то компенсации за утраченного близкого человека. И если Буданов исполнит свой долг, то она отстанет от него и беспокоить его больше не будет.
— Благодарю за искренность, — сказал он в ответ. — Так–то честнее. Я приеду к вам. Катя. Надеюсь, что на этот раз вы будете дома.
Итак, он вымылся под душем, нашел бритву, выскоблил шею и подбородок, раздумывая, не отпустить ли ему усы, этакого вот залихватского вида, заехал на заправку и по знакомому уже маршруту покатил к своему дальнему и недавнему недругу.
И пока ехал по городским улицам и выстаивал положенное время под светофором, придерживая на поворотах картонный ящик с телевизором, он думал о том, что скажет, когда приедет, и еще о том, как он все это скажет — достойно и красиво. И еще немножко о жене, и вообще, о своей семье, пустой, бездетной, и оттого, хочешь не хочешь, бессмысленной.
Но больше всего он думал о самой Антиповой, о том, что, потеряв мужа, она мечется и не может найти успокоения в жизни. Он думал о том, что смерть Антипова разорвала естественную цепь причин и следствий, существовавшую при его жизни. Круг людей и судеб, связанных с ним, разомкнулся, и некому заменить его, ибо он жил в мире, где все взаимосвязано и взаимообусловлено, а удалив одно звено, неизменно нарушается целый слой жизни, и долго расходятся круги по воде от брошенного камня.
И жена Антипова, жившая с ним общей жизнью, должна острее всего ощущать потерю. Прожив много лет с другим человеком, врастаешь в него, и он в тебя тоже… Симбиоз людей, жизненно необходимый, разрушается, когда уходит один из них, уходит навсегда. В конечном счете, все мы зависим друг от друга, но больше всего — от наших близких, подчас ненавидимых или мучительно любимых нами, но все равно — уйди от них — и останешься в тягостной пустоте, которую придется заполнять иными звеньями, другими людьми. И если он, Буданов, пусть невольно, но разрушил эту цепь, то именно он в ответе за ту безвоздушную среду, в которой сейчас живет Антипова, именно он должен наполнить ее или помочь замкнуть новый круг.
Он ехал и думал о том, что женщины сильнее врастают в своих близких, они больше страдают от непоправимого ухода их, мечутся в разомкнутом кругу, принимают разные обличья, соединяют в себе те разрозненные звенья, что остались после смерти любимого.
И вот она, Антипова, не может найти покоя ни в душе своей, ни в окружающем мире, и, как камбала, выброшенная на берег, меняет свой цвет, растерянная и неумелая, близкая к гибели, лихорадочно ищет ту форму, в которой она может найти успокоение и прерванную связь с миром.
Буданов думал так, и ему казалось, что он нашел ключ к этой женщине, нашел объяснение ее метаморфозам, ее судорожным попыткам обрести себя…
Он попробовал вытащить ящик с телевизором, но одному это было не под силу. На скамейке у подъезда сидел человек, Буданов подошел к нему и попросил помочь. Тот выразительно оттопырил мизинец и большой палец, Буданов понимающе кивнул, они вдвоем ухватились за прорези в картонном ящике и потащили его по узким лестницам.
— К Антиповой, что ли? — спросил человек.
— Да, — неохотно ответил Буданов.
— Ага. Ясно, — сказал тот. — Ты ей, значит, телевизор, а она тебя, значит, в гроб сведет. Ох, чертова баба!
Буданову не хотелось разговаривать, но он все же спросил:
— Почему?
— А так, стерва она и все тут. Думаешь, ты один такой? Как бы не так. Володька вот из–за нее пропал и ты пропадешь. Как пить дать! Она ящик твой загонит и похоронит тебя на эти денежки. Так что свой гроб несешь, земеля. Понял?
— Понял, — сказал Буданов и запнулся о ступеньку, чуть не грохнул свой груз и, конечно же, вспотел от страха, как любящий отец, уронивший ребенка и подхвативший его у самой земли.
Дверь была не заперта, снова никто не встретил его в прихожей, но горел свет, было прибрано, пахло духами и еще чем–то аптечным. Буданов поставил ящик у стены и вежливо кашлянул. Было тихо, даже водопроводные трубы не пели, и Буданов чувствовал себя неуютно, как неопытный вор. И все–таки он снял пальто, разулся вдобавок и постучал в дверь комнаты. Никто не ответил, да он и не ждал ответа, громко кашлянул и вошел. Здесь тоже горел свет, все три лампы высвечивали закоулки комнаты, и оттого она казалась еще более нежилой и неприглядной. Обшивка стульев потертая, нестираная, круглый стол с вызывающей бедностью застелен исшарканной клеенкой, продавленный диван, телевизор сиротской, давно уже не выпускаемой модели. Хозяйки здесь не было. Не было ее и на кухне, и в ванной не было, и в соседнем закутке тоже. Буданов выругался про себя, все приготовленные слова стали никчемными, и вообще все ожидаемое им не сбывалось и это, конечно же, раздражало.
Он решил подождать, а чтобы чем–нибудь заняться, стал распаковывать телевизор. Он и в самом деле был красив той красотой, какой обладают дорогие вещи. Буданов уважал электронику, хотя бы потому, что мало разбирался в ней, и, честно говоря, сам процесс превращения невидимых колебаний неощутимого пространства в цвет и звук так и оставался для него чудесным таинством, уделом избранных, священнодействием умников.
Скрупулезно следуя инструкции, он настроил телевизор и по–детски обрадовался, когда цветные блики скользнули по экрану и воплотились в людей, а динамики донесли до него голоса, прозвучавшие за тысячи километров отсюда, отраженные в космос, пойманные там хитроумным зеркалом, парящим в пустоте, и посланные сюда, в эту комнату.
Как и в тот раз, он придвинул стул и стал смотреть телевизор. Шел фильм без названия, где умные и не слишком умные люди спорили о том, что план никогда не выполнишь, если будешь работать на этих станках, а вот если взять тот станок и переделать в нем это и это, то продукции будет так много, что склады развалятся от обилия ее, и поэтому нужно расширить склады, а чтобы их расширить, нужно увеличить площади, а чтобы их увеличить, нужно нажать на Марью Ивановну, а Марья Ивановна, хотя и деловая женщина, но влюблена в Ивана Петровича, а он… И так далее, под задушевную музыку и с лирическими паузами. Буданов заскучал от этой тягомотины, он каждый день у себя в цехе видел подобные сцены, но не подозревал, что это может считаться искусством, поэтому переключил программу и стал смотреть на цветистых птиц и забавных зверушек, живущих в неведомых землях.
Он смотрел на все это и все же не забывал, где он находится, и помнил о том, что сидит он в чужой квартире, хозяев нет и неизвестно, придут ли они когда–нибудь. Непроизвольно он ловил звуки, доносившиеся из кухни и прихожей, он ждал, когда откроется дверь, но слышал только редкие голоса за окном и надсадные крики заморской кукабары, и вторивший ей вопль ревуна, и Буданову стало совсем нехорошо в австралийских лесах, где того и гляди прилетит бумеранг из эвкалиптовой рощи.
И вот скрипнула дверь и кто–то вошел, напевая. Конечно, это была Антипова; она зашла в комнату, румяная и веселая, прижимая к груди нарядную куклу, и остановилась, увидев Буданова; сдержанно кивнула ему.
Он встал, убавил звук и сказал:
— Вы звали меня. Я приехал. Вот это я привез вам. Если он вам не нравится, можете продать. Теперь все? Я могу быть свободен?
Антипова села на диван и, поправляя голубые волосы куклы, сказала спокойным и серьезным тоном:
— Говоря по–честному, Слава, мне ничего от тебя не нужно. И вообще, какие могут быть счеты между нами? Мой муж сам виноват в своей смерти, и ты напрасно мучаешься, я тебя ни в чем не виню. Да, я позвонила тебе и сказала, что мне нужна компенсация, но ты же умный человек и сам прекрасно понимаешь, что ни вещи, ни деньги не могут заменить умершего… Я осталась одна, у меня никого нет — ни родителей, ни детей, ни мужа. И я очень боюсь одиночества.
— Простите, но что же делать мне? Искать вам нового мужа? Или, быть может, мне самому жениться на вас? Как я могу заменить вам незаменимое? Ну, подскажите мне, посоветуйте, что я еще должен сделать для вас?
— Ничего. Совершенно ничего. Иди домой, к своей жене. Она счастливая, у нее есть муж, а у тебя — она. Ты не одинок. А я с детства была обречена на одиночество. У меня не было отца, а мать была такая, что и словом добрым не помянешь. И с мужчинами мне не везло. Кто бросал меня, кто спивался, кто умирал. И Володя вот погиб. И детей у меня никогда не будет. Ты не думай, что я хочу разжалобить тебя. Жить не только тяжело, но и больно. А боль одиночества непереносима. Телевизор можешь забрать, зачем он мне? И деньги от тебя мне не нужны.
— Ну, хотите, я буду приезжать к вам, разговаривать с вами, хотите?
Она тихонько засмеялась:
— Нет, не хочу. Не приезжай ко мне, не разговаривай со мной. Зачем я тебе, одинокая дурочка, драный котенок? Ступай к своей умной, красивой жене. Я не умру и с ума не сойду, и вообще, какое тебе дело до меня?
Буданов устал от этого разговора, ему стало обидно, что его благородный поступок остался незамеченным и искренние слова неоцененными, и он сказал раздраженно:
— Кстати, я приезжал к вам вчера. Вы мне не открыли. Ну конечно же, вы так одиноки, к вам никто не приходит, вы сходите с ума от одиночества и горя, и сами не знаете, что вам надо. Но при чем здесь я? Почему я должен страдать вместе с вами? Сколько еще я должен расплачиваться?
Он и в самом деле разозлился, и ему казалось, что прав только он, что его унижают, бесчестят и желают ему зла. А Антипова не стала больше говорить ничего, а просто расплакалась, поджала ноги, прижала к себе куклу и горько заплакала.
И Буданов растерялся, мысленно проклял и себя, и ее, и свое тупоумие, и непредсказуемость ее поступков. Уйти он не мог и что делать дальше, не знал тоже.
Итак, их было трое в комнате: он, она и телевизор. И самым мудрым из них был телевизор. Он послушно отражал зеленые луга, и белых лошадей, и голубую воду, и красные лепестки цветов, а если надо было, то с такой же безмятежностью показывал войны и вспышки снарядов, и людей, исколотых штыками. И Буданов вспомнил рассказ с позабытым названием, в котором человек, спасаясь от зубной боли, превратился в телевизор, и в этой ипостаси нашел свое призвание. Буданов позавидовал этому герою, и хитроумию автора тоже позавидовал, потому что сам был не способен ни превратиться в телевизор, ни написать рассказ, ни утешить плачущую женщину.
— Перестаньте, — сказал он, — ну, я вас прошу, не плачьте. Я вас обидел? Ну, простите меня. — Он подошел к ней, сел рядом и осторожно, как дикого зверька, погладил по голове. Ему стало жаль эту женщину, и хотя мысленно укорил себя, что снова расклеился и размяк, а она, быть может, только и добивается того, но все равно он чуть ли не с нежностью провел рукой по ее лицу, вытирая слезы.
— Катя, — сказал он, — ну не надо. Катя, не плачь, Катюша. — И он даже не удивился, когда она ответила на его прикосновение, доверчиво, как девочка, прижалась к его руке, и он не отнимал ее, и слезы стекали по ладони и капали на пол.
Телевизор проиграл знакомую мелодию, начиналась передача «Время», значит, было уже пол–одиннадцатого, и ночь на дворе, и замерзающая вода в радиаторе, и жена дома.
Но он не пошел ни к телефону, ни вниз — к машине, а так и остался сидеть, гладил свободной рукой ее руки, и лицо, и шею, и убеждался с радостью, что она успокаивается и что вот–вот вовсе перестанет плакать. У него никогда не было детей, но сейчас ему показалось, что он понимает, что такое отцовское чувство и отцовская любовь, ему было жаль эту женщину, эту девочку, он любил ее и готов был сделать что угодно, лишь бы она перестала плакать, улыбнулась ему и обрадовалась новой игрушке, позабыла бы все обиды.
«Бедная девочка, — думал он, — совсем–совсем одна на свете, и муж был сволочью, бил ее, и детей у нее тоже нет, как у меня. И разве я имею право осуждать ее, если кто–нибудь приходил к ней? Одна–одинешенька, кто ей поможет?»
Она перестала плакать, телевизор перестал показывать, а он пошел звонить домой. Лена холодно ответила ему; он не хотел враждовать с ней и сказал, что сейчас приедет, но ей ссориться не наскучило, она сказала гадость, а потом еще одну, а под конец сообщила ему, что он может и вообще не возвращаться, и пусть ночует там, где и в прошлую ночь; он, конечно же, сказал на то, что спал в гараже, ну, а она, конечно же, ляпнула такую гадость, что он взорвался, накричал на нее и первым бросил трубку.
Антипова сидела на полу перед телевизором и крутила ручки, нажимала разные кнопочки и клавиши, отчего кинескоп то вспыхивал разноцветными искрами, то покрывался пятнами, то погасал. На ней был легкий халатик, и Буданов удивился: он почему–то никак не мог вспомнить, в чем она была одета до этого, но уж явно не в халате. Она обернулась и посмотрела на него шаловливым взглядом нашкодившей девочки, и только морщинки у глаз и на лбу были лишними, да тени под глазами, да накрашенные губы.
Она вскочила и бросилась ему на шею, он испугался и отпрянул, а она уже успела обнять его и оторвать ноги от пола; вот так и получилось, что он не удержался и свалился на спину, а она цепко обхватила его руками и коленками, уселась верхом, засмеялась и стала небольно колотить его в грудь. Буданов не пытался подняться, но и на игру не отвечал. Ему снова стало не по себе, как и в тот, в первый вечер. Многочисленность людей, спрятанных внутри нее, пугала. Сейчас она была шаловливой девочкой, любимой дочкой, которой все разрешается и прощается. Она стала ею, словно бы почувствовала отцовскую нежность Буданова, и вот — снова изменила обличье.
— Я пойду, — сказал он. — Мне пора ехать.
Но она закрыла ему рот ладошкой, и последняя фраза получилась невнятной и смешной. Она обняла его, прижалась грудью, погладила щеку его и прошептала:
— Хороший ты, Славик, хороший, — и чмокнула его в нос.
Он машинально вытер его рукавом, красная полоска помады осталась на обшлаге.
Гудел телевизор, экран его равномерно светился розовым светом, как огромный глаз сквозь закрытое веко.
— Я солью воду из радиатора, — сказал он, взял ее на руки, отнес на диван и без пальто вышел на улицу.
В кабине он разыскал пачку сигарет, закурил, включил зажигание, завел мотор, подождал, когда он разогреется и кончится сигарета, тщательно загасил окурок и мягко выжал сцепление.
Через два квартала мотор застучал, забулькал, захрипел, как тяжело больной человек, и машина остановилась. Буданов покопался в моторе, но было темно, фонарь он не захватил, а светить зажигалкой побоялся.
— А, и ты с ней заодно! — сказал он и в сердцах пнул ее в колесо, и еще раз — в подбрюшье. Машина не ответила, тогда он набросился на нее с кулаками и, конечно же, разбил пальцы в кровь.
Боль отрезвила его, он закрыл дверцу, слил воду из радиатора и, чертыхаясь, побрел назад.
Дверь оказалась запертой, он стучал минут десять, сначала робко, потом раздраженно — кулаком. Ему не открывали.
Итак, он был раздет, бездомен и предан. Предан женой, автомобилем и этой женщиной, которую он чуть не удочерил в сердце своем. В своем глупом и доверчивом сердце.
Разбитые пальцы болели и снова начали кровоточить. Было ясно, что впускать его не желают, но идти было совершенно некуда, вот он и сел на верхнюю ступеньку лестницы, притулился спиной к перилам и посасывал костяшки пальцев, поплевывал розоватой слюной и, конечно же, только себя одного считал виноватым.
Он чувствовал себя бегущим по сужавшемуся кругу, каждый раз он повторял свои витки, возвращался к этой двери и снова уходил от нее, и снова прибегал, и знал, что витки сужаются, и что вырваться он уже не сможет никогда, и что вся эта маета не что иное, как наказание ему за совершенное преступление.
И здесь, за этой дверью с облупленной краской, с трещинкой от топора, с криво прибитым номером, ждут его и суд, и тюрьма, и казнь, возможно, мучительная.
Буданов лизнул ранку, присел перед прыжком и что было силы ударил каблуком в дверь. Она вздрогнула, старая щель расширилась, из нее блеснул свет. Буданов знал, что все равно никто из соседей не выйдет, и его даже развеселило это. Он еще раз с грохотом и треском ударил по двери, она не выдержала и распахнулась перед ним, как ворота сдавшейся крепости.
В квартире было тихо, в прихожей горел свет, а в комнате — темно, и Буданов выбежал на очередной виток, как обычно, в неведении и растерянности.
Он знал, что бить женщин не полагается, да никогда бы и не смог сделать этого, просто кулаки, что называется, очень уж чесались, когда он пинком распахнул дверь в комнату.
— Издеваешься, да? — закричал он первое, что пришло на ум. Но она спала и даже не пошевелилась в ответ. Просто спала, на диване, на простыне, под одеялом, и если бы Буданов не пыхтел так громко и гневно, то услышал бы ровное дыхание ее.
И это очередное несоответствие между предполагаемым и действительным окончательно взбесило Буданова. Он подскочил к дивану, сгреб одеяло и смахнул его на пол, и ждал только одного — ее испуга, чтобы она вскочила и забилась в угол, прикрыла грудь руками, закричала бы напуганно.
Она и в самом деле проснулась, открыла глаза и спокойно посмотрела на него, но не было в глазах ее ни испуга, ни гнева, ни презрения.
— А, это ты, Слава, — сказала она, зевая, — где ты был так долго? Ложись, уже поздно. — И отвернулась к стене, и, кажется, заснула. Обыденно и привычно, как собственная жена, с которой прожил не один год, и которая даже ревновать разучилась.
И Буданов проклял судьбу, а потом наладил, как уж сумел, дверной замок, вымыл руки, покурил на кухне, разделся, поднял с пола одеяло, прошлепал босиком к дивану и сказал ей:
— Подвинься, что ли.
Он встал пораньше, оделся в темноте, сполоснул лицо, вытерся чужим полотенцем, потихоньку вышел. «Жигули» стояли на месте, снег осел на крыше и стеклах, и вид у машины был теперь не такой вызывающий и наглый, как в теплом гараже.
— Ну что, подумала, как жить дальше будешь? — спросил Буданов и смахнул перчаткой иней с ветрового стекла. Включил зажигание, вдавил педаль: мотор завелся сразу же. — Вот так–то, — назидательно сказал Буданов.
Медленно, боясь перегреть мотор, он доехал до ближайшей колонки, заполнил радиатор и, выруливая на проспект, вспомнил, что сегодня суббота и на работу спешить не надо.
Домой ехать не хотелось, он знал, что ничего хорошего не ждет его там, нарочито растрепанная жена станет гневить его битьем посуды и сотрясать воздух словами, а этого он, конечно же, не любил. Поколесив по городу, поразмыслив о жизни своей, он пришел к выводу, что все рушится и он уже не в силах изменить что–либо, а раз такое дело, то нужно кидаться в омут и желательно вниз головой.
Но как это делается, представлял себе плохо, а от всех бед и болезней было у него одно лекарство, поэтому он остановился около вокзала и пошел в станционный ресторан, единственный в городе работавший в столь раннее время.
Он быстро захмелел, и совсем пропащий сосед тянул к нему руку свою, хлопал по плечу и называл почему–то Васей. И Буданов не отвергал руки его, а подливал из графинчика и плакался ему в потную тельняшку, говорил, что все пропало и неминучая гибель ждет его за углом, и никто на свете уже не спасет его, даже милиция. При слове «милиция» сосед его трезвел на секунду и прятал руки под стол, но тут же вынимал их, когда Буданов придвигал ему щедрую рюмку.
Они быстро сошлись на том, что все беды от баб, что хорошо бы извести их под корень, но как это сделать, они не придумали и спорили так шумно, что их не слишком вежливо выпроводили из зала.
Их разделил поток людей, спешащих на электричку, и Буданов не стал искать своего недавнего собеседника, он даже имени его вспомнить не мог. У него хватило ума не садиться за руль, а пока ехал в троллейбусе, то успел протаять лбом светлое окошко в заиндевелом стекле, и сумрачный сон, мелькнувший на минуту, настроения ему не испортил.
Вышел на своей остановке, в ста метрах от дома. Теперь встреча с женой уже не казалась ему столь драматичной, и он, стряхнув снег с шапки, без колебаний открыл дверь своим ключом. Не стоит описывать всего, что произошло в ближайший час, но только вышел Буданов из дома, где прожил двенадцать лет, растрепанным, несчастным и в конечном счете — бездомным.
Злообильная жена его распахнула дверь и выкинула вслед ему чемоданчик, приготовленный, наверное, заранее. Не мучась напрасной гордостью, он раскрыл его и увидел то, что обычно брал с собой в командировки. Это немного успокоило.
— Просто я уезжаю в командировку, — сказал он сам себе, — дней на десять, а потом приеду. Вот и все дела.
Автомобиль его заносило снегом, замерзающая вода готовилась разорвать радиатор, он не видел этого, но знал, что так и есть, и жалости не испытывал, а из всех людей и вещей на всем белом свете жалел только себя, и жалость эта была столь острой, что впору бы ему заплакать, но на улице делать это он стеснялся, дом он потерял, а специальных мест для облегчения горя в городе не было.
Итак, он вышел на очередной виток налегке, с чемоданчиком в руке, с хмелем в голове и с болью в сердце.
Антипова встретила его в домашнем халате, на кухне булькало и пахло чем–то жареным, он дохнул на нее водочным перегаром, она зажмурила глаза и сказала:
— Володенька ты мой, наконец–то ты пришел, — обняла его нежно и поцеловала в небритую щеку.
— Я Слава, а не Володя, — слабо возмутился он, но она покачала головой, улыбнулась и еще раз дотронулась губами до его щеки.
Телевизор был включен, шел забавный мультик: звери, похожие на людей, гонялись друг за другом и за людьми, похожими на зверушек.
Буданов разделся, прошелся по комнате, уже знакомой, уже признавшей его и не такой враждебной, как раньше.
Антипова хлопотала на кухне, и он стал разговаривать сам с собой.
— Ну хорошо, — сказал он, — пусть меня зовут Васей или Володей, не все ли равно. Ведь я уже не я, уже не Вячеслав Буданов. У Буданова была машина и жена по имени Лена, и не было цветного телевизора, а у меня все наоборот, значит, я не Буданов. Тот Буданов совершил преступление и остался безнаказанным, и ничего общего у меня с ним нет. Значит так: меня зовут Володя, фамилия моя Антипов и там, на кухне — моя жена, Катя… Надо, пожалуй, сменить мебель. Вот сюда мы поставим стенку, вот сюда новый диван, вот сюда — кресло, а стены лучше оклеить обоями…
— С цветочками, — перебила его вошедшая Антипова, — с розовыми цветочками по голубому фону. И люстру, непременно люстру.
— Да, конечно, Катюша, — согласился Буданов и посмотрел на часы. — Эге, да сейчас магазин на обед закроется. А это дело надо обмыть. Ты подожди, я быстренько.
И он накинул пальто и, поглядывая на часы, выбежал на улицу.
— Володенька! — крикнула ему вслед Антипова. — Ты осторожней беги, а то опять под машину попадешь! Гололед на улице!
Дом
Когда они поженились, то можно было бы жить у родителей Светы, но они оба предпочли снять старый дом на окраине города, до того ветхий, что казалось построен он в незапамятные времена. На самом деле дому было не больше полусотни лет, но постоянные ветра, близость реки и оползни состарили его, как старят человека житейские невзгоды.
Дом был как дом, с красной кирпичной трубой, обломанными наличниками, с окнами, заколоченными досками. Люди, жившие в нем, оставили свои следы, и по ним можно было прочесть очень многое. Кто–то выбирал место, именно это, а не другое, кто–то рубил сруб — вот следы от топора, неизгладимые временем, а вот резные наличники, любовно сработанные рукой мастера. На косяке двери зарубки, одна выше другой, это подрастали дети. Вот собака царапала крыльцо, и конура ее еще цела, и проволока для цепи, натянутая через двор.
В комнате на стенах — светлые пятна от фотографий и ковриков, поржавевшие гвозди, вбитые, казалось бы, в беспорядке, но когда–то каждый был на своем, необходимом месте, и на него вешали одежду, или полку с посудой, или занавески.
Люди годами обживали дом, и он сживался с ними, они привыкали друг к другу, притирались, и люди уже хорошо знали, что, скажем, вторая ступенька на крыльце поскрипывает, а входя в сени, нужно наклоняться, чтобы не задеть о косяк, и делали это спокойно и привычно. И дом, должно быть, тоже зависел от жильцов, ведь они заботились о нем, белили стены, конопатили щели и не хотели, чтобы он умирал преждевременно. Он был их жилищем, неотъемлемой частью их самих, свидетелем их горя и радости, рождений и смертей, и вот они уехали обживать новый дом, а этот остался один, доживать свой век, уже почти мертвый без Населявших его людей…
Они вошли в него, половицы, стертые и некрашеные, скрипели под ногами, кое–где прогрызли мыши, штукатурка осыпалась, обнажив крестообразный рельеф дранки, потолок отсырел и протекал, а печка и вообще была разрушенной. Они остановились на пороге и долго стояли так, обнявшись.
— Вот мы и дома, — сказал Сергей. — С новосельем.
В первые дни они спали на раскладушке, подальше от окна. По ночам, прислушиваясь к вздохам, скрипам и шорохам старого дома, они наделяли его душой, шепотом придумывали ему биографию и переводили жалобы его на человеческий язык. Они привыкли к дому, к его неуюту, к чужим запахам, к половицам, истертым чужими ногами, к виду из окна, который ушедшие люди считали родным и привычным, и ждали только, чтобы и дом привык к ним, и стал считать их своими.
У Сергея был отпуск, вернее, то неопределенное состояние, близкое к невесомости. Он закончил институт, на работу еще не устроился, и, порвав привычные связи, еще не успел завести новые. С самого утра он занимался ремонтом, приспосабливал дом к себе, как старую одежду, обновлял, омолаживал. Складывал печь, штукатурил стены, стеклил окна. Дом изменялся, молодел, но эта молодость была сродни гриму, наложенному неопытной рукой на лицо старика. Свежевыструганная дверь напоминала протез, новые ступени крыльца походили на вставные зубы, пахнущие смолой рамы, чуждые привычному косяку, резали глаз. Казалось, что дом противится омоложению — по ночам с шорохом отваливалась штукатурка, с устрашающим треском оседал потолок, и печь дымила и почти не грела. Сергей не отчаивался, он знал, что дом приручить нелегко, и, когда струйка дождевой воды сбегала прямо в постель, он отодвигался, подставляя таз, и, слушая голос воды, говорил Свете;
— Наш домовой совсем разошелся. Купи ему творога со сметаной. Может, подобреет.
Они втянулись в эту странную игру, чуть ли не всерьез веря своим выдумкам. Оставляли творог за печкой, и, когда наутро миска оказывалась пустой, не удивлялись. Скорее всего, творог съедали мыши, но хотелось верить, что и в самом деле домовой принимал дары, но все равно продолжал свои бесчинства — куролесил, топал ногами по чердаку, стучал и в подполе, дул в трубу, да так, что сажа вырывалась черным облачком и оседала на беленой стене.
— Каков наглец! — возмущалась Света. — Мы его кормим, поим, ублажаем, а он нас выгоняет.
— Не беда, — говорил Сергей, — всему свое время. Привыкнет. Мы ведь чужие в этом доме, а он хозяин.
Света соглашалась с ним и забеливала печку, рисовала на стенах цветными мелками невиданные цветы, и зверушек с большими глазами, и птиц с пестрыми крыльями. Сырость проникала и сюда, вода стекала даже по печке, и цветы увядали раньше срока, птицы теряли перья, а зверьки съеживались и расплывались. Шли дожди, крыша дома, казалось, притягивала к себе всю волу, и, не растеряв ни капли, бережно пропускала сквозь потолок. Утром и вечером в комнатах стоял звон капели. Света уставала выносить кастрюли и тазы, раздражалась, а Сергей успокаивал ее.
— Не беда, — говорил он неизменно. — Зато какая музыка. Под нее хорошо думается и спится. День и ночь — весна.
— Ты несчастный оптимист, — отвечала Света. — Тебя все радует, даже горе. Займись–ка по–настоящему ремонтом.
— Вот дожди кончатся, и займусь. А ты купи домовому чтонибудь вкусное.
И Света покупала конфеты в шуршащих обертках, мороженое в хрустящих стаканчиках, пастилу и мармелад и все это складывала под печку. Ночью там кто–то шуршал и пищал, но они не заглядывали туда, не хотели разочаровываться и продолжали придумывать истории о строптивом домовом. Однажды Света купила халву, и наутро прекратились дожди, пришла жара, и комната быстро просыхала, наполняясь теплом и светом.
— Вот что он любит! — сказал Сергей. — Тут–то мы его и купим. Наверное, никто раньше не кормил его халвой.
И он начал перекрывать крышу. Опыт у него был со времени работы в стройотряде, материал достал через тестя и, не требуя ни у кого помощи, один пилил, строгал, забивал гвозди. Шифер проваливался в прогнившие, наполненные личинками и коричневой пылью стропила; пришлось заменять их, но потолок не выдерживал тяжести новых балок, прогибался еще больше, пока не треснула матица и неровные концы ее не провисли над полом, обнажив слом извести, по слоям которой можно было исчислять время, как по годовым кольцам.
В этот день они впервые поссорились. Света обвинила его в неумении делать простые вещи, в лени и растяпстве, он тоже не остался в долгу и наговорил кучу глупостей. Она расплакалась, сказала, что жалеет о своем замужестве, что он обманул ее, прикинулся добрым и хорошим, а на самом деле совсем не любит ее и только непонятно, для чего он увел ее из родительского дома, где ее так любили и никогда не оскорбляли.
Они легли спать по разным углам, и впервые никто не шумел ночью, дом спокойно и терпеливо ждал, чем все это кончится.
Кончилось, конечно, перемирием и поцелуями, и на следующую же ночь кирпич провалился в трубу, заклинил ее где–то посредине, и они спасались от тяжелого угарного дыма в сенях.
— Давай уедем отсюда, — заплакала Света. — Этот дом просто выживает нас.
— Еще неизвестно кто кого, — сказал Сергей, — а ты купи побольше халвы.
Халва не помогла. На другую ночь под порывом внезапного ветра распахнулась дверь, петли не выдержали, и дверь с грохотом рухнула на крыльцо. Ветер пронесся по комнате, сорвал одеяло с постели, разбил окно и вырвался наружу.
Сергей долго успокаивал Свету, пытался развеселить ее, шурудя кочергой под печкой, словно изгонял оттуда домового, рассказывал веселые истории из студенческой жизни и при свете фонарика строил смешные гримасы. Света даже не слушала его и утром, уходя на работу, сказала, что будет жить у родителей до тех пор, пока Сергей не приведет дом в порядок или не найдет другую квартиру.
Сергей, разозлившись, пошел в наступление. Он составил план реконструкции дома, но по нему выходило, что легче было бы построить новый дом, чем отремонтировать старый. Пораздумав, Сергей решил ограничиться самым необходимым. Дом так и так подлежал сносу, жить в нем всю жизнь Сергей не собирался, а расходы на ремонт даже при предварительном подсчете превышали мыслимые цифры. Начал он с трубы. Оседлав конек крыши, ломиком разломал старую трубу, сбросил вниз красные на изломе кирпичи и возвел новую. Потом принялся за потолок. Выгреб старый шлак, добрался до потолочного перекрытия и, выломав гнилые хрупкие доски, обнажил комнаты. Теперь отступать было некуда. Дом был открыт для дождей, и Сергей, рассчитав, что стоит сухая погода, думал успеть сделать необходимую работу за два дня.
Он расстелил спальный мешок поближе к печке, долго лежал, глядя в чистое небо, курил и не заметил, как заснул.
Во сне он лежал на прежнем месте, но комната стала иной, непохожей на прежнюю. Беленые стены взбугрились лампами, индикаторами, гудящими приборами, назначения которых он не знал. Позванивало, постукивало, поскрипывало и пело. С никелированных балок свешивались провода, концы их, казалось, уходили прямо в звездное небо.
Чьи–то влажные руки прикасались к лицу Сергея, но он не видел их. Кто–то ходил, разговаривал приглушенно, пол подрагивал и временами мелко вибрировал, словно в подвале работал мощный мотор. Сергей хотел встать, но не мог, и вот капля воды упала на лоб и медленно потекла к виску.
Гудели стены, вздрагивали и метались по освещенным шкалам черные стрелки, серпантин перфолент, шурша, сползал на пол. Кто–то за его спиной, невидимый и недосягаемый, всплескивал воду и брызгал на лицо Сергея. Он хотел сказать, что это ему не нравится, но чья–то ладонь легла ему на губы и не позволяла раскрыть рта. Тот, кто был позади, плеснул в лицо полную пригоршню воды. Сергей зажмурил глаза и проснулся.
Шел дождь, и вода беспрепятственно лилась в комнату. Сергей с трудом выбрался из размокшего спальника и, повесив фонарик на стену, стал быстро собирать вещи, книги в один угол, накрывая все это брезентом. Дождь лился ровными холодными струями, собирался в лужи и уходил под пол через щели. Сергей вымок, от дождя было некуда деться, и он, проклиная все на свете, забрался под печку. Там было тесно и душно. Пыль щекотала ноздри. Хотелось курить, но спички отсырели, а сигареты расползлись в коричневую кашицу. Спать было невозможно, и от нечего делать Сергей начал разговаривать с тем, кого нет на свете.
— Ну–ка, выходи сюда, старичок–домовичок, друг сердечный, жихарь подпечный. Выходи, посидим, потолкуем.
В ответ шуршали и пищали захваченные дождем мыши. Под полом слышался беспрерывный шорох.
— Доберусь я до тебя, дружок, — говорил Сергей, чихая от пыли. — Ох, доберусь. Все равно ведь дом отремонтирую. Ты упрямый, а я еще упрямей.
Под полом словно лопнула натянутая струна, высокий звук ударил в уши и быстро оборвался. Монотонно шумел дождь, журчала вода, и на фоне этих привычных звуков неожиданной показалась песня — кто–то шел вдалеке и разухабисто пел о далекой Питерской улице.
— Надо же, — удивился Сергей, — такой ливень, а он гуляет, да еще и поет
Шлепая по лужам, едва разбирая дорогу в темноте, он добрался до калитки. Прошел несколько шагов по улице и вдруг заметил, что дождь прекратился. Посмотрел на небо: чистое, звездное, топкий серпик умирающего месяца посередине. Он дождался, когда человек поравнялся с ним, и, шагнув к нему ближе, попросил закурить. Наверное, вид его, промокшего и грязного, скорее рассмешил прохожего, чем напугал, потому что тот, покачиваясь и хмыкая, протянул ему папиросу и, пытаясь зажечь спичку, сказал:
— Ты что это, земеля, рыбу ловил, что ли? Или тебя теща из таза окатила?
При свете спички Сергей увидел краешек рукава незнакомца, и его запоздало удивило — рукав был совершенно сухим. Делая вид, что заслоняет огонек от ветра, он взял незнакомца за рукав пиджака, быстро провел рукой до локтя. Сухой, абсолютно сухой. И только когда прохожий пошел своей дорогой, путая слова и куплеты, Сергей решил наклониться и ощупать землю. Дорожная пыль, плотно осевшая за ночь, была сухой, ни одна капля не упала на дорогу. Сергей приблизился к своему дому и сразу же услышал знакомый шум дождя. Прошел вдоль забора, не поленился забраться на него и убедился:
по ту сторону шел ливень, размеренный, затяжной.
Подняв воротник, пробежал в дом, наполненный звенящей, журчащей водой, разыскал фонарик и обошел с ним вдоль забора. Луч света ясно отграничивал стену дождя, и это привело к неизбежному выводу: дождь лился на двор правильным прямоугольником, вернее — параллелепипедом
Где начинается дождь, не было видно, ибо ни одна туча не закрывала небо, и можно было подумать, что дождь идет из ниоткуда. Это шло вразрез с логикой и потому раздражало. Ничто не могло появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда. Закон природы явно нарушался. Сергей решился дождаться утра, не заходя в промокший дом, сидел на скамеечке, прислушивался к шуму дождя — не утихает ли, и с тревогой думал о том, что может произойти завтра и послезавтра, если события приняли такой оборот
К рассвету дождь прекратился и с первым теплом вода, обильно напитавшая двор и стены, стала уходить. Лужи впитывались землей, от стен шел густой пар, уносимый ветром, и к тому часу, когда на улице стали появляться первые прохожие, дом ничем не отличался от соседних. Только без крыши, вот и вся разница.
И Сергей забросил ремонт. Он догадывался, что причина странных происшествий кроется именно в том, что он начал переделывать дом, и нечего противиться этому, и кто знает, какие средства сопротивления применит после следующего его шага. Как бы между делом Сергей расспросил старожилов, когда был построен дом, кто в нем жил и когда уехал навсегда. Ничего необычного в этих сведениях не было. Возраст дома, и в самом деле, был не слишком почтенный, строили его обычные люди и жили в нем обыкновенно: росли, рожали детей, любили, враждовали, праздновали и бедствовали. Люди как люди, дом как дом.
Он попытался найти закономерность в сопротивлении дома, но любая из них вполне подходила под случайность. Он разделил их по степени вероятности на возможные и абсолютные. Но, пытаясь понять причины тех и других явлений, он сразу смешал все в кучу, и получалось так, что ни одно из событий нельзя было объяснить до конца. Дом был старым и поэтому в любой день» мог разрушиться, но он словно бы ждал, когда приедут жильцы, чтобы показать свой норов. В домовых Сергей не верил, легенды, придуманные им же самим для развлечения и успокоения, не выдерживали никакой критики, и приходилось искать объяснений в области наук точных и вызывающих доверие. На первых порах он решил оставить дом таким, каков он есть, не прикасаясь больше к нему ни пилой, ни рубанком, и все события, которые произойдут, анализировать, чтобы дойти до главной причины. Он с горечью думал о Свете, но отступать не хотелось, странный дождь заразил его болезнью, близкой к кладоискательству, где наградой была не корчага с монетами, а истина.
Весь день он бродил по дому, внимательно присматривался к тому, что осталось нетронутым после ремонта, и его снова поразило несоответствие новшеств по сравнению с тем, что было. Печка, сложенная им самим, была явно чужой всему дому, новые рамы и двери самой своей новизной выделялись, как модницы среди нищих. И именно эти новые части дома отторгались в первую очередь, как чужеродная ткань, пересаженная в живой организм. Отваливалась именно та штукатурка, которую наложили они, порывом ветра сорвана новая, им поставленная дверь, а дождь казался чуть ли не наказанием за разрушение крыши. И еще неизвестно, что будет потом, когда он поднимет руку на пол, стены, подвал.
Вывод, следующий из всего этого, был странный и довольно ненаучный. Дом это живой организм, сопротивляющийся и настолько всемогущий, что способен вызывать на себя дождь. Сергей занимался обыденным делом — ремонтировал дом, а получалось так, словно он к сосне пытался привить кактус, или, более того, черенок яблони вживить в тело человека. Черенок все равно не привьется, а если к тому же это делать насильно, причиняя человеку боль, то вполне можно рассчитывать на соответствующую реакцию, и обижаться потом не стоит…
Внимательно осматривая дом, Сергей добрался и до подвала. Ни разу за все время он не интересовался, что может находиться там. Подвал был неглубокий, во весь рост стоять невозможно и, согнувшись, почти на четвереньках, Сергей осмотрел его весь, но ничего особенного не обнаружил. Сломанная табуретка, пустые запыленные бутылки, норки, похожие на мышиные. Но одна нора оказалась большой, даже слишком. В нее даже можно было забраться при желании. Она находилась в углу, выходящем во двор. Стенки ее были гладкие, и словно бы не из земли. Он поковырял ее щепкой, но та быстро сломалась. У выхода, несмотря на густую пыль, никаких следов, кроме мышиных. Сергей просунул руку в лаз, ощупал его стенки, насколько позволяла длина руки, и пришел к выводу, что нора ровная, гладкая и идет не в глубину, как можно было предположить, а горизонтально. Раскапывать ее Сергей не решился, забираться — тем более, он посветил вглубь фонариком, но луч света терялся вдали.
Нору Сергей назвал громко туннелем и записал впечатления о ней в тетрадь, где уже были собраны все случаи сопротивления дома. С беспокойством ожидая ночи, он разделил события на две категории войны: сначала психологическая, потом метеорологическая. Можно было ожидать и прямых действий, и поэтому Сергей запасся топором, но потом рассмеялся и выбросил его во двор. Спать он лег на прежнем месте, не застегивая спальника и не раздеваясь, чтобы в любой момент выскочить наружу.
Не засыпая, он внимательно прислушивался к привычным шумам и шорохам, пытаясь найти в них необычные звуки. Вот запищал кто–то в подвале, простучали коготки по полу — это мыши. С шуршанием упал кусок штукатурки, осколки ее скользнули по лицу — тоже ничего сверхъестественного. А вот опять, как в прошлую ночь, будто что–то лопнуло в подвале, натянутая струна не выдержала натяжения, и высокий, быстро гаснущий звук донесся до него. И все. Ни дождя, ни ветра, ничего особенного не последовало за этим. Чистое небо, тишина городской окраины.
Во сне Сергей летал. Он выпал, как птенец из гнезда, в открытый космос и на все шесть сторон вселенной — только он, далекие звезды и черная пустота. Он был без скафандра, в желтой футболке и джинсах, но дышалось почему–то легко и невесомость не пугала. Он парил в пространстве, не ограниченный ничем, и закон тяготения на него не распространялся. Ему было беспричинно весело, он кувыркался и даже пытался петь, но голоса не было слышно. Тихо, светло и настолько просторно, что казалось — тело его не имеет границ, как сама вселенная, и до каждой звезды можно достать рукой…
— Милый, — сказала Света. — Я так соскучилась по тебе. Я теперь никуда–никуда не уйду от тебя. Ты, мой бедненький, спишь тут под открытым небом, совсем заработался, а я, бессовестная, ушла от тебя, психопатка я несчастная.
Она обнимала Сергея и целовала его, и он, наконец–то, понял, что это Света пришла, и утро вместе с ней, и ночью ничего не случилось.
Была суббота, Света не работала, и они на целый день уехали за город, загорать, купаться и болтать о чем угодно, только не о доме.
Но он сам напомнил о себе. Еще издали Сергей заметил неладное, что–то изменилось в облике дома. Он стал совсем плоским — исчезли стропила. Не говоря ни слова, Сергей вбежал во двор, ожидая увидеть что угодно, но увидел, что новые, им самим обтесанные балки аккуратно лежали у забора, а старые, сброшенные как попало, тоже были уложены, только ближе к дому, словно кто–то постарался навести порядок, да не успел к приходу хозяина, потому что старая обшивка потолка также была сложена в одном месте, но не ровно, а навалом.
— Кто это здесь похозяйничал? — спросила Света.
— Тимуровцы, наверное, — буркнул Сергей. Настроение испортилось. Противоборство перешло к новому этапу. Нечто неизвестное пыталось восстановить дом в прежнем виде. И почти в открытую, днем. Вещи их лежали, как утром, в углу, закрытые брезентом, ничего не пропало. Растопили печь, сварили обед. Дом совсем потерял жилой вид, ему не хватало крыши, как человеку головы.
— Что будем делать завтра? — спросила Света.
— Сидеть дома и помогать тимуровцам. А то неудобно как–то.
— Ну, уж нет. Завтра воскресенье, а ты делай свой ремонт в будние дни, когда я работаю. Я не хочу сидеть дома. И знаешь что, давай поедем ночевать к маме. Я здесь боюсь.
— А если утром весь дом растащат но бревнышку, что тогда? Давай уж здесь переночуем. Дом с привидениями — это такая редкость!
— Для психов — несомненно, а я не желаю спать под открытым небом.
— Ну, не надо, Света, а то опять поссоримся.
— Вот и пошли к маме. Впервые за последний месяц Сергей спал в нормальном многоквартирном доме, и ночные звуки тоже были нормальные. Гремел лифт, за стеной играли на баяне, «трудные» подростки в подъезде выясняли отношения, и ничего необычного не происходило. Он долго не мог заснуть на мягком диване, думал о том, что и большой дом живет своей жизнью, и вместе с населяющими его людьми составляет странный, но единый организм, симбиоз живого и неживого. И организм этот должен быть очень сложным, а взаимоотношения большого дома с многочисленными и разноликими людьми — настолько запутанными и развиваться по таким непостижимым законам, что разобраться во всем этом было немыслимо. Он думал о том, что еще сложнее организм города и целой страны, и тем более — всей планеты и, когда начинаешь переделывать землю на свой вкус и лад, то последствия могут оказаться такими непредвиденными, что его маленькая война с домом покажется забавной шуткой… Дальше мысли его забрели в такие дебри, что он совсем запутался, и признал себя бессильным разобраться во всем этом, и заснул, и спал без сновидений…
Наутро они закатили в гости, и почти весь день Сергей старался не вспоминать об оставленном доме. В конце концов, есть соседи, и, если что–нибудь случится, они увидят, вмешаются.
Вечером он отвез Свету к маме, а сам все–таки решил вернуться к своему сумасбродному дому. Тот встретил его почти восстановленной крышей. Старые, прогнившие балки были аккуратно вставлены в свои пазы, потолок настелен доска к доске, и даже шлак засыпан сверху. Только крыша не закончена.
— Не успел, значит, — сказал вслух Сергей неизвестно о ком.
И пошел к соседям. Начиная разговор издалека, он расспрашивал, видели ли они кого–нибудь во дворе дома. И первый же сосед рассмеялся:
— Вот чудак! Как ни проходишь мимо, а он на крыше сидит. И сдался же тебе этот дом! Да еще и старые балки ставишь. Новые–то куда дел?
— Кто, кто сидел? — спросил Сергей и вовремя засмеялся.
Остальные соседи тоже видели, что Сергей в своей желтой футболке сидел днем на крыше или ходил по двору. Но тогда кто же был сегодня со Светой, и кто ходил в гости, и кто, наконец, он сам? Сергей не напугался даже такого поворота событий, он просто разозлился. Осмотр обнаружил новые детали. Рама была заменена на старую, и что самое глупое — окна вновь были забиты теми же самыми досками. Дверь тоже стояла старая, видавшая виды, а новая лежала рядом. И никаких следов.
Ему стало досадно не столько из–за своей напрасно проделанной работы, а потому, что ему ничего не объясняли, простонапросто не считались с ним и делали все в его отсутствие. И он решился на рискованный шаг.
Установив фонарик, он залил цементом мышиные норки, но особенно тщательно — туннель, завалив предварительно вход в него тяжелым камнем.
— Ладушки, — сказал он, — теперь посмотрим, кто кого. Сергей твердо решил не спать в эту ночь и, не заходя в дом, сидел на крыльце, открыв все двери, чтобы заметить любое изменение. Прислушивался, но даже обычной мышиной возни не было слышно. И на фоне этой тишины особенно резким показался знакомый звук лопнувшей струны. И тотчас же, едва успел погаснуть первый звук, как лопнула еще одна, тоном выше, и еще одна, и еще. Скрипнул пол. Кто–то ходил по комнате, натыкаясь в темноте на стены и чуть ли не ругаясь вполголоса. И тут же с шумом рухнула печь. Осколки кирпичей долетели до Сергея.
— Кто там? — прокричал он, но голос сорвался. Он вскочил и, сжав фонарик, словно это было оружие, направил луч его в глубь комнаты.
Кто–то метнулся от луча, скрипнула половица, и снова тишина. Тень человека, мелькнувшая на миг, показалась странно знакомой Сергею. Преодолевая страх, он медленно вошел в комнату, обшарил лучом все углы, осмелев, разворошил груду кирпичей, но никого не нашел. Даже тяжелый груз, приваливший вход в подполье, остался на месте. Надо было заглянуть в подвал, но Сергей так и не смог себя заставить сделать это. Он снова вышел на крыльцо, перевел дыхание, вытер пот и вдруг вспомнил, где он видел силуэт человека. В зеркале. Вот где. Это был он сам, вернее тот Сергей, что весь день на виду у всей улицы занимался идиотской работой — заменял новое на старое.
Хотелось убежать отсюда подальше, но он заставил себя сесть на старое место — посередине крыльца, прислонившись спиной к двери, твердо решив не пасовать ни при каких обстоятельствах. И в полной тишине он ощутил, как что–то шевелится за спиной, потрескивает еле слышно, пощелкивает, вздрагивает.
Медленно, стараясь не дышать, отстранился от двери, так же медленно, словно боясь кого–то, повернулся к ней лицом, посветил фонариком. Некрашеная, рассохшаяся, растрескавшаяся дверь с большими щелями, с дырочками, просверленными древоточцами, пощелкивала и потрескивала, будто по ней проходил электрический ток. Вскоре те же самые звуки донеслись от стен дома, и от стропил, и от старой рамы, и изнутри дома. Только от нового крыльца ничего не исходило, и он сел в центре его, поджав ноги, как мальчик из сказки, начертивший вокруг себя заколдованный круг.
Треск нарастал, и снова лопнули одна за другой несколько струн, и тут увидел, как из древесины двери проросли тонкие волоконца, похожие на мох, и, шевелясь в воздухе, начали срастаться друг с другом, покрывая дверь белесым, казавшимся живым налетом.
Не отрывая глаз, Сергей смотрел на дверь, но боковым зрением, в рассеянном луче фонаря, все же увидел, что то же самое происходит и со стенами. Встал, медленно пятясь, сошел по ступеням и, скользя лучом по преображенному дому, вздрагивая с каждым новым звуком, добрался до калитки и вышел на улицу.
Опустился прямо на землю, перевел дыхание. Со стороны улицы ничего странного не было видно, но звуки все же доходили и досюда. Треск, шорох, чьи–то шаги, скрежет гвоздя, выдираемого из древесины, короткая вспышка над стропилами. Кто–то ходил по двору, кто–то шептался в доме, и надо было войти во двор и увидеть все самому, но страх не давал сделать ни шагу.
Так он просидел около часа, и за это время в доме не прекращался шум и треск, но ничего более страшного не произошло. Сергей понемногу успокоился и даже попытался проанализировать происходящее, но никакой анализ не давал ответа на все вопросы. Рядом было неизвестное, и он видел это и слышал, но ничего не понимал и не знал даже, поймет ли когда–нибудь.
Оставался один выход: пойти и узнать. Самому. До последней затяжки, до последней искорки выкурил сигарету. Не отряхивая пыль с одежды, не включая фонаря, в темноте дошел до ворот, осторожно нажал на калитку и вошел во двор.
Бревна со стороны двора, рамы, балки были покрыты густым, шевелящимся налетом, изредка проскальзывали искры между длинными белыми нитями; нового крыльца не было. Старые, полуразвалившиеся доски были поставлены на место и тоже светились в темноте, покрытые белым мхом. Сергей обошел вокруг дома, но ничего более нового не увидел. А это новое, что происходило уже второй час, постепенно превратилось для него в старое, и хотя было по–прежнему непонятным, но все же пугающим зрелищем. Сергей даже рискнул подойти ближе к стене дома и внимательно рассмотреть белый мох. Густо переплетаясь, он вырастал прямо из древесины, шевелился и, пощелкивая, выбрасывал короткие снопики искр. Сергей даже решился зайти в дом, но и крыльцо было покрыто белым мхом, а ступать по нему он все же опасался.
Произошло непредвиденное. Дом перешел все границы конспирации. Он даже не пытался маскироваться под случайности, ибо то, что происходит сейчас, уже не вмещается в рамки обычных житейских неурядиц, вроде протекающей крыши или обвалившейся трубы. Дом преобразился до неузнаваемости и делал сейчас то, что нормальному бревенчатому дому делать не положено ни по каким законам. Во всяком случае, по законам земным, и это наводило на мысль, что дом — уже давно не дом и, уж конечно, не живое существо, а — что–то иное, выходящее за пределы земного понимания, и подходить к нему с обычными земными мерками глупо, опасно и, пожалуй, даже преступно. Сергей почувствовал стыд от того, что замуровал туннель, он невольно связывал этот поступок с событиями сегодняшней ночи, да и сам ремонт дома превращался теперь в акт вандализма, словно хорошую электронную машину курочили ломом, сплющивали молотами, чтобы превратить ее в простое и всем понятное корыто.
Можно было предположить, что с тех пор, как люди уехали из дома, он начал постепенно изменяться, но не внешне, а внутренняя структура древесины, кирпича, извести заменялась другой, высокоорганизованной и, сохраняя прежнюю форму, дом давно перестал быть домом, жилищем человеческим, а чем–то иным, чужим, даже враждебным. И что из того, если, например, стена дома не походила на блок ЭВМ по привычным представлениям, а на самом деле это давно уже было не дерево, а сложнейшая схема неведомого прибора. И когда Сергей начал грубо разрушать это нечто, фактически уничтожая его, те, кто строил это, не могли не вмешаться в события. Сначала ненавязчиво, словно бы предупреждая о последствиях, потом, вынужденные пойти на более открытые методы, стали восстанавливать разрушенное на виду у тех, и уж если они решились на это, то причины были неотложными и важными.
И Сергей отступил. Он дождался утра и даже задремал, прислонившись к забору, а когда очнулся, то увидел свой дом обычным, похожим на все дома улицы. Белый мох исчез. Сергей с уважением потрогал древесину двери, впервые подумав о том, что каждая трещинка в ней имеет свой смысл. И как знать, какие хитросплетения проводов заменяют собой каждое волокно дерева, какую мудрость таят в себе царапины и дырочки от сучков? Иная жизнь, иной смысл, иное бытие дышали в каждой частице дома…
И Сергей подумал о том, что нельзя человеку покидать свой дом, нельзя оставлять его на произвол судьбы, потому что без своего хозяина он, осиротевший и одичавший, может превратиться в нечто иное, может дать приют постояльцам, пришедшим из чужой стороны, из других, неведомых миров.
Представления о космической технике, как о чем–то блестящем, металлическом, пластиковом, величественном и гармоничном, разрушились, и это даже разочаровало, но удивление перед тем, что он увидел и понял за эту ночь, притупило разочарование и вызвало чувство причастности к великому неизвестному, живущему по своим законам и не нуждающемуся в мишуре блистательных машин, фотонных отражателей и в переплетениях проводов. Все это было намного выше и сложнее того, о чем мечтали на Земле.
Сергей выхватил ломик и опустился в подвал. Но лом оказался бесполезным. Цементной плиты не существовало. Вместо нее зиял туннель, еще более широкий, сглаженный, словно бы оплавленный по краям, и Сергей, набрав воздуха в легкие, как перед прыжком в воду, встал на четвереньки, потом совсем лег и пополз по туннелю в темноту.
Луч фонарика рассеялся впереди, было тесно и душно, но Сергей полз и полз.
И в конце пути он увидел звезды. Они висели в просвете туннеля, большие, яркие на фоне слишком черного неба, и Сергей, добравшись до выхода, ощутил себя тем монахом со старинной картинки, который дошел до края света и, заглядывая по ту сторону неба, дивится хрустальным сферам. Туннель уходил прямо в открытый космос, и не было преграды между Сергеем и вселенной, и сотни звезд плыли мимо, и неведомые корабли скользили в бесконечном просторе. Раскаленные добела спирали галактик медленно поворачивались на оси, на бесчисленных планетах зарождалась жизнь и начинала сознавать свою причастность к вечному и неделимому, и заполняла собой пустоту, и искала тех, кто был близок ей.
Маленький голубой шар проплыл под ним, и он узнал Землю — свой большой дом, единственный и незаменимый. Кружилась голова, было странно и сладко ощущать себя тем, кем он был на самом деле, но не знал до поры об этом неотъемлемой частью вселенной, единой и бессмертной.
Стол Рентгена
Были времена, когда он не брал в рот ни капли спиртного. Тогда он бродил по своей большой квартире с больной головой, глотал анальгин, пытался читать книги, но дурное настроение не проходило. Чтобы хоть немного облегчить свои муки, он запирался в спальне, вставал на четвереньки и стоял так подолгу, втянув голову в плечи и стараясь не моргать. Вскоре тело его затекало, шея деревенела и начинало ломить поясницу. Было очень тяжело сохранять такую позу, но это хоть немного отвлекало его от влечения к спиртному. Пенсию ему присылали по почте, и эти дни в начале месяца были для него наиболее мучительными. Ему хотелось на все деньги купить водки, чтобы весь последующий месяц простоять в углу комнаты возле дивана в стиле ампир, прислонясь боком к чугунной статуе Давида. Только тогда ему было действительно хорошо и спокойно. Он чувствовал себя человеком, как бы ни было абсурдным чувствовать это, превратившись в большой и красивый стол.
Сам процесс превращения, или, как он сам называет это про себя, метаморфозы, был простым и болезненным. Когда ему становилось невмоготу и головные боли вконец изматывали, он наливал водку в хрустальный фужер (попроще посуды у него не водилось), раздевался догола, забирался в угол комнаты, вставал на четвереньки и, придерживая бокал одними губами, опрокидывал его в рот. Закусывать не полагалось.
Потом он замирал, пригнув голову и прислушиваясь к своему телу. Он чувствовал, как выпрямляется спина, как ноги деревенеют; видел, как кожа на руках стягивается в жгуты, приобретает цвет старой бронзы, и как из этих жгутов образуются венки и ниспадающие гирлянды. То, что происходило у него на спине, он не мог видеть, но чувствовал, что и она становится гладкой, полированной поверхностью красного дерева. На боках его прорезывались прямоугольные щели, разрастаясь, они обрамлялись бронзовыми розетками, и посреди прямоугольников вырастали личины замков в форме щита с двумя орлиными головами. Голова его уплощалась, втягивалась в шею, а шея — в туловище и превращалась в литое украшение — овальную розетку из листьев аканта. Тогда глаза его перемещались туда, где замочные скважины на ящиках стола черными, широко расставленными зрачками смотрели на комнату, за окно и моргать не умели.
Сам он вытягивался в длину и высоту, каждый раз удивляясь, откуда в его худом теле берется этот резерв роста. Но объяснялось все обыкновенно: тело его становилось пустым внутри, и внутренности, деревенея и бронзовея, выворачивались наружу, превращались в облицовку стола в стиле классицизма конца восемнадцатого века.
Когда метаморфоза заканчивалась и ощущение разрыва и перемещения проходило, он застывал и старался ни о чем не думать. Впрочем, думать ему было нечем. Мозг растекался причудливым орнаментом вдоль крышки стола, извилистым и симметричным, и мысли тоже становились тугими, бронзовыми, повторяющимися.
В таком положении он оставался долго, иногда дня два, в зависимости от дозы выпитой водки. Никто к нему не приходил, друзей он растерял, клиенты обходили его дом стороной, а дети давным–давно разъехались по всей стране и писем ему не писали.
Образ жены, потерянной и преданной им, ассоциировался у него с диваном стиля ампир. Когда–то в самый разгар его увлечения стариной он приметил этот диван у одного старика. Диван ему так понравился, что ни о чем другом думать он уже не мог. Старик запросил большую цену. Тогда он тайком от жены заложил ее шубу, благо было лето, купил диван и торжественно водворил его в своей комнате, еще заставленной рядовыми венскими стульями. К зиме он думал накопить денег и выкупить шубу из ломбарда. Но накопленные деньги пошли на чугунного Давида и на трехсвечовый стенник из патинированной бронзы. Жена, и без того измученная страстью мужа к вещам, узнав о продаже шубы, долго плакала, потом сказала: «Лучше бы ты пил», — и уехала к сыну, навсегда.
С тех пор он часто, глядя на диван, его шелковую обивку, его манерные ножки, его подлокотник с золочеными головками Медузы, вспоминал жену, которая тоже не писала ему и, наверное, ждала его смерти, чтобы приехать в эту квартиру, открыть настежь балкон и с наслаждением сбросить вниз комодики, стулья, козетки, шкафы мореного дуба, статуи и статуэтки.
Всего этого было слишком много для нее и слишком мало для него. Он рыскал по антикварным магазинам, брал отпуска без содержания и наведывался в тихие старинные городки. Там он безошибочно выбирал нужные дома, заходил, отрекомендовывался художником и высматривал, выпрашивал то подсвечники, то темные картины, одиноко висящие среди современных эстампов. Домой возвращался разоренным и радостным.
К нему постоянно приходили разные люди, приносили свертки, он торговался подолгу и со вкусом, всегда в свою пользу, продавал одни вещи, покупал другие, находя в этом большую радость, и в конце концов собрал прекрасную коллекцию, приобретая много врагов и завистников.
Раньше он работал реставратором в одном хорошем музее, работу свою любил, только каждый раз, закончив заказ, оттягивал время возврата, подолгу любовался красивой вещью и очень хотел оставить ее себе. Потом и сам стал покупать. Реставратор он был хороший, в большом городе заказов хватало, брал работу и на дом. Научился расчищать иконы и картины, знал толк в бронзе и посуде, книгах и скульптуре.
Когда он остался один, совсем один в большой квартире с высокими потолками, где каждый шаг был радостен и опасен (вдруг заденешь шкаф с фарфором), то по–настоящему ощутил, как его жизнь связана с невидимой жизнью вещей. О каждой из них он мог рассказывать долго, взахлеб, как гордый отец о талантливых детях. Он знал имена мастеров, знал до тонкостей технологию превращения дерева и бронзы в красоту, знал слишком много, чтобы быть счастливым.
И только один мастер, одна вещь превратили его жизнь в муку. Мастера звали Давид Рентген, жил он в конце восемнадцатого века, и один из предметов, сработанных им, — письменный стол, увиденный реставратором в запасниках музея, стал навязчивой мечтой, неутолимой жаждой. Вещь принадлежала музею, купить ее было невозможно, а украсть тем более. Тогда он сделал хорошие чертежи, фотографии, снял слепки и принялся за работу. Целыми днями, запершись, он возился с красным деревом, пилил, полировал, искал такой же рисунок древесных волокон, лепил восковые накладки, чтобы здесь же, дома, отлить бронзовые детали стола. И когда, намучившись, истратившись, он последний раз провел тряпочкой по гладкой поверхности стола, то почувствовал себя настолько счастливым, что обнял свое детище, прижался к его благоуханному телу и долго шептал ему самые ласковые слова.
Целую неделю он не отходил от стола, спал рядом, на полу, обняв золоченую ножку, втайне гордился своей победой над мастером Рентгеном и показывал стол всем приятелям, разумеется, наврав им о подделке. Те искушенно ахали и, должно быть, завидовали.
Но потом, еще раз посетив запасник, он вдруг увидел настоящий стол настоящего Рентгена, и это впечатление, стертое собственной работой, настолько испортило ему настроение, что, придя домой, он сел на пол возле своего стола и весь день проплакал.
Мастер Давид Рентген обманул его. Оттуда, из восемнадцатого века, он смеялся над ним, жалким копиистом, дерзнувшим равняться с мастером. Как будто бы все было похожим, точным, симметричным и чистым, словно столы вышли из одной мастерской. Но не хватало самой малости — не хватало руки и сердца мастера. Неповторимой руки и непревзойденного сердца.
С этого дня он и запил. Пил водку, много, с омерзением, в одиночестве. Он возненавидел себя и всех людей заодно. Люди представлялись ему лишь переходным этапом на пути к рождению вещи — совершенной и прекрасной. Вещи во всем отличались от людей. Плоть их была твердой и бессмертной, формы чистыми, и сама их неподвижность говорила о мудрости. В пьяных мыслях своих он видел людей, суетных и бренных, материалом и инструментом, слугой и покровителем вещей. Вещи с большой буквы. Всю жизнь человек занят производством вещей, и лишь избранники, мастера, поднимаются до искусства, уходят в вечность, но все равно их тела сгнивают наравне с другими людьми, но остается имя, легенда и, самое главное, — остается вещь как единственное оправдание ненапрасной жизни человека.
Именно это, то, что он вдруг открыл для себя, когда изменить что–либо было невозможно, разломало и исковеркало оставшиеся дни его жизни. Он понял, что никогда не был мастером, и напрасно он старался окружить себя чужими вещами, блеском чужой славы и чужого величия.
Понял, что он — ничто.
И однажды, выпив больше нормы, он поднял руку на своего любимого сына. Он разрубил стол топором на мелкие щепки, бронзовые накладки распилил и, сложив в стеклянную банку, налил азотной кислоты. Бронза, шипя, растворилась: клубы едкого коричневого дыма наполняли ванную, оседали на голубом кафеле, вызывали кашель. Он запер ванную, заколотил дверь и с тех пор не мылся. Щепки он сжег в своей плавильной печи.
Протрезвев, он увидел пустое место между диваном и чугунным Давидом. Такого отчаяния ему еще не приходилось испытывать. Он катался по полу, кусал свои несовершенные руки, ненавидел себя, он хотел перестать быть человеком.
Чугунный Давид, тезка мастера, опирался на меч и смотрел себе под ноги с мягкой улыбкой. Он не был человеком, он был вечен.
Мастер Рентген, однофамилец того Рентгена, что открыл Х–лучи, смотрел сквозь толщу двух веков, усмехался и грозил пальцем. Он уже не был человеком, он воплотился в вещи и обрел через них бессмертие.
Тогда реставратор в полном самоуничижении решил покончить с жизнью. Он возненавидел в себе человека. Он взял веревку и, завязав петлю, долго ходил по квартире, выискивая подходящий крюк или гвоздь. Но на крюках висели хрустальные люстры, а на гвоздях — хорошие картины. Он боялся повредить вещи своим мерзким телом, поэтому отбросил веревку и стал искать нож, чтобы вскрыть вены. Но все ножи были коллекционными, бритвы — только старинные, и он не решился осквернять искусство своей бренной плотью. Из всех ядов в доме нашлась только водка, он напился до беспамятства и в этом состоянии, наполовину потеряв человеческий облик, окончательно продал свою душу.
Дьявол явился к нему в образе чугунного Давида. Скульптура шевельнулась, осторожно спустилась с постамента; подошла к лежащему реставратору и прикоснулась мечом к его шее.
Тот хрипел, икал от выпитой водки, кружилась голова, и вещи шевелились. Ему показалось, что Давид разомкнул свои чугунные уста и сказал ему торжественно и внятно:
— Встань, отринь покровы, уподобься столу и будь вечен.
Тогда, вняв услышанному, он с трудом разделся, встал на четвереньки, покачиваясь, выпил еще водки и отринул от себя все человеческое. Всю свою мягкую болезненную плоть, свои слабые руки, всю свою слизь, мякоть, жижу, смертную и смрадную, свое ненасытное сердце. Он отрекся от своей принадлежности к человеческому роду и страстно пожелал стать столом, стать частью бессмертного искусства, неистребимого и вечного.
И когда тело его претерпело в корчах и муках метаморфозу, он ощутил всем своим деревянным ароматным и чистым телом, как обновление превратило его в то, чем он был всю свою жизнь, но только смутно догадывался об этом, — он стал письменным столом.
Так продолжалось с месяц. Каждый день он превращался в стол, стоял и ни о чем не думал. Глазами — замочными скважинами — он раскосо взирал на свою комнату, на все эти вещи, близкие и понятные. Он ощущал свою близость всему этому великолепию и жалел только об одном, что не может посмотреть на себя со стороны, пока не догадался придвинуть зеркало в черной раме, в котором и увидел себя в образе того самого стола, что не так давно уничтожил собственными руками.
Это принесло ему новые муки. Он старался хоть раз превратиться в стол работы мастера, но это не зависело от его воли. Выпитая водка неизменно делала свое дело, и несовершенное тело превращалось в несовершенный предмет. Наверное, в этом была своя закономерность.
Тогда реставратор попробовал бросить пить. Он слонялся по квартире, разговаривал с Давидом, заигрывал с фарфоровыми пастушками и страдал от головной боли. Он стал забывать свое имя, на телефонные звонки не отвечал, двери не открывал. Только по необходимости выходил из дома пополнить запасы консервов и водки. Водку он покупал ящиками, прятал ее в шкафу мореного дуба и ключ старался потерять. Но ключ всегда оказывался у него в кармане, а дверца шкафа сама собой распахивалась перед ним. Вещи сговорились. Они мстили ему за излишнюю любовь. Они смеялись над ним. Он бродил голый, немытый, обросший седыми свалявшимися волосами. Свое отражение в зеркале внушало ему отвращение, тогда он занавесил все зеркала черным бархатом, словно в доме был покойник. Но тело его отражалось в застекленных шкафах, преломлялось, и без того уродливое, в посуде и бронзе. Спасение было в одном — превратиться в стол.
Когда водка прекращала свое действие, он снова претерпевал метаморфозу. Деревянная плоть его размягчалась, вворачивалась внутрь, наполнялась соком и слизью. Он снова становился человеком.
Если он выпивал бутылку водки, то обратное превращение задерживалось на два дня. Больше пить он не мог, а способа продлить свое отречение от человечества не знал.
Он вспомнил о своем старом друге, коллекционере, таком же самоотреченном и неистовом, как он сам. За свою долгую дружбу они не раз перехватывали друг у друга хорошие вещи, постоянно обменивались, обманывали, обижались, ссорились и снова сходились. С высоты своего деревянного интеллекта реставратор увидел, как ничтожна страсть человека, и решил посмеяться над своим жалким другом. Он позвонил ему и сказал, что решил подарить тот самый стол работы Давида Рентгена. Друг не поверил в такую царскую щедрость, но реставратор убедил его, сославшись на то, что уже стар, болен и хочет, пока не поздно, раздарить лучшие вещи своим добрым друзьям — настоящим ценителям искусства. Далее он объяснил, что утром его дома не будет, так пусть его друг не затруднится взять ключ под ковриком, забрать стол и захлопнуть за собой дверь. Он верит своему старому другу и полагает, что тот лишнего не возьмет. Друг пообещал, клятвенно заверил в своей вечной признательности и хотел приехать тотчас же.
Наутро реставратор с трудом выпил бутылку водки и стал ждать, крепко упираясь в пол четырьмя негнущимися ногами. Друг приехал рано. Он привез с собой двух сыновей, втайне презиравших страсть отца; втроем они вытащили стол во двор, со всеми предосторожностями погрузили стол в машину и торжественно перевезли на свою квартиру. Они водрузили стол в освобожденный угол, и новый хозяин долго не мог отойти от него, поглаживая его, лаская, не веря своему счастью.
Стол еще ни разу не испытывал человеческого прикосновения. Оно показалось ему приятным. Он еще раз убедился, как хорошо быть красивой вещью и насколько лучше быть произведением искусства, нежели творением природы. Он смотрел на чужую квартиру, на все эти вещи, похожие на его собственные, смотрел на друга, постаревшего в вечном наслаждении прекрасным, и думал о том, что же тот скажет, когда через два дня увидит вместо стола голого и грязного человека, во всем своем бесстыдстве стоящего на четвереньках в углу комнаты.
К счастью, в то утро друг был в квартире один. Нет нужды описывать его сердечный припадок, запах корвалола, астматическое дыхание. Когда ему удалось втолковать о возможности метаморфозы, то он воскликнул:
— Ты самый счастливый из людей! О, как я завидую тебе! Быть столом это самое прекрасное на свете! Быть столом и не думать о грудной жабе, о близкой смерти, долгах, неблагодарных детях, старой жене, о всех проблемах человеческой жизни. Друг, научи меня стать столом!
Реставратор усмехнулся. Он не любил людей. Не любил и старого приятеля. Он не хотел мучиться один от своей нелюбви. План его исполнялся. Они разыскали одежду, реставратор оделся, и они вышли на улицу.
Была суббота, улицы заполнены людьми и машинами. На них смотрели открытые двери магазинов, яркие витрины, зазывающие людей, дразнящие их никелем и шелком, полированным деревом и красивыми этикетками. По пути к дому им пришлось преодолеть сплошной человеческий поток, льющийся в двери универмага. Люди втекали туда бурлящей волной, озабоченные, спешащие купить новые вещи, столь необходимые им в этот день. Обратно шел другой поток. Люди несли кастрюли, тугие свертки с одеждой, эстампы, торшеры. Они бережно прижимали к себе эти вещи, предвкушая, как изменится их жизнь от этой покупки.
Приятели улыбнулись. Они презирали людей. Они полагали, что нужно покупать только вечные вещи, лишь то, что уже выдержало испытание временем.
Дома он заставил друга раздеться. Тот, смущаясь, выполнил приказание и, дрожа от холода, встал на четвереньки посреди комнаты. Рыхлое его тело, хрипящее дыхание, слабые руки, обвисший живот вызвали улыбку жалости и презрения. Реставратор налил ему водки, тот выпил, потея и стуча зубами о рюмку. Пришлось выпить еще. Друг то и дело падал животом на пол и засыпал. С уголка рта стекала мутная слюна. Он был просто вдребезги пьян. Метаморфоза не наступала.
Реставратор посмотрел на него, еще раз подумал о несовершенности человека и о своей собственной исключительности и привычно ушел в другое бытие: превратился в стол.
Когда друг протрезвел, то увидел, что в комнате никого нет, а стоит только стол и скалится двуглавыми орлами. Это разозлило его. Он оделся, вымылся на кухне, посидел в кресле, думая о разном.
Вскоре позванивающий хрусталь люстр, плавные повороты фарфоровых пастушек, золоченый багет, шелк обивок, гобелены, тисненая кожа книг сказали ему вслух то, о чем он мечтал эти годы.
Он решил убить стол и присвоить все его вещи.
В чулане с инструментами он нашел плотницкий топор, долго примеривался, замахивался — и со всей силы ударил по полированной поверхности. Красное дерево дало трещину.
Стол видел все это, но у него не было возможности да и желания предотвратить удар. Он ощутил, как тело его разваливается на куски, теряет целостность, как оно раздробляется, рассыпается, расчленяется. Боли не было.
Человек уронил топор и убежал в дальнюю комнату. Ему вдруг представилось, как обломки дерева и осколки превращаются в изрубленного человека, — и ему стало жутко.
Но, успокоившись, он рассудил, что все не так уж и страшно. Давид, тезка знаменитого мастера, звякнул мечом, напольные часы проиграли гавот. Он осторожно заглянул в комнату. Стол лежал разрубленный, изуродованный, ручки от ящиков в виде перевитых полотенец отлетели в сторону. Человек ходил по комнате и ласкал вещи, приручал их к себе.
Рассортировав вещи, он взял с собой то, что мог унести сейчас, за остальными решил приехать завтра. Он совсем не думал о возможном возмездии, трупа не было, а изуродованный стол мог только запутать следствие. В последний раз оглянувшись на комнату, он увидел то, что так не хотел видеть.
Бронза размягчалась на глазах, она приобретала цвет плоти, красное дерево растекалось темной кровью, осколки стола превращались в мертвое тело человека.
Первым желанием было убежать из дома, но потом он рассудил, что оставил слишком много улик, и вернулся с порога, дрожащий, бледный, страдающий одышкой и болью в сердце. Но прикоснуться к останкам так и не смог.
Тогда, в смятении, он выпил прямо из горлышка оставшуюся водку, разделся, встал на четвереньки и попробовал еще раз превратиться в вещь, уйти от ответственности, уйти от людей и человеческих законов.
Чугунный Давид шагнул с постамента, мягко прикоснулся к его склоненной шее игрушечным мечом. Медуза приоткрыла веки, и человек ощутил, как деревенеет его тело, стекленеют глаза и голова наливается свинцом.
Сквозь узкую прорезь он увидел себя отраженным в застекленном шкафу.
На полу стояли часы в пузатом футляре, и тяжелый свинцовый маятник равномерно отбивал секунды.
Возможно, последние.
О свойствах льда
Много лет спустя, постаревший, с лысиной, дерзко забравшейся на недоступную ранее высоту, лежа на продавленном диване, он вспомнит день, когда растаял лед.
Дивану будет столько же лет, сколько ему, он так же полысеет и померкнет, и так же будет стоически вздыхать, когда на него опустится тяжелый груз. Комната, преждевременно постаревшая, с кружевом паутины и припорошенная пылью по углам, будет так же покорно поддерживать стеллажи из неструганых досок с двумя десятками книг, так же терпеливо нести в своем чреве его самого, и грязный фланелевый халат, и штангу, огромную, как паровозные колеса, и чугунные гири, великолепные и грозные, как ядра царь–пушки. Он сам сколачивал стеллажи, сам шил халат, сам вытачивал штангу и тот велосипед с погнутой рамой собирал сам, и брезентовый катамаран с дюралевым скелетом, что покоится на балконе, — делал сам. Но самая большая заслуга его была в том, что именно он сам сделал себя. Сначала вылепил из мяса и костей, потом создал изо льда и долго существовал в двух ипостасях, пока лед не растаял и он не остался один.
То время, когда он был обыкновенным мальчиком, осталось далеко позади, и он не верил старым фотографиям, на которых щуплый белесый мальчик сидел на скамье у бревенчатого заплота. Ибо временем своего рождения он считает тот день, когда принес с завода штангу, выточенную по всем правилам токарного искусства, обещавшую переродить его и создать нового человека. Занимался он упорно, по пять часов в день, свято соблюдая правила и законы, согласно которым тело его стало разбухать, наливаться свежим соком, наполняться твердой мягкостью мышц, буграми перекатывающихся под кожей, как поросята в мешке.
С этих пор он уединился и начал новую жизнь. Он много читал, в основном книги по философии, и развитие его ума порой опережало рост мышц. Никто не имел права беспокоить его в часы занятий, а если и приходил кто–нибудь, то обрекался на ожидание той минуты, когда хозяин закончит упражнения и благосклонно обратит внимание на гостя. Беседы его стали сводиться к одному: во всем городе, а пожалуй, и на всей земле, нет такого умного и целеустремленного человека, как он. Только он постиг истинный смысл жизни, а все люди пошлы, суетны, бездарны и слабы. Он много раз доказывал это тем, что в декабре купался в проруби, в любую погоду совершал длительные пробежки по городу, просиживал часами за книгами, с гордостью не находя в них ничего нового, ибо до всего давно додумался сам. Он ушел с завода и теперь раз в три дня уходил сторожить склад, где даже тараканы дохли с тоски.
Свое собственное величие подавляло его. Он достал маленький телескоп и теперь каждую ночь рассматривал небо, такое же величавое и бесконечное, как он сам. С помощью оптики он взлетал к звездам и подолгу парил между ними, одним мановением зажигая туманности и высекая искры из белых карликов. Только в эти часы он чувствовал себя на своем месте и жалел об одном, что время богов кончилось и ему не с кем помериться силами. Он открывал законы природы, отменял законы людей, ставя себя выше всех, и мог бы завоевать весь мир, если бы этот мир хоть чем–нибудь понадобился ему. Иногда он направлял объектив телескопа на противоположный дом, и незримо присутствовал при чужих ссорах и поцелуях, трапезах и болезнях. В гордыне своей он присвоил себе эпитеты Бога: всезнающий, всепонимающий, всевидящий и всемогущий.
В первые годы своего величия ему нравилось доводить людей до ссоры, а потом бить их, хоть пятерых сразу, неторопливо и больно, но потом он перестал делать это, ибо победа над телами уже не приносила ему сладкого чувства собственно превосходства. Тогда он ударился в психологию, создав всю науку заново, и тут же использовал ее на своих приятелях. По законам своей логики он доказывал им, что они подлецы, глупцы и небокоптители, что жизнь их напрасна, и попытки добиться лучшего смехотворны и жалки. Ему нравилось видеть смущение собеседников, растерянность их и беспомощность. Он изобличал грехи своих приятелей в присутствии их жен и, несмотря на семейные скандалы и разводы, считал, что поступает правильно и что только любовь к истине движет им.
Познав все, он решил испытать себя в искусстве, обоснованно полагая, что с такой же легкостью, с какой он поднимает штангу, он мог бы писать нетленные полотна. Он справедливо решил, что рисовать совсем несложно, нужно только выбрать сюжет, очертить необходимое линиями и раскрасить то, что получилось, в разные цвета. Все ему известные картины были выполнены именно так, кроме линий и красок он там ничего не находил, а значит, ничего и не было. Поэтому он начал выбирать сюжет, достойный его самого и его комнаты, на стене которой и пожелал увековечить фреску.
Он хотел выбрать бескрайнее море, но побоялся морской болезни и докучливых приливов, из–за которых приходилось бы часто вытирать пол; потом остановился на звездном небе, но рассудил, что, обладая мощным тяготением, он притянет к себе все звезды, а это будет отвлекать его от мыслей. Следующей идеей было изобразить просторы Земли с лесами и городами, но когда он представил себе, что тысячи людей, обитающих там, столпятся у кромки картины, чтобы посмотреть на него, то ему стало муторно. Рисовать зверей он тоже не захотел, ибо что за радость день и ночь вдыхать их вонь, и заботиться о зайцах, чтобы их не съели волки, и о волках, чтобы их не подстрелили браконьеры, и о браконьерах, чтобы их не посадили в тюрьму, и так до бесконечности. Цепь взаимоотношений в живой природе не занимала его, ибо он сам был концом и началом любой цепи.
При трезвом размышлении он выбрал достойный рисунок. Изображал он развалины древнеримского цирка с бассейном на переднем плане, наполненным мутной водой, с колоннами, утерявшими коринфский ордер, с кирпичной стеной и одиноким деревом среди пустого неба. Именно развалины, как символ гибели могучей империи, привлекли его. Пейзаж был безлюден, а чтобы и впредь сюда к нему никто не заходил, он добавил к нему сплошную стену, сработанную из мрамора и ключей проволоки.
Разделив репродукцию на клеточки, он тщательно перенес рисунок на стену. Вопреки всему, карандаш не слушался, елозил, срывался, крошился, прочерчивал кривые линии. Рисунок был закончен, нимало не походя на оригинал, но даже в этом несовершенстве он усмотрел свою способность переосмысливать действительность. Он раскрасил рисунок карандашами и акварелью, громко назвал это фреской и разработал специальную систему подсветки, чтобы свет падал снизу и сбоку. Редкие гости хмыкали, пожимали плечами, но критиковать опасались, это могло вызвать свежий приток доказательств их бездарности и никчемности.
Впрочем, с каждым годом гостей становилось все меньше и меньше, приятели отворачивались от него, сначала они удивлялись и даже радовались переменам в его жизни, но, поставленные на свои места и терпеливо выслушав анализ своей жизни, они покинули его, кто с гневом, кто с характерным движением пальца вкруг виска.
Он нисколько не огорчался из–за этого, ибо высочайшим благом на свете считал одиночество. Он мог позволить себе роскошь говорить все, что думал. Рубахи рвались на его торсе при напряжении мышц, пиджаки и пальто не сходились на груди, брюки трещали по шву, вид его уже издали внушал желание перейти на другую сторону улицы.
Рассматривая себя в зеркале, он задумывался над тем неизбежным, чего никто и никогда не минул: о гибели своего тела, столь тщательно и любовно выпестованного, о том времени, когда ослабеют мышцы, увянет кожа, усохнет мозг. Размышляя над этим, он не скорбел, не представлял себя, красивого и умного, лежащим в гробу среди венков и рыдающих граждан — это было бы слишком примитивным для его уровня. Он решил бросить вызов смерти и остановился на памятнике самому себе. Прежде всего — материал, решил он. Пластилин мягок и наивен, глина хрупка, стекло эфемерно, гипс просто глуп, дерево подвержено гниению. Он выбрал самые знаменитые: бронза, мрамор, гранит, а из них последний, потому что именно гранит как нельзя лучше символизирует силу, прочность и мудрость, ведь бронза может расплавиться, а мрамор изнежен и легкомыслен.
Он взял рюкзак, сшитый им из полотнища брезента, приготовил кайло и лом, сел на велосипед и, несмотря на мороз, покатил за город. Было холодно, он ехал, окутанный облаком перегретого пара, приводя в замешательство редких шоферов, и мороз ему был нипочем. Взобравшись на скалу и примериваясь к первому удару, он ощутил враждебность гранита и понял, что тот будет сопротивляться до конца. Это обрадовало его. Легких побед он не любил. Выбрав глыбу, он долго и гулко долбил ее ломом, лупил с размаху кайлом, но сталь отскакивала от камня, каменное крошево летело в глаза, иссекло в кровь лицо, а гранит не поддавался. Грохот и звон неслись по лесу. Похоже было, что работает многотонный экскаватор, но это был лишь один человек. Он проработал весь день, в конце концов кайло затупилось, а лом сломался, как спичка.
И тогда он отступил. Это было неслыханно, но он сдался, решив подождать до лета, а уж тогда динамитом сокрушить твердыню. Обратно он ехал на велосипеде, завязая в снегу, и в темноте пар, валивший от него, как от чайника, был не виден.
Ему пришлось пересекать речку, промерзшую до дна, и когда переднее колесо споткнулось о глыбу льда, он успел услышать чистый звон и, плавно перелетев через руль, воспарил над рекой и опустился на вершине ледяной горки.
Через много лет, прислушиваясь к вздохам диванных пружин, он вспомнит и этот день. День, когда он приволок домой кусок льда и торжественно установил его на балконе. Он решил создать памятник себе изо льда. Подобного не знало искусство. Рассматривая глыбу, он уже видел в ней свои черты и отождествлял свою душу с чистотой и холодом льда. Разумеется, лед не вечен, и этот памятник должен быть скорее эскизом. А уж потом…
И он принялся за работу. Невзирая на холод, он просиживал на балконе и, следуя совету Родена, отсекал все лишнее. Лишнего было много, и поэтому приходи — лось работать по многу часов. Лед был прозрачен, это создавало дополнительные трудности, но зато на солнце скульптура играла спектральными бликами, высвечивалась изнутри, фокусировала лучи в узкие жгучие пучки, прожигающие дырки в одежде. Все это было эффектно и символично, но все же голова была слишком прозрачной, и постороннему критику могла показаться просто пустой. Тогда он тщательно отобрал свои самые лучшие мысли, промыл их в проточной воде, отполировал и вложил в голову. Подо льдом они походили на вмороженных рыбок, только без чешуи. Теперь каждый желающий мог прочитать его мысли без помощи телепатии.
Отдыхая от трудов за штангой, он черпал вдохновение в своем отражении в зеркале, каждый раз находя в нем что–то новое и прекрасное. «Нет безобразья в природе», — повторял он некрасовские строки, подразумевая под природой себя.
На шестой день творения к нему стали приходить люди с фрески. Они являлись из–за высокой мраморной стены, продираясь через колючую проволоку, влекомые любопытством и злонамерением, скапливались у края бассейна, кричали что–то, но голосов их не было слышно; пытались бросать камни, но те наталкивались на плоскость стены и отлетали обратно.
Докучливые пришельцы были одеты в лохмотья, и нельзя было понять, какой они нации и из какого времени пришли. Вечно голодные, они дрались из–за кусков, топили друг друга в бассейне, кидались осколками мрамора, причиняя раны и увечья.
Сначала он не обращал на них внимания, но когда их вечное копошение стало невыносимым, он дорисовал стену под самый потолок и по колючей проволоке пропустил электричество. Это ненадолго прекратило появление пришельцев, но потом они разломали стену и стали приходить из проломов, за которыми виднелись густо населенные города и неведомые земли.
Знающий все обо всем, он нисколько не интересовался ни этими городами, ни этими землями, ему было безразлично, кто эти люди и что им надо, и отчего они враждуют, и для чего они живут.
Он знал главное: для чего живет он, и это главное было столь величественным по сравнению со всем остальным, что весь окружающий мир представлялся ему одинаково пустым и нереальным.
Бюст становился все более совершенным, все более похожим на него самого, и подчас он чувствовал, как что–то уходит из него и воплощается в лед. Иногда он не мог понять, кто же из них настоящий, и тогда приходилось залезать в теплую ванну, чтобы убедиться в своей неуязвимости.
Он украсил бюст венком, сработанным из пластинок льда, отполировал теплой водой лицо и долго стоял, глядя на него.
Через много лет он вспомнит и этот день, и следующий за ним. Тот день, когда бюст заговорил. Услышав речь бюста, он не удивился, хотя и не ожидал от него такой наглости. Привыкший считать себя единственным настоящим человеком, он легко поверил в небывалое, ибо полагал, что все, созданное им, одухотворяется его духом, живет его жизнью и является его непосредственным продолжением.
Он сел, зачерпнул горсть снега, крякнул и сказал: «Я самый умный». «Ну и что?» — спросил бюст. «Я тебя кулаком трахну», — сказал он на это. «Не–а», — сказал бюст, высокомерно вытягивая губы. «Это почему же? Видал кулак? Его все боятся». — «Кроме меня», — сказал вызывающе бюст. «Ты ведь ничего умного сказать не можешь», — высказал он свое любимое обвинение. «Как и ты», — ответил бюст.
Услышав это, он замолчал, стараясь придумать такой аргумент, чтобы после него уже не придумывать никаких аргументов. И сказал так: «Растоплю. Автогеном». На что бюст строптиво ответил: «Отращу руки, стукну. Видал я таких философов». — «Скотина! Да как ты смеешь!» — «А вот так, — сказал бюст, — я говорю твоими же словами. Нравится? Это не ты, а я самый умный, самый сильный, самый талантливый. А ты — комок мяса, живший только для того, чтобы создать меня. Теперь можешь убираться. Мне и без тебя хорошо». Бюст поднатужился и высунул язык, красивый, как леденец.
Он хотел тотчас же разбить лед, раскидать его куски по балкону, превратить их в воду, вернуть льду первоначальную бесформенность и бессловесность, но пожалел свой труд. В конце концов, какой–никакой, а памятник. Поэтому он плюнул на лысину бюста, подождал, когда плевок замерзнет, и, с удовлетворением захлопнув балкон, принялся за штангу.
Звенела сталь, стонал дощатый помост, пришельцы на стене деловито лупили друг друга, бюст на балконе терпеливо собирал падавший снег, растапливал его и наращивал руки, а он не думал ни о чем, потому что мышцы в эти священные часы заменяли ему мысли. Величие его оставалось непоколебимым.
Вечером он ушел на свой склад и, прислушиваясь к голосу оттепели, даже беспокоился, что бюст может растаять, но быстро нашел забвение в длинном доказательстве своей исключительности. Это, как всегда, отвлекло его от неприятного и унесло в обжитые межзвездные дали, где, напыживая щеки, он занимался своим любимым делом — задувал звезды.
Наутро он увидел перемены в облике бюста. Тот за ночь собрал талую воду, нарастил себе руки и даже немного приподнялся над полом. Руки были толстые, перевитые буграми мышц и вздутыми венами и, несмотря на кажущуюся хрупкость, все равно были грозными.
«Обнаглел, да?» — спросил он у рукастого бюста. «А что?» — невозмутимо ответствовал тот, разминая затекшие пальцы. «Врезать тебе, что ли?» Бюст повторил тем же тоном: «Врезать тебе, что ли?» — «Достукаешься», — сказал он грозно. «Вот погоди, ноги отращу», — пригрозил памятник. «Ты что это себе позволяешь? — сказал он, надвигаясь на лед. — Ты кто такой? Ты памятник мне и никто больше. Это я тебя сделал. Я». — «Я памятник самому себе, — горделиво ответил бюст. — Быть может, ты и воду сделал, и лед сотворил?» — «Я создал самого себя и этого достаточно. Все, к чему я прикасаюсь, — мое по праву. Я — самый умный. Никто не выдерживает спора со мной». — «Кроме меня», — сказал памятник. «А ты просто ледышка. Придет весна, и ты растаешь». — «Я слишком велик, чтобы какая–то весна смогла растопить меня», — спесиво ответил памятник и надул губы. «Я с тобой и спорить не буду, — сказал он, — вот возьму и скину с балкона». «Попробуй», — сказал угрожающе памятник. Тогда он набычился, раскинул руки и попытался ухватить бюст за голову. Памятник звякнул и неожиданно стукнул его ниже пояса. Согнувшись, не столько от боли, как от гнева, он поискал глазами что–нибудь тяжелое и, схватив дюралевую мачту, снес бы голову памятнику, но тот, ловко увернувшись, перегрыз ее. Грузно осев на пол, он ошеломленно смотрел на блестящий скус. Законы, придуманные природой и им самим, подло нарушались. Лед не мог быть ни таким увертливым, ни таким крепким. Но, вопреки всему, это было, и приходилось жить по новым законам.
«Скотина!» — взревел он, впервые в жизни потерпев поражение. Балкон был узкий и тесный, но он изловчился и, сделав обманное движение левой рукой, что было силы влепил ногой по памятнику. Лед утробно зазвенел и даже не дал трещины, а он сам завертелся на одной ноге от боли и злости.
И тут памятник засмеялся. Смех его был похож на смех творца, только звонче и холоднее.
«Ты, комок мяса, — сказал бюст. — Знай свое место. Это я — самый сильный, самый умный. А ты — никто по сравнению со мной. Иди и принеси мне воды. Я жрать хочу». — «Воды?! Тебе еще воды принести? Да я тебя кипятком ошпарю!» — «Нервничаешь, — удовлетворенно сказал памятник. — Это хорошо. Нервничает слабый. Может, подискутируем, а?» — «С тобой–то? Да у тебя нет ни одной своей мысли. Это я вложил в тебя свои. Я! Как же ты будешь спорить со мной?» — «А вот так, — сказал памятник и стукнул своего творца в солнечное сплетение. — Нравится тебе такая мудрость? — ехидничал бюст. Этой логике я научился у тебя, спасибо. Это самая мудрая мудрость вовремя стукнуть оппонента. Да, с такими кулаками не пропадешь ни в одном споре». — «Да я, да я… — сквозь спазмы кричал он. — Да я не погляжу, что ты мой памятник, да я тебя!..» — «Остынь, мозгляк, — презрительно сказал памятник. — Это ты памятник мне. К сожалению, не совсем удачный. Придется тебя переделать. Ну, так ты принес мне воды или нет? В противном случае, я пойду сам».
«Так иди, иди. На руках пойдешь, да?» Он отошел в сторону и приготовился к злому смеху. Памятник заскрежетал льдом, напыжился и оторвал обрубок от пола. Придерживаясь руками за перила, он очистил постамент от снега и, упираясь на кулаки, как на костыли, качнулся и двинулся вперед. Руки были длинные, это позволяло раскачивать тело, подобно маятнику.
Он вбежал в комнату, захлопнул дверь и смотрел из окна за движениями бюста. «Открой дверь, — сказал тот, — а то разобью. Ты меня знаешь. Я парень дерзкий». Ледяной рукой он ухватил ручку и выдрал ее вместе с шурупами. Пока памятник возился с дверью, он выхватил из шкафа ружье и, наскоро зарядив его жаканами, стал спокойно ждать, когда разлетится дверь. С ружьем в руках он снова почувствовал себя уверенно. Дверь слетела с петель, и памятник ввалился прямо под прицел. Он прицелился в грудь скорее по инерции, потому что сердца у памятников не бывает, и в последнюю секунду даже пожалел о своем труде и еще о том, что все–таки бюст очень похож на него самого, но хочешь не хочешь, а приходилось стрелять в своего близнеца.
Когда дым немного рассеялся и грохот отошел от ушей, он увидел, что памятник спокойно вышагивает по направлению к ванной с двумя дырками в груди, и эти дырки, оплавленные по краям, уже заполняются водой.
«Брысь с дороги! — сказал памятник. — Щенок! Воды мне! Жрать хочу!» Оставляя иней на полу, скрипя и позванивая, памятник ворвался в ванную, и по шуму воды можно было догадаться, что он пьет.
Творец его замер у стены, прижавшись спиной к фреске, и раздумывал: бежать ему из дома или продолжать борьбу. И то и другое было бесполезным. Уступить свою комнату — почти что часть своего тела, казалось немыслимым, а драться с шагающим экскаватором — просто глупо. И все же он выбрал борьбу. Привыкший побеждать, он не мог позволить кому бы то ни было положить себя на обе лопатки, даже своему двойнику. Он схватил штангу, подтащил ее к ванной и основательно припер дверь. Злорадно прислушиваясь к шуму воды и к довольному фырканью памятника, он приволок сюда же диван, добавил гири, между стеной и дверью вбил распорки из дюралевых угольников и встал сам, как наиболее надежная преграда. Потом, подумав, пошел на кухню, поставил на плиту большие кастрюли с водой и стал ждать событий.
По–видимому, памятник напился. Неизвестно было, что происходило в его утробе с выпитой водой, ведь для превращения ее в лед необходим был холод, но бульканье и фырчанье прекратились, и первые толчки в дверь возвестили о его желании выйти. Потом он подал голос: «Эй ты, слизняк мягкотелый! Я разнесу дверь и тебя заодно! Открой подобру!»
С каждым словом дверь раскачивалась сильнее и сильнее, но баррикада выдерживала. Закипала вода. Он подождал, когда в двери образуется первый пролом и, следя за огромными кулаками, рушившими преграду, плеснул кипятка. Послышался крик, но не боли, а удесятеренного гнева. Пролом увеличивался, в него уже входила голова памятника, и по тому, как она возвышалась над полом, можно было понять, что он успел отрастить ноги. Это казалось абсурдным, но, по–видимому, памятник научился сам замораживать воду, и такая эволюция пугала. Кипящая вода выплескивалась на лицо, грудь, руки, заставляла лед сверкать, сглаживаться, но существенного вреда не приносила. Когда верхняя половина двери была разломана так, чтобы в пролом можно было пролезть, и, невзирая на устойчивую баррикаду, памятник упорно выкарабкивался наружу с гневными угрозами, он понял, что не выстоит и придется позорно бежать, спасая свою неповторимую жизнь. Не успев пожалеть себя, он выбежал в коридор, подхватил велосипед, накинул куртку и, без шапки, ринулся вниз по лестницам, с содроганием внимая грохоту и рычанью разбушевавшегося памятника.
Отъехав от дома, он устыдился своей трусости, но рассудил, что все равно никто не видел его бегства и что любыми силами стоило сохранить свое тщательно взлелеянное тело, свою редкую душу и уникальный ум. Становилось холодно, идти было некуда, родственников в городе не было, а друзей и подавно. И он поколесил по городу, разгоняясь на прямых улицах, чтобы согреться, но встречный ветер знобил, покрывал волосы корочкой льда, и он решил поехать на свой склад, где худо–бедно, но можно было переночевать.
Сменщица, разговорчивая старуха, приняла его в сторожку, напоила чаем и уложила спать на стульях.
Утром, униженный, обесчещенный, он сел на велосипед и покатил домой. Открыл дверь, прислушался. Слышно ничего не было, но холод стоял собачий. Вкатил велосипед, с независимым видом прошел в комнату. Дверь на балкон распахнута, стекла разбиты, ветер, смешанный со снегом, свободно гулял от стены к стене. На диване лежал памятник, закинув ногу за ногу, и, сложив ручищи на груди, он не то спал, не то мыслил. На фреске было все по–прежнему, тепло и тихо. Пришельцы сидели на краю бассейна, болтали ногами в воде и, показывая пальцами на него, смеялись.
Не говоря ни слова, он закрыл дверь на балкон, прибрал щепки, откатил штангу на место и, закрывшись на кухне, включил плиту, напился горячего чая и, согревшись, задремал в кресле. Ему ничего не снилось: ни галактики, власть над которыми он утерял, ни новые законы природы, что обычно открывались им во сне, ни даже сам он не снился себе, и это было прискорбно.
Через много лет, морщась от пружин, впивающихся в спину, он вспомнит те дни молчаливого перемирия, когда он сам жил на кухне, а остальную квартиру занимал памятник, разбухший до безобразия, уже не вмещающийся на диване, задевающий головой потолок и потому большую часть времени лежащий прямо на полу, под сквозняком, бесконечно раздумывающий о своем величии и непогрешимом уме. Сам хозяин не выходил из кухни, почти примирившись со своим падением, но все равно беспрестанно изобретая способы свержения негаданного узурпатора.
Три раза в день памятник с грохотом и звоном уходил в ванную, включал воду и шумно пил ее, после чего с трудом пролезал в дверь, ибо рост его был неудержимым. Настал день, когда он мог только ползком приближаться к ванной, протягивать руку к крану и пить из пригоршней, сам он уже не входил, не позволял рост и непомерно разросшаяся голова. Он присвоил себе все титулы бывшего хозяина и, лежа на полу, ногами упираясь в стену, а головой в балкон, громко разговаривал сам с собой и в собеседниках не нуждался. Со страхом и отвращением творец его узнавал собственные речи и говорил: «Нет, я был не такой», — но все же признавал очевидное, каким бы невероятным оно ни казалось.
Он уже не пытался учить людей, уже не говорил никому: «Я самый умный человек», а большую часть времени молчал и глаза никому не мозолил. Но его по–прежнему не любили, старались не сталкиваться с ним, не заговаривать, и он впервые ощутил свое отчуждение от мира, но это было отчуждение не гения, а изгоя.
В конце концов памятник разросся до такой степени, что не мог даже лежать, и ему приходилось сидеть, подогнув ноги и пригибая голову. К ванной подойти он не мог и мучился от голода, лишь иногда пробавляясь талой водой, собранной на балконе. На своего творца он не обращал внимания и даже не просил у него воды — гордость не позволяла. Неизвестно, приходила ли ему в голову мысль выйти из квартиры, но сейчас это явно было невозможно.
А хозяин терпеливо ждал, больше всего страдая от отсутствия дивана, на котором так хорошо думалось, штанги, которая так хорошо отвлекала от мыслей, своего телескопа, уносившего его в такие дали, что и мудрецам не снилось. Заглядывая в комнату, он видел там гору льда, заполнившую пространство, видел свою фреску, где так же бегали люди в лохмотьях, так же дрались они и мирились, и любили друг друга в тени колонн, и порой ему казалось, что тот мир реальнее этого, одинокого и кошмарного. Однажды он захотел уйти туда насовсем, но стена не пустила его на радость оборванцам. Он только испачкался в известке и набил шишку на лбу, после чего сделал вывод, что ни тот, ни этот мир не принимают его, и он никому не нужен, даже самому себе. И мысленно обвинил во всем свой зарвавшийся памятник. Он считал дни до наступления весны, хотя не слишком–то надеялся на ее благотворное действие, ибо памятник давно научился регулировать свою температуру и от внешней среды не зависел. Он ждал, когда узурпатор погибнет от голода или просто развалится на куски.
И надежды его были не напрасны. Памятник становился все более неподвижным, задумчивым, иногда впадая в словесный бред, нес всякую чепуху, упираясь в стены, он силился обрушить их, но бетон был крепче льда, и по телу его от натуги пробегали извилистые трещины, из которых вытекала мутная вода.
Однажды памятник сделал очередную вялую попытку подняться, но, обессиленный голодовкой, сдался и разразился длинной речью. Слова путались, заскакивали одно за другое, как шестеренки разболтанного механизма, мешались, нагромождались одно на другое, распадались, склеивались, разламывались, но все равно можно было понять, что он считает себя самым умным, самым сильным и самым громадным. Последнее было бесспорным. Лед не выдерживал собственной тяжести, крошились пальцы, венок из хрупких листьев давно обломался, отлетали завитки волос, мысли в голове, черные на свету, заплетались в тугие жгуты и, проламывая лед, выходили наружу.
Творец его стоял неподалеку и ждал. Ждал конца, уже неминуемого, с радостью, и одновременно — с неприятным предчувствием собственного конца. Памятник, созданный им, был его близнецом, пусть немыслимым, невозможным, но похожим на него самого, и это сходство, преувеличенное, но в корне своем верное, пугало и отвращало.
В конце концов, любой памятник — это преувеличение и самая вопиющая гипербола — пресловутая вечность, на которую памятник обречен помимо своей воли, которой, впрочем, у него нет.
Ледяной памятник напрягся, по телу его пробежали судороги, он попытался повернуться к окну, но шея не слушалась, и с последними словами, обращенными к миру, он рассыпался на куски прозрачного, звонкого льда. Слова были такие: «Я самый умный во всей галактике! Я самый великий во Вселенной! Я!»
Неподвижная гора льда быстро начала таять, на полу растекались лужи, соседи прибегали снизу и жаловались на водопад, но сам хозяин первым делом освободил из обломков штангу, расчистил себе площадку, и раз за разом вздымал и вздымал ее к потолку, ни о чем не думая, ничего не зная…
Много лет спустя, постаревший, с лысиной, дерзко забравшейся на недоступную ранее высоту, он будет лежать на диване, вспоминать день, когда растаял лед, и мысленно придумывать новые, более грандиозные проекты увековечивания самого себя. В мыслях своих он решит, что памятник стоит сделать из целого города, то есть расположить дома такие образом, чтобы с высоты птичьего полета был виден его победоносный профиль, но этот замысел покажется ему ничтожным, и он будет раздумывать над способом придать земному шару свои скульптурные черты, чтобы подлетающие пришельцы дивились этому, но потом и это он отбросит, и в гордыне своей надумает расположить звезды в галактике таким образом, чтобы…
И еще о многом он будет думать, не обращая внимания на неслышный смех оборванцев с фрески, на их невидимые слезы, на их нестрашную смерть.
Встань и лети
Боль приходила почти в одно и то же время — между десятью и двенадцатью ночи. Медленно, как гул приближающегося самолета, накатывала из глубины, охватывала голову, и тогда приходилось зарываться лицом в подушку, стискивать зубами краешек материи и отдаваться боли, потому что лекарства давно не помогали и бороться с ней казалось таким же бесполезным делом, как останавливать руками ревущий пропеллер. И Николай не противился боли, смиряясь с неизбежным, он терпеливо дожидался окончания приступа и не позволял себе только одного — закричать или застонать, даже если и не было никого рядом. Боль появилась впервые почти год назад, сначала слабая и нечастая, боящаяся анальгина, и Николай не слишком–то обращал на нее внимания, объяснял ее усталостью, бессонницей и прочими простыми причинами.
В последнюю ночь, проведенную дома, измученный только что ушедшим приступом, он засыпал тяжело и мучительно. Боль, наполнявшая его, оставила пустоту, чуть ли не физическую, словно бы в голове образовалась полость. Ощущение было настолько навязчивым, что он не удержался и потрогал голову, будто убеждаясь в ее целостности. Что–то перемещалось внутри, сжималось и разжималось, закручивалось в спираль, безболезненно, но все–таки ощутимо, и Николай так и заснул…
Пискнуло радио на кухне, и он поднес руку к глазам, чтобы сверить время. Часы бессовестно отставали. Он подвел их, нехотя встал, невыспавшийся и раздраженный. Сегодня он должен ехать в больницу, чтобы решить наконец, что же делать ему со своей больной головой, и довериться умным врачам, как прежде он доверялся боли.
Жил он один, в однокомнатной квартире, заставленной мольбертами, неоконченными холстами, книгами. В комнате стоял запах льняного масла, скипидара, фисташкового лака, и когда Дина навещала его, то первым делом открывала пошире окна, чтобы выветрить привычные запахи и оставить хоть немного места для своих духов.
Пришла она и сегодня, шумная, веселая, перепачкала ему щеки губной помадой, распахнула окно, смахнула со стула этюдник, уселась по–хозяйски.
Она всегда приходила без приглашения, и ему даже нравилось это. Каждое ее появление было сюрпризом и оттого немного праздничным. Познакомился он с ней давно, предложил позировать ему, она согласилась, но никогда не приходила в назначенные часы, а всегда с опозданием, когда на час, когда и на день. Могла прийти она и ночью, как ни в чем не бывало разбудить его и, усевшись на стуле, сказать: «Ну, давай пиши». Сначала он пытался приручить ее, но ни ласка, ни окрики, ни подарки не привели ни к чему, и он смирился с ее вольным характером и даже полюбил его. Единственное, что не умела делать Дина — это надоедать, а он сам жил безо всякого режима, то ударяясь в работу, то валяясь целыми днями в хандре на диване, когда не писалось, и такая подруга в общем–то его устраивала.
Вот и сейчас его не было дома почти месяц, он ездил в Саяны, писал этюды, домой вернулся усталый, измученный головой болью, и Дина, словно зная о его приезде, пришла на другое же утро.
— Я по тебе страшно соскучилась, — сказала она. — Давай пойдем куда–нибудь вечером.
— Да я бы пошел, — сказал он, — но у меня направление в больницу на сегодня.
— Разве ты умеешь болеть? Удивительно! Надеюсь, что насморк?
— Что–то вроде этого… Взгляни лучше на этюды. Это Ка–Хем… Так, голова побаливает.
— Пачкотня, — одобрительно сказала она, повертев картонки в руках. — А почему же из–за головной боли тебя направляют в больницу?
— Откуда мне знать, докторам виднее.
— Ты от меня все скрываешь, Коля. Ты ужасно скрытный человек. Учти, я буду ходить в больницу, и все узнаю. Послушай, а вдруг у тебя что–нибудь страшное? Ты не боишься?
— Нисколько.
— Ты настолько несамостоятельный, что даже бояться за тебя приходится мне. И делать это я буду на совесть.
Его поместили в отделение нейрохирургии, и уже в самом названии таилось нечто угрожающее. Не просто нервное, а еще и хирургическое. В его палате лежало еще двое больных. Один из них уже был прооперирован и теперь выздоравливал. Об операции он рассказывал просто: заснул, а потом проснулся. И ничего страшного, мол, в этом нет. Продолбили дырку в черепе, вынули лишнее и зашили. Вот и все дела. Такое отношение к серьезным вещам нравилось Николаю. Он и сам был таким и даже к собственной возможной смерти относился с иронией: эка, мол, невидаль — умереть!
В первые дни собирали анализы, облучали рентгеном, прикрепляли датчики к груди, рукам, голове; самописец, шурша, писал непонятные для него кривые. Лекарств почти не давали, только болеутоляющие, которые давно уже не утоляли никакой боли.
К концу недели его осмотрел профессор.
— Ну, как дела? — спросил он. — На операцию настроен?
— Ну что ж, — сказал Николай, — если надо — оперируйте.
— У тебя опухоль, — сказал профессор, помедлив. — Скорее всего, доброкачественная. Мы уберем ее, и твоя болезнь кончится. А самое главное — не трусь и надейся на лучшее.
— А я и не боюсь. Опухоль так опухоль.
— Ну тогда до среды, до операции.
В воскресенье пришла Дина. Он вышел к ней в больничный сад, они посидели на скамейке, разгрызая твердые яблоки и аккуратно складывая апельсиновую кожуру в пакетик. Дина молчала, это было непохоже на нее, и поэтому Николай болтал больше обычного и громко смеялся за двоих.
— Ну что ты пригорюнилась, вольная птица? — не выдержал он. — Неужели ты и в самом деле переживаешь за меня? Брось, не стоит. Операция пустяковая, ничего со мной не случится. Только побреют меня наголо и стану я страшнее черта.
— Это же так серьезно, — сказала она. — Ты сам не понимаешь, до чего это серьезно.
— Ты о смерти, что ли? Ну так и что, одним художником будет меньше. И к тому же, я непременно выживу. Куда я денусь?
Она не отвечала, а молчала, хмурилась своим мыслям, и Николай подумал, что она, наверно, знает больше его и по–настоящему беспокоится за него.
— Не расстраивайся, — сказал он, — и не хорони меня раньше времени. Здесь хорошо лечат.
— С сегодняшнего дня я буду жить у тебя. Дай–ка мне ключи.
Это было неожиданным, и Николай даже не знал, отшутиться ему или промолчать.
— А как же твоя независимость?
— Моя независимость в том и состоит, что я выполняю свои желания. Мне хочется жить у тебя и я буду жить у тебя. Ясно?
— Ну и ладно. Только не нарушай моего беспорядка.
Он лежал на узком операционном столе, под многоглазой лампой. Голову ему выбрили, и затылок холодил никель стола. Руки раскинуты и привязаны. Укололи в вену, кто–то в зеленой марлевой маске склонился над ним, прикоснулся пальцем, пахнущим йодом, к веку. Голова кружилась, стены наплыли на потолок, лампы слились в одну, тусклую и красную, а стол, на котором покоилось его тело, мягко сдвинулся с места и поплыл вниз.
Он попытался зацепиться руками за стол, чтобы не упасть, но привязанные ладони были повернуты кверху, и он сжимал пальцами воздух. В голове темнело, позванивало и посвистывало, и когда краешек света высветился сбоку, то он увидел далекое небо. Он летел над красной равниной, ветер посвистывал в ушах, а внизу позванивали колокольчиками маленькие человечки, бежавшие следом и отстававшие, ибо полет его ускорялся. Только сейчас он заметил, что летит без одежды, но холода не чувствовал, хотя воздух, обтекавший его, был разреженным и холодным. Он знал, что спит, но от этого его ощущения не становились иллюзорнее, и безмерную выдумку своего сна он принимал как реальность. Попробовал снизиться, но еще не знал, как это делать, и только перекувыркнулся в воздухе. Он никогда раньше не прыгал с парашютом, зрелище перевернутой Земли неприятно удивило его. Небо оказалось под ногами, бледно–синее, с редкими звездами, и казалось, что можно ступать по нему, как по тверди. Он раскидывал и сводил руки, отбрасывал ноги и сгибал колени, пока не научился регулировать положение своего тела в пространстве. Когда он выравнялся и посмотрел вниз, то увидел, что равнина сменилась россыпью крупных камней и редкими скалами. Горизонт был близким, и ни одного облачка не просматривалось вблизи. Он снова попытался снизиться, не потому, что полет утомлял его, а просто ему было интересно узнать, что за земля под ним, и что за люди, там, внизу.
Оказалось, что регулировать полет не так уж и трудно, надо было только сосредоточиться на том, что ты снижаешься или что полет замедляется, и тело тотчас подчинится приказу. Он быстро пошел вниз, скалы наплывали на него, и метрах в двадцати от поверхности он испугался, что разобьется, взмыл кверху и, уже постепенно уменьшая высоту, принял вертикальное положение и, мягко спружинив коленями, опустился среди валунов. Кружилась голова, и где–то в глубине, под правым виском, громко билась жилка. Он потрогал рукой висок и ощутил вмятину, словно бы кости там не было, а прямо под кожей пульсировал живой мозг. По краям вмятины отчетливо прощупывался округлый валик шрама.
«Ведь я лежу на операции, — подумал он. — Ну да, я сейчас должен лежать на столе и именно на этой стороне мне сейчас делают разрез и выпиливают кусочек кости».
Но эта мысль не удивила его, сон есть сон, и каким бы он ни был, все равно кажется естественным. Кто–то шел навстречу, мерное сопенье приближалось, и колокольчики зазвенели вдали. Он шагнул за валун и стал ждать. Он не боялся встречи, он знал, что в любую минуту сможет взлететь. Кто–то наплывал на него, темный, жаркий, потный, со всех сторон, и когда он рванулся в воздух, то понял, что уже поздно, ибо и там душное, красное, расплывчатое, как свет фонаря в тумане, уже заполнило пространство и прижимало его к Земле. И он вцепился пальцами в это душное и ударил наугад ногой, но руки вязли, а ноги держал кто–то цепкий, сильный.
— Да успокойся ты! — услышал он сквозь темноту и нахлынувшую тошноту. Не шевелись так сильно. Проснись!
И он увидел, что сон кончился, что лежит он в своей палате и оба соседа держат его за руки и за ноги.
— Отпустите, — сказал он тихо.
— Не тушуйся, Коля, — сказал сосед. — Все в порядке. Поначалу мутит, это наркоз отходит. Закрой глаза и спи.
И он послушался и заснул, на этот раз без сновидений.
Он быстро встал на ноги, рана заживала и отрастали волосы на бритой голове, и только головные боли не проходили. Он спрашивал об этом врачей, но они успокаивали его, говорили, что так всегда бывает в первые недели, а сама операция прошла удачно, опухоль оказалась доброкачественной, удалили ее без труда, и самое главное — набраться терпения. Николай и сам считал, что все будет нормально, и о плохом старался не думать, но боли не прекращались и даже нарастали. Приходила Дина, заботливая, преувеличенно веселая, кормила его апельсинами и придумывала, как они хорошо заживут после.
Ему хотелось рисовать. Он соскучился по своей комнате и по запаху красок, и по шуршанию карандаша по бумаге. Как выздоравливающему, ему дали нагрузку — рисовать больничную газету и санитарные бюллетени, и он делал эту пустячную работу на совесть, а для себя набрасывал эскизы по памяти. Он хотел нарисовать свой сон.
Вскоре с него сняли повязку и выписали. Профессор лично разговаривал с ним, объяснял, как важно сейчас изменить привычный образ жизни, какие лекарства нужно принимать и самое главное — не паниковать, даже если боли усилятся.
А он и так не паниковал, и все же оставался неприятный осадок, будто все его обманывают и разговаривают с ним, как с маленьким, или, что хуже всего, как с безнадежным больным.
Дина отвезла его домой на такси, и он не узнал свою комнату. Женская рука коснулась ее, этюды развешаны по стенам, мольберты сдвинуты к окну, а пол так чисто вымыт, что по нему было боязно ступать.
— Где же мой беспорядок? — сокрушался он.
Дина так и осталась у него, и ему, привыкшему к одиночеству, было даже тягостно ее присутствие, но одновременно и приятно, что она, единственный близкий ему человек, проявляет участие и заботу.
А ему по ночам снились кошмары. Он бежал от кого–то невидимого, а тело его, словно слепленное из сырой глины, все время разваливалось, распадалось, и приходилось останавливаться, прикреплять руки, ноги, голову на прежние места, но части тела путались, снова отваливались, взлетали в воздух или теряли форму, растекались вязкими лужицами на асфальте, и сам этот процесс непрерывной лепки самого себя был тягостен, невыносим и навязчив до того, что и днем он не мог отвязаться от этого ощущения, и было только одно средство ослабить его — рисовать. И он рисовал бесчисленные автопортреты, жуткие, деформированные, словно бы видел себя в неисчислимых кривых зеркалах.
Дина с беспокойством следила за его работой, советовала прекратить ее и больше отдыхать, лежать или гулять. Ей были непонятны его кошмары, и в глубине души, должно быть, она считала его психическим больным. А он и не старался объяснять ей что–нибудь, он просто работал до тех пор, пока не приходила боль, и ему волей–неволей надо было ложиться на диван вниз лицом, чтобы Дина не видела его лица. И она сама старалась не попадаться на глаза, потому что знала — ему неприятно, если кто–то видит его слабость.
Изредка он выходил во двор и прогуливался по скверику, отвлекаясь немного, но одно раздражало его — сочувственные взгляды соседей и шепоток за спиной. И однажды он услышал, как кто–то сказал ему вслед: «Бедняга. Рак у него. Долго не протянет».
Он и сам подозревал неладное. Еще в больнице он видел, как быстро поправляются оперированные, а ему с каждым днем становилось все хуже и хуже. Вечером он спросил Дину напрямик:
— Я знаю, что у меня злокачественная опухоль, и ты знаешь об этом лучше меня. Ведь я прекрасно вижу, как ты заботишься обо мне, хочешь скрасить мне последние дни. И знаешь что, не надо мучить себя. Нас с тобой по–прежнему ничего не связывает, ты свободна, как и раньше. Если это просто жалость, то право же, не стоит, я не нуждаюсь в этом.
— Это все? — холодно спросила Дина. — Или еще что–нибудь скажешь?
— И скажу. Я знаю, что скоро умру, и не думай, что я боюсь смерти. В конце концов у меня есть все это.
Он обвел рукой стены с развешанными картинами.
— А я тоже часть этой комнаты, — вызывающе сказала Дина, — и никуда отсюда я не уйду. Мне здесь нравится. Что, съел?
— Ну ладно, скажи мне одно: сколько мне осталось жить? Только не придумывай.
— Не знаю. И никто не знает. Я перечитала уйму книг, разговаривала с профессором, сроки самые разные.
— Ну хоть на что я могу рассчитывать? На год? На месяц?
— От недели до года, — четко выговорила Дина. — Ясно? Никто не знает, как пойдет дальше процесс, куда прежде всего прорастет опухоль. И если ты думаешь… если ты будешь раскисать, если я услышу от тебя еще подобные слова, то учти, я надаю тебе таких пощечин… таких…
И она не выдержала, убежала в ванную и заперлась там, а чтобы он не слышал ее плача, включила воду.
Ночью он лежал на спине с открытыми глазами, думал о своей не слишком–то удавшейся жизни и еще о том, что его любимому сну так и не суждено сбыться. Никогда не полетит он над красной равниной незнакомой страны по двум очень простым причинам. Во–первых — потому, что такого не может быть, чтобы человек летал без руля и ветрил, и во–вторых — потому, что он скоро умрет. Смерти он и в самом деле не боялся, и не потому, что верил в бессмертие, а потому, что знал — это единственное, чего не избежит никто.
Пульсировала артерия в том месте, где был удален кусочек кости, и сквозь кожу, казалось, можно было прощупать мозг. Наверное, опухоль быстро росла и уже появились метастазы, если от него отступились хирурги.
Неведомыми путями вдруг в нормальном человеческом организме начинали расти опухоли. Никто не знал толком, откуда они берутся, и главное почему они растут там, а не в другом месте, у этого человека, а не у другого. Но они росли, разнообразные в своем строении и росте, но одинаково чуждые организму, плоть от плоти его, они становились злейшим его врагом, убивающим медленно, подло и неизбежно. И можно было что–нибудь сделать раньше, тогда, когда опухоль только начинала расти, но сейчас было слишком поздно, он сам вырастил собственную смерть, выкормил ее своей кровью, сохранил от холода и жары, и несправедливость этого казалась непостижимой.
Приснился сон, путаный и кошмарный. Отец учил его плавать, и он барахтался в воде, пускал пузыри, но отец снова и снова бросал его в воду и смеялся, а потом оказалось, что это не вода, а бросает его отец с крыши высокого дома, и он учится летать. Было страшно, он кричал, кувыркался в воздухе, а люди на тротуаре шли мимо и вверх не глядели.
Он проснулся от страха. От страха высоты или, быть может, самой смерти, затаившейся в глубине. Сердце учащенно билось, ладони и лоб мокры от пота. И он услышал, что Дина тоже не спала, она тихонько плакала, отвернувшись к стене. И ему подумалось, что ее горе должно быть сильнее его страха, он умирает, а ей, единственному близкому человеку, еще предстоят и горе, и одиночество, и, может быть, неудавшаяся судьба. И он погладил ее по вздрагивающей спине и сказал:
— Не бойся. Я раздумал умирать. Пожалуй, я останусь жить, если так тебе нужен.
Но она заплакала еще громче, прижалась к нему, и утро настало для них безрадостное.
Дина ушла на работу, а он так и остался в постели, расслабился, размяк. Не хотелось вставать, мыться, не хотелось есть, спать тоже не хотелось. Он рассеянно осматривал стены с картинами и этюдами, мольберты, тюбики красок, кисти в стаканах, и мнилось ему, что все это напрасно и бессмысленно, что не так уж и велика его власть над превращением красок в новую реальность, власть над искусством. И что из того, если после его смерти останутся эти холсты, сохранившие оттиски его души, с рельефными мазками, с отпечатками пальцев на высохшей краске, со всем тем, что раньше было им самим, что из того, если его самого не будет! И пришла боль, сдавила голову, выплеснула в грудь, живот, ноги горячую волну, и он лег ничком, сжал зубы и лежал так, пока боль не ушла за пределы тела. И тут его разобрала злость. Почему он, мужчина, должен смиряться перед болью, почему он расслабляется, отдается ей на растерзание? И в конечном счете, почему он должен склоняться перед близкой смертью с покорностью обреченного?
Он подумал о Дине и чуть ли не впервые почувствовал, как дорога ему эта женщина, почти неизвестная ему, и как все–таки подло, не по–мужски ведет он себя с ней: смиряется перед неизбежным, а не борется, не ищет выхода до конца, до последнего, как и положено мужчине, человеку. Но как найти в себе те резервы, способные противостоять боли, способные противиться безостановочному росту опухоли? Где найти ту точку опоры, опершись на которую, он сможет изменить свою судьбу? Злость придала его размышлениям ясность и безжалостность. Только в самом себе можно отыскать точку опоры, ни в бессильных лекарствах, ни в слабом ноже хирурга нет спасения, и если бы он нашел в себе нечто, противодействующее болезни, и усилием воли остановил и даже повернул бы вспять смертоносный рост опухоли…
Когда человек занозит руку, то он вытаскивает занозу другой рукой. Это волевое, направленное усилие. В то же время миллионы лейкоцитов со всего тела, не подчиняясь усилиям и воле человека, собираются в том месте, где проникла заноза, и противостоят чужеродному телу. И если бы человек сам, таким же волевым усилием, как движение руки, смог бы целеустремленно направить своих защитников в место прорыва обороны, и если бы он смог, взяв на себя полностью управление организмом, выработать необходимые антитела и, не дожидаясь, когда враг перейдет в наступление, выдворить его, то, быть может, тогда человек станет полным хозяином самого себя. Именно тогда, когда человек вырвет у природы управление собой, он станет настоящим человеком, и, быть может, даже — сверхчеловеком…
И он снова принялся за работу. Писалось тяжело, мелко дрожала рука, и эта дрожь выводила из себя. Он бросил с размаху кисть. Охряный мазок окрасил стену. Вытянул руку перед глазами и долго гневно смотрел на нее, непослушную, словно бы одним взглядом можно было заставить ее не дрожать. Сжал и разжал пальцы. Они подчинялись его воле, но дрожь не зависела от желания, и тогда, успокаиваясь и сосредоточиваясь, он стал искать в себе те веревочки, дернув за которые, можно было бы управлять неуправляемым до сих пор. И подобно тому, как человек и сам не знает, как он поднимает руку, и что именно заставляет сократиться эти мышцы и на нужную величину, так и Николай нашел в себе это что–то и усилием воли прекратил дрожь. Первая победа далась ему нелегко. Он вспотел и, обессиленный, лег передохнуть. Часто билось сердце, его удары отдавались в голове, и первые признаки наступающей боли запульсировали в висках. И Николай решил противоборствовать недугу, не плыть по течению, ожидая, когда боль пощадит его. Он стал нащупывать в себе ту запретную, спрятанную от человека пружину, и, напрягаясь, мучаясь, разыскал ее и сдвинул с места. Сначала неуверенно, потом более осмысленно, учился он этому странному искусству, как учится ходить ребенок, как балерины учатся владеть своим телом, но искусству более потаенному, глубокому и запретному для человека. И боль отступила, не успев парализовать его волю, ушла по своим тропам. Разгоряченный непривычной работой, Николай уже быстрее нащупал рычажок управления сердцем, умерил его частоту, а потом приказал потовым железам приуменьшить свою работу и, измученный вконец, послал приказ заснуть и не заметил сам, как реальность перешла в сон.
Ни в тот день, ни позднее он так и не мог понять, что же изменилось в нем, что же заставило слепую природу уступить свою привилегию осмысленной воле и продолжать уступать шаг за шагом, день за днем, все более и более глубокие подвалы, тайники, кладовые… И все же он задумывался над этим, читал доступную литературу и постепенно приходил к выводу парадоксальному, неожиданному и чуть ли не кощунственному.
Он скрывал происходящее от Дины, хотел сам найти разгадку и однажды, после очередной изматывающей тренировки, во время которой он учился управлять щитовидной железой, он заснул и увидел сон. Но во сне он не нашел отдыха. Даже места не переменил. Он по–прежнему находился в своей комнате и занимался тем, что рассматривал свое лицо в зеркале. Одновременно он видел все, что находится внутри головы и видел свою опухоль, разросшуюся, с метастазами, и сосуды, и ток крови по ним, и пути нервных волокон, идущие к мозгу. Напряжением воли, словно в мозгу были мышцы, он сжал опухоль, отграничил ее и переместил в борозду между полушариями. Во сне он почувствовал облегчение, чувство давления, уже привычное за последние месяцы, исчезло. С метастазами он обошелся проще вывел их за пределы черепа и брезгливо, как червяков, смахнул на пол, раздавил ногой.
Казалось, что он мог бы таким же путем удалить и опухоль, но в бесконечном абсурде сна почему–то не хотелось делать этого, словно бы это уже была и не опухоль вовсе, а часть мозга, необходимая и близкая ему. Потом взгляд его переместился ниже, к животу, и он увидел то, о чем еще не знал дотоле — под печенью находилась еще одна опухоль, побольше, не дававшая пока о себе знать. Но он не стал удалять ее и даже почему–то обрадовался ее размерам; он просто облек ее в капсулу и прорастил тонкие ниточки нервов, идущие от опухоли к мозгу. Теперь они казались ему уже не опухолями, выросшими на погибель, а чуть ли не новыми органами тела, едиными и взаимосвязанными со всем организмом. Он прошелся по комнате. Было легко и свободно. Я здоров, сказал он сам себе, я совершенно здоров. Он вышел на балкон, взобрался на перила, посмотрел вниз, балансируя руками. С высоты девятого этажа люди казались лилипутами, с тонкими голосами. Не волнуясь и не испытывая страха, он ступил в воздух, как входят купальщики в воду, и не упал, а повис рядом с перилами, ощутив усиленную пульсацию в животе, но она не была болезненной, а будто это просто заработал новый орган его тела, неведомый до сих пор на Земле. Он наклонился и лег на воздух плашмя, раскинув руки, и медленно поплыл по ветру. Он знал, что где–то его ждет бесконечная красная равнина, но почему–то, чтобы попасть туда, надо было лететь вверх. Он не мог объяснить этого, он просто знал, и эта убежденность сна, иррациональная и нелогичная, не удивляла его. И он поднялся выше и еще выше, пересек облака, и когда разреженный воздух и холод заставили участить дыхание, он облек себя плотной, блестящей на солнце оболочкой и перестал дышать. Выше, в бледно–фиолетовом небе, засветились первые звезды.
Оказывается, он проспал весь день, и Дина разбудила его.
— Ты опять ничего не ел? — спросила она тихо.
Веки у нее были красные и косметика не могла скрыть этого.
— Не переживай так сильно, — сказал он. — Мне кажется, что я уже не умру.
С этого дня он и в самом деле стал выздоравливать. По крайней мере, боль уже не изматывала его, появился аппетит, и он, не знающий физиологии, даже научился управлять пищеварением и выделять нужные ферменты в нужных количествах. Он по–прежнему не делился с Диной. Не хотелось обнадеживать ее: вдруг все это только иллюзия, самовнушение и последняя передышка перед смертью. К тому же не хотелось, чтобы Дина приняла его за душевнобольного и увеличила бы свою и без того непомерную жалость к нему. Но она и сама заметила, что он пополнел, много работал и уже не лежал целыми днями на диване, глядя в потолок.
— Сходи к врачу, — сказала она как–то. — Проверься. С тобой что–то творится…
— Неладное? — закончил он. — Непохожее на описания умных книг? Еще бы, ведь я должен находиться при смерти.
— Вдруг ошибка в диагнозе? — быстро зашептала Дина. — Вдруг у тебя не злокачественная опухоль, бывают же ошибки. Сходи, пожалуйста, я тебя очень прошу. Я совсем извелась.
— Хорошо, — согласился он. — Это нетрудно.
Но к врачам не спешил, а все чаще наведывался в читальный зал, брал книги с непривычными названиями и пытался разобраться во всем том, о чем смутно догадывался. В конце концов, хотя и не поняв многого, он все же сформулировал для себя теорию, которая должна была объяснить его метаморфозу.
Он раздумывал о путях эволюции и пришел к выводу, что она неминуемо приведет к созданию нового человека. И не путем уменьшения зубов или исчезновения аппендикса должен совершенствоваться человек, а эволюция пойдет по пути дальнейшего овладевания человеком своим собственным телом.
Он разделил весь живой мир на несколько категорий по принципу увеличения степеней свободы.
Растения и одноклеточные — без воли, без разума, жизнь на уровне сложных химических реакций, полная зависимость от внешней среды.
Низшие животные — существование нервной системы, рефлекторное управление движением.
Высшие животные — значительное повышение волевых действий, но неспособность изменять внешнюю среду, бессилие перед слепотой инстинктов.
Человек — осмысленная воля, подавление инстинктов, воздействие на природу, разумное управление анимальной нервной системой, но полная неспособность управлять безусловными рефлексами, вегетативной системой, а отсюда — относительность свободы и беззащитность тела перед болезнями.
Природа еще не доверила человека его собственной воле и не отдала весь организм в его власть. И именно отсюда должна исходить следующая ступень эволюции — полное овладевание не только рефлексами и деятельностью внутренних органов, но и биохимическими реакциями, иммунитетом, фагоцитозом, подсознанием. И не будет никаких темных чердаков и нежданных болезней. Человек подчинит себе свое тело и отпадет необходимость в лекарствах, хирургическом ноже и, может быть, в самой медицине.
Эволюция слепа, но она постоянно нащупывает пути к совершенству, ошибаясь, производя нежизнеспособные организмы, но медленно вырабатывая нового человека, не только разумного, но и свободного. Свободного от болезней, от старости, от слепоты инстинктов, способного управлять своим телом так же, как он сейчас управляет своими мышцами. И если овладение мышцами и волей подняло человека на такую высокую ступень развития, то что же будет тогда, когда новый человек усилием воли начнет изменять себя?
Это казалось заманчивым, но труднодостижимым. По сути дела, было всего два пути к совершенству. Первый — с развитием науки человек сам научится изменять себя, и второй — путь эволюции, путь отбора. И кто знает, не подходит ли эволюция вплотную к этому скачку, к барьеру…
Он разыскал своего лечащего врача.
— Проверьте меня, — сказал он. — Что–то я никак умереть не могу. Даже неудобно.
Врач хмыкнул, бегло осмотрел его, расспросил о жалобах и попросил подождать минутку. Пришел он с профессором. Тот стукал молоточком, ощупывал голову, просил встать с закрытыми глазами и разведенными руками, тоже хмыкал, шептал что–то коллеге и называл Николая на «вы». Потом его повели в рентген–кабинет. Снимали голову, грудную клетку и зачем–то живот.
В своем кабинете профессор попросил его раздеться и лечь на диван. Ощупывая живот, хмурился, а Николай улыбнулся и сказал:
— Можете не скрывать от меня. Я знаю, что под печенью у меня опухоль, а та, что была в голове — переместилась и теперь находится между полушариями. А метастазов нет. Поздравляю вас с ошибкой, профессор.
— Это я поздравляю вас, — сказал профессор. — Откуда вы знаете об этом? Вас кто–то уже обследовал?
— Я сам себя обследовал. И как раз пришел с вами поговорить обо всем этом. Сам–то я мало смыслю в биологии и медицине, но все же пришел к странному выводу. Мне кажется, что я и есть первый из людей, уже не являющийся человеком. Я умею управлять своим кровообращением, пищеварением, обменом веществ и скоро научусь летать. Эта опухоль в животе — новый орган антигравитации. Вот он вырастет до нужных размеров, и я полечу. Как вы думаете, это здорово?
— Да, конечно, — сказал профессор, внимательно глядя на Николая. — Это очень интересно. И давно вы убедились в своих… э–э, необычных возможностях?
— Недели две назад. И я думаю, что это была не опухоль. Это новый орган мозга. Именно с его помощью я научился тому, что умею. Неужели вы не понимаете, что я — первый человек, преодолевший скачок в эволюции! Я первый, а когда–нибудь и все люди станут такими. Вы видите в опухолях болезнь, собственно говоря, так оно и есть. Ведь это ненормально. Но и крылья, выросшие у первой птицы из передних лап, тоже ненормальны. Природа ищет на ощупь, она вырабатывает новые органы, но часто попадает пальцем в небо, и люди умирают. И врожденные уродства — тоже не уродства, а поиск, постоянный и нарастающий поиск эволюции. Вы понимаете?
Николай разволновался. Он смотрел во внимательные глаза профессора, и ему казалось, что тот все понимает и сейчас обрадуется вместе с ним и обнимет его, поздравит и, быть может, даже прослезится.
— Делириум, — тихо сказал профессор коллеге.
Тот понимающе кивнул и вышел из кабинета, зачем–то повернув ключ с той стороны.
«Бред, — перевел мысленно Николай, — он сказал — бред. Вот оно что. Ну конечно, он принимает меня за больного…»
— Посчитайте мне пульс, — попросил он. — Пожалуйста, посчитайте мне пульс.
Профессор взял его за руку и, глядя на часы, сказал:
— Восемьдесят.
Николай приказал сердцу биться реже, потом еще реже.
— А теперь?
— Сорок шесть, — медленно произнес профессор.
— Ну вот, видите. Я не придумываю. Я умею управлять сердцем. А хотите, я вспотею, сильно…
Он заставил свои потовые железы работать во всю силу. Со лба закапал пот. Рубашка сразу промокла.
— А теперь высушу, и тоже быстро. Смотрите внимательнее.
— Вы занимались гимнастикой йогов? — немного погодя спросил профессор. — Они умеют делать такие фокусы. Но для этого нужны годы и крепкое здоровье.
— Йоги совершенствуют только свой организм, и их умение умирает вместе с ними. Я не фаталист, но я убежден, что эта опухоль уже была запрограммирована во мне еще до моего рождения. И вы понимаете, что это значит? А то, что я передам свои свойства по наследству. Это же скачок в эволюции!
Профессор походил по кабинету, от двери до окна.
— Хорошо, — сказал он, — я подумаю об этом. Сейчас придет мой коллега и мы вместе обсудим.
— Он пошел за психиатром, профессор. Так ведь? Ну хорошо, через неделю я прилечу к вам без ковра–самолета и ступы с метлой. Я влечу к вам в это окно, и вы сами увидите, что я научился летать. Тогда вы поверите?
— Ну конечно, конечно. Я поверю вам, я и сейчас верю.
Но по улыбке его и по интонации Николай понял, что он совсем не верит ему, что слишком глубока в нем убежденность в том, что все ненормальное это болезнь, и винить, в общем–то, его было не в чем.
Повернулся ключ в замке, и в кабинет зашли трое парней. Позади них стоял человек в очках.
— Ну вот, — сказал Николай, — и психиатр пришел.
Оценил на глаз расстояние до окна, в два прыжка преодолел эти метры, вспрыгнул на подоконник и, не дав никому опомниться, оттолкнулся от карниза. Уроки, полученные во сне, не прошли даром. Запульсировало в животе, его встряхнуло, как на ухабе, и, медленно спланировав с высоты третьего этажа, он опустился на газон.
— Ну, что сказали врачи? — сразу же спросила Дина.
— Что я совершенно здоров. Они извинились за ошибку в диагнозе и очень рады за меня… Нет, в самом деле, Динка, я здоров, и никакой опухоли у меня нет.
Дина опустилась на стул, и по ее растерянному лицу можно было понять, что она и сама не знает, плакать ей или смеяться. Но потом все–таки сделала выбор и заплакала.
— Я не хотела говорить тебе, я и в самом деле думала, что ты умрешь. Прости меня за это. Но я заботилась о тебе не из–за жалости. Я люблю тебя.
— Странно, что мы никогда не говорили об этом. Ах ты, вольная птица.
Он погладил ее по голове. Волосы ее падали на глаза, и он не видел их, а это было очень важно. Видеть ее глаза.
— Я хотела, чтобы после тебя остались не только эти картины. Сейчас, наверное, можно сказать.
— Можешь и не говорить. Я буду учить его летать. Хотя, кто знает, может, он будет уметь делать это с рождения. То–то хлопот тебе будет…
И он рассмеялся, поднял ее на руки и, мягко оторвавшись от пола, поднялся к потолку. Звякнула люстра.


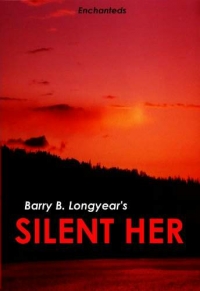



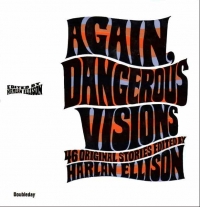
Комментарии к книге «Башня птиц. Авторский сборник», Олег Сергеевич Корабельников
Всего 0 комментариев