Золотая ладья нибелунгов
ЧАСТЬ I РАССКАЗ РАЗБОЙНИКА
Глава 1. Схватка
Лука был опытным кормщиком, не раз и не два водившим ладьи[1] самыми долгими путями. Случалось ему плавать с хозяином-купцом и из варяг в греки и из варяг в арабы[2], случалось бороздить вдоль да поперёк суровое и бурное, точно море, Нево-озеро[3]. А уж реки, по которым двигались торговые суда, он мог проходить и с закрытыми г лазами. И пороги на них помнил все наперечёт, и все изгибы да извилины. Он давно стал в себе уверен.
Может, эта уверенность его на сей раз и подвела. Лука ведал, как опасно, пройдя излучину любой реки, не посмотреть раз-другой назад: а не выплыл ли кто следом из-за поворота? А вот ведь отчего-то не посмотрел! Уж больно спокоен в этот день был Волхов — гладок, что твоё зеркало. В воде облака клубятся, солнце пламенем отражается, а по берегам ели темнеют да берёзы кудрявятся, к самой кромке подступая. Такой уж нрав у берёзок — любят корни омочить, а что подмоет их река и рано ль, поздно ль с собой заберёт, так и не думают. Что те девки молодые, коим любо своевольничать, а как спохватятся, так уж поздно — не поправишь.
С берегов ничего не доносилось, кроме птичьего пения. Всё кругом было мирно и покойно. Аж в сон клонило. Надо думать, гребцы задремали бы на вёслах, но идти приходилось супротив течения, так что не поспишь...
Когда же Лука-кормщик сообразил, что надо бы обернуться, то едва не оказалось поздно! Два узких челна, стремительно вывернувшихся из-за излучины, были уж саженях[4] в двадцати от их ладьи. И как же он не услыхал меж ровными всплесками их вёсел резких, стремительных ударов о воду?
Гребцы на челнах работали вовсю, стремясь как можно скорее догнать ладью. Кормщик мог уже хорошо разглядеть потные, дочерна загорелые лица и блестящие на солнце бугры могучих мускулов. Почти все гребущие были нагие по пояс. Уже это не сулило ничего хорошего: добрые люди, решив отправиться в путь по реке, нагишом не поедут — за пару часов на солнце всю кожу спалить можно. А вот чтоб рывком из-за речного поворота рвануть да догнать тяжелогружёную ладью, так-то, налегке, в самый раз. Но ещё того хуже было другое: промеж гребцов на каждом челне сидели человек по шесть-семь с луками в руках, и луки были уж натянуты, а стрелы нацелены... Челны заходили один справа, другой слева, и высокая корма уже не могла защитить преследуемых.
— Господин честной купец! Садко Елизарович! Вставай — беда! А вы, гребцы-ребятушки, пригнись! Пригибайсь, не то живы не будете!
Вопль кормчего ещё звучал над рекой, а уж вслед ему раздался дребезжащий звон — сорвавшиеся с луков стрелы устремились к ладье. Но из десятка попали в цель лишь четыре — остальные пролетели левее: Лука успел налечь на руль, и судно мотнулось вправо. Вскрикнули двое гребцов: одному стрела пробила руку выше локтя, другому попала в спину повыше лопатки. Две другие стрелы попали одна в мачту, другая в свёрнутый на перекладине парус.
— Разбойники!
— Лесные людишки кровожаждущие!
— Мать честная, Пресвятая Богородица, спаси и помилуй!
Отчаянные крики гребцов купеческой ладьи тотчас заглушил могучий голос, в котором не прозвучало страха, скорее, злость, а то и задор:
— Эй, щиты на борта! Да гребём пободрее, не то опозоримся: ладья у нас, почитай, из самых лучших, а мы окажемся на ходу тише, чем эти два корыта липовых?[5]
Купец, хозяин ладьи, только что мирно дремавший в узкой тени мачты, был уже на ногах, и в руках его были лук и колчан со стрелами. Он с ходу понял, что происходит.
Впрочем, поняли и его гребцы — им тоже случалось встречаться с лихими людишками, и каждый хорошо знал: расчёт в таких случаях только на себя — посреди реки кто ж придёт к тебе на помощь? Подхватить со дна и вскинуть на локоть овальный, суженный к концу щит было делом двух-трёх мгновений. Сбоку он прикроет, сзади — нет, но сзади — корма. Лишь бы не подошли вплотную, тогда и меж щитов достанут. Воз уж что и говорить: принесла же нелёгкая!
Среди многих участков обычных торговых путей река Волхов не считалась самым спокойным местом, но и самым опасным точно не была. Да, водились по её берегам, как и во многих других местах, заросших лесами, в которых было, где схорониться, разбойничьи скопища. Они караулили купеческие караваны, а более всего — одинокие ладейки, либо тяжёлые от набившего судёнышко товара, либо, напротив, очевидно пустые, высоко сидящие в воде. Значит, всё распродано, значит, в тугих кошелях удачливого купца звенит золотишко, а оно ещё получше, чем товар... Просто налетай да и бери!
И всё же не так уж много бывало на Волхове разбойных налётов, чтобы о нём ходила дурная слава. Может, ещё и поэтому так непростительно спокойны оставались купец и его кормщик, пока не увидели у себя за спиною беду?..
— Лука Тимофеевич, ты считал? — Купец, казалось, спокойно наблюдал, как преследующие их разбойники вновь заряжают и натягивают луки. — Сколько их там?
— Гребут по дюжине да стреляют то ли шестеро, то ли семеро с каждого челнока, — отозвался кормщик. — Ну, до сорока их быть может... А нас тут двадцать два, да двоих ещё эти подранили. Прости, Садко, вина-то моя: не углядел сразу, как они из-за излучины вынырнули. Так бы, может, и...
— Да не может, Лука, не может! — оборвал хозяин. — Они лёгкие, ведь на разбойный промысел груза не берут. А у нас ладья тяжеленная, с товаром. И парус не в помощь — ветра нет. Всё одно бы догнали. Вопрос только, сразу или нет.
— Ясно! — Казалось, кормщику изрядно полегчало: виноват-то он, само собой, не меньше — раньше бы увидели погоню, быстрей бы приготовились к обороне. Но раз хозяин не винит, так, значит, и спросу как бы нет...
Накладывая стрелу и натягивая тетиву, Лука краем глаза глянул на купца. А ведь и верно — не боится! Как будто даже радуется, что наконец можно пострелять да мечом помахать.
Торговать Садок[6] Елизарович умел, был в своём деле ловок и удачлив, никто б не сказал, что это не так. Вон от роду всего-то двадцать шесть годков, а уж и достаток себе сколотил немалый без родительского наследства и без чужой помощи, и уважение у многих торговых людей заимел. Да вот только старые, мудрые люди нередко, глядя на него, качали головами. Дескать, не купцом бы стать этому молодцу, а воином. Воеводою б сделался, не иначе. В детстве обучившись у отца приёмам кулачного боя да сражения на мечах, он эту науку не забывал, тем более что торговля тоже была занятием небезопасным. Не раз и не два разбойники нападали на приставшую к берегу гружённую товаром ладью, и каждый раз кормщик Лука, служивший верой и правдой ещё отцу Садко, любовался тем, как славно рубится его молодой хозяин, отстаивая своё кровно нажитое. Лесные людишки ни разу не смогли застать его врасплох и одолеть. И гребцов в свои далёкие путешествия он отбирал таких, что драки не испугаются.
Беда на сей раз лишь в том, что на суше драться легче, чем на воде, да и нападающих нынче явно больше, чем корабельщиков...
— К берегу правь, Лука Тимофеич! — гаркнул купец, за считанные мгновения успевший вдеться в свою серебристую, киевской работы кольчугу, надеть перевязь с мечом и нахлобучить шишак[7]. — К берегу! На воде им будет легче, а нам тяжелее.
— Да негде ж высадиться, Садокушка! — Лука покорно изготовился повернуть руль, но при этом горестно замотал тёмно-кудрявой, с обильной проседью головой. — Гляди: что с одного берега, что с другого — заросли, чаща, да и только. И не пристать-то толком.
— Влево правь! — Купец тоже натянул лук, но не спешил стрелять: он видел, что разбойники, не сумевшие взять корабельщиков «на испуг», теперь берегут стрелы, чтобы бить наверняка. — Там, гляди, волна береговая как плоско катит, значит, мелко. А на мели рубиться можно не хуже, чем на сухой земле. Сейчас мы этим браткам ума-то прибавим! Только, боюсь, он им уж не понадобится.
— Эй, на ладье! — загорланил в это время один из разбойников. — Вы нам не нужны! Нам товар ваш нужен. Отдайте, и вас мы отпустим!
— О как! — развеселился Садко. — И товара не видели, а брать собрались! Кабы покупатели также брали. Ау, лиходейщики! Да вам хоть ведомо, что я везу-то? А ну как не надобно?
Кажется, косматый, с клочковатой бородой детина, что сидел на носу одного из челнов и явно был у разбойников главным, не понял шутки купца. По крайней мере его ответ прозвучал совершенно серьёзно:
— Да что нам за дело, чего ты там, купчина, у простого народу награбил да обманом навыманил! Чего у тебя там ни есть, заберём да в Новограде продадим. А уж с деньгой погуляем!
— Ого! — Садко, кажется, готов был расхохотаться. — Это я, значит, два с лишком месяца торговал честно, дружину содержал, головой рисковал, денег заработал, нового товару накупил, опять же, честно продавать везу, и я — грабитель, обманщик? А ты, экий умный, возьмёшь да отнимешь и небось правым останешься?! Так ли, разбойничек?
— Так! — не раздумывая, отозвался косматый. — Все вы, купчины-торгаши, мошенники, все ворюги! И нечего тут болтать! Отдавай товар да благодари меня, что живыми вас отпущу. Если, конечно, не рассержусь.
«Вот диво-то! — подумал про себя Садок Елизарович. — Сколь ни видал разбойников, сколь с ними ни рубился, начинают все с одного и того же: ты, мол, купчина, грабитель, простого народа притеснитель, награбил, нахватал, людей наобманывал — теперь давай, вытряхивай мошну, покуда головы не лишился! И всё в таком же роде. Забавно: хотя бы кто-то из этих хорьков кровожадных понимает, что врёт самому себе, оправдывается, знает ведь, что грабит-то как раз он? Но всё своё гнёт: купец раз сумел разбогатеть, то только нечестно! По-ихнему выходит: честно денег заработать нельзя. Вот они и объявляют, что грабят то, что награблено! Ловко и удобно. И как бы не ты виноват...»
Ладья между тем медленно, но верно приближалась к левому берегу Волхова, утонувшему в густых зарослях. Кажется, разбойники пока не догадались, что их выманивают на мелководье, и лишь стремились поскорее приблизиться, тогда их стрелы достигнут цели, если упрямый купец и его спутники всё же решат сопротивляться.
— А что ж ты, колтун ходячий, не видишь, что челночки-то твои маловаты будут, чтоб в них весь наш товар загрузить? — продолжал Садко раззадоривать воровского вожака. — У меня тут пудов на двести станет.
— Так мы ж твой товар вместе с ладьёй заберём! — свирепо оскалясь из мрака своей бородищи, отрезал косматый. — А тебе один чёлн, так и быть, может, и оставим. Не войдёте все, так мы можем вас и поуменьшить...
— О как! — Теперь голос купца вдруг из весёлого сделался грозным. — А ну как наоборот будет? А?!
И, чуть обернувшись к нескольким своим гребцам, уже оставившим вёсла и ставшим рядом с ним на корме, Садко скомандовал:
— Космач мой! Бьём, ребята!
Стрела, пущенная купцом, угодила в шею вожаку, и тот, не успев и ахнуть, рухнул с челна, нелепо размахивая руками. Гребцы тоже стреляли метко — ещё четверо разбойников разделили судьбу своего предводителя. Остальные грабители яростно завопили и принялись осыпать ладью стрелами, но на сей раз ни в кого не попали; над бортами виднелись лишь полукружия щитов, хотя торчавшие из гнёзд вёсла продолжали дружно взлетать и опускаться — гребцы давно усвоили науку, как можно грести, не опуская с локтя щит. Что до тех, кто стрелял с кормы, то они, сделав своё дело, тут же и скрылись за дощатым выступом.
— Изготовиться! — уже не в полный голос, но так, чтобы его все услыхали, приказал Садко. — Сейчас дно достанем. Как черканёт ладья по дну — разом стреляем по ближайшему челну и все в воду. Искупаем братков от души, не то воняют так, что и сюда ветром доносит!
Почти сразу за его словами послышался лёгкий скрип — днище судна царапнуло прибрежный песок. Ладья чуть накренилась, но продолжала двигаться, хотя вёсла в тот же миг встали торчком. А гребцы, подхватив луки, выпустили два десятка стрел в чёлн, что оказался теперь от них не далее чем за пять-шесть саженей. Борта у челнока не то что у ладьи, низкие, гребцы сидят открыто, так, что по пояс видно. Не менее восьми человек попадали в воду, ещё у нескольких стрелы торчали из рук, из боков, из шеи, и разбойники, покидав вёсла, корчась и отчаянно вопя, силились их вытащить.
Второй чёлн приближался, он был уже почти вплотную к первому, и, должно быть, не потому, что лихие лесные людишки устремились на подмогу товарищам. Просто, разогнавшись, они уже не могли резко замедлить движение, а тем более развернуться — встречное течение толкало их, но выворачивало не к середине реки, а, напротив, носом в берег.
Повинуясь приказу отважного купца, его дружинники почти разом поскакали через борт и, прежде чем разбойники успели вновь зарядить свои луки, навалились с одного борта на первый, лишившийся предводителя чёлн.
Садок Елизарович не ошибся: здесь оказалось уже мелко — кому по пояс, тем, кто пониже, по грудь, так что упереться ногами в дно труда не составило. Дюжина гребцов разом навалились, заслоняясь щитами от ножей и пары топоров, которыми успели замахать некоторые из разбойников, и одним движением перевернули посудину вверх дном.
Одновременно с этим Садко и Лука в несколько взмахов доплыли до второго челнока — этот ещё оставался на глубине. Купец, ухватившись за борт левой рукой, что есть силы взмахнул мечом, но рубанул не по голове кого-либо из опешивших грабителей, но по этому самому борту. Удар был такой силы, что старое липовое дерево треснуло. Ещё удар, и в проломленную брешь хлынула вода, почти мгновенно заполнив утлое судёнышко.
— Всем купаться! — громовым голосом скомандовал Садко Елизарович и насквозь проткнул одного из разбойников, успевшего замахнуться на него пикой.
Потом вода у берега закипела: недавние преследователи и преследуемые сошлись и принялись рубиться, хотя растерявшиеся и понесшие уже изрядный урон разбойники утратили немалую долю своей лихости и скорее отбивались, нежели нападали. Те, что были во втором челноке, не все даже сумели коснуться ногами дна — кто-то, сразу получив рану, погрузился и стал тонуть, кто-то пытался накинуться на Садко и его бывалого кормщика, но те были в таком бою привычнее и ловчее. Некоторые из разбойников в отчаянии повернули и поплыли назад, к середине реки, где могучее течение подхватывало их и уносило, почти не оставляя надежды добраться до противоположного берега.
Спустя полчаса всё было кончено. Тех, кто не уплыл прочь от места сражения, полагаясь на милость Волхова и на свою разбойничью удачу, гребцы Садко прикончили, не слушая отдельных запоздалых просьб о пощаде. Купеческие дружинники не имели обыкновения щадить попавших им в руки грабителей, тем более сразу после того, как те на них напали. Многим из них доводилось слышать о проделках лесных людишек, а некоторые сами видели, что обычно оставалось после их нападений на торговые суда.
Обещания косматого вожака отпустить купца и его товарищей никто всерьёз не принял: кто ж из разбойников хотел, чтоб где-нибудь на торжище либо в другом месте ему повстречались ограбленные им люди? Да и нравилось этим лихим людишкам заливать пережитый в сражении страх кровью, особенно кровью тех, кто сдавался и оказывался в их власти. Потому и дружинники не считали нужным проявлять к ним милосердие. Ведь понятно же: отпусти разбойника и в следующем же плавании можешь опять встретить его с новыми дружками-лиходеями, а удача, как всем известно, девка ветреная.
Выбравшись на берег и оглядевшись, купец посчитал своих людей. И понял, что ему повезло: все были здесь, никто не погиб в непрошеной сече. Серьёзные раны оказались у четверых, однако Лука, исполнявший в дружине заодно и обязанности костоправа, уверил хозяина, что все должны поправиться. Ещё пятеро были ранены и вовсе легко и похвалялись друг перед другом своими рублеными да колотыми ранами: как же, героями оказались! Четверо из этих пятерых, совсем молодые парнишки, рубились впервые в жизни.
— Святый Боже, слава тебе! — воскликнул, перекрестясь, кормщик. — Спасибо, что сохранил рабов твоих и от напасти избавил нас!
— Да уж, можно сказать, Господь от нас не отвернулся! — отчего-то хмурясь, согласился Садко. — Так ведь и мы не сплоховали. Слышь, ребята, подтолкните-ка ладью ещё поближе к берегу да к деревьям привяжите. Передохнём немного, чтоб после поживее в путь двинуться. Из такой чащи к нам, уж точно, никто чужой не подберётся, а там, далее по течению, островок будет, вот на нём и заночуем, чтоб поутру поднажать да до Новгорода добраться засветло.
Глава 2. Бермята
Лука сидел на притороченном к мачте бочонке с вином (купец всегда брал в путь один такой бочонок, как раз на случай, если кто будет ранен или заболеет) и старательно зашивал глубокую рану одного из гребцов. При этом кормщик то и дело бросал взгляд на своего хозяина, который в это время, стоя по колена в реке, с наслаждением мылся прохладной и прозрачной, точно привезённое из заморских стран стекло, водой.
Садко снял не только кольчугу и шелом, но скинул и свой нарядный, шитый из тонкого красного сукна кафтан, и кушак венецианский, и рубаху полотняную, поутру бывшую белой, но теперь в нескольких местах по рукавам запятнанную кровью. Только крест на кручёном шнурке свисал с шеи молодого купца, то и дело окунаясь в воду.
Кормщик усмехался: ишь ты, плещется, кровь с себя смывает, даже волосы помыть норовит. Вроде бы и неприхотлив купец, ни разу неженкой себя не выказал, чтоб с ними ни приключалось. Но вот до чистоты уж больно охоч. Будто рос не в скромной избе ладожского корабельщика, а в хоромах боярских.
И то сказать, Садко был красив. Особенно сейчас, когда солнце играло на литых мышцах его обнажённых рук, обрисовывало лепные контуры его фигуры, золотило и без того светлые, слегка вьющиеся волосы, растрёпанным облаком окружавшие голову. Ко всему этому и лицо у него было, что надо: не совершенно правильное, возможно, немного жёсткое, но его сильные, крупные черты оставляли впечатление резвого ума и хватки, а ранние лёгкие морщинки возле уголков рта выдавали улыбчивость и весёлость нрава. Глаза, при одном свете синие, при другом — цвета кованого железа, тоже глядели весело, не хитро. Обманывали. Потому как все, кто знал купца Садко Елизаровича, примечали в нём если и не хитрость, то некоторое лукавство. В торговых делах он вроде никого вкруг пальца не обводил, но умел так обкрутить и повернуть любой договор, что всегда получал более того, что при таком же раскладе получили бы другие.
Умывшись и попытавшись отстирать замаранную кровью рубаху, купец со вздохом перекинул её через плечо — отстираешь разве? Хорошо, в дорожном мешке ещё пара рубашек припасена.
Взгляд его невольно упал на перевёрнутый разбойничий чёлн. Второй, тот, что был дальше от берега и попал под пару крепких ударов купеческого меча, давно потонул, а первый задержался на отмели, уткнувшись носом в твёрдый выступ дна. Течение покачивало его из стороны в сторону.
Садко уже готов был отвернуться и направиться к своей ладье, но что-то заставило всмотреться пристальнее. Солнце, что ли, так странно отсвечивает от воды? Вон там, возле кормы судёнышка... Да нет, не солнечные это блики. И сейчас день — отсветы солнца не могут быть так густо красны, словно на закате. Что-то красное пятном выплывает из-под кормы челнока и тонкими змейками устремляется вслед за течением.
Купец решительно шагнул к перевёрнутой лодке. Остановился в шаге, нагнулся, прислушался.
— Выходи! — спокойно проговорил он затем. — Выходи, покуда добром предлагаю.
— А то что? — прохрипело из-под челнока. — Убьёшь? Так ведь всё едино убьёшь! Али нет?
— А это теперь мне решать. Сказано, вылезай оттуда, или силком выволоку. Лучше будет тебе кровью истечь и прямо там сдохнуть? Ну!
Под челноком послышались плеск, судорожный кашель, потом показалась мускулистая смуглая рука, судорожно вцепившаяся в неровный борт судёнышка, и следом за нею высунулась косматая башка. Опираясь на качающийся челнок, предводитель разгромленной разбойничьей ватаги не без труда встал и распрямился. Его загорелое лицо с массивными скулами и близко посаженными тёмными глазами казалось серым — при таком густом загаре никакая бледность не могла его выбелить. Из шеи разбойника торчал обломок стрелы, от которого растекались кровавые струйки, стекая на голые плечи и на грудь.
— Ишь ты, аспид, не утоп! — крикнул кто-то из Садковых дружинников.
— Тварь живучая! — подхватил другой. — Гляди-ка, под челноком схоронился, думал, мы уплывём, а он в челнок заберётся и — в другую сторону.
— Едва ли б он один свою посудину перевернул, — возразил Лука, принявшийся меж тем ещё за одного раненого. — Да и стрелу из такой раны сам поди-ка вынь.
— Вот и поделом! — воскликнул ещё один дружинник. — Что, Садко Елизарович? Дозволь с убивцем поквитаться!
— А чего теперь квитаться? — с усмешкой разглядывая раненого разбойника, возразил купец. — И так уж квиты. Вон, Лука Тимофеич говорит, он не жилец.
— А это я ещё поглядел бы, — вдруг нарушил своё молчание косматый и мрачно глянул на Садко из-под мокрых кустистых бровей. — Что, купчина, может, отпустишь меня?
— Не много ли захотел? Ты ж врал, что мне и моим людям ничего не сделаешь. Врал ведь? Ну, признайся. Не первый год торгую, знаю, чего от вашей братии ждать.
— Это когда как! — помотал своей гривой раненый. — Мне и резать вашего брата случалось, и волю давать. А вот тебе-то положено меня отпустить!
С ладьи послышались смешки и возмущённые возгласы. Лука от удивления едва не выронил тряпицу, которой промывал рану дружинника.
— Че-е-его?! — изумился и Садко. — С чего это мне положено? Кто положил?
— Вот он. — Косматый указал на кипарисовый крест купца. — Ты ж из этих... у которых один-единственный Бог, так?
— Ну, так. И что?
— Так мне сказывали, что этот ваш Бог вам всех прощать велит.
Садко расхохотался.
— Поумнело разбойничье племя! Раньше только в кошелях наших рылись, а ныне норовят до души докопаться! Ты, растрёпа, верно говоришь: Господь нам, христианам, велел прощать врагов. Даже любить велел, представляешь? Святые так и делают. Только я, на твою беду, не святой. А потому, если тебя добью, то грех, конечно, на душу приму. Но если с другого конца поглядеть: живой-то ты сколь ещё народу порешить можешь? И сколько грехов мне прибавится, если ты по моей милости жив останешься? А?
— А ты рискни! — всё с той же мрачной усмешкой настаивал раненый. — Может, если ты милость явишь, то и мне кровь людскую лить расхочется. Ну, порадуй своего Бога. Он же у тебя один-единственный, так уж доставь Ему такое удовольствие. Ради Него возьми меня и отпусти.
— Богохульничает свинья! — крикнул с ладьи один из молодых гребцов. — Ох, руки чешутся...
— Чешутся, так почеши! — Садко обернулся к ладье, потом вновь глянул на косматого. — Слышь, как тебя звать-то?
— Бермятой кличут.
— Так вот что, Бермята. Христос сказал: «Просящему у тебя дай»[8]. Ты просишь, и я дам тебе, а если потом об этом пожалею, значит, это будет мне в наказание. Эй, Лука Тимофеич! Сможешь вынуть стрелу из его шеи?
— Да уж не знаю, справлюсь ли, — усмехнулся кормчий. — Из такой бугаиной шеищи разве что клещами тащить. Попытаюсь.
Меж дружинниками поднялся ропот. И стих. Редко кто отваживался возвышать голос против купца Садко Елизаровича — никто не хотел с ним ссориться, а тем более расставаться. Больно уж он был удачлив и, как правило, щедр.
— Челночишку переверните, братцы, — весело попросил Садко своих гребцов. — Сейчас Лука уврачует нашего лохматого приятеля, и пустим мы его в обратный путь — прямиком по течению.
Глава 3. Старый путник
Около трёх часов спустя молодой купец сидел на толстом стволе старой берёзы, должно быть, честно прожившей свою берёзовую жизнь до конца и упавшей в нескольких шагах от пологого берега островка, на котором дружина устроила в тот вечер ночлег.
Садко давно знал этот островишко и любил за то, что находился тот ровно посреди реки, на порожистой отмели, куда редко какой кормщик решался подводить судно — можно было его и на камни посадить. А это означало, что здесь редко останавливались другие торговые ладьи и никто не вырубал росших небольшими кущами берёз и ёлок. Многие другие островки на обильно судоходном Волхове из-за частых «постоев» оставались почти голыми, и ездить за дровами приходилось к берегу. Но такого мастеровитого кормчего, как Лука, опасная мель не смущала, он знал, как подвести ладью к берегу, не повредив её, так что Садко не без основания считал островок на порогах своим.
Возможно, не признаваясь себе в этом, он любил это пристанище ещё по одной причине. Когда-то, теперь казалось, что уже очень давно, у них с отцом тоже был такой любимый островишко. Он располагался не так далеко от берега Нево-озера, от града Ладоги[9], в котором жила семья будущего купца. Корабельщик Елизар редко бывал свободен от работы, но, когда выпадали дни отдыха, больше всего любил рыбачить. На своей лёгкой долблёной лодочке он иной раз уплывал очень далеко, так далеко, что не возвращался домой до заката и тогда ночевал среди озера, на одном из островов, которых там было великое множество. Садко, едва ему минуло шесть лет, стал проситься с отцом в такие поездки, и Елизар неожиданно согласился — ему понравилось, что сынишка разделяет его пристрастие.
Они уплывали на рассвете и долго шли на вёслах, если только ветер (на Нево-озере в редкий день не было ветра) не дул как раз в ту сторону, куда корабельщик наметил плыть. Тогда можно было поставить парус. Елизар выбирал какой-нибудь знакомый островок и возле него закидывал свой невод. Можно было ловить, и не приближаясь к островкам, но у корабельщика был свой расчёт: островки служили пристанищем огромным поселениям чаек, бакланов, кайр, птицы кружили над водой, гонялись за неосторожно всплывающими рыбами, и те, ища спасения, стаями неслись прочь от мелькающей над водой опасной тени. И уж тут надо было только кинуть сеть с той стороны лодки, куда шарахался вспугнутый косяк.
Улов обычно бывал богат, но везти его домой (если только следующий день не был для корабельщика очень трудным) Елизар не спешил. Он вновь брался за вёсла и грёб к знакомому небольшому островку с удобной, совсем маленькой бухточкой, где они с сынишкой вытаскивали лодку на берег, разводили костёр и стряпали себе заслуженный ужин. Обычно это бывали либо уха, которую оба любили, либо несколько рыбин, зажаренных на тонких деревянных вертелах.
Садко на всю жизнь запомнил тёплый аромат дыма, запах сосен, которыми сплошь зарос островок, одинокие крики чаек, припозднившихся со своего дневного промысла. Мальчик любовался мерцанием воды, окружавшей их со всех сторон, и блеском рыбы, которой была полна лодка. Иногда то одна, то другая рыбина подскакивала, выгибаясь, силясь спастись из гибельного плена, и вновь падала на груду их улова. Но, бывало, какой-нибудь рыбке удавалось выскочить из лодки, и она начинала отчаянно биться на прибрежной гальке — лодка была далеко от воды. Таких упорных рыбок Садок обычно спасал — по молчаливому согласию с отцом подбирал и закидывал в озеро, не зря же она так храбро боролась!
Эти поездки на рыбную ловлю продолжались года четыре, потом и у Елизара стало меньше времени — работы прибавилось, и Садко больше помогал родителям в домашних делах. Иногда они выбирались порыбачить, но уже очень редко могли заночевать на укромном островке. Но Садко помнил его и, выходя на ладье в Нево-озеро, часто мечтал свернуть с обычного торгового пути, чтобы повидать любимое место.
Солнце садилось. Тёмная бахрома леса с далёкого берега резко прорисовалась сперва на багряном, потом на густозолотом, а после на дымчато-фиолетовом фоне. Точно кто-то ткал на небесном шёлке ковёр во всю ширину горизонта, да никак не мог подобрать самый лучший цвет.
За спиной купца его дружинники жгли костёр и доедали уху. Как часто бывало, в небольшой островной заводи им повезло выудить пару сомов — один оказался в полсажени, второй едва ли не в целую сажень, и, чтоб его одолеть, пришлось двоим скакать в воду и добивать чудище речное пиками. Зато уха вышла славная, Садко и сам ел за обе щеки, а дружинники пожалели, что не стали ловить ещё. Но теперь-то поздно: смеркается, и как бы вместо сома или щуки не вытащить какую водяную нечисть... Не раз и не два многие слыхали, что водятся тут русалки, а может и что похуже вынырнуть!
Купец вспоминал, как во время их памятных поездок с отцом на рыбную ловлю он нередко, прикорнув возле костра, замечал, как в воде плещется рыба, и спрашивал: «Бать, а почто ночью невод не закинешь? Ещё б могли наловить! Вон сколь её там!» Отец только усмехался в ответ и иной раз отмалчивался, а иногда отвечал, хмурясь: «Ночью без надобности лучше в воду не соваться! Ночью время сил тёмных, не нашенских! И так мы с тобой Водяного позлили уже: вон сколько его добра забрали — полная лодка рыбы! Лучше его не дразнить — силён он в тёмное время-то!» Однажды мальчик, не удержавшись, спросил: «Но как же Водяной над нами верх возьмёт? Мы ж с тобой — люди крещёные. Али нам Бог не поможет?» Елизар на это и вовсе рассердился: «Бог помогает тому, кто сам не зевает! Не были б крещёные, так и ночевать тут я бы с тобой не стал — поостерёгся. А шутки шутить с бесами всё едино не стану!» Эту науку Садко усвоил прочно и никогда не посмеивался, видя, что его корабельщикам не по себе, если идти на вёслах либо под парусами случалось в ночное время. Только подбадривал их: «Молитесь усерднее да гребите покрепче. Если нечисть какая со дна всплывёт — нас тут уж и не будет! Уплывём!» И сам с особенным тщанием читал на воде вечернее правило[10].
Садко наслаждался красотою заката, то и дело переводя взор на свою ладью, недвижно стоявшую возле самой береговой кромки. Хороша она была! Не зря два года назад не пожалел он денег, уплатив за постройку ладожским корабельным мастерам. Ладья была выдолблена из мощного ствола дуба и в длину имела почти десять саженей[11]. Обшитая прочными досками, стройная и лёгкая, она бывала надёжна не только на речном просторе, но и в штормовом Нево-озере, и на волнах буйного, безумно опасного Хазара[12]. Садко не сомневался, что покажет она себя, как надо, и в любом другом море, стала бы нужда в то море плыть. У ладьи была высокая корма, совсем недавно помогавшая ему и кормщику укрываться от стрел разбойников, нос её поднимался ещё выше и был украшен резьбою, а на высокой мачте при попутном ветре распускался широкий парус, как и сама ладья, раскрашенный в красный и жёлтый цвета.
Разглядывая своё судно, Садко, как нередко бывало, принялся мечтать. Он мечтал о том, как доберётся до далёких, пока неведомых ему, а может, кто знает, и никому ещё не ведомых земель, привезёт оттуда такие товары, что все будут замирать от изумления, а уж сколько он расскажет людям о заморских чудесах! Расскажет и споёт — не зря же во всех плаваниях ему сопутствуют гусли, что когда-то ещё дед его сотворил. Певучие, звонкие, ни у кого таких нет. Корабельщик Елизар, отец Садко, играть почти не умел и дивился, как это дедов дар вдруг передался сыну. А Садко и пел так, что иные, знавшие его корабельщики шутили: «Этот, если его русалки вдруг пением завлекать станут, враз их перепоёт и сам завлечёт в сети!» Гусли Садко берёг.
— Что, Садок Елизарович, довезёшь ли меня до Новогорода?
И этот вопрос, и прозвучавший совсем рядом незнакомый голос, прервавший мысли купца, были так неожиданны, что заставили его вздрогнуть. Он обернулся и увидал стоявшего в трех-четырёх шагах человека. Нет, внушить какие-то опасения он никак не мог. Это был старик, лет, наверное, под семьдесят, правда, не хилый и не согбенный, напротив, он держался на удивление прямо. Простая, даже мешковатая одежда, сшитая из недорогой, но добротной и по виду новенькой ткани, никак не выдавала, кем может быть старик, — не крестьянин, точно, не то б лапти носил, а он вон в сапогах, вряд ли боярин: ни шапки бобровой либо собольей, ни кафтана богатого — обычный охабень[13] поверх длинной, чуть не до пят рубахи.
Но поразила Садко не его одежда. Мало ли кто как одет? Но вот откуда этот самый старик здесь взялся? Они пристали к островку три с лишним часа назад, дружинники вроде всё тут обошли, собирая сушняк для костра, да и сам купец поогляделся — мало ли что тут и кто тут вдруг окажется. Не было никого чужих.
Тем не менее внушённая некогда благочестивой матушкой привычка сработала, и Садко встал перед нежданным гостем.
— Здрав буде, дедко! Ты кто ж таков да как сюда попал?
— Путник я. Странник. Челночок мой сюда прибило. — Голос старика был одновременно звучен и вроде бы мягок. — Я отдохнуть прилёг под кустом. А чёлн возьми да уплыви. Слава Богу, ты сюда приплыл со товарищами.
Это было очень, даже слишком странно. Садко готов был с трудом, но поверить, что ни он, ни двадцать человек дружины не приметили на островке спящего старика. Но каким образом он сюда пристал, если тут и сильному кормчему нелегко одолеть течение и не ткнуться о камни?
Задавая себе эти вопросы, купец тем временем всматривался в скупо освещённое закатом лицо путника. Оно показалось ему необычным. Худое, так что даже щёки на нём слегка западали, разрисованное морщинами, это лицо было непостижимым образом красиво. И не от того, что его черты казались безупречно правильны. В нём то ли был, то ли угадывался какой-то свет, тёплый и спокойный, успокаивающий и волнующий одновременно. Глаза были тёмные, но и они странно сияли, согревая, хотя их взгляд при этом казался твёрд, почти суров. Необычный был старик!
— Если ты в Новгород путь держишь, то что же, мы довезём тебя, — пообещал Садко, поймав себя на том, что слишком долго и пристально рассматривает путника. — Но ты меня по имени да по отчеству окликнул. Откуда их прознал?
— Ну, как это, откуда? — Улыбка путника была такой же тёплой, как его глаза. — Тебя товарищи твои так окликали.
— А... Ну, да. А самого как звать?
— Николаем родители окрестили. Так с тех пор и прозываюсь.
Купец тоже улыбнулся.
— Крещёный, стало быть. Ну и слава Богу! И я, и почти вся моя дружина — тоже крещёные. Но если ты, дедушка Никола, сюда днём ещё приплыл, так небось проголодался. Сейчас я ребят моих кликну, они покормят тебя.
В ответ путник поклонился.
— За доброту твою спасибо. Вернётся она к тебе, Садко Елизарович. Но только я не голоден. Припасы у меня с собой. Хлебушко. Вот, не хочешь ли, попробуй.
И старик опустил руку в сумку. Она, оказывается, свисала у него с плеча. А мгновение назад Садко готов был поклясться, что при путнике нет никакой сумки! Тем не менее старец Николай вытащил из мешка небольшой свёрток, в котором оказалась краюха ржаной ковриги. Путник отломил от неё едва ли не половину и протянул купцу. И хотя тот был сыт, но отказать незнакомцу отчего-то посчитал неучтивым. Он взял ломоть, надкусил и вот тут изумился уже всерьёз: хлеб был не только абсолютной свежий, но даже тёплый, точно его сию минуту вытащили из печи. А уж какой вкусный!
Садко вдруг вспомнилось, как он, совсем малышом, и до аршина-то[14] ещё не доросшим, крутился в избе вокруг материнского подола, когда она хлопотала возле печки. Он вдыхал невероятный, завораживающий аромат и ждал. Ждал, когда же вытащит матушка готовый каравай и тот окажется на столе. Вот тогда можно будет украдкой вскарабкаться на лавку и, покуда мать не видит, попробовать ноготком отковырнуть от горячего-прегорячего каравая коричневую крошечку, чтобы тотчас отправить её в рот. Она обожжёт язык, но наслаждение доставит ни с чем не сравнимое... А если совсем уж повезёт (это только когда отца нет дома), то матушка, заметив его полный восторга взгляд, может и отрезать сбоку мелкую краюшечку. «На уж, попрошайка! Да гляди, язык-то не ошпарь!»
Купец и сам не заметил, как умял угощение, меж тем путник завернул остаток хлеба в тряпицу и убрал назад, в суму.
— Спасибо, дедушка Никола! Вот хлеб так хлеб! Только что ж мы стоим-то? Давай рядком присядем.
Они опустились на поваленный ствол. Быстро смеркалось. Алая кайма заката, на фоне которой ещё темнее стал неровный рисунок далёкого берега, тускнела, становясь уже не алой, а сиреневой, затем лиловой, а в вышине, над головою Садко и его нежданного собеседника, в густеющей синеве стали проступать звёзды.
— А много ль товара везёшь? — неожиданно спросил старик.
И Садко, обычно не любивший посвящать в свои торговые дела кого ни попадя, неожиданно охотно ответил:
— В этот раз, пожалуй, лучше, чем с самой весны. Одних шкурок лисицы северной продам гривен на пятьсот. А уж побрякушек всяких, до которых в Новограде боярышни так охочи, хватит, чтоб им там четверть торжища закидать. Я, видишь ли, у поморов на сей раз вместо груза моржовой кости накупил из неё же поделок — они нынче в моду вошли. Идут, прямо как резная кость слоновая, ну, а цена-то у них разная. Ещё весною мы с поморскими торговцами сговорились, что я им приплачу, если резчикам северным закажут гривен, серёжек и бус из этой самой кости. Вот и привезу в Новоград таких поделок, каких на торжище и не видели. Барыш возьму — тамошние купцы от зависти полопаются. И — на юг! У греков можно в этом году вин дорогих набрать, каковых в прошлое лето столько б не досталось, нынче-то вон какое тепло стоит! И даже до Новгорода везти не надо — в Киеве продам. Князь-то Владимир, что теперь правит, любит пиры да веселье. Хоть и крещение принял и, сказывают, во многом остепенился, а чару по кругу пустить всё так же горазд.
— Ну, это не велик грех, если при том головы не терять, — усмехнулся старец Никола. — А не боишься ли, Садок Елизарович, что зависть чужая тебе повредит?
— Это купеческая-то? — Садко откровенно рассмеялся. — Да уж бывало у меня... Один раз аж ладью спалить пытались. Не в Новгороде, нет, в своей же Ладоге, на Нево-озере. И то странно: хоть и любят купцы чужой мошне позавидовать, но так-то редко кто пакостит.
— Так это потому, что ты сам любишь мошной похвалиться, а других тем задеть да принизить!
В голосе старика не было осуждения, даже и укора не было, скорее, он прозвучал печально. Но Садко возмутился:
— Что же, кровно нажитым да заработанным похвалиться у меня права нет? Сами-то они, что ни повод, кошелями трясут, собольи шубы и шапки летом сымать не желают, чтоб только все их богатство видели. Вот прибудем на торжище, так там летом хоть нос затыкай — потом разит от этих, в меха укутанных!
Старец слушал, не прерывая, лишь покачивая головой, и в наступающей полутьме купцу стало казаться, будто лицо Николая светится, по крайней мере видно его было не хуже, чем когда сумерки ещё не сгустились над Волховом.
— Ох, не о том ты, Садко, думаешь, — задумчиво проговорил путник. — И не той зависти страшишься. Чужие грехи считать нетрудно, гляди — свои бедой обернутся... Вот ты уж за столько вёрст чужой пот учуял, а не чуешь, что у тебя за спиной да совсем рядом.
— Что?!
Садко резко обернулся, но не увидел ничего, кроме колыхавшихся на лёгком ветерке кустов да отблесков костра, у которого расположились и шумно вели беседу его дружинники.
— Что ты, старче, меня стращаешь? Ничего ж там нет.
Но Николай вновь качнул своей серебряно-седой головой.
— Так не всего ж нет, чего ты не видишь. Пруток вот зажги, поди да и глянь.
Из той же сумы старец извлёк огниво, и от первого же щелчка поднятая с песка сосновая ветка вспыхнула ярко, как смоляной факел.
— Иди, иди! Но смотри же: можешь возомнить, что спасся, а как раз и пропадёшь. Головы не потеряй!
Эти странные слова смутили бы молодого купца, но в свете ветки-факела он уже заметил непонятное шевеление среди кустов и, резво вскочив, кинулся к зарослям. Огонь алой искрой сверкнул на узком лезвии, отразился в двух налитых злобой зрачках, и Садко, не успев подумать, наотмашь ударил кулаком в смутно обозначившееся в темноте лицо. Глухой вопль, треск ломающихся сучьев, и вот уже часть куста вспыхнула от поднесённой вплотную ветви и ярко осветилось рухнувшее под ноги купцу тело.
Случись под рукой у Садко меч или нож, тут бы и пришёл конец недавнему предводителю разбойников Бермяте. Но купец оставил оружие в ладье. Вот ведь зря оставил! И рядом дружинники, а не поспели бы, кинься на него из кустов лихой космач, которого Садок Елизарович несколькими часами ранее так опрометчиво помиловал.
— Тварь неблагодарная! Так-то ты за добро платишь!
Несколько человек из дружины прибежали на крик и с гневными воплями обступили наполовину оглушённого разбойника, которого их хозяин за ногу выволок из кустов и кинул на прибрежной полосе. Дружинники не были так же беспечны, как сам купец, оружие было при них, и конец Бермяте пришёл бы тотчас, если бы тот, едва очухавшись, не завопил:
— Стойте ж вы, псы купецкие, стойте! Хотя б спросили, чего ради я за вами плыл...
— А то спрашивать надобно? — совсем разъярился Садко. — Вон ножик твой на земле валяется. Затаился в кустах, тать окаянный, да ждал, чтоб меня в спину пырнуть!
— Не того я ждал! — крикнул Бермята, привставая с земли и затравленно глядя на лезвия мечей, всё ярче блистающие в свете полыхающего куста. — Да, купчина, поплыл я за ладьёй вашей. Да, мыслишка была: а не поквитаться ли? Лишили вы меня моей ватаги, моего промысла разбойного. Но тут же и другая мыслишка явилась: всё ж ты меня жизни мог лишить, да не лишил. А мне ведь есть, чем тебя отблагодарить.
Такого оборота Садко не то чтобы совсем уж не ожидал. Он помнил, что пойманные разбойники чего только не измыслят, чтоб избежать кары, чего ни напридумают, отдаляя конец. И всё же заявление Бермяты было странно. Этакий злющий разбойник и вдруг сказки сочиняет, чтоб его не прикончили?
Конечно, помирать ему неохота... Однако не послушать ли, что он там скажет?
— Ну? — надвинулся на Бермяту Садко. — Если ты с ножичком в кустах сидел да раздумывал, как меня лучше одарить, так давай, я слушаю. Говори.
Косматый вновь обвёл глазами окруживших его людей.
— Я скажу тебе, Садко... Тайну одну открою. Но только тебе одному. Пускай все отойдут. Недалеко. Чтоб только нас не слышали.
Один из дружинников успел принести и подать купцу его меч, поэтому Садко раздумывал недолго. Неожиданно его разобрало любопытство.
— К костру отступите, ребятушки. Но не сильно далеко, лучше, если будете нас видеть.
— А стоит ли, Садокушка? — усомнился верный Лука. — Кто ж его знает?
— Я знаю. Без оружия уложил этого лохмача, так уж с мечом в руках и подавно одолею. И какой же купец торговаться откажется?
Когда дружинники отошли, Бермята, по-прежнему сидевший на земле, привстал и, поманив купца рукой так, чтобы тот наклонился, шепнул:
— Я, купчина, знаю, где клад запрятан! Такой, какой ни тебе, никому из вас, купцов, и сниться не мог!
Садко присвистнул.
— Знал, что врать начнёшь, но уж больно глупое враньё-то... Что же ты, разбойнище, знал, где богатство взять, но не взял его? И кто ж в это поверит?
Бермята мотнул своей косматой башкой и прошипел совсем тихо, хотя никто из дружинников не мог их слышать:
— В том-то и дело, что клад таков, что не всякий взять сможет. И уж мне его, точно, не добыть было. А вот ты, может, и добудешь.
Купец подумал, что надо бы плюнуть на болтовню разбойника, его выдумка никак не казалась правдоподобной. Но что-то остановило Садко. Он сел прямо на песок против Бермяты и проговорил, положив на колени свой меч:
— Рассказывай.
Глава 4. Легенда о проклятом кладе
— Слыхал ли ты о великом богатстве, что некогда спрятали от людей злобные подземные жители? — спросил Бермята, и его близко посаженные глаза алчно сверкнули жёлтыми волчьими искрами.
— Какие такие подземные жители? — не понял Садко. — Люди под землёй не живут.
Разбойник опять мотнул головой.
— Люди не живут, да только то не люди. Или не совсем люди. Ты про нибанлунгов слыхал ли?
Вот теперь Садко испытал настоящее изумление. Бермята неправильно произнёс знакомое ему слово, но что это именно оно, сомнений не было. Однако откуда же этот лохматый бродяга мог знать название загадочного народа, о котором молодой купец не однажды слыхал предания, бывая в варяжских и германских землях? Сам-то разбойник, уж точно, не плавал к варягам...
Садко вспомнил встречу, что произошла у него несколько лет тому назад. Сам он с радостью избежал бы той встречи, потому как не мог быть уверен, что она завершится для него благополучно.
Купец отправился тогда в очень прибыльный, но и очень опасный поход через Варяжское море[15] к морю Северному, к поморским охотникам, чтобы нагрузить ладью клыками зверя моржа. Обычно он скупал и продавал в Новгороде или Киеве поделки из этой прочной и красивой кости. Те же поморы часто сбывали их купцам, и за ними необязательно было плыть так далеко: поморские ладьи нередко приплывали в Ладогу, а там — только сумей сторговаться. Но вот Садко узнал, что в Новограде объявились ремесленники, которые режут кость не хуже поморских умельцев, и поделки их идут по дорогой цене: костяные бусы, гривны, головные подвески вдруг особенно полюбились тамошним боярышням. Ну, а раз так, значит — прямая выгода привезти и продать там моржовые клыки, да поскорее, да побольше, не то и другие купцы сообразят, что к чему. Одни, само собой, побоятся рисковать, а другие-то не побоятся!
Садок Елизарович очень успешно (как почти всегда!) сходил в это плавание, доверху загрузил свою ладейку желтоватой костью, с ценою выгадав даже и сверх того, что надеялся выгадать. Теперь надо было поскорее плыть назад: на Варяжском море часто, пожалуй, ещё чаще, чем на Нево-озере, бушуют шторма, да и с хозяевами этих вод, лихими варягами, ничего не стоит столкнуться, значит, лучше как можно быстрее увести судно из этих вод.
Но, как они ни спешили, шторм их всё же застиг. Будь кормчим у Садко не Лука Тимофеевич, а кто-то менее опытный, не миновать бы беды. Однако Луке удалось благополучно довести ладью до одного из давно известных ему островов. Они пристали к берегу в узкой шхере[16], надёжно защитившей их от всё сильнее свирепевшей бури. Но тут же мореплаватели обнаружили — они здесь не одни: в конце залива покачивалась на волнах ещё одна ладья, определённо, не русская.
— Вот тебе, принесло! Варяги! — Увидав чужаков, Лука перекрестился, а дружинники купца взялись было за оружие.
Однако Садко не велел им спешить:
— Кто видал, как в половодье от высокой воды зверьё спасается? На одной коряжине могут лиса и зайцы плыть и друг друга трогать не станут. Мы сюда от шторма схоронились, и они тоже. Попробуем поздороваться по-доброму. Ну, а полезут, тогда уж пускай не обижаются!
Решение, как оказалось, было правильное. Садко высадился с тремя дружинниками на скалы и, прыгая по камням, добрался до чужого судна, с которого их тоже пристально рассматривали. Товарищи по несчастью оказались германцами и не воинственными завоевателями, а тоже купцами, занесёнными в эти воды даже не соображениями выгоды, а более всего любопытством и планами на будущее. Они искали место для удобной гавани, чтобы выстроить там крепость и обеспечить своим торговым кораблям место отдыха, а заодно и защиту от морских разбойников. Все германцы были облачены в кольчуги и вооружены, но Садко это ничуть не встревожило: иначе в этих местах лучше не появляться — его дружинники тоже были одеты по-боевому.
Германская ладья нагружена не была, но никто из её гребцов не заинтересовался, что за товар везут русские, грабить их они не собирались. Предводитель германцев, его звали Харальд, оказался ровесником Садко — ему тоже было на ту пору двадцать два года, и он тоже не первый год уже ходил в море. Бывал он и в Нево-озере, а из него пару раз спускался по Волхову к Новограду. По этой причине молодой мореплаватель немного знал русский язык и охотно разговорился с русским купцом.
Они отыскали среди неуютных скал небольшую расселину, в которой хватило место, чтобы развести костёр. Оба предводителя уселись на расстеленные волчьи шкуры (их принесли с германской ладьи), а трое дружинников Садко и двое воинов Харальда пристроились прямо на камнях. Германцы притащили дюжину копчёных уток, добытых в одном из прибрежных лесов, и вяленую рыбу, а русские со всей осторожностью докатили до расщелины бочонок отличного вина, которое Садко вёз с собой как раз на случай нежданных встреч (разумеется, если такие встречи можно было закончить без драки).
Они с удовольствием осушили по чарочке, заели утятинкой и разговорились, хотя Харальд и говорил на русском с большим трудом, а Садко к тому времени не выучился ещё ни одному из варяжских языков[17] — до сих пор ему чаще доводилось общаться с греками или арабами. Греческий он уже неплохо разбирал, а по-арабски знал всего несколько слов — арабы отлично понимали язык жестов. Так или иначе, но молодые люди отлично понимали друг друга (тем лучше, чем чаще наполнялись их чары).
Тогда-то Харальд и рассказал новому знакомому предание, которое помнил с детства. Предание о загадочном племени низкорослых подземных жителей, владевших тайнами колдовства и более всего стремившихся скопить как можно больше богатства. Никто не знал, откуда берут карлики-нибелунги своё золото. Выкапывают ли его из глубочайших земных недр, о которых мало кто слыхал и в которых никто из людей не бывал, выплавляют ли из неведомых руд, в которых никто другой не может угадать, а они видят и распознают драгоценный металл? А быть может, колдуны владели древней тайной — обладали философским камнем, что может обратить в золото и железо, и олово, и даже медь?
Так или иначе, но о кладе нибелунгов, кладе, равного которому нет, в германских землях слышали многие. Об этом кладе рассказывали предания. А ещё о том, что всякий, кто решался искать это злато, подвергал себя смертельной опасности. На страже клада стояли могучие силы, с которыми человек не мог совладать, и все, пускавшиеся на поиски, либо погибали, либо, вернувшись ни с чем, всю оставшуюся жизнь проводили в глубоком разочаровании, отчаивались, а иные сходили с ума...
— Нибелунг и и сейчас сторожат свои сокровища, — уверенно проговорил Харальд, видя, что его рассказ произвёл впечатление на нового знакомого, и очень этим довольный. — Люди всегда стремятся обладать золотом, поэтому всегда будут искать этот клад. И он всегда будет приносить им одни только несчастья!
Поутру шторм стих, и путешественники, пожелав друг другу удачи, мирно поплыли каждый в свою сторону.
— Со всеми бы варягами так, — вздохнул Лука, провожая глазами ладью Харальда.
А Садко не то чтобы всё время вспоминал рассказ германца, однако нет-нет да задумывался о нём, тем более что впоследствии ещё пару раз при разных обстоятельствах слыхал упоминания о колдовском золоте.
И вот теперь о нём вдруг заговорил лохматый разбойник, который, кажется, ни от кого не мог узнать про древнюю германскую легенду.
— Вижу, что слыхал ты про нибанлунгов! Вишь, глаза-то аж загорелись! — Бермята так и впился взглядом в лицо купца. — Слыхал и веришь, что злато это на самом деле есть!
— Язык у тебя коряв, как старое коромысло! — Садко, в свою очередь, уже куда внимательнее поглядел в лицо разбойнику. — Правильно надо говорить «нибелунги»[18]. Ну, рассказывали мне, помнится, германцы о карлах[19] хитроумных, что под землёй жили, а может статься, и по сей день живут. Да ты-то как про них прослышал?
Бермята усмехнулся, краем глаза невольно косясь на длинное лезвие купеческого меча.
— А мне про тех нибле... словом, про карликов тех один человек поведал. Такой же, как ты, купец.
— Которого ты грабил? Со страху много чего наговорить можно.
— Да не грабил я его! — с горячностью воскликнул разбойник. — Это он мою ватагу нанял, чтоб другого купца ограбить.
Это было так неожиданно, что на время стало для Садко Елизаровича важнее сказки про подземных карликов. Правда, ему доводилось слышать, что иные торговые люди не брезговали устраивать другим, более удачливым торговцам всяческие пакости, но верить этим слухам Садко не хотел. Да и будь то правдой, такое уж слишком! Чтоб купец на купца навёл грабителей?! Как после этого с людьми жить будешь, если вдруг кто прознает? Как честному купечеству не то что в глаза поглядишь, а просто на глаза покажешься?!
— И кто ж нанимал тебя? — Молодой человек не мог сдержать гримасу омерзения. — Как имя того иуды? Скажи уж!
— Да не знаю я его имени! — Кажется, Бермята не врал. — Знал бы — назвал бы. Но что он и сам купец, и притом богатый, это точно. Я его на торжище в Новгороде пару раз видал. А уж как он про меня прознал, так то только духи знают. Сказал, что знает о моих лихих делах, и ежели я с моими ребятами для него дела не сделаю, так выдаст меня с головой новгородскому посаднику. А посадник Добрыня нравом крут да на расправу скор. Вот и пришлось нам для того купца одного из вашей братии вчистую ограбить да ладьи его на дно пустить.
— А с самим купцом и с дружиной что вы сделали? — мрачно нахмурясь, спросил Садко.
— А что сделали? — Бермята, который, рассказывая, успел усесться на песке поудобнее, на всякий случай слегка отполз назад, подальше от тускло блестевшего меча. — Дружинников почти всех уложить пришлось, больно лихо отбивались. А купчина ушёл — с четырьмя или пятью своими людишками до берега доплыл и был таков. Но нам ведь велено было товар отобрать да ладьи потопить, а убивать его я не нанимался. Ну вот, товары грабленые мы на другой день купцу-лиходею отдали, а он мне за то и рассказал, как на Нево-озере карличье злато отыскать.
— И как же? — не в силах подавить отвращение, но и не скрывая прежнего любопытства, спросил Садко.
— А ты слушай, купчина, слушай. Говорят, в германских землях нибанлунги эти жили с незапамятных времён. Жили в подземельях, и люди их редко видали. Но известно было, что умеют карлики находить золото и что скопили они его в чертогах подземельных видимо-невидимо. Однако же как-то прознал про их богатства то ли какой-то король тамошний, германский, то ли кто-то из этих, ихних... ну... рыцарей. Так ли, не так, а попытались люди богатства подземного народ отыскать да отобрать. Война случилась меж людьми и нибанлунгами.
— Нибелунгами, — вновь поправил Садко.
— Да язык с ними поломаешь! Словом, долго они воевали и сколько-то своего злата карлики утратили. А потому решили клады понадёжнее упрятать. Много их, люди сказывают. Развезли их колдуны подземельные в разные концы, в разных местах сокрыли. А самый большой спрятали на Нево-озере.
— И где же?
— В сорока двух верстах от града Ладоги. Ежели от берега отплыть летом на рассвете да плыть всё на север и на север, то покажутся острова. Много их там. И один высоко из воды торчит, горбом выгибается. Наверху на нём идол стоит каменный, какой-то бог германский иль варяжский. Вот по тому идолу остров отыскать не так уж и трудно. Куда труднее ход найти, что с одной стороны в нём открывается. Так уж прячется этот вход среди леса, коим остров весь зарос, что можно мимо десять раз проплыть, да ничего не увидать. Но купец-лиходей мне присоветовал: надо, к острову приблизившись, выпустить с ладьи голубку. Та к берегу полетит, и на неё сразу вороны чёрные кинутся. Живёт их там несть числа. Однако голубка от воронья скроется — влетит в проход под берегом, куда, видно, воронам влетать заказано: они снаружи колдовской клад стерегут. Тут уж надо на вёсла налечь, от воронов чёрных отбиться да поскорее в ту нору вплыть. И тогда, проплыв под островом, отыщешь громадную ладью. Та ладья сама из злата выкована и доверху златом полна. Богатство невиданное и неслыханное! Стоит она на воде посреди большой пещеры, и от её сверкания там светло, будто солнце светит.
Слушая, Садко лишь на миг представил себе сверкающее грудами золота золотое судно, и в его груди что-то защемило, захолодило сладким и жадным желанием.
Но здравый смысл тотчас заставил купца отрезветь.
— Постой, Бермята! Складно ты сказываешь, только поверить в твои сказки нельзя. Про воронов и голубку я, может, и поверю, про то, что под островом есть проход и пещера, тоже. Но как же может ладья, что из злата скована да златом же и наполнена, на воде стоять? Сто раз бы потонула!
И опять разбойник замотал своей гривой и для убедительности вытаращил глаза.
— Должна! Должна потонуть, да не тонет! Я ж те сказывал, да и сам ты должен был слыхать, если про карликов знаешь, что колдуны они и многое могут сделать не таким, каким оно обычно бывает. У них, слышь, говорят, и шапка-невидимка имеется, они и чары наводят такие, что видишь то, чего нет. Потому и ладья на воде стоит, хоть тяжесть в ней громадная да и сама тяжела непомерно. Колдовством сотворили её нибанлунги. Оттого клад их проклятым считается, оттого почти никто об нём не рассказывает: почти все, кто искал тот клад, живы не вернулись. Но ладью ту я взаправду видал!
Садко, не удержавшись, вздрогнул.
— Видал? Не врёшь?
— Да чтоб мне сей же час древом в землю врасти! Видал я, Садко, это диво, как вот тебя вижу.
— Видал и не забрал?
Вновь Бермята усмехнулся, но на сей раз с горечью.
— Так говорю же, не про меня сей клад оказался. Вскоре, как узнал я от лиходея-купчины про нибанлунгово богатство, так и отправился с ватагой моей на Нево-озеро. Ладью мы отобрали у другого купца, ладная была ладьишка, быстрая. Приплыли, куда было указано, нашли горбатый остров, голубку выпустили, и она нам путь указала. И вплыли мы в пещеру, и увидали посреди её сверкание такое, будто огонь полыхал. Ну, тут мои людишки разум и потеряли. Как поняли, что это золото и что его так много, налегли на вёсла изо всех сил. Нет, чтоб осторожно подплыть. А там камни со дна поднимаются. Ладья наша на те камни и села. Разбойнички как завопят, в воду попрыгали и к златому кладу поплыли. А меня вдруг такой страх взял — не поверишь! Не поплыл я за ними. И только издали сквозь то сверкание видал, как они на борта высокие карабкались да над грудами злата за него же дрались. И один за другим в воду падали да тонули, видать, все друг друга перерубили.
— А ты что же? — не удержался Садко. — Выходит, робче всех оказался?
— Да вот и выходит! А поборол бы страх, жив бы не был. Ладья моя наполовину водой наполнилась, а я так и сидел на корме, меч держа наготове. Раз десять порывался тоже в воду скакнуть и плыть к золоту колдовскому, но решиться не мог. Вроде бы и ватага моя вся сгинула, никто б на меня не посягнул, и в пещере той ни единой иной души не было, а страшно! Казалось, будто вокруг меня тени какие-то снуют да из-под воды чьи-то голоса слышатся. Сидел я так, сидел и вот, веришь ли, заснул! А проснулся, вижу — так и сижу на корме ладьи, наполовину потонувшей, но уж не под островом, а среди других островков. Уж и не знаю — течение ль там было и ладью вынесло, приливом ли её с камней стащило... Плыть на ней было некуда: в днище — дыры, руль сломан. На моё счастье, рыбаки показались поблизости, я им покричал, ну, они меня и подобрали. Ладья купецкая была, я и сказал, что из дружины купеческой. Мол, ладья разбилась в шторм, все с неё потонули, а я вот один жив. Рыбаки меня довезли до твёрдого берега, ну а уж потом я собрал себе новую ватагу лихих людишек и за старый промысел принялся.
— Давно это было? — спросил Садко, с прежним вниманием слушавший рассказ разбойника.
— Пять годов минуло.
— И ты что же, с тех пор так ни разу и не попытался вновь за тем кладом отправиться?
Несколько мгновений Бермята, видимо, раздумывал, потом угрюмо пробурчал:
— А чего пытаться? Что тогда было, то и вновь бы стало. Или порешили б мы с ватагой друг дружку, или силы колдовские, что клад охраняют, нас бы всех угробили. Думал я про ту ладью, не раз думал. А решиться так и не смог. Но у тебя дружинники, надо думать, люди не разбойные... Может, они такого не учинят. Может, тебе удастся кладом карличьим завладеть. Я тебе всё, как было, поведал, ничего не утаил. Теперь сам решай. А меня, купец, отпусти. Уж ежели один раз помиловал, так и во второй раз помилуй.
— А ты мне не указывай! — резко воскликнул Садко Елизарович, сверху вниз всё с тем же отвращением рассматривая Бермяту. — Я не верю, что ты и впрямь остался на острове, чтоб мне свою благодарность явить. А вот в то, что убить меня собирался, очень даже верю. Так что, по совести, надо б тебя заколоть да рыбам скормить. Разве то меня остановит, что бывают злодеи куда хуже, чем ты. К примеру, тот купец, что нанял вас, злодеев, чтоб с другим купцом расправиться.
— Но знаешь ли ты, Садко, что потом с тем купцом-лиходеем сталось?
Прозвучавший прямо за плечом голос заставил купца вздрогнуть. Увлечённый сперва нежданным приключением, затем невероятным, но волнующим рассказом Бермяты, он совершенно позабыл про своего недавнего собеседника, странника Николая, который догадался каким-то непостижимым образом о грозящей Садко опасности и предупредил его. Всё это время старца было не видно и не слышно, но теперь он вдруг подошёл вплотную и неожиданно заговорил.
Купец обернулся к нему и убедился, что раньше ему не казалось: да, лицо странника в уже наступившей темноте сиреневой июльской ночи было освещено необъяснимым светом, будто светилось само. Стоило бы испугаться, но страшно почему-то не было... Более того, на это лицо хотелось смотреть всё время, не отрываясь.
Глава 5. Течение вспять
— Так что ж стало со злодеем? — с невольной дрожью спросил Садко. — И с какой такой лютой зависти либо обиды погубил он другого купца? Николай чуть приметно улыбнулся.
— Погубил, как ты догадался, из одной лишь зависти. Удачливей тот был, торговал лучше да успешней. Вот и обуяла злоба того лиходея. Калистратом его звали. Калистратом Фроловичем.
— Ты сказал, звали? — живо встрепенулся Садко. — Так он, значит, за своё злодеяние поплатился? Нет его больше?
— Считай, что нет. Хотя и жив он, но другой ныне человек. После того, что сотворил новгородский купец Калистрат, пошли у него беда за бедой. Лавки его в Новгороде дочиста погорели вместе со всем товаром. Никто их не поджигал — молния в грозу попала. Потом жена у него умерла, за нею следом три сына. Всё и всех он потерял. Так вот и понял, что злодейство своё оплачивает.
— И что с ним стало? — вместо Садко с неподдельной живостью спросил Бермята, смотревший на возникшего перед ними старика не только с интересом, но и с неподдельным страхом. Неужто так уж испугался загадочного света, словно бы исходившего от лица странника?
Николай вдруг улыбнулся, глядя при этом не на разбойника, а на молчаливо ожидавшего его слов Садко.
— А что ему оставалось? Хотел он ещё один страшный грех совершить — сам себя лишить жизни. Взял и в Волхов кинулся.
— Что ж то за грех? — искренне удивился разбойник. — Свою ведь жизнь отнять можно, она ж моя.
— Как это — твоя? — Теперь мягкий голос старца прозвучал гулко и жёстко. — Ты её, что ли, себе дал? Ты в себя душу вдохнул? Какое ж право имеешь отбирать то, что не тобой дадено? И, в грехах не повинившись, бежать ото всех, перед кем виноват, и от себя первого? Не удалось, однако, Калистрату, самоубийство — в реке в тот день девки бельё стирали. Увидали, что человек тонет, двое из них поплыли к лиходею и вытащили его на берег. А проходивший мимо монах помог откачать и сказал, что креститься ему надо. Тот согласился, и монах его окрестил. Константином теперь зовут былого убийцу. Живёт он в монастыре в девяти верстах от Новгорода. Денно и нощно молится о погубленных им людях и о своей грешной душе.
— И ваш добрый Бог его простил? — пытаясь усмехаться, но отчего-то с дрожью в голосе спросил Бермята.
Старец наконец обратил к нему взгляд, и разбойник совсем смешался, кажется, даже задрожал от страха.
— Бог не только наш, Он и твой тоже, — проговорил Никола. — От того, что ты вместо Бога молишься пням да колодам. Господа ведь не убудет. А прощает Он всегда, если только Его всей душою о том просят. Попроси, и Он тебя тоже простит.
— После того, как я столько народу перегубил? — потерянно прошептал разбойник. — Да какое уж тут прощение?
— А ты попроси!
Бермята, казалось, задумался.
— Странно у тебя выходит, дед! Если я сам себя убью, то, по-твоему, мне прощения нет. А за то, что других убивал, меня простить можно?
Никола вдруг улыбнулся. Так улыбается взрослый, услыхав глупый лепет ребёнка и смеясь в душе над неразумием малыша.
— Я ж сказал тебе, дурню: прощения надо попросить, и будешь прощён! А как ты попросишь после того, как убьёшь себя? Ухнешь, будто в яму чёрную, и уж не докричишься оттуда, не допросишься прощения.
— Чего, даже ваш Бог меня оттуда не услышит? — Казалось, Бермята пытается поймать старика на какой-то ошибке, неправильности суждения.
Но Николай не смутился. Похоже, его вообще невозможно было смутить, словно он заранее знал ответ на любой, даже ещё не заданный вопрос.
— Бог-то слышит всё и отовсюду. Так же, как видит всё и везде. Только Он не будет во второй раз давать тебе то, от чего ты сам отказался, возвращать твою падшую душу назад. Что ж тебе, новое тело скроить да выдать прикажешь? А не много ли возни с одним олухом? Вишь, сказано ведь, что Господь сотворил человека по Своему образу и подобию. А что это значит? Что мы на него лицом походим, что ли? Так не все ж с лица одинаковы. А подобны мы Ему в том, что одни во всём белом свете свою волю имеем. Всякая тварь в мире живёт, как Бог ей велит, только по Его законам. А человек может сам решать, как жить. Доверяет Он нам. А мы что? Будто котята слепые, лезем куда ни попадя, зло творим, сами того не ведая, не замечая. Ты, разбойниче, хотя бы знаешь, что убивать грешно?
— Прости, старик, но неужто этого кто-то не знает? — вмешался Садко, слушавший разговор странника и бродяги, пожалуй, с не меньшим интересом, чем недавний рассказ Бермяты о колдовском кладе. — Ну, ясное дело, на войне убивать приходится. Вот и священники воинам благословение дают: не убьют они врага, враг убивать будет, не остановится. Но подлые-то, разбойничьи убийства разве кто-то оправдать может?
Странник обернулся к молодому купцу, и того вновь поразило его лицо, но теперь уже не исходившим от него непонятным светом. Час назад, впервые увидав Николу, Садко счёл его совсем старым. Сейчас, казалось бы, слабо рассеянная лишь звёздным светом да отблесками полыхающего поодаль костра темнота должна была углубить многочисленные морщины старческого лица, сделать его ещё древнее. Но нет! Лицо Николая каким-то невероятным образом разгладилось, морщин стало куда меньше, глаза уже не выглядели глубоко запавшими, а губы сухими и тусклыми. Даже его снежно-седые волосы словно бы потемнели — серебро седины лишь искрами проблескивало в них. Теперь страннику, пожалуй, нельзя было дать и пятидесяти.
— Спрашиваешь, Садок Елизарович, а сам ответ знаешь, — с грустью проговорил Никола. — В разных землях разные законы, но везде обязательно есть закон-другой, по которому можно и не на войне убить да невиноватым остаться. И не в законах ведь дело, а в том, что частенько человек жизнь чужую губит, а виноватым себя не чувствует. Вот ты крещёный. А скажи: если, к примеру, раб сильно провинился перед хозяином, грех ли его за это убить?
— Конечно, грех! — не раздумывая, ответил купец. — Для чего зазря переводить своё же имущество? Выдрать ведь можно как следует, чтоб впредь не пакостничал. А всего надёжней рабов иметь поменьше: и содержать их недёшево, и доверять им надо с оглядкой. Лучше вольная дружина, вот как моя.
— Ну, и на том слава Богу! — добродушно усмехнулся странник. — Но с этим душегубом-то, с Бермятой, ты для себя что решил? Убьёшь его или снова отпустишь?
Неожиданно для себя Садко заколебался. Только что, до появления Николы, он готов был прикончить злодея даже и после его рассказа о сокровищах зловещих карликов. И рассказ смахивал на враньё, и обещаний заплатить за этот рассказ новым помилованием купец разбойнику не давал. Но теперь что-то заставило его усомниться. Что? Странник? Но тот вовсе не просил его о снисхождении к лиходею. Тогда как объяснить эту непонятную и непривычную нерешительность? Жалко стало, что ли? Уж точно, нет! Но рука с мечом не спешит подниматься, будто её что-то держит. Вот ведь глупость какая!
— А ты какой совет дашь? — спросил Садко и хотел добавить обращение «старче», однако оно прозвучало бы уже неуместно — стариком Николай казался всё меньше и меньше.
Странник продолжал улыбаться и молчал. И тогда решился вновь заговорить Бермята:
— Послушай-ка, мудрый человек! А что, коли мне, как злодею тому, купцу Калистрату, к монастырю прибиться? Если уж его туда взяли, то чего б и меня не взять? Я б вашу веру принял, стал бы вашему Богу молиться, глядишь, и попросил бы у Него прощения. И не стал бы более людей грабить да убивать. Там, в монастырях-то ваших, ведь кормят, поят да кров дают, верно? Князь-то нынешний, Владимир, как принял греческого Бога, большие богатства на монастыри ваши и церкви тратит. Значит, неплохо там жить. Можно, я туда поеду? А ты, мудрец, мне путь укажешь...
Предложение разбойника заставило Садко рассмеяться. Ишь, куда повернул! Лишь бы выкарабкаться. Но купец не возразил Бермяте, ожидая, что скажет Никола.
А тог вдруг обрадовался.
— Ну, что же! Если так надумал, то и быть тому. Давай, вытаскивай свой челнок из кустов, где его запрятал, да на вёсла садись. Я с тобой поеду. Монастырь, я уж сказывал, в девяти верстах от Новгорода, а стоит как раз на Волхове. Поедем.
Невероятно, но Садок Елизарович даже и не подумал возмутиться самоуправству странника: с какой это стати тот решает судьбу его пленника? Но когда Бермята уже кинулся исполнять приказ Николая, купец всё же заметил:
— А гы уверен, добрый человек, что этот лиходей и впрямь хочет креститься и в монастырь уйти? И не боишься ли с ним вдвоём в одном челне плыть?
Николай лишь на миг отвёл взгляд, потом вновь поглядел на Садко.
— Что ты! Не хочет он монахом быть и веру нашу принимать не собирается. А норовит только от тебя сбежать, чтоб после в монастырь проникнуть и богатые дары княжеские оттуда украсть. Заодно ещё хочет монаха Константина отыскать и убить. За что, спросишь? Да за то, что тот его богатством несметным соблазнил, а богатство то ему, душегубу, не досталось.
На миг Садко онемел. Потом воскликнул:
— Господи помилуй, Никола! Зачем же ты едешь-то с ним?!
— А затем, — тем же ровным голосом ответил странник, — что замысленного он не исполнит. Обернёт его Господь к себе лицом, и примет грешник крещение. И после того зло уйдёт из его души. Он этого не знает и, скажи я ему, не поверит, только так и будет. Завтра ко всенощной поспеем в монастырь Пресвятой Богородицы, и всё совершится. И Константин, что прежде Калистратом был, станет его крёстным отцом.
— Послушай, Николай, честной странник! — Теперь в голосе купца прозвучала едва ли не мольба. — Не рисковал бы ты так! Может, ты и вправду человек прозорливый, только вдруг да ошибаешься? Встречал я и среди крещёных людей таких, что от зла отвращаться и не думают! Не садись в одну лодку с душегубом! А ну как и с тобой что-то худое случится?!
— Со мной? — Странник засмеялся. — Это невозможно, Садко. Мне уже никто ничего худого сделать не сможет. Что же до Бермяты... Ты прав, не всякий после купели праведен становится, далеко не всякий. Но этот грешник будет обращён. Когда-нибудь ты сам в этом убедишься.
— Тогда хотя бы утра дождись и с нами поезжай. Ради тебя я, так и быть, возьму в ладью разбойника и людям моим не велю его трогать. Всё равно ты ошибаешься: путь ещё далёк, а грести надо против течения. Не поспеете вы к завтрашней всенощной.
— Ещё как поспеем! — Никола уже шёл к берегу, возле которого прорисовался в полутьме узкий чёрный силуэт разбойничьего челна. — Именно нынче и поспеем. Гляди, Волхов вспять потёк!
Садко всмотрелся. Он уже не раз и не два видел это чудо на Волхове, но дивиться ему не переставал. Да, странник оказался прав! Хоть и было темно, но по движению лёгких бликов на воде, по направлению, в котором мимо берега проплыла лохматая ветка и следом за нею — унесённое откуда-то бревно, купец понял: течение реки изменилось, она и в самом деле пошла вспять[20].
— Право, не удивлюсь, если ты скажешь, что сам повернул реку, чтобы она вовремя принесла тебя и злодея к монастырю! — вдруг вырвалось у купца.
И тут же он испугался. Надо же сказать такое! Не в колдовстве же он подозревает этого чудного странника?
— Ты меня с кем-то путаешь, Садко, — подтвердил его испуг Никола. — Не мне повинуются воды и ветры. Прощай же! И помни, что я тебе говорил: не зависти купеческой бойся, не с нею спорь.
Бермята тем временем успел веслом оттолкнуть чёлн от берега, и стало ещё виднее, что Волхов течёт сейчас против своего обычного течения: лодку стало оттаскивать от прибрежной полосы и потянуло в сторону Ильмень-озера.
— Дед, — окликнул разбойник. — Садись же, не медли. Унесёт челночок-то!
— Иду!
Николай в несколько шагов достиг берега, прошагал дальше и, подобрав подол длинной, почти до пят рубахи, шагнул в лодку. И только когда Бермята взмахом весла направил судёнышко на середину реки, Садко вдруг понял, что странник подошёл к челноку, когда тот был от берега уже на порядочном расстоянии. Чтобы в него войти, Николе надо было вступить в воду по колена, а то и глубже. Но молодой купец готов был поклясться, что вода не скрыла его ног и по щиколотку. По сути дела, он просто-напросто прошагал по реке, как посуху...
— Кажется, мне сегодня выпало многовато приключений, — прошептал купец. — Что-то творится с моей головой. Вообще, а может, мне всё это померещилось? И старик, и лиходей наш, не к ночи будь помянут, и его рассказ про клад нибелунгов... Спросить, что ли, дружинничков, кого они здесь, на островке, видали? Тьфу! Ну, это уже и вовсе бред какой-то! Надо бы отдохнуть до утра.
Приняв такое мудрое решение, Садко направился к костру, возле которого ему уже расстелили пару овчинок и кусок старого паруса. Он ни о чём никого не стал спрашивать — просто растянулся на немудрёном ложе и почти сразу крепко заснул.
ЧАСТЬ II НОВГОРОДСКИЙ ПОСАДНИК
Глава 1. Пир у Добрыни
Проходя мимо резных дубовых ворот посадничьего терема, новгородцы не без удивления переглядывались: в кои-то веки с широкого двора доносились весёлые и хмельные голоса, звенели гусли и заливались дудки, а в просветы между тёсаными брёвнами ограды виднелись длинные накрытые столы, вкруг которых уже расселись немало городских бояр и дружинников. К слову, ворота были прикрыты, однако не заперты, что означало не слишком настойчивое, но всё же приглашение: хотите, честной народ, так заходите — места, может, всем за столами и не хватит, но чарку нальют, не обидят, да и чем закусить, найдётся. Некоторые и заходили — грех не воспользоваться таким редким случаем, княжий посадник, что живёт так скромно, не каждый день и далеко не каждый месяц устраивает у себя пиры. Так как же пройти мимо?
Терем новгородского посадника, может, и был в городе самым большим, но только от того, что у того была большая дружина и дружинники жили с ним в одном доме. Слишком неспокойное выдалось время — лучше дружину держать всегда под боком, не то вдруг да не успеешь призвать, когда понадобится?
Посадник Добрыня Малкович приходился родным дядей нынешнему князю Киевскому Владимиру и им же был посажен управлять в Новгороде, на что не жаловался, хотя беспокойный нравом город доставлял ему немало хлопот. Мало того, что город надо было оборонять от воинственных соседей, а подступы к нему всячески укреплять, так ещё и с самими новгородцами хватало головной боли. Бояре новгородские были упрямы и кичливы и поначалу пытались утверждать своё право, не желая безоговорочно повиноваться «рабынину братцу». Но Добрыня и не думал делать вид, будто не слышит их шипения и злых намёков. Он сразу показал, что терпеть этого не будет. Кому пригрозил, на кого наложил дань, большую, чем платили другие, ссылаясь на большее богатство того или иного данника или большие земельные наделы, которые тот успел урвать.
Самых лютых своих ненавистников Добрыня сумел выпроводить из Новгорода и повод для того нашёл легко: почти все недовольные княжьим посадником оказались замешаны в бунте. Причём бунт был не против самого Добрыни, но против греческой веры, пятью годами ранее учреждённой князем Владимиром, то есть получилось, что бунтовщики покушались именно на княжескую власть. Бунтовщики подняли немало горожан, к ним легко и подозрительно быстро примкнула чернь из окрестных сёл. И запылали ярким пламенем терема многих новгородских христиан. Заговорщики едва не сумели поджечь и тринадцатиглавую Софию[21], но там их сумели остановить и не дали совершить задуманное...
Посадник, в недалёком прошлом опытный воевода, подавил бунт жёстко, но не жестоко, лишней крови проливать не стал, однако так или иначе убрал из Новгорода всех зачинщиков и наиболее отчаянных участников разбоя (само собою, тех, кто остался в живых). Остальные сразу поутихли. И шипение по поводу «рабынина братца» умолкло. Тем более что обидеть и уязвить этим Добрыню было невозможно. Смешно ему было стыдиться родства с матерью великого князя Киевского, а кем она была прежде, так кого ж это касается? Сами-то вы, любезные бояре, кто бы были без надёжной княжеской власти и твёрдой руки своего посадника?
Конечно, вспоминать историю появления своего при дворе прежнего князя Святослава Игоревича Добрыня не любил. Были они со старшей сестрой Младой[22] детьми любечского княжьего дружинника Мала. Дружинник отличался нравом крутым и порой буйным, драться любил не только на бранной сече, но и в жизни мирной, притом по любому поводу. Как-то во время княжьего застолья Мал, хватив лишнюю чару хлебного вина[23], сошёлся в споре с другим дружинником, дошло до кулачной схватки, и тяжёлый кулак Мала, угодив в висок противника, отправил того в мир иной.
Князь пришёл в ярость, ибо всё случилось прямо у него под носом, дерущиеся так разошлись, что и княжьего окрика не послушались. И, как на беду, Мал в ту пору оказался совсем без денег — виру[24] платить было нечем. Оставалось либо продавать себя в рабство родственникам убитого (их, как назло, оказалось много, и все голосистые и напористые!), либо как-то откупаться от них. Провинившийся дружинник не нашёл ничего лучше, чем предложить в качестве виры собственную дочь, семнадцатилетнюю красавицу Младу. Обиженные родственники с удовольствием на это согласились. Так старшая сестра Добрыни сделалась невольницей. Вскоре в Любеч наведался с дружиной сам князь Святослав Игоревич. Он приехал за данью, которую надо было выплатить, князь бывал очень крут с теми, кто платить не хотел, это знали уже во всех подвластных ему изначально и во многих завоеванных им землях. Любечский князь стряс княжескую дань со своих бояр, и среди подношений Святославу оказалась красивая молодая рабыня.
Князь Киевский остался доволен. Млада сразу ему приглянулась. Он забрал её с собой в Киев и, чтобы во время его частых военных походов девушка была под надёжным приглядом, подарил невольницу своей матери княгине Ольге.
Что до пятнадцатилетнего Добрыни, то он не захотел после этого оставаться с отцом, уехал из Любеча в Киев и сумел попасть в княжескую дружину. Был парень высок ростом, крепок, неплохо владел оружием и умел ездить верхом, а на то, что у него ещё не пробивается борода, как-то и не обратили внимания. Тем более что многие дружинники в то время, подражая князю, начисто брили бороды[25]. Таким образом, Добрыня остался хотя бы вблизи любимой своей сестрицы да и служил исправно, так что спустя десять лет стал при князе уже воеводой[26].
Княгиня Ольга, так и не уговорившая своевольного сына принять крещение, очень скоро склонила к греческой вере и полюбившуюся ей Младу, и её брата. Они охотно сделались христианами. Поэтому, когда князь Владимир Святославович решился креститься сам и крестить весь подвластный ему народ русичей, Добрыня стал ему в том преданным помощником.
К тому времени, к концу десятого столетия по Рождеству Христову, на Руси было уже немало крещёных людей, во многих местах давно жили прочные христианские общины, были даже монастыри, так что задуманное князем дело оказалось хотя и трудным, но небезнадёжным[27]. К тому же и самый обряд крещения — общее погружение в воду с совершением красивого, необычайного греческого чина — многим понравился. Это чем-то напоминало давнишнюю традицию праздника Купалы[28], всеми любимого, не вызвавшего у народа никакого протеста.
Но вот когда рухнули, покатились с холма и упали в быстрые воды Днепра, Волхова, других русских рек грозные изображения Перуна, Даждьбога, Велеса, о, вот тогда ропот прокатился по городам и сёлам Руси. Волхвы-колдуны, что служили прежним богам, разъярились и грозили самыми страшными карами отступнику-князю и всем, кто заодно с ним принял новую веру. Они баламутили народ тут и там, поднимали восстания, запугивали, а то и убивали крещёных. Совершилось и несколько убийств греческих священников, прибывших на Русь по приглашению великого князя. Бунтовщики надеялись, что остальные греки струсят и сами уедут прочь из мятежной страны. Не тут-то было! Христианам было не привыкать к гонениям и опасностям. Хотя много прошло уж времени с тех пор, как эту веру повсеместно гнали и уничтожали, хотя и воцарилась она в Риме и Царьграде[29], прижилась и во многих западных землях, но было и немало мест, где христианам приходилось трудно. Поэтому священники, прибывшие в новокрещёную страну, были готовы к службе нелёгкой, а если понадобится, и к жестокой кончине. Никто не уехал.
В Новгороде бунт произошёл самый яростный, недаром же новгородцы всегда отличались своеволием и непокорством. Но Добрыне удалось с этим справиться, он не подвёл доверявшего ему Владимира, который хоть и был ему племянником, но дружил с ним, невзирая на разницу в возрасте (Добрыня был семнадцатью годами старше).
Среди всех этих бесконечных испытаний и повседневных хлопот правителя Добрыня Малкович редко мог себе позволить устроить настоящий пир. А ведь прежде очень их любил! Святослав, хоть и не слезал с коня и провоевал большую часть своей недлинной жизни[30], но, когда выдавалась любая возможность, пировал с дружинушкой буйно и разгульно. До своего обращения в Христову веру так же поступал и Владимир Святославович. Да и став христианином, он не чуждался застольного веселья, куда более пристойного, нежели раньше, но всё же радостного и широкого.
А вот у Добрыни почти не получалось разрешать себе пирушки.
Но на этот раз у него был повод. Он только что вернулся из достаточно тяжёлого и кровавого похода — пришлось в который уже раз дать отпор обнаглевшим печенегам. И на этот раз — Добрыня был в этом уверен — докучные недруги уймутся надолго: они получили хороший урок, будут помнить новгородцев! Удалось не только разбить и погнать от пределов своих вотчин печенежскую рать, но и захватить ханское стойбище, которое враги поспешно покинули, но добро с собой взять не успели. Так что добыча оказалась хороша: несколько десятков коней (недруги понесли сильный урон, и не всем понадобились сёдла для бегства), брошенные луки и копья, доспехи и дорогие наряды, меховые шапки из лисы и бобра, чеканная серебряная посуда, украшения — всего немало. С такой-то прибыли ну как было не устроить праздник на своём дворе? А что ворота не нараспашку, так это намёк: кто меня по-прежнему не жалует, того и я к себе не зову, а кому я люб, так милости просим — створки дубовые чуть приоткрыты, и шире открыть их труда не составит.
Дубовые столы только что не прогибались под блюдами, кувшинами, чашами, горшками, под налитыми до краёв чарами — у посадника и знати серебряными, у дружинников и прочего люда — костяными да деревянными. Для пира подали нескольких зажаренных на вертеле кабанчиков, возложенных на громадные подносы, с которых обильно тёк и капал ароматный жирок, перепёлок и уток, которых этим утром настреляли в ближней роще и на берегу Ильменя, печёную стерлядь и копчёных лещей, крошившуюся в пальцах пареную репу, варёные бобы и нарезанный ломтями лук, мочёные, прошлого урожая яблоки и вишню, едва успевшую поспеть этим летом. Хлеб подали на стол горячим, только из печи, так что от румяных караваев шёл такой же душистый пар, как от блюд и подносов с дичью.
Может, до изысканного разнообразия княжьих пиров Добрынин пир и не дотягивал, но стол был достаточно обилен, а вся еда отменно вкусна.
Дружинники уже выпили за здравие посадника, а сам он поднял чару за их воинское искусство и отвагу. Кроме хлебного вина, наливали и заморские красные вина, которые не были так крепки, но, смешавшись с хлебным зельем, лихо ударяли в голову.
Добрыня сидел во главе стола, облачённый в красную, с широкими рукавами рубаху, красиво вышитую по вороту. Было жарко, и посадник давно скинул кафтан и шапку. В то лето ему сравнялось пятьдесят два года. Он был по-прежнему могуч, а постоянные боевые схватки не давали ему огрузнеть. Высокий, широкий в плечах, Добрыня казался моложе своих лет, разве что обильная седина, запудрившая его тёмно-русые, по-юношески густые волосы выдавала его возраст. Он подстригал свои кудри коротко, как и бороду, длиннее они вырастали лишь за время долгих военных походов, когда бывало не до ножниц. Лицом посадник походил на свою старшую сестру, то есть тоже красив, но если красота Малуши была тонка и нежна, то лицо её брата отличалось суровостью, которую подчёркивали два небольших шрама: один — расчертивший слева лоб и перечеркнувший бровь, другой — прошедший от правого уха до самой бороды.
На редких в последние годы пирах Добрыня пил много, но и ел немало, а потому долго не хмелел, если вообще позволял себе захмелеть: привычка постоянно ожидать опасность заставляла его даже в часы отдыха следить за собою и не допускать никакой слабости.
Впрочем, внешне он не выказывал ни малейшего напряжения: сидел, безмятежно развалившись в резном кресле, покрытом медвежьей шкурой, с благодушной улыбкой слушал бренчание гуслей, жалобные песни дудок да залихватские песенки колобродивших промеж столов скоморохов. Покуда хозяин и гости были ещё трезвы, хитрецы-скоморохи пели всякую невинную ерунду: про девиц и молодцев, про весёлых охотничков, ну и в таком же духе. Ничего, как только выпивка станет туманить всем разум, эти ребятишки обнаглеют — начнутся шутки, от которых, бывает, не то что девица (за столом девиц-то с бабами и нету, так оно спокойнее), иной парень и то краской зальётся. Ну, а после жди и вовсе острого угощения: запоют лихие кривляки, скажем, про быка, что задумал дуб да ясень опрокинуть, но только лоб о них разбил, либо про красных петушков, коих один сосед другому подпустил, и те ему всё зерно в амбаре поклевали. Вроде и не придерёшься ни к чему: ну, бык, ну, дубы с ясенями, ну, петухи зерно клюют. Только все понимают, о чём поют, тряся бубнами да похохатывая, бродячие потешники. Дескать, зря князь взялся идолов крушить, не справиться ему с волхвами да со старыми богами, а соседям, что греческую веру приняли, можно и красных петухов в дома запустить... уж запускали — чуть полгорода огнём не спалили.
Можно, конечно, взять да выпороть наглецов, чтоб научились языки за зубами держать, иные удельные князья, воеводы, посадники так и поступают. Но Добрыне было противно воевать с нарядившимися в цветные тряпки деревенскими дураками. Пускай воображают, что их кривляния — это глас народный, что люди от их песенок умнеют, больше понимают. Сами-то они хотя бы что-то поняли? А то ведь только болтают да баламутят народ.
Но в этот раз, прислушиваясь к песням скоморохов, посадник пока что ничего похабного или глумливого не слышал. Поумнели, что ли? Или поняли, что здесь им за похабство мало заплатят, а то и не заплатят вовсе? Ну, в таком случае, эти малость посмекалистее прочих. Или всё проще — ещё не разошлись. Надеются, что парочку полугривен[31] им кинут, а там можно дать себе волю — если кому-то будет любо, отсыплют ещё денежек, ну а прогонят, так прогонят, к этому они привыкли.
И то сказать, чем веселей становился пир, тем меньше пирующие слушали, что там вопят скоморохи. Не до них!
Глава 2. Купеческий спор
Верные Добрынины дружиннички расходились всё больше, опустевшие чары наполнялись всё скорее, а блюда и подносы на столе понемногу пустели. Впрочем, заметив оскудение, холопы живо убирали полегчавшую посуду и приносили новые порции, окутанные таким же ароматным паром. Особенно зорко следили за полнотою стола те, кому было поручено подносить пирующим вино. Не дай Бог, кто-то потянется за кувшином и обнаружит, что тот пуст, и рядом не найдётся полного. Вот тут жди доброй хозяйской взбучки!
Среди шума и музыки на посадничий двор зашли несколько человек местных купцов.
Опоздали они не потому, что не были званы: с утра ещё посадничий дьяк побывал на Торговой стороне[32] и передал господам честным купцам — посадник, мол, затевает пир и всех уважаемых торговых людей зовёт с ним повеселиться. Купцов в Новгороде было немало, но Добрыня ничуть не боялся, что из-за них места за столами не хватит. Во-первых, спесивые купцы наверняка опоздают, придут всех позже, чтобы показать: не шибко-то и рвались, но раз уж позвали... Во-вторых, далеко не все явятся. Не придут те, у кого перед другими купцами долги: одолжившие не упустят случая, пожалуются посаднику, а уж тот заставит отдать, что должны. Не придут и кто победнее: толстосумы, захмелев, непременно начнут их задевать, а то и просто унижать. На торжище можно отмахнуться или отшутиться: сегодня ты богаче, а завтра, может, и я, но чтоб за праздничным столом позорили, кому охота? И, уж точно, не явятся замеченные либо заподозренные в сговоре с недавними бунтовщиками. Во время бунта против греческой веры купцы за оружие не брались, хватило ума, но оружием и деньгами иные из них помогали недовольным, и теперь они отлично знали, что Добрыне известны их имена. А не трогают их оттого, что есть у посадника правило: не пойман — не вор, но, кто на заметку взят, тому надо быть тише воды, ниже травы и лишний раз грозному княжьему дяде на глаза не попадаться.
Пришли на пир из всего купечества человек десять, меньше трети тех, кто нынче оставался в городе, около половины купцов были в торговых разъездах. Гости оказались, как и полагал Добрыня, из самых богатых: Емельян Велигорыч по прозвищу «злата мошна», статный, красиво седеющий мужчина лет сорока пяти, Кукша Севастьяныч, ему уж за шестьдесят, но ловок да боек, как молодой, а уж удачлив за десятерых, чернявый, моложавый Косьма — полна сума (только так его и звали, и отчество-то немногие помнили), Антипа Никанорыч, из признанных богатеев самый молодой, ещё и до сорока далеко, а деньгами уступит, пожалуй, одному Емельяну. Этот Антипа был крещён ещё до объявленного князем общего крещения, и за то иные из купцов сильно его не любили, что совершенно не огорчало и не смущало красавца богатыря Антипу. Остальных Добрыня тоже, разумеется, знал, но не на каждого же обращать внимание. Много их, купцов-молодцов, только и следи, чтоб князя не обманывали да дань в казну исправно платили.
— Будьте здравы, люди честные, торговые! — приветствовал вновь пришедших посадник, чуть привстав из-за стола и с трудом удерживая усмешку: все разгорячённые вином застольники уже успели поскидывать кафтаны, иные и рубашки сняли, подставляя обнажённые спины летнему солнцу и ласковому ветерку с реки. А купцы заявились, как и обычно ходили: в богатых шубах нараспашку, в блистающих дорогими мехами шапках. Один Антипа Никанорыч был в отороченном соболем кафтане без рукавов и с непокрытой головой. Небось его и за это не любят: все, как все, а он вот один такой. Не хочет преть, как капуста в кадке под крышкой, и всё тут! — Садитесь, добрые купцы, окажите уважение, — продолжал Добрыня. — А вы, гости любезные, да и вы, братцы-дружинники, потеснитесь-ка за столами, надобно опоздавшим место дать. Эй, холопы! Налейте купцам по первой чаре, чтоб веселей глядели! Хотя и так вроде не понуры.
— Здрав буде, господин посадник! — Емельян Велигорович, не садясь, высоко поднял полную до краёв чару. — Благодарствуй за щедрость. И прости, что позже других заявились. Вишь, глядим мы, и точно, не понуро, а весело: делили только что прибыль нежданную да немалую.
Добрыня не без удивления поглядел на купца. О том, что прибыли у Велигорыча немалые, посадник хорошо знал. Неожиданные? Странно: обычно эти ребята знают, когда, где и сколько сорвут. Но, возможно, сорвали много больше, чем ожидали. Бывает. А вот чтоб делиться... Как-то не верится!
Вероятно, по выражению лица Добрыни богатей угадал его мысли. И, опрокинув чару, да так лихо, что часть хлебного вина пошла на угощение его бороды, вновь заговорил:
— Спросишь, Добрыня свет Малкович, что ж за прибыль такая, что её делить пришлось? Да вот побились мы об заклад — я, Косьма и Кукша — с одним заезжим болтуном. Хвастал он, будто может более всей нашей казны новгородской купеческой за едино плавание привезти. И поплыл ведь, дурья его башка! А весь товар, что сюда, в Новгород, привёз, нам в залог оставил.
— Постой, Емельян, — прервал пространную речь купца новгородский посадник. — Так этот твой болтун тоже, выходит, купец?
Велигорыч скривился в пренебрежительной ухмылке и, отламывая половинку от жареной утки, чтоб заесть огненное питьё, произнёс:
— Может, он и купец, да я так скажу: купчишка. Без строгого расчёту торгует, а значит, проку от него мало. Кто ж станет своё нажитое на спор ставить? Мы-то, трое, знали, что выиграем. Да и поставили, само собой, не на всё, что имели. А он?.. Эх, хороша уточка! Хвалился, что в семь дней сплавает да богатств привезёт, сколь у нас, у троих, то бишь у всех троих, нету. Уплыл болтун пустоголовый, на месяц пропал, а ныне вернулся. И не то что ни с чем, а считай, гол как сокол! Ладью и ту потерял, и от дружины почти никого не осталось. Да ещё врать принялся, рассказывать, будто его Водяной в плену держал, а после того он, мол, в бурю угодил, да уж не в первую!
Добрыня слушал и всё сильнее хмурился. Он хорошо знал Емельяна и знал, что тот не очень любит долгие рассказы. Раз так подробно расписывает, стало быть, смакует, удовольствие получает. Чем же так обозлил толстосума заезжий торговец, раз Велигорыч только что не мурлычет от радости, расписывая чужие беды и несчастья?
— Погоди! — Во второй раз подряд посадник остановил купеческое красноречие. (От кого другого Емельян этого нипочём бы не потерпел, а уж на Добрыню обидеться не посмеет!) — Сказал бы хоть, что за приезжий... Из арабов или, может, из греков? Кого там нынче у вас на торжище больше?[33]
— Какое! — Вместо поглощавшего утку Велигорыча решился вмешаться Косьма — полна сума. — Наш он. Русич. С Нево-озера. Не в первый раз сюда приплывал. И мошной хвалиться тоже не в первый раз затеял. Да вот наконец и поплатился! Нам троим его добро досталось, а добра привезено было немало.
— Вон оно как, — совсем насупился Добрыня. — Ласковы вы, как я погляжу, со своим же братом, купцом... Сами говорите — всего, что имел, человек лишился, а вы его до конца ободрали, что называется, до нитки. Молодцы!
— А ему надо было хорохориться, в спор вступать, об заклад с нами биться? — резво отозвался со своего места Кукша Севастьянович, и его седая, достаточно жидкая бородёнка воинственно затряслась. — Ишь ты, выискался! Дескать, он самый удачливый! Ан вот и вся его удача жиже киселя оказалась... Одно слово, поделом.
Всё время, пока старшие купцы наперебой бранили проигравшего, Антипа Никанорыч не отрывался от своей чары и даже не поднимал от неё глаз. Однако же, когда Кукша умолк, Антипа вдруг подал голос, а он у него был такой сильный и звучный, что гомон за столом вдруг разом приутих:
— Что ж так злы-то вы все, братцы-купцы? — Опустевшая чаша гулко стукнула по столу, и ближайший из холопов тотчас метнулся к кувшину, спеша её вновь наполнить. — Что ж вам так досадно, когда кто-то не бедней вас живёт да не хуже вашего торгует? Сколько уж лет мы знаем этого торговца из града Ладоги?[34] И что? Разве он обманщик? Разве бывал нечестен с покупателями али, может, с нами, здешним купечеством? Что прихвастнуть любит, так то потому, как молод — всех нас моложе. Или у нас словцо горделивое никогда не вырвется, или, может, из нас никто перед другими мошной потрясти не любил? Ну, сглупил парень, взял на себя больше, чем по силам оказалось...
Беда с ним приключилась. А вы вроде как и рады. Где ж ваша совесть купеческая?
От такой нежданной оплеухи купцы опешили. Емельян Велигорович стал лицом едва ли не краснее бархата, из которого была сшита его подбитая куницей шуба. Хотел даже вскочить из-за стола, но с трудом удержался. Однако взгляд, который он отвесил Антипе, был просто испепеляющий. Правда, Антипа от него ничуть не смутился. Он невозмутимо отхлебнул из наполнившейся чары и ловко отсёк ножом ломтик лежащего на ближайшем блюде окорока.
— Ишь ты! — выдохнул Емельян. — Защитник сыскался у нашего болтуна. Немудрено: ты у нас, Никанорыч, христианин, как и голодранец этот ладожский. Вы ж ведь добрые. Никому зла не учините! По-вашему, и заклад взять от спора, честно выигранного, небось дурно, не по-божески! А коли так, поди да своё добро отдай хвастуну вместо того, что он нам проиграл!
Антипа готов был ответить на откровенно злой выпад, но тут вновь заговорил посадник.
— Это что ж за речи я слышу?! — воскликнул он. — Ты, Емельянушка, уж не попрекаешь ли своего товарища в том, что тот нашу веру принял? Да и, помнится мне, ты сам ведь у нас крещёный. А? Или я четыре года тому назад слеп был, не тебя видал в рубашке по пояс в Волхове? Говорят, есть у нас такие злыдни, что напоказ крестятся, а сами ж потом супротив Христовой веры выступают да разбои чинят... Но ты же не из таких? Не твои холопы в прошлое лето дома в городе поджигали, храм сжечь пытались?[35] Не ты голытьбу поднимал, супротив князя выступить звал? Ответь, чтоб мне не сомневаться.
Емельян Велигорович не был труслив, но, услышав грозную речь посадника, увидав заливший его щёки гневный румянец, сразу смешался. Невольно вырвавшиеся слова могли дорого ему обойтись — он слишком хорошо знал Добрыню. И купец поспешно возразил:
— Что ты, что ты, Добрыня свет Малкович! Да как ты мог помыслить? Я только подумал, что вот Антипа Никанорыч не о том мыслит, не так доброту христианскую понимает. Бог своим апостолам наказывал чужого не брать, в заповедях учил, что красть греховно. А что долг с должника взыскать нельзя, такого сказано не было!
— Вот как! — Добрыня рассмеялся, однако его глаза при этом не смеялись. — Ты, честной купец, стало быть, как иудей, законы по буковке читаешь... Не прописано, так и закона нет! А про любовь к ближнему слыхал ли? Думал ли, что она означает-то?
— Неужто означает, что свое взять нельзя? — решился проскрипеть Косьма — полна сума.
Лицо Добрыни сделалось ещё сумрачнее, однако он не стал продолжать спор.
— Ладно! — Посадник отпил из чары большой глоток и потянулся к блюду с перепёлками. — Не стану я ваши дрязги купеческие разбирать. Но про веру христианскую лишнего болтать не советую. Не на пользу пойдёт.
После этих слов купцы было поутихли. Гнев Добрыни многим доводилось видеть, и никому не хотелось испытывать его на себе.
Однако хлебное вино вскоре сделало своё дело, и толстосумы расшумелись не хуже остальных гостей. Теперь они спорили между собой о каких-то своих торговых делах, и, кажется, Косьма с Кукшей тоже собирались из-за чего-то побиться об заклад, а более рассудительный и явно менее всех захмелевший Антипа пытался их урезонить. Емельян Велигорович тоже вроде бы унимал спор, но на самом деле явно ещё сильнее раззадоривал спорящих.
Между тем остальные пирующие уже почти не обращали на купцов внимания. Поухмылявшись в усы при виде их долгополых шуб и меховых шапок, дружинники и прочие гости почти забыли об их присутствии. Всем было уже изрядно весело, все шумели, пили за здравие: Новограда, его посадника, самого великого князя и просто друг за друга.
Глава 3. Песня гусляра
Добрыня среди всего этого уже достаточно буйного празднования оставался почти совершенно трезвым, хотя пил вроде бы не меньше остальных да и веселился от всей души. Правда, когда его молодцы пошли лихо выплясывать под дудку и хотели его тоже вытащить из-за стола, посадник добродушно отмахнулся: «Ваше дело молодое, а мне козлом скакать не к лицу!» Но, глядя на пляски, он громко хлопал в ладоши, посмеивался, любуясь тем, какие лихие коленца выкидывают дружинники, и, казалось, позабыл про спор с купцами.
К полным чаркам потихоньку начали прикладываться музыканты со скоморохами — отчего ж не приложиться, коль скоро гости успели захмелеть и не заметят, если кто вдруг сфальшивит. Только холопы-прислужники не решались на такое самовольство, но у них было обычное в таких случаях утешение: выпивки наверняка останется после пира немало, да и съедят пирующие не всё дочиста, а остатки, не зря же говорят, сладки.
Посадник, правда, заметил, что трое гусляров повторяют один и тот же наигрыш уж в третий, если не в четвёртый раз, и поморщился. Ленятся! И что ж, наказать их? Прогнать, не дав ни полгривны? А кого звать взамен? Много чем славен Новгород, да на гусельках лихо перебирают немногие... Уж на что просты кленовые гусли, но не всякому даётся уговорить их петь по-настоящему.
— Что-то, господин честной посадник, музыканты у тебя одно и то ж повторять затеяли! — вдруг ответил мыслям Добрыни молодой, не насмешливый, но словно бы удивлённый голос. — Негоже на таком пиру так неказисто играть. Гости заскучают.
Добрыня поднял голову и увидел того, кто так дерзко осмелился окликнуть его с дальнего конца одного из столов. Молодец в синей, изрядно помятой рубахе и откровенно потрёпанном камзоле стоял за спиной у двоих дружинников, задремавших над своими чарками и давно уже искупавших в хлебном вине кудри и бороды. Вероятно, этот нежданный гость только что пришёл и пока не увидал нигде свободного места. А может, опасался, что его в таком убогом наряде погонят с посадничьего двора?
— А сам ты что же, лучше сыграть можешь? — с усмешкой спросил посадник.
Он успел не только рассмотреть потрёпанную одежду вновь пришедшего, но и приметить висевшие на его шее гусли. И вот они были очень хороши! Не новенькие, но на диво ладные, изгиб — будто шея лебединая, вкруг отверстия рисунок, выложенный перламутром и агатом. А струны так и сияли нежным серебром. Недешёвые и непростые гусли. И если гусляр, определённо терпевший сейчас нужду, не продал их, значит, они ему по-настоящему дороги.
— Я, уж точно, сыграю лучше твоих музыкантов, Добрыня свет Малкович! — ответил молодой человек на вопрос посадника. — И сыграю, и, если велишь, спою так, что тебе и твоим честным гостям понравится!
Те из пирующих, кто ещё не угощал вином свои кудри и не уткнулся носом в закуски, разом посмотрели на нового гостя, зашушукались между собой. А трое купцов — Емельян Велигорыч, Кукша Севастьянович и Косьма — полна сума — тотчас принялись вопить:
— Ого-го, кто ж к нам на пир пожаловал! Вот не ждали, не гадали!
— Слышь-ко, господин посадник! Так это ж наш купчишка с Нево-озера и есть! Не зря был помянут!
— Вот ведь наглец! Не побоялся к честным людям на пир заявиться!
Последнее восклицание вырвалось у Кукши, который от ярости так затряс седой бородёнкой, что при всей её жидкости сумел смести со стола свою опустевшую чару.
Но вопли купцов, казалось, не смутили пришедшего. Он лишь немного обернулся в их сторону.
— Это чего же мне бояться, господа купцы новгородские? — отозвался он. — Не того ли, что я вам спор проиграл? Так ведь я за то сполна с вами и расквитался. А что на сей пир зван не был, так и вас, надо думать, не под белы руки привели, сами пришли. Прикажет посадник-воевода, я уйду — непрошеным да нежеланным не останусь. Но если Добрыня Малкович и впрямь хочет хорошей игры на гуслях и славной песни, то он меня не прогонит.
Купцы, ошеломлённые нахальством ладожского гостя, не нашли умных слов в ответ и лишь загалдели, кто во что горазд.
— Тихо! — Добрыня хлопнул ладонью по столу, и тотчас все умолкли. — Не на торговой, чай, стороне, нечего и горлопанить попусту. Кто ж ты будешь, гость честной? Как тебя звать-величать?
— Садоком крестили меня родители, — почтительно поклонившись посаднику и как бы невзначай подходя к нему ближе, ответил молодой человек. — Родом я из града Ладоги. Купцом был, да вот приключилась со мной беда — весь товар у меня пропал, а что того хуже, многие из моих людей сгинули по моей же вине! Так что на пропитание заработать могу сейчас только вот гуслями кленовыми да песнями. Это я умею не хуже, чем товар добывать да продавать. Не прогонишь — сам убедишься.
— Гнать гостей со двора не в моих правилах! — Посадник неласково покосился на купцов, и те окончательно умолкли. — А сыграешь да споёшь всем нам на радость — награжу честь по чести.
— П-посадник наш п-по-царски платит, — отрывая голову от стола, пробасил кто-то из пирующих.
— Ну, по-царски не смогу! — усмехнулся Добрыня. — Не царь я и не князь, однако же князю родня, а значит, слов пустых говорить не стану. Сыграй, молодец, спой, а мы послушаем.
Садко улыбнулся. Поправил на шее гусельный ремешок так, чтоб гусли оказались струнами вверх. Потом осторожно, будто боясь сделать им больно, тронул пальцами струны. Они отозвались тонким возгласом, как перелётная птица из далёкой выси, но тотчас их голос окреп, они загудели, наполняясь силой, и переливная мелодия, одновременно ритмичная и распевная, огласила весь широкий посадничий двор.
Ой, ты гой еси, весь народ честной! Ой, ты гой еси, славен Новоград! Ой, ты гой еси, и посадник государь, Новоградский Добрыня свет Малкович! Не спою я вам о лихой старине, Не припомню сказания давнего, Не наскучу вам всякими сказками О красавицах дивных да чудищах. А спою о том, что я сам видал, О недавнем моём долгом странствии, О волшебной спою золотой ладье, Золотой ладье заколдованной!Едва Садко заиграл и начал петь, как за столом и на дворе сделалось совсем тихо. Сперва всех поразил удивительный голос кленовых гуслей с серебряными струнами, затем ещё сильнее собравшиеся были очарованы голосом певца.
Голос у Садко был не высок и не низок, он не разливался соловьём и не гудел, точно набатный колокол. Но в нём было ещё больше силы и красоты, чем в гусельных струнах. Густобархатный, мягкий и одновременно могучий, он ширился и рос, захватывая всех, даже совсем захмелевших гостей, своей красотой, непостижимой властностью и в то же самое время — той поразительной безответной грустью, что так поражает в русских песнях всех без исключения иноземцев. Кто смог бы выразить эту грусть какими угодно словами? Кто сумел бы пересказать, что именно в ней сокрыто? Та ли самая неведомая тайна, что веками влечёт к Руси всех, умеющих думать и чувствовать, та ли тайна, что так пугает всех, пытающихся к ней прикоснуться?
Ой, широк простор Нево-озера, Ой, глубины его неведомы. А шторма, что гуляют по озеру, Ой, сильны, ой, грозны да безжалостны! Но плывёт ладья быстроходная, Быстрокрылая ладейка купецкая, По широку плывёт Нево-озеру, За богатством плывёт зачарованным! Подгоняют ветра её быстрый бег, Раздувают ветра парус солнечный, Вкруг ладьи встают волны серые, Будто горы живые колышутся...Садко пел, и Добрыне, а с ним, наверное, многим, кто слушал гусляра, стало казаться, будто они видят то, о чём он поёт: подёрнутую седой пеной громаду безбрежного северного озера, стройную насадную ладью под ярким парусом, которую жадные волны то роняют в тёмные провалы, словно желая разом поглотить, то возносят на хрупкие белые гребни.
Посередь того озера буйного Из воды встают скалы грозные, А средь скал тех тайна упрятана, Тайна древняя, тайна страшная... Ой, постой, купец, добрый молодец! Ой, постой, не спеши, поверни ладью! На погибель плывёшь, молодчинушка! А с тобой и твоя воя дружинушка... Как отыщешь в скалах глубокий грот, Как увидишь в нём золоту ладью, Ой, постой, не спеши, лучше вспять плыви! Это злато старинное проклято!Посадник понял, что слушает певца с замирающим сердцем, и сам удивился: уж чего-чего, а всяких старинных преданий, сказок, историй о всевозможных колдовских сокровищах, зачарованных кладах он в своё время узнал предостаточно. Не удивить его было всем этим и уж никак не напугать. Но история, определённо происшедшая с самим ладожским купцом (посадник бы ещё сомневался, но ведь про то же говорили и новгородские толстосумы!), эта странная история, так умело положенная на музыку и так складно сложившаяся в песню, отчего-то вдруг поразила и взбудоражила Добрыню. Кажется, кто-то когда-то и ему рассказывал о зачарованном кладе, будто бы скрытом в водах Нево-озера, кладе, на который наложено проклятие, а потому убивающем всякого, кто пытается им овладеть.
«Неужто он всё это с ходу слагает?» — подумал Добрыня и понял, что готов позавидовать купцу Садко... В юности он сам, бывало, пытался придумывать песни, только из этого мало что выходило. Вот сестрица его Малуша, та была в этом мастерица. Возможно, суровый князь Святослав полюбил её именно за это: за нежный, проникновенно светлый голос и за умение сочинять песни. Тоже вот так, как этот молодец, сразу, не приготовляясь заранее и ничего не записывая. Да она и не могла записывать — грамоте её уж потом, много позже обучила княгиня Ольга.
Так или иначе, а песня Садко всё сильнее увлекала посадника, он ловил себя на том, что с волнением ждёт, чем же всё закончится, и сам себе удивлялся, ведь понятно же, чем: и предшествовавший всему кичливый рассказ трёх купцов-богатеев да и вид злосчастного ладожского странника яснее ясного об этом говорили.
Но Добрыня со всё нарастающим вниманием слушал песню, всё пристальнее смотрел на певца и отчётливо видел: тот действительно слагает песню прямо сейчас, её словами рассказывая о том, что с ним приключилось. И, рассказывая, вновь зримо, осязаемо переживает это.
Глава 4. Волны и скалы
Много раз казалось отважному купцу, его гребцам-дружинникам и даже видавшему виды кормчему Луке, что на этот раз им не одолеть взбаламученную, словно разъярившуюся от их дерзости стихию. Нево-озеро редко бывало смирным и покладистым, но и таким, как в этот раз, каждому из них редко доводилось его видеть.
Небо над вздыбленными, свинцовыми волнами было того же цвета и висело так низко, будто набрякшие ливнем тучи стремились слиться с разбушевавшейся водной массой. Гром рокотал где-то у не различимого во мгле горизонта, но затем его раскаты стали приближаться, а зловещие зигзаги молний полосовали тучи прямо над головами людей. Вот уже сперва одна, затем другая молния вонзились прямо в гребень волны. Первая ещё далеко, но вторая — почти у самого борта ладьи. Садко против воли прирос взглядом к ломаной огненной черте, озарившей всё вокруг неестественным оранжевым светом. Вода, пронзённая молнией, тоже как будто вспыхнула, загорелась, и нагнувшемуся над высоким бортом купцу показалось, что он видит пучину до бесконечно далёкого дна. В этой бездне двигались и метались странные тёмные тени, тут и там багрово мерцали громадные неподвижные глаза подводных чудищ, длинные змеи извивались, тянулись к поверхности, словно стремились ухватить ладью и утянуть её вниз.
Вдруг несколько серебристых рыбьих тел приблизились, почти коснулись ладьи. Их головы поднялись из густой водяной пены, над головами мелькнули мраморно-бледные руки. И только тогда Садко понял: никакие это не рыбы! Он впервые в жизни увидел русалок (а кто же ещё это мог быть?!) и, хотя рассмотреть их не успел — молния погасла, и кругом стало непроницаемо темно, — всё равно ощутил, как холодный, пронизывающий трепет поднимается в его душе.
— Господи Иисусе! — донёсся с кормы возглас кормчего. — Что ж это?! Кто?! Да никак нечисть морская?!
— Озёрная, Лука, озёрная! — Купец и сам поразился, что может ответить таким бодрым, шутливым тоном, хотя душа его леденеет от страха. — По озеру ж плывём, так что и нечисть тут, уж точно, не морская... Руль крепче держи — мотает так, что, гляди, гребцы за борт попадают!
Ладью и впрямь продолжало кидать и мотать по волнам, и она то зарывалась носом в рваные лохмотья пены, то вскидывалась на очередной гребень, чтобы затем ухнуть с него в глубокий провал.
Молнии продолжали временами вспыхивать, но уже где-то далеко, и гром отставал от них — грохотал спустя несколько мгновений после вспышки, став тише и слабее. Наконец гроза совсем прекратилась. Только шторм продолжал бушевать, вой ветра и густое дыхание громадных волн стали лишь слышнее, когда утих грохот. И всё это происходило теперь в кромешном мраке, только белизна пены проблескивала в черноте, давая возможность понять, что вода по-прежнему внизу, а невидимое чёрное небо — сверху.
Гребцы и кормчий приумолкли. Перекричать рёв бури было нелегко, но никому и не хотелось возвышать голос. Всем сделалось холодно: промокшая одежда липла к коже, яростные порывы ветра доставали до костей.
Ни Садко, ни Лука при всём его опыте уже не смели и гадать, куда унесла их буря, далеко ли они от загадочной островной цепи, куда изначально держали путь, далёк ли тот или другой берег огромного, будто море, бурного озера.
Рассвет замерцал нежданно, как нежданно окончилась гроза. Сквозь плотные тучи проникли тусклые серые лучи, и свинцовые блики закачались на волнах.
Шторм постепенно слабел, и гребцам уже не нужно было до боли напрягать мускулы, чтобы удерживать судно носом к волне. Многие от усталости и не могли по-настоящему грести, только отличная выучка удерживала их от того, чтобы и вовсе побросать вёсла. Выучка и страх — люди отлично понимали, что гибель была рядом: ослабей они чуть раньше, и Нево-озеро легко поглотило бы свою добычу.
— Ну, и где ж мы теперь-то, Садко Елизарович? — решился спросить один из дружинников.
— Что ж ты думаешь, будто я вижу больше, чем ты? — отозвался молодой купец. — Звёзд было не видно, а сейчас вряд ли кто солнце разглядит. Может, после покажется, тогда и сообразим, куда заплыли и как выбираться станем... Стих бы ветер, чтоб парус расправить!
Цветное полотнище прямоугольного паруса, которое несколько часов назад гребцы с великим трудом подтянули к перекладине, сейчас обвисало на ней мокрыми комьями. На дне ладьи плескалась вода. Её во всё время шторма вычерпывали кожаными ведёрками четверо не занятых на вёслах дружинников, но каждая налетавшая на судно волна этой воды добавляла. Сейчас можно было уже не беспокоиться, что ладья потонет, но черпальщики продолжали своё дело, хотя бы для того, чтобы внутри стало суше — ноги у гребцов закоченели всего сильнее.
— Гляди-ка, Садко! — воскликнул вдруг Лука. — Может, у меня уж в глазах пятна тёмные? Или вроде как земля впереди?
Все разом обернулись туда, куда указал вытянутой рукой кормчий, и у многих вырвались радостные возгласы. И в самом деле, недавний шторм был страшен даже для таких опытных мореплавателей, и им было сейчас всё равно, что за берег замаячил в едва поредевшем сумраке. Какая земля? Чья? Не всё ли равно! Лишь бы куда-то пристать, отдохнуть от сумасшедшей качки, подправить насадку бортов, а если удастся, то и подсмолить борта, высушить парус. И как было бы замечательно, если б на этом берегу рос лес, чтоб развести несколько костров, согреться возле них, приготовить еду и поспать!
А тёмные очертания высоких скал, к которым двигалась ладья, делались всё отчётливее и яснее.
— Пристанем ли? — робко прошептал кто-то из гребцов. — Вон как волны-то плещутся! Гляди, Лука Тимофеевич, ещё раздолбает нас об эти каменюги! Вроде бы мы здесь не были никогда...
— Не бойсь! — уже куда увереннее отозвался кормчий. — Берег незнакомый, что верно, то верно. Но причалить есть, куда. Вон за выступом справа заводь виднеется, по волнам вижу: глубоко там, днище задеть не должны. И глядите, братцы, по скалам кусты да деревца ползут. Будет, с чего огонь развести.
— И рыбы б наловить, — мечтательно заметил молодой гребец.
— А и ловить не понадобится! — усмехнулся Садко, тоже изрядно ободрившийся при виде близкого берега. — В такой-то штормину на камни не могло не выкинуть изрядно тварей морских. Соберём да настряпаем. Не зря ж нас Нево-озеро так мотало — должно и наградить за это.
— Верно говоришь, — проговорил почему-то со вздохом Лука Тимофеевич. — Только б не найти тех тварей, коих мы в грозу в волнах приметили. Бр-р-р! И по сей час думаю: привиделось или нет? Но ведь и ты видел, так, Садокушко?
— Русалок-то? — передёрнул плечами купец. — Думаю, что видел. А двоим сразу вроде б одно и то же не мерещится. Да нет, Лука, этих на берег выкинуть не могло. А и выкинет, так им не страшно.
— Чего так?
— Ну, как это, чего? У них же руки есть. Взяли б да сползли назад, в воду. Рыбам не сползти — они безрукие, а этим-то что?
Покуда они разговаривали, скалистая гряда стала совсем близка. Окреп и серый рассвет, теперь стало видно, что кругом, до самой тусклой линии горизонта только волны да волны. Берег, к которому принесло ладью, был здесь единственной землёй. Что это? Остров? Или могучие волны сумели унести путников к противоположному берегу Нево-озера? Если так, то это, скорее всего, варяжские земли. Но когда же хитроумный Садко не умел сговориться с варягами, если случалось к ним заплывать? Он и торговать с ними умел. Так чего опасаться?
Миновав высоко поднявшуюся над водой гряду, ладья действительно оказалась в длинной и узкой шхере, где шторм уже почти не ощущался — волны бурно плескались лишь в самом начале заводи, а дальше лишь колыхались, утратив пенные гребни, да мирно лизали скалы и узкую полосу крупной гальки, которой заводь завершалась.
Деревья росли выше, по каменистым уступам берега, так что привязать ладью было не к чему. Опасно было и пытаться вытащить её на сушу — камни могли повредить днище. Да и кто его знает, этот остров? (Если только это и впрямь остров.) Если вдруг он окажется населён, то Бог ведает, кем. А ну как здесь обитает какое-нибудь воинственное племя, мало ли таких в этом северном краю? А если уединённое место выбрали пристанищем те же разбойники? Нет, надо быть готовыми в случае чего сразу убраться подобру-поздорову. Поэтому Садко поступил, как всегда в подобных случаях: приказал заколотить в гальку, насколько получится, давно припасённый на ладье берёзовый кол и вокруг него навалить побольше камней. Сильного прибоя здесь нет, так что привязь должна удержать судно. А отвязаться и уплыть, если понадобится, можно очень даже быстро. Одно плохо: на незнакомом берегу лучше бы не лупить обухом топора по деревяшке — сразу будет далеко слышно. А с другой стороны, может, так и лучше: вот они не таятся, если есть здесь хозяева, пускай знают, что у них гости. Хоть примите, хоть гоните, от вас, мол, никто не прячется.
Опасаясь, что отдых и в самом деле может оказаться кратким, Садко тотчас отправил троих дружинников нарубить дров, чтобы сразу разжечь костры, а остальным велел осмотреть всю видимую часть ладьи, не повреждены ли где борта, да понырять и обследовать днище. Вода Нево-озера и летом холодна до дрожи, тем более после шторма, но тут уж ничего не поделаешь — не дай Бог, шторм нанёс судну урон... Другое дело, если нет течи, то, уж точно, нет пробоин внизу, а дощатую насадку видно снизу доверху — цела, кажется, выдержала.
Спустя некоторое время, уже рассевшись на камнях возле быстро разгоревшегося огня и с наслаждением вдыхая запах забурлившей в двух чанах наваристой ухи, путники принялись обсуждать своё приключение, вроде бы завершившееся благополучно. И в самом деле, ладья цела, сами они тоже все здесь — никого не смыло за борт бешеной волной, шторм вот-вот совсем утихнет. Да и берег, похоже, безопасен — ни на стук топоров, ни на людские голоса никто не отозвался, никто не явился спросить у незваных гостей, откуда и зачем они сюда явились.
— Либо не живёт тут никто, либо если есть какие людишки, то сами нас боятся, вот к нам и не идут! — заключил Лука, деловито помешивая в чане похлёбку. — Ай, вкусна, надо думать, тутошняя рыбка! И выкинуло её на берег немало — даром, что в заводи.
— Да ведь бушевало-то так, что, надо думать, в разгар шторма и здесь волны бесновались, — заметил в ответ Садко. — Это сейчас попритихло. Ну вот нам рыбки и перепало. Поблагодарить бы за то Царя морского, да мы ж не на море. И есть ли такой царь, кто его ведает?
— Если русалки есть, то как не быть и Морскому царю? — опасливо перекрестился могучий дружинник. — Много вкруг людей бесовщины вертится, не во всякое время сообразишь, от какой нечисти какую молитву сотворить.
Садко усмехнулся. Многие в его дружине были новокрещёные, не выросшие, как он сам или кормчий Лука, в христианской общине, и обряды новой веры для этих людей открывались, словно незнакомая грамота. Многие, исправно бывая в церквах, причащаясь и совершая молитвенное правило, кое в чём сохраняли в душе старинные суеверия и готовы были при случае защищаться от нечистой силы старыми, языческими способами, вроде плевков через левое плечо или бабкиных заговоров.
— Как же ты, Никодим, не знаешь, какие молитвы от бесов читаются? — проговорил с укоризной купец. — Немало таких, а коли не сразу вспомнятся, так читай «Да воскреснет Бог»[36] — точно, не ошибёшься. Ну что, братья, помолимся, пожалуй, да и поедим, что Бог послал.
— А потом что? — спросил Лука Тимофеевич, аккуратно разливая уху в подставленные со всех сторон деревянные миски. — Сняться отсюда рискнём да дальше плыть али тут заночуем? Вроде мирно всё.
— А раз мирно, то лучше будет отдохнуть, выждать, пока буря вовсе утихнет да тучи рассеются, — принял решение Садко. — Не то как определим, куда плыть? Не знаю, как вы, други, а я от задуманного не откажусь. Раз ищем мы клад нибелунгов, то искать и будем. Заночуем на этом берегу, чтоб утром с новыми силами плыть далее.
Никто из дружинников не возразил купцу. Возможно, им уже далеко не так и хотелось продолжать поиски неведомых и, судя по описанию разбойника Бермяты, очень опасных сокровищ. Но спорить с Садко никто не решился, тем более, все знали: если он что-то решил, то поступит всё равно по-своему. А главное, все слишком устали и вымотались, сражаясь с недавним штормом, и кидаться сразу после этого в новое плавание, да ещё не зная пути, никому не хотелось.
Сытно позавтракав и пообсохнув возле огня, дружинники занялись каждый своим делом. Несколько человек отправились заготовить ещё дров, чтоб можно было жечь костры всю предстоящую ночь. Другие, притащив с ладьи бочонок смолы и разогрев её в специальном чугунном горшке, разулись, закатали штаны выше колен и, войдя в воду, принялись промазывать швы меж насадочными досками. Ещё двое распустили парус и потуже притянули его нижние углы к бортам — пускай сушится. Слава Богу, ветер его не порвал. Бывало в их плаваниях и такое, но у предусмотрительного Садко всегда имелось в запасе два запасных паруса. Над высокими скалистыми уступами кружились чайки, кайры и глупыши. Их пронзительные крики с самого начала внушили путешественниками успокаивающую мысль о том, что этот берег, кажется, не обитаем — если б здесь были местные жители, то, надо думать, они охотились бы на птиц и приучили их бояться людей. Но нет, появление незваных гостей не всполошило даже суматошных чаек — они не раз садились на прибрежную косу, преспокойно разгуливая вблизи дружинников и подбирая выброшенную штормом мелкую рыбёшку. То, что покрупнее, собрали люди.
— Надо б и на птиц поохотиться, а, Садко Елизарович, — предложил всё тот же Никодим. — Если они нас не опасаются, то можно их немало настрелять. И на вечер, и на утро дичью б запаслись.
В ответ Садко пожал плечами.
— Чайка не гусь — много ли в ней мяса? И не больно-то оно вкусное. Но запасов у нас, что правда то правда, скудновато, а наловим ли ещё рыбы, кто знает. Возьми двоих человек, Никодимушка, да сходи поохотиться. Только по скалам не больно лазайте — не приведи Бог оступиться, костей не соберём.
Охотники вооружились луками и ушли. Через несколько часов, когда серая мгла неласкового рассвета совсем рассеялась, а низко повисшие над землёю тучи стали расползаться, открывая в свинцово-сером своде голубые озерца, они вернулись, таща на плечах самодельные коромысла — прочные палки, с которых свисали по пять-шесть подстреленных птиц. Удачная охота совсем развеселила путников. Кто-то предложил даже выкатить на берег и один из заветных бочоночков прихваченного с собою вина, но Садко не позволил. Он не жадничал, просто нарочитое спокойствие этого сурового и нелюдимого берега против воли внушало молодому купцу всё более сильную тревогу. Он не знал, что его тревожит, но справиться с этим чувством, нарастающим чувством близкой опасности никак не мог.
Чем беспечнее вели себя довольные отдыхом дружинники, тем молчаливее и сосредоточеннее становился их предводитель, тем чаще без видимой причины обводил пристальным взглядом высокие кромки утёсов, тем настороженней вслушивался в монотонный плеск уже совсем небольших волн и всё такие же громкие крики чаек.
— И тебе, вижу, не по себе, — проговорил, слегка наклонившись к нему, кормчий. — Да... Странное какое-то место.
— Странное? — Садко тоже понизил голос — ни тому, ни другому не хотелось, чтобы их разговор услыхали дружинники. — Ты прав, странное. Не могу только уразуметь, чем оно странно. Вроде бы берег как берег. И заливчик вон какой удобный.
— Вот-вот, — совсем уже шёпотом подхватил Лука. — И заливчик сразу попался удобней некуда, тихий да спокойный, и рыбы здесь оказалось на знатный завтрак, мелочь даже брать не стали... И птицы непуганые, сами под выстрел идут. Всё будто бы нарочно устроено. Как в сказках, помнишь? Потерпит какой, скажем, купец крушение, на чужой берег выберется, а там — и хоромы перед ним с накрытыми столами, и постель мягкая постелена.
— А владеет хоромами чудище злобное да коварное! — подхватил Садко, усмехаясь, но продолжая сторожко оглядываться по сторонам. — Ну ты уж и сравниваешь, Лука свет Тимофеевич! Крушения, слава Тебе, Господи, у нас не случилось (а могло бы!), хором на этом берегу я что-то не приметил, столы мы себе сами накрыли, ну а уж постели у нас будут никак не мягкие — уляжемся либо на камушках, либо на лавках в ладье, в свои же плащи завернувшись. Так что сказка не получается. Но всё равно не по себе мне здесь. А раз и тебе тоже, то это неспроста. Но в любом случае вряд ли наши смутные страхи стоят того, чтоб сейчас же сорваться и уплыть отсюда. Вон небо очищается. Ночью поглядим по звёздам, где оказались, решим, куда плыть, да утром и отправимся. Караулы только надо будет поставить понадёжнее.
— Это уж как водится! — кивнул бывалый кормчий. — Но поверь мне, Садко Елизарович, не было ещё у тебя похода страннее да опаснее, чем это плавание за чужим золотишком!
Купец искоса глянул на своего спутника и в ответ лишь пожал плечами. Он и сам понимал, что упрямство и обида на задиристых новгородских купцов заставили его пуститься в очень рискованное плавание. Но разве он рискует в первый раз? Разве он не удачлив, как никто другой, и ему не удавалось уже много раз получить выгоду в самых, казалось бы, опасных предприятиях?
Он подумал так и вдруг вспомнил давешнего старца Николу, так неожиданно явившегося на островке посреди Волхова, предупредившего купца о засаде, устроенной разбойником Бермятой, и потом преспокойно прошагавшего по воде к челноку. Что он тогда сказал ему, Садко, о грозящей опасности?
«Чужие грехи считать нетрудно, гляди, свои бедой обернутся!» Свои грехи... К чему Никола сказал это? Упредил, что не стоит затевать спор с купцами-толстосумами? Да откуда ж он мог знать, что такой спор случится?
«Ну что, старче Николай, появись уж и на этом острове! — не без озорства вдруг подумал Садко. — Здесь тоже, мнится мне, кто-то в засаде сидит, знать бы, кто и чем это грозит нам. Вот бы ты и пришёл вновь советы давать да беду упреждать... Что тебе стоит, если ты и впрямь по воде, аки посуху, ходить умеешь?»
«А сам что же, не справишься?» — отозвалась в его сознании нежданная мысль, и он вздрогнул, поняв, что не сам это подумал! «А ведь можешь и не справиться, — продолжал неведомый беззвучный голос. — Что ж ты всё судьбу задираешь, что ж лихо дразнишь? Добро б только сам рисковал, а с тобой вон люди. Думал бы головой, так и не ждал бы нынче засады!»
— Ну, это уже слишком! — с нечаянной злостью прошептал купец. — Не дитё я малое, чтоб меня поучать! Ишь, стыдить вздумал...
— Ты кому это, Садко?
Кормчий удивлённо смотрел на своего предводителя. Тот вспыхнул, поняв, что, выходит, вслух говорил сам с собою, и пробормотал:
— Да так, мысли разные лезут. Не знаю уж, к чему.
На ужин купец всё же разрешил товарищам налить себе по полчарки вина — усталость оказалась слишком велика, и людям необходимо было возвращать силы для завтрашнего путешествия. Но сам он к вину не притронулся и заметил, что Лука тоже едва коснулся чарки губами.
Ночь наступила до странности скоро. Не раз и не два водивший своё судно на юг, к грекам или арабам, Садко хорошо знал, как душный южный вечер сменяется тёплой, будто молоко, ночью. Сумерек в южных краях почти не бывает — вот только что небо окрашивал пурпуром и киноварью закат, заливая полнеба, и почти сразу высоченный небесный свод тонет в густом синем бархате, сквозь который разом проступает несметное множество крупных, как спелые вишни, звёзд. На севере совсем не так, тем более летом, ночи и вовсе будто нет — едва разольётся на западе вечерняя заря, едва погаснет, а уж восток светлеет и розовеет, и птицы подают голос, когда почти темно, они-то знают, что утро на подходе, так к чему ждать? Сейчас уж не такие светлые ночи, лето пришло к середине. Но всё равно закаты долгие и темнота приходить не спешит. И тут вдруг на неведомый остров посреди Нево-озера опустился и разом окунул его во тьму тот самый тёмно-синий бархат южной ночи. И даже звёзды проблеснули над уже не видимой скальной грядой. Надо же! А казалось, тучи только-только стали расходиться, и так много звёзд никак не может показаться с наступлением ночи. Но нет, вон их сколько!
— Ну и закат! — выдохнул рядом с купцом Лука, будто подтверждая его удивление. — Что за остров-то такой? Не в Зелёное ж море[37] закинул нас штормина? Не по небу ж пронёс в такую даль? Пускай меня кит-рыба проглотит, если я что-нибудь понимаю.
— Что-нибудь понимать и я бы не против... — Садко не знал, отвечает ли кормчему или говорит сам с собою. — И то правда, словно бы за тридевять земель оказались!
Странно, но, кажется, это необычное наступление ночи смутило только купца и его кормчего. Все остальные будто бы ничего не заметили. Некоторые из дружинников, поужинав, улеглись спать — кто на берегу, возле костров, кто на холоде, но не на жёстких камнях, а в ладье, успевшей просохнуть, хоть солнце в этот день так и не показывалось. Те, кого купец назначил первыми в караул, бодрствовали, но чувствовали себя, судя по всему, совершенно безмятежно — сидя у огня, храбрые дружинники вполголоса обменивались шутками, рассказывали друг другу всякие занятные истории и явно не испытывали ни малейшей тревоги.
«Подумать бы, что у меня от всех этих приключений ум за разум заезжает! — мелькнула у Садко новая мысль. — Но не я ж один беспокоюсь — Лука то же самое чувствует. Значит, либо мы с ним — глупцы непроходимые, либо остальные от той бури отупели...»
Купец, укутавшись в плащ, попробовал хотя бы задремать. Куда там! Сон не шёл к нему. И он лежал, вслушиваясь в мерный плеск волн, пытаясь понять, что происходит вокруг него и с ним, задавая себе вопрос за вопросом и ни на один не находя ответа.
Всё не спал молодец, не спалось ему, Будто что-то казалось-мерещилось, А как сон пришёл, Так недобрый сон. А приснилося добру молодцу, Что вокруг опять волны дыбятся Да и выше ладьи поднимаются! А потом вокруг вместо волн седых Вдруг сбираются злые чудища, Злые чудища волосатые, Волосатые, лупоглазые! И вскочил купец, кликнул воинов, Только спят они беспробудным сном, Беспробудным сном зачарованным И нейдут на подмогу товарищу...Когда Садко дошёл до этого места, его голос вдруг сорвался. Он совладал с собой, рукавом рубахи смахнул стекавший по лицу пот. Снова коснулся струн, с трудом перевёл дыхание. Как ни владел он собой, воспоминания оказались сильнее.
— Ну, будет! — воскликнул Добрыня Малкович. — И так уж я тебе поверил. Вижу, что в песне своей ты правду рассказываешь. Если тяжко, отдохни.
Гусляр бросил на посадника быстрый взгляд и, сделав ещё одно усилие, улыбнулся.
— Спасибо, господин честной посадник, на добром слове! Но я самого главного ещё и рассказывать не начал.
Добрыня отпил вина и знаком велел подошедшему холопу долить чару певца.
— Ты горло смочил бы, вон уж сколько поёшь и поёшь, как только дыхания хватает! И, коли хочешь, можешь дальше просто так рассказывать. Всё едино я не успокоюсь, покуда до конца твоей истории не услышу.
— Услышишь, — пообещал Садко. — Что веришь мне, за то спасибо. Только сразу упреждаю: дальше всё куда чуднее станет! Может, и усомнишься. Подумаешь — морочу я тебя.
С этими словами он взял из рук слуги наполненную чару, однако сделал всего несколько глотков. При этом лицо певца выражало всё то же напряжение, что в самом начале рассказа.
— Сделай милость! — воскликнул Добрыня. — Не упреждай меня ни в чём. Не дитё я малое, чтобы в людях не разбираться и правды от вранья не отличить. Рассказывай, сделай милость.
ЧАСТЬ III ВОДЯНОЙ
Глава 1. Во власти «Морского царя»
Сон пришёл нежданно, сам собою. И не обычный сон. Он не погрузил, как часто бывает, сознание спящего в странное полузабытьё, где возникают странно изменённые образы, причудливо вырванные из яви. Нет, этот сон навалился тяжело, мутно, сразу погасив все мысли. Сквозь непроглядность этого сна слабо мерцал лишь отблеск всё той же тревоги, что обуяла Садко на неведомом берегу.
Спал купец, возможно, два или три часа. И проснулся разом, точно кто-то резко окликнул его или он ощутил внезапный толчок. На самом деле кругом царило такое же молчание, было так же темно, и в высоченном небе сияла всё та же россыпь крупных, будто на юге, звёзд. И разожжённые на узкой береговой полосе костры ещё горели, правда, уже совсем слабо, лишь изредка выбрасывая вверх рыжие язычки пламени над багрово светящимися чёрными угольями.
«Что за морока?! — Это была первая и очень злая мысль проснувшегося. — Караульные уснули или как, чтоб их волной окатило! Огонь должен гореть, а не тлеть!»
Садко привстал на локте, откинув край плаща. Помотал головой, окончательно прогоняя сон. И тотчас увидел, что его мысль оказалась верна: несколько дружинников, назначенных костровыми, мирно храпели возле угасающих костров вместе со всеми остальными.
Но окликнуть их купец не успел. В тусклом свете, которого звёзды давали уже больше, чем огонь, он увидал, что на берегу они, он и его дружина, больше не одни. Вдоль подступающей вплотную неровной линии береговых скал виднелись тёмные силуэты неподвижно стоящих людей. Само их внезапное, судя по всему, бесшумное или почти бесшумное появление и теперешнее молчание уже не сулили ничего хорошего. Но куда грознее и страшнее было другое: оглянувшись, Садко увидал такую же цепь чёрных фигур и по другую сторону их бивака. И стояли они примерно на том же расстоянии, саженях в пяти от костров. Само по себе это было понятно: если уж их кто-то решил застигнуть врасплох (и это, очевидно, удалось!), то разумно окружить спящих с двух сторон. Но только вторая-то сторона была уже не сушей! Выходило, что нежданные недруги (ну, не друзья же так вот подкрались среди ночи!) стоят прямо в воде... Конечно, там было неглубоко. Где-то по пояс рослому мужчине. Но кому ж это взбрело в голову — лезть в холоднющую воду и этак вот неподвижно в ней торчать? И как они проплюхали по этой самой воде, никого не разбудив? Волны-то уже едва-едва шепчутся, так что поступь пары десятков людей должна была произвести очень заметный шум. Ладно, караульные, сломленные усталостью, могли заснуть. (Все? Вот так вот, все сразу?!) Но чтоб от сильного плеска никто и не пошевелился? Ни Лука, которого за чуткий сон нередко называли кошкой, ни сам Садко, у которого слух был, почти как у сторожевой собаки, спали и ничего не услышали?!
— Подъём, дружинушка! — Садко сам удивился, как сумел крикнуть так весело и непринуждённо — не то что страха, даже тревоги не прозвучало в его голосе, всё же купеческое ремесло многому учит. — Поднимайтесь-ка, родимые, гости у нас! А мы и не встречаем!
Он понимал, что если их собираются перебить, то времени, чтоб проснуться, вскочить и схватиться за оружие, у его людей всё равно уже нет — неведомые недруги, считай, в двух шагах. И всё же нельзя встретить опасность, даже не попытавшись себя защитить. В то же время, если на них не нападут, то тем более надо поскорее вступить в разговор, узнать, кто эти люди, живут ли здесь либо тоже откуда-то приплыли, и если окажется, что это какое-то здешнее племя, то извиниться за нечаянное вторжение.
С первого взгляда купец не сумел понять, кто это может быть: фигуры были едва-едва освещены. Заметен был лишь слабый блеск металла (кольчуги, должно быть) да змеи длинных волос, падавших им на плечи.
— Что?! Кто?!
— Кто тут?!
— Откуда они взялись?!
Смятенные голоса дружинников слились в нечленораздельный гомон. Люди ошалело вскидывались, не до конца проснувшись, иные, вероятно, сразу и не могли вспомнить, где оказались. Кто-то суматошно шарил по камням, отыскивая оружие, другие вглядывались в темноту, ещё толком не разглядев обступивших их пришельцев. Садко не отдавал команды не браться за луки: он был уверен, что его хорошо выученные дружинники без команды предводителя и без того оставят луки на земле. Меч в руках — дело нормальное: раз кто-то неизвестный подобрался вплотную к спящему отряду, оружие должно быть в руках. Но меч — это меч, чтоб пустить его в ход, надо сойтись с противником вплотную. А стрелу пустить — мгновенное дело, и она может поразить на расстоянии. Значит, того, кто схватит лук, уже можно разить — теми же стрелами либо копьём...
Сам Садок Елизарович уже был на ногах и уже с мечом, который, однако, не спешил вынимать из ножен. Он уже смог немного рассмотреть пришельцев. Это были сплошь мужчины, довольно рослые, плечистые и словно бы сутулые: их головы поднимались над плечами, обходясь без шеи, по-бычьи выступая вперёд. Волосы у всех без исключения светлые (у иных, кажется, даже белые), спадали почти до пояса. На головах виднелись круглые шапки, вроде как у варягов, но без рогов, которыми те так любили украшать свои шлемы. Кольчуги, опускавшиеся ниже колен, состояли, насколько можно было различить, из плоских пластин и походили на чешую. В руке у каждого чернело, как сперва показалось купцу, не длинное, в рост человека копьё. Но вот кто-то из пробудившихся караульных нарочно либо по привычке, видя, что костры угасают, кинул в один из них охапку веток. Взметнувшееся пламя ярче озарило пришельцев (вернее, конечно же, здешних хозяев — это Садко уже успел понять), и, во-первых, стало видно, что часть их действительно стоят в воде, только не по пояс, а по щиколотку, и в этом, надо думать, нет никакого чуда — совершенно проснувшись, купец вспомнил наконец про отлив, а во-вторых, в руках у них не копья, а трезубцы... Длинные треугольные наконечники мерцали кованой сталью, и видно было, что они на славу заточены.
— Спокойно, братцы! — Садко понял, что обязан хоть как-то успокоить свою дружину, не то как бы кто-то и впрямь не схватился за лук. — Мы с вами, кажется, всё проспали, не заметили, как к нам пришли. А вы, люди добрые, простите, что незваны да непрошены явились: буря нас сюда пригнала, не то б не сунулись не спросясь. Дозволите ль до утра остаться, либо у вас чужакам ночевать не принято? Так и скажите. Мы сразу в путь тронемся. А дозволите остаться, не обидим: заплатим щедро и мешать вам не станем. Мы из града Ладоги. Торговлю ведём, по разным землям плаваем. Меня звать Садоком, кормчему моему имя Лука. А вы, честные люди, кто таковы будете?
Он спросил: «Кто вы будете?», но обратился не просто к цепи чужеземцев, но к одной, заметно выделявшейся меж ними фигуре. То был мужчина, более рослый, чем все остальные, отличавшийся особенно мощным сложением. К тому же на его груди купец приметил толстую цепь, вероятно, золотую, да ещё и украшенную промеж звеньев крупными жемчужинами. Цепь свисала до пояса, наполовину прикрытая длинной светлой бородой. Скорее всего, то был предводитель неведомых людей.
Заговорил Садко по-русски, подумав, что если это племя обитает на Нево-озере, то так или иначе могло уже иметь дело с русскими мореходами и должно хотя бы немного понимать их язык. Если же нет, он готов был заговорить на варяжском языке[38], который знал неплохо, благо в варяжские земли ходил с товаром часто.
Купец, однако, тотчас увидал, что его слова вполне поняли. Бородатый сделал шаг вперёд и усмехнулся в свою бороду. Конечно, он и есть предводитель либо глава рода на этом острове. Но до чего же странны эти люди! Никогда Садко таких не видывал и краем глаза заметил, как изумлённо и ошарашенно взирают на островитян все его дружинники. Даже самый опытный из них всех — кормчий Лука таращился на хозяев острова так, словно глазам своим не верил.
Во-первых странно было то, что их предводитель обладал такой роскошной бородой, а остальные были либо вовсе безбороды (хотя определённо не мальчики), либо с жидкими и короткими волосами, торчавшими из-под подбородка. Лида, которые вновь разгоревшийся костёр неплохо осветил, были светлые, но на удивление похожие одно на другое, точно все тут были родными братьями. Садко случалось торговать, скажем, с печенегами, и его не удивляло, что те зачастую кажутся на одно лицо, он знал, что когда обликом чьё-то племя сильно отличается от твоих соплеменников, то и различать чужаков нелегко: все темнолики, раскосы глазами, ликом словно бы плоски, поди разберись. Потом, когда уж к ним привыкаешь, тогда с этим проще. Но островитяне точно не печенеги и не половцы (да где ж тем и этим и взяться посреди Нево-озера?!), почему же все на одно лицо? У всех прямые короткие носы, широко поставленные, крупные, по-рыбьи круглые глаза, у всех лбы такие низкие, что кажется, будто волосы растут прямо от бровей. И лица на удивление неподвижны, стоят, смотрят на незваных гостей, и ни у кого ни единой гримасы, ни ухмылок, ни удивления во взорах — ничего!
Но бородатый не только явно понял всё, что говорил, обращаясь к нему, молодой купец, но и решил ему ответить. И у него, у единственного явилось на лице хоть какое-то выражение. Правда, выразило оно не интерес, а некое странное, злое удовлетворение.
— Спрашиваешь, кто мы?
Голос бородатого был глуховат и странно хрипловат, так человек обычно говорит, не успев проглотить воду или вино и слегка поперхнувшись питьём. Но этот определённо обладал таким голосом всегда.
— Так ты хочешь знать, кто мы... Ладно, знай. Я зовусь Морским царём, и всё здесь моё. Здесь и везде, где есть вода. Кругом меня — мои подданные. Но они не всегда такие, как сейчас. Сейчас у них — ноги, будто у людей, а поутру они в воду уйдут, и у них плавники будут, как у зверей морских. Вы вторглись в моё царство, нарушили мой покой, и теперь я буду решать, как наказать вас. Могу утопить всех и сразу, так будет проще всего. А ещё лучше — обращу вас в рабство. Мне работники нужны.
— На что же мы тебе сдались?
Садко удалось сохранить спокойствие и небрежность тона, хотя теперь приходилось ещё пристальнее следить за дружинниками — они малые неробкого десятка, услыхав посулы «Морского царя» (а ну как не врёт, и вправду он — Царь морской?), они могут и броситься на зловещую орду чужеземцев. А возьмут ли тех стрелы? И выстрелить можно всего по разу, дальше в дело пойдут мощные трезубцы, против которых мечи ладожцев — не самое лучшее оружие. Да и воинов у этого Водяного больше раза в два...
— На что мы тебе, Царь? — повторил купец. — Если твои подданные больше в воде живут, а на землю только иногда по ночам выходят, то какой вам прок от нас? Мы под водой жить не можем и работать на тебя и твоих соплеменников не сможем. А если хочешь утопить, что ж, твоё право. Да только с гостями, пускай и незваными, так не поступают. Если тебе все моря и воды подвластны, значит, ты сильнее всех и никого не боишься. Так, стало быть, и не можешь быть жестоким, как бывают слабые да трусливые. Мы и вправду тебе досадили, приплыли нежданно-негаданно. Но виной тому буря. Это она занесла нас в здешние края и к этому острову принесла. Отпусти нас, и мы тотчас уплывём. А в благодарность тебе отдадим всё, что с собой везли. Правда, везли немного: все свои товары богатые я купцам новгородским оставил в залог нашего с ними спора. Но злата пару кошелей прихватил на всякий случай. Сохранил и мешочек с каменьями самоцветными. Примешь, за честь почту, что самого владыку морей одарил. Давай сговоримся. Ну, не знали мы, право, и знать не могли, что в твои владения вторгаемся. И то правда: здесь ведь не окиян, не море синее, а всего-то озеро, пускай и громадное, и бурное. Кто ж знал, что ты здесь обитаешь?
— Я обитаю везде, где волны плещут! — сурово проговорил Водяной. — А здесь — любимая моя вотчина. И никто не смеет без моего разрешения в ней появляться. Спрашиваешь, для чего мне рабы, которые под водой дышать не смогут? А я могу сделать так, чтоб смогли! Только тогда вам уже не жить на земле никогда. А в пещерах моих подводных, в тайниках глубоких сокровищ видимо-невидимо. Их слуги мои собирают и собирают, а им убыли нет! Видал на цепи моей жемчуга? Таких на дне морском, знаешь, сколько? Вот и заставлю тебя и людишек твоих их собирать, в гротах складывать. Или кораллы в морях южных добывать да из них мне новый дворец строить. А горсткой злата от меня не откупишься, его у меня тоже хватает.
Садко слышал у себя за спиной тихий ропот, слышал, как лязгнул чей-то меч, вырываемый из ножен. В то же время молчаливая свита «Морского царя» медленно, угрожающе склонила и нацелила на пришельцев свои грозные трезубцы.
— Всем стоять! — крикнул купец, оборачиваясь к дружинникам. — Не с войной мы пришли сюда и, пока можем миром дело скончать, будем стараться. А ты, морское твоё величество, зря дружину мою стращаешь. Не знаю, ведомо ль тебе, но нам, русским людям, драться приходится не меньше, чем хлеб сеять да собирать, не меньше, чем по морям плавать. Лучше не рискуй. Оно, конечно, сила твоя велика, но и мы не умрём, за собой твоих зверей морских с дюжину не прихватив. Поверь моему слову, лучше будет нам сговориться.
В ответ бородатый рассмеялся, уже откровенно булькая горлом, точно и впрямь там была вода.
— Так ты грозить мне вздумал?! — сквозь этот странный смех выдохнул «Морской царь». — Что мне твои угрозы, глупец? Как усыпил я всех вас, едва вы на отдых устроились, так и ныне, если захочу, усыплю, так что и пальцем никто дёрнуть не сможет!
— Может, оно и так. — Купец оставался с виду спокоен, и это, кажется, слегка насторожило Водяного. — Может, ты и в силах нас всех погубить, не знаю. Но и пробовать не хочу. Злато тебе, говоришь, не нужно? Допустим. Но, может, у меня для тебя ещё кое-что найдётся?
— Что же?
Бородатый определённо был если и не заинтересован, то озадачен и этим спокойным видом русского, и его речью, тоже не выдававшей никакого смятения. Видя твёрдость своего предводителя, сохраняли невозмутимость и его дружинники, хотя едва ли это им легко давалось.
Услыхав последний вопрос Водяного, Садко вдруг улыбнулся, а его улыбка обычно всегда располагала к нему собеседника, кто бы тот ни был. Трудно сказать, подействовала ли она и на «Морского царя», но он явно заинтересовался. Даже подошёл ближе к купцу, пристально вглядываясь в него своими светлыми, почти белёсыми глазами.
— Когда бушевала буря, разразилась гроза, и молнии сверкали вокруг нашей ладьи, в глубинах вод мы с товарищами видели дев морских. — Голос Садко был всё так же ровен. — Никогда прежде не доводилось никому из нас глядеть на русалок. Признаюсь, мы и в этот раз не совсем их рассмотрели. Но от бывалых мореплавателей доводилось мне слышать, что русалки тоже умеют подниматься из глубин морских и дивно поют, чем даже суда сбивают с пути. Говорят, из-за них и кораблекрушения случаются. И я вот подумал: они же, наверное, и тебя, твоё величество, услаждают своим пением. Не может быть, чтобы ты его не любил. Прав ли я?
— Прав! — Теперь в голосе Водяного звучало уже откровенное самодовольство. — Нет звуков более дивных, чем голоса дев морских!
— А вот и неправда! — воскликнул Садко. — Не слыхал я, что правда, то правда, как они поют, зато знаю, что есть музыка, с которой мало что сравнится. Вот эта.
С этими словами купец поднял с земли и показал Водяному свои гусли. Устраиваясь на ночлег, он принёс их из ладьи и положил рядом с собой, как делал нередко, — они были ему слишком дороги.
Вид незнакомого, ни на что не похожего предмета, казалось, озадачил «Морского царя». Он даже пропустил мимо ушей очевидную дерзость, которую позволил себе его пленник. Водяной протянул руку, чтобы взяться за гусли, но Садко, резко накинув на шею ремешок, развернул самогудки в сторону.
— Нельзя их неумелой рукой трогать, они обидеться могут и играть не станут. А если хочешь послушать, так я сыграю тебе. И спеть могу, может, даже и не хуже твоих дев морских. Только повели, чтоб слуги твои свои рогатины опустили и в нас не целились. Обещаю тебе, что и мои ребятушки супротив вас оружия не поднимут. Ну так что? Играть ли?
Водяной махнул рукой, и трезубцы его молчаливых подданных опустились, коснувшись остриями камней. Кажется, рыбоглазые тоже испытывали любопытство, по крайней мере некоторые их них подались вперёд и неотрывно смотрели на купца.
— Играй! — пробулькал «Морской царь». — Если и впрямь хорошо сыграешь и споёшь, помилую, отпущу. Но смотри же: не развеселишь меня, не порадуешь, я тотчас велю и тебя, и всех твоих...
— Стой! — уже совсем дерзко прервал его Садко. — Говорил же, не стоит грозить нам. Мы ж вам не грозим. Если доволен не будешь, добро: твори над нами, что пожелаешь. А сейчас — слушай.
«Господи, помоги!» — подумал про себя купец.
Он развернул гусли, приладил, как надо, на груди и провёл пальцами по струнам. Они отозвались, как обычно, сперва робко, будто спрашивая, точно ли он хочет их песни. Потом звук вырос, окреп, и гусли расплескались нежной и прозрачной мелодией, ослепительно светлой среди бархатно-чёрной ночи. Мелодия ширилась, взлетала всё выше, сильнее и сильнее отражаясь от высоты скал, делаясь стремительной и быстрой и вдруг будто сникая, переходя в тоскующий перезвон, удаляясь и снова наплывая и разрастаясь.
Садко видел, как изменились при этих звуках бесцветное лицо Водяного и ещё более блеклые и тупые лица его слуг. На них читалось теперь не просто изумление, но настоящее потрясение — никогда никто из них не слыхал в своей жизни ничего подобного. «Что это? Что?!!» — вопрошали их рыбьи глаза, и казалось даже, что в них появляется некое подобие слёз.
Музыка действовала на этих странных людей (или не людей?), словно пение дудочки на большую змею, которую несколько лет назад Садко Елизарович видел в Царьграде на огромном, богатом торжище. Кто и что только туда не привозил! А худой, словно щепка, и тёмный лицом иноземец, прибывший откуда-то с Востока, притащил высокий кувшин, поставил перед собой, уселся, скрестив ноги, на расстеленную циновку, откинул крышечку с высокого горла кувшина и, достав из-за пазухи дудку (чем-то она напоминала русский рожок), принялся играть. Грустная, монотонная мелодия всё время повторялась, в ней не было играющего разнообразия, которого всегда ждёшь от рожка, а тем более от гуслей. Но в ответ на эти звуки из кувшина показалась и наполовину высунулась, поднимаясь всё выше и выше, огромная змея с широкими крыльями вокруг узкой головы. Народ кругом испуганно ахнул, но темнолицый продолжал играть, и змея принялась танцевать, изгибаясь в воздухе длинным блестящим, как металл, телом, раскачиваясь и свиваясь то в одно, то в два кольца. Этот поразительный танец продолжался до тех пор, пока заклинатель не стал играть тише, ещё монотоннее, при этом слегка постукивая по кувшину концом тростниковой палочки. Наг (кто-то сказал русскому купцу, что так зовут этих змей) ещё покачался над кувшином туда-сюда, потом нырнул внутрь и исчез. Люди зашумели, на циновку, с которой поднялся заклинатель, посыпались монеты, а человек, только что заставивший танцевать для всей толпы огромную смертоносную гадину, спокойно приладил крышечку на горло кувшина, собрал заработанное и ушёл.
Да, похоже, что с народом «Морского царя» и с самим «царём» происходило сейчас нечто очень похожее. Гусли заворожили их, заставили на время забыть обо всём, что их ещё недавно занимало. Они уже и не смотрели в сторону Садковой дружины и таращили свои рыбьи глаза на него одного.
А он, поиграв вдоволь, решил использовать главное оружие и запел, присоединив свой сильный и яркий голос с волшебному пению кленовых самогудок.
Ой, об чём вы, гусли-гусельки, распелися? Ой, об чём, среброструнные, разрыдалися? А поём мы о лихом добром молодце, А рыдаем о его горькой судьбинушке! Ой, да любил добрый молодец красну девицу, Ой, да пришёл к ней на двор да посватался, Попросил он руки своей любушки, Чтобы жить с ней вдвоём да в согласии. А его со двора гонят слуги взашей: Ты куда ж без казны да без имения? Ты куда ж это лезешь свататься? Не тебе владеть нашей девицей! Ничего не сказал добрый молодец, Во седло вскочил, на лихого коня, Во дружину нанялся княжескую, На войну вслед за князем отправился.Эту песню некогда пела Садко его матушка, пела без всяких гуслей, просто так. У неё и голоса-то особого не было (и в кого только у сына такой?), но получалось на диво нежно, прекрасно и грустно. Конечно, как почти во всякой такой песне, её герой в конце концов погибал, оставив свою любушку безутешной.
Став взрослым и получив свои заветные гусли, Садко не только придумал к песне другую мелодию, но и сочинил новый конец — дурных, печальных концов он не выносил. Теперь воин, вернувшись с войны спустя семь лет, находил дом любимой опустевшим. Он узнавал, что она, дабы не быть насильно выданной замуж за нелюбимого, убежала и скрылась в лесу, а её родители с горя этот дом продали и уехали в края чужедальние. Не веря, что любушка погибла в лесной чаще, молодец всюду искал её и нашёл в доме своего верного друга, который отыскал бедняжку в лесу, приютил и вместе с нею ждал возвращения воина, само собой, не посягая на честь красавицы.
В душе сам Садко Елизарович не очень-то верил, что возможна такая преданная любовь, да и столь же преданную дружбу представлял себе с трудом. И в самом деле: если молодца всё нет и нет, если он семь лет с войны не возвращается, то отчего бы его другу и красавице невесте и не смириться с вероятной гибелью воина, и не пожениться? Но у песни должен был быть хороший конец, не просто хороший, а чудесный, волшебный, если угодно, поэтому не могло в ней быть даже нечаянной, даже вынужденной измены — ни дружеской, ни любовной.
Ну, так что же вы, гусли-гусельки! Не к лицу вам теперь плакать — слёзы лить! Лучше песней разлиться радостной, Поиграть на весёлой свадебке!Последний звенящий перелив прозвучал, казалось, выше неприступных утёсов, смутно обрисованных в черноте ночи алмазной россыпью звёзд. Гусляр опустил пальцы на струны и посмотрел в лицо «Морскому царю».
— Ну и как, твоё морское величество? Верю, что до лжи ты себя не опустишь и не скажешь, будто тебе не понравилось и мы с гусельками поём хуже твоих русалок. Да я и без слов вижу, что тебе угодил.
— Что верно, то верно! — Голос Водяного прозвучал ещё глуше и невнятней. — Никто в моих владениях так не играет и не поёт. А спой-ка ещё! Или других песен не знаешь?
Купец рассмеялся.
— Чтоб русский человек да песен не знал? Если угодил я тебе, то до самого утра петь согласен, но перед тем ты слово мне дашь, что утром нас отсюда отпустишь.
«Морской царь» насупился.
— Отпущу, если остальные песни мне и слугам моим тоже по душе придутся. Пой.
Садко вновь провёл по струнам.
«Ой, врёт мокрое величество! — пронеслась в его голове неприятная, тревожная мысль. — Ой, не захочет отпускать нас... Но, впрочем, лишь бы его войско и впрямь с рассветом в волны нырнуло, тогда и уйти нам будет легче».
Глава 2. Кипарисовый крест
К рассвету Садко почувствовал, что у него садится голос. Ему ещё ни разу не приходилось петь по много часов кряду, почти не умолкая. Да и пальцы, непрерывно перебиравшие тугие струны, стали ныть и переставали слушаться.
Тем не менее он пел и пел, не останавливаясь, ни разу не повторившись, находя всё новые и новые песни, многие из которых, как и ту, первую, он сочинил сам.
Небо, видневшееся в конце узкого залива, сперва утратило черноту, потом сделалось тускло-серым и вдруг заалело, ярко выделяясь между прежней чернотой скал.
«А! — подумал купец. — Там восток. Значит, туда нам и нужно плыть. Только ещё уплыть бы отсюда!»
Он почти сразу понял, что опасения его не напрасны. И неприятнее всего было даже не то, что охочий до музыки Водяной, хоть утро уже наступило, продолжал требовать: «А ещё! Ну, ещё спой!» Куда хуже оказалось другое: массивные воины «Морского царя» с рассветом и не подумали обращаться в нерп и тюленей, как накануне обещал их предводитель. Они всё так же стояли цепью вдоль скал, а те, что торчали в воде, с началом прилива подступили ближе, так что теперь и подавно легко могли достать купца и его дружинников своим страшным оружием.
— Всё! — Садко закончил очередную песню и решительно развернул гусли так, что они оказались у него под мышкой. — Как я обещал, Царь, так я и сделал — всю ночь тебе пел. А теперь исполняй своё обещание — мы хотим уплыть с твоего острова.
— А я тебе ничего не обещал! — преспокойно возразил Водяной. — Разве я слово давал? Разве на чём-то поклялся? Не хочу я тебя отпускать! Мне нравится, как ты играешь и поёшь. Ну и оставайся у меня.
Садко почувствовал, что у него от злости начинают подрагивать губы и рука, только что так легко заставлявшая петь серебряные струны, невольно скользит к рукояти меча.
— Ты что же, — выдохнул он, — и в самом деле думаешь, будто меня можно в рабство забрать? И меня, и всю мою дружину?!
Ответом был противный булькающий смех, причём забулькал не только сам Водяной, но и его лупоглазое войско.
— Дружину твою, Садко-купец, я бы, может, и отпустил. Но только для чего мне, чтоб они, вернувшись домой, стали рассказывать, где и у кого ты остался?
— Ага! — воскликнул Садко. — Так ты боишься, стало быть, что люди о тебе узнают? И какой же ты, в таком случае, всемогущий?
— Могущества моего ты не ведаешь! — злобно ответил Водяной. — И не стоит тебе его проверять. А людишки мне здесь не нужны, не нужно, чтоб покой мой кто-то нарушал. Твоих дружинников я, так и быть, потерплю — расселю по островам, чтоб они для меня рыбу ловили да сети плели. Ну, а ты при мне останешься, песнями меня веселить будешь.
Он говорил, почти не скрывая торжества, уверенный, что пленник не осмелится спорить, — сила была на его стороне. Но встретив полный ярости взгляд молодого купца, заметив, как тот кладёт руку на рукоять меча, «Морской царь» заговорил мягче, почти с лаской в голосе:
— Да ты не думай, ни людей твоих, ни тебя не обижу. В довольстве жить будете. Я тебя женю на одной из своих дочерей. Они у меня красавицы, одна лучше другой!
— Русалки-то? — уже не скрывая негодования, спросил Садко.
— Русалки, — поддакнул Водяной. — Русалочки. Но ты сам увидишь, как они прекрасны. И не захочешь никуда уезжать.
— Этому не бывать! — Голос гусляра дрогнул, но от одной только ярости. — Я — да в шуты к чуду морскому пойду?! Размечтался! Лучше гусли о камни разобью. И угроз твоих не испугаюсь.
— Но послушай, Садко! — «Морской царь» заговорил уже и вовсе миролюбиво. — Давай, если так, заключим с тобой договор, и уж тут я тебе верное слово дать готов. А договор такой: ты со своими дружинниками год у меня проживёшь, каждый день петь будешь, дев морских песням своим обучишь, а мне такие ж, как у тебя, гусли сделаешь. И потом отправишься, куда пожелаешь. А жениться на русалочке или нет, сам решать будешь.
— Ага! И если женюсь, то и совсем останусь! — подхватил купец. — А то я не знаю, что нечисть морская в мире людском жить не сможет! Нет, не выйдет. Если добром нас всех отпустишь, так и быть, гусли тебе подарю, хоть и дороги они мне не менее, чем эта ладейка быстрокрылая. Но жить здесь целый год ни я, ни люди мои не станем.
Белёсое лицо Водяного выразило было злобу, но он, вероятно, понимал, что удержать-то странников силой может, да как заставишь силой так вот петь да играть? Так, чтоб у него и у всей его свиты ноги готовы были в пляс пуститься. Нет, силой да угрозами это не получится...
— А что, если я тебе за этот год большую плату дам? — спросил «Морской царь».
— И чем же ты заплатишь? — Садко не мог не задать этот вопрос, не то не был бы купцом.
Снова раздался булькающий смех. Но теперь Водяной смеялся один.
— А заплачу я тебе тем, ради чего ты плыл по Нево-озеру да в мои владения заплыл!
Садок Елизарович против воли вздрогнул. Что же, неужто это пугало морское, то есть озерное, неужели оно может читать мысли? Или вправду обладает загадочным могуществом, дающим власть не только над обитателями моря, но и над людьми? И если он действительно царь в водном мире, то, значит, сокрытые в волнах сокровища тоже ему принадлежат? И загадочный клад, проклятый клад нибелунгов, ради которого он, Садко, затеял рискованный спор с новгородцами, ради которого отправился в это опасное плавание, этот самый клад тоже принадлежи! Водяному?!
— Загадками не говори! — укорил он «Морского царя». — Если знаешь, для чего я с дружиной в плавание отправился, скажи прямо. Не то как я могу согласиться или не согласиться принять плату, коли не знаю, чем мне платить станут?
Впервые за всё время бесцветные, почти лишённые выражения рыбьи глаза Водяного блеснули.
— Плыл ты за ладьёй, злата полной. Не доплыл. Но ладья-то отсюда близко. И если тебе она и впрямь нужна, так знай: без моей помощи ты её никак не получишь. Знаешь небось, что злато то зачарованное.
Купец почувствовал, что у него вдруг закружилась голова. Он готов был услышать то, что услышал, но известие это вызвало у него настоящее смятение. Цель его отчаянного плавания была, оказывается, уже очень близка. Но загадочный клад был в руках (в лапах, в ластах?) этой водяной твари, у которой богатство, уж конечно, просто так не получишь... И можно ли верить какому угодно обещанию Водяного, если один раз он уже обманул? Да и правда ли, что он владеет кладом? А если нет?
— Садко, не верь ему! — прошептал в самое ухо предводителю кормчий Лука. — Обманет он... Опять обманет!
— А ты бы помолчал, а не то язык проколю! — Зловещий трезубец Водяного описал дугу в воздухе и стукнул по камням. — Не мешайся, мы сами договоримся. Ишь, забормотал тут...
— Мои люди могут со мной говорить, когда им угодно! — резко оборвал Садко. — И грозить им не надо. Вот что, твоё величество! Я — человек торговый и могу, конечно, на слово поверить, если сделку совершаю, да только ты-то не купец. И нас на этом острове силой удерживаешь. Да ещё и слова не держишь. Что глазищами зыркаешь? Да, не клялся ты нам, не божился, но сказал ведь, что коли порадую да развеселю, то и отпустишь. А не отпустил. Как же твои слова на веру брать? Так что мне, чтоб торговаться с тобой, надобно сперва твой товар увидеть. Покажешь свой клад, тогда и поговорим. И решать, служить ли у тебя ради клада этого либо нет, я буду вместе с моей дружиной. Понятно? А ежели сторгуемся, то с тебя надёжная клятва потребуется.
Он ждал, что Водяной ещё сильнее обозлится, и готов был продолжить рискованный торг. Но «Морской царь» неожиданно растянул свою бороду в улыбке.
— Что же, — сказал он. — Будь по-твоему. Пускай дружинники твои тебя здесь ждут, а мы с тобой сей же час поплывём к золотой ладье. Согласен?
— А то... Я ж сам о том заговорил. Только где ж твоя ладейка? Мою я дружине оставлю. Мало ли что...
И снова в длинной бороде явилось что-то, подобное улыбке, причём в этот раз Садко показалось, что улыбка Водяного кривая.
— Твоя ладья нам не понадобится. Как и дружине твоей — без тебя им отсюда не уплыть. Если хочешь, проверь: посудина крепко села на камни. И, если я не захочу, твои люди её оттуда не снимут.
Садко с великим трудом удержал готовое вырваться злое ругательство. Об этом он не подумал! Впрочем, сейчас его слишком занимала мысль о сказочном кладе. С ладьёй можно будет решить потом...
— Плывём! — произнёс он резко. — А то всё болтаем и болтаем. Ну? И на чём же отправимся?
— А вот... Погляди-ка. Не испугаешься?
Купец поглядел туда, куда указывал ему Водяной, а тог вытянул свой трезубец в сторону воды. Было уже совсем светло, и Садко ясно увидел то, на чём предлагал ему плыть Водяной. Из воды торчали блестящие чёрные спины с высокими плавниками. Вот одно из этих существ шевельнулось, плеснуло лопастью широкого хвоста, прянуло вверх, и над водой мелькнуло его хищное рыло. На боку твари виднелись белые пятна. Брюхо, судя по всему, тоже было светлое.
Если б Садко не провёл столько лет в плаваниях да не побывал в дальних северных морях, то, скорее всего, решил бы, что видит перед собой ещё какую-то водяную нечисть вроде русалок. Его дружинники, скорее всего, так и подумали. Среди них вновь пронёсся ропот, на этот раз откровенно испуганный. Многие попятились и закрестились.
— Тихо, тихо! — обернулся к своим людям купец. — Точно вы не мореплаватели, а девки деревенские, пугливые. Не чудища это неведомые. Неужто никто и не слыхал про них? Это ж рыбы-касатки, что на севере плавают. В Нево-озере я их и видом не видывал, но ведь прежде нам и русалки не показывались. Но то русалки, а это рыбы, только и всего. Свирепы, что и говорить. И ты, морское величество, на них куда-то плыть собираешься? А не сожрут они нас?
Видно было, что Водяной несколько разочарован. Он был уверен: нахальный русич до смерти испугается одного вида свирепых рыбин[39] да и примет их за что-то неведомое и нереальное. А он, вишь ты, ещё и рассказывает своим, что это за твари такие. На самом деле Садко испугался, даже ощутил в груди противный, липкий холод. Но показать это Водяному было нельзя, и свой вопрос купец задал обычным насмешливым тоном, втайне ещё надеясь, что противный рыбоглаз просто стращает его.
Однако тот решительно затряс бородищей.
— Как ты смеешь думать, что мои подданные на меня же и нападут?! Все в водах морских, речных, озёрных, все до единой твари мне повинуются! И если я повелю, то хоть кит-рыба, хоть вот косатка кусачая, хоть кто угодно ещё выполнит любой мой приказ! А ты, если не трус, садись вон на ту рыбу, что слева, а я на ту, что справа. Не решишься, струсишь либо с ходу свалишься, так и торговаться нам не о чем, не про тебя, стало быть, мои сокровища. Будешь мне целый год даром песни петь да учиться верхом плавать. Ну? Решился? Тогда поплыли.
Садко перекрестился. Он сделал это, стоя всё так же лицом к «Морскому царю», и вот тут приметил то, что сразу его насторожило: увидав крестное знамение, Водяной сразу весь перекосился и даже слегка прянул назад.
«Ага! — злорадно подумал купец. — Как же я сразу-то не вспомнил? Ну, конечно: нечистая сила креста боится! И боится ведь! Может, так мы и избавиться сможем от этого злыдня и от его приспешников?»
— Не надейся! — От злости Водяной забулькал ещё сильнее, так что слова трудно стало различать. — Да, не люблю я того, что ты только что сотворил, не хочу это видеть. Но не поможет тебе это: кое-какая сила помешает, и эта сила — в тебе самом! И потом, даже кабы ты и сумел, молясь своему Богу, от нас спастись, то ведь всех своих людишек-то не спасёшь: треть-то из них старым богам молятся. Ага! Выходит, что их тебе бросить придётся. И как? Бросишь?
Садко искоса глянул на дружину. Все ли они это слыхали? А если слыхали, кто что подумал? Не разгорится ль теперь ссора — мол, кто-то может спастись с проклятого острова, кто-то нет, так не лучше ль будет этих, крестом не защищённых, оставить? Но дружинники стояли молча, не сводя глаз со своего предводителя.
— Не принято меж русскими товарищей бросать, — процедил Садко Елизарович, уже шагнув в воду и обращаясь к Водяному через плечо. — Да, чаю я, и у других племён такое не в чести. Это вам, нечистой силе, верно, своих не жалко.
Косатка, к которой подошёл купец, ворохнулась в воде, обдала его брызгами. Он ухватился за высокий спинной плавник, изготовился забросить ногу через чёрную скользкую спину, словно через конское седло. И тотчас с ужасом подумал: «Рыбина-то совсем скользкая! На ней не то что на плаву усидеть, на неё ж и не взобраться!»
— Садись, садись, не страшись ничего. Сядешь, удержишься и плыть сможешь! Давай!
Эта ободряющая речь вдруг начисто стёрла в душе Садко всякий страх. Не раздумывая, он оседлал косатку, вдруг ощутив, что острый её плавник не скользит больше в его руках да и спина морской твари не такая уж скользкая — вполне усидеть можно. И, лишь усевшись, он вдруг понял, что успокоившие его слова непонятно кто произнёс. Уж точно не «Морской царь» — и голос, и выговор совсем другие, и бульканья никакого не слышно. Но и никто из русской дружины вроде таким голосом не говорил, да и стояли все слишком далеко...
«Что ж это?!» — в некоторой растерянности подумал Садко, невольно оглядываясь, но не видя рядом никого, кроме Водяного, тоже лихо утвердившегося на спине другой касатки.
— Э-э-эх, вперё-ё-ёд! — завопил Водяной, размахивая трезубцем так, что Садко даже невольно отклонился, одновременно крепче хватаясь за плавник.
— Ждите, братцы, я вернусь к вам! — успел закричать купец.
Рыбины сорвались с места, легко вынеслись за пределы залива, и вот уже они летят среди сияющих алым блеском волн, в это утро некрутых и нестрашных, множеством бликов отражающих показавшееся уже почти целиком солнце.
«Солнце прямо впереди. Там — восток. Теперь влево заворачиваем, ага, ещё чуток влево. И прямо. Солнце немного справа».
Садко старался запомнить направление движения, ещё не обдумывая дальнейших событий, просто по привычке — он всегда, если это было возможно, запоминал дорогу.
Водяной, которого едва можно было рассмотреть среди поднятых косатками туч воды и пены, едва оказавшись среди родной для него стихии, казалось, тронулся умом. Он визжал, вопил, что-то выкрикивал теперь на каком-то не понятном купцу языке, махал своим трезубцем и то и дело принимался злобно хохотать, что, кажется, пугало его «коня» — косатка высоко вспрыгивала над волнами, тревожно всплескивала хвостом, но, что странно, не пыталась ни нырнуть, ни скинуть с себя ненормального ездока.
В какой-то момент «Морской царь» оглянулся на своего спутника, и «рыбья морда» его исказилась злобой.
— И-и-ишь ты! — уже вновь по-русски рявкнул он. — Держится, упрямец, не падает!
— А ты был уверен, что я сорвусь и тебе даром на год в рабство достанусь! — Садко испытывал яростное злорадство, хотя и сам не мог понять, каким образом держится на спине несущейся во весь опор косатки. — Нет уж, твоё величество, чтоб тобой крабы подавились! Меня ни с каким соусом заморским просто так не слопаешь! Вези к своим сокровищам! Если только ты не врал и впрямь про них знаешь.
Водяной ещё что-то повизжал и повопил на тарабарщине, потом вдруг приблизил своего «коня» к Садковой косатке настолько, что рыбины едва не соприкоснулись плавниками, едва не сшиблись в своей отчаянной гонке по волнам.
— А моё это дело! Не захочу, так и назад поверну! А не то велю сейчас твоей рыбе нырнуть, вот и пойдёшь ты сам крабов кормить! А-а-а-а, боишься, хвастунишка! Задрожал?!
На этот раз Садко не успел испугаться. Тот же голос, который он услыхал, когда садился верхом на косатку, ещё явственнее прозвучал в его ушах, хотя теперь уж точно никого не могло быть рядом:
— Уйми-ка его, поставь ему башку на место! Помнишь: креста он боится. Так крестом его, крестом!
Садко вдруг понял, что узнаёт этот голос. И уже почти не изумился и не испугался. Без малейшего страха он разжал левую руку, держась за скользкий плавник только правой, одним движением сорвал с шеи нательный крест, намотал его шнурок на ладонь и вдруг, наклонившись, благо косатки всё ещё плыли вплотную одна к другой, ухватился рукой с крестом за развевающуюся мокрую бороду Водяного.
— А ну, чучело морское, поди-ка сюда! Ты чего это, рыбья морда, пугать меня вздумал?! Вези, тварь, куда обещал, не то пожалеешь!
Кипарисовый крест, прижатый к ладони Садко и утонувший теперь в белёсых космах Водяного, произвёл на того совершенно невероятное впечатление. «Морской царь» сперва взвыл, словно его окатили крутым кипятком, попробовал было подпрыгнуть на спине своего «коня», но могучая рука купца крепко его держала. Тогда он завертелся и завизжал, стал вырываться, но почему-то даже не подумал замахнуться на купца трезубцем. Кажется, трезубец вообще куда-то пропал. Уронил он его, что ли?
— Пусти, пусти же! — верещал Водяной. — Пошутил я! Куда сказал, туда и доплывём!
— Я те пошучу, нечисть лупоглазая! — разъярился молодой купец. — И дёргаться перестань, пока я тебя совсем с твоего карася не стащил.
— Молодец! — одобрил спасительный голос. — С ними только так, другого они не понимают. Только гляди, креста не оброни. И как бородёнку ту отпустишь, тотчас его назад на шею надень. Опасно это, когда крест не на тебе.
— Отче Николай! Где ж ты? — тихо, почти шёпотом спросил Садко. Он не сомневался, что незримый советчик услышит его даже сквозь плеск волн и испуганный визг Водяного. — Показался бы!
— Здесь я, с тобой рядом, — ответил мягкий голос странника. — А показываться для чего же? Погоди, думается, мы с тобой ещё свидимся. А покуда моё дело — просто тебя от беды уберечь.
— Так уберёг уж, спасибо тебе, отче!
После недолгого молчания Садко показалось, будто рядом послышался тихий сокрушённый вздох.
— Какое там, — проговорил старец. — Ничего я тебя пока что не уберёг. Всё только ещё начинается. Говорил ведь тебе, чтоб перед купцами новгородскими не ярился, не бахвалился. А ты? Спор затеял, товары свои, честь по чести нажитые, в заклад оставил... Вот едва и не сгинул в пучине.
— Но не сгинул же! — Садко на всякий случай крепче стиснул мокрую бороду Водяного и подтащил того чуть ближе к себе. — И вот ныне с твоей помощью, отче, глядишь, и до клада доберусь.
И снова невидимый собеседник вздохнул. Купец на миг даже ощутил, как чья-то тёплая ладонь слегка похлопала его по спине. Резво обернулся, но за его спиной только кипела вода да всплескивал широкий хвост косатки.
— Ах, Садко, Садко! Только мне и дела, что помогать тебе за богатством гоняться! Али ты нищий, али убогий, что тебе так уж это злато нужно? Я жизнь твою сохранить хочу, вот и стараюсь. Вроде и не глуп ты, а простых вещей не разумеешь. Вишь, злато и умных с ума сводит...
— Я же купец, отче, — попытался оправдаться Садко, по правде сказать, не слишком понимая, что так печалит загадочного старца. — А раз купец, то и дело моё — богатство наживать. Я ж никого не обманываю. Что, коли так, дурного в моём желании до клада добраться? Им всё равно никто давно уже не владеет.
Ответа не было, и Садок Елизарович начал уже сомневаться: а вправду ли он слыхал голос странника Николая? Уж очень невероятной казалась мысль, что тот мог каким-то образом незримо возникнуть среди волн, посреди Нево-озера... Однако, с другой стороны, сам Садко вряд ли б додумался, как обуздать Водяного. Да и ободряющее прикосновение тёплой ладони было слишком явственным.
Глава 3. Тайна «Морского царя»
Солнце уже заметно поднялось над блистающими кругом волнами. Оглянувшись по сторонам, глянув назад, Садко не увидел ничего, кроме воды. Это не удивило его: косатки неслись, как быстроногие кони, вполне понятно, что уже унесли их далеко от скалистого острова. Но где же то, к чему они плывут?
Он вновь посмотрел вперёд и сквозь тучу брызг явственно различил тёмные силуэты нескольких островов. Косатки приближались к ним.
— Здесь? — спросил купец у Водяного.
— Здесь, здесь, — подтвердил тот. — Вон тот остров, что третий справа. Да отпусти ж ты мою бороду, всю ведь повыдергаешь!
— Такую метлу повыдергать — это день и ночь драть надобно, — рассмеялся Садко. — А и выдеру, ничего. Новую отрастишь. Гляди лучше, чтоб мимо не проплыть.
Вскоре косатки замедлили движение, водяная пыль, распавшись, осела, и стало видно, что они приближаются к высокому, похожему на горбатую гору острову. Но он был не почти сплошь скалистый, как тот, где «Морской царь» застиг врасплох купца и его дружину. То есть это тоже, конечно, были скалы, но каменные уступы и валуны лишь кое-где проступали меж густыми зарослями кустов и деревьев, покрывавших островок сверху донизу. Иные деревца — ёлки да тощие берёзки — росли над самой-самой водой, и видно было, что иные из них волны уже подмыли, разрушив под их корнями каменную опору, деревца кренились, медленно наклонялись, готовые в очередной шторм стать законной добычей озера.
Вспомнив рассказ разбойника Бермяты, Садко поднял голову, оглядывая верхнюю часть острова. И тотчас увидал то, о чём рассказывал косматый предводитель речных грабителей: на самом верху на фоне светлого неба темнела каменная фигура. То было подобие человека с раскинутыми в стороны руками и чем-то вроде венца на голове.
— Идол! — прошептал купец. — Всё, как Бермята рассказывал.
И вдруг ему вспомнилось условие, о котором тогда поведал разбойник. Условие, без которого не найти входа в пещеру под островом.
— Эй, Водяной! — Он крепче сжал кулак и сильней дёрнул бороду, вызвав новый отчаянный визг. — Мне сказано было, что вплыть туда можно, только если поблизости голубку выпустить. За нею вороны погонятся, и она в потайной проход влетит. А я и забыл голубку-то. На ладье она у меня, в клетке. Что делать станем?
— Без голубки твоей обойдёмся, — обиженно фыркнул Водяной. — Что я, в своём же царстве всех ходов-выходов не ведаю? Бороду отпусти.
— Отпущу, когда туда вплывём, обратно выплывем да к моим людям возвратимся. Не бойся, рука у меня крепкая, не устанет.
На самом деле его пальцы уже стали уставать, рука даже немного затекла. Но купец был уверен: ещё на пару часов, чтоб заветный клад отыскать да доплыть на косатках обратно, к своим товарищам, у него вполне хватит сил и терпения. Что до прохода, то нет сомнений — Водяной его знает.
Никакая голубка им и в самом деле не понадобилась. Подплыв к островку справа, косатки приблизились вплотную, и стало видно: среди нависших над волнами ёлок и кудрявых кустов виднеется чёрное отверстие. Оно было узким: когда набегающая на скалу волна ударялась о неё и всплескивала, тщась добраться до береговых зарослей, щель скрывалась из глаз. Вплыть в такой проход на ладье, даже на маленькой лодке нечего было и думать.
— Дыра увеличивается, когда отлив наступает, — сказал «Морской царь». — А так вход невелик. Придётся сколько-то под водой проплыть. Согласен?
— Опять стращать собираешься? — обозлился Садко. — Давай, пошёл вперёд! Вширь-то вход подходящий: обе наши рыбины рядышком вплывут. Ну, а станет уже, не обессудь: вся твоя бородища у меня в кулаке останется!
Ответом были вновь лишь фырканье да бульканье. И косатки вдруг дружно, мощно оттолкнувшись хвостами, ушли вниз. Садко едва успел заглотить, сколько смог, воздуха. Вода расступилась, поглотила их, и стало черно, чернее, чем минувшей ночью, когда буря поглотила, казалось, весь мир вокруг.
«А ведь я точно не смогу под водой оставаться так же долго, как этот рыбоглазый! — с запоздалым страхом подумал молодой купец. — Может, он и вовсе, как рыба, без воздуха жить способен? Господи, спаси и сохрани!»
Ответом на эту мысль был новый глухой всплеск, и оба «коня» вырвались на поверхность. Садко не успел даже начать задыхаться — получается, что под водой они были всего ничего.
Сперва влага застилала глаза, потом купец проморгался и увидел... Да, он помнил рассказ Бермяты от первого слова до последнего, и хотя не до конца верил рассказанному, но сейчас ожидал увидеть именно то, что описывал недавно пленённый им разбойник. Примерно это он и увидел, но зрелище было до того невероятным и ошеломляющим, что вначале Садко оцепенел.
В гроте, расположенном под скалою, скрытом от всего мира, должна была царить кромешная тьма. Как та, что окутала их, когда косатки нырнули. Но тьмы не было. Хотя едва ли кругом было светло, будто днём. Свет, который окружал теперь купца и Водяного, был так странен, что сперва вызывал ощущение нереальности, морока, наваждения. Бермята назвал это сиянием, но то было не сияние. Просто кругом в воздухе и, казалось, в воде было рассеяно бело-зеленоватое свечение, холодное и исходящее словно бы ниоткуда. Хотя вроде было очевидно, что может здесь светиться. Посреди озерца, целиком заполнявшего круглый грот, недвижно стояла большая ладья. По форме она напоминала варяжские дракары. И, как на них, у неё на носу тоже виднелась оскаленная морда некоего чудища. При этом и борта ладьи, и идольское изображение, и мачта, и даже свёрнутый парус — всё имело вполне определённый цвет, цвет червонного золота, а характерный блеск говорил сам за себя. Ладья, кажется, и впрямь была золотая, при этом совершенно невероятным образом держалась на поверхности воды!
«Может, на камнях стоит?» — успел подумать Садко.
И больше уже не мог ни о чём думать. Он увидел в этом непонятном свете (светилась не ладья, это было очевидно, а что, он так и не смог понять), что низко сидящее в воде судно до самых краёв наполнено тем же тускло блистающим металлом. Россыпи, груды золотых монет горками поднимались над бортами, и среди них тут и там вспыхивали белые, красные, зелёные искры драгоценных камней.
Клад нибелунгов превосходил всё, что могло нарисовать самое пылкое воображение. А сколько он может стоить, Садко даже не дерзнул себя спросить. Это было сокровище сокровищ, такое, какого никто никогда не находил.
Купец вдруг поймал себя на том, что его пальцы, сжавшие бороду Водяного, вот-вот готовы разжаться. И «Морской царь» явно это заметил — понемногу, прядку за прядкой он стал вытаскивать свои космы из руки Садко, хотя и не смел коснуться самой руки, в которой был кипарисовый крест.
— Ты что это задёргался? — урезонил купец Водяного. — Нам ещё назад плыть. Давно ль эта... это всё здесь спрятано?
— Давно, — подтвердил рыбоглазый. — Не одно столетие злато да камни самоцветные тут хранятся. Никто не смог их взять.
— Я смогу! — выдохнул Садко и услыхал вдруг, что его голос охрип. — Я заберу это всё отсюда. Раз уж приплыл сюда и тебя, нечисть водяная, укротил и угроз твоих не испугался, это по праву моё будет.
— И ты согласен за это год в моём царстве прожить да меня пением своим услаждать? — осторожно спросил Водяной.
— Год — много! — Купец, поняв, что сила сейчас на его стороне, решил теперь ставить свои условия. — На год у меня и песен-то не наберётся. Но месяц, так и быть, мы все у тебя поживём. Если, конечно, станешь нас хорошо кормить да поить. Словом, будешь добрым хозяином, и мы добрыми гостями будем.
«Месяц как раз только-только, чтоб хоть четвертину всего этого добра в нашу ладью перегрузить, — лихорадочно думал при этом Садко. — Вряд ли саму ладью, покуда она полна, можно на привязи отсюда вытащить. Увезём, сколь сможем, за глаза хватит, чтоб у новгородских толстосумов спор выиграть. А потом можно будет и пять новых ладей купить, за остальными сокровищами приехать да и саму злату ладейку вытащить. А не вытащим, так на части топорами разрубим и по кускам увезём».
— Ну, месяц так месяц! — покладисто согласился Водяной. — Тогда и людишкам твоим прикажи, чтоб не бузили да в царстве моём непорядков не учиняли. Они ж у тебя большей частью тоже с крестами ходят, вот и будут ими моих подданных стращать...
— Если прикажу, так и не будут, — усмехнулся Садко.
Он испытывал некое злорадное удовлетворение от сознания, что так легко обуздал злобного и коварного недруга. О том, что самому ему это не удалось бы, что лишь подсказка загадочного странника научила его, как справиться с «Морским царём», купец в этот момент почему-то забыл. Вернее, помнил, конечно, но более не придавал этому такого значения: раз получилось, значит, получилось. Как во время торга: удачная сделка совершена, а каким образом, разве это теперь так уж важно? Возможно, в глубине души он сознавал, что в его беспечной радости повинны червонное сияние колдовской ладьи, вид сокровищ, наполнивших её выше бортов, и сознание, что если он, Садок Елизарович, теперь и не самый богатый человек на свете (уж кесарь-то царьградский, надо думать, не беднее!), то один из самых богатых. Кто теперь ему супротивник? Кто на зловредном новоградском торжище станет биться с ним об заклад? Никто? То-то!
И вновь он убедился, что Водяной умеет читать мысли. Только слишком поздно понял, что его мысли прочитаны и что враг этим воспользуется...
— Приказ-то приказом, Садко... Да лучше б ты убедил свою дружину, что оставаться им здесь — прямая выгода. Взял бы горстку злата да самоцветов и привёз к ним. Как покажешь, чего ради будешь мне месяц песни петь, так они и сами никуда уезжать не захотят.
Странно, но при этих словах Водяного Садко отчего-то не вспомнил рассказа Бермяты о том, как его разбойники стали рубиться и порешили друг друга ради проклятых сокровищ.
Или не подумалось купцу, что не только в разбойные души может проникнуть эта злобная страсть, не только лиходеи от вида золота лишаются ума?
Да что там! Он и сам уже ничего не видел, кроме этих сверкающих груд. И хотя умом понимал: сейчас надо убраться отсюда поскорее и со всеми вместе взяться за перевозку сокровищ, но хотелось ему лишь одного — прикоснуться к золоту, набрать его полные пригоршни, даже снять рубаху и завернуть в неё сколько поместится!
— Пожалуй, что верно, — с трудом переведя дыхание, проговорил купец. — А ну подплывём поближе.
До сих пор неподвижные косатки дёрнулись и послушно приблизились вплотную к золотой ладье. Теперь было ясно видно: да, её борта и точно кованы из металла, не покрашены под золото... Только вот снизу уже не стало видно, что там внутри, борт был высок.
— А ну, погоди-ка меня, супостат мокрый!
Садко и сам потом не мог вспомнить, как вдруг позабыл, что нельзя разжимать левую руку, в которой он сжимал бороду Водяного. Но как бы ещё ему удалось подтянуться, ухватившись за борт ладьи, и запустить внутрь её правую руку?
Монеты и каменья скользили и перекатывались под его пальцами, но почему-то он всё никак не мог отделить от них горсть и выудить из ладьи. И чем больше он возился с тяжёлыми холодными кружочками и не менее холодными камнями, тем сильнее ему хотелось набрать их, набрать побольше.
Рывок! Скользкое тело косатки вдруг вывернулось из-под седока, и он лишь каким-то чудом успел ухватиться за борт ладьи другой рукой. Обернувшись, увидал, как оба «коня» прянули прочь и остановились лишь возле самого выхода из грота.
— Вот так-то и все вы! — радостно забулькал «Морской царь». — Как злато увидите, так вас голыми руками и бери! Держал меня, держал, а тут вот взял да и выпустил!
— Ах ты, гад плавучий! — задыхаясь, Садко подтянулся, сел на борт верхом и едва не ослеп от окружившего его сверкания. — Ах ты, нечисть бородатая! Не радуйся! Как отпустил, так и опять ухвачу твою бородёнку!
— Ан не ухватишь! — зашёлся злобным смехом Водяной. — И далековато будет, да и нет у тебя больше супротив меня средства... Где крестик-то твой, а?
Купец глянул на свою руку и помертвел. Креста не было! Пока он висел на одной руке, пока подтягивался на борт ладьи, намотанный на ладонь шнурок, как видно, разболтался и соскользнул. Деревянный крестик едва ли мог утонуть, но как и где искать его сейчас, когда в нём только и осталось спасение?! Что же он наделал?
— Гляди, гляди, глупец! — ликовал рыбоглазый. — Может, и отыщешь. Да тебе это уже не поможет. Сейчас я уплыву отсюда, а вот ты никогда не уплывёшь. Если и вынырнешь из-под скалы, так тебя стражи островные, вороны чёрные насмерть заклюют. А то оставайся в этой пещере. Вот же оно, то, чего тебе больше всего в жизни надобно, злато червонное! Его и ешь досыта! А людишек твоих я в рабство обращу. Может, варягам продам, может, на себя работать оставлю. Прощай, дурья твоя башка!
Садко понял, что в следующий миг касатки нырнут и исчезнут, а он и в самом деле останется на проклятом острове, чтобы здесь и сгинуть. Вода озёрная пресная, так что умирать он будет долго-долго — без еды-то человек не один месяц протянуть может...
— Господи Иисусе, прости меня, грешного, и помилуй! — прошептал он и перекрестился, в ужасе задаваясь вопросом, подействует ли это, помогут ли ему молитва и крестное знамение, если свой крестильный крест он потерял.
— А ну стой, мошенник! Куда заторопился?
Этот вопрос был задан спокойно и насмешливо. И даже не слишком громко. Но обе косатки «Морского царя» от этих слов разом прянули прочь от тёмной щели, от выхода из пещеры, остановились и вдруг, словно собаки, разом ткнулись своими хищными мордами в подставленные ладони человека, неожиданно возникшего между ними и щелью.
Человек стоял, именно стоял прямо на воде, его обутые в поношенные сандалии ноги даже по щиколотку в неё не погружались.
— Старец Николай! — вскрикнул Садко и почувствовал, что готов разрыдаться.
Что до Водяного, то тот при виде странника заверещал ещё громче и испуганнее, чем когда рука Садко сжала его бороду. Он дёрнулся, пытаясь заставить свою рыбину нырнуть, но косатка даже не шелохнулась.
Никола гладил рыб, пошлёпывал по вскинутым к нему мордам, а те ластились к нему, словно собаки, и фыркали от удовольствия.
— От... от-куд... от-ку-уд-д-да ты здесь взялся?! — В булькающем голосе рыбоглазого звучал теперь беспредельный ужас. — От-ку-да...
— Ишь ты, как раскудахтался! — От мягкости и теплоты в речи старца не осталось и следа, теперь он говорил гневно и грозно. Было очевидно, что Водяной не зря его испугался. — Откуда я здесь и зачем, то моё дело. Тебя не спрашивал! А вот ты какое право имеешь над честными людьми измываться, в плену их держать, условия им ставить? Да ещё и врёшь, будто ты тут — царь и все моря, да озёра, да реки твои! Кто тебе давал власть над ними? Али не ведаешь, чьё это всё на самом деле? Ведаешь, поганец!
— Так я ж просто так! — заскулил Водяной. — Я же шутил просто. А что людишки так до золота падки да жадны, так то ж не моя вина...
— И не твоя печаль! — Голос Николая эхом прогремел под низкими влажными сводами пещеры. — Эй, Садко! А ты что прирос к ладейке-то? На помощь звал? Вот я пришёл тебе помочь. Плыви-ка сюда, к своей рыбке.
— Я... Отче, я крест обронил! Сейчас подплыву, гляну только, не в ладье ль он?
— Вот она, твоя пропажа.
Старец поднял руку, и купец увидел повисший на шнурке крестик.
— Спасибо.
Садко в несколько взмахов доплыл до косаток, живо взметнулся на спину той, на которой сюда приплыл, и, привстав, будто на стременах, схватил и поцеловал руку странника. Он начинал уже понимать, кого видит перед собой, и не мог взять в толк, почему не понял этого раньше. О чудесах, которые вот уже много столетий совершает этот старец, ему приходилось слышать не раз и не два. Почему же до сих пор ему не приходило в голову?..
— Ведь ты же... Ты же — Божий Угодник! Святитель Николай Чудотворец! — воскликнул Садко. — Ты всегда помогаешь бедствующим.
— Не всегда! — печально вздохнул святой Николай. — Только если они Бога вовремя вспоминают. Или с особого Божьего соизволения. Что я без Господа-то могу? Без Него никто ничего не может. А ты так и не понял, к кому в плен попал?
— Нет. Он ведь Царём морским назвался.
— Он тебе и ещё, кем хочешь, назовётся! — Светлый взгляд святого, казалось, жёг Водяного огнём, тот так и корёжился на спине своего «коня». — Враль он и обманщик! Он в одном прибрежном племени волхвом был. Очень любил над простыми людьми властвовать. Для этого колдовству обучился, чернокнижником стал. А как пришла на Русь вера Христова, решил против князя взбунтоваться да крещению воспротивиться. Народ на бунт поднимал, да пошли за ним немногие. И когда воины идолов крушить стали, он за идола так крепко уцепился, что вместе с ним воду бултыхнулся. Ну и ещё около сотни местных, им же соблазнённых, следом попрыгали — испугались кары княжеской. Волны их с идолами вместе в море унесли, к скалистому берегу прибили. И так как они целые сутки, будто рыбы, в воде плавали, то и похожи стали на рыб. Видал, каков красавец! А колдовать-то он не разучился. Ну и стал тварей озёрных зачаровывать. Даже вон нескольких косаток из северных морей через реки да протоки сюда заманил, чтоб людей ими пугать да на них верхом разъезжать. Ладьи топил, мореплавателей в плен брал да в рабство обращал. А если с кем было не совладать, кладом вот этим заманивал и губил. Что, Чуока? Так ведь имя-то твоё было? Что молчишь? Я ведь правду про тебя говорю.
— Выгнали меня с моей земли, вот я в море и ушёл, — сипло прогундел колдун.
— Не мутил бы народ, кто б тебя тронул? — Николай Угодник, всё так же легко ступая по воде, будто посуху, подступил к Чуоке и наклонился к нему, отчего тот так съежился, что, кажется, стал в два раза меньше. — А теперь — пошёл вон, обманщик! Плыви прочь, как сам сможешь! Не потонешь, я знаю: призовёшь рыб покрупнее, они тебя и довезут. Только, чтоб когда мы приплывём, ни ты, ни нелюди твои больше нам на глаза не попадались. И если станешь впредь людей обижать, воли лишать, поплатишься за всё и сразу. Понял? Вижу, что понял. Гляди же! А косаток твоих, когда они Садко к его товарищам доставят, я назад отправлю, в море Северное, чтоб им там жить, детей на свет рождать. Вон в Нево-озере они и так половину рыбы извели — им-то её много надо. Ну! Кому я сказал? Ныряй!
Водяной-мошенник, что-то глухо бормоча и повизгивая, сверзился со спины косатки, ухнул в воду и исчез в чёрной щели прохода.
Глава 4. Щедрый купец и многомудрый посадник
— Значит, говоришь, не велел тебе святой Угодник Божий вновь за тем златом плыть, да ты его повеления ослушался? Так ли?
Добрыня подлил гусляру в чару вина и заметил, что тот кинул взгляд на блюдо с остатками дичи, но явно не решился протянуть к нему руку (закончив свою песню, он уже съел кусочек жареной утки и ломоть хлеба, но, похоже, почти не наелся).
— Бери, бери, ешь, сколько душе угодно! — воскликнул посадник и сам придвинул блюдо поближе. — Гости мои, гляжу, уж наелись. Ты, стало быть, повеления святителя ослушался?
— Не так, Добрыня свет Малкович! — Садко взял с блюда жареную перепёлку и с удовольствием надкусил. — Ну... Не совсем чтобы так. Когда твари Божии, косатки эти, меня и Чудотворца Николая к острову скальному привезли, дружинники мои от радости едва с ума не посходили. Не чаяли увидать меня живого. А дружина колдуна оттуда вся пропала, не знаю уж, куда они подевались, колдун-то врал: ни в каких рыб они днём не обращались. Значит, либо попрятались, почуяв, что дело неладно, либо по воле святого куда-то вместе со своим предводителем перенеслись. Велел отец Николай, чтоб их не видно было, ну, так и поделалось. И ладья моя на воде мирно покачивалась, никаких камней под ней уж и в помине не было. Решили мы уплыть оттуда поскорее. И когда я со святителем прощался, то спросил: «А что, отче, если я теперь поплыву к тому островку, где ладья нибелунговская спрятана? Я ведь знаю, что туда в отлив подплывать надо, знаю, и как проход увидеть — голубку надо пустить. Получится ль у меня?»
— И что же святитель? — Добрыня, с величайшим интересом выслушавший песню о путешествии Садко, теперь с не меньшим интересом ждал окончания поразившей его истории.
Садко глубоко вздохнул.
— А святитель в ответ на мои слова головой покачал и молвил: «Ты ведь. Садко, хочешь те богатства заполучить, чтоб спор у купцов выиграть, посрамить их и в дураках оставить. Разве ж это хорошо? Смотри! Один раз ты опасности избежал, и я тебе помочь сумел. Но не во всякий раз так получиться может. Человек живёт по своей воле, так Господь распорядился, потому сам и решай. А может, решишь, что лучше будет в Новгород вернуться, перед купцами за гордыню повиниться да сторговаться, чтоб не вовсе они тебя разорили. Гляди!» Сказал так и, веришь, пропал, будто бы и не был. Ну, я решил, что по мудрому совету поступлю — не поплыву более к той ладье. Но уж смеркаться стало, покуда мы ужинали, покуда собирались, ночь пришла. Я и решил, что заночуем мы там ещё раз — Водяной-то уж точно от нас отвязался. Да и крест у меня вновь был на шее. А во сне я опять эту самую ладейку увидал! Всю ночь снилась, проклятущая! Проснулся, а самого аж трясёт — не могу из головы выкинуть тот клад! Ну, и решил: сплаваем мы туда один разок. Дорогу, как рыбы-косатки плыли, я хорошо запомнил. Дружинники мне не перечили, да и не слыхали они тех слов, что на прощание святитель сказал. А я утешался: вот, мол, он же не запретил. Сказал, что сам решить могу...
— И отправился к островку с идолом? — Добрыня заметил опустевшую чару гусляра и плеснул туда ещё вина. — И страшно не было?
— Было. Да больно уж манило меня злато. И купцам вашим, что греха таить, нос утереть хотелось.
Он покосился в конец стола, где сидели важные торговые гости, но тех уж не было. Выслушав песню, покачав головами и помотав бородами, толстосумы удалились. За столом оставался один Антипа Никанорыч, сидевший в глубокой задумчивости.
— Отправились мы поутру, — продолжал рассказывать Садко. — Я понимал, что плыть будем, почитай, до вечера: одно дело — рыба-косатка, она, что твоя лошадь, мчится, другое дело — ладья, да ещё если ветер не попутный и на вёслах идти надобно. Плыли мы, плыли, и вроде сперва небо было ясно и ветер не шибко силён. Да вдруг всё кругом потемнело, тучи повисли, как в раз, ну, когда нас к Водяному на остров занесло. И налетел шторм, может, пострашнее того, что тогда был. Нас опять понесло, замотало и так носило и мотало до самого утра. Гребцы едва справлялись с вёслами, кормчий с трудом удерживал руль. Мне пришлось на какое-то время сменить его, не то Лука б и сознания лишился, так мало у него оставалось сил. Вот уж и светать начало, мы уж думали — всё, дай Бог, шторм стихать начнёт, как в прошлый раз было. Вроде он и стихал. Да только упал туман, ничего видно не стало, и вынесла нас одна из волн на камни. У ладьи днище пробило, потом она на бок упала да и распалась кусками... Кто сумел, тот за что-нибудь уцепился — кто за мачту, её целиком вырвало, кто за доску какую-нибудь. Так мы, семеро человек, добрались до какого-то островка. Остальные, думаю, в волнах смерть приняли. Несколько дней мы на том островке прожили. Хорошо, вода в Нево-озере пресная. Рыбы немного добыть удалось, с голоду не погибали. А потом показался струг рыбачий. Подобрали нас рыбаки да сюда и привезли. Ну, а здесь, ты знаешь, возрадовались купцы новгородские, что я им спор проиграл и всё, мною нажитое да в залог оставленное, они себе по праву забрать смогли. А я об одном лишь думал — как шестерым моим уцелевшим товарищам хотя бы то-то дать, чтоб им по крайней мере до дому добраться. А ещё ведь остались вдовы да дети у тех, кто потонул. Им-то я и подавно должен! Тут мне и посоветовал кто-то из новгородцев: мол, пир нынче у посадника Добрыни, вот туда б и шёл. За добрую игру на гуслях и песню хорошую посадник может щедро наградить. Бывало, мол, такое.
Садко прервал свой рассказ и пристально глянул на Добрыню.
— А что? Правда ли это? Я видел, и моя игра, и песня моя тебе по душе пришлись. Могу ли награды ждать?
Добрыня рассмеялся. Он отлично видел, какого труда стоило разорённому купцу довести свой рассказ до конца. Наверняка ему было и стыдно, и досадно — ещё бы, с таким-то гордым нравом! Может, да нет, даже наверняка, ему было нелегко прийти на пир к посаднику и предложить спеть да сыграть. Но он преодолел себя наверняка уже ради одного только долга перед оставшимися в живых товарищами, которых его гордыня оставила нищими.
— Песня мне и впрямь по душе пришлась, — ответил Добрыня. — Дай играешь ты на диво, даром, что ли, сам Водяной заслушался! Конечно, я тебя награжу, Садко-купец. Только не маловата ль будет награда за песню для того, чтоб тебе её на шестерых поделить да ещё для вдов с сиротами долю оставить? Не скуп я, но ведь и не так чтоб богат. Что скажешь?
Садко тряхнул головой, и вечернее солнце зажгло золотом растрёпанное облако его волос.
— Спасибо уже на добром слове, господин честной посадник! Сколь не пожалеешь, за всё с низким поклоном благодарить буду. Но, быть может, поверишь ты слову моему честному и дашь мне, сколь сможешь, в долг. Чтоб мне хоть понемногу вдовушкам раздать да самую малость на новый товар потратить. Я всегда был удачлив, надеюсь, и впредь торговать стану с прибылью. Года не пройдёт, а долг верну и много сверх набавлю. Или, если не так, то возьми меня к себе на службу. Я ведь не только торговать умею — и меч в руках держать обучен, бьюсь, поверь, не хуже многих твоих дружинников. Читать и писать умею, а много ли в свите твоей грамотных? Ну, так как? Поможешь?
Добрыня ненадолго задумался. Это был не первый раз, когда у нею просили помощи — он был посадник, а к посаднику нередко обращаются самые разные люди, с самыми разными нуждами. И порой надо внимать просьбам — народ должен знать, что князь поставил над ним человека не злого и не жадного. По правде сказать, Добрыня и не был ни жаден, ни зол. Ему как раз чаще приходилось удерживать себя от щедрости и великодушия — помочь-то хотел бы многим, вон сколько кругом бедных, разорённых, сколько вдов, потерявших мужей да с детишками оставшихся. Но на всех же не напасёшься, а казна новгородская хоть не слишком бедна, но ведь и нужно многое. Князю дань платить немалую, дружину содержать достойно, крепость укреплять, не то жди беды от всевозможных соседей, коим новгородское богатство давно уж глаза намозолило. Иногда тратить приходилось сразу помногу. Как, к примеру, после пожара, уничтожившего дома многих христианских семей. Конечно, часть средств отдали родственники разоблачённых поджигателей, испугавшись, что их тоже ждёт кара (знали ведь, негодные, а не донесли!), но казна всё равно изрядно похудела.
— Сколь могу, я тебе, Садко, помощь окажу, — проговорил посадник. — Ив долг дать решусь. Только на твои нужды наверняка больше надобно, чем я выделить смогу. Я же перед князем в ответе, и без самой крайней нужды на казну посягать — не моё право. Если б у тебя ещё кто-то был, кто б тебе в долг поверил...
— Я поверю! И, сколько потребно, одолжу.
И Добрыня, и Садко разом обернулись. И увидели, что эти неожиданные слова произнёс купец Антипа Никанорыч, до того долго сидевший за столом молча.
— Прости, господин честной посадник, и ты прости, гость ладожский, что я разговор ваш слушал. Только за столом уж тихо стало, а говорили вы, не таясь. Я поверил твоему рассказу, Садко, хоть и чуден он — никогда такого не слыхивал. Однако помочь тебе хотел бы. Тем более, раз сколько-то Добрыня Малкович дать готов.
— Вот и славно! — искренне обрадовался Добрыня. — Видишь, не все купцы в Новгороде одной своей мошной дорожат.
— Кто ж ты таков, добрый человек? — Садко поднялся из-за стола и поклонился. — За кого отныне молиться прикажешь? Моё имя Садко. Садок Елизарович. А ты?
— Антипой крещён, так же и зовусь! — сверкнул улыбкой красавец купец. — Друзья-то твои уцелевшие где сейчас приют нашли?
Садко тяжело вздохнул.
— Где ж им быть? Из сарая, где я в залог своё добро оставил, все товары мои вынесли. А у меня остался на пальце перстень с камнем самоцветным — в Царьграде покупал когда-то. Вот я его продал за полцены да уплатил хозяину сарая, чтоб позволил моему кормчему Луке (слава Богу, он жив остался!) да другим пятерым в том сарае на день остаться, отдохнуть. Да ещё сторговал за тот перстень немного хлеба и четвертину вина. Оставил всё товарищам, а сам на пир подался, чтоб игрой своей да песнями что-то заработать. И, вишь ты, заработал! Более, чем надеялся!
Антипа насупился.
— Знаю я хозяина того сарая. Ерофеем его кличут. И это он, значит, за день постоя в своём сараюге дырявом да за каравай и четвертак вина с тебя ещё плату содрал? У-у-ух, греха человек не чует... Ладно. Кличь своих, у меня немного поживёте. Терем мой просторен и более народу вместить может, не только полдюжины. Да и не беден я, накормлю и напою — довольны будете.
Слушая всё это, заулыбался и посадник. Антипу он примечал и прежде. Тот ему нравился, выгодно отличаясь от прочей купеческой братии. Теперь же купец и вовсе расположил к себе сурового Добрыню. Он поманил к себе обоих молодых людей и, когда те подошли, предложил ещё раз наполнить чары.
— Стало быть, жить вам поживать да нового добра наживать! — Посадник первым поднял расписную утицу[40], полную ароматного зелья. — Но задержитесь-ка оба, у меня к вам ещё разговор будет. А я покуда кого-нибудь из ребят моих кликну, пускай денег принесёт. Я первым обещал, первым и отдам обещанное. Песня твоя дорогого стоит.
Садко заметил, что Добрыня, явно обрадованный предложением Антипы, вскоре сделался задумчив, словно какая-то неотвязная мысль не выходила у него из головы.
— Вот что, Садок Елизарович, — глотнув вина, проговорил посадник. — А нет ли у тебя мысли вновь за тем колдовским кладом отправиться? Судя по тому, как ты его описал, он и впрямь богат, как казна цареградская.
Синие в вечернем свете глаза Садко сверкнули и тотчас погасли.
— Не стану лукавить, искушение в голове имею... Но покуда на сей раз всем долгов не отдам, то и помыслить об этом не смогу. Да и святителю Николе теперь с особым тщанием молиться стану — пускай подскажет, можно ли вообще на то злато зачарованное покушаться.
— Меня тоже твой рассказ за живое взял! — воскликнул Антипа, поскольку Добрыня не спешил заговорить. — Или я сам не купец? Только вот не таит ли сие злато гибель для любого, кто к нему прикоснётся? Чтоб знать слово какое заветное для того клада или...
Посадник поднял руку, и молодой человек умолк.
— У вас — свои мысли, а у меня свои, — сказал Добрыня. — Я сюда князем посажен, чтоб его нужды блюсти. И подумал вот о чём. Владимиру-то, племяннику моему, князю нашему, сейчас злато, ой, как потребно! Понимаете?
— Так когда ж это правителю не нужно было богатство? — удивился Садко. — Без злата какое же государство жить может?
— Всё так! — уже волнуясь, воскликнул посадник. — Но здесь-то совсем другое дело. Сами посудите, честные купцы: взял Владимир Святославич на себя ношу тяжкую, чтоб не сказать, непосильную — не по силам Господь креста не даёт, знаю... Но ведь как трудно ему, а? Решился он принять веру Христову сам — уже деяние великое! Он же князь! На него вся Русь глядит, а народ ему следует. Значит, раз принял эту веру, то и другим пример подал. Но Владимир на этом не остановился! Он объявил, что весь удел, ему подвластный, стало быть, вся земля Русская отныне христианской будет. Священников греческих призвал, чтоб служили в новых храмах, людей учили, как Богу единому молиться, чтобы Христа проповедовали. Храмы наши в городах строить стал, монастыри, кои уже были, расширять, новые открывать. И вам ли не знать, сколько злобы на него за то обрушилось, сколько козней ему строили и строят те, кто нашей веры на Руси не хочет...
— Да уж видывали, на что они способны! — пробурчал себе под нос Антипа. — Змеи подколодные! Дома жечь не боятся — людей губить да без крова оставлять!
— И не только, — подхватил Добрыня. — Дай им, они крепости станут рушить, с врагами Руси, с половцами, с печенегами столкуются, им продадутся, лишь бы те князю вред сотворили! Что ж делать, а? Приходится князю дружину большую держать. Обычно такую только для войн, для походов боевых собирают, а у Владимира — каждый день, словно поход боевой. Ну вот и посчитайте: церкви Божии строятся, войско при князе растёт. Мало ли для всего этого денег потребно? И уж ему-то, Владимиру, занимать не у кого... Что делать? Я вот и помыслил: очень бы пригодилось князю то самое сокровище, про которое ты, Садко, рассказал, которое на Нево-озере видел.
Садко так и подскочил на скамье, едва не вылив на себя остатки вина из чары. То, что сейчас говорил Добрыня, было ему куда как понятно. Он был крещён с детства, вырос в христианской общине и давно знал, что очень многие, такие же, как он, русские люди не любят и не понимают христиан. Не понимают смирения, которое несёт и проповедует эта вера, не понимают и не принимают любви к Богу, ходившему по земле в человеческой плоти да ещё позволившему людям предать самого Себя мучительной смерти. Богу, не пугавшему, не бравшему власть громами и молниями, дождями либо засухой, не возносившемуся над толпой грозными своими изваяниями. Бог, что смотрел на людей с греческих икон большими кроткими глазами из-под изранившего Ему лоб колючего венца, как мог такой Бог создать мир, повелевать миром?!
Иногда Садко тоже сомневался, понимает ли он всё в своей вере, принимает ли её до конца. По крайней мере он не раз думал, что не подставил бы левой щеки, если б кто-то вздумал ударить его по правой.
И вот князь Владимир решил сделать веру во Христа русской верой, научить этой вере народ, власть над которым ему вручил Бог, иначе как могло бы статься, что сын княжеской наложницы, рабыни получил Киевский престол? Раз получил, значит, Господь пожелал этого.
Вот тогда-то и всколыхнулись и взъярились те, кто прежде лишь злобно шипел, видя православный храм, плевались в сторону монастырей, кто исподволь, но упрямо травил крещёных людей. И только теперь, когда волна неистовой ярости прокатилась по русским городам, когда огонь объял некоторые храмы и многие дома, когда обуреваемые этой яростью христоненавистники, подстрекаемые волхвами, стали убивать тех, кто принял Благую Весть[41], только теперь Садко вдруг понял, что действительно всем сердцем верует во Христа. Не может то, в чём нет истины, что не заключает в себе спасения, вызвать такую бурю ненависти. С бессилием не борются всеми силами, на ложь и обман не обрушивают такого гнева. Если само Имя Христа заставляет этих людей бесчинствовать, восставать против своего князя, то, выходит, Христос им бесконечно страшен. Он страшен злу.
Садко много путешествовал и отлично знал, что во многих землях одни племена подчиняли себе другие, и те, кого подчинили, легко принимали и начинали почитать богов, которым молились и приносили жертвы победители. Что ж, раз ваши боги одержали верх, то они сильнее, ну, значит, и мы будем им молиться. Но ныне бешенство, неистовость, безумное неприятие прямо-таки сводили с ума противников крещения. Нет, не просто чужую веру отвергали и гнали прочь эти люди — они пытались отвергнуть самого Бога, отвергнуть добро и своё спасение!
И, конечно, князю Владимиру, решившемуся вступить в эту борьбу, принять на себя этот крест (как там сказал Добрыня? Не по силам не даёт?.. Хорошо, если так!), сейчас князю, само собой, очень и очень нужно золото, нужно не ради роскоши и блеска, как царьградскому кесарю, но именно ради утверждения веры. Русской веры.
— Так как же ты думаешь? — Голос посадника прервал размышления Садко. — Ведь стоило б тебе поведать Владимиру о кладе, стоило бы снова рискнуть, чтобы для благих его дел добыть золотую ладью?
Купец ответил не раздумывая:
— Наверное... Да нет, наверняка стоило бы!
— Вот! — обрадовался Добрыня. — Ты спрашивал, не могу ли я тебе какую службу при себе дать? Мог бы, конечно. Только на посадничьей службе сильно не разбогатеешь. Долги, может, и вернёшь, но сколько времени пройдёт? А что, коли я тебе предложу к князю Владимиру поехать?
— В Киев?
— А куда же? Там он сейчас. Покуда ещё соберётся на своих ладьях сюда, в Новгород... Может, не один месяц прождём его здесь. А так ты с такой доброй вестью сам приедешь. Возьмёшь дружинников, тех, кто у тебя остался, я вам всем денег отпущу, припасов дам всяких, чтоб в дороге нужды не иметь.
— А я ладью дам, — подхватил Антипа Никанорович. — Только прошу, Садко, ты меня с собой возьми! Не думай, не жадность меня обуяла, хотя, когда ты про злату ладью рассказывал, у меня по телу аж мурашки бегали... Но хотелось бы испытать себя в деле стоящем, в походе опасном. И на службу княжескую я тоже поступить не против. А зато я б уже сейчас дал денег, чтоб отправить в Ладогу, вдовушек поддержать да утешить.
Вместо ответа Садко, редко являвший кому угодно свои чувства, поднялся и крепко обнял вставшего ему навстречу Антипу.
— Дай Господь тебе... Спасибо, добрый человек!
— Вижу, вы обо всём столкуетесь! — воскликнул довольный Добрыня. — А уж как приедете в Киев, как ты, Садко, князю всё обскажешь, так он и будет решать, посылать ли тебя со товарищи за колдовской ладейкой, либо просто к себе возьмёт. Ему верные люди нужны, почти как то злато. Сможете ли завтра же отправиться? Я тогда нынче же письма отпишу племяннику да сестре своей любезной, матушке княжеской.
На том всё и было решено. Посадник встал из-за стола, и те из его гостей, что ещё дремали, уткнувшись носами в блюда и в чары, стали просыпаться, чтобы потихоньку двинуться к воротам. Не продолжать же пировать, когда хозяин уходит...
Вскоре за столами остались лишь те, кто спал уже совсем крепко.
ЧАСТЬ IV КНЯЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Глава 1. Князь Владимир и его воин
Как ни сторожко поглядывали всевозможные иноземцы на всё более и более крепнущую и набирающую новую силу Русь, как ни косились на неё порой недобрым оком, но никто из тех, кому случалось побывать во граде Киеве, не говорил о нём обычно ни одного дурного слова.
Град, основанный в пятом столетии от Рождества Христова Полянским князем Кием[42], был действительно красив и величав. Детинец[43], обнесённый мощным земляным валом и по верху вала — высокой бревенчатой стеной с выступающими массивными башнями, стоял высоко на горке, потому так и именовался — Гора. К её подножию, целиком занимая широкую береговую полосу, сбегались терема и избы. И если в крепости жили уже не менее тридцати тысяч человек, то и Подол, так прозвали нижний город, населяло уже не меньше народа — кузнецы, столяры, бочары, ткачи и портные, искусные изготовители всевозможных украшений, гончары и стеклодувы. Все они жили при мастерских, здесь же предлагали свои изделия как горожанам, так и заезжим купцам, каждодневно приводившим к стольному граду ладьи и лодки.
Возле самой реки лепились избушки рыбаков, а вдоль многочисленных мостков, сбегавших к воде, качались их долблёные судёнышки да висели на столбах искусно сплетённые сети.
Над Детинцем виднелись не только защищавшие его могучие башни. Из-за самой стены, куда выше её поднимались луковичные церковные купола, над которыми светились золотом кресты.
Одной из первых князь Владимир возвёл в Киеве Десятинную церковь, которой приносил постоянно богатые подношения, как и прежнему, бывшему в городе ранее храму Святой Софии. Возводились храмы и поменьше, и по утрам дружная песня колокольного звона разносилась под Детинцем и Подолом, разливалась над Днепром.
Внутри стольный город тоже не разочаровывал ни русичей, приезжавших сюда с разными делами, ни тех же иноземцев, которых являлось всё больше и больше. За крепостной стеной и валом, изнутри пологим и исчерченным многочисленными лестницами, изрытым погребами, высились каменные палаты князя и его бояр, а вокруг них — деревянные, но не менее красивые терема. Тут жили дружинники — в постоянной дружине Владимира состояли не менее пяти тысяч воинов[44], и все, кто состоял у князя на службе, и городские священники, и наиболее искусные кузнецы-оружейники, чьё мастерство становилось особенно необходимым, когда приходилось готовиться к сражениям. Жили на Горе, в своих палатах, приближённые к князю бояре со своими слугами и дружинами, жили лекари, а также мастеровые, приставленные наблюдать за состоянием крепостных стен и вала, чтобы, когда нужно, чинить их. Появились на Горе и свои пекарни. Хоть и пекся свой хлеб в каждом доме, но на искусно выпеченные пироги, кренделёчки, румяные хлебные фигурки всегда находились охотники.
Были на Горе и бани. Как же без этого русскому человеку? А потому почти при каждом дворе поднимались над срубами колодцев длинные шеи «журавлей». Хоть и глубоко здесь было рыть до воды, но её в Детинце должно быть в избытке: как можно, чтоб враг, какой угодно, получил такую возможность овладеть крепостью — заморить её жаждой!
Хорош был Киев! Многим нравился, многие хотели в нём жить.
Но и таких было немало, кто зло кривился при упоминании о русском стольном граде. Немало находилось врагов у князя Владимира. Как бывало всегда, враги гнездились по границам Руси, для защиты которых князь принялся ныне возводить по степным границам крепости и создавать при них постоянные засады[45]. Вокруг таких крепостей возводились города, соединяя окраины Руси, скрепляя её могучим кольцом.
Немало врагов было у Владимира и в самом Русском государстве. Испокон века случались распри между князьями, начинались и разрастались войны, бывало, кровные братья истребляли друг друга, дабы утвердиться во власти... И, казалось бы, объединив наконец Русь, прекратив междоусобицу, Владимир Святославович принёс этой земле мир. Но не могли уняться и смириться противники принятой им веры Христовой, веры, которая стала отныне русской. Денно и нощно то не покорившиеся и затаившие злобу князья, то волхвы, утратившие власть над простодушными племенами и потому кипевшие злобой, то тут, то там баламутили народ, поднимали на бунт. То в одном, то в другом уделе вспыхивали распри, кровь русских лилась на русскую землю, а дружины князя или его посадников шли на смерть, чтобы отстоять порядок и сохранить незыблемой княжескую власть.
За Горою, за городскими стенами расстилались луга, во многих местах распаханные и засеянные рожью, гречихой, овсом, льном. Сажали здешние крестьяне репу, морковь, капусту, держали птицу и скотину, которую, случись беда, надо было живо загонять в Детинец, под защиту крепостных стен.
Росли вблизи града Киева и богатые дичью леса. Прежде больше всего любил Владимир Святославович охотиться в этих роскошных угодьях. Да и теперь не разлюбил давней забавы. Только вот времени у него на это оставалось мало. Так мало, что порой охотничий лук со стрелами месяцами висел на стене в нижних покоях княжеского терема.
В то утро караульные, смотревшие на зелёные просторы чащ и лугов с башен и через бойницы заборала[46], сразу приметили двух всадников, миновавших ворота, проскакавших по мосту надо рвом[47] и резво устремившихся к лесу.
— Гляди-ка, князь! — воскликнул один из караульных, даже издали и с немалой высоты сразу узнав и любимого княжеского жеребца, серого в яблоках, и характерную для Владимира посадку в седле — не всякий половец усидит в седле на таком скаку. При этом, не покачиваясь и держась за поводья одной рукой, в другой руке князь что-то сжимал, рассмотреть бы, что. Лук, наверное.
— Неужто наконец на охоту? — Другой стражник подошёл к первому и тоже стал смотреть. — И то сказать, бывало, трёх дней не проходило, а уж князь дичь травить мчится, а тут столь многими делами занят, что и пострелять некогда. О! А кто ж это с ним?
— Ну, как это кто? Варяг наш. Этот, как его? Верхарт, что ли?
— Герхард. Какой же он варяг, если в нашу веру крещёный?
— Ну и что, что крещёный? Всё едино — варяг, он везде варяг. Я слыхал, князь, что когда-то градом Киевом правил нынешнего князя пращур, он тоже был из варягов.
— Рюрик-то? — Старший из стражников снисходительно пожал плечами под серебристой чешуёй кольчуги. — Много ты понимаешь! Может, он и варяг, но наш, нашего роду-племени.
— Ага! — Второй спорил больше из упрямства, а может быть, потому, что без дела им обоим было скучно торчать на сторожевой башне. — Если нашего роду-племени, с какого же он рожна князя Аскольда с его братом из-за стен киевских выманил да убил?[48]
— Ну, князья друг на друга нередко войной идут! — не без тайного осуждения проговорил старший. — Тут варягом-то быть необязательно. А Герхард этот, сказывают, воеводой был при германском амператоре[49], а после с его посольством на Русь прискакал да при Владимире-то и остался. Больно они сдружились.
— И слава Богу! — искренне воскликнул младший из стражников, рыжеватый, ещё почти безбородый парень — светлый пух только-только стал заметен на его щеках и подбородке. — Воин-то он лучше некуда! Эй, гляди-ка, Проша, они ж не охотиться скачут, они в ратном деле сноровиться затеяли!
Действительно, немного не доехав до зеленеющих в конце поля густых кущ, князь и его спутник разом осадили коней и спешились. Солнце огнём вспыхнуло на полированном металле их кольчуг, лишний раз доказав, что они и впрямь собираются не гонять по лесу косуль или кабанов, а упражняться в воинском искусстве.
Коней отвели в сторонку и привязали к какому-то одиноко росшему деревцу. Рядом со светлым скакуном князя тёмно-гнедой жеребец его товарища казался чёрным. Но ростом, статью, красотой они удивительно походили друг на друга — кони были из одного табуна и летами одногодки, обоим по пяти годов.
Чем-то были похожи и их обладатели, во всяком случае, так казалось издали. Высокие, крепко скроенные, оба гибкие и упругие, оба в почти одинаковых кольчугах и островерхих шеломах, они смотрелись очень красиво.
Разойдясь в стороны, так что между ними осталось шагов сорок, воины одновременно шагнули друг другу навстречу. Шаг, ещё шаг... Вот они пошли скорее, вот почти побежали, одновременно вытаскивая из ножен мечи. (Конечно же, никакой не лук был в руке князя, а именно меч!)
И вот, кажется, ещё мгновение, и мужчины сшибутся, налетят друг на друга, и сила столкновения швырнёт обоих назад. Но они, оказавшись вплотную, резво развернулись вполоборота. И их мечи сшиблись, осыпав обоих снопами искр. Ещё разворот, новый удар, и опять ни один не коснулся другого, только мечи с лязгом и искрами испытывают прочность калёной стали.
Противники (по крайней мере так могло показаться) дрались всерьёз. Они кружили друг возле друга, делая выпады то с одной стороны, то с другой, то обманно отступая, то стремительно кидаясь вперёд, так что казалось, меч готов с ходу вонзиться в грудь соперника. Однако тот уже успевал вновь развернуться и напасть сбоку, но и его нападение встречала надёжная, несокрушимая сталь. Щита ни тот, ни другой не взяли. И то правда: в настоящем жестоком бою долго ли выдерживает даже самый надёжный щит? А если он сломан, покорёжен, сбит с руки воина, тогда надежда лишь на кольчугу, а ещё более — на свою выучку, быстроту движений и верность меча. Вот один из мечей взлетает над шишаком противника, но тот отскакивает и, верно, рассчитывает, что оружие второго с размаху воткнётся в землю. Не тут-то было! Противник на лету останавливает свою руку, отклоняется и уводит меч в боковой замах. И опять скрежет стали и брызги алых искр.
— Ну вот! Я ж вам говорил: если сюда поскакали, то тут у них сеча идёт. Глядите, чего вытворяют!
Эти слова произнёс немолодой уже боярин по имени Демьян Козьмич. Он был спальником при князе Владимире и обычно встречал и принимал его гостей, если самого князя в Киеве не случалось, а гости являлись с чем-то важным. Двое богато одетых молодых людей, прибывшие из Новгорода с небольшой свитой и с письмами от посадника Добрыни к князю и его матушке, безусловно, заслуживали самого доброго приёма. Спросив, не голодны ли гости с дороги, и получив ответ, что, мол, позавтракали в ладье, боярин Демьян решился ускорить встречу и проводить приезжих туда, куда, как он не сомневался, поехал с утра Владимир Святославович. Не всех, само собою, а двоих главных. Остальным же предложил пока отдохнуть в своём собственном тереме. За полчаса с небольшим они добрались до отдалённой опушки, где происходил поединок.
— Пресвятая Богородица! А они так друг друга не покалечат? — с искренним опасением спросил спальника Антипа Никанорович. — Рубятся так, будто и впрямь меж ними война!
— Ещё и без щитов! — подхватил Садко Елизарович.
— Я не раз видывал эти их битвы! — с добродушной усмешкой проговорил Демьян. — И никогда щитов они не брали. Считают, что это искусному воину ни к чему. Эге, гляньте-ка, они нас приметили. Значит, надо думать, сейчас остановятся. Вот и остановились. Здрав буде, князюшко! Здрав буде и ты, воевода!
Садко, откровенно любовавшийся удивительным поединком, вдруг сообразил, что они с Антипой даже не спросили у спальника, а кто из этих двоих князь Владимир. Оба мужчины были если и не одних лет, то вряд ли сильно разного возраста, одеты в очень похожие кольчуги и совершенно одинаковые шлемы. Кому же кланяться в пояс, к кому первому обращаться? Бросив косой взгляд на Антипу, Садко увидел, что и тот выглядит растерянным. Владимир не раз и не два наведывался в Новгород, но богатый новгородский купец так его ни разу там и не застал — в странствиях он проводил не меньше времени, чем его новый товарищ.
Между тем недавние соперники в поединке уже приближались к ним. Если сейчас спросить у Демьяна, кто есть кто, это будет не очень к их чести... А с другой стороны, они же и впрямь никогда не видели князя и совершенно в этом не виноваты!
Но Владимир сам разрешил сомнения приезжих. Шагая к ним, он успел отстегнуть ремешок шелома, снять его и тыльной стороной ладони смахнуть обильно заливший лицо пот. После чего ответил своему спальнику:
— И ты здрав буде, Демьянко! Кого привёл ко мне и почто в покоях моих подождать не предложил? Они что, войну мне объявить приехали или терем мой им тесен показался? Здравы будьте, люди добрые. Так с чем же вы пожаловали?
Так обратиться и к боярину, и к приезжим, конечно, мог только сам князь. Оба купца разом поклонились.
— Они с письмами к тебе да к матушке твоей от посадника новгородского Добрыни! — не дав гостям заговорить, воскликнул Демьян. — А поскольку мне ведомо, что ты, князь-батюшка, и до заката мог здесь рубиться, то я вот и осмелился их сюда привести.
— Твоя правда!
И Владимир расхохотался, сразу рассеяв первое впечатление гостей. Он показался им поначалу уже немолодым, суровым, сильно умудрённым годами. Но теперь выглядел совершенно иначе. Ему было на вид около тридцати пяти лет, но, смеясь, князь казался куда моложе[50]. Рослый, статный, лёгкий на ходу, с широкими плечами, с высокой, благородной посадкой головы, он мало походил на своего отца Святослава. Тот был не слишком высок, кряжист, поступь его была тяжела. И лицом они оказались несхожи, только глаза у Владимира были такие же пронзительно синие и ясные. Но черты отличались правильностью, хоть и могли показаться немного резкими. Лоб был высок, его не делали ниже даже густые пряди пышных ржаных волос, не вьющихся, но волнистых, мягких и лёгких, как у его матери. И при таких почти светлых волосах брови и ресницы черны, как вороново перо.
Спутник и недавний соперник князя в его опасном поединке теперь, когда они встали рядом, уже не казался на него похож. Этот был чуть ниже ростом, зато ещё стройнее и гибче. Когда он шёл, плавно, упруго ступая, в нём угадывалось нечто от тигра или пантеры — те же стремительность и смертоносность. Лицо, в отличие от округлого лица Владимира было удлинённое, тоже с высоченным лбом (шлем он снял ещё раньше, и незаметно было, чтобы сильно вспотел, пока сражался) и с большим, выступающим вперёд подбородком. Тёмные брови подчёркивали и темноту глаз, цвет которых трудно было определить: серые, карие, синие? Нос, удлинённый, украшенный изысканной горбинкой, подходил к мощному подбородку, зато рот был небольшой и нежный, но не капризный. Светлые волосы подстрижены довольно коротко, даже ушей не прикрывают. И бороды нет.
«Кто ж ты такой и откуда? — Садко поймал себя на том, что рассматривает этого человека едва ли не пристальнее, чем самого князя, очень уж необычными показались ему это лицо и весь облик воина. — Вроде помоложе Владимира. Или только кажется? Странный какой!»
— Ну и как вам, гости нежданные, битва наша показалась? — спросил вдруг князь, то ли с усмешкой, то ли серьёзно переводя взор с одного приезжего на другого.
— Бились, будто и впрямь брань между вами! — ответил Садко. — На диво мечами владеете. Я и сам чуть-чуть обучен, так что зря не скажу.
Владимиру явно понравились эти слова. Он подошёл вплотную к купцам.
— Славно, если так... А теперь сказывайте, с чем приехали и что от дядюшки моего Добрыни привезли. По дороге к городу как раз и расскажете.
Глава 2. Княгиня
В высоком княжеском тереме днём бывало обычно, если и не шумно, то достаточно суетно. Ещё бы — кроме князя и его родных здесь жила и часть его дружины, те из дружинников, что считались охраной Владимира. У них тоже были семьи, а при их семьях и при княжьей семье — холопы, сенные девки, стряпухи да ещё всякая прочая челядь, без которой и хотелось бы обойтись, но не выходило. Большой дом всегда требует и большой заботы.
Весь день здесь кто-то куда-то обязательно спешил, то топал по деревянным лестницам и полам подбитыми кожей сапогами, то скрипел плетёными лаптями, то шлёпал босыми пятками. Кто-то кого-то звал, бранил либо, наоборот, нахваливал, где-то брякали горшки да ухваты, где-то лилась вода, принесённая для стряпни или мытья.
Великий князь, чьи палаты находились на втором этаже терема, чаще всего возвращался только к вечеру, а чаще — поздним вечером, занятый многими заботами и делами, но если бывал днём дома, то требовал, чтобы шум прекращали — ему хотелось отдохнуть. И тогда все принимались следить за тем, чтобы ничего не грохалось на пол, не звенело, не падало, чтобы обувь и голые пятки не хлопали шумно по доскам. Кур и гусей, что паслись во дворе и тоже устраивали немалый гомон, загоняли в клети. Только кузнец, живший при княжеском тереме, не прекращал работы, если ему поручено было привести в порядок оружие, кольчуги, шлемы или сделать для кого-то новые доспехи либо меч. Потому как сегодня князь может отругать за шум, может, если сильно устал, даже спуститься в кузницу и в сердцах замахнуться кулаком (хотя ни разу ещё не ударил!), но вот если завтра ему доложат, что у дружинников не хватает оружия либо ратного облачения, тут уж зуботычиной может не ограничиться — тут и плетьми схлопотать недолго, а кто ж этого захочет?
Но к ночи стихали и стук кузнечного молота, и скрип дверей, и даже приглушённые голоса. Часть охраны обязательно бодрствовала, несла караул, но при этом дружинники старались переговариваться потихоньку — люди прочли вечерние молитвы и легли спать, стоит ли их тревожить?
Правда, порой в тереме даже поздней ночью могли вдруг зазвучать музыка и разлиться нежная, как звук ручейка, песня на красивом незнакомом языке. Но это никому не мешало. Не мешает же людям соловей, если поёт по ночам, хотя бы и у самого окна. Ну, не поспишь — послушаешь, зато потом и сон слаще, и пробуждение приятнее. К тому же эти песни и звуки лютни больше всего любил князь Владимир. Играла и пела его жена — княгиня Анна.
Все, кто знал великого князя Киевского в прошлые годы, ныне дивились и не могли привыкнуть к происшедшей с ним перемене. Иные, почти не скрываясь, говаривали: «Околдовали Владимира Святославича святоши греческие! Подменили!»
Да и вправду трудно было поверить, что это прежний Владимир. Прежде в год бывало у него по сто, а то и по двести наложниц. Одних он селил в своих покоях, порою надолго — на месяц, два, бывало, что и на год, других содержал в домах своей родни или друзей, одаривая, когда бывало, чем одарить (каким-нибудь украшением или нарядом, добытым в походах). При этом князь всех их любил искренно, со всей страстью, на какую была способна его сильная, неутомимая душа.
Когда та или иная услада наскучивала ему, он не гнал её, не обижал равнодушием, но обычно прощался просто и ласково и дарил красавицу кому-то из дружинников или друзей. Если удавалось выдать наложницу замуж, князь радовался и от всего сердца благодарил друга за услугу, хотя чаще всего его подарок принимали охотно: любушки Владимира были молоды и хороши — такую ещё поди где-нибудь сосватай, ну а что была наложницей... так ведь не чьей-то — самого князя!
Женился Владимир несколько раз, и каждая из жён тоже была ему дорога. Особенно первая, Рогнеда. Он посватался к ней, когда ему минуло семнадцать и он после жестокой борьбы с родным братом и злейшим своим врагом Ярополком овладел Новгородом и стал там княжить. Ему рассказывали, что дочь князя Полоцкого Роговолда красавица Рогнеда давно мечтает, чтобы её сосватал именно Ярополк. Ещё бы! Он-то княжил в Киеве, был великим князем. Мечта обойти ненавистного брата заставила Владимира отправить сватов к Роговолду — он решил, что сначала возьмёт Рогнеду, а уж потом отвоюет и Киев. Ему ответили отказом, настолько унизительным и грубым[51], что юный князь тотчас, собрав рать, двинулся на Полоцк[52]. Опытные воины советовали этого не делать — город неплохо укреплён, да и зачем тратить на него силы? Рать может пригодиться для обороны, если на Новгород вновь двинется походом Ярополк... Но взбешённый Владимир ринулся на приступ, и напор его войска сокрушил оборону полочан. Князь Роговолд готов был сдаться, однако его никто даже не выслушал. Владимир убил князя и силой взял Рогнеду.
Потом он сделал её княгиней, мучаясь незнакомым прежде чувством вины и испытывая тоже прежде не ведомую нежную страсть, смешанную с жалостью: он понимал, что сделал девушку по-настоящему несчастной.
Чем сильнее она его ненавидела, тем отчаяннее и нежнее он её любил. Потом понял, что и она его любит, и как бы ни хотела вернуть прежнюю ненависть, но уже не может с собой совладать.
Какое-то время они упивались безумной, одурманивающей страстью и купались в ней, как в бурлящей воде горячего источника.
Потом у Владимира появились другие женщины. Они были и до Рогнеды, и он не видел ничего плохого в том, что она будет у него не одна. Конечно, столь страстно любящая его женщина не сможет не ревновать, ну так что же? Тем крепче станет её любовь. Однако Рогнеда не просто ревновала. Она словно взбесилась, и вся, казалось, навсегда ушедшая прежняя ненависть к мужу возродилась с новой силой. Она даже пыталась зарезать его во сне, но он, уже много лет воевавший, слишком привык к постоянной опасности и, успев вовремя проснуться, едва не сломал ей руку, сжимавшую кинжал... Но и после этого ему не удалось её разлюбить — не то не простил бы покушения, убил бы! Потом они помирились, и какое-то время она вроде бы не замечала его измен.
А затем наступило охлаждение, словно из сердца князя вытащили давным-давно пронзившую его раскалённую иглу. Но полюбить кого-нибудь с такой же силой, с какой князь любил свою Рогнеду, он не мог много-много лет, хотя и упивался любовной страстью ежедневно, меняя жён и наложниц, вкушая красоту, как изысканные заморские яства.
И вдруг всё изменилось. Так неожиданно, что Владимир вначале испугался этой перемены, а близкие ему люди в неё не поверили...
Решение принять Христово Крещение и взять в жёны царьградскую царевну, сестру императора Византии Василия, князь принял, будучи уже опытным правителем, принял, сознательно избирая Царьград в союзники и прежде всего желая упрочить свою власть. Он понимал: покуда на Руси властвуют волхвы с их тайными знаниями, прочной княжеской власти не будет. Да и сама византийская вера показалась мудрой, доброй, дарующей силу.
Вера, но не все библейские предания, которые ему рассказывали или читали священники, приезжавшие в Киев из Царьграда. Его рассудительный ум не мог принять некоторые рассказы, которые, как ему представлялось, были специально придуманы служителями Христовой Церкви для того, чтобы люди изумлялись, восхищались и безоговорочно им верили. «Это и хорошо, — рассуждал он про себя. — Так и должно быть, пускай простые души умиляются и трепещут — над ними легко будет утвердить княжескую власть».
Однажды он не удержался и спросил греческого монаха, читавшего ему о деяниях апостолов:
— Ну, а ты-то сам веришь, к примеру, что воин, который собрал войско, чтобы разгромить христиан в каком-то там городе, по пути ни с того ни с сего ослеп, услышал голос с небес и от этого голоса взял и исцелился?[53] Наверное, Бог творит чудеса, но неужто для этого достаточно просто Его услыхать? Вот мы приносим жертвы нашим богам, чтим их, отдаём им лучшее, за это и просим чего-то, что нам нужно. А тут Бог взял и простил Своего врага? А если б тот, прозрев, снова повёл войско против христиан?
— Но этого не случилось! — очень мягко проговорил монах и улыбнулся. — Понимаешь, князь, что бы нам ни казалось и как бы ни были мы иногда уверены в нашей правоте, в конечном итоге прав всегда оказывается Бог. И лучше этого не забывать. Слепота — тяжкий недуг.
Владимир тогда лишь ответил улыбкой на улыбку и вскоре забыл об этом разговоре. Но вспомнил о нём, когда вдруг, отправившись в Царьград за невестой, которая была ему обещана императором, понял, что начинает слепнуть! Это случилось ни с того ни с сего. У Владимира всегда было отличное зрение, и эту внезапную, стремительно наступающую слепоту ничто не могло вызвать! Князь долго потом вспоминал беспомощный ужас, с которым тщетно боролся.
Решив не обманывать царевну Анну, он продиктовал писцу-греку послание для неё, в котором признавался, что слепнет. Захочет ли она иметь слепого мужа, пускай он двадцать раз князь? Что с того? Она сама — сестра императора. Вскоре в небольшое местечко, где Владимир остановился табором[54], привезли ответное письмо. Анна писала, что не отступит от своего слова и станет женой русского князя, если и он сдержит обещание, данное её братьям, и примет крещение. А в конце письма вдруг добавила просто и сердечно: «Добрый князь! Крестись же поскорее! Я уверена: едва это случится, как ты тотчас исцелишься от слепоты!»
Он принял крещение, и слепота прошла. И только после этого (почему же не раньше, когда всё началось?!) Владимир вспомнил историю апостола Павла...
Впрочем, после этого ему вообще трудно было о чём-то вспоминать. В нём произошла настолько резкая и настолько очевидная перемена, что многое из своего только что минувшего прошлого он или не помнил поначалу вообще, или вспоминал, как нечто бесконечно далёкое, нечто, происходившее словно бы вообще не с ним... И сам изумлялся: что же, в самом деле, такое приключилось, что его сознание вдруг и сразу сделалось иным?
Владимиру приходилось прежде разговаривать с теми, кто крестился в Христову веру. И они все говорили о каких-то невиданных переменах, об очищении души, о раскаянии в грехах.
Но сам он не испытывал ни раскаяния, ни ощущения, будто прохладная вода купели смыла с него грязь и бремя грехов. Просто оказался вне этой грязи, вне совершённых некогда злобных и постыдных деяний. И грехи, о которых он помнил, не были уже его грехами. Будто в купель вступил нагим и беззащитным один человек, а вышел из неё другой, столь же нагой, но неуязвимый, заслонённый от грязи, похоти, злобы светлой и несокрушимой силой.
Ему было странно сознавать, насколько он изменился. Но изменения были необратимы. Это влекло за собою множество трудностей, бездну непонимания со стороны всех, кто его давно и хорошо знал. И почему-то князь совершенно этим не смущался и не страшился этого. Вообще ничего не страшился, как будто рядом с ним и вокруг него встала незримая, но всемогущая рать, способная сокрушить любого возможного врага.
— У всех ли так случается после крещения, отче? — спросил он потом у того самого монаха, что читал ему «Деяния апостолов».
— ТАК не у всех, — с той же доброй и ласковой улыбкой ответил на его вопрос грек.
— Наверное, только у очень больших грешников?
Но монах лишь покачал головой.
— Мы все грешны, сыне, а кто больше, кто меньше, неизвестно. Не на земле будут взвешены наши грехи. Думается мне, многогрешному, что полное чувство очищения Господь даёт тому, кому передаёт тяжесть своего Креста. Вместе с тяжестью грехов его не снести. Только не думай, будто стал безгрешен! Когда придёт твой срок, ты будешь ответствовать за всё, тобой совершённое. А до этого срока неси Крест и молись, чтоб сия ноша тебя не сокрушила!
Более всего Владимиру было странно, что теперь, когда он чувствовал себя едва ли не более здоровым, чем в семнадцать лет, он больше не желал женщин. Нет, он, как и прежде, видел их красоту, любовался ими, но похоть, ранее владевшая им, как трёхлетним жеребцом среди табуна, куда-то исчезла.
Он было испугался: а как же невеста-то? Свадьба? К тому времени у него росли уже сыновья и дочери[55], он не боялся остаться без продолжения рода, однако нельзя же жениться и не стать мужем своей жены?..
И вот царевна Анна приехала к нему.
До того Владимир не единожды слыхал об её удивительной красоте и ждал. Ждал, что испытает изумление, восхищение. Что-то подобное тому, далёкому и неповторимому чувству, которое он когда-то испытал, увидав Рогнеду. Царственная красота дочери Роговолда и по сей день волновала его память, бередила жестокую, так и не зажившую рану. Он помнил и тонкое, мраморно-белое лицо княжны, и черноту её бездонных глаз, и ночной шёлк распавшихся по обнажённой груди волос, и мраморное совершенство её тела... Ничего подобного в мире больше нет! Это тайное, но неотвязное убеждение мучило его все годы горячечной любви к Рогнеде и все годы охлаждения, когда страсть прошла, но заменить её в полной мере ничто уже не смогло.
И вот царьградская царевна вступила под полог его шатра, раскинутого в Корсуни, где князь Владимир её ожидал[56]. Вошла, откинула лёгкое покрывало, которым прикрывала лицо от зноя и пыли. Улыбнулась, когда он встал ей навстречу.
Владимир взглянул на неё и понял, что никогда прежде никого не любил. Всё, что было огненным вожделением, неистовой страстью, отчаянной и неотступной жаждой плоти, не имело ничего общего с тем, что открылось ему в то мгновение, когда он окунулся глазами в глаза стоявшей перед ним девушки.
Сразу он даже не понял, так ли она красива, как о ней говорили... Не очень высокая, тонкая в талии, с небольшой грудью и нежными плечами, проступившими сквозь тончайший шёлк платья. Лицо овальное, светло-смуглое, как абрикос. Тёмно-каштановые волосы над невысоким лбом. И очень синие, но при этом необычайно тёплые глаза. Глаза, которые глядели со вниманием и робостью.
Князь смотрел и не мог опомниться. Он понимал, он знал наверняка, что это — его женщина, женщина, данная Богом, чтобы именно с нею он искупил прежний разврат и блудодейство.
Знал и не смел подойти и прикоснуться к ней. Даже взять её за руку.
Наконец Анна, смешавшись и оробев под его пылающим взором, сама протянула к нему чуть дрожавшую ладонь и прошептала:
— Что же ты так смотришь на меня, великий князь? Неужели я совсем тебе не нравлюсь?
Уже потом, после венчания, она призналась, что в тот, первый миг мучилась одной лишь мыслью: «Если он вдруг меня не захочет, то что же мне делать? Христианка не может покончить с собой. Но и жить без него я теперь не смогу!»
Теперь, вот уже шесть лет, они жили счастливо. Анну не смущало и не тревожило, как некогда Рогнеду, то, что Владимир редко мог бывать дома, что пропадал в походах и занимался делами куда больше, чем любимой женой. Она не боялась, что у него есть или появятся другие женщины, потому что знала: не появятся. Между ними почти не было вопросов, и, встречаясь даже после долгой разлуки, они могли часами молчать, просто находясь рядом. Им было этого достаточно.
И очень скоро князь Владимир понял, что испытывает к Анне не менее жаркое влечение, не менее жадную страсть, чем к прежним своим наложницам и жёнам. Но если раньше эта страсть искала и до конца не находила утоления, то теперь Владимир обретал в объятиях жены успокоение и блаженство, с тем чтобы при следующей встрече возжелать её с тем же пылом и так же блаженствовать от близости с нею.
Анна очень красиво пела и хорошо играла на лютне, которую привезла с собой из Царьграда. Князь любил слушать её игру и пение, а потому княгиня могла взяться за лютню в любое время, даже глубокой ночью, когда все в тереме, кроме караульных, крепко спали. Впрочем, никто не бывал недоволен, услыхав прозрачные переливы струн и нежный голос княгини — всем нравилось, как она пела.
— Я разбудила тебя? — Анна повернула головку, покрывало с которой давно соскользнуло на плечи, и ласково поглядела в озабоченное лицо мужа. — Прости! Что же ты не велел мне перестать?
Владимир обнял её сзади и засмеялся, с наслаждением утонув лицом в рассыпанных по затылку жены каштановых кудрях.
— Я не спал. Лежал и слушал. Как называется эта песня? Та, что ты пела сейчас?
— «Святой источник». Ты ведь уже хорошо понимаешь по-гречески. Отчего же спрашиваешь?
— Я понимаю по-гречески. Просто хотел услышать название. Анна, скажи, ты видела того человека, что нынче приехал ко мне?
— Купца? — Она вывернулась и посмотрела снизу из-под его локтя, чтобы потом вновь ловким движением вдеть голову в кольцо его рук. — Да, видела, когда ты шёл по лестнице с ним и с Герхардом. — А что?
— Как думаешь, я не зря собираюсь ему довериться? Дать людей, снарядить ладью?
Княгиня ответила не раздумывая:
— Но ведь купца прислал Добрыня, а Добрыне ты веришь. Так отчего же сомневаешься?
Владимир поцеловал жену в макушку и, оторвавшись от неё, сел на край не расстеленной постели. В светлице княгини горели только лампадка под божницей и один небольшой терракотовый светильник, но ставни двух окошек были распахнуты, и лунный свет заливал серебром по-прежнему тонкую фигуру Анны, отставленный в сторону ткацкий станок с начатой работой, столик с кувшином и плошкой.
Анна отложила лютню на постель. Владимир взял жену за руку и принялся, как часто любил делать, играть её тонкими пальцами. Она тихо засмеялась — ей тоже нравилась эта игра.
— Я не сомневаюсь, — тихо проговорил князь. — Мне понравился этот ершистый торговец. Больше того, он понравился Герхарду, а уж мой воевода в людях не ошибается никогда — я много раз в этом убеждался.
— Тогда что же тебя мучает, любимый?
Князь взял и вторую руку Анны, сложил обе её руки вместе и ласково ткнулся в тёплые ладони лицом.
— Ну, ты-то, ты-то знаешь, что!
— Нет!
— Знаешь, знаешь... Всё тот же вопрос: могу ли я, смею ли отправить людей, возможно, на смерть? Стоят ли этого мои великие труды?
Княгиня мягко выдернула руки из его неплотно сжатых пальцев, охватила ладонями виски мужа, осторожно приподняла его голову так, чтобы его глаза оказались напротив её глаз.
— Разве то, что тобою делается, ты делаешь ради себя? — спросила женщина. — Разве ты когда-нибудь рвался к великим богатствам?
— К богатствам? — Казалось, он впервые задумался об этом. — Нет, пожалуй. К власти — да. Было. Но всего того, что я сейчас делаю, и того, что собираюсь сделать в будущем, без власти не добиться. Ты знаешь это. Да?
Анна тихо рассмеялась.
— Как же я могу не знать? Я — дочь императора и сестра императора.
— А я — сын рабыни. И князя. И в том, что моя судьба сложилась так, как она сложилась, многое — моя собственная заслуга. Другое дело, как всё это было добыто... Но раз Божья воля мне править на Руси, то на мне и великий долг. Это я понимал с самого начала. Задолго до того, как стал христианином. Я с самого начала жил только мыслью соединить Русь. Собрать разрозненные, воюющие меж собой уделы воедино, создать сильное царство. Как Византия. Как Германская империя. Да нет! Как была когда-то империя Рима. И людей объединить, чтоб не только языком были союзный но и мыслями, и деяниями, чтоб жили не каждый ради своего поля или леса, но всей большой Руси были хозяева и данники. И защитники.
Он умолк, переводя дыхание, с волнением глядя в синюю бездонность Анниных глаз и, как всегда, изумляясь, как это они, холодные цветом, умеют так согревать.
— И потому ты понял, — решилась заговорить княгиня, — что ради этого нужно дать всем русским единого Бога? Молясь разным богам, нельзя создать единое царство.
— Это я знал всегда, — ответил князь. — Я всегда хотел, чтобы над прочими богами для всех племён было вознесено одно божество и чтобы его чтили превыше всех. Я решил, что лучше всего для этого подходит Перун[57].
Анна смешно наморщила лоб, вспоминая.
— Перун — это... Нет, постой, постой, не подсказывай! Я ведь много читала и узнавала о ваших прежних богах,— мне было интересно, кому ты раньше молился. А! Перун — это как у нас был раньше бог Зевс. Он царствовал на Олимпе, владел громами и молниями, и у него была небесная колесница. Но, по-моему, на Руси Перун не был вознесён так высоко, как Зевс у греков.
— Ты права, — кивнул Владимир, — не был. Хотя по прежней нашей вере он и вправду умел метать молнии и владел колесницей, которую волшебные кони мчали по небу. Но больше, чем Перуну, молились другим богам, к примеру, Велесу[58], потому что Велес покровительствовал хозяйству, скотину домашнюю соблюдал. А что для земледельца важнее? Ещё Велес — бог колдунов, чародеев, бог волхвов. Вот они-то и старались да и поныне стараются людям русским внушить, чтоб они Велесу молились. Это — их бог, он им власть даёт!
Ну, а Перун — княжей власти учредитель и покровитель, воинов хранитель и защитник. Вот его-то я и видел над другими богами, на него опереться думал. У меня и в Новгороде, и потом здесь, в Киеве, огромные капища[59] возведены были. Для разных богов, но наиглавнее всех бог Перун был. Думал, поможет он мне власть упрочить да народ вкруг Киева объединить. Ничего не выходило! Боги ссорятся между собой, как и князья, а потому наши княжьи ссоры только сильнее делают. Вот у римлян в древности... У них тоже богов много было, но выше всех почитали на самом деле императора. Молились и жертвы приносили богам, а дань-то несли и служили императору. И самому Риму. Рим был главный их бог! У нас бы так, наверное, не получилось.
— Почему? — тихо спросила Анна.
— Не знаю. Но не получилось бы, точно. Какие-то мы, русские, другие, что ли... Одним страхом нас воедино не соберёшь. И богатством не соберёшь подавно.
— А чем? — Она улыбнулась краешками нежных, как лепестки, губ. Неужели угадала, что он ответит?
— Любовью, наверное. Любовь-то сильнее и больше всего остального. И страх она одолевает, и жадность забыть заставляет, и чаровству всякому противостоит. А любовь — она только во Христе. Разве нет?
— Да! Но разве не всем людям на земле любовь нужна больше всего остального, Владимир?
Князь ответил мягкой улыбкой на улыбку жены и устало вздохнул.
— Нужна-то всем, Анна. Только не все и не всегда хотят того, что им нужно, как дети неразумные, что могут ножонкой кувшин пнуть да молоко разлить, коим бы сыты были, а то ещё уголёк из печи баловства ради выгресть да хату спалить. И у нас таких много. Сама ж видишь... Вот и боязно мне, Аннушка: а ну как отправлю я людей своих за златом, которое неведомо, есть или нет его. И вдруг да они погибнут? А будут ли ведать, ради чего погибают? И если нет, то на мне грех великий останется.
Княгиня опустила голову на плечо мужа. Её мягкие волосы защекотали ему шею, коснулись щеки. Он обвил руками по-прежнему тонкое, гибкое тело и устыдился возникшего и властно охватившего его желания. Вот ведь, пришёл о важном поговорить, совета спросить у мудрой жёнушки, а самому вновь неймётся! Правду ведь в народе говорят: «Блудливого козлишку только ухватом охолонить можно!»
— Будем молиться! — прошептала Анна, слегка вздрагивая, потому что жар его тела передался и ей. — Будем молиться, и поверь мне, глупой женщине, твои посланцы вернутся назад живы-здравы. Мне тоже понравился этот твой Садок. Так ведь его зовут? Он надёжным кажется. А уж как собой хорош! Прямо душеньку разбередил...
— Что-о-о?! — разом вскинулся Владимир. — Чего он там тебе разбередил? Что за речи слышу я от тебя, княгинюшка?!
Анна рассмеялась. Её смех был, как голос, которым она пела, нежен, заливист и звонок.
Продолжая смеяться, молодая женщина вывернулась из объятий мужа, легко вскочила и одним движением перекувырнулась через своё, так и не расстеленное к ночи ложе. Потом оперлась руками о край постели и вновь, сверкая белозубой улыбкой, глянула в невольно помрачневшее лицо мужа.
— А-а-га! Рассердился! А знаешь, к чему это я сказала?
— Знаю. Дразнишь меня, лукавая царьградка!
— Да нет. Просто боюсь, что ты вновь про дела свои неотложные вспомнишь да и уйдёшь к этим делам на всю ночь. А я хочу, чтобы ты остался.
— А я и останусь! — Владимир даже не пытался скрыть удовольствие, явственно прозвучавшее в его голосе. — Какие ещё дела посреди ночи, жёнушка? Давай-ка, расстилай, что постелено. Сотворим молитву и ляжем.
— И у тебя хватит терпения молитву сотворить? — Княгиня лукаво сверкала глазами. — А я уж помолилась.
— Ах, так! Ну, тогда не взыщи!
И князь с юношеской лёгкостью одним прыжком перебросил через широкое ложе своё сильное, гибкое тело.
Глава 3. Ночная молитва
Покуда князь Владимир беседовал со своей молодой женой, на город опустилась ночь. Терем погрузился в свой обычный, сторожкий сон, изредка нарушаемый тихими шагами караульных под окнами да порой ржанием, доносившимся из пристроенных к княжьим покоям конюшен.
Но бодрствовали в тереме не только князь и княгиня, не только стража да некоторые из лихих коней дружинников.
Тот, о ком только что говорили Владимир и Анна, кому князь поручил такое важное для себя и для всей Руси дело, тоже не спал.
Садко и рад был бы уснуть, он устал после долгой дороги до Киева, да и день с массой разговоров, впечатлений, волнений достаточно утомил его. Однако сон всё не шёл и не шёл.
Небо за раскрытыми ставнями было, как там, на зачарованном острове Водяного: совершенно чёрное, будто затянутое царьградским мягким бархатом и всё в крупных ярких звёздах. Где-то за городской стеной, но не там, где начинался лес, а ближе, должно быть, в выросшей неподалёку от вала берёзовой рощице, перекликались, разливаясь и рассыпаясь трелями, соловьи.
От только что погашенной свечи поднимался прозрачный дымок. Теперь в горнице было темно. Не совсем — мерцала тёплым добрым огоньком лампада, висящая в красном углу под образами. Она освещала прекрасный, греческого письма образ: Пресвятая Богородица глядела с золотой доски огромными, бесконечно добрыми глазами, которые улыбались и в то же время словно таили в себе слёзы. Она бережно прижимала к своему плечу Младенца.
Садко перекрестился на икону, подошёл к ней ближе. Её взгляд странно смущал его, словно он в чём-то был перед Ней виноват и не знал, как оправдаться.
«Вот я никогда об этом не думал! — вдруг неведомо откуда взялась мысль. — А ведь страшно себе даже представить, что Ей пришлось испытать! Сколько Ей лет-то было, когда архангел пришёл и сказал о том, что Её ждёт? Пятнадцать? Шестнадцать? И Ей сказали, что вот родится у Неё Ребёнок, Она будет Его ласкать, любить, кормить грудью, увидит, как Он встанет на ножки и начнёт ходить... Потом Он заговорит с Нею, будет расти, станет отроком, юношей... И всё это время Она будет знать, что, дожив до тридцати трёх лет, Он будет предан, избит плетьми, поруган, а потом казнён жестокой, страшной казнью! И Она увидит это и будет стоять у Его креста, обнимать Его ноги и чувствовать, как они холодеют, как Он умирает. Он, Её сын, плоть от плоти... Может ли утешить, спасти, не дать сойти с ума сознание, что Его ждёт Воскресение? И что Он приносит жертву, чтобы спасти всё — всех людей на свете. Какое дело Матери до этих людей, которые плевали в Её Сына, кричали «Распни его!»? Какое Ей до них дело? И до всех остальных, таких же грешных, злобных, неблагодарных? Это Её Сын! Можно ли тридцать три года прожить с сознанием, что родила Ребёнка ради Его будущих мучений и смерти на кресте?! Мне-то страшно до холода в сердце, до крика! А я — мужчина. Как могла это вынести женщина?»
Садко ещё раз всмотрелся в иконный лик. Нет, Она прожила эти тридцать три года без отчаяния, без упрёка к Тому, кто дал Ей счастье материнства и заранее обрёк на страдания возле креста. Она знала, что Он прав. И потом, Он был Отцом Её Сына, но и самим Сыном тоже был Он. То, что не принимало, отказывалось зачастую принимать сознание мудрых взрослых мужчин, легко далось шестнадцатилетней девушке. Она приняла явленное Ей страшное Откровение со смиренной благодарностью, как первый поцелуй. И не усомнилась всё это время, пока жила с сознанием, какое бездонное горе придёт в Её жизнь...
Весь этот вечер Садко молился. Молился, пожалуй, как никогда прежде, разве что однажды в детстве, когда их небольшую дощатую избу в Ладоге охватил огонь. Тогда отец выбежал, таща семилетнего Садко за руку. Его старшая сестрица Стоша бежала следом, неся икону, которую, сняв со стены, отец сунул ей в руку. Икона была небольшая, куда меньше, чем эта, и там был лик Спасителя в терновом венке, с каплями крови на лбу и на висках. На плечах у отца сидел трёхлетний Миколка в одной рубашонке, вцепившись ручонками в отцовские волосы и бороду. В другой руке у отца был короб с инструментом. Как жить корабельных дел мастеру Елизару, как прокормить семью, если пропадет инструмент?! В молодости успел он и повоевать, и в походы походить с княжьей дружиной, а теперь вот растил детей и надеялся безбедно дожить до старости.
Торопясь, отец сильно дёрнул Садко за руку, мальчик не удержался, упал и, поднимаясь на ноги, обернулся. Дом за его спиной пылал. Огонь охватил его снизу доверху, пламя поднималось на несколько саженей вверх, а искры летели, казалось, в самое небо.
И тогда Садок вдруг понял, что матери с ними нет. Она что же... не вышла из дома?!
Заорав от ужаса, он подбежал к Стошке, потянул на себя икону. Девочка, наверное, тоже ничего не соображавшая, завизжала, прижимая образ к себе.
Отец обернулся.
— Евстолия! (Неужели это у него такой хриплый, каркающий голос?) Евстолия, отдай брату икону, отдай!
Садко взял образ, всмотревшись, понял, что держит его неправильно, боком, развернул, положил перед собой на землю, упал на колени.
— Господи! Господи, Боженька, милый, родненький! Мамку мою спаси! Спаси, прошу Тебя! Вытащи её из огня! Ты же не дал тогда сгореть в печи тем мальчикам, которых туда бросили за то, что они в Тебя верили![60] И столько людей Ты ещё спас! Мамка очень хорошая, Ты ж знаешь! Я Тебя прошу, Боженька! Пускай она живая останется!
Он ещё что-то кричал, плакал, умолял.
Мать подошла к нему сзади. Сперва пыталась звать, но он её не слышал, оглохнув от своих рыданий и чудовищного, разрывающего слух треска и гудения огня. Тогда она нагнулась и схватила его на руки, как маленького. Только тогда Садко её увидел и узнал.
Потом матушка рассказала, что вышла из пылающего дома с другой стороны. К дверям ей было не добраться: провалилась кровля, доски закрыли выход. Но, обернувшись, она увидала, как по другую сторону дома, где не было двери, а только маленькое волоковое окошко[61], вдруг рухнула часть стены и открылся пролом. Вот ведь как хорошо, что на бревенчатую хату у них денег не достало и из досок построили... Брёвна б так не развалились... Женщина, шепча молитву, кинулась к пролому и, хотя была босиком, прошла, даже не обжегши ног.
Друзья-корабельщики помогли Елизару заново отстроить дом, собирали, кто что мог. К зиме новое жилище было готово, только вышло ещё меньше и ниже прежнего, но это никого не огорчило.
С тех пор Садко страстно верил в силу молитвы. Верил, пока был мальчиком, верил, став отроком. А когда вырос, не то чтобы об этом забыл, просто ему чаще всего бывало не до того. Он, конечно, молился, приходя в храм, принося пожертвования, молился, затевая какое-нибудь рискованное плавание, которое при этом сулило большую торговую выгоду. Но теперь он делал это потому, что так было надо, потому что не хотел быть, как язычники. Ещё потому, что любил своих близких, своих и по сей день живых и здоровых отца с матерью, которых стал так редко видеть. А они всегда сами усердно молились и радовались, когда то же самое делали их дети.
И вот сейчас он понимал, что только молитва, такая же страстная, горячая, искренняя, как та, в далёком детстве, может ему помочь. Он помнил, с какой страшной, невиданной, нечеловеческой силой столкнул его случай. Новый поход к колдовскому кладу сулил верную гибель.
В глубине души купец даже подумал, что хорошо было бы, если б князь не отправил его к ладье нибелунгов. Узнал бы подробно, как туда плыть, и послал кого-то из своих. А что? С какой стати доверять такое важное дело пришлому человеку?
Ему было стыдно за свою трусость, с другой стороны, прежний алчный задор мгновениями внушал мысль, что ведь и сам он сможет разбогатеть, если вдруг поход удастся...
Владимир Святославич так и загорелся, узнав, что таит в себе грот под островком на Нево-озере. Его глаза по-мальчишески засверкали, он и на стуле не усидел, вскочил, заметался по просторной палате.
— Это ж сколько я всего сделать-то смогу, если то злато добуду! — восклицал князь. — Дружину увеличить вдвое смогу, а то втрое. Содержать-то её — сколько денег надобно...
А храмы какие по всем городам заложу! И, как задумано, отделю степь валом великим, а по валу детинцы возведу[62], такие, чтоб в каждом большая засада была, а при детинце — город! Вот и погляжу тогда на соседей наших разлюбезных, печенегов да половцев... Пускай возьмут тогда Русь набегами, пускай зубы-то об нас пообломают!
Садко смотрел и дивился. Владимир явно думал лишь о возможности осуществить свои великие планы по защите Русского государства, усилению его мощи, а вовсе не о том, что, заполучив ладью нибелунгов, он сможет сравниться в богатстве с самим царьградским кесарем, братом его жены. Дивно показалось купцу и то, что князь так легко поверил незнакомцу. Да, при нём было письмо от Добрыми, но Добрыня ведь честно написал племяннику, что о своих приключениях разорившийся купец поведал ему в своей песне и никто не мог подтвердить его слов. Уцелевшие дружинники Садко не видели ладьи, а новый его товарищ, новгородский богатей Антипа и вовсе узнал о кладе, как и Добрыня, только со слов самого горе-путешественника...
И тем не менее Владимир Святославич сразу решился снарядить поход на Нево-озеро, дать Садко и его товарищу ещё одну ладью и пару десятков гребцов. И в довершение всего заявил:
— А на случай, если вам там в битву вступить придётся да головой рисковать, отправлю я с тобой товарища своего верного. Лучшего воина не найдёшь ни в землях христианских, ни в странах языческих.
С этими словами князь положил руку на плечо того самого светловолосого красавца, с которым за пару часов до того так отчаянно рубился на опушке леса. Тот в ответ улыбнулся, обнаружив два ряда на редкость белых и ровных зубов.
— Если прикажешь, князь, с радостью поеду!
Он говорил чисто по-русски, возможно, немножко не так, как русские, немного резче и жёстче.
— Когда ж я тебе приказывал? — почти с обидой спросил товарища Владимир. — Прошу, как друга просят. А ты, Садко Елизарович, можешь на человека этого, как на себя, положиться. Больше, чем на себя, он один целой дружины стоит. Его Герхардом зовут. Родом из германцев и несколько лет у императора Оттона войском командовал. Но вот уж семь лет, как у нас живёт.
— Так он, стало быть, будет твоим отрядом командовать, великий князь? — спросил Садко.
При этом он не испытал никакой обиды. Это было вполне естественно: посылая дружину в нелёгкий и наверняка опасный поход, Владимир доверял командование ею проверенному и очень опытному человеку.
Князь быстро перекинулся взглядом с Герхардом, и тот неожиданно ответил вместо него:
— Нет. Командовать будешь ты, Садок. Ты же был в том месте, куда поведёшь нас. И сам путь, и всё, что нас там ожидает, и те опасности, которые там могут встретиться, ты представляешь куда лучше нашего. Поверь, я умею подчиняться.
Заметив тень сомнения на лице купца, Герхард добавил:
— Я — христианин и крещён в греческую веру. Здесь живя, принял её.
А Владимир, заметив некоторое удивление во взгляде купца, добавил:
— В Германии почти весь народ христианский, они давно уже стали приходить к Христовой вере[63]. А веру византийскую Герхард принял от того, что она ему больше по сердцу пришлась.
— Ну и не только поэтому, — проговорил германец. — Думаю, это и не столь важно.
Они стояли теперь рядом, и Садко смог наконец взглянуть в глаза германцу. И понял, во-первых, что никакие они не карие, не серые и уж подавно не синие. Они были, как морская глубина, зелёные и загадочные, почему-то грустные, но и ободряюще твёрдые. И во-вторых, рядом с Герхардом ему вдруг сделалось спокойно. Не потому, что тот на его глазах сражался с невероятной ловкостью, да ещё против князя Владимира, о котором самые опытные бойцы говорили: «Ни единому не уступит!» Но эти глаза отражали неколебимую твёрдость души, души, не менее крепкой и надёжной, чем меч воина.
Однако, оставшись один на один с собой, Садко вновь засомневался. Ему очень хотелось посоветоваться с Антипой, благо их и поселили в одной горнице, на втором этаже просторного терема постельника Демьяна. Беда была в том, что Антипа мирно спал, растянувшись на одной из двух постеленных для гостей лежанок. Разбудить? И что спросить? «Сможем ли мы преодолеть охраняющие проклятый клад колдовские силы, которые однажды уже погубили мою ладью и многих моих гребцов? Довольно ли того, что этот клад так надобен князю? Князь, в конце концов, тоже только человек...»
Садко опустился на колени перед иконой. Осенив себя крестом, принялся молиться. Ему казалось, что он путает слова знакомых молитв, что и сами мысли у него путаются, и в его душе больше страха и сомнения, чем надежды.
Наконец, поняв, к кому сейчас следует обратиться, кто может действительно ему помочь, он прошептал, по-прежнему стоя на коленях перед образом:
— Святитель Николай! Угодниче Божий! Прошу тебя, не гневайся, что я вновь к тебе обращаюсь! Наверное, тебе надоело возиться с тупоголовым купцом, но поверь — я просто боюсь опять впасть в искушение! Можно ли пускаться в путь ради этого бесовского сокровища?! Подскажи! И если ты скажешь «нет», я наутро пойду к князю и откажусь ехать. Пускай казнит, но я не отступлюсь. Помоги!
Тёплая ладонь коснулась его плеча, как тогда, почти двадцать лет назад, рука матери, чудом спасшейся из огня. Тогда он не почувствовал её прикосновения. Теперь обернулся, невольно вздрогнув, хотя и знал наверняка, кто так неслышно подошёл к нему сзади.
— Здравствуй, Садко!
Он обернулся. Впервые Николай Мирликийский Чудотворец стоял перед ним не в убогой одежде странника, но в алой епископской ризе. Её золотое шитьё, как показалось купцу, не просто блестело, отражая слабое мерцание лампадки, но само светилось, так что в горнице сразу сделалось светлее. Но всё остальное оставалось прежним — те же кроткие глаза, полные незнакомой радости, то же худое, испещрённое морщинами лицо, что было старым, а казалось почти юным.
— Хорошо, что ты позвал меня. Спасибо, что позвал.
Купец, не вставая с колен, повернулся и хотел взять руку Николая, чтобы коснуться её губами. Но старец с тёплой улыбкой опустил эту руку ему на голову.
— Поезжай к ладье, Садко. Поезжай. Не страшись. Хотя врать тебе не стану: много опасностей встретишь ты со товарищи, много раз по краю пройдёте.
Садок Елизарович судорожно вздохнул. Прозвучали именно те слова, которые он хотел услышать, которых втайне ждал. Но ему отчего-то стало ещё страшнее.
— Боишься, что ошибаешься? В прелесть впадаешь? — Никола Чудотворец продолжал улыбаться, и кротость его улыбки рассеивала страх и сомнения. — Боишься, что не меня вовсе видишь? Да нет, не страшись. Запретил я бесам моё обличив принимать и под моим видом христиан во искушение вводить. Злятся, рычат, воют, а ослушаться не смеют. Если б ты меня прежде не видывал, то и мог бы за меня кого чужого принять. А так нет — с моим лицом только я прийти и могу.
— Но, отче! — воскликнул Садко. — Ведь клад нибелунгов зачарован, проклят.
— Правильно. И проклят, и зачарован. Так ты что же, думаешь, что бесовское проклятие сильнее Божьей воли?
— Что ты, святый отче! Нет! Но мы... Но я... Разве я смогу? Ведь пытался уже и только людей своих сгубил! А из них четверо некрещеные были... Теперь вот вспомнил. Что ж я сделал-то с ними?!
На мгновение лицо святителя сделалось словно бы резче, суровее, даже складка легла меж тонких, вразлёт бровей. Но рука, лежавшая на склонённой голове купца, стала будто ещё мягче и теплее.
— О погибших товарищах не сокрушайся. Отмолил я их, и по просьбе моей допущены они в Царствие Божие. Не по своей вине не успели крещение принять, вот и простил их Господь. А ехать за ладьёй в этот раз не бойся. Ведь в тот раз ты богатства желал, а ещё мечтал посрамить купцов новгородских. Значит, двигали тобою алчность и гордыня. Не могло у тебя ничего получиться — дело было недоброе, нехристианское. Ныне же едешь ради того, чтоб помочь князю Владимиру веру Христову на Руси утвердить, чтоб он церкви возводил, чтоб войско его земли святые от врагов обороняло. Это дело Божье. Поезжай!
Садко перекрестился, опустил голову. Когда поднял её, святителя уже не было. Но тепло его ладони оставалось, даже показалось, что он провёл этой ладонью по лбу купца, смахнув проступившие на нём капли пота. И ещё: едва тлевшая перед образом Богородицы лампадка разгорелась необычайно ярко, разливая по горнице мягкое, как солнечные лучи, сияние. И сам лик был уже не так печален. Садко глянул и понял, что губы Божией Матери тронула лёгкая, ободряющая улыбка.
— Эй, Садок! Когда ж ты угомонишься? — донёсся из другого угла недовольный голос Антипы Никанорыча. — Уж утро скоро, а ты и сам не спишь, и мне спать не даёшь. Сколько можно с самим собой разговаривать?
И, высказав своё недовольство, Антипа повернулся на другой бок, чтобы засопеть носом ещё мощнее и громче.
Глава 4. Чудо-юдо
В этот раз Нево-озеро казалось тихим и кротким, словно заводь среди лесной глуши. Так, чтоб на нём вовсе не было волн, такого, конечно, быть не могло. Но волны на громадной, во всю ширь небесную поверхности колыхались совсем крошечные, не волны, а так, будто рябь небольшая. Ветер вначале, когда ладьи выплыли на широкий простор, слегка поддувал вслед, даже умудрялся выгнуть паруса, притворяясь, что усердно помогает гребцам. Потом сник и исчез вовсе.
— Штилле, — проговорил Герхард, только что сменивший на рулевом весле Луку Тимофеевича.
Становилось жарко, и германец скинул рубаху, оставшись нагим до пояса. Однако широкий поясной ремень и притороченные к нему ножны с мечом были на своём месте. В пути он не снимал их, даже когда спал.
Штиль. Это немецкое словцо[64] Садко знал — многие варяги тоже так говорили, только каждый на свой лад. Странно, право, что буйное озеро встречает их в этот раз так миролюбиво. Уж наверняка не потому, что злобные силы, оберегающие колдовской клад, решили пойти на мировую. Скорее, похоже на подготовку какой-то коварной западни.
— Слышь, Садокушко! — решил подкрепить его опасения Лука, в это время блаженно растянувшийся в скудной тени паруса, рядом с сидевшим на бочонке предводителем. — Я от иноземных мореходов слыхал, что в иных морях будто бы случается такое: плывёшь себе, и море вроде спокойно, да вдруг на ровном месте-то — глядь: яма водяная проваливается! А в ней вода и крутит, и крутит, вот ладью-то и втягивает, и ничего поделать не успеешь.
— О таких ямах и я слыхал. — Садко покосился на гребцов: не переполошил бы их кормчий. Нет, вроде никто не слышал. Хоть и тихо, но вёсла-то плещут. — Только на Нево-озере, Лука, такого никто ни разу не видывал. И чего ты прежде времени полошишься? Я ж всех спрашивал: поплывёте, не поплывёте? Никто не отказался.
— Так я и не полошусь! — возразил кормчий. — Только такая тишь здесь, чую, не к добру.
— Вполне возможно, — кивнул Садко. — В тот раз ты, помнится, говорил, что ветер с севера не к добру. Подул бы сейчас с юга, ты сказал бы то же самое. Любишь ты. Лука Тимофеич, постращать, любишь. Не знал бы тебя столько лет, подумал бы, что робок ты сердцем.
— Я?! — взъерепенился бывалый мореход. — Ты лишнего-то не говори, Елизарыч! Робкий бы с тобой нипочём в такой поход не отправился!
— Так и я о том же! — усмехнулся Садко. — Ну, и нечего про всякие ямы морские вспоминать. Как бы чего похуже не увидать. Правда, мы покуда далеко от тех островков, к коим путь держим. Без ветра, на одних вёслах, дай Бог, к вечеру туда пригребём.
— Смена гребцов! — скомандовал между тем Герхард, одновременно вертикально подняв левую руку, чтобы на идущей позади второй ладье сделали то же самое.
Сидевшие на вёслах дружинники разом встали и, дождавшись, покуда вёсла перехватят сменщики, шагнули к середине судёнышка, чтобы, усевшись цепочкой на сложенные в середине мешки, дать отдых натруженным рукам. Один из них, подхватив длинную палку с прибитым к её концу кожаным ведром, подошёл к носу ладьи, туда, где он не мог помешать гребущим, и ловким движением зачерпнул в ведёрко воды. Потом так же проворно перелил её в стоявшую у борта кадушечку, и она пошла по рукам — солнце стояло уже высоко, всем хотелось пить.
В каждой ладье плыли по тридцать три человека, и сейчас, когда не было нужды особо спешить, на вёсла садились по пятнадцать гребцов, один был у руля, двое должны были управлять парусом. Правда, этот самый штиль избавлял от необходимости вообще обращать на парус внимание.
Садко проявил недовольство излишней опасливостью Луки, но и самому ему всё более становилось не по себе — необычное миролюбие Нево-озера казалось слишком нарочитым. Что им готовят? И кто готовит?
Путешественник перевёл взгляд на Герхарда. Вот кто совершенно спокоен. Или уж настолько владеет собой, что ни взглядом, ни движением и уж тем более ни словами никак себя не выдаёт.
«Эх, научиться бы так!» — поймал он себя на досадливой мысли и тотчас удивился: разве ж он сам не научился давным-давно сдерживать и волнение, и злость, всегда, при любых условиях если не оставаться, то казаться спокойным? Конечно, научился. Однако до этого светловолосого воина с удивительными морскими глазами ему, кажется, далеко.
Солнце, уже высоко вставшее над горизонтом, светило в спину кормчему и очерчивало ало-золотистым контуром гибкую фигуру германца. Садко знал, что тот десятью годами старше его — Герхарду тридцать шесть. Лицом он казался, самое малое, лет на пять моложе. Но то лицо. Тело у бывалого вояки было и вовсе, будто у парня лет двадцати: упругое, лёгкое, хотя видно, что под его загорелой, гладкой, как у мальчика, кожей — только литые мышцы, и они везде, не на одних плечах и на спине. Он был весь наполнен своей могучей, тигриной силой, она играла в каждом его неуловимом движении. Ещё Садко обратил внимание на чистую, совершенно безволосую грудь Герхарда. От кого-то купец слыхал, что это — признак особой мужской силы, и ему это льстило, потому как он и сам был гладок кожей, на груди у него тоже совершенно ничего не росло.
Перед началом их похода Герхард признался, что морем путешествовал редко, но грести умеет неплохо. Только лучше не ставить его на руль. Однако прошёл один день пути, второй, и вот уже Лука без раздумий попросил сменить его у руля именно германца.
— Так он уж всему научился! — пояснил бывалый мореход своё решение. — Вишь, мы скоро через пороги пойдём, а там его силища-то и понадобится.
Садко на всякий случай встал рядом с Герхардом и убедился, что его опытный кормчий был прав: наблюдая пару дней за тем, как русские управляют ладьёй, германец перенял это умение.
— Как думаешь, — окликнул его Садко, разворачиваясь на бочонке так, чтобы быть лицом к кормчему, — как думаешь, Герхард, эта тишь небывалая и в самом деле не к добру, как наш Лука Тимофеич полагает?
Германец пожал плечами.
— Мы же с самого начала знали, что плывём в гости ко злу, правда? И если бы я хотел заманить в западню людей, которые это заранее знают, то уж никак не готовил бы им в пути что-то необычное. Тихая погода на этом озере почти никогда не бывает, и раз сейчас здесь так тихо, то мы все уже насторожились, уже чего-то ждём. Для западни как раз надо, чтоб всё было, как всегда, не удивляло, не тревожило. Люди бы успокоились, не волновались, вот тут и бери их врасплох. А главное: каким это образом нибелунги, никсы[65], водяные духи или кто угодно ещё могли бы устроить нам такой штилле?
— Ну как каким образом? — встрял с интересом слушавший их Лука. — Они ж — демоны морские. Тут их владения. Вот они и творят с водами, что хотят.
— Прости меня, Ти-мо-фе-ич! — искренне повинился германец. — У тебя — шнурок на шее, откуда я знаю, что на нём? Ты при мне не раздевался... Я подумал, что ты тоже христианин.
— Я-а-а?! — так и вскинулся мореход. — Ах ты, варяжище! Кто ж я таков, коли не христианин? И что может ещё быть у меня на шее? Вот!
Он живо запустил руку под рубашку и выудил на свет свой крестик.
— Тогда я не понимаю, — вновь пожал Герхард своими литыми плечами.
— Чего ты не разумеешь-то, неметчина?
— Как это ты, раз во Христа веруешь, приписываешь демонам власть над ветрами и волнами? Разве они могут ими управлять?
Садко едва не подавился накатившим на него смехом. Вот же тебе, Лука Тимофеич! Получил от иноземца? Ладно б, какой-то учёный грек богослов урок преподал. А то ведь у этих-то христиан опыта не более, чем у русских, а то и менее, в их краях христианских общин и вовсе почти не было... И человек откровенно недоумевает: если Господь создал мир и владеет им, то каким это образом всякая морская, озёрная да какая угодно нечисть может посягать на Божью власть?!
— Но... — Видно было, что кормчий смутился. — Но когда мы в тот-то раз здесь плавали, когда в полон к окаянному Водяному угодили, нас на его остров как раз шторм занёс, с которым мы справиться не могли. Так не Водяной ли его и вызвал?
— Я не удивился бы, если б наглый колдун так нам и сказал ! — упредив ответ Герхарда, воскликнул Садко. — Только он врал каждую минуту. Соврал бы и тут. Ничего они не могут, кроме как пугать нас да всякие козни колдовские строить. А мы и попадаемся, как рябчики в силки!
— Верно, — подхватил германец. — Это как на войне. Чаще всего и легче всего гибнет тот, кто боится. Страх — лучшее оружие, и если ты напугал врага, то уже наполовину его победил. Конечно, если не мнишь о себе, что сам — великий воин, когда и меч толком не научился держать. Я не очень разбираюсь в нечистой силе, но думаю, что у демонов, колдунов, ведьм всяких куда больше способов навести на человека страх, чем просто у воина с мечом, топором или палицей.
Гребцы продолжали мерно взмахивать вёслами, и от их плеска на тех, кто отдыхал, стала наползать дремота. Делалось всё жарче, солнце отражалось от покрытой крохотными подобиями волн поверхности тысячами искр и бликов, которые слепили глаза, и их хотелось закрыть. В конце концов и те, что, напрягая спины, дружно работали вёслами, стали чувствовать, как их окатывает сонное оцепенение.
— Эй, на вёслах! Не спать! — долетело со второй ладьи. По распоряжению Садко она шла совсем близко к первой.
— Это плохо... — нахмурился Герхард. — Нельзя допускать, чтобы людей разморило.
— Не допустим! — Садок Елизарович нагнулся и вытащил из лежавшей рядом с ним сумки свои самогудки. — Вот. Мои гусельки любой морок рассеют, любой сон снимут. Ау! На второй ладье! Вы что там раскисли? А ну-ка, взбодрись!
Он привычно тронул пальцами серебряные струны, и они звоном разлились над озером. Солнце заставило и тонкое серебро сверкнуть, заискриться так, что оно стало слепить гусляра. Но Садко не обязательно было смотреть на струны для того, чтобы играть. И вот самогудки рассыпались звоном, осыпали всё кругом стремительной, нетерпеливой музыкой. А гусляр запел, и среди этого ослепительного простора его голос прозвучал ещё сильнее и ярче обычного.
Ай, пойте, пойте, гусли кленовые! Ай, лейся, лейся, песня весёлая! Ай, да плывёт наша храбра дружинушка, По широку плывёт Нево-озеру. Не затем плывём, чтоб войной пойти, Не затем плывём, чтоб от врагов уйти, Не за вкусными заморскими яствами, Но за дивным златом, за богатствами! Не затем оно нам, чтоб других посрамить, Не затем оно нам, чтоб в подвалах сокрыть, Не возвесть чтоб хоромы боярские, Не носить украшения царские. Нам потребно оно, чтобы Русь хранить, Чтобы Господу Богу молитву творить, Чтобы храмы создать златоглавые, Чтоб сражаться за дело за правое!Теперь ни гребущие, ни те, кто не был на вёслах, и не думали спать. Напротив, дружинники принялись подпевать гусляру, кто попадая в мелодию, кто путаясь, но пели все и дружно.
Ой, плыви, ладейка, плыви, ладья! Пусть жива будет матушка Русь моя! Пусть минуют нас беды тёмные, Пусть боятся враги нас злобные! Ой, звените, гусли кленовые, Ой, гребите, вёсла дубовые! Ой, сразимся с нечистою силою, Постоим за Русь-матушку милую!Садко пел и чувствовал, как его беспокойное напряжение исчезает. Исчезла и сонливая слабость, навеянная жарой и мельканием солнечных бликов. Оказывается, со всем этим было не так трудно справиться. Оглядываясь через плечо, гусляр видел, что его дружинники улыбаются, живо подхватывая слова песни, весело перешучиваясь, когда певец ненадолго смолкал, чтобы дать волю светлому разливу музыки. Все, кто не грёб, давно надели рубахи, чтоб схорониться от палящих лучей. Гребущих защищали струйки пота, обильно стекавшие по их спинам и мускулистым рукам. Один только Герхард по-прежнему стоял на руле обнажённый по пояс и, вот ведь диво — совсем не потел, его позлащённая загаром кожа оставалась сухой. Кормчий тоже старался подпевать гусляру, хотя, возможно, немного хуже понимал слова песни — язык-то хоть и на диво выучил, но не родной ведь! Однако песня ему нравилась, он улыбался, как и дружинники, не забывая следить за рулём.
Когда Садко смолк, чтобы перевести дыхание, Герхард окликнул его:
— Мне жаль прерывать такую хорошую песню, но, похоже, нас уже встречают...
— Что такое? — Садко живо сдвинул гусли вбок и одним рывком поднялся на ноги. — Я ничего не вижу.
Он обводил горизонт глазами, однако действительно не видел ничего, что могло бы вызвать тревогу. Собственно, видно не было вообще ничего — ни пятнышка, ни силуэта, никакого движения, кроме дрожания и качания крохотных волн.
— Кругом нас смотреть бесполезно, Садко. Оно в воде.
Купец шагнул к кормчему и, следуя его взгляду, наклонился над бортом.
Вода была на диво прозрачна, только мелькание света мешало в неё вглядываться. Но, заставив глаза привыкнуть к блеску, Садко различил сквозь аквамариновую зелень глубины нечто, заставившее его напрячься. Вдоль ладьи, вровень с её движением, в глубине двигалось нечто, что размерами, кажется, превосходило ладью. Это нечто имело сильно вытянутую форму, и у него определённо был хвост. Он ритмично, будто весло, мотался в одну и в другую сторону, легко толкая вперёд громадное тело.
— Что это? — спросил купец, вдруг поняв, что его голос стал глуше и тише. — Что это такое, Герхард? На русалку уж точно не тянет, да и наш Водяной был помельче. Что это за тварь такая ?
— Думаю, это змей морской, — тоже негромко, чтобы его не услыхали гребцы, отозвался германец. — Не могу понять, как он угодил сюда, в озёрах их вроде никогда не видывали, но ведь тем, кто хочет нам помешать, не так трудно было поселить тут такую зверушку. Кстати, сколько я про них слышал и читал, помню — они всегда преследуют корабли, когда люди на них плывут ради чего-то важного. Командуй гребцам внимание. И пускай те, кто не на вёслах, возьмут щиты и копья.
— Мог бы и сам скомандовать...
— Нет! Ты здесь приказываешь.
Садко, не задавая больше вопросов, отдал приказ и, обернувшись ко второй ладье, повторил его громче.
— Надо бы приказать надеть кольчуги! — шепнул он германцу.
— Они не помогут, — возразил тот. — Если мореплаватели не лгут, то у этой твари зубы с половину руки. Может, прикрыть тело железом и было бы надёжнее, но на это, боюсь, нет времени. А если вдруг змей опрокинет ладью, в кольчуге гораздо легче утонуть.
— Что будем делать?
Садко удивлялся себе. Рядом, вплотную к ним возникла опасность, страшная, такая, какой никто и не чаял предвидеть, все ждали чёрных воронов возле колдовского острова, русалок, лупоглазых воинов Водяного, но никак не зубастого змея, который длиннее их ладьи. О том, что драконы нередко выступают на стороне всякой нечистой силы, Садок знал давно, достаточно было хотя бы вспомнить подвиг Георгия Победоносца. Но ему не приходило в голову, что такая тварь окажется на их пути к нибелунгову кладу. И тем не менее он не чувствовал страха. Увидав змея, только прошептал: «Господи, спаси и сохрани!» А с вопросом «Что делать?» обратился к Герхарду потому, что тот был среди них самым опытным воином и явно немало знал об этих чудовищах. Ещё бы! На Руси про них давно уже только сказки и рассказывают, а в иноземных странах то тут, то там слышно про появление драконов...
— Что делать? — Герхард явно почувствовал, что предводитель отряда не испугался, и остался этим доволен. — Видишь ли, полагаю, если мы повернём и поплывём прочь от колдовского острова, тварь от нас отстанет. Надо думать, она тоже караулит клад. Но мы ведь не кинемся наутёк от обыкновенной ящерицы, правда? Видел я их на рисунках: ящерица и ящерица, только огромная и зубастая. Ты тоже бери копьё, Садко, важнее всего удержать его при первом нападении.
— А ты?
— А я попробую мечом. Но только, когда зверушка вынырнет. Я на руле, и моё дело не допустить, чтобы эта скотина успела поднырнуть снизу и перевернуть нас.
— Тогда, может, я на руль стану? — спросил уже давно стоявший с ними рядом Лука. — Всё ж мне привычнее, а?
Он тоже не выказывал никакого страха, и германец удовлетворённо кивнул.
— Давай. Если увидишь, что он заплывает снизу, уводи ладью в сторону. А вы, воины, — тут Герхард возвысил голос, — едва можно будет достать, бейте тварь копьями. У неё очень прочная шкура, так что изо всех сил! Только не падайте в воду: не хотелось бы кормить эту скотину, пускай рыбу жрёт! Эй, на второй ладье, у вас там вблизи нет ещё одной такой же зверюги?
— А тебе одной мало? — отозвались сзади. — Вон эта-то с две наши ладьи будет!
— И на том пока спасибо! — сквозь зубы процедил германец, быстрым движением осеняя себя крестом. — Ну, хорошо же... Садко, далеко ли мы от острова?
— Часа два пути, — глянув на солнце, безошибочно определил предводитель. — Ещё немного, и мы увидим вдали чёрные точки, это и будут те острова. Кажется, я их уже различаю.
— В таком случае, ждать недолго. И если не поднимется ветер... Внимание! — прервал сам себя Герхард, и в его руке, как по волшебству, возник меч (когда только успел вытащить?). — Приготовить копья! И прикрывайтесь щитами!
Неведомая тварь стремительно всплывала, явно нацеливаясь поддеть снизу ладью, чтобы опрокинуть её. Но Лука не дремал. Резкое движение рулевого весла развернуло судно, и змей промахнулся. Он был слишком велик, слишком тяжёл и не смог сразу изменить направление. В двух саженях от левого борта ладьи вода вспенилась, вздулась пузырём, затем водяной столб вздыбился на пять-шесть саженей кверху, и из рассыпающихся струй возникла тварь, от вида которой многие, даже бывалые воины в ужасе отпрянули, крестясь и заслоняясь руками. Они увидели длиннющую змеиную шею, покрытую лилово-серой крупной чешуёй, а над ней — чудовищную голову с выкаченными багровыми глазами и раззявленной пастью длиною в сажень. Она была усажена несколькими десятками громадных зубов, острых, будто кинжалы, длиною превосходящих самый большой наконечник копья.
— Матерь Пресвятая Богородица! — прохрипел Лука, едва не выронив весла.
Между тем шея чудовища изогнулась, кошмарная морда вытянулась, нацеливаясь на первую ладью, за которой тварь и гналась с самого начала.
— А-а-а! — завопил один из гребцов, вскочил, выронив сперва щит, потом копьё, и хотел кинуться за борт.
Зубастая пасть стремительно метнулась за ним и, смыкаясь, наполовину захватила. Тварь вскинула башку, ещё шире распахнув гигантские челюсти. Её чешуйчатое горло задёргалось, и тело гребца стало проваливаться, уходить в глотку змея всё глубже, притом что торчащие наружу ноги нелепо махали в воздухе. Ещё чуть-чуть, и тварь заглотила бы отчаянно кричавшего человека, однако Садко прыгнул на борт, рискуя потерять равновесие, и что есть силы вонзил в змеиную шею копьё. Струя горячей крови хлестнула купца по лицу. Змей утробно взревел и разжал челюсти. Тело гребца рухнуло в воду, а чудовище поднялось над поверхностью ещё выше, и оказалось, что ниже шеи у него торчат кривые когтистые лапы, которыми тварь тут же попыталась вцепиться в борт ладьи. Однако Лука опять развернул судно, и змей вновь промахнулся.
Садко видел, что раненый гад, разевая пасть, целится уже именно в него.
— А! Не понравилось! — закричал он, размахивая копьём.
— Не маши! Цель ему в пасть! — услышал он будто бы издалека голос Герхарда. — И мани его на себя, мани! Пускай ещё изогнёт шею!
Змей, кажется, взбешённый, ревел, будто стадо коров, и изо всех сил тянулся к врагу, посмевшему его ранить. В какой-то миг Садко оступился, не устоял на борту и рухнул на спину, задев копьём кого-то из гребцов, что есть силы оравших и махавших кто чем, — некоторые решили, что отбиться от зверя легче будет веслом, другие прикрывались щитами, но у большинства всё же были копья.
Из разверстой пасти чудовища разило гнилью и серой. Она уже нависала над упавшим гусляром, он ощутил жар зловонного дыхания, расширенными глазами заглядывая в кровавую глубину бездонной глотки. Голова закружилась, стремительно нарастающий звон в ушах заглушил все остальные звуки, даже отчаянные вопли гребцов.
В этот момент германец, подступив к чудовищу вплотную и ухватив рукоять меча обеими руками, со всего размаха нанёс удар. Зубастая пасть накрыла Садко, он в ужасе вскинул руки, хватаясь за кинжально острые зубы, понял, что слепнет, — его залила волна хлынувшей сверху крови.
А ладья вдруг едва не перевернулась, получив снизу чудовищный толчок. Подскочила, рухнула в воду, качнулась, почти легла на борт, но выпрямилась. Вода вокруг неё бурлила и кипела. Это билось совсем рядом громадное обезглавленное тело. Длинный хвост взвивался и падал, пару раз хлестанув уже по второй ладье, с которой в него бессмысленно тыкали копьями потерявшие голову гребцы.
— Снимите с меня это! — завопил Садко, понимая, Что драконья пасть не смыкается и не собирается его глотать, но всеми силами стараясь столкнуть её с себя.
Наконец Лука и ещё один из прежних его дружинников подняли отсечённую голову и отвалили её в сторону.
— Тьфу ты, гад какой! — дрожа с ног до головы, проговорил кормчий. — И надо ж, немец-то наш ему башку с одного удара срубил!
— А где он? Герхард где?
Садко привстал, озираясь, смаргивая с ресниц густую кровь змея. Германца нигде не было видно. У купца явилась ужасная мысль, что, издыхая, чудовище успело ударом шеи или хвоста сшибить воина с ладьи. Удар такой силы мог быть и смертельным. Да если и нет, стоило потерять сознание, а там уж не вынырнешь...
— Садко! Ты живой?! — раздался позади крик.
Кричал Антипа. Он один из немногих не оцепенел от ужаса при виде страшной твари, и, когда хвост змея, напавшего на головную ладью, взвился возле носа второй ладьи, Никанорыч вонзил в этот хвост копьё. Возможно, это отвлекло змея, и он не успел сразу схватить Садко.
— Жив я, жив! — ответил гусляр. — Герхард! Эй, кто видит Герхарда?
— Нету его!
— Нигде нету...
— Сожрал его змеюга. Скот поганый!
— Да как он мог его сожрать-то, когда германец ему голову снёс? Видно, сшиб с ладьи.
— Глядите-ка, а меч-то его вон на дне ладейки валяется. Раз уронил, значит, точно, обеспамятовал...
Эти беспорядочные возгласы раздавались и на той, и на другой ладье.
— В воде смотрите! — снова закричал Садко. — Если он в воду упал, то всплыть должен! Смотрите!
Но кругом всё ещё бурлило и кипело оттого, что длинное тело змея билось в последних судорогах. К тому же вода перестала быть прозрачной — кругом разлилась кровь чудовища.
— Герхард! — продолжал кричать Садко, понимая, что зовёт совершенно напрасно. Глухая, мучительная обида поднималась в его душе. Почему это должно было случиться?! Они же ещё не добрались даже до рокового клада, а клад уже начинает их убивать?! Неужели эту жертву обязательно нужно было принести?
— Ге-ерха-ард!!!
— Что ж ты так кричишь-то? — Голос германца прозвучал совсем рядом, только как будто где-то внизу. — Лучше бы помог мне. И что вы все зовёте меня? А про этого парня забыли?
Прежде чем Садко обернулся, голова Герхарда уже показалась над бортом ладьи. Он подтянулся на одной руке, другой поднимая и вскидывая на борт бесчувственное человеческое тело. Почти сразу все узнали этого человека: то был тот самый молодой дружинник, что от испуг а хотел ринуться за борт и угодил в пасть змею.
— Он жив. — Герхард спихнул гребца на дно ладьи и сам, перевалившись через борт, перевёл наконец дыхание. — Зубы твари только рассадили ему ноги. Потом змей хотел его проглотить, так все змеи делают, но тут ты, Садко, всадил в эту тварь копьё. Надо откачать парня, он наверняка нахлебался воды. И перевязать поскорее, есть несколько глубоких ран — вон, зубы какие! Смотреть и то страшно...
Глава 5. Страж золотой ладьи
Садко поймал себя на том, что больше всего сейчас хочет сгрести в объятия отважного германца. Но все вокруг и так почти потеряли голову, не хватало только предводителю показать, что с ним творится...
Покуда Лука и ещё один из старших дружинников приводили в чувство и перевязывали раненого гребца, вторая ладья подошла вплотную к первой, и все принялись рассматривать отрубленную голову чудовища. Она и впрямь была громадна: лошадь не лошадь, а крупную свинью туда вполне можно было затолкать. Зубы и длиннющий раздвоенный язык вызывали трепет у всех, кто их разглядывал и трогал, а застывшая в нескольких десятках саженей громадная туша, торчавшая над поверхностью воды, никому не внушила желания подплывать к ней ближе.
— Взяться бы нам сейчас за вёсла! — Садко понял, что люди начинают наконец приходить в себя, и решил навести порядок. — Надо хотя бы отплыть подальше. Не то вдруг ещё что подобное приплывёт?
— Не думаю, — возразил Герхард. — Будь их тут две-три гадины, напали бы все вместе, и нам было б куда труднее от них отбиваться. Хотя, скорее всего, отбились бы — твари на редкость тупые. Но, видимо, хранители клада не ожидали, что кто-то когда-то прикончит их змея, вот и не позаботились о подкреплении. И то правда: два таких злобных и наверняка прожорливых чудища в одном, даже очень большом озере могли и не ужиться. Колдовство колдовством, но это ведь всего-навсего зверь. Но Садко прав, надо отсюда убираться. В воде полно крови, да и туша вон плавает. Значит, сейчас сюда сплывутся и слетятся всякие прожорливые твари: крупные рыбы, чайки, поморники. Мало ли кто ещё... А если на кого-то из них тоже действует колдовское заклятие?
— Вот, вот! — подхватил Садко. — Прочь отсюда! Кроме того, я мечтаю искупаться — я же в кровище с ног до головы. Ты, дружище Герхард, срезал змею голову точнёхонько надо мной, так что она меня собой и накрыла.
— Ну, прости великодушно! — извинился германец. — Не зашибла хоть?
— Да нет. Но крови вылилось прямо на меня ведра два. Поэтому мыться мне нужно непременно. И ладью отмыть надо. А здесь вода кругом красна, как на закате. Эй, на второй ладье! Вы налюбовались на эту чудесную головку или как? Тогда давайте, отплывайте от нас. Что прижались, как девка к своему парню?
Гребцы подчинились, и вскоре ладьи продолжили свой путь. Правда, уже на ходу возник спор — оставлять ли в ладье или выкинуть за борт жуткую драконью голову? Садко, по правде сказать, с радостью избавился бы от такой добычи, но его в это путешествие отправил князь, значит, по возвращении предстояло всё подробно обсказать Владимиру и его боярам, а раз так, то в подтверждение рассказа непременно нужно будет представить мерзкую образину.
Правда, он не представлял себе, как они её довезут: ехать назад придётся много дней, погода, как нарочно, жаркая, пока довезут до Киева, башка змея сгниёт и станет так вонять, что никаких сил не достанет везти её, собой.
В конце концов купец решился пожертвовать прихваченной в дорогу драгоценностью: сшить из старого паруса большой мешок, просмолить его и, засунув туда змеиную голову, щедро пересыпать солью[66]. Этой самой соли у них был объёмистый берестяной туесок, и Садко готов был истратить большую часть драгоценной приправы, чтобы сберечь редчайшую добычу.
Впрочем, если путешествие затянется, то и это может оказаться бесполезным: не так скоро, но всё едино драконья башка протухнет. Впрочем, на этот случай выход подсказал многомудрый Лука: в конце концов, можно будет просто привязать к голове чудища несколько толстых верёвок и опустить её в воду. Пускай себе волочится следом за ладьёй. Рыбы вчистую обгложут её, и тогда можно будет довезти до Киева хотя бы череп змея. Он тоже должен поразить и князя, и всех его приближённых — такого никто из них наверняка не видывал.
Солнце ушло с полуденной высоты, когда островки, видневшиеся вдали лишь тёмными точками, приблизились, обрели ясные очертания и стало видно, к какому именно из этих островков направляются путешественники. К горбатой горке, увенчанной фигурой идола, широко раскинувшего толстые руки с растопыренными пальцами.
— Отлив начинается, — сказал Лука, задумчиво рассматривая остров. — Как ближе подойдём, тут и надо голубку-то выпустить.
— Так нету голубки, — вдруг раздался рядом с кормчим смущённый голос.
— Кто сказал нету? — живо вскинулся Садко. — Как это так — нету?! Ни одной?!
— Ни одной нет! — Немолодой уже гребец, которому предводитель поручил клетку с парой взятых из Киева птиц, только развёл руками, встретив негодующий взгляд купца. — Вишь, урод этот, ну, змей-то, ладью накренил, все мы друг на друга попадали. А я — аккурат на клетку. У ней прутья и сломались, дверка раскрылась. Покуда я поднимался, обе голубки выпорхнуть успели. Такая вот неудача приключилась. А уж я им в дороге и зернышек сыпал, и водицей поил. Куда теперь делись?
— Куда, куда... — Садко не знал, злиться ли на дружинника, который по-настоящему и не был виноват. — К островкам полетели. И если подлетели к этому, куда мы плывём, значит, воронам на обед достались.
— Но воронов-то мы и не видели, — резонно заметил Лука. — Может, живы птички? И если мы их приметим, так они нам дорогу укажут?
— Да зачем вам так сдались эти голуби? — с некоторым недоумением спросил Герхард.
Садко удивился.
— Я же тебе рассказывал, как можно определить, где находится вход в заколдованный грот! Вороны должны погнаться за голубкой, а она...
— Да помню я, помню... — с некоторой досадой прервал германец. — Только это для сказки какой-нибудь. Найти проход и без всякой голубки ничего не стоит.
— Это как же? — заинтересовался Лука. — Хотя я, кажется, догадываюсь. Отлив, да?
— Вот именно, отлив. Уровень воды в гроте должен быть такой же, как вообще в озере, так? Колдовской он там или нет, значения не имеет. Но проход узкий. Значит, во время отлива вода там, внутри, будет опускаться медленнее, чем снаружи. А поэтому отсюда, с близкого расстояния будет видно, как она выливается. Что-то вроде ручья на поверхности озера[67]. При таком штилле этого нельзя будет не увидеть. Эй, налегаем на вёсла!
Герхард и Лука оказались правы. Едва ладья оказалась в полусотне саженей от горбатого острова и стала огибать его с востока, как стало заметно, что в одном месте из-под густых зарослей, плотно оплетающих почти вертикальный склон, выливается струями неширокий ручеёк. Эти струи даже слегка пенились, растекаясь и постепенно сливаясь с безмятежными водами Нево-озера.
— А теперь внимание! — воскликнул Садко.
Он первым заметил, как от вершины горбатой горы отделились и замелькали в воздухе чёрные птицы. Ему даже показалось, что это каменный идол рассыпает вокруг себя зловещие тени. Они кружились, резко взмахивая крыльями, то взмывали ввысь, то стремительно снижались. И вдруг, собравшись в громадный чёрный рой, ринулись вниз.
Воздух тотчас огласился пронзительными, хриплыми криками. То было даже не карканье — птицы вопили почти человечьими голосами, в которых звучали ненависть и угроза.
— Прикрыться щитами! — приказал Садко.
Он не раз видел воронов и знал, что эти птицы бывают огромны, иной раз крупный ворон вырастал чуть не с орла[68].
Но эти оказались просто немыслимых размеров — размах крыльев, пожалуй, как раскинутые руки взрослого человека! Клювы острые, длинные, свирепо нацеленные на людей. И глаза, глаза, точно как у морского змея, кровавые, злобные, полные ярости. Не птичьи глаза, у птиц таких не бывает...
— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его![69] — крикнул Садко, осеняясь крестом и чертя крестное знамение над своей головой.
— И да бежат от Лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут! — почти в один голос подхватили слова молитвы люди на обеих ладьях.
Странно, но эти слова были отчётливо слышны — громовой гомон вороньей стаи их не заглушил.
Вслед за этим оглушительный грай перешёл в злобный, отчаянный визг, пожалуй, ещё более пронзительный. Вороны визжали, хрипели, лаяли. Их широченные крылья хлопали над самыми головами гребцов, смазывали по поднятым щитам. Птицы с размаху ударялись о мачты, чиркали по воде возле бортов той и другой ладьи. Но ни один ворон так и не напал на людей, хотя они могли бы попытаться клювами достать их и под щитами — для этого птицы были достаточно ловки.
Те, кто не был на вёслах, держали наготове натянутые луки, однако Садко велел не стрелять, если в этом не будет крайней надобности.
Ладьи подошли вплотную к скалистой стене. Отлив продолжался, и под берегом среди густых ветвей ясно обозначился неширокий проход.
— Садок Елизарович, мачты не пройдут — застрянут! — воскликнул Лука. — Оно, конечно, вода ещё чуток понизится, но всё едино...
— Я это предвидел, — ответил Садко. — Ничего не поделаешь, братцы, валите мачты. Выплывем — вновь поставим.
— Садко! — окликнул товарища Герхард. — Давай оставим одну ладью снаружи. Поставим вплотную к стене. Птицы не нападают — пугают только, значит, можно рискнуть. Зато у нас будет судно на случай, если с первой ладьёй что-то случится в гроте.
— Антипа! — крикнул Садко. — Слышишь меня?
— Еле-еле, — со смехом отозвался новгородец. — Эти бесы вопят так, что я уж почти оглох!
— Мы тут посмекали и решили, что лучше бы на всякий случай одну ладью оставить. Продержитесь снаружи, покуда мы внутрь вплывём и поглядим, как там злато нибелунгово?
— Постараемся. Но, если демоны не угомонятся, я, видит Бог, всажу в них с десяток стрел!
То ли вороны испугались угрозы храброго купца, то ли поняли, что не смогут остановить отчаянных русских, так или иначе, но едва первая ладья, на которой гребцы свалили мачту, вошла в проход под скалой, как чёрная стая, уже не обращая внимания на второе судно, с теми же воплями взвилась кверху и исчезла.
— Лука, осторожнее, — предупредил кормчего Садко. — Здесь совсем узко. И помнишь, разбойник Бермята рассказывал, что уже в самой пещере его лодка села на камни.
— Помню, помню. Мы идём очень тихо. И, как вплывём, люди поднимут вёсла.
Гусляру показалось, что они плывут по проходу очень долго — в первый раз, когда он приплыл сюда с Водяным, было куда скорее. Но ведь тогда их внесли в пещеру проворные касатки, они наверняка двигались быстрее ладьи, которую кормчий вёл со всей возможной осторожностью.
Едва проход расширился и открылось уже знакомое Садко пространство, слабо освещённое небывалым светом, как вновь послышалось хлопанье крыльев, но не громкое и грозное, как при нападении вороньей стаи, а совсем тихое. Обе сбежавшие голубки разом ринулись навстречу ладье и уселись на её носу, двумя белыми лепестками выделяясь среди загадочной полутьмы.
— Ну, здравы будьте! — приветствовал их Лука. — Ишь, обрадовались! А мы уж думали, вороньё вас пожрало. Гляди, Садко, и вправду они проход-то нашли...
— Ещё бы! Это он для нас узок, а для них — врата широченные. Ну, вот она, ладейка-то. Как стояла, так себе и стоит.
Судно остановилось. Гребцы, побросав вёсла, сгрудились на его носу и во все глаза уставились на явленное им диво — блистающий золотом драккар, в котором сверкали и переливались груды всё того же золота. Проклятого золота карликов-нибелунгов.
— Надо же! Сколько ж его тут?
— Да на такие богатства и Киев, и Царьград вновь выстроить можно...
— А как она не тонет-то? Точно стоит не на воде, а на чём твёрдом...
Потрясённые возгласы не умолкали. Садко понимал, что необходимо прервать этот поток изумлённых восклицаний, заставить дружину думать о порученном им деле, а не о сказочном богатстве, к которому они вплотную приблизились. Но с ужасом почувствовал, что вновь начинает испытывать дрожь искушения. Этот блеск, уже однажды помутивший его сознание, снова начинал действовать, и если только дать ему волю...
— Ты посмотри-ка! Так он что же, вроде божества у этих самых карликов? Слышишь, Садко, глянь!
Возглас Герхарда вернул гусляру ясность сознания. Он • опомнился.
— Куда глянуть? На что?
— Да на образину, что торчит над носом этой самой ладьи. Видишь? А теперь посмотри на башку нашего змеюги.
Купец посмотрел и ахнул. Да! Оскаленная харя идола на носу нибелунговой ладьи была точной копией морды морского змея.
— Изыди, бес проклятый! — не без трепета прошептал Садко. — Да, кажется, он — их бог. Но если так, тогда как же тебе, Герхард, удалось срубить ему голову?
Германец улыбнулся. Его белозубая улыбка была, пожалуй, не менее яркой, чем золотой блеск ладьи.
— Сам не знаю. Но если подумать, то бесы ведь — духи, так? А чтобы быть божками у язычников, пугать их и подчинять, они входят в плоть всяких тварей. Таких, как этот змей или вон вороны. А плоть смертна. К тому же мой меч был освящён[70]. Ну что, Садко, рискнём ли подвести нашу ладью к той или вплавь доберёмся до неё?
— Пожалуй, придётся подплыть на ладье. Ведь мы должны вывести отсюда эту посудину, значит, надо будет привязать к ней канаты. Если же она не сдвинется с места, тяжёлая ведь, тогда уж попробуем перегрузить, сколь возможно, злато в наши ладьи.
— Хи-хи-хи! Глупые люди! Ничего у вас не получится!
Визгливый голосишко, гулко раскатившийся под сводами грота, заставил людей вздрогнуть. Все понимали: никто из путешественников так закричать не мог, казалось, кричит и вообще не человек. Но если так, то кто же? И где спряталось это непонятное, явно злобное существо? Как ни скупо освещало грот странное сияние, но видно было, что он пуст. А голос прозвучал совсем рядом.
— Зажечь факелы! — скомандовал Герхард.
Сразу двое дружинников исполнили приказ, и от мгновенно разгоревшегося на смоляных головках огня в пещере сделалось вдвое светлее. Однако ни на чужой ладье, ни в их судне, нигде кругом по-прежнему не было видно никого чужого.
— Ты где, чудо писклявое? — гаркнул, озираясь, Лука. — Показался бы!
— Как можно показаться слепым? — проверещала неведомая тварь. — Вы же все слепы! Слепы и тупоголовы! Думаете увезти наше золото?! Ничего не выйдет! Ладью вы с места не сдвинете, а вынуть то, что в ней лежит, можно только за пределами этой пещеры. Поняли, дурни?! Ладью не увести, а богатства из неё не вытащить! Ха-ха-ха! Вы все тут подохнете!
— Сам раньше не подохни! — пригрозил, осердившись, один из дружинников, из тех, кто ходил с Садко в предыдущий поход.
Должно быть, осерчал и невидимый враг. От размашистого удара, который пришёлся прямо в ухо, дружинник с криком вылетел из ладьи и плюхнулся в воду.
— Осторожней! — крикнул Садко.
— Покажись, аспид! — негодовал Лука. — Я б те сразу объяснил, какие мы дурни и кто тут подохнет!
Но вслед за своими словами кормчий тоже получил здоровый тумак и лишь чудом удержался, вцепившись в рулевое весло. Его товарища, бултыхавшегося возле ладьи, дружинники поспешно втаскивали на борт.
— Братцы! Меня кто-то за ноги хватал! — цепенеющими губами прошептал тот. — Вот как Бог свят!
— Русалки, видать... — перекрестился другой дружинник. — А ну как и впрямь пропадать нам тут всем...
— Пропадёте! Все, все пропадёте! — вновь завизжал гнусный голосишко, но на сей раз он прозвучал словно бы дальше, будто уже не на ладье Садко.
Герхард, развернувшись вполоборота, спустил тетиву лука, который невесть когда успел зарядить и натянуть. Раздался отчаянный вопль, потом короткий хрип, и всё смолкло.
— Туда, скорее! — Германец указал Луке и гребцам в сторону нибелунговой ладьи. — Быстро, не то ещё уползёт!
Судно рванулось вперёд, и, когда до драккара оставалась пара саженей, Герхард перепрыгнул с борта на борт. Прыгнув, он упал на одно колено, чтобы удержать равновесие, и больно ударился о груду золота.
— Ух, donner wetter![71] — выругался германец. — Твёрдые какие! Ну и где ты, пакостник?
Он пошарил, как всем показалось, в воздухе и вдруг, ухватив, поднял какой-то предмет — то был войлочный колпак, обшитый металлическими бляхами. Воздух у ног воина заколебался, и перед ним появилась скорченная на россыпи монет фигурка карлика. Из его горла торчала стрела.
— Наповал, — усмехнулся Герхард. — По голосу я так и понял, что он — коротышка. Да и предания нашего народа повествуют, будто нибелунги ростом нам по пояс. Это был страж ладьи. И было бы здорово, если б он оказался один, как наш морской змей.
— А куда ж этот бесёныш прятался? — спросил Лука, осторожно притыкая свою ладью борт о борт к драккару и завороженно глядя на золотые груды. — Ведь не видно его было... Да и ударил он меня здесь, на нашей ладье, как на ту попал-то? Там-то он тоже не показывался!
Вместо ответа Герхард надел колпак на себя и... исчез! Но путешественники не успели испытать потрясение. Германец тотчас возник перед ними снова и протянул колпак взобравшемуся на драккар Садко.
— Я и об этой штуке слыхал предания. А выходит, это правда. Шапка-невидимка нибелунгов. Возьми, Садок Елизарович, отдай потом князю. Она никому не приносила радости, но, может, Владимиру для чего-нибудь пригодится...
Садко повертел шапку в руках и осторожно заправил за пояс.
— Но если карлик был в этом, то как же ты в него попал?
И снова сверкнули белые зубы Герхарда.
— А зачем бы я приказал зажечь факелы? Свет-то тут и так есть, только непонятно, откуда он исходит. Словно бы отовсюду, потому мы и теней не отбрасывали. А вот при свете факелов маленький страж стал виден, вернее, не он, конечно, а его тень. Вон там она была, на той стене пещеры. И сразу стало понятно, что он — на золотой ладье. А уж рассчитать по тени, где стоит человек, который её отбросил, для опытного воина несложно.
Мёртвый карлик был горбат, с длинными-предлинными руками, которые и позволяли ему так лихо драться. Никто, правда, сразу не понял, каким чудом страж сумел ударить двоих на ладье, а потом тотчас оказаться на своём драккаре. Но эту хитрость быстро разгадал Садко: он приметил, что к подошвам толстых сапог карлика приделаны витые медные пружины.
— Скакал, что твоя блоха! — сердито бросил купец. — Росточком мал, весом лёгок, вот и махнул на полтора десятка саженей. Эти пружинки я тоже князю отвезу — вещица небесполезная, если наловчиться.
Герхард одобрительно кивнул, потом нагнулся и попробовал подцепить ладонью горсть золотых монет. Сверкающие кругляшки вроде бы поддались, но, едва германец поднял руку, тотчас соскользнули с ладони и покатились по груде сокровищ. Садко тоже взялся было за золото и, ухватив всего три-четыре монетки, крепко зажал их в кулаке. Бесполезно! Монеты просочились сквозь пальцы, будто были жидкими! Карлик сказал правду: отделить сокровища от ладьи было невозможно.
— Значит, надо её уводить отсюда! — не без досады воскликнул купец. — Эй, братцы, цепляй канаты к носу. Прямо под этой драконьей образиной и привязывайте. А потом все вместе наляжем-ка на вёсла!
Глава 6. Твари из тьмы
Потратив около получаса на совершенно бесполезные усилия, гребцы побросали вёсла. Ладья не то что не сдвигалась с места, она даже не пошевелилась, хотя тридцать могучих гребцов старались изо всех сил, так, что пот тёк с них ручьями. Вспотел, сев к веслу, даже Герхард, хотя до того Садко был уверен, что германец не потеет вообще никогда и ни при каких усилиях.
— Бесполезно! — воскликнул первым именно он.
И не потому, что больше всех устал. Просто раньше других произнёс то, что все и так уже поняли: слова проклятого карлика подтверждались — золота без ладьи было не вынести из грота, а саму ладью невозможно было отсюда увести.
— Ну что? — более для того, чтобы получить поддержку, нежели в надежде что-то изменить, спросил Садко, обращаясь ко всем одновременно. — Кличем Антипу со товарищи или сперва поглядим на ладейку снизу? Думается мне, лишних тридцать пар рук мало нам помогут...
— Тут хоть ещё сотню гребцов посади... — горестно согласился Лука Тимофеевич. — Как стоит, так стоять и будет, проклятая!
— Так она проклятая и есть, — скрипнул зубами Садко. — Проклятая то бишь. Знать бы, что её держит...
— Сидя в ладье, мы этого не узнаем, — покачал головой Герхард. — Надо нырять.
— Эй, вы там живы али как?!
Окликнувший их голос донёсся со стороны прохода, через который ладья проникла в грот, и все, невольно вздрогнув, посмотрели туда.
— Антипа Никанорыч! — ахнул Садко. — Ты что ж это? Пошто свою ладью оставил?
— Так надо ж мне было знать, что вы тут не сгинули все, — ответил бесстрашный новгородец, размашисто плывя к центру грота. — И дружина моя тревожится. Ну что тут у вас?
Ему в нескольких словах обсказали всё приключившееся и поведали о явившемся на пути княжеских посланников препятствии.
— Вот ведь нечистая сила! — не раз и не два прошептал себе под нос Антипа.
А потом вдруг вызвался:
— Так чего ж, братцы, нырну я под эту колдовскую посудину. Если там привязь какая, так ведь и отцепить можно...
Но Садко покачал головой.
— Была бы привязь, так ладейка хотя б дрогнула, когда мы её тащить пытались. Если только приделана намертво. Опять же, чем и к чему?
— Да ни к чему она не приделана, — возразил невозмутимый Герхард. — Когда мы сюда вплывали, ещё продолжался отлив. Если б драккар мёртво стоял на дне, он бы, когда отлив до конца дошёл, сильней бы виден стал, хоть на полвершка, да из воды бы вылез. А он, насколько торчал, настолько и торчит, я ту вон круглую заклёпку у него в боку нарочно приметил: она неровно села, шляпка чуть-чуть боком согнута. Бывает, как видно, и у колдуна молот в руке дрогнет да криво ударит! Сейчас, думаю, прилив начинается. И опять ничего с ладейкой не происходит. Значит, стоит-то она на воде. А что до того, нырять ли под неё, так, надо думать, придётся нырнуть. Но, уж точно, не в одиночку. Кому прикажешь, Садко?
Тот размышлял всего несколько мгновений.
— Нырну я вдвоём с Антипой. Герхард, на всякий случай ты за старшего.
— Понял, — кивнул германец. — Только я ещё вот что предлагаю. — Он протянул предводителю отцепленный от носа драккара тонкий канат. — И тебе, и Антипе надо по верёвке к ноге привязать. Если что-то или кто-то на вас нападёт, трижды дёрнешь, мы знать будем и на помощь придём. А дважды потянешь, просто вас за эти верёвки вытянем.
— Ладно, — согласился Садко. — Но только ты сам не ныряй. Не рискуй. И так вон Никанорыч приказ мой нарушил, от второй ладьи уплыл, без командира её оставил.
— Да я!.. — начал было, заливаясь густой краской, Антипа.
И пристыженно умолк.
— Не бойся, — усмехнулся Герхард. — Я же военный. И приказов не нарушаю никогда. Да и ныряю всё же хуже, чем вы оба, какой от меня прок?
— А за раненым-то давеча нырнул, — подал голос Лука Тимофеевич, усевшийся тем временем на одной из золотых груд и бесцельно тыкавший в неё мечом, отчего струйки монет, шурша, расползались в разные стороны.
— Ну, тогда больше некому было, — пояснил германец. — Никто ещё не отошёл после нападения змея. И не бросать же было раненого. Нет-нет, я останусь в ладье. Садок, не беспокойся.
Оба купца прочно укрепили верёвки, каждый на лодыжке левой ноги, и, перекрестившись, один за другим перекинулись через борт.
Садко с трёх лет умел плавать и нырять, поэтому для него не было ничего необычного в том, чтобы открыть под водой глаза, чего не умели даже некоторые из его гребцов. Он, правда, сомневался, проникает ли глубоко под воду неверный рассеянный свет, заполнивший грот, и увидят ли они с Антипой вообще что-нибудь. Поэтому был готов просто водить под днищем драккара руками да прихваченным с собой копьём (ещё и на случай нападения какой-нибудь подводной нечисти).
Свет под водой, однако, был. Ещё более слабый, чем наверху, он всё же позволял смутно различать и чёрное брюхо драккара над головой, и силуэт Антипы, погрузившегося одновременно с ним.
Оба проплыли под водой, один к носу, другой — к корме чужой ладьи, но не заметили ничего, что соединяло бы её с дном грота. Да и самого дна видно не было, казалось, он глубок, как колодец.
Садко, едва окунувшись, вдруг понял, что ему становится страшно. Необъяснимый одуряющий ужас проникал в его существо вместе с холодом мертвенно неподвижной воды. И то, что в ней ровно ничего не было, кажется, пугало ещё сильнее. Но так ли ничего? Всматриваясь, ныряльщик вдруг понял, что снизу, из бездонной глубины медленно поднимаются, приближаясь к ним, какие-то мутные тени. Они почти не двигались, просто всплывали, но это было, пожалуй, ещё страшнее.
Одновременно ему показалось, будто вокруг слышится, исходя со всех сторон сразу, словно разливаясь в неподвижной воде, какой-то глухой шелестящий шёпот. Слов нельзя было различить, да и были ли это слова? Десятки (или сотни?) едва слышных голосов одновременно повторяли что-то, что невозможно было понять. То ли они звали его неведомо куда, то ли грозили, то ли стенали о чём-то. В какой-то миг ныряльщику показалось, будто сквозь это неразборчивое шелестение пробивается чей-то ехидный смех, потом вдруг померещился плач. И эти бессвязные звуки надвигались, наплывали, одурманивая, оглушая сознание.
Прямо перед собой Садко увидел лицо оказавшегося рядом Антипы. Тот смотрел расширенными, вылезающими из орбит глазами, явно охваченный ещё большим ужасом, чем его товарищ.
Садок указал рукой вверх — всплываем. Новгородец кивнул, но вдруг ухватил своего предводителя за руку, кажется, теряя голову и переставая понимать, что он делает. Его рот вдруг широко открылся, и Садко понял: сейчас Антипа захлебнётся и уже не сумеет вынырнуть... А в это время вокруг них сжимался расплывчатый круг странных существ, то ли рыб, то ли русалок. От их голов с огромными недвижными глазами исходило какое-то призрачное свечение, тонкие руки (или не руки?) жадно тянулись к ныряльщикам. Вот что-то холодное, как ночной страх, схватило Садко за ногу, куда-то потянуло.
Он и сам едва удержался, чтобы не завопить, разинув рот под водой. Но многолетняя привычка спасла его. Он ещё плотнее сжал губы. Почти вслепую ткнул копьём в то, что его держало, и холодное кольцо на щиколотке разомкнулось. Отхлынули, немного отдалились и шепчущие голоса.
Тут купец вспомнил про уговор и, дотянувшись до своей левой ноги, что есть силы два раза рванул верёвку, другой рукой крепко обхватив Антипу, он понимал, что новгородец уже захлёбывается и, скорее всего, не вынырнет сам.
Когда их втащили в ладью, оба готовы были потерять сознание. Антипа хрипел и плевался, выплёвывая огромное количество воды, которую успел заглотить.
— Господи Иисусе, спаси нас, грешных! — прошептал Садко. — Нас... нас там кто-то хватал... и тянул...
— Ага! — Антипа всё не мог выплюнуть набравшуюся в рот воду, кашлял, хрипел, хватался за грудь. — Тянули, ещё и как! И шептали, шептали что-то. Я уж думал — умом тронусь!
— Во! Я ж говорил: русалки проклятые! — завопил дружинник, которого недавно отправил за борт удар невидимого стража сокровищ.
— Святый отче Николай, не оставь нас, помоги! — Садок Елизарович поднял руку для крестного знамения, но закоченевшие в не такой уж холодной воде пальцы не распрямлялись, не складывались в двуперстие.
— Плыть отсюда надо, Садко! Бежать!
— Спасаться надобно! Сгинем мы тут все!
Крики послышались со всех сторон. Накативший волною ужас был теперь сильнее жажды заполучить недоступные золотые груды.
И тут вдруг Лука ахнул:
— Братцы! Ой! Что ж это?!
Тотчас отчаянный вопль вырвался почти у всех. Из воды, окружая ладью с трёх сторон (одним бортом она прижималась к драккару), стали подниматься длинные и толстые, извивающиеся в воздухе змеи. У них не было голов, а гибкие тела были покрыты круглыми плоскими бляхами, точно гигантскими шляпками гвоздей. Эти змеи проворно оплетали борта, лезли в ладью, тянулись к людям.
Одолевая накатывающую дурноту, Садко глянул через борт вниз и увидел, как из глубины вырастают очертания чудовищного тела, почти бесформенного, колыхавшегося, как густой сбитень. В центре этой массы стеклянно светились два чудовищных, холодных глаза, а змеи росли прямо из туловища по обе стороны этих глаз.
— Что это?! — задыхаясь, прошептал купец, занося, однако, руку с копьём, чтобы оказать хоть какой-то отпор немыслимому чудовищу, вылезавшему со дна грота.
— A! Es ist wieder du! Ein schmutzig Vieh![72] — взревел в это время Герхард, в ярости переходя на свой родной язык.
В мгновение ока он вскочил на борт ладьи и взмахнул мечом. Срезанная, точно серпом, громадная змея плюхнулась на дно ладьи, за нею вторая, потом третья.
— Все за мечи! — закричал германец. — Рубите их, рубите! Это не змеи, а как бы руки этой поганой твари! Осторожней, на них присоски — ухватит, не вырветесь! Бейте его! Вот тебе, скотина! Вот! Вот!
Пример германца разом привёл в чувство всех. Садко первым, кинув копьё, вооружился мечом и принялся рубить оплетающих ладью змей. Рассечённые, они источали жёлто-маслянистую жидкость, и их отрубленные концы ещё дёргались, свивались в кольца.
Садко вдруг вспомнил, как в Царьграде видел у рыбаков странные морские диковины: круглые, размером с ладонь, они были окружены такими же вот змейками-руками с бляшками-присосками. Рыбаки говорили, что этих тварей можно есть, но купцу было противно даже представить такую пакость у себя в миске... Однако неужели возможно, чтобы эти противные, но безобидные твари вырастали до таких размеров?!
— Что это, Герхард? Что за гадина?! — спросил Садко германца, в свою очередь, яростно орудуя мечом.
— Это Кракен![73] — отозвался Герхард. — Мне на него везёт: я только четыре раза отправлялся в большое плавание и вот уже третий раз воюю с этой подводной скотиной! А иные моряки всю жизнь плавают и только сказки о них рассказывают. Он водится в северных морях. Фу, дрянь! Ещё и всю воду испакостил!
Вода вокруг ладьи и драккара действительно была уже вся покрыта маслянистой плёнкой, мутные струи расплывались всё дальше и дальше. Но само чудовище, то ли получив слишком серьёзные раны, то ли просто решив не связываться больше с людьми, отпустило борта ладьи и медленно стало погружаться в бездонную глубину.
Глава 7. «Сим победиши!»
Дружинники, хрипло бранясь, а иные заходясь истерическим смехом, одну за другой выкидывали за борт отрубленных змей, которые, продолжая свиваться и дёргаться, тонули, следуя за страшной тварью.
— Одну оставим! — Садко ухватил последнее щупальце и сунул под скамью. — И её князю показать надо... Только где ж я столько соли-то наскребу?
На него тоже накатил смех, но он с трудом подавил его.
— Ну, всё! — выдохнул Герхард, заправляя меч в ножны. — Хватит с нас! Прилив начинается, надо плыть отсюда.
— Прочь из этого сатанинского места! Прочь! — закричали со всех сторон дружинники. — Пропади оно, это злато бесовское!
— Да! — Садко выждал, пока смолкнет кругом беспорядочный крик, и возвысил голос. — Понимаю вас, братцы. И сам хочу сей же час отсюда плыть как можно скорее. Только вот как быть со словом, что я князю Владимиру дал? Я ж побожился всё, что в силах моих и свыше сил моих, сделать, дабы злато нибелунгово в Киев привезти. Не для себя ведь решились мы на это. И князю сие богатство нужно не для себя. Нужно оно государству русскому. Вот я и вопрошаю вас теперь: а всё ли мы сделали, чтобы колдовские силы побороть да ладью златую Владимиру Святославичу доставить?
Несколько мгновений вокруг висело угрюмое молчание. Потом Лука проговорил:
— Я бы сказал, что не в силах людских завладеть сим кладом. Да вот только помните, братья, карлик-то окаянный что-то лепетал: мол, злато забрать можно только вместе с ладьёй, а если ладью из грота вывести, то из неё всё это богатство и вынуть можно будет? Но раз такое условие названо, то, стало быть, возможно сделать это! Мы только не знаем, как!
— Разумно! — улыбнулся Садко. — Но, может быть, кто-нибудь подумает и сообразит? Герхард! До сих пор ты у нас всё придумывал да обо всём догадывался. Ну-ка, пошевели германским умом!
— А я-то что? — немного смутился германец. — Я тогда быстро соображаю, когда мечом махать надо. Вот если гаду подводному руки-хваталки отсечь или змею срубить башку — так это по мне. А в остальном... О! Как же мы все не подумали?!
Его взгляд при этих словах остановился, точнее, намертво прирос к чему-то, что находилось совсем рядом. Садко посмотрел в ту же сторону. Да, сомнений быть не могло: германец смотрел на страшное украшение золотого драккара — разинутую пасть змея, тоже выкованную из золота и торчавшую над изогнутым носом судна.
— О Господи! — вырвалось у молодого купца. — Неужели?.. Не может быть!
— Как раз может быть! — воскликнул Герхард. — Сам подумай: этот змей — страж сокровища. Не важно, живой он или мёртвый, заклятие подземные карлики наложили таким образом, чтобы тварь не позволила, если удастся, приблизиться к золоту, а если кто-то до него доберётся, то не должен его отсюда унести, так?
— Ну... Так.
— Ты, помнится, рассказывал, — продолжал германец, — что разбойник, от коего ты про этот клад знаешь, побывал здесь со своей ватагой и они все тут, кроме него самого, сгинули, а он уцелел, но ни с чем остался.
Садко кивнул.
— Так мне Бермята и говорил. Но на них ведь не нападал никакой змей. И Караракен этот, давешний твой знакомец, не всплывал со дна. Всё было не так, как с нами.
— Правильно! Потому что все эти силы и не нужны были. Что может быть страшнее для человека его собственной жадности и злобы? Разбойники не могли взять золото не потому, что оно заколдованное, а потому, что они пришли за ним ради одной своей наживы. Они сами друг друга перебили, а силой заклятия была всего-навсего сломана их лодка. Но мы-то хотим взять богатство не для себя и не ради себя, ведь так? Может, и есть в нас немного дрожи от этого блеска, может, в душе-то искушение и шевелится, но ты ж сам сейчас напомнил: мы князю слово дали! А не то, так уж небось и повернули б назад — одного змея морского хватило бы! Поэтому против нас и действует главное заклятие и змей продолжает охранять нибелунгов клад. Эта голова — идол язычников. Наверное, очень сильный идол. И, пока он здесь, мы не можем преодолеть колдовство. А ну дай-ка сюда топор!
Садко уже понял, к чему клонит бесстрашный воин. Ему самому, правда, казалось, что это — бессмыслица. Если они сумели убить живого чудовищного змея, изранить и прогнать зловещего Кракена, то неужто им может помешать отлитая из золота болванка? Однако что если это так?
Перед самым отплытием из Новгорода посадник Добрыня ещё раз поговорил с полюбившимся ему гусляром и немало рассказал о своём племяннике, великом Киевском князе Владимире. Ему хотелось, чтобы Садко было легче сойтись с ним. И сейчас вспомнилось несколько сказанных посадником фраз, но они вдруг многое объяснили:
— Иные люди всё брешут, будто жесток князь бывает, а ещё, что неумён, не умеет под всех подладиться и со всеми в мире быть. Ведь что говорят: мол, привёл на Русь новую веру, ну и привёл, мало ль у нас вер-то среди разных племён? Ставил бы свои храмы, а идолов оставил бы в покое — кто хочет, им сможет жертвы приносить, а другие пойдут в церкви ко Христу. Но Владимир-то знает, что нельзя так! Идол — он, само собой, бревно, да ведь сколько перед сим бревном заклятий бесовских говорилось, сколько крови лилось, жертвы приносились, и мало ли промеж тех жертв людских было? Вот и вселилась в те брёвна бесовская сила, и стояли они на страже власти тёмной. Не сокрушил бы их князь, ничего б у него не вышло — не победить было иначе на Руси супротивников веры Христовой!
Садко захотелось самому проверить правоту Герхарда, самому снести колдовской оберег золотого драккара. Но он понимал, что германец гораздо сильнее его. А надо было торопиться — лёгкое волнение воды возле стен грота ясно говорило о наступлении прилива. Ещё немного, и ладье будет не выплыть наружу, придётся ожидать, пока прилив пройдёт. А там ну как шторм?
Он молча протянул Герхарду топор. Тот замахнулся, и в этот момент со всех сторон, исходя будто бы от самих стен пещеры, послышалось шипение, кто-то взвизгивал и что-то злобно бормотал, кто-то верещал непонятные, но очевидные по смыслу проклятия.
Гребцы испуганно закрестились, однако Герхарда это только воодушевило.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! — крикнул он и со всего размаха саданул по шее золотого чудища.
Раздался утробный звериный рёв, настолько явственный и страшный, что все, не исключая Садко, испытали отчаянное желание попрыгать с ладьи в воду и поскорее плыть к выходу из пещеры.
— Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его! — вновь закричал Герхард. — Садко! Давай, читай молитву до конца, не то я ещё что-нибудь напутаю! Я — тот ещё богослов...
— И да бежат от лица Его ненавидящие Его! — крестясь, продолжил Садко. — Яко исчезает дым, да исчезнут. Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и в веселии глаголящих: «Радуйся, о пречистый и животворящий Кресте Господень, прогоняяй[74] бесы силою на тебе пропятого Господа Нашего Иисуса Христа, во ад сошедшего и поправшего силу диавола, и даровавшего нам тебя, Кресте Свой Честный, на попрание всякого супостата! Аминь!
Покуда Садко читал молитву, Герхард успел нанести около десятка ударов, после каждого из которых раздавались вой и визг, неведомо откуда исходившие. Однако они делались всё тише и слабее. Смолкло и шипение. А с последним ударом топора, после которого золотой идол, надломившись, повис над водой, всем показалось, будто где-то, опять же неведомо где, звонко и ясно ударил колокол. Германец перевёл дыхание и что есть силы толкнул истукана. Тот отделился от носа драккара, плюхнулся в воду и потонул.
— Во как! — восхитился кормчий Лука. — Наши-то хотя бы плыли по Днепру, потому как деревянные, а этот тотчас и сгинул!
— К Кракену-Караракену поплыл! — посторгнулся один из дружинников. — Ну и что ж теперь?
— А теперь, — воскликнул Садко, — живо вяжем узлы на носу ладейки и за вёсла! Выведем ладью из пещеры сей, а там уж, покуда тащим до града Киева, все неустанно молитвы творить станем. Не то ведь ещё возьмёт да и потонет! Золотая ведь...
Он и сам потом не мог понять, почему сразу и безусловно уверился, что колдовская ладья стронется на сей раз с места. Но у него даже не возникло сомнений.
Вёсла ударили по воде, драккар дрогнул и... медленно, будто бы нехотя поплыл следом за ладьёй Садко.
Когда они выплывали из узкого прохода, всем пришлось низко пригибаться — прилив наступал, вода поднималась всё выше. А с возносившихся над драккаром золотых груд, которые стали цепляться за своды, соскользнули и покатились в воду десятки монет.
— Во! Теперь они и впрямь отделяются! — в восторге крикнул Лука.
Вороны на сей раз не нападали на путешественников. Они лишь носились с воплями и злобным граем над вершиной острова-горы, да некоторые из них проводили все три ладьи на сотню саженей, пока те отплывали.
«Штилле» всё так же царил над Нево-озером, и Садко воспользовался этим, остановив суда и велев пересыпать часть сокровищ в две русские ладьи, а потом хорошенько укрыть все сокровища старыми парусами и наставить поверх мешков и бочек.
Как ни странно, золотая ладья по-прежнему не собиралась тонуть, но гребцы уже не верили в её «послушание» и продолжали молиться.
В течение дня плыли спокойно, меняясь на вёслах и внимательно следя за драккаром. Ничего не происходило, и люди постепенно стали успокаиваться. Но, едва начало темнеть, всем снова сделалось не по себе. Вода озера непонятно от чего стала вдруг светиться, излучая бледное зеленоватое сияние, которое то ли исходило от невидимого дна, то ли испускалось некими существами, плававшими вокруг маленького каравана.
Садко уже случалось видеть свечение воды. Но это бывало в южных морях, и волны никогда ещё не светились так сильно. Ощущалось в воде и какое-то движение, хотя увидеть в ней что-либо было невозможно: странный свет почему-то делал озеро непрозрачным, словно заслоняя то, что в нём происходило.
— Гонятся они за нами, что ли? — шептал Лука Тимофеевич, в который раз осеняясь крестным знамением и тревожно оглядываясь вкруг себя. — Не могут отстать, бесы окаянные!
— Все молимся! — как можно твёрже напомнил Садко. — И гребём, гребём, братцы! Заночевать здесь негде — вблизи ни одного островка. Да и чем скорее окажемся около берегов, тем оно спокойней.
Гребцы и без его приказа трудились изо всех сил. Другое дело, что отдохнуть было невозможно, те из дружинников, кто не был на вёслах, всё равно не спали.
Свечение воды и непонятное движение вокруг плывущих ладей продолжалось, и некоторым стало уже казаться, будто из бездны вновь взвиваются то там, то здесь щупальца чудовищного Кракена с круглыми присосками или вдруг мелькает в волнах голова русалки с вьющимися среди пены струями светлых невесомых волос...
— Пугают,— проговорил, сохраняя или делая вид, что сохраняет невозмутимость, Герхард. — Не сделают они нам уже ничего. Просто злятся, что клад приходится отдать.
Однако на этот раз германец ошибся. Во всяком случае, силы, сторожившие и ныне уже почти упустившие заколдованное злато, сделали ещё одну попытку остановить дерзких похитителей.
Небо на востоке уже начало едва заметно светлеть, когда путешественники вновь услышали голоса озёрных тварей. Но теперь то был не полуразличимый шёпот, доносившийся из глубины. Над Нево-озером зазвенели тонкие трели, нежные, разливистые, по-соловьиному чистые. Их можно было бы принять за детские голоса, но они казались слишком сильны. Их звучало не меньше десятка. Они пели то ли на каком-то не известном никому из путешественников языке, то ли просто выпевали ничего не значащие звуки, однако в них была чёткая последовательность, они слагались в монотонную, но необычайно ласковую, неотвязно зовущую мелодию.
— Русалки поют, — прошептал Лука, невольно сильнее стискивая рулевое весло. — Говорят, хуже нет, чем их услыхать... Но зато как сладко-то!
Садко опомнился, когда понял, что обе ладьи, а с ними вместе и золотой драккар уходят со своего пути, разворачиваясь и следуя за зовом призрачных сладких голосов. Опьянённые, одурманенные ими люди перестали повторять слова молитв, зачарованно слушая песню и всматриваясь в постепенно светлеющий горизонт. Им хотелось увидеть тех, кто так нежно звал их к себе.
— Куда же мы плывём?! — выдохнул Садко. — Нам не туда плыть надо!
— Они заманивают нас! — в ухо ему проговорил сидевший рядом Герхард. — Боюсь, люди не смогут сейчас сосредоточиться на молитве, все устали, никто не спал. А эти голоса затуманивают сознание. Чувствуешь?
— Чувствую. Просто силы теряю. И в голове мрак какой-то. Что делать, а?
Германец вдруг с силой хлопнул купца по плечу.
— У тебя ведь есть против них оружие, Садко! Именно у тебя. Перепой их. Давай, берись за гусли!
Купец даже вздрогнул от неожиданности. А ведь и правда! Как же он позабыл-то? Ведь сам же слыхал или читал где-то сказку, в которой рассказывалось, как можно справиться с русалочьим пением.
Он вздохнул всей грудью, выплывая из одолевающего его дурмана, нашарил рядом гусли, вскинул их на грудь.
— Ну, ведьмищи озёрные, поглядим же, кто из нас лучше поёт!
Знакомый звон серебряных струн, разнёсшийся над светлеющей гладью озера, заставил дружинников очнуться. Они словно стали выныривать из мутного сна, поглотившего и уже почти погасившего их сознание. Когда же зазвучал голос Садко, в этот раз ещё более сильный и красивый, все вновь схватились за вёсла, которые успели побросать. Лука крутым движением руля стал разворачивать ладью в прежнем направлении.
— Ой, о чём грустишь ты, добрый молодец? Ой, о чём, о чём ты призадумался? Что повесил буйну ты головушку, А в очах таишь слёзы горькие? Не о красной ли горюешь девице? Не о доброй ли своей красавице? Не боишься ли ты, добрый молодец, Что любовь её не крепка была? — Не боюсь я того, други верные, Что забудет меня красна девица, Крепко верю я во любовь её Да в святое её обещание! Будет ждать меня красна девица, Будет ждать меня душа-невестушка, Не сменяет на другого молодца, Не стряхнёт перстенёк с белой рученьки. — Что ж тогда ты, молодец, кручинишься? Не тоскуешь ли о доброй матушке? Не она ль тебя ласкала-нянчила? Не она ль тебя, милый, вырастила? Может, думаешь, что умрёт она, Не дождётся сыночка из дальних стран? Что не встретит тебя, не возрадуется, На пороге с тобой не обнимется? — Не боюсь я того, други верные! Не стара ещё моя матушка! Ждёт-пождёт она, дожидается, За сынка ежедневно молится!Садко пел, и ею великолепный голос, разносясь над широченным пространством Нево-озера, постепенно занимал это пространство, подчинял его, заслоняя и подавляя сладкие звуки русалочьих рулад. Вот уже и вовсе не стало слышно их пения. Или, может, они умолкли, поняв, что их чаровство уже не действует, и сами желая послушать неведомого им прекрасного певца. А Садко пел, не отрывая пальцев от звенящих струн и чувствуя, что и он, и его товарищи вновь свободны — никто уже не мог приказать им плыть туда, куда они плыть не хотели...
— Так о чём же печаль твоя, молодец? Отчего ж ты, друг, закручинился? Что же может тревожить молодца, Коли ждут тебе твои близкие? — А печаль моя, други верные, Не о милой моей красной девице, Не о доброй моей родной матушке, Не о братьях моих со сестрицами. Но печаль моя о родном краю, О Руси моей, милой родине! Всех родных она мне ненагляднее, Всех любимей и всех желаннее! Как вернусь я из странствия дальнего, Как увижу вновь мою родину, Так кручина моя и растает вся, Так и слёзы мои все повысохнут!На востоке рассвет провёл алую полосу, отчеркнув гладь воды от серого марева ещё невидимого небесного свода. Потом полоса стала расширяться, зарево разрасталось, и темнота небесного свода отступила, утекла на запад, а потом пропала вовсе, вернув небу радостную утреннюю голубизну.
Одновременно с наступлением утра проснулся ветер, волны заколыхались, заплескались, играя гребешками пены. Ранее недвижные паруса ладей наполнились, круто выгнулись и напряглись. Гребцы облегчённо вздохнули — ветер толкал их суда туда, куда им и нужно было плыть, можно больше не напрягать руки, даже на время вовсе опустить вёсла. Золотой драккар всё так же покорно следовал на привязи за первой ладьёй, не мешая её ходу.
— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Садок Елизарович облегчённо перекрестился, снял с шеи гусли и вновь возвысил голос, стараясь, чтобы его услыхали и на другой ладье:
— Отдыхаем! По пять человек на каждом судне несут караул, рулевых меняем. Герхард, смени Луку у руля. Антипа! Эй, Антипа, ты слышишь меня? Или тебе только русалок слушать нравится? Становись там, у себя, на руль! Остальным спать!
Сам он тоже лёг на дно ладьи, на сложенные стопкой мешки, расположившись прямо на корме. Закрыл глаза, пытаясь задремать, но усталость и пережитое напряжение были слишком велики. Сон не шёл к нему.
— Я бы тоже после такого не заснул!
Это сказал Герхард, и Садко, открыв глаза, увидал прямо над собой его обрисованную восходящим солнцем фигуру. Германец стоял, одной рукой опираясь на кормовой выступ, другую свободно положив на рулевое весло. Когда ему довелось управлять ладьёй в первый раз, он так ещё не мог — ухватился за руль обеими руками. А теперь вот свободно, почти привычно направлял ход ладьи, следя за парусом и лишь время от времени сверяя направление с солнцем.
— Хотелось бы, чтобы это испытание оказалось последним на пути к Киеву, — произнёс Садко, понижая голос, ведь кто-то всё же спит. Даже наверняка многие спят — на некоторых волнение действует в обратную сторону: стоит расслабиться, лечь, как тут же и засыпаешь.
— Плыть до Киева нам почти месяц! — Голос германца выдал вполне объяснимые сомнения. — И если даже уймутся стражи нибелунгов, то мало ли кто нам ещё может встретиться? Я бы не надеялся на очень лёгкий путь.
— Ничего! — Купец привстал на локте и улыбнулся, щурясь на солнце. — С тобой, как я погляжу, не страшны ни нечистая сила, ни, уверен, целая сотня разбойников. Сколько с нами всего уже приключилось, и всё было бы во много раз хуже, не будь тебя с нами. Приплывём в Киев, поблагодарю князя за то, что послал тебя в это путешествие.
— Я сам попросился, — признался Герхард. — Очень хотелось узнать, правду ли рассказывают об этом колдовском кладе. Выходит, что правду. И морской змей — не выдумки моряков. Кракена я и до того видел, ты знаешь. Мерзкая гадина! Но, честное слово, русалки, пожалуй, страшнее. Особенно это их пение.
Садко продолжал улыбаться.
— Однако ты не испугался и этой нечисти. И тут же придумал, как одолеть их чары.
Германец покачал головой.
— Придумал не сразу. А испугался, скажу честно, ужасно!
— Брось!
— Нет, правда! Когда передо мной враг и можно с ним биться, я не испытываю страха, тут всё зависит от меня самого... Но когда вдруг какая-то, совершенно неведомая, колдовская сила подчиняет твоё сознание, заставляет делать то, чего делать не хочешь, когда понимаешь, что сам, но по чужой воле лезешь бесу в пасть... Бр-р-р! А эти их голоса! Прекрасные, но неживые. Ведь мы даже не знаем, куда они звали нас, в какую смертельную ловушку заманивали...
— Да, — невольно вздрагивая, прошептал Садко. — Мне тоже было страшно. И всё же... знаешь, Герхард, я бы хотел их увидеть. Не туманно, сквозь воду, а на поверхности. И при свете солнца. Интересно же: какие они? Говорят, они очень красивы.
— Говорят. — Герхард вновь глянул на солнце. Оно стояло уже высоко. — Но все, как один, кому доводилось их видеть и остаться в живых — а так повезло очень немногим, — так вот, все, кто уцелел, говорят, что ни за что на свете не хотели бы снова увидать их.
— Понимаю таких бедняг!
Садок Елизарович решил, что всё равно не заснёт, и уселся возле рулевого, на тех же мешках, прислонившись спиной к доскам насадки.
— А тебе бы хотелось увидеть русалку, а, Герхард?
Тот усмехнулся.
— Ну... Как тебе сказать. Одну я, положим, видел. Правда, не уверен, что она была русалка. Но колдунья уж точно. У нас в Германии о ней рассказывают сказки, а рыбаки и корабельщики с Рейна до смерти её боятся, хотя последние несколько лет вроде бы она исчезла. Её даже прозвали Рейнской русалкой.
Садко так и подскочил.
— Ничего себе! Ты видел русалку?! И как это было?
Германец пожал плечами.
— На Рейне. Именно там она обитала, а возможно, обитает и по сей день. По течению Рейна много крутых и скалистых берегов, но в том месте берег особенно высокий и над водой высится огромная скала. Все знают, что под этой скалой — бездонный омут и что к нему нельзя приближаться. Иначе, греби не греби, втянет. Многие там погибли. Потому что вечерами на скале появлялась девушка небывалой красоты. Сядет, достанет гребень и расчёсывает свои длинные волосы. Они у неё — как чистое золото. Не просто светлые и не рыжие, а именно золотые. Таких почти никогда не бывает. Но я сам видел. Девушка принималась петь, и любой, кто слышал её пение, не мог совладать с собой. И направлял свой корабль или чёлн к скале, прямо в омут!
— Вот так история! — Садко становилось всё интереснее, его воображение рисовало перед ним сказочную картину высоких скал, бурлящего водоворота и сидящую над бездной красавицу. — И кто же она, Герхард? Ты говорил, что она, может быть, и не русалка?
— Да. Потому что у неё ноги, а не хвост. Но ведь мы и не знаем, всегда ли у русалок рыбьи хвосты. Рассказывают, что лет двадцать назад эта красавица была просто дочкой бедного рыбака, который жил на берегу реки. Звали её Лора. Её однажды увидел и полюбил один рыцарь. Она тоже полюбила его, и он увёз девушку в свой замок, чтобы на ней жениться. А что там дальше у них приключилось, опять же рассказывают разное. Вскоре рыцарю пришлось отправиться в боевой поход, а его мать, злющая мегера, ненавидела бедняжку Лорхен. Как же! Её сын, вот не помню уж, граф он или барон, привёл в свой дом голодранку, рыбацкую дочку! Взяла и внушила той, что рыцарь уехал не сражаться, а свататься к своей невесте, богатой и знатной красавице. Дальше тоже не всё понятно, болтают-то кто во что горазд. То ли девушка вернулась к отцу, а тот её выгнал. То ли она хотела было уйти в монастырь и добрый старый епископ простил ей грехи и собирался проводить в обитель, но, когда Лора пошла вновь взглянуть на реку, у которой повстречала своего рыцаря, его злобная мать столкнула её в воду. А может, она сама бросилась с той самой скалы и утопилась. Так или иначе, но с тех пор её стали видеть над Рейном, над самым страшным омутом. Она заманивает и губит всех, кто рискнёт там проплыть. Правда, говорят, что, когда безутешный рыцарь, вернувшись в замок и не найдя своей возлюбленной, отправился её искать, он тоже проплывал там, под той скалой. И увидел Лору, и поплыл к берегу. Она его узнала и, можешь себе представить, перестала петь! Колдунья-то колдунья, но любимого губить ей вовсе не хотелось. Однако водоворот уже подхватил лодку и ударил её о скалу. Челнок разбился в щепки. Тогда, видя, что рыцарь тонет, Лорхен бросилась с высоты вниз, и они ушли в пучину вместе. Впрочем, некоторые рассказывают, что, наоборот, вместе спаслись. Но Лору неизбежно осудили бы, как ведьму, попадись она людям. Поэтому рыцарь увёз её в далёкие края. Но многие продолжают утверждать, что русалка Рейна иногда появляется на скале. Поговаривают, что и пение её порой слышится, и это всё так же опасно для тех, кто там проплывает. Возможно, это выдумки. А может, и нет? Если златокудрая Лора погибла, то это её тень является на прежнем месте. Или есть ещё такая русалка. Нечисти, увы, хватает. И на Руси, и в Германии. Да, думаю, везде[75].
— В любом случае история не из весёлых! — вздохнул Садко. — Но, если ты говоришь, что видел эту Лору, то как же это она и тебя не утопила?
Германец засмеялся.
— Ну, я же везучий. Мы, я и лодочник, которого я нанял, чтобы плыть по одному важному делу, издали заметили сидящую над берегом красавицу. Её золотые волосы так сверкали на солнце, что у меня пятна замелькали перед глазами. И голос у неё вправду такой, что услышишь и поплывёшь к ней, ни о чём больше не думая. Но мы были ещё далеко. И, на наше счастье, гроза собиралась. Загрохотал гром и заглушил пение колдуньи. Тут я понял, что надо спасаться. .Вытащил меч, приставил к горлу лодочника и заорал изо всех сил: «Греби назад!» Он подчинился. Так вот я и спасся от Рейнской русалки. И лодочника спас, хоть он, скотина неблагодарная, после возмущался, что я оцарапал ему шею.
Глава 8. Пророчество чудотворца
Путь до Киева был и вправду не близок. Садко понимал: Герхард прав, добытое такими трудами и со столькими опасностями золото нибелунгов может привлечь не только всяческую нечисть, но и самых обычных разбойников, а с ними молодой купец имел на своём веку куда больше встреч, чем с русалками или морскими змеями.
Надо было постараться сделать так, чтобы драгоценная добыча, если возможно, не привлекала к себе внимания. И Садко пошёл ради этого на всевозможные хитрости.
Дабы пленённый драккар не сверкал и не показывал, из чего сделан, предводитель велел на первой же стоянке возле безлюдного островка весь его обмазать смолой. Вода отчасти смывала её, и снизу временами сверкали яркие золотые лучи, точно из-под ладьи били молнии. Но это было не так уж заметно, да и вряд ли в башку обычному лиходею могло прийти, что потрёпанное варяжское судно с отрубленным носовым украшением, которое для чего-то волокут за собой русские ладьи, может быть золотым — как бы оно в таком случае плыло, а не тонуло?
Груды монет и драгоценностей надёжно укрыли мешками да старыми парусами, а чтобы ветер, если вдруг станет сильней, не срывал всё это, сверху вдоль бортов положили камней и посадили в драккар четверых дружинников — надо будет, поправят покрытие. Да и сами, своим весом тоже станут держать парусину с мешковиной.
Первую долгую остановку Садко решился устроить только в Новгороде. Он бы и там не задерживался, спеша довезти груз до Киева, но выбора не было — у путешественников совсем кончился хлеб. Остальные припасы иссякли ещё раньше, оставалось лишь чуть-чуть вяленой рыбы.
По Волхову шли долго — ветер, как назло, был встречный, и река в этот раз даже не думала, как тогда, два с половиной месяца назад, поворачивать своё течение вспять. Приходилось налегать на вёсла. А ближе к вечеру пошёл дождь, и все промокли насквозь. Садко боялся, как бы в драккар не натекло много воды: если из ладеек её ничего не стоило в случае надобности вычерпать, то попробуй-ка достань, если она соберётся на дне посудины, по самые края наполненной золотом и драгоценными каменьями! А ведь от этого драккар станет ещё тяжелее...
Дружинники, что были посажены в нибелунгову ладью, постарались, как могли, растянуть укрывшую сокровища парусину, свесив её края вниз, чтобы струи дождя стекали по ним в реку. После этого молодцы не придумали ничего лучше, чем распластаться поверх этой парусины, удерживая её и ладонями прижимая к бортам ладьи. Ветер, налетавший порывами, отгибал края мокрой ткани, надувал её пузырями, а Волхов ходил ходуном, пенясь лохматыми волнами, едва ли не как Нево-озеро в ненастье.
Людям сделалось не по себе. Как бы и впрямь дождь не потопил драккар!
— Слышь, Садок Елизарович! — окликнул предводителя Лука. — Дальше плыть — как бы беды не поделалось. Всё едино — при таком ветре и дожде к вечеру не дойдём до Новогорода. Приставать надобно.
— Я и сам об этом думаю, — отозвался Садко. — Да только где прикажешь? Берега кругом лесистые, безлюдные. Укрыться-то и негде. А вот внимание к себе привлечь, если шалаши поставим да костры разведём, ничего не стоит. Не навлечь бы лихих людишек.
— Так-то оно так, — не сдавался кормщик. — Да ведь выхода, похоже, нет. Мнится мне, в нашу злату ладейку уже немало водицы накапало. Как бы не пришлось то злато выгребать.
— С ума сошёл! — возмутился предводитель. — Вот я те выгребу! До города уж рукой подать!
Но Лука вновь не согласился:
— Подать, когда ветер попутный, да если б люди наши не так вымотались. Течение супротивное, ветер мешает, а дождь льёт и льёт. Плыть ещё вёрст с десяток, ну, может, чуток поменьше. Это мы в Новограде будем глубокой ночью. И ещё как до него как дойдём? В темноте можем и на пороги наскочить. Нет. Надобно приставать!
И вот тут Садко осенило.
— Постой-ка, Лука Тимофеевич! А ведь по пути, на правом берегу Волхова монастырь стоит. Каждый раз мимо него проплываем. У них там и причал свой есть. Если сказать монахам, что мы князем Владимиром посланы были, то они нас примут и приют дадут. Там и ладейку нибелунгову понадёжнее укроем, и сами обсушимся, поедим да утра дождёмся.
— И скажем, чего ради плавали? — с сомнением спросил кормщик.
— А вот это необязательно. Князь посылал, и всё тут. Может, он нам посольство какое поручал... Монахи — люди нелюбопытные и приставать с расспросами не станут. Эй, ребятушки! Гребём-ка дружнее! Не больше версты пройти осталось.
Гребцы, услышав, что скоро можно будет обрести ночлег, обсушиться и поесть, взбодрились и налегли на вёсла с новой силой. Садко во все глаза всматривался в правый берег, чтобы не пропустить высокие бревенчатые стены монастыря, когда те покажутся над берегом. Узкий дощатый причал в темноте можно было и не разглядеть, а зажигать факел под проливным дождём не имело смысла — тут же и погаснет.
Однако опасения оказались напрасны. В маленьких бойницах монастырских стен мерцали трепещущим светом фонари, а над причалом, укрытый широким кованым козырьком, ярко полыхал факел.
— Точно ждут здесь кого-то! — удивился Садко. — Гляди-ка, ночью огонь разожгли!
Причал был короткий, возле него встали только первая ладья и драккар, вторую ладью привязали сбоку, прочно укрепив канатами, чтобы течение не стало её сносить. Быстро сняли с обеих ладей промокшие паруса, общими усилиями отжали их и тоже расстелили над драгоценной добычей.
Пока Садко и его дружинники были заняты этой работой, возле скупо освещённых фонарями монастырских стен возникло какое-то движение, потом во тьме затрепетал огонь ещё одного факела и стало видно, что по широкой деревянной лестнице, ведущей от монастырских ворот к Волхову, спускаются несколько человек. Все они были в чёрных монашеских рясах и клобуках[76]. Идущий впереди нёс факел, прикрывая его берестяной плетёнкой.
— Мир вам, Божьи люди! — обратился к ним Садко. — Можно ли нам у вашего причала до утра ладьи оставить, а самим в обители приют найти? Мы оставим за это щедрые пожертвования.
Немного не дойдя до причала, монахи остановились, и один из них, по виду самый почтенный, поклонившись, воскликнул:
— Здравы будьте и вы, добрые путники! Пускай ваши ладьи стоят здесь, сколько понадобится. И сами вы найдёте в нашем монастыре кров и ужин. Я — игумен монастыря Успения Пресвятой Богородицы. В иночестве моё имя — Ксенофонт[77]. А кто промеж вами главный?
— Я, — ответил молодой купец.
Он хотел было говорить дальше, хотел сказать, что знаком с новгородским посадником и что у него поручение от князя Владимира. Однако монах движением руки остановил его.
— Мне ведомо, кто ты, добрый молодец. Твоё имя Садко, и ездил ты в дальние края по поручению великого князя Киевского Владимира Святославича. А сейчас возвращаешься со своей дружиной в Киев-град. Будь же нашим гостем дорогим. А покуда вы отдыхаете, я гонца отправлю к посаднику Добрыне, чтоб он поутру выслал людей вам навстречу. Вижу, везёшь ты с собой то, что великий князь привезти наказал.
Садко был настолько ошарашен осведомлённостью инока, что не сразу нашёл слова для ответа. Положим, в монастыре могли быть доверенные люди посадника, а возможно, и самого Владимира. Может быть, кому-то из них князь и рассказал о поручении, данном его посольству. Сомнительно, конечно, но возможно. А если так, то князь мог приказать игумену монастыря, если понадобится, встретить и приютить его посланцев. Но как могли монахи узнать, в какой точно день, вернее, в какую ночь на Волхове появятся ладьи с драгоценным грузом? Мало ли, кто и с чем проплывает по судоходной реке?
Игумен между тем подошёл ближе и, видя полное замешательство предводителя каравана, улыбнулся.
— Не дивись, добрый человек, что я так много знаю. Нет промеж нами соглядатаев. Просто три с лишним месяца назад объявился в нашей обители новый инок. Покаялся, что разбойником был и многих людей сгубил. И ещё признался, будто к нам в обитель ехал спервоначала не с добрыми мыслями. Хотел он будто ограбить обитель да ещё и одного из наших иноков убить. Но, оказавшись в святом месте, понял, что не исполнит замысленного. Раскаяние пришло к нему, и ужаснулся он прежних своих намерений. Я благословил его грехи отмаливать. Потому первый месяц он прожил, строжайшим постом постясь и на самом трудном послушании. Потом принял постриг и живёт теперь с нами, никакой работы не гнушается, усердно Господу молится. И обозначился у того покаявшегося грешника дар: как ни скажет он, что случиться должно, так то непременно и случается. Предсказал он кончину одного из наших иноков, хотя тот вроде и здрав был, вот, а в единочасье ко Господу отошёл. Предсказал, что некий грек благочестивый дары нам привезёт для обители из самого аж Царьграда. И прибыл тот грек с дарами, о которых никому и нигде не сказывал. Да не укрылось его доброе намерение от вещего инока Бориса. Вот и про княжье поручение, купцу по имени Садко данное, он тоже мне на исповеди рассказал. А вчера в келью ко мне постучался и поведал, что сегодня, как стемнеет, ты с двумя русскими ладьями да с одной иноземной по Волхову проплывать будешь и к нашему причалу пристанешь, потому как дождь и ветер не дадут вам путь продолжать. Ну, я и велел в бойницах фонари поставить да у причала факел зажечь, не то ночью, да без луны вы и мимо проплыть могли. А путь к Новгороду не близкий, да ещё пороги впереди. В такую погоду опасно было бы вам плыть дальше.
Садко обменялся быстрыми взглядами с подошедшими к нему кормщиком Лукой и воином Герхардом. Оба смотрели на монахов без малейшего недоверия. Да и сам Садко, слушая игумена Ксенофонта, не испытывал никакого беспокойства.
— Отче, — спросил он, — а не скажешь ли, как было имя вашего вещего инока до того, как он постриг принял? В миру как его звали?
И снова игумен улыбнулся сквозь красивую, до пояса, седую бороду.
— Вижу, Садко, ты уже понял, о ком я рассказывал. Да, он говорил, что пришёл к нам в обитель именно после встречи с тобой и что тебя тоже собирался ограбить и убить, да Господь того не попустил. До пострига его звали Бермятой.
— А крёстный отец его — инок Константин? Тот самый, на кого он покуситься хотел?
— Тот самый.
Садко перекрестился. И словно вживую вновь увидал перед собой светлые, проницающие душу глаза Угодника Николая и услышал спокойный голос: «Обернёт его Господь к себе лицом, и примет грешник крещение. И после того зло уйдёт из его души». С разбойником Бермятой всё случилось в точности, как предсказывал святой. Да и разве могло быть иначе?
— А дозволишь ли, отче, мне побеседовать с иноком Борисом? — спросил купец игумена. — Хочу у него прощения просить. Не верил я, грешный, что он к Богу обратится...
— Побеседуй, добрая душа, побеседуй! — без раздумья, даже с радостью ответил игумен. — А пока оставь, если надобно, охрану возле своих ладеек, да и пойдём под кров монастырский. Дождик не слабеет, ветер крепок. Обсушиться и поесть вам необходимо.
Садко с сомнением оглянулся. Ему было жаль оставлять под дождём кого-нибудь из своих усталых и промокших людей, но он не мог и бросить без охраны драгоценный груз.
— Я останусь! — вызвался Герхард. — Не в первый раз мокну и простуды не страшусь. Через пару часов пришли людей сменить меня. И не смотри так: я один десятка стою, ты ведь это видел.
Садок Елизарович с благодарностью посмотрел в лицо германцу и положил руку ему на плечо.
— Ладно. Спасибо тебе. Со сменой приду сам.
И дал команду своим людям высаживаться на причал.
Уже на другой день пополудни они были в Новгороде, и Садко рассказал Добрыне обо всём, что с ними приключилось, и показал добычу, заставив сурового посадника прослезиться от радости. Добрыня верил в удачу отважного гусляра и его спутников, но бояться за них не переставал, понимая, каким ударом стала бы для Владимира гибель столь важного для него посольства. Да и Садко уж очень полюбился посаднику...
Торопясь, путники задержались в Новгороде всего на один день и на одну ночь, а утром нагрузили в ладьи хлеба и отправились дальше.
Уже после их отплытия про короткое посещение прослышали местные купцы, и вся Торговая сторона с утра кипела россказнями и слухами о том, что давешний хвастунишка-купец вроде бы добыл-таки нибелунгов клад, и нет чтоб им похвалиться, а вот помчался в Киев, собираясь тот клад привезти князю. Эх, дурнеем был, дурнеем же и остался: уж они-то, честные купцы новгородские, сумели б тем златом распорядиться, как надобно!
Но пока они судили да рядили, уж и вечер наступил, а ладьи Садко достигли Ильменя и поплыли по его водам, всё больше и больше приближаясь к концу своего тяжкого пути.
Эта ночь была звёздной. Воды озера, не спокойного, но и не бурного, словно мирно задремавшего, собрали в своей мерцающей темноте, казалось, ещё больше звёзд, чем их было в необъятной тёмно-синей чаше ночного неба. Вёсла, окунаясь в воду, зачерпывали каждое по десятку звёздочек и тотчас возвращали их озеру, чтобы следующим движением добыть их вновь.
Садко стоял на носу своей ладьи и смотрел вверх. Только что он увидел, как одна за другой три звезды упали, прочертив во тьме неуловимый огненный след. Иногда их падает куда больше. Люди говорят: это когда на земле кто-то умирает. Садко в это никогда не верил: ведь душа, уходя из тела, наоборот, возносится ввысь, к Господу, чего же ей падать? А если умер грешник и его душе не суждено подняться в рай, то она вряд ли станет звездой... Может быть, как раз наоборот? Ведь в тот момент, когда происходит зачатие будущего ребёнка, Господь вкладывает в него новую душу. Так что, если это ангелы Божии летят, неся драгоценную ношу, чтобы незримо для супругов, этой ночью в любви и молитве зачинающих своё дитя, одарить его душою?
Тёплая рука легко легла на плечо купца, и он обернулся.
— Ну что же, Садко Елизарович? До Киева-града меня довезёшь ли?
Глубокие глаза Николая Чудотворца улыбались. Сейчас он казался и вовсе молодым, чуть старше самого Садко.
— Отвезу, куда прикажешь, отче! — Купец радостно взял руку святого и хотел поцеловать её, но тот ласково опустил ладонь на его кудри, взрыхлил их и взъерошил.
— В Киев нынче мой путь, Садокушко! Молиться стану с вами всеми, чтоб всё удалось Владимиру-князю. Тяжёл его крест. А ты? Князь, ведаю, наградит тебя щедро. Что делать станешь? Вновь товаров накупишь да торговать примешься?
Садко улыбнулся. И зачем спрашивает? Ведь знает, что он ответит. Или сомневается в нём?
— Я бы и стал торговать, отче Николай! Ведь дело это у меня славно получается. Но чувствую, что сейчас не в этом я надобен. Мало ли хороших купцов на Руси? Думаю попросить князя оставить меня при себе. Если Господь мне дозволил и помог у сил бесовских заколдованное злато отобрать, то, наверное, смогу я и в других благих делах Владимиру пригодиться. Благословишь ли на это?
— Как же не благословить? — Святитель улыбался в ответ. — Только гляди: искушений-то не убавится, а прибавится! Чем больше хорошего делаешь, тем больше к тебе в душу будет дрянь всякая лезть, совращать, заманивать. То зло, которое ты до сих пор видел и одолеть сумел, это ведь так, шутки мелких бесов. А есть и бесы покрупнее да похитрее. Не испугаешься?
— Ну... Не сильнее же они ангелов Божьих! И ты... ты, отче, ведь не отвратишься от меня, грешного?
Теперь Николай Угодник уже откровенно рассмеялся.
— Ишь, хитрый какой! Как всякий купец, сразу себе условия оговариваешь. Да не смотри так, шучу. Или считаешь, святым шутить да смеяться не положено? А с чего бы? Мир Божий света полон, Садко. Света и радости. Только люди не умеют этого увидеть, всё свои беды крохотные во вселенскую печаль обращают да ею же и упиваются... Конечно, не оставлю я тебя, раб Божий, если ты меня не оставишь, не перестанешь молиться. Проси службы княжеской — нужен ты Владимиру. И Руси святой, даст Бог, пригодишься.
По небу покатились и погасли ещё несколько звёзд. Дохнул ветер, прогнул цветные паруса.
— Ты с кем там говорил-то, Садко? — послышался позади голос Герхарда. — С самим собой, что ли?
— А ты никого не видел? — быстро обернулся молодой человек.
— Кроме тебя, никого. Разве ты кому-то одолжил шапку-невидимку.
Путешественник расхохотался.
— Это бесам она нужна, чтоб таиться. Да нам, людям, возможно, полезна будет. А угодники Божии и без такой шапки обходятся. Смени-ка гребцов, друг Герхард. До рассвета неплохо бы пройти Ильмень.
Спустя неделю княжеское посольство вернулось в Киев, привезя князю Владимиру сказочный клад нибелунгов.
Примечания
1
В древнерусском языке это слово писалось через «о» и ударение имело на «о» — ло́дья. Но современному читателю всё же привычнее будет современное написание — «ладья».
(обратно)2
Два торговых пути русских купцов, существовавших с конца первого тысячелетия н.э., — от северных пределов Руси и от берегов Скандинавии в Византию и на север Африканского континента, в арабские страны.
(обратно)3
Древнее название Ладожского озера, от которого получила своё имя река Нева. (Впрочем, не исключено, что и наоборот).
(обратно)4
Сажень — русская мера длины, просуществовавшая до введения в СССР метрической системы. Равнялась примерно 2 м 13 см.
(обратно)5
Лодки в Древней Руси, как и ладьи, в описываемое время (в X веке) были долблёные: их выдалбливали из ствола дуба или липы. Ладьи к этому времени стали делать насадными, т.е. обшивать долблёный корпус досками, наращивая, таким образом, и высоту бортов.
(обратно)6
Садок — одно из древних христианских имён. Означает — оправданный. На Руси принято было наряду с традиционным произнесением имён использовать распространённую форму с окончанием на «о». Как, например, «Михалко», «Василько» и т.д. Привычное нам имя «Садко» в святцах пишется «Садок». Называть героя, соответственно, могли и так и этак.
(обратно)7
Шишак — старинный русский шлем, круглый, с заострённой верхушкой.
(обратно)8
Евангелие от Матфея. Гл. 5, 42.
(обратно)9
Ладога (современное название — Старая Ладога) — город на берегу Ладожского озера, как считают современные историки, один из древнейших центров древнерусской культуры, ремёсел и торговли.
(обратно)10
Вечернее правило — молитвы, читаемые православным человеком на ночь, обычно перед отходом ко сну. В данном случае, собираясь провести бессонную ночь на вёслах, гребцы всё равно не пренебрегали этой необходимостью.
(обратно)11
Насадные русские ладьи бывали в длину до 25 метров, т.е. более десяти саженей, и способны были нести до двадцати тонн груза.
(обратно)12
Древнее название Каспийского моря.
(обратно)13
Охабень — русская верхняя одежда, как мужская, так и женская. Шился обычно из плотной ткани. Длина могла быть различна — и немного ниже колен, и почти до полу.
(обратно)14
Аршин — древнерусская мера длины. Равнялся примерно 71 см.
(обратно)15
Варяжским морем в Древней Руси называли Балтийское море.
(обратно)16
Шхера — узкий залив в скалистом берегу.
(обратно)17
Правильнее было бы сказать — «варяжских диалектов». Т.к. варягами русские называли практически всех, кто приплывал к ним с севера, то есть уроженцев Северной Европы, то варягом могли назвать и норвежца, и датчанина. Называли так и немцев, хотя их чаще всё же германцами. Что до языка, то у всех этих народов языки были одной и той же — германской группы и не очень сильно отличались друг от друга. И по сей день, зная немецкий язык, не так трудно понимать, скажем, по-норвежски или по-шведски.
(обратно)18
Нибелунги — мифический народ, предания о котором бытовали у скандинавских и германских народов. О них слагали саги и сказания, самое знаменитое из которых «Песнь о нибелунгах». Представления о загадочном народе, обитавшем будто бы под землёй, заметно разнились в разное время и у разных племён. Их изображали то могучими и непобедимыми великанами, то, наоборот, коварными карликами. Но всегда отмечались их особая сила, связанная с колдовством и магией, а также обладание несметными сокровищами, добыть которые пытались многие герои преданий.
(обратно)19
Т.е. карликах.
(обратно)20
Это, казалось бы, невероятное явление, можно порой наблюдать на Волхове и в наше время. Иногда река на несколько часов изменяет направление движения и действительно течёт вспять. Это объясняется небольшой разницей в уровне воды Ладожского озера, в которое Волхов впадает, и Ильменя, из которого он вытекает. Иногда большой приток воды в Ладоге делает её уровень немного выше, и течение Волхова меняется.
(обратно)21
Речь идёт не о современном каменном храме Святой Софии Новгородской, тогда ещё не построенном. Немного на другом месте стоял первоначально возведённый деревянный тринадцатикупольный храм Святой Софии, по отзывам современников, также отличавшийся красотой и величием.
(обратно)22
Имя матери Святого князя Владимира Малуши в ряде справочников трактуется как уменьшительное от славянского имени Млада.
(обратно)23
Хлебным вином именовали напиток, который можно считать прародителем современной водки. Его знали ещё древние скифы до нашей эры.
(обратно)24
Вирой назывался денежный штраф, довольно долго применявшийся в древнерусском судопроизводстве за самые различные провинности, вплоть до убийства. Правда, князь Владимир ввёл в судопроизводство применение смертной казни, но совершалась она крайне редко и была в конце концов фактически отменена, её вновь заменили вирой. Во всяком случае, непредумышленное убийство, о котором идёт речь в данном случае, явно не могло быть наказано смертью.
(обратно)25
Один из иностранцев, видевших князя Святослава Игоревича, оставил подробное описание его внешности: князь был среднего роста, синеглазый, без бороды, но с длинными усами, с выбритой головой, на которой был оставлен лишь длинный «клок волос», свисавший набок, с золотой серьгой в одном ухе. Не стоит этому удивляться: в дохристианской Руси такой варварский облик был вполне обычным, хотя развитие и культура государства были уже на достаточно высоком уровне.
(обратно)26
Исторический факт: мать Святого князя Владимира Малуша и её брат Добрыня были родом действительно из города Любеча, одного из древнейших русских городов, расположенного неподалёку от Киева. А вот каким образом они оказались в Киеве и почему Малуша стала невольницей и ключницей княгини Ольги, строятся самые разные предположения. Точных подробностей этой истории не сохранилось.
(обратно)27
Первая христианская община была основана на территории будущего Русского государства апостолом Андреем Первозванным, т.е. ещё в первом веке от Рождества Христова. Располагалась она в поселении вблизи будущего места строительства града Киева. С тех пор отдельные христианские общины появлялись и существовали в разных местах Руси.
(обратно)28
Один из древнейших христианских праздников — день Иоанна Купалы — и по сей день сохранил отголоски предшествовавшего ему языческого праздника.
(обратно)29
Царьград — русское название столицы Византии Константинополя.
(обратно)30
Исторические справочники чаще всего называют годом рождения князя Святослава 942 год. В 972 году он во время одного из своих походов был убит печенегами. Если дата рождения верна, то прожил он всего тридцать лет, немного даже по понятиям того времени.
(обратно)31
В X веке на Руси были в широком обращении иностранные монеты: греческие, западноевропейские, иранские. Однако князь Владимир начал чеканить и собственные монеты из серебра и золота. Гривны и полу гривны к концу X века тоже имели широкое хождение на внутреннем рынке Руси.
(обратно)32
Уже в первые века своего существования Новгород стал строиться по обоим берегам Волхова, что было для древнерусских городов достаточно большой редкостью. Левая, где были сооружены крепость (детинец) и первый тринадцатиглавый Софийский собор, получила название Софийской, правая, где начали селиться местные купцы и возникло большое торжище, называлась Торговой.
(обратно)33
В X веке на Руси уже активно развивался внутренний рынок, торговые связи между городами осуществлялись регулярно. Тем не менее по-прежнему очень важную роль играл межгосударственный товарообмен: как русские купцы, так и иностранцы вывозили от нас товары и ремесленные изделия и привозили на наш рынок товары из других стран.
(обратно)34
Нынешняя Новая Ладога на берегу Ладожского (Нево) озера. Согласно позднейшим исследованиям — один из первых культурных исторических центров Древней Руси.
(обратно)35
Волнения и бунты против христианской веры, в основном спровоцированные местными волхвами и не желавшими принять христианство князьями и воеводами, в-первые после крещения годы вспыхивали в разных городах Руси. Но особенно ожесточённые нападения на христианство и христиан произошли именно в Новгороде, так что новгородскому посаднику Добрыне пришлось подавлять их сурово и жёстко.
(обратно)36
«Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его» — одна из наиболее часто читаемых православных молитв (нередко её приведённое здесь начало чеканится на обороте креста).
(обратно)37
Зелёное море — средневековое название Средиземного моря.
(обратно)38
Вопрос о том, кого в средневековой Руси называли варягами, остаётся открытым и дискуссионным до сих пор (Википедия). Ряд историков полагают, что чаще всего так именовали скандинавских соседей славян, племена, населявшие страны Балтии и Скандинавии. Иногда термин «варяги» отождествляется с термином «викинг», имеющим определённо скандинавское происхождение. В описываемое время, в конце X — начале XI в., языки всех этих племён имели между собой много общего, поскольку относились к одной (германской) группе языков. Купец Садко мог говорить с варягами, возможно, на языке, который был предком современного норвежского, сохранившего значительное сходство с современным немецким языком.
(обратно)39
На самом деле косатки, разумеется, не водятся в Ладожском озере, как не являются и рыбами. Эти млекопитающие — разновидность китов, очень сильные и опасные хищники, основной добычей которых являются акулы, другие рыбы, а также ластоногие, морские птицы и т.д.
(обратно)40
В то время и много позднее застольные чары очень часто имели форму утки, как бы сидящей на воде (такие часто можно видеть в музеях народного творчества по всей России). Обычно они были из дерева, украшены резьбой и росписью в зависимости от той области, в которой их делали.
(обратно)41
Именно так переводится на русский язык слово «Евангелие», имеющее греческий корень. Благая весть, благовест, этим смыслом наделяется оно у всех христиан.
(обратно)42
Летописные источники, среди которых наибольшее доверие историков вызывает летопись, составленная Нестором, датируют основание Киева именно пятым веком нашей эры, а основателями города называют братьев Кия, Щека и Хорива. По утверждению Нестора, они принадлежали к славянскому племени полян. Князь Кий был старшим, поэтому именно от его имени и было образовано название города — Киев.
(обратно)43
Т.е. укреплённая часть города, крепость.
(обратно)44
При князе всегда находилась именно постоянная дружина — рать, готовая к сражению. Свои небольшие дружины были и у знатных бояр, и во время боевых действий они обязаны были объединять эти дружины с княжеской ратью. К тому же, если начиналась война, князь объявлял сбор ополчения, в которое шли люди как из среды ремесленников, так и из крестьян.
(обратно)45
Засадой в то время назывался постоянный гарнизон крепости.
(обратно)46
Заборало, или забрало, — в то время верхний ярус бревенчатой крепостной стены.
(обратно)47
Крепость-детинец обносилась рвом, через который обязательно перекидывался мост, иногда два или три. В случае опасности, когда жители напольной, т.е. незащищённой, части города скрывались внутри Детинца, мосты разрушались. Подъёмные мосты появились на Руси позднее.
(обратно)48
О происхождении киевского князя Рюрика и по сей день не утихают споры. Многие исследователи считают его представителем и предводителем одного из северных славянских племён, а не скандинавом, как утверждают другие. Что до столкновения с киевскими князьями Аскольдом и Диром, то предание именно так описывает их гибель: Рюрик, желая захватить власть в Киеве, хитростью заставил братьев покинуть крепость и убил их. Впрочем, между князьями, славянское происхождение которых ни у кого не вызывает сомнений, и до и после тех событий подобное случалось не раз.
(обратно)49
Германский император Оттон II действительно поддерживал определённые дипломатические отношения с князем Владимиром Киевским.
(обратно)50
Точная дата рождения Святого князя Владимира неизвестна. Большинство историков считают, что он родился около 960 года от Рождества Христова. Действие этой повести происходит примерно в 995—996 годах, значит, Владимиру должно быть действительно около 35 лет.
(обратно)51
Летописи приводят следующий ответ Рогнеды в ответ на предложение Владимира: «Не хочу разуть сына рабыни, но Ярополка хочу!» Таким образом, княжна намекала на то, что матерью Владимира была рабыня Малуша. И хотя официально по закону того времени он всё равно признавался княжичем, коль скоро сам князь признавал себя его отцом, такой намёк был действительно оскорбительным.
(обратно)52
В летописях подробно описаны история вражды князя Владимира и его брата Ярополка, сватовства Владимира к княжне Рогнеде, захват Полоцка, гибель Роговолда и последующая гибель Ярополка. В разных источниках называются разные причины вражды братьев.
(обратно)53
Имеется в виду история из «Деяний апостолов», повествующая о том, как военачальник Савл решил пойти в Дамаск, чтобы истребить там христианскую общину. По пути он вдруг лишился зрения и услышал Глас, взывающий: «Савл, Савл, за что ты гонишь Меня?» Поняв, что к нему обратился Сам Христос, Савл раскаялся в своём заблуждении и вскоре исцелился от слепоты. После этого он сам стал христианином и соратником апостола Петра, изменив своё имя на имя Павел. (Откуда и появилось известное выражение «превращение из Савла в Павла».)
(обратно)54
Табором в Древней Руси и называли укреплённый и охраняемый лагерь.
(обратно)55
У Святого князя Владимира было от разных жён 13 сыновей и 10 дочерей. Почти все они дожили до зрелого возраста и оставили после себя детей.
(обратно)56
О том, где и как именно князь Владимир встретился со своей невестой, византийской царевной Анной, у исследователей существуют разные мнения.
(обратно)57
Перун — один из основных богов древнеславянского языческого пантеона. Считался сыном бога Сварога, которого древние славяне почитали как одного из создателей мира. Перун изображался могучим богом-воином и считался, кроме всего прочего, покровителем княжеской власти и княжеской дружины.
(обратно)58
Велес — один из основных богов древних славян. Ему приписывали наведение упорядочения в мире, по верованиям наших предков, созданном богами Родом и Сварогом. Велес был покровителем домашних животных и домашнего хозяйства, но также и богом магии и тайных знаний. Очень долго считался у славян главным богом языческого пантеона.
(обратно)59
Капище — языческое святилище у ряда народов, в том числе у древних славян. У славян обычно имело круглую или овальную форму, окружалось неглубоким рвом. В центре его ставили идола того божества, которому капище было посвящено.
(обратно)60
Садко вспомнил библейскую притчу о еврейских отроках, брошенных за веру в Христа в пылающую печь, но живыми вышедших из огня.
(обратно)61
Печи в домах тогда топились по-чёрному, дымоходов не было, и дым выходил через расположенные специально возле очагов небольшие окна. Когда топить переставали, окно «заволакивали» специальной задвижкой, чтобы через него не вытягивалось тепло.
(обратно)62
Свою идею с городами-крепостями Святой князь Владимир осуществил. И по сей день остатки возведённого им высокого вала можно обнаружить в некоторых местах средней полосы России.
(обратно)63
Активное распространение христианства началось на территории Германии с конца V века и по мере объединения германских разрозненных герцогств и племенных союзов в единое государство позиции Христианской Церкви укреплялись. В VIII—IX веках Германская империя была уже христианским государством.
(обратно)64
Примерно в описываемое время, а может, и раньше на Руси появилась традиция всех европейцев называть немцами. Герхард действительно немец, т.е. германец, а слово «штиль» (die Stille — тишина, безмолвие, покой) именно немецкого происхождения.
(обратно)65
Никсы — в германской мифологии те же водяные. Обладают различными мистическими способностями, в частности, Гёте в своей знаменитой «Демонологии» описывает умение никсов превращаться в людей, появляться в человеческом обществе и разными способами вредить людям.
(обратно)66
Соль в то время, да и много позже ценилась в прямом смысле на вес золота.
(обратно)67
Едва ли Герхард мог знать закон сообщающихся сосудов. Просто сработала его природная наблюдательность.
(обратно)68
Для тех, кто не очень силён в орнитологии: не следует путать ворону и ворона. Это два разных вида семейства врановых, и если ворона (которую каждый наверняка видел) чуть меньше чайки, то ворон действительно размером смахивает на орла. Воронихи чуть меньше самцов, но тоже куда крупнее обычных ворон.
(обратно)69
Первые слова одной из основных православных молитв. И по сей день их нередко чеканят на оборотной стороне нательных крестов, ибо эта молитва защищает человека от бесовских нападений.
(обратно)70
Обычай освящать оружие существовал у христиан издревле. (Существует он и сейчас. Недавно в России возродилась традиция при выпуске морских офицеров освящать их кортики). Кроме того, у средневековых европейских рыцарей было особое отношение к мечу. Его считали священным и нередко не только освящали его, но и давали ему имя, как человеку.
(обратно)71
Обычно переводят как «чёрт возьми», что очень неточно. По смыслу, скорее, «гром и молния» (нем.).
(обратно)72
— А! Это снова ты! Грязная скотина! (нем.).
(обратно)73
Впервые письменные свидетельства о морском чудовище Кракене появились в средневековых летописях, однако некоторые учёные полагают, что существо, подобное гигантскому кальмару, описывал ещё Гомер. И по сей день не утихают споры, реален гигантский моллюск, по описаниям, иногда вырастающий до 30 метров и более, или это всё-таки легенда, сложенная впечатлительными моряками. Так или иначе, упоминания о Кракене встречаются у северных морских народов (в особенности у норвежцев), поэтому иные исследователи склонны предполагать, что это — ископаемый вид, некоторые особи которого оказались вмурованы в арктические льды и при их таянии освободились и ожили.
(обратно)74
Прогоняяй — т.е. прогоняющий (церковнославянская форма деепричастия). Остальное, вероятно, в переводе не нуждается.
(обратно)75
Герхард рассказал, приведя несколько известных версий, одну из самых знаменитых и красивых легенд средневековой Германии — легенду о Лореляй (в русском варианте обычно пишут Лорелея).
(обратно)76
Клобук — головной убор монаха. Как и обычный священнический убор (камилавк), имеет форму невысокого цилиндра, но у монахов он дополнительно драпирован лёгкой чёрной тканью, опускающейся по спине до пояса.
(обратно)77
Имя в иночестве, т.е. имя, которое получает после пострига монах взамен своего мирского. Принимая постриг и давая обеты, отлучающие его от прежней жизни, монах принимает и новое имя.
(обратно)


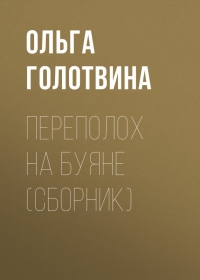
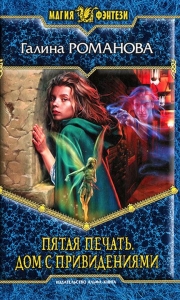

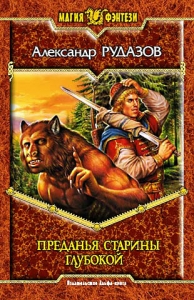


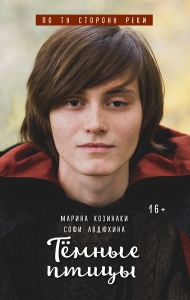


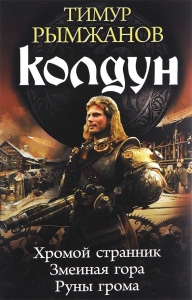
Комментарии к книге «Золотая ладья нибелунгов», Ирина Александровна Измайлова
Всего 0 комментариев