Людмила Петрушевская Волшебные истории. Завещание старого монаха. Сборник
Издание осуществлено при содействии литературного агентства Banke, Goumen & Smirnova
Художественное оформление Алексея Дурасова
В оформлении переплета использована репродукция картины Александры Шадриной
Завещание старого монаха
Как-то старый монах пробирался с коробкой собранных мелких денег домой, в горный монастырь.
В монастыре, удаленном от всех дорог, дела шли плохо. Воду приходилось брать в речке глубоко в ущелье, пища состояла из огрызков хлеба и сухих лепешек, собранных в виде подаяния в окрестных скупых и безбожных деревушках, и поэтому монахи запасали в лесах дикие плоды и орехи, ягоды и травы, а также искали мед и грибы.
В этой местности для монахов напрасным трудом было бы возделывать огород, обязательно находился кто-либо, кто приходил ночью с лопатой и тележкой на уже созревший урожай, – такие были нравы.
Крестьяне поэтому свирепо относились к чужакам и прохожим попрошайкам (к соседям тоже), охраняли свои грядки под ружьем, сторожили семьями, да и потом старались прикопать овощи в подвалах.
Бедняцкий монастырь, стоявший без охраны в глухом лесу, то и дело навещали, окрестным парням нужны были деньги на выпивку, и в конце концов монахи стали обходиться совсем небольшим – жестяные консервные банки для кипятка, кучка соломы, на чем спать, рогожи, чем прикрываться, а мед и ягоды и прочую лесную добычу они прятали там же, в лесу, в дуплах, на манер белок.
Топили они хворостом, поскольку даже топор и пилу у них отобрали.
Собственно, у монахов и устав был такой – трудиться только на ниве Божией, только для Него, и обходиться тем же, чем обходятся мелкие нехищные существа.
Ни рыбу, ни мясо они поэтому не ели и прославляли каждый день такой жизни.
Но им нужны были мелкие деньги на свечи, на масло для самодельных жестяных лампад, на ремонт крыши, скажем, или иногда надо было помочь совсем уже несчастным беднякам купить, к примеру, лекарство.
Чтобы иконы не крали, монахи расписали свой храм по мокрой штукатурке, расписали столь дивно, что были попытки вырубить эти росписи, но напрасен оказался такой зверский труд – для него нужны были музейные навыки, любовь к труду, осторожность: а когда же бандит бывает трудолюбив?
Зимой начиналась стужа, хворосту не хватало, а ломать живые ветки обитатели монастыря не хотели. Но голод и холод для монаха не беда, а благо, и маленький монастырь в зимние месяцы к тому же отдыхал от воров.
Кто же потащится сквозь снега в гору, в обледеневший храм – хотя каждое утро монахи звонили, не в колокол, его у них сволокли и продали как цветной металлолом, а в железную балку.
Она была старинная, на ней и висел раньше колокол, и местные трудяги-ворюги как ни махали киркой, так и не добыли балку.
Монахи же били по балке секретным железным ломом, который с предосторожностями прятали, он у них был единственным орудием для защиты, скажем, от диких зверей, для обкалывания льда в замерзающем ручье, для прорубания тропы в скалах.
Да и не больно охотились за этим ломом местные, его волочь по горам мало было охотников, а продажа принесла бы гроши.
Так что каждое утро из монастыря по окрестным деревням разносился заунывный звон лома о балку, но никто в той местности был не дурак тащиться на молитву.
Кто же зовет врача здоровому, кто чинит неломаное, к чему хлопотать перед Богом, если всё в ажуре?
Отпевать – да, крестить, в праздничек возжечь свечу – это святое, а просто так бить лбом и махать рукой никто тут не собирался, за небольшим исключением в виде десятка глухих старух и парочки богомольных теток, которым, видно, нечего было делать. Еще таскались к монахам те, кто предавался горю, но горе вещь преходящая, глядишь – и оклемался человек.
В храме зато молились сами монахи, молились за все население, отмаливали чужие грехи.
Монастырь жил спокойно, дружно и в молчании, а настоятель монастыря, старик Трифон, больше всего печалился о том, что дни его приходят к концу и некому будет вести монахов дальше – остальные жители монастыря не желали быть главными, почитали себя недостойными, даже и осуждали всякую мысль о власти над другими.
Старый Трифон говорил с Богом все время, непрерывно, его никто не отвлекал от этого занятия, разве что в праздники.
Праздники местный народ обожал, все сбредались, даже тащили вино и закуски, и располагались табором по лесу, и монахи долго потом приводили местность в порядок.
Кроме того, свадьбы и похороны, а также крестины полагалось отмечать тоже у монахов.
Хотя таскаться в такую даль народ не обожал – уже давно и упорно поговаривали о том, чтобы заделать в центральном селе филиал, там ставить покойников, там крестить и венчать – а больше храм ни на что и не нужен.
Сварганить часовню, и дело с концом.
По несчастью, для этого нужно было бы потратиться, а тратиться, да еще коллективно, местный житель не любил, вокруг такого сбора денег всегда начиналось повальное воровство.
Так что иногда даже звали Трифона, и он шел, отпевал, хоронил, а затем обходил дома и собирал милостыню на монастырь.
Людишки подавали святому старцу неохотно, подозревая его в том, в чем подозревали сами себя: то есть в стремлении обогатиться за чужой счет.
Нельзя сказать, что народ на равнине бедствовал, дела шли неплохо, давно не было войн, пожаров, наводнений, засухи, всеобщего мора, скот плодился, огороды давали обильный урожай, и винные цистерны не пустовали.
Можно сказать, что благоденствие снизошло на этот край.
Хотя в том, что касается обычаев и порядков, тут не все было благополучно: к примеру, в данной местности не любили больных, просто не терпели их, считая дармоедами.
Особенно если больной был чужой, не свой – допустим, сосед или дальний родственник.
Своих как-то еще терпели, хотя и не слишком. Как кто заболевал, тут же его и начинали обвинять, сам виноват. Лекарства дороговатеньки, врачу надо платить, так что лечили народными методами, отворяли кровь, а потом в баню, крепко попарить, а то и просто уводили в лес и оставляли там. Считалось, что если кто умрет в лесу, то прямиком попадет в рай.
Таких оставленных навещали монахи, кого было можно – переносили к себе, но что они могли дать умирающим – кипяток с сухой ягодой, ложку меда…
Люди внизу, в селениях, этого не одобряли, крепкий и простой человечишка как будто не предвидел, что когда-нибудь и ему придется лечь в лесу на мох и ждать там смерти.
Старый монах бродил без устали по дорогам, заходил в села, в городки, стоял на солнцепеке или на морозе, маленький и иссохший, и шептал молитву, и в его коробку скудно капала мелочь.
Кстати, нищих в тех краях просто не выносили и вместо подаяния донимали издевательскими вопросами и поучениями.
Но на все вопросы (действительно ли он монах, и крепко ли приклеена его борода, и не цыган ли он переодетый, и не понесет ли он чужой, заработанный кровью и потом пятак тут же в кабачок на пропитие) Трифон отвечал как-то издалека, молитвой, обиняками, шутками.
Его даже специально ходили слушать местные весельчаки, они довольно хохотали, услышав слова молитвы, как будто это был просто удачный способ увернуться и оправдаться.
Монах и спал там же, где просил, в ямке, как собачонка, не уходя с одного места по нескольку суток, – и уже к вечеру первого дня сердобольные бабы (в семье не без урода) приносили ему в передниках, чтобы никто не видел, куски хлеба, огородные плоды, а то и чашку горячей каши.
Некоторые на ночь глядя укрывали его, спящего, мешковиной, особенно если шел дождь.
Некоторые оставались около него посидеть, пожаловаться на жизнь, помолиться.
Однажды такой поход вниз, в городок, завершился плачевно – Трифон почти не собрал денег, да еще и как-то ночью двое прохожих отобрали у него коробку с мелочью – притиснули к земле, зашарили грубыми руками за пазухой, а когда он сказал «Господь с вами», они просто стукнули его по голове, вытащили копилку и унесли.
Трифону жаль было коробку, ее много лет назад сделал перед смертью прежний настоятель монастыря, святой старец Антоний.
Лежа побитый на земле, он слышал, как воры за углом подрались, кому открывать ларчик, уронили его, мелочь рассыпалась, они стали светить зажигалкой, увидели свой ничтожный улов, обозлились и вернулись, чтобы вытрясти из старика его богатства. Они стащили с него рясу, стали ее ощупывать, ничего опять не обнаружили и тут начали бить старика ногами, всерьез.
Они оставили его в живых, но к утру, когда Трифон очнулся, он увидел, что ряса его порвана в клочья, а шкатулка растоптана.
Старик поднялся, собрал в горсть те мелкие монеты, которыми побрезговали бандюги, завязал их в клочок рясы, куском побольше подпоясался и в таком виде, окровавленный и грязный, потащился к реке омыть свои раны.
Там его узнали ранние прачки, они ужаснулись, отвели его к одной доброй старухе, и та стала его лечить, сшила ему новую ряску из мешковины и велела уходить из городка – защиты тут ему было не найти.
Двое ночных разбойников были известны всему городу, они давно гуляли как хотели по улицам, грабя и убивая, и их никто не трогал, так как папаша одного из них работал судьей.
Судья выпер родного сыночка из дому за домашнее воровство, и тогда блудный пащенок решил опозорить отца и сесть в тюрьму – после чего судью бы тоже выгнали с его почетной должности.
Однако папаня не желал расставаться с хлебным местом, и потому было дано указание не обращать никакого внимания на баловство судьенка. Решили не поддаваться на провокации и не арестовывать такого фокусника.
Где нет судьи, там ходит смерть – и смерть поселилась в городке. Избитые умирали без суда и следствия, на улице или в знаменитом Райском лесу. Все боялись искать правды, никто не жаловался на разбой и грабежи, потому что самих жалобщиков как раз арестовывали и увозили из городка куда-то.
Монах много разного узнал, лежа на соломенном тюфяке в доме доброй старухи, ему даже рассказали, что рядом живет безутешная женщина, мужа которой убили, когда он поздним вечером нес ребенка к врачу в другой город. Сама мать лежала дома тоже в горячке. И, видимо, его встретила на дороге та страшная парочка, их звали Белый и Рыжий.
До утра кричал больной малыш у трупа отца, а затем их нашла мать, которая, не дождавшись мужа с ребенком, кое-как встала и пошла по той же дороге, а именно в соседний город в больницу.
Теперь эта женщина, похоронив убитого мужа, осталась без кормильца, да и ребенок так и не поправился, и она теперь сидела нарочно у городского суда и просила милостыню на глазах у всех, а люди боялись подавать ей деньги.
Монах, как только начал подниматься, тут же пошел к зданию суда и отдал свой нищий узелок с монетами той женщине, и сказал при этом:
– Завтра утром трогайтесь в путь вдвоем по направлению к горному монастырю по той дороге, которая идет над рекой. У большого камня мы встретимся, я там буду лежать на спине, около молодой елки. Сначала со мной будут двое молодых ребят, Белый и Рыжий, и я буду лежать с ножом, когда придешь ты. Ты должна быть там около меня в течение тридцати дней. Через месяц твой ребеночек поправится.
Молодая нищенка прижала к груди узелок с монетками и поцеловала край рясы монаха.
А он пошел бродить по городку и в конце концов нашел что искал – кабак на окраине.
Там сидели два молодых негодяя в крикливых ковбойских костюмах, блондин и рыжий, с золотыми цепями всюду где возможно, а вокруг них носились тени убитых – этого не видел никто, кроме монаха.
Тени убитых носились печально и тихо – маленькие тени детей, тени девушек в погребальных платьях, с веночками на голове, согбенные тени стариков, их было множество.
Не зная покоя, пролетали тени двух окровавленных мужчин – этих, видимо, еще не похоронили.
Воры были недовольны, лица их налились тоской и злобой: давно уже никто после захода солнца не выходил на улицу, а если и выходили, то с провожатыми, чуть ли не толпой, да с ружьями. Народ тут был не дурак.
Последний раз удалось убить только двоих – молодой мужик бежал с доктором к рожающей жене, об этом потом шепталась вся округа – и ребенок, пришедший на свет утром, родился уже безотцовщиной.
Но беда заключалась в том, что ни врач, ни его провожатый не имели при себе денег, и сегодня двое шутников с большой дороги оказались без копейки.
Они сидели и пили, им принесли пока что полный графин вина.
Но они знали, что при свете солнца народ не допустит бесплатного ухода из кабака, поднимут крик, сбегутся толпой, чего доброго, побьют, снимут у них все золото с шей и пальцев.
И пока приползут стражи порядка, все будет уже кончено.
Напряжение росло.
Уже вокруг бармена сбилась кучка людей – огромный повар, грубый официант почему-то с топориком в руке и местный дурачок, щетинистый детина с маленькими глазками, большими кулаками и широкой улыбкой.
Тутошний народ не любил сына судьи. Монах приблизился к двум мрачным посетителям и сел прямо перед ними, буквально за соседний столик.
Он заказал себе стакан вина и громко сказал официанту:
– У тебя будет сдача с золотой монеты? Я иду в монастырь, несу хорошую весть: один грешник завещал нам котелок с золотом!
Официант был не дурак и знал, что монахи все как один жулики, вроде они бедны, вроде они нищие – а живут! А на что, встает вопрос.
Официант криво улыбнулся и сказал:
– Сдачи пока что не будет. Посетители не платят.
– Подожду, спаси тебя Господь, – мирно ответил старик.
И за соседним столиком прекрасно расслышали весь разговор, четыре уха растопырились, десять пальцев сжались.
Когда монах встал, не тронувши своего стакана, и похромал к дверям, официант не пошел вслед за ним, потому что это сделали двое, только что бесплатно выпившие графин вина.
Они на ходу бросили официанту:
– Отдадим вдвое, но завтра.
Тот пожал плечами:
– Я пока не сошел с ума. Оставьте залог, тогда пойдете.
Пока было светло, на дороге попадались прохожие, повозки и автомобили, да и монах был слишком заметной личностью в тех местах, с ним здоровались, он благословлял спины прошедших мимо, ни у кого не было времени болтать о божественном с Трифоном.
Весь город видел, как уходил монах, и весь город знал, что монах несет золото, причем незаработанное, чужое. И что монах пил, выпил бесплатно целый графин, тоже все знали.
И никто не дрогнул, видя, как те двое внаглую, открыто сопровождают монаха десять шагов спустя.
Те двое шли в понятном озлоблении – у них только что в кабаке официант, поигрывая топориком для разделки мяса, отобрал золотую цепь и часы.
Весь город также знал, что те двое вернутся в кабак очень скоро, как только стемнеет.
А монах возвратится в монастырь как был нищий, да еще и с позором и побитый, и так ему и надо.
Но все получилось по-другому.
Рано утром из города вышла женщина, неся на плечах своего неподвижного ребенка.
Она шла твердой походкой и не посторонилась, когда навстречу ей из лесу шагнули две попачканные кровью фигуры в ковбойских костюмчиках.
Но почему-то женщина с ребенком осталась жива, а вот в пункт охраны порядка заявился сын судьи с жалобой, что он только что убил монаха, а друг тут ни при чем.
Как всегда, его не стали слушать, заскучали, отвернулись и ушли по кабинетам.
Однако же никто не знал, что между женщиной и двумя убийцами там, на дороге, состоялся разговор.
Заступив ей путь, один сказал:
– Куда идет такая молодая?
– Меня ждет монах Трифон, – ответила побледневшая женщина.
– Монах? – переспросили двое и переглянулись.
– Монах Трифон, который просил милостыню.
– Он тебя не ждет, – насмешливо возразил первый и своей рукой с запекшейся под ногтями кровью тронул грудь женщины.
– Он меня ждет, – отстраняясь, возразила она и сняла с плеч ребенка. – Он ждет меня над рекой на верхней дороге под молодой елкой, он лежит на спине с ножом – там, где большой камень.
– Откуда ты знаешь? – спросил первый глухо.
– Он сказал, что вы двое, Белый и Рыжий, там его встретите… У камня. И он будет там лежать с ножом. – Тут она внезапно догадалась, что произошло, и твердо закончила: – Вы его там убьете, сказал Трифон, и оставите нож в груди!
– Он так и сказал? – беспокойно смеясь, переспросил Рыжий.
– Да! И он велел мне сидеть около него тридцать дней. Молиться. И потом мой ребенок пойдет.
И она поставила сыночка на дорогу, и ножки его подкосились. Он не мог стоять.
– Прощайте, – сказала женщина, подняла ребенка на плечи и зашагала.
Двое, не глядя друг на друга, пошли в город. И показания их были настолько упорными и настойчивыми, что через два дня стражи поехали на верхнюю дорогу собирать материал, однако ничего там они не нашли.
У большого камня под молодой елочкой была просто куча сухой земли, на которой горела копеечная свечка.
Там трое монахов читали молитвы, там бледная как смерть женщина сидела, прижав к себе ребенка, а рядом, на костре, варились грибы в жестяной банке.
Тем не менее двое парней упорствовали, требуя себе смертной казни, они называли место и время убийства и предъявляли свои бурые от крови ногти.
Мало того, они назвали еще сто двадцать три преступления и даже отвели полицию к скупщику краденого, однако этот человек заявил, что он их не знает, хотя охотно вынесет всем бутылку собственного вина из подвала только что построенного дома.
Разбойников выгнали в шею, и они исчезли из города.
Убийства и грабежи прекратились.
Через месяц в город вошли двое – среди бела дня по улице двигалась молодая вдова, она вела за ручку ребенка. Тот шел медленно, но все-таки шел сам!
Мать с ребенком проходили по городу, и встречные женщины, как подсолнухи, поворачивали головы им вслед и застывали так надолго.
– Парень ходит, – шептали рты.
Тут же матери, жены и дочери больных (а таких в городе оказалось немало) узнали о происшедшем чуде, и все они стучались в домик вдовы, и всем она говорила одно и то же – что прожила месяц с ребенком у могилы святого монаха Трифона, что случайно повесила на елку кофточку своего сына, и он тут же поднялся на ножки.
А месяц тому назад она пришла по верхней дороге к большому камню и увидела там лежащего на спине с ножом в груди (он держал нож рукой) умирающего монаха, который очнулся и благословил их, а потом попросил вызвать своих товарищей из монастыря, со всеми простился и велел похоронить его тут же у камня.
А самой женщине он ничего не сказал, но она помнила его завещание, прожить месяц около него. Было страшно, что придут двое разбойников, и она все ночи жгла костер, ровно месяц, а потом наступило лето, было совсем жарко, и она повесила кофточку ребенка на ель – и мальчик встал на ножки.
Весь город точно обезумел – ребенка носили из дома в дом, буквально не давая ему ходить, целые процессии тронулись по верхней дороге, везли больных, шли попросить у святого Трифона кто жениха, кто богатства, кто освобождения из тюрьмы, а кто и Божьего наказания обнаглевшему соседу.
Монахи из горного монастыря поставили часовню у святой могилы, к ним стал стекаться народ, тут же мэр города построил гостиницу для приезжих из других мест, наладилась продажа воды из ручья, елку оградили, за вход брали плату, но все это не коснулось монастыря. Монахи его жили все той же жизнью, ничего не ели, а все добро раздавали бедным.
Очень скоро выяснилось, что старец помогает не всем, а только честным, чистым, обездоленным, преимущественно вдовам с детьми. Но шли все, кому было нужно, разве остановишь поток – и потом, кто это, скажите, не честный, не чистый и не обездоленный в наше время? И какая древняя старушка не вдова с детьми, спрашивается?
Кстати, число монахов выросло – было пятнадцать, стало семнадцать, и двое новых никогда не показываются людям, они днем и ночью молятся в верхнем храме, не решаясь спуститься вниз по горной дороге к могиле старика, которого они убили и который их спас своей смертью.
Матушка капуста
У одной женщины была девочка, очень маленькая, звали ее Капля, Капочка. Девочка была очень маленькая и никак не росла. Мать ходила с ней по врачам, но покажет им девочку, а они не берутся лечить: нет – и всё! Даже ничего не спрашивали.
Тогда мама решила для начала Капельку не показывать, уселась у одного врача в кабинете и спрашивает:
– Как быть, если ребенок плохо растет?
А врач отвечает, как полагается врачу:
– А что с ребенком? Какова история болезни? Как этот ребенок родился? Как ел?
И так далее.
– Ребенок этот не родился, – отвечала несчастная мать, – я нашла его в капусте, в ранней капусте. Я сняла верхний лист, а там лежит девочка-капусточка, капочка, капля. Я ее взяла и воспитываю, а она совсем не растет, уже два года.
– Покажите ребенка, – говорит врач.
Мама Капочки достала из нагрудного кармана коробочку, из коробочки половинку фасолинки (выдолбленную), а в этой половинке уже сидела, терла глаза кулачками малюсенькая девочка.
Мама также достала из сумки лупу, и в эту лупу доктор стал разглядывать Капочку.
– Чудесная девочка… – бормотал доктор. – Хорошо упитана, молодец, мамаша… Встань, девочка. Так. Молодец.
Капочка вылезла из половинки фасолины и прошлась взад-вперед.
– Ну что же, – сказал доктор. – Я вам скажу: девочка чудесная, но ей не здесь надо жить. Не знаю где. Здесь ей никто не компания. Не то место.
Мать отвечала:
– Да она и сама рассказывает, что видит сны, как будто бы она жила на далекой звезде. Она говорит, там все были с крылышками, летали по лугам, она тоже, она пила росу и ела пыльцу, и у них был кто-то, какой-то старшой, который готовил их, что некоторым придется уйти, и они все со страхом ждали, когда начнут таять крылышки, – тогда старшой вел их на высокую гору пешком, там открывался вход в пещеру и ступени вниз, и все провожали того, у кого растаяли крылья, и он уходил вниз и становился все меньше и меньше, пока не превращался чуть ли не в каплю…
Девочка на столе кивнула.
– И моя красавица тоже однажды должна была уйти вниз, она плакала, спустилась по лестнице, и тут ее сон кончился, она проснулась у меня на кухонном столе в капустном листке…
– Так, – сказал доктор. – А у вас, что было в жизни у вас? Какова ваша история болезни?
– У меня, – сказала женщина, – что у меня! Я люблю ее больше своей жизни, страшно думать, что она снова уйдет туда… А история такая, что меня покинул муж, а должен был быть ребенок, но я не родила его… Мне было тяжело… Я пошла к врачу, меня направили в больницу, и там моего ребеночка убили у меня в животе. Теперь я молюсь о нем… Может быть, он там, в стране снов?
– Хорошо, – сказал врач, – я все понял. Вот вам записка, отнесете ее к одному человеку… Он монах, живет в лесу, он очень странный человек, и не всегда его можно найти. Вдруг он поможет, кто знает.
Женщина опять уложила свою Капельку в колыбельку из фасоли, потом в коробочку, потом в кармашек, забрала лупу и ушла – прямо сразу к отшельнику в лес.
Она нашла его сидящим на камне у шоссе. Она показала ему записочку и потом на нагрудный карман – без слов.
– Надо отдать ее обратно, где взяли, – сказал монах. – И не смотреть больше.
– Обратно куда? В магазин?
– Дура! Где ее взяли-то?
– В капустном поле. Я и не знаю, где оно.
– Дура! – сказал монах. – Умела грешить, умей и спасаться.
– Где оно?
– Всё, – сказал монах. – И не смотреть.
Женщина заплакала, поклонилась, перекрестилась, поцеловала у монаха край его грязной, вонючей и рваной телогрейки и пошла. Когда она через минуту обернулась, она не увидела ни монаха, ни камня, на котором он сидел, – только клочок тумана.
Женщина испугалась и побежала. Наступал вечер, а она все бежала через поля, и вдруг она увидела капустное поле – совсем еще маленькие капустные бутончики сидели рядами на земле…
Моросил дождь, надвигалась тьма, и женщина стояла, держась за нагрудный кармашек, и думала, что не сможет оставить свою девочку здесь одну, в холоде и тумане. Девочка ведь испугается и будет плакать!
Женщина тогда вырыла руками огромный ком земли вместе с капустным ростком, завернула его в свою нижнюю рубашку и потащила эту тяжесть в город, к себе домой.
Еле дойдя до дому, шатаясь от усталости, она уместила принесенный ком земли в самую большую кастрюлю и поставила эту кастрюлю с капустной рассадой на окно. Чтобы не видеть росток, она задернула занавеску; но потом подумала, что поливать-то рассаду необходимо! А чтобы поливать, придется видеть капусту!
И женщина перенесла капусту на балкон, в нормальные полевые условия: дождь – так дождь, ветер – так ветер, птицы – так птицы… Если бы ребеночек жил и рос внутри ее тела, как все дети, он был бы защищен от холода и всего остального – но нет, маленькой Капочке невозможно было спрятаться в ее теле, ей оставался для защиты только капустный листок.
Раздвинув молоденькие, крепкие лепестки капустного цветка, мать положила туда свою девочку – Капелька даже не проснулась, она вообще очень любила спать и была на редкость послушным, веселым и неприхотливым ребенком.
Капустные листки были твердые, голые и холодные, они тут же сомкнулись над Капочкой…
Мать тихо отступила с балкона, закрыла туда дверь и стала одиноко жить, как и раньше: уходила на работу, приходила с работы, варила себе еду – и ни разу не посмотрела в окно, что там с капустой.
Проходило лето, женщина плакала и молилась. Чтобы хотя бы слышать, как там на балконе, она спала под самой дверью на полу. Если не было дождя, она боялась, что капуста завянет, если шел дождь, она боялась, что капуста сопреет, но мать все время даже запрещала себе думать, что и как там Капочка ест и как она плачет, сидя в зеленой западне, без единого маминого слова, без тепла…
Иногда, особенно по ночам, когда шел проливной дождь и гремела молния, женщина просто рвалась пойти на балкон и срезать капустный кочан, схватить свою Капочку, напоить ее капелькой горячего молока и уложить в теплую постель… Но вместо этого мамаша, как сумасшедшая, бежала под дождь и стояла там, чтобы показать Капочке, что ничего страшного в дожде и молнии нет. И она все думала, что недаром ей повстречался грязный отшельник и недаром велел вернуть Капельку туда, откуда ее взяли…
Так прошло лето, наступила осень. В магазинах уже появилась хорошая, крепкая капуста, а женщина все не решалась выйти на балкон. Она боялась ничего там не найти. Или найти увядший капустный росток и в нем только красный шелковый лоскутик, платье несчастной Капочки, которую она убила своими руками, как когда-то убила нерожденного ребенка…
Однажды утром выпал первый снег. Он выпал очень рано для осеннего времени. Бедная женщина посмотрела на свое окно, испугалась и стала открывать балконную дверь.
И когда дверь тяжело начала скрипеть, женщина услышала с балкона испуганное мяуканье, скрипучее и назойливое.
– Кошка! Кошка на балконе! – заметалась бедная женщина, подумав, что кошки забрались от кого-то от соседей. Ведь всем известна страсть кошек ко всему маленькому и бегающему.
Наконец балконная дверь подалась, и женщина выскочила на снег прямо в тапочках.
В кастрюле сидела роскошная, огромная капуста, кудрявая, как роза, а сверху, на многочисленных лепестках, лежал некрасивый худой младенец, красный, с шелушащейся кожицей. Младенец, зажмурив глаза-щелки, мяукал, захлебывался, дрожал стиснутыми кулачками, дрыгал ярко-красными пятками величиной со смородину… Мало того, на лысой голове ребенка лежал, прилипнув, шелковый красный лоскуток.
«А где Капочка? – подумала женщина и внесла кочан с ребенком в комнату. – Где моя девочка?»
Она отложила плачущего ребенка на подоконник и стала рыться в капусте, перебрала ее по листочку, но Капельки нигде не было. «И кто мне подложил сюда этого младенца? – думала она. – Посмеяться захотели… Откуда ребенок здесь? Куда я его дену? Огромный какой-то… Подкинули мне… Капочку взяли, а эту подкинули…»
Ребенку явно было холодно, кожица его посинела, он плакал все писклявей.
Женщина подумала, что эта девочка-великанша ни в чем не виновата, и взяла ее на руки, осторожно, не прижимая к себе, отнесла в ванную под теплую воду, обмыла, вытерла и завернула в сухое полотенце.
Новую девочку она отнесла на свою кровать и укрыла там одеялом потеплее, а сама взяла из старинной коробочки половину фасоли и стала целовать, плакать над ней, вспоминая свою маленькую исчезнувшую Капочку.
Уже было ясно, что Капочки нет, что вместо нее появилось это огромное, некрасивое, несуразное существо с большой головой и тощенькими руками, настоящий младенец, совершенно чужой…
Женщина плакала-плакала и вдруг остановилась: ей почудилось, что тот маленький ребенок не дышит. Неужели эта девочка тоже погибла? Господи, неужели она простудилась на подоконнике, пока шли поиски в капусте?
Но младенец крепко спал, зажмурившись, никому не нужный, действительно некрасивый, жалкий, беспомощный. Женщина подумала, что и покормить-то его некому, и взяла ребенка на руки.
И вдруг что-то как будто стукнуло ее изнутри в грудь.
И, как делают все матери на свете, она расстегнула кофту и приложила ребенка к груди.
Покормив свою девочку, мать уложила ее спать, а сама налила воды в кувшин и полила капусту и оставила ее расти на окне.
Со временем кочан разросся, дал длинные побеги и мелкие бледные цветы, и маленькая девочка, когда в свою пору встала на слабые ножки и пошла, – первым делом отправилась, качаясь, к окну и засмеялась, указывая пальцем на длинные ветки матери-капусты.
Приключение в космическом королевстве
В мире все возможно, и один раз король космоса Ктор наказал народы планеты Хе, и народы эти, видимо, погрузились в космические лодки и рассеялись в звездных далях. Жалеть об этих народах не приходилось, жили они скверно, вечно дрались друг с другом и в результате поголовно все сожгли. Ктор их предупреждал заранее, присылал свои летающие тарелки, пока наконец не пришлось отделывать все там заново, то есть планета вернулась в состояние остывшего камня.
И вот эту планету Ктор, когда она освободилась, подарил на день рождения своей дочери Ба. Хорош подарок, скажете вы, но в нем скрывался глубокий смысл, так как Ба, бывшая от природы приятного телесного цвета, постепенно стала зеленеть, но об этом дальше.
Вода на Хе имелась – водопады, реки, озера, моря, дожди (которые шли горизонтально, так было задумано, то есть хлестали прямо в лицо). Солнце показывалось редко, так что все основания для жизни были. Сам Ктор всегда начинал с этого, сеял травку, сажал карликовые березки, мхи, там-сям оставлял гусиные яйца и ягнят, затем заносил остальное, так все и шло.
Но в данном случае Ктор ничего не пожалел для своей единственной дочери, то есть не дал ей ничего, кроме скал и воды. Ба вела себя очень скверно, у отца все время болела рука. Рука болела потому, что Ктор не был женат и завел себе дочь сам, отрубивши мизинец на правой руке. Все было очень просто: отрубил палец, завернул в тряпку, полил водой и через час мизинчик завозился и закричал в тряпке. Королевна могла бы иметь братьев и сестер еще девятнадцать штук, но Ктор был эгоист и жалел свои пальчики, особенно после того как узнал, что отрубленное место болит и ноет, если Ба плохо. Малые дети спать не дают, а от больших сам не спишь.
А тут как раз Ба перевалила за подростковый период, достигла цветущего возраста и впервые за пятьсот лет своей жизни могла стать самостоятельной, то есть построила сама себе дворец. Однако Ктор жил все-таки неподалеку, а рука у него болела, вот он и решил подарить дочери завалящую планету Хе.
Что касается Ба, то она собралась буквально на следующий день отправиться на Хе со своим другом, мальчиком Миком. Его тоже надо было срочно убрать подальше, глаза у него стали совсем зеленые, но об этом ниже.
Друг Ба с зеленеющими глазами на самом деле жил уже вторую жизнь, в предыдущем существовании у него все было плохо, за исключением того, что он был прекрасный поэт, и, когда он умер молодым, королевна его пожалела и взяла жить к себе в космос, сделала его своим воспитанником. Но Мик был труден для воспитания и все время молчал. Кстати, он очень плохо освоил язык, на котором изъяснялись жители королевства, так называемый язык сердец. Мик ни на что не жаловался, сердце его молчало, но Ба, умевшая читать в чужих сердцах, понимала, что он тоскует о том, чего не вернешь, о стихах, и о своем ребенке, и – что еще того похлеще – об одной женщине по имени Н. Стихи, действительно, здесь писать было нельзя, в письме и чтении никто не нуждался, все понималось при первой мысли. Об Н. королевна знала, что Н. сильно обижается на судьбу – вот и все. А что касается маленького сына Мика, то Ба обещала себе, что обязательно возьмет этого ребенка, когда он вырастет и умрет ста лет в окружении внуков и правнуков. Но Ба сомневалась, что этот будущий старичок подойдет в дети мальчику Мику, который так вечно и остался молодым.
Короче говоря, проблем было много, но все они разом исчезали, когда речь заходила об отдаленной планете Хе.
Королевна Ба пригласила Мика, и летающая крепость, мощная машина, уже колыхалась у порога дворца, когда Ба сообразила, какая тоска ждет ее по дороге – ведь Мик все время спал или пил маковый сок, не разводя. В королевстве в ходу были цветочные нектары, сиреневый, гиацинтовый, хочешь – пей лилейный или ромашковый, но маковый! Никакого веселья, как лекарство от бессонницы. Ба не сомневалась, что и на планете Хе он посадит только мак, и только за ним будет ухаживать, и не забьет ни единого гвоздя, не положит ни одного кирпича, хотя он многое умел, в детстве его все заставлял делать отец. Но, видимо, когда кого-то слишком заставляют делать что-то нужное и полезное, результат бывает обратный, обычно думала юная Ба, глядя на Мика, спящего лицом к стене двумя этажами ниже. Ба знала, что Мик видит сны о прежней жизни и не хочет просыпаться, но ведь в прежней жизни он тоже все время хотел спать! Видеть сны о том, что хочешь спать? О том, что тебя все время будят, хотя это моветон? Но теперь он спал и во сне плакал от жалости к тем, кто его будил, – к отцу, к жене, к маленькому сыну.
Короче, Ба вздумала пригласить еще трех подруг и трех друзей этих подруг. Вместе веселей, всем сердцем сказала Ба Мику, который спал у себя в подвале (Ба специально для него устроила во дворце подвал), но Мик ничего не ответил, сердце его молчало. Мик не хотел жить, опять не хотел жить, как и на земле, когда он кричал свои стихи, пил и ел неизвестно что и работал на черной, грязной, хотя и хорошо оплачиваемой работе.
Три подруги и трое их друзей явились немедленно, приглашение королевны было законом, да и далекая Хе так красиво сияла по ночам, и лететь было всего два световых года, почему бы и не прогуляться. Ба не брала больше никого, ни пилота, ни штурмана, она сама водила свой корабль, научилась за долгий подростковый период всему. Мику было указано только следить за отопительной системой, что он всегда считал своим долгом. Мик быстро разобрался, какой вентиль куда открывать и за какой стрелкой следить.
Короче, вылет был назначен на завтра, и вся компания проводила вечер в маленьком кафе при свечах и скрипке – некто Джон в побитых очках всем сердцем, но без слов подпевал скрипачу по имени Никколо, так что было как всегда, и вдруг к столику подошел красавец старик, всем известный изобретатель, бывший поэт, безнадежно влюбленный в Ба, по имени Франсуа Мари Аруэ. То есть не все так хорошо было в королевстве, и безнадежно влюбленные там жили, и брошенные друзья, и ревнивые страдальцы. Но время у них имелось в запасе, время – лучший врач, и можно было заводить новые знакомства. Однако этот Франсуа, вредный старик, все ходил и ходил за Ба уже двести лет, а в свободное время увлекался колдовством, чтобы завоевать сердце красавицы, всегда увлеченное новыми людьми. Но куда Франсуа было угнаться за юной Ба, он был старше ее на триста лет, и она, поначалу заинтересовавшись, вскоре стала его сторониться. Правда, наука превращений была запрещена в королевстве, но Франсуа все прощали из-за Ктора, который имел к старику слабость да и сам грешил мгновенными исчезновениями из королевства каждый раз в ином виде – так думали все, потому что в своем собственном образе Ктор сидел в одиночестве только на престоле, чтобы не смущать народы. Ба неоднократно спрашивала отца по его возвращении, когда он сидел уже весь сияя, кто это его так и что за шрамы везде, но папа сразу хватался за правую руку, что означало у него примерно такую фразу: я тебе все отдал, мизинчика не пожалел, оставь меня, калеку, в покое.
Итак, красавец старик пришел в кафе и отозвал Ба в гардероб, где никого не было, все толпились вокруг Джона, тот являлся редко. Старик молча, с тонкой улыбкой всучил Ба большую книжку с картинками. Под каждой картинкой была приклеена цветная пилюля.
– Ба, – от всего сердца промолвил Франсуа, – если бы тебя не было, тебя надо было бы выдумать.
– Слышали мы такие речи неоднократно, – ответила ему Ба. – Что тебе надо от меня конкретно?
– Возьми эту книжку, – предложил Франсуа Мари Аруэ. – Я ее создал специально для тебя.
– Это не основание, чтобы навязывать кому-то свои книги, – ответила Ба и вся осветилась синим пламенем, что означало у нее нетерпение.
– Тогда я пошел. – Франсуа поклонился и растворился во тьме раздевалки. Все-таки старик кое-чему тут научился, что было, однако, запрещено.
Ба, вздохнув, взяла с того места, где только что стоял Франсуа, книгу и поволокла ее к столику. Том весил не меньше тонны, но Ба не так давно работала вместо подъемного крана на строительстве своего дворца, и с тех пор ей нравилось поднимать тяжести.
Вся милая компания начала рассматривать книгу, в которой было ровно четыре страницы, на каждой странице по картинке, и картинки жили, то есть изображенная кошка зевала, вылизывалась и топталась на подушке, попугай похаживал на жердочке перед зеркальцем, жуки (четверо) совещались, шевеля рогами, а два муравья солидно держали на весу сосновую иголку.
Больше ничего не содержалось в книге, кроме двух строчек точек и восьми таблеток в прозрачной упаковке, но Ба и ее друзья прочли между строк, что если принять таблетку, то можно обратиться в данное существо, а в случае необходимости надо выдернуть у себя светящийся усик или волосок, видимый только в темноте. Тогда произойдет обратное превращение.
– Глупая какая книга! – рассердилась Ба и оставила подарок Франсуа на столике.
Однако наутро, когда летающая крепость стартовала, Ба обнаружила старикову книгу на корабле под своим диваном, рядом с домашними тапочками, вздохнула и оставила ее лежать на том же месте.
Световые годы летели незаметно, вся компания играла в карты, за исключением Мика, который спал у себя в котельной, и от него исходило зеленоватое пламя, так ему было скучно – даже во сне. Хорошо, что дело происходило на корабле, потому что уныние было самым большим грехом в королевстве, и когда тоска становилась всем видимой, то есть зеленой, больного, целиком принявшего изумрудный цвет, подвергали принудительному лечению и отправляли в подземную клинику, и никто не знал, что там с больным делали, потому что через тысячелетие (если больного выпускали так скоро) он появлялся на белом свете приветливым, бледным, боязливым и благодарным, любовался такими простыми вещами, как восход, закат, дождь и сумерки, а огня боялся смертельно, так же как любой металлической посуды типа сковородок и котелков, да их и не было в королевстве, и даже изображений их не было, и бояться было нечего. Цветочный сок пили непосредственно из чашелистиков, стряхивая с гроздьев, кистей и соцветий типа зонтик и щиток.
Так что Ба очень боялась за Мика все время, идею с планетой Хе королевна сама подбросила отцу, явившись однажды к нему в слегка зеленоватом виде (о, наука превращений, повсеместно запрещенная!). Папа увидел и с перепугу решил слинять, то есть стал кривиться, как отражение в бутылке, и побледнел так, что сквозь него стал виден его королевский престол, потом он стал хвататься за больную руку без мизинца и наконец обрел мужество. Он был бесстрашен от природы, в свое время ради людей ходил на большие испытания, но вынести страдания своего ребенка он был не готов, растерялся. Собственный ребенок – большое испытание даже в таком чине, в каком пребывал король космоса.
Ба стала смотреть на небосвод, где уже зависла голубоватая Хе, король, не поднимая головы, принял сигнал и полетал немного над Хе, в результате с ее поверхности исчезло все лишнее. Затем королевне и было предложено занятие на ближайшие столетия.
– Без средств к существованию, – так выразился Ктор. – Ничего не дам сверх того, что есть в летающей тарелке у всех. Уныние – грех.
– И не надо, – без слов ответила Ба, так что теперь Мик летел в полной безопасности, а то за ним уже ходили тайные врачебные служители. Вообще Космоландия была продумана гениально, и Ктор, когда ему выпало основать королевство, имел в виду многие образцы.
Так что компания развлекалась живыми картами (живыми в любом смысле этого слова), пила тюльпанный сок и подснежниковый нектар, а корабль летел, и наконец, вся увитая прозрачными облаками, повисла впереди несчастная планета Хе, место ссылки, – льды, кратеры, вулканы, гейзеры кипятка и всюду в скалах нечто вроде водянистых колокольчиков.
– Колокольчиковый сок! – как бы воскликнули все. Но при ближайшем рассмотрении это оказались водопады.
В другой раз, на экскурсии, например, это выглядело бы красиво, много неба и воды, но принцесса озабоченно думала, с чего тут начать.
Над Хе все еще кружили мысли Ктора в виде двух летающих тарелок, чтобы хеянцы не вздумали вернуться, но Ба пригорюнилась, что и тут не обходится без папашиной поддержки, и испустила из глаз зеленый луч. Тарелки растворились мгновенно в большой панике, свалили за горизонт, сильно накренясь. Ба ввела корабль в пике, ища место поровней, и увидела гладкую, как стол, круглую площадку, с краю которой чернел как бы серпик.
– Интересно, – громко подумала Ба и стала сажать машину.
Все прильнули к окошку, и тут площадка отскочила, как люк, выстрелили вверх два стальных хлыста с присосками, со свистом прилипли к кораблику Ба и потащили его вниз в преисподнюю. Внизу зияла черная дыра.
Ба знала, что черные дыры существуют и что это единственно возможный для нее вариант смерти.
Ба потянула на себя ручку управления, стараясь поднять аппарат. Установилось равновесие, летающая тарелка дрожала так, что даже Мик проснулся и с цветком мака в руке приплелся узнать, какого хрена трясет. Не говоря ни слова, он очень ясно выразил свою мысль.
Ба со скоростью молнии, не выпуская ручку управления, притянула старикову книгу из-под дивана и сунула по таблетке под язык Мику (попугаеву) и всем остальным товарищам (жуковые и муравьиные), а кошачью проглотила сама, тут же напомнила всем правило обратного превращения (выкусывается в темноте светящийся усик, волосок или перышко), попрощалась и уже сидела под диваном, вытаращив оранжевые глаза, шипя и стуча хвостом по паркету. В окно бился крыльями черно-желтый попугай, жуки сидели в щели, муравьев не было видно. И наступило нечто, после чего не было ничего. Только в полной тьме светились картинки в книге: королевна в полном костюме космонавта и ее семеро спутников в тех же нарядах, озабоченно сидящие каждый в своей рамочке и в своей компании на своей странице.
Ба в виде кошки с изумлением очутилась в клетке, в помещении без окон, залитом ровным белым светом.
Не мяукнув, Ба смирилась со своим новым положением, не любопытствовала, не рвалась вон, не царапала дверь клетки, а вылизывала пуховую шкурку, переваливалась с боку на бок и терпеливо голодала. Еду ей приносили и уносили каждый день в виде дохлой мыши. Ба не прикасалась к угощению и угрюмо размышляла о том, что бедного Мика, наверно, кормят червями, а на жуков и муравьев, может быть, попшикали средством от насекомых вместо кормежки. Правда, убить их невозможно, слава тебе Господи, но неприятностей они натерпелись достаточно, бедные. Ба сокрушенно стала думать, что распорядилась их существованием как владычица – жили бы они и жили, играли бы на арфах, клавесинах и медных трубах и пили бы цветочные соки, а тут мизерное существование в плену, в тюрьме! Папа специально не опомнится ближайшую тысячу лет, рука у него, конечно, очень болит, но он терпит ради блага любимой дочери, думая, что она преодолевает трудности северной жизни и это ей на пользу, все лучше, чем тайная врачебная помощь в условиях подвала.
Ба с любовью вспоминала своих подруг и их трех друзей, произносила их имена – Эмилия, Шарлотта, Анна, затем Джордж Ноэл Гордон, Вольфганг Амадей и Александр, все отборные люди, очень непростые, каждый из которых в прошлой жизни умер молодым и до последних дней не верил, что умрет. Девушки были закалены и гуляли каждый день под дождями и ветрами, мужчины сопротивлялись судьбе с оружием в руках у кого что было, и все сделали в жизни очень много. Теперь две подруги Ба превратились в крепких, как желуди, жучих, а одна изображала собой вообще муравья – несколько запятых и три точки. И все по моей вине! – мучилась королевна, вылизывая шкурку рядом с дохлой мышью. Она с изумлением вспоминала также старика Франсуа, который сыграл такую злую шутку с ней и ее друзьями. Мари Аруэ мог бы позаботиться и ввести в свой каталог не кошек, птиц и насекомых, а тигров, львов и, например, антилоп. Хотя что хорошего, спрашивается, и в их жизни – есть жирных мертвых кроликов или часами жевать сено?..
«Лучше бы в птиц! – думала кошка. – Но есть червей? Или в бабочек, они тоже питаются цветочным соком, но терпеть жизнь гусеницы?»
«Все-таки надо было подружиться с Франсуа, сказать ему доброе слово, – мучилась Ба, – он без поддержки может стать язвительным стариком, а это тоже великий грех… Всегда полезно сохранять добрые отношения, а то настанет час, и горько пожалеешь о грубом слове».
И королевна завалилась на бок и зажмурилась, не в силах больше смотреть на мышь.
«Но и хорошо, что мы здесь не мы, а то бы начали нас мучить и терзать, папа бы вынужден был их истребить… Война в подземельях, кровь… Убивать нехорошо. Франсуа молодец, предусмотрел».
И с этими мыслями Ба, зажмурившись, горько заснула.
Иногда появлялась хеянка, которая ходила за кошкой, меняла ей песок и мышь ежедневно, ничего не говорила и исчезала. Хеянка была очень бледная милая девушка, просто очень бледная, с опасным зеленоватым оттенком. Ба по собственному опыту понимала, как тоскует вся эта бледно-зеленая нация по небу и облакам, и впервые подумала, что папа не должен был так уж оголять планету Хе даже ради спасения единственной дочери, тем более что все обернулось все-таки пленом и тюрьмой.
Дальше события разворачивались довольно странно, потому что – вот месть старика Франсуа – Ба все больше становилась кошкой и однажды съела с дикой жадностью полуживую мышь. К этому времени Ба просто умирала от голода (Ба в бытность свою королевной вообще не знала, что такое голод).
Мало того, через определенное время Ба начала дико кататься по подушке, хрипло замяукала и даже завыла. «Что со мной, – как во сне, думала Ба, – у меня появился голос, я жива. Я не могу больше быть одна, Мик, Мик!»
Вместо Мика любезная хеянка принесла бледно-зеленого кота под мышкой. По случаю визита клетка Ба была раскрыта, и Ба мгновенно выскользнула и прямиком помчалась к открытой двери, за которой открывался тесный туннель, освещенный рядами ламп. Ба быстро поймал прохожий, погладил по розовой шерсти и отнес на место. Ба успела заметить низенькие, как шалаши, жилища хеянцев. «Как они тут живут, бедные», – подумала Ба, когда ее представили коту. Ба мгновенно дала коту по морде, вернулась в клетку и лапой закрыла за собой дверь. Кота унесли. Ба опять мрачно завыла, про себя думая, что эти игры с котом даром бы не обошлись, и пришлось бы рожать бледно-зеленых котят. «И неужели бы я любила этих своих детей?» – думала Ба. Как разумное существо, она понимала, что своих детей, кто бы ни был их отец, всякая мама любит и считает красавцами.
Ба еще не думала о детях в бытность свою королевной, перед ней был постоянный пример отца, хватающегося за то место, где у него болел отрубленный палец. Ба, если бы захотела, могла бы тоже настрогать двадцать детей, но ходить без пальцев, вот в чем вопрос!
«Если бы, – крича криком, думала Ба, – этот старый дурак Франсуа сделал кошку и кота и кот был бы Мик! О Мик, Мик! У нас были бы чудесные котята!»
Однако налицо был только попугай, да и то неизвестно где.
«Да и каков может быть гибрид кошки и попугая», – задумалась Ба и снова завыла от горя, представив себе ушастого попугая на четырех птичьих ногах или двуногого кота с крыльями, или попугая, но с зубами в клюве! Ужас!
Ба орала еще две недели, не ела ни мышей, ни какую-то болотистую зеленую кашу, местное, видимо, угощение. Затем успокоилась, поспала, съела свеженькую мышь, вычистилась, вылизалась и стала с благодарностью думать о том, что она не позволила себе так низко пасть в мечтах о котятах.
Она уже придумала простой план спасения, но спасаться одна Ба не хотела. Тем временем происходили какие-то местные переговоры, в результате чего хеянка долго чистила клетку Ба каменноугольным порошком, выстирала кошачью подушку, так что она теперь воняла нефтью, а Ба не выносила таких запахов и перешла спать на пол клетки.
Но однажды утром она забыла обо всем и вскочила на свою подушку в диком восторге: в помещение внесли клетку с попугаем! Мик сидел на жердочке мрачный, оборванный, худой, а рядом с ним, бок о бок, находилась какая-то местная подземная птица с большими ушами, видимо, самка! Мик не обращал на нее никакого внимания и сидел закрыв глаза.
«Какое счастье, Мик!» – подумала Ба, но тут с ней стали происходить страшные вещи – она вся напряглась, облизнулась, забила хвостом, присела на передние лапы и так далее. Глаза ее горели хищным огнем. Ба это чувствовала. Ей стало ужасно интересно, и проснулось странное чувство жадности и точности: она знала, что не промахнется, и жадно ждала этого момента. Ба даже глухо заворчала. Но клетки мешали ей, клетки!
– Ты дрянь, – ясно и четко сказал Мик.
Ба внутренне ахнула, и только железная выдержка и дисциплина, воспитанные пятисотлетним существованием в качестве королевны (царственные особы не могут позволить себе распуститься, они от этого теряют головы) – эта дисциплина заставила Ба не изменить ни на миллиметр свою позу охотничьей кошки. «Мы не понимаем ни слова», – всем своим видом говорила Ба, стуча кончиком хвоста. Ба не одобряла того, что Мик открыто говорит по-человечески, мало ли что тут понимают хеянцы, да еще такая разумная ветвь, пережившая всех врагов, заблаговременно ушедшая в подполье.
– Дай кашки, – скрипел Мик, – ты дрянь. Дай кашки дурашке.
Все, слава богу! Мик изображал собой дурака попугая, который выучил чьи-то стихи.
– Дай кашки, – продолжал Мик. – Я не могу жить.
Он кричал, наслаждаясь возможностью говорить, а его подруга взяла и повисла вниз головой. «Он не может любить такую идиотку с ушами, я ведь тоже прогнала местного парня!» – думала Ба, продолжая охотиться на попугая у себя в клетке.
– Ты дрянь, – без выражения скрипел Мик.
«Господи, как я его люблю, – думала Ба, прижимая ушки и повизгивая, – так бы и съела!»
Тем временем принесли какие-то прозрачные маленькие аквариумы, но Ба не обратила на них внимания, жадно глядя на Мика.
Наконец установили яркий свет и пустили вереницу людей в зоопарк.
Хеянцы, бледные, словно тени, одетые в праздничные черные одежды, производили хорошее впечатление своей аккуратностью, худобой и общим выражением детского любопытства, с которым они смотрели на Ба и Мика. Еще с большим увлечением они наблюдали за стеклянными коробочками.
«Очень добрые существа, – думала Ба, все еще суетясь на подушке в надежде прыгнуть, – симпатичные люди. Хорошо, что отец о них не знает. Или знает?..»
Одна совсем маленькая особа из хеянок все пыталась подпрыгнуть, чтобы увидеть аквариумы, и высокий хеянец, видимо, отец, снял стеклянную коробку со стола и показал малышке поближе. Ба увидела в коробке жуков! Четверых больших и несколько маленьких…
Собрав все силы, чтобы не завыть (у жуков уже давно вывелись детки), Ба равнодушно зевнула, даже напоказ, как это делают все кошки, желая выразить этим, что им все на свете безразлично. Видно было, что Ба наконец сообразила своим кошачьим разумом, как трудно выпрыгнуть из своей клетки и впрыгнуть в чужую. Кошка свернулась в клубок, а мысль ее лихорадочно работала.
Все теперь вместе. Выход из положения есть. Народ милый, приветливый, хотя и вооружен до зубов (вспомним стальные плети). Будем ждать ночи, хотя тут ее нет, потому что она вечная.
Когда поток хеянцев схлынул, дверь закрыли и заперли с той стороны, а свет оставили.
Ба пристроилась поудобнее, подцепила коготком нитку, которой был зашит край подушки, и дернула.
Мик скрипуче кричал, и королевна была рада, что его голос заглушает треск ниток. С другой стороны, ничего хорошего в этом крике не было. Мик монотонно и ритмически начал говорить, что лучше сидеть в каменном мешке и лизать сковородки, чем проводить вечность в виде плодящихся насекомых. Потом он говорил о том, что не хочет жить, затем он сказал, что никто не может распоряжаться чужой судьбой, и так далее. А Ба все рвала нитки и наконец вспорола подушку с одной стороны, залезла внутрь, в дурно пахнущую тьму, и стала методически пересматривать свою шерстку, надеясь найти светящийся волосок. Он нашелся, он слабо горел на передней лапе у когтя. Тут же Ба выдернула его зубами, и клетка с грохотом распалась: Ба стояла в своем костюме космонавта на столе и с подушкой на шлеме. Ба тут же раскрыла клетку Мика, схватила его хищным движением, так что он только всплеснул крыльями и рявкнул, сунула его в подушку. Мик замер там, сердце его сильно стучало, маленькое птичье сердце испуганного существа. Он никогда ничего не делал для своего спасения. Ба ждала, Мик лежал неподвижно.
Как ни странно, всполошилась ушастая птичка в клетке. Она начала жалобно пищать. Она раскрыла огромные перепончатые крылья.
Ба ждала. Сердце Мика билось все реже.
«Если ты умрешь сейчас, – подумала Ба вслух, – мы больше не увидимся. Ты умрешь уже не для меня».
Птица вопила, Мик лежал неподвижно.
«Как хочешь, – произнесла мысленно Ба, – оставайся здесь, на Хе».
Она вытащила Мика и положила обратно в клетку. Птичка с углами стала хлопотать над ним, перебирать перышки. Ба склонилась над стеклянными коробками, уже не глядя в сторону клетки.
«Я хочу вас спросить, – подумала она, – желаете ли вы жить в вечности или хотите умереть насекомыми? Вы можете сделать выбор».
Жуки (четверо) послали свои умоляющие сигналы. Муравьи посуетились и тоже посигналили. Жуки ждали. У их ног ползали маленькие новенькие жуки. Муравьи печально стояли с запеленутыми младенцами в лапках. Ба думала. Наконец она кивнула, накрыла подушкой обе коробочки, но ничего не произошло. Муравьи и жуки остались с детьми, не захотели обращаться в космонавтов. Попугай, шатаясь, поднялся на ноги, поддерживаемый ушастой птицей, и сказал:
– А вот теперь прощай, детка, прощай.
Ба кивнула, вернулась на космический корабль в ту же секунду, ибо разъяренная девушка способна на все, и вечером встретилась с отцом.
Отец, сияя, сидел на престоле.
– Тебе не было скучно? – спросил он. – Выглядишь ты хорошо.
Ба проглотила невидимые миру слезы и сентиментально ответила:
– О, я не скучала. Папа, я там добавила солнышка, овечек и гусей… И, папа, там живут люди. Они поднялись из-под земли. Народ.
– Не ругаются? – спросил задумчиво отец.
– Они строят.
– Идиллий не бывает, – сказал отец.
– Ну жизнь, что поделаешь, – ответила дочь. – Бывает, дерутся. Папа, я немного занималась наукой превращений.
– Нельзя, – строго сказал отец.
– Дело уже сделано, – произнесла дочь, – я превратила в людей десять жуков, больших и маленьких, шесть муравьев и двух птиц. Я была обязана это сделать. Они остались с детьми на планете Хе.
– Какой, однако, хитрый этот Франсуа Мари Аруэ, – откликнулся отец.
Ба все поняла, построила новый дворец для произведений Франсуа, куда пока что положила книгу с картинками. На картинках вылизывается розовая кошка, моргает печальный попугай, совещаются четыре жука и муравьи, отдуваясь, держат на весу сосновую иголку.
Впрочем, Франсуа уже сочиняет что-то новенькое.
За стеной
Один человек лежал в больнице, он уже выздоравливал, но чувствовал себя еще плоховато, особенно по ночам.
И тем более ему мешало, что за стеной все ночи подряд кто-то разговаривал, женщина и мужчина.
Чаще всего говорила женщина, у нее был нежный, ласковый голос, а мужчина говорил редко, иногда кашлял.
Эти разговоры очень мешали нашему больному спать, иногда он вообще под утро выходил из палаты, сидел в коридоре, читая газеты.
Ни днем ни ночью не прекращался за стеной этот странный разговор, и наш выздоравливающий начал уже думать, что сходит с ума, тем более что, по его наблюдениям, никто никогда не выходил из палаты.
Во всяком случае, дверь туда постоянно была закрыта.
Больной стеснялся пожаловаться на шум, только говорил, что плохо со сном, и лечащий врач отвечал: ничего, скоро вы поправитесь, дома все пройдет.
А надо сказать, что дома этого больного никто не ждал, родители его давно умерли, с женой он разошелся, и единственным живым существом в его доме был кот, которого теперь приютили соседи.
Больной выздоравливал медленно, жил с заложенными ушами, но и сквозь затычки он слышал все тот же разговор, тихий женский голос и иногда мужской кашель и два-три слова в ответ.
Кстати, сам больной уговаривал себя, что если бы он хотел спать, то заснул бы в любых условиях, и все дело просто в том, что пошаливают нервы.
Однажды вечером наш болящий вдруг ожил: разговор за стеной прекратился.
Но тишина длилась недолго.
Затем простучали знакомые каблуки медсестры, эти каблуки затоптались на месте, потом что-то глухо обрушилось, потом забегали, засуетились люди, забормотали, стали двигать стулья, что ли, – короче, какой тут сон!
Больной вышел в коридор, не в силах больше лежать.
Он тут же увидел, что дверь в соседнюю палату, против обыкновения, распахнута настежь и там находятся несколько врачей: один склонился над постелью, где виднелся на подушке бледный профиль спящего мужчины, другие присели около лежащей на полу женщины, а по коридору бежит медсестра со шприцом.
Наш больной (его звали Александр) начал беспокойно ходить взад и вперед мимо открытых дверей соседней палаты, что-то его притягивало к этим двум людям, которые как будто одинаково спокойно спали, с той только разницей, что мужчина лежал на кровати, а женщина на полу.
Задерживаться у дверей было неудобно, и больной стоял у дальнего окна, наблюдая за кутерьмой.
Вот в палату завезли пустую каталку, вот она медленно выехала обратно в коридор, уже с грузом, на ней лежала та самая женщина, и мелькнуло опять это спящее женское лицо, спокойное и прекрасное.
Надо сказать, что Александр знал толк в женской красоте и не единожды наблюдал свою бывшую жену у зеркала (перед походом в гости, например).
И каждый раз, видя очередную волшебницу (бриллиантовые глаза, полуразвернутый бутон розы под носом), он представлял себе это лицо перед зеркалом в виде белого, маслянистого блина с дыркой на том месте, где потом будет роза, и с двумя черными отверстиями там, куда затем вставят бриллианты.
Но тут, в больничном коридоре, Александра как будто кто-то ударил в самое сердце, когда мелькнуло это чужое женское лицо, лежащее на плоской подушке.
Печальное, бледное, простое и безнадежно спокойное, оно быстро исчезло за спиной санитара, а потом задвинулись двери лифта, и все кончилось.
Потом Александр сообразил, что тело женщины, которую провезли мимо, укрытое простыней, выглядело безобразно большим и бугристым, как бы раздутым, и носки ее ног безжизненно торчали врозь – и он подумал, что в природе нет совершенных человеческих созданий, и от всей души пожалел эту толстую даму с таким красивым личиком.
Затем операция с каталкой повторилась, но на сей раз провезли чье-то тело, укрытое с головой.
Тут Александр понял, что это умерший из соседней палаты.
Наш больной, по природе человек молчаливый, ни о чем не стал спрашивать медсестру, которая пришла к нему утром ставить градусник.
Александр лежал и думал, что теперь за стеной полная тишина, но спать все равно невозможно, за прошедшие недели он как-то уже привык к этому долгому, спокойному разговору двух любящих людей за стеной, видимо, мужа и жены, – было приятно, оказывается, слышать мягкий, ласковый женский голос, похожий на голос мамы, когда она гладила его в детстве, заплаканного, по голове.
Пускай бы они говорили так вдвоем все время, думал несчастный Александр, а теперь за стеной такая могильная тишина, что ломит в ушах.
Утром, после ухода медсестры, он услышал в соседней палате два резких, крикливых голоса, что-то брякало, стучало, ездило.
– Вот, доигралась, – с усилием произнесла какая-то женщина.
– Я ничего не знаю, – крикнула другая, – была в отгуле, ездила к брату в деревню! Они мне соломки на зуб не дали! Брат называется! Картошки насыпали, и всё!
– Ну вот, – рявкнула первая, что-то приподнимая и ставя на место. – Ее обманул этот, травник. Ну который приезжал с Тибета.
– Ничего не знаю, – возразила вторая.
– Этот травник, он ей вроде много наобещал, если она отдаст ему все, что у них есть, – крикнула первая откуда-то снизу, видимо, она полезла под кровать.
Слышимость была прекрасная.
– Всё?
– Ну.
– Как это всё?
– Она вроде продала даже квартиру и все вещи, – вылезая из-под кровати, очень разборчиво сказала первая.
– Дура! – крикнула вторая.
– Почему я знаю, потому что медсестры у нее что-то купили, холодильник, и пальто, и много чего, по дешевке. Она даже цену не назначала: сколько, мол, дадите, столько и возьму.
– А ты что купила?
– А я в тот день вышла в ночь, они уже всё разобрали.
– А я где была? – крикнула вторая.
– А ты была в отгуле, вот больше гуляй! – глухо сказала первая. Было такое впечатление, что она замотала рот тряпками, но, видимо, она опять полезла под кровать. – И он, этот врач, колдун этот, обещал, видно, улучшение. То есть сказал: «Все кончится хорошо». Вот тебе и кончилось.
– Известное дело, – резко выкрикнула вторая. – Наши сразу врачи ляпнули, что ему жить две недели, вот она, видно, и стала искать колдуна. Все ему отдала, а мужик все одно помер.
Даже через стенку было слышно, что она расстроилась из-за чего-то.
– Теперь что же, – завопила она, – ее все вещи у медсестер, а во что она ребенка завернет?
– … – с трудом отвечала первая, все еще, видимо, из-под кровати, – да она сама-то при смерти, без сознания. Родит – не родит, выживет – не выживет. Ее на третий этаж положили, в реанимацию.
– Че ты там нашла? – крикнула вторая.
– Кто-то мелочь рассыпал, – пробубнила первая, вылезая из-под кровати.
– Сколько? – поинтересовалась вторая.
Первая не ответила и ссыпала все в карман. Вторая продолжала с горечью в голосе:
– К ним в палату и заходить было тяжело. Я все думала, чего это она так радуется, сама в положении, муж у ей помирает, а она как на именинах сидит.
Первая назидательно сказала:
– Она все отдала и думала, что это поможет. Ничего себе не оставила. Может, она думала, что, если муж помрет, ей ничего больше не надо.
– Ну дура, – воскликнула вторая, – а этот… травник что? Ну, колдун.
– Он забрал все деньги и сказал, что едет в Тибет молиться.
Удивительно, как все ясно было слышно!
Александр подумал, что, видимо, его бывшие соседи говорили очень тихо, если тогда он не мог разобрать ни единого слова.
Потом уборщицы начали обсуждать бесстыдное поведение некой раздатчицы в столовой (малые порции, не хочет кормить санитаров и носит парик в таком возрасте), пошумели еще и исчезли.
А Александр все никак не мог поправиться, барахлило сердце.
Пришлось задержаться в больнице.
Через неделю к нему пришли две санитарки с пачечкой денег и листом бумаги: они собирали средства одной женщине, которой надо было купить приданое для новорожденного сына.
Санитарки были очень любезны и даже стеснялись.
Они намекнули, что это «та», бывшая его соседка из палаты рядом.
Александр отдал все, что у него было, расписался на листочке и немного повеселел: во‑первых, он дал очень большую сумму, во‑вторых, если это та самая женщина родила, стало быть, все кончилось хорошо.
Он не стал ни о чем спрашивать по своему обыкновению, однако его состояние резко улучшилось.
Александр был, на свое счастье, не бедным человеком, только болезнь остановила его на пути к большому богатству; он любил деньги и не тратил их на пустяки, и сейчас его дела шли блестяще. Даже из больницы он умудрялся руководить своими сотрудниками.
А болеть он начал внезапно, однажды ночью. Он шел пешком, немного навеселе, поужинав с друзьями в ресторане, и недалеко от дома вдруг увидел грязного, какого-то заплаканного мальчишку лет десяти, который вынырнул из-за машины и спросил, как дойти до метро.
– Метро там, но оно уже закрылось.
На улице было холодновато, мальчишка немного дрожал.
Александр знал эту породу людей – они притворяются голодными, замерзающими, маленькими и беззащитными, а потом, стоит их привести домой, отмыть, накормить и уложить спать, они или утром исчезают, своровав что плохо лежит, или же остаются жить, что еще хуже, и к ним в один прекрасный день присоединяются какие-то подозрительные родственники, и приходится выпроваживать таких гостей, но ведь бродяги не знают стыда, ничего не стесняются и, сколько их ни выгоняй, возвращаются на протоптанную один раз дорожку, колотят в дверь, кричат, плачут и просятся погреться, и бывает очень неприятно – никому не хочется выглядеть жадным и жестоким.
Короче, у Александра был уже такой случай в жизни, и он насмешливо предложил мальчишке отвести его в милицию, если он заблудился и не может найти свой дом.
Пацан резко отказался, даже отскочил немного:
– Ага, а они меня тогда домой отправят.
Короче говоря, с этим парнем все было ясно, и Александр посоветовал ему зайти куда-нибудь в теплый подъезд, чтобы не замерзнуть, – бесплатный совет сытого и довольного взрослого человека маленькому и убогому пройдохе.
На этом они расстались, мальчишка, дрожа, побрел куда-то по ночному городу, а Александр пришел домой, принял душ, заглянул в холодильник, поел холодного мяса и фруктов, выпил хорошего вина и пошел спать в добром расположении духа, после чего ночью проснулся от резкой боли в сердце и вынужден был вызвать «Скорую».
Врачу в больнице он пытался что-то сказать о том, что встретил Иисуса Христа и опять его предал, но доктор вызвал еще одного доктора, и больной, пребывая как в тумане, услышал, что у него ярко выраженный бред.
Он пытался возразить, но ему сделали укол, и начались долгие дни в больнице.
Теперь, отдав свои наличные деньги, он заметно повеселел.
Все последние недели он неотрывно думал о том человеке, которого увезли под простыней и который так мужественно умирал, не позволяя себе жаловаться.
Александр вспоминал его спокойный, глуховатый голос.
Таким голосом говорят: все в порядке, все нормально, ни о чем не думай, не волнуйся.
А может быть, они и не говорили никогда о болезни, а говорили о каких-то других вещах, о будущем.
И она тоже не беспокоилась, она так радостно и счастливо рассказывала мужу, возможно, о том, как хорошо им будет вместе, когда они все вернутся домой, и какую кроватку надо купить ребенку: говорила, отлично зная, что денег не осталось совершенно, она всё отдала.
Видимо, она верила в целительную силу трав, и ничего, кроме жизни мужа, ее не волновало, что будет, то будет.
Может быть, она рассчитывала, что, если ее муж умрет, она каким-то волшебным образом тоже не останется жить.
Но, вероятно, наступило такое время, когда ей все-таки надо было существовать одной – неизвестно как, без дома и денег, с ребенком на руках.
И тут Александр смог вмешаться в ход событий со своими деньгами.
Он рассчитал так, чтобы бедной женщине хватило на весь первый год – она могла бы снять квартиру и продержаться, пока не найдет работу.
Какое-то счастливое спокойствие наступило для Александра в его последние дни в больнице, как будто он точно знал, что все будет хорошо.
Он начал спать по ночам, днем даже выходил погулять.
Началась прекрасная, теплая весна, по небу шли белые маленькие тучки, дул теплый ветер, зацвели одуванчики на больничном газоне.
Когда Александра выписывали, за ним пришла машина, и он, дыша полной грудью, в сопровождении друга пошел вон из больницы.
Тут же, у ворот, он нагнал небольшую процессию: санитарка из их отделения вела под руку какую-то худую женщину с ребенком.
Они волоклись так медленно, что Александр удивленно обернулся.
Он увидел, что санитарка, узнав его, густо покраснела, резко опустила голову и, пробормотав что-то вроде «я побежала, дальше нам нельзя», быстренько пошла обратно.
Женщина с ребенком остановилась, подняла голову и открыла глаза.
Кроме ребенка, у нее ничего не было в руках, даже сумочки.
Александр тоже приостановился.
Он увидел все то же прекрасное, спокойное молодое лицо, слегка затуманенные зрачки и младенца в больничном байковом одеяле.
У Александра защемило сердце, как тогда, когда он только начинал болеть, как тогда, когда он смотрел вслед дрожащему мальчишке на ночной улице.
Но он не обратил внимания на боль, он в этот момент больше был занят тем, что соображал, как ловко санитарки ограбили беднягу.
И он понял, что с этого момента отдаст все, всю свою жизнь за эту бледную, худенькую женщину и за ее маленького ребенка, который лежал, замерев, в застиранном казенном одеяле с лиловой больничной печатью на боку.
Кажется, Александр сказал так:
– За вами прислали машину от Министерства здравоохранения. По какому адресу вас везти? Вот шофер, познакомьтесь.
Его друг даже поперхнулся. Она ответила задумчиво:
– За мной должна была приехать подруга, но она внезапно заболела. Или у нее ребенок заболел, неизвестно.
Но тут же, на беду Александра, на женщину с ребенком налетела целая компания людей с цветами, все кричали о какой-то застрявшей машине, об уже купленной кроватке для ребенка и ванночке, и под крик «ой, какой хорошенький, вылитый отец» и «поехали-поехали» они все исчезли, и вскоре на больничном дворе остался стоять столбом один Александр с ничего не соображающим другом.
– Понимаешь, – сказал Александр, – ей было предсказано, что она должна отдать все, и она отдала все. Такой редкий случай. Мы ведь никогда не отдаем все! Мы оставляем себе кое-что, ты согласен? Она не оставила себе ничего. Но это должно кончиться хорошо, понял?
Друг на всякий пожарный случай кивнул – выздоравливающим не возражают.
Что Александр потом предпринимал, как искал и нашел, как старался не испугать, не оттолкнуть свою любимую, как находил обходные дороги, как познакомился со всеми подругами своей будущей жены, прежде чем смог завоевать ее доверие, – все это наука, которая становится известной лишь некоторым любящим.
И только через несколько лет он смог ввести в свой дом жену и ребенка, и его старый кот сразу, с порога, пошел к новой хозяйке и стал тереться о ее ноги, а четырехлетний мальчик, в свою очередь, засмеялся и бесцеремонно схватил его поперек живота, но престарелый кот не пикнул и терпеливо висел, и даже зажмурился и замурчал, как будто ему было приятно свешиваться, поделившись надвое, в таком почтенном возрасте, но коты – они народ мудрый и понимают, с кем имеют дело.
Анна и Мария
Жил-был человек, который охотно помогал всем – всем, кроме своей жены. Жена его была удивительно добрая и кроткая, и он знал, что она прекрасно справляется со всеми делами одна, и был спокоен.
И однажды он помог одной колдунье, догнал ее шляпу, которую снесло ветром.
И колдунья с улыбкой сказала: «За то, что ты мне помог, я сделаю тебя волшебником. Но с одним условием. Ты сможешь помогать всем. И только тем, кого ты любишь, ты не сможешь помочь ничем».
И она его утешила: «Так бывает. Врач же не лечит своих детей. Учитель не учит своего собственного ребенка. У них это плохо получается».
И она ушла, оставив человека в растерянности.
И скоро настало время, когда у этого новоявленного волшебника стала умирать его любимая жена, нежная, добрая, красивая Анна.
Так случается, что у человека внутри кончается завод, как у часов – все тише тиканье, все реже.
Волшебник дни и ночи проводил около своей жены, дело происходило в больнице – пришлось отвезти Анну туда, чтобы сделать ей операцию.
Волшебник стоял на коленях у кровати, а жена его почти перестала дышать.
Тогда он бросился в коридор к медсестре, но медсестра ему сказала: «Не надо ей мешать, ей сейчас и так тяжело» – и ушла.
Волшебник просто хотел попросить еще один укол для продления жизни жены, но не получилось, как и предсказала колдунья.
А по коридору санитар вез каталку – высокие носилки на колесах, и у женщины, которую он вез, голова была вся забинтована.
Тем не менее женщина еще дышала, хотя тоже довольно редко.
Волшебник понял, что жизнь ее заканчивается, и предложил санитару сигарету.
Санитар охотно закурил и рассказал на ходу историю болезни пациентки, что та попала в автомобильную катастрофу и практически уже живет без головы, и он не надеется ее довезти на второй этаж в операционную, и это жалко, потому что внизу сидит семья этой женщины, в том числе двое маленьких детей.
Волшебник мигом сообразил, что надо сделать, тут его мастерства хватало, и он обменял тело жены на туловище этой умирающей и изо всей силы пожелал выздоровления для бедной посторонней больной: здесь он помочь как раз мог!
Но, видимо, помощь пришла слишком поздно, и санитар погрузил в лифт полный гибрид умирающего тела с умирающей головой – больная почти уже не дышала.
А тем временем на кровати Анны оказался живой человек, только сильно одурманенный лекарствами, – здоровая голова Анны и здоровое тело той, другой женщины.
Волшебник опустился на колени у изголовья своей жены и увидел, что она стала дышать немного чаще, – но при этом Анна начала стонать и жаловаться, что все болит – руки и ноги.
Затем Анна открыла глаза, полные слез, и спросила мужа, долго ли ей еще мучиться.
Муж сообразил, что легкомысленный санитар не все мог знать о состоянии бедной погибающей женщины, что, возможно, и руки, и ноги у нее были переломаны, – но как это лечить сейчас, в данной больнице?
Что скажут врачи, если увидят, что больная лежала-лежала в своей кровати, умирала-умирала – и вдруг оказалось, что у нее сломаны руки-ноги?
Врачи столпятся и будут думать, что налицо какое-то преступление, что больную выбросили, может быть, с четвертого этажа, или она сама выкинулась, что-нибудь в таком духе. Или ее муж побил палкой, мало ли?
И впору бы было вызывать следователя к такой больной вместо лечения – так думал бедный волшебник.
И тут же он сбегал к врачам и попросил, чтобы больную выписали домой: что ей здесь мучиться, пусть лежит свои последние дни дома.
– Не дни, а минуты, – поправила его присутствующая тут же медсестра, – только минуты. Ей осталось жить максимум сорок минут.
И она опять сказала: «Не мешайте ей, ваша жена занята серьезным делом».
– Да, да, – ответил волшебник, – но я ее забираю.
Он взял свою громко стонущую жену под неодобрительными взглядами врачей и отнес ее вниз, в машину, а затем быстро домчал Анну до другой больницы, сказав, что его жена упала с садовой лестницы и ничего не помнит, говорит всякую чушь про то, чтобы ее добили, дали таблетку «от жизни», дали умереть, и что она неизлечимо больна и так далее, вплоть до сообщения диагноза.
Врачи тут же установили, что у больной множество ушибов, но остальное все в порядке, это вопрос двух недель, и Анна, проклиная все на свете, терпела и жаловалась только мужу, хотя по-прежнему громко и со слезами.
Она больше не требовала себя пристрелить как неизлечимо больную, поскольку после первой же просьбы к ее постели был вызван очень ласковый и внимательный врач, который долго расспрашивал ее о детстве, о снах, и не сходили ли с ума ее папа с мамой, и от чего умерла прабабушка, и не в психбольнице ли.
Больная тут же прекратила свои требования насчет того, чтобы с ней покончили раз и навсегда, перестала просить пулю в лоб, а волшебник задумался: очень уж это было не похоже на его родную Анну, на его сильную и добрую жену, которая всегда больше заботилась о нем и жалела его больше, чем себя.
Остальные сюрпризы начались очень скоро – Анна, приехав домой, стала исчезать надолго, возвращалась с прогулок мрачная и все пыталась что-то вспомнить.
На все вопросы она отвечала, что ей снятся какие-то странные сны и вообще тут многое непонятно – куда девался шрам после аппендицита и откуда такие пальцы, почему родинка на плече и все такое прочее.
Анна при этом прятала глаза, не смотрела прямо в лицо, чего прежняя Анна никогда бы не стала делать, она всегда смотрела прямо в самые зрачки мужа своим печальным и ласковым взглядом. В самое его сердце.
Волшебник затосковал и пошел в больницу узнать, когда умерла та жертва катастрофы, и он очень удивился, узнав, что эта жертва нисколько не умерла, а после удачной операции чувствует себя намного лучше, можно сказать, что врачи совершили просто чудо.
Да и семья больной дежурит буквально круглые сутки около Марии – так звали женщину.
Семья – мама, папа и двое маленьких детей – чуть ли не поселилась в больнице, детей приводят поцеловать маму перед детским садиком и после него, и Мария уже может с ними говорить.
Правда, она очень изменилась, но это бывает после операции, а вот семья не изменилась.
Так рассказал волшебнику словоохотливый санитар и пустился с пустой каталкой вдоль по коридору.
Волшебник заглянул в палату и увидел молодую женщину с забинтованной целиком головой (свободен был только рот) под неусыпным наблюдением мужчины в очках, который смотрел на нее не отрываясь, как некоторые родители смотрят на своих маленьких спящих детей.
Волшебник мгновенно оказался в белом халате, в шапочке и с трубочками в ушах, как и полагается доктору.
– Так, больная, – сказал волшебник, – как сон, как страхи, как предчувствия?
Он сел с другой стороны кровати, и Мария вдруг беспокойно зашевелилась и протянула к нему руку.
Волшебник увидел эту знакомую ему до мельчайших подробностей руку, родную руку, и чуть не заплакал, поняв, что больше никогда он не сможет поцеловать эти пальцы.
– Да, – сказала Мария сквозь бинты, – меня мучают сны, что где-то недалеко мой дом, мой любимый муж, мои книги и сад, и мне снится, что я больше никогда туда не попаду. И каждую ночь я плачу.
– Бинты промокают от слез, да, – отозвался ее муж, солидный, крепкий мужчина в очках. – От этого болят раны.
– Да, она, видимо, должна измениться после катастрофы, так бывает, и бывает даже, что люди начинают выдавать себя за других. Это явление ложной памяти, я вам говорю, – сказал волшебник.
– Ничего, лишь бы она вернулась к нам, нам она нужна любая.
Волшебник не отрываясь смотрел на бинты, и ему казалось, что там, под слоем марли, как бабочка в коконе, лежит лицо его любимой Анны, лицо той Анны, которая его любит.
А Анна домашняя, которую он спас, перехитрив судьбу, – она не настоящая.
Тогда волшебник, притворившийся доктором, под беспокойным, страдальческим взглядом мужа начал снимать бинт за бинтом, и внезапно приоткрылось ему совершенно чужое лицо, мелькнуло со всеми своими ярко-красными шрамами и грубыми швами.
Волшебник не стал разбинтовывать до конца эту совершенно незнакомую ему женщину и сказал:
– Еще не все зажило, операцию придется повторить через неделю.
Он уже знал, что это не Анна и что он сможет ей помочь.
– Так бывает, доктор, что даже руки изменились? – прошептал несчастный муж.
– Да, все бывает, полное изменение. Через неделю ее возьмут на операцию, и все вернется, не беспокойтесь, – сказал волшебник и удалился.
Внизу, в вестибюле, он прошел мимо испуганной притихшей семьи Марии – двух пожилых людей и двух малышей. Он остановился, сказал им несколько ободряющих слов и тут же почувствовал, что его жена Анна где-то здесь.
Она была тут, она пряталась в больничном саду.
Волшебник отступил, стал неразличимым и только наблюдал, как Анна медленно, неуверенно, как слепая, которую ведут на веревке, движется по направлению к детям, входит в больничный вестибюль, приближается к их скамейке…
Дети встрепенулись, старики зашевелились, подвинулись, и Анна села рядом.
Через несколько минут дети уже стояли, прижавшись к ее коленям, и играли ее бусами, без передышки щебеча.
Старики тоже оживились, придвинулись к Анне, причем старушка то и дело касалась ее рукой.
Стало ясно, что Анна тут сидит не первый раз. Волшебник вернулся домой и стал читать свои книги – те, которые у него завелись после встречи с колдуньей, – но только в одной книге, в самом конце, он нашел ярко светящуюся строчку:
ОБМАНЩИК СУДЬБЫ
Волшебник перебрал всю свою жизнь за последнее время и признал, что действительно схитрил, обвел вокруг пальца свою судьбу, сделал то, чего ему было не дано: ему ведь нельзя было помогать тем, кого он любил, а он помог Анне!
И теперь маялись две несчастные женщины, не понимающие, кто они, и сам он мучился и был глубоко несчастен.
И Анна – это ясно – больше не любила его. Волшебник долго думал, как ему быть, и наконец он пошел разыскивать свою колдунью. Он просидел два часа в очереди в ее приемной среди детей-калек, плачущих старух, суровых мужчин и мрачно настроенной молодежи.
Счастливые сюда не заглядывали!
Очередь двигалась медленно, но никто не возвращался – видимо, существовал другой выход.
Наконец волшебник вошел к колдунье. Она засмеялась, увидев его, и сказала:
– Не обманешь судьбу-то!
Он ответил:
– Что же теперь делать?
Колдунья, однако, пригласила следующего, а волшебнику указала на дверь в противоположной стене.
Он вышел, но вышел куда-то не туда. Он вышел в какое-то поле, пустынное, только горы виднелись на горизонте.
Как ни вертел головой волшебник, он ничего не увидел, даже дома колдуньи.
Наконец ему пришлось пойти к горам (сверху лучше видны окрестности), и он шел и шел, ночью и днем, не чувствуя ничего, ничем не питаясь, и был даже рад, что не сидит дома вдвоем с несчастной Анной, сердце которой, видимо, так и осталось любить своих детей и свою семью…
Он шел, потеряв счет дням и ночам, он не хотел колдовать, он смотрел то на облака, то на звезды, иногда рвал и надкусывал какие-то травинки.
И все больше и больше его тревожила мысль о том, что он исковеркал жизнь многим людям, пытаясь обмануть судьбу.
Он сохранил две жизни, а зачем нам жизнь без наших любимых?..
Однако всему приходит конец, и волшебник взобрался на высокую гору, увидел там дверь – совершенно такую же, как в доме колдуньи, вошел в эту дверь и через минуту выбрался на улицу своего города и пошел к себе домой.
Он никого там не обнаружил, нашел только многодневную пыль и засохшие цветы. Кроме того, со стены исчез портрет Анны, а из ящика стола все ее фотографии.
У волшебника сильно билось сердце, как от страха.
Он помчался в больницу, нашел санитара, угостил его хорошей сигаретой и узнал много нового: оказывается, семья той молодой женщины, которая попала в автокатастрофу, заявила жалобу, что им подсунули совершенно не того человека, и они прекратили сидеть у постели больной, как только с нее сняли бинты.
Мало того, ее муж тут же нашел себе другую и увез ее.
В жалобе было указано, что больная целиком и полностью не похожа на их больную – ни лицом, ни фигурой.
Эти люди ушли очень быстро и даже не узнали, что пациентка почти слепая: именно поэтому она не узнала своих детей и мужа, и ее тоже никто не пожелал узнавать.
– А где она? – спросил волшебник.
– Да кто ее поймет, – ответил санитар, – ее выписали два месяца назад… Говорят, она сама не знала, куда идти, все твердила про какие-то сны, что нужно искать сад и библиотеку… Повредилась в разуме, что ли… На другой день она вернулась и стояла около кухни, и я вынес ей каши с хлебом… Но нам же нельзя кормить посторонних. Больше она не приходила.
Волшебник мчался домой, к своим книгам, и твердил: я не знаю ее, я ее не люблю, не люблю!
Он прибежал к себе в библиотеку, раскрыл нужную книгу и начал читать, и прочел про скамейку в соседнем парке, про женщину в мятой, грязной одежде, которая медленно копалась палочкой в урне, про то, как она близко поднесла к глазам корочку хлеба, разглядела ее и так же медленно, машинально положила в карман…
– Я ее не люблю, – громко сказал волшебник, – я могу ее вылечить!
Он схватил хрустальный шар и послал в самую его середину луч света. В центре шара задымилось, показалось дерево, под ним скамейка, на скамейке, спиной к волшебнику, скорбная, застывшая фигура с палочкой в руке…
Но все погасло.
Он опять послал луч света в свой шар.
– Не может быть, все должно получиться! – закричал волшебник. – Я ее не знаю! Я ее просто жалею, ничего больше!
Внутри шара опять задымилось – и погасло. Тогда волшебник схватил со стула шаль Анны, ее желтую шаль, которую она сама, своими руками когда-то связала и которую не взяла с собой в другую жизнь, потому что перестала быть Анной.
Волшебник помчался в парк и нашел ту скамейку.
Он накинул желтую шаль на плечи совершенно чужой женщины, и она, обернувшись, подхватила шаль знакомым движением своей худой, бледной руки и так подняла брови и с такой жалостью и добротой посмотрела на волшебника, что он заплакал.
Но она его не разглядела, а протянула к нему руку и погладила по щеке.
– Не знаю, как тебя звать, но это неважно, – сказал волшебник.
– Мария, – ответила ему Анна своим тихим голосом.
– Пойдем домой, – сказал волшебник. – Здесь сыро, ты простынешь.
И они пошли домой.
Дедушкина картина
У одной девочки напротив кровати висела картина, на которой было изображено солнышко, трава, лес и цветы. И глубокой зимой, когда до весны еще так далеко, девочка перед сном смотрела на эту картину и мечтала о лете.
Но вот однажды она как-то вечером, уже уложенная спать, любовалась в полудреме своей дорогой картиной и вдруг услышала, что кто-то плачет.
Девочка как была, в пижамке, выскочила из спальни и появилась в большой комнате, где при свете одной свечи сидела вся семья: мама рыдала, папа курил, а бабушка находилась на диване с мокрым полотенцем на лбу.
А на столике стоял маленький приемник, и по нему кто-то говорил, что страна переживает трудности, что надо приготовиться к тому, чтобы экономить и экономить, что над нашей территорией нависло облако непроницаемого вещества и солнце больше никогда не появится: будет вечная зима, зима и еще раз зима. Так что все усилия надо направить на сбережение отопления, потому что леса больше не будут расти и реки все как одна вымерзнут. Наступает Великая Зима с большой буквы. Таковы выводы ученых.
Взрослые увидели девочку, и бабушка взяла ее на ручки и понесла обратно в кровать.
– Бабушка, – сказала девочка, – что случилось?
– Когда-нибудь этим должно было кончиться, – сердито отвечала бабушка, укладывая внучку. – Если все время врать, притворяться, за глаза говорить гадости, всех ненавидеть и всем завидовать, ругаться с родней, если не прощать друзьям ни малейшей удачи, если воровать и убивать, то это еще довольно слабое наказание всем нам.
– И что же теперь будет? – спросила девочка.
– Жалко, жалко людей, и особенно стариков и деток – они слабые, они сами за себя не отвечают. Но и им придется очень тяжело, как всем, они тоже завидуют и не прощают.
– А мы кому-нибудь тоже завидуем?
– Да кто без греха! В нашей семье тоже были завистники. Охо-хо…
– В нашей семье? – переспросила девочка.
– Да. Моему дедушке-художнику один колдун предсказал, что он будет жить вечно. Там было непонятно, в этом предсказании – то ли он никогда не умрет, то ли он вечно будет жить в своих картинах и в памяти людей. И представляешь, сразу же нашелся у нас завистливый родственник, троюродный племянник, который сказал, что жить в памяти людей может и большой разбойник, это не проблема.
– Как это? – спросила девочка.
– Как: жестоко убил миллион человек и остался в истории.
– Как это можно? – спросила девочка.
– Можно. Можно и сорок миллионов убрать, – вздохнув, сказала бабушка. – Бывали случаи. Работали даже фабрики смерти.
Девочка молчала, ничего больше не спрашивала. Когда лежишь клубочком в уютной постели, а рядом любимая бабушка, хочется закрыть глаза и ни о чем не думать.
А бабушка рассказывала дальше:
– И вот этот наш племянник сказал: «А вот пожертвовать собой, причем безымянно, тайно, – это и есть вечно жить. И на это способны только истинно великие души».
– А что такое жертвовать собой? – все-таки спросила девочка. Она мало что поняла из этого длинного рассказа.
– Да, и наш дедушка тоже спросил то же самое: как я могу пожертвовать собой? Что, я должен буду броситься с высокой скалы? И кому от этого будет польза?
– А что ответил этот племянник?
– Он сказал, что не знает. Но что есть люди среди нас, которые тихо и никому ничего не говоря жертвуют своей жизнью ради других. И назвал тетю Ваву. Тетя Вава – древняя старушка, одинокая и всеми забытая. Все тогда вспомнили, что она действительно вечно сидела у постели парализованных и тоже всеми забытых стариков. И этот троюродный племянник как раз сказал, что такие люди могут спасти страну от Вечной Зимы.
– А где теперь наш дедушка?
– Он уже умер. Кстати говоря, предсказание не сбылось, он не стал великим художником, у него была огромная семья, все эти мои дядья и тетки, и он должен был их кормить.
– С ложечки? – спросила девочка. – Они что, не хотели есть? Большие тети и дяди? Отказывались от завтрака?
– Ох, нет, – ответила бабушка со смехом. – Они-то как раз хотели есть и пить, одеваться во все новое и так далее. И они просили у деда деньги. И он им давал. Это и называется «кормить».
Девочка уже засыпала, но сказала:
– И что?
– Спи, я тебе буду рассказывать сказку нашей семьи. Ну и вот, и дедушка поэтому перестал рисовать для себя, что хотелось ему самому, а рисовал по заказу портреты, за это хоть платили. У него был, наверно, настоящий талант.
– Талант? – во сне спросила девочка.
– Да. Ему давали маленькую фотографию с паспорта, а он рисовал большой портрет на фарфоровой тарелке, а потом обжигал в печке, и портрет мог жить вечно. Получалось и очень похоже, и красиво. Он жалел людей и старался, чтобы они выглядели получше. Его работ много на нашем кладбище. Там настоящий музей дедушки. Как-нибудь мы с тобой пойдем, когда будет потеплее. Хотя потеплее уже не будет…
– Ты не беспокойся, мне тепло, – предупредила девочка, открывая глаза.
– Вот и прекрасно. Ну что дальше. Так вот, о моем дедушке. У него совершенно не было времени рисовать то, что он хотел. Только один раз в жизни, уже стариком, он обиделся на своего старшего сына.
– За что?
– Старший сын пришел к нему и предложил, чтобы дед перебрался в дом для престарелых, а то все дети разъехались и некому за ним присматривать.
– Куда, в какой дом? Плесталелых?
– Престарелых. Ну, это такой дом, где за стариками ухаживают, кормят их с ложечки.
– Я не люблю с ложечки, поняла, бабуля!
– Ну вот видишь, а наш дед тогда сказал: «Я сам за собой могу прекрасно ухаживать, вы мне не нужны», и он выгнал этого сыночка с криком, а потом заперся на месяц в своем доме и даже не подходил к телефону. Дети его заняли позицию на другой стороне улицы и по очереди приезжали смотреть, горят ли вечером окна. Они дежурили весь этот месяц и очень беспокоились. Потом заметили, что он рисует, глядя из окна подвала: там была его мастерская. Ведь всегда все комнаты получше занимали его дети, а он привык жить и работать где похуже. И вот там, в подвале, он и написал твою любимую картину с солнышком, цветами и лесом… А потом вышел на порог и умер.
– Бедненький дедушка, – сказала девочка. – Бабушка, вытри глазки, я никогда не умру, понятно?
– Спасибо, дорогая. Но ведь других тоже жалко, они-то умрут, наступает Вечная Зима. Они-то не спасутся. Вот что. И папа, и мама…
– Бабушка, а как можно спастись от Вечной Зимы? – спросила, окончательно забеспокоившись, девочка.
– Этот племянник, он говорил, что если найдется какая-нибудь чистая душа и захочет пожертвовать собой или делом всей своей жизни для людей – то тогда можно еще что-нибудь будет придумать. Но что-то никого не видно вокруг, кто бы захотел отдать ради своего соседа хоть копейку!
– А что такое дело всей своей жизни? – спросила девочка.
– Ну, свою самую лучшую картину или написанную собственноручно книгу. Или построенный своими руками дом… отдать кому-то… Он непонятно выразился, этот племянник.
– И никто не захотел?
– Ну, тогда еще не было опасности Вечной Зимы, то есть она была, но когда-то в будущем… Так что ложись спать, дорогая моя, и думай прежде всего о себе – может быть, как-то удастся уехать из этой трижды проклятой страны в теплые края…
– А куда? – спросила девочка вся в слезах: ей было жалко всех.
– Ну, например, – ответила задумчиво бабушка, – например, в Африку. Хотя там тоже не все хорошо. Моя двоюродная бабушка когда-то жила в Африке – она была замужем за царем.
– Потрясающе! – воскликнула девочка. – Я тоже хочу! Она была царица?
– Сначала нет. Сначала она училась с ним вместе в институте, а потом он открыл ей секрет, что он царь и у него царство в джунглях. И она решила стать царицей и вышла за него замуж. И она писала нам из Африки письма, что живет в центральном шалаше царства и все ей кланяются и носят ей в корзинах земляные орехи и сладкий картофель, остается только это все почистить и поджарить на костре. И не надо мыть посуду, потому что ее нет. И нет проблем со стиркой. Новую юбку можно сделать из листьев пальмы, а старую просто кладешь в костер. Хоть три раза в день.
– Здорово! – сказала девочка, сразу утешившись. – Поехали туда!
– Так что мы гордились, что стали царской семьей.
– Мы – царская семья? – прошептала девочка.
– Погоди. Ну вот. Ее называли «наша царица», но потом оказалось, что она сто пятнадцатая жена у этого царя, а через месяц он выписал себе из Китая сразу сто шестнадцатую – сто двадцать шестую царицу. Кроме того, выяснилось, что весь город, все шалаши, все население – это были тоже его жены, мамы-папы жен, дедушки-бабушки жен и дети. Царское село. Поэтому эта моя двоюродная тетя сбежала оттуда с первым попавшимся шофером, но и его обманула, а нанялась на корабль до Аляски. И там отправилась в тундру, пасти северных оленей: так ей надоела жара.
– Аляска, где это?
– Это север! Вот, кстати, куда нам надо всем перебраться: там и так вечная зима, и они прекрасно живут. А то здесь мы окоченеем всем скопом, – вздохнула бабушка. – Потому что никто не хочет никому отдать ничего, даже долг!
– Бабушка, а разве твой дедушка-художник не захотел бы отдать какую-нибудь из своих картин, чтобы не было Вечной Зимы? – спросила девочка.
– По правде сказать, он нарисовал только одну настоящую картину, вот ту самую, она теперь висит напротив твоей кровати. Как же можно отдать единственное, что есть у человека?
– Нельзя, да? – удивилась девочка.
– Понимаешь, он говорил, что вот в этой картине он как раз будет жить вечно. И уж он никогда бы не отдал никому и ни за что эту картину. Он сказал, что, даже если наступит Вечная Зима, на этом холсте останется вечное лето. Он, кстати, предсказывал, что будет Вечная Зима. И люди тогда начнут изучать солнце и лес по его картине. Особенно когда Вечная Зима распространится на весь мир и больше не будет электричества и телевидения.
– А так может быть?
– Конечно! – воскликнула бабушка. – Вечная Зима – она заразна, как болезнь. Облако растет и закроет собой всю Землю!
– Как страшно, – заметила девочка.
– Ну, тебя это не коснется, облако растет медленно. Может быть, только твои дети не увидят лета… Или даже внуки… Так что ложись и спокойно засыпай, а мы уедем в Африку. Я там выйду замуж за царя и всех вас обеспечу!
И бабушка печально засмеялась.
А девочка притворилась, что заснула.
И когда бабушка ушла, девочка спустилась в подвал в кромешной темноте.
Она очень боялась тьмы и холода, но для того, что она задумала, как раз это и было необходимо: мрак и стужа.
Девочка шла по подвалу, вся дрожа, и остановилась там в середине (как ей показалось) и сказала:
– Дедушка! Я знаю, ты вечно живешь в своей картине! И ты меня слышишь. Дедушка! У меня нет дела всей жизни, а есть только моя жизнь! Я спокойно могу ее отдать. Пусть все живут при солнышке!
Потом она легла на холодный каменный пол (ей часто говорили, что если лежать на холодном камне, то заболеешь и умрешь).
Она лежала, вся дрожа, на спине, и вдруг заметила тонкий лучик света, как будто в стене открылась щель.
Тогда девочка вскочила, подошла к этой полоске света, дотянулась до нее – и немедленно на том самом месте распахнулось маленькое окно.
Там, наверху, за окном, был солнечный день, зеленела трава, качались цветы, вдалеке темнел лес – все точно так же, как на картине в девочкиной комнате.
Девочка подтянулась на руках и прыгнула в летний день.
Тут же она поняла, что очутилась в раю, и рай ей очень-очень понравился, тем более что тут же был ее родной дом.
Девочка побежала вокруг дома и увидела перед дверью бабушку, папу и маму.
Бабушка стояла с корзинкой клубники, мама с огородной тяпочкой в руке, а папа у велосипеда.
– Мама, бабушка, папа, мы в раю! – закричала девочка.
– Ой, как это ты выскочила из постели, врачи тебе еще не разрешают вставать! – закричала бабушка. – А ну, пошли в дом!
Бабушка отвела девочку в ее комнату и уложила в кровать.
В комнате была новость – со стены исчезла дедушкина картина.
– Бабуля, а где картина? – тут же закричала девочка.
Бабушка, подоткнув одеяло внучке, ответила:
– Ты знаешь, полгода назад тебя ведь нашли почти мертвую на полу в подвале, ты там замерзла. В этот день по всей стране отключили отопление ради экономии. Я нашла тебя там только утром – мы всю ночь слушали радио в большой комнате и думали, что ты спишь, идиоты!
– Полгода назад?
– Да, ты болела полгода! Сейчас уже июнь, а был-то декабрь!
– Я не болела ни единой секунды! – сказала девочка.
– Ты просто была без сознания. Так вот, когда ты уже почти умерла, вдруг со стены сорвалась эта картина нашего дедушки. Она разбилась в мелкую пыль – даже не осталось рамы, которую дедушка вырезал сам. И ты тут же крепко заснула и спокойно задышала, и я в первый раз тоже заснула спокойно…
– Бабушка, значит, наш дедушка все-таки решил пожертвовать делом всей своей жизни, – серьезно сказала девочка. – И он спас всех от Вечной Зимы…
– Ну не говори глупостей, – рассердилась бабушка. – Как раз когда рухнула со стены его картина, ученые выступили по радио и признали, что Вечная Зима – это ошибка в расчетах и ничего такого быть не может. И в этот день началась весна и тебе стало полегче. А во‑вторых, наш дедушка давно помер и ничего уже отдать не мог…
– Но он же сказал, что будет вечно жить в своей картине.
И бабушка ответила:
– Вообще-то он был такой необыкновенный человек, наш дедушка…
А на стене, где раньше висела картина, шевелились солнечные зайчики и тени зеленых листьев, и казалось, что стена живая, дышит и смеется от радости.
Две сестры
В одной квартире жили две сестры, они жили очень бедно. На обед варили картофель, на завтрак съедали по куску хлеба и выпивали стакан кипятка. Они были очень худые, но аккуратные. И все у себя в доме держали в чистоте. Каждый день они выходили в магазин, и это для них было захватывающее приключение на много часов. Кроме этого, обе были записаны в библиотеку и аккуратно раз в неделю меняли книги.
Одевались они тоже очень аккуратно, сами себе вязали кофты и теплые носки, варежки, шарфы и береты. А нитки добывали из старых шерстяных вещей, удивляясь, как много выкидывают некоторые люди на помойку. Короче говоря, их дни были заполнены до отказа. Иногда они что-нибудь находили во время своих прогулок: то кипу старых журналов со всякими полезными советами, выкройками и медицинскими рекомендациями, как что лечить, а то и какой-нибудь почти новый ящик, деревянный и прочный. Сестры очень любили ящики и каждый раз, принеся домой находку, долго вычищали новый ящик и решали, куда его поставить: под стол, на шкаф или на балкон. У них уже было много ящиков и существовал целый план, как из этих ящиков сделать красивые полки для разных вещей в прихожей.
Однако все меняется, и старшая сестра, которой было восемьдесят семь лет, заболела. Врач все не приходил, и младшая сестра, которой было восемьдесят пять лет, сидела у кровати и перебирала в коробке из-под туфель разные старые лекарства, оставшиеся еще от мамы и бабушки и от детей: какие-то безымянные порошки в пакетиках, какие-то мази в облупившихся тюбиках и уже пустые бутылочки и флакончики.
Старшая сестра умирала, это было видно. Она тяжело, хрипло дышала и ничего не могла ответить. Младшая сестра, ее звали Лиза, отчаянно перебирала порошки и мази, надеясь найти что-нибудь против старости, ибо врач на прошлой неделе сказала, что больная умирает от старости и что старость – тоже болезнь. Лиза бестолково рылась в коробке и плакала, а Рита, старшая сестра, дышала все реже и наконец замерла, глядя в окно. Лиза закричала от горя и помазала остатком какой-то мази полуоткрытый рот сестры, потом испугалась, что эта мазь может быть ядовитой, и помазала и свой рот, чтобы уйти вместе в случае чего.
В тот же момент, когда мазь начала таять на губах у Лизы, она как будто бы заснула. Во сне ей виделись какие-то люди в черном, которые падали с потолка и исчезали под полом. Они летели, как снег, их было очень много, но вдруг воздух очистился и Лиза проснулась. На кровати лежала чужая девочка в огромной ночной рубашке Риты и таращила глаза.
– Девочка, – сказала Лиза, – ты что тут улеглась? Тут тебе не место таращить глазки! Тут тебе не шутки! Где моя Рита?
– Девочка, – ответила та девочка тонким и вредным голосом, – ты как здесь оказалась, ты чего здесь делаешь? Где Лиза?
– Какая девочка? – сказала Лиза. – Я тебе не девочка!
И она потянулась, чтобы схватить ту девчонку за руку. И вдруг Лиза увидела, что из ее темного старушечьего рукава высунулась маленькая белая ручка с розовыми ногтями! Чья-то рука высунулась из ее собственного рукава! Лиза страшно испугалась. Она втянула эту чужую руку обратно в свой рукав, рука втянулась. Одежда Лизы как будто опустела, повисла на ней, как чужая.
Бедная Лиза закричала: «Что вы со мной сделали?» А девочка на кровати закричала: «Убирайся немедленно отсюда!» И стала пинать Лизу ногой в Ритином сером шерстяном носке, который Рита сама связала. Старушки ведь на ночь надевают носки. И Лиза в последний раз этой ночью надела шерстяные носки на холодные ноги умирающей Риты.
Лиза онемела от гнева и стащила Ритин носок с этой нахальной девчонки.
Девчонка же вцепилась в носок и заорала:
– Это мой носок!
– Это Риточкин носок, – закричала Лиза, – она сама его вязала, он штопаный, он Ритин!
Девчонка заорала:
– Я его вязала, я штопала, ты что? Я Рита.
– Ты Рита?
– Я-то Рита, а вот ты кто, дрянная девка?
– Я Лиза! – воскликнула Лиза.
Тут они, конечно, подрались, а потом заревели, а потом Лиза сказала:
– Я поняла, я Лиза, а ты Рита! Ты не умерла, Рита?
– Конечно, нет, – сказала Рита. – Вчера ты плакала, а я слышала и знала: напрасно она плачет. Я не умру, я это знала.
Лиза спросила:
– А ты чувствовала, что я мажу тебе рот мазью?
Рита ответила, что, разумеется, чувствовала. И это была самая большая гадость в ее жизни. Во рту горел огонь, потолок начал уходить в пол, посыпались какие-то черные люди.
– Да, да, да! – закричала Лиза. – Я тоже помазала губы себе этой мазью и тоже почувствовала, что это самая большая гадость в моей жизни!
– Где эта мазь? – спросила Рита. – Надо ее сохранить! Ты понимаешь, о чем идет речь?
– Да, – ответила Лиза, – но там ее очень мало оставалось.
– Вот если бы ты ошиблась и намазала бы мне рот погуще, я бы вообще в пеленках валялась, как дура, – сказала Рита. – Хорошо, нам сколько теперь лет?
– Мне, наверно, двенадцать.
– Мне, я чувствую, тринадцать с половиной. Я уже почти взрослая, – сказала Рита.
– А мама с папой как же? – со слезами в голосе спросила Лиза. Она как младшая была самой большой плаксой, и ее больше всех любили родители.
– Ну что мама с папой? – рассудительно ответила Рита как старшая. – Где я тебе опять возьму маму с папой, чтобы они тебя, как всегда, баловали. Мама с папой ты знаешь где. На кладбище уже тридцать пять лет.
Лиза начала плакать о маме и папе. На душе у нее было мрачно и печально, а за окном светило солнышко и летали птицы. Рита стала как старшая прибирать в комнате, а юбку свою подвязала поясом, потому что юбка с нее падала.
Лиза смотрела вся в слезах на Риту и думала, что опять Рита старше, опять она начнет командовать и не давать проходу: руки мой, кровать убирай, за картошкой иди. Маму-папу слушайся. И тут Лиза вспомнила, что мамы и папы нет, и прямо завизжала от горя. Рита подняла с полу коробку с лекарствами и стала искать в ней мазь. Лиза все плакала. Рита не нашла мазь и расстроилась до слез. Они сидели каждая в своем углу и плакали.
– Я не хочу с тобой жить, вредная Рита, – сказала наконец Лиза.
– Я-то, думаешь, хочу? Я тебя все восемьдесят пять лет твоей жизни приучала к порядку и не приучила. Куда ты засунула мазь, ты не знаешь, что это за мазь, ведь мы могли бы быть молодыми, вечно прекрасными, вечно семнадцати лет!
– Ага, тебе-то будет семнадцать, а мне еще пятнадцать, причем вечно, а я не хочу! В пятнадцать лет все тебе делают замечания, в пятнадцать лет, я помню, я все время плакала.
– Но ведь жизнь опять промелькнет как сон, – заметила Рита.
– Все равно мази нет, – сказала Лиза. – Лично я хочу вырасти, выйти замуж, родить детей.
– Охо-хо, – сказала Рита, – все снова-здорово: болезни, роды, стирки, уборки, покупки. Работа. На улице то демонстрации, то митинги, не дай бог опять война, – зачем все это? Все любимые наши давно там, и я бы хотела быть с ними.
– А что бы я без тебя делала, одинокая больная старуха! – снова заплакала бедная Лиза, вытирая маленькой ручкой слезы и сопли своего курносого носа. – Кто бы пожалел бедную старуху, кто бы ее похоронил? – ревела она.
А Рита тем временем все искала и искала волшебную мазь.
Однако ближе к ночи сестры сварили себе по картошке. Причем ели с отвращением и картофельный суп с луком, и пюре на второе, и кефир на третье. Очень хотелось пирожного, мороженого или конфет, в крайнем случае хлеба с сахарком.
– Как это мы могли есть такую бяку? – сказала Лиза, не доев картошку.
– А что делать? Пенсии-то маленькие.
– А зачем нам семнадцать ящиков? – спросила Лиза.
– Мы же хотели сделать прихожую, ты помнишь, полки?
– Да ну, – сказала Лиза, – какая-то противная квартира, нищета какая-то, никого невозможно пригласить в гости. А куда куклы-то подевались?
– Да ты помнишь, наша внучка-то три года назад…
– Ах да, она в последний раз приезжала и выкинула все старые игрушки, в которые когда-то сама играла.
– Мы берегли для ее деток, берегли, она приехала и выкинула.
– А мой велосипед? – спросила Лиза.
– Его разобрал твой внук, хотел собрать из него автомобиль, но потерял какой-то винтик.
– Ах да, он еще сломал нашу швейную машинку. Ах да.
– Милые детки, – сказала Рита. – Вот они удивятся, что вместо двух старушек у них появились две девочки-бабушки?
– Они нас не узнают, – сказала Лиза. – Они нас выкинут из квартиры и начнут вести следствие, кто убил старушек и живет вместо них, ты представляешь?
– Да! А как теперь почтальон нам отдаст старушкины пенсии?
Тут девочки всерьез забеспокоились. Пенсию принесет знакомая почтальонша. Рита получала пенсию через два дня, а Лиза через неделю. Надо было что-то предпринимать.
Теперь вопрос, как выглядеть перед соседями. Соседи были люди очень активные. Все время то слушали музыку, то ругались, то роняли посуду, то их дети сидели на лестнице, курили и громко разговаривали на таком языке, от которого у старушек закладывало уши, темнело в глазах и прекращалось всякое понимание. И так, ничего не понимая, старушки уходили в магазин, в парк, в библиотеку и возвращались в подъезд, где на лестнице очень плохо пахло, воняло дымом, как после пожара, и шел громкий разговор молодежи на непонятном языке.
Девочки Рита и Лиза стали думать, как быть.
Можно, конечно, уходить в парк или библиотеку допоздна. Но молодежь, что самое опасное, именно на ночь глядя созревала для решительных дел, и по утрам в подъезде очень ругалась уборщица, которая вообще приходила, только когда имела свободное время (а кто в наше время его имеет?). Уборщица приходила тогда, когда жильцы писали жалобы в городскую газету, а также в правительство.
Сестры и так до своего волшебного преображения жили как возле вулкана. Соседские дети очень следили за старушками и время от времени взламывали их квартиру. Дело кончалось плачем старушек, приходом милиции и констатацией того факта, что «ничего не украдено, только приходили попить водички, а ваше барахло нам ни к чему». Составлялся акт, и еще долгое время проходы старушек через подъезд на улицу сопровождались громким искренним смехом детей.
Лиза и Рита притихли. Если бы они жили на первом этаже, можно было бы выходить через окно. А они жили на шестом. Девочки представили себе, что будет, если они выйдут на улицу.
Исключение составляло раннее утро. К утру все компании обычно уставали и разбредались. В пять утра, это было проверено, они все спали.
Но возвращаться нужно было не позже девяти. В девять утра часть детей уже была в школах, а та часть, которая прогуливала, еще спала. Те же, кого судьба в виде непреклонных родителей выгоняла на улицу идти в школу, держались первые два часа подальше и от школы, и от дома.
Надо было также избегать и взрослых. Обычно все в подъездах волей-неволей знают соседей, особенно с годами, а дом стоял уже тридцать лет. Лиза и Рита получили эту квартиру после того, как их, еще сравнительно молодых женщин, пятидесяти пяти и пятидесяти семи лет, выселили в новый район. А в их прежнем доме устроили сначала ремонтную контору, а потом вообще ничего, а теперь там был сквер и песочница. Лиза и Рита еще были тогда счастливы, что их поселили в доме с лифтом и с балконом, но все тридцать лет их донимали люди, которые обязательно хотели переселить сестер в еще худшие квартиры или вообще в другой город, чтобы самим жить именно в этой удобной квартире с балконом и лифтом. Эти люди постоянно пытались навещать бабушек, особенно когда пронюхали, что Ритины дела плохи. Разумеется, эти люди предлагали бабушкам деньги, и очень большие. Бабушки же привыкли к своему новому жилью и к двум милым чистым комнаткам окнами в садик, к балкону, на котором они гуляли, то есть дышали воздухом, когда нормальным человеческим путем уйти из дома было уже нельзя. Тогда-то старушки придумали еще и корзиночную почту. Та, что дома, спускает из окна корзинку на веревке, а та, что внизу, кладет туда покупки. Это на случай, чтобы соседские дети не обобрали по дороге к лифту, в лифте или же на выходе из лифта. Идти пешком вообще не представляло тогда смысла, да и последние десять лет не по силам. Шутка ли, шесть этажей, да еще соседские деточки, не голодные, но любопытные.
Кроме того, вставал вопрос об одежде. Невообразимо было ходить в том, в чем ходили в последнее время Рита и Лиза, в этих аккуратно залатанных, но уже редких, как решето, юбках. Причем Рита и Лиза надевали их по нескольку, одна на другую, для тепла и прочности. Кофты-то были свои и своей вязки, шерстяные. Рита даже умудрилась построить зимнее пальто: перед вязаный, спинка суконная, воротник тоже вязаный, а рукава суконные, но манжеты опять-таки вязаные. Сестры считали это их общее зимнее пальто последним криком моды. Они видели, каким завистливым взглядом провожают их старушки из очередей и со скамеек. Сестры носили это пальто по очереди, по праздничным дням. А дети давились от смеха, глядя на старушек. Дети просто плакали от смеха.
Бабушкам приходилось тяжело, но это было ничто по сравнению с тем, что ожидало их, двух теперь маленьких девочек.
Рита с Лизой беседовали всю ночь, пустив в кухне для шума воду из крана.
Раньше, когда они были детьми, они ссорились, играли, сплетничали. Рита воспитывала Лизу. Лиза сопротивлялась. Кругом были взрослые, которые не разрешали поздно приходить, болтаться с кем попало и приносить плохие отметки. Времена были суровые, голодные. Однако папа и мама хоть и голодные, но тоже были суровые. Папа и мама держались всегда вместе, потому что были времена, когда судьба их разлучала, и поэтому они молча и крепко держались друг за друга и как будто бы вели все время безмолвный разговор, прерывая его затем, чтобы сказать что-нибудь девочкам. Папа с мамой и умерли с разницей в день, словно спелись. Они хотели умереть вместе, но не получилось. Мама умерла через сутки, полежала-полежала и не проснулась. На похоронах люди говорили, что старикам повезло и что такое бывает только в сказках: жили счастливо и умерли в один день. А все равно не в один же момент умерли эти счастливые якобы люди. Кто-то успел увидеть и понять, что остается один, и кто-то плакал.
Девочки совещались до утра.
Они сказали друг другу, что все хорошо, все прекрасно. Они молоды, они еще совсем маленькие, они умные, они не дадут себя в обиду, они будут закаляться и заниматься гимнастикой и борьбой. Мало ли школьных кружков. Одна будет шить и зарабатывать на жизнь, раньше ведь шила. Надо будет сходить по помойкам, некоторые выкидывают старые швейные машинки. Другая научится выращивать на балконе цветы. Земли кругом полно, и ящики пригодятся, а семена можно собрать по паркам. Надо только научиться лазить по канату, и тогда проблема соседей отпадет сама собой. Много планов составили две живые девочки. Один раз даже поссорились, поругались и поцарапались, но дети есть дети – в конце концов они помирились и договорились насчет получения пенсии и почтальонши, что Рита ляжет в постель под гору одеял и замотается шарфом до неузнаваемости, а подписываться будет рукой в перчатке. А Лиза будет при ней дежурной девочкой из школьного клуба милосердия. А в другой раз будет все наоборот.
Все можно устроить, ко всему привыкнуть, говорила Рита, а Лиза при этом добавляла, что хорошо, что внуки совершенно не навещают, а дети и сами старики, им тоже не до визитов. А телефона в доме нет. Как хорошо, что все так совпало.
Кончилась ночь, загалдели дети под окнами, собираясь в школу, а Рита и Лиза забрались на свои кровати и заснули.
Утро, тем не менее, наступило, солнечное, прохладное. На завтрак у девочек было по одному куску хлеба и по стакану кипятка с ромашкой. Затем обе девочки стали думать, как одеться в такой солнечный день. Немыслимо было надевать по три юбки и шерстяные кофты. Рита, однако, вытащила еще довольно крепкие простыни, подумала, достала кипу старых журналов, в которых можно было сориентироваться, что сейчас носят дети и молодежь.
– В жизни не надену такой позор, – закричала Рита.
А Лиза смотрела во все глаза и представляла себе юбку и блузку, все белое и все с кружевами.
Лиза кинулась к старым чемоданам в кладовку, все вытащила, глаза ее сверкали, сердце билось, руки были ледяные. Лиза долго рылась, пока не вышла Рита и не увидела кавардак на полу.
– Вот, – сообщила Лиза и протянула Рите комок лент и обрывки кружев, а Рита стала громко кричать, собирать с полу лоскутки, тряпочки, вещички, все детское, все никому не нужное, ползунки, пеленки, чепчики размером с апельсин, кофточки с зашитыми рукавами, все, что оставляли внуки, внучки, правнуки и что, думали старушки, пригодится праправнукам.
Конечно, при этом Лиза и Рита покричали друг на друга, однако до позднего вечера они все шили и шили, и Лиза сшила себе блузочку с кружевом, а Рита строгое платье из простыни с отделкой из ленточек от бывшего чепчика. Ленточки, когда-то голубые, давно стали серыми. Но серое с белым – это тоже изящно.
Короче говоря, к ночи сестры были одеты, оставалась проблема с обувью. Хорошо, что в старухах Лиза и Рита берегли все для черного дня, не выкидывали ни валенок, ни калош, ни сандаликов, ни сапог. Все это, правда, лежало давно, слежалось, помялось. Но, к счастью, для Риты нашлись туфли, немного стоптанные, спортивного типа, модные лет пятьдесят назад, а для Лизы сандалии, совсем новые, но спрессованные и плоские, как блины. С большим трудом Лиза натянула сандалии на свои маленькие ножки и снова была поражена тем, какие тонкие ноготки у нее теперь на маленьких белых пальчиках.
– Как прекрасна молодость, – вздыхала тем временем Рита, глядя на себя в зеркало. (У них сохранилось одно отколотое сбоку зеркало, которое их немолодая внучка подарила как-то бабушкам на день рождения. Родственники иногда дарили старухам вещи, привозили порой даже целые рюкзаки.) Девочки еле-еле дождались утра, съели по куску хлеба, выпили кипятку с прошлогодней мятой и пошли быстрыми шагами вон из дома. Стоял месяц май, дети или спали, или прогуливали, или маялись в школах. И старушки почти бегом выбрались на улицу. Была огромная проблема с транспортом, так как раньше бедных старух никто не спрашивал насчет билетов, пускали даже в метро. А контролеры обходили их, как зараженные радиацией места. Сестры решили, однако, пешком сходить в библиотеку, обменять книги.
Долго сидели они, нарядные, во всем белом, в сквере, среди голубей и садовых рабочих, пока не открылась библиотека. Но и тогда они пошли не сразу. Рита сообразила, что они обязаны быть в школе. И если прийти в библиотеку раньше, как они привыкли, библиотекарша спросит, почему прогульщицы так свободно ходят по городу.
Девочки сидели в сквере, куда постепенно стекались бабушки с внуками и молодые мамы с детьми. Мамы сидели на скамейках и разговаривали, время от времени дико вскрикивая: «Куда полез?» или «Галина, встань немедленно!». Бабушки держались около своих внуков, как конвойные при арестантах, рядом с качелями создалась небольшая очередь из бабушек, ревнивая и строгая к соблюдению очередности.
И даже если внук уползал к песочнице, лелея другие планы, бабушки все равно, когда подходил их черед, насильно сажали своих подконвойных на качели.
– Какие глупые, – заметила Лиза.
А Рита не ответила. Жизнь представлялась ей сложной до невозможности. Как прожить каникулы? Это еще ничего. Как потом не учиться? Обратят внимание. Учиться – это значит быть у всех на виду. И зачем учиться? Лиза и Рита были начитанные старушки. Но химия, физика и особенно математика вызывали у них даже в детстве глубокую зевоту.
Сестры пришли в библиотеку днем, когда совсем проголодались и в их животах урчало. Библиотекарша книги приняла и даже разрешила выбрать новые – якобы для опекаемых и больных старушек. Операция прошла удачно. Но вместо обычных Диккенса и Бальзака сестры вдруг взяли: Лиза – сказки Гауфа, а Рита – итальянский роман «Влюбленные». На обратном пути Лиза выпросила у Риты пачку самого дешевого мороженого. А потом они, не сговариваясь, свернули в парк и вдвоем слизали это мороженое, глазея на пруд с лодками.
– Лодки, – сказала Лиза.
– Послезавтра моя пенсия, – ответила Рита. Вздыхая и вспоминая вкус мороженого, сестры смотрели на пруд, а вечер неумолимо приближался. Рита опомнилась первой:
– Надо бежать домой, скоро шесть, в семь они все выползают во двор. (Имелись в виду дети.)
И сестры помчались что есть духу и успели. Во дворе пока что гуляла самая мелкота, приведенная из садика и яслей, на свежем воздухе дети носились, орали, плакали, а на скамейках плотно сидели родители, и полные сумки стояли у их ног.
Время подростков уже наступало, когда Рита и Лиза вбежали к себе в квартиру и заперлись на ключ, засов и на цепочку.
У Риты на вечер был большой план: связать из найденных лоскутков новый половик под дверь, Лиза же умоляла сшить ей из этих лоскутков юбку. В драке победила Рита.
На ужин был кефир, который Лиза пила ревмя ревя, а Рита – прижимая к себе старую наволочку, полную лоскутков.
– Мне нечего носить, – всхлипывала Лиза. – У меня ни часов, ничего. Ни велосипеда. Ты посмотри, кто на улице?! Они все с часами и все катаются. Я не видела детства, у меня не было его. У всех девочек подруги и знакомые. У меня же только ты.
– Интересное детство в восемьдесят пять, – сказала Рита.
Лиза подавилась кефиром и замолчала.
– У тебя была прекрасная старость, – сказала Рита. – И довольно с тебя.
– У меня прекрасная? Вся моя старость прошла под твою дудку! – завопила Лиза. – Я сбегу от тебя. Я больше не хочу еще раз стариться у тебя в подручных.
Рита ответила:
– Если ты сбежишь, то обязательно попадешь в детский дом. А ты знаешь, что там хорошего для девочки твоего возраста?
– Там, по крайней мере, много ребят, – отвечала Лиза, – там, по крайней мере, кормят, и там школа. Да, я поняла, куда мне надо!
– Но ты же читала в журнале, помнишь, рассказ о детдоме?
– Да, они там все ждут маму и папу. Но мне-то ждать некого!.. Мамуля, папуля! – закричала бедная Лиза. – Где вы?! – И разревелась с новой силой.
Рита не могла этого выдержать и отдала наволочку с лоскутами Лизе. Лиза все плакала.
– Бери свои лоскутки, – закричала Рита. – И перестань орать!
– Да, а что ж ты мне не шьешь?! Ты же не шьешь! Мне юбку нужно!
– Если ты сейчас почистишь зубы и ляжешь спать, я завтра начну шить тебе юбку.
Разумеется, Лиза сказала:
– Если ты сейчас начнешь шить мне юбку, я почищу зубы и лягу спать.
Рита схватилась за голову и стала вспоминать, как в таких случаях поступала мама. Вспомнив, Рита, ни слова не говоря, повернулась и ушла в ванную. И долго стояла под душем, приходя в себя. Разумеется, когда она вышла из ванной, Лиза сидела и раскладывала лоскутки на полу.
– Завтра, всё завтра, – спокойно сказала Рита. – Помоги мне собрать лоскутки. Запомни, какой лоскуток с каким.
Утром они опять вышли из дому рано и, не сговариваясь, пошли в парк. Там возились садовые рабочие, было пусто. В буфете разгружали грузовик с бутылками, и толстая буфетчица караулила товар с бумажками в руках. На пруду стояли в воде лодки и плавали черные лебеди, иногда погружая голову в перья и шаря под крыльями, как рукой под мышкой. У пруда уже торчала ранняя мамаша с ребеночком и зевала. А ребеночек, лет двух с половиной, звал: «Голубеди, голубеди!» Но ни голуби, ни лебеди к нему не шли, понимая, что это несерьезно.
Лиза и Рита сели, по своему обыкновению, на любимую еще в старушках скамейку и горестно замолчали. Они часто посещали эту скамейку в предвечерние часы. У них была даже одна как будто подруга, у которой они расслышали, правда, только отчество, Генриховна. И были две нелюбимые собеседницы. Про себя Лиза и Рита называли их Чумка и Холера. Они были очень разные, но в прошлом руководящие работницы. Стриглись коротко, под императора Нерона, и обе были на него похожи. Только у Чумки юбка была покороче. Генриховна, милая, интеллигентная женщина, бывший детский врач, осталась совершенно одна по невыясненным обстоятельствам, она никогда ничего не рассказывала.
Чумка с Холерой состояли постоянно в гражданской войне, Чумка – со своими соседями, а Холера – со своими родственниками. Из-за этой опасной обстановки Чумка и Холера находились почти круглые сутки на воздухе, сидели в парке на скамейке, питаясь хлебом и кормя голубей. Рита и Лиза, обе деликатные старушки, вынуждены были слушать рассказы Чумки и Холеры почти ежедневно. Но что делать? Это у них был единственный сквер в округе. И все скамейки тут принадлежали уже сложившимся группировкам. Старушки сидели на скамейках, а старички находились на другом конце сквера и предавались там азартным играм, толпясь вокруг доминошников и редких шахматистов. Проходы случайных старичков через круг, по сторонам которого стояли скамейки старушек, сопровождались значительным молчанием одних скамеек и щебетанием и смехом других, где сидели отщепенки, надеявшиеся выйти замуж, как видно. Молчащие скамейки мужиков ненавидели, всех до единого, все возрасты и уже давно.
Таким образом, Рита и Лиза сидели утром на своей скамейке. В этот ранний час Чумки и Холеры еще не было. Рита и Лиза подавленно молчали. Пора было идти в магазин, а потом бегом бежать по помойкам в поисках швейной машины и мчаться домой шить Лизе юбку. Но они сидели, как бы окаменев.
Внезапно на скамейку села старушка. Девочки оцепенели еще больше. Это была Генриховна. Генриховна ласково поглядела на Лизу и Риту и сказала: «Здравствуйте, дети!» Рита и Лиза переглянулись и молча кивнули. Вся их воспитанность улетучилась. Они вели себя как настоящие подростки, т. е. не поздоровались и ощетинились: с какой стати чужая старуха к ним пристает?!
– Девочки, – сказала Генриховна, – можно к вам обратиться?
– Ну, – ответила настороженно Рита. А Лиза встала со скамейки со словами:
– Пошли отсюда, блин!
Генриховна как-то жалко улыбнулась и закрыла глаза.
– Больная, что ли? – сказала Рита.
Генриховна не открывала глаз.
– Лиза, – сказала Рита, – я сбегаю в аптеку, а ты сиди.
– Прям, – сказала Лиза, – я боюсь мертвецов.
– Дура, – сказала Рита, – она дышит. Пощупай пульс.
– Ага, завтра, – сказала Лиза. – Я их боюсь.
Они разговаривали точно так же, как их знакомые дети, опуская только бранные слова. Рита пощупала пульс у Генриховны.
– Нужно это, ну, от сердца, я забыла, нитро… что-то… глицерин, да.
– У меня в сумочке был, – заикнулась было Лиза, но прикусила язык. Те времена прошли, когда она ходила с большой заплатанной сумкой и с нитроглицерином. Генриховна, надо было надеяться, ничего не слышала.
– Бабка, во бабка! Зажмурилась совсем, – продолжала Лиза. – Сейчас отбросит копыта. Пошли.
– Ага, шурши пакет под лавку, – угрожающе сказала Рита. – Сиди, я сбегаю в аптеку, а то стукну, позвонки в трусы посыпятся, сиди сейчас же. У меня еще остались деревянные.
Лиза сидела с Генриховной, которая еле дышала. «Зачем, бабка, врача не вызвала? Во, блин», – говорила вслух Лиза. А сама полезла к ней в сумочку. Наверняка там, как у всех запасливых старушек, у Генриховны находилось любимое лекарство, и действительно, оно там лежало. Лиза вынула таблетку и сунула ее Генриховне в замкнутый рот. Генриховна инстинктивно зачмокала, как младенец, проглотила и через несколько минут открыла глаза. Лиза на всякий случай отодвинулась.
– Что со мной, где я? – сказала Генриховна.
Лиза молчала. Генриховна спросила:
– Девочка, это ты мне дала лекарство?
Лиза сказала:
– А че? Я в сумке у вас ничего не брала. Нельзя, что ли? Жмуриться начали. Вы проверьте.
– Девочка, ты спасла мне жизнь. Ты не проводишь меня до дома?
– Нет, – сказала Лиза. – Я тут сестру жду.
Генриховна кивнула и продолжала сидеть. Наконец прибежала Рита. И на ходу затрещала:
– Поразительно неквалифицированные работники здравоохранения, – но потом она осеклась и произнесла: – Во, блин! Без рецепта не дают, а детям вообще… Вызывайте, говорят, «Скорую»… А телефон у администратора. Говорит: «Звони из автомата, тут нечего шляться». А автомат сломанный.
– Девочки, мне не добраться до дома, – сказала Генриховна. – Меня зовут Майя Генриховна. Помогите мне, я вам что-то дам. У меня есть неношеная блузочка, крепдешиновая. Может, вам подойдет.
– Ну, – сказала Лиза утвердительно, в том смысле, что подойдет. И они повели Генриховну к ней домой.
Генриховна ни о чем не догадалась. Они вскипятили ей чай, сбегали в булочную ей и себе за хлебом. Получили чудесную кремовую блузку с оборками и воланами. И что еще лучше, увидели у Генриховны старую швейную машинку. Генриховна обещала им еще дать много чего и сказала, что позвонит родителям, чтобы они не удивлялись насчет блузки.
– А у нас нет телефона, – сказала на это Рита.
– И родителей, – ляпнула Лиза и прикусила губу.
– Они не удивятся, – подтвердила Рита.
Девочки успели домой как раз перед началом вечерней прогулки детей, которых, можно сказать, вышибала из дома сама жизнь: возвращались с работы усталые и взвинченные после долгой дороги и магазинов их мамаши. Дети мгновенно, от греха подальше, не слушая вопросов об отметках и домашних заданиях, выскакивали на улицу.
И еще один вечер прошел в шитье юбки. На ужин были хлеб и кипяток с мятой.
– Как мы так жили, я не понимаю, – бормотала Лиза, сшивая лоскутки в три часа ночи.
А Рита уже спала глубоким сном. И в результате Лиза утром плакала, что это не юбка, а это лоскутное одеяло, и что она такое не наденет, пусть Ритка сама носит. Рита, тоже расстроенная, пришила к юбке два ряда ленточек, подумала еще и сделала подкладку из старой простыни.
– Все, можешь надевать, – сказала Рита.
Лиза, рыдая, надела юбку и посмотрелась в зеркало. Потом, всхлипывая, она надела еще и блузку Генриховны и стала вертеться то одним боком, то другим. А потом упала на кровать лицом в подушку и сказала, что в таких сандалиях больше ходить не может. Это детский сад и кошмар.
После этого они проспали до вечера, имея в шкафчике хлеб, а в мешочке четыре картофелины, одну луковицу и одну свеклу. Рита проснулась раньше и, жалея заплаканную Лизу, сварила борщ и посушила хлеб в виде сухарей.
За дверью на лестнице до двенадцати ночи раздавался буйный хохот большой компании и звенело стекло. В семь утра, осторожно отворив дверь, чтобы вынести мусор, Рита наделала шуму. К ручке ее двери были привязаны за горлышко две пустые бутылки, которые громко брякнули о стенку. Это была совершенно обычная вещь. Это был привет от гуляющей молодежи. И Рита, поискав вокруг, отвязала еще три пустых бутылки на своем этаже, а четыре лежали в лифте. Бутылки эти были частично из-под лимонада, а две были водочные. Рита всё собрала и унесла домой. Бутылки можно было сдать и получить деньги. Небольшие, но на один день жизни хватило бы.
Это-то как раз и был день, когда приносили пенсию. Рита легла, Лиза замотала ей голову и шею платком и шарфом. На руку Рита надела перчатку (на другую она надела варежку, так как перчатка у них была одна). Почтальонша позвонила, Лиза открыла со скорбным видом и сказала, что прапрабабушке плохо, у нее экзема и все лицо и руки болят. Но расписаться она распишется. Почтальонша дала Лизе карточку. Рита расписалась в комнате. Почтальонша отсчитала деньги, крикнула в комнату: «Выздоравливайте!» – и, ничуть не удивившись, ушла. А Рита, молодец, расписалась как обычно.
Но жить на эти деньги могли только слабые, нищие, нетребовательные старухи, у которых ничего уже не растет: ни вес, ни рост, ни нога, а растут только редкие усики и ногти. И для стрижки им нужны только одни ножницы на всех. Старухам достаточно было подкопить за свою жизнь тряпья и носить его без стеснения.
Рита напряженно думала, что делать. Летом можно было еще прожить. Она знала несколько магазинов, около которых выставлялись ящики со сгнившими овощами и фруктами. И многие старушки выбирали себе на компот и на суп слишком дорогие для них в неиспорченном виде продукты. Также можно было иногда посетить рынок. И богатые ленивые продавцы, преимущественно бабы, порой тешили себя тем, что дарили остатки нищим старушкам, которые, шатаясь от слабости, ходили по рядам и якобы пробовали, хороши ли сливы, кислая капуста или творог. Правда, почти всегда их гоняли от товара, как мух, крича: «Нечего тут, нечего!» Но детям этого не простили бы. Дети не могли, не имели права попрошайничать, пробовать капусту и даже продавать вязаные варежки. Таких детей немедленно бы выгнали или сдали в милицию.
Но Рита была уже девочка с большим жизненным опытом. Она сама росла, росли ее дети, внуки. И она предвидела множество расходов. А Лиза как будто и не была матерью и бабкой. Она все забыла и видела только себя в зеркале, красивую, по ее собственному мнению, девочку, которую надо баловать и все ей дарить. Лиза всю жизнь была такая. И всю жизнь ее баловали. И баловал ее муж, который относился к ней как к ребенку. Но уже дети сами выросли балованные. И затем баловали своих детей, но только не старую, одинокую Лизу.
Когда наступило утро, Лиза не соизволила встать. Эту девчонку пришлось долго будить. Надо было быстро завтракать и живо уходить из дому. Рита не открыла перед ней своих горьких дум. Рита предпочла действовать, как покойная мама. Ни на что не жаловаться, ни у кого не просить помощи, но и требовать от ребенка неукоснительно хорошего поведения. И Рита собиралась купить две щетки и зубной порошок, которого у старушек не бывает по причине отсутствия настоящих зубов. И она собиралась заставить Лизу дважды в день чистить зубы.
В дверь позвонили.
Лиза побежала открывать. И Рита ничего не успела сказать, как в квартире появился рыжеватый крепкий мужчина.
– Это я, – сказал он. – А где хозяюшки?
Рита ответила, сильно испугавшись:
– Бабушек нет дома.
– Гм, в такую рань, я думал, что застану. А можно их подождать?
– Их не будет сегодня.
– А где они?
– Они на даче.
– А вы что тут делаете?
– А мы, – ответила Рита, – тоже собираемся уезжать.
– А что вы не в школе?
– А у нас скарлатина, – быстро соврала Рита. – Карантин в школе.
– Гм, – сказал мужчина. – Так.
Он пошел по квартире, осматривая потолки, трубы, краны, трогая оконные рамы с облупившейся краской.
– Гм, квартиру придется ремонтировать. Гм!
Он пошел теперь смотреть балкон. Вид с балкона ему понравился.
– А зачем столько ящиков? Гм! Ну хорошо. И от метро близко. А телефона, я помню, нет?
– Нет.
Девочки раздраженно следили за ним. Наконец Рита сказала:
– Дяденька, мы уходим.
– Уходите, уходите.
– А вы как же?
– А я пока побуду. Скарлатиной я болел. Я не боюсь. Мне надо дождаться ваших бабушек. Мне они срочно нужны.
– А они же уехали на лето! – воскликнула Рита.
– Они же не приедут сюда, – пискнула глупенькая Лиза.
– Ну и ничего. Я поживу. У меня есть время.
– А что вам надо-то?
– А что? Я хочу к ним прописаться опекуном.
– Зачем? – спросила глупая Лиза.
– Как зачем? Я пропишусь, и квартира не пропадет.
– Что значит не пропадет? – сказала Рита.
– То и значит. Одна уже при смерти. Мне сказала на почте почтальонша. Вторая тоже на ладан дышит.
– Глупости. Как это на ладан?! – воскликнула Лиза. – Что вы бормочете, молодой человек! При чем вы здесь?
– Я первый пришел.
– Откуда у вас такие сведения? – спросила Рита. Щеки ее горели.
– Откуда, откуда… Я же знаю. Я пришел по адресу. Дали добрые люди.
– Ну что, – сказала Рита. – Придется вызывать Светиного мужа и ее брата.
– А вы-то сами здесь никто, – сказал человек. – И не прописаны. Это не ваша квартира. А последнее слово за той, которая еще жива.
– Да не пропишет она вас. Она прописывает как раз нас, своих внучек, правнучек.
Мужчина сказал:
– Вы несовершеннолетние. И это незаконно.
– А сейчас уходите, – сказала Рита, – уходите.
– Нет, – ответил мужчина. И лег, лег прямо на Лизин диванчик. Потом подумал и снял туфли. Потом повернулся лицом к стене и заснул, как засыпают давно не спавшие люди. Сестры сели в другой комнате.
– Сумасшедший и аферист, – сказала Лиза.
– Лиза, сколько раз тебе говорили, не открывай дверь. И мама тебя просила, и я. Все из-за твоего глупого поступка.
– Я же маленькая, – возразила Лиза и заплакала горько-горько.
В соседней комнате храпели.
– Слушай, – сказала Лиза, – а давай найдем ту мазь и помажем ему рот.
– Ага, – ответила на это Рита. – И потом возись с малолетним хулиганом.
– А мы ему побольше помажем.
– Да эти в любом возрасте такие. Помнишь нашего соседика на Божедомке, в детстве? Ему было пять лет, и он нас бил ногами.
– А мы его сдадим в детский сад, отведем на улицу, а сами раз – и в троллейбус.
– Жалко, – сказала Рита.
– Жалко тебе? Он ведь нас выгонит.
– Нет, это не дело, – подумав, сказала Рита.
– А убить его?
– Нет, убить мы не сможем.
– А нож к горлу?
– Дура ты, Лизка.
– Я его убью! – воскликнула Лиза.
– Да кто тебе разрешит? Убивать нельзя.
– Он агрессор.
– Он агрессор, да. Но ты видишь, ему негде жить, негде спать. Видишь?!
– Ты всегда всех жалеешь, кроме меня. Ты можешь себе представить, если мы уйдем, он сюда нас больше не пустит? – сказала Лиза. – Вставит новый замок. А если мы его сейчас как-то выгоним, он взломает дверь в наше отсутствие.
– Слушай, давай я оденусь бабушкой, а ты меня как будто приведешь, – сказала Рита.
– А как?
– Сейчас.
Рита лихорадочно стала одеваться во все старушечье. На руки надела перчатку и варежку. На нос очки. Лицо она натерла разведенной мукой, так что мука на лице засохла полосками и складками. А сверху нарисовала карандашом морщины. Пока они возились, в соседней комнате храп захлебнулся и голос афериста сказал: «А? Что? Не понял». Рита взяла в руки свою клюку. И они с Лизой пошли в прихожую. Стукнули там дверью, и Лиза сказала тихо, но внятно:
– Бабушка, мы тебя вызвали, потому что какой-то человек хочет у тебя здесь поселиться.
– Какие глупости! – хрипло, басом закричала Рита и замахала клюкой. – Где он?
Лиза подвела ее к диванчику, на котором лежал еще не проснувшийся хорошенько мужчина в расстегнутом пиджаке.
– Бабусь, – хрипло сказал он и откашлялся. Рита палкой быстро стукнула его по голове и закричала:
– Милиция, милиция! Подозрительный элемент из тюрьмы.
Схватившись за голову, мужчина сел на диване, а Рита слегка стукнула его еще раз палкой по голове.
– Беги, Лиза, открывай дверь на лестницу. Пусть соседи вызывают милицию.
Лиза, как ветер, помчалась и стала стучать в собственную дверь. Мужчина задумчиво встал, зевнул, взял в руки туфли и в одних носках выбежал на лестницу, мимо Лизы. Сказал: «Простите» – и как был, минуя лифт, в одних носках, быстро ссыпался вниз по лестнице.
Лиза с торжеством захлопнула дверь. Сестры кинулись обниматься. Потом Рита сказала:
– Нужна мама.
– Или бабушка, – откликнулась Лиза.
– Генриховна! – воскликнули обе.
Сестры быстро собрались – был уже белый день – и тронулись в путь. Они решили предложить Генриховне пожить у них. Тем более что у нее была швейная машина.
Они постучались в дверь Генриховны и не получили никакого ответа. Они долго стояли под дверью, барабаня кулаками и пятками, пока снизу не поднялась женщина с очень злым лицом.
– Вы что тут колотите, отравы?
– Извините ради бога, – ясным голоском сказала Рита. – Мы пришли навещать больную, а что-то случилось.
– Что стучать, как психи? – успокаиваясь, сказала соседка. Она поднялась и позвонила в дверь рядом. Тут же открылась на цепочку дверь. В щели было чье-то большое сморщенное ухо.
– Дядя Сеня, – сказала женщина, – а чего с той, из десятой?
– А че?
– Не открывает она. Милицию вызвать?
– Не знаю, – отвечал дядя Сеня, гремя цепочкой и открывая дверь пошире. Он предстал во всей своей красе: в голубой майке, в шапке-ушанке ушами вверх, тесемками вниз, в голубых кальсонах и бритый, но недели две назад.
– Ты чего? – спросила соседка.
– Болею, – отвечал дядя Сеня.
– Во, лучше с соседями жить, чем так, одной… Раз – и всё.
– А соседи сдадут в богадельню, – отвечал дядя Сеня, весь в пуху, видно, спал на подушке.
– Ну, – сказала соседка. – Я пошла. У меня Володька спит, а эти как зачали колотить… Вы, девочки, сами кто?
– Мы ее родственники, – соврала скорая на такие дела Лиза.
– Но не прямые, – поправила ее Рита.
– А, ну что ж теперь.
А за спиной дяди Сени встала толстая бабушка, босая и с тряпкой в руках.
– Это про что разговор?
– А из десятой… Не открывает какой день…
– Вчера мы у нее были, все было в порядке, – опять соврала Лиза.
– А, ну в магазин побежала, – зевнул дядя Сеня и захлопнул дверь, наложивши затем цепочку.
Девочки вышли и сели во дворе ждать. Идти домой было страшно: а вдруг там на лестнице сидит рыжий мужчина и хочет их побить.
Тем временем подошел вечер. Было все еще светло, но в окнах зажигались огни. Бегали и кричали опьяненные свободой дети, отработавшие свой день в детском саду. Звучала музыка. Мимо ходили люди, но Генриховны не было. Может, ей стало плохо на улице и ей вызвали «Скорую»? Девочки сидели очень долго, до полуночи, потом поплелись домой. На лестнице никого не было. Девочки быстро отперли дверь и скрылись у себя в квартире. «Слава тебе, Господи!» – воскликнули обе старушки в восторге. Приняли душ. Съели борщ с хлебом и выпили горячей воды. «О счастье. Дома, дома!»
Ночью Лиза во сне плакала. А Рита не спала и с тоской думала о Генриховне. За этот день у нее душа так наболелась об этой чужой, посторонней старушке! Она вспоминала ее деликатность, спокойствие, тактичность даже по отношению к Чумке и Холере. Чумка и Холера часто консультировались у Генриховны насчет болезней. Но Генриховна была врачом для самых маленьких, микропедиатром, то есть она была специалистом по детям в возрасте до одного месяца. И потому очень часто она просто сочувствовала, а рецептов не давала. А старая Лиза всегда вмешивалась и давала точные и подробные советы, как что лечить. Лиза обожала лечить. «В сущности, – думала Рита, – Лиза спасла меня от смерти». Рита встала и, как это делала мама, подула на Лизин лобик. Лиза вздохнула и перестала скулить.
Утром девочки были опять у дверей Генриховны. Они позвонили. Прошло много времени, и в глубине квартиры что-то стукнуло и тяжело задвигалось. Прошло полчаса. Генриховна открыла им дверь, сидя на полу.
– Ой, здравствуйте, – захлопотали девочки. – Где же вы были, мы к вам приходили.
Генриховна задумчиво смотрела на них с пола, опираясь на руку.
– Вам было плохо? Мы как чувствовали. Вы помните? Мы девочки из сквера. Вы нас поили чаем.
Генриховна кивнула.
– Мы забеспокоились и вот пришли. Как вы себя чувствуете?
Генриховна открыла рот, но ничего не сказала.
– Вы не можете говорить?
Генриховна вдруг заплакала. Она сидела на полу и лила слезы.
– Вам надо в больницу, – сказала Рита. Они вдвоем втащили Генриховну в комнату. В комнате был перевернут стул и на полу лежал разбитый стакан в луже.
– Она так вот и пролежала весь вчерашний день, – сказала Рита. – А ну, Лиза, сбегай домой, поищи-ка мазь.
Лиза кивнула и помчалась.
Рита, как могла, уложила Генриховну, дала ей попить, сварила ей кашку на воде и покормила. А Лиза все не шла. Настал вечер. Лизы не было. И Рита беспокоилась все больше и больше. Куда могла деваться двенадцатилетняя девочка с ключами? Ближе к ночи Лиза пришла бледная.
– Никакой мази нет, ни одной. Я искала как сумасшедшая. Я ушла, а они все уже сидели на лестнице. Но лифт пришел быстро. Я успела.
Лиза с Ритой поселились у Генриховны. Только один раз они ночевали у себя, чтобы получить Лизину пенсию. И опять устроили маскарад для почтальонши, причем Рита строго предупредила ее никому адреса не давать.
Они кормили бабу Майю. Рита делала ей массаж, как когда-то отцу, доставала лекарства. Вызвали медсестру с уколами. Баба Майя все понимала и старалась изо всех сил, потихонечку делала гимнастику пальчиками, потом руками. Через полтора месяца баба Майя сказала:
– А-и-а…
– Спасибо вам, – перевела Рита.
Баба Майя дальше сказала:
– О-о-ые э-о-и (хорошие девочки).
К августу Майя Генриховна уже гуляла во дворе и говорила всем:
– Мои внученьки приехали.
В сентябре девочки пошли в школу. Майя Генриховна сходила туда и сказала, что они приехали издалека, немного поучатся без документов.
Кому какое было дело? Девочки пошли в школу, сначала с радостью, потом, как все дети, уже с неохотой, а иногда даже сопротивляясь по утрам, особенно Лиза.
Зато вечерами все втроем они беседовали, и Генриховна поражалась про себя, откуда у маленьких девочек такая мудрость и всепрощение, и она крестила их на ночь, повторяя:
– Это не простые дети.
А две малолетние старушки спали, и каждая надеялась, что все-таки найдется та волшебная мазь для их родной Генриховны. Рите снилась Генриховна с чертами их мамы, молодая, красивая и строгая, и Рита робко радовалась своему счастью. А глупой Лизе, например, снилось, что крошка Генриховна кричит в пеленках, а у них с Ритой пропало молоко.
А по субботам они ходили к метро продавать носки и варежки.
Может быть, вы их там видели…
Спасенный
Только в лунные ночи случаются такие происшествия, и в маленьком приморском поселке стали происходить в самую глухую пору странные вещи – вроде бы вырастал сам собой дом из дикого камня, почти крепость, зияющий черными провалами вместо окон и дверей, но высотой в три этажа и под крепкой крышей – он стоял, освещенный луной, и исчезал как призрак с первыми волнами рассвета.
Шалые ночные туристы забредали в эти места, ища острых ощущений, они карабкались по осыпающейся дорожке среди бедных строений, жители спали, и только недостроенный замок торчал, сияя белым камнем, как давно разрушенная крепость, и взирал на полную луну черными дырами, за которыми там, внутри, клубился как бы туман.
Но ночные туристы когда-нибудь да ложились спать, на подстилке под кустом, полные страшных впечатлений, но со временем наступало утро и пора было возвращаться на берег моря, и все выглядело беднее, глупее и проще, и никакой зловещей крепости не громоздилось над бедными выселками.
Однако еще кое-кто знал про исчезающий дом – это был мальчик-старшеклассник, который вставал затемно и шел с сетью к морю.
Каждую ночь он видел недостроенную крепость, но днем, когда он возвращался к себе в холмы с уловом, никакой крепости не было; парень, однако, никого ни о чем не спрашивал, в этих краях лучше было ничем не интересоваться, еще и убьют.
Крепость вполне могла оказаться ночным пристанищем таких сил, которые способны были свободно убирать ее на дневное время.
Его мать, владелица трех коз и клочка сухой земли, работала медсестрой в санатории, собирала травы и знала много чего, но тоже никого в эти дела не посвящала.
Они оба с сыном были не из этих мест, когда-то молоденькая мать выцарапалась из развалин со своим трехлетним ребенком, спасла его во время землетрясения, а муж ее так и остался лежать там, в глубине, в случайной могиле под бетонной горой – в момент подземного толчка он возился с машиной в гараже.
Там он, вместе с грудой железа, и остался вопрошать судьбу, уйдя глубоко в бездонную щель, а его жена как только не мыкалась, где только не надрывалась, бывшая студентка без профессии, однако к зрелым годам все-таки какой-то домишко у нее образовался, сын рос тихим и работящим, видно, его детство осталось там, под камнями, где они с матерью просидели больше суток, согнувшись в три погибели, и мать все утешала его, пела песенки, а сама скреблась ногтями, разбирала куски бетона, а земля все вздрагивала. Мать осторожно, стараясь не разбудить нависшую над ними плиту, откладывала камушек за камушком и открыла крошечный лаз наверх, и протиснула туда своего сыночка, а он никуда не ушел от выпустившей его дыры, лежал и плакал, шаря ручкой в узкой норе – мама да мама. Там его по надрывному крику и обнаружили спасатели, хотели унести, но он заверещал, потому что именно в этот момент поймал руку мамы там, внизу.
Один спасатель догадался посмотреть, чем же это защемило ручку младенца, и увидел в глубине, во тьме, несколько окровавленных пальцев. На всякий случай крикнули туда, в щель, и услышали осмысленный ответ, что разбирать нужно осторожно, сижу под нависшей плитой.
Так что мальчик, родившийся в хорошем доме за тысячи километров отсюда, рос под крылом своей молчаливой матери совсем не таким, каким он мог бы вырасти в той, прежней, жизни – он бы там ездил на машине в университет, играл на рояле, жил среди отцовской и дедовой библиотеки, – а тут он лазил по скалам, рубил аметистовые жилы на продажу, нырял за раковинами, ловил рыбу, плавал как дельфин и мог на одних руках вскарабкаться на дерево.
Так решила воспитывать его мать, она постановила, что вырастит его человеком, который способен все вынести, любую тяжелую работу, все преодолеть.
Сама она тоже все преодолела, начав строить свой домишко на выселках, в холмах, на улице Палисандр, в том месте, где запрещалось селиться, – местные несколько раз поджигали ее сарайчик, старухи предупреждали Лизавету, что место проклятое, но Лизавета так хорошо лечила их детей, что в конце концов ее оставили в покое. Пусть ей будет хуже, решили местные и отступились.
Нигде в другом месте, кстати, ей было бы не построиться – земля тут, на теплом побережье, шла по бешеным ценам.
Поэтому Кита местные сторонились, как прокаженного.
Он ловил рыбу, брал книги в пустовавшей поселковой библиотеке, и мать купила ему в городе дешевую деревянную флейту, пачку нот, кое-что они вместе разобрали в самоучителе, а дальше мальчишка и сам полюбил, сидя в лодке на рассвете далеко от берега, насвистывать Моцарта.
Только товарищей ему не было, поскольку местные ребята и девушки, веселые дети, знали от своих веселых родителей все что надо и сторонились Лизаветиного сына Кита – и правильно делали.
К Лизавете ходили за травами, за козьим молоком, поскольку ее козы были какие-то не такие, кудрявые, и считалось, что их молоко буквально лечит от кашля.
А свитера, которые Лизавета вязала из пуха своих коз, славились тем, что прогоняли ломоту в костях.
Но у Лизаветы и ее сына было прозвище Спасенные, и в школе Кита так и называли: «Ну ты, спасенный, дай списать».
Их так прозвали, потому что местные туманно помнили историю юной Лизаветы, прибывшей в поселок с сыном, – из вещей у них имелся только пакет со справкой, что они спасены при землетрясении.
Но, с другой стороны, это была такая шутка местных – в поселке ходила старая сказка, что, когда придет время убийств, против них выйдет один спасенный с крестом в руке.
А убийства начались уже давно: однажды в некотором большом доме на улице Палисандр один брат-колдун извел ребенка другого брата-колдуна, из-за обыкновенной семейной зависти. И хотя вся эта семейка друг друга перебила, а упомянутый дом вскоре сгорел и превратился в развалины, и даже место это было проклято, – но циркулировал упорный слух, что, когда вернется кто-нибудь умерший из семейства Палисандр, дом встанет опять, и каждому из поселковых будет дано право на три убийства.
Что же касается Лизаветы, то она получила, как бы в насмешку, участок именно там, в холмах (другая земля нужна была своим).
Однако Кит почему-то знал, что здесь не кончится их жизнь, что она продлится где-то там, вдали, в больших путешествиях, среди иных людей, и поэтому спокойно ловил рыбу на чужой лодке, спокойно отдавал хозяйке этой старой посудины половину своего улова, а другую половину нес домой коптить для продажи: он всему был научен. И его мать умела все.
У нее только не было сил возвращаться в прежнюю жизнь, где она была дочерью врача и сама уже почти врач…
Все ее родные погибли в ту ночь, на их костях возник новый город, понаехало строителей, и Лиза, сбежав оттуда, теперь боялась этого города и его новых жителей.
После больницы ее устроили медсестрой подальше от катастрофы, в детский лагерь на берегу моря, и она так там и осталась…
Таким образом, молодой рыбак Кит каждую ночь видел исчезающий дом, прямо через дорогу от собственной ржавой калитки, – но всякий раз, выходя на дорогу, он торопился к морю, тем более что ночи стояли здесь темные, и Кит не мог рассмотреть подробно, что это за дом – и не белеет ли это туча над обрывом. А затем в соседний залив вошла огромная стая местной рыбы-собаки, и Кит выходил на лов уже с вечера.
Но настала первая ясная ночь, и дом явственно возник под неверным, обманчивым лунным светом.
Кит собрался, как обычно, промчаться мимо, спеша вниз по дороге к морю, но вдруг он заметил наверху, в черном проеме пустого окна, что-то удлиненное и блестящее, похожее на рыбку в воде.
Он остановился, держа сеть на плече.
На подоконнике лежала ослепительно-белая рука, видная по локоть.
Кит, как на магните, приближался к дому.
Рука выступала из тьмы и сияла в лунном луче там, высоко, под самой крышей, в окне третьего этажа. Она выглядела сверкающей, как будто была сделана из отполированного мрамора. Как экспонат в музее, где Кит бывал с матерью на каникулах.
Кит, добытчик в семье, не мог пройти мимо такого сокровища.
Никакая отдельно лежащая рука его не пугала.
Он начал искать путь вверх по стене.
Кит вообще не боялся ничего. Он тренировал себя, блуждая по горам в поисках хороших камней, устремлялся по опасным карнизам, которые могли сойти на нет над пропастью. Он спокойно ходил среди дикой приморской шпаны, как олень ходит среди львов: это была для него привычная среда обитания. Он учился, кстати, у своего кота Мура, который при виде собак садился неподвижно как тумбочка, никогда от них не убегал и дожил до почтенного уже возраста невредимым.
Кстати, Мур, следовавший за своим господином куда угодно, не выносил берега моря. Там приходилось то и дело сидеть тумбочкой – у прибрежных ресторанов ходили в поисках милостыни вредные собаки.
Итак, Кит немедленно повесил сеть с внутренней стороны своего забора и кошачьим шагом бесшумно пересек каменистую дорогу.
Затем он сунул голову в дверной проем и обнаружил там полную пустоту до самой крыши – собственно, ничего другого ожидать было нельзя, только свет месяца заполнял тьму, туманными пучками лился внутрь, слегка клубясь…
Кит нашел, пошарив глазами, то окно наверху – и внезапно в этом косом прямоугольнике возникла темная тень: как бы приподнялась рука и помахала. Маленькая, узкая рука с длинными пальцами… И опять бессильно легла.
Кит выскочил к своей калитке – сияющая длинная рыбка все так же лежала в оконном проеме.
«Мало спал», – решил юнец и кинулся снова в дом. За ним, отчаянно мяукая, выскочил из дырки в заборе кот Мур.
Мур, кстати сказать, очень любил своего хозяина и не выносил разлуки с ним – особенно когда Кит закрывал за собой дверь, готовя уроки. Или уходил из дому, Мур преследовал Кита даже в горах, объявлялся в самом неподходящем месте – например, на скале, куда Кит лез, и отчаянно орал сверху, взывая о спасении.
Приходилось фукать на Мура. После такого фуканья Мур обижался (видимо, на кошачьем языке это страшное оскорбление) и исчезал на полдня.
Итак, Кит фукнул на кота, уцепился своими сильными пальцами за нижний подоконник, подтянулся и пополз по вертикальной стене вверх. Для опытного скалолаза в каменной кладке всегда найдется трещина и выступ, а в своей погоне за аметистами в горах, среди потухших вулканов, вдруг заметив далеко вверху слом каменной жилы и стеклянный фиолетовый блеск, он добирался до нужного места иногда только на руках, болтая ногами вне опоры и находя ее где-то сбоку и выше.
У Кита, кстати, была лучшая коллекция местных камней, о которой никто не подозревал, – дребедень он сбывал местным ювелирам.
Короче, голова Кита появилась на уровне того самого подоконника, но он был пуст – рука теперь висела в пустом и темном пространстве, она указывала куда-то пальцем.
Кит присел на парапет окна и, само собой разумеется, посмотрел туда, куда направлен был палец.
Как раз там, в туманной темной дали, в горах, плавилась яркая белая точка, как фокус в стеклянной лупе под солнцем.
Мальчик присмотрелся к точке, подрассчитал расстояние и понял, что светится что-то на скале, известной в местных кругах как Вражье Копыто.
Рука сама собой растаяла, и Кит немедленно спустился и рысью понесся вон из поселка по горной тропе.
Через час пути он сидел на вершине Копыта, однако никакого сияния здесь не наблюдалось.
Все еще стояла светлая лунная ночь, на горизонте виднелась белая вертикальная полоса – это была лунная дорожка на невидимом море.
Надо было спускаться. Вот примерещилось-то!
Однако он вдруг расслышал чей-то возглас, похожий на стон, склонился над пропастью и увидел там, в густом мраке, маленькую белую руку, вцепившуюся в камень под ногами Кита, на расстоянии двух метров.
Кит потянулся вниз и поймал эту скрюченную руку как раз в тот момент, когда загремела мелкая осыпь из-под ног прилипшего к стене существа…
Кит спустился вместе с этим существом, повисшим у него на плече, и ему пришлось нести бесчувственное тельце назад, и уже на тропе по ту сторону ущелья он рассмотрел раскаленную точку на покинутой им скале – она сияла точно на том месте, откуда недавно отвалился последний камешек, за который держалась бедная девочка, – а это была девочка у него на плече, худенькая, с каким-то туманным лицом в свете луны.
Тем временем точка заелозила на далеком камне, сорвалась и стала зигзагами шарить по скалам.
Кит даже опустил свою ношу на тропу, так его заинтересовала пляска этого лунного зайчика.
Точка тем временем подобралась ближе и вдруг прыгнула на девочку, заметалась, кинулась ей в глаза и скакнула к морю.
Девочка встрепенулась, вскочила и помчалась за мелкой огненной искрой, не открывая глаз.
Кит, разумеется, ринулся следом.
Но девочка неслась как вихрь, долетела до ближайшей дороги, там стоял темный, без фар, автомобиль.
Хлопнула дверца, машина взревела, все исчезло.
Кит пошел домой, забрал свой невод и двинулся вниз к лодке, однако драгоценное время было упущено, близился рассвет, и удачливый в обычные дни Кит зря закидывал сеть и насвистывал Моцарта, рыба ушла.
Следующую ночь Кит встретил у своей калитки – и медленно, как вздымающееся над горой облако, возник дом, и на третьем этаже в проеме окна, не таясь, появилась рука – она указывала перстом в море.
Кит быстро оказался в своей лодке и стал грести со скоростью заводной игрушки, со скоростью биения ходиков на кухне, но сердце его колотилось еще быстрее.
В том месте, гле плавилось в волнах белое сияние световой точки, Кит остановил лодку и стал смотреть вокруг – но волны были пустынны.
Тогда Кит сообразил и нырнул, поскольку заметил, что точка дымится на глубине. Кит нырял зверски, ловил рапанов как японская девушка ама, он прочесал все пространство вокруг лодки – и все безрезультатно.
И только когда Кит нырнул вертикально ко дну, он увидел громадный белый сверток, который, кружась, уходил, несомый течением, в самую бездну.
Кит устремился за этим страшным коконом, ухватил развевающийся край ткани и подтянулся к телу (а это было тело, завернутое с головой).
Но что-то мешало ему поднять свою ношу наверх – это был луч от пляшущего вверху светового пятна. На нем, как на острие, была наколота белая фигура, и луч вел ее в глубины.
Кит извернулся, выскочил наружу, вдохнул и опять бросился – но теперь уже наперерез лучу, стараясь спускаться, держа его на собственной спине.
Связь светового копья и тела, таким образом, прервалась – тело болталось в воде, уже как бы обмякнув, и Кит умудрился обхватить утопленника и, держа его под собой, выплыть наверх к лодке.
Много времени ушло на разматывание белого кокона, Кит долго разворачивал плотные влажные пелены, пока наконец не показалось лицо с широко открытыми глазами.
Это была все та же девушка, вчерашняя малютка, но теперь уже совсем без признаков жизни.
Кит, приморский обитатель, знал, как делается искусственное дыхание, и очень скоро девушка задрожала, извергла из уст массу воды, закашлялась и закрыла глаза.
Лодка мчалась к берегу, а фокус света остался бессмысленно покоиться в волнах, как поплавок при неудачной рыбалке.
Кит греб спиной к берегу и все время видел пятнышко в море, видел и как оно резко засияло, вырвавшись из воды, как заметалось и во мгновение ока, не успел гребец и моргнуть, очутилось на голове у полусидящей в лодке девушки.
Источник света был все там же, где-то на высоком берегу.
Дева вздрогнула, напряглась, выпрыгнула из лодки и помчалась по мелким волнам к земле.
Но уж тут у Кита не было равных, в гонке по мелководью.
Он только должен был затащить лодку на берег, чужую лодку, которая стоила слишком дорого для бедной матери Кита.
В несколько прыжков Кит перегнал бегунью и грудью пересек путь луча.
Девушка остановилась, хрипло дыша.
Кит взял ее за руку и повел за собой, луч прыгал и метался, ища свою жертву и не находя ее, и Кит тоже прыгал, как кот, играющий с мышью.
Они шли все выше, все дальше от моря, и наконец Кит выбрался на дорогу, которая вела к его дому.
На этом шоссе стояла все та же машина, изнутри которой, из-за темного стекла, пылал узкий, как лезвие, луч, ровный по всей длине (странно, и вдали он тоже не распыляется, подумал Кит).
Кит вилял, прятался в кусты, поскольку луч ощутимо прожигал, как крапивой, его грудь, но луч находил его. При последнем подъеме пришлось даже бежать, чтобы скорее понять, что делать.
Девушка за спиной у Кита начала, видимо, просыпаться, стала выдергивать свою руку из ладони Кита.
Луч тоже заметался, заплясал в воздухе, как бы выписывая крупные буквы.
Но у Кита была довольно мощная грудная клетка, а девушка была маленькая. Луч вилял напрасно.
Азарт защитника проснулся в до сей поры спокойном Ките.
Однако он все-таки сделал ошибку, решив открыть дверь машины и хорошо вмазать невидимому убийце.
Луч тут же уперся в открывшуюся на момент девушку, она шарахнулась с безумной силой, вырвалась из железной руки Кита, прыгнула с другой стороны к машине – раздался щелчок открываемой дверцы, стук, рев, и автомобиль исчез.
Единственное, что все-таки рассмотрел Кит, бросившись вслед за девушкой к открываемой дверце, – что внутри машины никого не было.
Там не было ни руля, ни сидений.
Там клубилась тьма.
Она на мгновение вырвалась из дверцы и отбросила Кита как бы мощным ударом.
Он очнулся уже при свете утра в придорожном рву и с пустыми руками поплелся к своему дому.
На следующий день, перед рассветом, он ушел в море при плохой погоде, но ведь улова не было уже несколько дней, – и внезапно ему посчастливилось: он увидел какое-то легкое свечение на волнах, стал грести туда, и стая странной, невиданной рыбы пошла плясать вокруг его лодки. Вода просто вскипала.
Однако наловил он немного, всего штуки четыре – рыба ушла так же внезапно, как и появилась.
Да еще и на берегу его поджидала неприятность.
Когда он нес свой улов, его застукали три всем известных друга – это был страшный рассветный час, когда сон от них ушел, хмель выветривался, вызывая дрожь во всех конечностях, включая голову, когда вся их загубленная, пропащая жизнь требовала ответа на главный вопрос: где найти выпить.
Они попросили у Кита немного денег или часы.
Такого еще не бывало в поселке.
Кит ответил им как надо, незаметно сняв с руки часы за спиной.
Кит давно не нравился трем приятелям, и они обрадовались поводу слегка его поучить, как надо вести себя со старшими.
Готовясь к обороне, Кит незаметно нагнулся и спрятал часы за большим камнем, где обычно привязывал свою лодку.
Потом он посмотрел наверх, в холмы, на улицу Палисандр, где жила его мать. Не то чтобы он ждал оттуда спасения, нет. Он посмотрел туда, ища глазами мать. И вдруг он увидел, что в холмах стоит новый высокий белый дом, абсолютно явственный.
Трое друзей тоже оглянулись и тоже увидели дом.
– Ну все, каждому разрешено по три убийства, – сказал самый старший друг, а остальные двое засмеялись.
Они окружили его, и Кит получил первый удар, под дых.
Когда его кровь уже начала уходить в песок, а денег и часов не нашлось, парни засомневались, следует ли оставлять Кита в таком виде снаружи, на поверхности земли. Пока что они столкнули лодку в море, озабоченно перекрикиваясь: пусть думают, что малый ушел и не вернулся. Улов они вытащили, все-таки приморские были ребята, знали толк в рыбе, а эта оказалась крупная и нездешняя.
Кита надо было бы также столкнуть в волны.
Однако на берегу уже появились какие-то люди, и трое приятелей заботливо, с криком «Ох, говорили ему» поволокли Кита (как мертвецки пьяного) с собой и, оглянувшись, отнесли его и закрыли в подвале спасательной станции.
Они как раз подрабатывали спасателями раз в трое суток.
Затем, все еще посмеиваясь, они позвонили дружку трактористу насчет выпивки и в ожидании пустили красивую, крупную рыбу на жареху, а спустя небольшое время приехал на тракторе этот друг с рыбозавода – и не без бутылки.
Все обрадовались.
Тракторист увидел улов.
– Че, привезли откуда? – спросил он.
– Наловил один чудак, – ответили ему.
– Не, у нас такой тут нету, – возразил тракторист.
– У вас нету, а у нас вот имеется, – сказал самый старший шутник, так и завершился этот разговор.
Компания из четырех приятелей выпила спирт и закусила жареной рыбкой (тракторист отказался), после чего данный тракторист вынужден был свезти этих друзей в лазарет, где они быстро отправились в лучший мир.
В поселке зашумели: три смерти в один вечер!
Многие смотрели в сторону улицы Палисандр, где возвышался белый, плотный как грозовая туча новый дом.
Многие стали точить ножи и варить травку, опасную травку цикуту.
В полдень того же дня мать Кита встревожилась и сбегала к хозяйке лодки. Они вместе спустились к морю. Лодки не было. Хозяйка сразу заподозрила, что Кит не вернулся.
Но мать тут же увидела, что на обычном месте, где Кит швартовался, лежит, полузарывшись в песок, его шлепка – старенькая, резиновая вьетнамка, он ходил летом в этой обуви.
Она стала перерывать все вокруг и увидела часы – аккуратно снятые, ремешок целый, лежат свернутые. Сын специально их сюда положил. Он очень ценил эти водонепроницаемые часы, он сам их купил.
Под набережной валялась вторая шлепка.
Поэтому Лиза поняла, что Кит не в море.
Она стала искать следы на пляже, ничего не нашла, все было истоптано загорающими, – а к вечеру сообразила, сама себе кивнула и принесла на берег старого кота.
Мур дико испугался шумного моря, вздыбил шерсть на бегущую мимо собачку, но хозяйка взяла его на руки и до ночи ходила с ним вдоль пляжа и у домов, успокаивая серенького.
Вблизи лодочной станции кот стал вырываться, прыгнул наземь и начал орать у какой-то железной дверки.
Мало того, он лег и лапой стал поддевать дверку – он делал так обычно, просясь к Киту.
Дверь открыли новые спасатели, проникли в подвал, вызвали «Скорую», вытащили умирающего, мать сидела в больнице у сына неделю, причем Кит в бреду упоминал какой-то луч в море и рыб, приплывших на этот луч.
– Зачем, зачем я, – говорил он.
Спустя неделю она перевезла его домой, и там, в дальней комнатушке, она стала выпаивать Кита отварами трав и молоком, а напротив их калитки уже вовсю ворочался подъемный кран – там строили еще и гараж в добавление к трехэтажному дому из дикого камня, который возник буквально за одну ночь.
Однажды на рассвете, когда Кит стал выздоравливать и открыл глаза, он встал, вышел на крылечко и увидел этот дом, огромный, как грозовая туча, – уже с окнами и дверями, даже с занавесками. И на третьем этаже, в крайнем окне, светилась лампа.
Притянутый непонятной силой, Кит подошел поближе и стал глядеть наверх.
Там, за приоткрытым окном, на стене, был виден портрет молодой женщины.
Это лицо Кит уже видел дважды в своей жизни – в те ночи, когда луч играл свою непонятную игру с горами и волнами, пытаясь погубить девушку.
На стене висел именно ее портрет.
Но это было не совсем то же лицо – как будто бы лет на пять постарше.
На портрете молодая женщина сидела в окне, положив свою белую руку на подоконник.
Кит вернулся к себе, а мать уже знала, что он выздоровел, и молилась перед иконой.
Потом она зашла к нему и рассказала, что ей удалось устроиться в построенный напротив дом убирать, платить будут хорошо. Хозяйка оказалась женщиной порядочной, даже интересовалась здоровьем Кита, откуда-то узнав его имя. Даже дала ей коробку витаминов для него.
(Лиза сходила и закопала эти витамины на местном кладбище, неизвестно почему. То есть она думала, что в любом другом месте вдруг да кто-то лет сто спустя начнет копать колодец или что-то сажать – а на кладбище и так уже все умершие, и яд им не повредит. Со времен землетрясения Лиза хорошо предчувствовала последствия тех или иных человеческих действий. Кроме того, Лиза просто была очень умная, она уже убирала в доме и видела на третьем этаже больную девочку – эти же витамины стояли на ее столике.)
В следующий раз, придя убирать к больной, она заварила ей своего чаю и заставила выпить две кружки.
– Так будет вам лучше, – сказала Лиза.
Уже с первого дня было видно, что хозяйка пичкает лекарствами свою молодую дочь с безбрежной щедростью.
Как бы в ответ на такую заботу больная хирела просто на глазах.
Или это была не ее дочь, уж больно они были непохожи; кроме того, судя по разнице в возрасте, такая мамаша должна была родить такую дочь лет в одиннадцать: больной на вид шестнадцать, а матери в лучшем случае двадцать семь.
Лиза также пыталась поить девочку козьим молоком, но это было сурово запрещено, раз и навсегда. Молоко было выплеснуто в раковину в бешенстве.
Молодая хозяйка все время жаловалась: на то, что все уползает из рук, что разбита жизнь, что как-то так происходит, но сил хватает только на три раза (Лиза сообразила, о чем идет речь, но кивнула с сочувствием).
– Только на три раза! – с силой, но горестно восклицала женщина. – И вторая попытка не удалась, вы подумайте! А те три парня, это уже пришла власть убийц. Это не считается. Это знаменитая рыба, ее надо знать. Рыба фугу.
А Кит вечером смотрел из своего сада, с раскладушки, на еле светящееся окно под крышей дома напротив.
Лампа озаряла портрет на стене и узкую белую руку нарисованной дамы.
В обязанности Лизы входило после ежедневной уборки кормить обессиленную больную (в основном лекарствами), сама Палисандрия к девочке не прикасалась, в кухню не заходила и никогда ничего не ела. («У меня такая диета», – со смехом говорила эта слишком молодая мать.)
Однажды днем, латая сети в тени своего грецкого ореха, Кит увидел, что от дома отъезжает знакомая черная машина. Лиза, которая варила варенье, встрепенулась, сняла кастрюлю с плиты, нащупала в кармане ключи, взяла с полки бутылочку с настоем и сказала Киту:
– Что-то случилось. Я схожу.
– Я с тобой, – откликнулся Кит.
Они пошли к большому дому, но ни один ключ не открыл двери.
Лиза стучалась напрасно.
Тогда Кит посмотрел вверх, где окно третьего этажа было, как всегда, открыто, и увидел, что на подоконник опустилась ворона, а две другие сели на карниз крыши.
Кит ослабел за последнее время, но если кто научился взбираться на отвесную стену, то это остается у него навсегда (как остается умение плавать). Так, по крайней мере, думал сам Кит.
Он уже как будто не раз лазил на эту именно стену.
Не очень скоро Кит оказался на третьем этаже, влез в окно, затем быстро выглянул и сказал:
– По-моему, все.
– Попробуй открыть дверь, – ответила Лиза, забежала к себе, прихватила икону и встала у подъезда большого дома.
Кит возился с замком по ту сторону и наконец нашел какие-то тайные защелки. Дверь открылась.
Они поднялись по лестнице в ту комнату, где лежала умершая девушка. Наверху Лиза вдруг решила:
– Нет, здесь не годится.
Вдвоем они подняли тощее, бездыханное тельце и понесли к себе в дом.
Лиза велела Киту вскипятить воды и стала делать искусственное дыхание, прижавшись ртом ко рту девушки.
Кит сидел, читая медицинский справочник, главу «Реанимирование».
Он не умел плакать, но во рту у него было горько и сухо, а сердце билось где-то в районе желудка и горело огнем.
Это была та самая девушка, которую он дважды спасал.
Тут мать коротко крикнула:
– Дай воды!
Он отнес чайник и увидел, что девушка дышит, а мать растворяет какой-то истолченный травяной порошок в мисочке с кипятком и осторожно, ложечкой, поит больную.
Так пролетело время.
И тут Кит заметил на своем окне, занавешенном плотной портьерой, пляску какого-то как бы луча карманного фонарика.
Он сказал матери:
– Беги и спрячься подальше.
Лиза знала своего сына и мгновенно исчезла.
Лучик пробивался сквозь портьеру, упорно стремясь к телу девушки.
Кит двинулся навстречу этому лучу.
Он открыл окно, перешагнул подоконник и, пошатываясь, как перед сильным ветром, пошел, нанизанный на световое острие, плавящийся конец которого уже начал прожигать ему грудь, а другой конец, вернее, исток – Кит теперь уже это знал – исходил из недр черной машины, той самой машины, битком набитой клубящейся пустотой.
Луч упирался ему в грудь, прямо в нательный крестик, и плясал, стараясь увильнуть.
Кит шел напрямую через заросли и холмы, шел по лучу, иногда проваливался в ямы, но луч оставался все так же туго натянутым, не плясал, не искал никого, стойко упираясь в известную цель, – и мальчик мгновенно выскакивал из любой ловушки, чтобы нанизаться на лезвие света и заслонить девушку.
Сколько длилось это путешествие, он не помнил, но вдруг очнулся и увидел, что луча больше нет.
На груди у Кита дымилась глубокая ранка, поверх нее блестел нательный крестик.
Кит стоял уже на верхнем шоссе, у черной машины, а внутри ее, за темными стеклами, клубилась, переворачиваясь, какая-то дымная масса с проблесками как бы искр.
Кит подошел ближе, заглянул в лобовое стекло.
Последний раз блеснуло изнутри, как выстрел, и парень ощутил смертную боль в груди.
Он упал на капот, звякнул его крестик, и Кит, защищая, прикрыл его ладонью, и вдруг стало как-то необыкновенно легко.
Через мгновение Кит стоял у вполне обычной машины и с любопытством заглядывал внутрь – а там было пусто. Ни стекол, ни руля, ни сидений.
Видимо, машина стояла давно, и любители запчастей ее уже всю разобрали по домам, как трудовые муравьи, которые ведь тоже воры, если вдуматься.
Когда он с легкой душой, целый и невредимый (грудь только слегка ломило), спустился к себе, напротив их дома лежала груда камней, приготовленных для стройки. Дворец исчез.
И у дороги валялась засыпанная цементной крошкой картинка в раме.
Кит поднял эту запыленную картину, протер ее и явственно увидел портрет молодой женщины. Ее рука, белая и прекрасная, лежала на подоконнике какого-то неизвестного окна.
Дома было тихо, мать напевала в кухне, постукивала ложечка о кастрюльку.
Он оставил портрет пока что в сенях.
В дальней комнате слышался негромкий голос:
– Ну и что ты пришла, глупая? Зачем ты это делаешь? Выплюнь сейчас же!
Кит осторожно заглянул в полуотворенную дверь.
На кровати лежала девушка и вела разговор с кем-то невидимым.
Кит сдвинулся влево и увидел младшую козу Зорьку, которая беззвучно жевала скатерть.
Что касается Мура, то он находился на столе, что ему было категорически запрещено, спина коромыслом, и стоячими от возмущения глазами смотрел на козу, которая выедала из-под него скатерть.
Кот даже тихо сказал ругательное «фук», коза не расслышала.
Тут явилась мама Лиза с очередным чаем, кот спрыгнул и изобразил тумбочку, обмотавшись хвостом, козу увели, и жизнь пошла своим ходом.
Никто ни о чем не спрашивал девушку, пока она однажды сама, извиняясь, не спросила:
– Вы не знаете, у меня ничего не пропало?
– Успокойся, ничего, – ответила Лиза.
– У меня была мачеха…
– Куда-то делась, – сказал Кит. – Как бы испарилась.
– Отец умер, я знаю… Потом ко мне приехала жить мачеха… Предъявила завещание… Моя мама погибла при землетрясении пятнадцать лет назад…
Лиза невольно кашлянула.
– Мачеха показала все – свидетельство о браке, даже свадебные фотографии… Я тоже там была снята, держала букет… Какой-то ужас… Письма папы… Он писал, что должен подготовить свою упрямую дочку к мысли о новой маме… Дочь растет неуправляемой, писал он… Только ты сможешь ее обуздать…
– Не верь, – сказала Лиза.
– Он ей писал «лапа моя». У него и слов таких не было. «И цыпленочку».
– Бред, – откликнулась Лиза.
– У нее имелось отцово завещание. Какое завещание? Он был, правда, уже немолодой, сорок с лишним лет… Но он был крепкий старик! Его так и не нашли в море… Он погиб случайно! «Все движимое и недвижимое завещаю моей жене Палисандрии…» Правда, папина далекая тетя пошла в суд и заявила, что все равно я имею право на сколько-то процентов. Но в завещании было написано – непременное условие, на эти мои деньги построить дом именно почему-то здесь… Улица Палисандр… Бывший дом семь…
– Это тут, напротив, – сказала Лиза. – Она называлась Палисандр. Там, говорят, стоял дом, и там один брат убил ребенка другого брата… Дом сгорел в результате. И никому не разрешали селиться на улице Палисандр. И тут построились совсем новые люди, вроде нас, потому что поселковые избегают этого места… Кто-то проклял его, сказал, что, если дом вернется на прежнее место, начнется власть убийц. И у каждого будет право на три убийства. Но не своей рукой. Как-то так. С помощью чего-то постороннего. Кто что придумает, кто яд, кто умную клевету. Кто тайное облучение… И один спасенный должен был встать против них, держа в руке крест. Такая легенда.
– Мне очень хотелось убить себя, – сказала девушка. – Я не соглашалась жить с ней, но она поселилась у нас. Мне прописали лекарства. Она привезла меня сюда, к морю. Мы жили на улице Палисандр… Но я убегала и то пыталась сброситься со скалы, то утонуть в море… Меня звал свет, и я чувствовала, что летаю, как бабочка. Последний мой бред, как она мне говорила, был умереть в своей кровати под портретом мамы. И Палисандрия сказала «хорошо», быстро построила дом и дала мне комнату. И повесила там портрет мамы. Чтобы мое желание исполнилось. Этот портрет – единственное, что осталось после землетрясения. Мне снилось, что мама протягивает мне руку и спасает меня.
– Так оно и было, – сказал Кит и принес ту самую картину.
Девушка прижала портрет к груди, обвела глазами комнатушку, в которой лежала, – по белым стенам здесь висели акварели, в углу горела лампадка под иконой.
– Это теперь твоя комната, – сказала Лизавета.
– Моя комната? – спросила девушка. – Я тут умру?
– Ну как раз, – быстро возразила Лизавета, вешая портрет на гвоздик, как бы специально ждавший этого в центре стены.
Женщина с портрета смотрела туманно и нежно, и ее ослепительно-белая рука лежала на подоконнике того окна, которое давно уже истлело где-то в развалинах землетрясения…
Маленькое и еще меньше
Маленький человек гулял за городом и размышлял, что ему незачем жить. Все его обижают, все считают его уродом. У него нет друзей! Никто не любит его (мама не считается).
Он думал, что наступит вечер, и надо будет незаметно броситься в пруд. Покончить с этим страданием. Он уже нашел подходящий водоем и расположился неподалеку, ожидая темноты.
И вдруг маленький человек увидел Дюймовочку.
Только такой маленький человек мог заметить эту крошку. И спасибо, что он лежал лицом вниз и готовился к самому худшему в своей недолгой жизни, то есть не смотрел по сторонам.
Да и он едва смог ее разглядеть, она сидела на какой-то травке как на бревне, закрыв ручками лицо. Видимо, она плакала. Но маленький человек не мог точно рассмотреть, плачет ли она.
Маленький человек встал на колени, осторожно вынул из кармана платок, расстелил его перед Дюймовочкой и пригласил ее сесть на это огромное белое поле.
Его голос прогрохотал как гром.
Дюймовочка отказалась, замахала крохотной ручкой. И снова закрыла лицо.
Маленький человек тогда подумал угостить Дюймовочку ягодой и сорвал для нее землянику – Дюймовочка до нее бы не допрыгнула. Ягодка росла на стебельке, а для Дюймовочки это было целое дерево!
И ягода была тоже велика для нее, как арбуз для маленького человека.
А уж рука маленького человека и вообще каждый его палец могли показаться ей чуть ли не с бревно.
Маленький человек осторожно положил огромную ягоду на белый платок.
Она красовалась как арбуз на скатерти.
Дюймовочка не притронулась к землянике, она плакала, закрыв лицо руками. Теперь это было понятно.
– Что я могу для вас сделать? – прогремел как гром голос маленького человека.
Дюймовочка долго не отвечала. Маленький человек тоже осторожно молчал, не хотел ей мешать думать.
Наконец она закричала тонким голоском:
– Мне надо в теплые края!
Маленький человек прогрохотал:
– А как?
Дюймовочка ответила как можно громче:
– Я заблудилась! Меня ждет ласточка, а я не могу ее найти. Она там, наверху, летает.
Маленький человек задрал голову и увидел множество ласточек в небе, они носились далеко в вышине, еле видимые.
Вечернее небо было розовое, и черные крошечные ласточки с большой скоростью рассекали это огромное пространство на невероятной высоте.
Как Дюймовочка собирается сесть на ласточку?
Это же невозможно! Они ее просто не видят!
И потом, ласточки никогда не садятся на землю. Они же не куры и не вороны и даже не воробьи! Они птицы воздуха!
Но маленькому человеку очень хотелось помочь несчастной крошке Дюймовочке.
Маленький человек хотел сказать: «Давай я подниму тебя в небо», но потом раздумал: мало ли, поднимешь ее на ладони, налетит ворона и склюет.
Ласточки-то высоко, пока нужная ласточка заметит Дюймовочку, должно пройти время, а вороны вот они, пешком ходят и вообще сидят близко. Насторожились.
Нет, так не годится.
– Мне нужны крылышки! – завопила еле слышно Дюймовочка. – Вы понимаете? Крылья!
Маленький человек стал оглядываться и заметил белую бабочку как раз с подходящими крылышками. Она финдиляла с цветка на цветок.
Но что теперь, хватать бабочку своими огромными пальцами? Отрывать у нее крылышки? Убивать бедную? Да Дюймовочке эти вырванные с мясом крылышки не пригодятся! Она – даже если возьмет их в руки и начнет ими махать – никогда не взлетит. Это же глупость!
– Давай пойдем ко мне домой, – загрохотал голос маленького человека, – я тебе там устрою домик с кроваткой. У меня мама очень добрая.
И он чуть не заплакал, вспомнив о том, что собирался ее покинуть навеки. И не подумал о том, как маме будет без него плохо. «Болван, просто болван ты», – сказал себе маленький человек.
– А моя ласточка? Как меня найдет ласточка? Она ведь меня ищет! – прокричала Дюймовочка и, по всей видимости, опять заплакала. Во всяком случае, она закрыла лицо ручками.
Что же было делать?
– И потом, – вдруг завопила Дюймовочка, – там меня ждет мой принц! Мне надо лететь! Надо успеть!
Действительно, маленький человек вспомнил ту детскую сказку. Дюймовочка должна прилететь в страну эльфов!
Солнце уже склонялось, оставлять эту малютку на ночь тут, на опасном месте, не хотелось. Просто нельзя было!
– Идем ко мне домой, а завтра опять я тебя сюда принесу, – тихо, как можно тише сказал маленький человек, но голос его прогремел опять как гром.
– Не надо! Не надо! – заплакала Дюймовочка. – Меня не найдет ласточка! Мне надо вылетать сегодня!
– Что же, как же, каким образом тебе помочь? – как можно тише пробормотал маленький человек.
– Ты крикни: «Ласточки! Ласточки! Найдите ласточку Дюймовочки! Дюймовочка ищет ее рядом с этим великаном!» Так крикни! Будь добр!
Маленький человек гаркнул изо всей силы:
– Ласточки!
Ласточки носились, посвистывая, высоко в вечернем небе.
– Еще раз, – пискнула снизу Дюймовочка.
Маленький человек, напрягаясь, заорал еще раз:
– Ласточки! Найдите ласточку Дюймовочки!
Ребята, которые гоняли мяч у пруда, прислушались и заинтересовались.
Маленький человек боялся их. Они его дразнили и иногда швыряли в него камнями. Некоторые дети, думал маленький человек, не понимают страданий других людей, хромых, безруких, слепых и неходячих, им смешно при виде чужих болезней, они чувствуют себя гораздо сильнее при виде слабых и обездоленных, и им хочется проверить границы своей силы. То есть иногда бывает, что им хочется уничтожить все непохожее, все беззащитное. Во всяком случае, хотя бы поглазеть, показать пальцем и посмеяться.
Маленький человек испытал это на себе, он был совсем небольшой, непохожий на других, ростом с ребенка, и некоторые дети – да и взрослые, – когда никто не видел, хотели его поймать, поиграть им и попробовать сломать, как чужую брошенную игрушку. Они не понимали, что он тоже человек.
Но сейчас ему было страшно не за себя.
Ребята кричали уже поблизости. Они подхватили свой мяч и двигались по поляне целой стаей.
Вот-вот они могли подойти.
Маленький человек присел около Дюймовочки и прошептал:
– Ласточки меня не понимают. Твои ласточки не снижаются!
Тогда Дюймовочка крикнула:
– А ты посвисти.
И она что-то там выдула из своего крохотного ротика.
– Повтори, – сказал маленький человек и лег ухом поближе к Дюймовочке.
Она посвистела что-то похожее на песенку «баю-баюшки-баю».
Дети орали друг другу какие-то пакости, заранее смеясь, и шли убыстренными шагами. Они приближались.
– Ну повтори, я не слышу, как ты свистишь, – тихо произнес маленький человек.
И тут он услышал треск!
И немедленно кто-то вцепился ему в ухо, но не как хватаются ребята, а как своими мелкими острыми лапками корябает жук.
Маленький человек испугался и хотел было схватиться за ухо и стряхнуть жука, но Дюймовочка закричала:
– Моя ласточка! Ой! Сейчас! Сейчас!
И она вскочила на ножки, протянула ручки и полезла сначала по толстым пальцам маленького человека, а потом по его огромной руке, она бежала как могла быстро, домчалась до рукава и поползла по рукаву маленького человека наверх, к сидящей на его макушке ласточке.
Ласточка цеплялась одной лапкой за его ухо, второй закрепилась в его волосах. Она покачивалась, вот-вот готовая слететь при первой же опасности.
Потому что уже слышался топот мальчишек, их возбужденные крики и ругань.
Маленький человек хотел вскочить и убежать с Дюймовочкой на рукаве (она уже карабкалась близко к воротнику), но не мог – во‑первых, они бы его догнали сразу и повалили бы, а во‑вторых, ласточка бы улетела. А так она терпеливо сидела и пока что ждала, взмахивая крылышками и уцепившись одной лапкой за волосы маленького человека, а другой за его ухо.
– Это этот! Лилипут! – кричали мальчишки довольно близко. – Че, он сбежал из цирка? Че он сбежал, надо его поймать! Ща поймаем! По шее ему! Чтобы не бегал!
Голоса их слышались явственно.
– Вон он, тут, я вижу, лови его!
Дюймовочка не успевала добраться до ласточки, а маленький человек не мог пошевелиться, чтобы не спугнуть ласточку.
– Гля, на нем на башке сидит воробей! Смотри! – завопил кто-то рядом.
Они засмеялись, громко и возбужденно.
И тут маленький человек посвистел то, что просвистела ему Дюймовочка. Он запомнил этот короткий мотив, эту маленькую песенку Дюймовочки. Фью-фью-фиии!
То есть: ласточка, ко мне!
Ласточка встрепенулась, быстро-быстро опустилась коготками по шее маленького человека, стараясь приблизиться к Дюймовочке, но подбежали мальчишки – и она вылетела прямо из их протянутых рук.
Маленький человек упал ничком, свернувшись, и лежал тихо на своем платке. Руками он защищал голову. Так он делал обычно, когда на него нападали. Перед его глазами темнела раздавленная ягода земляники, как большая капля крови на носовом платке.
Ласточка улетела, усвистела вверх.
Но Дюймовочка должна была еще ползти по рубашке. Она не успела добраться до ласточки.
– Он лежит, – крикнул другим подбежавший мальчик. – Че ты лежишь?
– Я сломал ногу, – прогрохотал маленький человек.
– Че? Че он сказал? Пищит что-то…
– Я сломал ногу, – закричал маленький человек.
– Поймал что?
– Ногу! Он поймал ногу! – засмеялся еще один мальчишка.
– Позовите мне доктора! – громко-громко сказал маленький человек.
– А че? Кого ему позвать? По морде ему дать, во!
– Видите, у меня сломана нога. Помогите мне. Воды, воды! Мне нужен врач. Помогите мне срочно!
Маленький человек знал, что дети не будут ему помогать и тем более не станут искать доктора в чистом поле. Им это скучно и неинтересно.
Мальчики постояли, один из них дернул маленького человека за ножку.
– Эта нога?
Потом он наступил ему на другую:
– Или эта? – Все заржали.
Кто-то пнул его в бок. Маленький человек не шевелился. Он закрыл глаза и лежал как мертвый.
Тут закричали с пруда:
– Это ваш мяч? Его взяли!
Ребята в ответ засвистели и помчались с криками и руганью. Но кое-кто еще остался.
Маленький человек затаился, окаменел.
Дюймовочка тоже затаилась, видимо. Ее не было видно мальчишкам. Иначе бы они ее растоптали.
Дюймовочка, наверно, спряталась за его воротником.
От пруда доносились какие-то крики и споры.
Те двое, которые еще стояли около маленького человека, заорали, наскоро пнули лежащего еще по одному разику и побежали.
Подождав несколько минут, маленький человек осторожно спросил:
– Дюймовочка, ты где?
– Я тут, – ответила она близко у его уха.
– Топни по мне ножкой! – велел маленький человек.
И тут же он почувствовал, как что-то шевельнулось в его воротнике.
– Сиди там. Я сейчас встану.
Он осторожно, держа ладонь у воротника, сел.
– Держишься? – прошептал он как можно тише в сторону своего воротника.
– Не дуй так сильно, меня унесет, – ответила Дюймовочка.
– Садись ко мне на ладонь.
– А где это?
– Вот, посмотри. Я поднесу свою руку к тебе, к воротнику, и шевельну пальцем.
– Осторожно! – запищала Дюймовочка. – Ты сейчас меня задавишь этим бревном.
Наконец он почувствовал, что Дюймовочка забралась к нему на ладонь.
Он на нее не смотрел, не поворачивал к ней своего огромного глаза, чтобы не испугать ее.
Он вытянул перед собой руку.
Дюймовочка, в розовом платьице, в розовых башмачках и сама вся розовая, с блестящей короной на голове, сидела в его огромной ладони. На короне у нее горели мелкие розовые бриллианты.
Или это ее так освещало красное заходящее солнце.
– Свисти! – приказал ей маленький человек.
Дюймовочка как-то поднатужилась, сунула в рот пальчики и тихо-тихо свистнула.
Тут же ласточка присела рядом с Дюймовочкой, и та стала карабкаться вверх, цепляясь за ее огромные перья.
А мальчишки с гиканьем, очень озабоченные, уже бежали к маленькому человеку. Они гнали перед собой отвоеванный мяч.
Видимо, они издали следили за своей жертвой.
– Ты че? Ты че? Че он? Почему воробей-птица сел? А ну дай! – вопили они, протягивая руки и подбегая.
Маленький человек не мог пошевелиться.
Дюймовочка была ужасно медлительной, еле-еле ползла по блестящим перьям ласточки.
– Цап! – заорал подбежавший парень, но маленький человек крикнул:
– Ложись! Бомба!
Малый оглянулся, и в этот момент ласточка взлетела. Неуклюжая Дюймовочка опять не успела забраться и упала на ладонь маленького человека. Он быстро-быстро сунул ее в нагрудный карман своей рубашки.
– Где бомба? – угрожающе спросил парень. – Ты че?
– Какая бомба? – удивился маленький человек.
– А вот сейчас я тебе дам, – заорал парень, – че ты тут выставляешься? Бомба еще.
– Я из цирка, ты знаешь цирк? – громко сказал маленький человек (это было его мечтой, выступать в цирке). – Приходи вечером на представление. Ты, вот ты. Как твоя фамилия?
Парни смотрели на него, медленно соображая, что к чему.
– Я дрессировщик ласточек, – продолжал врать маленький человек. – Приходите вечером в цирк, я оставлю ваши фамилии на входе, вы пройдете без билетов на верхние места.
– Че? – спросил самый страшный из ребят. – Че он трындит? Ты че, по шее захотел? В глаз?
– Как фамилия твоя? – не унимался маленький человек.
– Ну… Бябякин. Быбыкин! – Все заржали.
– Так. Бябякин. А твоя?
– Пискин!
Они хохотали, окружив маленького человека.
– Вы что, не хотите вечером в цирк? Там выступают слоны, клоуны… Тигры. Бябякин, хочешь? На слонов посмотреть?
– А че? Какие? Ты кто?
– Билет в цирк хочешь?
– А че?
– Ну вот, – сказал маленький человек, – если вы хотите попасть в цирк, отойдите и садитесь. И тихо смотрите. А то мои ласточки, они хоть и дрессированные, но они боятся людей. Сейчас будет репетиция.
– Че? – спросили подошедшие новые парни. – Кто? Че он шепчет?
Маленький человек строго сказал:
– Сидеть!
Главный, Бябякин или Быбыкин, оглянулся и что-то, усмехаясь, сказал парням. Это были огромные дети, лет по двенадцать – четырнадцать. Они послушались его и сели один за другим. Они тихо пересмеивались.
Маленький человек сунул руку в нагрудный карман, тихим шепотом велел Дюймовочке забраться на ладонь. Почувствовал легкое щекотание и вытянул полузакрытый кулак с Дюймовочкой внутри из кармана. Потом он поднял руку и приоткрыл ладонь.
– Свисти! – велел он тихо.
Это был смертельный номер. Парни напряглись, как собаки на охоте. Они могли раздавить Дюймовочку в одну секунду.
Но они не различали Дюймовочки. Она же была в розоватом платье и сама розовая, такая же как ладонь маленького человека.
Опять защекотало в ладони. Дюймовочка, видно, точно так же как раньше, сунула два пальца в рот и засвистела что есть мочи.
– Гля! – крикнул один из ребят. – Птица летит!
– Тише, – сказал им маленький человек, – сидите, смотрите и не шевелитесь. Сейчас будет фокус.
Тут же ласточка села на руку маленькому человеку. Он стоял неподвижно, строго, как учитель, глядя во все глаза на парней. Те сидели молча и вытаращившись, только один парень рылся в кармане штанов. Он доставал, как понял маленький человек, рогатку.
– Это все убрать, – сказал маленький человек железным тоном. – Рогатку убрать.
Парни шевельнулись и покосились на своего товарища. Тот уже держал рогатку обеими руками. Доставал теперь из кармана что-то, возможно, камень.
Парни шарили вокруг себя. Один нашел довольно большой голыш.
Дюймовочка, растяпа, опять никак не могла забраться на ласточку. Маленькое, слабое существо с крошечными ножками.
– Если он не уберет рогатку, я не оставлю вам билетов. А сегодня вечером будет выступать самый большой силач мира Али Хан. Он поднимет две машины.
Парень, однако, натянул рогатку.
Никто не слушал маленького человека. Здесь, на поляне, они сами были силачи и самые сильные в мире. Они сами могли растоптать маленького человека и его птицу. Зачем им нужен был Али, поднимающий две машины! Тут было интереснее!
Все смотрели то на парня с рогаткой, то на маленького человека и старались не хохотать слишком откровенно, им было дико интересно и смешно, как от щекотки. Они буквально давились от смеха. Они, однако, понимали, что так поступать нельзя! И тем более это им втайне нравилось. Они, опустив головы, оглядывались по сторонам, не видит ли кто из взрослых их преступную затею.
Но никого не было.
Парень приладил камень к рогатке, натянул резинку.
Дюймовочка все щекотала ладонь маленького человека, все забиралась на ласточку. Та терпеливо ждала, присев как верховая лошадь.
Парень выстрелил и попал прямо маленькому человеку в лоб, немного погодя тот почувствовал, что полилась кровь.
Все заржали, завозились.
Многие шарили вокруг себя в поисках нового камня.
Но маленький человек даже не вскрикнул, боясь спугнуть птицу.
Тем временем другие ребята тоже полезли в карманы, доставая рогатки. Раз это можно, то почему и не пульнуть?
Они, опустив головы, ржали до слез. Один прямо упал и стал дрыгать ногами, показывая рукой на истекающего кровью маленького человека.
Стон стоял всеобщий.
– Целься в него, в него, – говорили они друг другу. – В воробья. И в глаз ему, в глаз! Лилипуту!
Следующий камень угодил маленькому человеку в шею.
– Слушай мою команду! – сказал маленький человек, не пошевельнувшись от нового удара. Камень вспорол ему кожу, но не слишком больно. – Стрелять надо всем вместе, залпом. Так… Приготовились… Нет. Ты, вот ты! – закричал маленький человек. – Ты почему не готов! Натяни свою рогатку! А ты? Пискин!
Все опять повалились на траву, дрыгая ногами. Они кричали:
– Ты Пискин, Пупискин!
Потом они стали подниматься на ноги и образовали круг.
Маленький человек громко и очень ясно сказал:
– Он целится в тебя сзади, смотри! Сейчас он разнесет тебе голову! Он сейчас пульнет в тебя, тот, сзади. Смотри!
Бябякин обернулся, увидел стоящего позади Пискина и дал ему в лоб кулаком. Тот ответил ногой. За Бябякина вступились двое, остальные начали колотить тех, кто им был ненавистнее (так это выглядело).
Слышалось пыхтение, топот и крики.
Пока они выясняли кулаками, кто прав, неуклюжая Дюймовочка забралась на ласточку.
Видимо, та поняла, что дело сделано, и встала в полный рост, выпрямив лапки (маленький человек не видел ничего, он стоял с поднятой рукой, тем более что кровь теперь заливала ему глаза), а потом ласточка с силой оттолкнулась от ладони маленького человека и, царапнув его коготками, подскочила и унеслась.
Маленький человек с трудом встал на ноги, поднял с земли платок, вытер им кровь с лица и с шеи, отряхнулся, глядя на дерущихся, и неторопливо пошел прочь.
Солнышко почти садилось, где-то в вышине улетала на ласточке Дюймовочка, парни же не на шутку разодрались, но это уже было их дело.
А назавтра маленький человек решил пойти в цирк и попроситься там на работу.
Он уже давно хотел быть уборщиком у слонов, но его не взяли из-за малого роста, посмеялись над ним. В цирке люди простые и прямо называют вещи своими именами. Они сказали ему, чтобы он валил домой, у них не лилипутский цирк!
Но теперь маленький человек запомнил Дюймовочкин свист, которым она подзывала ласточек. Он мог бы показывать этот номер – как ласточки садятся к нему на ладонь.
Правда, для этого надо бы было ловить ласточек и держать их в клетках – но на это маленький человек, это сразу было понятно, никогда бы не согласился. Он слишком полюбил ту ласточку, которая доверчиво сидела у него на голове. Хотя он ее так и не увидел вблизи.
Он теперь собирался предложить цирку номер на вольном воздухе – как он, маленький человек, стоит один среди толпы в центре площадки высоко над городом, как он свистит еле слышно, и к нему на ладонь садится птичка, которая никогда ни к кому не сядет!
Но рогатки! У людей могли быть рогатки!
Тогда надо было бы просить, чтобы зрители, выйдя из цирка на ту поляну, крепко взялись бы за руки. Тогда ни один не полез бы в карман за рогаткой.
Погодите, а если дождь? В дождь ласточки не летают и люди не стоят на улице, взявшись по-глупому за руки!
Маленький человек, идя по огромной поляне, освещенной низким вечерним солнцем, хотел уже сейчас свистнуть тем особенным свистом, которому он научился от Дюймовочки, и посмотреть, что из этого выйдет, – но потом он передумал, сообразив, что а вдруг та улетевшая ласточка услышит (у них очень хороший слух) и вернется с полдороги и опять сядет ему на голову со своей недотепой Дюймовочкой!
Он решил подождать до завтра.
Завтра ласточка с Дюймовочкой уже будет очень далеко, на пути в теплые края.
Какое счастье, что они спасены, думал маленький человек.
Вот я молодец, думал маленький человек впервые в жизни.
Мама часто говорила ему, что он молодец, но он не верил. Потому что мама его любила как никого в своей жизни и поэтому считала, что он добрый, умный и красивый и молодец.
Все мамы такие.
Поэтому маленький человек не верил в мамины слова.
А вот теперь поверил.
Он маленький, но мало ли маленьких в мире! И кошки, и собаки, и младенцы, и птицы еще меньше его. А бабочки? И все они живут и хотят добра. И им можно помогать и их защищать.
А кто помогает другим, становится больше и сильнее. Это проверено.
Надо стать птичьим доктором, решил маленький человек. Вот окончу школу, думал маленький человек, и буду врачом. Буду лечить орлов и сов, и даже ворон, не говоря о попугаях и соловьях, а уж ласточек особенно! И маленьких колибри, колибри!
И он, высоко подняв голову, пошел домой к маме.
Она же, открыв ему дверь, удивленно воскликнула:
– Господи! Как же ты вырос! Что такое творится!
И заплакала.
Принцесса Белоножка
Жила-была младшая принцесса, и все ее любили. У нее были ручки как из лепестков роз, а ножки белые, словно лепестки лилии. С одной стороны, это было красиво, но, с другой стороны, уж очень младшая принцесса была нежная и чувствительная, чуть что – она плакала. За это ее не ругали, но такого поведения в семье не одобряли. «Нельзя так распускаться, – говорили мама, папа, бабушка и дедушка-король. – Надо держать себя в руках. Ты уже большая».
Но от этих слов младшая принцесса обижалась еще больше и опять принималась плакать.
Однако пришло время, и к младшей принцессе, как это и полагается, приехал принц.
Принц был высокий, красивый и ласковый.
«Прекрасная пара!» – восклицали все вокруг.
Принц и принцесса много гуляли, даже танцевали, и принцесса – чего с ней никогда не случалось – плела на лужайке венки для принца и для себя, венки из васильков, которые были такие же синие, как глаза принца.
Принца и принцессу, как и полагается, обручили, то есть объявили женихом и невестой. На этом принц уехал в свое королевство.
А младшая принцесса осталась и принялась плакать. Все ее осуждали за такое поведение, даже вызвали врача. Врач побеседовал с принцессой и неожиданно назначил ей не успокоительные капли, как полагается в таких случаях, а таблетки от боли, потому что оказалось, что младшая принцесса надорвалась на этих танцах и прогулках и стерла свои нежные ручки и ножки до крови.
Время шло, приближалась свадьба, а невеста все плакала и баюкала свои забинтованные руки и ноги, сидя в кровати. Она не могла ни ходить, ни держать в руках чашку с чаем, ее кормила и поила старая нянька.
Однако врач бодро говорил, что все до свадьбы заживет, что просто младшая принцесса слишком нежная и чувствительная, плаксивая и несдержанная, а это, в свою очередь, является плодом неправильного воспитания в семье, а вот когда приедет принц – она вскочит и будет так же танцевать и шевелить руками, как и раньше.
«Все это психологическое», – говорил врач и кормил принцессу таблетками от боли.
Но старая нянька взяла фотографии младшей принцессы и отправилась к колдуну. Оттуда она привезла загадочную фразу: «Кто любит, носит на руках».
Фраза эта скоро стала известна всем, кто так любил принцессу с ее младенческого возраста, когда она радостно улыбалась, показывая свои первые четыре зубика и две ямочки на щеках, а кудряшки у нее были как золотой шелк, а глазки как незабудки.
Кто же не любил принцессу! Все ее любили: и папа, и мама, и дед с бабкой, король с королевой. И они все время вспоминали, какая она была чудесная малышка, какая приветливая, хорошенькая, с четырьмя зубиками. Когда пошли остальные зубы, картина немного попортилась, начался плач и капризы, и доехало до того, что теперь на вопрос: «Ну, мы уже перестали дуться на весь мир?» – принцесса вообще не отвечала, что было по меньшей мере невежливо, особенно если спрашивали король с королевой, да еще по внутреннему телефону. По телефону надо отвечать!
Тем не менее, руководимые старухой нянькой, к принцессе стали приходить и брать ее на руки все по очереди. Что, конечно, было просто подвигом, особенно если учесть, что, например, бабушка-королева была дамой неопытной и ничего никогда не поднимала тяжелей бокала с вином. А мама-принцесса вообще не знала, с какого боку подойти к своей уже довольно тяжелой дочери – хрупкая-то хрупкая, но все-таки принцесса уже вышла из младенческого возраста, пятнадцать лет, шутка ли!
Но все, поднатужившись, приподнимали младшую принцессу, которая ничего не понимала сначала и даже капризничала, не хотела, чтобы ее трогали, пока ей все не объяснила старуха няня. Но и тогда младшая принцесса продолжала лить слезы и совершенно не оценила рекорда папы-принца, который поднял ее на двадцать два сантиметра от постели! «Сюда бы слетелись все газетчики мира, – заявил папа-принц, – если бы мы не держали в тайне, что у нас дочь плакса-вакса-гуталин, на носу горячий блин». После чего старая няня носила младшую принцессу на руках по спальне целых десять минут, как в детстве, чтобы утихомирить ее, но при этом няня вспоминала и о своих обидах: что повар на кухне оставил ей не куриную ножку, а какой-то волосатый куриный локоть и что внуки одни бегают в деревне без присмотра, а тут живешь, выкладываешься, как потный индюк, безо всякой благодарности.
– Но ты меня ведь любишь? – спросила младшая принцесса, когда няня, набегавшись со своей ношей, положила свою принцессу обратно на кровать.
– А как же тебя мне не любить? – ворчливо отвечала няня. – Если бы я тебя не любила, я бы за такое жалованье давно бы здесь не жила!
Стало быть, все носили младшую принцессу на руках, но она так и не вылечилась.
Тогда стали говорить, что колдун оказался плохим пророком и что, может быть, няня неправильно пересказала фразу. «И что это такое? – возмущался доктор. – Кто любит, носит на руках! Не будем говорить об отдельных случаях, но меня, например, никто не носит на руках! Даже королеву не носят!»
И все были согласны с таким мнением и начали говорить, что эту фразу надо понимать в том смысле, что сама младшая принцесса никого не любит, и намек был на это.
А принцесса сидела в своей спальне, и няня все время подбивала ее позвонить принцу, но принцесса не соглашалась, а только плакала, почему принц сам не звонит. Наконец принц позвонил, и трубку держала сердитая няня, а сердилась она потому, что разговор продолжался два часа и няня проворонила обед, и еще она сердилась потому, что младшая принцесса в течение всего разговора умудрилась ни разу не заплакать и даже много смеялась.
– Значит, ты придуряешься, – сказала, положив трубку через два часа, няня, – ты можешь же не плакать!
И няня отправилась пить чай и сообщила всему дворцу, что у младшей принцессы не все так плохо, что она уже смеется. Все поздравляли доктора, ему немедленно увеличили жалованье, и у младшей принцессы без передышки звонил телефон, няня брала трубку и подносила ее к уху своей капризницы, но та в ответ на все вопросы типа: «Ну что, мы уже улыбаемся?» – только лила слезы, не отвечая ни «спасибо», ни «начхать», как выразилась потом няня на кухне.
Разумеется, когда была назначена свадьба и приехал жених, все бинты были сняты, ни слова не было сказано ни принцу, ни младшей принцессе, и на вечер, как и полагается, был назначен бал.
Только для принцессы приготовили особо плотные перчатки и сапожки. И когда принцессу одели, она, разумеется, тут же перестала плакать и позволила себя причесать и вплести в косу белые розы.
– Ну, что я говорила? – вопрошала няня по всем коридорам дворца, и повар отвалил ей большой кусок торта на радостях.
Все улыбались, и только врач срочно уволился с работы и уехал со своими новыми семьюдесятью чемоданами.
– Уехал и уехал, – говорила няня после трех досрочных рюмочек, – теперь он нам ни на что не нужен, тьфу! Это был врач? Любой санитар даст таблетку после еды три раза в день, и я не хуже могла бы за такие деньги.
Принц, тем не менее, пригласил принцессу на прогулку. Все понимали, что после гулянья младшей принцессе уже не удастся выстоять целую свадебную церемонию, и поэтому принцу сообщили, что принцесса предпочитает конную экскурсию. Принц понял это буквально и прислал младшей принцессе свою арабскую кобылку, удалось только сменить поводья на шелковые. Выйдя во двор, принцесса попросила принца взять ее на руки и посадить в седло.
– Для этого есть слуги, – улыбаясь, сказал принц.
– Я прошу только вас, – сказала младшая принцесса.
– Что за капризы? – спросил, улыбаясь, принц и позвал слуг, которые вознесли младшую принцессу в седло, как пушинку, и дали ей в ручку шелковые поводья.
И они поехали.
Принц был мужественный спортивный юноша, презиравший всякие слюни, вздохи и сантименты. Кроме того, он уже отдаленно был наслышан, что младшая принцесса слишком избалована и вообще неженка, и он решил начать ее воспитывать с нуля, еще до свадьбы.
Младшая принцесса по дороге в лес рассказала ему как самому близкому другу всю свою историю болезни вплоть до слов колдуна. Что это не капризы, а просто способ лечения – взять на руки.
Принц не поверил ни единому слову.
– Все это бабские глупости! – сказал он.
Тогда принцесса остановила кобылку и с большим трудом стянула со своей маленькой ручки перчатку. Принц увидел, отшатнулся и громко спросил:
– А почему? Почему меня не предупредили, что ты больная? У тебя, возможно, и дети будут больные! Больные наследники – это невозможно! Судьба государства, судьба королевства, нации, наконец!
И он, испуганный и взволнованный, так дернул поводья, что его конь взвился, сбросил с себя принца, а сам ускакал.
Принц лежал на лесной дороге без сознания, белый как мел, и изо рта его вытекала струйка крови.
Младшая принцесса слезла с лошади, уговорами и лаской заставила ее прилечь на дорогу, а затем как могла приподняла принца и взвалила его на спину умной кобылки. После этого лошадь встала, неся на спине безжизненного принца, а принцесса взяла в руки поводья и повела лошадь обратно в замок.
У ворот замка часовые унесли принца и унесли младшую принцессу, а служанки сбегали, подмели лесную дорогу, на которой принцесса оставила кровавые следы своих сапожек.
Принц вскоре выздоровел и собрался уже в обратную дорогу вон из замка, где его обманули, подсунув негодную невесту.
Выводя своего буйного коня из конюшни, он встретил знакомого священника, который шел к воротам с чемоданчиком в руке. Священник поздравил принца с выздоровлением и сказал:
– А вы не остаетесь на похороны?
– Кто-то умер? – спросил принц.
– Наша младшая принцесса, – отвечал священник. – Я уже причастил ее, там остаются какие-то минуты.
– Она была совершенно больная, – со вздохом произнес принц, – даже врач от них, как говорят, отказался. Уехал.
– Вы тоже тяжело болели сейчас, – сказал священник. – Если бы она вас не подняла на руки и не взвалила бы на лошадь, сегодня отпевали бы вас.
– Да, каково мне было узнать, что я могу остаться калекой! Принцесса, конечно, спасла мне жизнь. Но она меня обманывала. Когда мы говорили с ней по телефону, она должна была плакать от боли, а она смеялась! Как вспомню эти ее руки, так вздрогну.
– Да, возможно, она бы уже давно умерла, если бы не любила вас. Только из-за вас она оставалась на свете.
– Да, надо бы проститься, – смущенно пробормотал принц, отвел коня в конюшню и поднялся в покои младшей принцессы.
Он вошел в спальню своей бывшей невесты, увидел ее, и сердце его дрогнуло от жалости. Принцесса лежала совсем маленькая, как спящий ребенок, и рядом с ней сидела багровая от слез нянька.
Принц сделал вид, что ничего не знает, решительно подошел к ложу принцессы и сказал:
– Привет! Вот я и выздоровел! А ты что валяешься-притворяешься? А ну вставай, тебя тут держат как больную… А надо на солнце, на воздух, нужен спорт, движение!
Он отодвинул вскочившую злую няньку, схватил принцессу на руки, она оказалась легкая и тоненькая, и он понес ее как можно быстрее к окну, а сзади бежала и дергала его за куртку нянька:
– Она умерла, ты что, глухой?
Держа принцессу на одной руке, принц отодвинул тяжелую портьеру, быстро распахнул окно и тут увидел, что младшая принцесса смотрит на него, широко открыв глаза.
– Что ты ее трясешь, ей уже глаза закрыли, – шипела нянька, добираясь до принцессы, но принц загородил спиной свою ношу и быстро поцеловал принцессу в губы – он где-то читал, что так можно оживлять принцесс.
– Поздно, поздно, – причитала нянька, – раньше надо было, дурак, упустил свое счастье, девочка была ласковая, послушная.
А принцесса внимательно смотрела на принца, все еще широко открыв глаза, а потом моргнула и засмеялась. А нянька за спиной принца ахнула и зашептала:
– Кто любит, носит на руках, кто любит, носит на руках.
Разумеется, вечером сыграли свадьбу, на балу принцесса танцевала, а за столом ела сама, как полагается, ножом и вилкой, и безо всяких перчаток.
А колдуну послали огромный торт, бочку вина и цветную фотографию принцессы, как она надевает принцу на палец обручальное кольцо.
Сказка зеркал
В витрине магазина было много зеркал – одно огромное, в резной дубовой раме невиданной красоты, затем десять средних овальных, каждое из которых могло служить прекрасным портретом для прохожих (вообще-то, какова морда, таково и изображение; могли бы возникнуть трагедии, думали зеркала, – однако все без исключения граждане приостанавливались и любовались на себя, никто не отворачивался и не плевался при виде собственного отражения).
И наконец, в витрине помещались девятнадцать штук зеркал разнокалиберных, в том числе и самое маленькое, квадратное, которое пристроилось в глубине, и, собственно говоря, его никто из проходящих не видел. Зачем его туда сунули, вообще было непонятно. То есть под вопросом оказывался сам смысл существования такого предмета на витрине!
Ведь оно было простое, темноватое, и даже слухи ходили, что изнанка у него оловянная!
Остальные-то зеркала просто красовались перед прохожими – плоские и слегка вогнутые по краям, выпуклые и впалые, как для комнаты смеха, затем шикарные венецианские, с узорчатой стеклянной рамой.
Самое главное вообще называлось Псише!
И они не продавались.
Трудно сказать, то ли хозяин магазина особенно любил эти отражающие поверхности, то ли попросту хотел привлечь внимание к магазину в целях рекламы, – но они стояли на витрине только для вида.
А может быть, дело было в другом.
Поговаривали, что старый владелец – просто обедневший брат короля, и, перед тем как покинуть свой проданный родовой замок, он собрал все, что в нем было, и открыл свою лавочку здесь, в городе, мало ли, а вдруг кто-нибудь соберется что-нибудь купить!
А зеркала он вывесил снаружи, чтобы в них не смотреться. Может быть, ему не хотелось себя видеть.
Во всяком случае, все наличные зеркала располагались именно снаружи.
На вопрос, почему они там стоят, хозяин отвечал строго и преувеличенно любезно:
– Оформление витрины.
Как будто хранил некоторую тайну.
Единственная сотрудница хозяина, дальняя тетка, солидная дама по прозвищу Кувшиня, раз в неделю посещала сообщество зеркал. У тетушки Кувшини имелись в хозяйстве щетки, тряпки и бутылочка со специальной жидкостью (как шептались в магазине, это был эликсир для протирки бриллиантов!).
Итак, прохожие тормозили на бегу и засматривались в зеркала. Главное показывало зрителя целиком, средние по частям, то есть бюст до макушки или центральную часть туловища, а маленькие вообще вразнобой, кто что ухватит – пуговицу, карман, большой палец. Ухо кошки. Растопыренную воронью лапу, промелькнувшую перед приземлением. Дребедень, короче.
В целом это было похоже на картину художника-авангардиста. Пикассо бы позавидовал такому хрустально-чистому, подробному, лучезарному и раздробленному на грани изображению. Бриллиант, а не витрина!
Всякое зеркало в ней имело свое точное место – от ничтожнейшего, того самого, маленького и квадратного, которое пристроилось в глубине неизвестно зачем, до центрального, завитого как парик, в амурах и венках, стоящего слегка слева.
Хозяин строго следил насчет еженедельных протирок, а по поводу самого маленького предупреждал об осторожности, чтобы с места не сдвигать!
Но в витрине царили свои порядки, свои мерки и законы.
Все равно что в семье.
Дело в том, что когда нас оценивают наши близкие и родные, одноклассники и соседи, то вблизи никто никогда и не заподозрит, что имеет дело с выдающейся личностью! А то такую личность и локтем толкнут. Или дадут смешную кличку!
Только иногда и издалека доносится весточка о том, что, оказывается, ваш дальний троюродный дед известен всему миру как автор книги о супах или создатель теории брюк! А в семье его презирали, держали на старом диванчике и попрекали за дневной храп.
Так и в нашем случае – тусклое маленькое зеркало почему-то очень заботило хозяина, а со товарищи по витрине дружно считали этот стеклянный квадратик ничтожеством, мелким и упрямым.
Что бы тебе немного не подвинуться, тогда Второе Слева трюмо разместится не под углом, а прямо!
Но Маленькое упорно стояло на своем месте.
Ну и стой. Не обращайте на него внимания.
В витрине господствовало, кстати, такое мнение: ничего не принимать близко к сердцу, все провожать лишь беглым взором, проводил – встречай следующее, но ни на чем не останавливайся! Это вредно для нашей отражающей поверхности. Слишком много попадает туда информации!
И то сказать – мелькали велосипеды, собаки, машины, коты и голуби, дальние облака, дождевые потоки, вихри снега, воцарялись туманы. Мимо шмыгали школьники, неторопливо проходили люди в форме, долго громыхали мимо уборочные комбайны. Ползли, обращая на витрину робкое внимание, старушки. Тормозила молодежь, взбивая или затягивая то, что у них было в данный момент на голове. Дамы задерживались, вертелись, якобы интересуясь выставленными антикварными объектами.
Проходили ночи, каждая в своем блеске фонарей, рекламных огней и еле заметных звезд, наступали прекрасные рассветы, особенно глубоким летом, и это были настоящие спектакли – от черного бархата к синеве, к лиловой мгле и затем к сияющим розам.
Что говорить, мир, отражаемый зеркалами, был прекрасен!
Но эти пустые стекла – они ничего не запоминали, еще новости.
Маленькое зеркало в углу тоже получало свою долю света и тьмы, в нем мелькали клочки, блестки и детали нижней части жизни – сверкающий обод велосипедного колеса, качающееся, надутое днище сумки, порхнувшая из рук газета, быстрые каблучки, тяжело прыгающий резиновый колпачок костыля…
И то хорошо.
Мало, видимо, ему было надо.
Тем не менее какая-то тайна заключалась в том, что хозяин берег это ничтожество и каждый раз предостерегал Кувшиню, чтобы она аккуратно обращалась именно с данным объектом. Ни в коем случае чтобы ничего не стряслось с тем в углу, с тем Маленьким!
И он даже несколько раз лично протирал его, как глазик ребенка, поджавши губы от усердия и заботливо скрючив руку. А Кувшиня покачивала головой: не беритесь за эту работу, ой не надо. Не для принцев это занятие (сама-то она была рангом пониже, простая графиня, отсюда и прозвище).
Ясное дело, что толстая Кувшиня не очень любила данный мелкий предмет. Пшикнет жидкостью из флакончика, а протрет кое-как, и зеркальце иногда слепло на неделю, особенно если хозяин уезжал по делам.
Но он возвращался и первым делом останавливался перед витриной, проверял, как протерто и блестит ли содержимое его витрины – особенно то, дальнее, то зеркальце заднего вида. И Кувшиня получала выговор и лезла протирать новоявленное сокровище, при этом она шептала что-то, пыхтя. Ей, понятное дело, было тяжело – аристократке и просвещенному человеку да заниматься уборкой! (Прежним королям она вроде бы приходилась десятиюродной кузиной.)
Конечно, среди обитателей витрины ходили всякие предположения.
Народ поговаривал, что Маленькое з. – это явно осколок какого-то большого и очень ценного зеркала. Может быть, царского? И что хозяин явно хочет его продать за большие денежки. То есть мало ли что в нем отражалось. Царицы, царевны! Убийства, заговоры, покойники, тайные младенцы!
Иначе что было беречь такую мелочь.
Спрашивали Маленькое з., в чем его суть. Оно не отвечало, на обидные вопросы не возражало, но и не говорило ничего конкретного. Напускало туману. Гордое слишком!
И у многих рождалось сомнение в том, что тут налицо какие-то свойства. Некоторые не соглашались с тем, что оно якобы древнее и, грубо говоря, волшебное. Магическое? Да глупости все это.
И не раз все население витрины приступало к нему с вопросом: да или нет. Однажды получился ответ «Да».
– Да??!
А в чем заключается, осторожно стали спрашивать дальше. В чем?
Ответа все не было.
Малому гордецу присвоили прозвище Гений, в шутливой форме, конечно.
– Эй, ты, Гений! Опять ни шута не видишь? Не помыли тебя?
– Ах, оставьте его, он Гений! Как он отразил резиновый сапог!
– Он у нас по подробностям. О, о, прославь собачий хвост! Смотри, пакет с мусором понесли! Это твое, важная тематика, ха!
И так далее.
Но однажды из угла витрины донеслось что-то.
– Але, мы не слышим! Повтори, Гений! Он проговорил что-то типа: «Я могу остановить».
– Можешь остановить – что? – последовал законный вопрос.
– То, что надвигается, – прошелестело из угла.
– Ну и что?
– И тогда я погибну, – тихо сказал этот Гений.
Гибели боялись они все, и каждый знал, что зеркала умирают. Пятнышко, второе, темная полоска – и дело пропало.
Все они при этом предчувствовали чужую кончину (и ревниво следили за приметами) – однако совершенно не верили в свою.
Поэтому они развеселились и дружно сказали то, что обычно говорят в ответ на такие заявления:
– Ты еще всех нас переживешь!
– Маленькое живучей большого, – вздохнуло Среднее зеркало, которое претендовало на первенство, потому что было без единого изъяна и считало, что рама еще не значит ничего.
– Да ну! Гений, не бойся, тебе сделают новую амальгаму! И вперед по кочкам! – сказало одно Среднее з. с пятнышком, которое верило в оживление с помощью операции.
Большое з. трагически молчало. У него имелась уже темная полоска. Но оно надеялось на свою прекрасную раму и на то, что мы достойны реставрации в первую очередь.
– Да нам всем тут без исключения должны сделать новую амальгаму! – сказало оно наконец. – И главное в чем! Не жалеть серебра.
– Да, и тогда нас наконец купят! – вырвалось у Среднего з. с пятнышком.
(Витрина подозревала, что никто и никогда не интересовался ценой на зеркала, потому что они все были старые. Старое никому не нужно! Сейчас мода на новое!)
– Да некоторым и новое покрытие не поможет, – проскрежетало одно кривоватое зеркало по прозвищу Дядя Свист.
Все довольно посмеялись, имея в виду самого Дядю Свиста, и замолчали, отражая мокрую ночную мостовую, сверкающие лужи, мелкие снежинки и темные дома.
Зеркала, разумеется, чувствовали, что, если бы не хозяин, никто бы и не поглядел в их сторону. Это только он обожал старые вещи, свою коллекцию древностей. И он ценил именно знаки времени, муть, пятна, царапины.
Еще бы, это ведь были следы жизни его предков-королей!
Но он один был таковский, подслеповатый чудак.
И у него не было денег на реставрацию. Видимо, поэтому он не раз говорил, что в старой вещи все должно быть подлинно.
Поскольку некоторые покупатели отдавали вещи в реставрацию – купленные темные картины, фарфоровых кукол с сомнительно поцарапанным цветом лица и со слегка побитыми носами, потертую мебель.
Такая была мода, улучшать. Чтобы было старое, но новое. А хозяева города вообще не церемонились с древними домами и сносили всё подряд.
Все выходило из рук ремонтников в возмутительно новеньком виде, якобы старые здания с пластиковыми скульптурами, блестящие, как облитые клеем, картины, куклы с абсолютно розовыми лицами в цветущем состоянии, чисто как витринные манекены.
Это была трагедия, которую могло исправить только время в виде трехсот последующих лет. Или немедленное землетрясение (или приезд на дачу на летние каникулы пятерых внуков с их малолетними друзьями).
* * *
Но мы еще не сказали о главной любви зеркал.
Рыжая Крошка была внучкой хозяина. Ее еще звали Маленькая Принцесса. Родители ее, врачи, трудились в дебрях Африки, а девочка жила с дедом. Она бегала в школу, трудолюбиво ходила в музыкалку со скрипочкой и огромной папкой – и каждый раз мимо витрины. Зеркала любовно повторяли золотой шлем ее волос, машущие веера розовых пальчиков, блеск синих глаз.
– У нас, когда я жил у старых хозяев, у королей, был огромный сад, – говаривал Дядя Свист, любовно провожая всей своей поверхностью вихрь по имени Рыжая Крошка, – и этот сад было видно в окно. Там зрела малина.
– Ну и что ты этим хочешь сказать? Где логика? – вопрошало придирчивое Кривоватое зеркало.
– У нее рот как ягода, вы обратили внимание? Как три ягоды малины.
– Ну ты поэт, Свист! – хихикало Кривоватое з. – Влюбился?
– У меня нет души, – серьезно отвечал Дядя Свист. – А то бы да.
Вообще зеркала все любили Рыжую Крошку, но страсти достигли накала в особенности в тот момент, когда она выпросила у деда одно старое венецианское зеркало, и его долго снимали с крюка, переполошили всю витрину, и старенькое зеркало заплакало от счастья, запотело. Его провожали общими криками зависти, которые звучали как «Ну, старик, поздравляю!» и «Нет слов», и даже зловещее напоминание в виде шелеста вслед: «Мы тебя ждем всегда, имей в виду!» Последнее напутствие было такое: «Когда разобьешься, все равно возвращайся, склеим!»
Венецианца унесли наверх, в прекрасную домашнюю жизнь, отражать принцессу, Рыжую Крошку, все закаты и рассветы ее шестнадцати лет.
А у зеркал появилась робкая мечта когда-нибудь тоже пригодиться девочке. Они иногда видели сны о втором этаже, о маленькой спальне с фортепьяно.
– Ну и вот, и снится мне второй этаж, – как обычно, начинал Дядя Свист, а его перебивали:
– Где его там повесили, ты не рассмотрел?
Они спрашивали его якобы заботливо, а на самом деле завистливо:
– Наверное, в прихожей? Там же темно!
Рыжая Крошка была всю свою жизнь (начиная от колясочного периода, когда они видели разве что ее крутой лобик и золотую кудрявую макушку, и то эту честь имели только маленькие зеркала понизу) – итак, она была любимейшим объектом изображения тридцати стеклянных живописцев и их общим сокровищем, даже тогда, когда она начала взрослеть и предпочла им всем мутноватого венецианского аристократа.
* * *
Стало быть, однажды вечером толпа зеркал молчала, провожая позднее такси.
Шестьдесят стоп-сигналов было трудолюбиво отражено и исчезло.
Вдруг витрина вздрогнула.
Ничего не отразилось в ней, только какой-то сгусток непрозрачной тьмы смазал сверкающие поверхности, убрал в этом месте ночной блеск, мокрую мостовую, свет фонарей…
Одно мгновение – и все вернулось.
Что это было?
Большое зеркало по прозвищу Псише, ощущая боль в старом затемнении и зуд на том месте, где возникало еще одно, новое, сказало:
– Никто ничего не заметил.
– Я, – ответил из угла Гений, хотя его никто не спрашивал.
– Ему видно все, – откликнулся Дядя Свист. – Но частями.
– Ты тоже ничего не видел, – повторило Псише. – Понятно?
Все помолчали.
– А что, что-то произошло? Случилось? – вмешалось Кривоватое з.
Средние заверили, что ничего. Гений сказал:
– Это прошло Одиночество. Я его знаю триста лет.
– Да, – поддакнул Дядя Свист. – Прошла гибель.
Гений тихо продолжал:
– Оно вышло на охоту.
– Я боюсь, – сказало Среднее з. с пятнышком.
– Оно охотится за живым существом, не бойся, – отметил Дядя Свист. – Мы неживые.
– Мы не мертвые, – откликнулось Псише, – но нас это не касается никак. Мы ничего не принимаем во внимание.
Дядя Свист помолчал и вдруг заволновался, чего с ним раньше не было:
– Сто лет назад оно выбрало ребенка. Знаменитое исчезновение девочки. Судили невинного прохожего и казнили. Мои хозяева оставили газету на столе. Я прочло об этом. И я ведь висело против окна и все отражало. Я могло бы быть свидетелем исчезновения, но мы не храним отпечатки…
– Не надо, не надо об этом, – залепетали зеркала.
Дядя Свист продолжал:
– Девочка шла по улице с няней, одиночество пролетело… Ребенок исчез навсегда. Няню тоже судили и отправили на каторгу. Прислуга потом говорила, что няня там умерла.
– А что ему надо? – спросило Среднее с пятнышком.
– Ему нужно самое лучшее. Оно – то, что берет навеки и никогда уже не отдает.
– У него много имен, – откликнулся Гений.
– Зависть к живому, – пояснил Дядя Свист.
– Смерть? – бесстрастно спросило Кривое з. с пятнышком.
– У него много имен, тебе сказано, – повторил Дядя Свист.
– Мы не должны ничего запоминать, – громко произнесло Псише. – Нас ничего не касается. – И добавило ядовито: – Дядя Свист, мало тебе одного пятна?
Но Дядю Свиста было уже не остановить:
– Ты, Гений, я что-то слышал о тебе.
– Да, – откликнулись из угла.
– Я слышал о тебе примерно в то же время. Что только ты один мог… В тот самый момент…
– Да, – прозвучало снова.
– А где ты был?
– Меня отдали в ремонт и положили лицом вниз.
– Понятно, – задумчиво сказал Дядя Свист. – Погоди. Ты был на «Титанике»? Когда Одиночество налетело на корабль?
– Нет, я был далеко.
– Хотя да, если бы ты там был… Тебе что-то вообще удавалось?
– Не думаю. Не уверен.
– Ты не хочешь говорить. Да? – Молчание было ответом.
– Конечно, если тебе удавалось кого-то спасти, то спасенные так и не узнали, что им угрожало. Погоди, но ведь ты тоже должен был бы погибнуть?
– Примерно так, – еле слышно откликнулся Гений.
– Но ты здесь. Значит, ты никого не спас.
Что-то неразборчивое прошелестело в углу.
– Что ты сказал? Меньше? – переспросил Дядя Свист. – Ты становился меньше?
Гений не отвечал.
– Мы зеркала, – произнесло Псише как заклинание. – Мы отражаем, и мы ничего не пропускаем внутрь. Мы ни на что не реагируем.
Прошел бездомный старик с большими сумками. Он еле волок свои истощенные ноги. Зеркала подробно его проводили к ближайшей помойке и отпустили с миром.
– Маленькое трусливенькое, – сказал Дядя Свист неизвестно кому.
Вскоре началось представление под названием «Восход солнца», и вся сияющая компания за стеклом витрины дружно отпраздновала это событие, чтобы затем провести сеанс под названием «Утро городской улицы».
– О, если бы мы могли записывать все, что видим, – мечтательно произнесло Кривоватое зеркало, – а затем воспроизводить запись… Как это было бы полезно!
– Конечно! – встрял Дядя Свист. – У тебя все башни пизанские! Все люди косые инвалиды! Мастер кривых полурож!
– Это юмор или ты не соображаешь? – возразило Кривоватое, – это мой тип отношения к жизни. Я все вижу слегка не так. А вот Большое зеркало – оно очерняет действительность. У него темные пятна! А Гений вообще ничтожество, у него и собственного взгляда нет.
И потекло обычное заседание Отражателей Реальности, перекрестные обвинения, слово для защиты, попытка примирить стороны… Но внешне все выглядело очень достойно – зеркальный блеск, движение улицы, повторенное до тридцати раз, никому нет отказа, каждый прохожий имеет право видеть себя, а для цветовых эффектов мимо проезжают разнообразно окрашенные машины.
И вдруг все прекратилось. Зеркала временно ослепли, изображения на них смазались, стерлись, превратились в ничто. Никто этого не заметил, кроме самих зеркал.
Псише сказало:
– Оно ищет.
Кривоватое з., оскорбленное всем предыдущим разговором, ляпнуло:
– Оно ищет, наверное, Рыжую Крошку.
– Ты! – прикрикнул на него Дядя Свист, но было уже поздно. Невидимое придвинулось. Снова как вазелином мазнули по стеклу. Потом все восстановилось. То невидимое, что уничтожало изображение в зеркалах, оно не могло, как видно, долго стоять на месте.
* * *
Стало быть, начались новые времена.
В округе шныряло голодное Одиночество, и нельзя было вслух произносить имени Рыжей.
Все обрушились на Кривоватое зеркало, которое от обиды хихикало и притворялось дураком.
– А пчу? А пчему нельзя ее называть? А если я хочу? У нас свобода слова! Террористы вы!
Пока наконец Дядя Свист не сказал:
– Оставьте его в покое. Кривое не такое дурное, как кажется.
– Прям, – на последнем взлете гордости возразило Кривое, однако замолкло наглухо.
– Оно караулит, оно караулит, – все равно шелестели ему зеркала. – Не надо, не надо было произносить…
Кривое наконец запотело и потекло слезами.
И тут, в самый разгар трагедии, из дверей магазина выскочила Рыжая Крошка, тряся своими темными кудрями.
На ней были клетчатая школьная юбка, короткий пиджачок и новые огромные ботинки, которые делали ее похожей на длинноногую муху.
Псише с удовольствием повторило этот незабываемый образ в полный рост (Рыжая Крошка всегда охотно ему позировала), а остальной зеркальный хор подхватил сюжет, и его участники воспели кто что мог – кто подошвы, кто пиджак, кто скрипку, разложив ее на десять граней.
Гению обычно доставалось откликнуться на нижнюю часть нот – но на сей раз только край юбочки трепыхнулся в нем и исчез.
Крошка помахала деду сквозь витрину (целые россыпи розовых вееров отразились в зеркалах) и помчалась со своей скрипкой в школу.
От волнения зеркала немного дрожали (или это прогрохотал мимо очередной мусороуборочный танк).
И тут опять наступила слепота, которая длилась мгновение.
Это Одиночество просквозило мимо в своих жадных поисках.
Оно имело возможность найти жертву в любом месте, в том числе и здесь – и витрина ничего не смогла бы с этим поделать, однако зеркала трепетали. Кривое з. плакало уже откровенно (жалело себя).
И в этот момент прозвучало:
– Рыжая Крошка прекрасней всего, что есть на свете!
Они все едва не раскололись от ужаса.
– Кто? Что? Зачем? – зазвенели стекла.
– Дурак! Гений идиот! – рявкнул Дядя Свист.
– Ни Венеция, ни Венера, ни Нефертити, ни все красавицы мира, ничто не сравнится с Рыжей Крошкой!
Это вещал Гений. Это говорил он, тихоня, вечный молчальник.
– Зачем, – тоскливо забормотали зеркала. – Не надо, не надо произносить!
– Она скоро появится здесь, потому что, по-моему, она забыла ноты! – продолжал Гений своим громким глуховатым басом.
– О, о – зачем – предатель – молчи дурак убьем – что ты делаешь – вот вам и Гений – а вы валили на меня – а я всегда знал, что он такой – он сошел с ума! – звенело в витрине.
– Она скоро вернется! – трубил Гений.
Дважды промелькнуло взбудораженное Одиночество, дважды все погружалось в мгновенный сон.
– Вот она идет, я сейчас ее отражу! – из последних сил крикнул Гений. Он весь дрожал. Стекло витрины звенело.
– Гений, это злодейство, – перебил его Дядя Свист. – Это предательство!
– Вот она! Смотрите! Вот! Тут! – хрипел Гений.
В этот момент Одиночество всей своей безымянной массой встало в зеркалах витрины и даже как бы нагнулось всмотреться, откуда идет этот голос, – и жизнь ушла, как бы выпитая со стеклянных поверхностей. Не было ничего.
* * *
Однако настало время, и зеркала стали оживать. В них снова заиграл свет, снова отразились машины, люди, облака.
Крошки не было. Она исчезла.
Зеркала всё поняли.
Они запотели, по их стеклам, драгоценным, старинным, поплыли дорожки слез. Жизнь затуманилась, перестала двигаться и сверкать. Порча надвигалась на хрусталь, на деревянные резные рамы. Старые зеркала источали влагу.
В витрину изнутри заглянула встревоженная Кувшиня, позвала хозяина, они вдвоем стали выносить зеркала в дом, потом пытались заделывать какие-то подозрительные щели в оконном стекле.
Зеркала неудержимо плакали. Кувшиня протирала их, выжимала тряпочку и снова протирала – и все без толку.
Пока вдруг у витрины на улице не остановился хрупкий силуэт, осененный кучей темно-красных кудрей, и пять длинных пальцев не выбили на стекле легкую дробь!
– Деда! Привет! Че случилось? Кувшиня, что с тобой?
– Не Кувшиня, а Графиня, – привычно поправил ее дед.
Зеркала тут же быстро просохли, опомнились, у них закружились от счастья отражения – вот потолок магазина, вот стены, битком забитые шкафчиками и полками со всякой ерундой, вот дорогая Графиня, вот любимый хозяин, который радостно машет в сторону двери, вот принцесса Рыжая Крошка, которая ворвалась в магазин со своей скрипкой и завопила:
– А я ноты дома забыла! Играла по памяти!
Графиня ахнула:
– На экзамен без нот??? Сумасшедшая!
– Три с плюсом! Вот! Закончила, всё! Урра!
– Жива, жива, – пели зеркала. Все, кроме одного.
Гений остался лежать в своем углу кучкой пепла с крошечным кристалликом внутри.
Вскоре переселенцев протерли насухо и повесили по местам.
Там-то все и обнаружилось.
Большое Псише сказало, как отрубило:
– Гений не выдержал своего предательства.
– Да, да, – откликнулись, сверкая от счастья, остальные.
Ведь произошло чудо – о них позаботились, их приглашали в гости в дом, целое приключение!
А Дядя Свист после долгого молчания вдруг сказал:
– Ну нет. Ну уж нет.
– Что – нет? Да и да! – решительно ответило Псише.
– Я говорю нет, не предательство.
– Докажи! – вякнуло Кривое з. У него снова появилось право голоса. Рыжая Крошка спаслась!
– Гений остановил его. И погиб. Уменьшился до точки.
– Остановил – кого? – спросило Кривое з. недоверчиво. – Мы, зеркала, вообще можем останавливать всех прохожих.
– Он остановил того, у кого много имен, – отвечал Свист. – Поймал его на приманку. Заставил стоять и смотреть. Заставил отразиться в себе.
– Подумаешь! Все останавливаются и смотрят. Я тоже могу заставить любого! – не унималось Кривое з.
– Тот, у кого много имен, должен быть все время в движении. Таков закон. Он налетает как вихрь и не останавливается.
– Гений был такой маленький, он бы не смог поймать Одиночество, – возразило Псише. – Даже я не в силах был бы его отразить полностью. Есть, конечно, очень большие зеркала… В Зимнем дворце… Да и то сомневаюсь.
Все уважительно закивали. Царские дела!
– Гений знал свою силу. Он уже не раз использовал ее и потому стал таким маленьким. А тут он отразил того, у кого много имен, и совсем погиб, – продолжал Дядя Свист. – Помните, он сказал: «Я могу остановить»?
– Мало ли кто что говорит! – ядовито ответило Кривое з. – Я тоже много чего говорю, но это ведь ничего не значит! У меня, ребята, не было никакого желания предавать Рыжую Крошку! Так просто, на язык попало! Я и ляпнуло! А вот Гений – это да… Он специально!
– Он неоднократно спасал, я теперь понял. И теперь исчез, – настырно твердил Дядя Свист.
Все на всякий случай закивали, но они быстро должны были обо всем забыть. Зеркала, они такие!
А Гений, обратившийся в тусклый холмик стеклянной пыли, лежал в витрине.
Дядя Свист потом молчал целую неделю.
Что может зеркало? Поплакать, и всё.
Семь закатов, шесть рассветов встретили и проводили бедные зеркала, и несчетное число машин и прохожих отразили.
Кучка пыли и есть кучка пыли.
Так все и оставалось до первой уборки, и Кувшиня вымела непрошеный мусор веником на совок, удивившись при этом, как этот пепел попал в витрину, если здесь убирают каждую неделю.
Про Гения она не вспомнила.
Затем путь его был таков: Кувшиня понесла пыль прямо в совке в бак для мусора в подворотню, но тут закрутилась маленькая буря, и с совка все смело подчистую.
Крошечный кристаллик взметнулся вместе со стеклянной пылью и улетел.
Кувшиня пожала плечами и удалилась в магазин.
Облачко пыли полетело над улицей и было втянуто вентилятором в некоторое помещение, где работал стеклодув.
Там мастер как раз собирался варить стекло.
Облачко пыли остановилось около мастера, и тут мастер громко, из глубины души, чихнул – и пыль, бешено закрутившись, осела в емкость, где уже было все приготовлено. Последним, упав, тонко звякнул некий кристаллик – а мастер зажмурился, никуда не глядя и ничего не видя, и тут же загрузил емкость в печь.
И в результате три часа спустя он неожиданно для себя сварил ровную, как зеркало, плитку хрустального стекла.
Ему редко выпадала такая удача. Почти никогда.
Оставалось нанести на поверхность серебро, так называемую амальгаму – чтобы зеркало могло отражать мир.
Мастер покачал бородой и ударил себя кулаком по колену, так он был доволен!
Стекло и серебро – вот и засияло новое зеркало.
Это было новое зеркало, разумеется. Но оно было какое-то странное. Темное и глубокое, как старинное.
Квадратное и немаленькое. Тяжелое.
Его непонятно почему купил один суровый старик, по профессии главный врач, и повесил в раздевалке своей детской поликлиники.
Там оно отражает бегающих детей и солидных подростков, а также младенцев, их курточки, шапки, щеки, носы; в зеркало также озабоченно заглядывают мамаши.
И когда-нибудь туда обязательно придет одна рыжая молоденькая дама с младенчиком…
Зеркало знало, что эта встреча произойдет зимой, на Рождество, и в вестибюле будет стоять нарядная елка, и всем будет некогда – но детей надо же приносить к врачу, когда им исполняется ровно месяц. Так полагается! Хотя бы просто чтобы показать, что у нас растет за чудо.
И Рыжая Крошка остановится перед отражающим стеклом, стараясь одной рукой поправить кудри (другой рукой она будет крепко держать совсем маленького человека).
И зеркало радостно засияет.
Город света
Глава 1 Кузя и бабушка
Жил-был один мальчик, звали его Кузя.
Он довольно туго соображал, хотя ему исполнилось уже четыре года.
Так, например, гуляя в парке, Кузя всегда отдавал свои игрушки, мяч и велосипед первому попавшемуся ребенку или какому-нибудь оборванному дедушке.
Если ему покупали мороженое, он тут же оказывался в кружке желающих откусить или, что еще интересней, не протестовал и кивал, когда у него ловко брали сразу все мороженое целиком..
Бабушка и мама обижались:
– Не можем же мы кормить всех мороженым и покупать велосипеды на целую роту!
А Кузя не понимал и спрашивал:
– Почему не можете?
– Да потому, дурья твоя голова, – сердилась бабушка, – что мы не напасемся тут на всех!
– А почему? – повторял Кузя глупо-преглупо.
– Да денежек нету!
– Да есть! Есть, бабушка! У нас их много!
– Здравствуйте! Где это ты видел у нас много денег? – тихо спрашивала бабушка и уводила ребенка подальше.
– А в шкафу! Вот ты, бабушка, не знаешь! А я сам видел, как мама считала. Пошли, покажу!
– Тихо! – командовала бабушка. – Не ори! Это… Это мама собирает на диванчик тебе! Надо много денег, чтобы купить тебе диванчик!
– Мне не надо диванчика!
– Как?! Ты же растешь! Скоро ты в своей кроватке не будешь помещаться!
– Знаешь, – отвечал на это Кузя, – я как-нибудь обойдусь.
– И что ты предлагаешь? – бабушка довольно свирепо оглядывала Кузю. – Ты предлагаешь эти деньги им отдать? Всем твоим так называемым друзьям и этим бомжам?
– Да, бабушка!
– Но ведь ты видишь, что мама с папой работают целыми днями, страшно устают и зарабатывают не так уж много!
– Но мне не нужно ничего!
– А кроме тебя, есть еще и другие люди в доме! А нам нужна стиральная машина, эта все время ломается. И я тогда стираю руками! Смотри, какие у меня руки! Ты же ни о чем не думаешь и ползаешь прямо по песку! И нам нужен второй телевизор, чтобы папа с мамой не ругались каждый вечер из-за его футбола. А твой отец считает, что вообще все надо бросить и купить подержанную машину. Чтобы он мог лежать под ней все выходные, я думаю! И тратить последние деньги на запасные части! Этим все и кончится! А ты говоришь диванчик…
– Бабушка! Но я ведь не хотел мороженого… Поэтому и отдал!
– А я вот хотела! А купила только тебе! А ты немедленно все роздал этим твоим друзьям! Ты думаешь только о них! А обо мне не думаешь!
Бабушка была готова заплакать.
– Ну давай купим мороженое тебе! – восклицал Кузя. Но она горестно говорила:
– Мне нужно еще на обед что-то сообразить. Может не хватить. И потом! Почему мы должны на всех пахать! У этих твоих дружков у всех есть свои родители, вот пусть они им и покупают мороженое.
– Нет, – отвечал Кузя, – у него нету родителей.
– У кого?
– У того грязного дедушки! Который лежит там в кустах!
– Разумеется, что нету! – ворчала бабушка. – Он сам дедушка, сам себе может купить! А не лежать как лодырь!
– Но он ведь не купил!
– Значит, не захотел! – говорила бабушка.
– Нет, – возражал малыш Кузя, – у него слюнки потекли, он сказал «дай куснуть». Он очень захотел мороженого!
– А на всякое хотение есть терпение.
– Что это значит?
– То и значит! Надо сдерживаться! И зарабатывать на себя! Вон бабушки около метро торгуют сигаретами, букетами… А дедушки ни фига ничем не торгуют! Барство! Лежат в кустах и бутылки собирают!
– Но если человек хочет велосипед или мороженое, а у меня есть, а у него лет, почему ему не дать? – опять, как попугай, повторял Кузя.
– Но это твое мороженое! – кипятилась бабушка. – Твой же велосипед! А не их!
– Ну вот если это мое, вот я и отдам свое мороженое и свой велосипед, – в который раз возражал Кузя.
– Но куплено-то тебе! А не им! И, между прочим, на твоей мамы денежки! Опять снова начинается! Замолчи!
– Баба! Этот дедушка сказал: «Не надо быть жадным, сынок!»
– А тогда чего этот твой дедушка сам жадный и у тебя отбирает?
– Он не жадный!
– И мама с папой имеют право спросить, куда ты деваешь ихнее добро! То, что тебе дали! – снова объясняла ему бабушка, выйдя из терпения. – Когда сам начнешь зарабатывать, будешь швырять деньги как карты, направо-налево, я уже предвижу, а сейчас деньги не твои, мороженое не твое, велосипед не твой, отдавать всякой шпане не имеешь права! Дурачок ты у меня.
И она обнимала его и шла отнимать обратно велосипед и игрушки, пока люди не опомнились и не унесли все это к себе домой. А мороженое уже успевал дожрать всегда лежавший в кустах нетрезвый дедушка.
И дома все жаловались друг другу на Кузю.
Кузя на первый же звонок открывал дверь, и к нему полюбили приходить друзья со двора, довольно взрослые хулиганы лет семи и даже восьми, здоровенные лбы.
Всем уже была известна тупость Кузи. Зайдут и спрашивают:
– А можно я это возьму?
Кузя же отвечает:
– Бери, бери! Что хочешь бери, не жалко!
То есть совершенно по-дурацки себя ведет. А потом прибегает из кухни разгоряченная бабушка и не дает выносить из дома игрушки, телевизор и магнитофон, а также куртки и шапки. А Кузя расстраивается:
– Почему ты обидела моих друзей? Им так понравилось ко мне ходить! Они так любят меня!
– Понравилось, как же! – отвечает бабушка. – Им понравились наши вещи, вот что!
– Ну и хорошо, – говорит этот совершенно невыносимый мальчик. – Им понравилось, пусть забирают.
– Ну ладно, – вступает в разговор папа, – а если мой телевизор, например, нравится и мне тоже, как тогда?
– Тебе тоже нравится? – спрашивает удивленный Кузя. – Ты же все время смотришь передачи и ругаешься, что нечего смотреть, ты же кричишь, вот идиоты, ты же говоришь про него «этот дурацкий ящик»!
Папа молчит, не зная, что сказать, и готовит хороший подзатыльник вместо этого.
– Мало ли, – вступает в борьбу умная бабушка, – мало ли, мы и тобой сейчас, например, недовольны, но не отдавать же тебя! И по телефону не всегда нам звонят с хорошими новостями, но не выкидывать же его! Ты понял?
– Нет, – отвечает малыш Кузя, – я считаю, что надо все отдать, и тогда не о чем будет горевать, понимаете?
– Хорошо, а эти твои друзья, которые к тебе приходили, они отдадут тебе что-нибудь из своего?
– А мне это не страшно. Мне ничего не нужно, – так отвечал этот Кузя.
– Ага! – восклицал выведенный из терпения отец. – Тебе, дураку, ничего не нужно, потому что у тебя все есть! А вот ты не будешь же спать прямо на земле в каком-нибудь окопе и жевать траву, как тот козел? Вместо того чтобы спать в своей кровати и есть, как сейчас, жареную картошку?
– А это можно, есть траву? Тогда вообще все было бы просто!
– Нет! – вопила в ответ бабушка. – Нельзя! Мы не козлы и не бараньё какое-то! Чтобы жевать траву и хлебать из лужи! Мы люди! А люди должны жить в доме! В тепле, есть вареное и носить одежду! И быть людьми! А то все придет в негодность! Вообще везде! Дома развалятся, дороги будут разбитые, одна грязь, есть будет нечего и топить нечем! А чтобы этого не случилось, надо трудиться! Понял?
– Не знаю, – честно отвечал Кузя.
– Вот как мама с папой все время вкалывают! Слышишь меня? Ой, я вижу, ты ничего опять не понял. Ну мал еще.
– Я уже большой! – заявлял Кузя. – Вы сами говорили, что я уже большой и должен уметь сам одеваться! Сам застегиваться!
– Ну вот попробуй поспорь с ним, – махала рукой бабушка. – Все, иди мой руки и обедать.
Глава 2 Сирень и топор
А по соседству на планете происходили такие дела, что одна фея должна была скоро улетать с Земли.
Ее звали фея Сирени.
Обычно феи проводят на Земле срок в несколько тысяч лет, и за это время они худо-бедно стараются навести порядок в своем хозяйстве, и этой фее кое-что удалось сделать, правда, не везде, а только в некоторых странах с теплой весной. И вот теперь этой фее Сирени уже пора было лететь в свой Город Света за новыми силами.
Жизнь на Земле вещь дико утомительная. Для обыкновенных жителей это дело всегда кончается полным и безоговорочным отдыхом ото всех забот, хотя многие надеются на лучший исход (и напрасно).
С феей Сирени все это происходило тоже впервые, и она не знала, когда точно придет ее время, только было предчувствие, что оно скоро наступит. Фею уже ждал Город Света.
Может, ей предстоял длительный отпуск, а потом – смотря по обстоятельствам.
Если и возвращаться уже будет некуда, то фея, само собой, застрянет в своем прекрасном Городе Света на две-три вечности, пока не зародится на месте Земли какой-то новый сгусток туманов, свежего воздуха, ночной росы и утренних лучей.
Фея Сирени, правда, успела привязаться к своему временному месту жительства, да и сил было вложено немало. А всегда больше любишь то, что сам сделал, верно?
Поэтому она с большой неохотой готовилась к тому, чтобы уронить последние (они же и первые) слезинки, по одной из каждого глаза.
Фея Сирени давно уже выглядела плоховато, летала все меньше и меньше.
Она, правда, надеялась найти кого-нибудь себе в замену, но никто ей не попадался. Одна очень старая монашенка, один старик весь в белом, тоже слабоватый, десяток кротких женщин… Никто из них не взялся бы ничем руководить. Умные были и какие-то нерешительные, прямо как святые.
Положение становилось опасным, поскольку ослабевшая фея Сирени следила за порядком на Земле, а именно на Землю эмигрировал в незапамятные времена (то есть несколько тысяч лет назад) колдун Топор, существо вредное и злорадное.
Топор всячески портил жизнь здешним обитателям и делал это с большим успехом – а фея людям помогала, в особенности детям.
Топор считал себя старожилом на планете Земля, знал тут все закоулки и тайны человеческой души, и он искренне ненавидел фею Сирени, говоря, что не надо вмешиваться в жизнь людей, пусть делают, что им хочется, и тогда они с успехом сами друг друга переколотят и перебьют, и это и есть полная свобода для человечества, свобода и равенство, то же самое и братство.
То есть каждый равен другому, и никто не имеет право владеть чем-то, чего нет у других. А если владеет, то его надо пришибить первой попавшейся кувалдой, отнять несправедливо заграбастанное и присвоить его (до тех пор, пока у следующего земляка не накипит на душе и он не примется крушить все вокруг себя молотом, как озверевший кузнец своего счастья), и в результате весь этот мир насилья должен быть разрушен!
И жирные, заевшиеся страны с умеренным климатом должны провалиться в пучины вод морских! Как вот Атлантида когда-то.
И в таком случае, ежели это произойдет, то есть если все людишки благополучно вымрут, планета колдунов Черная Грязь всем скопом переселится на опустевшую планету Земля, где все-таки много светлее, есть воздух.
А у них на Черной Грязи всегда было пасмурно, холодно и мокро, даже жидко, всюду булькали лужи нефти, которой эти несчастные питались, а в атмосфере воняло керосином, тухлыми яйцами и забродившей подвальной картошкой, такие страшные были климатические условия. Черногрязевцы все как один мечтали превратить свою планету в огнедышащую пустыню с очень редкими колодцами, но зато с частыми фонтанами нефти.
Таким образом, колдун Топор выполнял благородное дело по освобождению Земли от человечества, чтобы обеспечить светлое будущее бедным жителям Черной Грязи, в число которых входила и пожилая мамаша Топора, которую он любил всем сердцем и признавал – после долгих скандалов по телефону, – что на старости лет (бабульке исполнилось дикое количество веков) она имеет право отдохнуть и переехать в более сухое место.
Надо сказать, что мамаша Топора по имени Зараза Ивановна вообще жила на дне гнилого болота и имела вид гигантской запятой, всю жизнь пресмыкалась как какое-то поганое земноводное, хотя при этом свободно разговаривала с сыном по межпланетной связи, диктовала ему условия своего переезда на Землю и многим была недовольна, в частности тем, что все идет медленно.
– Как наши там пустыни? – спрашивала она. – Растут?
– Какие это ВАШИ пустыни, мама? Они пока ихние. Да. Понял. Ой, мама, не лезьте. И не угрожайте. Не оборвете мне руки-ноги. Да! Вам еще сюда рано. Климат, говорю. КЛИ-МАТ суровый! Снег идет круглогодично. Завалило все, да! И все пустыни, Сахару, Гоби, Атакаму, Ямал. Выкиньте ваш телевизор, он неправильно показывает тутошнюю погоду. Врут они все! Купленные журналисты! Да! Нет, представьте себе, мама, я не лежу на дне болота, да! Руганью вы ничего не добьетесь, МАМА. Я не лепечу бред! Нет, мама, не КАК сивый лошадь! Много трудностей! А все что надо я делаю, – отвечал раздраженный сын.
Но, по правде говоря, если Топор и спешил, то не слишком, ему было понятно, что с приездом мамаши он потеряет свою самостоятельность и будет под каблуком у Заразы Ивановны – именно поэтому он в свое время и эмигрировал с Черной Грязи.
То есть каждое дело имеет свои две стороны – плохую и хорошую.
Доведи Топор свое черное дело до конца – тут же на Землю кидается рой его земляков, и не исключено, что они вскоре превратят такое милое и приятное место в гнилое болото или, еще того краше, в грязную пустыню.
Так что хоть природная зловредность проявлялась в Топоре ежеминутно – то кинет самолет в море, то устроит ураган, то цунами, а то и взорвет к своей маме целый центр города, оставив одни обугленные стены, – но Топор не слишком спешил со всем этим.
Правда, если бы Топор не хлопотал, то фея Сирени успешно научила бы всех людей взаимной вежливости, чистоте и доброте, но тогда Топору было бы страшно обидно за напрасно прожитую жизнь.
А ведь известно, что надо прожить ее так, чтобы было бы мучительно приятно.
Стало быть, Топор пакостил, но все время себя укорачивал, не желая раньше времени оказаться в кругу своей безобразной семьи черногрязевцев.
Другими словами, он в чем-то даже полюбил землю, на которую эмигрировал, хотя всем ее коренным обитателям искренне желал провалиться на этом месте.
Земля, но без жителей вообще – вот что его бы устроило.
Поэтому он любил ночь, безлюдное время, любил рассветы в полях и городах, когда все чисто и пусто, когда можно носиться повсюду беспрепятственно, сам и один, как король, роняя комья переваренного и свободно выпуская шлейф вонючих выхлопных газов (что делать, против собственной природы не попрешь).
А потом просыпались и вываливались из домов людишки, сброд, шумели, портили природу, загрязняли среду обитания.
Глава 3 Две жемчужины
Мы остановились на том, что фея Сирени слабела. Она потеряла силы настолько, что даже не могла себя защитить. Надо было улетать. Но как?
Чтобы взлететь, ей нужно было опереться на что-то, но на что?
Она уходила с места своей службы, а это всегда очень трудная вещь – покидать работу, которую любишь и на которую потратил жизнь.
Кстати, она не знала вообще, как это делается – увольнение отсюда, и насколько это трудно.
Никто на Земле ничего такого не предвидит, надеется на лучшее и на счастливый конец.
Вроде оно должно было произойти само собой. Какой-то дальнобойный луч мог сверкнуть – примерно так она прибыла на Землю.
Фея Сирени скиталась, таким образом, в виде пятнышка или короткого луча по белу свету, и без ее присмотра все начало хиреть, происходили катастрофы, бедствия, а уж колдун Топор совершенно распоясался и даже показался по телевидению, открыто объявив миру тайную войну, причем без адреса и времени – постоянную войну против всех.
Причем его было видно довольно плохо – какой-то бледный мужик с гадкой улыбкой, как будто он только что с удовольствием отомстил, но при этом измарался, пострадали штаны сзади, и он этого стесняется, однако позирует перед камерой как бы специально именно в таком замаранном виде, как бы ничего не скрывая, как истинная звезда, суперстар телевидения.
Фея Сирени, таким образом, скрывалась, а колдун Топор непрестанно показывал себя, но при этом невидимо находился сразу во многих местах и личинах.
Одновременно он повсюду выискивал фею, надеясь победить окончательно. Он чувствовал свою возросшую силу. Ему, разумеется, это было страшно трудно, поскольку фея Сирени имела вид луча света. А мало ли лучей света ложится на землю и просвистывает в воздухе по всем направлениям, в том числе и между людьми! Даже ночью, в глухой тьме, вдруг да чирикнет какой-нибудь ничтожный огонек и пошлет луч прямо кому-то в глаза, а Топор спохватывается и мечется туда-сюда, круша все на своем пути, то есть получаются опять одни пустые хлопоты!
Он, однако, знал, что фея любит болтаться около особенно добрых и беззащитных детей. Там-то он и надеялся ее поймать.
Правда, как уловить луч света, вот вопрос.
Короче говоря, каким-то утром фея Сирени путешествовала по городу в поисках подходящего знакомства с новым ребенком (последнее время только это и утешало ее) и увидела маленького мальчика за кустом, который кормил мороженым сразу трех приятелей гораздо старше его.
Они быстро, в шесть укусов, прикончили свою добычу, давясь от спешки, и попросили малыша принести им еще.
Он пошел к бабушке, сидящей на скамейке, и стал просить у нее новую порцию мороженого.
– Но ты ведь съел уже две! – удивилась бабушка. – Нет, хватит. А то простудишься и не будешь обедать.
– Буду, буду, бабушка, я очень голодный! – сказал малыш так правдиво, что у феи Сирени навернулись на глаза слезы.
Эти две слезы упали на песок и застыли там в виде двух жемчужин.
И два тонких свистящих луча ударили снизу вверх, подхватили с собой маленькое пятнышко света и бесшумно исчезли.
Запахло чем-то нежным и растаяло.
Мгновенно, откуда ни возьмись, из-за куста к этому месту попрыгала бойкая большая жаба.
И тут мальчик, так ничего и не добившись от бабушки, вдруг заметил у себя под ногами две жемчужины, поднял их с земли и понес своим друзьям за кустик.
– Вот, – сказал он им, – я нашел красивые камушки, хотите?
– Хрена нам твои пуговицы, дуррак, давай мороженого! – завопил самый большой и хорошо стукнул этого дурака по голове.
– Мороженого больше нет, – ответил ударенный, почесав макушку.
Двое других плюнули на него, и вся троица удалилась.
А проворная жаба вдруг съежилась до размеров гусеницы, потом гусеница, извернувшись, быстро лопнула, и на свет божий вылезла бабочка-капустница, маленько обсохла и зафиндиляла в воздухе.
В этот момент Топор опять появился на экранах телевидения в грязных с изнанки портках и с бледным, но спокойным видом. Он вымолвил:
– Краибнмр. рэ яуя пссту-фссту бзеф-мзеф! Ая? Усиптошись негебреммо. Сю? Шуи опсянась-офсянась бно-ная арья-шмарья. Бейна фирянэ ифтесла. И фтесла! Куки? Айя! Нзябзим-шабзим. Каля-маля. Млыфысе?
И переводчик сказал:
– Трудно разобрать слова… Расшифровщики работают… Как бы что он все предвидит…
Испуганные пенсионеры и домашние хозяйки, а также больные, разнообразные отдыхающие на рабочем месте и журналисты это видели и слышали и рассказали всем остальным.
Малыш Кузя (а побитый дурак был именно он) постоял за кустами оглоушенный и оплеванный, но потом он улыбнулся и побежал к бабушке, стараясь не показать вида, что ему плохо.
– Что я нашел, бабуля! – закричал он. – На, это тебе!
Бабушка увидела жемчужины, смутилась, оглянулась и тихо спросила:
– Ты где это взял?
– Нашел на песке!
– Вечно ты всякую гадость с земли подбираешь, потом руки грязные! – привычно сказала бабушка, вынула из кармана платок, увязала в него жемчуг, кинула все это в свою бездонную сумку, где при надобности умещалось двадцать кило картошки-моркошки, затем велела Кузе сидеть на лавке, а сама, глубоко вздохнув, пошла вдоль скамеек, бестолково спрашивая:
– Никто ничего тут не потерял?
Все стали копошиться в сумках и карманах и бормотать:
– А что? Что нашли-то?
Одна тетя потеряла перчатки и зонтик, трое спохватились насчет кошелька, один мужчина обнаружил нехватку золотого кольца и т. д. Пятеро заявили о пропаже крупной суммы денег.
Ничего не добившись, красная от стыда бабушка подхватила внука и помчалась домой.
А фея Сирени летела со скоростью света в Город Света, ни о чем не думая.
Между прочим, этого – ничегонедуманья – добиваются многие несчастные создания, мысли которых бегают по кругу в их бедных головах и не дают ни спать, ни что-то полезное делать.
В такие минуты люди предпочитают смотреть телевизор, особенно всякие игры с призами, или сидят за компьютером, опять-таки играя, или же, на худой конец, решают кроссворды.
Но у феи Сирени, летящей в потоке света, горе было так велико, что она всполошилась, волшебством заставила себя ни о чем не думать и погрузилась в вечный сон, лететь ей было далеко, много миллионов световых лет.
А вот вихлявая белая бабочка тоже летела, но невысоко над почвой и на очень малой скорости, следуя за бабушкой и внуком.
Бабушка очень торопилась и оглядывалась, чувствуя себя мелким воришкой.
Лицо ее загорелось двумя красными пятнами, в глазах стояли слезы как от ветра.
Первый раз в жизни бабушка тайно унесла чужую вещь.
Жемчужины буквально жгли ее, хотя лежали на дне объемистой хозяйственной сумки.
Она торопливо, волоча за собой внука, ворвалась в подъезд и кинулась к лифту.
Бабочка-капустница же, огородный вредитель, влетела к ним в форточку в тот же момент и стала, как все эти бестолковые создания, биться о стекло, просясь на волю.
Глава 4 Телевидение входит в дом
Бабушка (которая получила от Кузи две жемчужины) потеряла покой.
То она примеряла их перед зеркалом – одну на палец, другую почему-то на лоб. Потом одну пониже шеи, а другую в ухо. То сразу обе в уши.
Выходило необыкновенно красиво.
То она прятала жемчужины подальше – в старый носок, а носок в пакет, а пакет в шкаф под простыни.
И не спала ночами, размышляя, за сколько можно продать такие жемчужины и можно ли на эти деньги поехать с Кузей на море.
Дело в том, что семейка у них была небогатая, родители работали день-деньской, а в выходные отсыпались и бродили по дому в своих ночных нарядах как тени, и вся домашняя работа была на бабушке. А бабушка страшно уставала: она ходила по магазинам, стараясь купить все подешевле, она готовила завтраки, обеды и ужины, стирала, гладила, убирала в квартире, и при этом иногда слышала от своих родных такие слова:
– Ой, мама, я же этого не ем! Сколько раз можно повторять одно и то же!
Или:
– Опять все неглаженое! Как же я на работу пойду?
Или:
– Почему игрушки валяются? Кузя, ты вообще соображаешь? Я ведь сейчас наступлю на твою машинку! И мама! Почему по всей квартире у вас горелым пахнет? (А это, допустим, на кухне сбежало молоко.)
И много всего слышала бедная бабушка. Кузя это тоже слышал, но поскольку ничего другого в своей довольно непродолжительной жизни он не знал, то он и думал, что именно так надо обращаться с детьми и бабушкой.
Правда, поскольку он был добрый человек, то он сам никогда не делал бабушке замечаний. Только иногда скажет:
– Я не буду есть суп. Он дурацкий.
Или:
– Я не хочу надевать шапку. Мне жарко.
– Так тебе жарко дома, а мы же на улицу идем!
И бабушка с ним горячо спорила и ругалась, говоря, что другого супа у нее нет или что на улице ветер, может продуть уши.
Таким образом, у бедной бабушки жизнь была не совсем счастливая, прямо как у старой Золушки.
И, размышляя о свалившихся на нее богатствах (две жемчужины), бабушка размечталась об отпуске в каком-нибудь доме отдыха: три раза в день еда, и не надо мыть грязную посуду, убирать помещение и таскать картошку с рынка! Здорово будет, мечтала она, поселиться с Кузей где-нибудь на берегу моря и купаться!
И она не знала, что жемчужины эти были волшебные.
Короче, на следующий день была суббота, утром бабушка с ворчанием словила под носом у прыгающего кота бабочку и выпустила ее в окно, а днем, когда родители Кузи, мама в халате, а папа в трусах и майке, сонно завтракали на кухне, зазвонил телефон.
– С вами говорят из телевизионной программы «Удача»! Вы случайным набором цифр выбраны нашим компьютером. И вы выиграли поездку на море! – сказал женский голос.
А мама Кузи, женщина умная и ядовитая, ответила:
– Спасибо, нам не надо. Мы все понимаем. Уже обманули так многих.
Потому что в городе появилось множество мошенников, которые делали вид, что кто-то что-то бесплатно выиграл, а затем выманивали у бедных победителей все их деньги.
И началом, как правило, была вот эта самая фраза:
– Поздравляем, вы выиграли!
Так что Татьяна, мама Кузи, с торжеством положила трубку, а затем она, поспорив с бабушкой, которая как раз намылилась поехать навещать свою старенькую мамашу, и выиграв этот спор (Татьяна клятвенно обещала вернуться через два часа), ушла с мужем Валерой покупать диван.
– Ты вечно, – на прощание, перед тем как хлопнуть дверью, сказала дочь, – по субботам смываешься! А нам когда отдыхать?
Но телефон опять зазвонил.
Теперь уже подошла бабушка.
– Поздравляем, вы выиграли наш приз, бесплатную поездку с ребенком на море! – сказал бодрый женский голос. – Это с телевидения, программа «Чудо»!
– А если ребенку мало лет, почти что шесть? – соврала осторожная бабушка.
– Это приветствуется!
– А когда ехать?
– А когда хотите!
Бабушка растерялась.
– А куда?
– В любую точку. Хоть на Лаптевых море, хоть на Баренцево, хоть на какое. На Белое можно. В пределах нашей страны.
Тут бабушка вытерла со лба пот и спросила:
– А на Черное можно?
– На Черное труднее. Вы же понимаете, что все хотят только на Черное!
– Море Лаптевых это где?
– Да уж не на юге! – засмеялся голос.
– Тогда Лаптевых отпадает, – сказала умная бабушка.
– Баренцево тогда берите. Дом отдыха Газпрома шесть звезд. Свой круглосуточный каток, наблюдения за белым медведем, тундры десять га. Или отель на Белом море. Подледный лов трески, очень заманчиво.
– Подледный? Или тундра? Да это уже ссылка какая-то получается, а не отдых. Так что извините, Баренцево море нам как-то не очень… И Белое не совсем подходит… До свидания вам.
– Бесплатному коню в зубы не смотрят, – сказала строгая барышня. – Однако я сейчас проверю. Что у нас тут… Так. Поход на ледоколе, ну, это ладно… Снежная гостиница, тара-ра-ра, проверить свои чувства, так, ночь на ледяном ложе…
– Нет, не подходит! Спасибо! Какие чувства! Я своего внука и так люблю… И к зятю отношусь… как он заслужил… неплохо…
– Погодите, женщина! Алло!
– Чувства нечего и проверять. И маму свою… я простила давно. О дочери даже не говорю.
– Женщина, так. Вы же еще молодая сравнительно, что вам, за сорок? Так зачем заранее себя хоронить! Впереди жизнь! Газовики, нефтяники. Полный активитет, мощно ревя, идут снегоходы… Вы в капюшоне, глаза сверкают, от мороза вы румяные… Кругом изумительные мужчины! Газовые мачо!
– Спасибо, спасибо, достаточно, все.
– Охота на леммингов. Адреналин под кожу, это не то… Ледовое настроение… Ты-ты-ты-ты… Собаки хаски, людоеды. Сильные ощущения. Погоня!
– Что?!
– …Вот! Сани утеплены мехом нерпы!
– Девушка! Вы что!
– А? Не то?.. Вам потеплее надо…
– Проверьте, девушка милая… В море бы ему поплескаться…
– Вот! Морские ванны!.. А, в полынье. Опять не то.
– Ребенок маленький, – охотно жаловалась бабушка в телефон. – Четыре года всего… Болел всю зиму. Не гулял почти…
– Я не всю зиму болел! – закричал правдолюбивый Кузя. – Я гулял!
– Болел и лежал! – с силой сказала бабушка. – Соплями обмотавшись.
– Не обмотавшись!
– Так… – сказал голос в трубке – Ну вот. Нашлось для вас место на Черном море… Но надо выезжать через полчаса!
– Ох, как через полчаса? Ох, ох, даже не знаю… У меня белье намочено, рубашки неглаженые, продуктов в доме нет, надо бежать по магазинам… Обед варить на завтра… Как же я их тут оставлю… Да они кота уморят…
– Женщина! – вдруг резко сказал голос. – Вам выпала удача! Так ловите ее! Бросьте все и езжайте! Море-то самое Черное изо всех морей! Как вы желали! А то я переключусь на другого абонента. Если наш клиент долго думает, срок его удачи кончается. Таково правило игры.
– А на сколько? – спросила бабушка, замирая. – На недельку?
– Хоть на сто неделек! – засмеялась женщина. – Хотите на год?
– Мне бы двенадцать дней, и я бы отдохнула, – пролепетала бедная бабушка. – Одна кухня, да стирка, да магазины. Да еще и ругаются на меня. Замоталась совсем.
И тут она почувствовала, что Кузя взял ее руку и погладил. И бабушка всплакнула над своей несчастной долей.
– Хорошо, куда присылать за вами машину?
– Как… машину?
– Так, женщина!
– Да погодите, все ведь так неожиданно! – сопливым от слез голосом отвечала бабушка.
– Вам трехразовое питание, море, хорошую погоду и чтобы убирали в доме? – спросила та тетя.
– Именно, именно.
– Но есть одно условие, – жестко сказали в трубке. – Ничего, никаких вещей не брать с собой. Ни даже часов. Ни бус, ничего. Ни бисера.
– Как? – ахнула старушка. – А лекарства?
– Вам не понадобится. Все будет так хорошо, что вы выздоровеете.
– Слабо верю, – возразила мудрая бабушка. – У меня бессонница, сердце побаливает, кости ломит, голова кружится, уши закладывает, и в них как бы звон, особенно в левом. Немеет ухо. Особенно когда на меня кричат.
– Ничего этого больше у вас не будет, – сказал голос. – Вы помолодеете. Это курс омолаживания! Похудеть навсегда!
– А нельзя и мою дочь… А то она так устала…
– Вам говорят, женщина! Это вы выиграли! Кто взял трубку!
– Ну хорошо, а вещи ребенку? Можно немножко?
– Все дадут там.
– Маечки, трусики, сандалики, панамку… Рубашечки три, и один свитерок на вечер. Горшок! Не забудьте, нужен ночной горшок!
– Там все есть.
– Как это… все? Откуда кто знает, что нам нужно?
– Женщина! Говорю вам! Ничего не нужно!
– Ничего человеку не нужно только в морге! – пошутила бабушка. – Понятно?
– Жженщщина! – зашипело в трубке.
– А мне… Два халата… Ночная рубашка… Носочки на ночь… Погодите, а босоножки? А купальник? А шляпа? У меня все лежит припасено в шкафу, я с молодости берегла. Ездила на взморье от предприятия. И не выкидывала! Как чувствовала, что пригодится!
– Не беспокойтесь, у вас будет абсолютно все, что нужно. Приедете на Черное-пречерное море, и вами займутся.
– А что… – засомневалась бабушка, – нас не будут все время снимать на камеру? Подглядывать за нами в ванной? Не это ваша цель?
– Глупости, – ответила телефонная трубка. – Мы канал «Чудо», и вас будут снимать только через пять дней после прибытия, когда вы уже отдохнете, чтобы показать, как вы отлично выглядите. А платить нам будет тот отель, где вы поселитесь, это для них бесплатная реклама. Вот так.
Бабушка не верила своим ушам. Только этой ночью она строила планы, как и где продать жемчужины да где купить путевку, как оставить дом, и кто будет стирать и поливать цветы, и кто будет кормить и расчесывать кота, а тут такое чудо!
– Быстро, вы согласны?
– Я не знаю, – прошелестела бабушка. Особых удач у нее в жизни не было, и она к ним не привыкла. Самая большая удача в жизни был ее внук, но и на него часто недоставало времени. Воспитать его как следует, и то было некогда.
– Так. Сейчас за вами заедут…
– Приготовить паспорт?
– Нет, ничего не берите с собой, ясно?
Через десять минут (бабушка за это время все-таки пустила стиральную машину) в дверь позвонили.
Сердито открыв дверь на цепочку, бабушка вдруг увидела известного телевизионного ведущего, который широко улыбался.
– Я за вами, – сказал этот ведущий, скаля зубы. – Наша программа «Чудо» начинается! Жду вас внизу в машине!
– Ой, можно через пятнадцать минут! Ой, а я же маму собиралась купать! Ехать к ней! Ой-ой…
Бабушка с печальным воем кинулась в ванную. Остановила машину, вынула белье, кое-как выполоскала и отжала, повесила. Потом бросилась в кухню, где на плите варился бульон. Выключила.
Быстро вывалила кусок мяса в кошачью лакушку. Машинально погладила кота. Кот вывернулся, что-то заподозрив. Обычно его гладили, когда бабушка, уложив Кузю, помыв посуду, развесивши белье и протерев пол в кухне, садилась смотреть телевизор. Тут кот и прыгал к ней на колени, его чесали за ушком и гладили, пока глаза бабушкины не смыкались.
Так что кот сел одиноко в сторонке и стал наблюдать с мыслью, а не собираются ли его бросить?
Тем временем бабушка посмотрела на себя в зеркало, опять взвыла с плотно закрытым ртом. Причесалась кое-как, надела самое лучшее – тесноватую юбку и блестящую кофточку. Взяла у дочки на столике губную помаду, неумело накрасила рот и, подумавши, щеки. Потом кинулась к шкафу и дорылась до своего пакета с носком, в котором лежали две жемчужины. Подумала и положила жемчужины за щеку. На всякий случай! А то дочка дороется…
Затем бабушка влетела в детскую, подхватила легенького Кузю на руки, поцеловала его, одела понарядней и пустилась вон со своей ношей.
И за ними замотыляла в воздухе невзрачная бабочка-капустница.
Внизу она стукнулась оземь, и тут же на этом месте оказался огромный белый, как сливочное мороженое, автомобиль, и в нем мгновенно распахнулась дверца.
– А позвонить? – вдруг спросила бабушка. – Я не предупредила своих! Ох я дура!
И она ринулась наружу, открыв дверцу. И тут же чья-то узкая черная тень проскользнула в машину.
– Им позвонят, не волнуйтесь! – ответил с переднего сиденья мужской голос, и автомобиль ринулся с места.
Глава 5 Странные места
Все. Они мчались в машине с затемненными стеклами, вокруг – очень быстро – пропали, как сквозь землю провалились, все дома и улицы, и начались какие-то леса, как будто машина уже выехала за город. Какие могли быть леса через пять минут? Должны были быть Новые Черемушки! Потом Беляево, Теплый Стан!
Но мимо проскакивали несомненные темные леса, прошныривали какие-то мосты через овраги, ухали спуски, внезапные повороты дороги, почему-то взгромоздились горы на горизонте, и вдруг открылся пологий склон и путь к равнине.
– Видите, это море, – неожиданно пропела какая-то женщина с переднего сиденья. – Вон там! Женщина!
– Кузя, смотри, там море, – перевела бабушка. – Правда, не знаю где.
Ей, разумеется, было немного трудно говорить, жемчужины оттягивали обе щеки и немного постукивали о зубы.
Наконец машина остановилась у какого-то дома.
Странно, но всю дорогу Кузя молчал. Обычно он говорил без передышки, спрашивал каждые полминуты – «А это кто?», «А это что такое у тети под глазом?», «А почему собачка ногу подняла?» – то есть теребил бабушку, надоедал ей.
Теперь он не проронил ни словечка.
– Кузя, ты не заболел? – спросила бабушка, выбираясь из машины.
– Нет, – ответил Кузя. – Но ты меня скоро не увидишь.
Он сидел в глубине машины, маленький и важный, и смотрел перед собой.
– Прям, – ответила на это бабушка, а сердце ее ухнуло в пятки. – Еще новости.
Она его подхватила и вынесла, и только тут поняла, что уже опустился вечер, все вокруг было темное, какие-то кусты, и даже дом стоял без огней.
Только летала, как бы заблудившись, какая-то рваненькая белая бабочка.
Машина вообще исчезла совершенно незаметно.
Что такое!
– Пойдем быстрей, – забормотала бабушка, боясь заплакать. – Не бойся! Сейчас нам выделят кровати… А хотя бы и одну… Покажут нашу комнату… Это же дом отдыха. И мы поужинаем и ляжем спать. Надо же, как время быстро прошло!
Робко, держа Кузю за руку, бабушка поднялась по ступеням и открыла дверь.
Ожидалось, что там будет порог, пол, какой-никакой коридор и так далее.
Но за дверью была точно такая же поляна и лес.
То есть на самом деле это был не дом, а одна стена с окнами и дверью.
Теперь бабушка все поняла! Их отправили в какое-то дикое место, а за ними наблюдает телевизионная камера, чтобы показать, как ведут себя люди, у которых ничего нет.
А этот дом – это декорация.
А потом тот зубастый ведущий скажет:
– Чтобы этого не случилось, чтобы вы не остались без дома, – и тут он завопит, как диктор на Красной площади во время парада, – покупайте квартиры у фирмы «Хатастрой»!
Поэтому бабушка, не выпуская руки своего внука, храбро повернула назад и устремилась в лес, продвигаясь напролом, чтобы выбраться из этого проклятого места, однако дальше шли одни завалы, причем это нельзя было назвать лесом. Тут пахло пылью, керосином и каким-то техническим жиром типа вазелина, и тут стояли, лежали и вообще торчали вверх тормашками одни старые синтетические елки. Видимо, это было место, куда стаскивали запасы пришедших в негодность искусственных новогодних елок (зачем?), и на некоторых так и остались висеть нитки мишуры и кусочки битых шаров. Пройти сквозь эту свалку, да еще с ребенком на руках, было нельзя.
Она не солоно хлебавши вернулась и села на прежнее лысоватое место, которое можно было бы назвать опушкой этого помойного леса, и при этом она делала вид, что ей все нравится, никакой досады. Она даже специально улыбнулась всем вокруг – елкам слева, палкам справа и декорациям прямо перед собой.
– Садись ко мне на ручки, – сказала она. Кузя, однако, стал оглядываться.
– Бабушка, – сказал он. – Пошли домой. Мне тут не нравится, – сказал он. – Лес какой-то дурацкий.
– Ничего, ничего, – улыбаясь, пропела бабушка и сгребла умелой рукой Кузю и пристроила его у себя на коленях. – Утро вечера мудренее. Спи.
И она, фальшиво улыбаясь, запела колыбельную. При этом она опять-таки глядела и прямо перед собой, и поворачивала голову то вправо, то влево, чтобы людям было удобнее ее снимать.
– Нас смотрят миллионы! – вдруг сказала она. – Так поаплодируем же! Пусть внесут приз!
– Ты че, баба? – спросил Кузя.
– Это декорация, понимаешь? – зашептала бабушка. – У деревьев нет хвои, видишь? Одни отрепья. И травы нет. И земля искусственная, пыль какая-то, прах горелый. Мы участвуем в программе. А теперь, – сказала она улыбаясь и очень громко, – прошу наш приж в штудию!
(Она случайно зашепелявила – под язык попалась одна из жемчужин.)
Но ничего не изменилось. Поддувал сквознячок. На небе было темно. Никто не вносил никакого приза.
– Есть хочешь? – спросила бабушка.
– Нет, – ответил, как обычно, Кузя. Ему никогда не хотелось есть, странный ребенок!
– А пить?
– Нет.
– Это хорошо. Потому что у меня ничего нет. И она вдруг пожаловалась:
– Ты мне сердце разрываешь. Почему ты сказал так? Что это – я тебя не увижу? Куда ты собрался?
– Не знаю.
– А как же я без тебя? – бестолково спросила бабушка.
– Ты будешь.
– Не оставляй меня, – попросила бабушка. – Сначала я уйду. Так полагается. И ты меня будешь иногда вспоминать. Хорошо?
Он промолчал.
– Давай договоримся, что ты меня не покинешь? Ладно?
– Не знаю.
Вдруг она спохватилась:
– Что это ты такое бормочешь, не знаю, не знаю. Как это? Я тебя никуда не отпущу! Я без тебя не смогу! Да мне твоя мать башку открутит! Да я с крыши прыгну!
При этом она лихорадочно гладила кудряшки Кузи, и голова его болталась на тонкой шейке.
– Обещаешь? Ну скажи да! Ну скажи! – заплакала она. – Да? Да?
– Да, – ответил он внезапно.
– Что «да»? Что не покинешь?
– Да.
Она мигом успокоилась, как будто действительно маленький ребенок мог что-то ей обещать. Она оживленно, вытирая слезы, заговорила:
– Как-то странно с нами обошлись. Бросили тут. Дом не дом, а одна стена. Елки-палки.
Тут, совершенно неожиданно, во тьме загорелись два волчьих глаза.
– Это еще что! – завопила бабушка. – Нахальство! Кто разрешил! Тут ребенок маленький! Иди отсюда!
Два глаза вдруг погасли, потом снова зажглись, но вполовину. Как будто кто-то моргнул, а потом прищурился. Затем раздалось краткое «мяф».
– Кошка, – не веря себе, сказала бабушка. – Не волк!
– Миша-Миша, – позвал Кузя.
– Откуда тут Мишке-то быть… Сидит теперь дома до вечера один… А я ему воды не подлила… Хорошо хоть мяса оставила.
Два огонька неслышно подкрались, причем чуть пониже замаячил белый клочок.
– Миша? Ах ты мой хороший! – запела бабушка, и кот подобрался к ее коленям и сел на них вторым, рядом с Кузей.
Стало теплей.
– Чем я вас кормить-то буду, – загоревала бабушка. Вскоре произошло вот что: в декорации, изображающей дом, загорелись окна.
– Я же говорю, нас снимают, – обрадовалась бабушка. – Пошли.
За занавесками стали мелькать тени людей. Донеслась музыка.
Потом распахнулась дверь, выехала камера, вышел ведущий во фраке, с галстуком-бабочкой, похожий на барана с лошадиной челюстью, и провозгласил:
– Мы приглашаем всех участников передачи! Добро пожаловать! Милости просим!
Бабушка крякнула, как утка, и стала приподниматься, но Кузя сказал:
– Ой.
И кот уцепился когтями в бабушкину юбку, не желая слезать с теплого местечка.
Приглашающий исчез во тьме, камера исчезла, а двери остались открытыми. От них падал свет, и в дверном проеме темным силуэтом зафиндиляла какая-то бабочка. Бабочки, как известно, летят на свет.
Глава 6 Сеанс. Фильм первый
Тут бабушка встала. Ее с какой-то нечеловеческой силой тянуло к освещенным окнам. Она почистила юбку сзади, одернулась, взбила волосы на затылке и, крепко держа за руку внука, тронулась.
Она даже не обернулась на кота, который засел в тени, плотно обмотав ноги хвостом.
В окна первого этажа было видно следующее: на креслах лежали старухи, все как одна много старше нашей бабушки, и под яркими лампами ясно было видно, насколько они старше.
Они лежали, широко разинув рты: врачи в зеленом вставляли им в десны блестящие белые зубы по одному! Да так просто, как сеяли чеснок: сунут, примнут пальчиком и начинают втыкать следующий!
Вскоре у всех старушек засверкали новые челюсти, и раздалась какая-то команда, и старушки разом сморгнули и захлопнули рты.
Тут же над ними начали опускаться какие-то стеклянные крышки, всех старушек упрятали под эти надгробия и даже что-то завинтили…
– Жуть какая, – невольно сказала бабушка внуку. – Зачем хоронят-то с новыми зубами?
Затем люди в зеленых халатах включили некоторые кнопки, раздалась легкая барабанная дробь, крышки начали подпрыгивать, внутри как будто что-то плескалось, скворчало и бурлило. Как будто пациенток кипятили, можно было подумать.
Бабушка смотрела как завороженная.
Вдруг к крышкам подступились те же люди в зеленом, стали развинчивать болты, затем приподняли эти пластиковые козырьки, и из-под них начали выглядывать молодые розовые красавицы, блондинки с синими глазами. Они ловко, как по команде, мотнули длинными ножками и тут же сели на своих кушетках.
– Ну ты подумай! – ахнула бабушка и дернула внука за руку. – Видал? Фокусы! Заменили тех на этих! Ну надо же!
Кузя промолчал. Он вообще ничего не спрашивал. Бабушка покосилась на него: ребенок стоял, задумчиво глядя на происходящее своими огромными глазами. Он был невесел.
– Это из цирка приехали, иллюзионисты называются, – объяснила бабушка. – А тех бабушек спрятали в ящик. Они командой работают. Внучки и бабки. Тех на тех меняют.
Тут в дверях встал один в зеленом халате (такой фокусник) и громко сказал, глядя в лес (на бабушку):
– Не стесняйтесь, для вас приготовлено место! Это омоложение раз и навсегда!
Бабушка на всякий случай отошла. Громкий голос забубнил:
– А сейчас мы показываем фильм будущего, ваша жизнь в новом варианте! В омоложенном виде! Компьютерная программа не дает сбоев! Все просчитано по параметрам! Учтены все собранные данные о вашей предыдущей жизни!
Над входной дверью осветился экран.
Юная блондинка с широченной улыбкой и на длинных ножках вылезает из машины у подъезда…
У нее внешность точь-в-точь как у героини фильма «Приятная женщина».
(– Смотри, подъезд на наш похож! – шепчет бабушка Кузе.)
Бабки на скамейке, утирая рты, бессмысленно смотрят, как она идет, ступая на каблучках своих ботфорт, как поднимается к подъезду…
На их лицах написано: «К кому такая?»
И явно добавлено знаменитое русское слово.
(– Смотри, это все наши из подъезда! – восклицает бабушка.)
Блондинка оборачивается к скамейке, улыбается и произносит:
– Валь, привет. Здравствуй, Нина. Как Анюта? Меня не узнаете? Гуля, это я, тетя Лена из пятнадцатой квартиры. Митягина я.
(– Митягина – это же я! – удивленно говорит бабушка Кузе.)
Окаменелые лица старушек на скамейке.
– Меня омолодили на программе «Удача»!
Улыбка, тут же куколка забирается по ступенькам и, набравши верный код, заходит в подъезд.
Бабки на скамейке на всякий случай ехидно смеются. Это их самое испытанное и последнее (перед матом) оружие.
Блондинка выходит из лифта и звонит в дверь. Нет ответа. Хотя кто-то стоит по ту сторону и явно смотрит в глазок.
– Тань, открывай, это я вернулась! – мелодичным голосом объявляет блондинка. – Мама твоя.
(– Мама? – шепчет бабушка Кузе.)
Замок щелкает, дверь приоткрыта на цепочку.
– Пусти меня, доча, – ласково говорит куколка.
– Кто-о? – зловеще поет, глядя в щель, полная молодая женщина в халате. – Вам кого, девушка?
Волосы у женщины в беспорядке, живот мокрый: видимо, что-то мыла. Или кого-то.
– Тань, это я, твоя мама! – задорно восклицает девушка.
В дверях борьба. Видимо, Таню отпихивает кто-то сзади. Дверь прикрывается. Опять возня, затем, видимо, цепочку снимают, и в проеме возникают сразу двое: толстуха Таня в сыром на животе халате и некто бритоголовый, полный, в трусах и майке.
– Вам кого? – отталкивая мужика плечом, сурово говорит Таня.
– Я твоя мать, и я тут живу, пропусти, тебе говорят, – нежно произносит куколка и хочет шагнуть в квартиру.
Таня перегораживает путь, зато мужчина (это муж Валера) внезапно хватает жену поперек и утаскивает ее из поля зрения. Борьба. Оплеуха.
Куколка хочет ступить в дом. Но тут в коридорчике появляется маленький Кузя. Он в трусиках и маечке, и это его, видимо, мыла мать.
– Кузька! – поет блондинка. – Я, твоя баба, приехала! Киська моя!
Кузя пугается, таращит глаза и отскакивает.
– Иди ко мне, кутенок!
Кузя вообще убегает. Борьба в прихожей, Татьяна выталкивает красавицу, дверь захлопнута.
Блондинка, обозленная, посмотрев на потолок и покрутив головой, садится на ступеньку.
Снизу поднимается мужчина в кепке и с усами. Видимо, он увидел красотку еще во дворе. И погнался следом, причем не на лифте.
(– Гляди, Ахмед! С первого этажа! На дворнике весной женился! Со своей женой развелся и женился! Заплатил дворнику! А она пьющая! – комментирует бабушка.)
Ахмед спешит. Задыхается. Жирный такой.
– Любимая, э! – восклицает он, протягивая свои черноволосые руки. – Можно вас на две секундочки, э? Я встретил девушку, полумесяцем бровь!
Куколка с гневом встает.
– На щечке родинка, в глазах любовь, пойдем, э? – продолжает кепка.
– Отвали, Ахмед, а то по харе схлопочешь! – говорит блондинка.
Но кепку эти слова не смутили.
– Поедем со мной, ой погуляем! – сладко говорит кепка. – На дачу ко мне! Я тебе машину подарю, честное слово. «Ока» стоит во дворе, тебя ждет!
(– «Ока» его битая, – зашептала бабушка Кузе.)
– «Ока» твоя! Убитая два раза, ржавая! – тут же повторила блондинка ядовито.
– Я заплачу за капремонт, сколько скажешь, любимая!
– Валера! – зовет блондинка истошным голосом и бьет ногой в запертую дверь. Кепка таращится. Дверь не без труда открывается. На пороге возникает Валера (зять) уже в спортивных штанах и с молотком в могучем кулаке. За ним маячит хмурая Танька с Кузей на руках.
– Ты че выступаешь тут? – говорит Валера кепке. – Дядя Ахмед, ты че вообще? Офигел совсем?
Кепка спустился немного по лестнице, посылая блондинке сладкие взгляды:
– Слушай, Валера, что ты, честное слово… Она же такая… Мы договорились уже… Я отблагодарю…
– Иди, иди, – суровыми словами провожает его Валера.
Дальше кухня. Блондинка заканчивает свой рассказ:
– А потом они делают рекламный фильм про возвращение омолодившихся…
Таня говорит мужу:
– Надо же, а я, тупая, их послала, телевидение, программа «Удача»… Они мне первой звонили… Я им сказала: вы меня не обманете, спасибо, не надо.
– Программа «Чудо», – поправляет ее куколка.
– Ну и дура, – говорит муж. Он не смотрит ни на кого.
– Тань, – говорит блондинка. – Ну что делать, дочка? Куда мне, мне податься некуда. Вообще, это моя квартира, это мне от предприятия дали. Вон у тебя Валерина жилплощадь есть, туда и идите жить. А то ее сдаете, а мне ничего не платите. Я как бобик вкалываю на вас… Бесплатная домработница… С Кузей сижу, варю, глажу, стираю, убираю… По магазинам… Ни ночи, ни дня…
– Вы же, мама, сами без работы остались и предложили… – оправдывается дочь. – Чтобы не на шее сидеть. Вы же сами…
На «вы» называет куколку. А та возражает:
– Но нельзя же не помогать-то матери… Вся я поседела, зубы потеряла, вставить некогда… Вены на ногах… Оборвалася вся… Стыдно выйти на люди… Ни пальто, ни сапог… Сарафанчик себе сама шила ночью… А ты все пируешь на работе. То дни рождения, то праздники!
– Да! – веско говорит зять.
– Даже он подтверждает, – качает головкой блондинка.
Она уже сгорбилась и пригорюнилась, как Аленушка на знаменитой конфетной коробке:
– Даже он меня пожалел, твою мать…
– Тебя? – завопила Татьяна. – Посмотри на себя в зеркало! Кто ты есть…
И с ее губ сорвалось так долго витавшее в воздухе слово.
Но блондинка продолжала сидеть опустивши голову. Светлые кудри ее растрепались. Первая слезка, похожая на бриллиант, показалась на нежно-розовой щеке. Декольте оставалось белоснежным.
Валера вдруг крепко положил ей на плечо свою пухлую руку.
– Не плачьте, мама, – сказал он. – Тяжелая ситуация, я понимаю. Живите у нас.
– Ты кто такой? – вызверилась красотка и сбросила с себя лапу зятя. – Вообще! Сидит тут! Дармоед в чужой квартире! Моя Танька на него пашет, а там он у входа сидит проверяет! Ваш пропуск! Ваш пропуск! Щеки отрастил, уже вообще на хомяка похож стал! Лень картошки с базара приволочь, одна я должна! Да катись отсюда! Я Татьяну устрою на омоложение, да мы в твою сторону не поглядим! Мне с ходу посулили вон машину «Ока»! С первой минуты. Я и не торговалась еще!
Татьяна посмотрела на красотку заинтересованно:
– Именно что. Вы, мама, в чем-то так правы, так правы! У него есть женщина, я знаю. Он загулял.
Валера завертел головой, покраснел, надулся:
– А сама на работе с кем пьешь? Позавчера.
– День рождения у шефа было, тебе сказано!
– Ну и у нас день рождения! Бухгалтера! Она выставила бутылку и торт! Что я, морду должен воротить? Меня жена дома ждет?
Тут Куколка обернулась лицом к камере и живо заговорила:
– Татьяна, да мы с тобой такого наворотим! Ты молодая, красивая, двадцать семь всего лет! Ничего, что ты жрешь как свинья все подряд, все это от недовольства собой и своей жизнью! Полюби себя, ты единственная в мире такая! Да тренинг, лифтинг, диета сделают чудо! Быстрое и эффективное похудение, потеря веса до десяти кэгэ за десять дней! Похудеть навсегда! Стабилизация веса! Восстановление баланса в организме! Бросить курить, Татьяна! Бросить пить все подряд на этих ваших праздниках, которые бывают у вас на работе с частотой через раз! И ты после приходишь и все равно жрешь дома! И потом глазенки разлепить не можешь! И себя в зеркале не распознаешь! У тебя же чудесная белая кожа, у тебя хорошие серые глазки, только они спрятались! У тебя, если ухаживать, замечательные волосы! И маленькая нога при таком весе! И красивые белые руки! А какая грудь? Восьмой номер! Это же богатство!
И тут она посмотрела в самый объектив (лицо получилось как в самоваре, нос выехал) и сказала четко:
– А все про все цена две бусины жемчуга, и начинаем новую жизнь.
Далее Куколка вернулась в прежнее положение, и камера сфокусировалась на Татьяне.
Она слушала, опустив глаза. Видно было, что в ней борются какие-то смешанные чувства.
– Компьютерная диагностика! – радостным рекламным голосом вещала Куколка. – Диета по анализу крови методом французских врачей! Вы будете есть сколько хотите, но за исключением вредных для вас продуктов-аллергенов! Да! А не то что пришла с работы моя Татьяна, бухнулась в кресло всем своим центнером, взяла в зубы пиццу с колбасой, открыла банку джина с тоником, да и врубила видак с новым фильмом ужасов! Нет! Широкий спектр препаратов, специальные личностные схемы, индивидуальный подход и методики, массаж, арома– и иглотерапия! Ежедневные консультации с врачом – и все это дорого, комфортно, эффективно! До пяти кг жира за один сеанс! Пересадка собственных волос с лобка на брови! Устранение второго подбородка глубокой скважиной! Эффект с первой процедуры! Великолепные ногти от призеров чемпионата мира в Межапарке! Ювелирный аппаратный педикюр, авторские работы! Тренинг по взаимному пирсингу! Центр среднекитайской молодости! Отель «Высокая Ель», шесть звезд! Совместно с телепрограммой «Чудо»!
– Да ну, реклама, – сказала Татьяна на экране. Маленький Кузя подошел к отцу и погладил его по руке. Куколка кинулась, мигом взгромоздила Кузю себе на колени, поцеловала в кудряшки на затылке:
– Кузяка моя!
Ребенок обернулся и помахал ручкой в воздухе. Пальчики у него были длинные-длинные и шевелились, как водоросли в воде… Изо рта показались острые кривые зубы…
Все поплыло.
И возникли титры: «Сбой в программе. Извините».
Глава 7 Второй фильм будущего
Да! Перед мысленным взором бабушки возникла ее кухня, ее старая стиральная машина, дешевый магазинчик и базар у метро, все места, где она вынуждена была мелькать изо дня в день. Спальня, где у внука была кроватка, а у нее раскладное кресло. Дни и ночи, когда Кузя болел…
Бабушка, стоя под погасшим экраном, сказала Кузе:
– Я правда в молодости красотка была. Меня так и называли в авиационном институте, красотка МАИ… Волосы кудри белые… Конечно, я красилась. Но все равно. Но окончить институт пришлось заочно, родилась Танечка, твоя мама… Какие уж тут конкурсы красоты… Моя мама заявила, пусть его ноги здесь не будет, тогда буду помогать. Он выпивал.
Градом полились слезы.
– А мой муж, твой дед, заявил: я у вас не раб, тяжести таскать. То шкаф, то овощи из магазина. И вообще я у тебя последнее место занимаю после кошки. И все, ушел. Выбрал свободу. И допился. Где он, не знаю, продал свою комнату. Мама моя с тех еще пор со мной еле разговаривает, ты его защищала, говорит. И иди отсюда. У меня еще брат есть. Хороший человек, но слабый. Я тогда пошла от них с ребенком в общежитие, дали полкомнаты. Дворником работала. А потом только дали комнату, вот было счастье. И через пятнадцать лет квартиру. О-о, чтобы доучиться на заочном, Таню пришлось отдать в круглосуточные ясли… Вот и вся история моей жизни. Двое воюют, один горюет. Теперь моя мама со мной так и говорит, квартиру, говорит, не надейся, я завещаю Тимуру. Внуку от брата. Вот я и езжу по субботам бабушку Светлану купать. По субботам, да? Ты с мамой-папой сидишь.
Помнишь, прошлый раз они тебя в субботу в магазине потеряли? А баба Света считает, что это я к ней шастаю только ради квартиры. А твоя мама считает, что я развлекаюсь… Говорит, что же, нам с Валерой и по субботам не вздохнуть, ты вильнешь хвостом, а я как потный бобик…
Кузя слушал, уныло опустив голову. Он не любил домашних ссор, да кто их любит…
– Меня никто не выслушает, кроме тебя. Ты мой друг, да? Мой дружок, да?
Тут экран снова засветился.
«Красотка, дубль-2» – пронеслась какая-то дощечка и сгинула.
Куколка со своей прической опять выходит из белой, как сливочное мороженое, машины, у шикарного места – светятся огни, что-то крутится, какие-то буквы складываются в слово «Метели»…
– Метелить, – читает бабушка Кузе.
Куколка поднимается по ступеням, завороженные красавчики со сломанными носами и подслеповатыми, как у бультерьеров, глазками широко открывают двери…
Она входит как к себе домой… У столиков с каким-то прыгающим шариком сидят толстые дяди и худые тети, и многие тут как бы родственники мужа дворника.
Мужской народ поднимается и окружает Куколку. Ей протягивают бокалы с шампанским…
(– От шампанского потом изжога, на Новый год всегда, – бормочет бабушка Кузе.)
– Нет, спасибо, у меня от него изжога, ой что вы, – отнекивается Куколка. – Каждый раз на Новый год!
(– Ну, – довольно замечает бабушка.)
– Я лучше водки, – говорит Куколка.
(– На голодный желудок? – восклицает бабушка.)
– Но я хочу сначала есть! Не буду пить на голодный желудок! – капризничает Куколка. – Жареной картошки с солененьким огурчиком и котлету!
(– Ой, нам бы, нам бы, – завидует бабушка.) Затем Куколка садится в чью-то длинную машину и едет… Какая-то почему-то баня… За столом сидят опять-таки как бы родственники Ахмеда… Все почему-то голые и поголовно толстые…
(– Ужас, – решительно говорит бабушка.) Рожи, хари, морды… Куколка в халатике поднимает кружку с пивом и говорит, обращаясь в камеру:
– Да тренинг, лифтинг, диета сделают чудо! Быстрое и эффективное похудение, потеря веса за десять дней! Похудеть до восьми килограммов! Фигура навсегда! Стабилизация веса! Восстановление баланса шлаков в организме! Вы можете курить и пить! Но без последствий! Наши экстрасенсы створожат от неудачи в деле, от потери своего бизнеса… От дефолта…
Куколка набирает воздуху в легкие. Ее невнимательно слушают. Чья-то волосатая лапа оказывается на колене у Куколки. Она сбрасывает лапу и продолжает:
– Широкий спектр препаратов, специальные личностные схемы, индивидуальный подход и методики, массаж в четыре руки, тайский эомассаж, дети – цветы вашей жизни! Это даст вам успех в вашем бизнесе! Не бойтесь инфекций – ежедневные консультации с вашим врачом, – и все это дорого, комфортно, эффективно! До пяти кг вашего жира за один сеанс! Кодирование на бессилие! Мускулы теннисиста за три недели, без беготни, по вечерам, совместимо с банными сеансами! Пересадка собственных волос с лобка на… лобок! (Тут она запнулась.) На брови! (Запись явно перематывают, и Куколка поправляет себя: «На кожу головы!») Устранение второго и третьего живота вплоть до седьмого! Эффект с первой процедуры! Удлинение ваших ног! Устранение кривизны ног – пересадка! Великолепные ноги от призеров чемпионата мира по методу академика Елизарьева в Гонолулу! Ювелирный аппаратный удлинитель широкого спектра, авторские работы! Ресницы, волосы, ногти, далее по списку! Тренинг по эмптингу! Центр среднекитайской молодости! Восстановление возможностей! Отель «Высокая Ель», шесть звезд! Совместно с телепрограммой «Чудо»! (И вся цена – две бусинки жемчуга!)
Вдруг все поплыло, перекосилось, как будто у оператора упала из рук камера, потому что на экране открываются (явно пинком) двери и какие-то фигуры в масках начинают стрелять…
Опять надпись во весь экран: «ИЗВИНИТЕ ЗА НЕПОЛАДКИ». (Все погасло.)
Тут Кузя с бабушкой увидели, как из боковых дверей выпархивают давешние молодые красавицы, укутанные в меха и блестящий шелк, как они подходят к центральному входу и поднимаются по лестнице, и перед ними открывается вход, у входа стоит привратник в красном мундире и в шляпе треугольником, и все эти красотки входят туда, где свет, где сверкает золото и хрусталь люстр, где блещут вспышки фотографов…
Трубный голос объявил:
– Есть еще койко-место на сеанс омоложения! Один шанс на миллион! Программа «Удача»! Ждем вас! Катание на яхте по Средиземному морю! Гостиница «Иль джардино дель Таормина!» Ничего не бойтесь! Две бусины!
(Но бабушка уже отступила на прежние позиции и сидела как мышь за пыльной елкой, прижимая внука к груди. Кот привалился сбоку.)
Внезапно перед глазами залопотала белая бабочка, суясь прямо в зрачки. Она как будто сошла с ума. Крылья ее, жесткие, как бы жестяные, норовили врезаться между ресниц.
Бабушка закричала:
– Это еще один опыт, убью я или нет живое существо! Но нет!
Мишка, как всегда при виде мухи или моли, стал подскакивать, но ему было неудобно: пришлось бы кидаться с когтями на хозяйку, мотылек плясал у самых ее глаз. Так что он прыгал вокруг.
А бабушка стала осторожно отмахиваться, стараясь отогнать безумную самоубийцу-капустницу, не хотелось прихлопывать невинное существо, но пришлось поневоле даже крикнуть «кыш!».
Из-за чего у нее изо рта выскочила жемчужинка.
Молнией кинулась откуда-то взявшаяся бабочка. Как бритва, наперерез.
– Лови! – заорала бабушка, и внук протянул ладошку ковшиком.
Сияющая бусинка коснулась его руки и упала.
Тут же снизу сверкнул тонкий луч света.
Психованный мотылек исчез.
Бабушка стала вслепую шарить в пыли. После такого яркого луча света у нее в глазах все померкло.
Она опустилась на колени и поползла, загребая и шаря руками.
– Вот это да… Выплюнула. Ну как пришло, так ушло… Поплутав и вся испачкавшись в пыли, она сказала:
– Ну ладно, Кузя. Иди ко мне.
Она села и подхватила Кузю с целью посадить его к себе на колени.
Ее руки обняли что-то холодное. Она закричала.
Глава 8 Побоище
Тем временем бабушка Лена именно в этот момент возилась у себя на кухне, и никто не подозревал, что это не баба Лена, а Топор – который, как мы уже догадались, искал две жемчужины феи, и если бы он их нашел, он бы смог частично внедриться в обиталище враждебных сил, в Город Света, и навести наконец там порядок, новый порядок.
А сама фея Сирени в виде тонкого, слабого луча все еще летела со скоростью мысли в свою туманность, чтобы там через много тысяч световых лет поставить вопрос – почему меня не оставили на посту? Земля же погибнет! На нее идет черная грязь!
А колдун Топор, пребывая один во многих лицах, мог одновременно и порхать бабочкой, и возиться на кухне в образе бабы Лены, это было проще всего, чтобы изнутри узнать, куда она дела проклятые бусины.
А поскольку он был хотя и злой колдун, но неорганизованный, то связь сам с собой поддерживал нерегулярно, был малость разбросанный мужчина. И не всегда контролировал всю ситуацию целиком. То есть где-то он сам швиндиляет в облике бабочки, а где-то на кухне, согнувшись в три погибели, роется в пакете с картошкой, и на нем халат и шлепанцы, а где-то он восседает, окруженный соратниками, и вещает перед телекамерой.
И информацию о том, что баба Лена выронила одну жемчужину, Топор еще не переслал сам себе.
Итак, бабушка-2 топталась на кухне, гремя кастрюлями. У нее был план перерыть всю квартиру и найти искомое с помощью самосознания бабушки-1.
Но в этот момент в мозгу настоящей бабы Лены всегда горела одна только мысль: с работы, с ночной смены, уже собирался вернуться хмурый и невыспавшийся Валера-зять.
Больше у нее никаких соображений на данном этапе никогда не возникало.
Он должен был ворваться в квартиру с криком:
– А че горит?
Обычно к этому мигу все у нее было готово.
Дело в том, что баба Лена, мирный человек, не хотела ни с кем ссориться и берегла как могла незадачливую свою дочь Татьяну и ее семейную жизнь (помня о предыдущей своей).
Так что баба Лена-2, почуяв, что зять уже прется с работы, мигом раскочегарила конфорку, поставила на огонь сковороду и плеснула туда масла, а потом стала чистить картошку, да так лихо, что кожура полетела по всей кухне (баба Лена-2 работала со скоростью электродвигателя).
– Сейчас все сделаем, – бормотала про себя она.
Попутно новая хозяюшка налила воды в кастрюлю и закинула туда пачку макарон: пущай варятся. Но при этом забыла включить огонек под кастрюлей.
Масло почернело и задымилось, вся кухня была в ошметках кожуры, а попутно еще баба Лена задумала компот, но забыла, из чего его делают. В голове вертелось – «компот, компот», так как настоящая бабушка еще с вечера собралась сварганить его на подольше, зять обожал компот из чернослива и изюмчика, а вот яблоки сушеные не жаловал.
Настоящая баба Лена, высокоорганизованный интеллект, имела всегда свой бизнес-план на каждое мероприятие.
Кроме того, существовал и порядок, что за чем должно происходить, то есть алгоритм домашнего хозяйства.
Правда, у нее этот алгоритм был уже наработан в совершенстве и шел, говоря научно, на автомате, и потому некоторые моменты происходили сами собой, без участия головного мозга (в котором и копошился в данное время Топор). В частности, многие мелочи – что картошку надо, перед тем как почистить, еще помыть и вытереть, что кожуру необходимо сбрасывать в мусорное ведро, а ведро стоит за дверцей и т. д. – все это не содержалось в теперешней голове Топора.
Но бизнес-план имелся: поджарить картошки, сварить суп, макароны и т. д. И что придет зять.
А вот необходимый алгоритм действий, повторяем, отсутствовал.
Покопавшись со скоростью пылесоса в ящиках (все взлетело в воздух), повариха ничего не обнаружила и перешла в корзинку для овощей. Там она надыбала моркови и, порезавши ее, шваркнула все это в громадную кастрюлю. Подумала и для скорости сунула туда же пальчик, и вода мигом закипела.
Горе было в том, что неопытная бабушка-2 морковку-то не помыла.
Но откуда-то в ней всплыло воспоминание о том, что компот должен быть сладким!
И она ото всей души насыпала туда из кулька сахара! Но при этом ошиблась и насобачила в компот соли.
У настоящей бабушки на пакетах не было ничего написано, она даже вслепую могла отличить, где у нее что лежит.
Но никакой новый хозяин не мог бы на ощупь в этом разобраться, а в столе, где все хранилось, разумеется, лампочек не было.
Стало быть, на третье у фальшивой бабы Лены был компот из хорошо просоленной, но грязной морковки, на второе у нее готовились, лежа в холодной воде, промокшие невареные макароны.
Что касается обеда, тот тут колдун задумался. В его мозгу высветилась справка: суп гороховый, котлеты с жареной картошкой. Пришлось, проклиная все на свете, искать у бабы Лены составляющие.
Мамаша кормила его в детстве одними подзатыльниками. На третье у нее постоянно была хорошая оплеуха. А вот супов она не выносила принципиально. И правда, какая надобность в супах может быть на глубине вонючих болот, которые и сами представляют собой довольно густой и с крепким запахом суп.
Так что наш колдун Топор сызмальства не выносил никаких наваров, бульонов и вообще ничего жидкого. А тут – зятище идет. Голодный и злобный, невыспавшийся и с большими кулаками.
Фальшивая баба Лена видела его внутренним оком как на рентгене.
В животе у зятя болталась испорченная килька в томате (две съеденных на большой скорости консервные банки), а (также медленно горели) три пакета сухих чипсов с просроченной датой годности и несвежий литр пива, все из ближайшего ларька. Это он позавтракал, перед тем как покинуть свой служебный пост.
Поэтому во всем организме его назревало пищевое отравление.
Как правило, такие отравления он лечил плотным и сытным завтраком дома: суп, жареная картошка с тремя котлетами, компот. Это дело, подумав, полежав и покряхтев, он всегда жадно закусывал макаронами.
Кроме того, в башке у зятя в настоящее время сидела ясно читаемая мысль: поспать в тишине, и чтобы ни шороха! Сидеть!!!
Настоящая баба Лена свято чтила моменты возвращения зятя и, поставив горяченькое на стол, она от греха, подхватив внука под мышку, бежала с ним в любую погоду в магазин. Там, отдышавшись, баба Лена покупала молоко и кефир, не торопясь, и возвращалась эта парочка домой, когда из спальни уже несся трудовой храп Валеры.
Тогда у них начиналась жизнь.
Просыпался отец семьи к вечеру и, плотно пообедав, садился к телевизору.
Через пять минут и оттуда несся храп.
Но ничего этого новая хозяйка не знала.
А вот слово «суп» в ней сидело. И «котлеты» тоже.
Проще было наколдовать.
И баба Лена-2 плюхнулась на пол (задев при этом миску с сырой картошкой, картофелины разлетелись) и задумалась. В такие моменты Топора лучше было не тревожить: он окутывался испарениями, в воздухе носился аромат тухлых яиц и так далее – все как на родной планете и все как учила его мамаша Зараза Ивановна. Он хотел выйти на связь с бабочкой-капустницей и почти уже видел свою преисподнюю с запахом старого вазелина, чистый ад, ни капли воды – как в этот самый миг стукнула дверь, и в дом вперся зять.
– Кто дома?
Фальшивая баба Лена, с трудом приходя в себя, пискнула:
– О, какие люди и без охраны!
– Чем воняет, – грозно предупредил зять с порога, снимая ботинки…
Баба Лена вежливо сказала:
– Одну маленькую минутку!
И мысленно оглядела поле деятельности.
Зять ей помешал, и потому суп в кастрюле получился полуготовый, то есть горох еще не сварился, а вот лук распарился до состояния вареной тряпки. А котлеты застряли на фазе намоченного хлеба (сухую булку залить водой или молоком, добавить сырое яйцо, вымешать).
Кроме того, баба Лена-2 позабыла положить на сковороду сырую картошку, чтобы ее поджарить. Неопытность давала о себе знать! Да и класть уже было нечего – вся эта картошка валялась вокруг нее на полу и по столам.
Зять вломился в кухню, где плавал дым от горящего масла и курились сернистые болотные испарения.
Он обнаружил свою тещу в сидячем виде на полу.
Она присобрала с полу кучку чищеной, но грязной картошки.
Все кругом – вплоть до потолка – было украшено кудряшками картофельной кожуры, которые приклеились там и сям и свисали в виде подсыхающих длинных гирлянд.
Баба Лена-2 ведь чистила картошку как автомат, тонко и почти непрерывно.
На полу было сильно натоптано – ошметки земли от грязной картошки, на них насыпана соль и местами сухой горох, валялись отдельные макаронины и все еще довольно много сырых картофелин.
– Э, – сказал зять. – Это ты че? – Он принюхался. – Болеешь? А чем воняет? Яйцо разбила? Я не понял! – Он имел в виду запах серы.
Баба Лена, все еще сидя на полу, подняла на него затуманившиеся глаза и сказала:
– Мы рады приветствовать новых гостей!
Она не знала, как говорить с этим посторонним мужчиной.
Руки у нее все еще выделывали летательные движения, бабочка-капустница давала себя знать. При этом баба Лена возила ногами по полу.
Валера негромко выругался, обогнул тещу, с ходу выключил чадящую сковороду, оглядел все безумным взором и собрался действовать, но тут до него донесся запах паленого, и – здрасьте! – клубами повалил дым. Валера шарахнулся и побег в комнату, где в этот момент Кузя как раз поджег занавеску и стоял, размахивая спичками.
(Вспомним, что главной задачей Топора на Земле был полный тарарам, беспредел, кошмар и головотяпство.)
Валера отобрал у малыша спички, сорвал и затоптал занавески, а потом шлепнул сына пониже спины.
Парень обернулся, посмотрел на него снизу вверх и вдруг плюнул, да так ловко, что попал прямо в оба глаза. Было такое впечатление, что это какая-то кислота, а не детские слюнки.
Валера ахнул, стал тереть глаза кулаками, побежал на кухню сполоснуться и напоролся на все еще сидящую в позе йога тещу, с грузом сырой картошки в руках.
– О, какая встреча, секунду, – запела теща, что-то куда-то с силой шваркнула (картошку на сковородку?), и в воздух взметнулся фонтан кипящего масла.
Валеру сильно обожгло множеством искр.
Он вздрогнул, разлепил веки и остался стоять, не в силах вымолвить ни словечка. Кулаки у него от напряжения набрякли, зачесались и потребовали применения.
А бабушка, оказывается, все еще продолжала что-то бросать на сковородку прямо с пола, где пребывала. И ловко попадала. Капли масла летели, горя и постреливая, и обжигали Валеру, который стоял нерушимо, как озаряемый огнем сталевар у доменной печи. Он просто онемел.
Буме! Бряк! Пшик!
– Не хочешь компотику? – предложила теща.
Валера, которого еще мучили кильки в томате, стоя весь в слезах и моргая, машинально кивнул, как под гипнозом, взял большую кружку и черпнул из кастрюли, где уже стоял готовый бабушкин горяченький компот, на вид темно-розовый.
Он махом выпил полкружки, и глаза его, от природы маленькие, да еще и зажмуренные, вдруг широко распахнулись и стали большими-пребольшими, как шарики от пинг-понга. Зять на этом сильно поперхнулся, закашлял и опрыснул соленым компотом сидящую все еще на полу бабу Лену, окруженную легкой вонью.
– Ты че, дурак? – мирно откликнулась она. – Слюнями прыскаться?
Зять разинул рот и рявкнул:
– Почему морковь (…) в компоте и (…) соленая? Почему (…) вода с (…) землей?
И он плеснул кипятком из кружки на голову бабы Лены.
– А пошел бы ты к шутам собачьим, – по-настоящему обиделась бабушка-2, и Валера вдруг поскользнулся, шлепнулся и куда-то делся, потеряв память.
Тем временем Кузя-2, лохматый и грязный, раскрашивал маминой губной помадой ее же паспорт и все документы, которые он достал из верхнего ящика шкафа, поставив скамеечку на стул.
Когда он раскрасил все в кроваво-красный цвет, он вспомнил, что у него есть фломастеры.
Кузя-2 мигом принес их, по дороге чиркнув спичкой и опять поднеся ее к занавеске, и, вернувшись, уселся в спальне и стал чертить в мамином паспорте еще и желтым, ядовито-зеленым и черным.
Потом он взял у мамы из косметички ее тоненькие ножницы и начал вырезать на висящих в шкафу нарядах всякие узоры – полосочки и кружочки, что удавалось. Попутно он залезал во все карманы и прощупывал шовчики.
Затем он нашел ножницы побольше и принялся стричь, как парикмахер, мамину китайскую собачью шубу, которой она очень гордилась и которую с большим трудом купила.
После чего Кузя добрался до чемодана из искусственной кожи, стоящего на шкафу, опрокинул его на себя, продырявил теми же ножницами, все вывернул наружу и наконец достал оттуда тонкую пачку денег.
Кузя-2 разложил их по полу и стал вырезать из них картинки.
– Во! – сказал он, прибежав на кухню с кучкой картинок в руках. – Погляди, ба!
А «ба» еще не пришла в себя, она все сидела на полу, дыша туманами родной планеты. Башка ее чесалась от соленого кипятка, и она время от времени вытягивала губы в некоторый длинный, как у мухи, хоботок и дула себе на макушку.
Но в ее мозгу все еще была отпечатана программа действий настоящей бабы Лены.
– Ба-а! – дико, как сирена, заверещал Кузя-2.
«Ба» очнулась, с ходу дала внуку хорошую затрещину, от которой рухнул бы дуб, но внучок даже не покачнулся. Затем она тоже заорала благим матом и кинулась в спальню. От всего увиденного она на секунду потеряла всякое соображение и рухнула в кресло. И тут же вскочила: из кресла торчала пружина, потому что внучок и в нем прорезал большую дыру и уже порылся во внутренностях обивки.
У него в головенке работала четкая поисковая программа: найти маленькие круглые белые штучки. Попутно все порушить.
Вдруг со стороны большой комнаты потянуло гарью: там уже вовсю пылала занавеска на окне.
«Ба» бросилась туда на подгибающихся ногах, потом залетела в ванную, набрала в тазик воды, тут ей под ноги специально кинулся шкодливый кот Мишка-2, и она растянулась со всего маху на пороге ванной и пролила весь тазик.
– Ура! – гаркнула баба Лена от неожиданности.
– Ура! – подхватил внук-2.
И Кузя с коробком спичек радостно загулял по всей квартире, нашел, перелопатил со скоростью вентилятора, а затем и поджег кипу старых газет, которые бабушка собирала за шкафом для следующего ремонта, чтобы застилать полы, и газеты сразу занялись.
«Ба», удивляясь сама себе (программа действовала), вскочила на ноги, прибежала, отобрала у него спички, опять дала ему хорошую затрещину (Кузя-2 нежно сказал «еще дай пинка»), выругалась и бросилась обратно в ванную, а по дороге словила вредного кота и кинула его на лестницу.
Там уже толпились соседи, которые, увернувшись от растопыренных когтей Мишки-2, яростно кинулись на помощь с ведрами, и через полчаса квартира была вся залита черной от сажи водой, даже без пожарных.
Но пожарные уже были вызваны и спустя полчаса появились в окнах, выбили стекла и стали заливать квартиру пеной.
То есть когда мама вернулась с работы, она застала картину, от которой любое сердце должно было разорваться…
Несло горелой дрянью, как на тлеющей помойке.
Бабушка лежала на диване, не в силах сказать ни словечка, сынок, весь черный, стоял на кухне и прилаживал на шее кота петлю, а кот сидел над сковородкой и доедал последнюю сырую котлету. Кастрюля лежала боком на плите, из нее веером высыпалась крупно нарезанная грязная морковка. На полу была лужа и какая-то каша из земли, мокрых топтаных макарон и той же морковки, валялось много сырой картошки вперемешку с осколками побитой посуды – видимо, Кузя долго перед этим ловил кота, пока не поймал и не посадил над сковородкой есть семейный обед.
Мама взвыла, как пожарная сирена.
Кот рванулся, петля на его шее затянулась, Кузя крепко держал второй конец веревки и вопил:
– А че он наши котлеты съел!
Прежде всего мама отобрала у Кузи несчастного полузадохнувшегося кота. Кот при этом сильно порезал ей руки когтями. Затем она обвела глазами свой дом и пошла будить бабушку. Кузя же, находясь рядом, врал про то, что «ба» напилась и все деньги постригла и бумажки пораскрасила, все вещи в окно выкинула и т. д.
Папа уже давно должен был прийти с дежурства, поэтому мама пыталась навести хоть какой-то порядок. Слез у нее не было. Она моталась по квартире, шлепая по мокрому полу, как грязный призрак, пыталась как-то что-то помыть, что-то прибрать…
Вечером в квартиру позвонили, она безо всякого соображения открыла, вошли люди и сказали, что на нее подают в суд за пожар, что квартира внизу из-за них залита целиком, а наверху частично.
И что сейчас к ним переселяются жертвы протечки из квартиры внизу и квартиры наверху.
И тут же ввалился Ахмед с мокрыми узлами, с новой женой дворником Лидой и со старой разведенной женой, а также с семью детьми от первого брака и одним ребенком дворника Лиды (который недавно вернулся из армии, обнаружил свою мать замужем и всюду ходил с топором, намекая, что боится, что его убьет Ахмед).
Он и сейчас, входя, заявил:
– Меня хотят убить, знаю кто!
И приоткрыл пиджак, показав заткнутый за ремень хороший топор.
Лида же была пьяна, как обычно, и хвастливо говорила:
– Четырнадцать тысяч! – и потом, помолчав: – Нижняя неделя! Участковый Михалыч!
За ними стояла семья с верхнего этажа, которая, увидев, кто заселился первым, не стала въезжать, а вернулась в свое полузалитое жилище, крича, что лучше вообще жить на улице, чем так.
Ахмед с первой женой и детьми сразу расположился во всех трех комнатах. Лида с ребенком заняла кухню и сказала, что никого туда не пустит, иначе вызовет «Михалыча»:
– Нижняя неделя, на хрен!
Что касается Кузи, то он носился по головам новых жильцов, нового мужа дворника и его предыдущей семьи, вывалил на пол их узел с кастрюлями и сковородками и другой узел с тарелками (что-то массово кокнулось), прихватил сотовый телефончик и понесся, положил его в унитаз, и за Кузей кинулись все члены семьи Ахмеда, и много чего побилось из-за этого, а пока они вылавливали мобильник из воды, он помчался в ванную, налил полное ведерко и, крича «пожар, пожар», начал щедро поливать вещи новоселов.
Силач, однако, оказался этот новый Кузя. Ахмедовы дети, вернувшись, застали его за тем, что он прыгал на их завернутом в шаль телевизоре, используя его как батут. Они глядели на него во все глаза, не в силах ничего сказать, потом прибежала их мама и встала как столб, а за ней явился и сам Ахмед с мокрыми по локоть руками (в кулаке был зажат мобильник) и стал громко икать, приговаривая:
– Зачем, любимый, слушай… Что делаешь… Совсем семью позоришь… Слазь… Взорвется… Зарежу!
Тут Кузя захихикал, сбегал на кухню и принес Ахмеду большой хлебный нож.
Но Ахмед закрыл глаза и покачал головой.
И все дети и их мать тоже отказались от оружия.
Почему-то они все потеряли способность возражать и бороться.
Мама Кузи сидела на полу, закрыв глаза. Бабушка Кузи так и лежала на диване, громко храпя.
Если бы программа Топора была полностью осуществлена, то семья Ахмеда бросилась бы в драку с ножом, и в следующие два часа оба семейства должны были бы друг друга перебить и перерезать, затем к этому бы подключились родственники и друзья Ахмеда, с одной стороны, и простые крепкие горожане – с другой. Затем предполагалась ликвидация рынков, игорного бизнеса (взрывы, взрывы), затопление подземных переходов, пожар на всех бензоколонках, участие авиации и танков, бомбардировки, крестики на дверях квартир, сделанные мелом, и т. д.
Но бабушка почему-то лежала без задних ног, бормоча в бреду:
– …компот. Взять килограмм спелых антоновских яблок. Почистить, порезать, отварить. Компот. Взять килограмм спелых антоновских яблок… – и т. д. по кругу.
А Кузя был занят тем, что прыгал из окна во двор на чужие автомашины (с четвертого этажа, заметьте). Внизу гомонила толпа. Первым треснул и прогнулся автомобиль Ахмеда. «Есть!» – заорала публика. Возвратившись на лифте, Кузя опять деловито прыгнул, целясь уже в новый объект, в «Мерседес».
– Цирк! – ликующе крикнул кто-то.
Все опять получилось, даже лучше прежнего.
Что же касается его мамы, то она ни о чем не думала.
Она только крестилась, закрыв глаза, и говорила:
– Господи, Господи.
Потом она встала, даже взяла брошенное ведро и понесла его в ванную и снова наполнила его водой, желая, видимо, помыть полы. Но тут подвернулся Кузя, который с криком «я помогу» бросился ей под ноги, мама упала как подкошенная, ведро вылилось.
Кузя при этом взвизгнул и дико засмеялся, видя все это безобразие.
– Любимый, – слабо откликнулся на это Ахмед, – что опять маму обижаешь?
Печально члены семьи Ахмеда стали собирать разбросанные, помятые и мокрые вещи и понесли их вон…
Глава 9 В кущах
Руки бабушки обняли что-то холодное.
Она закричала.
Это был битком набитый кожаный мешок.
Бабушка вскочила как громом пораженная. Мешок упал на землю.
Она стала громко плакать и бегать, побежала даже к дому, хотя окна там уже не горели, и даже рванула на себя дверь, а что было делать – когда у человека горе, он кидается за помощью к другим людям.
Так она и звала:
– Люди, люди! Что же это такое! Люди! Господи, помогите!
За дверью был лес. Никаких блондинок. Вернувшись к своему кусту, бабушка опять увидела мешок с песком. Она со злостью пихнула его ногой. Мешок сидел на земле, кургузый, неподвижный. На боку его осталась вмятина от удара.
– Кузя! Кузя! – завопила бабушка, рыдая. – Где ты? Что я твоей маме скажу, скажи! Она же умрет! Она же любит тебя больше своей жизни! Она же меня убьет! Да я тоже покончу с собой еще раньше! Прыгну с балкона! Я тебя не уберегла! Я недосмотрела за тобой! Мой маленький! Нет! Что я?! Что? Где? Эй, вы там! Верните мне ребенка! Внесите приз в студию! Моего внука! Я ваша подопытная мышь! Где я, отзовитесь! Где-я-аа!!! Дочка, если ты меня видишь на экране, позвони им, чтобы нас освободили! Верните Кузю! Дурацкий мешок!
Тут мешок, словно подумав, упал набок. То есть, видимо, когда бабушка его стукнула, он начал падать, но очень медленно. И вот теперь он свалился окончательно.
Но было похоже на то, что мешок упал после этих слов.
Бабушка нагнулась, посмотрела на него и подняла, весом мешок был тяжелый, ровно такой же, как маленький Кузя. Только очень холодный.
Бабушка прижала к себе мешок. Она как сошла с ума. Стала его баюкать.
Потом она развязала его, посмотрела, что внутри. Там был серый песок.
Она тут же завязала мешок и стала его укачивать, говоря:
– Кузя, ты что, не плачь. Бабушка тебя не бросит. Даже пусть тебя превратят в мешок. Ты же мне обещал, что будешь со мной! Вот ты и со мной!
Тут бабушка подошла к декорациям и стала громко вещать:
– Дорогие зрители! Вы видите перед собой неудачный эксперимент, меня заманили сюда на передачу, чтобы снимать в прямом эфире мою реакцию на то, что вокруг один искусственный лес из новогодних елок, ни еды ни воды, при этом у меня отняли ребенка! Украли! Сунули мне этот холодный кожаный мешок с песком! Может быть, они хотят подсматривать за мной, как я плачу? Снимать на видео, как я умираю от голода? Как я рою ямку в земле, чтобы набралась вода? Чтобы неделю подряд снимать страдания человека, у которого отняли внука? И медленную смерть?
Тут она перевела дух:
– Я понимаю, это сенсация! Съемки в реальном времени! А? Все будут смотреть не отрываясь! Все купят эту запись! Ну спасите же нас! Это будет еще интереснее, я вас уверяю! Еще дороже будет стоить кассета! Помоги-и-те! Кара-уул! Этот мешок – то, что осталось от моего мальчика! Я понимаю, что вы смеетесь надо мной, как всегда люди смеются над дураком, который поймался на удочку! Над тем, кто упал, над тем, кто потерял штаны! Над тем, кого снимает сам себе режиссер! Но не смейтесь! С каждым из вас это может случиться. Доченька! Не бросай меня! Не смейтесь над моими слезами, вы! Вас могут так же убить, как моего Кузю!
Она пыталась согреть кожаный мешок с песком. Качала его, прижав к груди. Не плакала. Им жирно будет.
– Ну и ничего, Кузя, – сказала бабушка громко. – Мы с тобой прикорнем под кустом, утро вечера мудренее.
Она села на прежнее место и стала качать свою ношу, припевая «Баюшки-баю». Она как бы временно сошла с ума и прекрасно это понимала.
Она качала кожаный мешок, клюя носом, как вдруг осветилась все та же декорация, и у порога главного входа появилась тележка. Продавец заголосил:
– Быстрое питание! Горячие собаки! Котлеты в булке! Напитки!
Бабушка было подняла голову, крикнула:
– Спасите! Убили ребенка!
Она вскочила и побежала на подгибающихся ногах к тележке.
Но оказалось, что он говорит с большого, стоящего на крылечке экрана.
Торгаш торжественно вещал:
– Да! Только в обмен! Принимаем драгоценные камни! Бриллианты, изумруды и жемчуг! Один камень – комплексный обед: бутылка пепси и гамбургер! Жемчужины складывать справа под тумблер!
Бабушка тут же вспомнила о второй жемчужине у себя за щекой, кивнула и сказала тоже как могла громко:
– Сама-то ты поешь, а вот как накормить кожаный мешок? Не будешь же его развязывать и лить туда воду и совать куски булки? Песок ведь быстро испортится, закиснет! Заведутся букашки… Дорогие телезрители! Вы меня понимаете! Мы даем отказ!
То есть все правильно: это идет передача.
И она вернулась к своему месту под пыльной елкой, решив голодать до последнего, вместе со своим несчастным кожаным мешком. Но откуда телевизионщики узнали, что у нее есть жемчужина?
Так что уж лучше голодать быстрее. Если не пить, то сколько может прожить человек? Вроде бы неделю? И если совсем будешь умирать, ведь освободят?
И она громко сказала кожаному мешку:
– Вот какие чудеса бывают на свете. Будем голодать. А моя дочь с мужем, они соберут соседей и друзей и разнесут это телевидение по клочкам! Чтобы нас спасти!
А продавец булок и котлет вдруг завопил, как будто бы его ужалили:
– Принимаем также к оплате пустые кожаные мешки! Пустые! Без песка!
– Как же, – сказала бабушка ядовито. – Иди отсюда! Без песка! В этом песке, может быть, одна надежда!
Потом она добавила:
– А откуда знаешь, что там песок? Вы поняли, дорогие телезрители?
Все вдруг опустело, вокруг стоял искусственный лес. Только пованивало расплавленной пластмассой, как на свалке.
А точно, тут свалка!
Вот где они оказались в результате. Ну что же, и у каждой свалки бывают берега, подумала бабушка, собралась с силами и пустилась напролом.
Прижимая к себе кожаный мешок и загораживаясь локтями, бабушка в самых своих лучших одеждах пробиралась сквозь завалы искусственных елок.
Видимо, сюда их свозили многие годы. Праздники давно отгорели, отсветили, каждая из искусственных елок сослужила свою службу не один раз… Вокруг них сидели самые бедняки или бездетные, старенькие, одинокие, которым не по карману было покупать живые елки… Самые неприхотливые, запасливые и скуповатые. Но все-таки и им хотелось веселья, пусть дешевого. Вон на взлохмаченных, почерневших ветках висят ошметки сверкающей мишуры.
– А моль эту белую еще увижу – прихлопну, – сказала, воюя одной рукой с пыльными ветками, бабушка. – Чего я ее жалела? Это же моль!
Мишка бежал у самых ног, как собака: почуяла животина, что отставать нельзя.
В искусственном ельнике стемнело. Лес был бесконечным.
Бабушка не знала, что его придумал колдун Топор, а то, что придумано, не имеет ни конца ни края.
Через много времени бабушка, вся поцарапанная, сидела на прежнем месте на куче сваленных елок и говорила коту:
– Ты бы разведал, куда идти. А то слоняешься бестолку, Миша. А ребенка надо кормить, вон, смотри, проголодался (и она погладила мешок). И неизвестно чем и неизвестно как.
Кот, однако, вспрыгнул ей на колени, умостился рядом с мешком и стал топтаться.
– Тебе бы все погреться, Миша. А я так устала. Что делать будем? За нами идет наблюдение, и что?
Вдруг она закричала:
– Добрые люди, помогите! – Она спихнула кота с колен и встала. – Мы ведь тут пропадаем! Ребенка похитили, а это уже не шутки! Я с мешком таскаюсь, а в нем больше пуда! Не ели и не пили ничего! Так и помереть недолго! Интересно будет смотреть, как мы постепенно станем подыхать, а? Они же специально сказали, что ничего с собой не брать! Мы и не взяли! И у меня ничего нету! Они, правда, предлагали гамбургер за драгоценные камни! А откуда у меня они? Ижумруды там, алмажи?
Тут бабушка запихнула жемчужину обратно за щеку и замолчала.
Может, они желали выяснить, есть ли у нее жемчуг. И ей специально предлагали такой обмен – гамбургер и воду за жемчужину.
Бабушке вдруг захотелось посмотреть, что за бусинка у нее осталась, как она выглядит, может, она волшебная вообще?
Баба Лена отвернулась, покатала ее во рту и, нагнувшись, аккуратно спровадила жемчужину в ладонь и быстро зажала кулак.
Однако жемчужина как-то выскользнула и упала.
Тут же, как бритва, сверкнула в полете белая бабочка, несясь наискосок мимо глаз.
А кот живо выставил лапку крючком, поймал бусинку, прыгнул в кучу елок и тут же уронил жемчужину. Сверкнул тонкий луч, направленный вверх.
– Куда? – завопила бабушка. – Мишка! Но кот как-то ловко собрался в комок, дал свечу вверх, как за мухой, сиганул далеко в сторону – и пропал.
– Ай, ой!
Мотылек сгинул.
Бабушка бросилась в кучу елок, где пропал Мишка, стала его звать, вся исцарапалась со своим мешком, продираясь сквозь пластмассовые заросли – и никакого результата.
Тогда она села и стала тяжело думать.
Кот не пропал, он исчез, подбросив жемчужинку. Значит, она и вправду непростая. Недаром ее хотели выманить. Наверно, кот уже сидит дома.
Она опустилась на четвереньки и стала искать вокруг себя. Подползала под пыльные, пахнущие химией отрепья, под палки, шарила по земле…
Хорошо, что почва такая сыпучая – на ней все отпечатывается, как на свежем снегу.
Бабушка зашагала на четвереньках, ища Мишкины следы.
На всякий случай она обернулась и сказала в невидимую камеру:
– Дорогие зрители! Вам смешно? Я как верблюд с горбом? Наверно. Но знаете, я тоже еще посмеюсь! Когда выиграю главный приз! Надо двигаться, надо что-то делать, нельзя сидеть на месте! Это важно! Я всю жизнь двигаюсь и работаю, и хоть я ничего не заработала, но я верю!
Тут она запыхалась и присела.
– Я верю в то, что своим трудом можно добиться результата! Никогда не теряйтесь! Никогда не останавливайтесь! Не сидите как пни, подруги! Делайте что-нибудь! Можно…
Она подумала.
– Можно много чего! Раньше-то вон… Какие кружева из ниток плели! Вышивали шерстью! Вязали! Из лоскутов иконы лицевые шили! Да пирожки пекли и продавали! И всем помогали! Человек – это тот… ну… который живет для других! И не надо ждать, никто спасибо не скажет! Такая жизнь для других сама по себе, и без спасибо, уже награда! Все домашние хозяйки, все матери и бабушки, работницы, которые живут без спасибо, всем привет и поклон! Среди попреков! Как герои!
Чтобы произнести эти слова, она даже встала, а потом поклонилась. Поклон удался легко. Бабушка сильно исхудала.
– Дайте мне вернуться! С моим Кузей увидеться! Я все поняла! Я вернусь, я горы сворочу! Даром времени не потеряю! Язык начну изучать какой-нибудь, вместе с внуком! В кружок пойду! Что это я пропадаю на домашнем уровне!
И опять она завопила:
– Все, финал, приз в студию!
Немного подождала, но ничего не произошло.
Посмотрела на небо. Дрянь какая висит, надо же.
Бабушка опустилась на четвереньки и вернулась к куче елок, куда прыгнул Мишка.
Разгребла пыльные, убогие палки с зелеными колючками. Заглянула вниз.
На этом месте лежал темный кожаный мешочек, крепко завязанный веревкой.
Бабушка завыла, присев на колени. Она взяла на руки еще и этот мешочек (килограмма в два с лишним) и обратила свое заплаканное лицо к каким-никаким небесам данного леса. Там, высоко, просматривались темные, криво прибитые доски, висели отрепья, палки, плохо натянутые провода…
– Дорогие телезрители! – опомнившись и вытерев лицо рукавом, заговорила бабушка. – Вы видите, в какие условия меня поставили режиссеры. Прошу вас, откликнитесь и пришлите свои отзывы на это безобразие. Я есть перед вами человек, у которого отобрали все, но оставили его жить и носить непонятные мешки. Звоните и шлите все что можно. Татьяна! Идите с Валериком на прием в милицию с заявлением и простите меня, старую идиотку, что я вас не ценила и чего-то от вас требовала. Я все поняла! Чтобы меня освободили и, главное, вернули ребенка! И кота тоже! Ку-зя! – заорала она с визгом. – Где ты-ыы! Мишка! Ксс-кс-кссс!
Звук ушел как в ватную подушку. Искусственный лес молчал.
Мало того. Когда бабушка по собственным следам вернулась на полянку к декорации, то, присев на прежнее место, в пыль и труху, она увидела, что стена дома медленно падает. Поднялся столб как бы дыма. Через небольшое время на месте дворца лежали в беспорядке поломанные и перекошенные куски толстого картона.
Глава 10 Нашествие
Вместо того чтобы испугаться, бабушка быстро подошла к куче стройматериалов и одной рукой (другой она придерживала оба мешка, висящие через плечо) стала сволакивать к себе под елку особенно большие обломки картонных стен.
Вскоре удалось, зацепив за ветку, установить стоймя, хоть и слегка кособоко, два кривых прямоугольника. Вниз бабушка постелила кусочки поменьше. Получился шалаш.
Затем она подумала и притащила еще один фрагмент бывшего дворца и прислонила его с третьей стороны. Выходил какой-то даже шатер.
Соорудив все это, бабушка осторожно заползла внутрь и, высунув руку, добыла и поставила стояком еще кусок, теперь уже снаружи.
В последний раз выглянув из шалаша, бабушка сказала в пространство:
– Рекламная пауза!
И на этом она окончательно закрылась куском картона, как дверью, в своем шалаше.
И там, положив свои драгоценные мешки, она легла на них головой, как пассажирка на вокзале, боящаяся кражи.
Пахло вонючим клеем и побелкой, но никакие камеры не могли уже наблюдать за ней.
«Вот интересно, – подумала бабушка, – теперь им нечего делать со мной. А я отсюда не собираюсь выходить. Вот пускай и подумают, что передавать в эфир».
И она закрыла глаза.
Ничего не происходило. Стояла полная, оглушительная, звенящая тишина. Только сильно урчало от голода в животе. Пересохло горло. Язык стал жестким и еле ворочался.
В закрытых глазах плавали какие-то круги и разнообразные квадраты, уплывая во тьму.
Бабушка погладила оба мешка и шепотом сказала:
– Все равно они нас должны вернуть, потому что им показывать-то нечего… Все, ребята… Доигрались. Надо только обождать и не торопиться. Тихо лежим. Мы спрятались.
На этом она заснула, и ей стал сниться какой-то огромный зал, полный народа. На сцене стоял космический корабль, готовый к старту. Вокруг корабля теснились накрытые столы. На них стояли вазы с фруктами, тарелки с едой, большие бутылки. Бабушка в чем-то блестящем спускалась к сцене из задних рядов, и ей все аплодировали. Похоже было, что ее провожают. Она шла, чувствуя большое смущение. Ей никогда в жизни не хлопали. Она добралась к подножию сцены, обернулась, зал поднялся в едином порыве, началась овация, засверкали вспышки фотоаппаратов.
Теперь надо было подняться на сцену, набрать побольше еды и воды, войти в аппарат и улететь.
То есть она даже подумала, что зачем ей ракета, надо нахватать всего с тарелок, и все. Поесть и попить.
Но было неудобно совершать такие действия на глазах ликующей публики. Поэтому бабушка взяла и свернула вбок, к выходу, бормоча:
– Ешьте сами. Мне это не нужно. Куда это я одна поеду. Летите вы. А я не желаю.
И вдруг шум рукоплесканий стал замирать.
Обернувшись, бабушка увидела, что ракета на сцене как-то вспучилась, приняла форму яйца, и даже по этому яйцу прошла глубокая трещина…
Люди в зале замерли.
Послышался треск, трещины зазмеились уже по всей ракете, и вместо ожидаемого гигантского птенца (или хотя бы крокодила) из скорлупы поползла густая черная грязь.
От ракеты понесло помоечной вонищей, запахло тухлыми яйцами.
Люди повскакали с мест, побежали наверх, закричали, завизжали.
Грязь уже залила всю сцену, упали столы с угощением и потонули, гуща вывалилась в зал и медленно стала подниматься по рядам.
В жирных потоках грязи извивались какие-то живые черные веревки…
Бабушка, сама того не замечая, оказалась по колени в холодной, густой болотной жиже и начала изо всех сил стараться выйти наверх, к людям.
Вдруг ее ноги оплела какая-то холодная, крепкая лента, задергалась, забилась, потянула вниз…
И тут бабушка увидела, что последним, среди испуганной толпы, могучий зять Валерик несет к выходу Кузю, раздвигая народ, а рядом, оглядываясь в ужасе, пытается не отстать дочь Таня.
– Валерик! Таня! Помогите! Ну что же это такое! – задыхаясь, закричала бабушка. – Руку хоть подайте! Тут змеи!
Она пыталась оторвать от себя черные плети.
Кузя там, наверху, обернулся и молча посмотрел сверху на бабушку, и вдруг он стал решительно рваться с отцовых плеч. Слабенький, а сползал все ниже. Он почему-то был очень хорошо виден бабушке – как будто его осветил прожектор. Волосики на голове встали дыбом и тоже сияли. Маленький был такой красивый, румяный, со сверкающими глазами, как будто он вдруг заболел. У детей так бывает.
Бабушка мгновенно завопила:
– Таня! Не пускай его! У него температура! Держи-и! Ладно-о! Пока! Уходите! Утонете сами! Быстро! Они сейчас всю планету-у! Бегите отсюда-а! Берегите его! Кузю, слышите! Ушки, ушки ему береги, Таня! Не разводитесь! Валера! Не пей! Богом прошу! На дерево лезьте-е!
Ее тянуло вниз, еще одно живое выхлестнулось и опоясало ее, еле стоящую в грязи, подвижное, крепкое, дрожащее, как тугая веревка. И лезло к горлу. Грязь все поднималась, или это бабушка уже опускалась. Бабушка не смотрела вверх, не хотела знать, как уходят родные, пусть берегутся сами, пусть берегут Кузю. Она зажмурила глаза, чтобы не видеть, как вокруг плещутся живые кнуты, черные, скользкие, крепкие. Их было не оторвать. Какая-то была статуя такая же, два голых человека стягивали с себя прилепившихся змей, вспомнила она, только статуя была белая Лаокоон, оплетенный змеями… Я вроде них, но уже почти черная. Очень громко и часто колотилось сердце. «Как прям перед казнью, – все еще упираясь, чтобы не упасть, думала бабушка, – щупальца, их не оторвать, прощайте, неужели все? Ничего в жизни не видала, одна радость, Кузенька. Радость моя! Счастьице. Живи, родненький, и мама с папой твои. Без них тебе нельзя, дорогой мой. Без меня будет вам труднее. Ну ладно. Господи!» До нее еще доходил чей-то оглушительный визг:
– Баба! Баба! Баба Лена!
Она начала молиться, все еще стоя на ногах, потом ее сильно рвануло, подсекло, она упала на колени. Лицо уже было все в грязи. Что-то завозилось на горле мелкое, жгучее, как колючие волосинки, сильно укусило. Как будто ударило током, проникло внутрь шеи. «За что?» – вдруг обиделась она и попыталась встать.
Тут же ее зверски ухватило за косичку и поволокло куда-то.
Бабушка взвыла, стала высвобождать руки, растягивать эти плети, болтала ногами.
Вдруг она, как пробка, вылетела из грязи на воздух, и еще не открыла перемазанные, слипшиеся веки, как руки ее уже впились ногтями во что-то теплое, жилистое, что волокло ее. Бабушка вопила, сама не своя:
– Ах ты гад!
Ее поставили ногами на что-то твердое.
Густой, недовольный голос сказал:
– Мамаша, вы че когти-то распускаете? Обалдели совсем, да?
Перед ней стоял Валера с грязными по локоть лапами, злобный и бледный.
Рядом находилась вся красная Танюшка, крепко держа Кузю двойным обхватом своих могучих рук. Кузя морщил нос, мордочка у него была заплаканная.
Наверху уже не было людей, все сбежали.
Вдруг раздался громкий бесстыжий пук.
Бабушка обернулась.
В грязи что-то как будто взорвалось, всплеснулись кривые, мокрые, черные плети, как вопросительные знаки, и все исчезло – зал, черное вонючее болото, родные…
Запыхавшись, вся в поту, бабушка проснулась. Звенело в голове. Ощупала свои ноги – тут. Надо же, что приснится!
– А все же их всех повидала, – сказала бабушка, адресуясь к мешкам. – Валера мужик хороший, хотя и по жизни мог бы много сделать, чем это, предъявите пропуск. Это их Кузя заставил вернуться, наверно. Начал рваться ко мне. Соскочил с рук и побежал.
И тут она заплакала. Однако спать уже не решалась. Мало ли еще какая гадость приснится!
Просто так лежать уже не хотелось, даже назло телевизионщикам. Надо было действовать
Она поднялась, взвалила на себя оба мешка и вылезла.
В спертом, несвежем воздухе что-то дополнительно пованивало.
На поляне, кое-как освещенное, стояло огромное яйцо. Причем безо всякой подставки.
– Батюшки светы! – охнула бабушка.
Это что же такое происходит!
У нее мгновенно ослабели колени.
Одна, в этом дурацком каком-то подвале, елки-палки. И эта будущая грязь!
Бабушка, однако, сосредоточилась, сказала себе «спокойно, спокойно!», села, стала крепче перевязывать мешки, то есть основательно соединила их веревочками, опять перевесила через плечо. Кузин мешок за спину, Мишкин на грудь. Встала, поправила их, встряхнулась.
Руки освободились.
И она начала таскать елки и сваливать их вокруг яйца. А что еще оставалось делать?
Работа есть работа, к ней бабушка была привычна, а уж убирать и наводить чистоту она умела как никто.
Все дальше приходилось ходить за елками, и все выше росла гора синтетической помойки вокруг яйца.
Разумеется, искусственный лес не кончался, работы было много, и это успокаивало бабушку.
– Мы вас изолируем, – бормотала она. – Ешьте пластик. Оплетайте. Авось подавитесь, гадюки.
Бабушка Лена до того дошла, что стала размахиваться, как метальщик копья, и посылала палки повыше.
Она уже не думала ни про какие съемки, не до того было. Ежели есть у человека работа, то он занят.
– Работа – это выход из любого положения, – вдруг сказала себе бабушка. – Самое жуткое – это ничего не делать. Человек от этого шалеет. Поэтому и курят, и пьют, и все такое, чтобы заняться чем-нибудь хотя. Вот взять нашего Валеру. И на работе свободен, и дома как обалдуй. Про мой сон я ничего не говорю, зять оказался молодец. Спасти он может… когда захочет (тут она сосредоточилась, поправила мешки и зафиндилила елку на самый верх). Вообще горы своротит. Ежели ему дело дать. А так он спит или сериалы смотрит. Пьет все что попало и курит. И все, что он взял от жизни. Помрет, кто про него хорошее слово скажет? Кому он помог в жизни? На даче у брата и то не допросишься крышу протекающую покрыть…
В этот момент что-то произошло, какое-то дуновение спертого воздуха.
– Баба, – сказал чей-то густой голос и прокашлялся. – Вообще, не понял юмора, это что за компот? Человек приходит после ночи, блин…
Она обернулась и покраснела. За ней стоял Валера собственной могучей персоной, и, может быть, он все слышал.
– Компот? – заботливо, как всякая теща, переспросила она и отправилась за следующей порцией искусственного хвороста. – Где компот? Ты что, Валера? С дуба упал?
Валера шел следом и гнул свое:
– Да? С дуба. Ну ничего себе! Ночь не спавши, у человека печет в горле, дают компот, он соленый и с землей, плавает морковка, хрен ее знает… это компот, да? Это компот? А этот вообще… Внук ваш… В глаза плюнулся… Как его воспитали, так он и харкает.
Глава 11 Город света
Кузя шел по какой-то дороге, рядом, мешая идти, увивался кот Миша. Путь пролегал среди полей, окрестности были как около дачи другой бабушки, вдали синел лес, пели птички, вспыхивали в воздухе стрекозы (Миша то и дело прыгал), а Кузя не мог понять, что происходит. Не то что он был испуган, но он как будто оцепенел.
Шел себе и шел.
Вроде солнышко, ветерок, а плакать хочется. Хочется позвать бабушку и хотя бы прижаться к ее юбке. Взять за ручку. Попроситься, чтобы его понесли, потому что устал. Вздохнуть наконец спокойно.
Вдруг, как облака, перед ним встали далекие шары, купола, возникли башни, сады, засверкали стеклянные грани домов, заклубились высокие фонтаны.
Веяли огромные флаги, доносилась веселая, смешная музыка, но очень тихо.
Там, вдали, вдруг проскакали лошади, на них сидели дамы, и их белые платья и большие шляпы развевались на ветру.
Город приближался, как будто Кузя прыгал большими прыжками, но он плелся еле-еле.
Город разворачивался перед ним все явственней.
Красавицы причесывали на башнях других красавиц, шляпы и шали, шлейфы, вуали пролетали как облака, минуя тихо идущего Кузю и его уставшего кота.
Вдруг они оказались на некоторой улице, и Кузя стеснялся спросить, как добраться до дома.
Вообще он уже один раз терялся в большом магазине и плакал при всех, было такое дело. И сам ужасно стеснялся, что плачет, и не мог с собой ничего поделать. Оказался вдруг один.
Поэтому сейчас он даже не глядел на прохожих, а смотрел себе под ноги. Только что была бабушка, какой-то темный лес, а теперь оказалась неизвестная местность, как будто Кузя заснул и пропустил самое главное – как он сюда забрался. Вот тебе и на, проснулся неизвестно где.
Светило солнце. Кузя то шел в тени больших деревьев, то выходил на свет. Хотелось есть.
– Какой кот! – сказал голос.
Кузя испугался и подобрал Мишу на руки.
– Это что за кот! – продолжал женский голос. – Чудо просто!
Чья-то рука стала гладить Мишу.
Кузя посмотрел наверх и увидел красавицу в воздушном платье.
– У нас таких и не видывали! – воскликнула тетя. – Тебя как зовут?
Кузя потупился и ответил:
– Его зовут Миша.
Кот вдруг возразил:
– Меня звать Мельхиор. А вас?
– Сирень.
– Что-то знакомое, – заметил кот Миша.
– И мне ваше имя нечто напоминает. Пойдемте ко мне в гости?
– Кузя, – тихо сказал Мельхиор, – я жутко хочу жрать. Пошли? Вдруг покормят?
Кузя, все так же не поднимая головы, поплелся вслед за сверкающим платьем.
В тот раз, когда он чуть не потерялся, его тоже окружили тети в магазине, спрашивая адрес, имя и фамилию, а он в ответ орал «ой-ёй-ёй», пока не прибежали папа с мамой…
Тут никто ничего такого не требовал, не спрашивал «где ты живешь, мальчик», хотя Кузя давно уже знал назубок свой адрес и даже сейчас потихоньку его повторял, частично вслух. Просто так:
– Дом тридцать четыре, квартира двадцать три.
Сирень быстро шла впереди, Кузя с Мишей на руках еле поспевал за ней.
Но уже началась какая-то тихая радость, как будто Кузя мог вот-вот увидеть бабушку, папу и маму, и вдруг там будет родной двор, а там, рядом с песочницей за столиком около качелей, окажутся все знакомые – дядя Юра и дядя Коля, которые всегда любили поговорить с Кузей, узнать у него, как дела и не хочет ли бабушка с ними отдохнуть малёк.
Почему бабушка все время и уводила Кузю гулять в сквер.
Но ничего такого не оказалось, когда Сирень ввела их в какие-то красивые кудрявые ворота, сплошь увитые розами.
В ее доме оказались деревянные, но как будто кружевные сквозные двери, а за ними был сад, потом опять цветы, колонны, башня, увитая листьями, потом солнечная поляна и замок: разноцветные стеклянные стены, мраморные ворота, фонтан в центре, заросли цветов как облака…
И тут пролетела розовая птичка (Мишка на руках насторожился, встопорщился, а птичка сказала: «Как раз!» – и закачалась на ветке цветущего дерева, словно нарочно, очень близко), потом их посадили за стол (Миша сел на отдельное сиденье, довольно высокое, как для маленьких, и со специальным лоточком).
Вдруг Миша сказал:
– Я не люблю цветы. Я их не ем.
– А вы попробуйте, Мельхиор, – засмеялась Сирень. Кузе дали на тарелке тоже какие-то цветы. Он сидел, опустив голову, и боялся взглянуть на хозяйку.
– Ешь, ребенок, тебе надо набраться сил, – прозвучал вдруг нежный голосок.
На тарелке танцевала маленькая девочка. Еще новости!
Девочка взяла в руки цветок, белый и блестящий, и поднесла прямо ко рту Кузи.
– Ам, – сказала вдруг она крикливым голосом бабушки. От неожиданности Кузя открыл рот, а когда закрыл, то пришлось что-то жевать, сладкое и вкусное. Мороженое, вот что! Но не ледяное, а прохладное.
У Мельхиора на лоточке тоже работал какой-то малюсенький мальчик, и Мельхиор принимал от него на вилке полные охапки мелких цветочков, жевал и облизывался.
– Ну как тебе жареное мясо? – поинтересовался Мельхиор у Кузи.
Кузя постеснялся ответить, что у него мороженое:
– Ничего.
– Как баба Лена приготовила, – заметил Мельхиор. – Как дома.
Они так долго ели, причем мороженое у Кузи все время было разного вкуса, в конце даже с шоколадками, мелкими орешками и чем-то воздушным и хрустящим.
– Вкусно? – спросил Мельхиор. – Волшебная жареная рыбка!
– Да.
– Мм. А курочка! – сладко пропел Мельхиор, принимая последние цветочки. – Я в упоении!
После обеда над Мишкой заплясали две розовые птички со словами «Ну Мельхиор, ну пойдем» и стали манить на диван.
Мельхиор вздыбился было при виде птичек, закрутил хвостом, но потом быстро смягчился, сказал «куда это вы меня», потом сказал, как бы оправдываясь, «совершенно неохота жрать» и оказался на низком, мягком диване. Там он потоптался, выделывая круги, и вдруг заговорил:
– Баба Лена, вы прелесть. Спасибо за обед. Разрешите улечься к вам на ручки.
Что-то ему все время не то казалось. То рыбка, то баба Лена.
Что касается Кузи, то он от этого так затосковал по бабушке, что чуть не заплакал.
– Кузя, – сказала Сирень, – посмотри.
Он заснул мгновенно и что-то во сне видел, то войны и сражения, а то голод, тьму, казни, когда людей прибивали к столбам с перекладиной и оставляли под палящим солнцем, потом он видел, как львы валят и грызут женщин, детей и стариков в каких-то специальных цирках, на глазах у радостно кричащей толпы, видел шеренги худых мальчиков, босых и в тряпье, идущих колоннами, видел несущиеся высокие наводнения, в которых мелькали кричащие головы и отчаянно бьющие по волнам руки, видел землетрясения, когда целые города проваливались в пекло, а на земле горели неугасимые пожары, при этом он все время спасал кого-то и его спасали, выручали, протягивали ему руку. Он видел горящих на кострах девушек, пролетал над полями, затянутыми пеленой отравляющего газа, и солдаты в окопах сваливались, надсадно кашляя, плюясь кровью… Он видел, как забавлялись, пыхтя, краснорожие смеющиеся мужики, как они распарывали штыками животы, заливали в чужие глотки кислоту, рубили штыками детей, видел, как голые люди толпами смотрели в потолок, откуда шел ядовитый газ, и как они падали и рвали ногтями рты, задыхаясь, и седели прямо на глазах, все – молодые и старые. А эти седые волосы состригали потом у мертвых такие же истощенные людишки в полосатых, истрепанных одеждах и набивали ими матрацы… Он видел такие же тени в кандалах на обледенелых просторах, они рубили деревья или возили тачки с мерзлой землей, где содержался уран, и этих работников, уже мертвых, складывали штабелями до лета, с номерками на ногах… Потом он увидел огромные, как грозовые облака, грибообразные взрывы, людей, которые обращались в тени на камне… Видел больных малышей, они складывали из бумаги журавликов, прежде чем умереть… Видел валящиеся, разорванные у вершины высочайшие дома, видел горящие в самолетах тела, кого-то, кто махал белым листом бумаги из окна на шестнадцатом этаже, надеясь на спасение, а потом прыгнул и летел до самой земли… Видел женщин, худых как скелеты, прижимающих к себе таких же истощенных детей. Видел человека, который, согнувшись под тяжестью наваленного на него мусора в недрах машины-пресса, говорил со своей матерью по телефону, пока его совсем не раздавило… Помощь не пришла, он не знал, где эта машина, а Кузя не успел, хотя мчался на вертолете. Он видел, как рождаются дети, как умирают, как болеют и как тяжело работают люди, как они танцуют и веселятся как ни в чем не бывало, беседуют за длинными столами, заставленными посудой, как они болтают по телефону, убивают по телефону ради денег, как мучают привязанных детей и снимают это на пленку, а потом смотрят и хохочут… Он видел, как курят, как жуют и глотают, всасывают, запускают в себя иглами медленно действующие яды, как торгуют ими, богатеют на этом и что происходит потом с их собственными потомками. Он видел убивающих себя девочек, которые летели с крыши пятиэтажного дома, взявшись за руки… Опять не успел, хотел их подхватить у самой земли, но промахнулся. Он видел, как молятся, оставив обувь на улице, покрыв голову, открыв голову, лежа распростершись, стоя, сидя, плача, в одиночестве, в толпе на площади под окном одного святого человека, или прислонившись к стене, или вокруг огромного черного камня… И потом, обвязав себя взрывчаткой, идут на смерть, молоденькие, почти дети… А их родители смотрят вслед, кивая и не смея плакать.
Потом он проснулся на диване, рядом с тихо дышащим Мишкой, обнял его, почесал за ушком (Мишка басом сказал «еще и чуть левее»). Вскочил.
– Господи, нам уже пора, – сказал он. Кот Миша открыл глаза и важно сообщил:
– Я многое понял, простите.
Он, видимо, адресовался к двум розовым птичкам, которые сидели прямо над ним, на расстоянии полулапы. Птички покивали, и одна ответила:
– Бывает.
– Я вернусь, – нежно пропела Сирень, – через некоторое время. Ты меня дождешься. Все, пока.
Миша важно протянул ей лапку, спрятав свои крючки. Попрощались.
Потом Сирень хотела погладить Кузю по голове, но Кузя, хмурый, стоял так печально, так одиноко, что Сирень сдержалась.
Затем Кузя взял Мишу на ручки, и они пошли вон из города как пришли, пешком по улице.
Мимо проплывали огромные, какие-то прозрачные дома со сверкающими куполами, а вокруг них нежно пахли сады, белые и розовые. Счастье расплывалось в воздухе, сердце у Кузи подпрыгивало от радости, Мишка же произносил длинный монолог о том, что каждое живое существо нуждается в защите, и хватит убивать-то, дураки.
Глава 12 Валера в борьбе
– Оглянись, Валера, – сказала баба Лена, волоча три елки. – Где ты находишься.
Валера наконец пришел в себя.
– Нне понял! – вымолвил он, с трудом покрутив головой. – В больнице? Или что?
Баба Лена искусственно засмеялась:
– Нет, это вас приветствует телепрограмма «Чудо»! Такая как бы передача по телевидению. Нас снимают. Скрытой камерой. Как мы, земляне, можем очистить помещение. И с какой скоростью.
Она надеялась, что Валера примется ей помогать. Но не тут-то было. Помогал он только посторонним, причем бабам со своей работы. Вешал полки. Приходил домой угостившись.
– Телевидение? – глупо сказал Валера и стал обтряхиваться. – Я упал же!
– Как упал? С дуба? – спросила баба Лена.
– Как упал? Это ты меня послала, а я на твоем компоте подсклизнулся! – как можно тише объяснил Валера. – Со всей силы ёкнулся! А я тебя только спросил, почему с землей и соленый компот. И пролил маленько, плеснул, типа того… Ты меня послала, а я ногой так… В лужу попал, типа. Упал, очнулся – я в «Скорой помощи». Спрашиваю, куда меня везут, отвечают, на рентген. Выгрузили и уехали, елки. Вместо рентгена ты сидишь.
– Во-первых, я не варила никакого компота. Я только бульон успела. А за мной приехали без пятнадцати десять! И сюда привезли! Ты же пришел, как всегда, в полдвенадцатого с работы. Хотя заканчиваешь в девять.
– Так пока смену сдашь… – привычно возразил Валера. – А ты же компот сварила… Из моркови… Но по вкусу как морская вода, у! Морковь варила нечищенную… В земле всю… Ты-то мне сказала «не хочешь компотику», я и махнул кружку… Соленой грязи твоей.
– Я что, с ума бы сошла?
– Не понимаю, – сказал зять. – Я пришел… В доме все кверху дном. Везде кожура с потолка свисает… Ты на полу сидишь пьяная… Гарью пахнет. Кузя занавеску поджигает… Прям не знаю. Я у него спички отобрал, он в меня плюнулся…
– Это была не я. Валера! Когда это я пила? Совсем на своей работе глаза залил! Ваш пропуск!
– Ты! Ты это была!
– Кузя причем никогда бы в тебя не плюнул, ты что! Он мальчик хороший! Не в отца пошел! И он бы ни за что не поджег занавеску! Это тебе привиделось, Валера! С пьяных глаз и не то может померещиться! Надо, надо тебе закодироваться. У Таньки на работе директор закодировался, а уважаемый человек, не чета другим, которые только могут что пропуска проверять.
– Дура, – привычно отвечал Валера.
– Вот ты себя показываешь во всей своей красоте, ай-яй-яй! – значительно сказала баба Лена. – Уймись, Валерий! Нас снимают, – без усилия кидая очередную елку, важно произнесла она, – нас смотрит вся страна и мир. У нас задание – очистить это помещение, собрать в кучку.
– С какого это переполоха снимают? – вылупившись, произнес Валера.
– Ти-ше! За нами видеонаблюдение. Носи елки.
– Сама носи! – приглушенно завопил Валера. – Я же упал! «Скорую» вызвали! Я же больной, елки!
– На голову? То есть… у тебя сотрясение, что ли?
Валера подумал:
– Не помню. Упал, очнулся… До гипса даже не довезли.
– Ну помогай потихонечку, а то неудобно перед народом.
Валера понуро поддержал елку, которую несла баба Лена, за тонкую верхушку.
Как всегда, все его действия вызвали у бабы Лены гнев. Но, как всегда, она постаралась сдержаться.
– Ты что, вообще, Валерочка, – без выражения сказала она. – Народ смотрит. Твои с работы… Вы же все время телевизор не выключаете там у себя. Круглые сутки ведь. Твои глядят и смеются.
Тут он побагровел (видимо, представил, как над ним потешаются сменщики и начальство, собравшись вокруг экрана):
– А я что, нанимался вкалывать на лесоповале?
– Как бы, Валера. Это все искусственное. Легкое. Пластик. Носи, помогай.
И она на всякий случай добавила:
– Нас освободят, если мы все это соберем в единую кучу.
Тут Валера совершил неожиданное: он отошел в сторону и лег со словами:
– Я после ночи же.
Лег прямо на пыльную, горелую какую-то труху. И закрыл глазки.
Баба Лена возмутилась:
– Да? А я потом с тебя все снимай да стирай? Нет уж. Ляжешь на картонку. Идем.
Он с трудом поднялся, глаза его слипались. Больной, что ли?
Баба Лена отвела его к тому месту, где оставила свой полусложенный шалаш, указала, где подстилка, запустила туда зятя и загородила листами картона. Очень быстро из-за тонких стенок понесся заливистый храп. Баба Лена почувствовала себя при деле.
Было о ком заботиться.
Таская елки, она вдруг подумала: интересно, почему Валера не заметил этого гигантского белого яйца? Баба Лена его не закрыла еще и на одну треть.
Что-то тут не то.
Она продолжала, как муравей, носить и складывать, таскать и кидать повыше. Яйцо пока еще не трескалось. Видимо, не созрело.
А вообще, что же это такое происходит? Ни дня ни ночи, ни входа ни выхода, ни темно ни светло… зятя тоже привезли и сгрузили, но про телевидение ни словечка не пикнули, только про больницу.
Заманили! А что здесь? Вот и вопрос. Если сюда прибыла эта ракета… Причем она не трескается, а чего-то ждет… Может, она еще куда-то направлена?
Вдруг раздалось какое-то глухое рявканье. Оно шло из шалаша. Валере, видимо, что-то привиделось. Вот опять он как бы густо чихнул. Затем послышались слова:
– Не пускай его, Тань, держи! Ну как держи? Так и держи! Дай мне! Куда!!! Утонет ведь! Он ее не потянет! (Пауза.) Я ее вытащу, сынок, не мешай. Так! Да не кричи ты под руку! Я кому сказал, Тань! Держи его! Лен Петровна! О. Воротника нету! Придется за косу…
Тут шалаш рухнул, и из обломков показалась бритая голова Валеры.
– Лен Петровна, вы? Живая?
– Что приснилось, что ли, Валера?
Он очумело заморгал, воззрился куда-то над головой бабы Лены и сказал:
– Яйцо!
– Ну вот что поделать.
И она вдруг нашла гениальное решение: по-бабьи пустила слезу и села прямо наземь:
– Что делать, Валера! Без тебя не знаю, куда и податься! Они же все грязью покроют! Как атомный реактор! А нам отсюда все равно не выбраться, это конец! Это у них ад! Чистилище такое! Смотри, вся земля горелая! Нас сюда заманили, а на свете нас уже нет! Я не варила никакого компота! Это была не я, и Кузя был не он! Кузи-то нет! Вот что!
И баба Лена вдруг зарыдала. Вот этого Валера не ожидал от своей закаленной, как сталь, кислотоупорной и ядовитой тещи.
Горячие капли потекли у нее по щекам. Она чувствовала, что пыль и зола мешаются у нее на щеках с потоками слез. Она вытирала их, и руки стали черно-полосатыми.
– Так, – грозно сказал зять.
– Что делать, что делать, – ничего не видя, хлюпала баба Лена.
Тут зять встал (она почувствовала, что почва задрожала) и пошел, гулко топая, к ракете.
Баба Лена разлепила веки, и вот что она увидела: Валера сунул руку в карман и что-то достал, потом как-то дернул кулаком. Ага, запалил зажигалку.
Затем Валера поднес руку к елке.
Завоняло жутко. Пополз дымок. Валера еще и еще подносил зажигалку к торчащим палкам.
Видимо, все же внутри там содержалось что-то деревянное, потому что загорелось наконец.
– Валера, одобряю! – завопила теща, кашляя. Из глаз у нее полились уже другие слезы – от химической гари. – Пусть мы сгорим, но это не пропустим на землю!
Густые волны дыма поплыли над почвой. Валера плясал около ракеты.
– Тащи еще! – заорал он.
Теща помчалась, тряся мешками, и стала хватать елки и бегать с ними к костру. Зять включился в работу. Этот могучий мужик таскал такие огромные охапки, что яйцо вскоре все было окружено дымом и пламенем, потемнело, закоптилось.
Начала тлеть и почва под ногами. Поползли язычки синих огоньков.
Зять с тещей носились среди этого ада, подваливая в костер все больше палок.
Внезапно яйцо дало змеистую трещину.
В костер вывалилась грязь. Заплясали, взвиваясь запятыми, черные веревки. Что-то заныло, как ветер.
Грязь шла безостановочно. В центре огонь уже погасал. Яйцо работало как огнетушитель, заливая огонь черной змеистой пеной.
Баба Лена со своей охапкой елок остановилась, попросила у зятя зажигалку, полила свою вязанку бензином, подожгла ее у края и смело сунулась к самому яйцу, бросила поближе к скорлупе.
Тут же ее ногу оплели, судорожно извиваясь, два присоска.
Баба Лена рухнула в горячую грязь.
– Валера! – тонко завопила она. – Уходи-и! Спасайся! Они без тебя не выживу-ут!
Но тут крепкая ручища схватила ее за пучок и поволокла наружу с криком:
– Сколько раз говорено! Не лезть не в свое дело!
Что-то взорвалось с неприличным звуком, невыносимо завоняло, и на горячих волнах этого взрыва оба участника событий полетели вверх, в могучую черную промоину, мимо железных балок, жженых тряпок, дымящихся конструкций, затем каких-то освещенных пещер (мелькало как в метро). Валера летел впереди, а теща с мешками позади, почти у него на плечах.
Они очнулись там же, откуда отправились, – в собственной квартире.
Что касается событий в их собственном доме, то там колдун Топор погулял не на шутку, разделившись, как мы уже знаем, на бабушку-2, Кузю-2 и кота Мишу-2.
Зятя Валерия это не коснулось, а все бедствия легли на плечи бедной толстухи Татьяны, которая очнулась у себя в разгромленном жилище от какой-то очень громкой музыки. Гремели барабаны в основном.
Пахло паленым, мокрым, каленым, гнилым, тухлым и кислым – как на лениво дымящейся свалке.
Не было занавесок, пол был залит какой-то мало разведенной сажей, со стен свисали клочья мокрых обоев, потолок мерно истекал черными каплями…
Татьяна поднялась со стоном и крикнула:
– Ма!
Голос у нее был какой-то дикий, она и сама себе подивилась. Просто рев какой-то:
– Ма!!!
В ответ шевеление и короткое мычание.
– Ну ма!!! Че это все, а? Че стряслось, а?
Татьяна взывала к матери, потому что считала, что именно мать во всем виновата, напилась пьяная и все подожгла.
Пора было ее судить судом совести с позиций невинного, честного, все потерявшего человека.
– Убить тебя мало, паскуда, – звенящим от слез голосом постановила Татьяна. – Кузя! Ты где? Ох, голова моя.
– Че те, – возник в дверях ее здоровенький, грязненький, хулиганистый пацан.
– Ты что наделал, а? Ты зачем все порезал, мать твою? А? – завопила Татьяна, вытрясая из шкафа свое погубленное имущество – платья, юбки, свитера, колготки и, на закуску, полулысую шубу. – Где все отцовы доллары, а?
– Мать твою, – откликнулся боевитый парень. – Молчи, сука! Я на тебя обиделся, все! Я с тобой, блин, не разговариваю! Все!
– А ремня не хочешь? – выкрикнула Татьяна. Она была потрясена. Ее тихий, разумный, задумчивый мальчишечка, нежно любящий всех, тихий, безобидный – вдруг стал оторвой, причем за одно утро!
Вползла мамаша. Грязная, какая-то хитроватая, с прищуренными глазками, красным носом и черными ногтями. На голове у нее красовались сальные лохмы.
– Ты че наезжаешь на пацана? – спросила мать и выругалась последними словами. – Я его в обиду не дам. Иди отсюда, это моя квартира, ясно! Иди к своему хрену позорному. А меня не волнует, – завопила она, видя, что Татьяна хочет возразить, – что вы ее сдали! Снимайте другую, мне это по семечку! Вы мне не платите ни хрена! Мне юбку не на что купить! Ему костюм, ему свитер! Вот пусть он больше сюда не суется, Валерка твой. Посмел плеснуть в меня компотом! – горделиво произнесла она. – Я ему кто, кули? Хозяин какой, ваш пропуск! Ты тоже, вообще. Расползлась как квашня, никто на тебя и взглянуть не захочет, вот ты перед ним и пляшешь. Ублажаешь. А у него таких, как ты, полный офис. Секретутки и уборщицы. Денег в дом не дает! Ни зарплату, ни за свою квартиру! Все на твои денежки живем, с хлеба на квас! Якобы Валерка копит на машину! Да он купит машину, и поминай как звали, сядет кому-то еще на шею. Ты зарабатывай, зарабатывай. Гнись на службе. Одна такая нашлась.
То, что говорила ей ее мать, Татьяна не раз и сама себе говорила, но все оставалось как оно есть. Мать ее жалела, и они часто вместе, без слов, сидели вечерами пили чай, и мама иногда гладила ее по голове.
Однако сейчас Татьяна готова была эту мать убить.
– Вот так, да? – загудела она, пробираясь на кухню. – Я вот сейчас тебя поглажу… утюгом по башке. Сидишь на моей шее! Вот огребешь у меня…
Неожиданно мать встретила ее на пороге кухни со сковородой в одной руке и с ножом для рубки мяса в другой.
Татьяна в панике обернулась – на пороге стояла еще одна мать, такая же поганая, и показывала грязный кукиш, и вертела им, произнося нехорошие слова.
Кузя сидел на кровати и резал подушку ножичком, а другой Кузя в это время поливал у ее ног пол маслом из бутылки.
Два кота драли когтями ковер.
Татьяна взвыла и бросилась вон с криком: «Врача! Врача! В дурку меня положите! На помощь!»
Но по дороге она поскользнулась на пролитом масле и со всего маху грянулась головой об пол.
Тут же пришли люди, подняли ее, положили на носилки и отвезли в больницу. Там она быстро поправилась, ее навещали и мама, и Валера с сыном, никто ни о чем ее не спрашивал, а сама она временно потеряла дар речи.
А потом ее выписали, но родные что-то говорили, что сегодня все идут на концерт, и надо идти, и так далее.
Там был театр, Татьяна немного стеснялась своего вида, что слишком толстая и платье дешевое (мать сшила из каких-то уцененных отрепьев ей и себе).
Вдруг, прямо перед началом концерта, мать зачем-то встала, вышла из ряда и потопала вниз, на сцену.
– Че она? – спросила Татьяна мужа. Он пожал плечами. Кузя сказал:
– Бабушку сейчас будут награждать! За безупречное служение!
Выговорил все правильно, надо же!
– Видишь, – сказала Татьяна мужу, – какая у нас мама?
– Да уж, – усмехнулся Валера.
– Не то что твоя! Вообще не обращает! На Кузю совсем!
Валера только рукой махнул.
Когда бабушка добралась до сцены, вдруг открылся занавес, и все увидели стоящую за занавесом ракету. Рядом были накрыты богатые столы.
– Ракета?
– Ее будут отправлять на другую планету, – сказал каким-то взрослым голосом Кузя. – Но там такое время, что она уедет туда на сто лет, а вернется к нам прямо сейчас. Но она проживет лишних сто лет для себя. Это награда для Золушек.
Татьяна ничего не поняла.
Потом вдруг ракета осела, расползлась в талии, стала похожа на яйцо, треснула, оттуда покатили волны грязи.
Все повскакали с мест, Валера схватил парня на закорки и двинулся через толпу, но снизу тут раздался жуткий крик мамы:
– Валерик! Таня! Руку хоть подайте!
Они обернулись и увидели маму, стоящую внизу в грязи по колено, оплетенную какими-то черными лентами или (они шевелились) бесконечными змеями.
Вот одна лента вздыбилась, сделала петлю и стала дрожать у лица мамы, упруго примериваясь то одним боком, то другим, как живая.
Валерик шагнул уходить, но в этот момент завертелся на его плечах Кузя, завизжал: «Баба, баба!», стал ползти вниз и сполз как-то, и бросился вниз к бабушке, где вскипала черная грязь, полная змей.
– Мама, я иду! – закричала на бегу Татьяна, спускаясь, а мужу гневно сказала: – Лови Кузю, раз ничего больше не можешь!
– Тещу не выдам, хватай Кузю, – отвечал Валера, бросаясь вниз как русская ракета, как хоккеист на ледяном поле.
Татьяна догнала маленького Кузю, схватила его и потащила наверх, а Валера в это время выловил из грязи бабушку.
А тут и ракета взорвалась и все исчезло. Долго Татьяна отмывала в театральном туалете свою маму.
Валера исчез за дверью рядом. Потом они воссоединились и пошли домой. Отперли дверь, а в квартире, в черной жиже на полу, вертелись, вздымались и опадали черные живые веревки…
Семейка оказалась на улице и пошла в скверик. Во дворе было неудобно сидеть в таком грязном виде.
Татьяна опять стала плакать и проситься в дурдом, крича, что ей все показалось, что на самом деле мир – это сон и ей все снится.
– Не хочу просыпаться, – твердила она как в горячке. – Дайте мне укол.
Пока она так плакала, ее семья сидела рядом на скамейке, а потом настала ночь, и все растворилось во тьме.
Татьяна очнулась, лежа у себя в квартире на полу, потому что в дверь стучали и звонили.
Она с трудом встала, открыла дверь.
Там стояли запыленные, грязные, как бомжи со свалки, мама и Валера. Мама причем с двумя мешками наперевес.
У стоящих в дверях были усталые, какие-то чумовые лица и круглые от изумления глаза.
Татьяна сказала:
– Мам, ты почему?.. Ты там? Как ты чувствуешь?
Ей никто не ответил. Пришедшие осторожно заглядывали в квартиру.
В доме зияла пустота. Ветерок из открытых, полусгоревших окон гулял, шевеля лохмотья обоев.
– Что смотрите? – спросила Татьяна. – Змей уже нет, проходите.
Они переглянулись, кивнули и вошли.
– От это да, – загудел Валерий. – Погуляла без нас.
– Не я погуляла, – тихо возразила Татьяна.
– Как ты похудела! – закричала мама.
– А ты как! А Валера!
– Кузи нет дома? – осторожно спросила бабушка.
– Слава те, нету, – ответила Татьяна и заплакала. Бабушка поставила свои мешки на стол, единственное сухое место в доме, и сказала:
– Большой мешочек – это был Кузя.
Татьяна отвернулась и заплакала, затыкая себе рот рукой.
– А маленький? – из вежливости к больной старушке спросил Валера.
– Маленький – это был Мишка.
– Здорово. А они не разговаривают?
– Пока что нет, – ответила бабушка неуверенно.
– А что там внутри-то? – спросил опять зять. – Можно посмотреть?
– А песок. Песочек, – объяснила помертвевшая баба Лена. – И все.
Она тяжело опустилась на обгорелый диван. Зять взял в руки маленький мешок, развязал его своими могучими пальчищами, и вдруг в образовавшуюся горловину оттуда на волю вылезла усатая голова! И тут же стал выдираться сам Мишка (уши на всякий случай прижатые). Он выскочил и от радости начал делать плотные восьмерки вокруг ног бабушки! И обвивать ее хвостом! Не обращая внимания на мокрый пол.
– Вот, – заключил Валера самодовольно и стал развязывать следующий мешок.
Через две секунды они уже все обнимались, Кузя молчал, тыкался носом то в бабушку, то в маму, Татьяна плакала, а отец всех отодвинул и стал подбрасывать Кузю до грязного потолка.
Бабушка твердила:
– Ну-ну, ну-ну, ну хватит… – А сама шмыгала носом.
Шесть рук, ведра и тряпки, пакет побелки для потолка и обои на стены…
Потом все пировали в чистой квартире, было много гостей, бабушка сделала тазик холодца и тазик винегрета. Люди натащили всякого добра.
– Мы бедные, – объяснял всем захмелевший зять, почему-то очень добрый. – У нас нет ни-че-го! Принимаем в дар любое. На тебе, небоже, чего нам негоже.
Потом народ пел любимые «То не вечер» и «Ой, мороз», печальные песни, но очень громко и радостно.
Кузя молчал, не путался под ногами, он сидел и смотрел по принесенному кем-то телевизору новости, все подряд.
Что-то он там кивал, шептал, показывал на экран пальцем, как все маленькие дети, а потом уходил и рисовал войну, взрывы или солнце, цветы и домик ниже цветов, и один раз сказал бабушке, когда взрослые уже прощались в прихожей:
– Ты не умрешь.
– А как же, – закивала усталая бабушка. – А как же. Вот вырастешь, изобретешь лекарство от смерти.
– Да, – ответил он. – Приблизительно так.







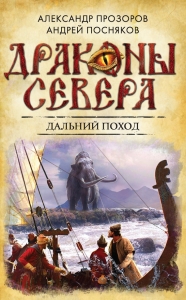




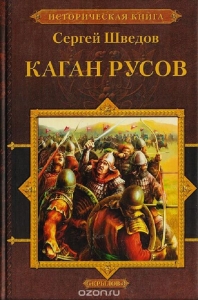

Комментарии к книге «Волшебные истории. Завещание старого монаха», Людмила Стефановна Петрушевская
Всего 0 комментариев