Лада Лузина Рецепт Мастера. Спасти Императора! Книга 2
Башня Киевиц на Ярославовом Валу, 1
Три молодые женщины-киевлянки неожиданно приняли от умирающей ведьмы Кылыны ее дар. Как же они сумеют распорядиться им? Ведь они такие разные: студентка исторического факультета Маша Ковалева, железная бизнес-леди Катерина Дображанская и уволенная из ночного клуба безбашенная певица – Даша Чуб, по прозвищу Землепотрясная. По воле или против нее, им пришлось стать Киевицами – хранительницами Города Киева – и навеки поселиться в прошлом веке. [1]
Глава седьмая, в которой начинается бой
Сцена была достойна кисти Ильи Репина – творца многозначительного шедевра «Не ждали».. . Вот только живописцу, вознамерившемуся ее запечатлеть, пришлось бы долго ломать голову над названьем.
Отдаленно напоминавшее Машу существо в мужской шапке, сапогах, домотканой рубахе сидело в кресле, опустив глаза, сцепив брови. Невероятно красивая Катя с гранатовым колье на груди стояла в углу, кутаясь в соболье манто. Сбросив летчицкий пиджак и потертые ботинки прямо на пол, Даша Чуб развязно развалилась на диване гостиной невзрачного, маленького, одноэтажного дома на Малоподвальной, 13. Над ними всеми – на белой изразцовой печи – сидел большой и лобастый черный кот Бегемот (когда-то он принадлежал матери Акнир Киевице Кылыне да так и не признал новых хозяек – сбежал к дочери и, похоже, последовал за ней и сюда, в Прошлое). А молодая строголицая Учительница в белой блузе и черной юбке до пят, энергично ходила по комнате и говорила, говорила, говорила…
Сегодня Акнир говорила сугубо по делу – сухо и коротко, ладно и гладко. Слова ложились бусина к бусине. Учительница не позволяла себе ненужных отступлений, насмешливой дерзости, дешевой театральности; дополнявшее ее учительский образ пенсне Акнир так и не нацепила на нос – крутила в руках. Тон ее был суровым и деловым. С лица стерлись эмоции.
Но отчего-то именно из всех этих замечательных перемен становилось понятно: она боится Машу. Боится неприкрыто – и чем старательней она пытается это скрыть, тем отчетливей в ее экономичных построениях фраз проступает колючий страх.
И только сейчас Даша Чуб осознала:
«Это не Маша!»
В ожидании встречи с лжеотроком, лжепоэтесса думала о нем, как о бывшей подружке. О том, как той пришлось скрывать в монастыре свой пол, притворяться, и представляла разное… Но лишь теперь сопоставила: став их подругой, Маша не перестала быть исцелявшим на расстоянии всеведающим пророком и чудотворцем, чью святость не решались оспаривать и зубоскалы.
Но Маша святой не была. И все же делала это. Как?
«Она колдовала!»
Чуб заледенела.
Все чудеса, творимые Отроком, делала ведьма. Вся ее святость была порождением Книги Киевиц. Она переписала заклятия и оставила их на квартире. Но Маше не нужны были записи – студентка-отличница, она на лету запоминала любой единожды слышанный текст.
И во всем этом Даше увиделось что-то не очень хорошее. Но еще меньше хорошего видела в этом Акнир… Она искала Отрока и нашла младшую из Трех Киевиц, отсутствие коей нимало ее не печалило. Признав, что Маши точно нет на земле, она словно бы разом вычеркнула без вести пропавшую Третью из их общих планов…
Но оказалось, что Маша – есть . И еще оказалось, что Маша – Отрок. Тот самый Отрок, без участья которого весь ведьмин план летит к чертовой бабушке. И еще оказалось, что Маша – ведьма. Ведьма, о силе чудес которой говорит весь Юго-Западный край…
«Маша сильнее ее?»
– …блестящие реформы Столыпина не смогли ничего изменить, хотя поначалу моя мама тоже думала так, – подобралась девица к финалу. – Да, будь Столыпин жив, он изменил бы историю, он укрепил бы низы и остановил войну. Если бы он был жив… В этом-то месте мамины расчеты и не сошлись. Он умер в 1913 году от инфаркта и…
– Все, что мы сделали, было зря, – фыркнула Чуб. – Наша песня хороша, начинай сначала!
Уже смирившаяся с сим малоутешительным фактом летчица посмотрела на бывшую студентку-историчку. Чуб уже не казалось, что та втянула их в провальную аферу – она глядела на подругу сочувственно:
«Бедная, так старалась все изменить. Каково ей узнать, что Акнир ее тупо использовала…»
Но лжеотрок безучастно таращилась в пол. За шесть монастырских лет Машина привычка опускать глаза достигла своего апогея – она вообще перестала их поднимать. И летчицу посетило неприятное чувство, что все они словно заключены в стеклянный сосуд, а Маша находится за его прозрачной стеной – вроде бы рядом и все же за пределами их мироздания.
– Нет, не зря, – отвлекла ее от сомнительных ощущений Учительница. – В последней маминой тетради было просчитано все. Все, – весомо повторила она, – включая и вас, и вашу первую попытку Отмены. Только благодаря вам все сошлось. Только благодаря вам Трем…
– А откуда твоя мама знала про нас? – переключилась Чуб. – Она ж умерла до того, как мы тут…
Катерина еле заметно дернула ртом, вспомнив:
«Моя мама верила в вас!»
– Она просчитала, – выдала исчерпывающее объясненье ведьма. – С помощью формулы Бога мама высчитала: пророчество Великой Марины сбудется. Трое придут, пойдут в Прошлое и изменят его. И вы совершили немыслимое. Да, все, что вы сделали ради Отмены было бессмысленным. Но все, что вы делали просто так, ради себя, ради наживы и честолюбия, имело огромнейший смысл… – Учительница повернулась к госпоже Дображанской. – Только благодаря вам, Екатерина Михайловна, в наших руках вторая и третья власть – финансы…
Катерина насупилась.
– …и средства массовой информации. Все кинотеатры Империи принадлежат вам. И они нам весьма пригодятся. Только благодаря вам, – Акнир подошла к круглому столу у окна и взяла в руки разноцветную книгу, – мы получим первейшую власть – монархию. Только благодаря Гришке Распутину…
– Распутину? – эмоционально перебила Чуб. – Мы и его к нам подключим? Я сто лет мечтала с ним познакомиться! Вот волнующий дядя… Я слыхала, он трахался со всеми придворными дамами, потому что вампирил через секс.
– А я слыхала, – резко отбрила перебившую Катя, – что Изида Киевская постоянно говорит в интервью несусветную чушь!
– А че, я неправду ща-с говорю? – дернула невозмутимым плечом пилотесса. – Вот спроси у Акнир. Распутин – колдун ведьмак? И вампирит через трах. Я слыхала, у него та-а-акой член…
– А я слыхала, что слухи об огромном размере члена Распутина и поклонение его размеру – типичные рудименты язычества, – поморщилась Екатерина Михайловна. – Помолчи, Дарья. Спасу от тебя нет, ей-богу… Твой Распутин испохабил все святое, что еще оставалось в стране. Святым старцам место в келье, а не во дворце, не в кабаках и не на оргиях. Царя с царицей и раньше-то не сильно любили, а когда они приблизили к трону пророка-развратника и принялись слушать его как малые дети… Да самый последний гимназист в Империи знал, что Россией правит не законный монарх, а окаянный Гришка! Думаю, он и впрямь обладает недурственными гипнотическими способностями. Но нам чем этот Кашпировский поможет? – вернула она трибуну Акнир.
– Он уже помог нам, – сказала Учительница. – Тем, что он жив.
– А он уже должен был умереть? – удивилась Даша.
– 16 декабря 1916 года. А незадолго до смерти Распутин оставил пророчество. Или скорее проклятье… «Русский царь! Знай, если мое убийство совершат твои родственники, то ни один из твоей семьи, родных и детей не проживет дольше двух лет. Их убьет русский народ». Так все и вышло, – серьезно сказала Учительница. – Царь и Семья были расстреляны через девятнадцать месяцев после убийства Распутина. Однако на этот раз он не умер… Его предупредили о покушении, – Акнир нарочито развернулась к лжеотроку.
– Маша… – Чуб выговорила это имя без должной уверенности, – ты что-то сделала? Значит, это правда, что говорили на Киеве? Будто царь и Распутин тайно приезжали к нашему Отроку? Правда?
– Неправда, – лжеотрок упрямо смотрела в пол. – Царя не было.
– А Распутин к тебе приезжал? Да рассказывай, Машка, уже, не тяни! – полувосторженно-полувозмущенно закричала Чуб. – Про Распутина столько всего говорят…
– Не о чем рассказывать, – отрезала Маша. – Предостерегла. Вот и все.
Вот и все?
Существо в мужской шапке, бесформенных штанах и потертых сапогах даже не подняло головы. И Даша расстроилась. Вначале не поняла отчего. А потом догадалась: не Маша это, не Маша! Настолько, что и само имя Маша к ней не лепилось. Какой-то чужой человек, холодный, недружелюбный, бездушный – запертый на все замки и засовы.
Эта «не Маша» Чуб решительно не нравилась. И не исключено, что вы, мой читатель, испытываете схожие чувства. Воздержусь от высказывания личного мнения, скажу лишь: прошло много лет. И одних годы меняют до неузнаваемости, иные изменяют только оттенки…
За шесть лет Даша Чуб не перестала быть Дашей – она представляла собой набор тех же разноцветных качеств. Ее не иссякающий энтузиазм – вылился в широкую и штормящую деятельность, бодрость духа – превратилась в экспансивность, готовность бездумно броситься на помощь любому – разрослась до честолюбивой жажды спасти всю страну, переломив мировую войну, а непотопляемый оптимизм – перековался в абсолютную веру в победу. Не то что запертая перед носом дверь, Земплепотрясную сроду не останавливала и сплошная стена. В этом была ее сила: многие стены ей удавалось пробить. В этом была и ее главная слабость: Изида Киевская больше не верила, что непробиваемые стены существуют вообще. А они существовали, увы…
Но звезда-неудачница, перевоплотившаяся в первую знаменитость Руси, более не сомневалась в себе и поступала, как человек, привыкший, что ему сходит с рук любой сумасбродный поступок. Передергивала плечами с презрительностью высшего создания, привыкшего, что все опасения, предостережения, табу – удел иных, не таких, как она. Говорила голосом баловня целой Империи, привыкшего, что его словам внимают, публикуют в газетах, повторяют, цитируют, и все реже и реже слышала других. Она стала чуть более надменной, визгливой и самоуверенной. Шесть лет ужесточили Дашины цвета…
А Катины – напротив, сделали более нежными и пастельными. Ее агрессивная самоуверенность превратилась в спокойную уверенность в себе и в ее силе угасли оттенки нервозности. Ее красота обнаженного кинжала больше не переливалась блеском голодной стали. Катя стала более мягкой и сдержанной, вдумчивой и невозмутимой. Более счастливой… И хотя минувшее шестилетие не состарило ни одну из них ни на год, образ жизни и мыслей порядком изменили черты лица двух Киевиц.
Но Третья… Третья не изменилась – она просто исчезла. Точно кто-то старательно вымарал все исконные качества, делавшие их Машу – Машей: ее простоту, ее безыскусную искренность, всепонимающее сострадание, способность мгновенно принять чужую боль как свою. Все то, что мелькнуло на краткий миг, там, в Дальней Пустыни, и кануло в Лету.
«Катя, как дура, по монастырям каталась, ее искала, – подумала Чуб с внезапной досадой. – Колбасилась, церкви отхаркивала. А Маша, когда Катька к ней первый раз в Пустынь приехала, ее и не приняла. И ей было чихать, что Катя волнуется. Я из-за нее потеряла маму. Из-за ее Отмены! А она сидит тут и цедит слова, словно знать нас не хочет…»
– Но есть еще одна важная, может самая важная вещь, – сказала Акнир, – о которой все узнают только тогда, когда начнется наша пиар-акция… Как вам известно, новая власть потребовала от Николая II отречься от трона в пользу сына. Но, поразмыслив, Николай написал отречение в пользу младшего брата, который тут же написал отречение в пользу неизвестно кого – как получилось в итоге, в пользу Владимира Ленина. Иными словами, царь совершил страшный ляпсус. Он, как мудро заметила Катерина Михайловна, оставил Россию без царя. Она стала в сознании народа как бы ничейная. А что ничье, то всехнее. Кто хочет, приходи и бери. Тут-то все и попытались ухватить кто что может.
– Именно так, – подтвердила госпожа Дображанская.
– Так было в прошлой редакции, – внесла важную корректировку Акнир. – Но поскольку Распутин остался жив, Николай передал престол двенадцатилетнему сыну, назвав брата регентом…
– Потому что Распутин так посоветовал? – не уловила логики Чуб.
– Дело не в том, что он посоветовал, – Учительница распахнула книгу, – а в том, что единственный сын и наследник царя – Алексей – с рождения был неизлечимо болен. А благотворное действие распутинских молитв на здоровье ребенка признавали даже ненавидящие старца врачи. Три раза цесаревич Алексей был на краю могилы. Три раза доктора единодушно провозглашали его безнадежным. А святой черт просто слал из другого города телеграмму царице: «Не плачь. Твой сын будет жить». И на следующий день Алексей поправлялся.
– Ну прямо, как наш Михаил, – впечатлилась Даша. – Только наш Отрок… – Чуб проглотила слово «святой». Перевела угасающий взгляд вправо.
Сидящее поодаль, отрешенно рассматривающее дощатый пол существо не было ни святым, ни Михаилом, ни Отроком… Ни их подругой!
– Болезнь наследника престола скрывали от народа, – продолжала Акнир. – На этой страшной государственной тайне и зиждилась власть Распутина над царской семьей. Но Распутин был убит, и отец не рискнул отдать трон смертельно больному ребенку, утратившему в лице старца единственный шанс на спасение. Он написал отречение за себя и за него . Так было раньше, – сказала она.
– Но и нынче в газетах не было ни слова о том, что Николай передал власть сыну, – заметила Катерина Михайловна.
– И нам это на руку! – подвела жирную черту юная ведьма. – Брат царя отказался от регентства. Временное правительство и Совет рабочих депутатов подумали и решили: раз регент не хочет править, цесаревич им тоже без надобности. Об отреченье в его пользу не знает никто. Кроме тех, кто живет в ХХI веке. – Акнир протянула Катерине разноцветную книгу, оказавшуюся при более близком знакомстве историей за 5 класс. – Тут все прописано. Вы понимаете, к чему я веду?
Екатерина Дображанская взяла школьный учебник, открыла отмеченную закладкой страницу, неторопливо вчиталась в отчеркнутый красной ручкой абзац новой истории.
– Понимаю, – медленно проговорила она. – На самом деле у России есть царь. И не просто царь – двенадцатилетний ребенок. И не белоручка – герой войны, отец его полтора года по фронту таскал. Цесаревича народ очень любит… Тут психология. Люди в принципе склонны преувеличивать достоинства детей и возлагать на них излишне большие надежды. И одно дело взять ничейное-всехнее, и совсем иное – отобрать законную власть у обожаемого народом ангела . Если на троне не Николай, а Алексей, царь – не отыгранная карта. Царь – наш козырный туз в кулаке. Осталось собрать еще несколько карт…
– И мы их соберем! – энергично уверила Катю Учительница. И тут же перевоплотилась в восторженную Агитаторшу. – Вдовствующая императрица послушает Отрока и предупредит сына. Мы похитим Семью. А на следующий день народ узнает, что Временное правительство скрыло от них, что у них есть новый царь!
– Это иной разговор. Это серьезный аргумент, чтобы их обвинить, – признала Катерина Михайловна.
– Через неделю-две новая сенсация: юный царь Алексей тайно приговорен новым правительством к смерти.
– Да, убить ребенка-царя… Такого святотатства им не простят ни здесь, ни за границей, – закивала Катя.
– Временные мгновенно теряют всех своих союзников, – подхватила Акнир. – Во всех ваших кинотеатрах идет документальная хроника – цесаревич в своем матросском костюмчике. Да не двенадцатилетний, а трехлетний, двухлетний крохотуля с невинными глазками. Россия-мать со слезами хватается за сердце. Вдовствующая императрица-мать тайно скликает командующих в Киев на спасение внука и на время его отсутствия принимает власть в стране на себя.
– Вдовствующая императрица недурно, – заценила госпожа Дображанская. – Она – хваткая баба. И в Киеве ее уважают. Если все это будет ее именем…
– Именно! – воспарила Акнир. – И именем Бога! Нынешние люди – не мы. Для них помазанник божий – святое. Это сидит в подсознании, даже если сознание уже исковеркано…
– Но армия – это огромные деньги, – опустила Катя воспарившую было ведьму на землю.
– Катерина Михайловна, – с упреком сказала Акнир. – Ведь сплетня, что вам принадлежит половина Империи, не такая уж сплетня…
– Да, – сказала Катя. – Но это мои деньги.
– Неужто вы предпочтете отдать их большевикам? Неужто вы так и не поняли главного? – вдохновенно спросила ее Агитаторша. – Война стала первой причиной! Раздав мужикам оружие, Николай своими руками вооружил будущую красную армию. Но благодаря вашим деньгам и масс-медиа эта вооруженная армия будет нашей! Болезнь цесаревича сделала царя и царицу психологическими рабами Распутина. Но благодаря ей мы и получим теперь того единственного законного наследника трона, которого признают все: офицеры, солдаты, мужики, аристократы. И все благодаря Маше… Вы Трое удивительным образом последовательно превратили десяток причин революции в десяток беспроигрышных способов ее отмены!
– Помилуй, душа моя, – скривилась госпожа Дображанская, – мы Трое не похитим наследника. Чтоб осуществить весь твой план нам понадобятся сотни людей.
– И вы снова правы, – нимало не смутилась Акнир. – Помните, я поминала, что Ленин назвал революцию чудом – он сам толком не понял, как, почему она произошла. Слишком уж все сошлось! Сами собой множество фатальных причин выстроились в ряд, как на параде планет. И чтобы противостоять им, нам понадобились бы не сотни, а тысячи тысяч человек… Но в том-то и соль, что вы Трое стоите всех! Зачем нужна сотня, если у нас есть одна наша поэтка? – ведьма улыбнулась Чуб.
Даша неуверенно растянула губы в ответ, крайне плохо представляя, за что Акнир собирается ее похвалить – неужто за кражу ахматовских стихов?
– Самолет, – лаконично сказала Акнир. – Похитить царскую семью сможешь лишь ты на своем «Илье Муромце». Единственном самолете, способном поднять десяток человек: семь августейших особ, тебя и меня. Я знаю, куда их везти. Место надежное, – ведьма повернулась к Катерине Михайловне: – Я понимаю, вы зададите мне еще десятки вопросов. Но на все ваши вопросы есть лишь три варианта ответа… Это сложно осмыслить, трудно понять, но, поселившись в Прошлом, вы Трое бездумно, исключительно в силу природных качеств характера прибрали к рукам все рычаги, повернув которые можно обратить историю вспять. Превратить все возможные минусы в наши плюсы.
– Все наши недостатки – в достоинства! – Чуб, безутешно оплакивающая свой бесполезный самолет, поняла ее первой. – Ну и что, что я с «Муромцем» на войну не пойду? Я не зря его строила! Я на нем царя от смерти спасу! Ну и что, что ты, Катя, всех тутошних воротил разоряла? Правильно делала! Они мир на свои бабки спасать не собирались. А ты спасешь… Просекаешь?
– Ну, коли так… – с секунду поколебленная Катя смотрела на Чуб, не подозревающую, какую жизненно важную струну ей удалось зацепить. – Должна признать, в целом план совершенно безумен .
– То, что сейчас вы внимаете мне, тоже часть безумного, но гениального маминого плана! – победительно просияла Акнир. – Моя мама не зря верила в Трех!
Катерина кивнула. Новость о том, что план, частью которого была вся Катина жизнь, принадлежал Киевице Кылыне, а не ее шестнадцатилетней дочери, как ни странно, принесла облегчение.
– Но отчего-то твоя мать не сочла нужным воспользоваться своим планом, – сказал незнакомый им голос.
Машин голос – впервые за весь разговор лжеотрок подняла глаза, и Чуб увидела в них пустоту, бесконечную, непонятную, зимнюю – теперь она была еще больше «не Машей».
– Твоя мать предпочла умереть, – сказал Отрок. – Я не буду вам помогать. Ты знаешь почему. Ты знала, что я откажусь. Октябрьская революция будет.
* * *
– Как? Почему? – в первую секунду Даша даже не поразилась – просто не поверила. – Ты ж больше всех мечтала ее отменить. Ты больше всех хотела… Ты нас и уговорила тогда! Ты нас втянула. Как же теперь?
– Мы вернемся назад. В наше время, – лжеотрок перевела на вопрошавшую взгляд, и пустота охватила Дашу.
– А как же пятьдесят миллионов? – растерянно спросила та, отказываясь верить в безжизненность этой пустоты.
Когда-то Даша Чуб стояла до последнего пнем, отказываясь жертвовать собой ради миллионов людей, погибших в прошлом столетье. Но нынче не помнила об этом…
Нынешний Прошлый век уже был ее настоящим, погибшие – живыми людьми, которые сидели рядом с нею в кафе, аплодировали на ее выступлениях, восхищались ее рекордами, дарили ей венки и букеты. Наивные модистки и горничные, студенты и романтические гимназистки с длинными косами, серьезные господа с закрученными усами, сестры милосердия в белых платках, бесстрашные военные летчики…
– Они все погибнут, – бесстрастно сказала «не Маша».
– Нет, нет! – воспротивилась Чуб. – Ты не можешь так думать. Устроила себе там, в Пустыни, рай на земле, а на остальных и смотреть не хочешь. А ты в курсе, что пока ты у себя в келье сидела, семь миллионов погибли? Уже! Вот на этой войне… – ударила Чуб по непонятной атрофии души, поразившей подругу. – Петя погиб. Он не погиб бы, если бы мы войну отменили. Если б Столыпин не умер…
– Но он умер, – сказала «не Маша». – Неужто, вы не поняли?
– Да поняли мы! Это была ошибка!
– Ошибка, – повторила лжеотрок. – Я убедила вас ее совершить, потому что возомнила себя умнее Бога. И пошла против него. А когда поняла, было поздно – ничего не поправить. И я отчаялась… От маловерия. Ибо Господь все равно все сделал по-своему. Столыпин все равно умер. От инфаркта. И революция будет. Потому что Бог допустил ее.
– Да кто ж тебе такую глупость сказал?! – ахнула Чуб.
– Ты, – существо, отдаленно напоминавшее Машу, чуть заметно растянуло губы в улыбке. – Ты часто говоришь мудрые вещи. Но редко прислушиваешься к себе. Почему ты не поешь? Ты же певица.
– Причем тут пение-то… Нашла кого слушать! – возопила Чуб. – Мало ли чего я ляпнуть могла!
– Так я и рассудила тогда, – согласилась «не Маша». – Но если бы я прислушалась к тебе, если бы я услыхала тебя… Я никогда б не пошла на Отмену.
– И что бы было тогда? – разрезал их ссору голос Акнир.
От ее учительской сдержанности не осталось и следа. Сияющий восторг превратился в свою противоположность. Черты юной ведьмы заледенели от ненависти, губы оскалились.
– Что было бы, – яростно прошипела она, горбясь, как кошка, – если бы ты не попалась в мою ловушку, не пошла на Отмену, не уломала их уместись сюда… Какие у вас были еще варианты? Вступить в бой со мной и погибнуть! Вы, люди – слепые… Вы получили власть моей матери незаконно! Киевицей может стать только чистокровная ведьма. И ни одна из вас не в силах доказать свою ведемскую кровь. Ты, – обличила она презрительным перстом Катерину, – из захудалого рода! Ты, – ее палец уткнулся в Чуб, – сама не знаешь, кто ты! А ты… – Акнир испепеляюще взглянула на Отрока, – ты должна помнить. Там, в нашем времени, вас ждет Суд между Землею и Небом. Вы должны не на словах, а в бою доказать, что вправе владеть силой моей матери. А во время суда Киевицу можно убить. И шесть лет назад я бы просто убила тебя. Вы не знали тогда ничего. Ты не справишься со мной даже сейчас, святой Отрок.
* * *
Без всякого предупреждения дочь своей матери выбросила руку вперед.
«Акнир – бесиха», – Даша вспомнила, как называют ведьм, повелевающих бесами.
Но воспоминание выхлопнуло на мгновение позже, чем лжеотрок подняла руку в ответ и комнату наводнили скрежещущие, взрезающие душу скальпелем стоны. Круглый одноногий столик испуганно отшатнулся к двери, мебель – старые диваны и кресла – задрожала, задвигалась. Катя и Даша рефлекторно впечатались в стены. Тяжелая оконная занавесь встала дыбом – бьющаяся ткань перегородила гостиную наподобие ширмы…
А в складках, очертаниях полощущейся шторы пропечатались рожи невидимых жутких тварей.
Они гримасничали, извивались, корчились в муке – бесы метались, бились в силках между той, чья рука властно посылала их вперед, и той, чья выставленная щитом ладонь приказывала им идти прочь. Бесовская портьера завыла от боли, рванулась к двери, карниз соскочил со стены, выдирая громадные гвозди, и с грохотом обрушился на пол.
– Ничья, – крикнула Акнир и опустила руку – Ты сильнее, чем я думала… Тебе же хуже!
Вместо ответа Маша щелкнула пальцами, и пол ушел из-под Дашиных ног. Она повалилась на непонятную, поросшую травою летнюю землю. Вскочила, завертела головой. Гостиная исчезла. Исчез 13-й дом, улица Малоподвальная…
Исчез Город Киев!
Четверо возвышались на покатой горе в окружении бесконечных холмов и дремучих, укутанных пушистыми лесами низин. Справа – вдалеке – искрился невозможно огромный, широкий, как море, Днепр, лениво рассекающий своим великим телом два безмятежных, нетронутых цивилизацией берега.
– Две тысячи лет назад. Неплохо! – услышала Чуб и повернула очумевшую голову вправо.
Ведьма и лжеотрок стояли друг против друга на отроге горы. И прежде чем Даша успела осмыслить хоть что-то, одним коротким движением Акнир распустила, собранные в безликий учительский шиш светло-золотистые волосы, утопила в них пальцы, приподняла космы вверх и резко мотнула головой. Ее грива взвилась, описала полукруг…
Катя заорала.
В мгновение ока лжеотрок превратилась в окровавленную статую. Густые потоки крови обезличили Машино лицо. Иссеченная тысячью бритвенных порезов одежда обвисла лохмотьями, окрасившимися в кроваво-алый. И каждый из этих порезов нанес каждый волос ведьмы!
«Акнир – косматочка. Умеет ворожить с помощью собственных волос»
Даша не помнила, кто и когда говорил им это. Но знала теперь, почему первым делом инквизиторы брили уличенных в малифиции женщин наголо.
Волосы ведьмы могли быть страшным оружием!
– Нет! – секунду тому назад бывшая Машей кровавая туша выставила рваную ладонь. – Катя, не надо…
Второй рукой лжеотрок закрыла лицо, длань скользнула по телу, врачуя порезы. Мгновение – и кабы не жалкие остатки одежды, Чуб могла бы подумать, что кровавое месиво примерещилось ей.
– Да, восстанавливать ты научилась неплохо. Но вся твоя наука не стоит в бою ни черта. Ты не умеешь УБИВАТЬ! – просипела Акнир.
Стремительным жестом ведьма вырвала из шевелюры длинный волос, скрутила петлю, затянула ее.
Маша схватилась за горло. Держа волос за два конца, противница медленно развела руки в стороны – вмятина от невидимой струны, перерезающей горло лжеотрока, стала видимой, синей. Младшая из трех Киевиц раззявила рот, выкатила глаза, засучила руками.
«Катя, не надо!»
Она не могла это крикнуть – вытянув в сторону Кати руку с предостерегающим указательным пальцем, Маша качнула им, удушливо засипела…
Чуб не разобрала слов.
Но ведьма конвульсивно согнулась пополам, ее черты исказили слезы.
– Зачем?! – захрипела она. – Мамочка, ну зачем… Так нечестно, нечестно! Зачем тебе Небо? Они воюют две тысячи лет. Они разберутся без нас… Почему именно ты… как же я? Разве это честно, бросать меня? Сказать: «Я пошла умирать, ты должна все понять». Я не хочу понимать! Не надо выпускать Змея… Мы отменим октябрьскую. Трех не будет. И ты будешь жить. Ты – лучшая… «Истинная гордыня в смирении», – чушь! Мамочка… слышишь, даже если ты против, я верну тебя! И мне плевать, что будет потом! Поверьте мне, поверьте, только поверьте… знали бы вы, как я вас ненавижу… но я сделаю все… для вас все, что хотите. Я пальцем не трону… Только отдайте мне маму. Пожалуйста…
«Вот она – настоящая!» – поняла Катерина.
Ее дрожание губ, детские всхлипывания, злая истерика, боль, прорывающаяся, стоило Акнир вспомнить о матери, погибшей из-за такой ерунды, как трое слепцов – только это одно и не было маской. Только это и можно было принять за непреложную истину. Только в этом одном ей можно верить.
Она хочет вернуть свою мать, и для нее не имеет значенья цена!
Девчонка закашлялась, затряслась в рвотных судорогах, кровавая каша вырвалась из ее рта. Кожа Акнир стала бледной, а васильковые глаза почти черными от иссушающей ненависти.
– Значит так, святой Отрок, ты обрабатываешь своих гостей? – прохрипела она. – Вырываешь из них самое… самое… Знай, сука, этого я тебе не прощу! Это было только мое!
Словно юла, Маша крутанулась на 360 градусов, нарисовав пальцем в воздухе замкнутый круг.
– Круг Киевицы, – усмехнулась Акнир. – Считается непреодолимым. Ну что же, смотри…
Остекленевший от злобы взгляд ведьмы прицелился в Третью. Пальцы зашевелились, словно Акнир сплетала из воздуха незримое кружево. И мир начал рушиться у них на глазах…
«Она – чароплетка», – вспомнила Даша.
Не сразу.
Вначале ей показалось, что перед глазами поплыли серые пятна. Она потрясла головой. Пятна не исчезли – стояли на месте. Зеленый, насыщенный солнцем мир лесов и холмов то там, то тут покрывали неясные сгустки темноты, будто мир был картинкой, поверхность которой можно испачкать. Или прожечь…
Грязное ржавое пятно испортило безоблачное небо над Машей. Черная клякса осквернила пейзаж за спиной. Тьма замутнила воздух перед ее ртом, очертила черный ореол вокруг головы…
«Она – чароплетка! Со времен Великой Марины даром чароплетства не владел никто! Чароплет способен создать новые законы… меняет мир по собственному желанию. Стоит Акнир получить чуть больше сил…»
Чуб вспомнила, кто говорил им это в том давнем-давнем будущем, где суд между Небом и Землей, бой между ними и Акнир, был неизбежен. И еще вспомнила, что восстав против Трех, дочь своей матери получила достаточно сил – киевские ведьмы отдали ей свои силы, чтобы наследница Киевицы Кылыны могла победить самозванок.
Бурая тьма выжгла солнечный мир вокруг Маши, крепко обняв жженой грязью непреодолимый круг Киевиц – с каждой секундой кольцо сужалось. Опустив очи долу, лжеотрок безвольно стояла, не предпринимая попыток разогнать эту мглу…
«Она не знает, как… Она не умеет!» – в отчаянии осознала Даша .
«Акнир может сплести новые чары! Чары, которых нет в книге Киевиц. Чары, против которых нет противоядий. Кабы не это, у вас был бы шанс…»
Лжеотрок подняла глаза, посмотрела на Катю и отрицательно покачала головой.
В тот же миг тьма дорвалась до нее. Маша заорала так, словно чернота, разъедавшая мир, была соляной кислотой. Мгла набросилась, скрыла ее.
– Нет! – закричала лжеотрок. – Умоляю тебя… Только не убивай! Только не убивай!..
– Ты слаба даже духом! – пальцы чароплетки опали. Тьма исчезла. – Киевицу невозможно убить! Забыла? – брезгливо спросила она. – Но если бы сейчас был Суд между Землею и Небом, знай, я бы не расслышала твоих просьб о пощаде.. . Знайте все, – сверкнула глазами она. – Если вы поможете мне вернуть маму, я действительно сделаю для вас все. Все, что попросите. Помогу вам разбогатеть и прославиться, научу менять мир… Делайте с ним все, что хотите! Пусть моя мать не будет Киевицей в будущем, пусть она только будет… Но если, – сказала Акнир, потемнев, – вы откажетесь помочь мне, я вспомню, кто виноват в ее смерти. Да, вы бессмертны. Но из этого правила есть три исключения: Киевицу может убить Город, она сама, и тот, кто вступит с ней в поединок во время Суда. Клянусь, чтобы расправиться с вами, мне хватит и одного!
– Простите. Мне надо идти. Я не могу оставаться…
Лжеотрок быстро щелкнула пальцами.
Чуб обиженно взвизгнула, ощутив, как возведенный на древнем холме фундамент 13-го дома на Малоподвальной больно ударил ее в поясницу, выбив землю из-под ног. На миг в глазах потемнело, спина заболела…
Она снова лежала на деревянном полу. Их окружала разоренная гостиная. Не прощаясь ни с кем, побежденная Маша выскочила за дверь.
– Машеточка, постой! – неуклюже вскочив с пола, Катерина подобрала сумку и меховое манто и поспешила за беглянкой. – Подожди!
Дображанская выбежала в заснеженный сад вслед за Машей.
Опустив голову, прижимая ладони к ушам, лжеотрок бежала к калитке.
– Подожди, это важно. Маша, это так важно для меня!
– Замолчи! Замолчи! Я не могу тебя слышать! – закричала лжеотрок. – Ненавижу тебя…
* * *
– Ненавижу ее. Ненавижу… – Акнир опустошенно утопила в ладонях лицо. – Вот держалась, как могла, так старалась… И так сорвалась!
– Не парься, – утешила ее Даша Чуб. – Зато теперь мы тебе верим. Ты нас всех ненавидишь. И сто процентов убьешь, если мы послушаем Машку, вернемся назад и попремся на Суд. И ты вовсе не хочешь нам тут помогать. Просто другого способа нету… Знаешь, – держась за ударенную поясницу, лжепоэтесса поднялась на ноги, – а я ведь тебя понимаю. Я так страшно за мамой скучаю. Никогда не думала, что так за ней буду скучать.
Ведьма подняла на утешительницу непривычно открытый, наполненный обезоруживающим сочувствием взгляд.
– Но ты можешь увидеть ее, – сказала она. – Иди к своей маме прямо сейчас.
Глава восьмая, в которой речь идет о дочерях и матерях
– …в общем, мама верила в пророчество Великой Марины. Я ей говорила: «мам, ну как примирить Небо с Землей? Ну, разве что небо на землю рухнет, но это уже не на перемирие – больше на конец света похоже». Ведь Марина сказала: «Когда в Киев в третий раз придут Трое, они примирят два непримиримых числа». Понятно, речь идет про единицу и тройку. Но то, что единица – Земля, сотворенная в первый день, а тройка – ваш триединый Бог, это только трактовка! Одна из тысячи! Разве можно умирать ради этого? А она… – вздохнула Акнир. – Ну, ты меня понимаешь.
– Мамы никогда нас не слушаются, – с апломбом подтвердила Чуб. – Они просто поверить не могут, что мы хоть в чем-то умнее их можем быть. Да стань я хоть президентом страны, моя мать все равно будет смотреть на меня, как на ребенка! Это проблема всех мам.
Собственно, эта очерченная ею проблема и волновала Дашу.
Изида Киевская и юная Учительница пили шампанское в крещатицкой кофейне Семадени и вот уже второй час подряд великолепно понимали друг друга. Оказалось, ни разница в возрасте, ни различие между слепыми и ведающими не имеют никакого значения, когда дело касается их матерей.
– Верно! – вскрикнула ведьма. – Не родилась еще на свете та мать, которая б посчитала себя глупей своей дочери!
– Примите, уважаемая Изида Андреевна, – подскочивший лакей водрузил на их стол вазу с отборными фруктами. – От господ с того столика. Просят принять вместе с их уверениями в совершеннейшем к вам почтении. А это от заведения-с. —
К вазе присоседилась расписная бонбоньерка с изысканным произведением кондитерского искусства – шоколадной фигуркой сестры милосердия, склонившейся над постелью шоколадного раненого. Почти полвека шоколадная фабрика швейцарца Семадени славилась в Киеве своим непревзойденным мастерством в изготовлении особых заказов: тортов в форме цветочных корзин, башенок, домиков и прочих разнообразных фигурок.
– Отто Бернардович телефонировали, – томно изогнулся лакей, обожая знаменитость глазами. – Они ваши давнишние поклонники. Просили передать, что вы оказали нам огромную честь…
Поэтесса-пилотесса любезно улыбнулась шоколаду, винограду и яблокам, смотревшимся особенно ярко на фоне зимнего заоконья. Демократичная кофейня была переполнена разношерстною публикой: от биржевых дельцов до театральных статистов, от зубных техников до гимназистов – но стоило ей переступить порог, все эти люди повскакивали с мест. В одну секунду Дашу провозгласили «гордостью Киева», «королевой авиации», «спасительницей отечества» и даже «национальной святыней». Оказавших честь усадили за лучший столик, где они могли поговорить без помех, поскольку восторженные взгляды поклонников, буравящие спину, Чуб не считала помехой никогда.
Ей нравилось быть королевой!
Но кем она будет, если пойдет к маме «прямо сейчас»? Ведь в настоящем время стоит. Это она не видела свою мать-маяковку шесть лет… А ее мама рассталась с дочкой всего час назад! Как доказать ей, что за этот час Даша успела прославиться на весь мир, научилась летать на самолетах С-6А, С-10, С-12, «Гранд», «Ньюпор», «Моран», «Илья Муромец»… Как объяснить, что на дочь нужно смотреть другими глазами?
– Но самое обидное, – сказала Чуб, – даже если б не эта нескладуха со временем, мама все равно б не поверила… Я б все равно была для нее ее «глупым мышоночком».
– Если бы моя мама увидела, – подхватила Акнир, – что я тут с тобой сижу, шампанское пью, она бы второй раз умерла или меня на месте убила. Она себе в голову вбила: Трех надо убрать. Но я же права… Скажи мне, я права?
– Сто процентов права! – заверила ее Даша Чуб. – Я во-още не въезжаю, чего твоя мать к нам прикопалась.
– Наливай, объясню, – махнула рукою Акнир.
Быть может, потому что все ведьмины тайны вмиг стали явью и ей больше не нужно было притворяться и лгать, быть может, потому что ей давно хотелось поделиться хоть с кем-то, но вскрытая Машей правда превратила Акнир в обычную девушку. Возможно, излишне нервозную и самоуверенную… Но Чуб понимала: чрезмерная самоуверенность не лишняя штука для той, которая вознамерилась поставить дыбом историю, дабы вернуть свою мать вопреки ее же запрету.
– Моя мама верила в Трех. То есть нельзя сказать, чтобы верила. С помощью формулы Бога она высчитала год, день и час, когда Трое придут. Потом увидела вашу Машу в Прошлом, и там она уже была Киевицей. Тут вера без надобности. И так понятно.
– Называется Вертум, – сказала Чуб с умным видом.
– Редчайшая вещь, – закивала Акнир. – Я тогда еще маленькой была. Вначале не поняла. Говорю: «Мам, как же она там Киевица, если она тут слепая еще? Она ж еще силу твою не получила. Как же без силы она могла в Прошлое пойти, да так далеко. Даже я до 1911 года не дойду, а я ведьма, не слепуха какая-то». А мама говорит: «Она не пошла, она пойдет туда много лет спустя. Но пойдет непременно. А раз пойдет, значит, станет Киевицей. А раз она ею станет – меня не станет. Вертум – это будущее, которое невозможно изменить». Редко, но бывает. Короче, лет десять назад мама узнала: ей придется погибнуть из-за вас Трех.
– Тогда понятно, отчего она взъелась, – понимающе протянула Чуб. – Явно не повод нас возлюбить.
– Мама не взъелась! – восторженно обелила маму Акнир. – Только слепые убивают другу друга от страха, спьяну, по глупости… Мама придумала, как обойти клятый Вертум! Уговорить вас отменить революцию , заманить вас сюда и заставить вас своими руками перечеркнуть вашу дату рождения. Гениальный план, правда? Вы ее погубите, вы же и вернете все взад…
– И честно, по-своему, – похвалила погибшую Киевицу Изида. – Мы ж не хотели ведьмачить. Мне лично здесь во-обще даже лучше. И мы живы и счастливы, и мама твоя, и пятьдесят миллионов…
– Все в шоколаде, – закруглила Акнир. – Я все детство ею гордилась. Только величайшая Киевица могла придумать, как сделать так, чтобы всем или почти всем стало лишь лучше! И вдруг – это был день моего рождения – мама говорит: «Прости, Акнирам, не могла сказать тебе раньше. Отмена – не выход. Я должна умереть – это единственный способ выжить. Я выпущу Огненного Змея…» Дальше ты знаешь. Чтоб освободить его, Киевица должна принять смерть.
Чуб посмотрела в окно: на Думскую площадь, которую пилотесса упрямо именовала «майданом», на подкову здания городской Думы с архангелом Михаилом на шпиле. Архангел поднимал грозный меч, собираясь убить извивающегося в его ногах мерзкого змея. То не было простой аллегорией. Маша рассказывала, что страх перед чудищем, обитающим в древней земле, преследовал киевлян вплоть до конца ХІХ века… не без оснований! Огненный Змей не был сказочным Змием. Но огненным – был. И кабы пожар, разожженный погибшей Киевицей Кылыной, встал над Градом сейчас, его было бы видно и отсюда.
За шесть лет пилотесса забыла многое, но достигающий неба огненный столп, неугасимый огонь, пожирающий Андреевский спуск, были незабываемыми. Прочее помнилось смутно… Обрывки фраз и событий. И сотканный из пламени огненный демон с женским лицом, чьи стопы поджигали траву – мать Акнир.
«…смерти – нет! Вот в чем ответ. Уроборос! Мой конец – это мое начало. В природе ничто не умирает…»
Чуб рефлекторно коснулась своей змеящейся под тканью цепочки – Уроборосом звали ее оберег, цепь-змею, кусающую собственный хвост. Но кроме имени, она не знала о нем ничего.
– Если честно, – призналась она, – я так и не поняла, зачем твоя мама пыталась сжечь Киев. Разве она не знала, что Город – живой и ему это совсем не понравится? Маша сказала, Киев сам убил твою мать.
– Потому что на нее наябедничал Левый! Ну, стоящий по Левую руку… Дух Города – Демон, слепые так его называют. Да и ерунда это все. Так или иначе, мама решила пожертвовать телом. Истинная гордыня – в смирении.
– Вот в эту тему я во-още не въезжаю!
– А думаешь, я въезжаю? – безрадостно ухмыльнулась Акнир. – Постараюсь объяснить по-простому. Слепые думают, будто Земля принадлежит им. Почему вы так думаете, никому не понятно. Один крохотный смерч сметает вас, словно мух. Но до того, как киевский князь Владимир крестил Русь, люди знали, кто кем владеет, и поклонялись своей Великой Матери. А Киевица не стояла тогда между Землею и Небом. Она была ведьмой – самой сильной, самой ведающей, знающей. Она одна знала язык нашей Матери и говорила с ней на равных. Ты представляешь, что это такое? Это как мы сидим вот с тобой сейчас, и я говорю: «Отодвинь эту вазу, а то мне улицу не видно». Кстати, отодвинь, не видно…
– Эту? – Чуб передвинула фруктовницу на край стола и удовлетворенно отметила, что на улице уже собралась небольшая толпа зевак, глазеющих на «королеву мировой авиации», восседающую за окном кафе, как в витрине.
– Вот так же Киевица могла сказать Земле: «Отодвинь эту реку, она мне пройти мешает». И Земля говорила: «Эту? Да пожалуйста…» Ты хоть представляешь, КАКАЯ ЭТО ВЛАСТЬ? – округлила ведьма глаза. – Но самой великой Киевицей была Марина. Она не говорила с Землей. Она стала Землей.
– Умерла, что ли?
Акнир с сомнением посмотрела на Чуб:
– Ты слепая, я не знаю, как тебе объяснить. Если уж мама не смогла объяснить это мне… То есть умом я понимала: она не умрет. Мама сольется с природой и станет самой Великой Матерью. Это не смерть… Но с другой стороны, ее все равно ведь не будет. И она никогда не заварит мне чай из синей травы. И не обнимет. И не вернется домой. Как я плакала, как я просила ее отказаться, вспомнить стыдно. Нет, – помрачнела Акнир, – тебе я скажу. Я на колени перед нею встала, умоляла: «Мама, не надо! Давай отменим Октябрьскую…»
– А она?
– «Нет, – говорит, – Трех можно победить только так. Иначе они примирят Небо с Землею». И хоть лбом в стену бейся! Я и билась, – хмуро добавила ведьма, – когда она приказала мне уехать из Города, а потом мне сказали, что вы победили. Город забрал ее тело… Но душу убили вы.
– Вообще-то, – сочувственно сказала Чуб, – мы защищались. Ты тоже себя на наше место поставь.
– Да знаю я! – скривилась Акнир. – Но как я вас ненавидела, как мечтала убить.
– Нормально, – успокоила девушку Даша. – Если бы ты мою мать, я б тебя тоже убить мечтала … А то и убила б. Вообще не знаю, что б со мной было, если б мне сказали, что моей мамы нет.
– А я знаю, – хрипло сказала Акнир. Она залпом допила шампанское, нервно заправила за ухо выбившийся золотистый локон. – Я ходила к ней, – созналась она. – В Прошлое. Я нарушила все запреты, но я пошла к ней, чтобы сказать: вы победили, а она умерла. Я надеялась, она передумает. Но она сказала мне: делай, как я велела. Не вздумай меня возвращать. Единственный способ уничтожить ее сделать это, пока она слаба. Призови Трех на Суд между Землею и Небом. Так я и сделала. Меня послушали и назначили Суд. Я могла бы убить ее… Но разве это вернуло б мне маму ? И я не стала ее убивать.
– Ее, в смысле, Машу? – догадалась вдруг Чуб. – А почему твоя мама хотела убить именно ее? Почему не меня, например? Не Катю? – даже как-то обиделась она.
– А вас-то зачем? – удивилась девчонка. – Только слепые убивают без надобности. Достаточно уничтожить ее, и Трех не будет.
– Без любой из нас Трех не будет, – резонно заметила Чуб, беря в руки шоколадную сестру милосердия.
– Не скажи, – не согласилась Акнир. – На все ваши подвиги вас толкала она. Она всегда вела вас вперед: уговорила принять силу и отказаться от нее, перебраться сюда, отменить революцию… Стоило ей исчезнуть – вы превратились в обычных людей. Скажи, разве за шесть лет без вашей умопомрачительной Маши вы совершили хоть один подвиг?
– Конечно, – бодро начала Даша Чуб. – Как только мне С-20 сварганят…
И осеклась.
Растерянно посмотрела на свой хрустальный бокал, на сладкую сестру милосердия, согбенную головку которой она как раз собиралась откусить… Продавать в Киеве столь непозволительную для военного времени роскошь, как выпечка, торты и пирожные давно запретили специальным указом: с начала войны в стране царил жесточайший сухой закон. Но, услыхав Дашин капризный заказ: «Хочу шампанского! Я пью только Голицынское. Подай всем за мой счет!» – официант лишь улыбнулся кутящей «гордости Киева» всепонимающей улыбкой. На протяжении войны бесчисленные поклонники «национальной святыни» исправно снабжали ее спиртным и конфетами, духами и шелковыми пижамá. Люди, топтавшиеся за окном кафе, улыбались Изиде, восторженно тыча в нее пальцами – они считали ее героиней… Спасительницей отечества!
А она сидела в кафе, пила у них на глазах запрещенное шампанское, ела шоколадных солдат и разглагольствовала о том, что пойдет воевать, как только получит подходящий боевой самолет. В то время, как настоящий «король» – ее друг и учитель Петр Нестеров – три года как лежит в земле Аскольдовой могилы.
«Что с тобой, Ветер? Ты словно перестала видеть мир вокруг».
– За революцию!
– За новые времена!
Дашино насторожившееся ухо уловило звон хрусталя. Неподалеку от них, за круглым мраморным столиком, сидела семейная пара. Сытый господин, изысканная дама с лисой на плече. В руках у них были бокалы. И Чуб резанула наивность, с которой эти два буржуа пьют за новые времена, те самые, что всего год спустя придут и раздавят их.
Как они представляют себе это новое будущее? За какие свои иллюзии поднимают бокалы?
– Изида Андреевна! – господин увидел, что Даша смотрит на них. – За революцию! Мы все ее ждем!
– Ждете? – повторила Даша чуть слышно.
– Конечно! – подхватила дама с лисой на плече. Она была белокура, очень молода и красива. От нее шел нежный запах фиалок и мятных конфет. – У меня на душе так чудесно, так радостно, будто все плохое навеки ушло: проклятая война, нелепая монархия. И теперь впереди только чудесное, радостное… Едва царь отрекся, я поняла – нас ждет что-то совершенно новое, что-то прекрасное! Небывалый, невиданный мир… Уж скорей бы!
Чуб резко отвернулась. За столом у двери собралась компания каких-то юнцов. Поймав Дашин взгляд, один из них вскочил на ноги и послал Изиде воздушный поцелуй. Остальные поддержали его громкими возгласами.
– Изида, прекрасная, поцелуйте меня. Может, завтра я уйду на войну… – он засмеялся – он не верил в свою смерть.
Пахнущий нежными духами и шоколадом швейцарца Семадени, раззолоченный куполами церквей и наивной верой в прекрасное будущее беззащитный дореволюционный мир не подозревал, что скоро умрет . Но она – его первейшая звезда, героиня – знала. И остро, толчком, Даша ощутила одновременно поджелудочный стыд и материнскую ответственность за весь этот мир, которому не на кого больше надеяться.
Маша отказалась спасать его, а Катя побежала за ней…
Укачанная годами Дашина память проснулась от резкого толчка событий и разом выбросила все приключения, дебаты, события. Маша Ковалева заговорила, заспорила с ней, словно это было вчера. Чуб вспомнила Машу – затюканную студентку педагогического вуза, трусливо шарахающуюся от незнакомых людей. Вспомнила Машу – упрямую, убеждающую их отменить революцию. Их немыслимо добрую Машу, для которой пятьдесят миллионов жертв никогда не были бескровною цифрой, для которой чужая боль никогда не была чужой. Чуб вспомнила Машу наивную, Машу смешную…
И Машу несчастную, потерявшую все!
– Знаешь, Акнир, – с пафосом огласила она, – Машка, быть может, самым лучшим человеком на свете была… Была да вся вышла! И ее можно понять. Говорю под огромным секретом: у нее любовь большая была, и она ребенка ждала… Это нам с Катькой классно, что время стоит: мы тут не стареем, не седеем, можем жить вечно. Но с другой стороны, у нас ни волосы, ни ногти тут не растут и детей у нас тут быть не может, потому что время для нас стопанулось. А Маша, когда Отмену затеяла, на второй неделе беременности была! Прошло шесть лет, а она все на второй неделе беременности… Понимаешь теперь, почему она рвется назад? Там, в настоящем, она родить его сможет. Вот на этом она и сломалась. Но мы и без нее обойдемся. Я и без нее собиралась идти воевать. Три года собиралась – хватит! Нахвасталась, назвездилась. Спасти царя могу лишь я? Я и спасу! Ты говорила, что сделаешь все, чего мы не попросим? Так вот, я согласна. Но с условием: Машу не трогай!
– Не буду. Зачем? Дай сигарету, – быстро попросила Акнир. – Можно мне твой мундштук? Стильная штука. – Девчонка вкрутила папиросу в янтарь, приняла изящную позу богемной курильщицы и сразу перестала походить на Учительницу, став типичной курсисткой – девицей с прогрессивными взглядами.
– Я ж главное тебе не сказала! – с удовольствием выпустила Курсистка дым изо рта. – Мама зря меня не послушала! Зря не верила мне. Зря предостерегала: не убьешь ее сразу, второй возможности не будет – она победит. Шестнадцать лет – слишком много. Ее сила успеет прорасти .
– Какие шестнадцать?
– Ты не прощелкала? – загорелась девчонка. – Отрок действительно появился в Пустыни очень давно – семнадцать лет назад. Оставив вас, Маша ушла в еще более давнее Прошлое.
– Но ты ж победила ее сейчас.
– Но смогу ли я победить ее через час? – спросила Акнир. – Я не знаю. Но это не важно. Мама ошиблась! Маша умрет. И мне нет нужды ее убивать. Я больше скажу: даже я не смогу отвратить ее смерть. Сделать это способны лишь вы.
– А что с ней случится?
– Так ты говоришь мне «да»? – спросила Акнир. – Слово Киевицы? – недоверчиво присовокупила она.
– Слово Киевицы…
– Слово Наследницы! – Акнир импульсивно схватила Дашину ладонь обеими руками и затрясла ее. – Я сразу поняла, в тебе живет Великая Мать. Мы с тобой вместе…
– Стой! – Даша вырвала руку – Как я могла забыть? – воспользовавшись вновь обретенною дланью, Чуб радостно хлопнула в ладоши. – Катя будет с нами! Сегодня ко мне приходил один гимназист и сказал земплепотрясную вещь. Он видел Вертум! Вертум!
– Он так и сказал: «Я видел Вертум»? – усомнилась ведьма.
– Да он сам не понял, что видел. Он на Малоподвальной живет, в доме напротив твоего. Так вот, три месяца назад он увидел, как туда вхожу я, Катя и вдовствующая императрица.
– Три месяца назад? – землепотрясная новость однозначно произвела на Акнир положенное впечатление.
– Он сказал, это было 13-го декабря. Царица послушает нас без всякого Отрока! Это говорю тебе я, Изида Киевская.
* * *
Как только экстравагантная пара скрылась за дверью крещатицкой кофейни Семадени, Маша подошла к окну.
Они сидели за круглым мраморным столиком. Оживленные, жестикулирующие… Она не слышала слов. Ей не нужны были слова. Финал был известен.
Сейчас один человек попросит сказать «да», а другой даст короткий, непоправимо неверный ответ, который не сможет взять назад.
– Скажите «да»! – порывисто попросил молодой белокурый мужчина с тонкими правильными чертами лица.
Сидящая напротив него юная 22-летняя Маша испуганно приоткрыла рот, не подозревая о том, что все счастье, отмеренное на ее жизнь, станет невозвратимым прошлым в тот миг, когда она выдохнет «нет»…
Эта давнишняя Маша была нежноглазой и пушистоволосой, наивной и смешной, открытой и искренней, глупой, восторженной и бесконечно влюбленной… Но главное, она – была. Была только в Прошлом.
Ее давно нет.
Существо в мужской шапке и овчинном тулупе понуро пошло прочь. Снег стонал под ее сапогами. Она не видела, что снег шел за ней, посыпая белым холодом ее воротник. Бывшая Маша прошла мимо строящегося здания биржи с Меркурием на фронтоне; мимо ювелирной фабрики Маршака, изготовившей обручальные кольца для Михаила Булгакова и его первой жены Таси Лаппа – мимо, мимо, не поднимая глаз.
Покоривший ту, прежнюю, 22-летнюю Машу, Крещатик 1884 года со смешными омнибусами и газовыми фонарями на чугунных столбах, полный свершений Киев 1884 года, только-только выпросивший у Санкт-Петербурга разрешенье построить свою первую телефонную сеть, озаривший электрическим светом свой первый и пока единственный дом-отель «Бель-Вю» и поднявший над Царским садом свой первый воздушный шар, сузился в сознании нынешней Маши до одного рокового события в швейцарской кофейне. Весь 1884 год стал для нее только годом, когда она ответила «нет».
– Что ж удивительного? В тот день и год вы избрали свой путь.
Лжеотрок не подняла головы: она знала, кто возник по ее левую руку, и не слишком удивилась его появлению.
– Или, возможно, помимо собственной навеки погибшей фатальной любви у вас имеются и другие причины прогуляться по столь далекому 1884 году? – сказал Машин Демон. – К примеру, случившаяся в 1884 первая фатальная встреча двенадцатилетней немецкой принцессы Аликс Дармштадтской и шестнадцатилетнего цесаревича Николая Романова, будущих царя и царицы, чья любовь закончилась гибелью миллионов людей?
Маша знала: глаза Демона как и прежде черны беспросветною тьмой оникса, а губы, произносящие эти слова, презрительны:
– Или 1884 год заинтересовал вас тем, что сумел перевернуть мировоззрение графа Толстого, закончившего свои страстные размышленья о Боге и несопротивлении злу отлученьем от церкви? Ведь и царь Николай, и вы тоже отказываетесь сопротивляться несомненному злу… Или, может, хоть мне конечно не стоит тешить себя подобной надеждой, вы вспомнили, что в этот воистину роковой год и день мы впервые встретились с вами?
– Я не ищу встреч с тобой, – сказала она.
– А я вот – напротив, искренне рад новой встрече… Не буду уж просить прощенья за то, что вам пришлось ждать ее шестнадцать лет. Вы сами укрылись от нас в монастыре, а мне туда ход заказан, – сказал ее Демон.
– Сколько мы не виделись? – вопрос, кажущийся на первый взгляд абсурдным, отнюдь не показался таким ее собеседнику.
– Вы не видели меня шестнадцать лет – я расстался с вами два дня тому, – разъяснил он охотно. – Мне не пришлось ждать так долго. Я знал, в какой точке истории смогу отыскать вас в любую минуту. Знал, рано ли, поздно ли – вы придете сюда, взглянуть на свое потерянное счастье. Могу ли я спросить, теперь, когда вам известны законы и никто, кроме вас, не мешает вам вернуться назад к единственному мужчине, которого вы любили, который мог стать отцом вашего ребенка, насколько велико искушение?
– Он уже не узнает меня, – убежденно сказала Маша.
– Вы правы, – не стал спорить Демон. – Он вас не узнает. Должен заметить, вы весьма подурнели и наряд этот вам не к лицу.
– Какое тебе дело до моего лица? – в ответе лжеотрока не было ни тени женской обиды – собственно, Машу интересовало лишь то, что было озвучено: из каких-таких подспудных причин Демона интересует ее внешность.
Ответ был исчерпывающим.
– Монастырь, – сказал он. – Монастырь высосал вас. Сколько слепых вы пропускаете сквозь себя в один день – сотню, две, три? И вряд ли кто-то из них идет в Пустынь поделиться с Отроком радостью. Сколько чужой боли вы вобрали вовнутрь? Сколько неизлечимых болезней излечивали ежечасно? И сколько, позвольте узнать, раз за все эти годы вы думали о себе?
– Я не думала о себе.
– Вы не желаете думать, – спокойно констатировал Демон. – Вы не хотите жить. Вы отдали все. Вас нет. И вам так легче… Вы вполне преуспели на своем поприще жертвы. Издавна меня коробила жажда вашего Бога превратить своих слуг в живых мертвецов. В святые мощи.
– Вполне естественно, что ты не способен понять божьи стремления, – равнодушно заметила Маша. – Все твое естество противоречит Богу.
– Вы ошибаетесь, и ошибаетесь дважды, – возразил он с явным довольством. – Устремления вашего Бога мне понятны, и они не новы. Небо и Земля желают от нас одного, ибо истинная гордыня в смирении… Ваша же вторая ошибка заключается в том, что вы почитаете себя служительницей божьей. Но это не так. Но то ваши отношения с ним. Я желал видеть вас по иной причине.
– Сделать признанье, – сказала она. – Ты знал, что Акнир воспользовалась мной.
– Равно как и мной. – Даже не поднимая головы, Маша знала, что Демон улыбается. Точнее, она так полагала. – Но вы сами принесли мне подброшенную ею тетрадь с формулой Бога. А я умею считать.
– Ты высчитал будущее?
С саркастичной усмешкой ее спутник слегка приподнял шелковый черный цилиндр, приветствуя ее первый заинтересованный взгляд. Он выглядел сущим франтом: бобровая шуба, белый шарф, черная жемчужина на галстуке, рука, помеченная массивным перстнем с голубоватым камнем, сжимала лакированную трость.
Оставив позади площадь, они оказались у ворот в увеселительный сад Шато-де-Флер.
– Я знаю будущее, – расставил Демон точки над «i». – А вы видите его. Но будущее – не письмена на скрижалях. Его можно менять. Я понял, затея со спасеньем Столыпина – первая часть плана. Девчонка хочет вернуть свою мать. Хочет так сильно, что готова забыть про природную месть, простить вам убийство Кылыны. Но, признаться, меня мало волнуют чьи-то детские чувства. Меня волнует мой Отец, Киев. Позвольте предложить вам сменить обстановку. – Демон склонился над ней – в его непроглядных глазах было невозможно что-то прочесть. – Давайте прогуляемся по иному, 1889 году, – интимно прошептал он. – Быть может, там нам будет немного повеселей?
Франт звонко щелкнул пальцами, и сонно-зимний «Шато» озарился огнями, украсился экипажами, тройками, выездами. С Крещатика, Подола, Печерска к воротам сада стекались потоки людей: господа в котелках и цилиндрах, дамы в платьях с турнюрами, в коротких жакетах и шляпках-капот.
Черная трость Демона с серебряным набалдашником в форме человеческой руки уткнулась в афишу.
...
Невиданное в Киеве зрелище!
В саду Шато-де-Флер открыт в первый раз
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЕДЯНОЙ ДОМ,
поставленный по достоверным рисункам первого ледяного дома императрицы Анны Иоанновны, который был в Санкт-Петербурге в январе месяце, в 1740 году.
– Идемте, – Демон подтолкнул свою спутницу. – Вы ж в прошлом историк. Вам будет занятно взглянуть…
Нарядная толпа обняла их как разноцветная шаль, опутала теплом и колышущимся, нетерпеливым предчувствием праздника.
Нарядные аллеи «Шато» слепили огнями. Снег повалил с новой силой, словно желая внести свой окончательный штрих в сверкающий в глубинах сада фантомный пейзаж.
Копия ледяного дворца, увековеченного в романе Лажечникова и воспроизведенного на радость киевлянам на склонах Днепра, освещалась новейшими световыми эффектами. Ворота и сказочные башни охраняли ледяные дельфины и батарея ледяных пушек. Украшавшие дворцовый фасад резные вазы и фантастические статуи из прозрачного льда купались в алмазных фонтанах света.
Не дав ей опомниться, Демон потянул свою спутницу в выкованные изо льда и мороза сказочные ворота и потащил ее по мертвенным белым палатам дворца – они прошли сквозь ледяную гостиную с ледяными креслами и столом, на котором лежали забытые кем-то ледяные игральные карты и тикали ледяные часы; проскользнули заставленный книжными шкафами ледяной кабинет с большим ледяным камином, в чьем чреве пылали живым огнем ледяные дрова.
– Здесь прекрасно, не правда ли?
Где-то далеко-далеко играл оркестр, смеялись люди, стреляли пробки шампанского, в небе над «Шато» взрывались ракеты фейерверков… Но невесть почему они стояли одни посреди холодных, как смерть, ирреальных покоев: в белоснежной спальне, освещенной лишь мерцающим пламенем тонкой ледяной свечи.
– Где же все?.. – не сдержавшись, спросила Маша.
В центре возвышалась громоздкая ледяная кровать, убранная ледяными подушками и одеялом. Между ледяным рукомойником и ледяным туалетом стояли крохотные ледяные туфельки снежной принцессы.
– Так прекрасно… – повторил Машин Демон. – И так похоже на вас! Мне очень известно, зачем вы отправились на площадь к кофейне. Вы хотели понять, способны ли вы в принципе чувствовать боль, утрату, уныние… Способны ли вы еще чувствовать что-то? Когда-то вы действительно любили его. И что же?
Она не ответила.
Ее Демон отлично знал ответ.
– Зима. Вечный холод. Лед. Снег. Белая смерть. Вот ваша душа. Ваша снежная крепость! Больше всего на свете вы боитесь растаять. Вы страшитесь своих истинных чувств. Сегодня они уже предали вас… Страшитесь же их, уважаемая Мария Владимировна. В природе ничто не умирает – лишь перетекает одно в другое. И ваш лед тоже однажды станет водой. Быть может, вашу душу растопят цирковые развлечения? – засмеялся он вдруг. – Что вы скажете насчет 1993 года?
Она не успела уловить движенье пальцев. Но феерическая ледяная греза вдруг растаяла, слилась в один миг в огромную лужу – нет, в целое море. Стремясь удержаться на ногах, лжеотрок невольно прильнула к своему странному спутнику – под ними покачивалось дно парохода.
Пароходик, принявший на борт их и еще пятерых зрителей, плыл по заполненной водой цирковой арене, изображавшей гавань с мостами, декоративными лодками, лебедями и нимфами. С визгом, улюлюканьем, криком публика аплодировала семерым «мореплавателям». Справа гремел миниатюрный Ниагарский водопад, низвергающий свои громокипящие потоки в рукотворное озеро.
– Только в «Шато» грандиозное шоу «Цирк под водой»! – услышала Маша голос циркового объявлялы.
Пароход опять затрясло. На прикрепленном к борту спасательном круге лжеотрок прочла название судна – «Киев».
Лик Демона с резкими татаро-монгольскими чертами пьянил странный азарт. Его непроницаемо-черные глаза пристально всматривались в Машу:
– Мне кажется, или подобные увеселения вам не по нраву? Не желаете ли послушать капеллу мадам Синегурской? В 1895 ее резвые девушки буквально потрясли киевлян…
Внутренне сжавшись в комок, Маша Ковалева опустила глаза.
В уши врезались звуки бравурного марша . Под ними снова была земная твердь, иллюминированная электрическими огнями аллея «Шато». Их обтекала гурьба праздных гуляк, с недоуменьем поглядывающих на богато одетого щеголя, крепко держащего за руку простого вида юношу в овчинном тулупе.
«Шлет вам привет красоток наш букет…» – запел женский хор мадам Синегурской. Девицы танцевали канкан.
Но лжеотрок не слышала их, а Демона мало интересовали измененья вокруг – указательным пальцем он властно поднял ее подбородок, жадно вбирая перемены: страдание, ужесточившее углышки губ, пустоту, выбелившую взгляд.
– 1895-й, – удовлетворенно сказал он. – Так я и думал. Как только я прочел житие святого Отрока, не покидавшего Пустынь… В отличие от ваших подруг вы давным-давно поняли, что остались Киевицей. Как может быть иначе, ведь вы… ВЫ СЛЫШИТЕ ГОРОД!
Отчаянным жестом Маша заткнула уши.
– Ах, как же вам больно… – довольно проговорил он врастяжку.
Из-за всех сил лжеотрок сжала ладонями голову.
«Спаси меня… Спаси! Спаси!!!» – кричал Киев. Ее Отец, ее Город просил о помощи.
– Вы прятались в за-Городном монастыре не от ваших подруг, не от меня, – сказал Демон. – Вы прятались от Него. От Города. Вам невыносимо больно слышать его. Но вы уже здесь… И вы уже приняли решение.
– Это ничего не изменит. Спасение царской семьи ничего не изменит! – пролепетала она.
Демон вновь щелкнул пальцами. Их вновь окружал 1884 год. Они стояли посреди пустынного сонного сада, неподалеку от ракушки-эстрады. И Машины руки опали.
– Вы видите будущее, – мрачно сказал ее Демон. – А я знаю его. Я знаю, это ваше решение действительно ничего не изменит. Ни того, что вы так боитесь изменить. Ни вас саму. Хотите вы того или нет, в 1895, когда Киевица Персефона бросила Киев, Город выбрал вас. И он ждет, что вы спасете его.
– Я не стану спасать его.
– Вы даже не представляете себе, Мария Владимировна, как я вас понимаю, – проговорил он с непонятным смешком. – Вы сбежали. Вы дали себе зарок. Открою вам забавный секрет. Два дня тому я тоже попрощался с вами навечно. И вот, стою перед вами… И так же, как вы, противлюсь своей судьбе, убеждая себя, что наша встреча ничего не изменит. Хотел бы я знать, кто из нас двоих победит? Возможно, вы скажете мне? Ведь вы стали пророчицей.
– Я не вижу своей судьбы, – сказала она. – Благодарю за подсказку. Ты снова дал мне шанс обыграть тебя…
– Романс на стихи господина Полонского «Холодная любовь»!
Лжеотрок обернулась.
На пустую, заметенную снегом эстраду забралась миловидная барышня. Пушистый меховой капор обрамлял юное румяное личико. Стоявший внизу юноша в обношенной студенческой шинели поспешно зааплодировал самозваной бенефициантке.
Девица весьма фальшиво запела:
Любовь моя чужда мечты веселой,
Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.
Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди;
В дни беспрерывных битв она вернее друга,
Но от нее тепла не жди…
– Кажется, этот романс тоже написан в 1884 году, – печально сказал Машин Демон. – Что ж, уважаемая Мария Владимировна, вы больше не слепы… Вы увидели главное – наши судьбы связаны. До следующей встречи. Я знаю еще один миг, куда вы не в силах не прийти… Я буду ждать вас там. И мы продолжим наш разговор.
На глазах редких прохожих зимнего «Шато» лощеный господин церемонно поклонился бесполому существу в овчинном тулупе. И с легким презрением отвесил еще один поклон тому, кто стоял за Машиным левым плечом.
Не изменю тебе; но если ты изменишь
И, оклеветанная вновь,
Поймешь, как трудно жить, ты вспомнишь, ты оценишь —
Мою холодную любовь.
– допела девица и послала ладонями два воздушных поцелуя отсутствующей публике.
Глава девятая, в которой царь ждет спасения
1 августа, 1917
Купе спального вагона было душным и пыльным. Сейчас, когда они сидели на диванах, тесно прижавшись друг к другу, жара стала ощутимой телесно. Но в сей час они не замечали ее.
Мужчина с угасшим лицом потянул за золотую цепочку, выудил из кармана часы, щелкнул крышкой. Немолодая, полная и одутловатая женщина посмотрела на мужа. Рядом с ней сидели три юные девушки. Еще одна, самая старшая, поместилась напротив, между отцом и тринадцатилетним братом.
Все семеро обменялись взглядами. Никто никому ничего не сказал.
Эта Семья была истинной – семь «я»! Их было семеро, и все они понимали себя, как единое «мы», и понимали друг друга с полуслова, а порой и без слов. Все, что следовало сказать, было давным-давно сказано…
...
Милый, дорогой мой Ники! Прочитав это письмо, ты должен немедленно уничтожить его…
Все, что было сожжено, горело в их глазах немым вопросом.
Отец спрятал часы и принялся крутить ус. Все знали эту его привычку, и никто не спросил, который час: все поняли, время вот-вот настанет. Или напротив – не настанет уже никогда. Теперь им оставалось лишь ждать. И верить.
Тринадцатилетний Алексей быстро погладил жавшегося к его ногам спаниеля:
– Все будет хорошо, Джой.
Женщина нежно посмотрела на сына. Четыре девушки еле заметно улыбнулись, соглашаясь с матерью.
Они – верили! Истинная и непоколебимая вера была оплотом этой семьи. За время царствования Николая II было прославлено больше святых, чем за весь предшествующий век. Число монастырей увеличилось едва ли не вдвое. Число икон в спальне его жены достигало тысячи: все стены до потолка были увешаны образами. Огромность их веры была почти пугающей.
Кто знает, быть может, они были так религиозны от страха? Они боялись этой страны, боялись власти, которая была им не по силам. Они были маленькими людьми, способными сплести свой маленький мир идеальной семьи… И кто знает, быть может, их неспособность управлять многомиллионной страной и вынуждала их перелагать всю ответственность за нее на Всемогущего Бога? И на того, ставшего всемогущим, кто, говоря именем Бога, снимал и назначал министров… Их личного святого.
Их слишком искренняя, слишком огромная вера сделала их ненавидимыми и презираемыми. Их слишком огромная вера лишила их трона. Вера обрекла их на смерть…
Теперь эта вера могла их спасти.
– Я знала, Он не оставит нас, – убежденно сказала женщина.
...
…когда ты увидишь свою старую маму, тебя удивит, как стойко и мужественно я приняла известие о твоем отречении. Но на то есть свои причины.
Наверняка ты слышал не раз об Отроке Пустынском, обитающем под Киевом. Его благотворное влияние на души и умы жителей нашего края трудно переоценить. С младых лет его жизнь была истинным житием праведника, не ведающего греха. Здесь его почитают как святого. Живя в Киеве не первый год, я слышала немало рассказов о его чудесных деяниях и могу засвидетельствовать: все пророчества, сделанные им, неизменно сбывались. Что особенно примечательно, его предсказания почти никогда не бывают туманными и двусмысленными, они на диво точны.
Думаю, из всего вышеизложенного ты поймешь, в какое огромное волнение я пришла, когда 13 декабря ко мне во дворец прибыл монах из Дальней Пустыни и передал мне Известие. Отрок Михаил желал видеть меня, чтобы открыть мне будущее Империи. Без промедления я отправилась в Пустынь. Там Отрок сказал мне, что через три месяца мой сын, император, передаст престол сыну, но новое правительство не захочет видеть на троне нашего милого Алексея и всенародно объявит, будто ты написал отречение за себя и за него. Все, на кого ты полагался, включая наших зарубежных союзников, отвернутся от нас. А еще через год страна утонет в крови. Но в Киеве есть преданные тебе люди, и он просит меня убедить тебя довериться им…
– Я рада, так рада, что дорогая мама теперь с нами! – сказала полная женщина.
Еще недавно «дорогая мама», вдовствующая императрица Мария Федоровна, называла свою невестку психически ненормальной. Многие, слишком многие, мечтали, чтоб император нашел в себе силы заточить в монастырь «женщину, которая губит его и Россию». «Страна, Государь которой направляется Божьим человеком, не может погибнуть. О, отдай себя больше под Его руководство», – взывала женщина, заклиная мужа и самодержца российского отдать царскую власть мужику. И то, к чему она призывала его в частной переписке, не было тайной ни для кого… Однако во множестве схваток со вдовствующей императрицей, с великими князьями, с верховным главнокомандующим страны, желающими вернуть трон самодержцу, неизменно побеждал сибирский мужик.
Царь Ники никогда не воспринимал пророчество «старца» как божественный глас – он покорно носил данный ему Распутиным крест, причесывал волосы его чудотворной расческой лишь из нежеланья расстраивать «свою любимую девочку».
Он слишком любил ее!..
Последний император Руси слишком любил немолодую усталую женщину с одышкой и больными ногами, подписывающую свои письма к нему «Твоя старая солнышко»… Написавшую ему 650 страстных писем. Подарившую ему сотню нежных имен: «Мой возлюбленный. Мой ненаглядный. Мой мальчик. Мой Солнечный Свет. Милое сокровище. Душа души моей…»
Он слишком любил ее! Даже просто сидеть и смотреть на нее он считал бесконечным счастьем. Он полюбил ее, когда ей было всего лишь двенадцать лет, а спустя еще десять, в обмен на позволенье жениться на ней, принял огромную страну и тяжелый царский венец, от которых так мечтал отказаться [2] . И, надев корону последнего императора Руси, заплатил за свою любовь своей жизнью.
Их слишком огромная, слишком неподдельная, слишком редко встречающаяся в мире любовь друг к другу сделала их ненавидимыми и презираемыми. Их слишком большая любовь, не понимающая сомнений, компромиссов, предательств, не желающая признавать холодный расчет – лишила их трона. Любовь обрекла их на смерть…
Теперь любовь могла их спасти.
– Мама уверовала, – экстатично сказала женщина. – Раньше она не понимала пророчеств…
...
Каюсь, услышав пророчество Отрока, я усомнилась, как, верно, усомнился и ты, прочитав эти строки. Но Михаил предвидел и все мои сомнения и, понимая их, сказал, что мне нет нужды принимать решение тотчас. Он просит меня об одном: встретиться с теми, кто готов отдать жизнь за тебя, чтобы я убедилась в искренности их намерений и в их огромных возможностях. Я поверю им в тот день, когда узнаю о твоем отречении, и успею принять решение по пути в Могилев.
Отрок открыл мне точную дату твоего Манифеста, имя того, кто принесет мне печальную весть, место и час нашей последней встречи с тобой в Могилевской Ставке. И сейчас, когда дрожащей рукой я пишу эти строки в холодном поезде, пока рабочие расчищают снежные заносы на пути в Могилев, я верю ему и заклинаю тебя, поверь ему!
Мужчина с угасшим лицом вновь взялся за ус.
Прочитав несвойственное вдовствующей императрице письмо, он устало подумал, что Аликс никогда не позволит Мамá распоряжаться их жизнями. Но первая мысль, омрачившая чело после прочтения послания, была ошибочной. Аликс не просто согласилась – восприняла мамину весть, как голос с небес, мигом затмивший в ее сознании все предыдущие события: бунт, революцию, арест и отчаяние:
– Как я жалею, что не встретилась с Отроком раньше! Наш Друг был очень высокого мнения о нем. Он сказал мне, что Михаил спас Ему жизнь…
Остальное говорить было без надобности.
...
Вот предсказание Отрока, которое он просил передать тебе слово в слово. До дня рождения нашего милого Алексея вас будут держать под арестом в Царскосельском дворце. 31 июля ты увидишь своего несчастного брата. На рассвете 1 августа вашу семью повезут в Тверь. Отрок сказал: «Все это сбудется в точности. Если со своей стороны император в точности выполнит все указания – он сможет спасти семью. Если нет, значит, не зря его назовут «Кровавым Николаем», ибо своим бездействием он обречет свою жену и детей на ужасную смерть».
Мужчина с угасшим лицом устало прикрыл глаза. Они покинули Царское Село в 6 утра… Накануне Керенский внезапно привез к нему брата, великого князя Михаила. Затем милый Миша уехал, стрелки´ таскали багаж, они ходили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков. Час отъезда держался в тайне от них. Никто точно не знал, куда их везут…
Никто, кроме Отрока Пустынского!
Когда рокового 9 марта поезд привез его, арестованного, отрекшегося, из Могилева на Царскосельский вокзал, сопровождавшие уже-не-царя лица из свиты бежали. Выскакивали из вагонов и бежали прочь по платформе, не оглядываясь, чтоб посмотреть на него – бывшего… Все отвернулись от них!
Но там, в заметенном снегом Могилеве, где он показал матери пачку телеграмм от главнокомандующих, дружно выказывающих свое нежелание видеть его государем, мать, рассудительная датская принцесса Дагмара, лишь быстро перекрестилась, шепча:
– Все, как он сказал…
Но чем дальше, чем несомненней сбывалось все, сказанное далеким Отроком Пустынским, тем огромней в душе поднимался страх. Ибо две строки предсказания гласили: «…страна утонет в крови… своим бездействием он обречет жену и детей на ужасную смерть».
Он бездействовал! Узнав о петроградском восстании, он – самодержец российский, верховный главнокомандующий армии – не стал подавлять беспорядки… встал на колени перед иконой и стал молиться о своей семье и стране. Он не желал кровопролитья! Он верил не старцу. Он верил в бесконечную мудрость господнюю – той истовой верой, без сомнений, которой почти не бывает! – верой, описанной лишь в житиях православных святых. Он думал, что им позволят жить, просто жить в их любимом Ливадийском дворце, в их маленьком нежном мире, о котором мечтают все семьи и который остается для большинства недостижимой мечтой. Этот мир, – мир, которого почти не бывает! – существующий лишь в сентиментальных романах и на пасхальных открытках; мир, где муж никогда не изменяет жене, где жена на сороковом году брака влюбленно целует подушку мужа, где он, она и их дети обожают друг друга, понимая семью как единое «мы» – этот мир был у них. И только по слепой насмешке Фортуны их теплая, сотканная из уютной любви Семья, была царской.
Но он никогда не был царем: по складу души он был идеально прекрасным семьянином и добрым христианином. Потому так легко отказался от царства, чтоб сохранить их маленький мир и мир в их огромной стране. Ради Любви, ради Веры…
И беззаветной Любовью и Верой обрек оба мира на смерть?
Так сказал Отрок!
...
По дороге туда за вами прилетит аэроплан. Все будет представлено, будто вас похищают против вашей воли. Постарайся, чтобы в сибирскую ссылку с вами отправилось как можно меньше людей. Отрок сказал, что после вашего исчезновения всех их заключат в крепость как опасных свидетелей. Сделай же так, чтобы все они свидетельствовали об одном: царская семья была похищена неизвестными террористами. Не буду называть имен этих верных и преданных тебе людей, опасаясь, что письмо попадет в злые руки. Скажу лишь, они хотят восстановить справедливость. Они привезут тебя ко мне в Киев…
Да благословит и хранит тебя Господь! Крепко и нежно Вас всех обнимаю. Горячо тебя любящая Твоя старая мама.
Мужчина с угасшим лицом закурил папиросу, сделал пару затяжек, сломал ее в пепельнице и тут же закурил следующую.
Все знали эту привычку. И его младшая дочь Анастасия поспешно засунула в рукав светлого летнего пальто свою крохотную любимицу – собачку кинг чарльз. Дочь Татьяна спрятала рукоделие.
Время настало.
Внезапно вагон грубо дернулся.
– Господи, благодарю тебя, – женщина истово перекрестилась.
Не зная, что тот, в кого они верили так фанатично и слепо, оставил их и не спас.
И решать, жить им или умирать, вновь пришлось той, чьей главной бедой была привычка перекладывать на себя божью ношу.
А начиналась эта история так…
декабрь, 1916
Катерина Михайловна выбежала в заснеженный сад вслед за Машей:
– Подожди!
Опустив голову, прижимая ладони к ушам, лжеотрок бежала к калитке.
– Подожди, это важно… Маша, это так важно для меня!
– Замолчи! Замолчи! Я не могу тебя слышать! – закричала лжеотрок. – Ненавижу тебя…
– Подожди!
Отшвырнув палантин, Катя побежала за ней, догнала, схватила за плечи.
– Ты должна знать, – взволнованно зачастила она. – Я отдала Гинсбургу деньги… Ну, не то чтобы отдала, дала под проценты, минимальные. Это, чтоб никаких подозрений. И мадам Шленской, хозяйке кабаре, где Даша танцевала… дала. Просто так. Дарья ж ее заведенье сожгла, куска хлеба лишила… А она на мои деньги бордель на Лютеранской открыла. Я как лучше хотела, а она – бордель… Еще хуже вышло. Но я старалась… Поверь! Я книги твои читала, чтоб больше никого не обидеть. Чтоб ты простить нас могла… И вернуться. Чтоб не винила себя за то, что, уговорив нас перебраться сюда, помогла двум сукам бездушным людей обирать. Но все равно… Так уж устроена жизнь. Нельзя взять, не отобрав у другого. Одна радость, порой в книгах невозможно найти, кому то, что я покупаю, принадлежать должно. Тем и утешаюсь – незнанием. Так что, скольких я со свету сжила, знает один Господь Бог. Прости меня, Машеточка.
– Спасибо тебе, – проговорила Маша. – Он замолчал.
– Кто? – недоуменно спросила Катерина Михайловна.
– Город, – изможденно сказала лжеотрок. – Я больше не могу его слышать… Я уже почти ненавижу его. А он все просит, все просит… Так просит… А я не могу… Киев не хочет умирать. Но что я могу поделать, если так решил Бог? Прости… – обратила она на Катю глаза. – Ты тоже прости меня, Катюша, что я тебя два года назад принять отказалась. Я знала, Отмены не сталось. А здесь – все счастье твое. Я не хотела тебя счастья лишать раньше срока. Ты права, Катя, это счастье – судьбы не знать.
– Подожди, – Катерина вытянула руку, боясь, что Маша исчезнет, растает в воздухе. – Акнир сказала, если мы не отменим Октябрьскую, ты погибнешь. Почему?
– Я не знаю причин. – Маша безразлично качнула головой – ее смерть явно не показалась ей сколько-нибудь важной проблемой. – Своей судьбы я не вижу. Но помыслить нетрудно. Город умрет! В феврале 18-го сюда придут красные войска Муравьева, и Отроку Михаилу не поздоровится так же, как лаврскому митрополиту Владимиру. Моряки забили его нагайками насмерть, прямо в Лавре, на святой земле…
– Тогда… – все это время Катерина Михайловна покусывала губу, складывая что-то в уме. – Прости меня, Маша, но этого я допустить не могу! Я не верила ведьме. До последнего мига не верила. Больно кругло она дельце обделала. Пришла, всю правду сказала, глаза нам открыла: мол, мы – Киевицы… Об одном умолчала: мы отменяем Октябрьскую, отменяем свою дату рождения, отказываемся от силы, и она наконец получает возможность убить нас. Неужто, мыслила я, она не додумалась до такой комбинации? Мать спасена. Враги убиты. Но ты… когда нутро ее вскрыла, ты меня убедила. Она не желает нам смерти. Ей можно верить. И я соглашусь. Я не позволю тебе умереть. И вернуться назад – не позволю! Тебе не выиграть Суд. Ты слабее ее. Прости уж, что пойду против тебя…
– Не кори себя, Катя, – лучисто улыбнулась Маша. – Ни за меня, ни за бордель на Лютеранской. Господь дал тебе свободу воли. Если ты делаешь что-то от чистого сердца, значит, права. А все остальное – уже воля Божья. Знала бы ты, как я поначалу терзалась, все думала, как мне нашу Отмену исправить. А Бог исправил все сам – за меня . И за тебя исправит, когда ошибешься… От нас же ему только одно надобно, чтобы помыслы наши были чисты.
– То есть, – нахмурилась логичная Катя, – ты думаешь, человек, что б он ни делал, все одно не способен перечеркнуть волю Божью? И даже если мы спасем царскую семью от расстрела, революция все равно будет, разницы нет? Как и тогда, со Столыпиным…
– Именно так.
– И все же разница есть, – задумчиво произнесла Катерина. – Столыпин-то умер. Но Митю моего мы спасли от казни, а душу его – от смертоубийства. А знаешь, – внезапно губы Дображанской размякли, – что я в твоих книгах прочла? Когда Митенька мой премьер-министра в оперном театре подстрелил, за него лишь один человек ходательствовать стал. Знаешь, кто? Жена Петра Столыпина. Она сказала: «Петра Аркадьевича все равно не вернуть. А ему 24 года, он молодой. Он еще может одуматься и стать человеком». Я когда прочитала это, подумала, это ж какую веру нужно иметь, чтоб так вот сказать? Чтоб в месть языческую совершенно не верить, а верить в одну божественную душу людскую!.. А ведь права она была, Митя мой хорошим человеком стал, добрым. Значит, не зря мы все отменяли, не зря! Может, и правда спасти цесаревича, раз ты говоришь, миру от этого никакого худа, окромя добра… Он же ребенок, мальчишка. Пусть мне Господь за него грехи мои спишет. А после, Машеточка, поехали со мной за границу! Рядом со мной с тобой никакой беды не случится. Я ж не зря, уходя сюда, записала тебя своей сестрою двоюродною, – сказала Катя.
И понимать это следовало так: что бы ни случилось, ты будешь под моим покровительством, я тебя не оставлю!
– Что с тобой, Маша? – помедлив, спросила она.
«Он же ребенок, мальчишка…»
Перед Машею плыл давний день, спокойный и светлый. Она сидела на потертом ковре, делавшем таким уютным и добрым пол в ее «детской», и разглядывала фото в библиотечной книжке: Цесаревич Алексей и четыре великих княжны. Четыре красавицы: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Отчего-то именно их – не царя, не наследника! – Маше, наивной студентке исторического факультета, всегда было жалко больше всего.
Четыре девочки… И все такие красивые!
– Просто спасти их… просто спасти, – вопросительно прошептала она.
– Маша, если это противоречит твоим убеждениям, не нужно, не поддавайся на мою провокацию, – испугалась Катерина.
Но спасательный круг был брошен Дображанской слишком поздно – Маша уже шла ко дну. Пред глазами белели девичьи платья, в сердце прорастала жалость, тоска и вера: не может быть, чтобы не обрекать их на смерть было плохо!
И в который раз Маша подумала, что убить пятьдесят миллионов легче, чем одного человека с нежным лицом, с бантом в светлых волосах, с трогательными глазами, взирающими на тебя с фотографии. И недаром висельникам надевали на голову черный мешок, осужденным завязывали глаза перед расстрелом: трудно, немыслимо трудно убить человека, чей взгляд обращен на тебя. Ибо в одном человеческом взгляде таится огромный мир, целая жизнь. Нетрудно вычеркнуть одну единицу. Но убить своими руками целый мир…
И еще Маша подумала, что христианский Бог жесток, как Земля. Милосердный Бог жесток так же, как кажущийся нам патологически жестоким Ленин – оба они легко вычеркивали из жизни людей, объясняя это высшими целями. Для них обоих люди были не мирами, а цифрами, уравнениями, которые необходимо свести к нужному результату.
И еще она подумала страшное: неужели Бог, как и Ленин, как палач никогда не заглядывает нам в глаза? Неужели мы для него единицы, утопленные в крупных цифрах 100 000, 50 000 000? Иначе, как бы он мог так легко…
Смотрит ли Бог нам в глаза?
Думать дальше было страшно совсем. Потому она быстро сказала:
– Если сейчас я откажусь их спасти, значит, я мало верю в Него. Значит, я сомневаюсь… боюсь, что замысел всемогущего Господа может поколебать один мой поступок… добрый поступок. А значит, я верю, что добро – это зло. Но это не так, Катя! Мы просто спасем их. И поможем им сбежать за границу.
– Хорошо, – с сомнением сказала Катерина Михайловна. И внезапно поймала себя на странном желании: пусть Маша передумает, настоит на своем твердом решении и уйдет в Пустынь, непреклонная, убежденная в своей правоте.
Катя не была уверена, что своим желанием сделать добро она не причинила Маше какое-то еще неясное зло.март 1917 года
– Только не мешай мне сейчас. – Акнир воткнула в землю флажок, быстро коснулась пальцем верхушки древка, вытянула руку и пошла по кругу.
Даша Чуб покосилась на удаляющуюся спину ведьмы и осторожно похлопала поместившийся в центре потенциального круга самолет «Илья Муромец» по лаковому боку.
– Слышишь, Илюшка, – быстро прошептала она, – ты же не злишься, что я тебя стукнула?
Самолет не ответил, что было в порядке вещей. Но авиатрисса, по-видимому, рассуждала иначе.
– Илюша, – тихо позвала она. – А, Илюша… Ну ладно, не надо делать «петлю». Как насчет псевдотарана? Молчишь? Все молчишь… Не отвечаешь. Проклятие!
– Что? Какой силы?! – прервав ритуал, девчонка бросилась к Чуб. – Кто ж мог тебя? Неужели Демон?..
– О чем ты вообще? – отпрянула Чуб.
– Ты сказала, – вид у ведьмы был такой перепуганный, будто пилотессу только что ранили насмерть, – на тебя наложили проклятье.
– Да я просто так сказала, – отпрянула та.
– Так просто? – Акнир заморгала неверящими глазами. – Как же ты можешь? Ты ж – Киевица. Только слепые произносят слова бездумно, не понимая их силы. «Чтоб у меня язык отсох», «Что б тебе пусто было». Фу, напугала… Хорошо хоть ты силой своей не владеешь. Придется начинать все сначала, – ведьма вернулась к флажку. – Круг Киевицы – тончайшая вещь! Твой самолет станет несбиваемым.
– Вообще-то, – провозгласила пилотесса, пытаясь подольстится к обиженной машине, – наш Илюшка и так почти несбиваемый! За всю мировую войну немцы всего двух «Муромцев» сбили. Отсюда и байка про воздушную крепость из непрошибаемого типа материала… А он просто в бою никогда не падал, бывало, что и с семьюдесятью пробоинами домой возвращался, на одном моторе. Правда, Илья?
Авиатрисса подождала ответа. Не дождалась. И принялась интенсивно чесать нос – от этой, прихваченной из ХХІ века неаристократичной привычки, свидетельствующей об интенсивной работе мысли , она так и не сумела избавиться. Да и не сильно пыталась.
– Слушай, я тут вообще так подумала, – объявила она, как водится, без перехода, – раз мы Киевицы, чего так напрягаемся? Книжки читаем, дипломатничаем… Зачем вообще куда-то лететь? Почему нельзя очертить непробиваемым кругом весь Киев? Или заранее убить Ленина?
– Можно… Просто убийства нет в мамином плане. А значит, оно нам ничуть не поможет.
– Почему?
– В том и хитрость вашего Бога: он видит за какую ниточку дернуть, чтоб переиначить мир, а вы, слепые, нет. Да и мы, веды, – не всегда. Нам вечно кажется, что правда лежит на поверхности, что достаточно убить царя, убить Ленина, убить или сменить президента, и жизнь станет прекрасной. Но нет… Готово! – Акнир вернулась к флажку с другой стороны и радостно ударила по нему пальцем. – Давай посмотрим, что там внутри.
– Внутри все зашибись, – уныло сказала Даша.* * *
В свое время внутреннее содержание первого монументального изобретенья Сикорского – самолета «Гранд»-«Русский Витязь» – произвело изрядное впечатление на чуткого к техническим новшествам Николая ІІ. Известный фото– и автолюбитель, император самолично осмотрел обширную кабину пилотов и с комфортом обставленные комнаты, поместившиеся в брюхе аэроплана. И изъявил желание совершить полет, да не успел.
Но превосходящий по размеру родителя потомок «Витязя» – богатырский «Илья» – был готов воплотить неосуществленное желание государя!
Забравшись внутрь самолета по веревочной лестнице, Акнир придирчиво изучила все помещения: туалет, спальню, гостиную с плетеными креслами. Опробовала электрический свет. Хмыкнула, углядев в кабине пилота метлу.
– Это вместо парашюта, – пояснила Чуб. – Метла даже лучше: на ней, если че, еще одного человека можно спасти. Может, – внесла рацпредложение она, – тут коврик какой постелить, подушечек разных? Царская семья как-никак. Я не понимаю вообще, как мы их после будем хранить. Без слуг, без нянек, без фрейлин. Они ж делать ничего не умеют.
– Они все умеют. – Вернувшись в гостиную, Акнир водрузила на стол небольшой саквояж. – Царица получила англо-немецкое воспитание. Ее дочки – великие княжны – всю жизнь спали без подушек на солдатских кроватях и сами штопали себе чулки.
– О’кей, их проблемы.
Чуб подошла к разложенной на плетеном столе карте Империи и перешла к проблемам своим.
– Итак, Царскую семью вывезут из Царского же Села на двух поездах с зашторенными окнами и конспиративною вывеской «Японская миссия Красного Креста», – повторила она выученный назубок жизненно важный урок. – Поезда пойдут на максимальной скорости. Узловые станции будут оцеплены войсками, публика удалена. Но нам на все это насрать… Потому как я должна подхватить их вот здесь, – ткнула летчица пальцем в отмеченную красным фломастером точку.
– Идеальное место, – в который раз уверила ведьма, – ни домов, ни людей, ровное поле, как на аэродроме.
– Царь с женой, детями, графьями и слугами будет в первом поезде. Во втором поедет охрана. Тут непонятка. Допустим, я подлетаю к царскому составу и торможу его. С этим я справлюсь. Наверное…
Чуб посмотрела на копию знаменитой картины Васнецова «Богатыри», по давней летной традиции висевшую в гостиной «Ильи». Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич…
Четыре года тому, когда Игорь решил дать любимому детищу имя первейшего богатыря на Руси, на авиаконструктора обрушился шквал упреков – патриотизм был не в чести. Любить родину считалось в интеллигентских кругах дурным тоном. Но, вскормленный Киевом, в Свято-Печерской Лавре которого по сей день лежат мощи святого Ильи Муромца, Игорь Сикорский дал своему кораблю не просто имя – он дал ему душу защитника вечной земли.
– То есть ты сомневаешься? – спросила Акнир.
– Вовсе нет. Я расписала атаку. Просто…
Чуб замолчала, не решаясь сознаться даже себе, что как только абстрактное предложенье похитить семью обросло реальной конкретикой , она усомнилась в истинности комплимента Акнир: мол, их великолепная Даша справится со всем в одиночку.
«Вспомни, даже богатырей было трое!»
– Просто, – перепрыгнула через неприятную тему она, – пока я буду запихивать их в самолет, из второго состава охрана повыбегает!
– Непременно повыбегает. 337 солдат и 7 офицеров, – и не подумала утешать ее ведьма. – Но ты их остановишь.
– Понятно, – вздохнула Даша. – Можно, конечно, взять с собой бомбы, – неуверенно предложила она . – У меня есть. Тогда я сначала разбомблю второй поезд. Потом взорву путь впереди и остановлю первый. Если так, я и правда справлюсь сама…
Ведьма не солгала – лишь забыла уточнить, что для этого пилотессе придется разом убить более трехсот человек. Да не врагов, а своих земляков…
– Именно этот блистательный план мы и предоставим императрице. – подмигнула Акнир. – В комплекте с твоим прославленным именем он ее убедит.
– А на деле?
– Забудь. Лишь слепые убивают без надобности! – девчонка заговорщицки вытащила из саквояжа нечто округлое, упрятанное в тряпичный узелок, перевязанный сверху веревочкой. – Знаешь, что это?
– Знакомый запах, – Даша принюхалась. – Мать моя! – вскричала она, повстречав давнюю подругу. – Присуха! Приворотное зелье! Рассыпчатое.
– Знаешь его? – неподдельно поразилась Акнир.
– Ногти с правой руки, – продемонстрировала знания Даша, – иголки сосны, лепестки роз, еще что-то… Варить три часа, отжать, посыпать черным перцем, добавить бумажку с именем присушиваемого… Я такое делала!
– Да? И сработало? – недоверчиво уточнила ведьма.
– А то! Еле жива осталась, – похвасталась Даша.
– Ты растешь в моих глазах! – веда взглянула на Чуб с явным уважением.
– А еще, – добавила та, – я одного парня к Маше приворожила. Так он от огромной любви аж под колеса машины спасать ее бросился. А в машине той Катя сидела. Она его и переехала. Но он так сильно полюбил, что и после смерти за Машкой ходил. И между прочим, редкий красавчик был, даже фамилия у него была Красавицкий.
– И ты еще спрашиваешь, кого вы с Катей убили, – пожала плечами юная ведьма. – Спорю, когда он скончался, ты и не смогла войти в церковь.
– Но это ж не считается!..
– Ты сварила зелье, он умер – чего тут считать? – Акнир и не думала ее упрекать: – У тебя явный любовный талант. Превосходно! Нам таких вот гранат с Присухой нужно не меньше трех сотен наделать. Я и не надеялась, что мне кто-то поможет. Да и практика очень важна. Какой у сухой Присухи был радиус действия?
– Метров двести, а то и больше, – припомнила Чуб.
– То, что надо! – обрадованно кивнула девчонка. – Присня начинает действовать ровно через 13 секунд. Еще тринадцать нужно, чтобы человеческий мозг успел осознать изменения. Это для тех, кто имеет привычку пользоваться мозгами. Армия к таковым не относится, они привыкли подчиняться…
– Какая армия? Я не поняла, кого к кому мы привораживать будем? – остановила ведьму напарница.
– Царскую охрану к царю! – огласила Акнир. – Николаю ІІ.
– Нет, – снова скуксилась летчица. – Это гнилая идея. Если в Николая ІІ одновременно влюбятся триста солдат, они просто растерзают его или изнасилуют… Да и что мы будем писать на бумажке? Имена охранников?
– Вряд ли найдется историк, способный раскопать имена трехсот неизвестных солдат. Но я ж как-никак чароплетка, – усмехнулась ведьма. – Я переплела чары: достаточно сварить вместе с прочими ингредиентами его личную вещь, и Николая полюбят все, причем, как царя! Как помазанника божьего! Есть у меня подходящая штучка. – Ведьмин сак предъявил массивный нательный крест на тонкой цепочке. – Крест Распутина. Принадлежал Николаю ІІ. Мама купила!
– А если фуфло? – насторожилась Даша. – Продали как царский крест. Так часто разводят.
– Мою маму?! – брови Акнир взметнулись. – Чтоб все в нашей жизни было таким же истинным, как этот крест. Она ж Киевица!
– Понятно…
Чуб вновь почесала нос, прислушиваясь к дозревающему решенью. За шесть проведенных в Прошлом лет Даша отвыкла сомневаться, привыкла к победам и даже не сразу узнала это скребущееся где-то внутри чувство неполной уверенности.
Но, как положено в сказке, ударившись оземь вместе с Ильей, ведьма перевоплотилась. Пришлось.
– Короче, – нехотя проскрипела она. – Если ты летишь со мной… ты должна знать. Илья меня не любит. Мы можем разбиться еще до похищения. Мне все равно. Будет больно – пройдет. Но ты не Киевица. Возьми. – Чуб расстегнула ворот рубахи, сняла с шеи цепь в виде змеи. – Уроборос. Он защищает даже от смерти.
Взгляд Акнир изменился.
– Благодарю, – тихо сказала она. – Благодарю за то, что ты веришь мне. Но мне хватит метлы. А кроме того, – рассмеялась ведьма, – мама верила в Трех! Ты не можешь не справиться.
– Почему?
– Потому, что на всем белом свете сделать это сейчас можешь одна только ты. Ни один военлет на такое не пойдет. Либо ты, либо никто… Понимаешь? Не грусти… Скоро Третья принесет нам добрую весть!
– Откуда ты знаешь?
– Ты мне сказала, – улыбнулась Акнир. – Как иначе 13-го царица придет ко мне в гости? А это еще что за гость, нежданный, незваный? – пропела она.
Чуб оглянулась: в дверном проеме исчезла светловолосая голова в гимназической фуражке.
– Санька? – признала фуражку она. – Чего подслушиваешь? Это Саня – дружбан мой. Каждый день прибегает. Смешной ребенок.
– Я – не ребенок! – оскорбленный гимназист появился из-за двери и недружелюбно нахмурился на незнакомую девчонку. – И ничего я не подслушиваю… Гляжу, «Муромец» ваш, дверца открыта, вот и заглянул узнать, тут вы али где. А то, что царица к вам в гости захаживает, – добавил он значимо, – я и сам знаю. И во-още, – протяжно выпятил Саня прилипшее к его языку Дашино фирменное словцо, однозначно свидетельствующее об установлении меж ними короткой дружбы, – я не просто так пришел, а по делу!
– Ну говори, что за дело, – расслабилась Чуб.
– У вашего дома филер поставлен, – горделиво оповестил гимназист. – Уже не первый раз появляется.
– С чего ты взял, что он филер? – хмыкнула летчица.
– А кто же еще? – Саня дернул плечом, обиженный ее недоверием. – Был бы гостем – в дом бы зашел. Или в дверь постучал. А этот приходит, сторожится, оглядывается. По всему видно, вынюхивает.
– Так это мужчина? – Акнир встала, и в ее быстром движении Даша угадала испуг.
– Ясное дело, не баба, – свысока сказал гимназист.
– Молодой, старый?
– Старый уже, – нервозная реакция неизвестной девчонки заставила Саню преисполнится мальчишеской важности. – Ему лет под тридцать.
– Блондин, рыжий, брюнет?
– Чего? – переспросил мальчик.
– У него такие волосы, как у меня? – с усмешкой перевела Даша, накручивая на палец свою белесую прядь.
– Не-а, темнее.
– Как у Кати?
– Светлее намного…
– Огненные, как у клоуна в цирке?
– Не-а…
– Шатен. – Акнир успокоилась. – Это не наш фигурант. Но прояснить не помешает. Послушай, – обратилась она к гимназисту, – если этот человек снова придет, проследи за ним. Узнай, где он живет.
– С чего это мне тебя слушать? – Саня надменно посмотрел на девчонку немногим старше его.
– Узнаешь, кто он, я тебя на самолете прокачу, с ветерком! – щедро пообещала авиатрисса.
Саня встрепенулся всем телом, распахнул глаза, схватил воздух ртом, вбирая невозможную радость:
– Я мигом все разузнаю!
– Если, конечно, обратно вернусь… – пасмурно прибавила Чуб. – Чую, плачет по мне Петропавловская крепость! Подберут и посадят… Ну ладно, была не была.
Она вновь посмотрела на уменьшенное полотно Васнецова. На трех богатырей. Илья, коренастый, густобровый, смотрел из-под рукавицы в дальнюю даль, его губы были суровы.
«Не ради рекорда… – мысленно попросила она. – Ты ж слышал. Либо мы, либо никто…»
Глава десятая, в которой Киев потрясает новость об убийстве
17 декабря, 1916
Тем утром, выслушав доклад адъютанта, князь Сандро помолчал с полминуты, словно ожидая, что тот скажет что-то еще и, не дождавшись, добавил с внезапной уверенностью:
– Старец несомненно убит.
– Не могу знать, Ваше Императорское Высочество, – белесое лицо адъютанта отразило сложную гамму чувств.
– Говорите, – расшифровал мимику князь.
– Не уверен, что это имеет прямое касательство к делу, но… нынешним утром мой извозчик сказал то же самое. Люди на улицах только о том и говорят и поздравляют друг друга… Однако я склонен расценивать всеобщее ликование, лишь как несомненное свидетельство желания народа покончить со старцем. Поскольку никаких официальных известий…
– Я вот опасаюсь, не замешан ли тут кто-то из членов императорской фамилии, – по непонятным причинам страх, выхолодивший сердце князя Сандро оказался сильнее здравого смысла. И еще, невесть почему, он подумал о своем зяте – Феликсе – и забарабанил нервными пальцами по столу.
Где-то нервозно вскрикнул паровозный гудок. Киевское обиталище князя – его личный поезд – стоял на запасных путях вокзала.
Если муж племянницы Николая ІІ, дочери родной сестры Государя великой княжны Ксении, организовал убийство…
– Как я уже докладывал вам, – тем временем, завершил адъютант, – на данный момент достоверно известно одно. В ночь с 16 на 17 декабря Григорий Распутин исчез со своей петроградской квартиры на Гороховой улице. И никто из людей, в чьи обязанности входило охранять его жизнь, не в состоянии объяснить, когда, как и куда он девался…
* * *
В сердцах сдернув с плеча лиловое боа, Изида Киевская повернулась спиной к дому № 13 и возмущенно забарабанила в дверь каблуком ботинка. Все прочие средства были испробованы: она звонила в звонок, стучала в стекло…
«Хамство какое!» – задыхаясь, орала обида.
«Сумасшествие, – перекрикивала ее параллельная мысль. – Все, как он рассказывал мне…»
Все было в точности так, как рассказывал ей гимназист!
Желая достучаться до своих соучастниц, Чуб споро оббежала маленький дом, и все шесть окон безмятежно предъявили ей пустые помещения: кухню, кабинет, спальню, гостиную с безжизненными диванами, креслами, одиноко стоящим в углу пустым стулом и одноногим круглым столиком с бездыханной бронзовой пепельницей в центре.
«Где же они заседают? В подвале? Ушли? Не дождались! Ну, хамство… Кто во-още царя будет спасать? Я! Я! Я тут жизнью рисковать собралась! А они меня…»
Сим утром, марта 1917 года, наученная юною ведьмой Изида вышла из дома на Большой Подвальной именно так, как положено выходить Ясным Пани. Ну, положим, не совсем так: навряд ли настоящие Киевицы с запинкой читают по бумажке заклятие времени – но это нюансы. Шагнув за порог в рыхлый и мягкий снег, Чуб угодила из марта прямо в декабрь. И, дабы окончательно удостовериться в своем новом умении, дернула первого подвернувшегося под руку прохожего:
– Эй, парень!.. Какое сегодня число?
– Изида Андреевна? – обмер остановленный белокурый молодой человек в форме почтового служащего, и глаза его сделались круглы, рот восторжен, а кисти взметнулись. – 17 декабря! Великий день. Величайший! Я поздравляю вас!
– С чем? – опешила Даша.
– Распутин убит! Вы разве не знали? Весь Киев гудит!..
– Как… когда убит?
– Прошлою ночью!
– А сегодня какое число?
– 17 декабря, – повторил молодой человек.
– А год какой? – занервничала Изида Андреевна.
– 1916-й, – сказал остановленный уже без прежнего энтузиазма и неуверенно добавил: – От Рождества Христова. Автограф позвольте?
– Не до автографов, парень!!!
Знаменитость затрясла головой – не помогло. Умопомрачительная путаница со временем, в которую ввергло их появленье Акнир, от энергичного головотрясения только превратилась в окончательный хаос.
Понималось одно: случилась трагедия. Распутин убит, хотя не должен… А через пару минут, понадобившихся на преодоленье невеликой дистанции от Большой Подвальной до Малой, трагедия помножилась на сумасшествие (или сумасшедшее хамство!): на Малоподвальной, где была назначена сходка, будущей спасительнице царя и отечества никто не открывал.
Подняв колено повыше, Земплепотрясная со всей дури ударила в дверь. Нога ушла в пустоту – утратив опору, пилотесса полетела на спину. Спина повалилась на нечто живое, предупредившее падение.
– Ты все же пришла? – сказала Акнир, поддерживая полуупавшую Дашу под мышки.
– Какого хрена? – авиатресса вскочила на ноги. – Я полчаса тарабаню!
– Пятнадцать минут. – Акнир притворила входную дверь.
– Ты что, время засекала? – Даша почти лопалась от возмущения.
– Пятнадцать минут назад я выходила – тебя еще не было. Ты опоздала на полчаса. Я же просила прийти вовремя!
– Ты что, из воспитательных целей мне двери не открывала? – окончательно окрысилась Чуб. – Да кем ты себя вообще возомнила? Вы здесь вообще из-за кого собрались? Из-за меня! Обсудить мой план спасения. И вы меня же и не пускаете… Еще раз так поступишь со мной и… я вообще хочу посмотреть, как вы без меня чего-то отмените!
– Я не слышала стука, – постно пояснила Акнир. – Идем скорее…
– Как не слышала? Где вы сидели? Я подходила к окну. Гостиная пустая.
– Она всегда пустая, – нетерпеливо сказала Акнир.
– А вы где?
– Мы в другом месте, – с нажимом произнесла юная ведьма. – Мы на Малопровальной. Сечешь? А на Большой провальной стоит Башня Киевиц. Ты забыла закон? В башне на Большой подвальной способен жить кто угодно, любой слепой! Но войти в настоящую Башню может лишь Киевица…
– Мы в провале? – наконец догадалась пришедшая. – В другом измерении?
И, пройдя в гостиную вслед за Акнир, немедля убедилась в этом сама.
На представлявшемся из окна совершенно пустым одноногом столе лежало множество книг. Придерживая рукой исчерканную страницу одной из них, Катя подняла на опоздавшую спасительницу возмутительно-возмущенный взгляд. Маша сидела от всех в стороне, на выявившемся совсем не пустым, одиноком стуле. Судя по отнюдь не бездыханной – дымящейся окурками пепельнице, Чуб опоздала на целых семь сигарет. Судя по вызывающе недовольному Катиному взору, лжеотрок успела рассказать им о встрече со вдовствующей императрицей, а Акнир – поделиться с присутствующими планом похищения.
– Ну, что там с царицей? – бурчливо спросила Чуб, садясь на диван.
– Она напишет сыну письмо и предупредит его о вашем появлении, – сухо и коротко сообщила ей Катя.
– Молодца, Машка! – загорелась пилотка, на мгновенье забыв, что перед нею «не Маша». – И как ты ее убедила? Что ты ей сказала?
– Сказала, чтоб она написала сыну письмо, – повторила Катя .
– Ну, а царица?
– Она напишет его.
– И она ее так просто послушалась?! Машка у нас местная святая теперь, все слушают ее, открыв рот. А самой лишний раз рот открыть уж слабо?!
Чуб завелась с полоборота, не успев осознать почему. Потому ли, что злость еще бурлила в ней, требуя выхода? Потому ли, что Катя говорила со спасительницей, как с опоздавшей, а Маша не желала повторять историю дважды? Или Дашу раздражал сам ее вид, безучастный и постный, согбенная голова, надвинутая на брови дурацкая шапка, мешающая рассмотреть лицо. Все, все в этой новой – монастырской – Маше вызывало у Чуб глухое неприятие.
Включая и то, что в ответ на выпад лжеотрок не пошелохнулась, как будто кричащей и обиженной Даши не было в комнате, а у Кати сделался такой мрачный вид, точно она не знала, кого убить первой. И даже Акнир предательски замахала руками, желая заткнуть летчице рот.
– Конечно, послушалась, все ее слушаются, – подозрительно сладко сказала ведьма, продолжая адресовать Даше свои усмиряющие манипуляции.
– А кроме того, – Катя стукнула по книге бронзовым ножом для бумаг в виде летящей женской фигурки, – наше предложенье соответствует ее собственным планам. Императрица сама вынашивала идею воссоединения с сыном и желала, чтоб новая власть позволила ему перебраться в Киев с семьей. Теперь, если позволишь, мы поговорим о более насущных проблемах. Похищение на грани провала.
– Я знаю! – пришедшая содрала шляпку с растрепанной беловолосой макушки и с должным эффектом швырнула ее на диван. – Распутин убит! Весь Киев говорит. Вы в курсе?
Короткая пауза, воцарившаяся в гостиной 13-го дома, показалась Изиде вполне удовлетворительной реакцией на ее сообщение. Но секунду спустя поджатые губы г-жи Дображанской заставили ее усомниться.
– Дарья, ты в каком мире живешь?
– Ну…
На этот вопрос с подковыркой трудно было угадать верный ответ. Чуб родилась в ХХ веке, жила в ХХІ, проснулась в марте 1917, прошлась по декабрю 16-го года и угодила в провал.
– А что?
– Про убийство Распутина, – леденисто уведомила ее г-жа Дображанская, – Киев отговорил еще в декабре. В январе следствием было установлено, что никакого убийства не было… Хотела б я знать, где в это время была ты?
– В декабре? – заколебалась Даша. – В том, который не сейчас, а был раньше?..
– Дьявол с ним, с декабрем. Неужели ты даже не сочла нужным прочесть новую историю? – осведомилась Катя, приподнимая принесенный юной ведьмой учебник 5 класса. – Тут же, как для детей, все написано.
Даша быстро взглянула на Акнир.
– Так и должно быть, – кивнула та. – В ночь, когда Феликс Юсупов и честная компания запланировали убийство Распутина, старец внезапно пропал. Исчез из Петрограда.
– Просто пропал? – сощурилась Чуб. – Но почему тогда все говорят об убийстве? Все на улицах!
– Де жа вю, – серьезно сказала Акнир. – Слепые именуют так непонятное чувство. Они заходят в незнакомый дом и вдруг понимают, что были здесь. Они помнят обстановку и расположение комнат, хоть память уверяет их, что они не были здесь никогда… Но память врет. В прошлой версии Распутин был убит, эта новость потрясла всю страну. Понимаешь?
– Нет, – не стала врать Даша.
– Кажется, да… – сказала Катя. – Выходит, что де жа вю…
– Де жа вю всегда свидетельствует о том, что кто-то из нас ПЕРЕПИСАЛ ИСТОРИЮ. Смотрите…
Акнир взяла со стола чистый лист и нарисовала на нем карандашом траурный крест. Затем наскоро стерла изображение ластиком и изобразила поверх лучистое солнце. Солнце было видно отчетливо, но остатки прежнего крестообразного изображенья все равно сохранились на белой бумаге.
– Теперь понятно? – протянула она Даше бумагу. – Вы изменили историю, стерли ее. Но старый рисунок все равно проступает.
– Вот оно как… – черты Катерины Михайловны смялись в волнении. Она явно хотела что-то спросить, но подавила желание.
А на Дашу немедленно накатило де жа вю. Это уже было! Когда-то давно Маша так же – на наглядных примерах – объясняла им с Катей законы Прошлого времени. А нынче сидела в углу в ставшей фирменной позе – руки в замке, колени прижаты друг к дружке – непонятная, чужая.
– Распутин просто пропал, – завершила Акнир. – Но мысль о его смерти проступает сквозь новый рисунок в сознании всей страны.
– Ну и куда же он делся? – Даша обратила вопрос в угол. – Ведь это же ты предупредила его?
Похожая на застывшую статую лжеотрок опять не удостоила пилотессу реакции.
– Очередная загадка истории, – вновь ответила вместо нее Катерина. – Больше старца не видел никто. Версий много. Известно одно, месяц спустя жена Николая ІІ получила от своего любимца письмо. Однако содержанье послания никому не известно. После ареста императрица Аликс сожгла его вместе с другими бумагами.
– То есть она вообще так и будет молчать? – спросила Даша, указывая пальцем на Отрока и ощущая новую неконтролируемую порцию гнева. – Мне кто-нибудь че-нибудь вообще объяснит, или я могу себе домой возвращаться? Если Распутин жив, почему похищение на грани провала?
– Спасибо, что наконец соизволила дать мне возможность ответить, – сказала Катя, и застывшая маска недовольства опять овладела ее лицом. – Я нашла нестыковку, – Катерина посмотрела на Машу. Встала. Возложила руки на две книги: «Историю революции» и «Историю, 5 класс». – В обеих историях сказано, что в марте 1917 вдовствующая императрица уедет из Киева в Крым. Этот факт остался неизменен…
– Ну, так давай изменим его. Пусть Маша попросит ее остаться! Кто вообще вдовствующая императрица такая, чтоб ей отказать… – с вызовом предложила авиатресса.
– Вдовствующую императрицу не нужно просить, – отрезала Катя. – Мария Федоровна и так не желала покидать Киев до последнего часа, говорила, что ее увезут из Города лишь силой, она предпочитает оказаться в тюрьме… По воспоминаниям князя Сандро, императрицу пришлось почти нести на вокзал. Проблема в другом: против царской семьи началась настоящая газетная травля. Их вынудили сбежать.
– Кто? – насторожилась Чуб.
– Новоиспеченный Совет рабочих и солдатских депутатов, – вздохнула Акнир. – Они посчитали, что популярность царицы, и особенно ее дочери, великой княгини Ольги, среди простого народа мешает им проталкивать свои идеи. Как доказать, что все Романовы – кровопийцы, когда родная сестра царя сама раненым кровь утирает…
– Я знаю. Мне Саня рассказывал, – нетерпеливо оборвала пилотесса. – Он в княгиню Ольгу влюблен. Ольгу в больнице ужасно любят.
– Собственно, по этой причине ей и ее матери запретили появляться в лазаретах и госпиталях, – мрачно сказала Дображанская. И Даша вдруг осознала: Катя недовольна не ею, а самою собой. – Совет издал указ: все члены бывшей императорской семьи должны покинуть Город, и комиссар Временного правительства пошел у них на поводу… Марию Федоровну просто не пустили в госпиталь ее имени – закрыли дверь у нее под носом.
– И что же теперь? К кому теперь царь в Киев поедет, если его мамы тут нет? – растерянно спросила Чуб. И запоздало поняла, почему героиня сегодняшнего заседания отнюдь не она. Поняла, какой вопрос прозвучал за минуту до ее появления, кому он был адресован и кто полчаса мешал Кате и Даше услышать ответ.
Все посмотрели на Машу. Катя – с тревожным раскаянием. Акнир – с настороженной опаской.
– Ты ж знаешь, – заговорила девчонка, – всю жизнь вдовствующая императрица стояла во главе Красного Креста. Из-за нее Киев и стал, по сути, огромным лазаретом. Здесь сотня больниц, тысячи раненых, офицеров, солдат, и все они знают царицу и ее дочь не понаслышке. Достаточно Отроку Пустынскому громко сказать о несправедливом изгнании Семьи – солдаты сами поднимут бунт против Совета солдатских депутатов.
– Но если ты сделаешь это, – быстро добавила Катя, – худшие опасения большевиков подтвердятся…
Прочее было понятно и так. Это и станет началом того самого плана, согласно которому царица-мать должна стать знаменем взбунтовавшихся войск, и с которым лжеотрок была совершенно не согласна.
– Хорошо, я скажу. – Маша поднялась со стула, но так и не подняла взгляд. – Мария Федоровна останется в Киеве. Простите, мне пора… – лжеотрок пошла к двери, опустив очи долу. Но, поравнявшись с пилотессой, внезапно остановилась, приподняла голову.
И Даша отступила, увидев перед собой два страшных зрачка – казалось, что зелень Машиных глаз присыпана снегом и скована льдом.
– Спасибо тебе, – сказала лжеотрок.
– За что?..
– За то, что ты такая, как прежде. Опаздываешь. Кричишь… Ты дала мне время увидеть. Мой поступок ничего не изменит. Революция все равно будет. – Снежная белизна угасала, обретала цвет – страшные, ледянисто-пустые глаза Отрока Пустынского оттаивали, словно замерзшие окна весной. – Будь с ним, пока можешь. Не повторяй мой путь, пока можешь.
– Ты… о нем? – внутри Чуб головокружительно екнуло. – Но он просто друг…
– Возьми, – Маша быстро вложила в руку Даши большой длинный ключ. – На Фундуклеевской книга. Прочти.
Лжеотрок тенью скользнула за дверь.
Озноб помчался по Дашиной коже, еще не поспев осознать смысл Машиных слов, пилотесса всем телом ощутила порожденные ими перемены.
«Спасибо… Будь с ним, пока можешь».
Это все меняло! Все. Нужно было лишь разобраться, что именно… Но сделать это Чуб не успела.
– Что ж, собранье закончено, – довольно объявила Акнир. – «Илья» готов к полету. Поэтка, сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? 1 августа мы должны быть там.
– Часа два, так чтоб накраситься… То есть как 1 августа? – дошло до Даши. – А ничего, что сейчас… Что у нас сейчас декабрь или март? Я не могу ждать полгода. Я должна идти на войну. А нельзя их украсть побыстрее?
Акнир с укором посмотрела на Чуб.
– Куда уж быстрее? – ведьма щелкнула пальцами. – Июль, плиз!
1 августа 1917 года
Ехать было приказано на максимальной скорости, и немолодой машинист напряженно смотрел перед собой.
Внезапно ему показалось, что он ослеп – нечто непонятно-огромное, страшное, как девятая египетская казнь, перекрыло стекло.
И исчезло.
– Что это было? – екнуло застывшее сердце.
– Сам не пойму, – голый по пояс, измазанный, как черт, кочегар перекрестился черной от сажи рукой. – Прямо рядом проскочило…
– Аэроплан, – машинист высунулся из окна.
За три года войны ни он, ни тем паче кочегар не успели свыкнуться с существованием летательных аппаратов такого размера.
Громадная, громыхающая, как грозовая огненная колесница Ильи Пророка, летающая машина стремительно пересекла им дорогу на расстоянии двух сотен саженей.
– Чего же он делает? – крестясь, простонал кочегар.
Летящее чудище исчезло из виду и с минуту спустя появилось опять недалеко впереди.
– Чего он делает-то?!
– Господи святы! – прошептал машинист.
Сомнений больше не оставалось. Воздушный гигант летел прямо на них, неумолимый , он был еще далеко. Но его намерения не вызывали сомнений. Простирая огромные крылья, пугающее безумное чудище двигалось точно по линии рельс, намереваясь протаранить их поезд, поцеловать паровоз!
«Царя, он хочет убить царя. При столкновении состав сойдет с рельс…» – вспыхнуло в голове машиниста.
– Тормози, Анисий Петрович! Тормози, Христа ради… – закричал кочегар. Зажмурившись, он упал на пол и зачастил. – Боже, спаси и сохрани…
Машинист непроизвольно нажал на ручку. Состав сбавил скорость.
«Что с того… поезд все равно не может свернуть…»
Рокоча четырьмя моторами, воинственная махина богатырского титана «Ильи» стремительно приближалась.
Но прежде чем открыть двери и прыгнуть вниз в слепой надежде спастись, Анисий Петрович остановил состав, даря своим пассажирам хотя бы слабый шанс на спасение…* * *
«Илья» слушался ее, слушался! Его огромное тело слилось с Дашей. Огромный «Муромец» стал легче метлы, послушней руки…
Сначала Чуб проскочила между двумя поездами, вынудив последний порядком убавить скорость, дабы второй состав не врезался в царский и не сковырнул его с рельс.
Затем пошла на псевдотаран. Она была готова к падению… Но не боялась!
«Ты ж слышал, либо мы, либо никто. Так хоть будем знать, что пытались…» – сказала она «Илье», направляя его на смертельную психологическую атаку.
И вдруг ощутила Его.
Не легкость бесстрашия, не веру в свою неуязвимость, не благосклонность неба, а силу – чужую, незнакомую, разделенную с ней, сосредоточенную силу мудрого воина, готового принять смерть на поле брани. Готового сражаться до смерти!
Она больше не вела самолет – он вел ее за собой на подвиг ратный.
Испуганный паровоз трусливо гудел – он должен был сдаться. Но увернуться от столкновения с ним в последний миг, сделав поворот на таком расстоянии от земли, было почти невозможно. Разве только без крена – его называли штабс-капитанским. А это – считай, что верный конец. Из-за него, штабс-капитанского, тот, единственный «Муромец», и разбился в 1916…
«Я даже не обижусь, если ты сейчас…» – подумала Даша.
Но «Илья» развернулся. Посрамленный паровоз затормозил, высекая искры из-под колес. Машинист выпрыгнул, покатился по полю…
«Спасибо, Илья, спасибо, родненький мой!..»
Даша выскочила из самолета первая. Придерживая висевшую на шее массивную полотняную сумку, она помчалась ко второму составу. На ходу обернулась. Тоненькая фигурка в черных джинсах, походных ботинках и черной маске бежала к царскому поезду с двумя револьверами в руках. Чуб была разодета точно так же, с тем лишь отличием, что, по понятным причинам, маску на ее лице заменяла марлевая повязка.
Она быстро поморщилась, проникшись словами Акнир: «Зачем нужна сотня, если у нас есть одна наша поэтка?»; она предпочла бы для красоты и законченности картины совершить похищение царя в одиночку.
Из похожих на прямоугольные коробки вагонов второго состава выскочили два десятка солдат. Быстро прикинув траекторию их движения, Даша выхватила из сумки «гранату» с Присухой, сорвала веревку с узелка и швырнула как можно дальше от себя. За первой последовало пять таких же посылок.
«Раз, два, три…» – начала она счет, отбегая назад.
Раздались выстрелы. Непонятная остановка посреди поля получила разъяснение в виде громоздкого аэроплана и одного-единственного похитителя, явившегося на верную смерть.
«Пять, шесть, семь…»
Дюжина солдат одновременно прицелились в нее.
«Восемь, девять, десять…»
В ответ Даша швырнула в них еще две «гранаты».
– Ложись!
Кто-то выстрелил, кто-то упал на землю, спасаясь от взрыва. Но «гранаты» не взорвались – из ситцевых тряпиц высыпалась сухая трава.
– Не стрелять! – крикнул офицер.
Зачем убивать безоружного одиночку-безумца, забрасывающего их какой-то смешной ерундой? Разумнее узнать, какой-такой идиот затеял сие обреченное похищение.
«Одиннадцать, двенадцать, тринадцать»
– Взять живым! – крик офицера вышел неуверенным.
Никто не спешил выполнять его приказ, солдаты замерли. Воспользовавшись их промедлением, Даша принялась интенсивно опустошать свою сумку.
– Господи, – болезненно вскрикнул вдруг офицер. – Что же мы делаем?.. Как же мы можем?.. Опомнитесь, господа, что с нами сталось? Остановитесь!
«Началось», – подумала Чуб.
Передние ряды стояли, вдыхая Любовь. Из вагонов выскочило уже около сотни человек, но их остановил офицерский приказ.
– Остановитесь! Ведь это же царь… Царь-батюшка наш, Богом нам данный!.. Наш царь и владыка… Как же мы могли, как могли?.. Кого мы послушали? Боже, прости нас! – с неподдельным страданием в голосе пропел офицер.
– Боже, прости нас, – бросив наземь ружье, стоящий рядом солдат закрестился.
– Боже милосердный, прости, коли можешь! – упал на колени второй.
– Что вы делаете? Прекратить! – к ним бежал другой офицер. – Это же заговор! Разоружить их немедленно.
Приказ прозвучал сущей бессмыслицей: один за другим солдаты бросали ружья и падали на колени.
– Боже, Царя храни! – уже запел кто-то.
– Сильный, державный, царствуй на славу… – хор окреп. Несколько секунд он звучал на удивление ладно и слаженно, затем песня распалась на звуки и выкрики – задние ряды набросились на передние. Из поезда выскакивали все новые и новые силы.
Даша Чуб безмятежно сложила руки на животе.
«Один, два, три…»
Они бежали, чтоб убить взбунтовавшихся, убить полюбивших, убить раскаявшихся, но, проскочив тринадцать шагов, бросались в объятия несостоявшихся жертв. Второй офицер давно стоял на коленях, истово крестясь и рыдая. Подобно впервые примененным в Великой войне страшным отравляющим газам тотальная любовь не знала поражений.
Чуб бросила всего около пятидесяти «гранат», и она же убедила неофитку Акнир: больше сотни им не понадобится. В свое время ей хватило всего одного узелка с Присухой, рассыпавшейся в кармане ее шубы, чтобы десятки влюбленных водителей неслись за ней по киевской трассе… По правде говоря, сейчас ее беспокоило другое: «всего пятьдесят» могло быть слишком много. Смогут ли влюбленные оправиться от такой дозы безумной любви?
– Боже, Царя храни, – гимн воскрес. Три сотни коленопреклоненных человек запели:
Сильный, державный,
Царствуй на славу нам;
Царствуй на страх врагам,
Царь православный!
«Вот и все», – сказала себе Даша Чуб.
Случившееся заняло не дольше пятнадцати минут. Она оглянулась. Демонстративно грозя им пистолетами, Акнир вела к самолету семерых людей: мужчину и женщину, четырех девушек и мальчика-подростка, прижимающего к груди спаниеля. Теперь все окна царского поезда были расшторены, во всех виднелись испуганные лица.
Даша поморщилась:
«Я могла бы сделать это все и одна»
Она вполне могла бы обезвредить охрану, потом вывести из первого поезда Семью – куда б они делись, немного подождали б и все. И Акнир была с ней совершенно согласна:
« Похитить Семью ты можешь и без меня. Но только я могу попасть туда, куда мы их повезем. А раз уж мы все равно летим вместе, разумнее играть в четыре руки. Я задержу их в поезде, пока ты не закончишь. А то еще попадут под случайную пулю.»
– Царь, царь-батюшка!
– Это же царь!!! – взвыл хор с такой неистовой страстью, что от неожиданности Чуб схватилась за уши.
Мужчина остановился.
– Прости нас, батюшка… Прости глупых, убогих… – присушенные протягивали к нему руки в мольбе.
– По что ж мы тебя…
– Одари нас прощением!
– Не дай погибнуть душе православной…
– Бес, бес проклятый попутал…
– Дай умереть за тебя…
Солдаты ползли к нему на коленях, бились головами о землю, их крики перетекали в рыдания.
Грузная, полная дама схватила мужчину за руку, но он мягко отстранил ее, пошел к ним.
– Остановитесь, остановитесь! Нам нужно спешить! – Акнир побежала за царем, попыталась вцепиться в его рукав.
Николай ІІ смерил ее коротким взглядом. Даша не могла расслышать, что он сказал, но юная ведьма растерянно замерла на месте.
А Даша занервничала. Не оттого, что им нужно было спешить, Акнир дергалась зря, торопиться особенно незачем: их хватятся только тогда, когда поезд не доедет до назначенной станции.
Но к Чуб приближался экс-царь…
«Как я выгляжу?»
Даша быстро нащупала улыбку под марлевой повязкой, содрала ее и озарила приближение императора лучезарным оскалом.
– Здравствуйте, Ваше Величество. Я – Изида… Помните, на воздушных соревнованиях в Санкт-Петербурге мы…
– Царь, царь-батюшка, помилосердствуй, прости нас! – взвыла охрана.
Царь прошел мимо Даши, не заметив ее.
– Я прощаю вас, – громко сказал он. Его глаза блестели от слез.
И внезапно Даша увидела, что это вовсе не царь, а ангел божий, сошедший с небес.
Глава одиннадцатая, в которой женщин обвиняют во всех смертных грехах
– Мать моя, что ж вы так долго?.. Мария Владимировна, умоляю, идемте быстрей! – быстро скользнув по Кате, как по чему-то неважному, Акнир вцепилась взглядом в Машу.
Катерина Михайловна не обиделась – обида давно находилась за пределами ее самосознания. Обижаются те, кто не способен сложить себе цену и ждет оценки от других, и болезненно вздрагивает от того, что в глазах другого их стоимость невелика. А госпожа Дображанская точно знала себе цену, как и цену переменчивых настроений Акнир , а оттого отреагировала не на адресованную ей пустоту, а сугубо на явную и подозрительную перемену в отношении Маши.
Из одного того, что лжеотрок нежданно удостоилась имени отчества, было понятно – случилось нечто ужасное.
Но непонятного пока было больше… Взять хоть пейзаж, на фоне которого разыгралась вся эта сцена!
Взятая внаем неприметная коляска г-жи Дображанской и тряская двуосная повозка Отрока Пустынского, управляемая худосочным монахом в безликом куколе, стояли посреди бесконечного, скованного бесснежным морозом, бескрайне-черного поля, разлегшегося далеко за пределами Киева (и дабы добраться сюда, в указанное ведьмою место, Катерине Михайловне, вынужденной занять место кучера, понадобилось четыре часа, немало терпения и Митин компас в придачу). А, умоляя Машу идти побыстрее, ожидавшая их в центре совершенно пустого пространства, озябшая, пританцовывавшая от нетерпенья Акнир показывала ладонью куда-то в небо.
– Похищение не удалось? – осведомилась Катерина Михайловна.
– Как оно могло не удаться!.. – упрятанная в пуховый платок и тулуп ведьма нервозно извлекла из обширного кармана новый учебник и сунула Кате. – На, почитай. Рассказывать времени нет. Тут все в подробностях. Историки привирают, конечно, но они всегда это делают. А в целом, все правда. Беда у нас, Маша…
Быстро размяв окоченевшие пальцы, девчонка сотворила щелчок и…
Бескрайнее поле стало лесом. Серую весеннюю мглу сменило ослепительно-солнечное лето, бездорожье – ровный серый асфальт. Небо перекрыли высокие, в два человеческих роста ворота, с дистанционным управлением. Два дореволюционных экипажа остались в Прошлом – рядом на солнце сверкал новенький черный «ягуар».
– Мы в ХХІ веке? – сердце Дображанской забилось (она и забыла, что оставшись Киевицами, Трое по-прежнему могут перемещаться во времени, и воспоминание сразу посулило множество прекрасных возможностей).
– Разве можно придумать более надежное место, чтобы припрятать царскую семью? – бросила ведьма .
Ворота бесшумно открылись, приглашая их в «там»… Акнир повела гостей по ухоженной дорожке, обрамленной высокими горделивыми розами. Впереди путников ждал небольшой особняк. Безмолвный монах шел за Машей с отрешенным видом телохранителя - тени, но присутствие постороннего не затронуло Катины мысли – лжеотрок обладала безграничным кредитом доверия с ее стороны. В отличье от многоликой, переменчивой ведьмы Акнир.
– Что это за дом? – поинтересовалась Дображанская, снимая на ходу перчатки и шубу.
– Дом моей матери. Наш дом. Слепым сюда вход заказан.
– Еще один Провал?
Акнир промолчала: то ли пропустила вопрос мимо ушей, то ли сочла его риторическим.
Парадный вход приближающегося «дома матери» оплетали лепные изображенья двух пышнобедрых и длинноволосых див, изогнувшихся в характерных для нового стиля эротических позах.
– Модерн, – со знанием дела сказала хозяйка «жемчужины» киевского Модерна – Дома с Химерами.
– Что же еще?.. – в одночасье ответили ведьма и Отрок.
Обе сказали это как нечто само собой разумеющееся, а сказав, обменялись короткими взглядами посвященных, выпытывающих степень посвященья друг друга.
Их взгляды заинтересовали Катю куда больше неразъясненной беды, ставшейся под час похищения.
Принявший посетителей круглый холл походил на вестибюль Катиного химерного дома с извивающимся зеленым осьминогом на потолке и настенными росписями глубокого синего цвета, изображавшими морское дно с затонувшими, мертвыми кораблями.
Здешние стены запечатлели чудесный сад: ирисы, лилии, калы, орхидеи и розы… С потолка свисала разноцветная люстра с плафонами в виде тех же цветов. Их нарочито прекрасные, неестественно вытянутые лепестки напоминали хищные щупальца.
Из Машиных записей Катя знала: все эти цветы используются в ведьмацких отварах. Это, наверное, и объединило их…
«Колдовской сад, – Катерина бросила песцовую шубу на столик под вешалкой. – Недурственный образчик Модерна», – надменно признала владелица киевской «жемчужины».
С тех пор, как Екатерина Михайловна переселилась в легендарный дом Городецкого, Модерн стал ее излюбленным стилем. Но, как оказалось, не только ее…
Дверь с витражными стеклами вывела на парадную лестницу.
«Рябушинский бы сдох…» – подумала Катя.
Токмо в минуты наибольшего волнения г-жа Дображанская переходила на полузабытый ею неизящный язык, а в эту минуту она как никто понимала гипотетические чувства банкира. Четыре года тому Катерина Михайловна приложила немало сил, чтоб получить приглашение в московский особняк Рябушинского и лично взглянуть на знаменитую парадную лестницу… Лишенные каких-либо прямых линий, ее перила стекали по мраморным ступенькам, как морская волна, по волшебству обращенная в камень . У подножия лестницы волна вставала на дыбы, и на гребне ее сиял причудливый фонарь в форме хищной ассиметричной медузы. Внутренняя отделка дома московского миллионщика на Малой Никитской улице считалась непревзойденной вершиной, «алмазом» русского Модерна. Но, порожденная фантазией первого владельца Химер, «жемчужина» Киева и белоснежная колдовская лестница, увешанная телами мертвых животных и птиц, могла поспорить с «алмазом», а то и выиграть спор!.. Однако ныне обладателям двух бесценных «камней» оставалось лишь окочуриться от зависти разом.
Катерина застыла, потрясенная представшей грезой. Свет не видывал творенья прекрасней! Женские тела, нежащиеся в объятиях друг друга, потягивающиеся, изгибающиеся в томных и страстных, неприлично естественных позах, сплетались в единый узор перил. Редкий оттенок мрамора, розовато-телесный, передавал всю трепетность человеческой кожи: мраморные прожилки на внутренних сгибах локтей и точеных женских шейках казались реальными венами, проглядывающими сквозь нежную плоть… И не одна мужская рука наверняка потянулась бы к ней, вдруг уверовав, что под гладкими холодными телами бежит живая теплая кровь.
Лестница поражала не столько красотой, сколько кричащей, вопиющею чувственностью – эротическим шоком, точно кто-то сознательно, скрупулезно собрал в позах, изгибах, движеньях, взглядах каменных див все вечные женские уловки, ловушки, капканы, разящие мужчин наповал.
– Я не специально, – сказала Акнир, обращаясь к лжеотроку. – Просто второго такого надежного места на свете нет.
– И все-таки… – строго ответила Маша.
Судя по всему эти двое отменно понимали друг друга.
На верхней площадке женственные перила завершались фонарями – две греховно прекрасные девы протягивали длинные цветки кувшинок в сторону высеченной на противоположной стене обнаженной полногрудой и широкобедрой богини в головном уборе из двух рогов.
Миновав ее, процессия свернула направо, в оранжерею с множеством растений в горшках и кадках. Высокие стены были увиты буйным плющом.
– Тут подождешь, – наказала Маша монаху.
Инок покорно опустился в модерновое кресло – с вероломной изгибистостью плюща его линии: ножки, поручни, спинка – стекались к сидящему, точно намеревались, улучив подходящий момент, вцепиться в него.
«…как вода дробит камень, как немощный плющ губит могучее древо, так и простые слова мои погубят великого, погубят могучего…» – выкинула память Кати строку из заклятья.
Женщины двинулись дальше. Взгляд Дображанской невольно выхватывал яркие детали… Лампу с бронзовой ножкой в виде скрутившегося в неестественный, прельстительно изысканный узел стебля кувшинки.
«Отвар № 7 . Скрутите стебель болотной кувшинки в узел покорности…»
Вазу из бисквитного фарфора: три наяды, с хищными женскими лицами, летели на гребне волны.
«Заря морская Анастасия, заря морская Акулина, заря морская Анна …»
Статуэтку из многослойного стекла с аппликацией, стоящую на высокой жардиньерке: зеленоватая человеческая рука – вытянутые пальцы, ладонь и запястье – облепила нехорошая слизь, рыжеватая, буроватая… Рука утопленника!
«Возьмите руку утопленника… – у Екатерины Михайловны застучало в висках. – Это тоже было, в каком-то из зелий!»
Озарение было рядом, стучало в виски, просило впустить его…
Но его спугнула юная ведьма.
– Здесь, – натужно сказала Акнир, останавливаясь у отмеченной жардиньеркой двери. – Только тихо. – Она осторожно отворила одну из створок.
И череда Катиных модерновых ассоциаций достигла кульминации.
* * *
Комната, которая могла бы служить матери и бабке Акнир уборной, а могла служить и иным, тайным, целям, вся была устремлена к огромадному зеркалу, занимавшему целую стену.
«Омут», – подумала Катя.
Большое голубоватое стекло обрамляла чудесная лепнина: крупные водяные лилии, перламутрово-белые, желтые, розовые цветы и ядовито - зеленые листья на фоне цвета болотной ряски.
В отличие от помпезного бело-золотого барокко, стиль Модерн обожал обряжаться в природные цвета и, обожая их, обнажал суть природы… Не пасторальные пейзажи, готовые улечься покорным ковром к ногам человека – всевластная Великая Мать!
Три пустых ярко-зеленых стены перетекали в мягкий зеленый ковер с похожим на водоросли, длинным, колышущимся ворсом, засасывающим ногу по самую щиколотку. И, глядя на заполонившее четвертую стену титаническое зеркало, ты вдруг понимаешь, что смотришь на водную гладь не снаружи, а со дна водоема глазами порабощенного им утопленника.
«Утопленник» стоял перед зеркалом – выпрямив плечи, выпятив грудь, гордо задрав подбородок…
– Я покажу им, кто властелин! – грозно изрек он.
– Ты! Ты! Ты – мой герой!
…а на коленях пред ними, утопив нос в ковре, стояла Даша Чуб.
– Мы! – вскрикнул мужчина. – Мы, Николай второй, император и самодержец российский, царь польский, великий князь финляндский…
– Ты – просто бомба. Ты просто бомбовый царь! – завторила Даша, глухо отстукивая лбом в такт своим утверждениям.
И Катерина Михайловна угадала в «утопшем» царя Николая ІІ… И усомнилась в своей догадке.
Царь Николай был невысок и скучен лицом, в его больших непонятных глазах всегда было слишком много отрешенности, слишком мало значительности и жажды выпятить свою значимость. Неприметная обычность, почти монашеская постность его лица раздражала многих, а многими принималась за надменность и сухость.
– Я всегда был слишком добр, и все этим пользовались!.. Но время моей снисходительности и мягкости миновало. Теперь наступает царство воли и мощи!
– Да! Да! Ты всех их порвешь!!! – убежденно крикнула Чуб.
И Катерина Михайловна была готова согласиться с ней.
Жестокость и страсть, перечертившие лицо экс-императора, наделили его магнетической притягательностью надвигающейся бури . Поза, осанка, решительно расправленные плечи одарили фигуру величием. Он казался высоким. Казался опасным… Казался способным на все!
– Обещаю… Я буду Петром Великим! – разрезало воздух. – Я буду Иваном Грозным. Я буду императором Павлом! – слова прозвучали пугающе. Страстная ненависть шторма рокотала в его обещании. – Я заставлю всех дрожать передо мной, раз мой народ не понимает иной любви, кроме дрожащей. Раз самые жестокие, самые кровавые монархи были названы лучшими, а за мою доброту меня нарекли Николаем Кровавым… Я никогда не упускал случая показать им доброту и любовь… Но любви одной им мало… Я дам им кулак! Такова их натура. Они говорят: «Нам нужен кнут». Ребенок, обожающий отца, должен бояться разгневать его… Они должны научиться бояться меня. Их следует научить повиновению!
– Да! – с готовностью поддакнула Даша. – Их место под плинтусом! Мы всех загоним под лавку…
А Кате почудилось, что омут комнаты закрутился воронкой, кипящей, почти осязаемой ненависти, готовой затянуть в глубину все и вся.
– Я сокрушу их всех. Я утоплю их в крови. Я соберу тех, кто мне предан и сам их возглавлю… Все, кто откажется повиноваться, будут расстреляны! Все, кто осмеливается бунтовать, будут расстреляны! Всех пропагандистов – расстреливать на месте…
– Пусть только вякнут, я сама пристрелю! – поклялась Даша Чуб.
– Я объявляю в стране военное положение. Россия выходит из Великой войны. Раз мои союзники предали меня…
– Да! Антанту на мыло!
– Если Аликс еще раз осмелиться назвать меня своим бедным слабовольным муженьком, она будет помещена в монастырь… Жена должна знать свое место!
– Что это? – не выдержала Катя.
Акнир быстро приложила палец к губам и бесшумно вернула дверную створку на прежнее место.
– Присуха, – сквозь зубы сказала она. – Теперь они оба безумно любят царя.
– И как скоро это пройдет? – тревожно уточнила Екатерина Михайловна.
– Надо выждать тридцать один час и отпоить отваром из ямши… – кисло проговорила девчонка.
– Слава те, Господи, – уняла волнение Катя. – Тридцать один час – не так много.
– Я еще не сказала, – криво договорила Акнир, – сколько их нужно отпаивать. Ей хватит суток. Она – эгоистка. Главное, чтоб не видела рядом предмет любви – и попустит.
– А он?
– Я не знаю! – вскликнула ведьма, и в ее васильковых глазах заплескался пульсирующий страх. – Сильный передоз наслоился на дурацкий характер. По духу Николай был типичною жертвой… Он не умеет сопротивляться любви. В том числе и этой. И я не знаю, я просто не знаю, сколько ему нужно времени. Год, пять лет, десять или же… ЭТО ВООБЩЕ НЕ ПРОЙДЕТ! – ведьма в отчаянии прикрыла глаза, затрясла головой. – Можно попробовать наложить на него Подчинение, но побочный эффект непредсказуем , вплоть до летального исхода… Это конец! Если мы покажем его в таком состоянии матери, вдовствующей императрице… Его нельзя ей показывать! По дороге сюда Николай успел рассказать жене, что в случае неповиновенья она отправляется в монастырь. Его мама, видимо, едет туда же… Он не желает и слушать о том, чтоб передать престол сыну. Он желает вернуть себе власть и вешать людей на столбах.
– Все, как она хотела… – тихо сказала Маша.
– Поражаюсь твоей редкостной памятливости, – с неприкрытою лестью на подобострастных устах Акнир повернулась к лжеотроку. – Сколько лет прошло, а ты помнишь учебники. Все верно, жена Николая ІІ, Аликс, так и не стала истинно православной, в глубине души она никогда не могла понять склонности «своего слабовольного муженька» подставлять всем вторую щеку. Это она умоляла его стать Иваном Грозным… не слишком задумываясь об участи семерых жен Ивана . Вы, слепые, вечно не хотите понять, что добро – это зло, и наоборот. Стань Николай – Грозным, его бабы первыми бы получили добрую взбучку. И никакой революции не было б вовсе.
– Да, эту бы грозность да в минувший февраль… – вздохнула Катерина Михайловна , – когда Николай еще сидел на престоле. Он мог все изменить… Теперь слишком поздно.
– Мария Владимировна, – елейно прошелестела Акнир, – Маша… Ты одна можешь помочь. Ты можешь все… Ты поможешь ему?
«Любопытно, почему Маша может помочь, а Наследница, чароплетка и дочь Киевицы – нет?» – вычленил мозг Дображанской несказанное и самое главное .
* * *
Тихо, не скрипнув петлями, Маша вновь распахнула дверные створки, желая еще раз взглянуть на человека, узревшего свое отражение с обратной стороны, со дна темного омута. На Царя, впервые познавшего свою глубинную, звериную суть. На Николая ІІ, страстно взирающего на свое отражение в зеркале…
И бывшего ее отражением!
Они были похожи: Киевица и последний император Руси, преуспевший на своем поприще жертвы.
Всю жизнь он пытался всех примирить: маму с женой, жену с сестрами, братьями, великими князьями, старца Григория с правительством, вечно недовольную Думу с очередным премьер-министром… За трехсотлетие правленья Романовых история не знала царя, думавшего о самом себе меньше, больше желавшего всем одного лишь добра.
Они были похожи!
Что б он ни делал, его добро неизменно обращалось во зло. Зло нарастало…
И, как и Машу, его, всемогущего царя, призывали воспользоваться своей безграничною властью. Заточить жену в монастырь, призвать страну к повиновению, утопить в крови восставший гарнизон в Петрограде. И спасти всех…
Как и она, он мог всех спасти!
Но он отказался признать, что зло – это добро.
Вместо того, чтоб сражаться, он покорно отдал свой трон и, «во избежание смуты», самолично призвал народ повиноваться предавшему своего императора новому правительству… И своим радением о всеобщей любви и замирении вызвал ненависть даже в кругах преданных ему монархистов!
Никто по сей день не смог оценить его поступок. Ни мать, осудившая его. Ни великие князья, посчитавшие его потерявшим рассудок. Ни народ, который он желал уберечь от гражданской войны. Ни союзники, коих он не пожелал предать, прекратив бессмысленную для России Великую войну. Ни исследователи… Все историки (включая когдатошнюю студентку исторического факультета Машу Ковалеву) считали Николая ІІ безвольным…
Откуда им всем было знать, какой несгибаемой волей должен обладать человек, могущий все и презревший свое всемогущество, чтобы встать на колени перед иконой Творца и сказать Ему: «На все воля твоя!».
Они были похожи!
Как и ему, ей судилось погибнуть и погубить.
Как и она, прознав о неминуемой гибели, он не усомнился ни в своем несопротивлении злу, ни в своей вере.
«Отец просил передать, – незадолго до расстрела Семьи написала его старшая дочь Ольга, – всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит, а только любовь…»
Воистину, за трехсотлетие правленья Романовых, история не знала царя христианнее его. Царя, чья слепая вера в Бога вызвала б больше осуждений, нареканий, сомнений…
И, воистину, на всем белом свете не существовало ни человека, который понял бы монарха Руси огромней и глубже, чем Маша. Ни человека, чье превращение в полную противоположность свою могло б больше убедить Машу в ее правоте.
«Не зло победит, а только любовь…»
«Я утоплю их в крови!»
С протестующим грохотом лжеотрок захлопнула дверь в омут своих тайных страхов и страшных сомнений.
– Я умоляю, Мария Владимировна, – пальцы Акнир сплелись в молящий «замок». – Ну что вам стоит? Помогите ему…
– Я помогу ему. Как только он и Семья окажутся за границей, – непререкаемо сказала Маша.
– Нет! – руки ведьмы взметнулись, как стая птиц, испуганных выстрелом.
– Собственно, так и написано в новой истории, – заметила госпожа Дображанская, использовавшая возникшую паузу, чтоб изучить нужный абзац новоявленного учебника за 7 класс. – Царь Николай был спасен и перевезен за границу. В Данию, на родину матери…
– Нет! – вскрикнула Акнир. – Все будет по-другому. Это просто случайность…
– На случайности, – улыбнулась лжеотрок, – и строится формула Бога. Неужели ты до сих пор не осознала, ты зря идешь против Него. Он – наш Господь. Тебе его не переиграть . Как видишь, он все равно все сделал по-своему. Спасение ничего не изменило.
– Революция будет в октябре, – Катерина постучала пальцем по книжным листам. – Забавно, даже число не изменилось!
– Нет. Нет! – На Акнир было жалко смотреть.
– Однако, – озадачилась Катя, – что мы будем покамест делать с царем? Больно в нем решимости много. Вдруг сбежит войска собирать?
– Отсюда не сбежишь, – угаснув, прошептала Акнир. – Я больше за царицу Аликс боюсь, – взяв себя в руки, ведьма взглянула на Машу прямым красноречивым взглядом. – Она, бедняжка, пятнадцать часов, как в истерике бьется. Похищение, перелет на «Илье»… А пока мы летели, царь все говорил, ни на секунду не умолкал. Он все ей сказал! Все, что может сказать человек, который ее больше не любит. Боюсь, как бы беды не случилось… Ведь в нем вся ее жизнь. Сама знаешь, ты же историк.
На этот раз ведьме удалось достичь желаемой цели. Лжеотрок молча кивнула и, не дожидаясь указаний Акнир, шагнула в соседнюю дверь.
* * *
«Но это немыслимо!» – возопил мозг Дображанской.
Стены нового зала переливались разноцветным стеклом. Снова сад, но какой! Объемные стеклянные цветы вырастали из стен, на них сидели шмели, жуки и стрекозы. Изготовленные неведомым ювелиром, их крохотные тельца из металла, стекла, эмали, драгоценных и полудрагоценных камней могли бы украсить любой царский корсаж. Стеклянный алмазно-рубиново-сапфировый зал мог украсить любой королевский дворец!
Три высоких витражных окна из фиолетово-охрово-синих, подсвеченных солнцем стекол, навевали ассоциации с церковью. Но вместо положенных святых витражи отображали титанических стрекоз. В их многократно увеличенных совершенных крыльях, круглых глазах и кривых лапках была красота и угроза драконов!
И Катя сразу же вспомнила, что на английском стрекоза именуется «dragonfy» – муха-Дракон.
– Сюда, – показала на двери Акнир.
Потолок следующего зала подпирали колонны… неровные, кособокие, из грубо отесанного камня они изгибались и кренились, обещая упасть – и, оказавшись меж ними, ты сразу ощущал себя в пещере накануне обвала, и естественный страх накатывал одновременно с восторгом – зал был грозово красив.
«Власть камня», – перевела архитектурную мысль Катерина.
По-видимому, каждая комната «дома матери» была посвящена власти природы: власти омута, власти насекомых, власти цветов…
На ходу Катерина дотронулась до зеленоватой вазы, из бока которой вырастал огромный, объемный цветок ириса.
«Сорванный в нужный час лиловый ирис поработит…»
И незаконченная мысль завершилась!
Каждая великая эпоха, ознаменовавшаяся большим стилем, возвеличивала своего кумира. Готика возносила Господа Бога. Ренессанс – человека, как венец мироздания. Барокко – короля, императора, властителя земли.
Но Модерн…
Стиль Модерн делал крохотную стрекозу, один-единственный цветок, не менее значимыми, чем личность Юлия Цезаря.
«Этот цветок, – кричал Модерн с насмешливым вызовом, – сильнее Цезаря, ибо, добавленный в пищу, он способен поработить полководца!»
Модерн игнорировал власть небесного Бога и земного царя. Модерн отрицал власть человека. Модерн отрицал человека в понимании общества; он признавал лишь Природу и Женщину.
Катерина поспешно покинула пугающе-«падающий» зал. И припомнила: по замыслу христианских архитекторов небесная красота и громада соборов принуждала человека почувствовать себя ничтожным в сравнении с Богом… Так же, как и отображенная здесь, в модерновом декоре, поражающая красота всевластной природы, одним своим видом разрушающая миф о людском превосходстве!
Одна за другой комнаты окружали ее, кружа в голове Дображанской обрывки заклятий и заговоров.
«Модерн», – отпустила она тоном ценителя изящных искусств.
«Как могло быть иначе?..» – отозвались ведьма и Отрок.
«Я не специально, – повинилась Акнир. – Просто второго такого надежного места на свете нет».
«И все-таки…» – выказала недовольство Маша.
Ибо юная ведьма поместила царскую семью вовсе не в загородный дом своей матери!..
Миновав последний зал, из пола которого вырастали горящие красным стеклом светильники-тюльпаны, они вновь вышли на верхнюю площадку парадной лестницы из сплетенных женских тел, устремленных к грудастой фигуре в двухрогом головном украшении.
– Постойте. Мы что же, в языческом храме?! – осознала вдруг Катя.
– Ну, я же сказала… – недовольно протянула Акнир.
– Когда ты сказала «дом моей матери», ты имела в виду Великую Мать? Ее? – Катя показала на рогатую даму.
– Более безопасного места нет, – повторила юная ведьма.
Однако в правой части особняка Модерн вдруг поскромнел, прикинулся буржуазным женственным стилем, подобно женщине, прикидывающейся скромной и милой, любящей мужа, не помышляющей ни о чем, окромя семейного уюта и счастья.
Они прошагали сквозь маленькую библиотеку с тремя низкорослыми книжными шкапчиками, будуар с кривоногим и ассиметричным бюро, комнату для рукоделия, отчего-то неуловимо знакомую, выведшую их в коридор. Его окна выходили на противоположную – внутреннюю – сторону дома, представлявшую цветущий розарий с фонтаном в форме большого металлического букета бело-зеленых кал. На его бортике сидела юная девушка. Склонившись над сафьяновой тетрадью, сжав во взволнованных пальцах карандаш, она что-то быстро писала.
– Кто это? – спросила Катя.
– Великая княжна Татьяна… Пришли.
Ведьма указала глазами на дверь, постучала и, не дожидаясь ответа, вошла в залитую солнцем лиловую спальню.
* * *
– Оставьте меня! – попытался выдворить их обратно женский голос, истеричный, хрипяще-надорванный.
Страшная толстая старуха – Аликс Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, окрещенная в Крыму Александрой Федоровной лежала посреди огромного ложа Модерн. Спинка кровати нависала над ней в виде огромной, расправившей крылья бабочки.
Странный языческий дом говорил убедительней и красноречивее слов, оставляя гостям удивляться точности высказанного ими суждения. Бывшая гусеница – маленькая тонкогубая немецкая принцесса, пленившая некогда душу наследника российского престола. Бывшая прекраснокрылая бабочка-императрица российская. Бабочка, пойманная в сачок… Бабочка с пронзенным булавкой сердцем, конвульсивно бьющая крылышками…
Волосы Аликс были растрепаны. Глаза – красны и безумны. Бледные щеки покрывали нехорошие пятна. Она тяжело дышала и ежесекундно кусала нижнюю губу .
Рядом, на постели, сидела девушка лет двадцати. Видимо, ее старшая дочь Ольга. Еще две дочери, младшие – Мария и Анастасия – стояли рядом. Облаченные в мешковатые блузы и юбки, коротко стриженые после тифа принцессы мало походили на красавиц-принцесс. У окна, на низкой скамеечке, горбился мальчик с каштановыми волосами и испуганным взглядом потерявшегося пса.
– Мамá, – старшая дочь Ольга произнесла родное слово на французский манер, с ударением на последнем слоге, – прошу вас… – моляще указала она глазами на дверь.
– Кто вы такие? – крикнула Аликс, выворачивая шею. – Я не желаю вас видеть. Что вы сделали с Ники? Это не он!.. Где мой муж, где мой мальчик, мой бедный ангел… Где он?!.. Отдайте его…
Ее дыхание сделалось лихорадочным, большие полные руки посинели. Борясь с истерическим припадком, царица закусила губу. Хрипло выдохнула и затряслась – она задыхалась.
– Верните мне Ники… Я не могу без него. Верните!.. Я не могу жить…
– Не о том просишь, Мама! – сказал грозный мужчина.
«Какой мужчина. Откуда?..» – попыталась понять Катя.
Протиснувшись между Акнир и госпожой Дображанской, в центр спальни шагнул худосочный монах в черном куколе; завороженная языческим домом, Катя и не заметила, как и когда он присоединился к ним вновь.
Аликс пружинисто села в кровати – только один человек, кроме ее детей, мог назвать императрицу российскую «мамой». Попросту «мамой», без всяких французских ударений.
– Разве затем я тебя в Киев покликал? – спросил монах, снимая с головы капюшон.
И второй раз за час Катя не поверила собственным глазам… Сибирский мужик, «святой старец», «святой черт» Григорий Распутин был, в ее понимании, огромным, высоким, а этот – субтильным, ниже среднего роста. Или огромность, оставшаяся в памяти и в мемуарах его современников, проистекала сугубо из огромности производимого им впечатления?
Но сей занятный психологизм был немедленно оттеснен иной заковыкой:
«Разве затем я тебя в Киев покликал?» – спросил он.
– Наш Друг… Наш Друг жив… Мы спасены! – С прыткостью юной девушки царица вскочила с кровати, подбежала к старцу, пала пред ним на колени и, вцепившись в его корявую руку, осыпала ее поцелуями.
– Утри слезы, Мама, и верь. Верь и терпи, – властно сказал святой старец, который, говоря к слову, был вовсе не стар и выглядел намного моложе той, кого звал своей «мамой».
– Но Ники… мой Ники… За что же… за что? – жалобно всхлипнула Аликс.
– Господь так решил, Его и пытай, – нравоучительно изрек Григорий Распутин. – Да не за что, а по что? Может, Он твою веру испытывает. А может, в том умысел Его величайший. Раз так сталось, и Папа в затменье вошел, как ты могла в решении Его усомниться? Это теперь-то, теперь… когда Он мужу твоему, тебе, детям твоим чудесное спасенье послал? Когда наизаветнейшее горе твое излечить надумал?
С видом пристыженной девочки царица вскочила с колен, завертела растрепанной седой головой, запрыгала взглядом:
– Где же он? Где?
– Гляди, Мама, вот ОН, – отстранив Акнир, Друг императрицы обнажил дверной проем, обрамлявший невысокую худую фигуру лжеотрока.
– Отрок Пустынский! – зашлась в крике царица. – Отрок святой, помоги, – опухшее заплаканное лицо Аликс придвинулось к Маше – царица вытянула шею, выбросила полные руки вперед. – Прости меня, Отрок святой, я слаба, Господь послал мне испытания тяжкие, страшные… Но не о том, не о том я молить тебя прибыла! Сына моего исцели… Маленького . Нет избавленья. Моя вина, моя кровь его губит, Гессен-Дармштадтских. Брат мой умер у меня на глазах… Маленький мой всю жизнь на волос от смерти ходит… Одна царапина, и кровь не остановит никто… только молитва святая Нашего Друга. Друг Наш сказал, ты один можешь помочь. Ты его спас… Спаси и моего малютку.
Маша взглянула на Распутина; на миг Кате померещилось, что в опустевших глазах, обращенных к святому черту, мерцает упрек – видимо, об обещании излечить сына, которое старец дал бывшей царице сама лжеотрок не знала ничего. Каждый здесь плел свою интригу.
– Иди ко мне…
Пальцы Маши позвали цесаревича. Мальчик встал со скамьи, приблизился к ней без робости и без надежды. Оттененные вьющимися светло-каштановыми кудрями бледные черты тринадцатилетнего царя были тонкими, иконописными и такими же отрешенными, как у его отца. Такие черты и должны быть у ребенка, которому всегда все запрещали: играть в теннис, кататься на велосипеде, – у мальчика, которого вечно держали взаперти, опасаясь, что случайный синяк лишит его жизни.
«А ведь это наш царь… Законный царь Алексей, – дернуло Катю. – А это мать царя и сестры», – знакомство г-жи Дображанской с царской семьей вышло весьма коротким, если, конечно, опустить спорный факт, что их так никто и не познакомил.
Лжеотрок молча провела ладонью по волосам Алексея, заглянула в глаза, прошептала неслышное и громко сказала.
– Нож дайте.
Старец проворно достал из кармана отточенный нож. Маша взяла ребенка за руку.
– Что вы делаете? – захрипела царица.
– Камень с души твоей снимаю навек…
– Нет!
Лезвие полоснуло по бледной коже царя. Порез вышел глубоким – отворенная кровь мигом залила руку по локоть. Императрица закричала. Старец быстро схватил ее за плечи. Три великих княжны в ужасе застыли у стен . Несчастная мать орала, вырываясь.
– Дайте платок, – приказала лжеотрок. – Перевяжите. И все.
– Все? – повторила императрица чуть слышно.
– Все как у всех, – сказала лжеотрок. – Через пару минут кровь остановится. Все заживет. И муж твой в разум войдет. И дочери невестами станут. Ты свою чашу испила до дна, малость на дне осталась… Веришь мне?
– Верю…
Побледнев, как стена, императрица с ужасом смотрела на пустяковую рану, способную стать для ее сына смертельной.
– Не веришь, – молвила Маша. – Оставьте нас все.
– Ольга, Мария, Анастасия, – живо позвал старец княжон.
* * *
Оказавшись за дверью, в коридоре, три девушки тут же повисли на Друге с радостными возбужденными криками.
– Неужели Отрок вот так?.. – спросила младшая (Анастасия была ниже всех ростом и немного полнее сестер). – Он – настоящий святой? Он же только по голове Алексея погладил… Неужели теперь он будет здоров?
– Будет, будет здоров ваш братец, – увещевающе сказал старец.
– А Мама говорила, ты письмо ей прислал…
– Как она измучилась, когда ты пропал… Мы все испугались, ночами не спали.
– А Татьяна, – Анастасия подбежала к окошку. – Она ведь еще не знает! Нужно ей рассказать!
Катя взглянула в окно – уже исповедовавшаяся своему дневнику Татьяна медленно шла по садовой дорожке. Три княжны поспешили к лестнице.
– Что зыркаешь, ведьма? – осклабился старец в адрес Акнир, едва девушки скрылись из виду. – Зависть берет? Ты прыгаешь, скачешь. А она только по головке погладит…
Брошенный святым чертом камень произвел впечатление водяного столпа, взорвавшего тихое озеро.
– Да что там, – ощерилась юная ведьма в ответ, – только в комнату войдет… и все, хэппи-энд! Катарсис! Никто не плачет, все счастливы. Кто мы такие в сравненьи с ней? Гадалки, предсказатели, ведьмы… Святой Отрок – это совсем другое, ведь его устами говорит сам Господь. А ему одному вы даете право на чудо! Ваша церковь монополизировала право чуда, – обличающий голос девчонки задрожал. – Вы сжигали ведьм на кострах за то, что они покусились на вашу монополию. Я смешнее скажу… Вы не верите в ведьм! Почему? Потому что, говорите вы, чудес не бывает. И, говоря это, тупо верите в Бога, претворяющего воду в вино. Как это у вас получается? Не знаешь? Я скажу. Потому что верить в Него слепо, не думая, один из постулатов вашей веры!
– Бесишься, ведьма, – довольно вымолвил старец.
– А сам-то ты кто? – зашипела Акнир. – Колдун православный! Тебя вот не считали святым. И им было плевать, что ты им предсказал… Папюс им предсказал. Но кто вас послушал? Сказать, как ты помер?
– Знаю, – отвесил старец.
– А знаешь, что с тобой после смерти случилось? Твою могилу разрыли, осквернили, а тело сожгли вместе с мусором, как колдуна! Жаль только в прошлой редакции. – Акнир повернулась к Кате. – Вот он, выходит, куда подевался: к Отроку в Пустынь подался. Маша его и укрыла… Жаль, я не знала. Хоть догадка была. Никакого ведовства, метод дедукции. Царя Николая вполне могла уговорить его мать. Но царицу… только Распутин! Так бы Аликс и помчалась в Киев к ненавистной свекрови, кабы Наш Друг ее в письме не позвал. Еще и сына пообещал исцелить. Что ж… – шестнадцатилетняя ведьма расправила плечи. – Благодарю, ты оказал мне большую услугу. Царь Алексей здоров. Излечен самим святым Отроком Пустынским. Теперь посадить его на трон будет еще легче. Кстати, знакомься, это Катерина Михайловна. Бесись, предатель… Теперь твоя очередь!
Стуча каблуками, Акнир пошла по коридору.
* * *
– А ты, Катерина Михайловна, чего молчишь, не возразишь, не согласишься с ней? – голос святого черта внезапно изменился , стал обволакивающим, медоточивым.
«Кот Баюн», – немедленно окрестила его Дображанская.
Поглядев вслед разъяренной Акнир, Катя неохотно повернулась и увидела вдруг прямо перед собой большеносое, приплюснутое, вытянутое лицо Распутина, кажущееся еще более длинным из-за ровной прямой бороды.
– Вот она какая, выходит… – сказал святой черт нараспев, – красота-то земная, – прозрачные затягивающие глаза вобрали Катю.
И что-то неприятно-волнительное предательски шевельнулось у нее в животе.
«Гипнотизер паршивый…»
– Хочешь знать, отчего она меня предателем кличет? – утвердительно сказал он Катерине. – Хочешь знать – приходи ко мне. Да одна приходи… Ох, глазки, глазенки-то как засверкали! Не придешь, – кивнул он. – А не придешь, так и не узнаешь ничего, красота, – дразняще произнес святой черт, обходя Катю кругом. – Ради такой красоты любой мужик Бога забудет… – слова дунули ей в шею. – Врешь, не возьмешь меня, ведьма!
Он вновь стоял перед ней – лик исказился, взгляд стал тяжелым.
– Я видел иную красоту! Я видел святую киевскую Лавру Печерскую. Видел пещеры и видел простоту, где нет ни злата, ни серебра и почивают угодники Божии без серебряных рак, только простые дубовые гробики. Там красота… А здесь… – воздел он очи вверх. – Красота-то красота, да не божья, а бабья! Твоя! Мама тоже красоту такую любила. Весь дворец в Ливадии приказала так изукрасить.
«Ливадийский дворец, – внезапно вспомнила Катя. – Вот на что похожа правая часть особняка…»
– Верно в Писании сказано, – зло сказал старец, – бабы испокон веку во всем виноваты. Вам ведь земных мужей мало, вам небесного отца подавай… Бабы русский народ до смуты и довели.
– Бабы? – столь оригинальной версии событий Катерина еще не слыхала.
Точнее, слыхала, но очень-очень давно.
Новый Матриархат. Именно Октябрьская стала революцией женской…
– Какие еще бабы? – заинтересованно спросила она.
– Ну, революционерки, – брюзгливо сказал старец. – Я как из квартиры ушел, все ходил, глядел на людей, глядел, как мир православный шатает. И грустно мне было, и тошно. Все видел своими глазами! Бабы 23 числа в Петрограде смуту устроили в честь дня своего…
– Какого их дня?
– Бабского.
– Женского дня? В феврале?
– И пошла смута дальше… Рабочие страйк объявили. На их сторону солдатики встали.
– А женский день тут при чем? – наморщилась Катя. – Он 8 марта. А 23 февраля…
Катерина запнулась.
«8 марта по нашему стилю царя арестуют», – сказала она.
В 1918 большевики перевели время на две недели, навеки разделив эпохи на стили – «старый» и «новый». Получалось 23-е – день советской армии – был до революции женским днем и лишь потом перескочил на 8-е!
Вся февральская революция, закончившаяся сверженьем царя, уместилась между 8 марта по новому стилю и 8 марта по старому…
Бабы сделали революцию! Почему ж никогда, ни в одном учебнике об этом не было сказано ни слова?
Катерина Михайловна подняла глаза на манерные модерновые лепные кувшинки, вьющиеся по потолку…
И вдруг получила исчерпывающий ответ на свой вопрос.
...
ЖДИТЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ!
«Киевские ведьмы. Революция амазонок»
Глава, в которой на Катю снисходит озарение
– Екатерина Михайловна, шалят нынче в Городе, – проканючил шофер.
– Неясно сказала? Езжай, и не торопясь, – отрезала Катя.
Шофер отвернулся, состроил гримасу:
«Дом новый купить хочет, что ли? Их нонче, верно, за бесценок скупают».
Добрых полдня Катерина Михайловна колесила по Киеву. Иногда приказывала остановиться, рассматривала фасады , чертила что-то в блокноте. Раз шофер изловчился и заглянул – ерундень: завитушки, цветочки, дамские личики…
«И все думают, что это так, ерундень: завитушки, цветочки, дамские личики», – поражалась Катя.
До вчерашнего озарения ей никогда не приходило на ум сосчитать, сколько в Киеве домов в стиле Модерн.
Сразу за поворотом с Банковой, где стоял Катин химерный дворец, на углу Лютеранской, Дображанская вышла из автомобиля, чтобы взглянуть на двухэтажный особняк, прозванный в Киеве «Домом Плачущей вдовы». Никто не знал, почему бетонную даму прозвали вдовою, но все знали, когда идет дождь, по щекам «вдовы» текут слезы.
Серое женское лицо на фасаде украшала корона из каштановых листьев – корона Киева. Дом был демонстративно рогат: над каштановым убором вдовы из крыши вырастали два «рога».
«Ну, здравствуй, Великая Мать…» – хмуро сказала Катерина Михайловна.
Ни на заветной опушке, ни в дремучем лесу, где полагалось таиться языческим капищам с погаными идолищами – языческая Богиня глядела на Катю с дома на центральной улице Киева.
«Новый Матриархат. Модерн – значит новый. Модерн – женский стиль… Все сказано почти прямым текстом!»
Странное и головокружительное это было озарение – понять, что весь Киев, да что там, весь мир застроен языческими храмами!
Представляясь изящным новым стилем, за два десятилетия древний культ завладел домами и душами от Англии до Барселоны, от Парижа до Нью-Йорка. И в эти же самые годы женщины Англии, Парижа, Нью-Йорка внезапно подняли головы и начали теснить мужчин… Но мужчины не увидели связи!
Модерн родился в Англии, феминизм тоже пришел оттуда (это также не произвело впечатления!). Модерн неприкрыто возвеличивал магию природы и Женщину, способную, как и Великая Мать, даровать и отнимать жизнь – женщину-амазонку, женщину-ведьму, женщину-убийцу. Саломею, убившую христианского пророка Иоанна Крестителя, Юдифь, похитившую жизнь Олоферна…
Или, быть может, дело было именно в том, что Модерн чересчур не скрывал своих предпочтений. Кто из слепых мог предположить, что правда лежит у них прямо под носом?
Модерн не намекал – он говорил прямо, так прямо, что, прожив годы среди модерновых красот, Катя недоумевала, как она могла не расслышать заявления, высказанного с такой беспардонною, хамскою прямотой:
«Великая Мать возвращается!..»
Как и готический костел, как и православный собор, воспевающий Бога каждой мельчайшей деталью, Модерн воспевал Землю-Мать. И как любой христианин мог без труда прочесть в храмовой лепнине из виноградных лоз строку из Святого Писания («Я есмь лоза, вы – ветви»), тот, кто знал тайнопись ведьмацких заклинаний, понимал речь Модерна.
Печать Модерна – лепные круги на фасаде. Круглые окна с причудливым переплетением рам. Ползущие по стенам растения: лилии, орхидеи, ирисы, калы, тюльпаны… Однако ж болотных кувшинок, каштанов, репейников было на киевских домах отчего-то больше всего.
– Остановись, – приказала Катя шоферу.
Грифель карандаша Дображанской побежал по бумаге.
Круги, повторяющиеся от здания к зданию, Катя растолковала сразу. Точно такие же символичные окружности, срисованные Машей из книги Киевиц, украшали поля ее шпаргалок с заклятиями. Они-то и помогли Кате сыскать первый ключ к Модерну.
Круг сплошной – с тремя линиями снизу – понимать как: изготовить при полной луне.
Полый круг, перечеркнутый линией – дождитесь затмения.
«Репейник, каштан. 21 круг, – скрупулезно сосчитала Катя окружности на фасаде. – Переждать двадцать лун и одну… Интересно, что это – рецепт? Неужели рецепт написан на доме?»
Изредка Кате удавалось прочесть тайнопись полностью, чаще – расшифровать отдельные символы. Дело осложнялось тем, что Катерина Михайловна мало разбиралась в лунных фазах и еще меньше в растениях . В свое время, прочитав Машины записи, она сразу отложила все травяные отвары, понимая, что вряд ли когда-нибудь отправится за полночь на Лысую Гору искать там плакун-траву или тирлич. И теперь, сидя в поместившемся в брюхе авто кабинете, шурша бумагами, исписанными рукою «кузины», Катя жгуче жалела о недостаче образования в сфере ботаники и еще больше об упущенном времени. Разве трудно было за 6 лет сыскать час полистать на досуге книгу о травах?
– Екатерина Михайловна, – снова завел шофер.
– Еще одно слово и будешь уволен! – осерчала Катя.
Чуткие к выгоде ноздри Катерины Михайловны знали: она в двух шагах от ОГРОМНОЙ ТАЙНЫ. Скрытой ото всех, – возможно, даже от ведьмы Акнир, – именно оттого, что расположена прямо под носом.
На Пушкинской, 41 Дображанская простояла около четверти часа:
«В центре опять каштан: плоды и листья. А вот все остальное… Очень сложный отвар. А может, настой. Или саше… А может, чушь все это? Зачем лепить рецепты на стенах?»
На одной из Липских улочек, глядя на изящнейший дом, Катя не поняла ничего, лишь загляделась на стены, сплошь увитые лепными розами с колкими стеблями (значение сих благородных цветов Катерина Михайловна, сварганившая из них в свое время Присуху, знала отменно. Роза символизировала абсолютную женскую власть). А на карабкающейся на Владимирскую горку Костельной улице Катин передвижной кабинет остановился у № 7 – доходного дома, имевшего в ХХІ веке дурную репутацию дореволюционного голубого борделя.
Скабрезный городской анекдот о гомосексуальном притоне несомненно породил барельеф над аркой во двор. Двое обнаженных мужчин, объятые колким чертополохом, властно обвившим их змеиными кольцами. На лицах обоих мужей запечатлелась престранная отрешенность. Один горделиво смотрел в сторону – в абстрактное светлое будущее, не замечая колючих пут, второй – удивленно-недоверчиво поднял голову вверх, туда, где с высоты пятого этажа на них мрачно смотрела Великая Мать с кошачьими ушками и волосами-змеями.
И хотя о природных свойствах чертополоха, прозванного в народе репейником, Катя не знала ничего, в голове вдруг всплыла строчка из Святого Писания. «С лозы и смоквы собирается добрый плод, а с репейника и терна – худой», – сказал Господь, противопоставив лозу репейнику, а себя…
«…нам, ведьмам, язычницам!» – закончила Катя.
Репейник – антитеза Христа – символизировал Природу, Великую Мать, женское начало, побеждающее мужское. И на стене 7-го дома женщины побеждали мужчин. А мужчины не верили! Или просто не замечали…
Женщины сделали революцию. Но ни в одном учебнике об этом не было сказано ни слова, потому что мужчины просто не заметили этого! Как человек давно перестал замечать, что он слабее природы.
«Великая Мать возвращается… Новый Матриархат», – повторила про себя Катерина.
Вскоре после февральской революции Временное правительство признает за женщиной право воевать, и на фронт потопают первые дамские батальоны смерти. Графиня Панина станет первой в мире женщиной-министром. Первой в мире женщиной-послом станет товарищ Коллонтай. А после Октябрьской – большевики едва ли не первыми в мире признают за женщиной ВСЕ права. Или не признают, если Акнир убедит их отменить революцию.. . Тогда никакой свободы нынешним дамам не светит. Когда-то их Даша страшно переживала по этому поводу. А Катя – напротив. Да и теперь ее взволновало иное.
Стену модернового дома на Костельной № 7, утверждавшего, что женщины одолеют мужчин, украшала римская цифра MDCCCCXIII – 1913 год. Еще четыре года назад дом знал то, что сказал вчера Кате Распутин:
«Бабы русский народ до смуты и довели!»
«Если на стенах домов написаны рецепты, ими можно воспользоваться… Но если здесь написаны пророчества?.. Или того хуже – заклятия?»
Катя быстро повернула голову вправо. В конце Костельной, на Владимирской горке, бывшей в одночасье третьей Лысой Горой, возвышался круглый павильон панорамы «Голгофа» – один из первых образчиков киевского стиля Модерн. Еще в 1911 Маша первая обратила внимание на нехорошую странность… Полотно, живописующее о мучительной казни Христа, заключили в круглое здание, украшенное лицами ведьм с волосами из змеящихся стеблей кувшинок.
И Катерина Михайловна вдруг всей кожей ощутила холод и тяжесть второго ключа, ощутила так явственно, будто он впрямь оказался у нее на ладони.
Помимо роз, кувшинки были одними из немногих цветков, значение и свойство которых крепко врезались в Катину память. В ведьмовстве они звались иначе… одолей-трава! Сорванная в нужный час нужным образом, водяная кувшинка могла одолеть все. И коли это – пророчество, оно яснее некуда… Великая Мать победит Христа!
«Вам ведь земных мужей мало, вам небесного Отца подавай!»
Так и будет!
В Империи, на Украине, на Киеве и прямо на этой горе. Лысая Гора победит панораму «Голгофа» и древний Михайловский монастырь… В 30-е годы 700-летний Свято-Михайловский будет уничтожен вместе с сотнею киевских церквей.
«Что еще Маша говорила тогда про Модерн? – лихорадочно подумала Катя. – Это важно! Нужно вспомнить…Что он буквально преследует нас… И здание больницы, где умер Столыпин, – Модерн, и квартира Кылыны, где мы поселились, и дом Анны Ахматовой. А на ее доме… О Боже! Конечно!!!»
– На Меринговскую, – крикнула Катя шоферу. – И побыстрей.
Кабы она не была царицей…
Кабы она не была царицей, это была бы совсем другая история… История о настоящей любви. Нет, не страсти – любви. Неподдельной. Той, о которой мечтает каждая третья, а получает одна на миллион. Любви, опровергающей все изысканья психологов – с первого взгляда и до смертного часа. Любви, нежность которой не ослабела ни на градус за двадцать лет брака.
Как редко шестнадцатилетние юноши влюбляются в двенадцатилетних девчонок. Он влюбился в свою троюродную сестру сразу и навсегда. Как часто первое неопытное чувство бывает мимолетным, обманным, но такого не сталось – прошло шесть лет, а он любил ее так же, и на первой странице дневника был вклеен ее портрет. Прошло еще два года, и он записал уже в другом дневнике: «Моя мечта – когда-нибудь жениться на Аликс Г. Я давно ее люблю, но еще глубже и сильнее с 1889 г., когда она зимой провела шесть недель в Петербурге… Я почти убежден, что наши чувства взаимны. Все в воле Божьей».
Это дневник последнего императора России Николая II.
И кабы его Аликс Г. не стала царицей, это была бы совсем иная история – о единстве душ, покое и счастье, похожем на золотой солнечный луч.
Но он был царем. А она царицей. И их любовь обернулась крушеньем Империи.
* * *
«Жениться по любви не может ни один, ни один король…»
Он смог!
Впервые двенадцатилетняя принцесса Аликс-Виктория-Елена-Бригитта-Луиза-Беатриса Гессен-Дармштадтская, дочь Людовика IV и Алисы Английской, приехала в Россию в 1884-м. После ранней смерти матери ее взяла на воспитание бабка – английская королева Виктория. Белокурая немецкая принцесса говорила и думала по-английски и держала себя с надменной неприступностью истинной леди.
Познакомившись с ней, влюбленный Ники немедленно выпросил у матери-императрицы бриллиантовую брошь и подарил юной гостье. Аликс молча вернула ему неподобающе драгоценный подарок, больно засадив булавкой Николаю в ладонь. И все же, еще тогда, в далеком 1884 году, они написали свои имена алмазом на дворцовом стекле. Потом она уехала. Потом ему запретили видеться с ней…
Ее легендарная бабушка была против их брака. «Я склонна сохранить Аликс для Эдди или для Джорджи», – говорила она. Джорджи – будущий король Англии Георг V. Будущему царю России отец-император прочил в жены французскую принцессу. Но обычно безвольный и мягкий Ники решительно отверг эту партию. Он ждал долгие годы, когда ему позволят жениться на Аликс, и десять лет ожидания не смогли стереть ни алмазную роспись на стекле в Петергофе, ни инициалы А. Г. – в его сердце.
В 1894-м умирающий император Александр III стал готовить свадьбу наследника с Гессенской принцессой. На то были свои причины. Аликс снова приехала в Питер. «Необаятельная, деревянная, холодные глаза, держится, будто аршин проглотила», – вынес вердикт двор. Но Ники видел ее иными глазами: «Она замечательно похорошела», – записал он в своем дневнике.
Однако сломить сопротивленье возлюбленной оказалось ничуть не менее сложно, чем волю королевы Виктории и отца-императора. Аликс ответила Николаю отказом! Причина была поразительной – принцесса отказывалась сменить религию. Казалось, это в порядке вещей, и две ее прабабки покорно принимали православие, выходя за русских царей, так же поступила ее родная сестра, бывшая в браке с великим князем. Но в то время, когда союз Ники и Аликс уже считается в мире делом решенным, сама она ревет белугой дни напролет.
«Она плакала все время и только от времени до времени произносила шепотом: «Нет, я не могу» – пишет Николай матери. «Говорили до 12 часов, но безуспешно: она все противилась перемене религии, она, бедная, много плакала…» – свидетельствует дневник Ники. «Аликс не любит своего будущего супруга», – утверждает одна из фрейлин, наблюдая ее бесконечные слезы.
И ошибается! Алиса Дармштадтская плачет именно потому, что любит его. Предчувствия не обманули влюбленного – все эти годы она мечтала о нем, как и он. Но так страшно сделать выбор между любовью и верой!
«Те сладкие поцелуи, о которых я грезила и тосковала столько лет, и которые уже не надеялась получить… слишком большое сердце – оно пожирает меня», – строчит она в перерывах между слезами.
В этом, как и во многом другом, они так похожи со своим женихом – самым истово верующим из всех русских царей. Но привыкший всегда и во всем полагаться на волю Божью, – здесь первый и последний раз за свою биографию Николай ставит любовь превыше всего! Уважая ее религиозность, искренне жалея ее, он продолжает убеждать невесту, призывая на помощь и ее сестру Эллу, и свою мать-императрицу – датскую принцессу, сменившую веру. А его Аликс Г. все плачет и плачет…
Подобно Ромео, вдруг затормозившему у порога дома Джульетты, она точно предчувствует страшный финал их любви, поправшей своей нежной силой и царскую, и божью власть.
…Добра не жду. Неведомое что-то,
Что спрятано пока еще во тьме,
Но зародится с нынешнего бала,
Безвременно укоротит мне жизнь
Виной каких-то страшных обстоятельств.
Но тот, кто направляет мой корабль,
Уж поднял парус. Господа, войдемте! [3]
После воспитанница английской королевы скажет это почти теми же словами, что и английский гений:
«Я все время думаю о тебе, я люблю тебя, мой дорогой, больше, чем можно выразить словами, и с каждым днем моя любовь становится сильнее и глубже…
Милый, какой будет конец?»
* * *
Как часто принцессы и принцы женятся по любви?
Только в сказках.
Но им удалось претворить ее в жизнь!
«Дорогая мама, я не могу выразить, как я счастлив. Весь мир сразу изменился для меня: природа, люди – все мне кажутся добрыми, милыми и счастливыми. Я не могу даже писать, до того дрожат мои руки», – признается он 8 апреля в день их помолвки, когда, после долгих слез, она наконец скажет ему долгожданное «да».
«Ты знаешь, я сохранила серое платье принцессы, которое я носила в то утро. И я буду носить твою дорогую брошку», – напишет она ему в годовщину помолвки 8 апреля – двадцать один год спустя!
В апреле 1894-го она примет от него в подарок ту самую брошь, которую отвергла двенадцатилетней девчонкой. До последнего дня она будет хранить свои ученические тетради по русскому языку, на страницах которых, готовясь в императрицы Руси, училась спрягать глагол «верить» («Мой народ стал твоим народом, и мой Бог стал твоим Богом»).
Аликс вернется в Виндзор. Он поедет за ней. И при виде этой воркующей парочки даже чопорная английская королева растает, позволив им небывалую вольность – выезжать всюду вместе, без компаньонов. И они будут кататься на лодке, собирать цветы, устраивать пикники. Она будет шить, а он – читать ей вслух свои любимые книги. Она будет записывать в его дневник любимые изречения. Они будут сидеть на диване, часами держась за руки. Расставшись, примутся ежедневно писать друг другу письма с бесконечными признаниями. Время своего жениховства он назовет месяцами «райского блаженного счастья».
Впрочем, кто из нас не был безоблачно счастлив пред свадьбой и в первые медовые месяцы брака? И кто смог сохранить поэтическую любовь в стиле Гете десятилетья спустя?
Они смогли! Сорокалетняя Аликс писала мужу с трепетом юной девушки: «Мой мальчик, мой Солнечный Свет», «Я так бесконечно люблю моего драгоценного мальчика. Вот уже 20 лет, как я – твоя, и каким блаженством были все эти годы», «Я поцеловала твою подушку…. Твоя старая Солнышко». «Мое возлюбленное солнышко, душка-женушка. Я прочел твое письмо и чуть не расплакался… любящий старый Ники», – вторит ей он.
И кабы он не был царем, а она царицей – они бы стали счастливейшей парой двух буржуа, живущих в своем идиллическом мире, верными, преданными, любящими своих детей и друг друга. И не зря, узнав о смертельной болезни отца, Николай умолял того позволить ему отказаться от трона. Он не имел характера императора – Ники был типичный «прекрасный семьянин». Но Александр III остался непреклонен к мольбам. Собственно, в обмен на согласие принять престол ему и позволили взять в жены неуместную Аликс. Он принял царский венец ради нее! И стал царем, ставящим семейные ценности превыше государственных. И сделал ее царицей, чья смена чувств волнует супруга больше, чем шепот придворных и глас народа. И это стало их преступлением.
Александр III умер в год их помолвки – в самый разгар романтически-сладкой любви. Новая императрица, принявшая при крещении имя Александры Федоровны, въехала в Петербург вслед за гробом. Они обвенчались через неделю после похорон. И она сразу пришлась не ко двору.
Многоопытная бабушка королева Виктория не без основанья беспокоилась, что чересчур быстрый взлет – скоропостижное превращение безвестной принцессы в царицу, не пойдет той на пользу. Императрица России еще не говорила по-русски и совершенно не знала, как себя держать. Стоя на приемах рядом с супругом, Александра леденела от страха. Все, что делало Аликс прекрасной женой – ее застенчивость, сдержанность, скромность, нерушимые принципы, – сделало ее плохой царицей. Ее фанатичная вера (вера вчерашней протестантки) вызывала у православных придворных презрение и насмешки. Ее викторианская холодность (броня, чувственно-страстную изнанку которой знал один ее муж) породила массу недоброжелателей. Ее частые беременности (с1895 по 1901 годы она родила четырех дочерей), помноженные на убежденность: хорошая мать должна сама нянчить детей и почаще быть с ними, – отрезали ее от двора. Те похвальные привычки, которые англо-немка Аликс прививала великим княжнам: нерасточительность, неприхотливость, чтение богоугодных книг, – казались иным, по меньшей мере, чудачествами. Царские дочери спали на походных кроватях, почти без подушек и обливались утром холодной водой. Августейшая семья вела замкнутый образ жизни, сосредоточенный друг на друге.
Александра Федоровна так и не нашла здесь настоящих друзей. Так и не разобралась в хитросплетеньях дворцовых интриг. Так и не поняла Россию, которую мечтала спасти.
Ее – так и не полюбили.
А позже – возненавидели.
* * *
При английском дворе внучку королевы Виктории прозвали за лучезарный характер Сани – Солнышком (от английского sun). Когда после десяти лет бесплодных попыток родить России наследника, Аликс произвела на свет сына, она стала звать его этим именем.
Но это «солнце» было закатным.
Неспособность Алисы подарить великой стране нового царя не делала ей чести в глазах народа. Подарок, который она преподнесла, был того хуже. Мальчик родился больным, и вина за эту болезнь легла на его мать. Гемофилия – несвертываемость крови была родовым проклятьем мужчин рода Гессен-Дармштадтских. Все приближенные знали: будущий монарх Руси обречен, его заболевание неизлечимо – любой случайный порез приведет к смерти наследника. И тут на сцене появился Распутин…
Сибирский крестьянин, знахарь, паломник, пророк – святой черт, он утверждал, что, распахивая поле, вдруг увидел знамение. Ему явилась сама Богоматерь и наказала спасти цесаревича. Ребенок родился в 1904 году – его страшный недуг был государственной тайной. Но Григорий Распутин, прибывший в Питер в 1905-м, точно знал, зачем он пришел. Два года спустя он был допущен к царю. Его появление совпало с очередным приступом, состояние цесаревича Алексея было критическим. «Святой» остановил молитвою кровь – и тем самым на десять лет установил свою власть во дворце.
Царица мгновенно уверовала, что сибирский старец, спасший ее сына, способен спасти и Россию, и слушала его беспрекословно. Царь, в свою очередь, всегда верил «бесценной женушке» и слушал ее. Теперь, помимо любовных, она писала ему иные письма: «Слушайся нашего Друга: верь ему», «…та страна, Государь которой направляется Божьим Человеком, не может погибнуть», «…мы должны обращать больше внимания на его слова – они не говорятся на ветер. Как важно для нас иметь не только его молитвы, но и советы». В письмах и Аликс, и Ники писали слово «Друг» с большой буквы и обращались к старцу на «вы». Он говорил им «ты», называя попросту «папа» и «мама». И так же попросту назначал и снимал с должности министров и спал с придворными дамами…
Без толку мать Николая, вдовствующая императрица, заламывала руки: «Моя бедная невестка не осознает, что она губит и династию, и себя. Она искренне верит в святость этого авантюриста, и мы бессильны предотвратить несчастье, которое, несомненно, придет». Аристократы, помыкаемые тобольским крестьянином, чувствовали себя уязвленными. В народе гуляли паскудные картинки, где голозадый царь в позе младенца сидел на коленях Гришки Распутина и ходил пакостный слух: грязный мужик спит с матушкой-императрицей…
В самом деле, как это можно было еще объяснить? Тем паче что «святой старец» был вовсе не стар, на три года моложе царя, и славился непомерной сексуальною силой. Иным объяснением могло быть только безумие, поразившее царскую семью.
Но, кабы она не была царицей, ее сын – цесаревичем, а его болезнь – постыдною тайной… Кабы она была обычной смертной, кто упрекнул бы ее, мать, в той, граничащей с сумасшествием вере, которую породил в ее душе человек, почти воскресивший ее единственного сына из мертвых и продолжавший сжимать в своих руках его жизнь?! Когда-то трехлетний брат Аликс умер от гемофилии у нее на глазах. Но кем бы ни величали Распутина – распутником, авантюристом, губителем, – даже ненавидящие его доктора, скрипя зубами, признавали благотворное действие его молитв на здоровье наследника.
В 1912 году, когда «святого старца» не было в Питере, цесаревич Алексей вновь оказался на краю могилы. Лекари единодушно признали его безнадежным. Распутин отправил царице телеграмму из какой-то глуши: «Твой сын будет жить». На следующий день мальчик пошел на поправку… И любая мать поняла бы ее! И как мать ее можно было понять.
Но – не как царицу.
«Как мать и жена, Александра Федоровна ставила семейный долг выше патриотического и на государственные дела смотрела как на продолжение семейных обязанностей, – напишут историки спустя много лет. – В стремлении спасти мужа и сына, которых она любила без памяти, она не ведала, что творила, и сама готовила их гибель…»
И гибель Империи.
* * *
Безграмотный мужик, усевшийся на трон, отвратил от трона и мужиков, и дворян. И недолгий патриотический подъем, который вызвал у россиян начало Первой мировой, очень скоро обернулся агонией.
В 1915-м Николай II взял на себя роль Верховного главнокомандующего и отправился на войну с Германией. Управлять страной он оставил свою нежно любимую Аликс. И, кабы она не была царицей, ее поведение было бы достойно бесконечных похвал. Впервые в истории российская императрица не ограничилась опекой и учреждением лазаретов – вместе с августейшими дочерьми Аликс окончила фельдшерские курсы сестер милосердия. Они дежурили в палатах, ассистировали при операциях, перевязывали, обмывали раны – такие, при виде которых падали в обморок опытные санитарки. Простые солдаты умирали на руках государыни…
Но Аликс была царицей – и ее поведение сочли недостойным, «умаляющим престиж высшей власти». Она была царицей, и ей следовало стоять не рядом с хирургом, а во главе огромной страны. Она была царицею-немкой, чей муж воевал сейчас с ее родным братом, и то и дело бывшую принцессу Гессен-Дармштадтскую обвиняли в сочувствии к своей родине и в шпионаже. Николая все больше презирали, его «душку-жену» – ненавидели все сильней и сильней.
Накануне рокового 1917-го всплыли сфабрикованные кем-то письма царицы и великих княжон, якобы свидетельствовавшие об интимной связи Распутина с дочерьми и женою царя. В предпоследний день 1916-го Гришку убили, утопили в Неве. И лишившись своего единственного в России «друга», Аликс оказалась совершенно беспомощной – она продержалась на троне только два месяца.
Находясь вдалеке от Петрограда (потерявшего в начале войны свое немецкое окончание «бург»), Николай давно утратил контроль над ситуацией. До него доходили отрывочные нехорошие сведения. Но, узнав в конце февраля, что в столице начались беспорядки, в которых принимают участие измученные бессмысленной войной войска, он принял решение покинуть фронт и отправиться… Нет, не в Петроград – в Царское Село, где пребывала его «бесценное солнышко».
По дороге поезд был остановлен. «Стыд и позор! Доехать до Царского Села не удалось. А мысли и чувства все время там. Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам Господь!» – плачет дневник императора.
Николаю объявляют: сохранить династию можно, лишь передав трон цесаревичу. Ники считают бездарным царем и главнокомандующим, но двенадцатилетний наследник, мальчик-герой, отправившийся со своим отцом на войну, любим народом, в нем видят надежду. И, вняв совету, царь пишет отказ от престола в пользу сына. Но спустя пару часов «прекрасный семьянин» берет верх. Призвав в вагон профессора Федорова, император спрашивает: излечима ли болезнь Алексея? И получает ответ: тот может дожить до старости, но его жизнь всегда будет зависеть от «всякой случайности». «Это как раз то, что мне говорила Государыня, – вздыхает отец. – Ну, раз это так, мы имеем право сохранить его при себе».
Император пишет новый отказ от имени сына в пользу младшего брата. Его брат Михаил откажется от трона через восемь часов. 2 марта 1917 года около 3 часов страна останется без царя. Отныне она не принадлежит никому. Ее может взять, кто угодно.
Но, страдая от предательства, лжи и обмана, переживая за судьбу империи, сам Николай мало страдает от потери России. Воссоединившись с Аликс в Царском Селе, он гуляет, работает в садике. В августе августейшую семью перевозят в Тобольск и поселяют в бывшем губернаторском доме, названном ныне «Домом Свободы».
И – вот парадокс, – живя там под охраной, впервые они свободны от непосильного бремени власти. Бывший царь пилит дрова во дворе, упражняется на турнике. «Каждое утро пью чай со всеми детьми… Большую часть дня провели на балконе, который весь день согревается солнцем». Аликс, страдавшая последние годы от сильной одышки, пишет письмо подруге: «Тело мне не мешает, сердце лучше, так как я спокойно живу». Они ведут размеренную, неприхотливую жизнь. Она вяжет, читает Библию и другие духовные – «хорошие книги». Если бы не скука заточения и невозможность гулять, на которую сетует Ники в своем дневнике, они были бы счастливы.
Они могли бы быть счастливы! Подписывая отказ от престола, Николай надеялся провести остаток жизни с семьей, проживая как частное лицо где-то в Крыму. Глава нового правительства Керенский хотел переправить семейство Романовых в Англию. Так бы и сталось… Если бы она не была царицей, а он не был царем, они бы мирно состарились рядом с Виндзором, где расцвела их безмятежно-счастливая любовь в стиле Гете, и их маленький идиллический мир на двоих не был омрачен непонятной ни ей, ни ему большой политикой. Они снова собирали бы цветы на лугу, устраивали пикники и катались на лодке…
Но она была царицей, а он был царем. Всевластная бабушка королева Виктория лежала в могиле. А несостоявшийся жених Аликс король Георг V, поразмыслив, отказался от своего приглашения. Английский крейсер, прибывший к берегам Крыма, принял на борт мать Николая, вдовствующую императрицу и его сестер. Но сверженные с трона Аликс и Ники были слишком опасными гостями.
А вскоре к власти пришел человек, который счел, что и он, и она, и их дети, даже собаки их детей – слишком опасны, где бы и кем бы они ни были. Потому что он – царь. А она – царица… И по приказу Ленина «старая Солнышко» и ее вечный «мальчик, Солнечный Свет», ее сын Сани и четыре великих княжны были расстреляны, их тела облили кислотой, вывезли в лес, бросили в шахту и подожгли. И история, сделавшая их жертвами и новомучениками, ужасы кровавой свистопляски затмили для нас, кем они были на самом деле. Людьми, превратившими сказку в жизнь. Царицей, написавшей мужу 652 любовных письма. И царем, заплатившим за свою любимую наивысшую цену.
Он не хотел быть императором!
Он мечтал отказаться от трона. Но принял царский венец в обмен на нее. И, приняв вместе с ним участь жертвы, пожертвовал своей жизнью ради этой любви.
Она не хотела быть императрицей – она просто хотела быть с ним. И, приняв его веру, его страну и его страшную участь, еще будучи невестой, записала в ночь свадьбы в дневнике своего жениха пророческие слова:
«Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно!»
Но кабы она не была царицей….
Примечания
1
Начало истории – читайте в романе «Киевские Ведьмы. Выстрел в опере».
2
Читайте статью «Кабы она не была царицей».
3
У. Шекспир «Ромео и Джульетта», перевод Б. Пастернака





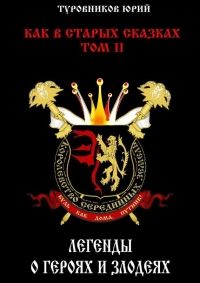






Комментарии к книге «Рецепт Мастера. Спасти Императора! Книга 2», Лада Лузина
Всего 0 комментариев