«Я по лестнице шаткой поднялся. И дверь заскрипела.
Задержалось дыханье, а ноги налились свинцом.
Предо мною на горле стропила петлею висело
Полотенце, которым мне мать утирала лицо».
А. Градский, «Баллада о чердаке»Глава первая
— Встретимся у Священного Дуба! — говорил вольным лесным стрелкам прославленный их предводитель, отправляясь на очередную операцию. «Кто там смеет драться под святым деревом!» — порицал Робин Гул веселого отшельника Тука. Таким же традиционным и неповторимым местом сбора нашей компании были «Большие качели». По воле случая оно находилось точно на перекрестке всех путей «из варяг в греки», и хорошо просматривалось из окон близлежащих, заполонивших Черемушки девятиэтажек. Здесь когда-то жили мои друзья.
Почему «большие»? Просто, другие казались меньше.
Девятилетним пацаном я бродил по этой детской площадке, свысока поглядывая на крепышей, возившихся в песочнице со своими ведерками и формочками. Куличики мне были давно уже не интересны. Я проглотил «Три мушкетера»:
— Не идут! Куда же они запропастились? Покачаться, что ли? — и блестящая карета с тремя королевскими лилиями увозила героя в средневековый Париж. Вот за деревьями улицы Феру мелькнул знакомый силуэт Атоса, вскоре наша троица была в полном составе. Арамис спешил поведать своим друзьям о кознях злобного кардинала. Ничего, что стебли полыни с плантаций извечных пустырей заменяли грозные шпаги. Воображение достраивало все недостающее.
Смазывая зеленкой царапины и содранные в кровь колени, мать потихоньку ругала мушкетера: «Чего ты по лесу шатаешься? В кино бы лучше сходил!» И получив на руки по десять копеек, мы мчались в кино, где к тому времени неизменный и любимый всеми мальчишками «Корабль-призрак» сменили ослепительный «Зорро» с Аленом Делоном и романтические фильмы Жана Маре. А дома были танкисты с их собакой и Штирлиц с уставшими глазами.
От компьютера меня оторвал довольно поздний звонок Станислава.
Я никак не мог отредактировать свою статью, а потому разозлился:
«Какой идиот вздумал трезвонить в час ночи!» Впрочем, мой гнев тут же улетучился, едва я услышал давно знакомый голос Атоса. А если уж он в кои веки, преодолев извечную лень, потревожил старинного приятеля, обычно я находил Стаса первым — на то, видно, имелись серьезные причины.
— Тут у меня завтра намечается небольшое сборище. Ты не хотел бы присоединиться к нам? Вспомним старые добрые времена…
— В качестве кого? — последние годы каждый из нас жил сам по себе, сферы наших интересов никак не пересекались, и это заметно охладило те дружеские чувства, что я когда-то питал к собеседнику.
— Ты чем-то раздражен? Извини, я, действительно поздно. Мне важно услышать твое мнение, как человека близкого к науке. Будут все наши! — сообщил он мягким барственным баском.
— Неужели, это так срочно? — парировал я, впрочем, уже покоренный его дипломатичным «услышать именно твое мнение».
Стас окончил «психфак» МГУ и знал как говорить с глубоко чуждым ему человеком.
— Именно, именно! И потом, мы давно не виделись.
— Ну, хорошо. Где?
— Все там же, у Больших… Место встречи изменить нельзя. Если не возражаешь, сначала пройдемся… — едва различимо усмехнулся он в ответ, но я уловил эту интонацию.
Качелей давно уже не было. Детскую площадку перерыли вдоль и поперек. Вогнали в нее бетонные столбы, понаставили пивных палаток и гаражей. Сколь ни почитай свою родину-мать, ее обязательно изнасилует какой-нибудь подлец, и ничего ты с ним не сделаешь.
Некоторое время после объявления перестройки они еще стояли, поскрипывая и жалуясь на людскую неблагодарность, но вот, качели рухнули и утонули в жиже глубокой ямы, бульдозер искорежил их, засыпал каменистым суглинком, сравняв могилу с землей.
Ждал я по обыкновению долго. Наконец, когда джентльменские десять минут истекли, появился Станислав, он издали помахал мне рукой, в три прыжка пересек улицу и направился к «Большим качелям»
быстрым размашистым шагом. Почти одновременно с ним из-за угла котельной показался Вадим и следом Павел, с которым мы когда-то сидели за одной партой. Последним был Арамис — Вовка, явившийся с противоположной стороны. Трудно представить себе более пестрое и несовместимое по характеру сборище. Но именно это меня более всего заинтересовало, поскольку ведущий размеренную замкнутую жизнь Станислав никогда ради приятного времяпровождения не собрал бы столь разных людей вместе, если бы не имел какую-то особую цель.
И все-таки, черт возьми, было приятно повстречать школьных друзей, с которыми не виделся уже много лет.
— Ну-с, с чего начнем?
— Совершим паломничество по местам былой славы! — воскликнул Стас и повел всех за собой.
— Как живешь, Рогволд? — Павел хлопнул меня по плечу.
— Не так, чтобы очень здорово, да грех жаловаться. Сам виноват, что остался. Тяну работу на кафедре. Но ты же знаешь, старики уходят, а смены нет. Молодежь обленилась. Оборудование побито да разворовано. За самое ничтожное измерение в чужой лаборатории — наливай пол-литра. Это в лучшем случае. Зарплату почитай пятый месяц не видели. Нет, конечно, все это не главное. Самое плохое то, что я не могу больше отвечать за достоверность собственных исследований. И это ужасно.
— А я вот, тоже… Покончил со своей робототехникой и шофером подрабатываю. Жить-то надо?
Переговариваясь таким невеселым образом, мы погрузились в зеленые гущи Битцевского лесопарка и, выбрав одну из знакомых тропинок, зашагали вглубь изрядно замусоренного предлеска.
— А помните, где-то здесь раньше дерево такое было? — остановился Вадим.
— Как не помнить. Кривое. Возле него весною всегда было много маленьких зеленых гусениц. То тут, то там, они свисали на тонких, едва различимых серебристых нитях. Мы, ведь, еще в детском саду здесь бродили парами.
— У тебя, прямо-таки абсолютная память! — отозвался Вовка и подмигнул Стасу.
«Видать, как и раньше, Арамис и Атос в сговоре», — отметил я про себя, но вслух произнес лишь:
— А нужна ли она, эта «абсолютная память»? Есть ли от нее хоть какая-нибудь польза?
— Сразу видно человека с прагматическим взглядом на мир, — Стас повернулся ко мне и добавил. — Но иногда и мы, загнивающие гуманитарии дадим вам, физикам да химикам, сто очков вперед.
— Это ты к чему?
— Сначала поясни, что такое «память» с точки зрения физика, а потом я отвечу на твой вопрос.
— Изволь. Но сначала оговорюсь — это взгляд физика-диалектика, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Свернув с тропинки, мы выбрались на большую поляну, окруженную плотным кольцом берез, на краю которой нашли укромное местечко.
Усевшись на бревна возле мертвого костра таким образом, чтобы всем было слышно, я постарался возможно более доходчиво растолковать приятелям суть дела.
— Возьмем за начало некое состояние, которое не может быть никак описано, потому что не имеет никаких свойств и вообще любых характеристик. Это Ничто. Это информационный вакуум, из которого родился мир, а с точки зрения математика — это просто «нуль».
Но раз «нуль с точки зрения», значит кроме него, нуля, уже есть Некто, наблюдающий и исследующий Ничто, сам появившийся из его недр.
— Извини, я перебью тебя, Рогволд! — вклинился Вовка в мою лекцию. — Значит ли это, что ты предполагаешь с самого начала дуализм.
— Это я и хотел сказать, — диву даешься, как иногда привяжется этот менторский тон, так никуда от него не денешься. — Некто называют разными именами — Субъект, Сущий, Логос, Господь Бог, Экспериментатор… Сейчас нас интересует совсем другое. Раз есть Некто и Ничто — значит, между ними возможен обмен, переход. Значит, уже есть взаимообратные процессы, в одном из которых верх берет Некто, а в другом — этот Ничто. Первый станем именовать возникновением, математически он выражен как порождение единицы нулем. Второй — это смерть, т. е. порождение единицей нуля.
Ботинком я расчистил землю от полусгнивших листьев и начертал некую абстрактную схему, которая, как мне казалось, весьма точно иллюстрировала мои слова.
Паша скучающе зевнул, а потом жалостливо глянул на меня: «Ты что, старик! Белены объелся?»
Но я не внял его мольбе и через секунду рисунок был готов:
НИЧТО/НЕКТО НИЧТО
Затем изложение пошло, как по маслу, у меня сам собой развязался язык, и после затяжного сна проснулось красноречие. Я сыпал научными терминами, обрадованный, что, наконец, нашел благодарных слушателей. Мои, мягко сказать, неформальные взгляды на эволюцию ничуть не способствовали улучшению отношений с коллегами на кафедре. Между тем ничего криминального в них не было, а был Гегель с его «Наукой Логики». Все новое — хорошо запрещенное старое.
— Рождение и Смерть — соперники, они непримиримы, но в их схватке не будет победителя. Если что-то появляется — что-то обязательно пропадает. За процессом возникновения следует всегда исчезновение. Некто снова обращается в Ничто, замыкая цикл. Так мы приблизились к следующему фундаментальному понятию — это Жизнь или Бытие. Жизнь временна, жизнь конечна. Я назову бытие временем на жизнь или, просто — Время. Здесь мы наталкиваемся на смутную пока еще ассоциацию с повторяемостью, вращением. Время — это последовательность существования Некто, его история, продолжение событий… Вертеть, ворочать — просматривается сходство? Да?
— Значит, мы попросту приравняли одно Ничто к другому! — откликнулся пытливый Вадим.
— Конечно. Однако, в физике есть немало случаев, когда результат обхода по контуру нельзя приравнять к нулю. Наш здравый смысл и сам повседневный опыт подсказывают, что хотя все и «возвращается на круги своя» — с каждым новым «кругом» накапливаются изменения. Учет предыдущих циклов есть не что иное как регистрация истории Некто. Тогда свойства нашего субъекта можно рассматривать как память о его прошлых состояниях, минувших жизнях. Вот что такое память, физики именуют ее Пространством, оно хранит на себе печать ушедшего.
И я снова принялся чертить веточкой на влажной черной земле:
НЕКТО НИЧТО/НЕКТО
— Память — это покой, это небытие, это сохранение жизни по ту сторону горизонта событий. Тем самым свойства любой вещи во Вселенной есть информация о пути и результате ее развития, совокупность прошлых воплощений, если угодно. Впрочем, наряду с процессом запоминания своей истории в природе имеет место и забывание, стирание информации.
— Гм, а какой-нибудь примерчик? — сосредоточился Вадим.
— Например, расплывание волнового пакета — это процесс забывания информации квантовым объектом. Да и человек не протянет долго, если не научится забывать.
— Склеротики! — бросил в воздух Павел.
— Это еще надо доказать! Он мог бы протянуть куда дольше, если бы имел совершенную и непрерывную память, — возразил Стас.
— Японский бог! — разразился Павел. — Вы можете хоть раз оставить ваши научные баталии в стороне? Какой прекрасный день!
Какой чудный весенний воздух! Вы только послушайте — один лезет со своей физикой, а второй — с лирикой.
— Не будем ссориться, друзья! — миролюбиво заключил Станислав, — Я предлагаю зайти ко мне и перекусить, чем послал бог, хоть и не японский.
Предложение было встречено с пониманием, свежий воздух пробудил во мне не только красноречие, но и зверский аппетит. Совершив торжественное обхождение березовой поляны, здесь в счастливые дни минувшего детства мы лихо рубились на мечах, Стас повел нас к выходу.
— Глядите-ка! Времена меняются, а нравы остаются! — Павел указал на группу ребят, занявших место, где мы недавно вели научные изыскания.
Бросалась в глаза странная одежда подростков — хламиды светомаскировки на одних, серые плащи-паутина — на других.
— Это толкиенисты, — добавил он. — Может, постоим чуть-чуть? Они тоже драться будут.
— Хорошенького — понемножку! У нас если кто на палках дерется — обязательно эльф или хоббит, начитались ребята до чертиков! — Вовка и Стас увлекли его за собой, но Павел несколько раз еще обернулся.
Не удержался и я, заслышав за спиной звон эльфийских клинков.
— Вот тебе и палки! — возразил я Стасу.
Тропа пролегала по косому склону Лысой горы, у подножия которой плескалась Чертановка. Ступая след в след, наша компания миновала заросли прошлогоднего померзшего рогоза. Потянуло жженой травой.
— Помните, как в «Прерии» тушили пожар? — оживился Вадим.
— А, индейцы? Как же, как же! Гойко Митич… — хмыкнул Павел.
— Чего? Классный актер.
— А я разве против?
Перебравшись через речку по останкам деревянного моста, чудом сохранившимся еще с московской Олимпиады, мы почти уже вышли из леса, когда я задел ногой какую-то железяку. Ею оказалась полузасыпанная створка автобусной двери. Здесь мы тоже играли, здесь разломали свой первый аккумулятор в поисках легкоплавкого свинца — символа богатства первоклашки. Уж четверть века минуло. К горлу подступил комок.
— Рогволд! Ну, скоро ты там? — окликнули меня приятели.
— Иду. Сейчас иду!
— Ты чего? — беспокойно спросил Вадим, когда я догнал их.
— «Все швамбраны умерли, как гоголь-моголь!»
Он понял, но ничего не сказал…
— Ну-с, джентльмены, милости просим, как сказали, сомкнув штыки, англичане французам! — провозгласил хозяин, открывая дверь штаб-квартиры.
— Диккенс, «Записки Пиквикского клуба», — отреагировал я.
— Посмертные записки, — уточнил Стас. — А ты в форме?
— Надо быть готовым к любым неожиданностям, чтобы не слишком радоваться, и не слишком огорчаться.
— Разоблачайтесь и проходите в комнату, а я пока чай заварю.
Наша могучая кучка расположилась по привычке в маленькой комнатке Стаса, несмотря на то, что большая пустовала. Галина Михайловна отдыхала в пансионате под Москвой. Здесь ничего не изменилось, разве литература на полках? Дюма, Бальзак, Эдгар По и Честертон потеснились, уступив место Фрейду и Бехтереву, томам светил медицины и психологии, но по-прежнему маленькие безделушки — машинки, индейцы (мы их когда-то всех знали по именам), камушки и коробки — красовались за стеклом книжного шкафа.
— Перекинемся? — Вовка принялся тасовать колоду пестрых календариков. Пожалуй, их там насчитывалось около шестидесяти, если не больше. Попадались очень редкие.
— Оставь, «мизерабиль», не тревожь старину! — укоризненно покачал головой Павел.
Вадим разглядывал альбом с красочными марками «Монгол Шудан».
К обратной стороне двери все также была пришпилена карта мира с разметкой для игры в придуманную нами «Великую Дипломатию» (но об этом еще будет сказано). Возле берегов туманного Альбиона навечно застыли боевые эскадры. Стас любил Англию и неизменно, даже в компании близких друзей, надевал маску доброго джентльмена, чем в конечном счете меня и злил. Это, и еще два или три мелких предательства с его стороны развели наши пути. Много позже я сожалел об этих размолвках, и простил ему все, осознав груз одиночества, что лег на плечи Стаса, но ничего уже нельзя было сделать.
Словом, комната хранила печать минувшего времени, и это на один единственный день снова сблизило нас.
Хозяин появился через пять минут, прикатив столик с пятью чашками крепкого ароматного чая, еще какими-то сладостями и баранками-челночок на блюдечке.
— Итак, ближе к телу! — начал Вовка, и я лишний раз убедился, что дело нечисто.
— Сальности! Сальности! — завопил Вадим.
— Извольте, — сострил хозяин, и поставил на столик блюдо с ветчиной, — Я только прошу не мешать мне, ибо моя присказка необходима точно также, как хорошая закуска к водке.
Мы согласились с ним. Ребята прекратили возню на маленьком диванчике, каждый нашел себе место. Я устроился спиной к окну, так чтобы свет падал на лица «заговорщиков» и можно было без особого труда уловить подвох, когда Стас и Вовка станут перемигиваться.
— Вы, наверное, знаете, — начал Стас, — что последние несколько месяцев я подрабатываю в психушке. Это позволяет сводить концы с концами, да и материал кое-какой набирается. Скоро защита, а я, практически, еще ничего не написал.
— Честность облагораживает. Помнится, как в десятом классе ты застрял в лифте, чтобы прогулять контрольную по физике.
— Рогволд!!
— Молчу, молчу.
Я отхлебнул чая и прикусил язык.
— И вот на прошлой неделе именно в мое дежурство привозят к нам… Кого бы вы думали? Нашего общего знакомого М.
— Не может быть! — возмутился Вадим.
— Я подтверждаю, — оборвал его Вовка со знающим видом.
— Он лепечет какой-то бред. Сыпет изысканной старославянской руганью. Молодцы его скручивают, укладывают на кровать и делают укол. Через час М. приходит в себя. В момент обхода он строит мне рожи, сразу, видать, признал, и когда я приближаюсь, неожиданно тихо шепчет: «Я — не сумасшедший, Стас! Нам надо поговорить. Вытащи меня отсюда хоть на пару часов!» Это, конечно, было не в моей власти, но главврач, по доброте душевной, устроил нам встречу с глазу на глаз.
— Я тоже был в одном дурдоме, — неожиданно произнес Павел. — Там зубной щеткой дедушке чистят сапоги.
— Оставьте армейские воспоминания на потом. Все очень серьезно!
— Вовка контролировал ситуацию.
— Естественно, сперва я зашел к медикам и поинтересовался, не на игле ли наш дорогой друг. Оказалось, его кровь, как у младенца, никаких наркотиков, никакого алкоголя, ни следа никотина. Печень в полном порядке. И все в порядке, кроме мозгов.
— Жаль. Он, в сущности был неплохим парнем. Я всегда чувствовал к нему симпатию, — сказал я.
— Правильно, Рогволд. У вас с ним есть нечто общее.
— Что?
— Вы так и остались детьми, верящими во всякие небылицы. Но, сначала выслушай… Он попросил съездить к нему домой и привезти по старой дружбе одну вещь. Фляжку. Фляжку с подсахаренной водой.
«Зачем тебе? — удивляюсь, — Я и так могу развести.» Он в крик, что это — вопрос жизни и смерти. И если, мол, просит, то, значит, так и надо. «Хорошо, — говорю — привезу ради твоего спокойствия». В следующее дежурство подаю ему эту флягу… — Стас поднялся с места и, запустив руку на верхнюю полку шкафа, благо, рост позволял, вытащил из-за книг названную вещь.
Фляга пошла о рукам. Самая обычная. Армейская. Зеленая. На восемьсот миллилитров. В брезентовом чехле.
— … Поскольку я еще не имел результатов его анализов, то помешательство М. отнес как раз на счет некоего психотропного средства. Иначе, зачем бы ему понадобилось так далеко меня посылать.
Травить больного в том же духе мне бы никто не позволил, но я и сам вовсе не собирался поить его, а решил просто подменить содержимое.
Зина из лаборатории посмотрела, понюхала эту гадость, чего-то капнула туда, да и говорит: «Вода, Стас! Кроме сахарозы, глюкозы и воды на поверхность ничего. Но с нашей аппаратурой…. Короче, сам понимаешь. Береженого бог бережет.» Что там было — я слил в бутылочку, а флягу ошпарил кипятком, вымыл ее с содой, да и развел грамм двести песку. Несу М.
— И что же?
— Он тотчас же сделал отсюда глоток, словно стакан засосал.
— И…
— И вернул ее мне со словами: «Вот, спасибо! Мне больше не нужно. На неделю хватит. Ты, Стас, поставь его к себе в холодильник…» Тогда я спросил: «Кого?». А он мне: «Чудак! Ведь, это ж Эликсир Памяти!»
— Эликсир Памяти, — повторил я, отливая из фляги себе в чашку, — Сейчас мы посмотрим, какой это эликсир.
Запаха, действительно, никакого не было. Тягучая бесцветная жижа типа глицерина.
Мне никто не помешал.
Стас улыбнулся:
— Собственно, именно за этим мы и собрались. Ты, Рогволд, среди нас единственный, так сказать, действующий естествоиспытатель. Тебе и карты в руки. Может, аналитики что-то просмотрели?
— Вряд ли. А знаешь, каков главный исследовательский прибор у бедного русского химика? — с этими словами я осторожно попробовал эликсир на язык.
Напиток оказался на редкость сладким, скорее даже приторным.
— Только, учти…
Стас не договорил, поскольку я осушил полчашки и, как ни в чем ни бывало, поставил ее на блюдечко.
— … следующей ночью наш общий друг М. снова впал в детство, и его привязали к спинкам кровати. Утром он был мертв, а на животе у него нашли свежий ожог, величиной со сковородку. И, естественно, никаких следов отравления. С чего бы им быть.
— Что ж ты раньше не предупредил! — зловеще рассмеялся я, и, хрустнув баранкой меж пальцев, макнул ее в соль.
Глава вторая
В кружке пенилось пиво. Я сидел на плече у отца. Я был выше всех. Он сдул пену и попробовал холодный горький напиток.
— Дайте еще баранки вот этому молодому человеку… — звякнула медь.
Деревянная прямоугольная палатка. Облупившаяся краска цвета салата. Толпящиеся мужики. Постукивание воблы о стол.
— Держи!
Он передал мне наверх связку. Щербатым детским ртом я ухватил слегка обгорелый солоноватый кружок.
Старая красная кирпичная двухэтажка. Бабьегородский переулок.
Слева — за сенью толстых лип гараж. Справа — высокий белесый дом с красивым широким окном над входом. Мы поднимаемся на второй этаж по кривой лестнице. Коричневый почтовый ящик. Дверь открывает мама.
— Ну, как погуляли?
Длинный коридор с громадным маятником в глубине. Узкая кухня.
Запах убежавшего молока. Но меня несут мимо. Налево, как идти по коридору, три комнаты. Сквозь приоткрывшуюся дверь первой вижу девочку, склонившуюся над школьной тетрадью. Она то и дело макает перо в чернильницу, но дело не спорится. Это моя малолетняя тетя.
Во второй комнате я живу. Здесь висит мамин портрет. Телевизор КВН. Белое радио с календарем-вертушкой. Темная в красную точечку материя дивана. Игрушечная пушка, стреляющая бусинками.
Третья. Большая. Посреди — огромный стол, покрытый бордовой скатертью с пушистыми гроздями бахромы. Магнитола у окна. Портреты пращуров. Щуплой детской спиной, сидя на высоком стуле, я чувствую тепло белой печи.
— За папу! За маму! — мне нравится пюре с соленым огурцом.
— А за дедушку с бабушкой? — откликается дед.
Слизывая картошку с губ, внимательно изучаю его взглядом пытливых серо-зеленых глаз…
— Рогволд! Рогволд! Ты чего! Очнись!
Первый детский кошмар — большая морская черепаха под ухом вместо простыни…
Зачем, ну зачем вы меня толкаете. Я еще немного… совсем чуть-чуть.
— А? Что? Неужели, задремал? Сколько сейчас?
— Ты вырубился внезапно. Сидел себе на диванчике. Пил чай, и вдруг, глядим… — последовало невразумительное объяснение.
— У тебя сперва была такая блаженная улыбка, что просто не решились будить, — рассмеялся Павел.
Стас вопросительно глянул на меня.
— Кофе. И самого крепкого, Стас, если можно.
Бразильский подействовал отрезвляюще. Затем я умылся холодной водой. Попросил открыть окно.
— Ты как? Ничего? — Вовка вышел следом на балкон.
— Ничего особенного. Просто, вымотался за неделю. Ну, и сдал.
— Это Стас во всем виноват.
— Почему?
— А не было никакого эликсира. Он все выдумал. Знаешь, как его диссертация называется?
— Что-нибудь о силе вымысла?
— Угадал. Но ты не сердись на него.
— Пустяки.
Я проанализировал все шаги Стаса: его звонок, подцепивший меня на крючок тайны, хадж по святым местам, словечки из школьного лексикона и памятные истории — словом, они, действительно, постарались на славу. Психологический эксперимент удался. Сознание настроилось на нужную волну, оставалось лишь подобрать соответствующий скрипичный ключик, чтобы мелодия памяти захватила меня в плен. Стоп!
Откуда, откуда он узнал про соленые баранки?
Оставив Вадима с Павлом наслаждаться вместе с четой Пауэр под звуки «Волшебной белой ночи», Станислав присоединился к нам на балконе…
— На бал кони ходят?
— Ходят!
— А вот и не правильно, — передразнила тетя Галя.
Мы сидели на балконе Чай пили, чашки били По-турецки говорили Чаби, челяби, Челяби, чаби, чаби Мы набрали в рот воды И сказали всем: «Замри! А кто первый отомрет Тот щелчок получит в лоб!»Со мной творилось нечто непонятное, к несказанному удивлению друзей я вдруг захлопал в ладоши, а потом зажмурился. Мне привиделись яйца, падающие из корзины вниз, карусель Нескучного сада, черная бронзовая пантера, разинувшая пасть. Стоя на Якиманской набережной я ловил запах конфет. Волна качала плавучий ресторан «Буревестник». «Дю-дю-ка!» — завывало эхо под Крымским мостом. Мои слегка кривые маленькие ножки ступали по битому, растертому в пыль красному кирпичу. И был еще совсем новенький гастроном, из подвала на платформе без поручней поднимали разную снедь.
— Тебе нехорошо? — Стас взял меня за руку.
— Напротив. Будто бы помолодел на тысячу лет. Если не возражаешь, я все-таки поколдую над твоим эликсиром у себя в институте. Возможно, все дело в каких-то оптических изомерах глюкозы.
— Но, ведь, здесь и в самом деле ничего нет, кроме сахара и воды, — улыбнулся он в ответ. — Главное, верить, что это эликсир памяти.
— Гм… — задумался я. — И ожога на животе, его тоже не было.
— Не было, — произнес Стас.
Я посмотрел на друга.
— Ничего не было.
Но врать в глаза он так и не научился.
Мы просидели так до вечера, выпили немного, поболтали о жизни.
Строили какие-то планы на лето. Хотели рвануть в Крым, но Стасу, оказалось, совсем в другую сторону — на Тихий океан. Затем меня всем скопом проводили до остановки троллейбуса. Здесь мы замешкались, кажется, посеял по дороге магнитную карточку. Все некстати в этом мире.
Сделав две пересадки, я, наконец, очутился на Варшавской, где меня ждал последний пустой удивительно желтый вагон уходящего в сторону центра поезда метро. Фляга булькала эликсиром. Тоннель гудел. Проехав пару остановок, я встал, чтобы полюбоваться на огни ночной Москвы, есть там один отрезок, когда электричка следует через мост над рекой.
И только тут я заметил ребенка в зеленой курточке с яркой эмблемой на рукаве, он прильнул к стеклу противоположной двери и тоже смотрел на «Москва-реку» сквозь полустертую надпись «НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ». Мальчика придерживала молодая женщина в странном, неказистом, несовременном пальто. Я вздрогнул.
— Нам скоро выходить! — произнесла она и погладила племянника по голове.
— Все! Улица кончилась! — сказал ребенок с обидой в голосе, и я узнал его пухлые большие щеки.
— Станция Каширская. Конечная. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны.
Машинально я вышел на платформу, удивившись не тому, что прослушал напоминание о случайно забытых вещах, а совсем другому.
Моя последняя электричка двигалась в обратном от центра направлении.
Таинственные попутчики несколько опередили меня, но уже у дверей автобуса, промчавшись мимо аппаратов с газированной водой, я их все-таки догнал.
— Безобразие! Надо в Моссовет написать, а еще лучше — в горком! — проворчал пожилой мужчина с планками орденов и медалей на пиджаке.
— А что такое?
— Кинул я три копейки, чтобы, значит, с сиропом. А они мне будто на одну копейку наливают. Вот какая штука!
Мальчик бухнулся в жесткое кресло, ручонкой накрыв соседнее, ясно показывая, что место занято. Женщина, сопротивляясь инерции и балансируя с ловкостью акробатки, осталась у железной кассы, прикрепленной к стене салона, бросила монеты. Затем она отмотала билет и опустилась на сидение рядом с ребенком. Боясь вспугнуть захлестнувшее меня Время, я отвел от них глаза и стал разглядывать звенящие и подпрыгивающие в ящике кассы из-за постоянной тряски пятаки…
Полная Луна в гордом одиночестве вылезла на темное ночное небо.
— Юна! Юна! Ты меня сы-ышишь? — спросил мальчик.
Луна не ответила.
У входа в подвал клетчатой пятиэтажной хрущевки сверкнули зеленые огоньки, потом еще. Чернушка вывела пушистых детей на охоту.
За школой опятами выстроились башни новостроек.
— Не бойся, она не кусается! Она у меня добрая, — успокоила соседка. — Багира! Багира! Сидеть!
Немецкая овчарка послушно устроилась у ног хозяйки.
— Вы не знаете, что сейчас в Эльбрусе показывают? — спросила женщина.
— Кажется, «Триста спартанцев»!
— У, здоаво! — воскликнул мальчик…. Но мне киски все хавно больше нхавятся. Они — хищники.
— Прямо, беда. Не может никак научиться «р» выговаривать, — пожаловалась тетя.
— А вы ему стакан с водой дайте. Это специальное упражнение.
Когда глотает — «р» и получается, — посоветовала соседка…
— Гражданин! Гражданин! Вам плохо? Вам валидол нужен? — дежурная по станции кричала в самое ухо, и это ужасно раздражало.
— Иду, уже иду. Все пройдет. Сейчас все пройдет.
Я не помнил, как добрался домой. Протерев слипшиеся веки, вдруг обнаружил, что уже семь часов. За окном едва слышно звенели трамваи и брехали псы. Собачники добросовестно выгуливали питомцев на детской площадке.
— Давненько с тобой, Рогволд, такого не приключалось. И вроде бы портвейн с водкой не мешал? Что мы пили, собственно? Джин, разведенный тоником?
Первый и последний раз я напился до рвоты в армии. И то не сам.
«Деды» угощали самогоном, щедро угощали, чтоб был повязан с ними одной веревочкой, чтоб не «настучал». Странные, однако, ребята попались. Думают, раз москвич — так сволочь обязательно. Очень нас, москвичей, понимаете, не любят.
На скорую руку позавтракав, я сел разбирать почту, накопившуюся за неделю. Операция абсолютно необходимая, потому что к воскресенью на диске валялся мусор с половины существующих в мире BBS. По обыкновению я начал причесывать диск программами поиска старых и новых вирусов…
— Так и есть! Какой-то умник меня заразил!
Крепко выругавшись, я хотел было совершить акцию возмездия, тем более, что вирус мне посадили нарочно. Какой-то левый незнакомый пойнтер виртуозно обошел все мои защиты против несанкционированного обращения. Я удивился, ибо обычные взломщики оставляли за собой массу испорченных файлов, но не могли проникнуть далее второго уровня сложности.
Когда же я снова глянул на экран, в висках бешено застучало — белым по черному красивым готическим шрифтом там высвечивался следующий текст:
«…И тогда Олаф Трюгвессон собрал к себе на роскошный пир лучших волхвов королевства, обещая почтить их старость. И пир действительно состоялся. Он был несказанно обилен яствами и питиями.
Однако, в самый разгар трапезы король вдруг приказал запереть все выходы из терема и сожег его, да так, что жрецы, явившиеся на зов Олафа, сгорели живьем. Ускользнул только лишь Эйвинд Келльд, который был сыном самого Гарольда Прекрасноволосого. Не знаю, сколь силен оказался этот малый в колдовстве, но он предугадал западню и вырвался из нее через отверстие дымохода.
Той же весной дракар Эйвинда подобрался к острову Кормт, где Олаф справлял Пасху. С мстителем были лютые берсерки, которые невидимыми в тумане высадились на берег. К сожалению, среди команды нашелся предатель, он опоил вчерашних товарищей, так что в самый разгар боя часть из них ослепла. Королевская стража схватила тогда многих. По приказу Олафа пленников оставили связанными у подножия прибрежных скал. Начавшийся прилив убил их всех до одного. Такая смерть страшна вдвойне, ибо лишала берсерков покоя Вальгаллы. Скалою Воплей прозвали это проклятое место.
Эйвинда же пытали отдельно, с тем, чтобы отрекся он старой веры и признал бы Христа. Олаф разложил героя на земле, привязав его к кольям за руки и ноги, а на живот поставил жаровню с раскаленными углями. Поскольку Эйвинд отказался уверовать в милосердие Христаего пережгло пополам….
P. S. Если эта информация заинтересовала Вас, а также, если Вам дороги собственная жизнь и рассудок — не притрагивайтесь, пожалуйста, к Эликсиру до нашей встречи. Буду ровно в двенадцать.
Инегельд»Не успел я прочитать, как вдруг буквы на экране стали медленно тускнеть и растворяться, и вот уже не осталось и следа от таинственного послания. Только время встречи и…
— Инегельд! Инегельд?
Это звучное и, вероятно, единственное в своем роде имя мне было совершено не знакомо. Но, впрочем, из письма тоже кое-что можно выжать. Так, а где эликсир? Фляга обнаружилась в сумке, лежащей на боку, но по счастью я крепко завинтил крышку и ни одна капля драгоценной влаги не пропала даром.
— Так, значит, это все из-за тебя?
Я отлил десять миллилитров этой вязкой жидкости в мерный стакан и еще раз понюхал. Нет. Эликсир не имел исключительно никакого запаха, да и цвета у него никакого особенного не было. А был он абсолютно прозрачен, как слеза ребенка, и по вчерашним воспоминаниям — приторно сладок, подобно нектару олимпийцев.
— А что, собственно, случится, если я еще немножко попробую?
Наверно, даже медвежонок Пух не хотел так страстно меда, как в этот миг я желал вновь ощутить на губах магический вкус запретного напитка…
Затворив фиолетовый шкафчик раздевалки, на котором красовалась «переводная картинка» из двух синих слив, мама провела меня в полутемную большую комнату детского сада. В руке я держал маленькую черную деревянную кошку с красной пастью. Из гигантских синих кубиков здесь была сложена крепость. Среди столь же больших желтых колонн неприступной цитадели маршировали блестящие золотом солдатики. Но всадники мне нравились почему-то больше. Вот этот, красный. Он замахнулся копьем и готов поразить всякого врага своей славной Родины. И были красные флажки, и были долгожданные майские праздники.
«Мы гордимся нашей мирною страной И непобедимой армией родной! Наша Родина сильна Охраняет мир она Охраняет мир она!»Музыкальный час. Ряды длинных скамеек. Я узнаю себя среди ребятишек. Здесь же Стас, Павел и Вадим.
Девчонки. Им не нравятся военные песни. Презрительно надуваю щеки.
Вера, у нее всегда был абсолютный слух, тщательно выводит:
«То березка, то рябина, Куст ракиты над рекой Край родной, навек любимый. Где найдешь еще такой!?»Хор подхватывает. Потом мы поем про волка на мосту и про рогатого козлика. Про разные «голубые, красные воздушные шары.»
— Дети! Пора кушать! — Флера Искандеровна, строго глядя из-под знаменитых очков с затемнением, редкость по тем временам, уводит нашу группу.
А в гороховом супе плавают желтые квадратные сухарики белого хлеба. Они разбухли, размокли, они уже не годятся на роль кораблей, им самая дорога — на дно.
Зимний двор. Несколько снежков попадают в дверь с риском выбить стекло. Наталья Петровна, Пашина мама, наш второй воспитатель, грозит пальцем, но маленькие хулиганы уже угомонились. Ведь, они очень хотят дослушать, что же там случилось с Чипполино. После полдника нам читают большой белый пухлый том с разными сказками.
Подкрашенные акварелью ледяные рыбки вываливаются из формочек на скамейку. Они совсем не такие, как в аквариуме, но тоже ничего.
— Вы у меня, сегодня, молодцы! — довольна Наталья Петровна.
Рукоятью пистолета, едва скрывая досаду, я крошу твердый лед, сковавший большую лужу. У подъезда детского сада «волнуется море».
Девчачая игра!
— Рогволд! Будешь в войнушку…?
— Буду. Чур, я майор Цветаев!
— А, хитренький!? Опять тебя в восьми местах ранят, чтобы Вера перевязывала! — возмущается Павел.
— Ну, и ладно. Пожалуйста. Зато, я — «включатель»!
— Тогда, я — «выключатель».
Формальная логика чужда детскому сознанию, игра не может появиться ниоткуда. Надо, чтобы кто-то набрал для нее участников, должен быть и второй, кто исключил бы нарушивших правила.
Стас сформулировал исходные условия, но он ли включил меня в эту игру с волшебным эликсиром? Рассказать кому, так не поверят же?!
Вот! Это вопрос доверия каждого. Совсем недавно что-то читал на этот счет. Доверия и Веры…
Она, кажется, вышла замуж за электронщика? У нее ребенок.
Скрипку, наверное, давно забыла. И косу остригла на современный манер, теперь уже ничем не отличаясь в толпе молодых женщин с высшим экономическим образованием. Оно и к лучшему. Ведь, это была не любовь? Правда ведь?
А Инегельд, дурья твоя голова, предупреждал. Не пей эликсира!
Размазней станешь. Ишь, расчувствовался, как баба. Жизнь продолжается…
«Русское поле». Мстители нынче в моде. Над этим полем бороздил небесную синь яркий мордастый летучий змей, пугая местных коров и коз.
Искупавшись в Великом Озере, мы шли по грибы. Честно найденный боровик я схоронил под подушкой. Наутро он был уже без шляпки, и ее тщетно пытались приклеить под мой громкий и нескончаемый плач.
Ведерко с родниковой водой «нарывало плечо». Сибирский приблудный кот бежал по дорожке, неся в зубах полузадушенную мышь, как доказательство своей добропорядочности. Дымил загруженный шишками самовар. Маркиз-Миронов не стрелял в женщин, и падал сам, сраженный бандитскими пулями.
Я метался в бреду. Тускло светила ночная лампа больницы.
Золушка из песни, как в сказке, обретала потерянную туфельку, очнувшись утром. Соседи по палате делали лимонад, размешивая в бутылке «Минеральной» леденцы.
И было долгожданное возвращение домой. Мы ступили в вестибюль новой, только что пущенной станции. Раньше поезда останавливались прямо в депо на Калужской. И были разноцветные кубинские марки, были фантики, солдатики — в протертых на коленях колготках я ползал по полу. Начитавшись Обручева и Конан Дойля, лепил динозавров из пластилина и чертил замысловатые карты неизведанных пустырей.
Прятки у «Больших качелей». Посиделки возле подъездов. Асфальт, расчерченный под «Классики».
У меня разбит локоть. Но я не плачу. Хотя, очень обидно. Только что вышел гулять — и на тебе, пожалуйста. Вадим прикладывает подорожник, смоченный слюной.
— Ничто так не помогает заживлению ран, как хороший шлягер.
Когда я был мальчишкой Носил я брюки «клеш», Соломенную шляпу, В кармане финский нож.В дверь позвонили…
Это его три звонка, я узнаю их, хотя он умер вот уж двадцать лет назад. Бабушка открывает дверь. Дед в своем неизменном черном пальто, из кармана которого виднеется газета «Известия». Он преподавал теплотехнику на вечернем, был заместителем декана, а потому всегда возвращался с работы непредсказуемо. Вдруг.
Кряхтя, снимает узкие индийские ботинки, а затем, выпрямившись, замечает нас с братом. Мы сидим на кухне. Густая крона помидоров, растущих из ящика на широком подоконнике.
Прихрамывая, щуря один глаз, дедушка идет к нам, выпаливая на ходу: «Ну, как там работают Зубаревы ребята?» Он гладит младшего брата по голове, сообщая всем, как бы между прочим: «Встретил я утром Тетку с одним усом! — это его извечная присказка, — Она меня и спрашивает — как, мол, там, ведут себя твои внуки. Хорошо ли они учатся.»
— Я еще в садике! — бойко поправляет брат.
— Пятерка за поведение и пять по Изо., а физ-ры не было! — хвалюсь я.
Это забытые сокращения школьного дневника.
На ужин картофельные котлеты с грибной подливкой — коронное блюдо бабушки. Я тяну носом. Ошибки быть не может.
— А вон, красная собака полетела! — восклицает дед.
Меня так дешево уже не купить, но братишка доверчиво смотрит в окно, воспользовавшись этим, дедушка выкладывает на стол по шоколадке и груду конфет «Белочка».
— Так вот, Тетка с одним усом мне и говорит…
Шелестит фольга. Я прекрасно слышу. Во рту приятная сладость.
Его сменяет вкус кислой аскорбинки. Крутится пластинка. В глубине проигрывателя горит желтый свет. К чему-то надо приготовиться.
Незнайка на пластинке сочиняет стихи. Я лежу в своей кровати. На стене ковер с двумя медвежатами. Что-то падает сверху — это штукатурка. К шишке прикладывают юбилейную медаль — тридцать лет Победы.
Дни переплетаются, времена путаются. Серые пушистые котята глядят с большой фотографии, бронзовый черный чертик прищелкивая хвостом показывает им нос.
Большой, длинный, таинственный и глубокий книжный шкаф. Сквозь большое стекло на меня смотрят тома Жюля Верна. Трапецию комнаты подчеркивают два балкона. Следом за шкафом — сервант. Часы с двумя слониками по бокам. Один — мраморный, второй — серый, блестящий. Он сделан тщательнее, и мне больше нравится. Тринога подсвечников.
Маленький Пушкин. Рабочий стол с кипой газет и рукописей у окна, а другой — неизменный, праздничный, торжественный — посреди. Высокий, очень высокий порог не дает брату заползти сюда.
Дед усаживает меня к себе на диван. Зажигает бутоны ламп в изголовье. Здесь же на тумбе стоит зеркало. «Таинственный остров» кто-то взял и не вернул, и теперь я услышу продолжение всей этой истории. В «Витязе» идет другой остров — «Остров сокровищ» с потрясающим Борисом Андреевым в роли Сильвера.
«Другие ему изменили и предали званье свое…» — наизусть, яростно дед читает знаменитый перевод Лермонтова — «Воздушный корабль».
Мы играем в шахматы. Потертая доска. Крупные, приятные на ощупь деревянные фигуры.
— Сдаюсь, сдаюсь! — он явно подсмеивается над внуком.
В доме первый кассетник. Отец ставит знаменитый французский концерт Высоцкого. Для меня это открытие.
— Что? Хрипатого передают? — удивляется дед, заглядывая в комнату.
— Кто ж его передаст?
— И то верно.
Десятки раз переписанная шипящая пленка.
— Папа! Иди. Там по «Маяку» твои «Пароходы не так, как поезда»
крутят! — мама знает пристрастия своего отца.
— Иду, — прихрамывая, он, не спеша, направляется в кухню. На ходу тушит сигарету. Это неизменные «Столичные». С бабушкой шутки плохи. Железная женщина.
Дед часто бывал под хмельком. Я помню, ненавязчиво поддерживал его в метро, чтобы он случайно не соскользнул на рельсы…
Звонок. Еще и еще.
Смахнул рукой неожиданно выступившие слезы. Слезы по безвозвратно ушедшему времени.
— Господи! Иду, иду. Не трезвоньте!
Код и домофон, конечно, не такая серьезная преграда, но вот, железная дверь в общий коридор? Не может такого быть, чтобы все разом кто-то открыл.
— Может, Рогволд! Может. Вы не пугайтесь. Я один. Меня зовут Инегельд.
Глава третья
— Согласен, что способ знакомства, выбранный мной, излишне эффектен. Но речь идет о жизни и смерти. Вашей жизни и смерти.
Поэтому, не держите меня под дверью. Я не рэкетир, я не причиню вам большего вреда, чем вы это сделаете сами. Не дурите, Рогволд! — звучало не то, чтобы убедительно, но как-то загадочно.
— Кто вам дал мой адрес?
— Станислав.
— Хорошо, — я щелкнул замком.
На пороге стоял высокий мужчина лет сорока или сорока пяти. У него были чистые голубые глаза, русые, немного с рыжиной, волосы спадали на шею. Хищные черты лица дополнял едва видимый шрам, который бы я не заметил, не будь Инегельд гладко выбрит. Гость опирался на прямую увесистую палку, какую можно срезать в любом орешнике. Это выглядело до того нелепо, что невольно вызвало у меня улыбку.
— Здравствуйте. Вам повезло. Я уже совсем собрался уходить.
— Как вам будет угодно, — он улыбнулся в ответ. — Добрый день, Рогволд. Я могу вас так называть?
Незнакомец поставил посох в угол у двери и снял длинный серо-зеленый плащ с широкими рукавами, пристроив его на вешалке.
— Конечно. Проходите в комнату… Кофе? Чай?
— Лучше, квас, — сказал он бесцеремонно, — Люблю с детских лет.
— Сам не прочь, да нету… — удивился я.
— Проверьте еще раз, там, на второй полке сверху.
Действительно, как и предрек Инегельд, на кухне в холодильнике я обнаружил кувшинчик с ароматным пенистым напитком, но внешне ничто не указывало на его присутствие в доме.
Я изумленно посмотрел на гостя. Инегельд невозмутимо, нагло и просто глядел на меня.
— Для вас, Рогволд, человека вполне образованного, бросить жребий — означает надеяться на слепой случай, или-или. Вы точно знаете, кваса в доме нет. Я же знаю иное: он или есть, или его действительно нет. Улавливаете разницу? Дверь может оказаться либо открытой, либо закрытой — третьего не дано, и нет ничего сверхъестественного в том, что когда я приблизился к вашему дому — кто-то вышел из подъезда мне навстречу. Нет абсолютно ничего необычного и в том, что ваша соседка именно сейчас решила вынести мусор — так я миновал вторую дверь.
— Но мне кажется странным другое, — возразил я ему. — Обычно подозрительная соседка на этот раз пропустила вас мимо себя, внутрь нашего коридора, не сказав ни слова.
— Может, моя внешность располагает?
Я еще раз взглянул на него и снова натолкнулся на пронзительный ответный взгляд. Передо мной на секунду возникло жестокое, непроницаемое холодное лицо Хауэра. Но в нем и в самом деле мелькало что-то неуловимо притягательное.
— Овладев математической теорией вероятностей, вы, однако, все равно не сумеете абсолютно верно предсказать — есть проход или нет.
Вы не сможете никаким образом повлиять на результат собственного гадания.
Он пригубил квасу, вдруг похвалил мою маму и продолжил:
— Согласитесь, Рогволд, что ваше представление о случае не идет ни в какое сравнение с тем, как понимали его ваши предки.
— Вероятно, они объясняли это сверхъестественными причинами? — предположил я.
— Как раз «сверхъестественным» и называют то, что не могут объяснить, — поправил меня Инегельд, — Скажем, Эликсир Памяти, который либо оказывает действие, либо нет.
— Даже лекарства действуют далеко не на каждого.
— Правильно. Но если здесь все связано с восприимчивостью человеческого организма, то в случае с Эликсиром речь идет о гораздо более глубокой субъективной зависимости, нежели биохимическая. Не стоит, Рогволд, тратить реактивы — для Станислава в этой фляге, действительно, подслащенная вода, но для покойного М., который не слушался моих советов — то было, в самом деле, магическое варево.
Мифы и сказки в глазах избранных, которых вы, просвещенные люди, именуете то волшебниками, то шарлатанами, являются фактами истории, событиями не требующими доказательств. Я твердо знаю, что именно эта дверь будет открыта — и ее отпирают. Я верю, что во фляге содержится Эликсир — и я погружаюсь в прошлое.
— Готов допустить, что увидев страшный сон, можно получить чудовищный ожог, который сведет в могилу. Психика тесно связана с биологией, рассудок, охваченный губительной фантазией, дает указание организму провести те или иные химические реакции. Это я еще могу понять. Но откуда вы, Инегельд, проведали, что у меня в холодильнике есть квас? — продолжил я, стараясь вызвать собеседника на откровенность. — За завтраком я его не заметил.
— Браво! — похвалил Инегельд. — Мы делаем успехи. Вы его не заметили, но он там уже мог быть. Скажем, квас приготовила ваша мама. Вчера, пока вы гостили у друзей. У нее, ведь, есть запасной ключ?
Решительно, от моего собеседника ничто не укрылось, и это разражало. Вваливается какой-то незнакомый тип, разыгрывает из себя ясновидящего. Вот, только, к чему? Зачем?
— Существует, по меньшей мере, с десяток объяснений моей осведомленности. Я занимался с ребятами фехтованием на лесной поляне у Лысой горы. Вы с друзьями проходили мимо, сжимая флягу с Эликсиром в руке. Или, например, ваш приятель М. перед смертью успел написать мне, кому он отдал напиток, а Станислав направил меня сюда?
Правдоподобно? А между тем, приняв эти доводы на веру, вы ошибетесь, — улыбнулся мне Инегельд.
— Почему?
— Все могло происходить так, как я вам описал, но произошло совсем иначе. Вы пили Эликсир после моего предупреждения? Впрочем, не лгите. Это написано у вас на лбу, — и он указал двумя перстами туда, где по его представлению имелось явное свидетельство моего непослушания. И учтите, — продолжил он — если это вижу я, то вас, Рогволд, сумеет приметить и кто-нибудь другой, настроенный не так дружелюбно.
Инегельд встал и мягким, кошачьим шагом прошелся по комнате. Он остановился у полки с философской литературой. Затем мой гость вытащил оттуда какую-то книгу и протянул мне:
— Откройте и читайте!
— А номер страницы?
— Как откроете, так и читайте, — последовал ответ.
— «Как бы недоверчиво не относилась к аналогии наука за обманчивые ее результаты, именно аналогия остается нашим главным орудием, а на более ранних ступенях культуры влияние ее было почти безграничным. Аналогии, которые для нас не что иное, как вымысел, были действительностью с точки зрения людей прошлого. Они могли видеть огненные языки пламени, пожиравшего свою жертву. Они могли видеть змею, которая при взмахе меча скользила по нему от рукояти до острия и жалила в самое сердце. Они могли чувствовать в своей утробе живое существо, которое грызло их во время мучений голода. Они слышали голоса горных карлов, отвечавших им в виде эхо, и колесницу небесного бога, громыхавшую по небесной тверди…»
— Бернетт Тайлор, уважаемый в прошлом этнограф.
— «Люди, для которых все это было живые мысли, не имели нужды в школьном учителе и его правилах риторики. Уподобления древних скальдов были содержательны, потому что они, по-видимому, и видели, и слышали, и чувствовали их. То, что мы называем поэзией, было для скальдов действительной жизнью, а не маскарадом богов и героев, пастухов и пастушек, театральных героинь и философствующих язычников, как для современных рифмоплетов…» Знаете, Инегельд, а в этом есть своя правда.
— Насколько я понял, вы, Рогволд, не злоупотребляли моим питьем. Да, да. Фляга и ее содержимое до недавнего времени принадлежали мне. Но я вовсе не собираюсь их у вас отнимать. Каждый в силах сам изготовить нужный ему эликсир, но не всякий способен достойно им распорядиться. Пока что, Рогволд, вы, вероятно, были лишь сторонним наблюдателем, не имея возможности снова участвовать в событиях, видимых вами. Они мелькали, точно картинки на экране кинотеатра. Однако, при некоторой тренировке, а проще сказать, владея кое-какими секретами, магическими приемами, если хотите, вы сумели бы активно вмешаться в памятную реальность. История не линейна, она даже не совсем спираль, как некоторые полагают.
Представьте себе перекати-поле, влекомое ветром по пустыне. Клубок с перепутанными и сросшимися ветками. Есть множество путей проникнуть из одной точки нашего клубка-истории к другой, они параллельны. Не в смысле геометрии, конечно, параллельны, но, увы, для подавляющего большинства людей эти дороги не равновозможны. Только магу доступно поменять одно направление на альтернативное ему, потому что он сам управляет случаем, а не случай владеет им. Учтите это, хотя бы ради собственной безопасности.
Я едва удержался, чтобы не рассмеяться ему в лицо.
— Что бы вы возразили мне в ответ, если бы я изрек такой, еще более смешной тезис: «Любой человек — это опустившийся потомок бога, и только очень немногие из этих „всех“ сохранили в чистоте свою божественную кровь.»
— Я, Инегельд, не причислю себя к атеистам, но смотрю на Всевышнего, скорее, как на Природу.
Он снова прошелся по комнате.
— А вы не задумывались над идеями Эвгемера? Он считал, что на каждом этапе исторического развития существуют личности, заслуги которых пред человеческим сознанием неимоверно велики — по этой причине они становятся богами. Боги — лишь обожествленные люди, хотя и бессмертные, в смысле, постоянно возрождающиеся вновь. Пращуры воплощаются в потомках.
Мне показалось, что он в буквальном смысле гипнотизирует меня, только, делает свое дело ненавязчиво, но весьма убедительно.
— Так, какое отношение это имеет к эликсиру. И зачем мне все это знать?
— Самое прямое отношение. Стоит перебрать лишку — и вы начнете обратный путь, овладевая мыслями и знанием собственных предков.
Спускаясь вниз по фамильному древу, туда, во тьму веков, одна или другая ветвь его приведет к Первоотцу.
— Адаму, что ли?
— Для кого как! Но вам, Рогволд, родство с Иеговой не грозит…
— Спасибо и на том.
— … Вы отмечены Руной Велеса.
— Кого?
— Я забыл предупредить, что даже самый отдаленный потомок бога, но все-таки не смешавший свою кровь с детьми иных кумиров, обречен продолжать дело своего Прародителя. Даждьбожи внуки предпочитают быть кем-то распятыми, но мы, Коровичи, если распяты — то по собственному почину… — его глаза дико блеснули.
— Сумасшедший! — оторопел я.
— Конечно, вы можете выставить меня за дверь под каким-нибудь уважительным предлогом. Мои слова походят на бред сумасшедшего, и не стоило бы вот так, сразу, посвящать вас в эту междоусобицу. Но за средой всегда следует проклятый четверг, и времени у нас у всех — три дня.
— Знаете. Тут скоро одна встреча. Я тороплюсь. Все, что вы рассказали, было очень интересно, но… Сами понимаете…. В случае чего, где мне вас найти?
— В среду после пяти у подножия Лысой горы, — глаза маньяка просверлили насквозь мой лоб.
Накинув плащ, Инегельд шагнул к выходу, я поспешил проводить нового знакомого. На пороге он неожиданно замер. Обернулся. Усмешка тронула его губы.
— А впрочем, ладно…
Затем Инегельд ушел. Я облегченно вздохнул и запер дверь кроме замков еще и на засов. Взгляд мой упал на толстый ореховый посох, второпях забытый гостем в углу коридора: «Не предлог ли это вернуться? Открывать не стану. Никого нет дома.»
Вернувшись в комнату, я комфортно расположился в глубоком кресле и отпил из фляги.
На крышу лицом ниц меня опрокинул рев пикирующего бомбардировщика. Я взвизгнула и закрыла голову руками.
— Ой, мама!
Летели зажигалки. Песок в ведре казался тяжелее свинца.
— Сонька, ты чего? — подружка толкнула меня в бок.
Я снова падала вниз лицом. Липкая глина проникала в дырявые боты.
— Воздух!!
Пули ложились дорожкой на стену противотанкового рва. Лопались кровавые мозоли. Мы бежали в лес. Надсадно выла сирена…
Несколько голодных ребятишек сидели на кровати, прижавшись друг к другу. В горнице о чем-то спорили взрослые.
— Негоже у святого отца брюкву воровать! — услышала я строгий голос бати.
Потом вбежал Сергунька. Брат держал в каждой руке по ломтю ржаного хлеба, щедро сдобренному горчицей.
— Ладно, Мара. Вас простили. Можете выходить… — услышали мы.
Затем он спросил: «Будете в мамзелей играть?»
— Мамзели в лаптях не ходют! — веско ответила я.
— Все равно, держите. Это — как бы шоколад!..
Я служил в голубых гусарах у царя-батюшки и писал проникновенные стихи возлюбленной. Я сражался с турками за свободу маленькой родной Черногории и звериными тропами уводил свой отряд высоко в горы. Я скоморошничал на базарной площади при Алексее Михалыче и был прилюдно избит батогами во исполнение его высочайшего Указа…
Я рожала и рождалась вновь и вновь, лечила скотину, пользовала змеиными ядами.
— Тетка Василиса, а расскажи нам про Хозяина Лесного.
— Что ж, ведаю и про него. Слушайте, пострелята.
Лесун обычно живет в самой глухой и непроглядной чащобе, но только минует половина велесеня — провалится он под землю до самой весны. А напоследок расшалится, зверье распугает да разгонит по логовищам, поломает деревья, завалит ими дороги прямоезжие.
Ежели увидите филина в дупле старой вербы — то обязательно леший. Не пугайте его свистом — вихрем пронесется птица-демон над полем — поутру скирды разбросаны да разметаны. А коли лесовик бушует — ничем, кроме доброй буренки его злость не унять. Лучше остаться без одной коровы, чем без целого стада.
— А дед Андрей говорит, супротив Лешего одна головешка поможет.
— Много он знает, ваш дед Андрей.
Когда же встретится лесовик с другим лешим — обязательно игру затеют. И нет у них иного богатства, окромя зверья да птицы звонкоголосой. Всякий охотник знает — коль пропала дичь лесная — значит, местный леший ее в кости и проиграл, от того и стараются задобрить Лесного Хозяина.
Раскрыв рот, затаив дыхание, меня слушали веснушчатые племянники.
— Еще мой дед сказывал: «Чуть солнцеворот начнет поворот, пойди ночью в лес да сруби осину, чтоб упала она макушкою прямехонько на восток. Затем стань на том срубленном пне и посмотри позади себя промеж ног, приговаривая: „Дядька леший, покажись не бурым бером, не совою лупоглазою да не елью жаровою, а таким, каков я есть, покажись!“…»
— Вот, мы и снова с тобой встретились, Рогволд! Как видишь, у столба стоишь ты, а не я! — злорадно выпалил приор, заглянув мне в лицо.
— Настанет и мое время, — с трудом я разлепил месиво губ и плюнул в его отвратительную харю.
— У, Сатана! — а затем, обернувшись к слугам, рявкнул. — Чего столпились? Жгите!
Огонь живо ухватил хворост и полез вверх, лизнул щиколотку.
Кожу стянуло. Запахло паленым. Змеиный хвост дыма сдавил мне грудь, я задыхался. Мысли путались. Соленые ремни терзали живое мясо. На плечо прыгнула юркая саламандра и укусила, потом еще. Другая скрутила барашком длинные локоны русых волос и проредила бороду.
— Что же твои боги не вершат чуда? Кишка тонка?
Одно за другим я шептал заклинания, сплетая их в магическую формулу.
Кожа бычачья, старая, гнилая, быка звали Фомой. Узлы вязал конюший Ганс. Обычно он внимателен, но вчера спешил по девкам. Ветер холодный, северный. Пламя клонит за спину.
Угли жалят голую непрочную плоть.
— Прочь, собаки! — разметав латников, к моему костру прорвался рычащий зверь, коловоротом сеющий смерть налево и направо. Бешеная пляска двух кровожадных клинков заставила отступить даже самых опытных воинов. Взялись за арбалеты. В это время стягивающие меня ремни лопнули, как перетянутые струны, и я вышел из огня к ужасу врагов.
— Возьми пока это, отец! — берсерк что-то протянул мне…
И в тот же миг время, нахлынувшее подобно цунами, улеглось, отступило, усмирилась беспощадная непознанная никем стихия…
Я открыл глаза и увидел, что сжимаю в ладонях холодный, как сталь, ореховый посох Инегельда.
Спина горела. На запястьях были очевидные следы не то веревок, не то кандалов. Лицо, кажется, сильно опухло. А когда я, едва передвигая ноги, дополз в ванную и глянул в зеркало, оказалось, что лица просто нет, а есть сплошной кровоподтек. Но сейчас меня занимало вовсе не это мое бедственное состояние, а нечто иное — каким образом стоящий у двери посох очутился совсем в другом конце квартиры. Не добрался же он туда сам по себе?
— Да, Рогволд. Вляпался ты крепко. Теперь тебя и родная мама не узнает! — подумал я, разглядывая через плечо отражение исполосованной в кровь спины.
Впрочем, гораздо более удивительной явилась некая раздвоенность моего измученного сознания. Наверное, заново прожив десятки и сотни чужих жизней, я присвоил себе не только опыт моих далеких предков, но и сплав различных древних мироощущений. Эти неявные результаты увлечения эликсиром не заставили себя долго ждать. Промыв раны, я двинулся на кухню, где мигом приготовил отвар из смеси трав, рецепт которого внезапно всплыл из глубин памяти. По счастью все его компоненты оказались на месте, в медицинском шкафчике. Я, собственно, и раньше предпочитал использовать таблетки лишь в крайних случаях, полагаясь на народные средства.
Затем мне жутко захотелось есть. И не просто — набить желудок, а сделать себе блюдо поизысканней. Пустынная зима холодильника, где ничего кроме кастрюль с супом и кашей не было, однако, меня не смутила. После трудовой недели я совершал рейд по магазинам, в субботу меня навещала мама и, как правило, найдя запасы провианта в критическом состоянии, сама баловала неразумное дитя домашней кухней. В этот раз она забежала на минутку, спешила на дачу, выгадывая скупые теплые дни для посадок.
Может быть, выйти на улицу в таком виде представлялось зазорным, или поленился, но верилось, что даже в этой холодной пустоте я найду, чем полакомиться. И точно — через десять минут черствый белый хлеб и прямо-таки каменный голландский сыр превратились в аппетитную драчену. Привезенная заботливой мамой свекла, морковь и картошка, была мигом сварена и мелко нарезана кубиками, также я поступил с яичным белком, а желток растер с горчицей. Быстренько размял ложкой зеленый лук, чтобы он дал сок.
Перемешав всякую всячину, я залил ее оставшимся квасом и вскоре наслаждался никогда не еденной окрошкой.
— Ай, да я! Ай, да Рогволд!
Сытость быстро охватила тело и усадила его обратно в кресло.
Мой взгляд упал на гитару, что одиноко висела на стене. Поскольку сам я, имея абсолютный слух, не знал ни одного аккорда, ей удавалось слезть с гвоздя только по праздникам, если среди гостей попадался Вадим. Но он часто бывал в командировках, и значит, гитара пылилась:
— А почему, собственно, нет?
Начал я с нехитрой мелодии, памятной с детства — то были «Паруса Крузенштерна»… А затем, вдруг, в свое удовольствие сыграл «Цыганскую венгерку». Двоюродный дед мастерски владел аккордеоном и фортепиано.
— Черт! Прямо наваждение! Колдовство!
Я вспомнил, что совсем недавно в одном из уважаемых серьезных альманахов мне приглянулась статья неизвестного автора о наследии русов-волхвов. Работа затем жестоко раскритикованная специалистами за ее бездоказательность. Эти господа усмотрели в ней покушение на свою монополию в области трактовки славяно-германского фольклора.
Погрузившись в недра старого книжного шкафа, я быстро нашел необходимый мне выпуск, и наугад открыв страницу, как ранее советовал Инегельд, тут же наткнулся на искомую публикацию. Вот что писал Игорь Власов, так звали автора статьи:
«…Любимец Велеса может быть талантливым ученым, гениальным поэтом и певцом, непревзойденным мастером по части приготовления кушаний, лучшим из садовников или лесничим, удачливым крестьянином, наконец, дельцом. Это Велес открывает тайны ремесла и медицины, это он благословляет путешественника и помогает ему в дороге. Но тот, кто ищет покровительства у Перуна — зациклен на идее противоборства, у него сознание борца, воина, готового ответить ударом на удар, силой на силу. Он не склонен ни к какому договору или сотрудничеству, потому что считает Громовика единственно справедливым и сверяет с этой Идеей каждый шаг. Он приносит нерушимую клятву своему кумиру и верит, что тот следит за ее соблюдением свысока.
Словене никогда не чтили Перуна превыше небесного Рода, вернее, он занимал одну из трех вершин их Триглава, выступая только лишь как Сила, зачастую черная, разрушительная. Даже в грозной Скандинавии культ рыжебородого простака-Тора уступил место всевидящему Одину, его Воле, Духу и Вере.
Радегаст ретарей, Световит ругов и ободритов, Дажьбог полян — это солнечные боги, которые, безусловно, имеют некоторые общие с Громовиком черты — например, сражаются с хтоническим существом, но не являются его солярной ипостасью. Их Сила порождающего характера, они щедро дарят людям свет и воду. Перуну же особо поклонялись лишь вагры, и не случайно князь Владимир возвысил сурового Громовика над прочими божествами, нарушая Правь. Десять лет он был верховным жрецом и насаждал на Руси культ Перуна, десять лет приносил ему кровавые человеческие жертвы, пошатнув веру в Справедливость у целого поколения… Затем с неменьшим ожесточением он взялся проповедовать чуждую всякому свободному человеку Христову религию.
…Воля Одина-Велеса статична и потенциальна, Сила Перуна-Тора — динамична, ей свойственна кинетика. Однако именно Воля есть всепроникающее, творящее и образующее Нечто. Суть бога-Громовика несозидательна, ему всегда необходим противник. Воля сама себе противоположность, в ней уживаются Свобода и Власть… У нее нет соперниц. Под символом „Перун“ скрывается лишь одна из сторон Мировой Прави. И хотя его имя зачастую не произносится вслух, а то вообще, забыто и никем не подразумевается, Идеи Перуна в их уродливых формах будут господствовать в мире, пока он разобщен. А он будет разобщен, пока Мощь попирает Ум, пока Ум не свободен в своем выборе. А как ему быть свободным, когда тут и там „божьи рабы“.
Впрочем, в последние десятилетия определилась новая тенденция — это растущая воля Ума к сопротивлению такому Мировому порядку.
Сильные мира заинтересованы в последнем, но он противен всякому вольному человеку.
Древние ведали, как развить индивидуальные качества, чтобы быть независимым от всякого посягательства на свою внутреннюю свободу…»
На том статья завершалась.
Глава четвертая
Желая поскорей привести себя в божеский вид, я, видимо, снова перестарался.
Уже через пятнадцать минут боль заметно поутихла, а через час лицо стало приобретать знакомые черты.
Я убедился, что дело идет на поправку, и мне оставалось только запастись терпением — подождать, когда затянутся рубцы и спадет опухоль.
Но вот так просто лежать на диване, задрав нос к потолку, очень не хотелось, и, задернув занавески, так что в комнате воцарился полумрак, я решил испробовать эликсир на своих ранах. Почему-то представлялось — его действие окажется каким-то особенным. Да, я отношусь к той распространенной категории людей, которых даже свой горький опыт с первого раза ничему путному научить не может.
Капли драгоценной влаги оросили рваный шрам на предплечье, но и этого мне показалось — мало. Раздобыв в ящике письменного стола кисть, я скинул халат и расположился перед старинным бабушкиным трельяжем. Поглядывая на собственное отражение, я принялся чертить на коже хитросплетение целительных рун, напевая низким грудным голосом ведомые лишь посвященному строки.
Первой положил INGUZ, она должна освободить и вывести из забвения укрытую во мне жизненную энергию. Руна EHWAZ сделает ее проявление долговременным и непрерывным. Великая руна Тюра — ТEIWAZ увенчает их благотворное влияние полной победой над недугом.
Готов поклясться — в тот самый миг, когда моя рука, не дрогнув, выписывала на голой груди черту за чертой, мне почудилось, вернее, я понял, что ведал эти волшебные знаки всегда. Просто, их знание и вера в них скрывались где-то там, глубоко, пока не наступил долгожданный час Превращения.
Одинокая Эваз легла и на лоб. А затем, затем контуры предметов, наполнявших собой эту комнату, стали потихоньку расплываться и вещи обрели полупрозрачность. Священный знак лишь довершил пробуждение.
Пробуждение истинного сознания. Он сработал подобно катализатору из тех химических реакций, которыми я занимался в институте.
Мне грех было жаловаться на зрение, стоя спиной к Павелецкому вокзалу, я видел, как умывается кошка, сидящая в окне музея Бахрушина, расположенного по ту сторону площади. Однако, теперь моему удивленному взору предстал совсем иной мир. Конечно, что-то в нем оставалось прежним, и все-таки можно порой смотреть, да не видеть, видеть, но не замечать. Ныне, казалось, от меня не укроется ни одна, сколь-нибудь значимая деталь… Значимая для чего?
Руны вывели меня из удобного повседневного равновесия, чувства обострились. Пожалуй, сейчас я сумел бы проследить за одной каплей дождя, одной из многих миллионов, случись на дворе непогода. Но день выдался на редкость солнечным и по-весеннему теплым. Лучи пронзали плотную занавеску, прожженную в некоторых местах кислотой (я часто экспериментировал дома, в том числе и с едкими веществами), яркими прямыми нитями они проникали в прохладную полутьму моего жилища и ложились на дверцу книжного шкафа.
Когда-то он казался мне огромным, глубоким, необъятным. Со смешенным чувством восторга и страха мальчишкой я рассматривал прогнувшиеся под тяжестью томов книжные полки: «Неужели, дедушка, ты все это прочитал? Мне этого вовек не суметь!»
— Все — не все. Гляди, какой я старый. Вот и прочитал. И ты сумеешь, если, конечно, захочешь.
— Капитан в пятнадцать лет! — усмехался Негоро с телеэкрана зловещим голосом великого Астангова, а я расправлялся с «Библиотекой приключений». Меня ждал Диккенс, который всегда придумывал счастливый конец даже для самых мрачных произведений.
Вешний ветерок снова колыхнул занавес. Небесное светило, протянув тонкие жгучие пальцы ухватилось за ключик в заветной дверце. Потускневшая от времени медь дверного ключа внезапно ярко блеснула от этого прикосновения. Я приложился к фляге с эликсиром и тут же услышал, как щелкнул отпираемый замок.
Я открыл дверь и высыпал из-за пазухи собранные за день богатства.
— Опять булыжник притащил? — недовольно заметила мама, разглядывая увесистый круглый камень на полу.
— Это сверкач.
— Что? — не поняла она.
— Сверкач. Его стукнешь в темноте — будет искра. Давай, я тебе покажу.
— Ну, покажи! Горе ты мое.
Но горе состояло в другом, и я о нем умолчал. А дело было так.
Не помню, кому первому из нас пришла в голову идея расплавить парафин на газовой плите. вероятно, все же мне. Порезав свечу, так, чтобы она вся уместилась в консервной банке, Паша чиркнул спичкой и повернул ручку. Желтоватые куски парафина быстро обратились в жижу, которая не замедлила вспыхнуть. Мы испугались.
— Плохо. Надо бы потушить! — предложил я.
— Чем? — растерялся Паша.
— Давай, попробуем водой! — с этими словами я плеснул из кружки в злосчастную банку. Огонь взметнулся до потолка, лизнул штукатурку и оставил там черную отметину, диаметром не меньше метра.
— Вот, от родителей попадет, — пригорюнился мой друг.
— Я сейчас вытру. Дай-ка плоскогубцы!
С печальным свистом авиабомбы так и не потухший парафин полетел вниз с восьмого этажа.
— Класс! На этом принципе можно огнемет сделать! Соображаешь?
Это лучше черепицы, и даже похлеще чем баллончики от сифона в костре взрывать.
— Да, но вот пятно!
Пять минут спустя, взгромоздившись на стулья и табуреты, мы тщетно попытались стереть следы преступления…
Преступления?…
— В чем вы меня обвиняете?
— Ты виноват пред Богом и пред людьми. Покайся, напоследок!
Иисус милостлив, быть может, он простит раба своего.
— Я не раб ему и не слуга!
— Упорствуешь, проклятый еретик! Ну, хорошо! — приор кивнул, сопровождавшему его клерку.
Тот разложил пергаменты и принялся читать, смакуя каждое слово:
«Прежде всего, как показали досточтимые свидетели, речами своими этот колдун влагал в сердца прихожан смрадные вожделения, а также злобу и ненависть. Завладев сердцем невинных юношей и девушек, он отнимал у них сам разум, после чего наши чада порицали родителей и Святую Церковь, собираясь в ночь на вершине Прильвицкой горы и творя там непотребство… И последнее — колдун, именующий себя Хромым Рогволдом, напускал болезни, портил людей и скот, для чего собирал бесовские травы, хранил в превеликом множестве рогатые лики нечистого и кормил черного кота…»
Если пересчитать всех кошачьих, что были у нас дома, действительно, не хватило бы десяти пальцев. Самой старой, оставшейся еще с прежней квартиры на Бабьем городке, являлась большая мягкая черная кошка с неестественно маленькими лапками и зелеными пластмассовыми узкими глазами. Фарфоровый белый котенок с дырочкой на животе. Четыре марионетки, тряпичные серые и коричневые куклы с пластмассовыми колкими усами. Одетые на руку они смешно размахивали лапками и по желанию могли открывать ротик. Бабушка смастерила также мышку и зайца, но грызуны мне никогда не нравились…
Перед тем как лечь спать, наверное, лет до двенадцати, я укладывал рядом игрушечного мурлыку — семья была большая и завести живого котенка нам не позволяли. Младший брат во всем подражал мне, поэтому зверей приходилось делить. Тех, что имелись в одном экземпляре, сообща укладывали в кресло под теплое одеяло. Втайне я верил, что лишь пробьет полночь, все зверушки оживут и примутся бродить по комнате в поисках еды. Это долго вызывало у меня беспокойство, поэтому в довершении вечернего ритуала я ставил под кровать блюдечко с молоком, словно доброму домовому, а то и просто кефиром смазывал куклам пасть. Память не удержала тех наивных имен, которыми мы наградили наши детские игрушки. И даже чудодейственный эликсир здесь был бессилен.
Играли в разное. В воздухе носились самолетики из немецкого «Конструктора», они были красные и белые. Первые неизменно выигрывали, враг в беспорядке убегал, заслышав: «Ахтунг! Ахтунг! В небе Покрышкин!» Когда детали порядком растерялись, в ход пошла бумага, и это было здорово. Борта советских «ястребков» украшали ряды красных звездочек, заботливо выведенные детской рукой, сжимающей заслюнявленный карандаш. Когда же я проглотил рыцарские романы, бумагу сменил пластилин — мы играли в драконов, любовно вылепливая разноцветных многоголовых рептилий, которые селились обычно среди сваленных как попало подушек дивана. Надо понимать, то были скалы.
Страсть к коллекционированию то остывала, то загоралась с новой силой. Фантики от конфет и вкладыши от жевачек, спичечные этикетки и марки. Кому-то нравилось собирать машинки, но я был всегда далек от техники и всякой там механики, к тридцати годам так и не выучившись водить машину. История, палеонтология и химия — вот мой круг интересов тех далеких лет. Далеких ли? Видения следовали одно за другим — хоккей на скользкой мостовой, катакомбы подвалов и манящие к себе чердаки, заброшенная котельная на окраине микрорайона, названная нами «Пустой дом» (следствие увлечения Холмсом), заросшие бурьяном пустыри и расколотые черные мраморные плиты надгробий….
Вобщем, незаметно для себя я сладко заснул и очнулся, едва дедовские часы пробили шесть раз…
На мою широкую грудь спускалась лопатой окладистая рыжеватая борода, жесткие кудри светлых волос спадали на бугристую мышцами спину. Вздувшиеся бицепсы обещали скорую смену гардероба. Пальцы тоже, кажется, стали заметно толще и желтели костяшками суставов.
Нельзя сказать, что меня не устраивали эти метаморфозы — я давно хотел немного подкачаться, правда, сие благое желание зачастую тонуло в море лени. Никаких шрамов на коже я не заметил, от них не сталось и следа. Сознание было на удивление ясным и быстрым…
Конечно рыжую поросль на лице я тут же укоротил, как мог. Получилось несколько кривовато — ну, да, ладно. А уже на выходе их ванны я обратил внимание на невесть откуда взявшееся длинное красное махровое полотенце. Оно было удивительно похоже на то, в которое меня укутывали, превращая в «кулек», когда я еще не вырос в двухметрового верзилу.
— Прямо сумасшествие! Нет, так жить более нельзя! — решил я, разглядывая толстый и длинный ореховый посох, оставленный Инегельдом.
* * *
… «Спросим! За все спросим!» — прошептал я, подбрасывая сучьев в огонь… Пламя трепетало, пламя алело игривыми языками.
Огнебог благосклонно принимал жертву.
Тогда я расстелил плащ и, разоблачившись по пояс, снова подсел к костру. Руны привычно шершавили чуткие пальцы. Я скрестил ноги, крепко выпрямил спину, слегка прикрыл веки и высыпал стафры разом пред собой…
Я ли? Нет, то был кто-то другой, удивительно похожий на меня.
* * *
Одни знаки тускнели, другие вообще не проступили, но были и такие, что сразу бросились в глаза, багровея кровью.
Тогда молодой волхв положил ладони на колени. Сжав губы, он начал сильно, с совершенно невозможной, для простого человека, быстротой прогонять сквозь обленившиеся легкие еще морозный воздух.
Вскоре по телу разлилась истома, граничащая с дурнотой, но волхв продолжал действо, впуская эфир через одну ноздрю — выдыхая через другую. Наконец, появилось ощущение, что воздух нагрет, и даже раскален, словно на дворе не осень, а разгар летнего дня. Пред глазами замельтешили ярко голубые точки и пятнышки. Зашумело, тело покрылось испариной, точно в каждую пору вонзили по игле. Внутрь вливалось что-то жгучее, дрожащее, липкое. Мелькание усилилось, а в ушах уж звенели колокола.
* * *
Теперь воздух более походил на плотный, клубящийся, точно в бане, пар. Я достиг апогея. Последний вдох! Задержка! И мертв!
А за этим следовало прозрение — знаки складывались в слова, события — в историю.
* * *
— Эк, вымахал? — удивился Богумил, когда посыльный шагнул в горницу, и, даже наклонившись, чуть было не расшиб лоб о притолоку.
— Да святится великий Свентовит! Будь здрав, мудрейший! — выпалил парень. — Скверные вести из Киева.
Сказал, да и умолк на полуслове.
— Как же, ждем! — молвил в ответ тысяцкий, нервно перебирая тронутою сединой бороду.
Богумил огладил свою, молча кивнул доверенному, мол, не тяни — все, как есть, сказывай.
— Хвала Велесу, я обогнал их! — продолжил парень, — Ночью кияне сбились со следа, но князев стрый скоро будет здесь. У вас нет в запасе и дня. Худые дела творятся и в Киеве, и в Чернигове, и по всей земле русской. Много крови будет, чую.
— Не бывать тому, чтобы мать да отца поимела. Никогда Господин Великий Новград не покорится Киеву! Никогда Югу не владеть Севером! — воскликнул Угоняй.
— Тише, воевода! — спокойно произнес верховный волхв. — Реки дальше!
— Едет Добрыня-Краснобай, да дружина его, а с ним еще Владимиров верный пес, Путята, — рассказывал вестник, — И он ведет войско ростовцев. Все воины бывалые, у всех мечи остры да булатны.
Хотят кумиров наших ниспровергнуть. Хотят снова вознесть веру чуждую!
— Уж не Христову ли? — грянул Угоняй. — Ишь, какие скорые. Еще тлеют кумиры Рожаниц да Родича, а они снова тут объявились! Не пустим врага в Новгород, нехай за Волховом себе скачет. Попрыгает да помается — и назад повернет.
— Ты дело говори, тысяцкий!? — нахмурился Богумил, хотя сам недолюбливал Краснобая, а особливо его выкормыша стольнокиевского.
«Третий десяток разменял, а всё равно — мальчишка, да еще злопамятный и честолюбивый. Не почтил ни Велеса, ни Свентовита, а объявился жрецом Громометателя», — злился он. — Как ворога отвадить?
Выстоим али прогнемся? — продолжал верховный волхв.
— Думаю я, — разобрать мост, а лодьи да на наш берег переправить. Выиграем время — ушкуйники вернутся, и варягов с Ладоги вызовем.
— А коль пожгут супостаты торговую-то сторону? — осмелел посыльный.
— Что они, дурни? От того народ еще злее станет. Правда, купчишки наши — эти заложить могут. Всюду поплавали, всем пятки да задницы лизали. Вот откуда предательство да измена будет, — развивал свою мысль тысяцкий.
— Прикажи бить набат, Угоняй! — молвил Богумил. — Немедленно учиним вече. Буду говорить с новгородцами!
Тысяцкий поклонился верховному жрецу и спешно покинул палаты.
Посыльный топтался, как несмешленый конек. Богумил хмуро посмотрел на него, неожиданно, улыбнулся — лицо просветлело. Он поманил посланца, тот все так же нерешительно приблизился.
— Садись, молодец — продолжал Богумил, — Знаю, устал с дороги, но время не терпит. Сам сказал.
— Истино так, не терпит, владыко!
— Хочу отписать я племяннику грамотку, ты и повезешь бересту.
На столе он нашел еще совсем новое стило и несколько свитков.
«— Здрав будь, Рогволод! Слово тебе шлю. Лучше убитому быть, чем дать богов наших на поругание, — медленно начал говорить Богумил. — Идут враги к Нова-городу. Молимся, жертвы приносим, чтобы не впасть в рабство. Были мы скифы, а за ними словены да венеды, были нам князи Словен да Венд. И шли готы, и за ними гунны, но славен был град. И ромеи были нам в муку, да били их дружины наши. И хазары жгли кумирни, но разметал их Ольг, коего звали Вещим. А прежний князь Гостомысл, что умерил гордыню свою, тем и славен. Как и прежде, в тресветлую Аркону, отчизну Рюрикову, слово шлем. Спеши в Новград, Рогволод! Купец златом богат, да умом недолог — предаст за серебряник. Будет киянин, чую, смерть сеять и богов наших жечь. Суда Велесова не убежать, славы словен не умалить.»
Едва удалось подвести черту, как за окном тяжелым басом, торжественно и мрачно, гулко и зловеще зазвучал вечевой колокол.
* * *
Я хранил бересту на груди, не раз перечитывал заветные слова, хотя помнил их уже наизусть: «… были мы скифы, а за ними словены да венеды, были нам князи Словен да Венд.» Скифская земля раскинулась от гористой Фракии до самого Гирканского моря, которое часто теперь называли Хвалынским. С кем только не сражались пращуры?
Били кимров, ратились с персами — из рода в род передавали легенды о том, как один великий завоеватель, чьи лошади уже готовились осушить море-Окиян, едва не сгинул вместе со всем войском в бескрайних скифских степях. Не даром, знать, возносились богатые жертвы священному мечу! Не зря славили Великую Мать, коль жены народили славных воинов!
А потом явились ромеи, а за ними и готы, потом конными массами ярились по всей степи гунны… Ну, и где ж все они теперь? А Скуфь стоит, да и стоять будет, до тех пор, пока обычай древний чтим — всякому будет воздано по чести да справедливости.
Клубящиеся облака рассеялись и взору смертного предстало море, бескрайнее море пламенеющее белым огнем. Мир Яви давно канул в небыль, а мой взгляд, взгляд молодого волхва направляла могучая воля Водчего, и взгляд мой в согласии с этой Силой вновь проникал все дальше и дальше в прошлое, раздвигая пределы. Над морем разлилась молочная пелена, умиротворяя неистовую стихию. Но вот и она стала постепенно растворяться. Мне послышались чьи-то крики. Лязг металла.
Скрипело дерево. Плескалась вода. И Белый Хорс ослепил очи…
* * *
…Солнце безжалостно светило в глаза. Добрыня-Краснобай глянул из-под руки. Впереди толпились горожане. Он махнул — дружинники теснее сомкнули щиты, изготовив оружие. Новгородский люд попятился.
— Что собралися? Мы разор никому чинить не желаем! Выдайте Киеву обидчиков! — увещевал Добрыня Малхович.
— Как же! Второй раз не купишь! — отзывались словене.
— Нет тебе веры, злодей хазарский!
— Ты по что кумирни осквернил, боярин?! — кричали с той стороны.
— Лгут ваши жрецы, потому и противны князю! Нет на Руси иного хозяина, окромя Владимира Святославича! Нет иного бога, окромя Христа! Покоритесь, несчастные! — вторил вельможе Путята, сам крещеный еще при Ольге.
— Вот и ступай к Распятому прямой дорогой!
В киян полетели камни. Один просвистел над ухом тысяцкого.
— Пеняйте ж на себя, неразумные! — молвил Добрыня.
Воины медленно двинулись вперед, выставив копья, дружинники оттесняли толпу на берег. Но их стремление натолкнулось на завалы из бревен и досок. Град камней усилился. То тут, то там падали ратники, иной срывался в Волхов, под дружное улюлюканье новгородцев, и оглушенный, шел ко дну — крокодилу на прокорм.
— Не бывало такого, чтобы мать, да отца поимела! Никогда Великий Новгород не покорится Киеву! — услыхал он голос Богумила. — Ничего, и до тебя доберемся, старик, — успокоительно заметил Добрыня Малхович.
Тут к вельможе протолкался испуганный посыльный, одежда висела на нем клочьями, и лишь за шапку мужика пропустили к Краснобаю:
— Беда, светлейший! — выдохнул посыльный. — Народ совсем рассвирепел! Дом твой разорили, усадебку разграбили — сын Константин поклон шлет и молит о помощи! Без подмоги ему не выстоять!
— А, псы! — выругался Добрыня.
Дружинники шарахнулись в стороны.
Развернул коня, что есть силы врезал по ребрам. Скакун взвился от жгучей боли, но всадник усидел, сдавив рассеченные до крови бока, и еще раз хлестанув коня, погнал его, словно не перевалило за пятьдесят.
— Эко припустился, гад! Смотри, портки не потеряй! — заорали словене.
Ростовцы стеной сомкнули крепкие красные щиты. Путята похаживал за рядами воинов, выжидая, когда у новгородцев кончится запас камней. Тяжелые копья били особо рьяных — не прорвешься, да только и сам — ни шагу.
— Постоим, словены, за богов наших! — тысяцкий Угоняй воодушевлял своих людей.
Тут подоспели кияне-лучники, они стали за ростовцами, готовые в любой момент обрушить на толпу десятки жалистых стрел.
— Ослобони, батюшка! — не выдержал сотник, — Нас и трехсот нет, а их тьма — сомнут, растопчут.
— Сам князь велел. Отступить — что голову сложить! — зло отозвался воевода, помня наказ Володимера.
Путята свирепел. Он знал, что новгородцы упрутся. Но ведал воевода также, что словене отходчивы. Ан нет! Третьи сутки бунтуют, всю Русь баламутят! Так бы взял не полтысячи, а втрое больше.
— Пусть порадуются! Они мосты разберут и спокойные будут, а мы-то в ночь бродом и на тот берег… Да еще пара сотен подойдет!
— Это ты хорошо придумал, сотник! Голова! Вели отступать! — решился Путята, все разглядывая ту, запретную сторону, где толпились бунтари.
* * *
…Так и вышло. Врага не устерегли. Ростовцы ворвались в город, убивая направо и налево. Вскоре они уж ломали ворота в Богумилов двор. Самого волхва дома не было — держал совет с Угоняем.
Ударил набат. Воздух огласился ярыми криками. Богумил и тысяцкий выскочили наружу. С Волхова потянуло гарью. Бравые крики и проклятия, топот, цоканье копыт, звон доспехов, глухие удары, плач ребенка и стенание матери — все смешалось воедино.
— Они уже в городе! Проворонили, дураки! — Угоняй в отчаянии рванул седую бороду.
Те кто был при нем в суматохе высыпали следом, на ходу затягивая пояса. Воины оправляли куртки из толстой кожи с нашитыми на них кольцами, вытаскивали мечи да проверяли тетивы.
— Нередко и великие умники могут совершать самые нелепые поступки! — отвечал Богумил, — Я к народу, друже! Ты ж держись, как можешь!
Прихрамывая, старый волхв заспешил к потайной калитке…
… Доски не поддавались, трещали, но держали. Сквозь пробитую брешь злодеи увидали хозяйку. Тетка Василиса, властная, как тот, в чью честь назвали, умело распоряжалась прислужниками. Словене молча поджидали супостатов, готовя топоры да рогатины.
— Жгите! — приказал Путята.
Через тын полетели смоляные факела на длинных древках. В ворота били все яростней. Подсаживая друг-друга ростовцы лезли на стену, кто-то срывался, иные прыгали вниз уже по ту сторону тына — их встречали ладными, дружными ударами.
Крыша занялась. В тот же миг петли да засовы не выдержали, под мощным натиском створки подались. Кияне, бросив бревно, ринулись в проход. Первые же рухнули под топорами словен, но их мигом затоптали следом бегущие воины. Дружинники, подгоняемые зычным голосом конного начальника, высыпали во двор, сминая новгородцев. Те отчаянно защищались, но силы были неравные.
— Хозяйка! Уходи!
— Как же, вас только оставь — хлопот не оберешься! — задорно крикнула Власилиса, поднимая окровавленный топор.
Справа и слева падали дворовые, слуги и ближние. Враги зло наседали, и вскоре им удалось оттеснить последних защитников к крыльцу. Загудели луки, взвизгнули стрелы.
— Берегись!
Отрок бросился к Власилисе, прикрывая ее, и тут же грянулся на ступени, пронзенный коротким копьем. Она успела проскользнуть в приоткрывшуюся дверь — лязгнул замок. Остроносая племянница испуганно ткнулась в грудь.
— Не бойся, родная! Это не страшно! Ведаю, там тебя мамка с папкой встретят!
Кровля полыхала, вниз летели обугленные доски. Горницы заволокло серой душной пеленой.
— Ну, что? — услыхала ведунья голос старшего.
— Заперлась, стерва! Больно дверь ладная да тяжелая.
Власилиса зарычала, словно раненная медведица.
— Сожри ее Огнебог! — выругался тот же голос, — Время теряем!
Добейте остальных, и все на площадь! Богумил снова народ мутит…
— Будет сделано, батюшка!
— Знаю я этих новгородцев. Им бы только поорать, а как запалим склады да амбары — тут же разбредутся спасать пожитки! — бурчал Путята.
… Ругивлад жадно хватал морозный воздух, он задыхался. Клубы дыма окутывали дом, но то было в иной, нездешней яви, то осталось в прошлом. Закашлялся. Сознание судорожно цеплялось за приметы, не пуская назад. Молодой волхв глотнул, набрав полную грудь, он старался еще, хоть на мгновение, удержаться там, в Сбывшемся…
Конный отряд Малховича ворвался в город следом за ростовцами.
Дорогу преградила стена огня, по дощатой улице, пламенея, расползалась смола.
— Вперед! За Киев! За Владимира! — прохрипел Добрыня.
В черных дымах угадывался редкий строй воинов, что успел собрать тысяцкий. Дрогнули тетивы. Забились в муках израненные обожженные кони, калеча и сминая пеших соратников. Всадники яростно ринулись сквозь языки пламени. Многие были сражены новыми меткими выстрелами и рухнули вместе с лошадьми, но те, кто мчался за ними, проскакали по телам павших и врезались в неплотный строй словен. Они раскидали линии защитников и хлынули по улице вниз, прямо к вечевой площади. За конным отрядом бросились и остальные.
— Mужайтесь, ребятушки! — кричал Угоняй, отбивая удар за ударом, — Не пустим супостата!
По всей улице кипела яростная схватка. Душераздирающие крики людей, стоны и ржание мечущихся лошадей, звон клинков и скрежет рвущихся кольчуг. На Угоняя набросилось шестеро. Он защищался с великим трудом — годы не те. По всему было видно, что им приказали взять бунтаря живым. Но и тогда он показывал яростную храбрость и поразительное ратное умение. Старик стоял непоколебимо.
Его меч свистнул, взлетел и рухнул серебристой волной. Шелом на враге раскололся, череп хрустнул, в стороны плеснуло кровью и серой кашицей. Кияне отступили, Угоняй утер бороду, но передышки не последовало. На него бросился молодой и рьяный дружинник. Парня выдали глаза, тысяцкий прочитал, куда удар, он ловко поймал движение стали, неуклюже развернулся и снова окровавил меч. Противник дернулся и повалился набок. От плеча до плеча быстро расползалась алая полоса. Наскочившему второму Угоняй тут же подсек колено не прекращающимся волнистым движением тяжелого клинка, третьему стремление металла рассекло кисть.
Тысяцкий проклинал дозорных, но еще надеялся, что там, на вечевой площади, волхв сумеет воодушевить земляков. Даже если бы это было так, не видать ему ни Богумила, ни старухи своей, ни внучат.
Стрела угодила в плечо, в едва различимую щель между изрубленными пластинами доспеха.
— Держись, старик! — крикнул ему кто-то.
— Уходите! Со мной кончено! — прорычал он в ответ.
Плечистый новгородец заслонил тысяцкого щитом, в который ткнулись еще две стрелы, но тут же рухнул, пораженный копьем в живот.
Перчатка мешала. Угоняй потянулся к плечу, ломая древко. На него налетели, сбили с ног и смяли, выкручивая руки назад.
Превозмогая тяжесть, мощный старик в какой-то миг отшвырнул, разметал ретивых. Кто-то занес над ним рукоять, пытаясь оглушить, да перехватил тысяцкий врага за кисть, повел, выгнул и с хрустом вывернул руку из сустава.
Напрасно. Громадный всадник с размаху обрушил на старца ужасный удар секиры…
* * *
Площадь гудела. Никто друг друга не слушал. Все попытки Богумила воззвать к землякам тонули в бушующем море страстей. К жрецу протиснулся малец, перемазанный сажей, через спину наискось шел кровавый след:
— Худо, дедушка Богумил! Кияне по всей реке жгут дворы, горит Великий Город! Твоих тоже порешили…
— Будь он проклят, Добрыня-Краснобай! Покарай его боги!
В тот же миг справа и слева два отряда всадников с дикими криками на всем скаку врезались в толпу. За ними звенели копьями пешие ратники. Дикая мешанина метущейся стали, снова кричащие и плачущие навзрыд люди. Трепещущие в судорогах тела.
— Пожар! Караул! Горим! — заорали со всех концов на разные голоса.
И тысячные людские массы вдруг стали расползаться, словенское озеро стыдливо утекало сквозь узкие улицы, и Путята не мешал его стремлению. Площадь быстро пустела. Пыль обратилась в кровавую грязь. Всюду валялись трупы задавленных и посеченных горожан.
Хрипели умирающие, стонали раненные.
Богумил в бессилии воздел посох к небесам, но вышние боги не слышали своего служителя.
— Быдло и есть быдло! Что с них возьмешь? — рассмеялся вельможа, посматривая свысока в сторону беспорядочно мечущихся горожан.
Расторопный конюший придержал скакуна. Княжий дядя ступил на землю, умытую славянской кровью. Не побрезговал Добыня сапожки замарать — не впервой ему.
— Давайте сюда волхва, — приказал Малхович конюшим.
Ростовцы шли плотным строем, выставив копья, вытесняли люд в проулки и гнали вниз к Волхову. Над городом повисла серая дымная пелена. Подъехал и Путята., спешился, не посмел с дядей княжьим с седла говорить.
— Ну, что? Взяли Угоняя? — спросил Добрыня воеводу.
— Не гневись, светлейший! Больно крепок оказался! Гори он в пекле! — выругался Путята. — Да и этот, — воевода указал на Богумила, которого только что подвели — тоже не слаб.
Тяжело шел Богумил. Не посмели кияне волхва новгородского скрутить — сам он к разорителям Нова-города подступил.
— Что скажешь, дед! По-княжьему вышло, али нет? — ухмыльнулся Добрыня.
— Проклятье тебе, боярин! Будь проклято семя твое! — замахнулся на вельможу Богумил, но ударить не успел.
Краснобай с яростью ткнул старика ножом под бок, предательское железо вошло в тело по самую рукоять. Богумил охнул, выронил корявый посох, ухватился за одежды убийцы и стал медленно оседать. Тот отпихнул старика, верховный жрец рухнул на колени, но подняв быстро хладеющие персты, трясущимся пальцем все же указал в сторону Добрыни:
— Внемлите, Навьи судьи! И ты, внемли, жестокий Вий! Веди мстителя! — вымолвил старый волхв, пав навзничь.
— Я иду! Я слышу, отче! — крикнул молодой волхв, что было сил, и очнулся.
— Мы идем! Трепещите, церковники! — повторил я, крепко сжимая Инегельдов посох, — Ни хитру, ни горазду суда Велесова не избежать!
* * *
…Компьютер запищал, стрекотал модем. Продрав глаза, я бросился к машине и нажал «Обновить» на верхней панели. В папке новых писем красным высветилась единица. Я раскрыл письмо, которое состояло из одной строки.
«С возвращением, Рогволд!»
(1999)








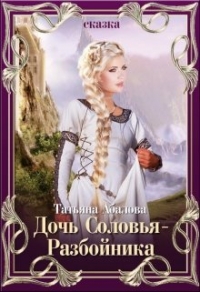
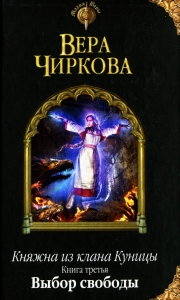

Комментарии к книге «Эликсир памяти, или Последние из Арконы», Дмитрий Анатольевич Гаврилов
Всего 0 комментариев