Дэвид Келлер Восстание пешеходов
Молодая мать медленно шла по шоссе, держа за руку маленького сына. Они представляли собой прекрасную пару пешеходов, хотя устали и были покрыты пылью после перехода, из Огайо в Арканзас, где собирались для последней битвы жалкие остатки побежденной расы. Много дней эти двое двигались по различным дорогам на запад, то и дело чудом избегая смерти. Но в тот день усталая, голодная и ослепленная заходящим солнцем женщина спала на ходу, и разбудил ее собственный крик, когда она поняла, что бегство уже невозможно. Она еще успела спасти своего сына, столкнув его в канаву, и умерла на месте, под колесами автомобиля, мчавшегося со скоростью шестидесяти миль в час.
Элегантную даму в «седане» разозлил внезапный толчок, и она довольно резко спросила через стекло у шофера:
— Что это было, Уильям?
— Мы только что переехали пешехода, госпожа.
— Всего-то? Во всяком случае, ты должен быть осторожнее. — Женщина повернулась к своей дочери. — Уильям только что переехал пешехода, и мы чуть подскочили.
Девочка с гордостью смотрела на свое новое платье. Сегодня ей исполнялось восемь лет, и она ехала с визитом к бабушке. Ее скрюченные, тронутые атрофией ножки ритмично раскачивались. Мать с гордостью подчеркивала, что малютка никогда не пыталась ходить. Однако она явно пыталась мыслить, потому что ее мучил какой-то вопрос. Наконец она обратилась к матери.
— Мама, — спросила она, — а пешеходы испытывают боль так же, как и мы?
— Конечно, нет, дорогая. Они не такие, как мы, некоторые даже утверждают, что они вообще не люди.
— А кто — обезьяны?
— Нет, они стоят выше обезьян, но значительно ниже автомобилистов.
Машина продолжала мчаться вперед.
А позади на шоссе остался застывший от ужаса маленький мальчик, рыдающий над окровавленным телом своей матери, которое с трудом сумел оттащить на обочину. Он оставался там до следующего утра, а затем оставил мать и медленно пошел к лесу. Он устал и был голоден и несчастен, но на вершине холма на минуту задержался и яростно потряс кулаком.
В тот день в душе его родилась глубокая ненависть.
Мир помешался на автомобилях. Дорожные полицейские раздраженно посматривали на медленно бредущих пешеходов, которые угрожали цивилизации, являлись шагом назад на пути прогресса, вызовом развитию науки. В человеческом теле признавался лишь разум.
Постепенно машины заменили работу мышц, как средства, ведущего к цели. Жизнь состояла из серии взрывов смеси бензина или спирта с воздухом или из разрежения пара в цилиндрах и турбинах, что давало человеку силу, которую можно использовать. Человечество добивалось своих целей благодаря механической энергии, создаваемой в больших количествах и передаваемой по проводам в виде электричества.
Небо служило самолетам, причем более высокие уровни предназначались для междугородних перелетов, а низшие для пригородного движения. Дороги — все из железобетона, в основном, односторонние, определяли допустимое количество машин, позволяющее избегать непрерывных столкновений. Некоторая часть людей с готовностью взмыла в небо, но подавляющее большинство из-за отсутствия достаточного числа воздушных коридоров была вынуждена остаться на земле.
По мере того как улучшались автомобили, человеческие ноги все более атрофировались. Наследники Форда, которым уже не хватало езды за пределами дома, придумали небольшой одноместный экипаж для использования в доме, а лестницы заменили изогнутыми дорожками. Люди начали жить в металлических коробках, покидая их только на ночь. Со временем, частью по необходимости, а частью по собственной воле, машину ввели в спорт и игры. Спроектировали специальные модели для игры в гольф; дети в парках, сидя в дрезинах, крутили колеса; девушки плавали в тропических водах Флориды, лежа в амфибиях. Человечество перестало пользоваться нижними конечностями.
Бездействие ног влекло за собой атрофию, атрофия вызвала постепенные отчетливые изменения в строении тела, а они в свою очередь повлияли на новую концепцию женской красоты. Все это произошло на протяжении веков.
Со сменой обычаев изменились законы. Теперь они защищали не все общество, а лишь автомобилистов. Дороги, прежде служившие всем, теперь предназначались только для машин. Поначалу хождение по шоссе было просто опасным, затем оно стало преступлением. Перемены эти также происходили постепенно. Сначала для машин отвели лишь некоторые дороги, потом пешеходам вообще запретили ими пользоваться, отняли у них право на вознаграждение при несчастном случае на шоссе, и наконец хождение по дорогам стало считаться преступлением.
Последним шагом стал закон, позволяющий убивать на шоссе всех пешеходов.
Никто не хотел ездить медленно — мир охватила мания скорости и перемещения с места на место. В выходные и праздники неисчислимые массы автомобилистов мчались «куда глаза глядят», только бы не проводить свободное время дома. Сельский пейзаж состоял сейчас из длинных потоков машин, мчавшихся со скоростью восьмидесяти миль в час между стенами реклам и останавливающихся порой на заправочной станции, перед баром или у куста, чтобы оборвать с него цветы. Воздух был насыщен выхлопными газами и наполнен хриплым воем всевозможных клаксонов. Никто ничего не видел, никто не хотел ничего видеть, мечтою каждого водителя стало ехать быстрее, чем автомобиль перед ним. На современном языке это называлось «спокойным отдыхом в деревне».
Пешеходов больше не было, точнее, почти не было. Даже в деревнях люди передвигались на колесах. Поля обрабатывали только машины. Местами, держась, как козы, неприступных скал, остались недобитые пешеходы, сохранившие желание пользоваться ногами.
Все эти люди происходили из бедноты. Поначалу закон не дискриминировал их. В каждом штате было по нескольку семей, которые никогда не переставали ходить самостоятельно. Автомобилисты смотрели на них сначала с удивлением, потом с ужасом. Никто не замечал огромной пропасти между двумя этими группами «хомо сапиенс», пока пешеходам не запретили пользоваться дорогами. Тут же во всех штатах вспыхнуло Восстание Пешеходов, и хотя после битвы под Банкер-Хилл прошли уже сотни лет, дух ее оставался вечно живым, а запрет на хождение по шоссе только усиливал желание его нарушить. Все больше пешеходов гибло от несчастных случаев, и семьи их мстили, стараясь, чтобы езда на автомобилях стала неприятной и опасной: гвозди, булавки, стекло, колючая проволока, стволы деревьев, крупные валуны стали обычным оружием. В горах Озарк какой-то отшельник, живущий в лесу, яростно бил стекла и дырявил покрышки точными выстрелами из карабина, другие просто ходили по дорогам и издевались над автомобилистами. Если бы шансы были равны, это могло бы привести к анархии, поскольку же они не были равны, пешеходы просто нарушали порядок. Классовое сознание достигло предела, когда сенатор Гласе из Нью-Йорка заявил на заседании Палаты:
— Раса, которая перестает развиваться, должна погибнуть. Веками человечество передвигалось на колесах, стремясь к состоянию механического совершенства. Пешеходы, пренебрегая своим правом на езду автомобилем, не только упрямо ходят пешком, но и осмеливаются требовать равных прав со стоящими неизмеримо выше автомобилистами. Терпение уже перестало быть добродетелью. Лучшее, что можно сделать для этих несчастных дегенератов — это начать процесс уничтожения. Только так можно остановить ширящиеся беспорядки в нашей спокойной и прекрасной стране. Мне не остается ничего иного, как внести на рассмотрение «Закон об уничтожении пешеходов». Как вам известно, он предусматривает немедленное уничтожение каждого пешехода, оказавшегося в пределах досягаемости полиции штата. По последней переписи населения их осталось около десяти тысяч, главным образом, в нескольких штатах Среднего Запада. С гордостью могу сообщить, что мой собственный избирательный округ, имевший до вчерашнего дня одного пешехода — девяностолетнего старца — отныне чист от них. Мне сообщили, что, к счастью, он вышел на дорогу, со старческим упорством, направляясь на могилу жены, и был тут же сбит. Однако, хотя в Нью-Йорке сейчас нет ни одного из этих жалких дегенератов, мы охотно поможем другим, менее удачливым штатам.
Положение было немедленно принято, при возражении сенаторов из Кентукки, Теннеси и Арканзаса. Для поощрения назначили премию за каждого убитого пешехода, а каждый округ, добившийся полного успеха, получал серебряную звезду. Каждый штат, в котором оставались одни автомобилисты, получал золотую звезду. Судьба пешеходов, как некогда судьба почтовых голубей, была предрешена.
Как и следовало ожидать, уничтожение не было ни немедленным, ни полным. Тут и там автомобилисты встречали неожиданный отпор. В результате прошел еще год, прежде чем идущий пешком мальчик поклялся отомстить машинам, несущим гибель человечеству.
Сто лет спустя, воскресным днем Академию Естественных Наук в Филадельфии, как обычно, заполняли искатели развлечений, каждый из которых прибыл в собственном экипаже. Бесшумно, на резиновом ходу, передвигались они вдоль витрин, то и дело задерживаясь перед экспонатами, которые привлекли их внимание. Среди экскурсантов были отец с сыном, оба весьма заинтригованные: мальчик — незнакомым миром чудес, отец — проницательными вопросами и наблюдениями сына. Наконец мальчик остановил свой экипаж перед одной из витрин.
— Что это, отец? Они похожи на нас, только имеют какую-то странную форму.
— Это, сын мой, семья пешеходов. Они жили давно, а я знаю о них, поскольку мне рассказывала моя мать. Эту семью подстрелили в горах Озарк, считается, что они были последними представителями своей расы.
— Жаль, — задумчиво сказал мальчик. — Если они жили, ты мог бы достать мне такого маленького, чтобы я с ним играл.
— Они мертвы, — ответил отец. — Все погибли.
Он считал, что говорит правду, однако ошибался. Небольшая группа пешеходов уцелела, а их предводителем и мозгом был правнук того мальчика, который когда-то давно стоял на склоне с ненавистью в сердце.
Независимо от климатических условий, среды и различных врагов человек всегда ухитрялся выжить. В случае с пешеходами произошел элементарный естественный отбор: выжили сильнейшие. Только самые ловкие, умные и смелые сумели избежать систематической охоты. Хоть и немногочисленные, они все же выжили. Хоть и лишенные всех так называемых благ цивилизации — они существовали. Вынужденные защищать не только собственную жизнь, но и существование целой расы, они руководствовались ловкостью своих предков, живших в лесах. Они жили, охотились, любили друг друга, умирали, и два поколения мир ничего не знал о них. У них была своя политическая организация, свои законы и суд, вершивший справедливость на основании Блекстона и Конституции. Вождем всегда был кто-то из рода Миллеров — сначала выросший мальчик с ненавистью в сердце, потом его сын, воспитанный с детства в ненависти ко всему механическому, затем его внук — мудрый, хитрый и энергичный и, наконец, правнук, Авраам Миллер, тремя поколениями подготовленный к мести.
Авраам Миллер был наследным президентом Колонии Пешеходов, укрытой в горах Озарк. Граждане ее жили в изоляции, но не в неведении, их была горстка, но они приспособились к сложившейся обстановке. Среди первых беглецов оказалось несколько изобретателей и профессоров, а также один юрист. Они культивировали свои знания и передавали их дальше. Все вместе они возделывали землю, охотились, ловили рыбу, строили лаборатории. У них имелись даже машины, и время от времени, маскируя ноги, они отправлялись на разведку на территорию врага. Обучение некоторых детей с самого начала строилось в этом направлении. Имеются доказательства, что один из таких шпионов жил несколько лет в Сент-Луисе.
Колонией управляла одна мысль, всех жителей влекла одна цель: дети с малых лет говорили о ней, школьники день за днем разговаривали об этом, молодежь шепталась о ней при свете луны, в лабораториях она была написана на всех стенах, старики собирали вокруг себя детвору и заставляли клясться, что они все свершат. Вся деятельность колонии подчинялась реализации лозунга:
— Мы вернемся!
Они упивались ненавистью. Их предков травили, как диких животных, убивали без жалости, как паразитов. Они хотели не столько мести, сколько свободы, права на свободную жизнь, как хотят и где хотят. Три поколения колонии удавалось хранить свое существование в секрете. Год за годом они жили, работали и умирали с одной мыслью в сердце. Теперь пришло время реализации планов. А тем временем мир автомобилистов катился своим путем, материалистический, механический, самолюбивый — он дал удобства массам, но не сумел обеспечить счастья отдельным гражданам. Все жили в достатке, имели доходы, дома, продукты, одежду. Однако дома были из бетона, все одинаковые, отливаемые на конвейере. И мебель была из бетона, отливаемая вместе с домами. Одежда делалась из водоотталкивающей бумаги, одинакового фасона, менявшегося четыре раза в году. Продукты продавались кубиками, каждый из которых содержал все необходимое для жизни, на каждом написано количество. Веками изобретатели что-то придумывали, и наконец жизнь стала однообразной, а работа свелась к нажатию кнопок. Однако мир автомобилистов оставлял желать много лучшего, поскольку никто не пользовался мускулами. Разумеется, летом люди потели, но уже несколько поколений никто не вспотел от усилия. Такие слова, как «труд», «работа», помечались в словарях как устаревшие.
И все же люди не были счастливы, поскольку создание автомобиля, который мог бы ехать по обычному шоссе быстрее ста пятидесяти миль в час, оказалось технически невозможно. Автомобилисты не могли передвигаться так быстро, как хотели. Им не удалось уничтожить расстояния и обмануть время.
Кроме того, все они были отравлены. Воздух был насыщен выхлопными газами двигателей, сжигавших миллионы галлонов бензина и других жидкостей, несмотря на то, что множество машин электрифицировали. Однако важнейшей причиной отравлений являлось сокращение выделения токсичных субстанций через кожу и почти полное отсутствие физической работы. Автомобилисты перестали работать в архаическом значении этого слова, а перестав работать — перестали потеть. Несколько часов в день, проведенных на фабрике или за столом, хватало, чтобы заработать на жизнь. Поскольку они никогда не уставали, им требовалось меньше часов сна. Оставшиеся часы они проводили в машинах, разъезжая, куда глаза глядят. Все равно куда, лишь бы быстро. Дети с малых лет воспитывались в машинах, проводя в них практически всю жизнь. Родной дом перестал существовать — его заменил автомобиль.
Автомобилисты ехали вперед, не всегда зная, зачем, а пешеходы знали цель, к которой стремились.
Общество было, в сущности, социалистическим, то есть все классы жили в достатке. Преступный мир исчез уже несколько поколений назад, когда была принята теория Брайнта, что достаточно выделить и стерилизовать два процента потенциальных преступников, и проблема перестанет существовать в течение одного поколения. Когда Брайнт впервые опубликовал свой тезис, последовало несколько критических откликов, но претворение его в жизнь встретило всеобщее одобрение — не считая тех, кого это непосредственно касалось.
Однако даже это внешне идеальное общество не было свободно от недостатков. Хотя все имели средства, необходимые для жизни, это не значило, что все жили с одинаковым достатком. Другими словами, мир по-прежнему делился на бедных и богатых, а богатые по-прежнему составляли большинство в правительствах и принимали законы.
Наиболее замкнутой, аристократической и влиятельной семьей среди них была семья Хейслеров. Их имение в Гудзоне окружала тридцатимильная железная ограда высотой в двенадцать футов. Немногие удостоились чести быть приглашенными в каменный дворец, окруженный лесом из сосен, буков и елей. Хейслеры были настолько могущественны, что никто из них никогда не занимал никакой должности. Они выбирали президентов, но не стремились иметь их в своей семье. Враги утверждали, что они обязаны всем счастливым бракам с Фордами и Рокфеллерами, но несомненно, то была лишь сплетня, рожденная завистью. Хейслеры владели банками и недвижимостью, фабриками и административными зданиями. Известно было, что Президент Соединенных Штатов и Высший Суд у них в кармане. Однако имелось кое-что, о чем редко говорили и писали в газетах: единственная наследница главной ветви семьи умела ходить.
Уильям Генри Хейслер был необычным миллионером. Когда ему сообщили, что его жена родила дочь, он поклялся богом (хотя не знал, что это такое), что будет проводить со своим ребенком не менее часа ежедневно.
Первые несколько месяцев в девочке не замечали ничего ненормального, хотя сиделки обратили внимание, что у нее некрасивые ноги. Отец решил, что, вероятно, у всех младенцев ноги некрасивые.
Когда ей исполнился год, она попыталась встать и сделать первый шаг. Это тоже еще не вызвало беспокойства, поскольку педиатры в один голос утверждали, что все дети пытаются несколько месяцев пользоваться ногами — это просто дурная привычка, вроде сосания пальца, от которой легко отучить. Они дали сиделкам обычные в таких случаях указания, которые несомненно были бы претворены в жизнь, если бы отец решительно не заявил:
— У каждого ребенка есть своя индивидуальность. Оставьте ее в покое, и посмотрим, что из нее вырастет. — А чтобы обеспечить послушание, выделил одного из своих секретарей для постоянного надзора, обязав представлять ежедневно письменные доклады.
Девочка росла. Пришло время, когда детское прозвище «малютка» сменилось полным именем «Маргарет». По мере того, как она росла, росли и ее ноги, а чем больше она ходила, тем сильнее они становились. Никто и ни в чем не помогал ей, поскольку никто из взрослых никогда не ходил и даже не видел никого, кто ходит. Девочка не только ходила на ногах, но и по-детски протестовала против механических перевозок, визжа как безумная, когда ее пытались посадить в машину.
Когда было уже слишком поздно, ее отец начал советоваться с любым, кто мог бы сказать что-то о создавшемся положении и подсказать из него выход. Хейслер желал, чтобы его ребенок имел собственную индивидуальность, но не хотел, чтобы он был отщепенцем. Поэтому он приглашал на консультации нейрологов, хирургов, воспитателей, психологов, специалистов в области детской психики — и ничего не добился. Все соглашались, что это случай атавизма, и предлагали в качестве лекарства тысячи решений — от психоанализа до грубого лишения свободы передвижений и бандажа на нижние конечности девочки. Наконец разозленный Хейслер заплатил им за труды и за молчание, рявкнул: «Чтоб вас черти взяли!» — и отослал обратно. Он не знал, кто такие черти, но выражение это доставило ему облегчение.
Все тут же разъехались, за исключением одного старичка, который наряду с прочими занятиями увлеченно изучал генеалогию. Вместе с хозяином они образовали интересную пару, сидя лицом к лицу в своих мини-экипажах: один был мужчиной в расцвете сил, энергичным, крепко сложенным (не считая усохших ног), прирожденным лидером, а другой — старым, седовласым, высохшим мечтателем. В комнате остались только они, не считая ребенка, который беззаботно играл в солнечной оконной нише.
— Я, кажется, сказал, чтобы вы шли к чертям, — буркнул магнат.
— Но как? — последовал логичный ответ. — Остальные ведь тоже вас не послушались и просто уехали из вашего дома. Скажите мне, где находится ад и те черти, к которым вы нас послали? Наши подводные лодки изучили морское дно до глубины в пять миль. Наши самолеты достигают звезд. Гора Эверест покорена. Я читал различные дневники путешественников, но нигде не встретил описания ада. Несколько веков назад теологи утверждали, что это место, куда отправляются после смерти грешники, но с тех пор как мы стерилизовали два процента Брайанта, грешников не осталось. Несмотря на ваши миллионы и неограниченную власть, вы сами находитесь ближе к аду, глядя на своего ненормального ребенка.
— Но, профессор, умственно она развита превосходно, — запротестовал Хейслер. — Ей семь лет, а результаты тестов Винет-Саймона на уровне десятилетнего. Если бы она перестала ходить! Конечно, я горжусь ею, но хотел бы, чтобы она была, как другие дети. Кто захочет жениться на ней? Это же просто неприлично. Вы только взгляните, что она вытворяет!
— Невероятно! — воскликнул старик. — Я читал об этом в книге трехсотлетней давности. Когда-то множество детей делали то же самое.
— Но что это такое?
— Это называлось «кувыркаться».
— А что это значит? Почему она так себя ведет? — Хейслер вытер пот со лба. — Над нами будут смеяться, если сообщение об этом попадет в газеты.
— Вы достаточно сильны, чтобы этому помешать… Кстати, скажите, вы изучали историю своей семьи? Знаете, чья кровь течет в ее жилах?
— Нет. Я никогда этим не интересовался. Разумеется, я принадлежу к Сыновьям Американской Революции, и тому подобное. Мне просто принесли нужные документы, и я расписался в нужном месте. Но я никогда их не читал, хотя хорошо заплатил за публикацию книги об этом.
— Значит, ваш предок был революционером? Где эта книга?
Хейслер вызвал секретаря, который въехал, выслушал распоряжение и вскоре вернулся с историей семьи Хейслеров. Старик торопливо открыл ее. В комнате царила тишина, нарушаемая только голосом девочки, игравшей с плюшевым медведем. Потом вдруг старик рассмеялся.
— Теперь все понятно. Вашего предка, принимавшего участие в Революции, звали Миллер, Авраам Миллер из города Гамильтон. Его мать похитили и убили индейцы. Он был родом из весьма уважаемой линии пешеходов; впрочем, в то время все ходили пешком. Миллеры и Хейслеры породнились через супружество, и произошло это лет сто назад. Ваш прадед имел сестру, которая вышла за Миллера. О ней идет речь на странице триста тридцатой, вот послушайте.
«Маргарет Хейслер была единственной сестрой Уильяма Хейслера. Независимая и слегка со странностями, она совершила безумный поступок, выйдя замуж за фермера по фамилии Авраам Миллер, принадлежащего к наиболее известным предводителям движения пешеходов в Пенсильвании. После его смерти вдова с единственным сыном, восьмилетним мальчиком, исчезли, несомненно, погибнув во время всеобщего уничтожения пешеходов. В письме, написанном брату ее до замужества, она хвалилась, что никогда не садилась в автомобиль и никогда не сядет, что Бог дал ей ноги, чтобы ими пользоваться, и что ей посчастливилось встретить мужчину, тоже имеющего ноги и желающего на них ходить, как повелел Господь».
— Вот вам и секрет вашей дочери. В ней возродилась сестра вашего прадеда. Сто лет назад эта женщина предпочла умереть, нежели поддаться моде. Вы сами говорили, что малышка едва не задохнулась от плача, когда ее пытались посадить в машину — это явно наследственная черта. Желая сломать это силой, можно убить ребенка. Остается просто оставить ее в покое. Делайте, что хотите — это ваша дочь. У нее такая же сильная воля, как у вас, и, вероятно, ничего изменить не удастся. Пусть пользуется ногами. Вероятно, она будет лазить по деревьям, бегать, плавать, прогуливаться.
— Вот, значит, как, — вздохнул Хейслер. — Это означает конец нашей семьи. Никто не захочет жениться на обезьяне, будь она даже сверхразумна. Вы действительно думаете, что однажды она залезет на дерево? Думаю, вы правы, и если существует ад, он станет моим уделом.
— Но ведь она счастлива!
— Да, если мерой счастья служит смех. Но разве все не изменится, когда она подрастет? Она будет не такой, как все. Где она найдет себе друзей? Конечно, в ее случае не применят закона об уничтожении, мое положение этого не допустит. Я мог бы даже приказать отменить его. Но она будет одинока, очень одинока!
— Научившись читать, она забудет об одиночестве.
Оба посмотрели на девочку.
— А что она делает сейчас? — допытывался Хейслер. — Похоже, вы знаете об этом больше, чем все, с кем я разговаривал прежде.
— Прыгает! Разве это не удивительно? Никогда не видела никого прыгающего, и все-таки делает это! Я тоже никогда не видел прыгающих детей, но знаю, как это называется. На иллюстрациях Кэт Гринвей были прыгающие дети.
— Да будут прокляты Миллеры! — проворчал Хейслер.
После этого разговора Хейслер взял старика к себе. Единственной его обязанностью было изучение привычек детей пешеходов, чтобы определить, как они играли и для чего использовали ноги. Потом он должен был передавать это девочке.
Он же ведал и всеми вопросами ее духовного развития. С этого времени случайный зритель мог видеть из окна самолета, как сидящий на траве старик показывает золотоволосой девочке рисунки из очень старых книг и оба разговаривают о них. А потом ребенок делал такое, чего уже сто лет не делал никто: она играла мячом и скакалкой, танцевала народные танцы или прыгала через бамбуковую палку, закрепленную на двух вертикальных. Целые часы они проводили, читая, и каждый раз старик начинал со слов:
— Так было в прежние времена.
Время от времени устраивались приемы для других богатых девочек, живших по соседству. Они были вежливы — как и Маргарет, — но приемы не удавались. Девочки, передвигавшиеся только в своих миниавтомобилях, смотрели на хозяйку с интересом и презрением. У них не было ничего общего с этим странным ходячим ребенком, и после их отъезда Маргарет заливалась слезами.
— Почему я не такая, как другие девочки? — допытывалась она у отца. — Неужели так будет всегда? Другие смеются надо мной, потому что я хожу на ногах.
Хейслер был хорошим отцом, он выполнял свое обещание проводить с девочкой каждый день по часу и передавал ей свои знания и интеллект так же старательно, как занимался делами фирмы в часы работы. Часто он разговаривал с Маргарет как с человеком взрослым и зрелым.
— У тебя есть свое собственное лицо, — объяснял он. — То, что ты отличаешься от других, не значит, что ты хуже их. Возможно, у обеих сторон имеются свои достоинства… Во всяком случае, стороны следуют своим естественным склонностям. У тебя другие привычки и иное строение тела, нежели у остальных, но возможно, именно ты более нормальна. Профессор показывал нам снимки наших предков, и у всех были ноги, как у тебя. Откуда нам знать, стал человек лучше, или дегенерировал? Иногда, глядя, как ты бегаешь и прыгаешь, я завидую тебе. Все мы привязаны к земле, зависим от наших машин во всем, что делаем, а ты можешь идти, куда захочешь. Единственное, что нужно тебе для жизни — это пища и сон.
В каком-то смысле ты превосходишь нас. Но с другой стороны, профессор говорит, что ты можешь пройти максимум четыре мили в час, тогда как я могу проехать более ста.
— Но зачем ехать так быстро, если я никуда не спешу?
— Это-то и удивительно. Почему ты никуда не спешишь? Мне кажется, что не только твое тело, но и разум старомодны, как будто взяты из прошлого. Я стараюсь проводить с тобой в доме или в саду, по крайней мере, час в день, но в остальное время меня постоянно что-то подгоняет. Ты делаешь удивительнейшие вещи, например, обзавелась луком и стрелами. Я купил тебе лучшее огнестрельное оружие, а ты никогда им не пользуешься, зато добыла в каком-то музее лук и в конце концов подстрелила утку, после чего — как рассказал мне профессор — развела огонь, поджарила ее и съела. Даже ему дала попробовать.
— Но это было очень хорошо, папа, гораздо лучше, чем синтетическая пища. Даже профессор сказал, что после такого сочного куска мяса почувствовал себя моложе.
Хейслер рассмеялся.
— Ты просто дикарка, настоящая дикарка.
— Но я умею читать и писать!
— Верно. Ну, теперь беги поиграй. Хотелось бы мне найти тебе другого дикаря для компании, но что делать, все они вымерли.
— Ты уверен?
— Пожалуй, да. Честно говоря, последние пять лет мои агенты прочесывали мир в поисках колонии пешеходов. Несколько экземпляров сохранилось в Сибири и на Татарском Плато, но они отвратительны. Я бы предпочел увидеть тебя среди обезьян.
— Иногда я мечтаю о каком-нибудь друге, папа, — несмело прошептала девочка. — Чтобы он мог делать все то, что умею я. Может ли исполниться эта мечта?
Хейслер улыбнулся.
— Я верю, что она исполнится. А теперь мне нужно спешить в Нью-Йорк. Что тебе привезти?
— Привези мне кого-нибудь, умеющего делать свечи.
— Свечи? А что это такое?
Она побежала, принесла одну из своих старых книг и прочла ему абзац. Книга называлась «Благородный пират», и ее герой имел обыкновение читать в постели при свете свечи.
— Понимаю, — сказал под конец чтения Хейслер. — Теперь я вспомнил, что когда-то такое было в католических соборах. Значит, ты хочешь их делать? Поговори с профессором и закажи, что требуется. Гмм… что ж, они могут пригодиться ночью, если погаснет свет, но такого никогда не бывает.
— Я не хочу жить при электрическом свете, хочу иметь свечи и спички, чтобы их зажигать.
— Спички?
— Ну, папа! В некоторых делах ты полный невежда. Я знаю массу слов, которых ты не знаешь, хотя и такой богатый.
— Согласен. Хорошо, я постараюсь узнать, как делают эти твои свечи. Прислать тебе пару уток?
— Нет, нет. Гораздо забавнее их подстрелить.
— Ты настоящий маленький варвар.
— А ты — невежда.
Прошли годы. В свой семнадцатый день рождения Маргарет Хейслер была девушкой высокой, загорелой, сильной, ловкой, умеющей бегать, прыгать, точно стрелять из лука; она ела настоящее мясо, читала при свечах, ткала ковры и любила природу. Время она проводила в обществе старых мужчин и лишь иногда встречалась с дамами, жившими по соседству. Любовь к отцу она перенесла и на старого профессора, научившего ее всему, чему смог, и ставшего с годами немощным и слабым.
В конце концов ей захотелось путешествовать. Она хотела увидеть Нью-Йорк, его двадцать миллионов автомобилистов, стоэтажные административные здания, заводы без дыма и стандартные дома. Однако такое путешествие было довольно затруднительно, и отец девушки прекрасно понимал это. Ходить по дорогам ей было нельзя, а весь Нью-Йорк представлял собой лишь мостовую и дома — из-за отсутствия пешеходов тротуары не требовались. Кроме того, даже богатство Хейслера не могло бы ослабить замешательства, обязательно возникшего бы из-за присутствия в крупном городе такой диковины, как девушка, ходящая на своих ногах. Хейслер был могуществен, но боялся последствий такой экскурсии. Более того, до сих пор ее деформация была известна лишь нескольким людям, но если бы она появилась в Нью-Йорке, газеты сообщили бы об этом всему миру.
В центре Нью-Йорка стояло несколько стоэтажных зданий. Лестниц в них не было, а для аварийного выхода, на случай, если откажут лифты, сделали спиральные спуски для автомобилистов. Впрочем, такого никогда не случалось, и мало кто из жителей вообще знал об их существовании. По ночам ими пользовались уборщицы, поднимавшиеся на верхние этажи. Чем выше этаж, тем чище был воздух и тем самым дороже плата. В самом низу и на улицах на каждом шагу стояли озонаторы, очищавшие воздух и делавшие возможным передвижение без противогазов. Зато на высших этажах дул живительный ветерок с Атлантики, не было мух и москитов, в нишах гнездились голуби, а на самой высокой крыше год за годом вила гнездо пара американских орлов, как бы насмехаясь над механическими экипажами, бегавшими в тысяче футов под ними.
В самом новом здании Нью-Йорка, на высшем его этаже, открылась новая контора, на дверях которой висела обычная позолоченная табличка: «Электрическая Компания Нью-Йорка». Декораторы оставили без изменений небольшие, отгороженные друг от друга рабочие места, улучшив только самый большой кабинет, что в результате дало обычное, стандартное конторское помещение. За беззвучную машинку посадили стенографистку, которая в случае надобности отвечала на телефонные звонки.
Однажды июльским вечером в это просторное помещение пригласили двенадцать промышленных магнатов. Каждый из них прибыл, уверенный, что будет единственным гостем, поэтому встреча началась в атмосфере удивления и подозрений. Трое из присутствующих давно и втайне друг от друга пытались выбить Хейслера из седла и сбросить его с финансового трона. Сам Хейслер тоже был там, внешне спокойный, но в душе кипевший гневом на конкурентов. Стенографистка разместила их всех вокруг большого стола. Гости остались в своих миниавтомобилях, поскольку стульями уже не пользовались. С Хейслером поздоровались все, но никто не заговорил с ним.
Внутреннее убранство, мебель, стенографистка — все являлось обычным для промышленной конторы, и лишь один предмет вызвал всеобщее удивление. У самого конца стола стояло кресло. Никто из собравшихся вокруг стола мужчин никогда не сидел в кресле, а если даже видели их, то лишь в Музее Метрополитен. Миниавтомобили заменили стулья подобно тому, как машины заменили людям ноги.
Колокола на башне пробили два, и все собравшиеся взглянули на часы. Один из мужчин нахмурился — его часы отставали. Минуту спустя хмурились уже все. Встречу назначили на два, а время этих людей было весьма ценным.
Наконец дверь открылась и появился хозяин — на собственных ногах. Уже само это удивило их, но еще больше поражал рост и сложение мужчины. Все вместе было невероятно, странно и необъяснимо.
Мужчина подошел к столу и сел… в кресло. Сейчас он выглядел не выше остальных, но был моложе, и лицо его загорело, резко контрастируя с мертвенной бледностью остальных. Очень серьезно он заговорил, четко и ясно, почти механически:
— Благодарю за оказанную мне честь и принятие моего приглашения. Прошу простить, что не предупредил никого о приглашении других особ, но тогда кое-кто из вас не явился бы, а чтобы наша встреча имела смысл, требовалось присутствие всех.
Название «Электрическая Компания Нью-Йорка» служит всего лишь ширмой, на самом деле никакой компании нет. Я представляю расу пешеходов. Собственно, я их президент, и меня зовут Авраам Миллер. Четыре поколения назад, как вы, конечно, помните, Конгресс издал «Закон об уничтожении пешеходов». В связи с этим, тех, кто продолжал ходить пешком, преследовали, как диких животных, и убивали без жалости. Мой прадед, Авраам Миллер, погиб в Пенсильвании, а его жену переехали на шоссе в Огайо, когда она шла, чтобы присоединиться к другим пешеходам в горах Озарк. Все произошло без войн и конфликтов: в то время в Соединенных Штатах жило всего десять тысяч пешеходов. Через несколько лет не осталось никого — по крайней мере, так считали ваши предки. И все же раса пешеходов выжила. Борьба тех первых лет отражена в наших записях и передается из поколения в поколение. Мы основали колонию и жили в ее пределах, хотя, казалось, исчезли с лица Земли.
Так проходил год за годом, и теперь наша Республика насчитывает двести человек. Мы никогда не были невеждами и всегда работали ради одной цели: возвращения в мир. Уже сто лет наш девиз звучит: «Мы вернемся».
Я приехал в Нью-Йорк и созвал вас на конференцию. Вы были выбраны из-за своего влияния, состояния и возможностей, но важное значение имел и другой фактор: все вы потомки сенаторов, голосовавших за «Закон об уничтожении пешеходов». Значение этого факта очевидно — вы можете исправить вред, причиненный группе американских граждан. Позволите ли вы нам вернуться? Мы хотим вернуться как пешеходы и иметь право передвигаться, не опасаясь за свою жизнь. Мы умеем водить машины и самолеты, но не хотим ими пользоваться. Мы хотим ходить и, если захочется, выйти на мостовую, ничего не боясь. У нас нет ненависти к вам, только сочувствие. Мы не собираемся обострять наши отношения, а хотим — лишь сотрудничать с вами.
Мы верим в работу мышц. Наша молодежь, независимо от направления обучения, занимается физическим трудом. Нам знакомы машины, но мы предпочитаем не пользоваться ими, принимая помощь только от домашних животных, лошадей и волов. В нескольких местах мы используем энергию воды для привода мельниц и лесопилок. Ради своего удовольствия мы охотимся, ловим рыбу, играем в теннис, плаваем в горном озере, заботясь о чистоте тела не меньше, чем о чистоте разума. Наши юноши женятся в возрасте двадцати одного года, девушки выходят замуж в восемнадцать. Порой рождаются ненормальные — дегенерированные дети; не буду скрывать, что такие дети исчезают. Мы едим мясо и овощи, рыбу и взращенные нами злаки. Пришло время, и наша разросшаяся колония уже не вмещается в долину, и мы должны вернуться в мир. Нам нужна лишь гарантия безопасности. Сейчас я оставлю вас одних на пятнадцать минут, а потом вернусь за ответом. Если возникнут какие-то вопросы или сомнения, я охотно отвечу на них.
И он вышел из комнаты. Один из мужчин подъехал к телефону и увидел, что провод перерезан, другой толкнул дверь — она была заперта. Стенографистка куда-то исчезла. Последовал быстрый обмен мнениями, характеризуемый раздражением и отсутствием логики. Только один из мужчин хранил молчание. Хейслер сидел так неподвижно, что сигара, зажатая между пальцами, погасла.
Когда Миллер вернулся, его засыпали десятками вопросов.
В конце концов кто-то выругался, и воцарилась тишина.
— Ну так что? — спросил Миллер.
— Дайте нам немного времени… неделю, чтобы мы могли подумать… посоветоваться…
— Нет, — отрезал Хейслер. — Дадим ответ сразу.
— Конечно, вам нужен быстрый ответ, — заметил один из заядлых его противников. — Из-за того, о чем молчат газеты.
— Ты мне за это заплатишь! — рявкнул Хейслер. — Только мерзавец мог сказать такое!
— Черт побери, Хейслер, не думай, что я тебя боюсь!
Миллер ударил кулаком по столу.
— Каков ваш ответ?
Один из мужчин поднял руку, требуя слова.
— Мы все знаем историю пешеходов: два общества, представители которых здесь находятся, не могут жить вместе. Нас двести миллионов, их всего двести. Мое мнение таково: пусть остаются в своей долине. Если этот человек их предводитель, легко представить, каковы остальные: невежды и анархисты. Неизвестно, чего еще они потребуют, если их послушать. Думаю, нужно приказать арестовать этого человека, он представляет угрозу обществу.
Это сломало лед сдержанности. Все заговорили наперебой, а когда кончили, стало ясно, что кроме Хейслера все настроены враждебно и безжалостно.
Миллер обратился прямо к нему:
— А ваше мнение?
— Я оставлю его при себе. Эти господа знают, почему. Вы их слушали, они поют в унисон, и то, что я скажу, ничего не изменит. Да, честно говоря, мне все равно.
Миллер повернулся в кресле и посмотрел в окно на город. По-своему это был красивый город, если вам нравились такие пейзажи. На улицах и в домах кишели двадцать миллионов автомобилистов, проводящих жизнь на колесах. Вряд ли хоть один из миллиона желал вырваться из оков; дороги, соединявшие метрополию с другими городами, исполняли роль артерий, заполненных плазмой грузовиков и кровяными тельцами автомобилистов. Миллер боялся города, но сочувствовал живущим в нем безногим пигмеям.
Вновь повернувшись к столу, он попросил тишины.
— Я пытался решить вопрос мирным путем. Мы не хотим больше кровопролития и борьбы на жизнь и смерть. Вы, господа, представляющие общественное мнение, только что доказали, что раса пешеходов не может рассчитывать на милость властей. Вам, как и мне, известно, что этой страной правит не общество, ею правите вы. Именно вы выбираете сенаторов и президента, по щелчку вашего бича они танцуют, как вам угодно. Потому я и встретился сразу с вами, вместо того, чтобы взывать к правительству. Впрочем, я предвидел, чем это кончится, и приготовил коротенький документ. В нем всего одна фраза: «Раса пешеходов не может сюда вернуться». Прошу вас подписать этот документ, и тогда я объясню, что мы собираемся сделать.
— А почему мы должны это подписывать? — спросил мужчина, сидевший справа от Миллера. — Я предлагаю вот что! — Он смял бумагу в комок и бросил его на стол — это вызвало общее одобрение. Только Хейслер сидел молча. Миллер смотрел в окно, пока не стало тихо. Потом заговорил снова:
— В своей колонии мы разработали использование нового закона электродинамики. Его применение нейтрализует атомную энергию, делающую возможной любое движение, кроме движения мышц. Ее действие мы изучали на малых машинах и в ограниченном пространстве, так что точно знаем, к чему это ведет. Причем однажды уничтожив энергию, восстановить ее уже невозможно. В эту минуту наши электрики ждут моего сигнала, переданного по радио. Точнее, они слушали весь наш разговор, и теперь я дам им знак повернуть выключатель. Знаком служит наш девиз: «Мы вернемся».
— И это был тот сигнал? — насмешливо спросил один из мужчин. — И что же произошло?
— Ничего особенного, — ответил Хейслер. — Во всяком случае, я не вижу разницы. Что должно было случиться, мистер Миллер?
— Ничего особенного, — сказал Миллер, — не считая гибели всего человечества, кроме расы пешеходов. Мы пытались представить, что произойдет, когда наши электрики повернут выключатель, и новый закон начнет действовать, но даже наши социологи не смогли ответить, каков будет результат. Мы не знаем, выживете вы или вымрете, не знаем, уцелеет ли кто-нибудь из вас. Наверняка можно сказать, что жители городов умрут быстрее в своих искусственных ульях, а некоторые сельские жители могут уцелеть.
— Минуточку! — крикнул один из мультимиллионеров. — Я вовсе не чувствую себя хуже. Вы просто лжец! Я немедленно уезжаю отсюда и сообщу в полицию. Откройте эту проклятую дверь и выпустите нас!
Миллер открыл дверь.
Мужчины нажали на стартеры и взялись за рычаги управления, однако ни одна из машин даже не дрогнула. Охваченные ужасом, они пытались выбраться из конторы, но их экипажи были мертвы. Один из промышленников с истерическим ругательством направил на Миллера револьвер и нажал на спуск. Раздался щелчок — и ничего больше.
Миллер вынул часы.
— Сайчас четырнадцать двадцать. Автомобилисты начинают умирать, еще не зная об этом. Когда они это поймут, начнется паника. Мы не сможем им помочь. Нас всего двести человек, и мы не можем кормить и ухаживать за сотнями миллионов калек. К счастью, здесь есть спиральный спуск, а ваши машины снабжены тормозами. Если вы будете управлять своими машинами, я поочередно отвезу вас туда. Вполне понятно, что вы не хотите здесь остаться, но не менее понятно и то, что лифты не действуют. Я позову стенографистку, чтобы она помогла мне. Вы, наверное, уже поняли, что это представитель расы пешеходов, с детства обучавшийся умению изображать женщину. Это один из наших лучших агентов. А сейчас прощайте. Сто лет назад вы сознательно и по своей воле пытались нас уничтожить, но нам удалось выжить. Мы не хотим вас уничтожать, но будущее ваше покрыто мраком.
Он подошел к одной из машин и начал толкать ее к двери. Стенограф, одетый уже как мужчина расы пешеходов, взялся за другую машину. Вскоре остался только Хейслер, поднявший руку жестом протеста.
— Не могли бы вы подвезти меня к окну?
Миллер выполнил его просьбу, и автомобилист с интересом выглянул.
— Я не вижу в небе ни одного самолета, а их должны быть сотни.
— Они упали на землю, ведь тяга исчезла.
— Значит, все остановилось?
— Почти все. Существует только сила мышц, а также сила, создаваемая изгибом дерева, как в случае лука и стрел, и сила металлической спирали, как в случае пружины в часах. Обратите внимание, ваши часы по-прежнему ходят. Разумеется, домашние животные создают собственную силу, являющуюся силой мышц. В нашей долине есть мельницы и лесопилки, приводимые в движение водой, и я не вижу причин для их остановки, но все прочие формы энергии уничтожены. Вы можете это представить? Нет электричества, паровых машин, никаких взрывов. Все машины мертвы.
Хейслер вынул носовой платок, медленно вытер пот с лица и сказал:
— Я слышу шум внизу, он доходит до окна, как далекий прибой, разбивающийся о песчаный берег. Других звуков нет, только этот шум. Это похоже на жужжание пчел, покинувших старый улей и летящих с маткой внутри роя в поисках нового убежища. Еще он похож на шум далекого водопада. Что это значит? Вообще-то, я догадываюсь, но боюсь сказать это вслух.
— Это значит, — ответил Миллер, — что повсюду внизу и вокруг нас двадцать миллионов людей начинают умирать в своих конторах, домах и магазинах; в подземных переездах, лифтах и поездах; в метро и на паромах, на улицах и в ресторанах двадцать миллионов людей вдруг поняли, что не могут двигаться. Никто не в силах им помочь. Некоторые вышли из машин и пытаются ползти на руках, таща атрофированные ноги. Они взывают о помощи, но еще не отдают себе отчета в размерах трагедии. К утру они превратятся в диких животных. Через несколько дней кончатся вода и пища. Надеюсь, они вымрут быстро, прежде чем начнут пожирать друг друга. Целый народ умрет, и никто не будет об этом знать, поскольку не будет газет, телефонов и телеграфа. Я буду поддерживать связь со своими людьми с помощью почтовых голубей. Пройдут месяцы, прежде чем мы снова будем вместе. Звук, который вы слышите это стон отчаявшейся души.
Хейслер конвульсивно схватил Миллера за руку.
— Но раз вы это сделали, значит, можете и повернуть все вспять?
— Нет. Мы сделали это с помощью электричества, а его больше нет. Наверняка, и наши машины остановились.
— Значит, мы все умрем?.
— Думаю, да. А может, ваши ученые сумеют найти выход из этой ситуации. Мы сто лет назад нашли его и выжили. Ваша раса пыталась уничтожить нас с помощью всех доступных вам средств, но мы выжили. Может, и вы выживете, откуда мне знать? Мы хотели с вами договориться, прося только равноправия. Вы сами видели, как реагировали эти люди и что они об этом думали. Появись у них возможность, они тут же сравняли бы с землей нашу колонию, так что мы действовали в порядке самообороны.
Хейслер попытался раскурить сигару, но электрическая зажигалка не действовала.
— Значит, вас зовут Авраам Миллер? Кажется, у нас был общий предок. Я нашел это в книге.
— Я знаю. Ваш прадед и моя прабабка были братом и сестрой.
— Именно так говорил профессор, но тогда я еще не знал о вашем существовании. Теперь я хотел бы поговорить с вами о моей дочери.
Мужчины начали долгий разговор. Снизу доносился все тот же шум, неутихающий, непрерывный, полный звуков, незнакомых нынешнему поколению. Но с такого расстояния — от земли до сотого этажа — все сливалось в один звук. Хоть и состоявший из миллиона разных, он сливался в одно целое. Миллер принялся ходить взад вперед по комнате.
— Я всегда считал себя человеком со стальными нервами. Вся моя жизнь прошла в подготовке этого момента. Мы имели право так поступить, и даже забытый Бог на нашей стороне. Я по-прежнему не вижу иного выхода, но не могу этого вынести, Хейслер, это вызывает у меня тошноту. Еще мальчиком я нашел в дверях овина мышь, почти перерезанную пополам, а когда хотел ей помочь, она укусила меня за палец, и мне пришлось свернуть ей шею. Понимаете? Я должен был это сделать, но, хотя был прав, мне стало плохо и вырвало на пол. Нечто подобное происходит там, внизу. Двадцать миллионов деформированных тел вокруг нас начинают умирать. Они могли стать такими, как мужчины и женщины нашей колонии, но их охватила мания использования механических устройств всевозможного вида. Если бы я попытался им помочь, если бы спустился сейчас на улицу, они убили бы меня. Я не сумел бы от них отбиться, не смог бы достаточно быстро убить их. Мы имели право, имели все и основания, но когда я думаю об этом, мне становится плохо.
— Я воспринимаю это иначе, — сказал Хейслер, — потому что привык уничтожать противников. Иначе они уничтожили бы меня. Я смотрю на все это, как на великолепный эксперимент. Долгие годы я думал о нашей цивилизации… из-за своей дочери. Я потерял интерес к миру, потерял свой бойцовский дух. Мне безразлично то, что произойдет, но я с удовольствием схватил бы мерзавца, съезжающего сейчас по спирали, и свернул ему шею. Я не хочу, чтобы он умер с голоду.
— Нет. Оставайтесь здесь. Я предлагаю вам описать всю эту историю. Нам нужно точное свидетельство, оправдывающее нашу акцию. Оставайтесь здесь и работайте с моим стенографистом, а я пойду за вашей дочерью. Мы не можем позволить, чтобы пострадал кто-то из нашей расы. Вас мы тоже возьмем с собой. С соответствующим устройством вы можете научиться ездить верхом.
— Вы хотите, чтобы я жил?
— Да, но не только для себя. Есть много других причин. Следующие двадцать лет вы можете учить нашу молодежь, можете рассказывать им, что произошло, когда мир перестал работать и потеть, когда люди сознательно поменяли дом на автомобиль, а труд и зной на машины. Вы можете рассказать им это, и они вам поверят.
— Чудесно! — воскликнул Хейслер. — Я выбирал президентов, а теперь стану безногим экспонатом в новом мире.
— Вы будете знамениты — как последний живущий автомобилист.
— Начнем, — заторопился Хейслер. — Зовите стенографиста!
Стенографист прибыл в Нью-Йорк за месяц до встречи Миллера с представителями автомобилистов. Все это время, благодаря долгому обучению искусству мимикрии, ему с легкостью удалось обманывать каждого, с кем он встречался. В своем миниэкипаже, одетый как стенографистка, надушенный и накрашенный, с кольцами на пальцах, он незамеченным разъезжал среди тысяч других женщин, посещал с ними рестораны и театры, и даже навещал их дома. Он был идеальным шпионом — но мужчиной.
С самого детства из него готовили разведчика, годами прививая преданность республике пешеходов, а затем он принял присягу, что благо республики всегда будет стоять для него на первом месте. Авраам Миллер выбрал его, потому что доверял. Стенографист был очень молод, и на щеках его еще пробивалась борода. Он был невинным и к тому же патриотом.
Однако он впервые оказался в большом городе. Фирма этажом ниже тоже имела стенографистку. Это была особа, одной работы которой было мало, и потому новая работница сразу возбудила ее интерес. Они встретились раз, другой, разговаривали о новой любви — между женщинами. Молодой разведчик мало понимал в этом, поскольку никогда не слышал о такой страсти, однако понимал ласки и поцелуи. Его знакомая предложила поселиться вместе, но ему удалось как-то открутиться. Впрочем, большую часть свободного времени они проводили вместе. Несколько раз молодой человек едва не рассказал ей о грядущей катастрофе, а также о своем настоящем поле и горячей любви.
В подобных случаях трудно объяснить, почему мужчина полюбил женщину. Впрочем, это всегда трудно сделать. Во всем этом было что-то ненормальное, какая-то патологическая извращенность. Просто невероятно, что он полюбил женщину без ног, когда, подождав немного, мог жениться на девушке с длинными ногами. Не менее патологичным было то, что она полюбила женщину. Душа у каждого из них была больна, и оба ради продолжения связи обманывали друг друга. Теперь, когда внизу умирал город, стенографист почувствовал неудержимое желание спасти свою безногую подругу. Он верил, что ему удастся убедить Авраама Миллера позволить ему жениться на ней или хотя бы избавить от смерти.
Видя Миллера и Хейслера, погруженных в разговор, он на цыпочках вышел, а потом спустился — в рубашке и брюках этажом ниже. Здесь был полный хаос, но молодой человек храбро вошел в комнату, где стоял стол стенографистки, наклонился к ней и сказал о том, что является мужчиной из расы пешеходов. Внезапно она узнала, что все это значит: остановившиеся машины, неподвижные лифты, умолкнувшие телефоны. Он сказал, что мир автомобилистов погиб по каким-то причинам, но он хочет ее спасти, потому что любит. Он просил лишь права на опеку над ней. Сказал, что они поедут куда-нибудь в деревню и там поселятся.
Безногая женщина слушала его, и если побледнела, это скрыли румяна на щеках. Она слушала и смотрела на него, на мужчину, ходящего на ногах. Он говорил, что любит ее, но она-то любила женщину, женщину с прекрасными крохотными ножками, как у нее самой, а не с этими мускулистыми чудовищами.
Истерически рассмеявшись, она сказала, что любит его и поедет с ним, куда он захочет, а потом прижала к себе и поцеловала сначала в губы, а потом в сонную артерию, и молодой шпион умер, обливаясь кровью, которая, смешавшись с румянами, покрыла ее лицо ярким кармином. Сама она умерла несколько дней спустя от голода.
Миллер никогда не узнал, как погиб его стенографист. Будь у него время, он, вероятно, начал бы его искать, но ему передалось беспокойство Хейслера за девушку-пешехода, одинокую среди мира умирающих автомобилистов. Для отца она была дочерью, последней и единственной надеждой семьи, а для Миллера — символом. Она была доказательством бунта природы, признаком последнего судорожного усилия вернуть человеку прежний вид и прежнее место на земле. Отец хотел спасти ее, как свою дочь, а Миллер — как одну из себе подобных, одну из расы пешеходов.
На сотом этаже приготовили бочки с водой и запасы продуктов, приложив все старания, чтобы сохранить этот островок среди океана смерти. Миллер устроил Хейслера с удобствами, а сам, захватив продуктов, фляжку с водой, карту и крепкую палку, покинул этот оазис покоя и двинулся вниз по спиральному спуску. Спускаться было неудобно, но спуск был настолько широк, что он не испытывал головокружения. Поначалу он боялся, что дорогу ему преградит груда столкнувшихся машин, но, похоже, все автомобилисты, которым удалось добраться до спуска, съехали вниз. Время от времени он останавливался на этажах, содрогаясь от доносившихся криков, и снова шел вниз, пока не оказался на улице.
Ситуация здесь была еще хуже, чем он думал. Как только в долине Озарк освободили электродинамическую энергию, весь мир машин замер. В этот момент двадцать миллионов людей в одном Нью-Йорке находились в своих миниэкипажах или автомобилях. Некоторые работали за столами или прилавками магазинов, другие обедали в ресторанах или отдыхали в клубах, третьи куда-то ехали. И вдруг все замерли в тех местах, где были. Телефоны, радио, телеграф — замолчали. Все миниэкипажи остановились, все автомобили потеряли управление. Мужчины и женщины были предоставлены сами себе, никто не мог никому помочь, не мог помочь даже самому себе. Транспорт замер, и никто не знал, что случилось, кроме того, что видел собственными глазами и слышал собственными ушами, ибо вместе с транспортом прервалась связь.
Когда же наконец люди поняли, что не могут двинуться с места, их охватил ужас, а затем и паника. Но то был новый вид паники. Раньше паника означала быстрое бегство огромного количества людей в одном направлении от реальной или воображаемой опасности. Эта же паника была неподвижна, поскольку в первый день средний житель Нью-Йорка хоть и трясся или плакал от страха, все равно оставался в своей машине. Только потом началось массовое бегство, но оно ничем не походило на прошлые. Это было медленное, убийственное карабкание искалеченных животных, тащивших безногие тела на руках, отвыкших от физических усилий. Не быстрое, как ветер, мгновенное бегство обезумевшей, перепуганной толпы, а конвульсивное дерганье ползущего червя. Из уст в уста хриплым шепотом передавали, что город обречен на смерть, что вскоре он превратится в морг, ибо через несколько дней кончатся продукты. Хотя никто не знал, что произошло, все понимали, что город не выживет без поставок из деревень, и внезапно эти деревни стали чем-то большим, чем бетонные дороги среди рекламных щитов. Это было место, где можно найти пищу и воду.
Город остался без воды, ибо гигантский насос, гнавший миллионы галлонов воды, перестал действовать. Остались лишь реки, окружающие город, грязные и замусоренные. Но ведь где-то в деревнях должна быть вода.
Итак, на второй день началось бегство из Нью-Йорка, бегство людей, похожих на жертвы войны. Не все двигались с одинаковой скоростью, но самые быстрые преодолевали меньше мили в час. Философ в такой ситуации остался бы на месте и умер, животное — спокойно дожидалось бы конца, но автомобилисты не были ни философами, ни животными, и потому ползли вперед. Всю жизнь они проводили, мчась куда-то вперед. Первые пробки образовались на мостах. На каждом из них в критический момент оказалось по несколько автомобилей, но в два часа пополудни движение было невелико. Однако уже в полдень следующего дня мосты почернели от людей, ползущих из города. Пробки вызывали задержку, люди толкались, не продвигаясь ни на шаг. На этот дергающийся на месте слой людей взбирался следующий, а через минуту на него полз третий. К каждому мосту вели несколько улиц, а сам мост был не шире улицы. В конце концов внешние ряды верхних слоев начали падать в реку. Вероятно, многие сознательно выбирали такой конец. Над мостами повис шум, как рев волн, бьющих в каменистый берег. Это было началом кровавого безумия. Люди на мостах умирали быстро, но перед смертью они начинали кусаться. В городе возникали подобные заторы. Рестораны и кафе были заполнены телами почти до потолка. Там были продукты, но никто не мог до них добраться, за исключением тех, что имели их на расстоянии вытянутой руки, но и они погибали, раздавленные, прежде чем успевали воспользоваться своим удачным положением, другим же — еще живым и способным есть — мешали тела мертвых и умирающих.
В течение двадцати четырех часов человечество забыло о религии, гуманизме, возвышенных идеях. Каждый старался спасти себя, хотя бы сокращая жизнь близких. Однако были и случаи беспримерного героизма. В госпиталях некоторые сиделки оставались с больными, делясь с ними продуктами, пока все вместе не умирали от голода. В одном из родильных отделений мать родила ребенка и, покинутая всеми, держала его у груди, пока рука ее не ослабла от голода.
В этот мир ужаса и вошел Миллер, выйдя из здания. Правда, он приготовил себе крепкую палку, но ползущие автомобилисты не обращали на него внимания, и он медленно пошел по Пятой Авеню, а потом на север, и все время молился, хотя в первый день еще не было картин, наблюдавшихся позднее.
Наконец он добрался до реки, переплыл ее и шел дальше, а когда наступила ночь, был уже за городом и только тогда перестал молиться. Временами он встречал отдельных автомобилистов, злившихся, что их машины испортились. В деревнях никто не понимал, что случилось; до самой смерти люди не узнали этого. Только жители городов знали, но не понимали, почему.
На следующее утро Миллер встал рано и, внимательно изучив карту дорог, снова двинулся вперед. Он избегал городов, огибая их, испытывая постоянное мучительное желание поделиться тем, что имеет, с оголодавшими калеками, а ведь ему требовалось сохранить силы и принести пищу для той девушки из расы пешеходов, одинокой среди беспомощной прислуги, закрытой за железной оградой длиной в тридцать миль. Второй день путешествия близился к концу. За последние несколько миль он не встретил никого. Солнце, пробивающееся между стволами дубового леса, бросало фантастические тени на бетонное шоссе.
А по шоссе к нему приближался странный караван, состоявший из трех привязанных друг к другу лошадей. Две из них несли на спинах узлы и емкости с водой, притороченные крепко, хоть и не слишком умело. На третьей, в седле, похожем на стул, сидел старичок, спавший, уткнувшись подбородком в грудь и крепко держась за поручни руками. Кавалькаду эту вела женщина — высокая, сильная, красивая, идущая легким шагом по бетонной дороге. На плече ее висел лук и колчан со стрелами, в правой руке была тяжелая трость. Она шла уверенно и неустрашимо; видно было, что ее переполняют сила, уверенность в себе и гордость.
Миллер встал посреди дороги. Кавалькада подошла ближе и остановилась.
— Кто ты? — спросила женщина, и в голосе ее слышались любопытство, солнечное утро и дрожавшие листья. — Кто ты и почему становишься у нас на пути?
— Меня зовут Авраам Миллер, а ты, наверняка, Маргарет Хейслер. Я ищу тебя. Твой отец в безопасности и послал меня за тобой.
— И ты принадлежишь к расе пешеходов?
— Так же, как и ты! — И так далее и тому подобное…
Старый профессор проснулся и взглянул на молодую пару, которая, погрузившись в беседу, забыла обо всем на свете.
— Именно так и бывало в прежние времена, — буркнул он себе под нос.
Сто лет спустя в воскресный полдень отец с сыном осматривали Музей Естественных Наук в реконструированном Нью-Йорке. Весь город был теперь одним большим музеем. Люди посещали его, но никто не хотел там жить. Никто уже не хотел селиться в городах, если можно было жить в деревне.
День в городе автомобилистов входил в программу воспитания каждого ребенка, поэтому в то воскресенье отец с сыном медленно шли по большому зданию. Они уже видели мастодонта, бизона, птеродактиля, постояли перед витриной, где находился вигвам с типичной индейской семьей. Наконец подошли к большому автомобилю на четырех колесах, но без дышла, чтобы запрягать лошадь или вола. В машине сидели мужчины, женщины и маленькие дети. Мальчик с интересом взглянул на них и дернул отца за рукав.
— Смотри, папа. Что это за машина и странные люди без ног?
— Это, сын мой, семья автомобилистов. — И отец рассказал сыну историю, которую все отцы расы пешеходов обязаны рассказывать своим детям.
Перевод с англ. И. Невструева Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
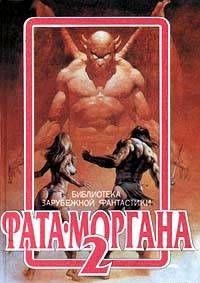
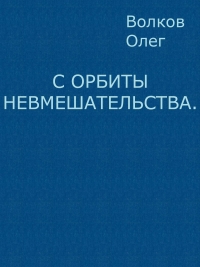

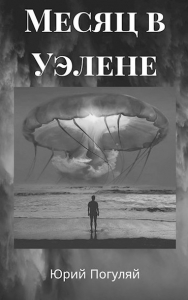

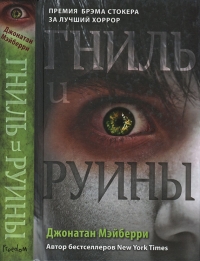

Комментарии к книге «Восстание пешеходов», Дэвид Келлер
Всего 0 комментариев