Дмитрий Могилевцев Волчий закон, или Возвращение Андрея Круза
НАЧАЛО
1
Мир кончился. Не было всеобщих войн, мегатонн и ядерной зимы. Не было катаклизмов, катастроф, землетрясений и террористов. Никто не спохватился, когда подступил конец. Не ввел танки, не выставил кордонов и не забил тревогу. Незачем было. Никто не верил и не мог представить, хотя все получилось логично, закономерно и неизбежно. Когда спохватились, было уже поздно. Те немногие, кто понял случившееся, уже ничего не сумели. Мир не врезался с разгону в стену. Он увяз в болоте, распадаясь, оседая, засыпая. Самолеты не падали, потому что не взлетали. Машины не взрывались, а тихо ржавели у подъездов. Электростанции глохли, поезда замирали у перронов. Трава прорастала сквозь мостовую у роскошных витрин, но никто не торопился их бить, чтобы собрать блестящие безделушки.
За десять лет из восьми миллиардов людей на Земле осталось от силы миллионов восемь. Особенных миллионов, составленных из укоренившихся в выживании. Вкопавшихся в землю или приучившихся мчаться по ней. От способов жизни многих из них вздрогнул бы даже привычный ко всему человек двадцатого столетия. Впрочем, их, недовымерших ископаемых, осталась вовсе горстка.
Один из них утром пятого мая тридцать восьмого года, лежа на лысом холмном темени, разглядывал в бинокль поселок внизу. Живое ископаемое звали Круз. Он был в комбинезоне мусорной расцветки, ботинках забытого вида и бронежилете. Еще при Крузе имелись винтовка с лазерным прицелом и трое щенков. «Щенками» они называли себя сами, а были юнцами от четырнадцати до восемнадцати, тощими, жилистыми и похожими на щурят. Круз их боялся. Они его уважали. Они уважали всех переживших «оп». «Оп» они называли то, от чего Круз отсчитывал тридцать восьмой год. Впрочем, какой именно год от этого «опа» и что именно считать моментом «опа», Круз не знал в точности. Он считал по-своему, от «опа», произошедшего в Крузовой жизни. Не очень толковой и осмысленной жизни, заполненной метаниями, суетой и смертями.
Но теперь, на тридцать восьмом году, Круз нес с собой козырь. Большой и настоящий. Последний козырной козырь. Осталось только донести его и сыграть.
А по пути подобрать кое-что, важное и не очень. Впрочем, это «не очень» иногда осложняло жизнь. В частности, заставляло шарить по поселкам. Таким, как вот этот, под холмом.
Безобидный с виду поселок. Обычный. Такие в дни до «опа» прятались вдали от асфальтовых дорог и заводов. Заборы, утонувшие в кустах. Крыши буквой «зю». Посреди улицы — пруд с ленивыми головастиками. Столбы спьяну.
Но Круз, отметивший тридцать семь годовщин «опа», хотел отметить и тридцать восьмую. И потому не столько смотрел в бинокль, сколько слушал внутрь себя.
А выслушав, сказал:
— Хлопцы, мы туда не пойдем.
— Смердит? — спросил Левый.
— Слегка. Но не только.
— Лады, — согласился Левый и кивнул своим.
Все трое неслышно, по-волчьи, скользнули в кусты. Круз проводил их завистливым взглядом. Вздохнув, отполз. Старый уже, нескладный. Все уже не то. Только привычка и нюх с годами, пожалуй, лучше. Но это слабое утешение. Хорошо еще, щенки всегда готовы прыгнуть первыми. Им в радость. У них одно на уме.
— Старшой, идем? — донеслось из кустов.
Круз кивнул. «Старшой». Любой из них, даже Последыш, вдвое быстрее Круза. А если и слабее, в смысле бревно поднять, так не намного. Волки, мать их. Зато как старшего слушать, в мозги вбили накрепко. Не потому слушают, что Круз больше может: и спасти, и найти, — а потому, что надо так. Мир у них такой. Со старшими не меряются. Мало что старшой сопит и через кусты ломится так, что за версту слышно. Мало что в сырости иной раз и разогнуться с утра не может. Они и это видят, но на себя не меряют. Правда, у всякой монеты две стороны…
Стоп. Круз замер, и тут же застыли щенки. Без команды и не оборачиваясь. Круз повертел головой, прищурился. Что не так? Склон, кусты, молодая трава. Внизу — лесок, ползет полого до следующего гребня, округлого, мохнатого. Небо чистое, солнце.
Яп-понский бог! Вон, над гребнем, как раз там, где лагерь, дымок. Завиток серый.
Круз побежал. Не заботясь особо про шум, не прячась. Впереди, сбоку замелькали тени щенков. Люто идут, плавно. Не то что дядя старшой в бронежилете и с выкладкой.
Но у дяди сорок лет стажа марш-бросков. Дядя уже как автомат ногами перебирает. Кусты кончились, сосняк молодой. Полегче. Вверх по склону чуть медленнее, не сбиться чтоб.
Наверху встал, сопя. Точно, оттуда дымит. И ведь ни выстрела не слышали. Что ж у них такое? Чтоб Михая без выстрела взять?
Михая не взяли без выстрела. Хотя могли, если б он кому-нибудь понадобился. Михай сидел у тлеющего костра и смотрел в небо. И улыбался. Широкой, безмятежной, счастливой улыбкой. Михаю было хорошо.
— Стоять! — рявкнул Круз щенкам.
Те уже стали сами. У них тоже был нюх. Не крузовский, но верный.
— Михай! — рявкнул Круз в лицо.
Михай чуть двинул уголком рта.
— Михай! Михай! — Круз с маху шлепнул по одной щеке, по другой.
Нащупал болевую точку под челюстью, надавил. Михай улыбался. Круз полез в карман. Так, так… вот. Вытащил ампулу, содрал колпачок. Вогнал иглу в бедро, надавил.
Улыбка чулком сползла с лица. Оно сделалось землистым, серым. И глаза проснулись — в злобу и боль.
Круз чуть успел отпрыгнуть.
— Михай, это я! Это я!
— Не стрелять! — Это щенкам.
— Михай!
Михай замер. Выронил кабар. Посмотрел удивленно.
— Михай, отвечай мне: что случилось? Где Дан? Михай, где Дан?
— Он ушел… — ответил наконец Михай. — Он ушел за час до того, как меня… как мне… Правый за ним пошел, так что не бойтесь.
— Что с тобой, Михай? Что случилось?
— Заяц, — сказал Михай и ткнул пальцем.
Под сосной на клеенке лежал запеченный в глине заяц — без левой задней лапы. В разлом глиняной корки уже пролезли муравьи и сновали туда-сюда, несли клочки по дорожке. А левая нога, наполовину обглоданная, лежала у брошенной Михаем винтовки.
— Михай, как же? Да откуда ты взял его? Ты что, не знаешь, в них счастья, как в скотомогильнике?
— Да я их раньше ел… и ничего, — сказал Михай растерянно. — А этого Хук принес, ну, псина Данова. Он же взял… а у него нюх получше, чем у тебя.
Щенки слушали настороженно. Один подошел, нагнулся над зайцем. Понюхал. И отпрыгнул, оскалившись.
— Слушай, а что теперь? Что? — спросил Михай, стараясь заглянуть Крузу в глаза.
Тот заставил себя повернуться, встретить взгляд.
— Ничего, Михай. Совсем ничего. У меня триста ампул налоксана. Может, еще найдем. Ты выдержишь.
— Я не выдержу, — прошептал Михай. — Это место смерти. Я чувствовал. Мне снилось… я…
— Он — не волк, — сказал вдруг Левый.
— Не волк, — эхом отозвался След.
— Не брат, — прогудел басок Последыша.
— Он — бык, — сказал Левый.
— А ну хватит! — рявкнул Круз. — Он мой!
— Он не выдержал, — сказал Левый укоризненно. — У него в жилах грязь.
— Он на двадцать лет больше прожил, чем ты. Все, баста! Надо Дана искать.
— Зрячий придет сам, — заметил Левый. — За ним не нужно ходить. С ним — Правый.
Но Круз отвечать не стал. Это право первого из щенков, огрызаться, когда говорят старшие. Потому что щенку всегда нужно доказывать, что он первый. Пусть его. Все равно послушается.
— Михай, мне нужно идти. Тут плохое место. Михай, ты меня слышишь?
— Да? — Михай вздрогнул.
— На, держи! — Круз протянул коробку со шприцами. — Коли через четыре часа. Смотри по часам. Точно. Не жди, пока накатит. А сейчас — закопай зайца. Хорошо закопай. И — двигайся. Все время. Винт вычисти, перебери. Ложку вырежи. Понял? Давай!
— Эй, щенки! — повернулся к ним, смотревшим, осклабившись. — Левый со мной идет, а вы лагерь пасете. Левый?
Тот, буркнув под нос, подошел.
— Айда за мной, полста шагов!
Но отойти они не успели и двадцати. По Крузовым ноздрям будто хлестнуло. Почти не думая, Круз выпустил винт, выдрал правой из кобуры пистолет с глушителем, левой — кабар из ножен.
Они появились как тени. Один, двое, трое. Еще один. Неужто вся стая? Днем? Или ярь у них?
Первый прыгнул. Круз крутанулся, полоснул кабаром. И тут же дернуло за ногу. Круз отскочил, нажал. Пистолет толкнул ладонь.
Серый завизжал, забился у ног. И тут…
— Не стрелять! — заорал Круз. — Стой!
Винт Михая грохотнул снова. И зашелся длинной, во весь магазин, очередью. Круз кинулся опрометью. Выскочил на поляну, рыча.
Но было уже поздно. Серые исчезли, как и появились, неслышно. Только в лесу еще повизгивал подстреленный Крузом. А у костра лежал Михай, схватившись за разорванную глотку. Еще вздрагивал, скреб иглицу. Щенки стояли поодаль, с ножами в руках. Чистыми ножами.
— Не успели, — соврал ненужно След.
Не успели, как же. За «быка» вступается только его хозяин. Другие — только если хозяин попросит. Закон стаи. Но серые… они знают точно, кого взяло счастьем. Всегда выцеливают слабейших, обузу. Однако чтобы напасть днем, да еще летом…
На Михаевых губах вздулся кровавый пузырь. Лопнул.
Круз присел на корточки у тела. Взял за кисть. Выпустил. Смысл щупать? Столько крови выгнало. Расстегнул карман комбинезона, вытащил коробку с налоксаном. Затем, пробормотав сквозь зубы: «Прости, Михай», обшарил все карманы. Пистолет и обоймы вынул, снял с пояса кабар. Отцепил веревку с Михаева рюкзака.
— Рюкзак понесешь ты, — приказал Левому. — А винт — за Последышем.
Левый скривился: таскать — дело младших. Тем более бычье барахло. Щенки вообще налегке бегали, даже зимой. Круз их заставил палатку взять, одну на четверых.
— Нам отсюда линять надо быстрее, — буркнул Левый. — Серые нас ведут, и с деревни кто явится.
— Серые не к нам приходили. К нему, — сказал Круз, закидывая веревку на сук.
Последыш со Следом заржали в один голос. Круз ругнулся про себя. Подставился, не подумав. Зверье, ну. Только Левый не ржет. Он хоть немного понимает, что старики думают про щенячьи остроты эти, о «быках», серых и гостях к обеду. Зверье отмороженное.
Круз обвязал тело Михая под мышками, обмотал. Перекинул веревку через сук, потянул, крякнув с натуги. Михаево тело полезло вверх, носками ботинок цепляя воздух, подбородок в грудь уперся и руки длинные, чуть не до колен. Висельник-плечевик. Круз чуть удержался, чтоб не захохотать. Замотал веревку вокруг ствола, закрепил. Твою мать, кровь все еще сочится, наземь каплет. Ладно, не переделывать же. Главное, серые братья не достанут.
— Все! — рявкнул Круз. — Извини, Михай, — я еще вернусь, устрою все по-человечески. Эй, пошли!
Закинул свой рюкзак на плечи и двинулся, не оборачиваясь.
Дана с Правым нашли километрах в трех, над речушкой. В красивом месте: берег высокий, сосны, обрыв, песок — золотой бархат, искрится под солнцем. Дан сидел, свесив ноги. Бросал с обрыва шишки. Кривился обиженно, когда шишка, не долетев, тыкалась в мокрый песок.
Данова псина — огромный тюк черной шерсти — лежала чуть поодаль, уместив морду на лапы, навострив уши. Правый, по обыкновению, сидел в лесу, сторожил. Вышел, только когда Круз рюкзак скинул да присел. Кивнул Левому, и тот, буркнув под нос, пошел на замену. Щенкам не нужно объяснять, что такое часовой. Они и в стае спят по очереди.
Правый — надежнейший из щеноты. Да и лет ему уже двадцать пять, не меньше. До сих пор в щенках. Почему — Круз не расспрашивал. Наверняка дело больное. Щенок становится волком, когда от него родится ребенок с чистой кровью. До тех пор, пусть ты и боец первейший, и выучился, — ты щенок. На совете стаи тебя слушают, лишь если попросит старшой. Имени у тебя нет. Ты — сын такого-то. И кличка щенка. Да и та на время.
А ведь Правый — боец на диво. Намного сильней и Круза, и любого из щенков. Здоровенный, белобрысый, тугой, как сталь пружинная. Стреляет с обеих рук. И в железе разбирается, даже машину старую завести может. Если б не он, сколько раз могли все накрыться. А недорослая троица, Левый со Следом и Последыш, хихикают за его спиной. Зверье. Они всегда ржут, хоть по колено в кишках стоя.
— Тепло сегодня, — сказал наконец Дан.
Круз вздохнул.
— Дан, у вас все нормально? На вас не нападали?
— Шишки какие-то странные, — пожаловался Дан. — Некоторые — твердые, будто каменные, а некоторые — словно бумага. И деревья. Ты смотрел на деревья? Какой странный здесь подлесок.
— Ты хочешь сказать, у деревьев тоже счастье?
— Вряд ли. Счастье — хворь теплой крови. Я хочу сказать, что болезнь редко приходит одна. Этот мир все еще болен. Болен нами. Если моя память не подводит, здесь шли радиоактивные дожди. Здесь до сих пор все болеет.
— Так зачем ты привел нас сюда?
— Ты был в деревне? — спросил Дан.
— Зачем мы здесь? Зачем твой пес притащил заразного зайца?
— Ты был в деревне?
— Нет, — ответил Круз. — нечисто там. Я не понял, в чем дело, но нечисто. Там и засада может ждать, и зараза… у меня прямо нутро крутит, когда смотрю.
— Потому нам туда и нужно. Эти места накрыло радиоактивным облаком после аварии на атомной электростанции. Отсюда людей отселяли когда-то. Потом, когда здешние власти пожалели землю, списки пересмотрели и решили, что здесь жить можно. Люди вернулись. А звери и не уходили. Мутации, знаешь ли. Наверняка здесь можно найти что угодно. В том числе то, что мы ищем. В зайце, которого съел твой друг Михай, наверняка новый штамм.
— Так зачем ты позволил его есть? — спросил Круз, стараясь не кричать.
Дан повернулся, посмотрел Крузу в глаза. Поправил очки. Выпрямился. И из седого долговязого чудака вдруг превратился в прусского оберста с фотографии времен Первой мировой.
— Зачем позвал сюда? — спросил Дан по-немецки, и голос его лязгал. — А зачем пошел ты, бросив своих людей, зачем оставил дом и очаг? Ни твоя, ни моя жизнь давно ничего не стоят даже для нас самих. Кем был Михай, когда ты подобрал его? И что готов был отдать? В этом зайце — новый штамм. Может, он — как раз то, чего не хватает мне. Чего не хватает тем, кто еще ждет меня. И тебя со мной. Тогда, в Давосе, я проверял Михая. Он был иммунен ко всем известным штаммам. Может, для этого он и шел сюда.
— Яволь, — сказал Круз.
Дан развел руками и сказал уже по-русски:
— Зайца он сам стянул. Мы у костра были, когда Хук принес зайца. Я вижу, заяц-то квелый, под счастьем. Я пробу взял и пошел.
— Поздновато уже в деревню идти, — заметил Круз равнодушно. — Три часа пополудни. Пока доберемся, пока обшарим — там и заночуем.
— Там и заночуем, — отозвался Дан.
— Значит, так тому и быть, — подтвердил Круз и крикнул щенкам:
— Эй, стая! Выходим. Веселье на носу!
Щенки дружно заржали.
2
Идея носилась в воздухе давно. С того времени, когда биоконструкторы из лабораторного чуда превратились в массовый товар и любой выпускник-биолог научился с ними работать. Открываем инструкцию, подсаживаем в бактерию нужный кусок генома — и вот, невидимые труженики производят нужный белок. Любая больница имеет свой инсулин, чистенький, свеженький. И еще на подбор, и с каждым годом все больше.
Может, додумался единственный гений. Но, скорее, многие и во многих местах. Человек скор на худшее употребление любой придумки. В особенности там, где за лучшие употребления платят мало. Скорее всего, «живой» наркотик появился там, где когда-то была страна под названием «Россия», потому что употребление его почти одновременно зафиксировали в Польше, Латвии и Финляндии. Хороший, чистый наркотик. Никакого колотья. Проглотил щепотку янтарного порошка — и мощный, долгий, улетный приход часов на десять. Мир искрится счастьем. Можно говорить, танцевать, работать, даже драться — голова ясная, никакой боли. Потом проходит и ломает скверно. Так после чего не ломает? А иногда, если повезет особо, приход возвращается через день-два, а то и через полдня, и возвращение приходов может длиться неделю или месяц. Отдельные счастливчики на полгода погружались в зыбкое, волнообразное счастье.
Идея была простая: заставить бактерию производить не инсулин, а эндорфины. Наш, естественный продукт счастья, телесный эликсир радости, обезболиватель и обеспамятель, чьим грубым искусственным аналогом кололись миллионы, калеча себя. Но главное, нужно было сделать живой источник радости долговечным, доступным не только в лаборатории и не умерщвляемым человеческим телом за считанные минуты после попадания в него.
Дешевые и доступные комплекты-биоконструкторы впервые сделали за океаном. Неудивительно — средства во все с приставкой «био-» там вкладывали намного большие, чем в Европе, не говоря уже про остальные, не столь удачливые части света.
Но по-настоящему ударным счастье сделали в стране, в лучшие свои времена вложившей более прочих в живую смерть.
Сибирская язва — идеальная зараза. Как только некого убивать, превращается в споры, спящие хоть сотнями лет, переносящие мороз, зной и человеческие гадости. Когда попадает в тело, мгновенно просыпается, плодится, приканчивает хозяина (не всегда, но это усиленно старались поправить) и, главное, не разлетается просто так, чихом не разнесется. Своих не заразишь ненароком. Разве что телесные жижи заразного ущупаешь. А трупы, чтоб обеззаразить, только сжигать нужно или в кислоту. В закопанном споры живы до окаменения.
«Живой» наркотик долго не могли распознать. О нем спорили два года, чтобы признать его в конце концов холостым штаммом сибирской язвы, начисто лишенным убойных свойств, но в остальном сохранившим почти все черты родственника — и способность мгновенно действовать, просыпаясь из споры, и способность в состояние споры возвращаться.
На третий год после его появления все, кто занимался поставкой крупных партий, кто разбогател вдруг и невероятно, кто выжил после бойни, захлестнувшей торговцев «живой» дурью, в одночасье разорились. Другой неизвестный гений — или множество их, осененных носившимся в воздухе, — додумался плодить живое счастье на кухне, в обыкновенной чашке бульона. Так разводили сибирскую язву на фабриках, ударно работающих вопреки любым международным запретам. Только там чашки были размером с самосвал.
А теперь любой, доставший хоть сотую часть дозы, мог обеспечить себя счастьем, и тратиться ему приходилось только на мясо. Да и то счастью хватало навара, а прочим питались счастливцы.
Вскорости весь мир превратился в гигантскую биолабораторию. Неудивительно, что еще через два года счастье научилось летать. И накрыло всех.
3
Крузу хотелось орать. Забиться в угол, заткнуть ноздри, закопаться в землю, удирать стремглав, побросав все. Было хуже, чем сорок с лишним лет назад, когда высадили с вертолетов на Юкатане и пришлось идти сквозь зеленую муть прямо на пулеметы.
Огороды заросли сиренью и лозой. А копанка на задворках осталась чистой — видно, ключ бьет. На мостках доски истлели, сарай сложился в себя скомканным кульком. В хате окно оскаленной пастью, сверху зуб стекла и снизу.
Сколько похожих деревень видел… но почему так трясет?
Пустырь перед магазином. Бетон лежит — видно, лужа была перед входом. Между плитами одуванчики лезут. А сам магазин уцелел на диво. Стены толстенные, кирпич. Окошко-бойница. Не иначе лет триста домине. Крыша держится, только железо кровельное поржавело.
Стоп. Круз поднял руку. Показал: След — со мной, остальным — на стреме.
Замок ржавый валяется на крыльце. Дверь железными полосами крест-накрест, петли проржавели. Но — подалась легко.
Выгребли тут все. Даже плесени на полках нет. Недавно выгребли. Но пыль повсюду в полпальца. Золотистая такая пыль.
И тут по Крузовым ноздрям будто ляснули раскаленным молотком.
— Назад! — прошипел он. — Назад, мать твою!
Шажком, шажком, чтобы пыль эту не взбить.
На крыльце, обернувшись, хотел махнуть рукой — мол, ноги отсюда, — но замер. След стоял, глядя на север, туда, где деревенская улица терялась в сирени. И Левый с Последышем, стоя посреди улицы, смотрели туда же, будто завороженные.
Из сирени на дорогу вылез мальчуган. Лет двенадцати, не больше. Тоненький, белобрысый. С курячьими белесыми волосенками, птичьей шейкой и огромными, в пол-лица, синими искристыми глазами. Стал, улыбаясь.
А затем из кустов вышел волк. За ним второй, третий. Уселись по-песьи, лениво.
У Круза в желудке родился холодный колючий ком. Пополз наверх, уперся в глотку. Вот тебе и тридцать семь лет после «опа». И полтора месяца до полных тридцати восьми. Мать твою, снова послушал очкастого бзика!
Конечно, можно сейчас поднять винт и спокойно положить мальчишку посреди дороги с дырой во лбу. Но — и в этом Круз был уверен твердо, нутром и даже пропотелыми носками — делать этого нельзя. Если этого не делать, проживешь дольше. Может, на полчаса, но дольше.
Щенки переглянусь. Последыш уложил автомат наземь. Пошел. Встал напротив, в трех шагах. Волки смотрели, не шелохнувшись. А мальчуган рассмеялся. И разжал левую ладонь, сдул горсть золотистой пыли.
Последыш вздрогнул.
— Ты кто? — выговорил хрипло, вытаскивая слова из пересохшего рта.
— Янка, — добродушно ответил мальчуган. — А вы — мясо.
— Ты кого зовешь мясом, недомерок? Мой отец — волк, и брат — волк. Хочешь научу, как недомерку обращаться к волкам?
— Волк? Это как? Правда? — спросил мальчуган удивленно. — А чего тогда с вами мясо?
— Сам ты мясо!
— Я сейчас скажу Чиншу, он тебе пупок вырвет, — сообщил мальчуган все так же добродушно.
— Пусть попробует!
— Ну, — мальчишка пожал плечами, — как хочешь. Чинш…
— Стой! — сказали из кустов.
На улицу вывалился мужик — точная копия мальчишки, раздутая вдвое, одетая в такое же серое тряпье, с такими же голубыми глазами, но и с бороденкой, куцей и редкой, и с прыщом во лбу.
— Не мясо они, Янко. Не похожи.
— Это бывает, что не похожи, а на самом деле — мясо! С ними же мясо было!
— Мало ли что было. Не дорос ты еще сам такое думать.
— Как выходить — дорос, а как…
— Хватит, — приказал прыщелобый и, оглядев Последыша сверху донизу, спросил удивленно: — Ты из каких будешь, хлопче?
— Мы — волки из Колы! — ответил Последыш, сощурившись.
— Ох ты, ёп-ти-тить. — Прыщелобый вздохнул. — Кто у вас там старшой? Эй ты, который седой с дубальтовкой, ходь сюды!
— Сам иди, оборванец, — процедил Последыш.
Но прыщелобый, не обратив никакого внимания, крикнул Крузу:
— Батько, ты подойди лучше, лады? А то кабы чего не случилось.
— Если чего случится, ты умрешь раньше, чем твой снайпер меня выцелит, — сообщил Круз. — Да и старый я, к молодым бегать. Ты, почитай, вдвое меня моложе. А ну, ноги в руки!
Янко хихикнул. Крайний слева серый зарычал.
— Ну, Чинш, не ругайся, — заметил прыщелобый с неожиданным миролюбием. — Принято так у людей, к старшим ходить.
И пошел. Круз только сейчас заметил, что прыщелобый, как и его мальчуган, бос.
— Батько, ты на нас не серчай, — попросил прыщелобый, подойдя. — Меня Владом зовут, а тот сопливый — Янко. Нас дидько наш, старшой, послал к вам. Хочет он с вашим знахарем поговорить, который длинный и с псиной здоровой. Да и с вами тоже. Вижу, люди вы рассудительные, стоящие. Так вы с нами пойдите, а то плохое может случиться, честное слово. Мы народ диковатый, и земля тут наша искони. Не любим мы чужих оружных.
— Мы пойдем, — пообещал Круз.
Круз видел многое. Видел, как выживают те, кто остался в Лондоне и Мадриде. Как выживают, забившись в горы и спрятавшись на островах, носясь по рассыпающимся дорогам, стреляя во все подряд, молясь, строя корабли. И думал, что страннее устройства жизни волколюдей, подобравших Круза заполярной зимой и принявших в стаю, придумать трудно. Но здешний народ, живший среди обычной, не слишком одичавшей и не слишком разоренной средней полосы, перещеголял северян. Круз не увидел ни дотов с тяжелыми пулеметами, ни канав с кольями, ни стен. Обычный полусельский городишко на берегу медленной реки, заросший ивами, с полутысячелетней башней ратуши, переделанной век тому в школу, с церковью и костелом по соседству, с тремя улицами, только и поместившимися на узком холме между болотом и рекой. Не слишком одичавший городишко, но изрядно разваленный. Обычный.
Только по улицам его ходили волки. С виду — настоящие, чистокровные серые. Ленивые, сытые. Не уступавшие людям дороги. А потом Круз увидел, как тянут груженную дровами телегу живые трупы. Страшно изъязвленные, обожженные, обмотанные тряпками или вовсе голые, проткнутые ржавыми штырями, с гниющей кожей. Мальчишка верхом на дровах, регоча, тыкал их палкой с гвоздем. Они даже не вздрагивали.
— Сазон вовсе мясо свое запустил, — сказал Влад укоризненно. — Дождется, пока волки заберут.
Не успел договорить, как на телегу вспрыгнул волк с подпалиной на плече. Повалил мальчишку, выхватил палку, отшвырнул. Встал, рыча.
Из-за кустов выскочили трое, мгновенно выдрали крайний животруп из постромков и, не оттащив даже, принялись пожирать. Животруп закричал — тоненько, по-птичьи.
— Дядя Влад! — закричал Янко. — Опять Штыповы безобразят! Я им сейчас!
И потянул из-за ворота свистульку на ремешке.
— А ну окстись! — одернул Влад. — Штып меня старше, и Сазон тоже, не мне и не тебе по ним свистеть. Пусть дидько разбирается. Штыповы в своем праве.
— Да он же Петрука покалечит!
— Кто, Штып? Да он младенцев через реку носит! Подержит Петрука твоего, чтоб не засвистел ненароком, и отпустит.
— А где Штып? — спросил Последыш ошарашенно.
— Ты че, слепой? — сказал Янко. — Вон, на телеге, с подпалиной который.
Подпаленный Штып спрыгнул с телеги. Подошел лениво к животрупу, уже переставшему дергаться, сунул морду в распоротый живот.
И тут Петрук засвистел. Крузу будто загнали тупое ржавое сверло в уши и принялись медленно, с хохотом поворачивать. Две ноты — одна выше визга, вторая толстая, гнусавая, звук вибрирует, трясется между ними, рассыпается стеклом, острым, крохким. Волки замерли, прижав уши. Спрятали морды меж лап, скрючились, припали к земле.
В этот момент пес Хук, огромная черная животина, раза в полтора больше любого из волков, прыгнул.
Круз не сразу решился оторвать ладони от ушей — такой странной, дикой, удивительной показалась тишина.
Потом Янко вскарабкался на телегу и, деловито размахнувшись, стукнул Петрука в нос.
Дидько обитал не в ратуше и не в тяжелом бетонном утюге прежнего градоначальства, а на краю города, в узком углу у соединения рек, в бывшем гастрономе, чьи обширные витрины украшали куски зеркал и черепа, человечьи и волчьи. Оказался дидько вовсе не старым, не больше пятидесяти, и смотрел на пришлецов как на диковинное зверье из разъезжего цирка. А в особенности на Дана и пса Хука, которого волки опасливо обходили.
Когда насмотрелся, поскреб в бороденке и объявил: «Праздновать будем! Гости у нас! Особые». Народ — вперемешку мужики в домотканом и парни в пятнистом, увешанные оружием, — радостно загомонил и потянулся к выходу, к широким алюминиевым дверям, пробитым посередине ржавым крюком.
— А вы погодьте, — велел Крузу. — Мы погуторим немного, если вы устали не очень. Вы, наверное, и не знаете, как оно у нас?
— Не знаем, — подтвердил Круз.
— Так вот, про дела — оно завтра. А покамест вы правило наше послушайте. Первое: не задирайтесь ни с волками, ни с людьми, и они вас задирать не станут. Но если кто задерется из наших, ты, как старшой, вмешаться можешь. Только ты один. Тогда на крови зла не будет. А второе — свистушечку-то пусть знахарь твой отдаст. Нельзя нам ее в чужие руки отдавать.
— Дан, пожалуйста, отдай, — попросил Круз.
Дан, задумчиво вертевший глиняный свисток, сказал:
— Я отдам. Хотя очень интересная вещица, очень. Любопытно, а на диких волков — я имею в виду настоящих волков — она действует?
— Ты про что, знахарь? — спросил дидько подозрительно. — Наши волки что, не настоящие? С плохой кровью?
— Их крови я не вижу, — сказал Дан. — Но волки, которых я знал в своей юности, такими не были.
— В твоей юности, знахарь, солнце по-другому светило. Тогда, небось, и псы такие водились?
— Водились.
Хук зарычал.
Тотчас же волки, сидевшие по углам зала, подошли и уселись по сторонам.
— Ты псеца-то угомони, — посоветовал дидько, хмурясь. — Серые мои его задерут. Не втроем, так всемером, но задерут. Вообще, ты б подумал, может, расплод оставишь от монстра своего? У нас волчица течная, Кена, чудо, а не баба. Все серые шалеют.
— О делах — завтра, — напомнил Круз.
— Ладно, чего-то я в самом деле… Тут у нас банька есть — хотите в баньку? А после погуляем хорошо, народ рад будет. Про новости из дальних краев расскажете, молодые спляшут… эх, сладость!
Дидько улыбнулся мечтательно. И хлопнул в ладоши.
— Эй, Янко, проводи гостей!
Банька была замечательная: сухая, жаркая, чистая, с отдельной парилкой, где светились багрово круглые гладкие валунки. Веники — дубовые и березовые, отборные, добротные, мяконькие. Круз подумал, что последний раз попал в баню года три тому, у волков с Колы, а до того не парился лет двадцать пять самое малое, а то и тридцать. Здешняя баня напоминала детство. Отца, заботливо прогревающего веник у печного жерла, ухающих мужиков в вязаных шапочках. Странную, захлестывающую дрожь, когда горячий пар струится над кожей. А когда выскочишь под душ, истомленный жаром, накатывает сверху вниз дрожкая, хватающая сердце истома…
Тогда, в девять лет, просился в баню чуть не каждый день. Вымазывался нарочно, и мать, вздыхая, сыпала в ванну порошки и кристаллики. А когда отец, уступив, повел в праздник, через три дня всего после обычной недели, — сладость смены жары и холода вдруг пропала, и парилка показалась унылым, тягостным уроком — терпи, потей, подложив ладони под тощий зад, чтобы не обожгло накаленной доской. Тело не сбросило груз, не открылось.
Теперь от ощущения осталась лишь память. Но хотя бы оживить ее — роскошь в нынешнем мире. На земле победившего счастья мало радости. С годами уходит даже радость убить и выжить.
Круз никогда не умел радоваться сильно. Утоление голода приносило небольшое ровное тепло, утоление похоти, неяркой и мелкой, как чесотка, — спокойный сон. Душа от рождения не прозрела, осталась невнятной, слепоглухонемой. Сделаешь не то — ноет, сделаешь хорошее — будто прислонился к печи после слякотного подворья. Горе не стучалось в нее. Когда отец лежал на столе, маленький и умытый, со свечой в головах, ничего внутри не было, кроме досады и мерзковатой тяжести в животе, как после вчерашнего холодца. И водка, влитая заботой дядьев, чтоб не горевалось, принесла лишь болтливую гадкую муть в рассудке, а после — рвоту.
Радости Круза были рябь в луже — но и горести не глубже. В семнадцать лет он не прыгнул смертно с крыши потому, что жестяной окоемок был ржавым и грязным, лип к рукам. А через час зачитался «Потопом», и все стало как раньше. Так же быстро забывал и боль — только загонял в память, повторяя: не иди туда, не знайся с тем, не хватайся за провод.
Интересно бы опросить выживших стариков: как у них, точно ли так же пусто и мелко? У Дана не так. Он по-настоящему радуется и злится. Но у него великая цель. Вбил в голову, и напролом. Так, наверное, и все время жил, от одного громкого пустословия к другому, не замечая, как великое вихляет задом. Но Дан — псих. Такие мир приговорили, такие его и спасти мечтают.
Михай тоже был из породы глядящих в светлое будущее. Только цель у него всегда была чужая. Душа из одной веры и состояла. Дан с Михаем — как генерал с рядовым. Вот рядовой первым и схватил…
— Старшой, спину-то, давай, — предложил Левый, осклабясь.
— Нет, спасибо. Сами давайте, а я погреюсь, — ответил Круз.
Щенки еще посуетились, погоготали, дуя друг на дружку и шлепая вениками. Наконец заскрипела, грохнула дверь. Круз лег на полку и вытянул ноги, ощутив жгучее колотье под икрами. Закрыл глаза.
И тут дверь заскрипела снова, и ломкий басок Последыша сообщил: «Старшой, тут у нас… ну, в общем… надо, а то мы сами не того».
Круз слез и вышел в мыльню.
Посреди нее стояла голая девка. Сисястая, чистая. Красивая, кабы не лицо — сонное, мутное, правильный кусок розового с отверстиями.
— Да у нас принято так, — объяснял Янко, краснея. — Помылися хлопцы, бабу им, расслабиться. Это хорошая баба, с нашего двора, сами глядим, не беспризорное мясо. Вишь, чистая какая, здоровая. Не рожала еще.
— Старшой, вроде у нас права нет этому морду бить, — процедил Левый. — Да и гости мы тут вроде.
— Мальчик, уведи ее, — попросил Круз. — Это не в обычаях моих парней, с таким… с такой соединяться.
— Может, вы мужники, а, которые на баб вовсе не смотрят? — спросил Янко — и замер, чувствуя пальцы на горле.
— Мальчик, на земле моих парней тебе бы уже выпустили кишки и ты бы, подыхая, смотрел, как она их ест, — сказал Круз. — Я считаю до трех и когда скажу «три», чтоб ни тебя, ни ее тут не было! Раз.
На счет «два» дверь хлопнула, спрятав за собой Янко и мясистый подарок на после бани.
— Как же они с тусклыми управляются? — сказал задумчиво След, вытираясь. — Тусклых же хоть бей, хоть пихай… и жрать они не хотят, а когда сожрут, под себя гадят… а тут даже работают, ну…
— Вот поди поверти здешнее мясо, потом нам расскажешь!
Последыш с Левым зареготали. А Круз, вытираясь и одеваясь, думал, зачем Правый, оставшийся снаружи караулить рядом с Даном, впустил эту пару. Наверняка Дан его подначил. Но отчего?
В ответ Дан, чертивший на песке, вздохнул и подвинулся, освобождая место на лавочке рядом с собой.
— Ты же знаешь, твои щенки мне интересней заразы, которую ищу. Гормоны гормонами, но содержание их рассудков… тестостерон у них зашкаливает. Женщины у них не было полгода — с того времени, как они ночь возились с моей бедной Митци и чуть не учинили перестрелку. А тут — ни пальцем.
— Ты сам объяснил им, что такое противозачаточные, я за язык не тянул, — буркнул Круз. — А я тебе объяснял, что для них значит, когда от них здоровый ребенок рождается. Да и не уверен я, что для них хоть какое удовольствие с женщиной быть. Старшие, волки, те вовсю треплются, скольких покрыли и как долго крыли. Так им положено. Это статус в стае. А на самом деле…
— Кстати, про самое дело: нас позвали на здешний праздник. С танцами и, как я понял, с этим же делом.
— Мне гранаты снаряжать? — осведомился Круз.
— Думаю, не стоит. Мне кажется, мы им нужны гораздо больше, чем они нам, — ответил Дан, улыбнувшись.
Праздник удался на славу. На площади перед обиталищем дидька развели огромный, в три роста, костер. Пили самоваренное пиво, густое и терпкое, передавая по кругу чару, ели мясо, вареное и сырое. Вареное — людям, сырое — волкам, сидевшим наравне с людьми и смотревшим в пламя. Стучали по деревяшкам, дудели в свирель, скребли мех с трубками, похожий на волынку, прозванный диким словом «дуда». Танцевали — мальчишки, юнцы, волки. Голые по пояс, с двумя ножами в руках, тонкие, из жил и мышц сплетенные, кружились, падали, метались невесомо — а рядом с ними прыгали, кружились, клацали клыками волки, соединяя зыбкую вязь движений и жизней.
Круз смотрел, хмелея от звуков, от чужой гибкой силы, смертоносной и мягкой. А щенки глядели, дрожа, и в глазах у них плясало пламя.
Пламя снилось Крузу, соединяясь в памяти с огнем всех костров последних сорока лет. Выстрелы, камень, тонущий среди гавани корабль, медленная толпа, ложащаяся под пулемет, — все вставало в памяти, чтобы рассыпаться горстью слов, не значащих и не болящих, оставив только тепло костра, ровную радость пищи и жизни. Круз хорошо спал в эту ночь — впервые за много месяцев.
4
Эпидемии не было. Большинство тех, кто подхватил летучее счастье, ощутили разве что пару дней необычного добродушия, будто мир заулыбался вдруг, взял на ладонь.
Круза догнало на улице старого города Салвадор над заливом Всех Святых. Грязного, жаркого, шумливого, красивого города всех расцветок кожи и вер. Вдруг смягчилась полуденная тропическая жара, ушел из ноздрей асфальтовый чад. Траченная плесенью штукатурка, щербины, сохлая трава стали красивыми, яркими. Захотелось взять их в руки, лечь среди них.
Такое бывает со всеми. Просто вдруг открываются глаза на мир. Говорят, грехопадением стало открытие того, что наш мир не рай. Иногда завеса грязи приоткрывается и удается заглянуть за нее. Тогда душа становится чище.
Но Круз не верил в рай и душу, а верил в то, что хохотушка Ана Рита, заигрывавшая с ним второй месяц и пенявшая на нелатинскую серьезность и уныние, сыпнула в кофе «живого счастья». Потому, чертыхаясь, вогнал себе дозу налоксона, и через пять минут жара, скука и грязь вернулись на место. Добавилась только злоба.
Но Ана Рита была ни при чем. Ее нашли через три месяца в ее квартире в Верхнем городе. Соседи пожаловались на запах и решили, что она уехала, оставив полный холодильник. Она не уехала. Муравьи, придя сквозь щель в раме, обглодали ей лицо до кости.
Поначалу таких, как Ана Рита, было немного. Такие случаи долго считали передозировкой обычной отравы. Их много было. Все подешевело, даже героин упал в цене вдесятеро. Кому нужно колоться, когда «живое счастье» куда доступнее и вставляет не в пример чище и легче?
Чистое, совершенное, абсолютное, доступное всем счастье. Его долго не хотели считать наркотиком. Были кампании, демонстранты с лозунгами: «Позвольте нам счастье!» Были холеные пророки, проповедовавшие золотой век. Счастье каждому даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Они были правы, никто спорить не мог. Самоубийства почти исчезли. Преступность улиц, с ножом в кармане, с гоготом и драками в подворотнях, испарялась на глазах. Даже, кажется, воевать стали меньше. В Колумбии утихли повстанцы, сидевшие полвека в горах. Удивительно замирилось Сомали.
А в это время в университетах и лабораториях коллекционировали сотню за сотней штаммы «живого счастья». Настолько разнообразные штаммы, что и сказать порой затруднялись, где «живое счастье», а где сальмонелла. Потому когда «живое счастье» захотели запретить, полгода не могли решить, что именно считать «живым счастьем». Тем более что три четверти научного мира согласилось со скорым исчезновением новой сладости, вырождающейся, мутирующей, побеждаемой легко вырабатывавшимся иммунитетом, расправлявшимся со все большими дозами. Мало того: оказалось, что большинство отсидевших на «живом счастье» не реагируют на обычные морфины! Где тут запрещать?
Даже когда начали умирать, тревогу забили далеко не сразу. Не было катастроф, взрывов, массовых увечий и пожарищ. Почти никто не умер на работе: за штурвалом, у красной кнопки, за рулем. Умирали, расслабившись, отпустив дневные заботы: придя домой, в кресле у телевизора, во сне, за бокалом пива. Вернее, не вполне умирали — слово «умирали». Круз уже привык применять к тем, кто ушел из жизни, оставив еще дышащее тело. Они уходили в счастье. Обезразличивались. Прекращали есть и пить. Медленно проваливались в дрему, замедлялись. Засыпали. Сердце останавливалось во сне — не внезапно, плавно, сокращаясь напоследок не чаще раза в минуту.
Засыпавшим не помогал даже налоксон.
5
— Врут они, — выкрикнул дидько визгливо. — Небось с запада притащились, земли ищут! Старое сожрали, свое сеять не умеют, вот и ищут кого с плугом! Посмотри на стволы их, навороты какие! Как в танке!
— Успокойся, Василь, — посоветовал знахарь. — Ты сумел их найти и приветить и не обидел. Ты хороший дидько. Лучший из всех, кого я знаю. Но тут дело, которого ты понять не можешь. Ты вырос и выучился думать уже после счастья. Ты не представляешь, как думали и чем жили мы. Не спеши.
Знахарь умолк, поглаживая бороду, — широкоплечий, спокойный, в широкополой мягкой шляпе. Все молчали, ожидая. Круз молчал тоже, расстегнув незаметно петлю на кобуре. Знахарь выглядел разумным человеком. Но глаза его… Круз не любил, когда его жизнь, будто горошину, вертят и взвешивают. Интересно, кем знахарь этот был до счастья? Уже кем-то был. Сейчас ему лет семьдесят, не меньше. Может, мент бывший или вояка? Хотя не похоже…
— Вы уж извините нас, — выговорил наконец — но в голосе его звучало не извинение, а угроза. — Молодым скучно с нами. А нам трудно с ними. Пусть говорят мудрость и ум, ладно? Говори ты, старик. Зачем вы пришли в наши края и отчего ищете отраву?
Дан поправил очки и вдруг заговорил на ровном, звонком языке, смутно знакомом Крузу.
— Этого языка я уже не помню, — сказал знахарь невозмутимо, но по лицу его промелькнула тень замешательства и смущения — будто вытащили и показали всем старые драные кальсоны или тетрадку со школьным сочинением. — Но я понял, о чем ты. Да, я был врачом. Хирургом в областной больнице. Ты тоже врач? И кого ты собрался лечить, бродя так далеко от дома?
— Всех, кто еще уцелел, — ответил Дан. — Мы слишком долго ждали и надеялись. Теперь мы умираем, и замены нам нет. А кроме нас, лекарство найти некому.
— К чему искать? Живем мы неплохо и в лечении твоем не нуждаемся, — сказал знахарь.
— Правда? Тогда скажи мне, сколько рожают ваши женщины? И сколько рождается нормальных детей? И сколько из них, достигнув зрелости, способны зачать сами? До сих пор я видел меньше детей, чем взрослых.
Знахарь молчал.
— Ты не хочешь ответить мне? Я отвечу за тебя: тех, кого не достало счастье, с каждым годом становится меньше. Люди вымирают.
— Даже мясо способно рожать нормальных детей. И ухаживать за ними, — возразил знахарь, хмурясь.
— И сколько у них нормальных на десяток рожденных? У них. — Дан указал на щенков, — мужчине запрещено соединяться с женщиной, больной счастьем. Потому что яд в крови рожденных от больной крови всегда просыпается. До детородности доживает десятая часть, до двадцати лет — единицы. И никто из них не дожил до тридцати. Я видел много тех, кто пытается выжить вместе со счастьем. Я — считал. Если не случится чуда или если чудо не сделаем мы — через три поколения людей в этом мире не будет.
— Сильно сказано, людей не будет. — Знахарь усмехнулся. — Ты не спеши судить. Это в ваших местах, наверное, вымирают. А мы, вишь ли, живем. Люди — они существа, искусные выживать. Но резон в словах твоих есть, я понимаю. И понимаю, что старику, который жизнь зря прожил, хотя б под конец хочется чего-нибудь эдакого. Правильно Василь тебе не верит, хоть и не понимает почему.
Дидько встрепенулся.
— Но-но, — предостерег знахарь. — Не дергайся. Дело сложное. А не поговорить ли нам, друг Эскулап, наедине? Может, чего полезного друг другу скажем.
— Брысь! — велел знахарь негромко.
Сперва ушли люди, за ними — волки. Затем ушел Круз со щенками, оставив Дана с псом Хуком наедине со знахарем и его немым охранником. Дверь лязгнула за спиной.
Снова то же самое. Крузу захотелось выпить воды, холодной до ломоты в зубах. А остатки вылить за шиворот. Гнусно. Будто качали под виселицей — и вот приотпустили. Погуляй пока. А старшие, умные, поговорят. Может, и вытащат, и не придется стрелять. Людей осталась всего горсть, делить нечего — на оставшемся добре сотни лет можно жить вдесятеро большему числу. Но всегда одно и то же: настороженность, угрозы, прощупывание, потом долгие, опасные переговоры. Дан сможет, конечно. Он когда-то убедил и самого Круза.
Дверь открылась, и немой охранник, покрутив головой, поманил Круза пальцем. Тот, скривившись, пошел.
— Вот оно как, — сказал знахарь, глядя на Круза исподлобья. — Я так и думал: хотите вы мне гадость сказать. Потому отослал своих. Говорите, полтысячи народу нужно, самое малое?
— Я думаю, что полторы, — сказал Круз. — Он думает, что все женщины рожать захотят и от тех, кого укажут. Так не будет. Не отдаст никто своих баб за просто так.
— Полтысячи — минимум. Тогда хоть надежда выжить есть, — сказал Дан угрюмо. — Иначе родство слишком близкое. Зараза проснется.
Знахарь помолчал немного, гладя бороду.
— Зараза, говоришь, проснется? Все-то у вас напутано, — выговорил наконец, хмурясь. — Про то, какие и как рождаются, мы и до вас знали. Когда кровь смешивается близко, оно плохо. Это все понимают. Лет семь тому война была. Настоящая. Женщин крали, и до большой крови дошло. Мы раньше не здесь жили. Здесь осели и вкопались. Теперь к нам побаиваются. Разве что дикие вовсе.
— Это из-за нового счастья, которым нас уже обсыпали?
— Да. Мы умеем плодить отраву, которая не трогает нас, но бьет чужих.
— И скольких из вас она убила, когда вы ее нашли? — спросил Круз.
Знахарь не ответил.
— Мне было бы интересно взглянуть на ваши штаммы, — сказал Дан. — Быть может, там найдется то, что я ищу?
— Старый я стал, — пожаловался вдруг знахарь, будто Дана не слыша. — Умные слова не хотят укладываться в память. Вы мне скажите, Христа ради, простыми словами, что именно вам надо и чего вы ищете. А я уже и соображу, как помочь вам и чем. Вон он пусть скажет, он попроще сможет. — Знахарь показал на Круза корявым пальцем.
Круз, скосив глаза, глянул на охранника. Тот сидел, прислонившись к стене. Голову на грудь свесил и глаза прикрыл. Вроде расслабленный, а на самом деле — пружина. Только на рожу его глянешь, ясно — убийца. Знахарь этот до своих лет дожил не просто так. Знает, кому себя доверить. Если что — и вытянуть из кобуры, наверное, не успеешь. Твою мать. Щенки бы успели. А мы с Даном — две развалины. Скрипучие, медленные. Только и осталось, что слова.
— Нам нужно лекарство от счастья, — объяснил терпеливо Круз. — Средство, которое вернет все на место. Которое даст иммунитет. Они. — Круз кивнул в сторону Дана, — тридцать лет работали. Они знают, как нужно делать. Но не знают, что именно. Им нужна самая первая зараза. Штамм-родитель, с которого все началось. Тот штамм сибирской язвы, который заставили производить счастье, который потом мутировал, изменился, стал заражать. В нем был чистый ген. Когда они найдут ее, они сделают вакцину, антибиотик сделают.
— И раздавать его тем, кто достоин?
— Это не как таблетки… это живое тоже, как и зараза. Каждый сможет растить в бульоне. Если детям дать — они не станут «мясом». Людьми будут. Живыми! Вот он и его друзья такое умеют. — Круз кивнул снова. — Они меня от холеры вылечили, когда я чуть не сдох в Марселе… Так вот, сейчас мы идем за тем самым штаммом. Они высчитали, что зараза пошла из бывшего Советского Союза. Были там места, где заразу делали, — за Уралом и на острове в Аральском море. Может, там она и осталась. Но мы можем ее и раньше найти, если наткнемся на штамм, сохранивший нужное свойство. Потому мы все по пути проверяем. У него тесты с собой. Много. Простых. Капнул — проверил. И все! Лишь бы найти. И донести назад. Помоги нам, знахарь! Мы не сделали тебе плохого, а можем сделать много, много хорошего. Мы не враги тебе. Помоги! Отпусти нас, дай нам своих. У тебя же бойцы, у тебя волки. Я никогда такого не видел. Помоги нам — и мы все будем жить!
Знахарь долго молчал. А когда заговорил, в голосе его звучала жалость.
— Я долго понять не мог, кто вы такие. Вы старики, а так мало знаете про мир, который собрались спасать. Теперь понял: дураки вы, вот и все. Где ж вы были тридцать лет? Наверняка сидели где-нибудь в огороженном месте и ахали, глядя, как вымираете? Нас согнали с места люди, у которых все дети доживают до способности убивать. А их теснят люди, которые живут почти так же, как мы жили сорок лет тому. И это очень, очень скверные люди. Я слыхал и о других, которые зачинают от зверей. О тех, кто ест друг друга, чтобы стать сильней. Откуда вы пришли? Ты отвечай! — приказал знахарь, ткнув пальцем в Круза.
— Сейчас мы идем с юго-запада, из старой Европы. А раньше были на севере, на Кольском полуострове. Наши молодые — оттуда. У них — сильная кровь. Старшие их племени выслушали нас и решили помочь. Мы двое пришли оттуда, где еще сохранилась наука. В горах, в Альпах, есть места, где люди еще живут как раньше. Там работают, чтобы спасти. Оттуда послали повсюду искать штамм. Они меня спасли, и я решил им помочь.
— Он что, русский по крови? — спросил знахарь, ткнув в Дана.
— По матери, — ответил Дан.
Знахарь рассмеялся — негромко, старчески, скрипуче. Умолк, вытер слюну с губ.
— Если б я был чуток моложе, мне б интересно стало, как вы там живете и как ты, дед, в Европах оказался. Но я слишком стар, чтобы слушать про умирающих. Надоело уже. Хватит и того, что то и дело приходится хоронить подобных мне. В вашем хождении один смысл: смерть вы себе хорошую ищете. Чтобы со значением. Чтобы не стыдно напоследок за мир, который прогадили. Вы не думайте — я такой же. Я вас понимаю. Мне тоже мир спасать хочется. Только вот новые, которые родились после и выжили, — им нас не надо. Это не их вы хотите спасать — а мира нашего остатки. Сгнить не даете спокойно. Ну ладно. К чему мораль вам читать, старики только и могут, что за старое цепляться. Я-то думал, чего молодые за вами пошли. А им небось с вами, полудохлыми, пройти велели, чтобы на смерть глянуть? Чтоб мужчинами стать, или, как по-ихнему, волками? Да можешь и не говорить мне, я по лицу вижу. Но я вас уважаю, деды. Я вот, боюсь, и такой смерти, какую вы себе делаете, не увижу. Подохну, судя бабью свару. Потому я вам с похоронами помогу. Припасов дам. И подмогу отправлю с вами. Должок за мной — мои волки на ваше мясо покусились. Есть у нас один, которого за смертью пора посылать. Его уже приговорили «мясом» сделать.
— Это как? — не выдержал Дан. — Вы умеете разрушать иммунитет?
— Иммунитет? — Знахарь рассмеялся снова. — Котята вы слепые, ей-богу. Иммунитет. Ну, повеселили. Зараза — она прежде всего сюда приходит. — Он постучал пальцем по лбу. — Впрочем, чего я вам. Дам я вам этого типа и волков его — кто согласится за ним пойти. Завтра пойдете. А сейчас — гуляйте. После обеда дидько вам приговор скажет. Он здесь по закону нашему власть, не я.
Выйдя, Круз пошел к колодцу и, напившись, вывернул полведра на голову. Но лучше не стало.
Когда смерклось, на площади снова разожгли костер, и дидько, нацепив красный шнур, объявил, что пришлые — гости, полезные и дружеские люди хорошей крови. И потому — пьем пиво!
Люди заулюлюкали, зареготали. Щенки — вместе с ними. Когда стемнело и искры от костра долетели до верхних веток, Последыш плясал с местными у костра, голый по пояс, жилистый и точный. Круз смотрел на него и казался себе замшелым, холодным валуном, утонувшим по пояс в земле.
В сумраке, среди пляшущих теней, Круза отыскал немой. Потянул за рукав, поманил. Круз пошел.
Знахарь ждал его в полуразрушенном каменном доме над рекой. Полкрыши уцелело, навесом прикрыв угол. Сильно пахло псиной. В зарослях у реки заливался лягушачий оркестр.
Знахарь сидел в сумраке, на обломках неузнаваемой уже мебели. Вокруг него сидели волки — Круз насчитал семерых.
— Спасибо, что пришел, — сказал знахарь. — Меня Дмитрий Юрьевич зовут. Дмитрий Юрьевич Буевич, когда-то главный хирург области. Теперь — знахарь у дичающей кучки людей. Как тебя звали в той жизни? Кем ты был?
— Звали как и сейчас — Круз. Андрей Петрович Круз, солдат. Я был солдатом и остался им.
— Это кстати, — сказал знахарь. — Наши предки когда-то позвали чужих солдат править ими. И все получилось хорошо. Выслушай меня, солдат Андрей Петрович Круз. Пожалуйста. Я позвал тебя, чтобы предложить: останься с нами. Я — последний из тех, кто стал взрослым до беды. Я слежу за тем, чтобы мои люди не стали дикарями. Чтобы учились писать и читать, сохранили хоть обрывки знаний о мире. Но я стар и нездоров. У меня болит сердце. Смешно, но никто из моих не жалуется на боли в сердце. Они даже не понимают, что оно может болеть. Я, пережиток старого, тащу и старую хворь. Я протяну еще года два-три, от силы пять. А может, умру завтра. Без мета они быстро вернутся во времена, когда молились ветру и камням. Я многое хотел сделать, а успел так мало. Останься, прошу! Ты займешь мое место. Я вижу: ты умеешь приказывать, умеешь соединять людей, вести за собой. Ты проследишь, чтобы они учились. Ты проживешь еще лет пятнадцать, ты здоров и крепок. Этого хватит. Они не вымрут, их не перебьют люди с востока, нашедшие жизнь крепче — и куда страшней нашей. Подумай, солдат. Мы все — одна семья. Это будет твоя семья, твой дом. У тебя ведь нет ни дома, ни семьи, так, солдат? Ты будешь старшим у них, их отцом. У тебя будет столько детей, сколько ты захочешь. У нас красивые, сильные женщины. Любая захочет родить от тебя. Волки признают тебя и станут слушать. Что скажешь, солдат?
— Я… я не могу. Я должен идти, — выговорил Круз хрипло.
— Я понимаю. Солдат не был бы солдатом, если б его жизнь не состояла из одного долга за другим. Но послушай меня еще немного. Твой ученый, пересидевший беду за стенами, ничего не понимает. Он не знает, кого он хочет спасти. Он опоздал безнадежно. Те, кто мог выжить, уже нашли способы выжить. Да и вакцины его может не быть. Не верю я в нее. Не в вакцине дело. Это у кого как тело и голова устроены. У кого могло вынести — вынесло. Они и живут. И дети их жить будут. На Севере есть города, где живут по десятку тысяч. Без всякой вакцины… Останься, солдат!
— Я бы хотел, — ответил Круз. — Я бы очень хотел, честное слово. Я уже слишком стар для беготни, для постоянной опасности. Дмитрий Юрьевич, я хотел бы. Но я должен этим людям. Много должен. Свою жизнь и намного больше.
— Я и не думал, что ты согласишься. — Знахарь вздохнул. — Если сумел пережить беду, значит, умел крепко держаться за себя. Но знай — если ты вернешься сюда, я буду ждать. Пока жив.
— Я вернусь. Обязательно, — пообещал Круз.
6
Беда застигла мир врасплох. Нельзя закрыть границы перед врагом, если он уже внутри, в стенах дома, за спиной и напротив, рядом, за одним столом, в одной постели. Но многие все равно пробовали. Многим и помогло — просто потому, что готовые воевать лучше подготовлены к жизни рядом со смертью, к продолжению установленного порядка и после того, как исчезают командиры и некому сменить тебя на посту.
Куда хуже пришлось тем, кто не планировал жизнь на после ядерной войны.
Полномощный «оп» застал Круза в Бразилии, в городе Салвадоре, куда Круз неразумно вернулся из Гватемалы. Круз нанимался охранять людей, машины, корабли и самолеты, работая на большую фирму, где состояли его брат, отец и двое дядьев, вовремя откочевавших из России. Круз умел хорошо стрелять, водить машину, вертолет и танк, сидеть в засаде и распознавать умеющих хорошо стрелять, водить вертолет с танком и сидеть в засадах. Еще он бегал с выкладкой, говорил на пяти языках и не дрался без нужды. Точнее, вообще не дрался, потому что не был способен злиться или оскорбляться, и наносил повреждения людям и зверям только по надобности, беззлобно и эффективно. Роста в Крузе было два метра пять сантиметров, веса — сто двадцать кило. Круз завязывал узлом гвозди, а также вязал носки, шапочки и перчатки. Вязание наполняло жизнь тихим, протяженным удовольствием — наибольшим из доступных Крузу. В шесть лет его чуть было не признали аутистом, и это «чуть» стоило Крузу-старшему много нервов, денег и времени. Но Круз аутистом не был. Он хорошо понимал, что и как чувствуют другие люди. Только понимание это шло от рассудка, было спокойным, терпеливым и казалось не по возрасту мудрым. Даже взрослые вдруг ловили себя на том, что легко и просто рассказывают глубоко нутряное, близкое и, в общем-то, неположенное спокойному внимательному малышу, жадно ловящему каждое слово. Круз и в самом деле очень интересовался. Он сызмальства усвоил, что другие люди — больше и важнее его, могут больше, у них все настоящее, полнее, человечнее. Людей так интересно наблюдать! И убивать.
Впрочем, убивать Круз не любил. Это было как украсть у себя, выдрать цветок из клумбы. Убийств Круз избегал всячески — и потому, когда приходилось, убивал умело, быстро и точно, стараясь не причинять лишних мучений, а главное — не видеть умирания.
Но на смерть он насмотрелся вдоволь.
«Оп» в Салвадоре начался с того, что перестали работать важные, нужные городской жизни службы. Перестали ездить по утрам машины, собиравшие оставленные у ворот мешки с мусором. Стало меньше такси. Но еще работали магазины, и все так же клянчили милостыню назойливые уличные голодранцы, приходящие из Нижнего города.
Город умер, когда пропало электричество и никто не откликался на просьбы проверить, починить и подключить. И вот тогда разверзся ад.
Горожанин при всякой тревоге, ужасе и прорыве канализации стремится удрать из города. В городском человеке крепко сидит чувство клетки — удобной, но готовой стать склепом. Неожиданно улицы заполнились машинами, тележками и чемоданами с людьми в придачу. Но куда было бежать? От кого?
Пустой аэропорт, из которого никто никуда не летел, охраняли растерянные солдаты, сидящие без смены третьи сутки. Солдаты сидели и в морском порту, но охраняли только самих себя. Толпа с чемоданами проломилась на лайнер «Бразилиа» — чтобы обнаружить семерых пьяных матросов и тихо улыбающегося капитана, уже ничего не слышащего и не видящего. Дороги из города машины забили на десяток километров. Пронеслись слухи, что в Масейо высадилась помощь и раздают еду. Или не в Масейо, а совсем в другой стороне, на юге. Нет, на побережье все плохо, надо вглубь. Да что вы, там на дорогах стоят кордоны. Местные хозяева земель выставили охрану с пулеметами, боятся, что заразу привезут к ним. Так куда нам?!
Была середина сухого сезона. Солнце висело над головой накаленным молотком. Потому сперва начали убивать за воду. Вытаскивали из машин, орали. Стреляли. Оружие было почти у всех. Бразильцы любили оружие, и продавалось оно свободно.
В городе стрелять начали у магазинов. Иногда вмешивалась полиция, и стрельба быстро прекращалась. Полиция города Салвадор была страшней местной армии и флота, вместе взятых и удесятеренных. Но полицейских осталось слишком мало, они забирали лучшее и не мешали делить остатки.
Неделю Круз почти не выходил из дому, используя химический унитаз и четыре литра воды в день. Надеялся пересидеть и связал одиннадцать пар перчаток. В Верхнем городе взрывали и расходовали много патронов. На восьмой день Крузовы ворота высадил «хаммер». Круз убил водителя и двоих с заднего сиденья. Сидевшего рядом с водителем Круз убивать не стал, но перевязал и на «хаммере» же повез в госпиталь. Сидевший рядом был голубоглазый подросток тринадцати лет с цепью на шее. За квартал от госпиталя он ткнул Круза ножом в бок и тем отсек себе мизинец, когда лезвие лопнуло на бронежилете. Крузу пришлось ударить подростка в переносье. Затем вытащить из «хаммера» и перенести к ближайшей тени. Еще минут пять Круз, размышляя невнятно, искал в «хаммере» воду, но не нашел.
Зато опоздал к налету на госпиталь и хорошо расслышал стрельбу. Потому не стал ехать в госпиталь, а повернул. Еще через квартал «хаммер» оставил и пошел пешком, держа «узи» на изготовку. А когда дошел, собрал рюкзак.
Надо было возвращаться. Круз верил, что сумеет. И сумел, хотя это заняло тридцать лет.
7
Тот, кого собрались посылать за смертью, оказался лысым конопатым мужичонкой ростом едва за метр пятьдесят. Голый по пояс, тощий, замызганный, он сгребал шурфелем навоз в ведро, а затем, кряхтя, тащил в яму. Навоз был от «мяса». Оно содержалось на этом же дворе, в кирпичной двухэтажке с отремонтированными окнами. Вместо обычных стекол там были толстые, мутно-зеленые, с проволочной сеткой внутри. «Мясо» содержалось сплошь мужского пола — хотя определить пол некоторых особей, сплошь покрытых язвами и шрамами, странно зажирелых и огрузневших, было трудно.
Особи тихо вздыхали, гадя под себя. Мужичонка собирал навоз и окатывал обгадившихся водой. Скреб их, поворачивал. Странно, но те большей частью покорно двигались. Когда не двигались, мужичок, матерясь, бил их босой пяткой по мошонкам и под дых. Еще «мясо» нужно было кормить и выгуливать, но конопатого к такому важному делу не пускали. Его и к людям не подпускали.
Когда тот подошел на три шага к Янке, Янка оскалился и процедил: «Ты, не ходь, а то Штып раньше времени с мясом спутает!» Конопатый встал, ссутулившись беспомощно.
— Захар, решено про тебя, — сообщил дидько, ухмыляясь. — Ты с ними пойдешь.
— С этими, что ль? — спросил мужичонка неожиданно густым басом.
— Можешь остаться. — Дидько усмехнулся.
— Не, я, пожалуй, пойду, — сказал Захар.
— Вот и ладно. Мяса у нас хватает. А так хоть людям пригодишься.
— Мне пугач свой взять можно?
— Свой? У тебя ничего своего больше нету. Шкура только. Да и та теперь — их. — Дидько для убедительности показал пальцем. — Захотят — спустят.
— А волки мои?
— Твои? Да кто захочет с таким пойти?
— Закон, — прогудел Захар, почему-то улыбаясь.
— Закон, — повторил дидько зло. — Будет тебе закон. Как стемнеет, можешь говорить. Но если кто из волков, хоть бы Штып тот же, захочет тебе кишки выпустить, я пальцем не пошевельну.
— Вот и ладно, — ответил конопатый Захар и, повернувшись к Крузу, сообщил: — А ты здоровый, батя. Больно небось падать с такой высоты?
Левый шевельнулся.
— Ишь ты, резвый, — сказал мужичонка весело, глядя на нож у своего горла. — Сопляк, а скачет.
— Захар, если ты опять за свое, с ними недолго пройдешь, — сказал дидько.
— Дурак ты, Василь. Был дурак и есть. Одно что знахаря слушать умеешь да подлизывать вовремя, потому тебя и терпит.
— Все, Захар, — сказал дидько, сощурившись. — Слово сказано. Ты больше не наш. Я не знаю тебя и не слышал твоего имени.
Сплюнул под ноги, отвернулся и пошел со двора. Захар проводил его задумчивым взглядом.
Сказал, вздохнув:
— Ну, прощай, Василь.
И, глянув на новых хозяев, спросил:
— Жрать-то вы мне дадите?
Закон произошел на закате у реки, в роще, бывшей когда-то городским сквером. Все заполонила сирень, из заросли глядел ржавый турник. На прежнем футбольном поле кусты сменились высоким, по пояс, конским щавелем. Волки шли сквозь него, не колыхнув ни листка.
Сели кругом. Круз насчитал сорок семь, потом сбился. Серые, рыжеватые, седые. Захар стал в центре, примял стебель ногой. Рядом с волками встали люди. Круз не замечал их раньше. Грубые, тесаные, широкоглазые лица. Серые рубахи, штаны. И у всех в руках — глиняные свистульки.
— Среди нас — чужой, — сказал голос из темноты.
— Среди нас — чужой, — откликнулась дюжина голосов.
— Кто возьмется защищать чужого?
— Кто возьмется накормить его?
— Он станет пищей? Или дающим пищу?
— Волки людей, люди волков, что вам чужой?
Захар напрягся. Круз видел, как подрагивает его кадык.
— Что вам чужой?
Из круга вышел волк с седой полосой вдоль спины. Стал в трех шагах от Захара. Зарычал.
Из круга вышел волк. Поменьше, с тонкой мордой. Стал между седополосым и Захаром. За ним вышел еще один, и еще. Трое молодых.
Захар рассмеялся. И крикнул в темноту:
— Что, закон?
— Закон, — прошелестело в ответ.
— Ну и лады, — буркнул Захар и, выискав Круза взглядом, добавил: — Батько, отпусти пистоль — все путем получилось.
Волки беззвучно исчезли среди травы, а за ними, не оглядываясь, ушли люди. Захар подошел к Крузу.
— Батько, вишь, не выдрали мне кишки. Вступились за меня мои ребята. Теперь со мной пойдут. А я в вашей стае. Ты, как батька стаи, дал бы мне что-нибудь в кишки-то закинуть. Ослабну, не дойду.
— Дам, — пообещал Круз.
Захар выжрал три банки тушенки, пачку рафинада, шесть вареных картофелин и шоколад, дерзко утащенный из Крузовой сумки. После свернулся калачиком прямо на полу и захрапел.
Его волки съели полкозы, выделенной милостью знахаря на пропитание гостям. А потом пришли и улеглись рядом с Захаром, укрыв мохнатыми спинами от сквозняков.
Знахарь не вышел проститься. Провожать Круза пошли только Влад с Янкой да их волки — с десяток ухоженных, глянцевых, с верзилой Чиншем во главе. Хотя и Чинш едва доставал псу Хуку до плеча. Волки Захара держались поодаль, норовили за Хуком. Тот не замечал.
Ухоженный город кончился как раз за улицей, ведущей к реке и бульвару закона. За ним пошли обычные руины, виденные Крузом сотни раз: просевшие крыши, дыры окон. Трава на площади, перед заплесневелым монументом. Церковь, перед ней — огромный, кряжистый, вечный танк. Что ему тридцать лет? Даже воронье не загадило.
Улица стала тропой в кустах. Волки рассыпались, исчезли в заросли. Крузовы ноздри щекотнул запах. Тот самый, из деревни, где встретили людей и волков. В городе он был повсюду и привычно не слышался, но теперь — усилился десятикратно.
— Дрожишь, батько? Отраву почуял, — сообщил Захар, скалясь белозубо. — Тут, в парке, и варят. Из «мяса» бульон делают.
Щенки зареготали.
— Заткнись! — рявкнул Влад.
— А что мне ты? Я ихный теперь. Что хочу, то и говорю, пока батько не тишит. Так, батько? А ты сявка, вот ты кто.
— Старшой, я ему кишки выпущу, если он не перестанет!
— Хватит! — буркнул Круз, не оборачиваясь.
Чем дальше, тем хуже. И вонь эта, и чувство взгляда в спину. Взгляда через прицел. Любят они здесь издали выцелить. Винты тряпьем обмотаны промасленным, носят как ляльку. Заботятся. И чтоб не сверкнуло на солнце. Хорошие винты. Драгуновские. За полкилометра в темя положит. Знахарь здесь здорово окопался, с волками по окрестностям и снайперами на подходах. Интересно, сколько дней следили, прежде чем волков спустить? Или это волчья самодеятельность? Кстати, а про убитого серого никто и не вспомнил.
Кусты вдруг расступились, и Круз вышел на обширный пустырь. С дальнего его края торчала круглая кирпичная башня — старая водокачка, крепкая, вовсе не обветшалая. А посреди пустыря стоял вокзал. Как из сорокалетней памяти: светло-голубой, с темно-красной черепицей, со скамейками, с газоном. Ухоженный, чистый.
— Что это? — спросил удивленно Дан, вертя головой, будто разбуженный. — Расписание… здесь ходят поезда? Молодой человек, вы наладили дорогу? Правда?
— Это смертное место, — объяснил Влад угрюмо. — Души здесь ждут.
— Волки — слева, люди — справа. Вон, холмики видите? — Захар ухмыльнулся. — А однажды придет большое железо на колесах и увезет всех к солнцу. Кто хорошо жил, конечно. Меня так точно не возьмут, я…
— Тише, — сказал Круз.
Из двери у изножья башни вышел человек, одетый не в холщовое, а в промасленный, измызганный комбинезон. Волки зарычали.
Человек не подошел близко, встал шагах в десяти. Влад с Янкой переглянулись.
— Чего кривитесь? Что, железным духом заразиться боитесь? Я к нему пойду говорить. — Захар сплюнул.
Но сам тоже не подошел вплотную, встал за три шага.
— Привет, Макарка! Все в мазуте шаришь?
— Привет, Захар, — просипел человек, тронув себя за горло. — Рад видеть тебя живым. Машина готова.
И пошел, не оглядываясь. Все потянулись за ним.
«Машина» оказалась дрезиной. Большой, ухоженной, смазанной. С пулеметной турелью посреди платформы. Волки не хотели идти, но Хук прыгнул вслед за Даном, и те, прижав уши и сунув хвосты между ног, полезли следом. А Влад с Янкой скрестили пальцы и, не прощаясь, потрусили прочь.
— Не спеши хоронить! — проорал Захар вслед.
Но сам был бледный.
— Вы умеете с пулеметом? — просипел Макарка, погладив торчащую из горла трубку.
Круз кивнул.
— Это хорошо. А то я один, мне мотор смотреть надо. Я вас довезу к нашей границе.
— Далеко?
— Часа три ходу.
— Далеко!
— Мы — сильный народ, — просипел Макарка печально.
Ветер щипал лицо, тянул слезы. Дрезина шла тихо, мотор поуркивал, колеса били по стыкам почти нехотя, влажно. Сколько лет прошло, когда в последний раз? Тридцать, не меньше. Или тридцать пять? Кривой полустанок под Чиуауа и три вагона, дырявей решета. А на них — вся команда. Все молодые, все хохочут. Все уверены, что будут жить и возьмут все. Протянули месяц. Пришлось одному идти через границу и стрелять.
Круз не помнил убитых. Будто заботливая рука вытирала из памяти: раз, и чисто. Помнил только живых.
Едкий ветер. Словно трава, зеленая, гладкая, но с крохотными зубчиками по краю. Изрежешься, схватив. Сквозь щебень насыпи полынь не хочет расти. Кусты вокруг порублены.
Станция у медленной реки. Еще одна. Остатки стен, сирень лезет из окон. Потом дорога ветвится, поворачивает, сливается. Большая станция. Клыками торчат из кустов руины.
— Я помню, — сказал вдруг Круз. — Я проезжал здесь в детстве. Здесь пирожки с картошкой. А на вокзале — доска чугунная, большая. Ленин проезжал, выступал.
— Кто такой он, Ленин, и чего выступать ему? — спросил Захар.
— Давно это было. Человек был, который землями этими правил. И людьми.
— Над людьми хозяин? Много небось под рукой его ходило? Тысяч двадцать, наверное?
— Двести. И не тысяч, а миллионов.
— Миллионов? — потянул Захар недоверчиво. — Большой дидько… Чего он, глупый, тут выступать? Гнилое тут место, железом пропитанное. Тут ни люди, ни волки не живут. Мы только пост на вокзале держим. Вон там, вишь, башенка торчит… эй, а это что на рельсах? Макар!
Впереди, метрах в двухстах, на рельсах лежал человек. Связанный. Заботливо уложенный так, чтобы шея — на одном рельсе, ноги — на другом.
— Стой! — крикнул Дан.
— Гони! — завопил Круз, кидаясь к турели. — Последыш, ко мне! Гони, Макар, жми! Ложись!
Стрелять Круз начал еще до того, как мягко стукнули колеса, разделив человечье тело. Наугад — по кустам, домам вдалеке, ржавой будке. Вдогонку стукнуло запоздало: та-тах! Засвистело, скрежетнуло тонко железом.
По чутью, а не рассудку Круз развернул турель вперед — как раз когда окно вокзальной башни осветилось вспышками. Дрезину трясло и качало, но Круз, чувствуя пулеметное тело, высадил в окно всю ленту. А с новой, сноровисто вправленной Последышем, полоснул по теням у перрона.
Позади грохнуло. И еще. Далеко и бессильно. Дрезина неслась сквозь кусты. По турели хлестали ветки. Последыш, запрокинув голову, захохотал, и вслед зареготали щенки — даже угрюмец Правый.
— Чего они, дурные, что ль? — спросил брюзгливо Захар и тут же залился сам, тоненько, по-птичьи.
Обтер слюни ладошкой и заявил:
— Дураки эти недоросли, тупые. Ишь, полезли. А мы их — пулеметом, га!
И зареготал снова.
— Так где ваша граница? — спросил Круз измазученного Макарку.
Тот потрогал трубку, но не ответил.
— Доигрались, — жизнерадостно ответил за него Захар. — Я давно говорил: придут недоросли, сожрут с навозом. Посты, отрава… Ну, плевать им три раза на вашу отраву, они и так все порченные. Я ж говорил!
Кто такие «недоросли», Круз узнал на станции Бобр в три часа пополудни. Они и в самом деле были совсем мальчишками, лет по двенадцать, самое большее. Семеро их лежали рядком на асфальте, глядя в мутное небо. Двоих из них убил Круз.
8
Наверное, дело было как раз в том, что «живое счастье» не убивало по-настоящему, не будило страха смерти у тех, кто еще мог видеть и рассуждать. Не было судорог, бубонов, лихорадки и смрада. Не было нутряного отвращения, животного, древнего ужаса, подстегивающего еще живых выживать. И оттого смерть виделась невыносимо жуткой. Не было у нее примет, она никак не предупреждала. Вдруг замирал человек, сидящий рядом, засыпал и не просыпался, опускался на травку передохнуть — и исчезал, превращаясь в еще дышащую, но уже глухую, слепую и немую куклу. Кто следующий?
«Живое счастье» не трогало обезумевших от горя, спешивших, стискивая руль, продирающихся сквозь заросли, корчащихся в злобе. Оно подстерегало слабость и усталость, караулило радость. Те, кто смеялся, выбравшись из километровых заторов на шоссе, добравшись до спасительной глуши, засыпали, обессиленные, — а те, кому повезло проснуться, видели, что невидимая смерть рядом и смотрит из глаз детей и братьев.
Были те, кто в ярости и страхе убивал себя и свои семьи, — но немного. Убивали за еду и воду, в особенности там, где сгрудились беженцы. Убивали за испечатанную бумагу и разноцветные побрякушки — те, кто еще ничего не понял.
По-настоящему смерть распахнула двери, когда по умам пожаром побежало имя «налоксон». Надежное единственное лекарство, спасение от страха, три дозы в день — и счастье не навестит вас! Страх и отчаяние нашли русло и понеслись мутным, грязным, кровавым селем.
Аптеки, потом больницы, потом охота за врачами. Бойня у фабрик. Пулеметы, разносящие в клочья толпу.
Налоксона было слишком мало. И колоться им следовало трижды в день. Там, где власть готовилась к мировой войне, налоксон выдавали по спискам и под охраной. Там, где не готовилась, уцелевшие из сильных закрылись с охраной, женщинами и запасами.
Налоксон не антибиотик. Антибиотика против «живой смерти» найти так и не смогли. Налоксон — это антиморфин. Он блокирует рецепторы, реагирующие на эндорфины и подделки, имитирующие их. Потому для тех, в ком «живое счастье» не ожило, он стал ядом, провоцируя тяжелейшие депрессии и психозы. Но обезумевшие от страха люди, добыв его правдами и неправдами, кололись непрестанно. Должно быть, среди тех, кто принимал налоксон и через неделю-другую перестал понимать, зачем дышит, и родилась простая мысль: оживить угасающую человечность может самое сильное из доступного человеку — настоящая чужая смерть, с кишками и кровью.
К сожалению, средство действовало.
Как оно действует, Круз увидел с чердака двухэтажного дома неподалеку от аэропорта. Круз отлеживался после попытки угнать «цессну». Ждал, пока подживет располосованная голень. Отлежавшись, хотел попробовать порт или рыболовецкие деревеньки в окрестности. Разжиться баркасом, а если повезет, и брошенной в суматохе яхтой. А там, глядишь, добраться до аэропорта, не ставшего пристанищем банды психов.
Когда смерклось, на пустырь за домом съехались машины. Стали, светя фарами. Из машин вышли существа с оружием. В большинстве из них люди распознавались только по прямоходячести. Грохотала музыка. Существа вытягивали из фургона людей. Мужчин, женщин, детей. И — медленно, хохоча, делали из них бесформенные груды мяса и внутренностей. Цепями, ножами. Ржавым крюком.
С полчаса Круз прикидывал, скольких существ он успеет убить, пока не убьют его. Существ было слишком много — с полсотни. А у Круза было только две гранаты. Потому Круз не стал никого убивать в эту ночь.
Ни яхты, ни баркаса он не нашел, потому что в городе началась война, люто бессмысленная и неистово кровавая. Люди в форме и с оружием убивали разнообразных существ с оружием, а те убивали всех подряд. Потом и уцелевшие люди в форме принялись убивать всех. Банды ходили из дома в дом и убивали всех, кого находили. Медленно, когда выспались и отдохнули, быстро, когда уставали.
Круз вмешался лишь единожды — когда в Восточном порту банда человекохорьков кинулась с топорами и мачете на сгрудившихся у причала беженцев. Те хотели попасть на военный транспорт, увозивший остатки трех батальонов пехоты. С транспорта начали стрелять, люди кинулись врассыпную. Круз высадил раму и тоже начал стрелять, из снайперской винтовки АР-10. Расстрелял три магазина, целясь неторопливо, выбирая момент, когда очередной хорек в человечьем обличье приостанавливался, чтобы добить. Но вскоре перестал различать, где избивающие, а где избиваемые. Или это беженцы, обезумев от ужаса, принялись убивать друг друга?
Тогда Круз перебрался в другой дом, где крики слышались не так громко, и лег спать. Поутру военный транспорт исчез, а на пирсе, на набережной, на окрестных улицах сплошным ковром лежали трупы, чемоданы и сумки. Среди них бродили жирные псы.
А в сумерках Круза, пробиравшегося от дома к дому, умело обложила и едва не загнала банда детей, полуголых, но вооруженных до зубов. Круз не хотел стрелять. Но когда дети перекрыли выход и принялись карабкаться на соседнюю крышу, откуда Крузово убежище просматривалось насквозь, он швырнул обе гранаты и выкатился во двор, паля направо и налево. Потом добил раненых. Потом его вырвало в лужу крови.
9
Спустя тридцать семь лет Круз стоял на станции Бобр, глядя в мертвые мальчишечьи лица, и в его глотку снова толкнулся едкий слизистый ком. Дети. Конопатые, вихрастые. Слишком маленькие для железа, которое приучились поднимать.
Дан сидел рядом, на щербатой бетонной ступеньке, и плакал. Молча. Смотрел, а по щекам ползли слезы, путались в седой щетине.
— Эти пацаны… они б вам почки вырвали, — сказал глупо Захар, держась за посеченную щеку.
Дан не ответил.
Щенки сидели тихо. След с Последышем бинтовали Левому простреленное плечо. Тот храбрился. Улыбался, цыкал сквозь щербину.
— Это ж иродов бойцы. Недоросли. Они смертники. Знают, что никто до шестнадцати не доживет. У-у, лютые! Не знали, поди?
— Уймись, шибздик! — гаркнул Гуня.
Захар вздернулся, сощурился — но все-таки решил не язвить. Шаркая ногами, поплелся через дорогу, где рядком лежали люди и волки станционного поста. Гуня был старшим над ними. Теперь у него осталось трое мужчин, способных держать оружие, и два волка.
— Спасибо, — сказал Гуня. — Без тебя бы они нас уже жарили. Или хуже.
— Пожалуйста, — отозвался Круз. — Без вас они бы жарили нас.
— Бать? Давай, может, отойдем? Поговорить надо.
— Пошли, — согласился Круз.
Гуня повертел головой, скребнул в щетинистом затылке.
— Бать, слышь, так ты что, мотор наш забрать решил?
— Он вам ни к чему. В Орше сидят недоросли. Еще раз они мотор не пропустят. Здесь вам не удержаться. Подкрепления вам не пришлют, даже если дальний голос ваш заработает. Уходите. А мотор оставьте нам.
— Не по-людски это.
— Тогда иди со мной.
Гуня поскребся снова, в затылке и промеж лопаток, посмотрел на ногти — что выскреблось? — и сказал хмуро:
— Они там на наших насели. Идти мне надо.
— Так идти, а не ехать, — пояснил Круз терпеливо.
— Батя, может, с нами пойдешь? А потом — по своим делам.
— У меня своя дорога.
Гуня засопел, ухватил губами ус.
— Если пехом пойдем, нам Курина кончать надо. Он же не пойдет, нога у него… Да и Леха с Антоном не того… А с мотором — прорвемся.
— Они рельсы разберут, — объяснил Круз. — Или завалят.
— Тупые они. Малолетки. Прорвемся, — сказал Гуня.
Круз посмотрел на него, ничего не ответив. Гуня был велик, широкоплеч, с длинными толстыми руками и крепким черепом, укрытым щетиной. Гуня был с ручным пулеметом и челюстью, начинавшейся прямо от плеч. Гуню можно было ударить. Но потом наверняка пришлось бы стрелять.
— Ты не думай, я не глупый вовсе, — сказал Гуня рассудительно. — Если б дурак был, над постом бы не поставили, так? Ты еще посуди: баба ведь у нас. А наш мотор сожгли.
— Ну и что?
— Как че? Ты меня пойми: не уйдем мы пехом.
Круз еще раз посмотрел на Гуню: мелкие глазки подо лбом, щетина.
— Сейчас ты идешь и собираешь своих, — приказал Круз. — Через полчаса мы выезжаем. На запад. Все.
— Бать, ты…
— Делать! — рявкнул Круз.
Гуня вздрогнул и, взвалив пулемет на плечо, покосолапил к вокзалу.
— Тупой этот Гуня. Я его давно знаю. Дерется здорово, но тупарь тупарем. А за бабу на посту у нас в навозники определяют, — сказал Захар.
— Если ты еще раз будешь подслушивать, ухо отрежу, — пообещал Круз.
— Батя, а если б он полез? Он же тупой, ты ж видишь? А как мы без тебя, а? Как я тогда? А ты его здорово. Как надо. У него мозги бродят, когда сам думает. Эх, интересно, что за баба-то?
— Иди и узнай, — велел Круз.
Когда Захар вприпрыжку, дергая головенкой, унесся, Круз достал кабар и, морщась, выколупал из грудной пластины пулю.
В этот раз повезло. А про другой раз лучше не думать. Старик. Глупый неловкий старик.
Мальчишки наскочили волчьей стаей. Мгновенно, внезапно. Гуня, набычившись, стоял на платформе, расспрашивал, как это дали мотор, как выпустили, как Захар. Захар плевался, серые скалились. Круз терпеливо объяснял.
Грохнуло на площади, потом за почтой. И зачастило — та-та-тах. Гуня завопил, кинулся с пулеметом наперевес. Круз — за ним.
Грохнуло в десяти метрах. Круз шлепнулся тяжело, перекатился. Кинулся задом, в проулок — и столкнулся нос к носу. Первого рассек очередью. Но второй, вовсе мелкий, лет десяти, извернулся — и, уже падая, всадил Крузу пулю в грудь.
Все вместе — считанные минуты. За эти минуты пост перестал существовать — взорванный, расстрелянный, раздавленный рухнувшими стенами.
Мальчишки исчезли, бросив не сумевших убежать. Семерых. Серые разодрали глотки тем, кто еще дышал. Гуня бегал от трупа к трупу и орал. Потом с напорной башни слез снайпер и плюнул кровью Гуне под ноги.
Мальчишки. Счастье часто не действует на детей. Новорожденные нормальны почти все, даже от матерей под счастьем. Потом оно забирает. Как проказа, потихоньку. Кто сумел дожить без счастья до способности зачинать и рожать — скорее всего, сумеет и дальше. Кто не сумел — что ж, пару лет до взрослости живет, почти не чувствуя боли. А самые лучшие бойцы — как раз мальчишки, забывшие боль.
За углом орал Гуня. Командовал раненых и припасы тащить на дрезину. Стращал кого-то. Если мальчишки заметили дрезину, могли дорогу перекрыть. И взрывают они ловко. Тут машину бы.
Гуня перестал орать. Круз, вздохнув, поднялся, пошел к дрезине — и увидел рыжую дыру пулеметного дула.
— Бать, шел бы ты по своим делам и там приказывал, — сказал Гуня из-за турели. — А мы по своим поедем. Макарка, заводи!
Движок чихнул, зарокотал.
— Скатертью дорога! — заорал Захар. — Ты зад-то протри, Гунтяй! А то недорослям противно жрать тебя будет!
Дрезина задрожала, покатилась. Застукала часто по стыкам. Захар погрозил кулачком вслед, потом засвистел.
— Хватит, — попросил Круз. — Зови своих серых, Захар. Поездили достаточно, теперь пешком пойдем.
— Ты не бойсь, батько. Не съедят нас недоросли. Я вокруг все знаю, проведу так, что никто не узнает. А недоросли, они до завтра, скорей всего, и не сунутся. Они такие…
— Захар!
— Все, бегу, батько, зову! — и свистнул в два пальца.
В ответ из-за угла истошно завизжали. Круз побежал.
— Все нормально, старшой! — крикнул Последыш, выглянув. — Сучку нашли! Ее бросили!
— Ты и есть баба Гуни? — спросил Круз ненужно, глядя на скорчившееся в углу существо.
Существо было чумазое, всклокоченное и с цыпками. Лет пятнадцати от силы.
— Ну так, она самая, — определил Захар, хихикнув. — Верка-порожняк, знаю ее. А то я думаю, кто ему бабу позволил и какую. Я…
— Заткнись, — сообщил Круз тихо и страшно.
— Ой, батя, да чего ты так… все, молчу, молчу.
— Кто-нибудь берет ее?
Щенки переглянулись.
— Следа спросить надо, он караулит, — предложил Последыш. — И Левого.
— Не надо спрашивать, — выговорил Правый хрипло. — Встань.
Существо глянуло дико.
— Встань, не бойся.
Существо встало. Сквозь дыру в рубахе сверкнула бледная грудка.
— У тебя кровь есть? Бабья?
— Верка, ты не бойся, — посоветовал Захар. — Они хорошие. Они меня к себе взяли.
Последыш зареготал, аж заколотился. Правый улыбнулся — глуповато, смущенно.
— Вы чего? Эй, смехуна подхватили или что?
— Они всегда так, — сообщил Круз серьезно. — Весельчаки.
Верка шмыгнула носом и вдруг тоже рассмеялась — тоненько, звонко. И сказала обиженно:
— Все у меня как у бабы! Хочешь — пощупай!
— Это потом, — сказал Правый.
Обвел всех взглядом.
— Все видите меня и ее?
— Все видим, — отозвался Последыш.
— И я вижу, — отозвался Круз.
— Дык и я, — подтвердил Захар. — А что такого?
— Я беру тебя, женщина, — сказал Правый. — Беру и обещаю. Ты пойдешь со мной?
— Че не пойти? — Верка глянула удивленно. — Че спрашиваешь? Я ж бесхозная. Ты меня кормить будешь?
— Он будет. Ответь ему, да или нет, — посоветовал Круз.
— Серьезные какие, бабу поиметь… так пойду. Да.
— Она — моя, — сказал Правый. — Пойдем.
— Собирайте припас, какой есть, — сказал Круз. — За сегодня нам еще много надо пройти. Захар, я надеюсь на твою тропку.
— Будь спок, батя!
10
Из города Салвадор Круз хотел вернуться за экватор, в сонный городок под Мехико, где обитала его фирма, его отец, дядья, его друзья, те, с кем бежал под пулями и с кем зарабатывал. Фирма обитала сперва в Бразилии, пока федеральное правительство не решило отобрать у иностранцев право стрелять по бразильцам. Тогда дело Крузов перекочевало в страну, где стрелять разрешали всем во всех.
Круз был уверен, что родня и сотрудники, разномастная латино-русско-непонятная (вплоть до башкир) орава наверняка выжила и укрепилась. И ждет лучших времен. Конечно, мог и ошибаться — но ведь за что-то нужно держаться в жизни? Для Круза всегда было важно иметь в голове четкую, простую и ясную цель, вроде как дойти до вон той горы. Потому Круз никого не подхватывал по дороге, не защищал, не спасал и не заботился. Сперва подобрал мотоцикл, тракторно тяжелый старый «Кавасаки» с широченными шинами, но через полдня бросил, едва выскочив из засады, устроенной непонятными людьми в серых униформах. Шоссе превратилось в убойную зону, по рыжим глинистым проселкам лучше ездилось на коне, а лучше на муле. Мула Круз вскоре достал — тощую, но на диво крепкую животину, отказывавшуюся подыхать три с половиной недели под центнером веса.
Ехал километрах в двадцати от побережья, по пустому, колючему, каменистому взгорью. Местные его звали словом «сертау». Там было жарко и сухо. Всякая растительность торчала шипами, и деревья, и трава, в низинных зарослях колючки протыкали бронежилет. Ехать по сертау было плохо, но безопасно.
Побережье превратилось в кладбище. Круз заворачивал пару раз ближе к морю. Слышал гнилую вонь. Видел забитое развороченными, горелыми или еще горящими машинами шоссе. Еще видел тех, кто курочил и поджигал. Их было много, они убивали друг друга и всех подряд. Круз не хотел к ним. Но уходить далеко от побережья было еще опасней. Слухи про местных фазендейро с автоматами оказались скорее преуменьшены. Дороги и проходы они держали прочно. С холма, где росло жирноплодное дерево жака, Круз увидел расстрел двух джипов «пахеро» и непонятного автофургона. Автомобильные жертвы въехали в дефиле между холмами. Потом загрохотало и повсеместно загорелось. Недогорелые выскакивали, их добивали точно и аккуратно. Круз просидел на холме до темноты, потом откочевал поближе к морю.
И дальше двигался в темноте. В поселки заходил разжиться едой и питьем. Почти все они пустовали. Лишь пару раз натыкался на перепуганные семейства во главе с властными стариками, не желающими бежать с личных соток.
А потом Круз попался. Захотел через реку Святого Франциска перебраться. С мостами и переправами всегда были проблемы. Но с Сан-Франтишку особые — река в полтора Днепра, и в каньоне. А еще ее запрудили, чтоб электростанция. И мул некстати издох. Круз привык к нему, даже гладил.
Карта показывала два моста. Один — у моря, второй — у дамбы. Еще канатку, но на нее идти смысла не имело. Круз пошел к дамбе. И как-то утром, устроившись в заросшем колючками распадке на дневной сон, услышал вежливое покашливание. И затем:
— Сеньор, сеньор солдат! Мы знаем, что вы здесь. Пожалуйста, выходите. Мы не причиним вам вреда.
Круз глянул в просвет. На гребне холма стояла чалая лошаденка, низкорослая, крепкая, и сидел на ней смешной человек, одетый в кожаное, с нелепой кожаной же шляпкой котелком. Круз поразмыслил немного и вылез.
— Меня Давидом зовут, — сообщил кожаный человек. — Я у дона Луиса Оливейры, тут его земля. И мост его. Мы за тобой, сеньор солдат, третий день смотрим. Видим, человек стоящий, разумный. Дон Луис сказал, чтоб мы тебя позвали. Пойдешь?
Круз посмотрел вокруг. Вспомнил, как горели машины в распадке, и сообщил кожаному: «Пойду».
У дона Луиса, хозяина земель на полдня езды, Круз прожил три с половиной года.
11
Если человек умеет ужиться с землей, та на удивление скоро о нем забывает. Если человек рассаживает всюду зелень, не пугает зверье, не травит чрезмерно, не кладет асфальт и не роет, то между ним и землей устанавливается добрый мир — примета покоя, достатка и удовольствия от дел. Зато когда человек исчезает, все мгновенно превращается в лес, и зверье с радостью вламывается на опустелую жилплощадь. Дольше всего помнит человека сделанная им пустыня.
Земля, по которой повел Захар, почти ничем человечьего прошлого не выдавала. Мелькнет только ржавый знак на столбе у проселка, угол хаты высунется из кустов. Да странно прямая линия ручья напомнит, что были противоболотные каналы. Но каналы заросли, и болота вернулись, чавкая под ногами, цепляясь и открывая вдруг холодные провалины — по колено, а то и по пояс.
Шлось медленно. И Дан начал сдавать. Круз давно за него побаивался. Но Дан долго держался. Когда пришлось оставить грузовик, неделю чуть не бежали, стараясь оторваться. Дан бежал наравне со всеми. Но после визита к волчьему народу ему занемоглось. К вечеру чуть переставлял ноги, бледнел, стискивал зубы. Глотал таблетки из жестяного тюбика. Может, сырость его проняла? Ни дня без переправы. Молодняку что — отряхнулся и побежал. А Круз сам скрипел зубами от ломоты в суставах.
На третий день переправлялись через широкую медленную реку. В заросшей, сшившей деревне на берегу нашлась лодка. Сперва переправились двое щенков с Захаром, потом Захар, матерясь, погреб туда-сюда с серыми. А когда плыли Дан с Хуком и девчонка, лодка вдруг расползлась. Старый дюраль, раздерганный веслами, подался, и посреди днища раскрылся шов.
Дана выволок Хук. Вытащил за шиворот, как кутенка. Верка выплыла сама и на берегу, никого не стесняясь, скинула рубаху, разлеглась под солнышком, светя рыжей шерстью на сраме. А Дан добрел до прибрежных кустов, да и свалился, кашляя. Круз поставил для него палатку, заставил переодеться. А сам, прихватив с собой Следа с Последышем, отправился искать машину. Судя по карте, неподалеку был поселок.
По здешним землям на машине — опасно вдвойне. И народца лихого, как видно, уцелело куда больше, чем в старой Европе, и дороги захирели куда основательней. От Давоса до Польши добрались на грузовике за четыре дня, без засад и неприятностей, — разве что сорвали чью-то старую растяжку на трассе. Протухший заряд ухнул безвредно позади. А в Польше, за руинами города со зловещим названием Быдгощ, начали стрелять, потом погнались — на колымагах, громыхающих жестью, на мотоциклах. Круз от удивления едва не затормозил. В последний раз мотоциклиста он видел лет двадцать назад. А те были точно рокеры из невзаправдашней юности. Но гнались недолго — то ли техника была внушительна лишь с виду, то ли наскучило. А вот на подходах к Тересполю влетели по-настоящему. Засада по всем правилам. Если бы грузовик был обычной жестянкой, без брони на кабине и моторе, пришлось бы худо. «Эрликона» из-под брезента засадники не ждали. Двадцатимиллиметровые бронебойные бананы «эрликона» протыкают кирпич как бумагу.
Круз осмотрел потом трупы. Пятнистая униформа, винтовки, ботинки, нашивки с орлами. Будто всплыли из прошлого. Зачем, откуда? Не молодежь, не старики. Неужто на дорогах нынешней Европы столько поживы?
Покалеченный грузовик пришлось бросить.
Собратья засадников, в таких же униформах и с такими же винтовками, шли следом целую неделю. В конце концов Круз устроил засаду сам. Растратил все растяжки и половину запаса патронов. За двумя уцелевшими побежали, хохоча, щенки. Вернулись перемазанные кровью и после жарили на костре, насадив на прутики, округлые мясистые кусочки. Что именно, Круз знал и потому ни спрашивать, ни смотреть не стал. Зверье.
Чем дальше на северо-восток, тем населеннее и опаснее становилась местность. Но выбора не было.
Человечье железо, оставленное без присмотра, недолговечно. Жесть кузовов гниет и осыпается, мягкое нутро склизнет, пластик крошится. Масло густеет, плесень жрет хилую электронную начинку. Ржавь ест моторы.
Разве только сделанное людьми для убийства людей на диво живуче. И на постаменте, и в подворотне — способно выдержать десятилетия, если не века, и завестись с первой пробы.
Указанный на карте поселок оказался военным городком. Бетонным, кирпичным, равномерно заросшим, нетронутым. Круз полчаса вынюхивал, выслушивал — нет вроде ничего. Ровно и спокойно, как на кладбище. Трава сквозь асфальт, сквозь сетку ограды. Шелуха ржавчины на щитах с лозунгами и предупреждениями. И скелет в каске, уткнувшийся в стекло КПП.
Чаще все армия умирала именно так: до конца цепляясь за привычный порядок, исполняя и отдавая приказы, заменяя непроснувшихся. На втором этаже дома с кирпичной звездой скелет в полковничьих погонах держался за телефон, а скелет поменьше, с погонами уже непонятными, лежал на полу близ подноса со стаканами в красивых потемнелых подстаканниках. Подгнившее знамя на стене. Птичьи гнезда в музее боевой славы.
Удивительно, но в этом месте вовсе не пахло счастьем. Не щекотало ноздри ощущение затаившейся хвори. Она будто ушла, убив. Наверняка никто сюда не заходил лет тридцать, даже вездесущее волчье племя. Пыль, свет, тишь. На складах — ряды ящиков с промасленными, в пушечном сале утопленными банками, цинки с патронами, унылые галереи полушубков, точно сплющенные человечьи тени.
Круз полазил по 66-м ГАЗам. Затем по БМП, стоящим рядком на асфальтовом поле. Когда вылез из четвертой, заключил довольно: «За два дня заведу».
С тем и отправились назад. И успели вовремя — как раз чтобы не дать щенкам выпотрошить Захара. Тот стоял у костра, белей мела, тряся головней, а волки его, поджав хвосты, сидели перед Хуком — огромной темной тучей, выросшей из земли. Правый и Левый с ножами в руках подходили, похожие на огромных котов, — плавные, хищные. Скрючившись, прикрывшись разодранной рубахой, ревела Верка.
— Хватит! — рявкнул Круз. — Кабар в ножны!
— Он ответит, — прошипел Левый. — Он на братову суку полез!
— Я разберусь! Ну?
Правый, вздрогнув, спрятал нож. Левый, хмыкнув, нож подбросил и поймал его, кувыркающийся, за рукоять. Затем все же спрятал.
— О, батя, а народец-то твой без царя в голове, — определил Захар, сопя.
— Ты что сделал? — спросил Круз. — Отвечай!
— Да ничего… пошутковал. Верка-то, все знают, порожняк, с ней все…
— Молчи! — рявкнул Круз, поняв, что произошло. — И слушай меня внимательно, очень внимательно: ты больше женщину, которую называешь Веркой, не знаешь. Ты ничего про нее не знаешь, понял?! И ничего, повторяю, ничего и никогда про нее не говоришь. Она — его женщина. — Круз показал пальцем на Правого. — Только он говорит про нее и решает, что с ней делать. А теперь — подойди. Брось головню и подойди!
— Ты, батя, не серчай, — сказал примирительно Захар, бросая головню, — я их обычаев не знаю, a Be…
Круз ударил. Раскрытой ладонью, коротко и резко. Захар полетел наземь, перекувырнулся кошкой, вскочил.
Серые зарычали. Правый с Левым расхохотались.
— Ты, батя, если прогнать меня хочешь, так и скажи!
— Захар, я хочу, чтобы ты остался с нами. На первый раз ты получил легко. А если дальше думать не будешь, будешь с ним разговаривать.
— Я ему кишки выпущу, — пообещал Захар.
— А я выпущу тебе, — пообещал Круз. — В моей стае кровь друг дружке не пускают, понял? Ты — наш. И если хочешь быть нашим, мотай на ус. Все, урок окончен. Когда имя давать будешь? — спросил у Правого.
— У нее бабьей крови нет. Значит, сегодня, — сказал тот угрюмо.
— Лады, — заключил Круз. — Иди, смени Следа на карауле.
Подошел к Верке. Присел на корточки. Та уже реветь перестала, только всхлипывала тихонько, дрожа.
— Вера, сегодня произойдет важное. Ты только ничего не бойся, хорошо? Ты только слушайся, хорошо?
Верка размазала слезы кулаком.
— Они что, меня все будут чалить? Или только этот, который угрюмый?
— Да нет, ты что. Ты сейчас его женщина. А после того, что будет, он тебя как себя защищать будет, и все его братья тоже. Понимаешь, для них очень важное сегодня произойдет.
— Тоже мне важное, бабе засунуть! Да я хоть кому дам, хошь тебе, прямо щас!
— Вера, послушай меня, — сказал Круз терпеливо. — Ты — его женщина. Никто из нас не станет с тобой, потому что Правый — наш брат. Важно, чтобы только его семя было в тебе. Эти люди… они… то есть мы, вообще редко берем женщину чужой крови. А Правый взял. Это для него очень важно.
— Если важно, чего он так… с кулаками… и рвет. — Верка всхлипнула снова.
— Все будет хорошо, вот увидишь, — пообещал Круз.
Все и вышло хорошо. Верка перестала плакать, послушно скинула с себя драную рубашку и, ежась в лунном свете, зашла вместе с Правым в речную воду. Потом Правый поднял ее, мокрую, принес к костру и уложил на расстеленный плащ. А когда излился в нее, завыл глухо и при всех назвал ее Первой.
Круз дальше смотреть не стал. Должное исполнил, увидел, засвидетельствовал как вожак стаи и, вздохнув, побрел к палатке. Долгий выдался денек. И кости ноют.
Дан бредил. Лихорадка дрожала в его глазах, жгла грудь. Говорил на трех языках про сыворотку, про институт, про чьи-то недоделанные диссертации, про Магду, про трещины в подъезде, про фактор «у-5». Круз достал аспирин с парацетамолом, растворил в стакане воды, влил по капле в дрожащие губы. Сел рядом, взяв влажную старческую ладонь в свою. Через полчаса Дан открыл глаза и попробовал улыбнуться.
— А ведь знахарь, бывший хирургом, точно нас определил, — прошептал чуть слышно, — идем мы искать достойной смерти себе. Чтоб оправдаться… за то, что бестолково зажились… что сделать ничего не смогли. А если сыворотки нет, а? Если она уже никому не нужна? Круз, я скоро умру…
— Ты не умрешь, — объяснил Круз терпеливо. — Ты забудешь про эту простуду через день, а потом мы найдем сыворотку. И этот мир вернется к тому, чем был.
— Спасибо, утешил, — ответил Дан по-русски и улыбнулся по-настоящему.
Хворал он два дня, а на третий Круз завел БМП и компания, погрузившись, двинулась по заросшей сиренью дороге. Вел Круз, морщась от смазочных запахов. Слева сидел Дан, нахохленный, вялый. Справа — След, все разглядывающий проходы и люки, чтоб сподручней выскочить. След машинам не доверял. Зато по-мальчишьи шалел от них Последыш, забравшийся на командирское место и вертевший башней туда-сюда — без надобности, от удовольствия вертеть послушной громадиной. Прочие — и серые, и люди — угнездились в просторном десантном отделении. Волки пошли только после Хука, равнодушно улегшегося вдоль. Но сидения в закрытой коробке они бы не вынесли, потому ехали с открытыми верхними люками.
Хорошая, ровная машина. Повозились, пока снарядили. Но зато идет как по маслу, сносит, давит, мнет — и не дернется. Выскочили на шоссе — и Круз погнал в свое удовольствие. Засады… ляд с ними, это чудо фугасом не проймешь. Да и дорога, судя по виду, годы не езжена. Кто тут ждать будет?
Кто, выяснилось через три часа, когда, выскочив на развилку, БМП чуть не уткнулась в стоящий поперек дороги танк.
12
Круз видел, как умирают люди, привыкшие жить по соседству со смертью, знавшие ее не от больничных палат, а обыденно, по-соседски, с пылью и плесенью по стенам, с равнодушным солнцем. Люди, привыкшие делать то, что люди должны делать в этой жизни, — защищать своих, добывать еду, растить детей, веселиться и плакать. И хоронить.
Круз три года жил под рукой дона Луиса, хозяина огромного куска засушливой каменистой степи с оврагами и колючками, стадами тощих зебу, лошадьми и быками, овцами, деревнями и равнодушными, спокойными, умелыми людьми, в чьих жилах текла невероятная смесь кровей, от норвежской до банту. Всех их степь, выжженная сертау, сделала одинаковыми: немногословными, жилистыми, сухими и точными. Одела в одинаковое, кожаное, похожее на средневековые доспехи — для защиты от колючек местной заросли, ощетинившейся крючьями и остриями. Научила стрелять, и читать следы, и пить вечерами немыслимый сахарный самогон.
Луис был кряжистый, горбоносый, черноглазый, крепкорукий барон, вынырнувший из разбойного шестнадцатого столетия, от каравелл, черных рабов, свар за землю и королевских указов, позволяющих столько земли, сколько сможешь ухватить. Он говорил — и его слушали. Когда приходило время важного, собирал главных своих людей, слушал, что скажут, и решал — как во времена Реконкисты. Он много лет был местным депутатом, заседал и исполнял — однако новые слова никого не обманывали. Как и его деды, он был сеньор земель. За спиной дона Луиса стояло шестнадцать поколений предков со шпагой на боку, чьи имена были аккуратно вписаны в родовую библию.
Луис не был хорошим человеком, но был щедрым, заботливым и точным хозяином, ценившим своих людей по достоинству. В первый год, когда пришлось много стрелять, Круз быстро занял место у правой руки дона Луиса. В тот год больше умирали от пуль, чем от счастья. Может, оно боялось пустыни?
С побережья лезли и лезли обезумевшие люди: и вооруженные до зубов, и просто беженцы. Первых расстреливали, вторых пробовали уговорить. Уговоры почти всегда заканчивались стрельбой. Дон Луис позволял принимать тех, кто приходил в одиночку, — но никогда не пускал толпу. И поставил Круза над десятком, когда убедился в умении Круза делать засады и минировать.
В тот год Круз убил много людей. Получил кусок железа в правую лопатку. Женился на Дениз, белобрысой крошечной вдове, двоюродной племяннице дона Луиса. Возглавил поход за патронами, стоивший пяти жизней и двух грузовиков. Отпраздновал Рождество, научился кидать болас.
А потом пришло счастье. Месяц никто не совался с побережья, на берегах огромного водохранилища реки Сан-Франтишку не появлялись чужие. И вдруг — не вернулся посланный к дамбе патруль. Дамбу держали люди дона Луиса с одной стороны, люди дона Бернардо — с другой. За плотиной следовало приглядывать. Дон Луис выслал Круза с командой. А те нашли погасший костер в ложбине и пятерых улыбающихся во сне людей. Муравьи уже начали поедать их пальцы.
Счастье встало над степью как невидимый снайпер. Но люди сертау умирали спокойно. Мужчины спокойно заменяли тех, кто не встал поутру. Никто не бежал, не плакал.
Через год Круз похоронил Дениз, так и не сумевшую понести Крузу ребенка. Еще через полгода Круза позвал дон Луис, постаревший и едва встававший с кресла.
— Господь не дал мне сыновей, — сказал дон Луис. — Но он послал мне тебя. Мне кажется, ты останешься последним мужчиной в этом доме. Не оставляй его. Защити.
— Не оставлю, — пообещал Круз.
Судьба пощадила дона Луиса. Он умер не от счастья. Служанка, принесшая завтрак, не увидела блаженной слюнявой улыбки на его лице.
А Круз жил и смотрел, как умирает его народ. Когда не осталось способных следить за плотиной, раздувшаяся от дождей река прорвалась. Чудовищный водяной вал выскреб долину, унеся обломки в море. К тому времени у Круза еще было восемь мужчин, способных держать оружие. Через три месяца — двое. Еще через три — Круз остался один с четырьмя женщинами и восемью детьми. Круз доил для них коров и резал кур.
Счастье достало и тварей, привычных к людям. Овцы вымерли быстро и странно, сбиваясь перед смертью в кучи, громоздясь друг на дружку. На коров и зебу зараза не действовала вовсе. Но вымерли тараканы — и обычные, домовые, в два сантиметра, и огромные крылатые, в палец длиной, обитающие на помойках и в выгребных ямах. Круз, убедившись в том, долго смеялся. Не тараканам ли, древнейшим и живучим, предрекали остаться на земле после человека, учинившего самоистребление? Тараканы неимоверно устойчивы к радиации и отравам. А вот, поди ж ты, доконало их человеческое удовольствие. Впрочем, человеческое ли? Поощрение удовольствием за полезное выживанию дело — самое древнее устройство живого. И люди, и тараканы радуются одинаково — себе на горе.
Странно действовало счастье на детей. В одних — словно просыпалось медленно, мутило рассудок, отяжеляло движения. У других приходило внезапно, как у взрослых. Некоторых не трогало вовсе до времени, когда появлялись первая месячная кровь или поллюции.
Круз хоронил своих на холме за старой церковью, выстроенной еще иезуитами в восемнадцатом столетии. Раскапывал красную землю, клал завернутые в простыни тела. Ставил поверх камни с высеченным крестом и именем умершего. Дети быстро привыкли к смерти. И, ссорясь, обещали друг дружке, что завтра кто-то не проснется.
Тогда Круз еще не знал, что женщина может спастись от заразы, пока беременна. И потому остался с четырьмя детьми на руках. Младшего кормить пришлось из соски.
Когда пришли дожди, он умер от желтой лихорадки. Круз, хотя и привитый, тоже провалялся неделю с температурой, а когда встал, забрал троих оставшихся, снарядил лошадей и отправился на север.
13
Танк был мертвый. Со спущенной гусеницей, с дырой под катком. Горелый. Но раскрашенный веселенькими цыплячьими красками. С букетиком в задранном дуле.
Поодаль торчал еще один, с башней набекрень. И развороченный броневик, зияющий пустым нутром. Трава проросла сквозь траки.
Круз сдал задом. Осторожно. Медленно. И вдруг — под левой гусеницей хлопнуло. Круз рванул. Развернулся. Хлопнуло снова.
По броне застучали. Круз, отъехав, остановил. Из башни раздалось:
— Ты че, батя? Волков моих гонишь?
— Мины, — ответил Круз. — Пехотные пустышки. Чепуха.
— Так чего на мины-то? Не знаешь, что ли? Не знаешь, так меня бы спросил!
— Чего не знаю?
Ругнулся Последыш, и сверху, пыхтя, появился Захар — ободранный, с мазутным пятном на щеке.
— Чего погнал, батя?! Пеструн мой выскочил, щас по лесу звать его, пока успокоится. А тут везде убойных штук понатыкано, мин, по-твоему. Там же город, шибздики там живут, живого не знают, мертвечину жрут. Отгородились, ети их! Говорят, воевали здесь, когда время железа пришло, шибздики отбились, но не просто так, а стали шибздики, а раньше нормальные были, ну как мы, а теперь нас не пускают, и…
— Стоп! — рявкнул Круз. — Ты знаешь эти места? Где можно объехать, чтоб мин не было?
— Знаю. Только Пеструна пойду покличу, а то ошалеет или на мину нарвется. Ты, батя, подожди, а?
— Подожду, — согласился Круз, вздохнув.
Встали в заросли кустов за обочиной. Захар побежал в лес вместе с двумя волками, искать перепуганного третьего. Младшие щенки привычно разбежались по сторонам — сторожить. А Верка, хихикая, гладила травиной щеку Правого.
— Мы им не нужны, — сказал Дан, улыбнувшись грустно. — Мы никому уже не нужны. Даже самим себе.
— Ты как? Тебя не очень растрясло? — спросил Круз.
— Солнце светит. Зелень свежая. Как в детстве совсем, — сказал Дан. — Я так легко себя чувствую — не поверишь. Ветер дунет — и поплыву.
— Тебе с сердцем плохо? Голова кружится?
— А-а… — Дан махнул рукой. — Смотри — даже Хук мой ушел за своей новой стаей. Без нас этот мир не вспомнит, кем он был.
— Значит, мы заставим этот мир вспомнить, каким он был!
— Он был с бетоном и асфальтом вместо этого. — Дан показал на молодую листву. — Был с пробками, смогом и телевизором. Но я в самом деле хочу видеть его таким. Хочу утреннюю суету, и новости за кофе, и скрипучий лифт, и галдеж в пивной. Гнусные мы старцы, правда?
— Не без того, — согласился Круз.
То, каким был мир, они увидели скоро — еще до заката, после долгого, осторожного протискиванья по заросшим проселкам и проездам, после сбивчивых Захаровых указаний, сомнений и тупиков.
Лес не тронул этого места. Трава не пробилась сквозь бетон, и огромная серая бетонная глыба стояла под небом, будто вывалившись из Крузовой памяти, — холодная, чужая, уродливая. Лес все же робко крался сюда. Просовывал ветви сквозь проволоку изгороди, хватался за узкую полосу земли до бетона. Но тот дышал мертвым, машинным, не подпускал к себе, и огромное поле осталось ровным и чистым. А на нем, лишь чуть потемнев от непогод, стояли сродные небу: крылатые, гладкие, сильные. Солнце плескало в стекла, запивало огнем гладкий дюраль.
— Останови, — попросил Дан.
И, выбравшись на броню, сел, глядя на взлетную полосу, на застывшие тела лайнеров. Выговорил удивленно:
— Каким же я был глупцом! Не поверишь — я боялся летать!
А Круз тянул ноздрями воздух, крутил головой. Здесь было чисто. Совсем. Так, что щипало ноздри. Будто годами жил в подвале и вдруг шагнул наверх, к свежему ветру. Счастье не тронуло этого места.
Люди ушли отсюда, ничего не разорив и не тронув. Сюда никто не приходил, никто не искал припасов и жилья. Люди будто отправились отдыхать, закрыли на воскресенье магазины, кафе и кассы, — но забыли вернуться. Стояли рядами бутыли с разноцветными этикетками, обросла шубкой пыли соломенная кукла. Струились по бедрам манекенов платья под витринным стеклом, соблазняли позолотой конфеты. За кофемолкой громоздилась пирамидка чашечек, и, мохнато-глянцевая, красовалась посреди мраморного зала округлая уютная городская машинка, куценосая «хонда», похожая на дамскую сумочку.
— Злое место. Неживое, — определил Захар, крутя головой.
— Мы жили в таких, — ответил Круз.
— Хреново жили. Ишь, громада какая. Тут мертвецы небось надышали.
— Поди посмотри, как там волки твои, — посоветовал Круз.
Захар, бормоча под нос, исчез. А Круз поднялся на второй этаж, прошел мимо пустых касс, мимо почты, мимо компьютерного зала, мимо офисов. В автомате «кока-колы» торчала банка. Вынул, открыл — нормально. Прохладная, покалывает язык. Срок хранения — вечность.
Уселся в кресло рядом с огромным окном.
Смеркалось. С другой стороны, от подъездов, лес подступил вплотную. Кусты карабкались по виадуку. Тени ползли от щетинистых древесных макушек, слеплялись в зябкую текучую темень. Круз не хотел к ней. Ему было хорошо и уютно за стеклом. Когда-то он любил смотреть на дождь за окнами аэропорта. Аэропорт был как провал в тревогах и хлопотах. Отнимал у жизни всякий смысл, кроме ожидания, заполнял ее блеском и мишурой, одинаково чужими и близкими всем, кто окунался в них.
Так бы и заснул в кресле. Но позвали вниз. Ни щенки, ни Захар с Веркой не хотели спать внутри. Устроились в молодом леске у подъезда, развели костер. Натащили снедь в обертках, откупорили бутылки. Верка притащила кучу платьев, примеряла, хихикая, а Дан, сделав серьезное лицо, показывал, как цеплять чулки к поясу. Закрутила юбками, вся белая, кружевная, в перчатках. Бросилась Правому на шею. Тот покраснел.
Круз с Даном, переглянувшись, чокнулись коньяком «Курвуазье». А спать Круз все-таки пошел под крышу, в крохотную башенку милицейской караулки на подъезде. И увидел во сне, как медленно-медленно переступает по жестяному коридору вместе с длинной вереницей желающих загрузиться в исполинский пузатый «боинг».
Проснулся от тарахтенья. Далекого, но отчетливого двухтактного тарахтенья, такого же невероятного, как уцелевший, ничьей смертью не оскверненный аэропорт.
Проверил железо. Выбрался, залег в кустах. Рядом мелькнуло среди ветвей лицо — След со стволом на изготовку.
На дороге показался человек на мотороллере — низеньком, округлом, с крошечными колесиками. Человек подъехал к въезду на второй этаж, заглушил мотор. Слез. Поскреб седую щетину на подбородке. Встал, задрав голову, глядя на почернелый бетон, воткнутый в небо.
Человек был морщинист и бесцветен до желтизны. Даже его глаза — наверное, голубые когда-то — теперь отсвечивали блеклой желтизной.
Человек обернулся. И крикнул:
— Кто здесь? Не бойтесь, я не причиню вам вреда!
Круз махнул Следу — все в порядке — и встал. Закинул винтовку за плечо. Шагнул на дорогу.
— Я так думал — кто-нибудь из прежних, — сказал человек, улыбаясь.
Человека звали Дмитрий Сергеевич Павловский. Он часто смеялся. И когда рассказывал сам, и когда слушал. Вздрагивал косматой головой, хлопал в ладоши. Он жил в городе, огороженном горелыми танками и минами, и подтрунивал над Захаром, скрещивавшим пальцы и плевавшим через левое плечо. Жадно расспрашивал про далекое и близкое, приставал к Дану, поедал конфеты из разоренной аэропортовой лавочки и непрестанно удивлялся: волкам, броневику, палатке, очкам на носу Дана, а пуще всего тому, как Круз с компанией добрались до аэропорта.
— Ведь мины, везде мины. Аэропорт между первым и вторым поясами, если не знаешь, пробраться невозможно. Надо проверять, наверное, скисли фугасы. Старье. Как мы сами, ха-ха.
После Седьмой войны все минами обложили, три пояса, а как иначе? Держаться сил не было, а теперь доживаем спокойно. Мины — с ними шутки плохие, даже дикари быстро усваивают, правда, мужчина Захар?
Захар демонстративно не обращал внимания, чесал пугливого Пеструна.
— Дикарей снова много стало. Мы боялись уже — повымерли все, а тут гляди, с востока одни, потом другие. С севера, из лесов, вовсе неандертальцы пришли. Одна напасть за другой. Дети безумные…
Теперь приходится до рассвета выезжать, чтоб в аэропорт попасть. Чтобы опасный кусок, где пояса выгибаются, проскочить затемно. В темноте сюда никто не рискнет — кроме таких, как вы, конечно. Но вам повезло, даже не знаю, как повезло. А я вот приезжаю, на небо смотрю, на самолеты. Хорошо здесь. Спокойно. Как раньше совсем. Я в молодости аэропорт этот ненавидел — до чего громада убогая, хоть фильм ужасов снимай. А теперь вот — самый дорогой кусочек. Да ничего, раз забрались, так берите. Все ваше, что нашли. Это мелочи. А вы, Дан, за вакциной направились? Как интересно! Про вакцины вам стоит с нашим Григорием Яковлевичем поговорить, честное слово. Он еще работает, и группа у него, да… И куда вы за штаммом? Сами толком не знаете? К Аралу? Или в Сибирь? Опасно там. Не поверите — там коротковолновики снова оживились. Четыре новые точки. А вы и не знали? Чем вы там в Давосе своем занимаетесь? Кстати, это ваш: хрен-борис-андрей-три-хрен-борис-зина? Ваш, спрашиваю, позывной? Ну-у… у меня две радости в жизни и осталось: на ресивере сидеть и сюда ездить. Все-таки хорошо жить даже старой развалине! Вот вас встретил. А то б убились, пожалуй. Вы вообще вовремя: ярмарка у нас. Представьте, мир на две недели, никто не лезет с трещотками. Вам стоит посмотреть, да. Ну, спасибо за чай и конфеты, а пока схожу на самолеты гляну. Потом и поедем вместе, проведу вас между фугасами. Ну, пока!
И пошел — уверенно, бодро. Насвистывая.
— Шибздик, — буркнул Захар вслед и сплюнул.
Ярмарка оказалась захламленным пустырем под ровным округлым холмом, увенчанным обелиском с перекошенными, огромными бетонными лицами у основания. На вершину вела спиралью дорожка, огражденная кольями. На них болтались черепа, людские и звериные, перевязанные ленточками, раскрашенные.
— Пойдемте наверх, — предложил Дмитрий Сергеевич. — Вам это будет исключительно… полезно, скажем так. Да, полезно.
— Я, пожалуй, воздержусь. Мне кажется, я уже знаю, что там увижу, — ответил Дан, нахмурившись.
— Я туда не ходок, батя! Я их знаю! — выпалил Захар.
Дмитрий Сергеевич улыбнулся.
— Я один пойду с ним, — объявил Круз. — А вы — чтобы спокойно и никто ничего не начинал без крайней нужды. Поняли? Последыш, тебе особо: башней не крутить, и ничего такого, ясно? Все.
Подниматься оказалось на удивление тяжело. После чистоты аэропорта душная, едкая вонь залегшей отравы мутила, кружила голову. Уже когда петляли вслед за мотороллером, выбираясь из окольцевавших аэропорт минных полей, Круза едва не вырвало. А тут от вони закладывало ноздри.
— Сюда немногие смеют подняться, — заметил Дмитрий Сергеевич ободряюще. — Ничего, скоро доберемся.
И расхохотался.
У самой вершины Круз стал передохнуть. Огляделся. Сверху виднелось все ярмарочное поле — вытоптанное, огороженное ржавыми, покореженными авто, с навесами там и сям, кусками тряпок и драной пленки на кольях. В углу стояло с полдюжины телег, толпились одетые в лохмотья люди, бродили собаки и козы. На расстеленном брезенте блестели под солнцем тарелки, громоздилось железное барахло. Из бочки насыпали зерно, кучка оборванцев махала руками, показывая на тощую печальную корову.
— Пойдемте, еще немного, — позвал мягко Павловский.
Круз пошел. А дойдя, схватился за осклизлый кол с черепом, потому что от взрыва вони будто шибанули по голове мешком и задрожали колени.
— Вы… вы оставляете их здесь? — прошептал он. — Зачем?
Вся верхушка холма, плоское взлобье, укрытое бетоном, было завалено костями, догнивающими трупами. Из-за кучи костей — Круза передернуло — торчала розовая, еще не тронутая тленом женская нога. А перед бетонными лицами, привязанные к треногам из арматуры, сидели тусклые. Шестеро, трое мужчин, три женщины. Совсем молоденькие. Двое еще дышали, мерно двигали грудиной. И улыбались.
— Это кладбище. Всего лишь, — сказал Павловский мягко, улыбаясь. — Вы же слыхали, наверное, что зороастрийцы предавали мертвых небу. Наши деды устроили здесь святилище мертвых. Мы не сделали ничего нового — разве что не стали прятать мертвое под землю. Зато дикарей теперь держат не только мины. Они клянутся богом мертвых, что не нарушат мира, — и верят в клятву. Их сюда не затянуть под страхом смерти, такой вот каламбур, да-с. А что делать? Нас мало, и становится все меньше. А дикари научились плодиться… как крысы, как кролики! Мы последние, кто на этой земле еще держится за настоящее человеческое! Мы…
Павловский вдруг замолчал. Посмотрел виновато и добродушно.
— Вы уж извините. Стар стал, забываюсь. Познакомьтесь, наши жрецы, — показал пальцем на почернелую площадку под самым обелиском.
Круз вздрогнул — и не заметил сперва, вот же! У мелкого синюшного огонька сидели двое — черно-серые, замызганные, с винтовками на коленях. Поднялись.
— Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, — прохрипел один, вытянувшись, приложив руку к берету.
— Здравствуй, Илья. И ты, Петр… отставить, можете сидеть. Это наш гость, прошу любить и жаловать.
— Чай будете? — спросил Илья, показывая на стоящую у огня жестянку.
— Спасибо, я… я завтракал, — ответил Круз.
— Спасибо, Илья. У наших гостей нет времени. Они заняты самым важным делом. Они хотят спасти наш мир — как и мы. Мы должны помочь им.
Оба замызганных согласно кивнули.
— Пойдемте, Андрей Петрович. Вы, надеюсь, понимаете, что всем вашим спутникам вовсе не обязательно идти в город. Лучше, если пойдете вы с господином Даном. Уверяю, вы не пожалеете.
Щенки и вправду обрадовались, когда их не позвали в город. Они не доверяли остаткам прежней жизни, хотя и смотрели на них с детским восхищением и боялись человеческой, угловатой высоты. Последыш снова согласился не крутить зря башню и, конечно, ни на что не давить. Захар бормотал угрюмо. Серые поскуливали, глядя на Хука, — но тот пошел за хозяином. Послушно залез в свежевыкрашенный урчащий УАЗ, выделенный для гостей.
Смерть застряла в этом городе. Руины не зарастали кустами и сорной травой, дожди не смыли копоть с бетонного крошева. Каменные скелеты висли над заваленными улицами, и памятником торчал у въезда на мост вздыбленный, раскореженный броневик.
— Его сжег я, — сообщил Павловский хмуро, притормозив.
Открыл дверцу, показал рукой.
— Я вон там лежал, на склоне. Последний из расчета. Всего семеро выжили из державших мост. Но за него никто не прорвался.
— Зачем воевали? С кем? — спросил растерянно Дан с заднего сиденья.
— С безумием, — ответил Павловский. — Вначале было много безумного. Андрей Петрович, наверное, знает.
— Знаю, — согласился Круз.
— Мы не стали восстанавливать районы за кольцевой дорогой. Просто проложили минный пояс по ней. Зато за ней… смотрите сами.
Круз посмотрел. Но ничего не сказал. Он многажды видел трупы городов. Сотня, пусть тысяча человек, оставшаяся в теле миллионного города, не может оживить его. Люди — кровь города. С одной каплей в жилах существуют разве что упыри.
14
Город умирает быстрей человека. Без ноги, руки — человек ползет, скрипит зубами, цедит воду из лужи, обматывается тряпками, грызет траву. Мегаполис умрет от ущерба в одну тысячную его живой ткани. Оборвутся почти невидимые нити, соединяющие продающих и готовящих еду, перестанут спешить по утрам фургоны, не откроются двери, за которыми шеренги банок и ящиков, — и жизни городу от силы неделя. Вода, тепло, свет, подземное движение человеческих отходов — хрупкие, ущербные органы города. Многие ли в миллионном человеческом муравейнике озабочены их поддержанием? А без этих немногих муравейник становится кладбищем и люди начнут убивать друг друга, чтобы вырваться из него.
А иногда удирать из города некуда.
Круз с тремя детьми четыре месяца пробирался по сертау. Младшему, Сезару, шесть. Габриэле — десять. Маркусу — двенадцать. Круз боялся, что на побережье не сможет защитить их, и потому решил двигаться напрямик, на север, чтобы сплавиться по притокам Амазонки, добраться до Манауса — и дальше, к морю. Наверное, зря. Время стрельбы уже прошло.
Впрочем, Маркус хорошо стрелял. Круз нашел для него мелкашку 5.56, и парнишка ни патрона не потратил зря. А еще он умел кидать бола, ловить ящериц тегу, разбивать им головы камнем и свежевать. У тегу вкусное мясо, лучше куриного. Габриэла тоже научилась стрелять, но от нее проку было немного — она была крохотной, как многие здешние девочки с индейской кровью, и едва поднимала револьвер. Малыш Сезар и то был больше ее. Зато она часами могла усердно собирать кузнечиков и растирать зерно камнем. И обыскивать сверху донизу и мальчишек, и Круза, отдирая приценившихся клещей.
Клещи, термиты, по ночам норовившие сожрать пропотелую одежду, колючки, солнце, редкие ливни — падающее с неба озеро, мгновенно превращающее ложбины в ревущие реки. А стрелять не в кого. Разве что в наглого ягуара, средь бела дня задравшего лошадь и поленившегося удирать дальше ближайших кустов.
Сперва прятались, потом шли по проселкам. Потом по шоссе. Затем, вконец осмелев, выбрались на трансамазонскую 317-ю магистраль, грязный разбитый большак, после дождя превращающийся в непролазное болото.
Выходя, Круз предполагал засады, банды, ошалевшую толпу, бойню и работорговлю. А за четыре месяца встретил живых людей лишь трижды.
Земля стряхнула людей. Скатила в ложбины, на пол. Рассыпала костями вокруг костров, усыпила на сиденьях. Иногда — разодрала пулями, сожгла, растерзала. Но чаще — упокоила легко и навсегда.
Круз не был способен к настоящему отчаянию. Но от рассудка, от глаз нутро будто проткнула тонкая ледяная игла. Странно, нелепо, тошно. Почему никого нет? Даже при лютейшей чуме кто-нибудь обречен остаться. Он, Круз, остался. Дети остались. Почему же нет ни кого вокруг? Люди сбежали? Но куда? Жители побережья стремились в глушь, искали спасения. Их убивали. Но куда делись люди глуши? Станции, деревни, города, заполненные мертвыми. Что они сделали с живыми?
В крохотном городке у аэропорта Круз в поисках пищи и бензина забрел в ангар. И вышел, осторожно закрыв за собой дверь. За нею в огромном, закрытом жестяным куполом зале сидели, скрючившись, укрывшись истлевшей одеждой, сотни, тысячи скелетов под тусклыми, намалеванными на стенах крестами. А на окраине этого городка увидел чернокожего в драной сутане. Крохотного негра с глазами пропойцы, трясущегося, иссохшего, босоногого. Он сидел под акацией и читал из книги, не глядя в нее. Напевал, бормотал заунывно, сочленяя латынь в бесконечную звучную цепь. Увидев Круза, перекрестился и сообщил грустно:
— Ты тоже пришел увидеть мой позор.
— Вам помочь? — спросил Круз по-португальски и повторил по-испански.
— Поможет мне Бог в безграничном Его милосердии, — ответил негр. — За грехи мои он возложил печать на мое чело. Она горит. Она горит и на тебе, незнакомец. Скажи мне, почему ты жив? Почему жив я? Почему? Они все уснули, все, Господь забрал их, а я, пастырь, здесь, на ржавой земле… Почему?
— Нам нужна еда, — сказал Круз.
— В домах мертвых вдосталь еды. Господь не бросит отмеченных печатью, число их сто сорок четыре тысячи. Или вы пришли за покоем? Тогда вам не нужна еда. Идите к другим, лягте, закройте глаза. Господь даровал рай. Все ушли. Все. Кроме меня.
Негр подхватил пригоршню красной пыли и деловито сыпанул на себя.
— Прах. Из праха в прах.
— Тут есть еще кто-нибудь кроме тебя? Живой, я имею в виду? — спросил Круз терпеливо.
— А я разве жив? — Негр расхохотался. — Душа моя гниет внизу, там, глубоко. Тело мое здесь. Они все были. Были. Метались. Были звери и гады в обличье. Но — Господь послал утешение. Мы говорили Слово Божье. Утешали мятущихся и ушли вместе. Но Он не взял меня.
— Если вы не против, я возьму грузовик, который у церкви стоит. Я вам лошадей оставлю.
Негр молча пожал плечами.
Круз полдня возился с грузовиком. Сливал остатки бензина из машин. Таскал канистры. Сезар с Габриэлой играли в футбол чьим-то черепом. Маркус бродил по домам, собирая в рюкзак уцелевший провиант. Негр пришел, уселся на ступеньки и пил из бутыли, продолжительно хихикая. Потом плюнул вслед и растер в пыли.
В поселке, выросшем у брода через лесную реку, Круз повстречал парочку янки, одинаково верзилистых, белобрысых и веснушчатых, смутно отличимых по половой принадлежности. Женскую версию звали Джей, мужскую — Джо. Или наоборот, Круз не разобрал. Они сидели на ящиках под полосатым зонтом и пили баночное пиво «Брахма». Выпив, кидали пустые банки в кучу уже с человеческий рост. Вспомнивший негра Круз поздоровался с ними крайне осторожно, но пара оказалась вполне вменяема, здравосмысленна и — о чудо! — знала, что было, что есть и куда нужно ехать. А у переправы они застряли на месяцок потому что: а) сезон дождей, б) три фуры с пивом, чудом оказавшиеся посреди этого нигде. Хотите пивка?
Круз захотел. И выпил. Пиво показалось неплохим. Янки — тоже. Они были кем-то вроде этнографов и хорошо умели стрелять из пулемета «браунинг», привинченного к джипу. Они объяснили Крузу, что жили у индейцев шингу, что время белых прошло и что индейцы займут все земли снова. Индейцы иммунные. Не все, но есть. Они бога позвали, Хуарачи. Бог плохих белых убил, а хорошим послал пива.
Мужская версия, ухмыльнувшись, пояснила, что беглецы караванами ринулись в самую глухомань, но вскорости кинулись обратно — кто выжил, конечно. Жрать неумелому в здешнем лесу нечего. Было много стрельбы и резни. От отчаяния, надо думать. Святоши орали, что пришел конец света и хоть напоследок надо помириться. Народ слушал — и дох толпами. Может, они чем травили. А может, и не травили. Как эта зараза действует, никто не понял и не знает. Может, как успокоились и поняли, что крышка, ею-то и накрыло. Она беспокойных не шибко берет, эта зараза. А тех, кто руки сложил, — за так. Тех, кто пиво любит, тоже не берет. А тех, кто не любит, за так тоже. Вот, с нами Бонго был, из Флориды. Баптист. Воду только пил, и ту кипяченую. Жил-жил, машину вел, утром смотрим — по глазам мухи ползают. Все. А мы пиво пьем.
Мужская версия жирно реготнула и предложила еще пива.
Янки здорово помогли. Места знали, карты имели, детей развлекали. Вот только вели себя так, будто одни на земле. Испражнялись чуть ли не где стояли, по жаре щеголяли вовсе голые. И очень, очень неприятно совокуплялись: пыхтя, чавкая и на виду. Круз не отгонял детей. Видевшие столько смерти пускай посмотрят и на жизнь. Но когда поймал Маркуса с Габриэлой, голых снизу и напряженно щупавших тайные части друг дружке, отвесил обоим по оплеухе.
Уходили Джея с Джо любимые ими индейцы. Может, те самые, может, нет. Тоже ценители автоматического оружия. Но мужскую версию они прибили по старинке, дубиной из обожженного дерева.
Индейцы пришли, когда Круз с детьми и янки торчали на очередной переправе, размышляя, как перетянуть на свою сторону паром. Восемь мужчин — раскрашенных, голых или в лохмотьях, двое с автоматами АК, остальные с копьями и луками. Говорили дружелюбно, смеялись. Янки хохотали с ними, предлагали пиво — фуру они так и не бросили. Индейцы показывали пальцами, гладили пулемет. Подарили Габриэле попугая с выщипанным хвостом.
Что именно случилось, Круз так и не понял. Женская версия вдруг взвизгнула тоненько, по-поросячьи. Из-за джипа выскочила версия мужская, с кровью на лице. Упала. Раскрашенный мелкий индеец прыгнул сверху, хряснул мокро дубиной. Потом закричала Габриэла.
Круз застрелил двоих: одного автоматчика и одного с бамбуковым копьем, проткнувшим Маркусу шею. Погнался за третьим. Кинулся назад, за Сезаром, потом за двумя, уносившими Габриэлу. Потом упал на колени на речном берегу и зарычал. По зарослям индейцы бегали куда быстрее Круза.
Женская версия еще хрипела, держась за разодранный живот. Круз присел на корточках, глянул. И воткнул ей в шею три дозы морфина из аптечки.
Маркус уже не дышал. Лежал в алой, быстро буреющей луже, глядя в солнце.
Круз похоронил его на невысоком холме над рекой. В могилу положил мелкашку 5.56. Водрузил крест из пары арматурных прутьев.
Потом переплыл на надутой камере от фуры реку, перегнал паром и уехал на джипе, загрузившись бензином и пивом.
Живых больше не встретил до самой Амазонки. По ней поплыл на моторке, перетащив на нее «браунинг» с джипа и последний ящик пива. И, едва не захлебнувшись в ураганном ливне, прибыл в город Манаус.
Из столицы бразильской Амазонии — непомерно раздутого, грязного, душного города, обсаженного заводами, — трудно уйти или уехать. Из него улетают, уплывают. Дороги из Манауса ведут на север, через сельву к столице сельвы еще горшей, и на юг, через Амазонку, сельву же и пустынную бесконечную степь.
Через степь и лес Круз уже прошел. И хотел на север, чтобы попасть в Венесуэлу, а от нее — туда, где когда-то Круза ждали. По нужде в жизненной цели Круз решил добраться туда. И потому пошел через город Манаус, оставив «браунинг» на моторке.
Манаус населяли мертвые. Больше всего их было у воды. Кости, обрывки, обломки, остатки, лохмотья лежали слоем в полметра, местами больше. Круз давил ботинками черепа. Похоже, либо мертвых несли к воде, либо еще живые сбежались сами. Куда они собирались удирать?
А город остался почти таким, каким был, — минус суета. Тот же почернелый бетон многоэтажек. Асфальт, закопченное стекло, тесные площади, тесные улицы. Никакой зелени. Хоть город — в сердце леса, зелень выдавили за его кольцо. Залили, закатали, стиснули мягкую землю, вбили сваи в речной берег. А мертвая вонь окутала дома и заборы, закрыла от времени.
Город-зомби. Он шевелился. Лязгало, шуршало в скопище покинутых машин. Мелькали огни. В тяжелом, напитанном влагой воздухе рождались голоса — пустые, будто прыгающий по стенам мячик. Круз не выяснял, не искал. Отыскал еду на задворках заваленного костями супермаркета. Завел забытый среди улицы «пахеро». Не желая выезжать в ночь, переночевал на седьмом этаже, натянув растяжку на лестнице. Выходя, спросонья чуть сам ее не сорван. И, выходя, кляня себя сквозь зубы за головотяпство, услышал лязг. Упал, вывернулся — и высадил пол-обоймы «глока» в захлопнутую ветром дверь.
Янки соврали. Индейцы не были иммунными к счастью. По крайней мере, те, чья кровь текла в жилах трех четвертей жителей Манауса. Счастье убило их так же быстро, как и жителей Байи. Много лет спустя лысый старик, крутя ручку настройки протезом, объяснил Крузу, как именно срывается невидимая растяжка в теле, как выдергивает чеку из счастья, мирно дремлющего в крови. И почему банту, тупи-гуарани и прочие племена разной степени тропического умирали быстрее и повальнее тяжко алкогольных шведов.
Бредя сквозь беспокойную смерть Манауса, Круз об этом не думал и не заботился думать. Он решил, что жить нужно, — и потому, продравшись закоулками, выбрался на северное шоссе, на двадцать километров забитое брошенными машинами. За день он протиснул «пахеро» сквозь автозавалы и уехал в лес.
15
Город за тремя поясами мин тоже был беспокоен в смерти. Чихал где-то дизель, вился дымок. Трое прохожих осматривались опасливо, смердела на углу свежая кучка кала. Еще в городе был Григорий Яковлевич, ветхий, в роговых очках. Опираясь на трость, он шел через проспект, глядя на светофоры, смотрел на часы, протискивался в калитку и, упираясь, тянул на себя исполинскую институтскую дверь.
— Он каждый день на работу ходит, — прошептал уважительно Павловский, — мы для него генератор заводим. Компьютеры работают. Сеть сделали, локальную — новости для него выкладываем, как бы из Интернета. Он почитает, потом собирает сотрудников на планерку. Потом сидит до девяти вечера, пишет, в лаборатории занимается. Все как раньше. Для нас всех он… он как талисман. Как то время.
— Он шизофреник? — спросил Дан любезно.
— Он здравосмысленнее нас с вами. Просто он видит мир немного по-другому. Благодаря ему живут мой город и я. Возможно, благодаря ему удастся достичь своего и вам. Вы идите к нему на прием. Потом с нашими поговорите, которые в его группе. Не пожалеете.
Круз не пожалел. Чай был вкусный. Уже и забыл, когда пробовал настоящий зеленый чай, с крупными ровными ароматными листочками, искусно заваренный тоненькой девушкой в прозрачной белой блузке. Еще у девушки были юбка на узеньких бедрах, скромный маникюр и шпильки длиной с ладонь.
Чай пили молча. Григорий Яковлевич улыбался. Кушал кусочек шоколаду. Поправлял очки. Поставил аккуратно чашечку и, глянув в закрытую дверь, спросил:
— Вы нас не очень испугались?
— Нет, что вы, — ответили Круз с Даном в унисон.
— А я нас боюсь, — сообщил благодушно Григорий Яковлевич, блестя лысиной. — Я застрелиться хотел. Проще оказалось сойти с ума. Мы сейчас плавно сползли в родоплеменную бытность. А в ней безумцев почитают священными. Еще шоколаду? «Победа», московский. Срок хранения — вечность. На моей памяти вы — седьмые искатели чудо-лекарств. Наверное, последние уцелевшие. Я тоже из таких. Только я понял, что искать лучше сидя.
— И каковы же результаты ваших поисков, коллега? — осведомился Дан.
— Вакцина возможна, вне всякого сомнения. Только она: а) бесполезна, потому что опоздала; б) может спровоцировать эпидемию, которая бедное человечество вовсе добьет. Кстати, вы, наверное, и тесты с собой принесли. Хм, а какие, можно поинтересоваться?
— Можно, — ответил Дан и рассказал.
Григорий Яковлевич слушал, благодушно улыбаясь. Затем спросил. Дан ответил. Спросил снова. Дан задумался.
Круз допил чай, пожевал шоколад. Принялся рассматривать полки. Старики, раскрасневшись, втолковывали друг другу. Дан выхватил листок бумаги, принялся чертить, брызжа слюной. Круз смотрел. Потом задремал.
— …А вы как считаете? — спросил грозный голос.
— Я? А? — всполошился Круз.
— Ну зачем за пистолет? — укорил Григорий Яковлевич. — Оно сразу видно.
Но не уточнил, что именно видно.
— Андрей, мы поедем в Москву, — сказал Дан убежденно. — Там коллекция. Коллега говорит, что там работают. И держат связь.
— Да, да, — подтвердил Григорий Яковлевич, — коротковолновики, да.
— Вы серьезно?
— Да! — объявил Дан.
— Как скажешь, — сказал Круз тоскливо.
— Андрей Петрович, у меня к вам маленькая просьба. Не сочтите за труд, пожалуйста. Вам ничего не стоит, а нам будет очень, очень полезно. Не могли бы вы осеменить мою Леночку? Девушку, которая приносила чай? У нее плодородное время, и как раз вы вовремя…
Вечером Круз сидел под зонтиком на круглой площади с каменным штырем посередине. Штырь был четырехгранный, шершавый и надгробный. Под ним тоже были каменные лица, как на кургане. Костей не валялось. Но зато чадил мерный мазутный огонь.
Круз пил чай. Чай наливала Леночка, причесанная и застегнутая. Но пахнущая Крузом и совокупительным женским потом. Это было приятно. Неприятно было, что рядом пили жижу из банок двое сотрудников Григория Яковлевича. Серолицые, в сером тряпье, пахнущие тракторными внутренностями. И с автоматами. Все молодые в этом городе были как выкрученные, выжатые, вывалянные в пыли. Тихие, покорные тени с пустыми глазами. Правда, временами мелькало в них что-то хорьковатое, скользкое и смертоносное. Круз не хотел сидеть спиной к ним. А они норовили как раз сзади: отстанут, на ступеньках устроятся. Пару эту придал Павловский, объяснив радостно, что в городе бывают происшествия. Город огромный, весь патрулировать людей не хватает. Потому вот вам сопровождение. Отдохните. Ваших мы обеспечим, не беспокойтесь. Завтра вернетесь к ним. А пока — ваш коллега пообщается с Григорием Яковлевичем, им есть, что сказать друг другу.
Дан вернулся, когда уже стемнело, и Круз, допив последнюю чашку, с полчаса смотрел на левую грудь Леночки, ожидающей мужского слова. Дан пришел пешком. Спустился по проспекту, опираясь на трость. Хук трусил позади, нервно подергивая хвостом.
— А я весь чай уже выпил, — сообщил Круз Дану, пододвигая стул.
— Влипли, — ответил Дан по-немецки.
— Ты только сейчас понял? — удивился Круз по-немецки же.
— Нет. Но было интересно. Где еще такое увидишь? Безумец, уверенный в своем здравомыслии, и прикидывающийся безумцем, чтобы править идиотами.
— И это все, что ты узнал интересного? Ты вправду решил ехать в Москву из-за этого чокнутого? Он тебя, тридцать с лишним лет копающего тему в лучшем научном центре, просветил?
Дан усмехнулся.
— Он не биолог вообще. Он физик. Полупроводниками занимался.
— Так чего ты с ним… — Круз осекся.
— Мы уже безнадежно влипли, когда попали на аэродром. Нам повезло — не взорвались по пути. И повезет еще больше, если выберемся живыми. Григорий Яковлевич любезно объяснил мне, что они умеют пробивать любой иммунитет. Неделю качают налоксоном, потом — метадоном.
— А ты этого не знал?
— Мы это узнали тридцать пять лет тому, когда налоксон еще считался панацеей от всех бед. Этот город вымирает. Но не может умереть, потому что его люди воруют окрестный народец, ломают иммунитет и сажают на обычные морфины.
— Шибздики, — сказал Круз.
Леночка встрепенулась, услышав знакомое слово.
— Тише, маленькая, — сказал ей Круз. — Все хорошо.
— Куда уж лучше, — сказал Дан по-немецки, усмехнувшись. — Налоксоновый город. Они здесь сидят на тоннах налоксона. Насколько я понял, они в свое время наложили лапу на всю гуманитарную помощь, и для себя, и для России. И отбились, когда армия пришла требовать свою долю спасения. Но кое в чем он меня просветил. А именно в том, как держать человека на героине попеременно с налоксоном при наименьшем расходе и того и другого. Хорошая методика победить депрессию. По большому экспериментальному материалу выработанная, надо думать.
— А мы им зачем?
— К счастью, тут все просто и ясно. Насколько я понимаю, наши гостеприимные хозяева затеяли карательную экспедицию на север. И кто составит острие ударных сил?
— Вот дерьмо!
— Хотя нет худа без добра, — заключил Дан благодушно. — Насчет Москвы он, может быть, и не врет.
— В Москве сорок килотонн взорвалось. А может, и еще что. Там война была почище здешней. Какие там коротковолновики теперь?
— Не стоит недооценивать живучесть больших городов. В них, знаешь ли, метро бывает, подвалы, склады, ресурсы. Мы до сих пор растаскиваем Цюрих. Там, где жил миллион, а осталась сотня, на удивление много полезного сохраняется.
— Именно потому я всегда держусь подальше от больших городов, — проворчал Круз.
Ночевать их развели по разным домам. Крузу досталась мрачная, с высоченными потолками квартира с дверью из арматуры. Ночью к нему пришла Леночка, одетая в расстегнутую блузку, и настойчиво мешала спать. Круза хватило всего на раз, и Леночка расплакалась. При попытке утешить вцепилась, и Круз уже собрался прощаться с детородной частью, когда Леночку вновь охватил рыдательный приступ. Подтекая сверху и снизу, она рассказала, шмыгая носом, что у подруг уже по третьему, а у нее ни разу и что порожнюю бабу отдают вниз. Это куда — вниз? Вниз. К этим… А-а, к этим… А Григорий Яковлевич не вступится? Он? Леночка вздрогнула. Ну, ты не дрожи, ты спи. Она послушно скрутилась калачиком и заснула, прижавшись к Крузу.
Он спал скверно. Вслушивался в темноту. Вдалеке начали стрелять. Потом тяжко, железно прогрохотало по улице. А под самое утро прямо за дверью начали бить, и ломкий хриплый голос визжал: «Ну хоть чуть! Ну чуть! Не-е-е!»
Утром любезный Дмитрий Сергеевич объявил за завтраком, что приготовления идут и завтра утром, никак не раньше, можно будет двигаться. И что гнедигер херр Дан приглашается на Ученый совет, который, собственно, и управляет городом. А Андрей Петрович может, хм, погулять. Да, погулять. Не покидая город. И в сопровождении. Леночка тоже может. Если Андрей Петрович хочет. Круз пожал плечами. Доел сероватый хлеб с маргарином, допил чай и пошел.
Город этот под утренним солнцем походил на помесь капища с концлагерем. Забытым, но недовымершим. Серая, снулая злоба висела смогом над улицами. Чистые свободные улицы кончались в паре кварталов от площади со штырем. Пределы чистоты охраняли баррикады и пулеметы с серолицыми оборванными людьми подле них. Дальше сквозь асфальт проспектов пробивались березки.
Серолицые люди торчали на перекрестках. Шевелили стрижеными головами. Ежились. Иногда появлялись из подъездов. Оттуда смердело кисло и едко. В садике между улицами играли дети. Круз смотрел на них больше часа. Серолицые, вялые, снулые — сморщенные копии взрослых. Следующее поколение, обреченное тянуть лямку жизни. Круз уже видел такое. Прожил рядом с таким без малого десять лет. Смотреть на них было — будто трогать гнилой ноющий зуб. И больно, и мерзко, но хочется снова.
— Не насмотрелся? — спросил Дан, усевшись рядом.
— Сколько ж им людей нужно воровать в окрестности, чтобы выжить так?
— Ты удивишься — совсем немного, — ответил Дан, усмехнувшись. — У них тут забавно. Знаешь — они, пожалуй, могут и выжить, несмотря на налоксон. Самоубийств, насколько меня уверяли на их совете, в городе попросту нет.
— Не верю, — заметил Круз равнодушно.
— А я — верю. Они тут сделали удивительное: родили из старой науки и трех популярных книжек настоящую теократию — с живым пророком, спасением, вечной жизнью, адом и праведниками. Зороастризм от квантовой механики. Титаны. — Дан пробормотал под нос немецкое богохульство. — Я уже привык к тому, что люди, выживания ради, совершают удивительное и, по моим старорежимным меркам, вовсе нечеловеческое. Но чтоб на кострах жгли… Представь: здесь тот, кому надоело жить, может просто прийти к старшему светлому и объявить: так-то и так-то, жить надоело, хочу в рай. Его вежливо слушают. Переспрашивают. Созывают свидетелей. Те отговаривают ровно один час. Если решимость крепка и подтверждена, то отбирают оружие и отдают светлым. Те за неделю делают из него мясо. Большинство потом отвозят на курган. Тот, где ярмарка. А с некоторыми объявляют праздник и у того обелиска, где ты пил чай, устраивают торжество веры. Собирается народ, продают леденцы. Девушки танцуют. Это празднично очень — торжество веры. Уход в рай очищенного огнем. Очищаемый горит, как я понимаю, на чем-то вроде паяльной лампы.
— И дури хватает, чтобы выдержать?
— Думаю, не совсем. Что ж, его пример — другим наука. Никто не обещал, что дорога в рай будет легкой.
— И этого хватает, чтобы никто не выпускал себе мозги из личного оружия?
— Говорят, что хватает.
— Вранье тут все, — заключил Круз. — Манекен с червями внутри.
— Живучее вранье. Я тебе не говорил, что они налоксон делают? Не смотри так недоверчиво. Подсчитай, сколько человеку на год налоксона нужно. Никакой гуманитарной помощи не хватит. Они сумели на ней продержаться и выжить. И наладить. Здесь много институтов было, и биохимики сильные.
— На налоксоне еще никто долго нежил. Ни в Штатах, ни в Европе. Насколько я знаю, Япония долго цеплялась. Что там сейчас, не знаю.
— Это потому что хотели жить по-старому, с Интернетом и супермаркетами и корпоративными вечеринками. Вот тебе дивный новый мир, со смыслом жизни, идеалами и высокой целью. Кстати, нас зовут вечером на праздник заката. Не отказывайся. Что-то мне подсказывает: зрелище будет прелюбопытное.
Праздник происходил на площади перед большим домом с колоннадой, державшей высокую полукруглую галерею. На галерею взошли люди света. Были среди них и Григорий Яковлевич, и Павловский, и с дюжину прочих разномастных старцев, одетых в белое, седовласых, похожих на памятники. Круз с Даном стояли с краю, у самого входа, на галерее, пятиэтажно возвышенной над проспектом, над сквером, над толпой серых, замызганных, молчаливых людей.
На горизонте, иззубленном крышами и башенками, испятнанном древесными кронами, расплылось мясистое, подтекающее, карнавальное солнце. Когда яркое пятно провалилось за частокол домов, над площадью пронеслось: «А-а-а-а». Будто выдохнули в унисон сотни глоток.
Над головой рассыпались звезды, желто-багровые, мутные.
— Люди света! Солнце ушло — но солнце вернется! — запел кто-то рядом голосом звонким и странным, как если бы ожила стеклянная птица. — Солнце с нами, наше вечное солнце! Солнце в нашей груди, наш свет! Люди, радуетесь ли вы?
И снова это: «А-а-а-а».
— Нам не страшна тьма! Свет ограждает нас! Радуйтесь, люди!
И тут покатился глухой рокот, и с галереи, с окрестных крыш, из окон ударили столбы света — пронзительно белого, невыносимого, слепящего. Залили все, проткнули небо, скрестившись в купол, свод света, отстранивший ночь. «А-а-а-а» превратилось из выдоха в рев, самозабвенный, истерический рев, заплескавшийся между стен, вскипевший, вздымающийся, обваливающийся. В него вплелась — или была уже — дикая, неровная, рваная музыка из лязга, криков, вытья. Люди падали, катались, корчились, вопили, ползли друг на друга, катались, сцепившись. И летел над площадью голос — бессвязный, рваный, фонтан недослов, оборванных, западающих в самую душу. Люди в белом наклонились над площадью, схватившись за поручень, и кричали.
Рядом забулькало. Круз оглянулся — Дан дергался, склонившись за балюстраду. Его тошнило.
В эту ночь за дверью снова кого-то били, кто-то плакал и взвизгивал, на улице выли и заходились диким, режущим визгом. В эту ночь не было Леночки, а были Хук с Даном. Дан кашлял и глухо покряхтывал, ворочаясь с боку на бок. Хук взрыкивал, шевелил в темноте огромной башкой.
Утром никто не пришел будить, и пришлось ждать до десяти утра, пока откроют и выпустят. От завтрака Круз с Даном единодушно отказались, и Павловский, улыбаясь, на давешнем джипе вывез их за город, к месту ярмарки. И показан танк, старую «шестьдесятчетверку», стоящую напротив БМП, дюжину серолицых с автоматами на изготовку и Захара, высунувшегося из люка и бешено матерящегося.
— Андрей Павлович, херр Дан, — у нас тут, в некотором роде, эмпассэ, — сообщил Павловский, улыбаясь. — Мы собрали для вас эскорт, но один из ваших людей ранил двоих наших. Довольно-таки серьезно. И теперь должна быть справедливость. Кровопролитие на ярмарке — тяжкое преступление.
— Они Пеструна подбили, мать его за ногу! Совсем бы убили! — проорал Захар из-за люка.
— Справедливость должна быть, — согласился Дан. — Справедливость — это свет. Она — превыше всего, А с чего все, собственно, началось?
Павловский нахмурился.
— Как я понимаю, ваши волки напали на людей.
— Это шибздики ваши на моих собак напали! — проорал Захар. — Мои собачки — смирные, никого не тронут! А они Пеструна — прикладом по морде!
— Собачки? — поразился Круз.
— Думаю, можно учинить разбирательство. — Дан усмехнулся. — Ведь вы облечены правом судить, если я не ошибаюсь? Вы один из столпов закона в этом чудесном городе. А мне доверяют судить нашу маленькую группу. Думаю, правда здесь близко. Правда — это жизнь, не так ли? Начнем?
Серые, стоявшие рядом, переглянулись. А Павловский вдруг побледнел. И во взгляде его, всегда таком спокойном и ровном, засветилась ненависть.
— Я так понимаю, вы согласны? — спросил Дан, улыбаясь. — Тогда прошу вас, вызовите пострадавших.
— Они в больнице, — выговорил оказавшийся рядом серолицый юнец, одетый необычно — не в лохмотья, а в чистую пятнистую униформу, с ремнями, карманами, подсумками и гранатами в два ряда.
— Куда им в больницу! Я им морды почесал, и все! — проорал Захар, плюясь. — Мудаки херовы! С пушками, ети их! Я мать их без пушки имел в три полы! Они Пеструна покалечили!
— Молчать! — рявкнул Круз.
— Лейтенант, если я правильно понимаю ситуацию, ваши люди покалечили нашу собаку, после чего хозяин собаки поцарапал им лица. Один против двоих, вооруженных огнестрельным оружием?
— Ваши люди привели волков, а не собак, — сказал Павловский угрюмо. — Нам известно, что племя, к которому принадлежит ваш человек, разводит волков. Волк — опасен. Человек вправе ударить, если ему угрожают.
— Волки, разводимые человеком и слушающиеся его, — как они называются? — спросил Дан, улыбаясь.
Круз смотрел, стараясь понять. Происходило что-то простое и понятное и Дану, и страшному старцу Павловскому, и даже серолицым, застывшим вокруг. Но не ему. Зачем этот спектакль? Зачем разводить бучу из-за зряшного дела? Никого не убили, не покалечили даже.
Павловский молчал. Глядел люто, скривившись. Наконец открыл рот и проскрежетал:
— Властью, данной мне светом и городом, я прекращаю дело о вине против закона и света! Вины нет!
— Слава свету! — пробормотал юнец.
— Слава, слава, слава… — забормотали в шеренге.
— Вы должны выйти до полудня, — буркнул Павловский и, не прощаясь, полез в джип.
Завел, брызнув пылью из-под колес, и исчез. А лейтенант, почесав нос замасленным пальцем, сознался: «Меня Сашей зовут».
Выехали: впереди БМП и позади, как конвой, Т-64, заляпанные неровно зеленым, потом грузовик и, замыкая, военной раскраски «козел» с гранатометом на треноге. В грузовике — дюжина серолицых, безвозрастных, угрюмых, и во главе их — непоправимо юный лейтенант Саша.
Впрочем, верховодил серолицей частью не он, а усач в галифе, лысый макушкой и с белой лентой в петлице. Усач был очень важный и Круза не замечал вовсе, лишь с Даном поздоровался снисходительно. Усач был с ожогом в полтемени, носил портупею и лаял. Усач ехал во втором танке. И Дана забрал к себе.
Поехали не по Московскому шоссе, а на север. Дорога ушла в лес, и колонна по ней. Ехали медленно, через заброшенные поселки проползали, пуская впереди пеших. Через час вернулись на проселок. Круз спросил по рации зачем. Лысый не ответил. Но еще через полчаса остановил свой танк и потребовал выпустить «этих, которые с волками» на разведку. Круз, подумав, велел вылазить трем старшим щенкам и Захару с волками. А сам прикинул, что делать с усачом и его коробками. Пока оставалось одно: слушаться и ждать момента.
Левый вернулся через час и сообщил, что деревня. Да, были там недавно. Много. Но ушли. Непонятно кто. Гильзы валяются.
Лысый вылез и потребовал повторить. Круз разрешил. Левый, сплевывая через слово и скалясь, повторил.
Поехали дальше. Снова деревня. Снова то же самое. Круз ждал. В третьей деревне серолицые, отправленные вслед за щенками, нашли трех коров. Подле одной еще стояло ведро с молоком. Молоко щенки, дав понюхать волкам, выпили. Серолицые смотрели. Узнав про молоко, усач взбеленился и обвинил щенков в саботаже. След спросил простодушно, что такое «саботаж», и усача чуть не хватил удар. Усач схватился за кобуру и лаем сообщил, что далеко уйти не могли, что намеренно упускают и поплатятся.
Круз встал напротив усача и сощурился. Лейтенант Саша, бледный, вдавился спиной в грузовик. Щенки заржали, а След, трясясь, еще и сочно, резинисто пукнул.
Серолицые стояли рядом — всегдашне равнодушные, унылые. Но в лице второго слева будто включили вспышку. Круз сунул руку за пистолетом, холодея, но Левый, точный и легкий, ткнул носком во вздернутое дуло — и очередь переломила усача надвое.
Серолицые оказались плохими бойцами. Медленными, неуклюжими. Против щенков, слаженных, как пальцы одной руки, они и шевельнуться не успели. Стрелять только двое и начали. А Последыш по собственному почину влепил «шестьдесятчетвертой» два снаряда под башню, а затем сделал костер из джипа.
Лейтенант Саша так и простоял, оцепенев, пока его людей расстреливали, резали и забивали прикладами. Не шелохнулся, когда Захар, ощерившись, подступил с резаком. С резака капало.
— Стой! — рявкнул Круз. — Не видишь, карачун у него?
Подбежав, пляснул по щеке ладонью. Тогда Саша зашевелился — и взахлеб, трясясь, заревел.
Из уцелевшего танка, дрожа, вылезли двое, подняли руки. За ними, держась за сердце, выбрался Дан. Сел, привалившись в гусенице. Круз кинулся, зашарил по карманам, полез в аптечку.
— Нормально. Все нормально, — прошептал Дан. — Душно очень. Не лезь. Нитроглицерин и у меня есть. Оставь. Не надо их… Дураки несчастные…
— Эй! — крикнул Круз. — Не добивать!
— А что с ними делать? Кормить? — Захар оскалился. — Мои волчатки давно мясца не жрали. Мне твои говорили про право. А эти — они же мясо! На колесах сидят! Мясо притворное.
— Мясо! — угрюмо отозвался Левый, придавив ногой чье-то шевелящееся тело.
— Право, — сказал Круз. — конечно, право. Кого сам убил, того и отдавай.
— Так он троих порешил железкой, — отозвался Левый. — Как блоха скачет.
— Троих? — изумился Круз.
— А то ж. — Захар ухмыльнулся.
Подкинул резак, поймал за рукоять.
— А ты, батя, мыслишь, мы там в носу ковыряли?
— Оттащи в лес и корми там! — приказал Круз. — А этих — в грузовик, пускай убираются.
— А тех, кому кровянку пустили? — осведомился Левый.
— Не время играться! — отрезал Круз. — Всех живых — в грузовик.
Таких набралось семеро, включая лейтенанта Сашу. Но тот, дрожа, попросил никуда его не отправлять.
— Пожалуйста, возьмите. Я рацию знаю. Я учился. И водить — тоже. Я — настоящий. Я — полезный. — И заплакал снова.
След пнул его в лицо.
— Он — мой, — объявил Круз. — Захар, он под тобой будет. Пригляди за ним.
— Мне — за шибздиком? — Захар скривился.
— Ты понял?
— Понял, батя, понял, — проворчал. И улыбнулся. — Ты, шибзд, слушай меня как мамку. Если поперек — волкам скормлю. Скажу — раком скачи, ты поскакал. На ать-два. Понял?
— Понял, — пролепетал лейтенант Саша.
Серолицых, обыскав, загнали и закинули в машину. Но они уехали не сразу. Пошебуршали внутри, и один, рослый, прыщавый, вылез и встал перед Крузом, ссутулившись.
— Господин командир, пожалуйста, выдайте нам. Хоть до дому добраться, выдайте. Мы же… мы не можем.
— Дозу? — переспросил Круз удивленно. — А-а, Саша? Что они хотят?
— Шевелись, шибзд! — рявкнул Захар.
— Я сейчас, сейчас! — Тот подбежал к сваленным мешкам, раскрыл, залез. — Вот, вот ваши дозы.
Высыпал в подставленные ладони кучу ампулок, кинул сверху бумажную ленту с запаянными шприцами.
— Спасибо, — сказал рослый и, держа ампулки бережно, словно последнюю воду, полез в кузов.
Грузовик дернулся, чихнул. Развернулся неуклюже, свалив березку. И скрылся в ложбине между холмами.
— Делай свое быстрее, — сказал Круз Захару. — Нечего нам здесь торчать.
16
Круз больше десяти лет прожил там, где люди пытались сохранить прежнюю жизнь. Налоксон трижды в сутки, и — работают заводы с бардаками, ходит экспресс и «Пан-Американ» летит из пункта А в пункт Б. По крайней мере, так казалось тем, кто установил налоксоновый мир. Впрочем, возможно, они и не были настолько наивны — но лишь пытались выиграть время. Дать лишний год, два, три тем, кто мог бы создать настоящее лекарство.
Налоксон блокирует рецепторы, делает невосприимчивым к эндорфинам — и фальшивым, и настоящим. Идеальное лекарство от счастья. Беда лишь в том, что принимающие его вскоре перестают понимать, зачем им дышать и двигаться.
В налоксоновую жизнь Круз попал на «цессне», перебравшись через границу в ночь на четвертое июля. Произошло это через два с лишним года после неумершего города Манауса и длинной череды разбоев в Венесуэле, Панаме, Гондурасе, Сальвадоре и Мексике. Круз дважды был подстрелен, брал штурмом лайнер, сделался шаманом и троекратным вожаком больших банд. Остатки последней расстрелял сам.
Родных Круз так и не нашел — ни живыми, ни мертвыми. Но нашел «цессну» и бензин. Полетел на северо-восток. Сел на автостраду. Загнал самолет в кусты, а сам побрел в ближайший городок. Там его не арестовали, но попробовали поставить на налоксоновое довольствие. Отказу очень удивились. Но удивление последствий не имело. Налоксоновые люди и без того были заняты по горло волоченьем себя по жизни. Когда заставляешь себя ежеминутно переставлять ноги и поднимать руки, выговаривать слова, дышать, даже ничтожное постороннее дело невыносимо. Но все работало, от почты до канализации. Магазины торговали, покупатели покупали, хотя иногда случалось наоборот, но никто особого внимания не обращал. Главное, жизнь продолжалась по-прежнему. Даже грабители существовали почти прежние, хотя и едва ли могли бы сказать, зачем грабят. Наверное, из общего, разлитого в воздухе убеждения, что все должно быть как раньше.
Катясь неосознанно на север, Круз добрался до университетского города Энн-Арбор в штате Мичиган. Там ему повторно предложили налоксон, удивились отказу, но не выпустили, а под конвоем отправили в университет, где принялись колоть, светить, просвечивать и брать кровь. Круз особо не сопротивлялся. Кормили в университетской клинике хорошо, жилось спокойно и приятно похоже на прежнее бытие, почти растворившееся в Крузовой памяти за выстрелами, свалками костей и джунглями. Круза подолгу расспрашивали, записывали, думали. В результате ничего определенного так и не сказали, но предложили работу по специальности. И потому Круз увидел Второй кризис во всей его красе.
Как и предполагалось на случай эпидемий, сопряженных с государственной угрозой, власть взяли военные и медики. Поскольку никто не нападал, а с беспорядками первого года-двух после «опа» (здесь благородно наименованного «Первым кризисом») национальная гвардия с полицией справились на ура, власть потихоньку перетекла в руки медиков и их исследовательских разновидностей. Наладили производство налоксона и сеть его распределения. Все, кто мог и умел, были подключены к разработке лекарства. Повсюду собирали образцы, в университетах составляли коллекции штаммов. Вакцину выпускали за вакциной, антибиотик — за антибиотиком. Но вакцина, хотя оказывалась действенной для одной или нескольких групп штаммов, ни на людях, ни на животных почему-то не работала. Антибиотики действовали непредсказуемо, то истребляя заразу за дни, то подстегивая выработку эндорфинов. А потом в Калифорнийском технологическом увидели, как обрывок гена, заставляющего клетку производить эндорфины, сам по себе кочует от одной бактерии к другой. А от этой другой — в лейкоциты хозяина. Счастье оказалось — или превратилось — удивительно примитивным, но очень жизнеспособным протовирусом, способным обустраиваться практически везде.
Круз хорошо помнил день этой новости. Как раз утром прилетел из Техаса, привезя образцы шакальей крови и синяк от сорок пятого калибра на левом плече, — он уже тогда приучился не снимать бронежилета. Через границу ломилась банда, очень похожая на те, какими командовал Круз. — такая же отчаянная и оголтелая. Последнего уцелевшего, мальчишку лет двенадцати, Круз привез с собой и сдал в клинику — там очень любили наблюдать, как именно счастье активизируется с приходом половой зрелости. А сам сидел в комнате охраны, попивая пиво, когда ввалился доктор Маккормик и потребовал пива себе. А затем — стакан «Баллантайна». После третьего стакана сел напротив Круза и сказал: «Глупый русский, ты не представляешь, как тебе повезло. Как повезло! Ты своими глазами увидишь, как сдохнет этот хреновый мир!»
Наутро, протрезвев, доктор Маккормик повесился. А его ассистентка, мисс Лу, колченогая блондинка сорока лет, собрала записи, проверила культуру и, улегшись на кушетку, впрыснула себе полкубика цианистого калия.
В памяти Круза именно этот день стал началом Второго кризиса. Через полгода, когда про эпидемию самоубийств заговорили по уцелевшим телеканалам, в клинике осталась едва ли четверть прежнего состава. Доктор Лео Коган, за пятнадцать лет до того бывший Леонидом Ивановичем, сказал Крузу грустно: «На какую же вакцину они надеются, глупцы? Если б природа не награждала удовольствием за успех, так и амебы б делиться не стали». Доктор Лео Коган не кончил жизнь самоубийством. Его застрелил коллега Круза, мелкий рыжий ирландец, раскрасивший лицо, обвешавшийся магазинами и гранатами и принявшийся зачищать клинику, как афганскую деревню.
Но это случилось через семь лет после начала Второго кризиса. А семь этих лет были медленным кошмаром. Так человек, попавший в зыбун, понимает, что каждое движение лишь ускоряет гибель — но не может не двигаться, потому что прийти на помощь некому, и надеется отчаянно вывернуться, выскользнуть. И тонет скорее.
Второй кризис добил всякую надежду. Почему вспыхнула эпидемия самоубийств — странная, спонтанная, необъяснимая? Отчего в соседнем отделе фирмы вдруг кончали с собой все, а в этом — никто? Почему вдруг вымирал целый квартал — а в соседнем люди по-прежнему ходили на работу и в супермаркет и пили пиво в баре? Хотя, глядя на лица людей, годами держащихся на налоксоне, Круз не удивлялся. Скорей, поражался, что держатся до сих пор. Может, потому, что вдолбленная годами, затверженная привычка жизни до поры брала верх? Или само действие самоубийства представлялось чересчур большим и страшным и проще было вяло тянуть себя на работу и обратно, и привычно глушить себя алкоголем, и трогать знакомые вещи, и покупать, уже не испытывая ни толики прежней радости?
Налоксоновая жизнь была похожа на кувшин из пористой глины. Влага высачивалась, испарялась, утекала.
Первыми умерли театры и концерты. Затем — кино. Налоксоновые люди выходили из дому лишь по необходимости — на работу, за едой. Тихо ушли все турагентства, курорты, круизы, за ними — казино с игральными залами. За ними, как ни удивительно, бордели. Лео Каган, тощий и ехидный, сказал тогда Крузу: «Что еще тебе нужно, чтоб убедиться? Этот мир дохнет! Если людям противно сношаться, то их осталось только закопать. И полить креозотом сверху». Круз промолчал. В разговорах с Лео вообще лучше было смолчать, чтобы не получить на голову ведро ехидства разностепенной едкости.
И тогда Круз послушался его наконец и, вопреки начальству и военным, принялся искать не новые штаммы, а тех, кому не нужен налоксон. Поначалу и государство искало не штаммы, а именно их. На сыворотку надеялись, на чудо-средство, волшебством образовавшееся в крови. Но не нашли ровно ничего — как и у самого Круза. То есть, по всем меркам, существовать Круз мог только на налоксоне. К нему свободно цеплялась любая зараза. Уровень эндорфинов в крови был стабильно высоким — но почему-то особой радости это не доставляло. Теорий появилось множество. И, как обычно с теориями, они объясняли одно, игнорируя другое, или подтверждали третье, противореча четвертому. Утверждали, что чувствительность рецепторов насыщается, что тело само производит аналог налоксона, что дело в особом устройстве психики, что сумасшедшие не болеют счастьем, что дело в расе, в наследственности, в диете, в сексе и любви к богу. Везде было понемножку правды. Круз и сам видел, что среди негров и мулатов иммунных намного меньше, чем среди белых. Но в некоторых черных общинах иммунных оказывалась чуть не десятая часть. А из ЮАР сообщали, что люди с готтентотской кровью иммунные чуть не поголовно. Многие племена индейцев вымерли от счастья полностью еще до налоксона. Но некоторые, упорно от него отказываясь, все же продолжали жить. А среди белых обозначилось то, что Лео, глумясь, обозвал «гиперборейским вектором»: среди потомков северян было больше иммунных, чем среди людей Средиземноморья. Но беда была в том, что иммунных оказалось очень мало. Слишком мало, чтобы уверенно считать замеченную тенденцию чем-то выходящим за статистическую погрешность.
Круз искал этих иммунных. И, правдами и неправдами, норовил увезти в Энн-Арбор. Лео хотел создать колонию нормальных людей вокруг себя. Начальство металось, то приказывая с удвоенной силой делать лекарство от счастья, то срочно разработать средство от налоксоновой депрессии. А Круз искал. Даже летал на Аляску, где, по полусерьезной теории Лео, должны были пастись стада иммунных лесорубов и эскимосов. Стадных эскимосов Круз не нашел. А в городах нашел то же самое, что и повсюду в стране налоксонового здоровья.
Как раз после возвращения с Аляски Круз узнал, что открыли коллеги Лео, занимавшиеся налоксоном. Открыли они, что несколько месяцев налоксона трижды в день начисто убивают любой иммунитет к счастью. А когда объявили эпидемию, налоксоном стали накачиваться практически все. И потому самая сильная, подготовленная к несчастьям, организованная, успешная страна организованнее и успешнее всех истребила последний клочок будущего, еще остававшийся у нее.
Годы налоксона уводят любого, даже самого яркого, общительного человека в шизофренический депрессивный психоз. Радость, тревога, горе, честолюбие, гордость, интерес, внимание — все блекнет, растворяется под тяжестью повседневно-свинцового бытия, оставляя холодную пустоту в душе и рассудке.
А дольше всего выживает в отравленной душе — злоба.
17
Дальше двинулись двумя командами. Щенки — на танке. Правый забрал Верку с собой, усадил на место стрелка-радиста. Да она и сама бы отказалась остаться с Захаром и Крузом. Ходила за Правым как приклеенная. Что бы он ни делал, сидит, смотрит на него, вздрагивая. Улыбается загадочно. А то заплачет навзрыд. Дуреха. Правый ее баловал. Гладил. Ожерелье ей сделал из пистолетных гильз, желтеньких, лаковых. Она его и не снимала, все теребила, пересчитывала, как четки.
Левый со Следом тоже забрались в танк. След принялся ковыряться с орудием и едва не снес Крузу голову. За что и получил от Правого оплеуху, ворчал полдня, бубнил, грозя непонятно кому.
А Захар с волками, Хук с Даном и Круз с лейтенантом Сашей остались в БМП. Лейтенант Саша быстро впал в рабство, вздрагивая и подпрыгивая по ехидному Захарову слову. Впрочем, рабовладелец из Захара получился добродушный, патриархальный и беззлобный — пара оплеух за нерасторопность не в счет. Круз поражался: и как такой шибздик еще и командовал кем-то? Тряпка срамная. И решил, как только выдастся вольная минутка-другая, расспросить толком лейтенанта Сашу, что это за жизнь, при которой Саши лейтенантами делаются. И почему на площади у колонн, и как они живут с налоксоном; если на налоксоне, то почему все-таки появился лейтенант Саша. А еще стоило бы расспросить, почему это у Захара волки его — то серые, то «собачки» и за что, собственно, вышибли из племени и превратить хотели в мясо.
Столько вопросов. Впрочем, Круз не то чтобы очень рвался узнать ответы. Список ответов, которые стоило бы получить, у Круза за длинную Крузову жизнь накопился объемистый. И ощущение было, что большая часть ответов Крузову жизнь не улучшит, а совсем даже наоборот.
Двигались неторопливо. Впереди по шоссе, вспучившемуся растрескавшимися буграми, стесненному деревьями, взломанному корнями, полз «шестьдесят четвертый», копотливый, шумный и неповоротливый. За ним мягко катилась БМП. А места вокруг были неприятно дикие, не запустелые, а будто кто-то истребил остервенело человечий след и пустил поверх зряшную, кривую, нездоровую поросль.
Ехали на север по Псковскому шоссе. Криволесье сменялось болотом, той его разновидностью, которая в местной литературе звалась безрадостным словом «дрыгва». В кустах орали вороны. Захар сидел на броне и уныло матерился, сочетая обороты трехвековой давности с «мерседесом». Волки, напротив, оживились и поглядывали вокруг с очевидным удовольствием. Захар выпустил их попастись, когда остановились на ночлег за немыслимо скособоченным, загрузшим, обросшим городком, обруинившимся, должно быть, задолго до счастья. Расположились, повернулись, Захар поскреб в паху, Саша с ведрами помчался за водой. Верка, одетая в полмайки, выбралась из башенного люка и принялась бегать туда-сюда, подпрыгивая. Щенки пошли караулить. А Круз решил все же навести порядок в списке вопросов.
— Дан, что у тебя с сердцем? — спросил, усевшись рядом.
— Ничего, — ответил тот рассеянно. — Ноет. Ничего страшного. Это не та боль. Это невралгия. У меня всю жизнь так. Чуть переволнуюсь, позлюсь — как зуб дырявый в груди. А тут Хук еще сошел. Как он, с этими? Он же неуклюжий, тяжелый слишком.
— С ним все нормально будет. Стая у него теперь своя, четвероногая. А вот что будет с нами? Куда мы?
— Как куда? В Москву.
— Правда? Ты что, поверил этим сумасшедшим?
— У них на редкость здравосмысленное сумасшествие.
— Ну-ну. Советовать к сорока килотоннам в гости.
— Понимаешь, Андрей, — сказал Дан по-немецки, — я их ни в чем не обвиняю и не осуждаю. Сейчас человечеству важно одно: выжить. Пусть хоть друг дружку едят, лишь бы выжить. Пусть рабы, пусть в жертву приносят, пусть кричат солнцу «хайль», пусть отсекают гениталии. Когда появится лекарство, все это уйдет само собой.
— Про «отсекают гениталии» я еще не слышал. Очень интересно.
— У этих, за минами, тоже своя цель, — сказал Дан, будто не слыша. — Они тоже хотят, чтобы люди выжили. И потому хотят, чтобы мы смогли и нашли. Они здравое говорят. Где, как не в столице бывшей империи, должны храниться все данные о том, что эта империя делала? У нас есть передатчик, мы свяжемся и найдем. Быть может, у них есть тот самый штамм. Мы должны проверить, понимаешь?
— Понимаю, — сказал Круз, вздохнув. — У меня одно только предложение: если не возражаешь, мы лучше с северо-запада заедем в Первопрестольную. Килотонны, по слухам, были на юго-востоке.
— Пожалуйста. — Дан пожал плечами. — Только чтобы побыстрей.
— Два дня, — пообещал Круз.
Два обещанных дня стали неделей. Сперва сломался танк. Правый, рыкнув дизелем, лихо снес с шоссе обвалившуюся березу. «Шестьдесят четвертый» после подвига пробежал метров двести, заскрежетал нутром, чихнул и стал. Потом вылезла Верка, уселась на башню и захохотала, дрыгая длинными ногами.
Круз танк предложил бросить. Лейтенант Саша, краснея ушами, предложил починить. Потому что он, Саша, умеет, а танк — это хорошо. Ладно, чини, если приспичило. Только быстро. День? Полдня? Посмотрим. Саша быстро-быстро кивал, лепеча.
Дан поворчал, но смолк, оглядевшись по сторонам. Холм, заросший березами, опушка леса, трава в желтых мохнатых огоньках, солнечных, щекотных. Ветер, ровное небо, свет. Все как очерченное резцом, сделанное вчера, нет, час, минуту назад, сотворенное прямо для тебя, а до тебя не было никого в этом мире.
Дан задремал, сидя на холмном склоне, и улыбался во сне. Хук поймал в поле молодого куропача и принес к хозяйским ногам.
Круз, к пейзажам безразличный, тревожился. Заглядывал, как лазит в танковом нутре Саша — умело лазит, сноровисто, — бродил вокруг лагеря. Поставил растяжки. Попросил Захара пошарить по сторонам с волками вместе — нет ли чего эдакого? Мучило чувство чужого, враждебного. Будто на дереве или на соседнем холме сидит кто-нибудь, наблюдает. Выжидает. Хорошо, если ночи. Драться в темноте Круз любил, в особенности со щенками рука об руку. А еще и Захар с четвероногой братией. Скверно, когда поутру нападут, при свете, и толпой. Народу не хватит и себя оборонить, и машины с багажом. Из лейтенанта Саши боец, видимо, никакой. А Верка еще. А Дан. Набегут, пожгут, взорвут. Черт. Но сегодня ночь хорошая. Новолуние. Темно будет, как в заднице. Если гости вздумают в темноте пошарить, тем лучше.
Круз, поразмыслив, оцепил растяжками особо густые кусты.
После отправился размышлять над тем, почему людей, думающих и умеющих нехорошее, так тянет друг к другу. Людей против прежнего осталась пригоршня. Везде ж пусто! А по шоссе не проедешь, обязательно отморозок какой шмальнет.
К вечеру Крузово беспокойство отравило настроение всем. Щенки вовсе спать не легли. Последыш грыз ногти. Саша с лихорадочной быстротой звякал и поскрежетывал, с головой уйдя в танковое чрево. Захар улыбался и объяснял что-то волкам. Те смотрели настороженно.
В тридцать две минуты первого грохнула сигналка в кустах. И сразу же с трех сторон — автоматы. Круз чуть не расхохотался. И, вскочив, мягко, по-кошачьи метнулся в сумрак.
Первый темный силуэт сложился пополам, получив три девятимиллиметровые пули в живот. Второй ударил в темноту очередью. Кинулся наутек, напролом через кусты. Упал. Вывернулся — как раз чтоб получить кабаром под кадык.
Все. Круз замер в темноте, прислушиваясь. Слева взвизгнули коротко. Потом — поволокли. Побаловаться решили щенки. Не иначе живца взяли. Тьфу. Шагов за триста кто-то захрустел в лесу. И заголосил — страшно, тоненько, смертно. А это кто? Щенки сейчас далеко не пойдут и гнаться не станут. Не иначе Захар. Чтоб его!
Круз вернулся на место. Шорох шагов позади. Два коротких — длинный — два коротких. Последыш.
— Старшой, у нас клево, — доложил шепотом Последыш. — Отбились. Все целые. Правый живца взял.
— Утром рассмотрим. Смотрите, чтобы Захар его волкам не скормил.
— Старшой, сошел Захар. С волками.
Круз выматерился про себя.
— Сидим до рассвета. С места не двигаться. Даже если будут на помощь звать. Понял?
— Понял, старшой.
Последыш растворился в сумраке. Круз выматерился про себя еще раз и принялся вслушиваться в ночь, стараясь различить звук возвращающейся стаи. Но до рассвета так никто и не вернулся.
Круз объявил, что никого ждать не будут и двинутся, как только танк починят. Отправил щенков искать трупы по кустам. А сам занялся пленным.
Тому было лет одиннадцать, не больше. Всклокоченный, чумазый, в драной рубашонке. Поскуливал тихонько, всхлипывая, — правая нога распухла в лодыжке, и ступня торчала вкось.
— Э-э, — вздохнул Круз, присев на корточки. — Сурово тебя. Как зовут?
Мальчишка всхлипнул и, сопнув, сосредоточенно плюнул.
— Ботинки мне чистить собрался, что ли? — спросил Круз, усмехнувшись. — Чего злишься? Не мы на вас полезли. Нам вообще до вас дела нет. Чего сопишь? Болит? Давай помогу. А потом ногу твою вправим, как новенькая будет.
Круз достал из кармана ампулу.
С мальчишкой произошло странное. Он побелел, затрясся. Вздернулся, принялся сгибаться и разгибаться, словно уползти хотел. Вдавился в дерево спиной.
— Нет, не надо… не надо этого… пусть болит… я сильный… я… он вас всех… я…
— Ты чего? — удивился Круз.
И, ухватив, вогнал иглу.
Мальчишка замер. А потом, дрогнув, заревел. Заголосил, заверещал. Круз, поразмыслив, выдал оплеуху. Затем еще одну.
— Ну, полегчало? Сейчас ногу твою посмотрим. Да не шарахайся ты, не должно болеть. Сейчас еще немного, занеметь должно. Лежи тихо, етит твою!
Ощупал. Вроде кости целы. Сустав вправить надо. Примерился, потянул. Дернул!
— Ну-ну, не верещи уже. Готово. Связки потянул, так что бегать недельку-другую не сможешь. Но тебе и ни к чему.
— У него бутылки с бензином были, — буркнул Правый. — Я его у самого танка взял.
— Он придет, он всех вас съест, дерьмоеды. Дерьмоеды!
— Не хорохорься, — буркнул Правый. — Я тебе кишки к дереву привяжу и вокруг бегать заставлю.
— Он придет!
— Кто это — он? — осведомился Круз.
— Он сильный! Он всех дерьмоедов сотрет! Он поселит нас в светлых домах! Мы все не уйдем, все сильные станем! Дерьмоеды! Ненавижу! Дерьмоеды!
— Отчего дерьмоеды? Как все едим. Хлеб, мясо, молоко… чего-то тебя, малый, переклинило, — заметил Круз добродушно. — Тебя как?
— Я воин!
— Хм… может, у них, как у вас, пока не вырос, имен нет? Так тебя, что ли, и зовут «воин»? А кого у вас не зовут «воин»?
— Воин… — Правый поморщился. — Щегол глупый ты, а не воин. Вон, глянь на своих.
Вздернул за шиворот. Занес за танк. Там лежали рядком, глядя в солнце, пять тщедушных тел.
— Глянь. И чего вы здесь хотели, а? Зачем лезли?
— Оставь ребенка, — сказал тихо Дан.
— Это его добыча, — заметил Круз. — Я уж не говорю про то, что он нас живьем хотел сжечь.
— Оставь ребенка!
Правый выпустил мальчишку — чтобы левой рукой ухватить прыгнувшую Верку, а правой выдернуть из ее руки гаечный ключ.
— Пусти! Пусти! Я сейчас этого гада… гаденок… они же всех режут, всех, Ирку как свинью, а она на седьмом месяце была!
— Молчи! — посоветовал Правый.
Верка смолкла. Потом заплакала, уткнувшись Правому в руку.
— Вы меня извините, пожалуйста, — сказал появившийся из танка Саша, мазутно-солидольный, потный и красноухий. — Но вы его, мне кажется, зря лечите. Они… в общем, мы с ними дело имели, так. Мы одну их боевую группу поймали… газом слезоточивым накрыли и взяли. Они наших союзных убивали… все как девушка говорит. Никого не оставляют — ни детей, ни беременных.
— И что? — осведомился Круз.
— Ну, один медсестре глаз выдавил. Мы потом обработали пару, чтоб языки развязать. Это психопаты, честное слово. Они хоть малые, но совсем, совсем… убийцы. Они думают, что самый храбрый и кто больше убьет, не умрет, а взрослым станет. Их посылают с севера. Мы с теми говорили, кто их посылает. Они ничего не хотят — ни торговать, ни людей от нас. Хотят просто, чтоб мы умерли, и все. Вы простите, но, если вы его отпустите, он или убьет кого, или приведет другую их банду.
— У нас проблема, — заключил Круз.
— Это же ребенок! — сказал Дан.
Ребенок, глядя на них, засмеялся. Потом плюнул на ботинок Крузу. А Дан сказал грустно:
— Придержите его, хорошо? Я пробы возьму.
В следующие пять минут ребенок визжал, покрывался красными пятнами, ревел, лягался и пускал слюни — хотя Дан еще и не коснулся его иглой. А когда игла наконец вошла и покинула тело, унося каплю крови, мальчишка замер, оледенев от ужаса. Дан содрал пленку с теста, уронил каплю. Закатал тест в пленку, вложил в тетрадь, записал. Заглянул в толстую книжечку. Сказал задумчиво: «Неожиданно. Даже и не знаю».
— Чего?
— Концентрация в крови у него запредельная. Если он не иммунный каким-то странным и непонятным способом, то уже давно должен был оцепенеть. А он же и боль чувствует… и на обезболивающее среагировал! Не понимаю.
— Это потому что из нас получаются люди. Настоящие. А вы — дерьмоеды, — объявил мальчишка. — Вы все сдохнете. Он вас сотрет. Нашими руками.
— Старшой, мне его отдашь или как? — спросил Правый угрюмо.
— Если он настоящий человек, пусть могилы выкопает своим, — велел Круз. — А там посмотрим.
К большому Крузову удивлению, мальчишка лопату взял и принялся копать — правда, перед тем попытавшись снести ею голову Последышу. Последыш голову свою снести не позволил, лопату поймал, положил и отвесил настоящему человеку, размахивающему изо всех сил кулаками, восемнадцать щелбанов, объясняя попутно, кто такие сопляки и чем они отличаются от настоящих воинов. Мальчишка хотел заплакать, но передумал и заявил, что его укололи и отравили, а иначе бы он Последыша в порошок стер и застрелил, и вообще — скоро он придет и сотрет.
— Достал ты уже долдонить про «сотрет», — сказал Последыш. — Сам не можешь ничего, вот и долдонишь про большого и сильного, который придет. Копай, если силенок хватит лопатой шевелить. Вон, твои завоняют скоро. Воины. Тьфу.
В сумерках вернулся Захар. Подозрительно чистый и ухмыляющийся. А на шерсти волчьих морд осталась кровь. Посмотрел на мальчишку, забрасывавшего глиноземом общую могилу. Хохотнул. И отрапортовал Крузу:
— Батя, Захар явился. Ты не злись — ты ведь не приказывал не гнаться за недоносками, правда? Вот я и погулял чуток, все равно Саша пока еще отремонтирует… И серым моим забава, и знахарева псинка развлеклась. Правда, Хук?
Хук поглядел и рыкнул глухо.
— Любит он меня. И серых любит. А уж они его…
— Я рад, что ты вернулся. Но впредь — если ты уйдешь еще раз, уже не вернешься к нам. Понял?
— Понял, чего не понять. Батя прикажет, и Захар никуда, это точно. Батя, а с мальцом этим что? Он че, своих закопал? О, недоносок. Батя, можно, мои серуньки с ним позабавятся? Глянь, как смотрят. Они эту породу дурную за километр чуют. У них кровь смердит, у извергов малых.
— Как? — спросил Дан. — Твои собаки отличают по запаху таких, как он?
— А то! Если б не так, нас всех давно бы под корень. И не надо собаками обзываться. Они — волки! Настоящие.
— Хорошо, пусть волки. Они отличают, скажем, меня от его? — Дан показал на Круза.
— Шибздиков отличают, некоторых. Вас — нет. Чего вас отличать, вы ж как мы. Вас только, знахарь, отличают — вы пахнете всякими отравами, как вас не различить. А у этих кровь смердит, хоть ты их сутки в реке полощи. Батя, можно мне, с серыми-то?
— Нет, — сказал Круз. — Это добыча Правого. А пока он доверил ее мне. Мы заберем его с собой, пока нужно будет. И ты, Захар, должен следить за ним.
— Ну ни хера себе, батя, ну ты мне удружил. Шибзда сперва, а потом недоноска. Да что я тебе, мамка? Ну, не смотри так, я понял, понял. Захар батю не обидит. Эй, недоносок! А ну сюда, щас я тебе пысу-то потру!
Еще день потеряли, пытаясь запастись топливом в захолустном городишке, оснащенном по непонятной причине восемью бензоколонками. Хотя запасов хватило бы на полтысячи километров, Круз решил подстраховаться. «Шестьдесят четвертый» жрал соляр, как бык траву. Ночью стая диких собак шакальего вида пыталась сожрать Хука, и Леший, старший Захаров волк, лишился половины уха.
А после попали на поле танковой смерти.
Было это совсем не так, как под окруженным минами городом. Там дрались, горели, рвались напролом, из последних сил, разменивая смерть на смерть, зияя драным железом дыр. А здесь — будто роняли на ходу изношенное, истощались, утихали, бросали. Между траками проросла трава, сирень прикрыла груды тряпья, и стекла очков, еще держащихся на голом костяке, блестели из одуванчиков. Танки, БМП, грузовики, транспортеры, инженерные машины, самоходки, зенитки — уткнувшиеся в склоны пологих холмов, завязшие в мелкой речушке, скученные, раскрытые, нелепые. Поле ржавеющих, облезлых бугров.
Круз сперва хотел напрямик — столько уже времени потеряли! Но Дан трясущимся пальцем показал на шкалу датчика радиации, и Круз, матерясь про себя, погнал машину прочь, на запад, потом на север, по блеклым березовым рощицам и молодым ельникам. Полдня вытаскивали «шестьдесят четвертый» из болота. Хотели бросить, но лейтенант Саша, уже превратившийся в Шурку-шибзда, тремя деревьями и тросом танк высвободил.
Когда вдоль остатков шоссе потянулись нескончаемые руины, а вдалеке замаячили пустоглазые скелеты высоток, кончался шестой день пути от города минных полей.
Весь вечер Круз на пару с Шуркой пытались выйти на связь. И всю ночь, сменяя друг друга. И утро. Утром пробился странный голос, шепелявивший по-испански. А за ним — голос Григория Яковлевича, ясный и холодный. Григорий Яковлевич приказал немедленно объясниться. Круз, поразмыслив, в диалог решил не вступать. Григорий Яковлевич пообещал последствия. На что Круз, внезапно рассвирепев, за три минуты сообщил Григорию Яковлевичу свои мысли о нем, о минах, о городе, об огнепоклонниках, налоксоне, карателях, попытке взять Дана в заложники и некоторых телесных частях. Неожиданно Григорий Яковлевич рассмеялся — добродушно, по-старчески. И заметил, что Круз со товарищи — крепкие орешки. Пусть им повезет. На общее ведь благо стараются, правда? И отключился.
А через пятнадцать минут вышел на связь тот самый «восемь-пе», обещанный хозяин несметных знаний и штаммов. Не удивился, но объяснил, куда, как, сколько и почему. Круз пообещал явиться и, отключившись, минут десять сидел молча, пытаясь справиться с мыслями.
— Убьют, — сказал нерешительно бывший лейтенант Шурка.
— Угу, — согласился Круз, жуя спичку.
— Нет, — сказал Дан. — Если вы думаете, что им жаль отребья, отправленного с нами, — то зря. Думаю, Гриша в самом деле хотел помочь общему делу. Мы поедем.
— Как скажешь. Только молодняк я с собой не потяну.
Все же Последыша пришлось взять с собой. Остальные с радостью остались в молодом леске рядом с чередой провалившихся внутрь себя особняков за ржавыми заборами. Но когда Круз уже собрался лезть внутрь БМП — лучше на ней, проворная она, не то что старый придавленный кит «шестьдесят четвертый». — Последыш появился рядом и, ухмыляясь до веснушек, сообщил:
— А стрелять-то как, старшой, а?
И шмыгнул в башню.
Так и отправились втроем по колдобистому шоссе в пейзаж, напоминающий ущелье после селя.
Здешние руины произошли странно. Обычно — лезет зеленая поросль, проседают крыши, в заборы лезет сирень, и птицы, облюбовав щели, беззаботно гадят на ветшающую доску. А здесь будто завелась особая домушная плесень, грибная порча, изглодавшая стены фальшивого, из опилок склеенного дерева, фенольные балки, нечеловечески роскошные слоистые стекла в раме, дерево напоминающей только раскраскою. Все это тлело, косилось, складывалось, ползло, мшело, превращаясь в месиво, слизкое даже на взгляд. Болото вспучилось, выдавив гнилые кости.
Когда пошли скелеты многоэтажек, лучше не стало. Будто на их крыши вылили по цистерне непомерно тяжелой, вязкой грязи, и все эти годы она ползла, ползла, продавливалась в окна, смердела, разлагалась, там заводились членистоногие и перепончатые, жрали друг дружку, гадили и тем лишь добавляли в медленную волну гнуси, пожиравшую бывшие жилища.
Круза тошнило. Еще удивительно — в опустелых городах окраины заполоняли брошенные машины. Но не здесь. Ни единого ржавого остова на дороге или по обочинам. Там, дальше, среди хлама и кустов — торчат покатые разъеденные крыши.
И вдруг, сигналом тревоги — броневик. Вроде инкассаторского. Раскрашенный по-цыплячьи, непристойно яркий. Разорванный взрывом почти надвое. И застрявший в амбразуре, уткнувшийся в небо ствол «калаша».
— Последыш, — позвал Круз ненужно. — Наготове будь. Не главным, тридцать седьмым.
— Спокойно, старшой. Все держим.
Проспект. Осклизлые руины. Скелет троллейбуса.
Почему здесь нет зелени? Ни деревьев, ни завалящего репья?
— Нам направо, — сообщил Дан, глядя в карту.
Через пять минут Круз остановил машину и сказал: «Так вот чего машин нет!» Метрах в двухстах впереди проспект перегораживала огромная, метров шести высотой груда автохлама. Не наобум сваленного — уложенного вроде кирпичей в стену, ровно от одной многоэтажки до другой. Плесневатая, болотно-мазутного вида вязкая жижа лепилась к ржавой автобаррикаде, сцепляла остовы, ползла по асфальту — и прорастала бархатистым серо-зеленым мхом.
— Можно попробовать сюда, — показал Дан по карте, — и сюда.
Круз повернул машину. Поморщился брезгливо, когда гусеницы вдавились в мягкую слизь. Улица. Поворот, еще улица. Снова баррикада, уже пониже — но длинная.
— Во дворах наверняка то же самое, — подумал вслух Дан.
Круз свернул еще раз. И еще.
— А тут стена им не помогла, — заметил Дан.
Груда авто перегораживала площадь впереди — но на высоту, самое большее, в полметра. Выглядело это так, будто асфальт просел, провалился в подземную пустоту, увлекая все нагроможденное на нем. А поверх в паре мест кто-то заботливо уложил бетонные плиты. Они ощутимо вздрогнули под тяжестью БМП.
А потом Круз остановился. Вылез наружу. Уселся на броню. Озабоченный Последыш выглянул, повертел лохматой головой.
— Старшой, ты чего?
— Ничего. Вспомнилось. Я здесь был, когда мне столько лет было, сколько тебе сейчас. Это цирк был.
— Ледник, что ли?
— Нет, место, где зверей показывали. Обученных. И клоуны. И люди на канате плясали.
Последыш изобразил понимание.
— А каких зверей обучали?
— Всяких. Львов, тигров. Слонов даже.
— И волков?
— И волков тоже.
— Сильное племя, — заключил Последыш уважительно. — Тигров, надо же.
— Ты наготове будь, — посоветовал Круз, вздохнув. — Пахнет тут плохо. Очень.
Его и в самом деле от самого въезда в город грызло ощущение взгляда: не холодного и смертоносного, как в прицел из засады, а жадного, любопытного, настойчивого — так голодный хищник приглядывается к незнакомому зверю, угрожающему, но очевидно лакомому. Но тут место хорошее. Открытое. Безопасное — если никто, конечно, ничем дальнобойно-противотанковым не озаботился.
Здание цирка почти не изменилось. Разве что оплесневело. И вокруг все на удивление похоже на прежнее. Дома, проспект. Только деревьев нет. И ротонды, входы на «Университетскую», удивительно испарились, не оставив и руин.
— Здесь? — переспросил Круз.
— Здесь, — заверил Дан, выбираясь из люка.
— Оставайся внутри, — посоветовал Круз.
— Я…
— Пожалуйста, внутри!
Минуты ползли как стекло, пустые и прозрачные насквозь. А Круз играл сам с собой в «мы-посмотрим-влево-вправо». Тут важно было не допустить никакой регулярности. Смотреть полминуты налево, полминуты направо — лучший способ не заметить ничего ни там, ни здесь. Нужно вообразить, как бросаешь кубик. Или два. Но два сразу трудней представить.
Затем из череды минут выполз легкий, неровный звук шагов. Забавно, насколько громко, странно и предательски звучат шаги в мертвом городе, где нет даже воробьев и травы. Крузу захотелось курить. Он курил два года, год в армии и год после, пока не обнаружил способ убийства времени проще и дешевле. Но ритуал: добыча огня, вдох, выдох, жест — лучшее из успокаивающих, придуманных человеком.
А ведь грамотно идти пытаются. Слева, справа. Спецы хреновы. Перебегают.
— Последыш, — позвал Круз негромко.
— А, старшой?
— Если что, ты даешь газу и драпаешь, не ожидая меня. Понял? Понял?
— Понял, старшой. Только зачем…
— Все.
— Все так все.
Круз подождал немного, прислушиваясь. Слез. Пошел к цирку, поднял правую руку, показал пустую ладонь. Когда из-за парапетов перехода выглянули две фигуры в серых комбинезонах, хотел поприветствовать. Но слова застряли в глотке, когда увидел лица. Вернее, то, что было на месте лиц, — багровые, дряблые, обвислые, бесформенные синюшно-фиолетовые куски гниющего мяса.
Впрочем, мясолицые оказались вовсе нестрашными — когда посмотришь на них пару часов, уже вроде и как надо, и глаз не режет. Куда жутче смотрелись те, у кого лица были как припудренные — мучнистые, разбряклые, роняющие белесые хлопья. Безносые, безгубые. Пузырчатые, склизкие грозди гниющей плоти, выеденные гноем глаза. Были беспалые, безногие, раздувшиеся пузырем, изъязвленные, сочащиеся сукровицей, обмотанные, кульгавые. Все — суетились, хлопотали, спешили. Тащили, ковырялись, щелкали тумблерами, копали, шили. Все при делах. И только вовсе обглодок, безногий и слепой, сидел в углу, скребясь уцелевшим пальцем, и подвывал тоненько, переливчато — пел. Ему не мешали.
— Так и живем, — сказал Во, отхлебнув чаю.
— Не так уж плохо, — заметил Дан вежливо, отхлебнув чаю. И не поморщился.
Круз поразился. Из своей кружки он так и не отважился хлебнуть. Даже делать вид не старался — от запаха слезы наворачивались. А если подумать, что заваривает кто-нибудь из этих, теряющих пальцы в кастрюлях, — вчерашняя тушенка наружу просится. Через верх.
— Главное, мы выживаем, — заключил Во важно. — И даже прирост есть. По здоровым, что главнее всего. Оно только на вид страшно, правда? Лепра — она же не заразная. И живут прокаженные долго. По десять, двадцать лет могут жить. Прокаженные женщины даже детей здоровых могут иметь. И — заметьте! — иммунитет полнейший. Пол-ней-ший! — Во даже палец поднял для пущей значительности.
— А когда заражаете? — спросил Дан, отхлебнув.
— Обычно к половой зрелости. У некоторых раньше на пару лет счастье подступает, у ребят в особенности.
— И всем помогает?
— Хм… эффективность, конечно, не стопроцентная… Но вы же понимаете, коллега, тут даже пятьдесят процентов — огромный успех!
— Конечно, конечно.
— Из прокаженных — отличные солдаты. Болевой порог у них низкий, а реакции — не хуже, чем у здоровых. Выродки нас боятся! В год всего пара-тройка набегов, не больше — силы наши прощупывают. А коллег наших из центра — увы! — одолели. Выжгли подчистую. Все потому, что коллеги ставку сделали на молодость. Набирали солдат из подростков, которые признаки показывают.
— Мы встречались с таким, — заметил Круз.
— О да, это распространенная практика. Из детей получаются ужасные убийцы, если страх боли исчезает. Но… — Во снова поднял палец, тонкий, измазанный чернилами, с обгрызенным ногтем. — В городской войне главное — опыт и умение. Одна бестолковая храбрость только материал расходует. Мы коллегам даже боевые группы одалживали. Но — увы! Двух лет еще нет, как выродки их баррикады снизу подорвали, а потом стадом — и всех, всех. Даже женщин не взяли. Выродки, да. — Во вздохнул. — Иногда я просто впадаю в отчаяние, думая, в какую нравственную бездну катится человечество. Это же ужас: плодятся там, в подвалах, едят человечину, говорить едва могут, из всего человеческого только умение стрелять и осталось. Но считают себя людьми, а нас — отбросами, годными лишь в крематорий. Не удивительно ли?
Последыш хмыкнул.
— Вы только гляньте в окно! Какой вид! Мы все сохранили! Деревья! У нас даже птицы живут! А выродки же все уничтожили, все!
Круз кивал, послушно глядя в большое, на полкомнаты, окно и на Воробьевы горы за ним. В самом деле, приятно глазу — рыже-буро-зеленая поросль на приречных склонах, газоны на площади, выложенные цветными камушками. Дальше, правда, за рекой, будто зубами гнилыми все утыкано.
— Простите, — попросил Круз вежливо, — я, может, глупость скажу. Но вот я не понимаю, зачем вы тут сидите. За городом масса земель свободных и врагов куда меньше. Вы могли бы землю возделывать, разводить…
Во посмотрел на него, и Круз поперхнулся.
— Да ничего, ничего, — успокоил Во. — У нас здесь и плантации, и козы с курами. А город… хм… вот вы ко мне пришли, так, не я к вам? Здесь — центр знания, культуры, разума, наконец! Здесь сохраняется гордое имя человека разумного! Здесь — надежда человечества. Разве нет?
— Конечно, — подтвердил Дан. — Ваши необыкновенные знания меня к вам и привели. Меня уверяли, что ваша коллекция штаммов — самая богатая!
— О да, да! — вскричал Во. — После обеда мы непременно, непременно отправимся в закрома, да. А сейчас — отдыхайте, лакомьтесь. Сознайтесь, ведь вы, должно быть, нигде такого вкусного не пробовали?
Круз поперхнулся снова.
— Да, — вымолвил Дан, напряженно глядя.
Во пригладил теменные волосики и открыл секрет:
— Это из грибочков. Под стеклом растут, с травкой завариваем. Бодрит и вкусней «Ахмада»! Помните еще, что такое «Ахмад»?
Некоторое время все молчали.
— Мне можно вопрос? — наконец подал голос Круз.
— Разумеется. — Во снисходительно улыбнулся.
— Мы видели, когда сюда ехали, баррикады из автомобилей… это ваша линия обороны?
— Да, это наша старая идея. Сделать стену, сдержать выродков, орды диких. Увы, идея себя не оправдала. Проще оказалось закупорить подземные коммуникации и оставить открытое пространство вокруг нашей… хм… базы. Выродки — они все с клаустрофобией. Десятки лет под землей, в прежнем метро, знаете ли… И сил меньше нужно, чтобы их сдерживать. Правда, наша территория уменьшилась, но нам хватает. Более чем. Зато сейчас мы в безопасности.
Секунд через тридцать после этих слов где-то внизу, в подвалах огромного университетского здания, грохнуло. Негромко, но так, что звякнули чашки на столе — на двадцатом этаже огромного, на стервятника похожего здания, когда-то вмещавшего лучший университет огромной страны.
В комнату влетел, меняясь лицом, тонкопястый кудрявый юноша, вскричавший:
— Валентин, они в подвалах! Валентин!
— Тише, Григорий, тише, — посоветовал Во.
И добавил, обращаясь к гостям:
— Пожалуйста, подождите здесь. У нас срочные дела. Вам ничего не угрожает, уверяю вас. Подождите.
И скрылся за дверью из мореного дуба. А Круз, ухмыляясь, вылил бурду из кружки под фикус.
18
За последние полтораста лет человечество выработало новый рефлекс — удирать под землю. Обстрелы, «летающие крепости» и привычка считать в килотоннах поместили почти всякую идею выживания под землю. Потому, когда разразилось счастье, имущие и могущие дружно рванулись вниз.
Большинство из рванувшихся спокойно умерло в хорошо кондиционированных, ухоженных, комфортных, разумных убежищах, снабженных едой, алкоголем и секретаршами. А с выжившими происходило странное, порой много страннее, чем на поверхности.
Доктор Коган, глумясь, открыл Крузу, что счастье наконец доказало всем и без того давно известное — что в генштабах сидели безнадежные гении, стопроцентно готовые к давно прошедшим бедам. И что военной мощью Соединенных Штатов уже третий месяц управляет главный сержант Нельсон Ку, чья фамилия на бразильском сленге означает «анальное отверстие». Какой ядерный чемоданчик? Бог мой, где, куда, зачем? Теперь главная забота мистера Ку — вытащить из туннелей всех немыслимых штабных убежищ беременных секретарш и практиканток, пока они не переели друг дружку.
В тесноте подземелий счастье действовало куда страшнее, чем наверху. И налоксоновая депрессия приходила быстрей.
Впервые Круз увидел, чем кончается налоксон, как раз под землей — в нью-йоркском метро. Круз был с тремя бойцами и мисс Эмерсон. Мисс должна была руководить поисками, но превратилась в блюющий мешок весом в пятьдесят с половиной килограммов. Крузу пришлось волочить ее на плечах и карабкаться с нею по пожарной лестнице. Продукты испуга мисс Эмерсон затекли ему под бронежилет.
Люди любят сбиваться в толпу. Древнее, еще рыбье чувство безопасности. Плюс подземный рефлекс. Нью-йоркское метро превратилось в забитую доверху ночлежку. Там спали, ели, совокуплялись, получали требуемое, зарабатывали и думали о жизни. Там пахло, воняло, кричало и существовали тараканы. Потом сквозь плотность в человека на квадратный метр прошли с бензопилой. И с гранатометом.
Кровь хлюпала под ногами, текла со стен, капала с проводов. Мясорубка. Круз сперва смотрел под ноги, стараясь не ступить на мягкое. Потом перестал. А вскоре пришлось уложить мисс Эмерсон за груду трупов с кишками наружу и стрелять.
С теми, кого не учили стрелять и прятаться от стреляющих, управлялись проще. Неученые любили сидеть над умирающими. Выковыряют глаз, отрежут палец и сидят, слушая стоны, прерывистое, замирающее дыхание. Или, привязав, не торопясь убивают, смеясь и кидая друг в дружку обрезками с еще живого. Неученых убивали быстро. Те и убегать толком не убегали. Должно быть, страх умирал в них вместе с рассудком. А может, своя смерть виделась им таким же удовольствием, единственным из оставшихся, как смерть чужая?
Куда хуже приходилось с полицейскими, национальными гвардейцами, спецназом. Те стреляли и прятались, потому что хотели и умели. Убивать, оставаясь невредимым, — это сидело в них так глубоко, что и налоксон добраться не мог. Они убивали, пока не кончались патроны. Убивали всех, кому не повезло оказаться в одной банде с ними, — как окруженцы посреди Афганистана.
В метро Крузу тоже пришлось стрелять до последнего патрона. А потом были кабар и обломок трубы. Круз думал, что останется среди месива и разодранных трупов, рядом с последним из своих бойцов, схватившимся за торчащий из живота полутораметровый прут. Круз оставался один перед пятью ошалелыми, залитыми кровью отморозками, хромой и с разбитыми пальцами на правой руке. Но мисс Эмерсон вдруг превратилась из мешка в существо с пистолетом, небольшеньким, дамского фасона «кольтом», и, выстрелив пять раз, попала четыре. Пятому Круз отсек щеку кабаром и проткнул глотку. А затем мисс Эмерсон, вереща, отшвырнула пистолет и принялась сдирать с себя блузку, брючки и прочие одежные части, пропитанные чужими и своими телесными жижами. Пока Круз, скрипя зубами, поднимал пистолет, смутно надеясь на запасную обойму, мисс содрала с себя все и принялась драть кожу наманикюренными ногтями, стараясь отскрести присохшее. Круз даже замер на минуту, глядя на всклокоченную, трясущуюся, мелкую, грязную и повсеместно голую девушку с потеками, затем размахнулся и шлепнул. И еще раз. Потом взвалил мисс Эмерсон на плечо и, придерживая за мягкую нечистую попу, полез наверх.
Мисс Эмерсон жила не под налоксоном. Она была одной из очень редких иммунных. Она доучивалась на палеолимнолога в университете Энн-Арбора и страдала шизоидностью. После похода в метро ее качества, полезные доктору Когану, улучшились. Еще она принялась стрелять по полтора часа в день в тире под лабораториями, а в прочее свободное время совокупляться. Она отдавалась всем подряд — мрачно, героически, ожесточенно, будто решила протереться насквозь, вылудиться изнутри, сломать в себе что-то непонятное, но мешающее. Вскоре большинство мужчин стали от нее шарахаться, хотя, закрыв глаза, мисс Эмерсон делалась очень красивой как в одетом, так и в голом виде. Но взгляд ее спокойно выдерживал только Круз, ценивший мисс Эмерсон за точность стрельбы и умение совершенно не стеснять своим присутствием. Круз воспринимал ее как теплую стреляющую мебель. А она в конце концов перебралась к Крузу вместе с помадами и лосьонами.
Когда маленький ирландец со стандартным именем О'Нил пошел по лабораториям с автоматом в руках, мисс Эмерсон спасла Круза. С тремя пулями в животе она высадила обойму в шлем, скрывавший ирландскую голову. Ирландец аккуратно добил мисс, потом стал перед ней на колени и ткнулся дырявым шлемом в стену. А Круз выбрался из-под стола и сломал О'Нилу шею.
Второй кризис был как пожар, выплеснувшийся из-под земли. В мелкие города он перетекал по автострадам с бандами угрюмых грязных убийц, вчера еще бывших угрюмыми клерками и продавцами. В Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе каждую ночь метро выблевывало воющий, стреляющий, жгущий, трясущийся человечий послед. Они убивали всех подряд — сперва быстро, пока не насыщались, потом принимались развлекаться. Некоторых уносили в метро — чтобы развлечься, отдохнув. Иногда унесенные сами становились бандитами.
Убивать их было некому, кроме таких же, как они. Власть сыпалась карточным домиком. Четвертый за месяц глава нью-йоркской полиции отправил все наличные силы в метро, с приказом стрелять во все движущееся. Из метро никто не вернулся. Зато на бандитах появились униформа и бронежилеты.
Больше всего Круза поражало то, что налоксоновые люди, старательно поддерживавшие нормальность, ложились под нож как куры. Не замечали, что рядом режут и вытряхивают внутренности. Бабушка с химзавивкой ровно через три с половиной минуты после того, как двух ее соседей убили топором на лестнице и спихнули в пролет, пришла с ведерком замывать клетку и аккуратно собрала в совок расплескавшийся мозг. Круз тогда высунулся раньше времени и чуть не получил железом по носу. Но отдернулся, выпалил — а бабушка, вздохнув горестно, принялась отпихивать к соседской двери свалившееся тело.
Доктор Коган хохотал, глумясь. И сказал Крузу, наливая «Курвуазье»:
— Дорогой мой, нынешний мир кончился. Смотри на губы: кон-чил-ся! И хуже всего кончился для тех, кто за старое упорнее цепляется. Где-нибудь в Гондурасе людишки уже мертвецов закопали и принялись по-новому жить, со счастьем под ручку. А мы еще подыхаем от него. Кстати, вполне может быть, что метро твое, которым ты кошмаришь, как раз и есть спасение свободного американского народа. Именно там, глядишь, и сделается человечье племя, способное плодиться и выжить.
Потом заметил, глядя хмуро на нетронутую рюмку перед Крузом:
— Ты, наверное, так и не понял. Сейчас речь идет не о том, что Вася Джону или Джон Васе башку размозжил, и это плохо. Речь идет о том, выживет вид гомо сапиенс или нет. И если ради этого придется жрать младенцев и совокупляться с собаками — я обеими руками за! А под землей — там все хуже, много хуже, чем на поверхности. Там стресс, темнота, голод, страх. Как раз тот самый коктейль, из которого выварилось человечество. Откуда оно и выползет снова — доедать нас, недовымерших мастодонтов.
Допил коньяк, стал у окна, тощий, хрящеухий, с бороденкой ничтожной, и сказал устало:
— Я, собственно, для чего тебя позвал? По всему видно, дело табак. Я давно уже остров присмотрел в Канаде. Городок там, институт… добраться непросто, и место здоровое. Пока всех наших туда перевезти надо. Глядишь, и выживем.
— Так точно, — ответил Круз.
И пошел. А назавтра случился ирландец О'Нил. Он был отличный профессионал. Круз его очень ценил. После него из всей собранной за пять лет колонии осталось одиннадцать иммунных: трое мужчин и восемь женщин. Из этих одиннадцати стрелять умел только Круз.
19
— Что они там, а? — спросил Последыш, прожевав.
— Жарят, — ответил лаконично Круз.
— Это ужасно! — воскликнул тонкий Григорий. — Ужасно! Они стараются нас запугать! Но напрасно!
— Шмальнули б из танка, что ли? — удивился Последыш.
— Смысл? — спросил Круз, цедя кипяток с лимоном.
— Глупые, невежественные, жестокие дикари! — воскликнул тонкий Григорий. — Они считают, что нашим почечным жиром можно лечить колтун и сифилис!
— А вы что, с ихними-то? — спросил Последыш, ухмыляясь.
— Их бессмысленные тела находят благородное применение, — воскликнул тонкий Григорий. — Они удобряют почву для культурных — подчеркиваю — культурных растений! А дикари нас за это ненавидят! Они — каннибалы — ненавидят! Специально выбрали на другом берегу место, чтобы нам из окон видно было, и варварствуют.
— Хороший вид, — согласился Круз.
Ночная Москва с двадцатого этажа на Воробьевых горах смотрелась прекрасно и загадочно. Искристый свет на горизонте, огни костров, лунный свет на речной глади…
— А дикари ваши грамотно пошли, — заметил Последыш. — Если б пол не провалился, кирдык вам.
— Угу, — согласился Круз, прихлебывая.
— Я так понимаю, у вас бойцов-то всего сотня, а прочие — бабы с малышней и ученики знахарские, вроде тебя, боевого не умеющие, — предположил Последыш.
— Вы не понимаете! — воскликнул тонкий Григорий.
— А че мне понимать? У нас старшой понимает, и знахарь к тому ж. Я что вижу, про то и пою. А вижу я, что сожрут вас подземные.
— Вы не понимаете! У нас было и хуже, да, хуже! Но подземные варвары — они глупы. Они враждуют друг с другом. Да, иногда им удается собрать силы для атаки. Но после первого же успеха они ссорятся, убивают друг друга, и мы легко отвоевываем потерянное! Они — животные. Храбрые, умелые — но всего лишь животные. Как павианы.
— Их, наверное, раз в двадцать больше, чем вас, — предположил Круз.
— Их многие тысячи, — согласился Григорий безрадостно. — На каждой станции — колония, эдакий город-государство. Некоторые из дикарей никогда не видели дневного света. Под землей есть все — вода, пища. Больных они используют как скот и поедают. Их женщины рожают все время, как животные. Они плаценту сырой едят! Дикари!
— Ну да, — согласился Круз и, поразмыслив, добавил: — Вообще-то нам обещали, что с пленниками сможем поговорить. С теми, кого мы с ним, — он кивнул в сторону Последыша, — взяли. В качестве награды. За доблесть.
— Доблесть мы ценим, — ответил Григорий высокомерно. — Но разве доблести нельзя подождать до утра? Валентин сейчас занят с вашим глубокоуважаемым господином Даном. Все устали. Не лучше ли насладиться видом города, прекрасной ночью?
— Вы как высокообразованный человек должны нас понять, — выговорил Круз с усилием. — Война, агрессия, стресс. Право же, некоторая нервная активность нам не повредит. Напротив, поспособствует… э-э… релаксации, да.
— Как хотите. — Григорий пожал тонкими плечами. — Я прикажу проводить вас к дикарям. Они невдалеке. Мы их держим повыше, подальше от подземелий. Пусть увидят, что они потеряли, уйдя под землю.
Держали их над двадцатиэтажной пропастью — в угловой комнате с выломанными окнами и выбитой стеной, прикованными за руки в полуметре от пустоты. Трое: двое вовсе молодых, один постарше. Старшего Круз взял сам. Приложил кирпичом под колено с пяти метров. А молодых числил за собой Последыш, обожавший догонять с кабаром в руках. Один уже вряд ли побежит. У второго, может, и заживет — Последыш, торопясь, резанул выше нужного.
Все трое лежали, скрючившись, уткнув носы в пол — чтоб только не видеть, не чуять пустоты. Юноша Григорий кивнул — и гнилолицые охранники, лязгая цепью, оттащили старшего от края.
Юноша Григорий наклонился.
— Слушай меня, дикарь, — произнес раздельно и медленно, — с тобой хочет говорить наш гость. Если будешь говорить — скажи. Если нет — тебя отведут к высоте, еще ближе, чем раньше. Говори!
— Я буду… буду, — выдохнул тот хрипло.
Отвели в комнату рядом — с одним всего окном, с фонарем на столе. Фонарь смердел керосином.
— Если понадобится помощь — кричите, — посоветовал юноша Григорий, — а я пойду еще почаевничаю, ночью полюбуюсь.
— И удалился жлоб, — заключил Последыш, глядя в закрытую дверь.
— Ну зачем так? — пожурил Круз. — Накормил неплохо.
— Жлоб. Мы таких на круг, и нож в руки. Пусть потанцуют, покажут, как оно, по-настоящему. А то — языком молоть… Пузырь лоховой.
— Молодой ты еще. Щенок. — Круз вздохнул. — Посмотри-ка лучше, как там у хлопца спина.
Последыш задрал рубаху на спине пленного, посветил фонарем. Выругался сквозь зубы.
— Старшой, там вшей больше жизни! О, холера! Тьфу!.. А так — нормально, опухло не очень.
— Ребра целы?
Последыш ткнул пальцем. Пленный охнул.
— Целы. Если б поломано, орал бы, — заключил Последыш удовлетворенно.
— Хорошо. Слушай сюда, — сказал Круз пленному. — Мы здесь — гости. Если ты не хочешь нас убить — мы не враги тебе. Ты — моя добыча. Я могу забрать тебя с собой и отпустить. А могу оставить здесь. Тут из вас удобрение делают, правда? Так вот, заберу я тебя или нет, зависит от того, что ты мне расскажешь. Мне не нужны ваши военные секреты — сколько там у вас солдат и где вы что готовите. Мне интересно, как вы выживаете. Что едите, как лечитесь. Как вас счастье забирает и как не забирает. Говори, я слушаю. Что вы под землей едите-то?
Пленный смотрел исподлобья. На носу его дрожала крупная склизкая капля.
— Язык я ему вроде не резал, — сказал Последыш задумчиво. — Но могу.
— Все едим, — выговорил пленный хрипло. — Говно. И ежиков.
— Как тебя зовут? — спросил Круз.
— Митя. Митяй. С Вернадского.
— Вернадского… это станция неподалеку?
— Ну. Взорвали ее, — сообщил угрюмо. — Там маманя жила. И семь братанов.
— Семь? А может, и сестры были?
— Тебе чего до баб наших, черный?
— Ты кого черным зовешь, дуралей? — изумился Последыш.
— Все вы черномазые наверху. Люди под землю ушли, а вы, черножопые, остались, жариться без крыши.
— Погоди, — велел Круз. — Все настоящие люди, кого зараза не берет, внизу живут, так? А сверху только уроды, правильно?
Пленник промолчал.
— У вас сколько новорожденных умирает?
— Ты чего, язык проглотил? — спросил Последыш свирепо. — Старшой тебя жалеет, крысу подземную, спасти тебя хочет, а ты понты тут кидаешь?
— Откуда мне знать? — буркнул Митяй. — Рождаются и подыхают, кто их считает? Народу много, жрать на половине станций нечего. Разве что уродов этих.
— А как со счастьем? Ну, когда засыпают и не просыпаются и делать ничего не хотят, улыбаются только?
Митяй ухмыльнулся.
— Говорят, вы их едите?
— Я ж говорил — всякое говно едим. И ежиков.
— Последыш, скажи ему в последний раз, — попросил Круз устало.
— Слушай, ты, — сказал Последыш, сощурившись. — Ты тут понты кидаешь, а ведь ты — никто. Недочеловек. Крыса подземная. Настоящие люди — это те, кто ни солнца не боится, ни высоты, ни холода, ни жары, кто везде может выжить, кто умеет жить. Понял? Ты, крыса, ничего не умеешь, ни бегать, ни драться. Стрелять, и то не умеешь. С пяти шагов в меня не попал. Да если я сейчас тебе пистоль дам, ты со всей обоймы в меня не попадешь ни разу. Знаешь, кто ты? Пустое место. Плесень подземная. Старшой тебя пожалел, потому что он всех жалеет. Все ему интересные — и крысы, и гнилые. Всякая жизнь интересная.
— А ты мне пистолет дай. И посмотрим.
— Развяжи его, — велел Круз. — Дай пээм.
Развязанный, Митяй отошел в угол, потирая опухшие кисти.
— Так где пистолет?
Последыш вынул пистолет, выщелкнул обойму, показал — патроны на месте. Вставил. Швырнул к ногам.
— Давай!
Митяй ухмыльнулся. И вдруг кинулся на пол.
Грохнуло. И еще. С потолка посыпалось. А потом Митяй завопил — тоненько, страшно. Будто заяц в силке.
Кричал Митяй еще с минуту. Потом Круз, подойдя, отвесил ему оплеуху. Митяй замолк, затем заплакал — вздрагивая, подскуливая тоненько.
— Руку ломать не стоило, — заметил Круз, глядя на пухнущее запястье.
— Да я несильно, честное слово. А оно как деревяшка — хрусть. Мы друг дружку сильнее лупим.
В коридоре затопали, и в дверях появились, сопя, мясолицые с автоматами наперевес.
— У нас все нормально, — сообщил Круз. — Разговор с пленным.
— Все нормально, да? Ребята, нормально, — отозвался юноша Григорий из-за спин.
Мясолицые ушли.
— Хочу сказать — мы издевательства над пленными не приемлем, — проинформировал юноша Григорий, — это варварство.
— Он завладел пистолетом. Пытался убить нас.
— Будьте впредь осторожнее, пожалуйста!
— Конечно, — заверил Круз.
— И еще: я попросил бы не умерщвлять пленного до утра. Он должен предстать перед советом, который решит его судьбу. Это наш закон.
— Разумеется.
Последыш хмыкнул.
— Успехов! — пожелал юноша сурово и скрылся.
— Сейчас не будет больно, — пообещал Круз и достал шприц.
Митяй смолк.
— Ну-ну, стрелять не боялись, чего теперь боимся…
— А, — сказал Митяй странно. — А, хы. А-а-а!
— Чего вопишь, придурок? — спросил Последыш и сплюнул.
Митяй замолк снова, задрожал, закрыл глаза.
— Ты говори. Говори, — посоветовал Круз. — Говори, что в голову взбредет. А мы послушаем.
Митяй всхлипнул и заговорил. Он плакал, шмыгал носом, вскрикивал и — говорил, говорил неустанно, боясь оборваться, замолчать хоть на секунду. Круз слушал, кивая, поддакивая, спрашивая коротко — чтобы хоть как-то направить поток слов.
А через полчаса пожалел, что вздумал любопытничать. Сколько раз уже было и сколько раз объясняли, что обычный, средний человек не знает ровным счетом ничего о мире, в котором живет. Знает только крохотный кусок, в котором его жизнь содержится, да и про него рассказать толком не способен. Умение связно рассказать, без лишнего и не отвлекаясь, — детище тысячелетней традиции. В конце концов, в Средние века люди мотались по свету как угорелые, а кто оставил про то рассказы? Пара-тройка школяров, раввинов и монахов. А что уж ожидать от того, кто в своем имени три буквы распознает и тем горд? Этот же тип не из Средневековья, нет. Его народец ракетно ускорился к пещерам. Средневековье проскочили, почти не заметив, и в каменный век не свалились лишь потому, что автоматы под рукой. Сущий ребенок: то хнычет, то хвастает, то грозится, то ноет. И слюни с соплями.
Впрочем, кое-что из бреда все же складывалось в связную картину. Жил подземный народец повсюду: на станциях метро, в проходах, провалах, убежищах и глубоких складах. Растил подземную гадость, дрался, сношался и торговал. На поверхность лазил и торговал с тамошними. Но с поверхности все — уроды больные, известное дело. Настоящие люди — они внизу. Они чужих едят, потому что чужие — они вовсе животные. Баба, если нормального родила, то в силе баба и стоит много. И может менеджером стать над всей станцией, и бабы у нее в совете, а мужики только воюют и товар носят. А у пролетарских ряхи в три полы, они картошку растят под стеклом и гонят из нее. У конечных пшеницу купить можно, зерно такое, вкусное. А сюда полковник гонит, скотина, места ему мало, но все равно гнилых долбить нужно…
— Хватит, — сказал наконец Круз зевающему Последышу. — Пойдем спать.
— А я? А я? — встрепенулся Митяй.
— А ты — здесь, — сообщил Последыш, крутя узел на веревке.
— Тебе он нужен? — спросил Круз, оглядев увязанного Митяя.
— Мне? Зачем?
— Тогда зови здешних, и пошли.
Когда пришли в комнату, где пили грибной чаек, там было пусто и темно. За окном лежали руины огромного города, подсвеченные ленивыми, тусклыми звездами. Да на горизонте, на северо-востоке, мерцало ядовито, трупно.
Круз устроился в кресле, вытянул ноги. И подумал, что смерть можно было выбрать и не такую хлопотную. Потом усталость, уже давно тянувшая веки, навалилась и закрыла глаза.
Когда Круз проснулся, за окном серело предрассветье — зябкое, мокрое. Последыш уже не спал. Стоял у дверей, в одной руке — пээм, в другой — кабар. Круз, чертыхнувшись про себя — в крестец будто песку насыпали, — отскочил к стене, вытянул пистолет, слушая шага по коридору. Нахмурился, махнул Последышу — отбой тревоги.
Дверь толкнули, затем постучали. Круз откинул щеколду.
— Уходим отсюда. Быстро! — приказал Дан, глядя из коридора.
Круз, задавив готовый вырваться вопрос, послушно выбежал в коридор. Дан дышал тяжело, на лице его блестели капли пота.
— Вниз, по лестнице! Да не туда, в конец коридора!
По лестнице скатились кубарем. Внизу Круз подхватил Дана, поволок через вестибюль, мимо баррикады из бетонных блоков. За ней, обратив к потолку припорошенное проказой лицо, всхрапывало тело в бронежилете.
Выскочили из распахнутых настежь дверей, пробежали мимо баррикады снаружи. БМП. Круз, холодея, вскарабкался на башню БМП, дернул люк, свалился внутрь. Шлепнулся на сиденье, потянул, нажал, повернул. Моточудище взрыкнуло.
— Быстро! — закричал Дан, вваливаясь в башню.
Когда проскочили через мост из провалившихся авто, когда оставили за спиной автостену от дома до дома и покатились по гладкому пустому шоссе, Круз спросил наконец:
— А в чем дело?
— Элои, — ответил Дан. — Элои и морлоки.
— Жрут по ночам?
— Они даже и не представляют, — сказал Дан, не слушая. — Живут, суетятся, гордятся собой… а прямо под ними… шайсе! Они рабы, представляешь? Кучка рабов, делающих солдат из тех, кто попадает под счастье. Материал им поставляют снизу. А они держат поверхность против банд-соперников. Хранители культуры, майн гот! И никто, никто ведь не задает никаких вопросов! Уму непостижимо. Ходят, молятся на селектор, понимаешь, на примитивнейший, скрипучий селектор! Этикетки на пробирках переклеивают… майн гот, ну ведь хуже папуасов, которые самолеты из бамбука… невероятно, невероятно… Где оно, так, тут нету… где… — Дан зашарил по карманам.
Круз вытянул тубу.
— Спасибо, — пробормотал Дан, вытряхнул на ладонь таблетки.
Откинулся, вздохнул.
— А штаммы? — спросил Круз осторожно.
— Штаммы? — Дан скривился. — Среди них уже лег десять ни единого нормального биолога нету… какие штаммы? Плесень на стекляшках с этикетками, вот и все штаммы. Культуртрегеры, скажите на милость. Те, снизу, считают их разновидностью поросят. Свиньи неплохо под землей живут.
— Так хоть что полезное от них есть?
— Полезное? Полезное тут было. Те самые сорок килотонн. На этот город четыреста нужно, выжечь все к черту: и подземелья эти, и уродов… все!
— Понял, — сказал на это Круз, а помолчав, добавил: — Так что сейчас?
— Ничего! — отрезал Дан.
Больше он не сказал ничего до самого березового, полуразваленного пригорода, где ждали щенки и Захар. А там сомнения Круза разрешились способом удивительным и неожиданным.
Круз сперва внимания не обратил. Вместе с Последышем вытащили Дана. Тот посерел лицом, обмяк. Уложили в теньке, на крыльце полуразвалившемся. Прибежал Хук, лизал лицо. Заскулил, лег рядом.
Круз, выругавшись про себя, пошел за дом — и услышал незнакомые голоса. На пустыре, рядом с танком, стоял потрепанный, измызганный уазик, и сидели подле него двое парней лет по тридцать, будто вынырнувших из прошлого, в которое Круз уже перестал верить. В тельняшках, засолидоленных брезентовых штанах, в кепках — грязных, истасканных сельмаговских кепках из невообразимых времен пролетариев на плакатах и тринадцатой зарплаты. Парни курили, с наслаждением выпуская кольца, клубы и струи невероятно вонючего дыма.
Перед парнями стоял Захар — раскраснелся, кулачонки стиснул. Ни дать ни взять — оголтелый воробьенок.
— Волки! — крикнул Захар.
— Етить твою! — Один из пришлых, с тусклым якорем на бицепсе, сплюнул. — Вот упертый! Собаки это. Понятное дело, волчья собака. Одичились. Сучка небось с волком того. Для наших лаек это дело обычное. Ты пойми, паря: хоть волк волком с виду, нутро собачье. И окрас не так совсем.
— Сейчас они вам кишки пощупают, вот тогда и поймете, волки или нет! — пообещал Захар.
— Что за шум? — спросил Круз, подходя.
Захар повернулся, замер, открыв рот. Парни встали, сняли кепки, вынули папиросы из ртов.
— Здравствуйте, — сказал неуверенно носитель якоря на бицепсе.
— Здравствуйте, — ответил Круз.
— Мы котласские, приехали приторговаться малость с подземными. Леха я, а он вот — Семен. А вы, дедо, хозяин местный будете?
— Эта земля — не моя, — ответил Круз.
— А, так вы тоже торгануть… — Леха улыбнулся. — Это хорошо. Издалека, небось?
— Издалека.
— Хорошо-то как! Нашим расскажем, интересно ведь, как народ-то живет. Бабы наши старшие ого как охочи до побасок дальних. А вам, чай, и наше интересно будет послушать?
— Еще как, — подтвердил Круз.
Послушать и в самом деле оказалось интересно. Парни знали много и обширно, хотя в памяти их ворожба по вынутому следу мирно и равноправно уживалась со способами очистки бензина и наладки раций. Когда выслушали про экскурсию на БМП в город, переглянулись удивленно. Поинтересовались, впервые ли сюда попали, от кого услышали? Ну, какое дело рисковое учинили — соваться в самое место подземных. Лихие они, не любят, когда так вот. И что, не стреляли даже? К гнилым ездили? Туда, где дом высокий? Ну вы, робята, и даете… Наши пару раз сунулись, было дело… так даже костей не нашли, бабам старшим привезти. Плохое тут место, лихое. Только жрать-то всем надо, а подземные, они хоть и чокнутые в голове, но не вовсе глупые. Мы вот маслица им привезли, соленого. Оно у них первейший продукт. Курево дают — пудами. И молодаек. За пять кило тринадцатилетку нетронутую. Хоть бледные они там, рахитичные. Но наши-то бабы откормят быстро. Жри до отвала, рожай побольше. Народ нам нужен. Мы не северные, у нас тяжелей с мором. Чтоб не брал мор, отправлять в зиму надо, чтоб там росли-рожали. А мы жратву робим. Еще и набегает погань всякая. Тяжело нам. Мы землю большую держим. Только с севера и не набегают. Там ведь наш народ живет. Только скудно там живут, в зиме прячутся. Там надежно, да. Но многих-то не прокормить. Там оленные только живут хорошо, так попробуй в чуме-то проживи! А летом-то, в самое кормежное для оленей время, погань приблудная поодиночке-то и переловит. Нельзя им без нас. Не, пока мы держимся, в снега не уйдем. А ваши-то как? Эти, молодые? Неужто из снегов самых? Крепкие робята, видим. Че-то мы про вас и не слышали. С волками живете? Ну и ну? С настоящими? Или как с этими?
Тут Захар принялся орать, и Круз, прикрикнув на него, принялся расспрашивать про другое. Потому и не дошло сразу. Думал только, как унять мелкорослого. Больное место у него, с волками-собаками.
Зато заметил Дан. Руку поднял ладонью вверх. Встал. Парни смолкли, встали тоже, глядя встревоженно.
— Скажите мне, — попросил Дан хрипло, — скажите, это правда: если женщина родит на Севере, зимой, и если ее ребенок вырастет там, среди снега и зимы в десять месяцев, болезнь счастья его не коснется?
— Ну дык, — ответил Леха неуверенно. — Если вы про мор, когда смеются, а потом засыпают, дык да. Вон, Семен из таких. Это все знают, правда. Зимних, если до усов вырос за полярным, мор не берет. Только там попробуй выживи. Хорошо, если половина дотянет.
— Семен, — выговорил Дан, дрожа. — Семен, мне нужна ваша кровь. Совсем чуть-чуть, пожалуйста! Пожалуйста!
УСПЕХ
1
Та-так, та-так, та-так… полка в плацкарте, мерный перестук. Память. Все — как тогда. И чай в мельхиоровом подстаканнике. И занавеска — застиранная, блеклая, но все еще видно на ней голубым по белому «Лабытнаги». Разве только на окнах решетки. И на задней площадке вместо туалета с тамбуром — турель с пулеметом. А на тендере паровоза — еще одна.
Ложка звякает о стекло. Хороший чай. Черный, терпкий. Только привкус меда портит немного. С сахаром тяжело, так приходится по старинке, с медом.
Вагон покачивается, мерный колесный звук, вокруг — стены, рядом — те, кому привык доверять. И заснул бы по старой памяти. Один из всей команды.
Круз вздохнул. Щенки точно не уснут — они в тесном несущемся ящике как на иголках. Танк — другое дело. Танком управляешь сам. А тут… везут, будто быка на забой. Дан — отдельно. Персона особой важности. В отдельном броневагончике, в компании самой Аделины, номера третьего. Вокруг себя ничего не видит от счастья. Каламбурчик: счастье от вакцины против счастья. Когда в Котласе дали ему у родившихся на Севере кровь взять, аж подпрыгнул. Бегал, поскуливая. Мечта жизни сбывается, как же. Смотреть противно.
А ведь правильно знахарь волчьего народа говорил: пошли мы за хорошей смертью. Разве верилось в успех? Обещал помогать и свою жизнь не знал куда деть. Вот и пошел. И не думал толком, что же будет, если он и в самом деле найдет. Он же полубезумный, Дан. Видно же было, как он сползает в безумие. Найти вакцину для него было последней ниточкой, последней скрепой на расползающемся рассудке. Вот теперь, пожалуй, он сумасшедший целиком — тем особым безумием упертых, исследующе-копающих, когда не видят ничего, кроме бумажек с расчетами или пробирок, не думают ни о чем, кроме них. А хозяйки Котласа — Котласа Великого, пожалуйста! — очень даже думают. Когда поняли, о чем он и про что он, сразу все дали и предоставили. Правда, даже по нужде не выйти без конвоя — так это для безопасности драгоценных гостей, с ними же будущее мира, правильно? Чтоб ни волоска не упало драгоценного. И руки связать, чтоб сам ненароком не выдрал.
Женсовет Котласа Великого — девять огромных, расплывшихся бабищ с сиськами до пояса. И советницы — полчище семенящих, скрюченных, вездесущих старушек. Железный закон — власть, лишь пока женская кровь, пока рожать можешь. Уже не можешь рожать — так и приказывать не можешь, только советуй. Шепчи, а сильные, кто может новую жизнь произвести, послушают, мудрое ты говоришь, от жизни, или уже мертвецкое, от старушечьей злобы. Интересно, как же такая бабья власть установилась?
И кто б думал, что эти расплывшиеся курвы в шелках и золотом шитье, непрерывно жрущие шоколад — признак власти и богатства номер один! — да лузгающие семечки, хихикающие и скребущиеся в потных складках, — настолько ухватисты и проницательны! Как Дана взяли в оборот. И позаботились заодно, чтобы пришлые смуты не наделали.
Круз отодвинул занавеску, посмотрел сквозь мутное стекло на лес за окном. Лес, болота, снова лес. На сотни километров вдоль воркутинской линии — болота и лес. И все эти сотни километров держат: блокпосты, наряды, разъезды. Танки на рельсы поставили, дрезины с пулеметами, подходы ко всем мостам заминировали. Мужское занятие. Да такое, что сколько рук ни дай, все не хватит. Мужчины добывают еду: растят, ловят, выменивают, выискивают. Мужчины воюют, строят, ремонтируют, чистят и учительствуют. Даже новое мастерить пробуют, книжки читают. А женщины — рожают и правят. Через два года после первой женской крови — время рожать первого. Если еще через два года живот не нагуляешь — пойдешь на линию, к мужикам. Если и там не нагуляешь… что ж, рабочих рук не хватает. Вся жизнь — дети, еда, больше детей и больше еды, чтобы снова больше детей. Младенцев и пищу везем в зиму, а из зимы вывозим готовые пухнуть животы и готовые стрелять руки.
В дверь купе постучали.
— Заходи, Последыш, — сообщил Круз.
Дверь отъехала в сторону.
— Здоров будь, старшой, — сказал Последыш, глядя вбок. — Я присяду?
— Садись.
— Старшой, ты знаешь ведь… тошнит Верку. Ее бабы тамошние пощупали, говорят, с дитем она будет, если не выкинет.
— Знаю, — ответил Круз.
— И знахарь вроде нашел, чего искал. Мы вроде на север едем, чтоб проверить окончательно, но вроде и так ясно — сделает он, чего хочет.
— Сделает, — подтвердил Круз.
— Ну и все, — сказал Последыш неуверенно. — Уговор наш вроде кончается. Все домой хотят. И Правый с Веркой, и Левый, и След.
— А ты?
— В том-то и дело, старшой… я, как бы то… не в годах я, и свет повидать охота. У нас же хорошо, когда человек опытный вертается, и польза от того. Я с гобой, а?
— Это как Правый решит.
— Он решит, конечно… но ведь слово твое будет?
— Посмотрим.
— Спасибо! — выдохнул Последыш и удивительно проскользнул в дверь, почти ее не открыв.
Круз усмехнулся. Наивный все-таки, мальчишка. Правый небось сразу понял — когда еще бабы совета принялись расспрашивать походя, лузгая семечки, — где это на Кольском угнездилось племя такое сильное, и сколько от них ходу до Кандалакши, и плавают ли они до Мезенской губы. Отправили вас, щенков, в заложники, в самое ядро силы своей, да подальше от Беломорья. А чтобы дедушка Круз не нервничал, оставили в Котласе, в кольце железных дорог, и Захара с волками, и бывшего лейтенанта Сашу, и приблудыша из малолетних головорезов. Может, и нет дедушке до них дела, а может, и есть. Да и польза народу, конечно. Захара сразу окружила стая недобеременных девах. Не то чтобы тот ходок был отчаянный, но кому такое внимание не льстит? И на долю бедного Сашеньки пара досталась. Впрочем, того сразу в мастерские поставили, пулеметы монтировать.
Котлас Великий, надо же. Бабье гнездо на железной дороге. Сколько всего у них народу? В самом Котласе, надо думать, тысяч пять от силы. Сколько еще в гарнизонах вдоль дороги? А сколько на их севере?
Интересно, что будет, если Дан и в самом деле наладит выпуск вакцины? Война? Взрыв? Вовсе ничего? Вряд ли опыт поможет. Он, опыт этот, про вымирание старого. А тут происходит новое, и здравый смысл трещит по швам.
Тогда, на окраине Москвы, и не почувствовал вовсе, что жизнь повернулась раз и навсегда. Оба торговца маслом, попыхивая сигаретками, охотно согласились — и кровь на анализ дать, и до северных краев проводить. Почему не согласиться — если в опасной дороге два борта с оравой мордоворотов в попутчиках. Сами-то, хоть явно ребята не промах, явились налегке: пара уазиков и чихающий ГАЗ-66. Восемь парней со стволами и старуха. Круз поначалу и не понял, зачем она. Когда увидел торговлю, решил — товар проверять. Торговля происходила на обочине шоссе, на закате, на пустыре за руинами церкви. Солнце, расплывшись ржавчиной, повисло над горизонтом, и тогда на торжище появились подземные — кривоногие, малорослые, в буро-серых лохмотьях, с вымазанными сажей лицами, с «калашами» наперевес. Они сразу рассыпались, оцепили — и Крузу пришлось держать Последыша за ворот, потому что подземный вылез прямо перед Левым и застыл, кривя бескровные губы.
Подземные выпихнули товар — одиннадцать тощих, чумазых, всклокоченных подростков женского пола в синяках, саже и кровоподтеках. Выводили, сдирали с плеч дерюгу и пихали вперед голых — дрожащих, ежащихся, но прикрывающих не срамы и плоские грудки, а глаза. Северяне вытащили пять двадцатилитровых бидонов с маслом. Поставили напротив. Затем вышла старуха — как с картинки столетней давности. В сером пуховом платке, валенках с галошами, бесформенном, будто из войлока свалянном, платье от подбородка по пяток. Подростки тихо скулили от ужаса, когда старуха принялась щупать — теребила соски, заглядывала в рот, меж ягодиц совала дряблые пальцы. Двоих отпихнула, каркнула хрипло: «Порченые!» Леха с Семеном проворно ухватили бидон, поволокли прочь. Подземные принялись совещаться — хрипло, обрывисто. Затем вынесли и положили рядом с подростками тюк. Следом выпихнули вовсе крохотное существо, хромое и голубоглазое, в запекшейся крови. Старуха пощупала брезгливо тюк. Тронула существо. Хмыкнула презрительно. Но махнула рукой снова — и Семен с Лехой поволокли бидон на место, в ряд к остальным пяти.
Всю дюжину живого товара запихали в кузов ГАЗа, отвезли за три десятка километров, выгрузили на берегу озерка, округлого желвака запруженной речки, накормили пшенкой с маслом, напоили медовым варом и принялись мыть. А потом — смазывать синяки и бинтовать. У крохотной девчушки корка запекшейся крови на ногах скрывала гниющую, больную кожу. Корку размачивали, обдирали, смазывали, бинтовали. Девчушка плакала. Захар, глядевший угрюмо, буркнул:
— Ну зверье. Нормальных ведь, не снулых, как скотину вовсе!
— Так это не их народ, — объяснил Леха, загасив окурок. — Это добыча военная. Они под землей все время воюют друг с дружкой. Кого поймают — или едят, или продают. Ты думаешь, мы чего подальше едем, прежде чем кормить бабенок-то, а? Чтоб другие подземные не набежали, ночью они шарят, спасу нет.
— Ну так сами бы брали, пусть бы им рожали. У них что, народу слишком?
— Пес их знает, — Леха пожал плечами.
— Если слишком, так здесь бы селились, сами жратву добывали!
— Они и добывают. По-своему. В город никто не суется. Даже молодняк дикий. Ночью в особенности. Убьют и сварят. А печенку сырой съедят.
— Ну зверье! Ну! А че они, раз в силе такой, не набегают на окрестных?
— Подземные они, — ответил Леха, поразмыслив. — На солнце тухнут.
В эту же ночь подземные и явились. Те ли не те, что торговали, — Круз не разобрал. Бурые лохмотья, автоматы, измазанные сажей и грязью лица. И — неестественная, мертвенная бесшумность, точность движений. Сняли часового на пригорке у озера и добрались бы до машин — если бы не Захаровы волки и не щенки, прибежавшие вслед за ними. Подземные видели в темноте не хуже волков. Бедолага Пеструн получил в бок две пули и сдох на руках у воющего Захара.
Круз не стрелял тогда. Стоял за танком и вешал в ночь одну за другой осветительные ракеты. А щенки с Захаром погуляли вволю. Даже Последыш вернулся в крови с головы до ног и приволок четыре автомата. Волки вернулись с красными мордами. На рассвете Захар похоронил Пеструна над рекой и плакал над могилой. Волки выли, сидя кругом, Хук рядом подвывал хрипло и тяжко, и плакали, скорчившись в кузове ГАЗа, купленные за масло дети. Из-за того старуха, выбиравшая их, пришла ругаться с Крузом, но он попросту отшутился, называя старую «мамочкой» и «яхонтом драгоценным». В конце концов, она была старше, самое большее, лет на пять.
Зря. Очень зря. У женщин, в особенности старых, свое представление о смешном. Божий одуванчик с колодезным взглядом оказался первой советницей Степаниды Ольговны, сильнейшей в женсовете, хозяйки дорог на запад от Котласа. Почтенная Степанида, мать семерых, предложила нечаянных гостей отправить на север, в шахты, а безумца, который кровь шприцем сосет, удавить, чтоб от греха подальше, волков — на шубы. После чего жить как раньше, только осторожнее. Но Степанида поспешила, и шестеро прочих, почти не переглядываясь, принялись ее увещать. Вреда-то, глянь, почти и никакого, а если польза будет, то какая! Младенцев не везти на север и рожениц там не держать — это ж сколько рук высвободится!
Совещались до ужина, во время и после. Сходили по нужде, сели чай пить, похохотали, вспоминая непомерный прыщавый срам Ваньки Летова, и совещались снова. А Круз, лишенный даже кабара с бронежилетом, сидел все это время в спортзале бывшей средней школы бывшего районного центра Котлас и глядел на унылого Леху, сидевшего у выхода с «калашом» на коленях. В десятом часу вечера, зевая и почесываясь в складках, пришла Аделина, номер третий в женсовете, и сообщила, что Крузу позволено ехать на север, сопровождая большого ученого. И что пусть он возьмет свою охрану, этих, молодых. А лысый с техником пусть тут останутся. Да, и шкет из головорезов — тоже. С ним хозяйка Степанида дело иметь будет. Чего сидишь, милок? Слова не слышал? Идь, ну!
И Круз пошел. И сказал щенкам вылезать из танка, а Захару приказал остаться. Что было делать? Хотя котласские и слушали бабий голос во всем, но бойцы были умелые и расторопные. Уйти от них силой шансов не было. Да и зачем? Хорошо еще, что Верку удалось при Правом оставить. Местное бабье, как на нее глянуло да послушало, повело, потащило, щупать принялось, по нужде малой в стакан ходить заставило. Если б Круз не сумел перекинуться с Даном парой слов, чуть не получивши прикладом но носу, забрала бы Верку. Да и то, может, отпустили лишь потому, что на север так и так ее везти бы пришлось.
А ведь как задевает! Сам не заметил, как оно в кровь вошло — привычка приказывать. Тут придется вспомнить привычку другого сорта: когда во фрунт и так точно. Бабы котласские мужчин, похоже, как источник разумного вовсе не воспринимают. Охотно слушают, как то или другое наладилось, как паровоз новый собрали, сами в дела технические и ремонтные не лезут, но чтоб к настоящей власти подпустить, к тому, чтобы решать, куда идти и кого убивать, — нет. Степанида Ольговна обронила, отхохотавшись: «Руки со срамом». Цельное такое определение мужской полезности. Мужчина в доме вроде гостя. Пришел, ушел — беда невелика. И называют друг дружку по имени-матчеству, и родство считают по матери, и добро от матери к дочери.
В самом деле, кому ты и зачем нужен, старик Круз? Все, что ты умеешь, — чуять, стрелять и приказывать. И то, и другое, и третье с годами все хуже.
Круз, скривившись, залпом допил остывший чай, кинул ложку в пустой стакан.
Через шесть секунд этот стакан брызнул стеклянной крошкой, и ложка, взлетевшая вместе с ней, пропахала полосу от Крузова лба до левого уха.
2
Тайга. Ели, лиственницы. Остров посреди озера, бревенчатые избы, смола, тонкий дымок над трубами. Мороз. Следы на снегу, россыпь алых бусин, ружейная сталь, леденящая сквозь перчатку. И вечером, за столом, хвастовство, пиво, женский смех. И голосит, описавшись, младенец в люльке, и шерстистым ковром под ногами псы — остромордые, волчьи.
Хорошо сидеть во главе стола, первому поднимать кружку, первому кричать, приветствуя Новый год, рассаживать шумную ораву, потчевать, хозяйствовать. И качать на руках младенцев.
Сколько их было? Пятеро? Семеро? И сколько из них дожило до женской крови или щетины на подбородке?
Беда всех переживших — пытаться устроить клочок старой жизни в мире, давно повернувшемся к прежней жизни спиной.
Всех уцелевших после бойни в институте Круз повез на север, в лес, подальше от убивающей себя налоксоновой жизни. До канадского городка, присмотренного доктором Лео, так и не добрался. Только городков с институтами посреди Второго кризиса и не хватало. И так по дороге пришлось стрелять.
Пробирались мучительно. С автострады пришлось свернуть после того, как полицейские, мирно проверившие права, выждали пять минут и затем понеслись следом, включив мигалки и вызывая подкрепление. Подкреплять их никто не явился, но и неподкрепленной полицейская пара едва не снесла Крузу полчерепа и превратила в факел один из трех джипов Круговой команды. Водитель, перепугавшись, подчинился воплю из громкоговорителя. После чего Круз остановил свой джип тоже и, выбравшись наружу с винтовкой АР, превратил полицейскую машину в решето. И остался с семью женщинами и парнишкой пятнадцати лет и девяти диоптрий близорукости, мечтавшим спасти человечество.
Впрочем, парнишка оказался толковым. За три дня научился колоть дрова и забивать гвозди. А через полтора года сумел, по сбивчивым Крузовым описаниям, сложить кривоватую, но вполне приличную, не дымящую, с хорошей тягой печь.
Тогда это казалось хорошей идеей — в национальном парке, на острове среди озера, напротив русла речушки, не замерзающей в самую лютую зиму, в удобном и уютном охотничьем коттедже. Из-за ключей лед на озере местами был предательски тонок, и пробраться зимой можно было, лишь зная дорогу. К тому же Круз соорудил и тщательно спрятал в лесу несколько неприятных сюрпризов для незваных гостей. А в теплое время добраться до острова можно было лишь на лодке.
В первые месяцы Круз не замечал времени. Хлопоты, заботы, перебранки. Очкарик Макс, роняющий поленья себе на ноги, истеричка Джина, неспособные поделить яблоко надвое Этель и Эстер, унылая толстуха Сара, Бет с лошадиным лицом и фарфоровыми зубами и пара совершенно несносных подростков, Линда с Леоной, по полтора метра ростом каждая, искренне считающих Круза маньяком-педофилом. Впрочем, маньяком-похитителем Круза считали все они, а Джина целый год пыталась донести на Круза полиции и однажды, угнав джип, добралась до канадской границы и явилась в пограничный пункт. Второй кризис к тому времени уже добрался до самой глухой провинции, и Крузу, явившемуся вслед за маячком на джипе, пришлось стрелять, бежать, кинуть две гранаты и разбить прикладом голову сержанту Ф. М. Фостереру, вцепившемуся зубами в Крузову щиколотку. За дверью, обороняемой сержантом с такой яростью, нашлась Джина, голая и распятая на столе двумя парами наручников, защелкнутых вокруг ее лодыжек, запястий и ножек стола. Джина выглядела плохо, шмыгала разбитым носом и была покрыта жижами телесного свойства. Круз сломал стол, собрал Джину в охапку и занес в джип, затем забрал три дробовика и патроны, заботливо поджег участок и поехал домой, не забыв по пути заехать в супермаркет. Там сидел у кассы единственный продавец, глядевший в потолок, улыбавшийся и на предложение денег никак не среагировавший. Впрочем, судя по щетине и пятну мочи на полу, сидел он не первый день.
Когда через полгода Крузу случилось заглянуть в этот супермаркет снова, он сидел у кассы в той же позе, только улыбка его стала шире и зубастее да правая кисть, отгнив, свалилась под стул.
Второй кризис скончался как зверь, сожравший все, до чего мог дотянуться, а после изглодавший собственные лапы. Американскую мечту после первого «опа» питал лишь налоксон — не продаваемый, но распределяемый как социальная помощь, пофамильно и регистрационно. Когда где-либо сеть распределения ломалась, происходило одно и то же: неделя-две сумасшедшей резни, отчаянных поисков, потом — убийств ради убийств, ради ощущения себя живым, отнимая чью-то жизнь. Затем счастье брало свое. Выживших практически не было.
Власть съеживалась, отступала, как проигрывающий войну на заранее подготовленные позиции. Круз каждый день крутил коротковолновик, пытаясь узнать, что еще делается в мире. В мире еще делалось, но с каждым днем все реже и меньше. А жизнь на острове становилась все невыносимее. Что творилось в головах привезенных Крузом женщин, он понять не мог. Они не хотели работать и ссорились все время, поочередно лупя и гоняя несчастного Макса. Сара сломала ему очки. Крузу пришлось отвесить оплеуху, чтобы она не сломала мелкотелому Максу что-нибудь еще. Через три дня застиг их на веранде, голых и потных. Макс копошился на толстухе, будто нечаянный глист. Завидев Круза, оба вскочили, а толстуха, взвизгнув, попыталась прикрыть левую грудь.
— Наконец-то, — сухо сообщил им Круз и удалился.
А сам позвал лошадинолицую Бет, самую здравомысленную из женской команды, анестезиолога по профессии, тридцати двух лет, плоскую, сухую как палка, — и поделился наболевшим. Наболевшее состояло в том, что, по мысли Круза, предназначение и долг женщин, и в частности Бет, состоит исключительно в деторождении. Ибо человечество вымирает, и не видеть этого нельзя. Но если объявить это остальным, кроме недоумения, истерик и злобы, ничего не выйдет. Это очевидно. У всех в головах каша, кроме тебя, Бет. Только ты можешь объяснить им.
— Наконец-то, — сухо сообщила Бет и принялась вылезать из джинсов.
Назавтра она, одетая лишь в Крузову рубашку, спустилась в зал к камину и, сверкнув рыжеволосием на лобке, уселась Крузу на колени. Все замерли. Круз посидел немного, чувствуя много твердых костных частей, затем, сославшись на дела, ушел в лес. Вернувшись через полчаса, застиг общую ссору с швыряньем вещей, битьем посуды и визгом. Посреди зала стояла голая, залитая кетчупом Бет, попирая драную Крузову рубашку, и орала. Эстер, с быстро наливающимися лиловыми подглазьями и потеком под носом, прыскала на нее соусом из трехлитровой бутыли.
— Стоп! — рявкнул Круз.
Все смолкли и замерли. Бет подхватила Крузову рубашку и, заревев, убежала.
Назавтра началась война полов с тяжелой артиллерией, засадами и налетами. Дни стояли теплые, но вода в озере в июне прогреться не успела. Несмотря на это, Линда с Леоной устроили купание нагишом под самой верандой, кувыркались, плескались, ненатурально хохоча, а потом, завернувшись в одно полотенце, уселись сушиться и хлюпать носами на диван по соседству с Крузом. Эстель принялась загорать на веранде, одетая лишь в крошечные трусики, а после выходки Линды с Леоной и вовсе без них. Бет норовила при всех пристроиться к Крузу и расстегнуть на нем что-нибудь. Толстуха принялась красить губы.
Круз то и дело натыкался на интимную дамскую сцену вроде переодевания или причесывания. В полночь у его двери возникла драка, потому что Линда с Леоной нагишом и на цыпочках крались по коридору и наткнулись на караулящую Бет.
Тогда терпение Круза лопнуло, и он, собрав женщин в каминном зале, объявил, что сейчас задача всех — рожать, потому что долг перед человечеством. Бежать некуда, никто не придет и не позаботится, прежнее кончилось навсегда. Чтобы люди жили, надо беременеть. Мужчин здесь только двое, так что каждая вольна выбирать сама. Он, Круз, не откажет никому. И никого особо выделять не станет. Мы все теперь должны быть одной семьей.
Женщины молчали, глядя в разные стороны. Именно после этого собрания Джина угнала джип и попыталась удрать. А когда он привел ее, окровавленную и плачущую, то все — даже Макс — подумали, что ее избил Круз за попытку удрать. И рассказы Джины никого не убедили. Ах, дурочка, она сама хоть понимает, что плетет?
Круз пытался убедить их, как мог. Брал с собой на вылазки. Показывал умершие и умирающие города. Истлевшие трупы. Брошенные машины, витрины, гниль. Женщины смотрели. Кивали. Ахали. Но у Круза неизменно оставалось чувство, что каким-то непостижимым образом, вопреки всякой логике, они считают именно его, Круза, единолично ответственным за все это ужасное безобразие.
После того как Линда с Леоной вдвоем залезли в Крузову постель, Бет пыталась пырнуть его ножом. Не кухонным, а личным крузовским кабаром, пригодным для бритья и деления спичек на десять продольных частей. Бег срезала себе ноготь с левого мизинца, а Крузу — сантиметр шкуры с ребер. После чего Круз надавал ей оплеух и без всякого удовольствия изнасиловал, морщась от боли в боку.
Думал: когда забеременеют, начнут рожать, станет легче. Первой родила Джина, зачавшая от убитого Крузом Ф. М. Фостерера. Потом — толстуха, за ней — Линда, едва не умершая родами.
Легче не стало. Женщины загадочно сплотились вокруг младенцев, забыв непрерывные свары, и Круз оказался лишним. Его слушали, как шум дождя за окном. Иногда приходили к нему в постель, иногда готовили для него. Родила Эстер, и Круза вовсе забыли. Он суетился, ремонтировал, искал, привозил, охотился с утра до ночи. Иногда и ночью. После того как метель двое суток держала Круза на лесной дороге, Эстер на него наорала. Круз так удивился, что даже не отвесил ей оплеуху. Весной она забрала Крузову дочь, толстуху с потомством, волочившую живот Леону и, в качестве шофера и добытчика, Макса, сильно раздавшегося в плечах, — и отправилась в городок по соседству с озером. Детям в городе лучше, да.
— Это почему? — поинтересовался Круз. — Так там же трупы сохлые, там ничего нет, там смерть только, собаки дикие — вон их сколько расплодилось!
— Мы справимся. Со всем справимся. Без тебя.
И взгляд — будто на мебель.
Ладно. Что сделаешь? Маршрут развоза припасов удлинился, только и всего. Хлопот прибавилось — пришлось ремонтировать дом, искать керосин для генератора и бойлеров. Но Макс уже сам многому научился, даже стрелять навскидку.
А однажды дом в городе оказался пустым. Круз уезжал на три дня за канадскую границу, привез чудесный, совершенно исправный параплан. Подъехал к изгороди, просигналил. Никого. Все прибрано, аккуратно. Не торопясь собрали нужное и уехали. Записки не оставили. Следов Круз не нашел, а прочесывать окрестности и гоняться было недосуг — в доме на озере ждали женщины и четверо малышей. Джина уже ждала третьего. Она сильно располнела и научилась прекрасно готовить. Линда заменила Макса. Научилась стрелять и даже колоть дрова — хотя какая там в ее сорока пяти килограммах сила? Охотиться полюбила. Бродила вместе с Крузом и по ночам, забравшись в его спальный мешок, щекотала волосатый живот. Впрочем, спала она и с Бет, и с Этель. В особенности с Бет, тоже никак не могущей забеременеть. Круз подозревал, что Линда попросту не хотела больше детей. Бет хотела. И плакала. А Линда смеялась над ней. Дарила открытки с пухлощекими младенцами. Пинетки. На будущее. Главное — стараться. И получится.
Однажды зимой, когда снег шел неделю напролет и озеро превратилось в равнину среди леса, случилось то, что давно уже могло произойти. Женщины так и не научились осторожности. Да, знали, что волков и одичалых собак расплодилось множество, что с севера пришли медведи и ловили в озере рыбу, что Круз приделал тяжелые ставни и повесил в каждой комнате по дробовику. Но все это — боже мой, какие пустяки! А эта сука снова поставила мне стакан с младенчиками! Эта сука меня ненавидит. Она лазает к нему в постель каждый день, из-за нее я не могу забеременеть! Мерзкая смазливая шлюшка! А мне достаются объедки. Мне всегда достаются объедки из-за таких, как она! Ненавижу!
Бет подстерегла Линду в лесу и всадила в нее заряд картечи. А сама завела снегоход и удрала по лесной дороге на юг. Линда не умерла сразу. Она была жилистой и живучей, сумела переползти заметенное снегом озеро и добраться до дома. Но ей никто не открыл. Ночью в минус двадцать она умерла, так и не собрав сил постучать в дверь, за которой начиналось тепло. А по кровавой дорожке пришла смерть.
Это были собаки. Волки бы не сунулись к пахнущему дымом и железом. То ли получилось у них подгадать время, то ли ждали они, пока откроется дверь. Когда Этель открыла дверь поутру, чтоб вывести детей погулять на веранду, в дверь кинулась вся стая.
Круз вернулся лишь через день. Подошел к веранде. Вбежал в дом. Обежал комнаты. Вывалился наружу. Сел на снег и заплакал.
Затем вытащил еду, патроны, две канистры бензина. Облил дом и поджег. И поехал прочь. В трех километрах от озера встретил Бет, гнавшую снегоход назад, к дому. Круз не расспрашивал. Спросил только: «Поедешь со мной?» Она кивнула. Круз не стал ничего расспрашивать и ночью, когда забрались в дом на окраине заметенного снегом мертвого городка. Бет, уткнувшись в сто плечо и всхлипывая, сама все выложила, все нехитрую правду, и после, дрожа и глядя по-собачьи, выдавила:
— Ты меня ненавидишь, да?
— Спи, — посоветовал Круз и закрыл глаза.
А проснувшись, увидел бессмысленную, безмятежную улыбку на ее лице.
Круз не стал давать ей налоксон. Через неделю, когда добрались до восточного побережья, она тихо умерла, не переставая улыбаться.
Круз прожил в маленьком приморском городке Мэйна до весны. Прикормил двух кошек. Нашел на маяке коротковолновую станцию, попытался наладить. И вот тогда одиночество, как серые волны за окном, захлестнуло с головой.
Круза когда-то учили работать в эфире. Шарить по диапазонам, выхватывать из клокочущего варева сигналов, слов и треска знакомый далекий голос. Эфир был как супермаркет при распродаже: толкотня, гам, неразбериха, сумятица. Только тренированный слух различал нужное. А когда накрывало окном и, отражаясь от ионосферы, летели на антенну голоса чуть не с другого полушария — эфир клокотал. Позывные, сигналы аэропортов, чьи-то шифровки, голоса диссидентов всех мастей и народов, радиопираты, ликующие очкарики из Омска, ооновцы из Афганистана, налаживающие выборы по кишлакам, — тысячи, десятки тысяч голосов.
А сейчас — пусто. Равномерный, тоскливый треск.
Просидев полночи в наушниках, Круз вынул из кобуры кольт, уложил на стол. Посмотрел на серый океан, на низкий город, занесенный серым липким снегом. Затем взял кольт. Из дула чуть тянуло кисловатой, едкой пороховой вонью. Усмехнулся себе — ну лентяй. Не вычистил как следует. И решил посидеть еще полночи. Куда, в самом деле, торопиться?
В пятом часу утра сквозь треск прорвались звуки «Кукарачи», и бодрый голос объявил: «Говорит Пунто-Аренас. Я — Джон Лозада! Всем, кто меня слышит, — я живой! Слышите, амигос, — я живой!»
Три недели Круз ел и спал, не вылезая из кресла. Трижды говорил с неунывающим Джоном, у которого имелось семь жен и один губернатор. Поймал Науру, Новую Гвинею и султанат Бруней. А потом — Ниццу. Ницца выходила каждые сутки с четырех до пяти утра. Упрямый женский голос твердил, будто бился о стену: «Всем, всем, всем! Говорит Ницца! Говорит Европейский центр выживания! Все, кто меня слышит, — вас ждут здесь! Говорит Ницца!»
Еще три недели Круз чинил яхту — ладную десятитонную посудину изрядной парусности с двумя дизельными движками. А третьего апреля, загрузив еду, ящик патронов и кошку, отплыл на запад.
3
Какое здесь низкое небо. Блеклое, промытое до пустоты. Звук уходит в него, как в вату.
Справа снова: бу-бу-бу. Болваны, не тратили бы крупнокалиберные. Елки ими косят, что ли? Глянул — щенки уже все в лесу. Молодцы, Дана сторожите. На здешних надежды мало. Они за свою верховную бабу костьми лягут, а вот за нас — как же, разгонятся.
Бу-бу-бу. Вот же дятлы! Те, с другой стороны, себя зря светить не будут. Я б на их месте в двух местах заминировал, чтобы подкрепление не подкатило и никто расстреливать не мешал. Впрочем, оно и так хорошо получилось.
Мать твою! Круз осторожно поднял руку и, мгновенно двинув, ухватил двумя пальцами крупного слепня. Раздавил.
Сволочи. На кровь летят. А солнце печет. Над всеми залегшими у насыпи — черные облачка. Ах ты, до крови ж прокусил!
Круз хлюпнул себя по лицу — и эхом хлопнуло вдали, и тяжко загудел пробитый рельс, будто застонал.
Выцелили, гады. Если б бегать нормально мог, еще б можно было рискнуть, в лес. А так — шансов нет. Пока доковыляешь — решето сделают. Хорошо, что вообще из вагона выбрался.
Бу-бу-бу. Дятлы, право слово. Те, из лесу, сейчас прицелятся как следует и отправят ваш паровоз вслед за вагоном. Хоть бы бронировали как следует. А то с одной гранаты — костер. Веселый, с фейерверком. Фейерверк — это когда занялась площадка с турелью. Хорошо хоть, щенки Дана вытащили. Местные за Аделину, обступили, закрыли — и в лес. Только расчет турели остался. Да еще Леха. Он лично ответственный за товарища Андрея Круза. Вообще, как же они умудряются линию держать, таким манером? Рельсы рви кому не лень, засады делай. А тысячу километров вдоль путей не заминируешь.
В лесу хлопнуло, прошелестело. Грохнуло рядом, лязгнуло. Паровоз вздрогнул. И тут же: бу-бу-бу. Вух-вух. С другой стороны насыпи закурчавился дым. И тут — и Леха, и двое с ним, вскочив, кинулись за насыпь.
Резво. Надо же. С паровоза соскочили — четверо. И пятый. Хорошо пошли. О, трескотня в лесу. Круз прислушался: гонят. Точно, погнали.
Из ближайших кустов выскочили двое, побежали, пригнувшись. Последыш с Левым. Круз сжался, ожидая. Но оба в мгновение ока оказались рядом, целые и невредимые, и Последыш, скалясь, сообщил: «Оленные балуют. Семен говорит, погнали их. Мало не покажется. Старшой, как вас? Давайте поможем!»
— Давайте, — согласился Круз.
Последыш с Левым, переглянувшись, схватили под руки и потащили. Втянули за кусты.
— Ох вы, старшой, и глыба! — пожаловался Последыш, утирая пот со лба. — Как с ногой?
— Не очень, — ответил Круз, вспоровши кабаром штанину и глядя на открывшееся кровавое месиво.
— Перевяжем сейчас, — Последыш зашарил по карманам, вытащил пакет.
— Пустите! Пустите немедленно! — раздалось из-за кустов, и появился Дан, сопровождаемый парой озадаченных верзил и хмурой Аделиной, — Андрей, что с тобой? Да отстаньте же!
— Вы как ребенок! А если вас убьют? Вы понимаете, что от вас зависит?
— Аделина Светлановна, мы не в детском саду!
Дан присел на корточки подле Круза.
— Скверная рана. Грязная. Но кость вроде цела.
— Цела, — подтвердил Круз и закрыл глаза.
В интинской больнице с раной провозились полдня две проворные толстенькие девицы под руководством самой Аделины. Аделина шипела, багровела и кляла шепотом стариков, которые лезут и приказывают, и пример плохой подают, и порядка никакого, а вы, коровищи, никак достать не можете, ну куда пинцетом тычешь, курва недородная? Вон же осколок торчит, вон!
Круз лежал, глядя в растрескавшийся потолок, и слушал. Голова кружилась, перед глазами плясали тоненькие белесые червячки. Жарко толкалось в висках. Нелепо. Как тогда, в Марселе, когда впервые встретил Дана. Только там за окном шумело море, накатывало мерно и вечно на каменный берег, и хотелось закрыть глаза. Закрыть, и заснуть, и выспаться наконец — пусть и навсегда. Отдохнуть от суеты, от умирания, видимого каждый день и час.
Впрочем, теперь не так. Теперь любопытно. Хочется увидеть, как получится у Дана. Вокруг охота посмотреть. В здешних местах особого умирания незаметно. Впрочем, и жизни особой тоже. Но это здесь обычно.
— Готово! — объявила Аделина. — Ну и крепкий же ты старикан! Гляди, завтра уже и скакать по девкам будешь.
Обе подручные толстушки послушно захихикали.
Назавтра Круз не поскакал, но выбраться из больницы смог самостоятельно. Присел на крыльце, глядя на обширную площадь, на траву, раздвинувшую бетонные плиты, на исполинского чугунного Ленина, взирающего на юг из-под монгольских надбровий. Здесь и в самом деле ничего не изменилось за полвека. Когда-то умеренный подросток Андрюша вместе со школьным коллективом отправился в оплаченное путешествие второй категории на Приполярный Урал. И провел полдня в Инте, ожидая вахтовки на горную базу, откуда начинался маршрут.
Все то же самое: сталинские пятиэтажки, облицованные гранитом, лужи, перекосившиеся хибары на задворках, мутное стекло витрин, козы во дворе. Разве что магазины закрылись. Тогда их, впрочем, тоже не слишком было. Все, что оставалось от северных имперских задворков, умирало случайными кусками — будто падало что-то наобум. Бац — исчезла шахта. Бац — три совхоза. Или больница. Или водопровод. Некоторые удирали на юг. Некоторые, уцепившиеся прочнее, остались. Ловили рыбу, мыли тайком золото, воровали уголь и нефть. Интересно, заметили они большой «оп», тот самый Первый кризис, или нет? А про налоксон здесь, должно быть, и слыхом не слыхивали.
— Как здоровьице-то? — раздалось рядом.
Круз обернулся.
— Здравствуйте, Аделина Светлановна. Нормально здоровьице.
— Ну и хорошо. Чего уж тут. — Раскрасневшаяся от жары Аделина присела рядом на ступеньку, достала пригоршню семечек. — Ты меня Адей зови. Ты мне в тяти годишься. Я б такого тятю не против. А лучше — мужика.
Глянула искоса.
— Ты не думай — не шуткую я. Мне мужик нужен, я уже три года не рожала. Я еще молодая — тридцать пять мне. Рожей не вышла, зато пиздой хоть куда. Любую девку обставлю. А главное, Андрей Петрович, — я тут, в Инте, сила главная. Я тут главная опора против оленных. И детишки на мне. Их летом отправляют дальше, за Воркуту. А девять месяцев они на мне. И суд на мне, и война. Верный человек ой как мне нужен. И знающий. Мне научник твой говорил — ты в военном деле спец, командовал. И технику всякую знаешь. Тебе тут самое место развернуться. А если еще получится у научника — такое тут начнется! Ты, главное, не сразу решай. Подумай, чего ты добивался, чего достиг. Подумай, где ты сейчас и куда деться можешь. Подумай, что таких, как я, в женсовете еще восемь — и согласие между нами ой какое трудное. И до крови доходит, бывало.
— Я подумаю, Адя, — пообещал Круз.
Та ухмыльнулась и, запустив пятерню в складку на боку, хрустко, со вкусом почесалась.
— Только у меня тоже о чем подумать есть, — сообщил Круз. — У меня ребята. Они обещание исполнили. Им домой надо. На Кольский.
Минут пять Аделина лузгала семечки, сосредоточенно плюя в лопух.
— Андрей Петрович, тут дело непростое, — подала наконец голос. — Тут, в Инте, не только мои глаза и уши. По согласию нашему, люди всех советниц везде ходят. Так мы друг другу доверяем. Но все равно гадюшник. Твои вояки котласовским угроза. До Беломорья рукой подать. Если оттуда сотня-другая таких явится, совсем плохо будет. Смекни — к чему их выпускать, знающих, как у нас устроено? Но помочь я тебе могу. У нас тут поход на оленных наметился. Вовсе обнаглели, уже за Дурной рекой стоят, на Кожим что ни ночь шастают, до самой дороги. Нас-то и обстреляли за двадцать километров от Кожима. Если пост собьют и мост взорвут — худо будет. А если мы их собьем и за Дурную загоним — будет хорошо. И если твои вояки себя проявят, дружбу докажут — почему бы их не отпустить? Тогда движение народу будет, кто вернется, кто приедет, суета. Не до них станет. Наверное.
— Когда этот поход?
— Дня через четыре. Из Печоры явятся, из Воркуты. И еще народу соберется… Так что ты пока подумай. Отдохни, покушай — сейчас у нас еды вдоволь. Если охота будет, на девку залезь. На какую хочь, которая без пуза. А я пойду. Хлопоты. Будь здоров, Андрей Петрович!
— И ты будь, Адя.
Аделина улыбнулась лунообразно, открыв шеренгу крепких желтоватых зубов, и скрылась за дверью.
Тотчас оттуда донесся вопль:
— Ах вы, курвы беспузые, подслушивали?
Через полчаса Круз, опираясь на костыль, стоял перед дверью на втором этаже этой же больницы и смотрел на пару хорошо выбритых бледных парней с автоматами. Парни сидели на стульях у двери, лузгали семечки, сплевывая прямо на пол, и не замечали Круза.
— Мне очень нужно поговорить с ним! — повторил Круз.
— Дядь, ты поди отдохни, — посоветовал парень слева. — Там человек работает. Приказано — не тревожить!
Крузова рука сама по себе полезла к правому боку — к кобуре. Которой не было. Потому Крузова рука поднялась, сложила фигуру V и с ее помощью произвела свист. Парни замерли, открыв рты. У правого вывалилось изо рта недолузганное семя.
— Я этому в Бразилии научился, в степях тамошних, — пояснил Круз, отирая губы. — Там коней свистом утихомиривают.
— Ну ты, дядя, — начал правый.
Но тут дверь распахнулась, и Дан в пахнущем хлоркой халате объявил радостно:
— Андрей, как хорошо! А я уже посылать за тобой хотел!
Следующие полчаса Круз слушал, кивая, и поддакивал, даже не пробуя вставить свое. У Дана горели глаза и тряслись руки.
— Ты пойми, все же просто, так просто! Гениально! Могли заметить еще десять лет назад, двадцать лет! Альпы, Швейцария, Савойя — все же рядом! Но беда, беда с налоксоном! Швейцарцы — народ дисциплинированный. И психоз, конечно, все боятся заболеть, а тут лекарство надежное. И производят у себя. У них то, что ты называешь «Вторым кризисом», еще хуже, чем в Америке, ударило. Они как в Средневековье, вниз пошли добивать всех недоумерших. Да ты сам знаешь!
— Да, да, — кивал Круз. Что такое Второй кризис в Швейцарии, он и в самом деле узнал хорошо. В том числе двумя ребрами и левой ягодицей.
— Потому мы материала и не собрали. Холод — вот ключ ко всему! На сильном холоде другая энергетика. Все другое! Андрей, не поверишь — у них антитела! Я сколько штаммов проверил, я ведь много собрал — они иммунны ко всему! Это гениально! Это же то самое лекарство! Выделить штамм из их крови, ослабить вымораживанием — и готово! Прививка новорожденному — и все, он уже не заболеет счастьем никогда! У меня уже получилось, получилось! Через месяц, нет, через три недели я уже первую партию сделаю! Обучу — здесь разумные люди, они выучатся легко, вакцину сможет сделать и школьник!
— Дан, первое, что твои разумные люди сделают, заполучив вакцину, — начнут войну, — выговорил наконец Круз. — Как только они станут сильней, они тут же начнут подминать соседей.
— Ну и что? — Дан посмотрел удивленно. — Как ты не понимаешь? Да пусть они хоть каннибалами станут, пусть убивают кого угодно и как угодно. Главное — чтобы люди выжили, понимаешь, Андрей, чтобы человечество выжило! Вид гомо сапиенс. А вакцина — она как джинн из бутыли, если появилась и люди убедились, что она работает, этого уже не скроешь! Это — навсегда! Моя жизнь, твоя — они ничего, совсем ничего не значат в сравнении с этим.
— Я не привык думать за все человечество, — сказал Круз угрюмо. — Я не могу про всех. Я про тех, кого знаю, думаю. Про щенков наших. Они нас защищали. Кровью своей. А сейчас их подставить хотят. На убой погонят, как мясо. Чтоб вовсе ни тебе, ни мне не на кого рассчитывать было. И меня заодно… если лишним окажусь. Я вот о чем… тебя они сейчас ценят. Тебя. Твое слово вес имеет. Попроси за них. Они же дети еще.
Дан поправил очки. Выпрямился — и снова стал похож на прусского офицера.
— Ты обещал, Андрей. Сам. По своей воле, — сказал по-немецки. — Ты сам предложил свою жизнь. И эти юноши — они поклялись перед старшими своего племени, что отдадут жизни за тебя и меня. Сейчас решается то, ради чего даны были обещания. И если даже я буду знать, что меня убьют после того, как я завершу работу, что убьют всех нас, — я буду делать то же самое, что делаю.
— Хорошо. Я понял, — ответил Круз, вставая.
— Андрей, я попрошу, — добавил Дан по-русски. — Но я сомневаюсь, что это поможет. На самом деле в моем слове здесь столько же веса, сколько и в твоем. Они ничего не потеряют, если я завтра не проснусь. Они на меня как на юродивого смотрят, понимаешь? Получится — хорошо, не получится — тоже неплохо. Как я могу им условия ставить?
— Хорошо. Я понял, — сказал Круз. — Удачи тебе в работе!
— И тебе, — ответил Дан рассеянно.
Когда Круз ступил за дверь, парень слева сообщил:
— Дядя, а ты хам.
Круз обернулся к нему — и парень справа врезал прикладом по хребту. Вернее, мог бы врезать — но приклад почему-то попал не в спину, а в стену, и в глазах отчего-то потемнело.
Круз отступил на шаг, и парень справа, мягко опустившийся на колени, так же мягко улегся на пол. Парень слева, веснушчатый и со шрамом над бровью, побледнел.
— Дядя, ты отойди! Я не шучу!
— И я не шучу, — подтвердил Круз, рассматривая парня. — Мне нож твой нравится. Не подаришь?
— Дядя, — сказал парень тихо, — я…
— Посмотри на руку, — посоветовал Круз, поднимая правую ладонь.
Парень вздернул автомат — затем отпустил, не успев нажать на крючок, тихо охнул. Оперся спиной о стену, сполз на пол. Изо рта сбежала пузыристая струйка с остатками подсолнечного семени.
Круз, поморщившись, снял с левого парня пояс с ножнами, у обоих забрал автоматы, запасные магазины, гранату (она оказалась в кармане у правого, тяжелая эфка в рубчатой рубашке) и коробку спичек. И пошел по коридору, насвистывая.
Вышел на крыльцо. Ага, так и есть. Он никогда далеко не уходит. Вон, через площадь.
— Эй, Последыш! Сюда, живо!
— Старшой? Чего мне?
— Держи! Пойдешь со мной. Но стрелять — только по моему слову, понял? Пошли!
Они поднялись на второй этаж, и там Круз, зайдя за первую дверь, откуда слышались голоса, сказал:
— Ты, красотка, проводишь нас к Аделине. Прямо сейчас!
Аделина сидела в компании непомерной толстухи с грудями до пояса и пила чай. Пахло вениками. На столе громоздилось сахарное печенье и торчал из банки с медом деревянный щербатый черпак.
Аделина глянула, подняв бровь. Затем распорядилась:
— Настя и ты, беспузая, — погуляйте-ка, пожалуйста! Угостите парнишку семками.
— Иди с ними, — приказал Круз Последышу. — И тихо.
— Конечно, тихо, — подтвердила Аделина. — Я так понимаю, Андрей Петрович, ты уже решил. И чего решил?
— Роди мне сына, — попросил Круз.
Солнце висело в пыльной сини такое же злое, точное и липкое, как посреди сертау. Кто б подумал, что до полярного круга два часа на дрезине. Под мышками — скользкий, текучий ад. Липнет рубаха к спине, и под бронежилетом — липкое, вязкое месиво. Вокруг — жужжащая черная туча. Облепляют ботинки, лезут за шиворот, в рукава. Кусают, жалят, грызут. Твари.
Хорошее они время выбрали, по тайге и болотам ломиться. Почему не зимой, интересно? Зимой и не грызет никто, и в болото не провалишься. И следы. Как и кого они гонять собрались, интересно?
Круз шлепнул себя по щеке. Поднял за крыло придавленную тварь — она была сантиметров трех длиною и еще шевелилась вяло, трясла раздавленным брюхом. В детстве таким тыкали в брюхо соломину и пускали летать — чей выше? А кусает же, сука! Прямо кровь брызжет.
Сбоку вежливо кашлянули. Круз не повернулся.
— Вы извините, — сказал Семен, зайдя спереди, — но вы за нами можете и не угнаться. У вас же нога…
Ишь какие вежливые стали. Слухи быстро разносятся. Придверные парни, опамятовав к утру, наверняка рассказали много интересного. Шавки.
— Мы не торопимся. Мы с ребятами арьергардом пойдем. Чтоб сзади не напали. Если ваши ввяжутся в бой — поможем.
Левый ухмыльнулся. Семен помолчал немного, глядя на щенков, на свой народец, столпившийся вокруг чихающего «Урала», на бригаду из Инты, смотревшую исподлобья, и буркнул:
— Не отставайте только. — И пошел к своим.
— Вы меня слышали? — спросил Круз у щенков. — Повторю еще раз, чтоб дошло лучше. От меня — ни на шаг. Уйдете — обязательно кто-нибудь не того порешит. А тогда все пропало. Поняли?
— Поняли, — буркнул Правый.
Он хотел Верку с собой взять. Но местное бабье наперебой принялось убеждать, что на ранних сроках выкидыш — легче легкого, и пусть сидит, пузо колышет, видишь — бледная, тошнит ее. Ну куда ты потащишь?
Верка плакала. Правый погладил ее по щеке. Глянул на бабье, скривившись. Те притихли.
— Скоро буду, — пообещал угрюмо.
— Он будет, — подтвердил Левый серьезно.
Оба всю дорогу молчали. Автоматы перебирали.
Дрянь-то какая, старье. Ножи хоть ничего, ладные ножи. Круз тоже возился — подтягивал, поджимал, отпускал. Дрянь бронежилетец. Милицейское старье, ни к чему не годное. Скорее из привычки, чем по надобности и нацепил. Французский-то остался в Котласе. Вместе с кольтом и кабаром. Ничего, не драться едем. В заложники друг к дружке. Посмотрим, нужен ли Аделине старик.
Главное — ни во что не лезть и никуда не ввязываться. Нелепое дело, злое. По болотам и горной тайге лазать, отыскивая кочевых, — глупее и не придумаешь. Они удерут в мгновение ока и стада угонят. А потом вернутся и в спины постреляют. Собрали кучу ржавья — «Урал», две БМП, вездеход. Все рычит, смердит, воет. А места все равно на всех не хватает, разве что в кузова как селедки, скопом. Нет уж, мы пешком. Дедушка Круз с тросточкой и его верные защитники.
Не торопясь. Пусть копоть осядет. Последние вояки потопали вперед по бетонке. Кусты, слепни. Болото. Слева зеленая полоса — там река Кожим. Большая, красивая река. Справа — болото. Бетонка кончилась, пошла трава. Когда-то здесь был проселок, засыпанный гравием. Теперь — полоса, проломанная в кустах вездеходом.
Поднялись на холм, и Круз, щурясь, увидел в синеватой дымке длинные, пологие спины гор, улегшихся друг за дружкой. Там еще лежал снег. Когда-то мальчик Андрей Круз смотрел на них с этого самого холма и чертыхался про себя, потому что до них далеко, а инструктор Гвоздь близко, а на спине — рюкзак в двадцать кило и дюжина оводов. Теперь рюкзака не было. Но как хорошо б было разменять нынешнюю тяжесть на ту!
Круз выматерил себя мысленно за слюнтяйство и, осторожно опираясь на трость, побрел вниз. Щенки, как по команде, двинулись тоже, все разом. И это при том, что двое в сотне шагов впереди, один в сотне сзади, а один рядом, сторожит старшого. Привыкли доверять нюху. И вправду — сам поначалу не обратил внимания, — нет запаха счастья! На Севере он сильно поредел, с трудом замечаешь, но все же есть. В особенности вдоль дорог, на улицах, в комнатах. А здесь — лишь чуть заметное от тех, кто прошел четвертью часа раньше. Аделина говорила — оленные не болеют, потому что в них заразы нет и они никогда не подходят к заразе. Шаманы их вроде умеют чуять заразу. Правда или нет, но оленные никогда не заходят туда, где живут с заразой. И потому у оленных заразы нет, и дети, кто от других хворей не помер, все живут до взрослости. А кто заразился, тех убивают и место оставляют шаманам очищать, и возвращаются туда только зимой. Знают, что зимой никто не заражается. Потому и не торгуют ничем с городскими, и не подходят к ним, и стреляют только издали. Конечно, хотят дорогу взорвать и перебить всех. Мол, духи наказали городских, а тех, кто чисто жил, с оленями кочевал, не наказали, но приказали чистоту соблюдать. А кто не соблюдет, того с семьей под корень. Потому никогда не держат оборону. Если набежать — удирают, чтоб даже дыхание нечистых не коснулось. Иначе давно могли бы и дорогу взорвать, и посты на полустанках искоренить. Но воевать с нечистыми у них дозволяется очень немногим, кого шаманы особо благословили. И те не всюду могут, в особенности летом. За засадой этой, что тебя чуть не угробила, милый мой Андрей Петрович, неясное дело, мутное. Ты уж себя-то побереги, с молодыми не заводись. Ишь ты их как! Понятно, для уважения полезно. Но ты руки-то больше не распускай.
Круз пообещал, что не будет. Интересно, что от похода Аделина не слишком отговаривала. Может, решила посмотреть, на что еще годен старичок Андрей Петрович, кроме ушибления молодых.
Жарко. Скоро дорога через реку Сывью, как раз взбодриться. Круз убил слепня на лбу и расстегнул ворот. А через тридцать секунд шлепнулся на дорогу, перекатился, шмыгнул в кусты, замер, ожидая следующего выстрела, — и зашипел сквозь стиснутые зубы, схватившись за раненую ногу.
И как же эти недоноски проворонили? Целой толпой, с собаками! Мать вашу за ногу! Или щенки спугнули? Эти умеют по тундре шарить.
Из травы метрах в двадцати показалась голова Последыша. Он показал два пальца, потом указал — там, за дорогой. Двое. Круз приподнялся. Кусты за дорогой пошевелились — и тут же грохнула очередь.
Ага. Как же это вы, вояки? Хорошее местечко выбрали — между дорогой и рекой. Куда вы теперь?
Последыш, гибкий как змея, нырнул в кусты. Затем заросли на другой стороне раздвинулись, и из них вывалились на дорогу два мелкорослых типа в нелепых кожаных штанах и рубахах. За ними, оскалившись, явился Правый со слепнем на лбу. Уложил обоих на дорогу лицом вниз, а после ухватил слепня и медленно, с наслаждением раздавил.
Через четверть часа явился Семен верхом на БМП. Семен хотел: а) типов забрать; б) усадить Круза с компанией на машину. На что Круз посоветовал Семену быстро ехать по Семеновым делам и сообщил, что его, Круза, боевая группа возвращается на базу, захватив пленных и сопровождая раненого — то бишь его, Круза. И продемонстрировал подтекающую ногу. Семен странно разъярился и, стоя перед урчащей БМП, принялся орать, обещая нехорошее и даже очень плохое. После чего Последыш, стоявший в шаге от него, расстегнул ширинку и неторопливо помочился на Семенов сапог. Кто-то из команды, оседлавшей БМП, заржал. Но тут же сделал вид, что закашлялся.
Семен замолчал, побледнел, развернулся, молча забрался в БМП, которая развернулась, выпустила кубометр чада и покатила за восток, лязгая. А Круз приказал Последышу застегнуться, Правому — поднять пленных, а прочим — смотреть за дорогой по пути назад.
Шлось плохо. Растревожил раны, в кусты сигая. Последыш вышагивал рядышком и чуть позади, чтоб подхватить вовремя, если старшой на ногах не устоит. Зря стараешься. Старшой устоит. До станции всего ничего. Отвезем чучмеков, погрузимся с ними вместе и — в Инту. Боевая задача выполнена. Чего нужно, доказано. И сдержано. А сейчас исполняйте, Аделина Светлановна! Посмотрим, как вы с обещаниями. Вон, парочка недругов ваших. Мелкие как мальчишки, белобрысые, голубоглазые. Рожа розовая. Мечта арийца. Правда, личиками малость подкачали. Глаза не так разрезаны, и скулы чересчур. Чужеродностью попахивает — и прямо, и переносно. От рубах их сыромятных смердит падалью, сами, наверное, отродясь не мылись — может, потому их собаки и не унюхали? Запах и не людской, и не звериный. Интересно, как вы их употребите, Аделина Светлановна?
Как именно, Круз узнал через одиннадцать дней, когда, грязный, усталый и злой, вернулся из Вендинги в Инту.
Нелепый летний поход предназначался за пленными. Полуднем раньше, чем вышел отряд из Кожима, группы пошли по дороге от Инты на базу Желанная и от верховьев Печоры к горе Сабля — как раз чтоб перекрыть весь район ближних кочевий. Чтоб оленные, погнав стада прочь от одних набежников, прямиком угодили в лапы к другим.
Группа Семена не захватила никого. Ее застопорили на переправе через реку Дурную, прозванную так за незамерзание в самую лютую зиму, и засадили две гранаты из РПГ в броневик, застрявший посреди реки. Треть Семеновой группы, отправленной вверх по Сывье, обложили, загнали в болото и продержали три дня. Печорская группа так и не добралась до гор, потеряв дорогу в трясинах. Только ушедшая к Желанной группа смогла, удачно переправившись, застигнуть кочевье и захватить полдюжины старух, а также непрестанно матерящегося Ваню Коковкина, бывшего председателя оленеводческого совхоза. Остальные ушли со стадами на восток, за хребет.
Так и вышло, что Круз оказался единственным, привезшим настоящую добычу. Именно ту, о которой просил Аделину Светлановну пьяный от счастья Дан.
Аделина исполнила обещанное. Легко исполнила, прямо, щедро и с удовольствием. Круз даже испугался отчасти. Даже согласилась самого Круза отпустить под обещание вернуться. «Обязательно вернись, Андрей Петрович. Ты мне нужен. И твоему научнику ты очень нужен. Он меня очень просил. Очень. Я тебе паровоз дам и броневагон один. До Вендинги доберетесь. У меня со Степанидой договор, она через Микунь тебя пропустит. А от Вендинги пареньки твои доберутся. Чай, не младенцы».
Какой именно со Степанидой был договор, Круз в точности не вызнал. И полтора часа, пока состав торчал в тупике на Микуни, не выпускал автомата из рук. На насыпи состав торчал как в мышеловке, открытый со всех сторон. Последыш сидел за турелью, ощерившись, а в ста метрах стоял Т-80, и дуло его смотрело прямо в душу.
Но из тупика выпустили. Позволили загрузить уголь — на Микуни были огромные склады угля, едва початые. И отправили на Вендингу. А там ни о каких договорах ни с кем не слыхивали. Аделина отправила с Крузом одну из своих советниц, въедливую старуху лет семидесяти с хвостиком, закутанную до пят в пуховые платки и тяжко смердевшую пожилой немытостью. На Вендинге сидела дюжина угрюмых бородатых мужиков, растревоженных и заеденных комарами. «Набегают на нас. Кто набегает? А шут их разберет, набегают. Оленные набегают? Не-а, оленных давно не видели. С волками набегают? Не-а, волки сами по себе. Спасу от них нет, но они не с людьми. Люди с собаками, вестимо, а волки — они в лесу. Или в тундре. Но свирепо набегают. Куда попретесь-то? Домой? А кто вы такие? От Аделины? От какой-такой Аделины?»
— Ах вы шаромыжники! — заголосила старуха. — Ах, бесстыжие! Да вы здесь коз затрахали, а про Аделину не знаете? Может, вы и Степаниды не знаете? И Ольги Домновны? Да я ее сиськой кормила!
От упоминания Ольги Домновны мужики погрустнели и приутихли. Старший, с ожогом на полголовы, щербатый и тощий, сказал зло:
— Да пускай они катятся хоть на хер. Если полезут — отобьем. Секретов у нас оборонных негу. Вот весь секрет, — и показал на истертый «калаш».
В Вендинге, крошечном поселке, почти пожранном тайгой, Круз попрощался со щенками. За покосившейся хибарой и поленницей вровень с нею, за сторожевой вышкой с пулеметом, у начала лесной дороги, через полкилометра истончающейся до тропы и уходящей в никуда, Круз обнялся со всеми: с Правым, теперь то и дело улыбающимся, с Левым и Следом, с застенчивой осторожной Веркой, немножко рассеянной от новой привычки прислушиваться к себе, то и дело поглаживающей круглеющий животик.
— Бывай, старшой, — сказал Правый. — Дело сделано. Слово дано и выдержано.
— Дано и выдержано, — отозвались Левый со Следом и Последыш.
— Спасибо вам, ребята, — сказал Круз.
— И тебе спасибо, старшой, — сказал Правый. — Мы выросли. И еще: мы тут поговорили. Меньший с тобой хочет остаться. Пусть растет. Слушай, Последыш. Ты один теперь с ним. Ты сейчас вместо Правого. Держись!
— Я буду, — пообещал Последыш.
Правый вскинул автомат на плечо и пошел, не оглядываясь, держа Верку за руку. За ними точно и бесшумно, как лесные тени, двинулись Левый и След.
Круз смотрел вслед, пока лес не спрятал их. Потом повернулся и пошел к вагону. И почувствовал себя почему-то так, как когда-то зимой на маяке в крошечном городке на Мэйне. Только приемника, готового принести чудесный, вспыхнувший из ниоткуда голос, больше не было.
Назад добирались трудно и тягомотно. Стояли, клянчили уголь и воду, ругались на станциях, посылали курьеров, связывались и нехорошо смотрели друг на друга. Последыш молчал, смотрел в небо. Трогал зачем-то нож.
Приехали рано утром, когда солнце, проползшее круг по небу, снова начало карабкаться наверх, закрашивая вышину синькой. На станции курили двое сторожевых, смахивая комаров с ушей. С воркутинского вагона скидывали шлак прямо на перрон, а в кустах за ним кто-то тяжело, мучительно кряхтел, испражняясь.
Круза с Последышем отвезли в город на грузовике. Высадили на площади у чугунного Ленина. Сплюнули вслед. Круз пошел в больницу, повидаться с Даном. Запустили его в Дановы покои сразу, не расспрашивая. Дан был доволен, выбрит и благоухал настоящим кофе.
— Здравствуй, Андрей! — вскричал, вскакивая. — Как хорошо, что ты пришел! Знаешь, как здорово? У нас получилось, получилось! Теперь мы можем спасти эту чертову планету! Спасибо за больных, которых ты привез! Я ввел им сыворотку, и они выздоровели! А ведь они уже засыпали, у них пульс втрое медленнее стал! А теперь — нормальны, понимаешь, нормальны! Это чудо!
— Дан, я привозил здоровых людей, и не тебе, — сказал Круз.
— Мне так нужен был материал, проверить, такая робкая была надежда, зыбкая, и вот — получилось! — сказал Дан, не слушая. — Это же здорово, это здорово! Они как раз оказались на активной стадии, видно, заразились недавно, и вовсе без иммунитета, даже зачаточного, а вакцина сработала блестяще!
— Это хорошо, Дан. Это хорошо, — сказал Круз. — Мне пора. Я поздороваться зашел.
— Ты приходи, приходи! Ты должен знать! Ты заслужил право узнать одним из первых. Благодаря тебе мы спасем этот мир!
— Конечно, — подтвердил Круз, уходя.
Побрел по коридору. Поднялся по лестнице.
Аделина уже не спала. Но сидела в одной ночнушке — необъятной, парашютно-просторной, в розовенький цветочек. Причесывалась.
— Андрей Петрович! Приветик! Устал небось? Как оно прошло?
— Гладко, — ответил Круз, глядя на огромные складчатые сиськи, выпиравшие из-под ситца.
— Нравятся, а? — спросила Аделина, глянув искоса. — Да ты помойся сперва, поешь, отдохни. И нога небось болит? Ты ее лечи, лечи. Зачем мне хромой вояка? Большое дело у меня есть к тебе, Андрей Петрович. Большое. Мне снулые нужны. Много. Сколько можно, и больше. Сходишь за ними на юг?
— Отчего не сходить? Схожу, — согласился Круз и присел на кровать. — А ты как насчет сына?
— Экие вы, мужики, нетерпеливые, — отозвалась Аделина брюзгливо. — Немытые лезете, все вам одно на уме. Ты, Андрей Петрович, не балуй! — предупредила строго.
Круз вздохнул, вставая, но Аделина вдруг потянула за руку. Ухмыльнулась. Швырнув гребень на стол, навалилась колыхающейся массой. И прошептала жарко на ухо:
— Сына, говоришь?
4
— Сына хочешь? — шепнула на ухо Ники и засмеялась, сверкая жемчужными зубками. Удивительными — мелкими, ровненькими, чистыми. И сама была маленькая, чистая, ровненькая, и веснушки как лучики. Солнечные, мягонькие.
— Хочу, — согласился Круз басом, закинув руки за голову.
— Какой ты огромный! Волосатый! Смотри — моя ладошка в волосах на твоей груди прячется. И меня не любишь.
— Люблю, — возразил Круз. — Маленьких и проворных — в особенности.
— Не любишь, не любишь. Не знаешь ты, что это такое — любовь. Помнишь, что читал, или смотрел, или что рассказали, вот и все. Ты внутри совсем холодный.
— Я тебя в попу укушу, — пообещал Круз. — Мелкую и холодную.
— Я обижусь сейчас. Я тебе правду говорю — ты ж даже сочувствовать по-настоящему не способен. Ни радоваться не можешь, ни тосковать. Потому ты и заболеть счастьем не можешь. Чего ты смотришь так? Мне Жан говорил. Он знает.
— Ни черта он не знает, Жан твой. Араба от туарега отличить не может.
— Он в университете работал!
— А ты в клинике. Ну и что?
Ники закусила губу. Тряхнула челкой.
— Ну, ну, — сказал Круз, гладя шелковистую спинку. — Ты для меня — самый драгоценный, самый знающий в этом мире человек. Я с другой стороны мира услышал тебя, и приплыл, и встретил. Мне и думать страшно, что бы случилось, не услышь я тебя. Я до сих пор поверить толком не могу, что я здесь… и ты со мной.
— Если ты вредный будешь, я тебе изменю. С Жаном. Или с Михаем.
— Я тогда Жану зуб выбью.
— А Михаю? Он тебе сам выбьет.
— С Михаем можешь. Он красавец. В берете.
— Противный ты. Ты меня всей своей бригаде отдай, фу!
— Не отдам я тебя. И Михай тебя не возьмет, потому что друг. Настоящий, не по-вашему. Как там у вас… в любви и на войне все дозволено, правда?
— Грубый мужлан! Я тебе не игрушка!
— Ворчушка-капризушка, — сказал Круз и притянул к себе.
— Пусти… пусти!
— Не пущу. Замучаю. Изнутри и снаружи.
— Пусти! Не надо так… ты тихонько… тише…
Потом они, обессиленные и мокрые от пота, лежали под простыней, а за окном уже светало и в предрассветной тишине мягко и ласково плескало в берег море.
Над этой землей и этим морем еще светило прежнее солнце, из прошлого, когда пляжи и лето, и шезлонги, и кофе под полосатыми зонтиками, и яхты, звенящие под теплым бризом, утренняя газета, смех, мороженое и сонм загорелых тел на гладкой гальке. Круза принесло к этому осколку прошлого, как айсберг к тропикам, и, удивляясь и не веря, он прижился здесь, прикипел, привык, стал частью и плотью от плоти здешнего времени и дела. И на яхту, принесшую его через океан, смотрел с удивлением. Когда оно было? Как? Снег, и кровь на следах, и пустые города — где это, из какого кошмара? Здесь дымит у пирса паром, готовый уйти через море, здесь пальмы и птицы, и девушки смеются в кафе. Здесь свежий хлеб, замешанный греком Николопоулосом и выпеченный в недрах белой урчащей машины, здесь маслины и шкворчащий омлет, и Розина, черненькая и крепкозадая, несет на макушке ящик салата. Здесь улыбчивые парни в беретах и аксельбантах, и офицерская честь, и флаг на мачте, и «Марсельеза». И муэдзин протяжно стонет по утрам, и мечут кости, скалясь, день напролет трое сухокостых кабилов, не знающих ни слова по-французски, но всегда готовых объяснить что угодно случайному прохожему.
Одно что мало их, случайных прохожих. Средиземноморский центр выживания человечества — какое громкое название! С тысячу, самое большее, в Ницце и окрестностях. Еще с полстолько в постах на побережье. Да полсотни — поисковый отряд. Его, Круза, детище. Собранное с миру по нитке, вымуштрованное, выученное, слаженное как швейцарские часы. С надежными, отличными офицерами. Михай, Збигнев, Данилу — три богатыря со свитой. И Круз — как Дядько Средиземномор. Конечно, у коммуны городской своя есть полиция, да и все мужчины, способные держать оружие, по команде поднимутся — но по-настоящему профессиональные вояки только у него, у Круза. Что не может не радовать, поскольку самозваный Центр спасения человечества спас не столько человечество, сколько его проблемы, и от уменьшения людского числа проблемы эти меньше не стали. Скорее наоборот. Две трети людей Центра были мусульмане, собранные по всему Магрибу, Ближнему Востоку и Турции. Хотя турки презирали говорящих по-арабски, марокканцы презирали египтян, а белые и смуглые презирали негров, хотя по-настоящему, не кухонно и привычно, верующих была лишь горсть, и только двое имели хоть какое-то понятие об исламской учености, — почему-то любой из этих двух третей убыл с пеной у рта защищать свою веру, пусть и не разумея, чем она отличается от других. И кривился, глядя на женщин в бикини.
Круз хорошо запомнил тот день. Из постели выгнал, как обычно, нудный, чужой крик муэдзина, жирного тунисского итальянца, чьи предки явились в Африку вместе с дуче и не успели удрать. Круз поцеловал Ники в плечо. Она вздрогнула, улыбаясь. Круз прикрыл ее простыней и отправился в душ. Умылся, побрился, причесал редеющие волосы, оделся в хаки и портупею, нацепил перед зеркалом берет — и как лягушатники умудряются таскать эту тряпку с такой элегантностью? — зашнуровал ботинки и пошел пить кофе с круассанами к Николопоулосу.
Там его, мажущего джем, и нашел Михай — скуластый, складный, всегда улыбающийся. Всегда безукоризненный, точный и неуязвимо элегантный, внук полковника и сын генерала. Круз подобрал его умирающим от жажды на полуразваленном ливийском каботажнике, едва держащемся на воде. Из восьми человек, пытавшихся удрать на нем от африканского берега, в живых остался один. Он улыбался, сидя в рубке, и шептал на непонятном языке, а завидев Круза, попробовал встать и отдать честь, приложив грязную тонкую руку к берету. Круз сам откармливал и отпаивал его, а после, опробуя Михаево здоровье на ринге, здорово получил по носу. Михаевой реакции позавидовал бы и богомол.
Михай улыбался и сейчас. Круз выпустил нож, слушая, затем круассан. Потом спросил:
— Неужели прорвались? Через третий пост?
— Через третий, — подтвердил Михай весело. — Накрыли из гаубицы, а после погнали инженерный танк. Сровняли подчистую.
— Мерде, — сказал Круз, вскакивая, — Данилу готов?
— Уже, — сообщил Михай. — Завелись и ждем!
Круз вскочил в джип, дожевывая круассан, и принялся втискиваться в бронежилет. На востоке, в горах, грохнуло глухо. И еще раз.
— Данилу! — заорал Круз в рацию. — Выводи всех! Всех!
— Есть! — отрапортовал Данилу.
Круз с Михаем проскочили первый пост, где суетились трое бородатых угрюмцев, и подъехали по серпантину ко второму, где грохотало, ухало и трещало очередями. За ними, чихая дизелем, вскарабкался «Мистраль», дергая тонким стволом. Встал, высыпая из себя людей в хаки.
— Капитан, моя команда на месте! — отрапортовал Збигнев, прищурившись.
— На пост! — скомандовал Круз, — Михай, возьми двоих — и на верхнюю тропу!
Сам побежал по ходу, пригнувшись, нырнул в бункер.
— Честь! Что тут такое?
— Честь, капитан! — отозвались из сумрака. — Швейцарцы снова. Пока не лезут, притихли.
Круз глянул в окуляры. На дороге, развернувшись нелепо боком, чадил броневик, и свешивался из него кто-то пятнистый, будто дотянуться захотел до гусениц.
— Выжившие с третьего поста? — спросил Круз.
— Никого. Никакой связи.
— Потери?
— У нас трое и двое из команды Нестора.
— Скверно. Полковник в курсе?
— С ним связи нет. Уже с полчаса.
— Как — нет? — поразился Круз. — А Данилу?
— Не отвечает.
Круз набрал сам. Крикнул в трубку. Пообещал в сердцах:
— Ну я ему, безалаберщине латинской! Мерде.
Но Круз напрасно злился. Третий в его команде, бесшабашный Данилу, мелкий, смуглый и сноровистый, лежал на набережной у своего джипа и глядел на солнце остекленелыми глазами. А по крови, запекшейся на его курчавой шевелюре, ползали мухи.
Из города больше не пришел никто. Круз с горсткой людей отбивался до вечера. Швейцарцы, вздумавшие пробиваться по горной дороге, дрались умело и люто. Погнали танки в лобовую, пошли и сверху, и снизу. Збигнев, державший нижнюю тропу, едва успел отойти с тремя уцелевшими коммандос. Громадный «Леопард» с навешенным спереди бульдозерным отвалом расстрелял бункер в упор. Круз, оглохший и придавленный, сжег «Леонард» из базуки, всадив одну за другой три гранаты в тонкий бок у задних катков.
Все закончилось, когда солнце поползло от зенита вниз. Кончилось так же неожиданно, как и началось. Бросив раненых и танки, швейцарцы ушли. Круз видел и знал налоксоновое безумие — упорядоченное, как прилив и отлив. Знал, что второй раз они явятся не скоро — если, конечно, еще одной бродячей банде из Швица или Женевы не вздумается пойти по стопам предков. Можно было вздохнуть спокойно и пересчитать живых.
Девять. Девять способных держать оружие из двадцати трех. И восемь тяжелораненых. И разваленный вдребезги пост. Круз приказал уложить убитых и раненых в машины и отправил в город. С ранеными отправил четверых. Троих оставил на посту, а сам с Михаем вместе отправился на третий пост.
И нашел его целым.
Не то чтобы совсем — видно было, что взорвалось у бункеров что-то крупнокалиберное, нисколько, впрочем, не повредившее, что сваренная из рельсов рогатка, перегораживавшая шоссе, раздавлена и отодвинута на обочину. Но прочее оставалось целым и исправным! Не валялись гильзы на полу, стоял нерасчехленным гранатомет. А на столе у пульта стояла кружка с кофе.
Круз кружку взял, отхлебнул. От горечи свело скулы.
— Это Тарика чашка, — сообщил Михай, — он всегда гудрон делает. Варит полчаса.
— Это он и доложил тебе, что их с поста выбили?
— Он.
— Мерде, — сказал Круз.
Через полчаса, когда первый пост все-таки ответил, Тарик объявил Крузу весело: «Аллах акбар!» И отключился.
Еще через два часа Круз с Михаем и тремя коммандос явились к первому посту на «Леопарде», брошенном швейцарцами в исправном состоянии и даже с включенным мотором. И увидели догорающий «Мистраль», россыпь тел на шоссе.
Первый пост не был приспособлен для долгой обороны. Третий и второй держали танкодоступное шоссе. Первый пост был только застава на городской окраине, без врезанных в скалы дотов, без орудий и мин. Круз разнес его вдребезги, расплющил пулеметное гнездо, развалил дом, разнес в клочья «хаммер», к которому кинулись выбравшиеся из-под обломков люди. А потом Круз с Михаем и коммандос зачистили развалины, вытащили захотевших жить и уложили лицом вниз на дорогу — рядом с трупами тех, кого Круз отправил в город за помощью и спасением.
Тарик тоже хотел жить. Круз поднял его за шиворот как кутенка, тряхнул. Спросил удивленно:
— Ты что? Я же тебя вытащил! Ты же подыхал в своем Танжере! Вы все с ума сошли!
— Мы не сошли, — сказал Тарик, улыбаясь. — Это вы забыли обо всем, нечестивые, грязные фаранги! Вы взялись решать, кому жить, а кому умирать, выбирали тех, кто здоровее, кто вам понравился, и оставляли больных. Вы себе здоровых слуг собирали! Мы не слуги вам, грязные свиноеды!
— Мы выбирали тех, кто может жить, — сказал Круз удивленно. — Тех, кому не нужен налоксон.
— Только Аллах может судить, кто может жить, а кто нет! Вы заставляли нас терпеть нечестие каждый день! Глядеть на ваших гнусных бесстыдных потаскух, делать самую грязную работу!
— Так вы же не умеете делать другую!
— Теперь мы — хозяева! Теперь ваше бабье будет нашими подстилками! А твою шлюху отдали неграм, а потом повесили над помойкой!
— Если думаешь, что я тебя убью прямо сейчас, ошибаешься, — сообщил Круз, подумав. — Мы сейчас отправимся туда и посмотрим. Вместе с тобой.
— Мой капитан, что с ними делать? — Михай кивнул на лежащих.
— Раздеть, в наручники и подвесить на решетку в подвале.
Михай замялся.
— Там раненые есть, капитан.
— Это были раненые, — Круз показал на трупы вокруг коптящего «Мистраля». — Исполнять!
— Есть, мой капитан!
Тарик плюнул. Круз посмотрел на рукав и вытер его о волосы Тарика.
До самой набережной их никто не остановил. Кто-то подумал, должно быть, что прорвались швейцарцы и сейчас начнут расстреливать всех подряд, крушить и взрывать. А кто-то спрятался или убежал, потому что расстреливать и крушить начали еще с утра.
Они лежали рядком на набережной. И Данилу, и старый полковник. И грек Николопоулос. И много других. А над ними на пальме, нагая, грязная и окровавленная, висела Ники.
Тарик рассмеялся. Михай хотел ударить, но Круз остановил. Поставил Тарика перед собой и, аккуратно прицелившись, выстрелил ему в живот. Один раз.
Круз больше не хотел никому мстить и никого убивать. Глядя на измятый, окровавленный труп, висящий на пальме, не чувствовал ровно ничего — ни злобы, ни ярости, ни ужаса. Простой выживательный рефлекс говорил, что в городе еще больше сотни вооруженных мужчин, и если быстро проскочить на танке уличную тесноту, эта сотня не успеет с гранатометами и фугасами. Но рядом был Михай, который хотел убивать, пока не убьют его самого. И были коммандос, видевшие, что случилось у первого поста. И потому Круз, послушав, откуда доносятся выстрелы, скомандовал: «К больнице!»
Те, кто задумал и устроил кровавую баню этим утром, далеко не загадывали. Просто воспользовались удобным случаем. И когда те, кто успел схватить оружие и забаррикадироваться, принимались стрелять в ответ, убийцы на рожон не лезли. Потому в больнице уцелел главный и единственный в городе настоящий хирург Андре, засевший с шестью коммандос и кучей перепуганного медперсонала на втором этаже. Потому выжили запершиеся в гаражах техники, лупившие из пулеметов в сторону любого шороха. Но большинство тех, кого убийцы посчитали врагами, валялись в постели, кушали круассаны, смотрели на море или брели не спеша на работу — необременительную и неоплачиваемую. Даже часовой на почетном посту у «генерального штаба» — бывшего интернет-кафе, ставшего местом винопития всех щеголявших в хаки и в беретах, — только зевнул, глядя на людей с автоматами. И умер, не успев дозевать.
Круз вызвал людей со второго поста. Пробился в больницу и, собрав полноценный взвод, устроил зачистку. Чем бы она закончилась, трудно сказать. Скорее всего, зачищаемые перестали бы удирать, а наконец засели крепко, и получилась бы кровавая дрязга, растянувшая агонию города на несколько дней или недель. Может, Круз остался бы в одной из взломанных квартир, не успев отскочить, попав под очередь. Может, Михаю надоело бы стрелять и резать раненых. Все эти «может» остались в условности. Город Ницца умер в этот день.
В шестом часу у первого поста начали стрелять. А еще через полчаса загрохотало на набережной и, выбросив столб огня, красиво заполыхал белый корсиканский паром.
Были это те самые швейцарцы, отбитые и непонятно вернувшиеся, или другие, возникшие из ниоткуда, — Круз не узнал. К темноте у него осталось всего пятеро, а «Леопард», вернувшийся к швейцарцам, методично превращал в руины больницу. В темноте Круз, поддерживая хромающего Михая, прокрался в порт, к своей яхте. С ветром повезло, и выйти из порта удалось, не заводя мотор. Михай, глядя на горящий город, заплакал. Потом хотел застрелиться, но Круз отобрал у него пистолет и надавал пощечин. Круз направился на запад — подальше от города, который предал, от огня и тел на набережной, от безумных горцев, продержавшихся на отраве много дольше, чем все их соседи, и тем страшнее принявшихся их вырезать.
Круз привел яхту в Марсель и обрадовался, глядя на огромный город у моря, слушая тишину, и рассмеялся, уловив еще с причала запах свежего хлеба. В Марселе был большой пост, тут были свои, проверенные, надежные люди, державшие порт и окрестности. Круз обнял подбежавшего Франсуа, бородатого, пузатого и похожего на команданте Фиделя, поздоровался у маяка с ребятами, подхватил кружку свежего кофе, пообещал все рассказать, отхлебнул, завернул за угол — и увидел одного из тех, кого приказал приковать наручниками к решетке в подвале первого поста.
5
В августе принесло метель. Еще вчера от жары плавился асфальт, донимала мошкара, поднимавшаяся из травы черным призраком, — а сегодня пригнало жирные, вязкие облака, к полудню прохудившиеся, высыпавшие на ветер ледяную крупу. Ею хлестало ленивовидного истукана на площади, ее швыряло в витрины, пугая запоздавших ворон. А через две недели легла настоящая зима — снежистая, лютая, кусающая за пальцы. И принесла ссору.
Бабы женсовета не воевали друг с дружкой, не женское это дело, война. Но ссорились, устраивая сотни мелких гадостей, не перераставших, однако, в сплошное кровопролитие и резню. Однако теперь ссора подошла к самой границе войны. По-прежнему на север везли пищу и беременных, но в Котлас не пришел ни единый воин, работник или способная рожать женщина. Из девяти баб женсовета в Котласе осталось четверо, а остальные выдумывали предлоги в Котлас не являться. Котласская четверка отправила на север бронепоезд с сотней народа, чтобы привезти паучника и его микстуру, оживляющую снулых, в Котлас. Поезд непонятно застрял в Микуни и торчал неделю, а после двое суток добирался до Печоры. В Печоре же его встретил вставший поперек путей танк. Назад в Котлас бронепоезд добрался с непонятной и невиданной быстротой, едва ли не за сутки. А потом случилось волчье лихо.
Тогда разгорелась лютая свара и женсоветские бабы, хуля друг друга, излили много лишнего. Потому поползли слухи один другого страннее. Например, что на поезд, везший Аделину и Круза с Даном, напали не просто так, а оттого, что Степанида Ольговна любила оленьи унты и не любила научников, отраву делающих. И пришлых тоже не очень любила, и Адьку — выскочку залетную, ум в манде. Потому оленным она людей послала с подарками и условилась. А еще она мужиков сманивает от Домновны, а Домновна вовсе с гопотой снюхалась, из-за нее резня случилась под Москвой с выездными, которые по девок поехали, из-за гопника, чужими привезенного, который сбежал к своим и рассказал. Не просто сбежал, это Адька нахимичила, потому что у нее с чужими дела, а тот чужой мужичонка, ходок с волками, сбежал и волков увел и теперь людей жрет по околицам, и за грибами выйти страшно. Охотились на него, а он оборотень, и бабьей власти над ним нет.
К сожалению, слухи о волках подтвердились образом странным и страшным. Захар сидел в Котласе как в тюрьме. На его волков косились. Держали впроголодь. А после того как Хук задрал козу и притащил стае, Степанида Ольговна приказала волчье отродье перебить, а Захара посадить на неделю в подвал на хлеб и воду — пусть образумится, авось ума хватит за работу взяться. Здесь даром никого не кормят.
К несчастью для Котласа, случилось это как раз тогда, когда одна боевая группа ушла к Инте, воевать с оленными, а вторая пошла отбивать недорослей, юных головорезов, снова подобравшихся вплотную к котласским землям. Захар с мальчишкой, удивительно к нему прикипевшим, прирезали троих мужиков, присланных за волками, взорвали склад, сожгли цистерну с керосином и ушли в лес, уведя волков. Степанида, озверев, послала за ними дюжину бойцов, вовсе оголив котласскую оборону. Вернулось из дюжины четверо. Тогда Степанида не придумала ничего лучшего, чем отправить бывшего лейтенанта Сашу на хлеб и воду, избив предварительно до полусмерти.
Вскоре леса к северо-востоку от Котласа сделались местом ужаса. Люди боялись выходить за кольцо дорог. Говорили, что находят полусъеденные трупы. Что волки кричат человечьими голосами и по-человечески хитры. Что Захар, вожак стаи, не болеет счастьем только потому, что пьет живую людскую кровь.
Потом случилась беда на котласских выселках, где растили рожь и годовали свиней. На четвертых выселках, самых малых, в пару дворов всего, у дорожного поста. Девять душ — мужиков большей частью, но и баб двое. Нашли только изодранные, изглоданные трупы. Степанида вызвала группу с юга и отправила в леса. Бойцы блуждали неделю, но никого не нашли.
А на второй неделе августа на окраине Инты появился мелкорослый тощий мужичонка, босой, одетый в замызганные холщовые лохмотья. Безоружный, гололобый. Приблудный воробьеныш. Постовые сперва на него нацелились, наземь сшибли, принялись орать. Потом пригляделись — вроде не из оленных, нет таких там. И говорит чудно, хотя и понятно. И старшего военного хочет, Андрей Петровича. Кто это у нас Андрей Петрович? А, это Адькин новый постельник, старый хрыч. Наверное, это из его команды приполз. Говорят, ушли недавно из его команды, так, наверное, не выгорело что-то, этот и вернулся. Отвести надо, чего ж, стрелять его, что ли?
Круз кушал сбитень с сухариком на веранде, слушая рассеянно Люську — вторую подручную Аделины. Люська уже неделю усиленно лезла в душу и штаны, стараясь приблизиться, выведать и втереться. Когда Люська всплеснула руками, рассказывая об еще неизвестной Крузу кобылищно-стервозной Надьке, тот отложил сухарик, вынул «стечкин» из-за пояса и положил перед собой — за полминуты до того, как Захар, ухмыляясь, появился в дверях и объявил:
— Здорово, батя! Не забыл еще Захарку?
— Здравствуй, Захар, — ответил Круз. — Садись, сбитня выпей. Поешь.
Захар потянул носом.
— Не, батя, извини. Сбитень твой с химией какой-то, нельзя мне. Серые меня не узнают.
— Люся, принеси кипятку, — попросил Круз и сказал Захару: — Ты садись, откушай. И скажи мне, что к чему. Какими судьбами здесь?
— Плохими, — сказал Захар, прожевав сухарь. — Бросил ты меня, батя, как шавку бросил. А моих серых чуть не убили.
— И меня чуть не убили, — заметил Круз. — Но мы оба живы и почти здоровы и, по слухам, с волками твоими все в порядке. Ведь правда, в порядке?
— В порядке, — буркнул Захар.
— Вот и хорошо. А то я пообещал за вами вернуться и, видишь, не совсем успел. Потому что обещал кое-что другим и исполнял обещанное.
— Это кому? — спросил Захар. Потом подумал и добавил: — А че, Верка с ними ушла?
— С ними.
— Все и ушли?
— Последыш остался. Он еще молодой. Прикипел ко мне.
— А-а, — протянул Захар. — Знаешь, батя, я не то чтобы к тебе совсем вернулся. Мне нельзя теперь с этими, у которых ты прижился. Я из-за Пеструна пришел. Ну, это я так Юрка зову, молодого, он у меня в стае стал как Пеструн. Привязался я к нему. Такой он чудик был, два раза меня резать хотел, а после будто к тяте. Я вызнал, знахарь наш научился средство делать, чтоб люди мясом не делались. А от Юрка начинает уже тянуть… мясным этим. Не выдюжит долго.
Круз прожевал сухарь. Проглотил. Запил сбитнем.
— Ты понимаешь, что для меня значит твое появление здесь? — спросил наконец.
— Ну… — Захар помялся. — Ты ж меня в стаю взял, так, батя?
— Да, взял. И если я поступлю по закону стаи, то будет война. Или у меня со здешним людом, или у люда здешнего с теми, чью кровь ты пролил. Я хочу поступить по закону. И спасти твоего нового волчонка. Но ты мне должен ответить. Многое ответить. Не солгать, не утаить и поклясться. Сделать все, что я, старший, тебе прикажу. Ты готов?
— Ну ты, батя, суровый, — Захар шмыгнул носом. — А я че? Я готовый. Чего хочешь?
— Прежде всего скажи мне, за что тебя хотели сделать мясом?
— Ну… я… батя, тебе это надо, ну правда?
— Надо.
— Я волков наших обволчил. Ну, ты знаешь ведь, у нас место у каждого свое, как в стае, и волк ли, человек ли — все равно. Но самые старшие, вожаки — люди, потому что сильнее, могут больше. Волки наши это понимают. Всегда так было, что волки подчинялись и людей не вызывали, ну, за место вожака драться.
— А почему? Почему так было? Ведь волки в стае всегда дерутся.
— Потому, что наши волки… ну, не такие, какие были волки до хвори. Те, которые по лесу бегали. Хотя они почти как те, совсем почти…
— Потому что ваши волки — это все-таки собаки, а собаки всегда считают человека главным?
Захар покраснел.
— И ты сумел вернуть вашим собакам волчьи повадки?
— Не всем. Я не успел. Это ж с каждым отдельно надо. Приучить, показать. И запах. Тут самое важное — чтоб с запахом. Чтоб для них запаха главного не было… И чтоб свистка не пугались.
— И скольких ты… обволчил?
— Двоих.
— И что?
— Один, Гетьман, хоть молодой, но большой, лапы прям медвежьи… он дидьку нашего вызвать хотел… ну, знаешь, по-волчьи, кто победит, тот и вожак. А без свистка человеку волка не победить. Убить — можно, но не победить. Но волки никогда в таких драках друг дружку не убивают. А если б вожак убил, так его б вожаком не посчитали, потому что это не по закону стаи, убивать за такое… На него б вся стая встала.
— То есть ты хотел погубить своего недруга, а для этого уничтожить свой народ?
— Да я… да не так это все! Это не так просто! Это… — Захар вскочил. — Это…
— Ты сядь! — гаркнул Круз. — Сядь!
Захар сел, дрожа.
— Я хотел узнать, я узнал. Мне до племени, изгнавшего тебя, нет никакого дела. Мне ты важен. И твои волки. Как вообще сложилось у вас такое диковинное волчье-людское житье?
— Ну, я знаю на полстолько… я ж после родился. Знаю только, что вначале, когда хворь эта пошла, к счастью которая, наши первые в лес ушли, чтоб подальше от заразы, чистое есть и в чистое одеваться. А может, они еще и до того ушли, потому что время было плохое, голодное. Не знаю я… в лес, короче, ушли. А в лесу как без собак? Нету охоты. И собаки были не как собаки, в общем… мы ж из-за Урала пришли, из тайги. А поветрие, оно и в леса пошло. И там тоже было. В общем, люди щенков подбирали. Говорят, и медвежат подбирали, но медвежата не прижились, а вот волки — прижились. Так как-то. Ты б, батька, со знахарем нашим поговорил, он же знает. Я кто, я волчатник простой, и все…
— Простой волчатник, надо же… А как твои почти-волки к настоящим волкам?
— Когда как, — Захар пожал плечами. — Волкам — оно все равно, какой крови. Если живут как волки и запах правильный — то и свои. У меня сейчас двенадцать в стае, если без Пеструна. Пес знахарев — он под моей рукой главный. У, животина какая! С ним местные и тягаться не лезут. Из-за него к нам стая прибилась, еще под Котласом. Но меня слушает. Не то чтобы совсем уж слушает, но жить можно.
— А что еще было под Котласом?
— Убить хотели. Меня и серых. Не получилось. Теперь надолго запомнят.
— И те, на ферме? Чего молчишь?
— Батя, их крови на мне негу. Клянусь волками своими, нету! Хочешь, кровью поклянусь! Мы только подхарчиться пришли. Железо забрали, конечно. Но с нами уже были, которые местные. Хук потом их вожаку уши пообтрепал. Они не жрали, глотки порвали только. Свиней порезали, коз. Всю скотину. И народ заодно. Дикие вовсе. Не в уме!
— А сейчас они в уме? Будут на здешний народ нападать?
— Нет, батя. Пока я в силе — ни волоса не тронут.
— Сможешь тут зимой прожить сам по себе со стаей?
— А то! — Захар ухмыльнулся. — Тут много чего позаброшенного есть. И в горах народец дикий, олешков плодят. Не пропадем. Правда, нам народу бы в стаю поболе. Но пока и так выдюжим.
Круз доел сухарь. Допил сбитень. Посмотрел на небо. И сказал наконец:
— Я знаю способ помирить тебя со здешним народом. И спасти твоего Юрка-Пеструна. Так ты в моей стае, Захар?
— Батя, а то! — Захар вскочил. — Ты только слово скажи, кому угодно глотку порву! Батя!
— Тогда слушай, — приказал Круз, ухмыляясь.
Когда ранняя зима засвиристела над болотами, Круз пошел за тусклыми не на юг. Двинулся, напротив, к Воркуте, свернул, не доезжая, на Лабытнаги. И лишь оттуда на двух вездеходах двинулся к теплу. А впереди его бежали волки.
Зимой оленные легче всего на подъем. Болота под снегом, реки превратились в дороги. Олени отъелись за лето, и, хоть в чуме много припаса, легко упаковаться и перескочить на нартах из долины в долину. Вот только другая долина может быть занятой племенем вовсе недружелюбным. Тридцать пять лет — большой срок. Если никто не спаивает и не заставляет продавать оленей за бесценок, если мир становится ясным и простым и ты — в его центре, если снова становятся нужными воины и мудрые старики — возвращается время силы, время детского смеха у костров, время стад и песен. Вокруг — скверна, полулюди-полубесы, гнилые, грязные. К ним перешла старая смертная грязь. Одни мы чисты в этом мире, чисты и сильны!
Но люди грязи хитры и коварны. Они научились отцепляться от железа и домов из камня, научились снегу и зиме. И — наигоршее — обманом и страхом поработили племя охотников, четверолапую смерть, приведя с полудня бесов в волчьем обличье. Собаки не справлялись с ними, олени замирали от ужаса. Но волкобесы не убивали их, а гнали прочь, и мужчин, погнавшихся за ними, встречали затаившиеся в снегу люди грязи. Той зимой пролилось много, много чистой крови. Но худшее случилось потом. Люди грязи пришли не за оленями. Пришли они — за душами.
— И как? — спросил Круз, ухмыляясь.
— Четвертое стадо уже! — ответил Захар, смеясь. — Вот придавили-то пастухов!
— Потери?
— Двух пришлых подстрелили, так это мелочи. К нам еще стая прибилась, белых. Здоровенные, что кони. Живем, батя!
— Отлично! Теперь, думаю, уже пора. Федюн, зови диких!
Федюн, ушастый кривоногий парнишка лет семнадцати, отрапортовал звонко: «Есть!» И побежал к заимке. Вернулся, гоня перед собой двух скуластых белобрысых мужиков — тех самых, пойманных Крузовой командой летом. Мужики были одеты в слишком большие кухлянки и смотрели угрюмо. Один, отзывавшийся на имя Пюхти, пытался повеситься. Второй, неизвестного имени, но всеми называемый Шнырем за привычку к мелкому воровству и щупанью баб, бывал многократно бит, но нисколько от этого не исправлялся. У Круза было нехорошее ощущение, что вакцина, вернувшая им рассудок и жизнь, оставила где-то в потемках изрядную часть их душ. Но, с душами или без, лучшего материала для задуманного плана у Круза все равно не было.
Вслед за Федюном плелся Ваня Коковкин, бывший глава совхоза. Он-то никакой души не терял, будучи к заразе невосприимчив, мухоморы не любил, в чуме страдал, а с утра был уже под хмельком и потому вполне счастлив.
— Вы, двое! Возьмете этих оленей, — Круз показал на сгрудившееся за изгородью стадо, — и погоните к своим. И скажете им, что мы хотим говорить. Если они не придут, мы будем убивать и угонять, пока они не захотят слушать. Ваня, переведи!
Ваня, бессмысленно улыбаясь, перевел.
Мужики переглянулись, и Шнырь, глядя то на свои унты, то на пихту слева, принялся объяснять. Ваня хихикнул. Сказал затем:
— Начальник, боятся они. Говорят, нечистые стали, с ними говорить не станут. Пристрелят издали.
— Скажи им, что они чистые. Никакой их шаман заразы на них не унюхает, потому что нет ее, заразы. Наш шаман всю ее победил.
Ваня, улыбаясь по-прежнему, перевел. Мужики переглянулись снова, но ничего не ответили.
— Скажи им, что у них нет выбора! — приказал Круз. — Со своими у них есть шанс. С нами — нет. Если через неделю мы не получим ответа, волки придут на их земли, к их стадам и чумам. А за волками придем мы и возьмем силой все, что захотим. И жизни, и души! Переводи!
Ваня перестал улыбаться. Перевел, осторожно подбирая слова. Мужики побледнели. Потом закивали быстро.
— Хорошо, — заключил Круз. — Пусть отправляются прямо сейчас. Припасы им готовы, нарты — тоже. Наши волки сопроводят их, на всякий случай. Пошли! Отведи их, Федюн.
Ваня перевел. Мужики снова закивали и пошли, сгорбившись, втянув головы в плечи.
— Эк ты их сурово, батя, — заметил Захар. — С ними так и надо, ишь, носы задравши ходили. Если выгорит дело, баб-то дашь мне? Ну хоть пару?
— Я уже сказал, дам.
— А может, сейчас? Пеструн-то вон, бабы вовсе не знает. Дрочит весь. Не поверишь, давеча полез на Полоску, у нее как раз течка случилась. Она-то, дура, зад подставляет, ей все равно. А ему Шкаруда чуть ухо не отъел, срамота да и только!
— Захар, иди проследи за своими волками!
— Лады, лады, батя, иду, уже пошел, хе…
— И если твой Юрок еще раз к Люсе полезет, я ему сам ухо отрежу, понятно?
— Понял, батя, понял!
Когда Захар, подпрыгивая и бормоча под нос, скрылся за пихтами, подошел Последыш. Уселся рядом на пень, сказал задумчиво:
— Хорошо здесь по холодку! Как у нас вовсе. Горы, тайга.
— Соскучился? — спросил Круз.
— Не то чтобы очень. Но интересно — как он там. Дошли ребята или как?
— Они дошли. Лучше воина, чем Правый, я не встречал.
— Да, Правый — это сила, — согласился Последыш. — Может, хоть сейчас ему с бабой повезло. Старшой, я, вообще-то, про другое хотел. Я вчера с Ваней сидел, который к местным ушел, а теперь снова запил. Ваня этот, он много болтает. Глупый вовсе, хоть и старый. Но много такого наболтал… если правда, то интересно шибко. Говорит, они чужих видели прошлым летом. Не из-за гор которые, а из-за реки большой, с востока, значит. Говорит, как нечистые вовсе, мы, то есть, только одетые в меховое. Приплыли на катере большом, вышли и лагерем стали, а потом пошли землю разведывать. Местные по ним стреляли, вроде убили одного. Но те мстить не стали, собрались и дальше поплыли. Батя, а там, за рекой большой, люди жили?
— За Обью? Конечно жили. Напротив Лабытнаги, на другом берегу, был большой город Салехард. И еще города. Много людей жило.
— А если у этих, которые там, тоже от холода хвори нету, а? Ну, как у интинских и прочих? Я вот думаю, и у нас ведь считается, что самые сильные дети родятся в самый холодный месяц. Может, оно повсюду так?
— Не знаю, не знаю, — Круз покачал головой. — Я видел холодные края, где счастье перебило всех. И у вас ведь не то чтобы намного теплее. Но у вас рождаются и те, кто заболеет. Много их рождается. Может, здешним повезло заражаться другим видом хвори — кто знает?
— Может, конечно. А вообще, у нас стараются тех, кому рожать, наоборот, в тепло отправить, — возразил Последыш. — Чтоб не простывали и вообще. А здесь, смотри, старшой: чуть не в снегу рожают, а на лето малых за Воркуту везут, в горы, где холодища. Их же половина мрет, больше даже. Может, и мрут те, кому хворь написана на роду? Может, нам бы так лучше сделать, чтоб сразу видно и не ждать?
— Может, — согласился Круз. — Но теперь уже не нужно возить в холод. Теперь выживут многие.
— Хорошо бы так. Только не шибко я верю в средство это. Вон, мужики эти дикие — как уколол их мудрый старшой, так они, хоть и очуняли, стали крысы крысами. А были ведь бойцы! Я вот что думаю. Я, конечно, нашим старшим верю и все такое. Но тут дело в том, у кого кровь с самого начала лучше была.
— У вашего племени хорошая кровь.
— Да, бойцы у нас сильные. Мы и воюем все время, и в зиме. Тут слабый не выдюжит. Только у нас ведь грязное все было, и грязь та еще не выветрилась. Как тайга вокруг Мончегорска пропала, так и до сих пор грязи нету. И повсюду так. Запоганили землю. А здесь, гляди — чистое ведь. Дикие здесь не болеют. Эх, вот думаю про края другие, там, за рекой, и внутри все загорается. Старшой, может, сбегаем за реку, а? Разберемся с дикими и сбегаем?
— Отчего нет? — заметил Круз. — Разберемся и посмотрим. В городе много полезного, и новый народ встретить хорошо.
А про себя добавил: «И ввязаться в новую войну».
Последыш замолк, мечтательно созерцая горы. А Круз, глядя на него, думал: и в самом деле, кровь тех, кто называет себя волками, а свой народ — стаей, кто воюет без перерыва последнюю четверть века, — слаба и нечиста. Дан был страшно разочарован, когда наконец добился от старейшин разрешения взять на анализ кровь. Он успел убедить себя в «нордическом факторе». А после нордических впечатлений пришлось следить, чтобы не наложил на себя руки от отчаяния. Возможно, племя Последыша и выживало лишь потому, что воевало. Трудно разобраться, почему кто-то выжил, а кто-то нет. Дан, любитель все укладывать в теорию, так объяснения и не выдумал. Не желает человечество вымирать, вот и все.
Странная, порченая кровь. Любой ровесник Последыша сорок лет тому назад только и думал бы о девчонках. А этот мыслит про славу, про бой, про земли новые. Что нужно сделать с человеком, чтоб потерял удовольствие от главного в жизни — от продолжения рода? И почти все в его народе так. У них совокупление потому и непристойность потеряло. Не стесняются перед всеми, торжественно, как на празднике. Это ведь обязанность перед племенем, зачинать новых бойцов и матерей бойцов. Не самая легкая притом. Словно налоксоновое безумие застряло у них на полдороге, уже омертвив чувства, но еще не отобрав у души желание жить. Может, они и держались какое-то время на налоксоне? И финнов, и норвежцев ведь снабжали. А эти ходили грабить уже тогда, в первые годы после «опа». Страна, где они тогда жили, догнивала и уже не могла кормить своих жителей. А их старшие, матерые — они явно были бандитами, обычными бритоголовыми мясобойцами с татуировками на плечах и пальцах. Круз знал таких. В юности сам едва не стал одним из них. Подумать только: в банальных уголовниках открылось достаточно мудрости для выживания целого племени.
Последыш смотрел на горы, будто зачарованный, и пальцы его правой руки, лежащей на рукояти ножа, побелели. Круз встал осторожно с бревна и пошел на заимку — греться. От холода заболела толком не залеченная нога.
Недели не прошло. На пятый день вернулся Пюхти — с заплывшим синюшным глазом, рассеченной губой, тяжело смердевший калом и гнилью. Протиснулся на заимку, чуть не плача, стянул с распухшей, разбитой руки рукавицу. Заговорил, трясясь.
— Они придут. Долина тут, недалеко. Знахари придут, говорить. Только чтоб без волков, — перевел Ваня сонно.
— Без волков так без волков, — согласился Круз, усмехаясь, — Федюн, позаботься о нем. Седову покажи, пусть подлечит. И накорми.
Пюхти заплакал, показывая на грудь, на рот. На огонь. Залепетал бессвязно. Ваня оживился, спросил. Покачал головой.
— Говорит, Шныря-то огнем убили. Решили, что нечистый, и головнями горящими забили. Говорит, женка его сама добила. Смолы на него горящей налила, он и умер.
— Налей ему спирту, — велел Круз.
Ваня, морщась недовольно, налил. Он на всякую выпивку в чужих руках смотрел, будто на ворованное у него. Пюхти взял правой рукой — корявой, в запекшейся крови — выпил. Зашипел, заперхал.
— Воды дай, пускай запьет, — велел Круз и вышел наружу.
Вдохнул глубоко чистый, не опаскуженный человечиной воздух. Мороз стоял крепковатый, но сухой, звонкий. И солнце. Хороший день. И волки хорошо побегут. Ишь, волков не хотят. Куда вы денетесь. И стрелков ваших, загодя на высотки забравшихся, мы выщемим. В этой игре правила наши. А вам остается только пешки отдавать.
Впрочем, стрелков оказалось всего четверо. И те усажены, чтобы отход прикрывать, а не чтобы переговорщиков выцелить. Пришедшие говорить с Крузом, похоже, хорошо понимали, на что играют.
Говорили через огонь — полдюжины разложенных рядом костров, пахнувших пряно, смолисто. За огнем и тонким ароматным дымом — трое в кухлянках. Старейшины. Морщинистые, синеглазые, мелкорослые, грязные. Круз видел много таких в давности, когда лазил с приятелями, мелкой гопотой, по питерским задворкам и спальным захолустьям. Полуспившиеся, полубомжи, полууголовники, подрабатывавшие там и сям на следующую бутылку. Выжившие и сделавшиеся главными мудрецами у людей, знавших прошлое только в виде пулемета.
Крайний справа ухмыльнулся, сверкнув фиксами.
— Привет, начальничек. Уже и не чаял, что свидимся снова!
— А ты меня видел раньше? — поинтересовался Круз.
— Может, тебя и не видел. А вот таких, как ты, гнид ментовских с ряхами в три полы, навидался досыта еще пацаном. Не сдохнуть умудрился и пришел шкуры драть?
— Это хорошо, когда понимают сразу, — Круз усмехнулся. — Пришел. Хороший наш мир. Закон — тайга.
— И как вы, гниды, не передохли все? Позасрали все, дохли напропалую. А что осталось, мы со своих земель выжгли. Видно, не всех.
— Ты не гони пургу, — посоветовал Круз. — Пошутили, и ладно. Я не пихаться с вами пришел.
— Так зачем ты пришел? — спросил средний медленным, скрипучим голосом.
— За людьми, — ответил Круз. — Мне нужны люди. Сильные мужчины и способные рожать женщины.
— Наше племя невелико, — сказал средний. — Ты хочешь убить нас?
— Я хочу сделать вас сильными, — сказал Круз. — Тут коллега твой про новые хорошие времена говорил. Только вот в старые плохие вы ни с кем не воевали. В прежние времена чуть рыпнешься — по шапке получишь. А сейчас у вас право сильного. Ты сегодня сдохнешь, а я — завтра. Так вот, вы можете стать сильнее всех оленных. А можете и сдохнуть. Решать вам.
Левый — самый маленький, сгорбленный, с торчащими из ноздрей пучками седых волос — покачал головой. Раскрыл рот — натужно, будто выдавливал слова — и прохрипел:
— Волков дашь?
— Дам, — пообещал Круз.
Левый вдохнул — тяжело, с присвистом — и выхрипел:
— Будут люди.
— Мы что, под этого фраерка ляжем? — крикнул правый.
— Ша! — прохрипел старик. — Мы сегодня не сдохнем, понял?
6
Когда накатывала лихорадка, Круз шептал: «Я не умру, не умру, не умру». Мантра. Повторить три тысячи раз, десять тысяч. Поверить — и не умрешь. Не станешь вовсе беспомощным, иссохшим, увечным, не начнешь гадить под себя. Сможешь и сегодня, и завтра, держась за стену, добраться до смердящей параши.
За стенами шумит море. Недалеко, совсем недалеко. За глухой бетонной стеной, за колючей проволокой и пулеметными гнездами. Оно как сон. Выбраться отсюда, заползти в свою яхту — и в теплую, волнистую синь. Там свежо. И чисто. Там нет невыносимой, удушливой, ядовитой вони умирающих тел.
Ждал чего угодно — пули, ножа, шальной волны, отвала, течи. Но подыхать от грязи в кишках… мать твою! Говорят, средневековье кончилось, когда люди приучились руки мыть. И вернулось, когда забыли, зачем это делать. Веке еще в восемнадцатом чуть не главный повод подохнуть — кишечная инфекция. Склонность не мыться после латрины и чесаться в складчатых местах.
Как все-таки смердит! Говорят, к такому привыкают и перестают замечать. Счастливцы. Уже пятый день — и все то же самое. Впрочем, это, наверное, не сам запах, а память запаха, намертво вцепившаяся в рассудок.
В углу, за перегородкой, застонали. Круз, морщась, приковылял туда. Глянул. Этот, как его, то ли Махмуд, то ли Жак — живой еще, надо же. Легкое навылет и лежит в собственном дерьме — а еще живой. Сосед его, коротыш кривоногий корсиканского вида, уже концы отдал. Глядит в потолок стеклянно.
Махмуд-Жак вдруг захрипел протяжно, вытянулся, зашарил по скользкому матрасу. Затих. На губах розовая пена. Пузырек за пузырьком опадают, лопаются. Брызжут на желтушную щеку.
Круз вздохнул и поплелся обратно. Прикинув маршрут, оттолкнулся, шагнул безопорно трижды до лестницы. Не упал, ухватился за поручень. И — медленно, втаскивая слишком большое, бессмысленное тело, побрел вверх.
Два пролета. Дверь, коридор и еще пролет. И дверь. Низкая, тяжелая. За ней — солнце и ветер с моря. Хорошо.
Упал на четвереньки. Завалился на бок. Это ничего. Полежать… чуть полежать. Отдохнуть. Воды бы. Там, за будкой, гнездо. Там пулеметчики и вода. Обматерят, конечно. Но дадут напиться. Вниз почему-то никто не несет. Опять махмуды насели, что ли? А смердит как! Точно, память запаха. Тут откуда вони взяться?
Круз, кряхтя, встал на четвереньки. Обполз будку. И увидел возле пулемета, задравшего в небо ребристый ствол, раздувшийся труп.
Интересно, кто это? Франсуа? Вроде нет, Франсуа с бородой. Или молчун из Оверни? Да ляд с ним. Круз прополз мимо трупа, нащупал жестянку с водой. Тьфу, дерьмо. И тут воняет — но уже таблетками. Дезинфекция. Сковырнул крышку, приложился жадно. Заглотал, дергая кадыком. И тут же невыносимо заворочалось в кишках.
Далеко отползать сил не было, опорожнился прямо за пулемет. Потом сел, обессиленный, прислонился к стене. Закрыл глаза. Бриз шевелил волосы, гладил прохладно по щекам. Убаюкивал.
Когда открыл глаза, уже смеркалось. Болели пересохшие губы. Но в теле ощущалась легкость. Круз нашарил подле пулемета еще флягу, выпил. На этот раз пошло нормально.
В городе постреливали. Один. Один. Очередь. Снова один. Тут и не поймешь — перестрелка или просто от душевной тоски и обилия патронов. А может, Михай потрошит кого. Зачем, интересно? Скорее всего, просто потому, что может. Вместо того, чтобы плюнуть на всех и вся и сматываться из этого теплого места. Мститель, ети его. Кому и за что?
Тогда, в первый день, все и началось. Хоть Франсуа рубаху на груди рвал, мирил, клялся — хватило на две недели. Ненависть заразна. А у Михая будто предохранитель из мозгов вывинтили. Остервенел. Чуть живой был — но за полминуты сломал бедняге руку и переносицу. А из сорока трех бойцов на посту города Марселя — двадцать три мусульманина. Здравствуйте и приехали. А еще жара и гнусная вода. И гнилье по улицам. Еще через две недели из этих сорока трех осталось десятка два, так же увлеченно лупящих друг по дружке. И на хрена мы вообще сюда приперлись?
Круз вынул из кобуры кольт. Проверил. Вот он, ключик в страну чудес. Спокойнее с ним. Всегда под рукой. Интересно, как же выцелили бородатого? Наверное, из тех домов за набережной. Далеко, однако. Интересно, почему в гости не пришли? Впрочем, чего беспокоиться. Придут еще. Не те, так другие. Интересно только, куда подевались неспособные стрелять? Куда им теперь-то бежать? Было человек семьдесят гражданских всяких мастей, бабы большей частью, и пригоршня детей. Прятались по подвалам, а той просто сидели по домам, затихарившись. Неделю тому, когда еще мог ходить, видел семейство — старуху, пару баб, младенца, заботливо приколоченных гвоздями к паркету. Возможно, и не Махмудовых рук дело, а свои побаловались, те, кто за Михаем ходит.
Круз вынул обойму, защелкнул обратно. Надо черту провести. Звезды дождаться какой-нибудь или пока Михай вернется. Или до ста выстрелов сосчитать в городе. Нужна метка, ориентир уму. А то и зацепиться не за что, бессмысленность задавит, и ни мозги себе вышибить вовремя не сумеешь, ни подстрелить кого, если полезет.
Круз принялся считать выстрелы.
На тридцать первом поблизости залязгало, загрохотало. А на сороковом на набережную выкатился, поводя плоской башней, огромный пятнистый «Леопард».
Тогда Круз и встретил впервые Дана. В обличье прусского оберста, разве что в пятнистом вместо «фельдграу». Но с тростью и при пенсне. Улыбающегося снисходительно, краешками губ. Дан посмотрел на кольт в дрожащей Крузовой руке и спросил у Михая по-немецки:
— Так это и есть ваш ударный капитан?
— Я-я, херр коммандант! — отрапортовал Михай, ухмыляясь.
— Тогда забирайте его!
Приказал и сошел вниз, размеренно лязгая каблуками по ступенькам. А Михай присел на корточки подле Круза и сообщил:
— Теперь все хорошо. Конец черномазым.
— Кто это? — спросил Круз.
— Швейцарцы, — ответил Михай, улыбаясь. — Ты не пугайся — это хорошие швейцарцы. Которые в здравом уме. Они за людьми пришли. У них коммуна в горах и жизнь настоящая.
— А тут что? — спросил Круз ненужно.
— А тут пусть сдохнут все, — ответил Михай. — Пойдем, мой капитан.
Круз не помнил, как покинул Марсель. После разговора с Михаем рассудок нырнул в темное и липкое и выбарахтался оттуда к ночному ветру, шелесту над головой и приятной, очень чистой женщине в белом, охватившей Крузово предплечье и заботливо вгонявшей туда белесую жижу.
— Спите, спите, — сказала женщина, — вам лучше спать.
— Угу, — согласился Круз и закрыл глаза. Ему было хорошо от женщины.
Через два месяца она понесла от него сына. А через два года Круз, сделавшийся главой западной поисковой команды, вернулся в Марсель. Поисковые команды из Давоса периодически прочесывали города, когда-то приютившие иммунных. Марсель оказался пустым и мертвым. И пулемет все так же торчал, целясь в небо, и лежал подле него скелет. И жестянка с водой, опорожненная Крузом, по-прежнему валялась рядом. Ветер гнал по улицам пыль, и в озерке, разлившемся по площади от засорившихся сливов, уже завелись лягушки.
Тогда Круз испросил разрешения явиться в Ниццу. Разрешение дали неохотно, по настоянию Дана, уже ставшего главным Крузовым покровителем в давосской коммуне. Команда Круза потратила четыре дня на разминирование дороги. А когда наконец вломилась в город, разворотив танком завал из ржавых авто, — не нашла даже крыс. Город был мертвей Марселя, где хоть кваканье лягушек оживляло вечер. Сухая листва замела скелеты на набережной. Михай долго бродил по городу, искал чего-то. А Круз сидел на пирсе и смотрел в море. Потом стрелок из Михаева взвода подорвался на растяжке и пришлось срочно возвращаться, а по возвращении долго и неприятно объяснять совету, зачем и почему явились в Ниццу. И стоил ли привезенный груз лекарств и оборудования из госпиталей и института биофизики увечья одного из немногих квалифицированных солдат.
Впрочем, такое могло случиться где угодно. В любом городе, чьи жители умирали в безумии, особо злом у тех, кто был обучен убивать. А когда безумие истлело вместе с его носителями, Европа превратилась в тихую спокойную пустошь, неторопливо заселяемую забывающим человека зверьем. Конечно, были исключения. Круз знал десятка полтора их — отчаянно старающихся выжить, уцепившись за привычное. Были и другие, привычное отбросившие. Из-за них Давосу и приходилось большую часть сил и средств тратить на солдат и оружие. Балканы стали запретной зоной после исчезновения двух экспедиций. Там непрерывно кто-то с кем-то воевал, и временами ненавоевавшиеся набегали на север Италии, дочиста разоренный швейцарцами, и на Австрию и даже забирались в Альпы, где с ними приходилось иметь дело Крузу и его коллегам. Эти налетчики вовсе не походили на безумцев, доходящих на налоксоне. Не лезли наобум. Удирали, обходили, пробовали, шкодили всяко, нащупывая слабину. А нащупав, били точно и безжалостно. Круз три дня гонялся за ними по долинам, а когда загнал в угол, чуть сам не оказался в западне — с такой яростью кинулись загнанные прорываться. Не ушел никто, но эта стычка стоила Крузу троих — укрытых броней, расположенных удобно и недосягаемо, но убитых юнцами, выросшими на бесконечной войне.
Северная Африка тоже стала запретной зоной. Не вся — в Тунисе, в Марокко еще оставались общины, собирающие выживших, старающиеся наладить жизнь по-старому и не чурающиеся чужаков. Одна из них погибла у Круза на глазах. Раздор, назревавший давно, затем набег кабилов с гор. А потом: «Возьмите нас с собой, возьмите хотя бы детей!» Везде одно и то же: старались собрать всех, здоровых и больных, и прокормить всех. Везде не хватало рабочих рук, еды, бойцов. Везде собравшиеся, разноплеменные и разношерстные, едва уживались друг с другом.
А с теми, кто находил новый способ выжить, общаться приходилось большей частью через прицел.
Давос не цеплялся за старое. Снаружи могло бы показаться, что все по-прежнему, осколок размеренной, бюргерской, застарело мирной, правильной и вежливой жизни. И — родильный цех. И — кастрация всех, кто может жить лишь под налоксоном. Община Давоса и выжила лишь потому, что во власти повезло оказаться иммунным — кто, пользуясь ею, своевременно частью разоружили, частью перебили живших под налоксоном. Сумели блокировать перевалы, тасуя немногих надежных людей, и уцелеть в шторме безумия, охватившем страну. Помогло то, что злоба и ярость, рожденные налоксоновой депрессией, оказались направлены вовне. Давно не воевавшая страна вспомнила вдалбливаемые с детства истории давней славы, когда перед спускавшимися с гор варварами, дико бесстрашными и закованными в железо, разбегались лучшие европейские армии. Швейцарцы пошли наружу — в Германию, Францию, Италию, Балканы, — выжигая и разоряя все на пути. Назад возвращались немногие. Швейцария, перегреваясь, всякий раз выпускала опасный пар.
Кастрировать депрессивных придумал Дан. Он заметил, что, если достигающий зрелости подросток начинает заболевать и выжить может лишь с налоксоном, кастрация предотвращает агрессию. Налоксоновая депрессия развивается обычным образом, но вместо брызжущего слюной, крошащего все вокруг безумца получается равнодушное, глуповатое, послушное, размеренное существо, вполне пригодное для труда. Способное копать или дробить камень, пока не свалится от изнеможения. Или сортировать детали на конвейере. Впрочем, шизофрения развивалась тоже обычным образом, и через несколько лет образцовая рабочая сила превращалась в образцовые же растения, неспособные даже жевать. Но к тому времени из родильного цеха и школ выбиралось новое поколение.
Заболевающих девочек отправляли рожать. Беременность странным образом препятствовала счастью. И первые месяцы кормления грудью тоже. Потом хворь подступала и, если не случалось новой беременности, быстро брала свое. Чтобы такого не случалось, существовал отдел «Е», укомплектованный иммунными и генетически правильными самцами. Кроме того, отдел «Е» охотно принимал помощь от любого генетически правильного самца. Установлением генетической правильности занимался этот же отдел «Е», руководимый доктор-полковником по имени Фридрих Грац, чей дедушка избег денацификации лишь потому, что Австрию посчитали страдавшим от нацизма государством. Херр Грац взглядов своих не скрывал и жаловался на недостаток голубоглазых блондинов. Херр Грац считал, что вообще все женщины, иммунные или нет, пригодны лишь для деторождения и мужского удовольствия, и понуждал секретарш танцевать на столе. Прочие члены совета докторские шалости молчаливо одобряли, и условно юным женщинам Давоса, не имеющим персонального покровителя или остро необходимой квалификации вроде педиатрии или докторской степени по биологии, оставалось либо: а) рожать, рожать и рожать; б) развлекать утомленных занятиями мужчин. Открытое насилие каралось сурово, но не имеющей занятия и покровителя женщине предлагалось либо найти самой мужчину, заботящегося о ней, либо предоставить заботу совету. А проституция была официальным, одобряемым и востребованным промыслом.
Геля, коловшая Крузу антибиотики на окраине Марселя, а затем улегшаяся в Крузову постель, часто плакала. А наплакавшись, рассказывала. Кто, когда и сколько раз, когда били, когда заставляли раздеваться, когда насиловали походя, на полпути от лифта к туалету. Лежала, глядя в потолок, и говорила, говорила, стравливала бесконечную гнусь, скопившуюся за годы и километры. Круз слушал. Ее немецкий понимал еле-еле, но нравилось слушать женский голос. У Гели был хороший, теплый голос. Чуть хрипловатый. Геля не хотела возиться в постели, не умела и не любила совокупляться, а свое тело — нескладное, длинное, тощее — ненавидела. Геля любила всхлипнуть, прижавшись, уткнуться лбом в плечо и заплакать — тихонько, по-коровьи. А потом говорить.
С Крузом она улеглась потому, что егерь Шмидт снова разодрал на ней чулки, подкараулив на лестнице. Круз егеря Шмидта не бил, но правой рукой сдернул с дрожащей Гели, а левой сдернул с егеря Шмидта штаны. Егерь Шмидт, висящий над лестницей без штанов, был забавен. Круз аккуратно опустил его в пролет, а штаны бросил сверху. Егерь был впечатлен произошедшим и не угрожал. Он был разумный, осторожный человек и поспешил на пост в верховьях долины. А Крузу досталось утешать Гелю. Совокупился он с нею всего раза три, и прекрасно обошелся бы вовсе без совокуплений, но Геля понимала женский долг и старалась исполнить. И мгновенно забеременела. Это Круз любил. Гладил круглеющий живот, щекотал темнеющую дорожку от лона к пупку.
Но было Геле уже изрядно за тридцать. Раньше она не рожала, весила для своих метра семидесяти слишком мало, и беременность ее пошла трудно. После первого месяца начало мутить, и ослабела она так, что не могла подняться по лестнице. На третьем месяце Крузу пришлось уехать. Совет наконец решил навести порядок в Швейцарии, а заодно позаботиться о пище и рабочих руках. Круз командовал третьей ротой: Михаем, тремя десятками разномастных головорезов, не уместившихся в две первые швейцарско-германские роты, и полудюжиной разнокалиберных броневиков, от «хаммера» до французского АМХ-30. Покорение и наведение порядка заняло куда больше, чем полагал совет. Первая рота попала в засаду близ Люцерны, потеряла танки и половину людей, пробиваясь назад. Земля почти обезлюдела. Но где еще оставались люди — непременно учинялась стрельба. Захваченных приходилось отправлять в Давос, постоянно не хватало бензина и припасов, а заниматься поисками — значит лишь распылять силы. Совет быстро понял, что ввязался в настоящую войну, с выскребанием по сусекам последнего, с крайним напряжением и риском. Но игра стоила свеч. К концу лета население Давоса увеличилось на две сотни иммунных и тысячу с лишним больных, живо распределенных по родильному цеху и окрестным полям. Хотя кастрация на взрослых действовала не так эффективно, как на подростков, поддержание порядка облегчала заметно.
Круз, доложив совету, отправился искать Гелю. А в ее квартире жила уже другая женщина, то ли итальянка, то ли турчанка, смуглая и чернявая, с автоматом «узи» под мышкой. Круз ее и расспрашивать не стал. А вечером к Крузу пришел егерь Шмидт, угрюмый, с рукой на перевязи, и отвел на кладбище за старой больницей. Подвел к свежему холмику, сказал: «Вместе они тут. Она и сын». И побрел прочь. Круз постоял немного. Пожал плечами и пошел восвояси. Хотелось вымыться и наконец поспать на чистых простынях.
Назавтра Дан, хмурясь, сказал, что обычная история. В шесть с половиной месяцев повезли резать, кровотечение, перекрыть не успели, сердце стало. Ребенка не спасли. Если б нормальный хирург, а не Шмунце, наверное, выжила бы. Шмунце — недоучка. И винить его нечего. Хорошо хоть, что такие еще есть. Вы поймите, Андрей: это наша беда, мы с ней бороться не умеем. Мы сползаем в средневековье и остановиться не можем. Мы цепляемся за старые знания и умения, но не можем учить людей, как раньше. Слишком мало нас, чтобы учить полноценно хотя бы медицине, не говоря уже про физику с биологией. С молодости все силы — выжить, а не учиться. Специалистов осталось ничтожно мало. Шмунце — дантист. На весь город у нас четыре по-настоящему образованных врача. И ни одного нормального хирурга. Медсестер мы учим сами. Мы плохо их учим. Но, по крайней мере, мы еще способны учиться сами и потому — учить других. Наше с вами поколение уйдет — и мир станет средневековым. Если бы не война, мы давно бы уже сползли в средневековье. Стали бы как те племена каменного века, приучившиеся к равновесию с джунглями. Они не могли и не пытались переделывать мир вокруг — они изменились сами, пристроились к лесу, и время вокруг них застыло. Мелкие группки выживших в этом мире тоже скатятся к подобному равновесию. И неизбежно забудут все лишнее. Только мы, кто еще помнит старый мир, в силах это изменить. И вы, Андрей Петрович, можете мне помочь, именно вы! Вы поможете?
— Помогу, — пообещал озадаченный Круз.
Дан, как и Круз, был чужим в Давосе. Но Дану повезло оказаться там с самого начала. Дан был биологом в составе команды, устроившейся работать при местном Институте лавин. Команда одевала свиней в анораки, кидала одетых свиней в трещины на леднике либо закапывала в снег, а после изучала произошедшее со свиньями. Платило за эту работу немецкое министерство обороны, озабоченное воюющими в Афганистане солдатами. Выбивание талибов из горных убежищ зимой оказалось делом болезненным и неприятным, а Индия с Пакистаном не спешили делиться опытом высокогорных стычек.
После «опа» и налоксонового кошмара свиньи оказались в выигрыше. Из всей команды уцелел один Дан, свиньи же вышли на волю, размножились, мгновенно одичали и живо населили окрестности. После они, резво привыкшие к горам, стали сущей бедой для давосских попыток земледелия. Но зато и источником свежатины. От дикости они отнюдь не потеряли привитого человеком тела, но обросли шерстью в три пальца толщиной, клыками и твердокаменными копытами.
А кроме Дана в институте остались две секретарши и техник Макс, весивший сто двадцать семь кило и кушавший телятину. Обеим секретаршам было за пятьдесят. Они красились, носили платья с вырезами и, хихикая, называли Дана «кляйне золдатен». Еще они по полгода катались на горных лыжах и писали в местную газету. Они были упорно и отчаянно бесполезны.
То ли из-за холода, то ли из-за патологической неприязни местного градоначальства к лекарствам, Давосу редкостно повезло. На пять тысяч населения оказалось почти полсотни иммунных — раз в десять больше среднего. И среди этой полусотни — десяток способных держать оружие мужчин. Дан до того стрелял дважды в жизни. Но Дановы предки держали оружие полтысячи лет подряд, начиная с окологрюнвальдских времен, и выпустили его из рук, лишь будучи вышибленными из Восточной Пруссии, превратившейся в Калининградскую область. Память предков проснулась быстро, и Дан за пару месяцев снискал общее уважение. А местами и почтительное благоговение — к примеру, со стороны тогда еще лейтенанта Фридриха Граца, чей дед избег денацификации. Фридрих даже пробовал выбрасывать руку и кричать: «Хайль!» На что Дан заметил, что его, Дана, двоюродного деда расстреляли за попытку убить фюрера в сорок четвертом и он, этот дед, никогда не опускался до компании коричневых лавочников. Фридрих не огорчился и горячо Дана полюбил. Пару лет спустя именно с помощью Фридриха Дан сумел наладить работу в лаборатории. Фридрих бродил повсюду с лицом таинственным и знающим и говорил про белую расу, очищенную страданием и борьбой, про возрождение и вечный рейх. И потому всех найденных врачей, ученых и попросту людей с высшим образованием отправляли Дану для выяснения полезности. Оттого в штате появились два настоящих физика, специалист по стрекозам, проктолог и филолог-классицист. Но главное свойство любого втиснувшегося в науку — это умение учиться. И потому через пять лет Дан мог похвастаться полноценной биолабораторией, пусть и заштатно-провинциального уровня.
Первые годы его почасту отрывали от дел, занимая то сварами, то добычей. Но потихоньку нужда в Дановой работе стала очевидна всем. Вымирало не только знание. Любой умеющий складывать и вычитать понимал, что через два поколения иммунных не останется вовсе. Иммунитет по наследству не передавался, и почему он был у одних и отсутствовал у других — Дан понять не мог.
Первый успех пришел быстро — открытие, что кастрация делает безобиднее налоксоновую депрессию. Фридрих был откровенно счастлив и хвалил мать-природу, разумно лишающую недочеловеков права на размножение. Но дальше дело застопорилось. Хотя многое собрали еще в налоксоновые времена, когда мир агонизировал потихоньку, сохраняя видимость нормы, хотя во всех вылазках люди Давоса прежде всего рыскали по научным центрам и больницам — дальше коллекции штаммов дело не продвинулось. Дан знал, что в первые налоксоновые годы буквально все, кто мог работать, отчаянно старались найти вакцину. Дан не надеялся, что ему повезет больше, чем тысячам людей куда опытнее, талантливее и умнее его. Но не сидеть же сложа руки?
С годами предсказанное Даном стало очевидным для самых тугодумных и упрямых. Давос вымирал. Глупел, терял силу, заменял знающих стариков пустоголовыми молодыми вояками. И тогда Дан, вымеряя слова, рассказал, что нужно делать и сколько нужно людей, чтобы через двадцать лет Давос еще жил. Совет послушал, посовещался. Единогласно решил.
После чего Давос превратился в гнездо охотников за головами.
Поисковые команды снова перешерстили всю Южную Европу, вылавливая последние остатки выживших. Искали с собаками и термодатчиками. Запускали над подозрительными руинами беспилотники. Лазали в метро и катакомбы. Круз со временем так наловчился, что, почти и не взглянув, определял людское обитание. Через несколько лет после Дановой речи в Давосе и окрестностях собралось без малого две тысячи иммунных и впятеро больше «тусклых». А Европа от польской границы до Гибралтара превратилась в идеальную зону эксперимента по восстановлению дикой природы — за исключением разве что пары дюжин постов, оставленных Давосом для контроля обстановки. Границы зоны определились расчетом возможных потерь. Неразумно соваться туда, где положишь больше, чем захватишь. Польша, Словакия, запад Балкан, побережье Магриба — естественные границы. Дальше — те, кто научился выживать без налоксона. Экспедиция в Венгрию, на родину предков, чуть не стоила Михаю левой ноги. А двоих его коммандос, попавших в плен, разорвали конями.
Возможно, собрав столько людей, Давос бы смог выжить и без грабежа. Но тех, кто охотился на людей десять лет кряду, трудно отправить на свиноферму или перевозки подгузников. Полсовета хотело войны. Хотело больше, больше людей. И рабов. Не удалось в Венгрии и Польше, там далеко и туда трудно, — так двинем настоящую силу в Хорватию, в Боснию. К этим ворам и бездельникам, по привычке разворовавшим и распродавшим гуманитарный налоксон — и потому, из-за непонятного каприза природы, выжившим. Но не сумевшим использовать выгоду по-человечески, а тут же принявшимся добивать друг дружку. Чем бессмысленно разбойничать, лучше работать на общее благо.
Ради общего блага собрали без малого пять сотен бойцов — девять десятых давосских сил. И командовать ими поставили доктор-полковника Фридриха Граца вместе со старшим ландесратом херром Бурке. А Круза Дан не пустил. Не пошел сам из-за подцепленного весной воспаления легких и охотников своих не пустил. Впрочем, Круза не особо и звали. Херр Грац любил, встречая его, порассуждать о неполноценности славянской крови. Но, в силу германского прагматизма, в талантах Круза не сомневался и потому вздохнул с облегчением, когда Дан, не идя сам, потребовал не выпускать и Круза. В конце концов, надо же охранять вотчину, а кто справится лучше, чем такие вояки?
Выступили в июне, под хорошим солнцем, по очистившимся дорогам. Так началась третья война Давоса, едва не ставшая последней.
Через месяц вся заботливо высчитанная Даном выживательная арифметика рассыпалась мелкими клочьями.
7
Ветер стонал, взревывал, плакал, визжал, хохотал и рычал. Ветер хлестал, резал, бил в спину, сыпал и крутил. Застывал прозрачной непробиваемой стеной. Подхватывал снег, открывая обледенелую землю, поднимал и обваливал, за минуты нагромождая многометровые сугробы. Плющил и терзал, закапывал, вымораживал, смеялся. Баловался с горсткой еще теплых существ, будто соскучившийся титан.
Но существа, не обращая внимания на удары и насмешки, упорно ползли вперед. Двуногие, переставляющие лыжи, и четвероногие, плетущиеся следом. Ветер в очередной раз украл снег из-под ног — и первый из двуногих, глядя в белесые сумерки, показал вниз, в распадок между отрогами. Там среди глади темнело угловатое, коренастое, вцепившееся в землю. А рядом — легкие высокие тени, будто одетые снегом елки.
К первому двуногому подобрались еще двое. Он указал — туда, туда. Белые тени заскользили вниз. За ними, ступая по лыжне, мелькнули четвероногие.
В избе все были нагими — от мала до велика. А запах — будто в ноздри сверло. От Круза шарахнулась толстенькая бабенка, белобрысая сверху и рыженькая внизу. Мужчины, сидящие у чадного жирового светильника, повскакивали. Остался сидеть один — дряхлый, со слившейся, осклизлой бороденкой, с белесой редкой шерстью на груди, с узловатыми коленями и расплывшимся лиловым черепом в обнимку со змеей на плече.
— Всем сесть! — скомандовал Круз. — Я не собираюсь никого убивать.
Пюхти, зашедший следом, перевел. Женщины притихли. Мужчины замерли. Никто не глянул вбок — туда, где, обернутые в промасленные шкуры, стояли рядком у стены карабины и «Калашниковы». Во всех глазах виделся один непомерный расплесканный ужас.
И тогда поднялся старик — медленно, дрожа. Крузу показалось — слышен скрип суставов.
— Ты… ты как сюда попал? Ты же свою грязь приволок сюда, падло! — выговорил хрипло. — Зима сожрет тебя, тебя и твою погань! Вон!
— Ты и есть знаменитый шаман Буй? — спросил Круз, усмехнувшись. — Зима — она у нас в подружках. Это вас она жрет. А мы от нее сильнее.
Пюхти, спохватившись, начал было переводить, но умолк на третьем слове.
— Ты че, понты кидать приперся? Или за бабами?
— Если меня не обманули, ты хвастал, что грязным тебя нипочем не тронуть? Что грязь тебя не найдет и не войдет к тебе? Ты был прав, старик, — мы чисты. Грязь не коснулась нас. Мы прошли через нее, и она не пристала к нам. А твой народ чист только потому, что вы боитесь и подойти к ней.
Старик молчал, глядя исподлобья.
— Интересно, ты сам додумался до «чистоты» или тебе подсказали? — Круз усмехнулся. — Впрочем, неважно. За то, что ты сделал с нашими друзьями, я б набил тебе углей в брюхо. Но я сделаю хуже. Я заберу из этого чума всех, кого коснулось мое дыхание. И уйду. А тебя оставлю — чтобы ты сам объяснил своему народу, кто мы такие.
— Сука! — прошипел старик.
— Сука? Ты сейчас сам скажешь своим, чтобы они одевались. По одному, строго по одному. А то трупы будут. И пусть выходят.
— На понт берешь, падло? — прохрипел старик. — Я сукой никогда не был и не буду. Они все мне — дети. Они…
— Прежде чем сделать что-нибудь храброе, хорошо подумай. Мои люди и волки сейчас у каждого чума. Все твое племя умрет здесь.
— Да, — сказал старик — и медленно, сгорбившись, пошел к Крузу.
Всхлипнул ребенок. Кто-то выдохнул удивленно.
— Стой, — предупредил Круз.
Старик стал — и вдруг ударил рукой по жировой лампе, подвешенной на проволоке к потолку. Круз отшатнулся, зашипел — горячий жир попал налицо. И тут, как по команде, вскочили все.
А от двери ударили в два ствола.
— Стой! — заорал Круз. — Не стрелять! Не стрелять! Ты чего, они ж твоя кровь?!
— Они б нас завалили, — сказал Пюхти виновато, опуская автомат.
— Не стрелять! — заорал Круз, выскакивая.
В вое ветра хлопок от гранаты почти не слышен. Только дергается нелепая, хворостом обложенная связка жердей и шкур, укрывающая людей от бурана, а тот подхватывает мгновенно, раздергивает, хлещет по голым, окровавленным людям ледяной крупой. Криков не слышно, нагая женщина разевает рот над крошечным, облепленным снегом тельцем. Ветер треплет волосы, застит глаза.
— Стой! — закричал Круз.
Выхватил ракетницу, пальнул.
Крикнул Последышу: «Собирай всех, уходим!»
Когда поднялись на гребень отрога, буран утих. Словно выключили его внезапно — и снег, несшийся, хлеставший по лицам, полетел вниз медленно и лениво. Улегся.
Круз обернулся. Заимка еще догорала. В сером сумраке полярной ночи пламя казалось стаей округлых, игривых зверьков, то прячущихся в норы, то выскакивающих. А тела, лежащие вокруг, серый сумрак спрятал, растворил. Нет их и не было, и кровь спрятал снег.
— Зря не добили, батя, зря, — пробурчал Захар. — Я б это семя иродово под корень. Они ж стойбище Пюхтино под корень вырезали, никого не пощадили. Лютованы. Чистоту они наводят, дикари хреновы. Я…
— Заткнись, — приказал Круз.
— Ну что ты, батя, как всегда. Я ж понимаю, они теперь как шелковые станут, поймут, что где угодно достанем, а…
Круз ткнул кулаком, не глядя. Захар кувырнулся в сугроб. Вылез, отплевываясь, улыбка до ушей.
— Ну а говорят — старый ты стал, сдаешь. Мне б так сдавать. Кувалдой приложил, ей-ей! Эй, Пеструн, отряхни-ка.
Юрок-Пеструн подбежал, шлепая снегоступами, принялся счищать снег.
— Э-э, молодец. Ты, батя, не поверишь — опосля того, как ширнул его знахарь, та-а-кой исполнительный стал, чудо! Как сынок родной! Бабу ему подарю. Как ты, батя, смотришь, а?
— Подари, — согласился Круз и, отвернувшись, пошел размашисто вниз.
— Э-э, нам бы передохнуть! — заорал Захар вслед.
Затем вздохнул и сообщил Юрку значительно:
— Батя, он суровый, но дело знает. Закон говорит.
— Ага, — согласился Юрок радостно.
— Ты за Паленым-то присмотри, — посоветовал Захар. — Вроде на левую переднюю припадает. Может, наморозило ему между пальцев-то? А ну, геть, на ать-два!
— Передохнуть бы?
— До базы доберемся, там передохнем. А ну, пошел!
Но остановиться пришлось раньше. В буране вымотались, бойня в долине легла свинцом на тела и души. Круз видел в лицах тяжелое, тусклое безразличие. На подъеме оказалось, что буран смел с перевала снег, открыв заледенелые камни. И тогда Круз приказал стать на площадке между огромными валунами, обсевшими пригорок словно ограда. Ближе к замерзшей реке торчали из-под снега бревна, ржавая арматура — наверное, когда-то была база геологов или разбойных золотодобытчиков. Развели костер. Высушенная морозом труха хоть жару давала немного, но горела споро. Люди и волки стали у костра — греться самим, разогревать волкам мясо, а себе — жестянки с кашей и тушенкой. Выдали спирт, по полбутылки на нос. Кто выпил сразу, кто цедил потихоньку, чтоб продлить жидкое тепло, побежавшее в теле. Никто не переговаривался. Серые, измученные лица.
А с чего радоваться? Вместо того чтобы напугать и увести людей, устроили бойню. И ушли порожняком. Круз усмехнулся. Пусть думают. Неизвестно, лучше ли бы вышло, если б все как задумано. Но по метели и такой дороге с пленными… И с неизбежной погоней на хвосте. А тут место гиблое. Горы смыкаются коридором, крутые осыпи, взлобья, и подъем как лестница, от озера к озеру, снизу все как на ладони. Одно хорошо — после такой бойни вряд ли кто соберется бежать следом…
Быть может, потому, что Круз о погоне думал — он и заметил ее первым. Часовые и волки не разглядели в сером сумраке. А Круз, угадав скорее чутьем, чем зрением, крикнул, показав на гребень хребта: «В ружье!» — за полминуты до того, как над его головой брызнуло каменной крошкой.
Узнали потом: разоренное стойбище было малой частью, присными шамана. А те, кого созвал он драться с продавшимися нечистым, стояли в соседнем распадке, в получасе всего. Но в полярной ночи и люди, и волки не углядели их. И потому случилось как раз то, чего Круз боялся больше всего, — на две дюжины его людей и десяток волков обвалилась сила всех племен, соединившихся против нечистых. Со свежими силами, налегке, они побежали по гребням, перекрыли проход. И несмотря на сумрак, стреляли на диво точно. Крузова команда залегла за валунами, высчитывая, что проще: умереть, кинувшись на прорыв, или умереть, замерзнув среди камней.
Но буран, тоже отдохнувший, сам решил, кому выжить, а кому умереть.
Уцелевшие потом говорили, что дело в шаманах. Что два древних могучих колдуна, уцелевших с тех времен, когда люди утонули в своей грязи, наконец решили давний спор. Что один, великий шаман Буй, собрал добрых чистых и увел людей туда, где грязь не коснулась земли и травы. А другой, лютый и хитрый, нашел, как очищаться человечьей кровью и огнем, и собрал злых — и людей, одержимых нечистыми духами, и волков. Буй наслал на него бурю, но злой шаман пробился сквозь ревущий ветер и снег и застиг Буя врасплох. Буй умер, и вместе с ним умерли воины его дома, его жены и дети, чью кровь злой шаман выпил. Но перед смертью Буй послал свой дух в буран, и тот настиг злых в горной долине. Была колдовская битва, горы снега вздымались и сметали все на пути. Погибло много, много воинов, ушедших мстить за шамана. Злой шаман был могуч и не погиб. Но его сила осталась в буране, и многие его люди и звери, чей дух оказался закован проклятием Буя, остались в той долине. Закаменели, стали валунами — и навсегда закрыли дорогу на перевал. А союз племен, собранный Буем, рассыпался, и семьи, будто разрозненные веточки, разбрелись по долинам, оплакивая воинов. Горе, горе народу оленей!
Такого бурана Круз не видел никогда в жизни. Не стало неба, и не стало воздуха. Ноздри уткнулись в колючую белую стену. Вот она, расплата за глупость! За идиотский этот набег. Хотелось решить все проблемы разом. Переломить оленным хребет, обезглавить, показать, что может достать их везде и всюду и некуда бежать.
Как же холодно. Люто, невыносимо! Холод лезет под кожу, втыкает кривые, ломаные иглы. И не пошевелиться, не выглянуть из-за камня. Словно палкой бьет по рукам, швыряет, гнет.
Потом ухнуло — глухо, подземно, будто шевельнулась, вздохнула во сне гора. Жидкий бегучий снег потек, захлестнул, накрыл с головой. И стало тепло.
Но ненадолго. Вдруг сверху заскреблось, на лицо посыпалось холодное, обожгло, укололо. И чей-то знакомый голос пробурчал:
— Батя, ты че, заснул? Батя?
— Захар? — спросил Круз сонно.
— Батя, вылазь! Я тебя из норы не вытяну, тяжелый ты.
Круз вздрогнул. Затем выпрямился, зашипев от боли в оцепенелых суставах. Боль помогла — будто адреналина вкатили.
— Ты лыжи-то, лыжи вытяни… Как без них? Ты вылазь, а я помогу… вот так!
Круз выбрался на поверхность, на твердый комковатый снег, державший и без лыж. Там сидел, огорошенно моргая, Юрок-Пеструн с кровоподтеком в пол-лица, а к нему жались испуганные волки. Круз пересчитал — весь десяток, все тут. Буран стих. Вокруг висел ровный серый сумрак, плотный, будто илистая взвесь.
— О, нашел!
Захар выкинул наружу лыжи с палками. Выбрался сам.
— Ой, батя, тут полгоры на нас рухнуло, не иначе. Я-то с серыми под камни, тепло и укрыто, только перепугались они — слов нету. Они ведь всякое слышат, чего мы не слышим, аж тряслись. Ну мы с Пеструном их притишили, а то б побежали, померзли. Хорошо, запомнил я, под каким камнем батя.
— А под каким Последыш, ты запомнил?
— Ну-у… под тем вот, который с рогом… не, под этим. Вот. Ща раскопаем!
В самом деле, через пять минут, крутя растерянно головой, на снег выполз Последыш. Скривился, схватившись за ухо.
— Ты снегом, снегом-то потри! Давай потру, а то отвалится. В снегу-то, оно люто… да не брыкайся ты, дурик, больно, зато с ухом останешься!
— Да я знаю, знаю! — отбрыкивался Последыш. — У нас в Хибинах еще похлеще. У нас…
— Так то у вас, давно и неправда. А тут ухи почернеют — будешь знать!
— Иван под этим камнем сидел, — показал Круз. — Надо всех откопать. Живей! Потом уши растирать будешь!
Но откопали всего девятерых, и то двое уже не дышали. Должно быть, лавина подпрыгнула, скатившись на пригорок, и обвалилась как раз на ближнюю к реке половину валунного круга. Там не отыскали никого. Не смогли пробиться через заледенелый снег, мешанину фирновых обломков. Да под таким и не выжил бы никто. Мертвых Круз приказал закопать в снег снова. А живых повел на перевал.
Больше по ним никто не стрелял. Буран снова одел склоны снегом, и забираться наверх стало куда проще. А наверху нашли тех, кто должен был заткнуть мешок, сотканный вокруг набежников, — пятерых с карабинами и ручным пулеметом. Буран отобрал у них тепло, заледенил кожу. Скрючил, закаменил. Один из них, усач лет тридцати, еще дышал. Круз приказал уложить его на связанные лыжи и тащить вниз.
За два перехода добрались до заимки — бывшей егерской сторожки у давнего лагеря геологов. Там ждали вездеходы, тепло и пища. Там была жизнь. Там Круз чуть не умер.
Огонь в печи, еда, одеяла, стакан спирта. И усталость, и страх. Раньше плелись позади, а тут нагнали, стиснули. Мир закачался перед глазами, поплыл. И кто-то ползучий, напитанный отравой, пролез под ребра, к сердцу.
Круз, цепляясь за стены, подобрался к двери, вывалился наружу, на истоптанный, испятнанный желтым снег, свалился, перевернулся на спину, по-рыбьи разинув рот. Лежал, пока не начало кусать за спину. Тогда перевернулся, встал на четвереньки, со второй попытки поднялся на ноги. Побрел назад. Кинувшихся навстречу отстранил — не надо, мол, хорошо мне. Но хорошо ему не было.
Когда вернулись, Аделина, подбоченившись, принялась выговаривать:
— Да что ж это, Андрей Петрович, куда такое годится? Не мальчик вы уже, по горам зимой шастать! А ну как сердце у вас или еще что? И сами сгибнете, и народ погубите!
— Так война же, — оправдывался Круз вяло. — Победили мы. Надо было мне идти, обязательно.
— Чего это «надо»? Ну и что, война и война, все время воюем! Это ж не значит, что самому, как мужику серединному, повсюду соваться? Эк хорошо: явились, придумали лекарство от сонной хвори, втравили меня в войну настоящую, рассорили с женсоветом, а сами бац! — и копыта откинули?! А весной-то свара настоящая начнется, не с оленными. Со Степанидой. Как мне без вас? Вы-то совесть мужскую имейте! Во, пощупайте!
Задрала бесстыдно кофту, схватила Крузову ладонь, прижала. Сквозь жирок на обширном Аделином животе ощутилось тугое. И оттуда в Крузову ладонь вдруг ткнулось что-то маленькое, округлое.
— Люська мне ультразвук сделала, говорит — мальчик. Сын. Так что не бегай шибко, Андрей Петрович. А то и не увидишь спиногрыза своего. Издали воюй, как положено командиру. Вон, у тебя этот, кольский парниша — пусть бегает. А ты — сиди.
— Я буду, — пообещал Круз.
Хотел еще добавить, что и не хотел сам идти, но дело такое важное и опасное — как людей отправлять, когда сам сидишь? Но смолчал. Аделина не дура, все уже разнюхала и поняла. Знает, что едва не попал ее Андрей Петрович впросак с оленными, ой-ой как мог бы попасть. Союзники, связанные страхом, — плохие союзники. А оленные на разбой отвечают быстро. Волки, конечно, ужаса нагнали, и казалось уже — пошло дело. Первую партию пленных пригнали, три десятка молодых, самое то. А потом появился шаман Буй, по уверениям Вани Коковкина, прежде бывший не шаманом, а Васей Золотником, получившим десятку за разбой и грабежи в городе Санкт-Петербурге и отправленным в лагерь на Печоре. Буй объявил, что отгонит духов зла, спасет стада, а нечистых — выжжет. Сказал и тут же принялся делать. Через неделю новые союзники послали к Крузу гонцов, умоляя спасти. Захар же, побегавший с волками, сообщил, что серых на верную смерть не поведет. Слишком от баз далеко, поддержки нету. Буй этот — он народу собрал немерено. В горах засел. А где засел? Местные говорят, вроде тут вот где-то, в этих долинах. А точней узнать можно? Почему нет, узнаем. И узнали.
Тогда у Круза и родился план — окончить эту войну одним ударом. Убить или запугать. Развалить собранный Буем союз. Проводников нашел, набрал добровольцев, объяснил опасность. И повел сам. Все просчитал — кроме погоды. Хотя с такой погодой и получилось врасплох застать. И удрать после. Все равно, чет-нечет с безносой.
Чет выпал. Через две недели явился Пюхти, довольный. Буевы люди разбежались. Не захотели оставаться там, где шаман умер. Говорят, грязь легла там. И дух шаманский плачет, зима его поймала. И ваш там дух, Андрей Петрович, по слухам, застрял. Как вы без духа-то?
— Ты чего несешь-то? — спросил Последыш. — Вот старшой наш, живой и здоровый! Леща даст, так до гор своих долетишь! Одним духом!
Застольный народ дружно заржал. А Пюхти, покраснев, подавился сухариком.
Не смеялся один Круз. Оленные, наивно веря, что нельзя человеку выйти невредимым из нечеловеческого, были правы. Дан сам взялся обследовать Круза. Долго слушал, прикладывал таблетку стетоскопа, похожую на пиявочный рот. Затем заставил своих ассистенток выслушать Крузово сердце. Посовещался с ними и сказал, вздохнув:
— Вот и все, Андрей. Ненамного я тебя опередил. Еще один такой забег станет для тебя последним.
— А какой смысл мне на завалинке сидеть? — спросил Круз. — Чтоб слушать, как старым пнем называют? Ты уже своего добился, я свое обещание исполнил. Все, кого я привел сюда, смогут выжить и без меня. Теперь я волен распоряжаться собой, так?
— Не совсем, — Дан поморщился. — Как я завидую тебе, Андрей! Ты еще настолько мальчишка… Вакцина — это полдела. Есть многие, для кого лучше жить прежней жизнью. Котлас неплохо жил и без нас. Они потихоньку набирали силу, женсовет этот их — система удивительная. Как власть пришла к женщинам, я не смог выяснить, скорее всего, среди иммунных оказалось больше женщин и как-то они власть сумели взять… Но властью распорядились с толком, поверь мне. И вот теперь приходят новые, готовые разрушить уже устоявшийся порядок. А это новое — обязательно война, потому что оно слишком сильно для прежнего равновесия. Настоящая война, не эти их вялотекущие женские свары. Для настоящей войны нужны мужчины. Ты думаешь, Аделина тебя по бабьей слабости под крылышко взяла? Ею сталь ковать можно. Она тебя взяла, потому что предвидела. Ты учти, у них здесь разделение власти как у ирокезов. Бабы всем в доме заправляют, а на добыче — мужчины. А все объединить, организовать, перестроить под войну — для этого ты нужен. Это твоя работа. И она только начинается. Тебе нельзя умирать, Андрей.
— Помнится, ты недавно хотел всего лишь найти вакцину и умереть счастливым. Говорил, что благодарное человечество само подхватит и не забудет. А теперь, как я вижу, про Четвертый рейх задумался?
— Брось! Я ведь серьезно. Я тоже учусь. Андрей, нам с тобой выпало восстановить человечество. А это можно сделать лишь тогда, когда наступит мир, когда по земле перестанут шастать невероятные банды человеконелюдей, когда снова станет тепло и безопасно. Неужели ты против?
— Я? Я не против, конечно, — согласился Круз. — Мне можно идти?
— Иди. И береги себя. Никаких драк, марш-бросков, спирта.
— И ты себя береги, — посоветовал Круз. — Без тебя-то я — к чему?
— Спасибо, конечно, — согласился Дан, хмурясь. — До скорого.
— Угу, — ответил Круз и пошел пить чай с сухариками.
Война не дождалась весны. С февраля начиная к Аделине то и дело заявлялись странные бабенки: то беременные молодки, то старухи, иногда ветхие до неприличия, в стеганых бурочках и платках времен Цусимы. Шептались, шастали, подглядывали за Даном, ходили в мастерские, смотрели на вакцинированных. Расспрашивали, вынюхивали. Аделина, гладя круглый живот, подолгу с ними чаевничала, слала девок за медом и сухариками, за моченой клюквой и вареньем из морошки. А в ночь на восьмое марта пришла к Крузу, уселась на кровать — огромная, неуклюжая, в ситцевой застиранной ночнушке, пахнущая подмышками. Потрогала за руку.
— Андрей Петрович, э-эй, Андрей Петрович… ты за пистолет-то не хватайся, я это. Кто к тебе придет, кроме меня? Вот мне не спится нынче, и думаю: пора, Андрей Петрович. Пора давить Степаниду. Ты мужиков собери. Я ж знаю, уже неделю под ружьем их держишь. Прям завтра собери и двигай.
— Я соберу, — пообещал Круз.
Стрелять начали в Микуни. До того посты проходили без проблем. Высаживались, переговаривались. Два поста разоружили без сопротивления. Люся со старухой Силантьевой шли говорить и, возвращаясь, сообщали: заберите у них стволы. Стрелять они не будут, но так надо. Круз не спрашивал, почему так надо, людей слал и оружие забирал, а на постах оставил по наряду. В Микуни же дрезину, отправленную для разведки, загнали в тупик, под танковые пушки, и потребовали выходить с поднятыми руками.
Главные силы Круз высадил заранее и сам на станцию не полез, состав оставил на подъезде. За внешний периметр прошли без проблем и почти без переговоров — но на периметре внутреннем, у самой станции, вышла неувязка. Молодка Зинаида по прозвищу Кирза, поставленная Степанидой держать Микунь, хотела вакансии в женсовете — как раз той, какую хотела сделать на месте Аделины разъяренная Степанида. Но микуньское население умирать не хотело, тем более в сваре со своими же, и принялось экономно расстреливать низкие облака, причем целилось заботливо. А то, невесть час, попадешь по чему-нибудь, так с ремонтом хлопот не оберешься. Интинские последовали примеру, но стреляли экономнее — свои ж патроны на себе несли.
Палили часа четыре, пока Зинка-Кирза лихорадочно названивала в Котлас, требуя подкреплений. Затем линию обрезали. Еще через час, громыхая, на станцию вкатился бронепоезд, высыпавший сотню ободранного народа, увешанного железом с головы до пят. Микуньские подкреплению не обрадовались — того и гляди придется в атаку идти, интинских вышибать. Но прибывшие оказались подкреплением вовсе не им, а интинским, продуктом долгих переговоров и условного согласия Аделины с Ольгой Домновной, в равной степени не любившей науку и Степаниду. Микуньские вздохнули и деловито сдались. Зинка заплакала, противоречиво объявила их кастратами и мудотрясами, вовсе ничтожными и в постели, и на транспорте. Зину не обижали. Люська угостила ее семечками и отправила в Инту под конвоем. А совокупное воинство вскрыло восемь бочек с пивом, варенным в Микуни по старому рецепту на пивоварне, вывезенной в сорок пятом из Кенигсберга, и знатно отметило всеобщий мир. Круз выхлебал три кружки с наслаждением — темное, терпкое, хлебное, вязкое, походило оно скорее на ржаную похлебку, чем на бледно-желтое пойло фабрично-интернетных времен.
Потом двигались неторопливо. Посты, наслышанные о микуньских делах, проезду не мешали. Начальники брюзжали: езжайте, скорее выясняйте, кто из толстопузых главнее, бабские перевороты доделывайте и по своим делам. Нам тоже делом заниматься надо, и поважней вашего. Вот, опять недоросли полезли.
Круз пил чай в купе, умиляясь здравомыслию бабьей республики. Какие угодно свары — но со своими без крови. И решил, что хотя б видимость женсовета сохранить надо обязательно. Дележ власти созреет еще не раз, а тут прекрасный способ избавить хозяйство от разорения, неизбежного, когда власть делят по-мужски — или пан, или пропал.
Котлас сдался без боя. Степанида не удрала — куда ей? Единственная настоящая битва этой войны произошла, когда женсовет собрался снова — уже под начальством Аделины. По закону только совет мог лишить места в совете. А для этого нужно было большинство.
Круз увидел лишь финал этой битвы. До того сидел, попивая чай, слушал выкрики и взвизги из-за двери. Степан, составивший Крузу компанию, ежился, слушая, и втягивал голову в плечи — ни дать ни взять нашкодивший первоклашка в учительской. Чаевничать пришлось с девяти утра до трех пополудни, но Круз вовсе ожиданием не утомлялся. Отдыхал по-настоящему, как после долгого перехода по жаре, когда устраиваешься в теньке, вытягиваешь ноги и ни о чем не думаешь, лишь наслаждаешься текучим покоем, вязким и сонным. Близ двух часов молодка принесла блины со сметаною, и Круз едва успел размяться первой дюжиной, как дверь распахнулась и пунцовая Аделина, утирая слюну с подбородка, выговорила:
— Ну вот, Андрей Петрович. Твое время.
Круз позвал Последыша. Зашли. Комната совета выглядела кухней после семейных проблем: осколки тарелок, стаканы на полу, лужи, драные салфетки, крошки и растерзанная герань, повисшая на шкафной дверце. Обсыпанная землей, растрепанная, мокрая, в разодранной кофте, средь чайных луж на полу сидела Степанида и держалась рукой за нос.
— Уведите ее! — приказала Аделина хрипло. — В нужник сперва, пусть умоется. Потом — в вагон.
— Тебе это так не пройдет, курва брюхатая! — взвизгнула Степанида, вскакивая.
— Тише! — приказал Круз.
— А ты, подпиздь старая, молчал бы! Бреши, когда скажут, а когда…
Аделина коротко и сильно пляснула ее по лицу ладонью. Брызнуло красным.
Степанида отшатнулась. Из носу двумя струйками побежала юшка.
— Молчи! Молчи, пустая манда! Долго ты нас за нос водила, врала, стравливала, чужих напускала! Тебя бы на линию, да никто уже на такую не польстится! Гнилой порожняк, гнилой сверху донизу! И до последнего вертелась, гадина, до последнего! Все, приехали! Слушайте!
Из Аделиного голоса вдруг исчезли сварливые бабьи нотки, и прозвучал он холодно, четко, колюче и страшно, как битое каленое стекло:
— За обман совета, за вред, ведущий к погибели, за то, что науськала чужих на своих, предавала и хотела смерти, — ты, старица Степанида, изгоняешься из совета и передаешься под мой надзор. Это объявляю я, Аделина, в силе и чадородии, в правде и воле всего совета. Уведите ее!
Степанида тряслась, разевая рот, подняла руку, провела растопыренными пальцами — будто отстраняла наваливающееся, ватное. Круз тронул ее. Затем, ухватив за плечи, вздернул на ноги и повел прочь. Кто-то хрипло захохотал вслед.
В переднем зале, где Круз пил чай и кушал блины, Степаниду уже ждали трое девиц — коренастых, упитанных и недобрых. Накинули дерюжный балахон с капюшоном, взяли под руки. Повели. Посреди зала за столом сидел Степан, и обрывок осметаненного блина свисал у него с нижней губы.
Вечером Аделина расплакалась. Разделась, чтобы укладываться, поскреблась в складках, влезла в огромную ночнушку и сказала Крузу:
— Андрей Петрович, можно я пореву?
— Реви, — согласился Круз, и тогда Аделина всхлипнув пару раз, залилась в два ручья, трясясь, вскрикивая. Уткнулась в Крузово плечо, обняла.
— Хороший ты, Андрей Петрович. Крепкий. — Сопнула, вытерла под носом. — С тобой реветь не стыдно. А то одной… паскудно одной. Злое дело сегодня сделалось. Нужное, но злое. Я Степаниду узнала, когда я еще во-от такая была, с пуговицу. Когда суматоха была и валилось все. Она меня молоком поила. Сухарь размочит в молоке и кормит меня. Моя мамка заболела, так Степанидина бабка меня взяла к себе. Она… — Аделина всхлипнула снова, замолчала, уткнувшись в плечо.
— Ну, ну, — прошептал Круз, гладя спину — широкую, мягкую.
— Это ж Степанидина бабка все и начала. Весь порядок наш. Тогда как было, до хвори — нищие жили, денег не было, мужики все пьют поголовно. А Степанидина бабка была — кремень. Степанида Большая. И ростом, и плечами — валун. Начальница она была в Котласе, вроде губернаторши. Быстро в руки взяла, чего еще оставалось. А у нас не так много и заболело, если с другими сравнивать. Но голод начался, стрельба. Она справилась. Из-за нее мы живы. Восемь лет тому померла. Хоть свой закон блюла, ушла из совета, когда крови бабьей лишилась, все ее слово слушали.
Сопнула еще раз и сказала:
— Все, отплакалась, хватит. Спасибо, Андрей Петрович. Крепкий ты мой, сильный. Тебе хозяить теперь.
— Это как и зачем? — удивился Круз. — У вас тут отлично все установилось. Если б мужчины переворот делали, сколько бы крови было!
— Оно так. Да только бабий совет наш — для домашних дел или, на крайний случай, чтоб мужиков на добычу отправлять и встречать. У нас уже было, когда пацанье набежало, отморозки недорослые. Тогда война настоящая учинилась. В сам Котлас прорвались. Бабы перепугались и отдали начальство Валерке Иванченкову, он тогда южными добытчиками командовал. Хороший был вояка. Из старых, как ты. Крепкий мужик. Он и отбился. И пацанье погнал чуть не до гор. Гадюшник их выжег. Вернулся потом — с победой, в силе. Тогда совет струхнул. Но Степанида его уходила. Судили его за то, что народу много погубил и что самоуправствовал. Послали на самую крайнюю линию, за Воркуту. И убили. Говорили, что пошел зверя стрелять и не вернулся. Степанидины холуи с ним пошли, они вернулись, а Валерка — нет. А у нас, Андрей Петрович, война скоро будет вроде этой. Кому в ней командовать?
— Какая война, Адя? Ты знаешь, устал я воевать уже.
— А куда ты денешься от войны? Теперь, с твоим профессором и микстурой его, воевать надо. Мы из сил выбиваемся, чтобы жить, как живем, на рельсы нанизанные. Ты посуди: владение наше — паутина. Нас в любом месте разорвать можно. И рвут ведь. А мы чиним. Ты уже дело начал, одних оленных подружил, других — прогнал. На севере стало спокойнее. А еще оленные есть с другой стороны на севере, и беломорские на западе, и пацанье это на востоке — на Южном Урале главное их логово. Про юг и говорить нечего — там кишмя кишит. Банда на банде. Все это — каленым железом. Чтобы мы жили спокойно, чтоб рожали. Вот, ради него, — показала на живот, — Андрей Петрович, возьмешься?
— Возьмусь, — выговорил Круз. — В самом деле, куда я денусь?
Поутру Круз вместе с Люсей и Последышем обошел Котлас. Заглянул в больницу, на склады, в депо и мастерские. Посмотрел на танки и броневики, на доты, зенитки на турелях, шестидюймовую батарею на площади перед чугунным Лениным. Зашел в оружейный цех — и, прямо у дверей, пьющим воду из жестянки, увидел бывшего лейтенанта Сашу. Бывший лейтенант был одет в промасленную хабзайку, выглядел опухшим, чересчур щербатым и слегка кривоносым.
— З-здравштвуйте! — сказал Саша испуганно, завидев Круза.
— Рад видеть тебя живым и здоровым, — сказал Круз.
— Привет тебе от Захара, — сказал Последыш. — Он тобой интересовался. Просил передать гостинец. Я в вагоне оставил, чтоб не таскать. Потом отдам.
— Шпашибо, — сказал Саша испуганно, — у меня вше ешть. Мне хорошо.
— Тебя никто больше бить не будет, — сказал Круз. — Теперь мы тут хозяева. Если хочешь, пойдем с нами. Мне нужен хороший механик. Очень.
— Шпашибо, Андрей Петрович, шпашибо, я…
— Он еще станкач довести должен, — буркнул, подойдя, скуластый парень в халате и спецовках. — Он его вчера раздолбал.
— Пал Палыш, я, я обяшательно, — зашептал Саша.
— Это что за хамло? — осведомился Последыш. — Ты, пролетарий, скройся на раз-два!
— Что за беззаконие? — заорал парень. — Кто вам позволил? Его совет назначил сюда!
— Вот кто позволил! — сказал Последыш и показал кулак.
— Во-во! — Парень сплюнул. — Работаешь тут, стараешься, чтоб сладилось, а приходят, которые с кулаком, и все к ебеням.
— Стоп! — приказал Круз. — То, что мы делаем, делается с санкции совета. Людмила — его полномочный представитель. Я — командир бригады города Инты. С кем имею честь?
— Я Павел Молитин, начальник оружейного цеха, — сказал парень, — а Сашок у меня техник. Работа на нем важная.
— Он справится с ней за сегодня?
— Думаю, да. Наверное.
— Саша, ты справишься?
Саша, испуганно поглядывающий то на парня, то на Круза, кивнул.
— Павел, сегодня все формальности будут улажены. С завтрашнего дня, если совет одобрит, Саша поступает в мое распоряжение. Вы согласны?
— Ну да, если одобрит, конечно… я что? Если порядок, то порядок.
— Договорились! — заключил Круз, — Саша, если что, мы рядом, хорошо?
— Хорошо, — промямлил Саша, краснея.
Когда отошли, Последыш сказал:
— Не пойму я вас, старшой. Этот щегол несет на вас, а вы терпите. А Сашка они били, видно же. По какому праву били, он же не в их стае? Я б этому мазутчику на раз-два зубы пересчитал!
— Не сомневаюсь, — ответил Круз. — Только было бы это глупо и скверно. Это место теперь наше. Мы приняли его закон — а это хороший закон, разумный и справедливый. Теперь все эти люди — наша стая. Твоя и моя.
— Этот кривой мазутник — моя стая?
— Да. И ты — потому что ты сильнее — должен лучше заботиться о законе, чем он.
Через две недели, заполненные осмотрами, разъездами по постам и перекапыванием бумаг, Круз выступил перед женсоветом — девятью располневшими женщинами, глядевшими тяжело и настороженно, перед полусотней старух-советниц и молодок за их спинами.
— Сил у нас хватит, — сказал им Круз. — Мы можем прямо сейчас набрать три сотни бойцов и технику, и ущерба обороне не будет. Мы можем разбить недорослей. Выжечь их базы. Но я против того, чтобы отправлять всю силу в неизвестность, опираясь, по сути, лишь на слухи. Мы можем выиграть. Я почти уверен. Но именно из-за этого «почти», пусть крохотного, я не хочу отправлять четверть нашей силы в неизвестность. Мы добьемся куда большего, если употребим эту силу, чтобы отодвинуть внешние посты на десять, двадцать, тридцать километров. Чтобы захватить землю на востоке и юге и наладить жизнь там. Не торопясь, аккуратно — и неуклонно. Не рисковать силой, а постепенно, уверенно ее наращивать. Пусть годами. Теперь время работает на нас. Потому я — против большого похода прямо сейчас. У меня все.
Женсовет долго молчал. Аделина смотрела на Круза, улыбаясь. Наконец Домна Ольговна встала, одернула тафтяную юбку и объявила:
— Значит, вы, Андрей Петрович, походом идти не хотите? Вы там, у себя на севере, оленных наскоком разбили, волками затравили и довольные живете, в безопасности? А нам ползти от куста к кусту, отбиваясь?
— Да, — ответил Круз, глядя ей в глаза. — Да, потому что источник силы должен быть в безопасности. Залог того, что ваши дети выживут. К тому же вам, Домна Ольговна, ползти от куста к кусту не придется. Война — дело мужчин.
— Война — дело мужчин, — отозвалась Аделина. — Уважаемый совет, предлагаю оставить это на разумение Андрея Петровича. Он воевал дольше, чем все мы живы. Возражения есть?
Возражений не было.
8
Война — дело мужчин. Так сказала Крузу толстая итальянка Люция, показав толстый средний палец. Крузу хотелось ее ударить, но Люция носила шестого сына и бить ее было нельзя. Войны — дело мужчин, дело писающих стоя свиней, гнусных идиотов, ищущих бед на свою голову. И на головы всех несчастных рядом с ними. Порке дио!
Позвать женщин на помощь была идея Дана. Ситуация сложилась аховая. На весь Давос, включая посты, после балканской авантюры осталось шестьдесят пять мужчин, способных сознательно удерживать оружие. А те, из-за кого пять сотен давосского воинства остались где-то в хорватских оврагах, уже стучали в дверь. Дан хотел не стрелков — просто наблюдателей на посты, тех, кто нажал бы кнопку, заметив неладное. Мужчин хотел собрать в один летучий отряд, способный быстро ударить в опасном месте и отойти, отбить, сохраняя силы. А горластая, мощная и разобиженная итальянка Люция показала ему толстый средний палец, и ее послушали даже Дановы ассистентки. Люция кричала и трясла кулаком. Кирхе, кюхе, киндер — правда, свиньи? Родильный цех, мамма мия!
Но ведь если придут — уничтожат, постреляют! Как вы не понимаете? Кто придет? Свиньи придут? Одни свиньи сменят других! Мадонна, да чтоб вы все провалились, чтоб подавились своими железками, убийцы, воры, все из-за вас, порке дио!
Тогда Давосу повезло. Просто повезло. Балканские гости, торопясь, гнали трофейные броневики и выскочили в сумерках прямо под единственный толком укомплектованный пост. Михаевы люди засекли их еще в низовьях долины, и гостям устроили мешок. После два месяца никто не совался, а потом перевалы накрыла зима.
Хотя захватили полдюжины пленных, о судьбе ушедшей давосской армии не узнали ровно ничего. Да, стреляли. Побили, захватили много. Кто, где, в плену или засели где? Ничего. Пленные — звероватого вида, обтрепанные, гнилозубые юнцы — извергали мешанину коверканных немецких, славянских, итальянских слов, почти сплошь ругательств. В конце концов Михай увел их вверх, на ледник, и, стреляя в спины, сбросил в трещину сорокаметровой глубины.
Дан запил. Он и раньше прикладывался вечерком к бутылке «Гленфиддих». Теперь стал и с утра. Сидел в своем кабинете, глядел на компьютер, подливал. И матерился на восьми языках. Пару раз Круз пытался сидеть с ним. Поговорить. Но разговор выходил однобокий, потому что Дан не слушал даже себя. Кто виноват, зачем, почему? Ушли все, сыграли ва-банк, безумие. Я мог остановить, мог, все же было очевидно.
Круз пытался сказать, что уж кто-кто, а Дан вовсе тут ни при чем. Что никто в успехе не сомневался. Что Давос выставил настоящий горно-егерский батальон, отлично вооруженный и экипированный даже по докризисным меркам. Не сомневался даже он, Круз. Даже десятикратный идиотизм ссорящихся друг с дружкой командиров не погубил бы боевую группу, вполне достойную вермахта образца 41-го года. А что случилось? Да черт знает, что случилось. Может, на них небо упало. Может, на них двадцать килотонн сбросили.
А Дан смотрел в серый экран и говорил, что мог бы переубедить. Запретить, стукнуть по столу. Это его вина, и теперь человечество погибнет.
Круз хотел сказать, что человечество, придавившее батальон вермахта, уж точно не погибнет, но Дан вдруг обратил на Круза внимание и велел убираться. Круз убрался. И, взяв троих лучших охотников, опять отправился прочесывать многажды прочесанную Европу. Четырнадцать человек собрали по постам — тому, что осталось от Давоса, наблюдатели за полтысячи километров были не нужны. Затем Круз со своей троицей по еще целому туннелю пересек Ла-Манш и отправился прочесывать Британские острова — не из надежды на чудо вроде тихой общины законопослушных фермеров, а из упрямого нежелания сидеть на месте.
Чуда не случилось. Ветер колыхал траву на полях. Ровную, чистую траву — на улицах, на площадках для гольфа, в палисадниках. Трава взломала асфальт, раздвинула бетонные плиты. Было спокойно, тихо, хорошо. Мягкая, влажная весна, сменившаяся нежарким летом. Кролики в кустах, коршун над холмами. Зыбкая тень скользит по зелени. Солнце щекочет веки. Хорошо лежать на склоне холма, раскинув руки, погасив всякую мысль, ощущая лишь ветер и шелест, ровное дыхание земли.
Круз давно не чувствовал себя так спокойно и тихо. Здесь не было никого и ничего опасного. Старая, тысячелетия назад укрощенная, ухоженная, переделанная земля, вернувшаяся в первобытную дрему — без крови, без когтей и клыков. Когда сидел на холме над Гластонбери, глядя на зеленые волны, на холмные лбища, на поросль молодых дубков, на уходящий в никуда, в Авалон, в прошлое и в сиренистый туман распадок, — будто открылась в душе дверь, и теплый майский вечер пришел туда, в тяжелый, смутный подвал, заполненный страхами и нелепой надеждой. Тогда Круз решил не возвращаться в Давос, к унылой беготне в клетке долин, зажатых между снегом и враждебной равниной. Но сразу сказать своим не смог. Да и разве поняли бы они? Все трое считали себя неслыханными везунчиками. Еще бы, оказались иммунными и нашли место, где остались нормальные люди.
Потому Круз под предлогом поисков просто колесил наобум по Уэльсу, Корнуоллу, по срединным графствам, а когда лето склонилось к закату, направился в Шотландию. Там по долинам бродили стада мохнатых криворогих коров и лазили по крышам одичалые веселые кошки.
Круз хотел дальше на север, к Инвернессу, на самый край, а потом, может, на Фареры, хотел перезимовать вблизи старой винокурни где-нибудь под Обаном, балуясь полувековым виски. Но у виски, к большому удивлению Круза, нашлись хозяева. С дробовиками. И с пулеметом «Виккерс», смонтированным на грузовике.
Идиллия быстро превратилась в продуманный ад. Грузовик с пулеметом словно сдернул чеку — и изо всех щелей полезли аборигены, неведомо как пережившие налоксон и прежние давосские поиски. Аборигены были бородаты, ободраны, грязны и весьма огнестрельны.
За Эдинбургом у Крузова «хаммера» оторвало миной задний мост. А каталонец Висенте, расшвыряв гранаты, полез в рукопашную, и его развалили чуть не пополам здоровенным тесаком из расплющенной арматуры. Побратим Висенте, Отунья, обезумел и кинулся на помощь — а Круз с Ваваном кинулись во дворы, полезли по кустам. Затем бежали, шли и брели на восток всю ночь, а поутру завели «харлей», промасленно хранившийся в гараже особняка с садом, и помчались на юг.
Менять транспорт пришлось еще дважды. Сперва потому что Ваван, патологически любивший никелированную мощь, намешал в бак трефного, и «харлей» тихо исчах посреди трассы, выпустив облако копоти. Потом из-за промоины в асфальте, выбившей шаровую опору и уткнувшей кургузенький «датсун» в канаву.
По пути на север, в спокойной радости, Круз видел только траву и небо. А в суматошном бегстве на юг — кости. Англия была завалена ими. На обочинах, в пабах, в ржавеющих авто на обочинах. В супермаркетах, за стойками пабов, в гаражах и телефонных будках. Ваван хихикал и пинал черепа. Ваван с детства был мелкой гопотой — расхлябанный, длиннорукий, скабрезный. Точь-в-точь шнырь из питерского двора с редкими волосьями грязно-рыжего колера, с бородавками, потной ладошкой и вечно перекошенным, ухмыляющимся ртом. Вот только происходил не из питерского двора, а из Пфальца, куда его родители перебрались из Казахстана. Круз, не любивших советскую эмиграцию во всех проявлениях, Вавана едва выносил. В особенности когда Ваван хрипло выпевал блатное, мешая русское с немецким и, вовсе загадочно, с идишем. Но Ваван прилично стрелял и был сверхъестественно чуток, а также умел вовремя и безошибочно удрать. Когда пробирались на юг — теперь медленно и осторожно, боясь всего и поминутно озираясь, — Круз странно привязался к нему. Будто к старой шкодливой собаке, грызущей тапочки, перхающей и огульно смердючей — но своей, привычной и домашней. Еще Ваван умел сшибать кроликов из рогатки, мгновенно их свежевать, не пролив зря и грамма вкусной крови, и затем, приговаривая, запечь с перцем и шафраном.
В Дувре Ваван взорвал таможню вместе с тремя бородачами, зачем-то палившими по Вавану из автоматического оружия. Круз Вавану не мешал, но упрекнул за промедление. Крузу не хотелось оставаться на земле хорошей травы ни минутой более. Сунуться в туннель они более не рискнули, но нашли яхту, отличную посудину крейсерского разряда тонн в пятьдесят, и перебрались на ней через Ла-Манш. Выбравшись на пирс в Кале, Круз заметил, что жители Англии вполне довольны собой и своей жизнью и звать их в Давос, ей-же-ей, не стоит.
— А хуля им! — отозвался Ваван и сплюнул сквозь зубы.
Францию миновали бестревожно — если не считать нудного дождя, барабанившего но стеклам трое суток кряду. А вот на подъездах к Давосу Круз слегка озадачился, в особенности когда увидел на обочине недавно сгоревший джип, с кем-то обугленным, недовывалившимся из дверцы, а затем — заброшенный пост, где успели угнездиться лисы. Круз приготовился к худшему. Но чего он не ожидал, так это толстой Люции с М-16 через плечо.
— Вернулись, свиньи? Лазили все лето, а нам за вас расхлебывать? Дармоеды! Мы, женщины, сумели справиться! И обойдемся без вас, тупых вояк.
Ваван хотел дать ей леща и чуть не схлопотал пулю в глаз. А Круз вздохнул и пошел искать Дана. И нашел его в лаборатории, ожесточенно переливающим зелье из пробирки в пробирку. Дан осмотрел Круза печально и возвышенно изрек:
— Андрей, человечество гибнет! Только мы можем его спасти!
Круз внимательно, внимательно осмотрел Дана. Глаза того были на удивление чистые, ясные, здравые.
— Что, бабы теперь правят? — спросил Круз осторожно.
— Ты не понимаешь! Не в этом дело! Я проанализировал статистику рождаемости. Мы вымираем, Андрей. Вымираем! Несмотря на все наши усилия, через три поколения от нас ничего не останется. А от банд, рыщущих на наших окраинах, ничего не останется уже через два поколения. Я построил модель! Если не будет лекарства, если тот же процент детей будет рождаться больными — мы вымрем!
— Мы следы боя видели, когда подъезжали. Опять хорваты? — вставил Круз.
— Но я знаю выход — единственный оставшийся выход! — крикнул Дан. — Мы должны найти вакцину! Я разработал тест! Мы должны найти тот самый штамм, который дал начало остальным, ту основу, которая есть у всех. Я спроектировал тест! Если штамм окажется активным к нему — значит, мы нашли! Я уверен — он есть где-то там, откуда зараза пошла по миру, где-то в русских степях, в бывших бактериологических лабораториях! Я ждал тебя, Андрей, — с тобой вместе мы сможем найти его! Ты ведь знаешь эту страну, ты ведь родился в ней?
— Да, да, конечно, — пробормотал Круз. — Только мне сейчас надо, меня ребята ждут, но я скоро буду, правда!
— Возвращайся вскоре. Я жду! — приказал Дан величественно.
Михай отыскался на восточном посту, заслонявшем выход из долины. Михай был небрит, несвеж и нетрезв. Перед Михаем стояли бутыль кирша, уже наполовину пустая, и три банки с тушенкой.
— У меня цинга, — сообщил Михай и длинно выругался.
— В чем дело? — спросил Круз.
— Зубы шатаются. Мои зубы, — сообщил Михай. — Два месяца консервов, мерде. Кто мы им — свиньи? Они знают, что мы не будем в них стрелять.
— Что происходит? — спросил Круз, бледнея. — Лейтенант, встать! Доложить обстановку!
Михай смерил Круза взглядом, ухмыльнулся, но все же встал.
— Происходит полное дерьмо, мой капитан. Не очень умные женщины решают, кого кормить, а кому идти прочь. Они убили двух ваших солдат, мой капитан. Они не дают нам свежей еды. И требуют работать.
— Производителями? — осведомился Круз.
— Дерьмоуборщиками.
Круз замолчал, глядя на клочок мяса, застрявший в Михаевой щетине. Затем сказал:
— Михай, я вижу, что дерьмо. Чуть Вавана не пристрелили, вместо приветствия. Но это мы за свою глупость расплачиваемся. Империю строить вздумали. Я рад, что ты живой, Михай. Очень рад.
Михай взял со стола стакан, посмотрел на свет — вроде чистый, — поставил, налил.
— Спасибо, — сказал Круз.
— Хлеб возьми, — сказал Михай, садясь. — Мой Франсуа печет. Хоть что-то свежее.
Молча уселись. Круз выпил. Закусил хлебом. Хлеб был подгорелый, но вкусный.
— Я тебя ждал, — сказал Михай. — Это кабаре мне надоело. Хуже, чем в Ницце.
— И ты уже придумал, куда податься?
— Ты уже с Даном говорил?
— Говорил, — сказал Круз осторожно.
— Он не псих.
— Я верю, что он не псих.
— Он, может быть, прав. К тому же мы вышли на связь с русскими. Они на Дальнем Севере. В городе Аптит.
— Апатиты, — поправил Круз.
— Пусть Аптити. Они готовы нас принять. Мы обогнем Скандинавию. Если Дан прав — а он может быть прав, — мы хоть что-то сумеем сделать для этого мира.
Круз внимательно посмотрел на Михая. На то, как тот держит стакан — ровно, уверенно, хотя страшно пьян. На прищур, на морщинки у глаз. На седину.
— Сделать для мира — это хорошо, — сказал Круз.
Эту ночь он провел на посту. Вымылся холодной водой, побрился. Долго смотрел в зеркало — на старика. На того, кто бессмысленно добрел по беспокойной жизни до седины, почти не думая и не спрашивая. За стенкой вскрикивал во сне пьяный Михай. Круз выбрался на крышу, к пулемету и антеннам. Устроился на мешках с песком, лег на спину, глядя в небо.
А какая, собственно, разница? Ведь не было ничего своего: ни отчаяния, ни радости. Только то, что обтерлось с других людей, прицепилось, присохло. Человеческое прилипчиво. Права была Ники. В Крузовой душе — только мелкое тяжелое болотце, ровное, вязкое, мгновенно гасящее все, прилетевшее извне. На самом деле Крузу всегда было все равно. Делал что-то: стрелял, дышал — только потому, что приказывал себе: «Так надо». Или потому, что этого «так надо» хотели другие.
Ветер унялся и сделалось совсем тихо. Ни птицы, ни огня. Небо стало огромное, плотное, и звезды как холодные гвозди. Горы — зубья темноты в темноте. Темнота обволакивает, ползет в кости, наливает в жилы вязкий лед. Круз поднял руку — и с ужасом, с изумлением увидел, как медленно сгибается сустав и будто по песку скрежещет укрытый кожей хрящ.
С мешков Круз скатился. И потом, шипя от боли, подтягивал колени, сгибал хребет. Чуть не плача, сполз по лестнице. Добрался до стола, выхлебал остатки кирша из бутыли. Закрутился в одеяло. И, сидя, боясь распрямить закоченевший хребет, уснул.
Назавтра Круз явился в Давос в полускрюченном виде. Не разгибаясь, выслушал торжественную речь Дана. Кивнул, всецело согласившись. Но Дан, которого и среди вдохновения не оставлял гуманизм, скрюченность заметил, вздохнул и отдал Круза в руки верной ассистентки по имени Митци и по прозвищу Коленвал. Митци идей феминизма не разделяла, Люцию считала злобной дурой, а Дана — единственно правильным человеком в округе, к тому же мужчиной. Митци несла грудь третьего размера, ягодицы — негритянского пятого, отличалась исключительной колченогостью и руками почти до колен. Вместе с тем лицом она была на удивление миловидна. Круз полюбил ее улыбку. Митци хватала Круза за ключицы и упиралась коленом. Митци крутила, мяла, щипала, терзала, ухала, привизгивала и за неделю вернула Крузу способность разгибаться. Еще гибкости Круза сильно помогло то, что Дан приходил к нему каждый вечер и говорил о человечестве и вакцине. Крузу очень хотелось побыстрее разогнуться и как можно дальше уйти. Круз даже пообещал спасти человечество.
Спасение началось седьмого сентября. Спасителей собралось четверо: Дан, которого толстая Люция считала неисправимым придурком, Ваван, которого Люция считала тупым придурком, и Михай, которого Люция считала вредным придурком. И, само собой, Круз, которого Люция придурком не считала, но боялась. Остальных женское сборище, объявившее себя ландестагом, отпускать отказалось — а кому работать-то? Разве что разрешили взять с собой Данову собаку, помесь сенбернара с неаполитанским мастифом, черное чудовище по имени Хук. Его Люция тоже боялась. У Хука текли слюни, а из складок на животе свисал огромный лиловый член. Хук был противный и очень сильный пес.
Когда пост со сгоревшим джипом перед ним скрылся за поворотом, Круз взглянул с облегчением. А весь путь до канала втайне желал, чтобы явились шотландские друзья на грузовике с «Виккерсом». Для них Круз приготовил сюрприз. Но друзья не явились. В порту Кале четверо спасителей человечества и пес погрузились на яхту и отправились на север.
Плавание вышло скверным. Яхту загнало штормом на Фареры, и там Круз с Михаем провозились две недели, пытаясь починить искалеченную яхту, и еще две недели — пытаясь запустить движок на траулере. Фареры были гнусным, промозглым и совершенно пустым местом. Там не было даже водки. Над голыми гладкими камнями свистел ветер, цепенящий пальцы. Здесь все было низенькое, серое, вплющенное в скудную землю. А еще на Фарерах не было скелетов. За много лет Круз привык к ним. Крузу казалось: скелеты живут своей неторопливой жизнью, лежа на истлевших матрасах, сидя в креслах. Но острова были пусты. Люди исчезли, не стреляя напоследок, не поджигая и беснуясь. Все осталось целым и ровным, и гниющие лодки глядели донцами в низкое небо, будто ряды скорлуп.
Дан истерзал до умопомрачения. Фареры придавили его рассудок. Дан говорил про северную чистую кровь, про человечество, про очищение радостью, про лед и полую землю, и снова про человечество. Круз хотел его ударить и не мог, потому что Хук следил и не доверял Крузу. Ваван убежал в горы и занимался в поселках нехорошим. Михай сутками лежал в моторном отсеке, а Круз остался с Даном. Фареры были гиблым, гиблым местом.
А через три дня после того счастливого мгновения, когда они остались за кормой, Ваван выбрался на палубу и объявил, ежась под ледяным дождем: «А бак наш того. Дырявый».
Солярки хватило до норвежского берега. Из пятерых обрадовался твердой земле только Хук, немедленно изловивший гуся. Четверо же двуногих смотрели вокруг в унынии, потому что прибрежная деревенька в неглубоком фьорде, приютившем траулер, была завалена скелетами. И начисто лишена солярки. Хуже того — в деревеньке явственно читались недавние человеческие следы. После полудневных споров в ресторане прохудившейся гостиницы было решено привинтить гранатомет к грузовику и отправиться посуху навстречу зиме.
Она себя ждать не заставила. Явилась со свистом и воем, заплясала в полях, тяжелыми облаками занавесила горы. И спасла.
Поначалу осторожничали — признаки живого и близкого населения ощущались чуть не на каждом шагу. Но никто не стрелял, близко не подбирался, и команда обнаглела. Неслись по шоссе, заботясь лишь об ухабах. И влипли под перевалом близ Тронде.
Перед тем как вскарабкаться на перевал, шоссе убегало в низину, к унылому двурядному поселку из одинаковых, будто из детской игры собранных домишек. Те, кто там сидел, не утерпели. Если б подпустили грузовик вплотную, шансов бы не осталось. А так — хрюкнула шина, выпростав резиновые клочья. Хрустнуло стекло. Грузовик швырнуло к обочине. Страшно заматерился Ваван — ему стеклянными брызгами посекло лицо. А Михай, шипя от боли, уже прыгнул к гранатомету, дернул рычаг, развернул и — бу-бу-бу! Кургузая пушчонка, лязгая барабаном, одну за другой швыряла гранаты к выцветшим домам. Бу-бу-бу — и крыша взметнулась черепичным цветком. Бу-бу — и шибануло огнем из окон.
Круз выскочил, потянул Дана, пихнул в кювет, под прикрытие бетонного водостока. Заорал, высунувшись:
— Михай, Ваван — прочь! Уходите! Бегите из машины!
Бетон брызнул крошкой перед самым носом. Взвизгнула кузовная жесть.
— Лежать! — приказал Круз Дану с Хуком и пополз в кювете. Из грузовика потекло.
— Михай! — заорал Круз.
Тот выкатился из кузова, шлепнулся, извивнулся — и уже в кювете, шипит, растопырив ободранные пальцы.
— Ваван!
Тот вылез неторопливо, волоча длиннорылый МГ, стал, озираясь. Слез в кювет.
— Слышь, командир, — сказал по-русски. — Накрыл я этих дятлов. Они из хаты сиганули, а я прям по ним положил. Во суки, а?
После этих слов грузовик взорвался, взметнув чадный фонтан. Команда, чертыхаясь, отползла по кювету дальше. Круз высунулся, чтобы осмотреться, — и чуть успел спрятаться, когда очередь вспорола бордюр перед самым носом.
— Влипли, — сказал Михай. — Совсем.
В самом деле, влипли. Поле, дорога, кювет. Не высунуться, не отбежать. Чуть дальше дорога идет в гору — и кювет тоже. Простреливается прекрасно. Впереди — поселок. Если залезут на чердак, достанут и сюда.
Круз поразмыслил немного и решил — вытянул гранату и пополз вперед.
И тут пошел снег. Темнобрюхая туча сползла с перевала и облегчилась над низиной. Сперва понемногу — пригоршнями, охапками. А потом ее прорвало. Стало белым-бело снизу, сверху и вообще со всех сторон. Стало трудно дышать. И идти. Вперед продвигались, загребая руками, будто плыли — к поселку, к теплу и крышам.
Круз не ошибся — стрелявшие и в самом деле залезли на чердак крайнего дома. Круз застиг их там — пару долговязых, истатуированных в синь, в засаленных, изодранных куртках и брезентовых штанах, обвешанных магазинами и гранатами. Круз услышал снизу лязг и, выдернув чеку, аккуратно уместил «эфку» в чердачный люк — будто мяч в кольцо. А когда, выждав, взобрался по лестнице, нашел одного еще живым. Тот полз, скребся в красной луже — нескладный, длиннопалый, со шрамом в пол-лица. Круз размозжил ему голову из кольта.
Потом Круз с Михаем прочесали поселок, найдя еще два трупа и раненого, завернутого в тряпье и оставленного на диване подле сгнившего телевизора. За диваном лежала, мирно обнявшись, пара скелетов. Раненый был иссечен осколками. Услышав шаги, он попытался поднять винтовку, тяжеленную штурмовую «хеклер-и-кох», и выпустил очередь в пол. Круз отнял винтовку и попытался заговорить. Но ни Круз, ни Михай не знали норвежского, а ни немецкого, ни английского не знал раненый. Поняли, что просит пить. Михай дал отхлебнуть из своей фляжки, но раненый умер, так и не напившись.
В поселке никто не жил. За домами, со стороны перевала, нашелся вездеход — кургузая машинка на резиновых гусеницах. Теплая, исправная. С кабиной, оклеенной глянцево-голыми девками из журналов.
Ночью, когда метель утихла, Хук выбрался во двор и завыл на звезды — гулко, железно, будто подули в колодезь, — и эхо метнулось к небу. И, вторя ему, из-за горы отозвались — два голоса, три. Дюжина. Заплескались над темнотой. Круз слушал, и было ему страшно и хорошо — и хотелось завыть вместе, обернуться к остриям звезд и заголосить, забыв о том, что стоишь всего лишь на двух и вместо клыка — кусок чужого железа.
Когда рассвело, посмотрели на карту и отправились на запад — к морю. После обеда метель пришла снова и затерла следы. Вечером в рыбацком поселке под скальными стенами Круз спорил с Михаем о траулерах и о том, сколько недель придется убить на перебор не работавшего тридцать лет мотора. Но повезло снова — на ремонт ушло три дня, а на четвертый Ваван, ухмыляясь, выгрузил из вездехода центнер тушенки, найденной на складе армейской базы по соседству, и длиннющего «гусака» — шведский наплечный гранатомет, похожий на базуку и по виду, и по свойствам. Ваван любил гранатометы.
Через неделю «гусака» забили ему в распоротый живот.
Попались банально. Слишком ждали, слишком трудно добирались через скверную зиму Северной Атлантики. Обрадовались и забыли об осторожности. На траулере оказалось исправным радиохозяйство, еще у поселка удалось поймать и Апатиты, и Давос. Апатиты ответили, удивившись, и пообещали выслать в Мурманск группу, чтоб встретить и сопроводить.
Встречающих увидели на пирсе, и Дан, крича, обнял сперва Хука, а потом Круза.
Здороваться не выскочил лишь Ваван, замешкавшись. Это и спасло остальных — потому что встречающие с ходу уложили всех лицом вниз. Хука почему-то убивать не стали, отпугнули, грохнув из «калаша» под носом. Хук подпрыгнул и помчался за угол, расшвыривая снег. Круз с Михаем и Дан остались лежать на пирсе, уткнувшись носами в обледенелый бетон, а малорослые круглолицые люди деловито обирали с них все способное стрелять и резать.
И тут высунулся Ваван с «гусаком» на плече. Спокойно прицелился и жахнул. Хорошо жахнул — положил гранату в десяти метрах, оглушив и посбивав с ног. А потом вытянул трофейный «хеклер-и-кох» и принялся методично дырявить. Круз с Михаем времени не теряли. Подхватили в одну руку стреляющее, в другую — Дана и помчались вслед за Хуком. Забрались в длиннющий полуразваленный пакгауз, засели — и увидели, как с другой стороны, от складов и кранов, лупят по траулеру, а Ваван, почти не прячась, тщательно выцеливая, бьет в ответ одиночными. Затем стрелять начали у пакгауза, и пришлось уходить дальше от пирсов. Круглолицые оказались упорными, не отпускали. Двигались умело. А патронов было кот наплакал. Одна надежда — дождаться, пока стемнеет толком.
Забежали в проулок между жестяными заборами, нырнули в дыру, проскочили мимо огромного крана, похожего на раскоряченного паука. Оказались на складе — с вышибленными окнами, с грудами ржавых контейнеров.
— Михай, Дан, — сказал Круз. — Сядьте туда, — показал на груду контейнеров. — Там обзор, и путь отхода надежный. А я пойду разберусь, а то ведь не отцепятся. Михай, дай мне магазин!
И тут из-за контейнеров послышалось:
— Эй, вы кто? Это вас мы встречаем?
— Да, нас, — ответил Круз по-русски, вскидывая винтовку.
— Старшой, не стреляй! Не стреляй! Это вы на чухну нарвались, они враги нам.
— Выходите! — приказал Круз.
Из-за контейнеров вышел человек в грязно-белых лохмотьях, подняв руки.
— Я — Правый, — сказал человек. — Меня со щенками послали вас встретить. Но мы на чухну нарвались, отошли, а теперь слышим — стреляют.
— Сколько вас? — спросил Круз.
— Пятеро.
— Оружие? Патроны?
— Хватает.
— Чухны много?
— С дюжину.
— Хорошо, — заключил Круз. — В порту, на нашем судне, остался человек. Он еще отстреливается. Нам нужно его спасти. Поможете?
— Отчего ж нет, старшой? Поможем, — ответил Правый, улыбаясь.
Они опоздали. Слишком долго перебегали, выжидали, играли в темноте. С парой круглолицых, увязавшихся следом, Круз расправился быстро. Правый со щенками их отвлекли, и Круз свалился со второго этажа прямо на головы с пистолетом в одной руке и кабаром в другой. А у пирса пришлось повозиться. Круглолицые все время двигались, по-кошачьи бесшумные, и бой в темноте превратился в нескончаемый бег по кругу. В этом круге остались еще двое круглолицых и один из щенков, поймавший очередь в упор. И чуть не остался Михай, распоровший предплечье о торчащий из стены крюк.
Круглолицые ушли на юг. Пересвистнулись в темноте, как запоздавшие птицы, — тонко, протяжно, жалко. Побежали по улицам, шмыгнули в переулки. Круз не стал гнаться. Пошел к пирсу, к траулеру. Ваван был там. Лежат, глядя в небо, вцепившись скрюченными пальцами в стальную трубу «гусака», на которой уже замерзла кровь.
Круз похоронил Вавана на сопке над городом, у раскрошившегося бетонного обелиска со звездой и шеренгой полустертых имен. Нацарапал под ними еще одно. И, встав на колено, выпустил очередь в тусклую вагу над головой.
Люди в горах застрявшей зимы жили войной и для войны. Воевали тридцать лет подряд и полюбили войну. Называли себя волками, кормили волков, жили рядом, волками клялись и, посвящая юношей в мужчины, называли их волками. Врагами их были люди, жившие от оленей, от тайги, от рыбы и зверя, от грибов, несметно вылазящих по осени в мшистой тайге. Врагами — и рабами. Племя, угнездившееся в горах, жило поборами с тех, кто пас оленей в тундре. Забирало женщин и еду. И постоянно доказывало силой свое право взять. Эти люди были хищниками злейшей породы и бахвалились хищничеством. А еще они были гордыми, готовыми умереть за свое слово и по слову стариков.
С их стариками Круз говорил. Стариков было восемь — совет и высшее право хищного племени. Пятеро из них вышли прямиком из Апатитской колонии особого режима, называемой ласковым словом «Угольки» за необходимость отапливать саму себя полярной зимой. Но годы зимы и войны выдавили из этих людей всю обычную человечью грязь, а заодно — и изрядную долю душ, с этой грязью слипшуюся. Они походили на карикатуры, скверные картинки из вестерна — морщинистые, равнодушные старики с глазами как ружейные дула. Они приняли Круза как равного и напоили чифирем. Круз сперва чуть удерживался, чтоб не расхохотаться от чинной нелепости, с какой передавали жестяные кружки, вставали и кланялись, но потом смеяться расхотелось — будто невидимое, неощутимое невнимательному вдруг догнало, постучалось в рассудок. Эти люди были хозяевами смерти, и каждое их слово весило настоящую жизнь и боль.
Дан поначалу едва не подпрыгивал от радости. Кричал снова про северную силу, про чистоту и льды, про настоящую кровь, ожившую среди смерти. Потом начал брать пробы. И расспрашивать. Ему позволяли — знахарей племя уважало. После проб и расспросов Дан собрался, посадил Хука на цепь и пошел в зимние Хибины — умирать. Круз едва сумел отыскать его среди метели. Но нашел, сволок вниз, уже оцепенелого, и сам свалился без сил — даже выругать толком не сумел. Позвал Михая и злорадно наблюдал, как тот растирает бессильного, стонущего Дана снегом, а потом — спиртом. Аборигены поглядывали с любопытством, но не вмешивались и не спрашивали. Пришлые старики, они знают лучше. Знахарь пошел с белым духом тягаться и чуть не уходился. Известное дело. У знахарей жизнь такая. Им с теми тягаться, кого свинец не берет.
Потом Круз с Даном говорили перед стариками про жизнь и смерть людей в далеких странах, про поиски изначальной хвори, чтоб сделать лекарство, спасти всех. Старики слушали равнодушно. Затем наистарейший, Василий Ширяев, лысый и рябой, с руками, скрученными из вен, отпил чифиря из общей кружки и объявил — скрипуче, тяжко, будто высвобождал ржавое из кряжа:
— Это правда — мы медленно умираем. В детях — порча. Оленные скоро не смогут давать нам женщин. Идите, ищите лекарство. С вами пойдут наши щенки. Помогут и посмотрят. Как вам такой расклад, кореша?
Старики отпивали по очереди из кружки и кивали.
Через месяц Круз, Михай, Дан с Хуком и четверо щенков ушли из Мурманска на том самом траулере — с изрешеченной надстройкой, с кровью, замерзшей на палубе. Возвращаться в Давос захотел Дан — память об отчаянии покинула его на удивление быстро, и он снова забормотал про секрет северной крови, про анализы, тщательное исследование и секреты. А скорее всего, попросту захотел вернуться в свой мирок — уютный, обжитый и спокойный.
Траулера хватило до Орхуса — городишки на кончике Дании. Исчах перетруженный дизель. Сперва хотели ремонтировать, потом решили двигаться на машинах — тем более что щенки море возненавидели. Двух младших, Последыша со Следом, тошнило неделю напролет. А в Дании было безопасно и пусто. Команды из Давоса обшарили ее вдоль и поперек.
Добрались без стрельбы. Во Франции уже играла весна, сквозь растрескавшийся асфальт лезли цветы. А Давос встретил запахом свежего хлеба и вереницей разноцветных флагов на площади — как в прежние времена, когда был излюбленным местом съездов для толстосумов и политиков. Круз рассмеялся — хорошо вернуться домой!
Но скоро выяснилось, что домом это место можно назвать, лишь закрыв глаза и уши. Года не прошло, как от прежнего, рассчитанного на выживание устройства не осталось почти ничего. Втрое меньше стало тех, кто жил на налоксоне, и вовсе не осталось женщин, спасавшихся от счастья беременностями. Что, как, почему? Куда делись? Дан бегал сам не свой, кричал, размахивал руками. На него смотрели как на чокнутого. Какое — вымираем? Живем, и дети у нас. Зачем нам растения, жрут только и слюни пускают, да еще рожают таких же дебилов? Это чего мы не понимаем? Мы понимаем получше всяких шизиков бродячих, неспособных даже семью нормальную завести. Как — беззащитны? У нас есть мужчины, и оружие они умеют держать! К тому же дома сидят, а не бегают почем зря.
Вечером в Институте лавин, еще не превратившемся в склад мусора только из-за несчастной Митци, Круз с Даном пили виски и думали о будущем. Вместе с ними думала и Митци, захмелевшая с одного стакана и принявшаяся жаловаться на страшную судьбу. Эти тупые жирные коровы ничего не знают и знать не хотят! Здесь все летит в пропасть, все! Они же посты все оставили! Херр Круз, они солдат ваших отправили землю пахать! А меня считают полоумной дурой, перестали еду давать свежую. Говорят, чего нам пробирки твои, ты иди коров дои, если медсестрой быть не хочешь. Я — и доить коров? Медсестрой — подбирать их послед и резать пуповины? Я одна здесь еще храню науку! Ради вас, херр Дан, только ради вас!
— Нет, конечно нет, спасибо тебе, Митци, — говорил Дан, краснея и бледнея попеременно. — Я очень тебе благодарен, очень.
Митци плакала. Круз подавал ей салфетки, а после взялся проводить до комнаты. Проводил и пошел к Дану, додумывать о будущем. А Митци выпила для храбрости еще стакан виски, оделась в ночнушку и пошла желать Дану спокойной ночи. На лестнице ее встретил Левый, совершенно ошалевший от давосских нравов, подхватил, ночнушку задрал и, хохоча, принялся Митци округлять. На шум сбежались прочие щенки и тут же устроили спор — у кого больше раз получится? Митци ревела, визжала, царапалась, стонала — а потом расхохоталась.
Из-за щенков убраться из Давоса пришлось раньше, чем хотели. Те быстро смекнули, что настоящей власти и силы не осталось. Давос жил как в детском сне — беззаботно и нелепо. Пасли, растили, пекли, судачили, рожали. В штабном центре на столы ложилась пыль, листы радиожурнала валялись на полу — из них делали самолетики. Никто не держал вахту, не сидел на постах — к чему? Левый сказал, щурясь, как заправский пахан: «К тому, что пора лохов доить». И немедленно ухватил проходящую девицу за плотную сиську.
Дан лихорадочно анализировал, считал, копался в записях, а в свободное время утешал Митци, то плачущую без видимой причины, то хохочущую. Круз обходил своих солдат, распиханных по горным захолустьям, пытался выяснить, позвать, уговорить. Те пожимали плечами. Зачем срываться с места, куда? Женщины не так уж плохо все устроили. Никому мы не нужны, никто нас не станет воевать. Раньше не жизнь была, а казарма. К чему готовились, куда лезли? Долазились. Ну, нет худа без добра. Сейчас спокойно.
Михай сидел безвылазно в бабьем квартале у больницы. А щенки развлекались как могли. В конце концов даже аморфно-сонный новый Давос терпеть не смог, и к Дану явилась делегация во главе с подозрительно отощавшей Люцией. Если так и будет продолжаться, будут кровь и позор. Клянусь Девой Марией, кровь и позор. Дикари — вон!
Левый ржал и прилюдно мочился, поскребывая член. Правый молчал и хмурился. Дан уговаривал. Потом позвал Круза на виски.
Первую выпили молча. После второй Дан покачал головой и объявил горестно:
— Я сделал для них, что мог. Но они не хотят сами. Не знают, не могут и не хотят мочь. Еще три поколения — и даже без врагов и войны здесь не останется никого. Они умрут. Все.
— Умрут, — согласился Круз равнодушно.
— Посмотри на себя — кого ты видишь? Я вот, глядя на себя в зеркало, вижу глупого старика. Старика, чья жизнь прошла бесполезно. Мы ничего не сделали для людей. Ни-че-го! Наш мир умирает, а мы лишь ускорили его гибель! Но выход есть. Настоящий, единственный. Мы спасем этот мир — или умрем, пытаясь! Я уверен — вакцина возможна! Никаких сомнений! Нам нужна изначальная, чистая форма, первичный штамм. Мы определим его по градиенту — у меня есть тесты, простые, легкие тесты на близость к начальному типу. Там, где зараза родилась впервые, должны сохраниться споры. С твоим чутьем и опытом мы найдем их. Мы спасем! Пообещай мне, что спасешь — вместе со мной!
— Обещаю, — сказал слегка огорошенный Круз.
— Выпьем за это! — объявил внезапно счастливый Дан и плеснул в стаканы сорокалетнее «Балвени».
Отправились через три дня в прежнем составе: Дан с Хуком, Круз с Михаем и щенки. Круз никого уговорить не сумел, и никто не вышел провожать. Щенки хохотали — Давос им наскучил, а чистые унитазы их вовсе не впечатлили. На прощание Левый расстегнул ширинку и обильно оросил уносящийся прочь Давос.
Так началось спасение мира.
НАЧАЛО
1
— Пап, а ты поиграешь со мной сегодня?
— Поиграю, отчего ж не поиграть?
— Только давай без солдатиков, я их не люблю. Давай в динозавров!
— Давай. Я сейчас допишу, а потом ты динозавров принесешь и мы поиграем.
— А скоро ты допишешь? Сколько тебе листов осталось?
— Немного.
Андрюшка уселся рядом, болтая ногами. Заглянул под руку. Поколупал в носу, вытянул козлика, рассмотрел. Сбросил щелчком.
— Пап, а?
— Что такое?
— А почему ты такой старый? Вон, у Сеньки и у Вовика папы не такие, морщин у них нету и волосы желтые. А ты белый, и морщины.
— Потому что я слишком долго шел к твоей маме.
— Я знаю — это потому что лето было и дороги в грязь ушли. Правда?
— Правда, Андрюшенька. Правда.
— Видишь, я знаю. Мне дядя Правый сказал. А он знает. Он сильный.
— Да, он сильный.
Андрюшка почесался, затем вынул из кармана сухарик и аккуратно съел. Глянул в окно.
— Пап, а почему мы их убиваем? Они же такие смешные!
Круз вздрогнул. Отложил ручку, повернулся к сыну.
— Кто — смешные?
— Дяди, которые с оленями бегают. Шерстяные такие. Раскрашенные.
Круз усадил сына на колени. Погладил. Какой же тощий! Хоть ты снова с ложечки корми.
— Андрюша, это сложно… ты еще маленький. Ты не поймешь.
— Я большой! Мне семь уже! Я книжку про Умку прочитал!
— Молодец. Но ты посмотри — вот моя рука. А вот твоя. Видишь, сколько твоих рук надо на одну мою? Маленькая рука, правда? И ты маленький.
— Я вырасту и стану большим, как ты! Больше стану!
— Станешь, конечно.
— Они такие смешные. У них солнышко на щеке нарисовано.
Круз вздохнул.
— Андрюша, ты пойми, пожалуйста: эти смешные люди хотят земли, на которой нам надо жить. Хотят прогнать нас. Хотят, чтоб нам кушать нечего стало. Тебе ведь не нравится голодать?
— Нет, — ответил Андрюша уныло. — Пап, ведь мы к ним пришли, а не они к нам?
— Да. И к другим придем. И если они не захотят жить мирно с нами, будем и их убивать. Потому что, Андрюша, мы делаем правильное. А они — нет.
— А я знаю! — оживился Андрюшка. — Мне мама сказала. Нам потому можно убивать, что мы лучше. Мы настоящие люди, потому что мы правильно родились. Без микстуры. А кто с микстурой, те как лошади.
— Андрюша, мама пошутила.
— Мама не шутит так! Она же мама!
— А я — папа!
Тут из-за двери выглянула Аделина.
— Мужики, чего разорались? Обед готов, идите. Быстрей, борщ стынет!
За столом собралось все семейство: папа Андрей Петрович Круз, мама Аделина и чада: Андрюшка, Степка, Наталина с Оксаной и карапуз Вася, преждевременно отлученный от груди, потому что мама Аделина хотела еще девочку. За столом еще сидели Авдотья Еленовна и Степанида, воспитательницы Крузова потомства, старшая Аделина дочка Галя и ее нервный пятый муж Семен. Подавали борщ — в огромной кастрюле, благоухающий, грозящий из раскаленного нутра лопаточной костью. Уже ждал на столе свежий ржаной хлеб, ароматный, с хрустящей волшебной корочкой, сверкали моченые огурчики с черемшой, и, чистейшая, чуть желтоватая от жирности, сияла в хрустальной бочечке сметана. Две сноровистые девицы с уполовниками завладели тарелками, разлили. Отступили, встали ровненько — здорово их Аделина вышколила. Круз, улыбаясь, вдохнул борщовый дух и объявил зычно:
— Спасибо, хозяйка, за угощение!
Тут же все забормотали нестройно:
— Спасибо, спасибо…
— Пожалуйста, родные, — ответила Аделина, рдея. — Кушайте на здоровье.
Ложки разом нырнули в пряную жижу.
Круз кушал вдумчиво, смакуя — женин борщ был чудом. Поглядывал с удовольствием на семейство. А Наталинка красавица будет. Уже видно. Не в маму. Мама тоже ничего, правда. В своем роде.
Аделина поймала мужнин взгляд, улыбнулась белозубо.
Одно что Наталинке придется волосы длинные носить, ушко прикрывая. Поморозила левое, бедунька. Воркутинская зима, ети ее. Когда Круз увидел дочку — хнычущую, крохотную, с распухшим сизым ухом, жутким куском чужого мяса, приставшим к русой головенке, — заорал: к черту Воркуту, к черту ваши ясли глупые за полярным кругом. Нечего бояться — вакцина есть, ни к чему детей морозить. Удивительно — удержала Адя. Хоть и ревела над дочкой навзрыд. Но — утерлась, высморкалась и сообщила ровно:
— Не глупите, Андрей Петрович. Вы ж видите — порядок у нас сделался. Крепкий порядок. Не из головы, а по природе, сам собой. Не рушьте. Все ведь похороните.
— Ладно, — ответил Круз, чуть не плача. — Права ты, Адя. Как всегда. Что б я без тебя делал?
— А я без вас?
Порядок и в самом деле установился. Да так быстро и крепко, что Крузову идею с записью законов чуть на смех не подняли. Зачем писать, дедушко? Все и так ясно. Своровал? По первому разу — в рыло. По второму — пошел вон. На женку чужую полез — пошел вон. Бабу побил — пусть баба сама решает, простить или вон. Если вернется без спросу — с волками выследят и мало не покажется. А если смертоубийство или драка — кровь за кровь и зуб за зуб.
Круз только головой качал. Кому закон хранить? А зачем хранить-то? Что, никто не знает? Вон, бабы женсовета всю плешь проели законами. Но свое таки провел. Отступили, усмехаясь: из прежних дед, причудлив. Там у них, по сказкам, все записывали, даже сколько кто в нужник наведался. Для науки. Могучая штука, эта наука его была. Вон, ведуна взять — тоже старый. Страшен-то как. Сивый, в пятнах. Говорят, один девки ему служат, и те голые. Зачем ему голые, такому старому? А чтоб зелье делать, которое тусклых лечит. Лечит-лечит, да не совсем. А это потому, что девки нужны ему не абы какие, а целки. А где сейчас целку-то взять?
Впрочем, Круза северный народец давно перестал удивлять и обижать. Они были как дети. Один огромный орущий шалопутный детсад. Во времена оны, до «опа», писали, что это из-за городов и цивилизации мужчины не взрослеют. Чепуха. Это когда человечество заболело заводами и шахтами, где нудно, опасно и одурительно от конвейера, тогда придумали «взрослость» — вечную усталость, безразличие, выдаваемое за снисходительность и доброту, долг, который на самом деле вовсе не долг, а заботливо выращенный обман. И забыли, что дети умеют держать слово не хуже взрослых. Простодушные, но смышленые, кровожадные, но верные, веселые вояки, беззаботные папаши — Круз любил свой оголтелый народец. А тот в долгу не оставался. Всех — и властных баб совета, и командиров, и даже Дана, наводившего ужас на всех от мала до велика, — за глаза называли по-простому, хлестко и прочно. Зинка-Кирза, Шалый, Удод — это еще ничего. А были еще Бздо с Волкохуем и Марья Мандорота. Лишь Круза, поминая, всегда звали «Андрей Петрович». И потомство его, и супругу даже — «Андреевы». Аделина злилась, но виду не подавала. Обидно по-бабьи, но если на муже твоя власть держится — поневоле язык прикусишь. Пыталась, конечно, придавить по-домашнему: прикрикнуть умело, поныть, а то и всплакнуть — да надолго не хватало. Аделина не привыкла просить и улещивать — грозила и ломала. А с таким супругом как же, погрозишь. Глянет каменно, что твой истукан. То ли слышит, то ли нет, глаза будто колодцы: ровные, холодные, глубоченные. Кинешь — и ничего в ответ.
Круз черпал борщ, радостно оглядывая родню. Все свои, теплые, кровиночка. И пришлые если — ведь прилепились, прижились. Орут, ссорятся, но без злобы, а если и зло — так запихнуть подальше и не вспоминать. Вон — Семен. Расстрелять хотел паршивца, управы не было. А теперь — жене в рот смотрит, а жена перед мамой по струнке.
Но доесть борщ судьба не дала. Робко постучав, явилась девица в белейшем халате с красным крестиком на левой сисе и вымолвила:
— Андрей Петрович, срочно, срочно!
Тот длинно выматерился про себя, а вслух, оглядев домочадцев, объявил:
— Извиняйте, родные, — дело. Хозяйка — благодарю.
— Вы поспешайте, Андрей Петрович. Может, к пирогам-то успеете?
— Может, — согласился Круз и, вздохнув, пошел за девицей.
Пожалел, что трость не прихватил с собой. Не то чтобы прихрамывалось, но на ухабах здешних поспокойнее. Сколько раз твердил: хоть щебенкой засыпьте, тоже мне, матерь городов! Где там. Впрочем, за квартал от больницы все было вылизано, вычищено и приведено в сверкающее совершенство. Стены пятиэтажек сверкают кафелем, вместо асфальта под ногами — белейший кварцит. Деревья, кустики, травка — выстрижено, уровнено. Белый дворец Инты. А девица-то как приосанилась. В святая святых идем, вотчину старого козла, все никак не откоптящего. Два месяца с детьми не был, так вот — не иначе очередной раз вздумалось подыхать среди обеда!
Но на этот раз оказалось серьезно. Дан лежал в постели посреди безукоризненно белой палаты — единственным грязным пятном. Шевелил посеревшими губами, глядел в потолок. Чуть улыбнулся, завидев Круза.
— Извини, что оторвал… но кроме тебя, не с кем… столько раз тебя попусту звал, а вот теперь, видишь…
— Я вижу, — ответил Круз. — Здравствуй, Дан. Что я могу для тебя сделать?
— Выслушать.
— Хорошо, я слушаю.
— Я виноват перед тобой, Андрей. Я звал тебя… сулил, вымогал обещания…
— Извини, это я слушать не хочу. Ты не передо мной виноват.
— Перед кем же?
— А ты до сих пор не понял? Тьфу ты! — Круз сплюнул в сердцах. — Не понял, во что превратил этот мир? Ты еще гордился, что твой дед кого-то там взрывал в сорок четвертом!
— Андрей, ты все такой же, — Дан попытался улыбнуться, и по седой щетине поползла слюна. — Рубишь сплеча, не глядя. Я этот мир спас.
— По мне, ей-богу, лучше б и не знать такого мира, и слыхом не слыхивать. Мечта Розенберга. Сверхарии арктогеи.
— Тебе никогда не казалось, Андрей, что в этой теории есть зерно истины, которое мы сейчас и видим, — сказал Дан по-немецки — и снова, как раньше, голос зазвучал сухо и сильно. — Холод очищает людей и землю. Разве я виноват в том, что рожденные на подлинном севере, за полярным кругом, сильнее и умнее тех, кого спасла от счастливой дремы моя вакцина?
— А белый храм чистой крови, посвящения, ночное блядство при факелах — в этом тоже не виноват?
— Нет. Я этим горжусь. Только такой, как ты, мог не понять, что люди скатились уже за феодализм. Открой глаза, Андрей. Паровозы, автоматы и генераторы выжили, а ум, который их родил, — уже нет. Ты, Андрей, даже не феодальный барон — ты вождь союза племен, которому долгой мучительно подниматься до настоящего феодализма. Смешно, правда? Человечество, измельчав, само пришло к устройству, соответствующему нынешнему размеру. Именно я, а не ты это устройство помог укрепить. Я создал. Я дал веру, обряд и смысл. А ты — всего лишь вояка. Я…
Дан задергался, хрипло перхая, выбрызнул кровавые пузыри.
— Извини, — прошептал по-русски. — Мне уже скоро. Обещай мне…
— Не буду, — сказал Круз. — Хватит. Я тебе сам пообещаю — что твой дерьмовый порядок будет стоять, пока я жив. И постараюсь, чтобы стоял и после. Чего уж тут — если сам строить и выбирать не умею, какого хера пенять, если выбирают за меня? Помирай спокойно.
— Спасибо, Андрей. Спасибо.
— Пожалуйста, — ответил Круз и пошел прочь.
За дверью уже ждали Дановы девицы — как на подбор, фигуристые, длинноногие. Заходя, сбрасывали халатики и нагими подходили к умирающему. Круз плюнул снова и пошел, раздумывая, что делать с толпой никчемных развратных девок после Дановой смерти. И не выгонишь ведь запросто — кому вакцину делать? Хватило бы двух, от силы трех, бурду эту варить. А тут две дюжины — ни рожать, ни пахать. Преемственность знания, етит твою. Нагулялся под старость, козлина. Дворец жизни.
Всегда ведь так: только думаешь, что жизнь оседлал и направил, а глядь — она уже через канаву и в курятник. И когда это Инту стали звать Святым городом? И когда делить принялись на «чистую» и «снулую» кровь?
Обеденный зал уже опустел. Над объедками и тарелками сидела одна Аделина и равнодушно хлебала чай.
— Сдох? — спросила, не глядя.
— Живой еще. Но недолго.
— Скорей бы. Вот ты, Андрей Петрович, в бегах весь, командуешь, а мне тут его терпи и блядей евонных. Они же не слушают ничего, курвы белые! Сопливка такая, не родила никого, а мне указывает!
— Пусть балуют. Не трогай — обученные они. Вакцину делать будут. Чтоб приструнить — требуй рожать. Или дай им в начальники женсоветскую. Увидишь — без Дана они передерутся и сами за помощью побегут. А на случай чего — я своих лекарей отправлял к Дану, учиться. Они знают, как вакцину делать. Так что если девки эти встанут криво — по сусалам их!
— Все-то у тебя просто, Андрей Петрович. Ишь как — раз-два, и готово.
— В мире все просто, разве не замечала?
— Не-а. Пирог кушать будешь?
— Давай.
— Остыл. Варенье загустело.
— Твой пирог и остылый вкусен.
— Хм, — Аделина буркнула под нос. — Вечно ты мне как малолетке. Мне ли не знать, каков он холодный.
Круз скушал ломоть, нежный, сдобный, приправленный вишневым текучим конфитюром, выхлебал две кружечки взвара и вздохнул. Тогда Аделина, покачав головой, известила:
— Снова к тебе гости, Андрей Петрович. От волчатников. Не осерчай — они потерпят, пока покушаешь. Они ведь вовсе дикие, времени не знают и не хотят. Только девок портят.
— Я же просил тебя, — заметил Круз укоризненно.
— Просил. Но если от брюха помрешь, не евши толком, что тогда?
Круз вздохнул, поблагодарил и пошел в приемный зал, на первый этаж. И еще с лестницы определил гостя. Экое амбре — псина, застарелый человечий пот, костер и хвоя и гниловатый, острый запах хищника.
— Привет, Пеструн.
— Здрасьте, Андрей Петрович! — Пеструн вскочил, дрожа.
Крузу показалось — завилял невидимым хвостом.
— Захар Палыч приветы передавал, всего лучшего, так, — Пеструн сопнул, вытер рукавом нос. — Очень у него дела хорошо, но вот закавыка — зелья нужно, и народец из-за реки явился. Такие крутые — спасу нет. Достали мы их, достали!
— Стоп! — приказал Круз. — Медленно и по порядку.
Пеструн приосанился, пригладил заскорузлой ладонью волосы, поддернул штаны — и мгновенно сделался Захаровой копией, разве что лысины не хватало.
— У нас опять молодняк сонный.
— У двуногих? Или у четвероногих?
— И у серых, и у нас. Трехпалая выметала пятерых, а они все — того. И у Шишки — не того. Заплечницы моей щен — семь лет, а квелый.
— Исправим, — пообещал Круз. — Что за народец явился?
— Зимой, если помните, вы сказали команду отправить за Обь. Ну, там поозоровали малость — мы ж докладывали. Пожгли, языков брали. А теперь вот от ихних главных явились послы. Расфуфыренные все, аж блестят. С железом.
— Спасибо! — сказал Круз и хлопнул в ладоши.
Явившейся паре верзил с автоматами объявил:
— Общий сбор! Едем в Лабытнаги!
Аделина, как водится, поворчала. И Андрюшку не хотела отпускать. Мало ли, опасности нет. Знаю я вас, мужиков. Нет и нет, и вдруг бац — полгорода снесли. Брось, хозяйка, пусть побалуется пацан. А то закис тут, под юбками. И так вы его разбаловали, Андрей Петрович. Не тятя будто, а дед. Я и есть дед, что с меня взять?
Собрались полусотней, нагрузились до зубов. Не на войну, впечатления ради. Бронежилетные, в беретах, пятнистые зверски — гвардия. Не с иголочки — засаленные, потертые. Пропахшие боем. Погрузились в бронепоезд. Для себя Круз хотел прицепить обычный плацкарт, но Аделина встала стеной — ребенка везешь! Пришлось на горы смотреть из-за решетки.
Впрочем, Андрюшку горы не интересовали. Он вообще не слишком смотрел по сторонам. Вот пистоли на дядях, это да. Пап, дай мне пистоль! Научи! К чему тебе пистоль, глупая это игрушка. Из ружья сперва научись, я ж тебе воздушку подарил. Я пистоль хочу. А по мягкому не хочешь? Надулся, смотрит в пол.
Круз помешивал чай, глядел в окно, на низкие, безлесные горы. Удивительно — в детстве сладкое жрал килограммами. Вырос — ни в чай, ни в кофе, и пирожное в глотку не лезет. А на старости — поди ж ты — снова сладкоежка. Пробежаться бы как в молодости, с рюкзаком за плечами… Эх, суставы будто свинцом налились. Полчаса пройти, как мешков натягаться. Ага, вон на гребне белеет — камни светлые пирамидкой. Знак Захаровых владений. Недурно он забрал, однако. В прошлом году не было — или уже был? Если б не вакцина, вот была бы заноза в боку. Захар на словах, конечно, сынок сынком: батя, старшой и все такое — а на деле уже князек над всем Уралом и Зауральем. Оленных приструнил, а кто против — того под корень. Только детей и баб детородных оставлял, и тех отправлял подальше. И волков же взял под себя. Теперь за Обь пошел разбоить. Сам побежал к новой резне. В радость ему. Все же как он удивительно с волками ладит! Вовсе дикие к нему приходят. А может, по-настоящему диких, чистокровных и не осталось? Дан говорил: зараза многое зверье напрочь выкосила, от тараканов до слонов. Некоторые по-людски болеют, зайцы и бобры, к примеру. А собакам — хоть бы хны. Собаки же, известное дело, себя от людей не отличают. Но ведь юлит Захар, крутит. Все объяснил, показал, свистулькой оделил — копируйте, свистите. Гуляйте с моими серыми сколько угодно. И свистели, и гуляли. Но хозяин им по-прежнему Захар, хоть ты лопни свистевши. И приблудные, дикие, к нему идут, а к тем, кого Круз натаскать пытался, — нет.
Опасно Захара терпеть. А ссориться — смертельно. Без Захара Инта быстро скатится к прежней жизни, к тонкой полосе сел у железной дороги. А с Захаром рискует стать придатком зверолюдства. Когда-нибудь придется этот узел распутывать. Хоть бы не на своем веку.
Андрюшку убаюкало. Поклевал носом, устроился на лавке. Мелкий мой, тощеныш ребристенький. Подушку подсунул аккуратно, но одеялом прикрывать не стал — проснется, разобидится. С чего тятька будто к младенцу?
Так и проспал до Лабытнаги. И когда стали, не проснулся. Паровоз притормозил легонько, плавно стал — интинские машинисты славились мастерством. Как-никак Святой город. Круз пощекотал сына в пятку. Поднял брыкающегося, голосящего. Встряхнул, поставил, объявил сурово:
— Приехали. В туалет хочешь?
— Хочу, — ответил Андрюшка плаксиво.
— А вот и нельзя. На станции мы, — объявил Круз довольно и хихикнул. — На вокзале сходишь.
Встречали поезд полдюжины мрачных бородатых вояк. Лабытнаги Захар считал чуть не своей вотчиной, волчатники гостевали там частенько и, видать, поделились привычками — смердело от лабытнажских нечеловечески. Забубнили разноголосо, здороваясь. Предложили машину — осыпающийся «Москвич», ушедший на пенсию еще до Крузовых времен. От машины Круз отказался и пошел во главе жуткой, скалящейся, увешанной железом банды.
Гости увидели. Лабытнажские их предусмотрительно разместили на веранде, с чаем и сухариками. Когда Круз зашел, гости повскакивали — пятеро средних лет мужчин в длинных кожаных плащах, сапогах и портупеях. Зачем им портупеи, Круз не понял — но выглядело внушительно.
Поздоровались, сели, принялись за чай. Представились, поговорили про погоду. Про комаров. Про болота — ползут, сволочи. Про моторы — ремонтировать с каждым годом все трудней. Поди-ка поршень доморощенно отлей да обточи — умаешься. Уже паровые машины в мастерских поставили — понадежней ведь битых дизелей. Про баб поговорили. Круз поудивлялся: это как у вас женсовета нету? Так-таки баб нету наверху?
Наконец гости не вытерпели. Старший, Олег, — тощий блондин лет сорока пяти со шрамом через щеку — отставил решительно чашку и объявил:
— Андрей Петрович, мы к вам по делу!
— Ну так рассказывайте, — разрешил Круз.
— Мы никогда не причиняли вам никакого вреда! А ваши люди с собаками разоряют нашу землю. Убивают, жгут. Зверствуют! Изгоняют людей, режут скот. Скажите, зачем? Почему нам не жить мирно? Земля ведь опустела. К чему воевать?
Круз отхлебнул. Поставил чашку, укусил сухарик. Тщательно прожевал. Поднял чашку, запил. И сообщил:
— Вялое ваше дело. Не причиняли вреда, значит. А юная шантрапа, выжившая после трех-четырех годков разбоя, куда возвращается? И где у этих недоносков «страна силы», не знаете, случаем?
— Наверное, вас дезинформировали, — предположил Олег. — Да, мы принимаем всех здоровых людей. Это наш закон и правило. И не спрашиваем о прошлом. Тем и живы. Но мы — мирный народ. Плавим железо, добываем газ.
— И снабжаем оружием южан, посылающих банды, — добавил Круз. — И отсылаете тех, в ком видите признаки хвори, на юг.
— Позвольте, — возразил Олег. — Сейчас каждый выживает как может, складывает свое устройство социума. Мы все на грани выживания. Если бы мы не жили, как живем, разве продержались бы? А сейчас появилось лекарство, с ним можно отбросить старое, принять новое, гуманное!
— Новое, значит, и гуманное? — Круз усмехнулся. Отпил чаю, поболтал ложечкой задумчиво. — У вас там хорошо с образованием, правда?
— Мы стараемся поддерживать стандарты. Не скатиться в родоплеменной быт.
— Не скатиться, значит. Сохранить касту знатоков, набитых бесполезными теперь словами. Признак господина — заковыристая речь. И портупея, наверное? Я вам сообщу то, что вы, наверное, и так знаете. Или могли бы знать, если б не забивали головы пустословием. Мы много лет отбивались от детских банд. Эти банды забредают на удивление далеко. Они убивают и жгут. Бессмысленно разрушают — просто потому, что могут. Обычная для подростков агрессия, которую кто-то умело направил и раздул. Мы отбивались, нападали сами, побеждали — на удивление бесплодно. Выбитые племена недорослей загадочно возрождались. Странно, правда? А вы тем временем спокойно хранили культуру, добывали газ и — что там еще? — ах да, плавили железо. И спокойно отправляли экспедиции на земли, опустошенные малолетней солдатней.
— Вы ошибаетесь! — воскликнул Олег, слегка побледнев.
— Ошибаюсь? Возможно. Но это несущественно. Мне недосуг разбираться в мелочах. Отныне хранением вашей культуры займемся мы. Ваш народ мы поселим в хороших местах — дюжину там, десяток здесь. А на ваши земли придут наши люди. И заботливо примут все ваши достижения.
— Но это же… это же гибель всего достигнутого нами! Это невозможно! Вы же образованный человек, я же вижу, вы должны понимать…
— Сынок, это ты должен понять. Выбор у тебя простой: живым остаться или сдохнуть. Ты не суетись. Ни к чему. Спокойно чаек допей. Ты нам полезен будешь. Детей станешь учить красивым словам. Оно важно — слова знать.
Круз встал.
— Эй, Семен! Позаботься о гостях. В баню своди. Завтра у них дорога дальняя, пусть погуляют напоследок!
Дан умер восьмого августа, в день удушливой, липкой, вязкой жары. Но в день его похорон, десятого, небо обложило, из темнобрюхих низких туч посыпало белой крупой. Дана уложили в курган. Обложили бетонными плитами дно неглубокой ямы, нагромоздили штабеля шпал, рельсов, асфальта, земли, чугунных болванок, шлака. И обсыпали скудной северной землей. А после пели о покойном, бросали хлеб, плакали. Вокруг кургана, поднявшегося на три человечьих роста, горел в бочках мазут, и копоть летела на лица плачущих, мешаясь со снегом.
В ноябре Обь встала надежно, и Круз, собрав гвардию и силы со всех станций Великого Котласа, с броней и запасом соляры пошел на восток — собирать добычу. Из июльских послов отпустили одного — рассказать. Рассказ услышали, потому что еще до сентябрьского разбоя, учиненного Захаром совместно с интинскими ударниками, к Уралу потянулся разнообразно семейный люд. Кое-кого подстрелил темный оленный народец, но большинство было встречено, обыскано, ограблено, накормлено и препровождено на котласские земли. Беглецы, дрожа, рассказывали такое, что кровь стыла в жилах. Крузу передавали — он верил. Захар думает по-волчьи. А волк может перерезать все стадо просто потому, что может. И детское мясо серые любят. Посланцы от Захара рассказывали, смеясь, что «страна силы», мечта и награда малолетних головорезов, оказалась тупой и толстой. Ни постов, ни защиты. Танков — раз-два и обчелся. Одно что пару вертолетов додумались пустить. Вертушки — страшное дело против серых. Боятся те рокота. Но ударники помогли: первый из РПГ выцелили, хвост — напрочь. Второй из пулемета окатили, вроде и не задымил, но прочь полетел и в тайге грохнулся. Все, хана. Идите, хозяин, принимайте трофеи.
Те оказались велики. Круз губу прикусил, увидевши. Больницы, школы, дороги. Вода и свет в домах. Живой город — впервые за много лет увиденный. Не подновленный скелет, не квартал среди руин — город с фонарями, с троллейбусами, с кинотеатром. Они не тратились на войну — и потому сделали так много. Но и потому же не выдержали и полугода, когда война пришла к ним. Воевали изгнанники. Те, кто был обречен умереть во сне, улыбаясь. Они уходили на юг, на запад, на восток. Соединялись в подобия племен, разбредались снова. Любой, пошедший им навстречу, как то изначально планировал Круз, неизбежно увяз бы в череде бесконечных стычек, годами полз бы по землям, удержать и обезопасить которые могли бы лишь тысячные гарнизоны. Люди за Обью придумали хорошо. Круз пожалел, что попал не к ним.
Но теперь уже поздно. Их жизнь рухнула, будто карточный домик. Детские банды, ошалев, разбежались в никуда. Захаровы стаи гонялись за ними — когда в охотку. Базы и поселки к югу от Сургута выжгли напрочь — чтоб разбежавшиеся не вздумали вернуться. Правда, Круз переоценил свои силы. Чтоб перевезти новый люд за Урал и поселить на место своих, не хватило бы и десятка Котласов. Потому вывезли главное — врачей, учителей, техников, детей и молодых женщин. Вояк чаще выводили в ближайший овраг и расстреливали. Бледный, уже без кожанки, но в разодранном малахае Олег — именно его отпустил Круз из всего посольства — упросил, чтобы пропустили к самому Андрею Петровичу, а затем, плача, упал на колени.
— Как же вы можете, вы же губите все: поля, заводы, жизнь губите! Вы хоть про безопасность свою подумайте — мы же вас от востока заслоняли и юг держали, а там же такие дикари — не дай бог!
— Успокойся, парень, — посоветовал Круз. — Увидишь, все образуется. Вы держали — мы тем более выдержим. Кстати, мне нужен управитель в Сургуте. Чтоб дела местные знал. Справишься? Чтоб мы все не погубили?
— Справлюсь, Андрей Петрович, справлюсь! — пролепетал Олег, глядя в пол.
— Что в глаза не смотришь? — спросил Круз, улыбаясь. — Боишься, ненависть замечу? Тоже мне, секрет. Ты, парень, далеко не первый в списке. Думай чего пожелаешь — лишь бы дело шло. И еще: первым делом коротковолновик ваш оживите. А то полгода последних вовсе слышно не было.
В Сургуте просидел почти до Нового года, разбираясь в делах, изучая. Изумительно — на юге, оказывается, кочевники учредили настоящее ханство! Лютое, сильное, жадное. На востоке обитал кто-то невнятный в лесах и кочевали оленные. Города промышленной полосы запустели — но и там кое-где гнездились выжившие, сбившиеся большей частью в хищные банды. Руку Сургута признавали до Новосибирска и Барнаула — а дальше, судя по документам, начиналась зона походов «разведгрупп» — так назывались на местном новоязе детские шайки. Пара их добралась и до Китая!
Дел невпроворот. Кто тут разберется, кому поручить? С такими расстояниями и сообщением всего только новое удельное княжество и соорудишь. А, недосуг. Найдем кого недовольного из женсовета, пусть радуется власти. Та же Зинка-Кирза, все забыть не может. Пусть резвится. А если забудет, кому чего должна, — Инта напомнит.
С тем и вернулся домой, праздновать. Наряжать елку на пару с детской оравой. Шлепать по крупам проворных нянечек, так и норовивших показать то плечико, то ножку. А что, имеет ведь право баба на самых лучших деток, правда? Ты Аделине такое скажи, курва тощая! «Всем тихо! — ревел Круз. — Гир-рлянду забр-расываем, ать-два!» Разгорячившись, выскочил на мороз, проветриться. Тут и прохватило. Кто-то сердце стиснул колючим железом, льдом лютым. И давил, давил потихонечку. Андрюшка выскочил следом.
— Папа, папа!
— Домой иди, — велел Круз бессильно. — Без шапки не ходи. Не ходи…
Потер снегом лицо — кусает. Полегчало. Осторожно, тихонько. К двери, за нее — в тепло. Вот, и словно ничего. Прошло. Прибежала врачишка — девка из Дановых, вызванная няньками. Девку прогнал, шлепнул по гладкой попе напоследок. Ишь, на ком тренироваться удумала!
В новогодний вечер Круз смеялся и сидел со всеми за столом. А ночью пришла Безносая.
Круз не видел снов. Кошмары приходили, составленные из слов. Особо страшные — на русском, розовые — на испанском с оттенками гуарани. Но теперь увидел явственно, будто сквозь дыру, открытую в ровную, пыльную, серую степь. Безносая пришла из сумрака — медленная, усталая, не с косой, а с узловатой, выглаженной годами палкой. Горбилась, бредя — истомленная земная старуха, отвыкшая разгибаться. Встала подле стены, посмотрела пустыми глазницами. Повела плесневатой костью — и Круз заверещал во сне, схватившись за сердце.
— Зачем так? Больно ведь! — укорил, отдышавшись.
— А как иначе? — Безносая пожала плечами. — Живое — оно болит. Ты и так болеешь только мясом. Почувствуй, как оно — когда душа ноет.
— Ты за мной?
— Нет еще, сынок. Посмотреть. Много ты мне работы наделал, ой много. А я уж и так утомилась подбирать вас.
— А сколько мне осталось?
— Ты что, помереть боишься?
— Не то чтобы, но ведь доделать столько…
— Доубивать?
— Не без того. Но это надо — чтоб мои дети жили, чтоб народ здешний жил.
— У всех вас одно и то же. Важно, нужно. Никому вы не нужны, кроме меня. Ты гуляй пока, парень. Я подойду, когда время придет. А подарок оставлю — чтоб не забыл.
Махнула желтыми пальцами — и в Крузовой груди родился мелкий острый зверек, зашевелился, заскреб лапками. Круз завыл — и проснулся. Выполз из кровати, трясущейся рукой нацедил стакан воды. Выпил. А потом просидел до утреннего звона, глядя в черный квадрат окна.
Утром прибежала нянюшка, зареванная, и не смогла выговорить. Посланец, ожидавший в гостиной, тоже смог не сразу. Вертел шапку в руках, переминался. Всхлипнул даже, но выдал:
— Андрей Петрович, Правого вашего, который Последыш, — нету. Убили его подземные. Совсем убили.
— Утрись, — велел Круз. — И рассказывай толком.
Тот рассказал. Круз выслушал. Затем спросил:
— Они повода не давали?
— Да нет же, за девками поехали, как обычно. Тише воды, ниже травы. Только теперь всех подряд закупали, и снулых, и толковых. А тут подземные ни с того ни с сего. Жалко-то Правого, Андрей Петрович, жалко, такой кореш был…
— Жалко, — подтвердил Круз.
В полдень на совете — своем, малом совете мастеровых, врачей и командиров — Круз объявил:
— Я хочу убить этот город. Я хочу, чтобы в нем не осталось ни единой твари, способной выстрелить, укусить либо ударить. Я хочу, чтобы там произошло болото и во всех норах и туннелях жили только головастики. Я слушаю вас.
Первым подал голос Семен — нерешительно, на правах бедного родственника.
— Зачем, Андрей Петрович? Люди ведь…
— Одну занозу мы выдернули. А это не заноза — гнилой свищ. Жизни тех, кто там обитает, — противны и непонятны. Они никогда не станут нашими. Они отравляют землю, под которой живут.
— Затопить, Андрей Петрович. Там водохранилища уцелели. Взорвать плотины. А сперва расчистить вход и туда русло подвести, — предложил, блестя очками, бывший лейтенант Саша.
— Холмы, однако, — заметил оружейник Ринат. — Пару станций затопим, и толку? Под Сыктывкаром есть склад вакуумной дряни всякой, в позапрошлом году мои ребята откопали. Как раз для туннелей. Сверлим, кладем, рвем.
— Холера, оспа, сибирская язва, — сообщил Карп, дородный зять Зинки-Кирзы, подвизавшийся по лекарской части. — Штаммы тифа тоже есть.
— Еще пару снарядов по двадцать килотонн, — добавил Ринат. — Правда, может и не взорваться — нет спецов по атомному делу.
— Толку с зарядов-то, — проворчал Семен. — Их, крыс туннельных, и рвали уже, и травили — а они знай себе плодятся.
— Неправильно травили! — отрезал Ринат. — У нас получится.
Препирались полчаса. Затем Круз всех распустил. В зале задержался лишь бывший лейтенант Саша. Помялся немного, поправил очочки — толстенькие, нелепые, из медной проволоки крученные. Вздохнул тяжело. Наконец решился.
— Андрей Петрович, мы понимаем, какое вам горе. Но это дело, с Москвой… огромный ведь город. Уже и бомбили его, и взрывали, и воевали — а подземные все там. Не сможем мы никак. Да и торговля с ними нам не нужна уже. Пусть гниют — все равно ведь наружу не выберутся.
— Как видишь, выбрались, — ответил Круз. — И трупы забрали. Они их съедят, понимаешь, Саша? Они съедят моего Последыша. Но ты прав: грубая сила не поможет. Они убьют себя сами.
— Но как? — усомнился Саша осторожно.
— Глупостью и жадностью. Это у людей в обычае.
На переговоры Круз отправился сам. От подземных тоже вышли, как видно, самые старшие — череда гнуснейшего вида старцев. Заскорузлые, криворукие, с гниющими язвами, беззубые, бельмастые. С желтыми слюнями на щетине. И с глазами будто пистолетные дула. Старший из них — избранный, наверное, не по возрасту, а из-за особенной вони, вышибающей слезы и выворачивающей, — хихикал, поглядывал угодливо, называл Круза «Великим начальником», а себя — «непотребным Макарушкой». Круз немедленно предположил, что Макарушка этот и учинил ночную атаку, чтоб спровоцировать, привлечь чужаков себе на помощь. Впрочем, он или не он — теперь не важно. Даже и лучше — тем старательнее примется угождать и тем проще исполнить задуманное.
— Так это сыночек ваш был, ах, сыночек, жалость-то какая! — юлил Макарушка, пованивая. — Так вы отплатить за него хотите, и правильно, правильно. И мы хотим — враги они нам, лютые враги, людоедики-трупожорки, противные, гадкие.
— Сыночек, — подтвердил Круз.
— А вы, может, солдатиков нам, а? Оно и проще, и сами с вашими штучками управитесь?
— Мои под землей не воюют. Не умеют и боятся.
— Ой плохо, плохо! — завыл Макарушка радостно. — А как же мы с вашими железками-то управимся, темные мы, испортим и сами потравимся.
— Мы вас научим и покажем. И защиту дадим. Она простая. Повязка пропитанная, и все. Но если не знать — не сумеешь. И под землей у вас вряд ли пропитку найдешь. А обычный противогаз не действует. К тому же, если вы все правильно сделаете, в вашу сторону газ не пойдет.
— А если пойдет, да, а если? Макарушка переживает, ох, переживает.
— Мы покажем. Мы приготовили для вас — пойдемте посмотрим.
Макарушка, видимо, заколебался. Само собой, вечер уже — не при солнце ведь с чужими говорить? — и вояк своих вокруг полно, но боязно — мало ли наземники понапридумывали? Но пошел, захлюпал осторожненько по весенней грязце. За ним — и свита, сборище из паноптикума. Недалеко отошли — в ближайшем овраге Круз приготовил яму. В яму посадили козу. И добровольца с повязкой, прикрывающей рот и ноздри, — котласского солдата из тусклых, излеченного вакциной. Стали сверху, вертят шеями. Круз махнул. Зашипело, из шланга над ямой повалил густой синий дым. Покатился вниз тяжелыми клубами, стек, заливая, затапливая. Коза заметалась, чуть не оборвав привязь, упала, задергалась. Испустила струю мочи с кровью, запенила ртом. Наконец затихла. Доброволец смотрел на нее тупо, окутанный синим туманом. Поскребся, глянул наверх — что, можно уже? — и полез. Выбрался на край оврага, мокрый от пота. Сдернул повязку.
— Смотрите, — указал Круз. — Здоровехонек. Розовый, цветущий. Через кожу отрава не действует, через глаза, уши, прочие дыры — тоже. Только если вдыхать. Газ тяжелый, оседает в низких местах, не расползается. Через неделю разлагается — и повязки можно снимать. Так что придете уже на чистое место. Только трупы после газа есть нельзя — отравитесь.
— Великий начальничек, а мы-то, грешные, трупиков вовсе и не едим, негоже Макарушке, негоже!
— И хорошо, — заключил Круз.
Весь подарок — сто семнадцать серо-голубых баллонов с надписью «Лютик-3х» на каждом, двадцать три пусковых и пятнадцать тысяч повязок в мешках — подземные сволокли вниз той же ночью. А Круз отправился к Вологде — руководить устройством постов и ждать вестей от дозоров и отрядов, оставленных в подмосковных лесах.
Вести прибыли на третий день — в виде трех дюжин перепуганных, зареванных и до невероятия грязных баб с выводками ребятишек. Привезли их Ринатовы парни, выгрузили под солнце, на платформу, и укатили «собирать урожай». Ринат сам не явился — занят очень, но просил передать, что стреляют жуть как. Подземные лезут изо всех щелей и драпают, потому что стреляют и наверху, и уже народу навалили — несчитано.
Круз слушал, кивая. Само собой, Макарушка, получив ударное оружие, тут же ударил. Пробил оборону и учинил резню. Полномасштабную, судя по тому, что прятались подземные не в городе, а кинулись прочь. Чудесно, чудесно. Осталось выждать неделю, пока газ не начнет распадаться. А там посмотрим.
— Собирайте всех, — велел Ринатову посланцу. — И мужчин, и старух — всех живых. Нам нужны люди.
Насобирали еще сотни три — даже с десяток парней при оружии. Парни пытались отстреливаться, но солнце и поле быстро привели их в беспомощность. Хоть удирать старались по ночам, волки быстро находили дневные укрытия, тем более что устраиваться в лесу подземные не умели. Круз осматривал привезенных, поражаясь: как они жили-то в грязи, в коросте, струпьях, изъязвленные, чумазые, завшивленные донельзя? Почти все — кожа да кости, мелкорослые, гнилозубые, через одного — с чахоткой. Велел, чтоб помыли, обстригли всех и кормили с особой осторожностью, понемногу — перемрут ведь, обожравшись. И чтоб на счетчик проверили — на случай, если радиацию принесли, через зону драпая. Но улов неплохой — как раз население для Сургута. А сургутских сюда, под Вологду.
Когда неделя прошла, предупредил дозорных: сейчас полезут не бабы с детьми, а самые вояки. Когда «Лютик» распадаться начнет, спасутся, скорей всего, только те, кто на поверхности, — а там, понятно, сплошь бойцы.
Про «Лютик» Круз узнал еще в молодости и подписался о неразглашении. Хотя смысла в подписке не было — «Лютик» копировал американский «Ве-де-экс», отраву, разработанную против любителей подземелья еще после вьетнамской войны. Поначалу действовал не слишком эффективно, хотя и проходил сквозь обычный угольный противогаз. Но растекался по низким местам, расползался, въедался в землю и бетон — а через неделю начинал разлагаться, разделяясь на летучую часть и мутную вязкую жижу, разъедавшую даже нержавеющую стать. Летучая часть не имела ни запаха, ни цвета, убивала, впитываясь сквозь кожу, и от нее не спасали ни повязки, ни противогазы — только полная химзащита. Разлагался же «Лютик» в безветрии и тесноте подземелий годами.
Но насчет вояк Круз ошибся — потянулись снова женщины с детьми. Еще изможденнее, жальче и грязнее прежних. Немного — десятка четыре. А в городе пальба началась с новой силой и не утихала неделями. Удивленные дозорные заглядывали в город и, возвратившись поспешно, докладывали: «Стреляют!»
Что ж тут поделаешь? Круз просидел еще месяц, поговорил с беженцами. Те говорили невнятно, кляли солнце, просили мяса для детей. Свежий хлеб есть не умели. Кривились, пробуя. Сухари размачивали, рассмотрев хорошенько. Поедали жадно. Но от мяса просто пьянели. Здоровались друг с дружкой словами: «Мясо есть?» Вежливый ответ: «Нет, но чтоб вам было». Сказки рассказывали детям про мясо. И про мертвых говорили: «Ушел к мясу».
Толком рассказали о городских делах лишь двое парней, ухоженней и сытее прочих, — похоже, личная охрана подземной знати. Оказывается, под землей живут аж восемь племен. Вернее — жили, до того как дураки с Западной не пустили отраву и не выбили центровых и университетских. И нас, заводских. А когда выбили, дикари с Восточной пошли. Те вообще на землю не вылазят, у них же бомба рванула. Страшные, вовсе нелюди. Заживо жрут. Все, теперь метро ихнее будет.
Круз переговорил с парнями осторожно, с каждым по отдельности, выспрашивая ненароком, намекая. Узнав, что выводить людей парни решили сами, предложил спасти остальных. Да, возвращайтесь. Объявите — мы принимаем всех. Накормим, устроим, поселим. А вы, если вернетесь и приведете, станете начальниками над всеми. Если боитесь — можете не идти. Рабочих рук нам не хватает. А начальство всегда найдется.
Парни согласились, оделись в новое, вооружились до зубов — Круз не поскупился — и отправились в город. Одного патрули выловили через три дня — обожженного, скулящего, с раздробленными ошметками предплечья. А второй вернулся через неделю во главе взвода головорезов и сообщил угрюмо:
— Господин командир, баб с детьми мы не нашли. Нету их больше, баб наших. Но мы ваших принесли, которых в лесу постреляли. Их кого поели, а кого не совсем… это ж дикие были, они мясо хранить не умеют.
Круз встал на колени перед мешком с черепами, клоками гниющего мяса, обломками костей, расплющенных, чтобы высосать мозг. Посмотрел на вываленный рядом ворох одежды, сопрелой, окровавленной. На пояса и пряжки, на кабар в ножнах — тот самый, подаренный еще в Апатитах. Сказал глухо:
— Соберите все. Я возвращаюсь.
— Андрей Петрович, а как с этими, московскими? — спросил Ринат растерянно. — Как нам, с городом-то?
— Как хочешь, — ответил Круз. — У меня другие дела в этой жизни.
Снова схватило Круза уже в поезде. Теперь уже всерьез. Зашарил по стене, зашептал посинелыми губами:
— Люся, Люся…
Врачишка, приставленная Аделиной, ойкнула, закопалась в сумке, бренча пузырьками.
— Жестяная трубочка… зелененькая, — прошептал Круз. — Две вытряхни, две…
— Да, да, вот, Андрей Петрович, под язык, под язык, и лягте, вот, подушечка, — засуетилась Люся.
Затем реактивно покраснела, залилась от ушей вниз и вверх и сказала чуть слышно:
— Ой.
— Чего — ой? — осведомился Круз, дыша тяжело.
— Вы, Андрей Петрович… я, конечно, рада, но вам же нельзя, с сердцем, вы же умрете, вы…
— Что я? — спросил Круз недоуменно, отпустив ее талию. — Подняться помоги. Сесть хочу.
— Конечно, сесть, — пролепетала Люся, пунцовея.
— И как тебя, такую дуру, Аделина снарядила ко мне? — проворчал Круз, устраиваясь. — Ты что, не рожала еще? Тебе сколько лет?
— Двадцать… но меня учиться послали, говорят, выучись, потом рожай, а то не выучишься…
— Ты что, с мужиком еще не была?
— Не…
— Куда только Аделина смотрит! — проворчал Круз.
А сам подумал, что супруга по обычаю смотрит изрядно вбок и за спину. Ведь давно уже своих учит тайком, чтоб и Даново дело, вакцину, в руки взять. Семейные дела семейными, а политика — политикой. Чем дальше, тем хуже. А целку нарочно приставила. Не верит, ревнует. С рожавшей перепихнуться — на раз-два, у них только чадо новое на уме. А нетронутыми совет распоряжается, решает, когда подол подставлять, а когда держать. Котласские девы неприступней Эвереста.
Куда смотрит Аделина, подробно объяснила она сама, встретив Круза на перроне и самолично отвезя в Инту. Объяснение не прерывалось минут сорок. Круз благодушно дремал, глядя на серое небо, и думал про вологодскую весну. Когда Аделина наконец выдохлась, сообщил:
— Я ж все равно скоро откинусь. Годы и вагон дерьма за плечами. Мне сейчас осталось дела земные доделать да позаботиться, чтоб они после меня не зачахли.
— Андрей Петрович! — возопила Аделина.
— Думаешь, я способен сидеть на лавочке, детишек нянчить? Такой я ни тебе не нужен, ни себе. Адя, у меня есть ты. И дети. И люди наши все сильней. А сейчас я вернулся с прибытком, и каким.
Аделина раскрыла рот, готовясь возмущенно завыть, но передумала.
— Так-то оно так, если вправду. Не поймет вас народ слабым, Андрей Петрович. Не уважит, — заметила сухо. — Ваша правда. Только скажите мне, тугодумной: вы кого заместо себя собрались оставить, раз любимец ваш погиб?
— Последыша твое бабье все равно бы не приняло — как и ты сама. Одно дело — подчиняться мне, старику. Совсем другое — сорвиголове двадцати лет.
— Умен ты, Андрей Петрович, — Аделина скривилась, глянула насмешливо. — Я тебе больше скажу: нет тебе замены, и невозможно. Ты б на себя глянул: так приказывать привык, что и не замечаешь. Думать не думаешь, что тебя можно не послушаться. И народ-то заражается уверенностью твоей, делает, сам не понимая, отчего послушался. Ты, Андрей Петрович, и вправду хозяин. Мы все — детишки тебе. А теперь представь: кто тебя, князя нашего, заменит?
— Я предупрежу — мой малый совет будет тебя слушать, — сказал Круз устало. — Больше хозяина не нужно. Пусть власть берет женсовет. Вы его хорошо придумали, надежно.
Аделина подошла, обняла мягкими руками. Оперлась щекой о плечо.
— Вы куда сейчас, Андрей Петрович?
— На запад. К Терскому берегу, Кандалакше, Апатитам. Отвезу Последыша. Проведаю своих.
— Вернешься?
— Если жив буду.
— Едь уж… но выжди неделю. Отдохни. А то ведь не вернешься. Покушай, соберись. Предупредишь кого надо. Людей подберешь. На поезде давай — и быстрей, и нам польза, пути проверить да разведать.
Вечером Круз велел принести гроб и мешки. Развернул клеенку, высыпал кости, морщась от вони. Перебирал, гладил черепа. Наконец выбрал. Уместил в гроб, положил кабар и автомат с рожком патронов. Немного, но на последнюю дорогу хватит. Да и не любил Последыш стрелять. Для него победа не победа была, если не лицом к лицу, кровью к железу. Гроб приказал заколотить, прочие кости — похоронить у изножья Данова кургана.
Двинулись через неделю изрядной силой — две настоящие бронеплощадки, одна с танком. Круз хотел меньше — ни к чему, на севере нет больше никого. Да и договорились по коротковолновику: люди из Апатитов вышлют навстречу, подождут в Маленьге. Но Аделина встала твердо — не хочешь своих, я бабью силу отправлю, из охраны.
В Маленьгу прибыли без проблем, хотя получилось небыстро. От Коноши еле ползли, проверяли путь, дважды пришлось ремонтировать полотно и менять рельсы под нудным промозглым дождем. Лето затерялось, застряло где-то среди леса, вернувшегося в старую Европу. И на крошеный бетон перрона Маленьга выбрались под дождем, неизбывной серой моросью, мертвящим потом ожирелого, засаленного неба. Капли дрожали на склизких ветвях.
Круз подошел к человеку, одиноко ждавшему у вокзала, обнял.
— Здорово, старшой, — сказал След.
— И ты здоров будь, След. Или как тебя теперь?
— Никанор.
— Поздравляю, волк Никанор. Кто родился-то: мальчик, девочка?
— Дочка, — ответил Никанор хмуро. — Как вы там? Я слыхал: Последыша привезли?
— Все, что осталось.
— Как он умер?
— Его предали, он дрался. Из его группы ушло только двое.
— Он крутой был, Последыш.
— Да. Лучший мой боец. Ты один?
— Напарник свалился, трясет его лихоманка, — След кивнул в сторону полуразваленного вокзала. — Там его уложил.
— Люся! — крикнул Круз, обернувшись. — Тут больной — срочно!
— Зря это вы, старшой, — заметил Никанор-След спокойно, — он не захочет, чтоб его таким видели, он…
— Что он? Веди к нему!
Круз сперва не узнал. Изможденное серое лицо, глаза ввалились, проседь на висках. Иссохшее тело в лохмотьях на вокзальной лавке. Но память услужливо составила целое, и Круз ахнул:
— Левый?!
— Старшой… — прохрипел тот, пытаясь улыбнуться.
— В поезд обоих, немедленно! — скомандовал Круз.
— Старшой, мы только по делу…
— След, закройся. Хочешь, чтоб мой Левый сдох у меня под носом? Эй, Семен, в поезд их!
Когда Левого раздели, обтерли и уложили, Круз скрипнул зубами. Тело, изъеденное вшами, исхудалое донельзя, в синяках, и — гноящаяся пулевая дыра под правой ключицей. Старая — недели две. И таким он отправился по глухомани под промозглым дождем? Со Следа чего взять — всегда был чуть дураковат, на вторых ролях, подголосок. Но Левый, вечный задира и зубоскал?
Говорить о делах Круз отказался наотрез — пока След не поест, а Левого хоть как залатают. След, должно быть, суток двое не ел, потому что чуть сдерживался, напихиваясь. И отключился прямо за столом. Круз вышел минут на пять, вернулся — тот уже сопит в дерматин, в руке ложка с прилипшей макарониной. Будить не стал. Позвал коридорную девку, велел стащить ботинки с гостя и укрыть потеплей. След даже и не взбрыкнул.
Круз уселся напротив, потягивая чай, глядя на подобревшее во сне, совсем детское лицо. В двери сунулась Люся, скривилась — и как вы в такой вони, у дикаря, поди, онучи на ногах сгнили! Круз, улыбнувшись, велел принести еще сухариков. Допил, пошел проверить Левого. Тот заснул тоже, но во сне боль и страх не ушли — вцепились, угнездились на скулах, под глазами, в уголках рта. Люся сказала виновато:
— Плох он. Совсем. Может, и не вытянет.
— Так вы помогите. Очень помогите, — посоветовал Круз.
Спал След-Никанор до следующего полудня. Круз приказал его не будить, а сам пошел к Левому. Тот сидел, опершись на подушки, глядел, как мерно каплет раствор из пластикового мешка.
— Здорово, старшой, — сказал хрипло. — А у тебя здорово — как в Давосе.
— Здравствуй. Ты как?
— Живой еще, спасибо твоим.
— Как тебя угораздило?
— А-а, — Левый чуть двинул рукой — синей, тонкой. — Нас всех угораздило. С тобой След уже говорил?
— Пытался, но не успел. Дрыхнет.
— Если заговорит — не слушай. Дурак он. Из-за него и таких, как он, мы в заднице. Ети его в кочерыжку, мать честная! Дятел!
— Как вы там? Как Правый?
— Василия нет больше. Уходила его лопь. Он в Красноселье за хабаром пошел, а лопство поднялось. Они тоже вымирают, паскудно им. Слово за слово — и за ножи. Порезали его.
— А Вера?
— Кто? А, жена его. Она двоих родила, на третьем померла — как раз когда западная чухна набежала.
— Жаль.
— Красивая была сука, — согласился Левый. — Я ее взять хотел после Правого. Теперь, видно, догоню ее там, за ночью. Уже скоро.
— Тебе еще жить да жить.
— Хорошо бы. Только я зимы не вытяну. Ест меня чахотка. А еще пулю словил на Мурмане. И это хорошо, старшой, что я откинусь. Хоть не увижу, как твои моих ломать станут.
— Откуда ты взял?
— Наши старшие не дураки. Слушают, видят. Знают, что ты с Москвой сделал, куда лезешь и чего хочешь. Ты много силы набрал. Говорят, зрячий наш зелье нашел, чтоб счастье вылечить. Правда?
— Правда.
— И ведь нам зелье не дашь. Не дашь, потому что у тебя народ, и твой народ скоро врежется в мой. Не думай, я тебя не обвиняю. Наши старшие такие же.
— Поедем со мной, — сказал Круз тихо. — Мне нужны воины. И надежные, верные люди.
— Куда мне? — Левый попробовал рассмеяться, но не вышло — зашелся кашлем. — Я уже труп. И лежать хочу под родными сопками. Да, старшой, ты бы Последыша к себе забрал. Похорони его сам. Боюсь, у нас некому о похоронах заботиться… Никого из выводка евонного не осталось, а твои хоть могилку досмотрят. Слышь, старшой, я тебе тайну выдам, важную и государственную. Дохнет волчье племя. Все как твой знахарь говорил — дохнем мы. И лопь дохнет — а ведь продолжаем мочить друг дружку. Поганое мы племя. Так нам и надо — передохнуть. Пусть крысы живут, а мы — сдохнем.
— Не надо так, тише. Капельницу оборвешь… ложись, ложись.
— Старшой, не напускай бойцов своих на нас. Ты ж знаешь — дешево не станет. Мы еще в силе. И мы для вас не угроза — из сил выбиваемся на месте усидеть. Нам велели передать тебе, чтоб не совался. Дурак След, когда проснется, скажет. Грозить будет. Но это вранье, ты ж знаешь. Старшой, дай нам загнуться спокойно. Лет десять-двадцать — и в Хибинах останутся только кости. Приходите тогда, берите что хотите!
Круз долго молчал, не решаясь солгать. Затем все же сказал правду.
— Волк ты мой, храбрый, сильный… обещаю — пока я жив, никто из котласского народа не ступит на твою землю. Но когда я умру… мертвые не властны над живыми.
— Спасибо, старшой, — сказал Левый и попытался улыбнуться. И снова у него не вышло.
Возвращались назад под тем же дождем — мерным, нудным. За окном — дряблая серость, мертвечина так и не родившегося лета. Хоть бы кто выстрелил, что ли? Но доехали ровно и спокойно. В Котласе встретили с хлебом-солью: как же, не иначе Андрей Петрович добра нового добыл — а то зачем ездил? Говорят, хоронить кого — но это повод. Андрей Петрович и шагу без надобности государственной не сделает, уж мыто знаем. Кремень-человек.
И навстречу ему новость-подарочек: Ринат, оказывается, нашел как с Москвой совладать. Ринат — он затейник. Буровую пригнал — какую на вездеходах монтируют, слабенькая, но для дела хватит — и принялся Москву колбасить. Нашел план города, подумал и работать начал: группу с буровой, прикрытую парой танков и «Шилкой», заведет до точки отмеченной, скважину — хоп, и баллонов пять «Лютика» закачает. Управятся минут за двадцать и назад, быстро и чисто. Если шмальнет кто — «Шилка» за секунды решето из дома сделает, откуда стреляли. Семнадцать скважин проделали, своих потерь всего семеро раненых, и то из настоящих один всего, остальные — тусклота бывшая. А как из нор-то полезли, мать честная! И какие страшные! У некоторых — не поверите — по семь пальцев на руках! Кривые, золотушные, горбатые — жуть, жуть! Но как вы велели, Андрей Петрович, — никого не рыспылять, всех собирать. Да сотни четыре поналезло, бабы с мелочью в основном, конечно, но и мужиков хватает. Чудики, право слово, — некоторые вовсе и слов не могут нормальных, лепечут тарабарщину.
Круз так и не научился по-настоящему радоваться и огорчаться. Научился думать то, что нормальным людям привычно думать в радости или горе, и выказывать соответственно — как получалось. Но когда уставал от хлопот или холода — равнодушие заполоняло и рассудок.
Слушая захлебывающегося Ринатова адъютанта, Круз решал некоторое время: отправить Рината на захолустную лесную станцию, командовать парой тусклых, или, напротив, расхвалить перед женсоветом. Затем пожал плечами и сказал, недослушав:
— Люди — это хорошо. Женсовет позаботится об их распределении. А Ринат пусть действует по усмотрению.
— Но, Андрей Петрович! Ведь надо же…
— Что-нибудь очень важное? — спросил Круз. — Если нет, извини — дела.
И пошел прочь. Сзади завопили:
— Андрей Петрович!
Круз не обернулся.
Похоронили гроб с костями у изножья Данова кургана. На похороны пришли немногие — Аделина с парой прислужниц, Крузова охрана да бывший лейтенант Саша, ссутулившийся, жалкий. О Дановом кургане уже пошла дурная слава: дескать, если баба ступит, кровь детородная пропадет. А у мужиков, которые из тусклых, все обвянет. Правда, настоящим, которые в зиме родились, не страшно, покойный колдун любил их, — но от этой колдовской любви хуже происходит. Знахарь в сны приходит, глазами их видит, чтобы проверить, как его город и дело живут. Оттого нет человеку покоя, и безумие.
Вправду, народ детей, напрочь забывших взрослое. Дан и об этом предупреждал: корни знания забудутся скоро, останется набор инструкций, рецептов, повторяемых без понятия. Магия чужой мудрости. А опустевшее место заполнят сами, по-детски, страшилками и чучелками. Очеловеченными волками, охочими до бабьей срамоты. Диколюдами, оленями о целебных рогах, тусклыми мороками, гиблыми урманами, где лежит зараза древнего, самого лютого счастья.
Это полбеды. Беда в том, что бывшие тусклые уже только на работе чернейшей, пахоте или разгрузках, и живут отдельно, и с бабами только своими. А все, кто хоть какой власти достиг, норовят рожениц за Воркуту отправить, чтоб чаду вакцина не понадобилась. Раса господ, ети их. И ведь сам хорош — даже после того, как Наталинка чуть не замерзла насмерть, рожать Аделину отправлял за Воркуту. Правда, никто не умер и вакцина не понадобилась, хотя из северных младенцев половина умирала. Самое любопытное, никто не удивился. Кивали: понимаем, мол. Это ж старая кость, из прежних. Кровь сильная. Знахарь хоть лунь лунем, а по десятку девок оприходовал. Да что ты, Марфуша, как же старикан такой? Старик-то старикан, а глянь на Андрея Петровича — у-у! Недаром девки липнут. Адька-то стережет, одних целок с ним отправляет. В силе хозяин: и руки, и детородие!
Что тут поделаешь? Если б только Дан захотел устроить по-другому… Он бы сумел. Он понимал, как люди устраиваются, уживаются друг с другом. А его друг Круз умеет лишь войной управлять, раздачей смерти. Добычей земли и крови. Каждому свое. Да и чего уже про устройство жизни думать? Земля цепляется за ноги, скрипит поутру в суставах. Времени осталось — доделать свое, немногое, самое важное.
Судьба смилостивилась и помогла: в начале августа станция Котласа поймала передачу из Минска. Знакомо гнусавящий голос взывал к «северным братьям», прося помощи и обещая выгоду. Выгоде Круз не поверил, но помощь обещал обдумать. Через две недели в Котлас на трех броневиках явилась делегация — дюжина угрюмых, бинтованных, грязных мужиков. Круз велел их помыть, накормить, а после пригласил на чай с сухариками. На чай явились всего пятеро, распаренных и осоловевших. Клевали носами, пока Круз обстоятельно расспрашивал про погоду, дорогу, урожаи и бабье плодородие.
Наконец, когда самый стойкий — лысоватый шатен в черепаховых очочках — тоже едва не врезался в стол и заерзал, извиняясь, Круз спросил невинно:
— А сколько танков потеряли?
— Восемь, и два на площади, — ответил шатен сонно — и побледнел.
Хорошо побледнел: сперва мочки, затем белая волна побежала по хрящам, скулам, шее, застопорившись у глаз. Далее шатен совершил глупейшее из возможного: вытянул шею, глядя испуганно, и промямлил:
— Вы откуда знаете?
— Моя работа — знать, — ответил Круз, улыбаясь. — А мины как, помогли?
— Нет, совсем нет — они же из периметра пошли… постойте, какие мины?
— Слушай меня внимательно, парень, — попросил Круз, уложив сухарик на блюдце. — Слушай, и, возможно, я вытяну вас из дерьма. Я хочу знать, когда у вас случилось, сколько осталось и где вы держитесь. Хочу знать, только ли изнутри у вас взорвалось или снаружи добавили. И ты мне сейчас все это подробно, детально, спокойно объяснишь. Эй, Люся! Завари ему по-нашему!
Шатен отхлебнул черного пойла, поперхнулся.
— Ничего, сейчас взбодришься. Цеди давай… еще, еще глоточек. Прекрасно. А теперь — я слушаю!
Все как и предполагалось: люди за поясами мин в конце концов заигрались в город солнца. Беды начались, когда вдруг исчезли окрестные племена.
— Конечно, их меньше становилось, понятно, вымирают, да и мы набегаем, но ведь еще оставались, — шатен искренне удивлялся, — а куда делись? И чудики, собачье племя, тоже делись. А потом исчезли и мальчишки-головорезы. Постоянно ведь шныряли, норовили навредить. Но исчезли напрочь. Раньше как жили — всегда начеку, всегда готовы отразить. А тут и надобность пропала. Тусклые начали роптать. Они и раньше, да справлялись с ними. Сейчас — не справились. Вы ж Григория Яковлевича знали? Так его девка кончила, секретарша его. Шприц с бензином в глаз воткнула. То ли он в казарму ее отправить хотел, мужикам на потеху, то ли еще что. Не разобрались, времени уже не было. На другой день и полыхнуло: офицеров побили, налоксон побрали и принялись косить направо и налево. Седьмой отдел на мины загнали, страшно смотреть было. Чуть все не улетело к чертям. Павловский спас — из стариков он один и остался. Мы центр потеряли и фабрику, сидим в трех кварталах. Они ж все погубят, они сами не могут прожить. У них уже свары, и фабрика стала. Павловский нас послал сюда. Говорил, вы один можете спасти. Говорил, — тут шатен замялся, — у вас лекарство уже есть, настоящее, от счастья помогает?
— Есть, — подтвердил Круз. — И я могу дать его — тем из вас, кто приедет сюда, ко мне. Я помогаю только своим.
— Мы же затем и приехали, — встрепенулся шатен. — Мы хотим союза, дружбы! Мы обеспечим вам западную границу!
— Западную границу — это хорошо, — согласился Круз. — И дружба — тоже. Знаешь, парень, — а не посмотреть ли мне самому, какая такая у нас дружба намечается? А ты меня проводишь.
— Конечно, конечно, — пробормотал шатен.
Он не соврал. По дороге — безлюдье, тишина, пустота. Круз подготовился основательно: дрезины, бронесостав, ремонтники, пара танков и БТР на платформах. Сорвал Рината из-под Москвы — кончай с ума сходить, дозоров там хватит. Ринат ворчал: не дали доделать. Уже одно водохранилище спустил, и так удачно, прям озеро сделалось. А три высотки — сам видел! — провалились. Метро, видать, размыло. Так им и надо, крысам подземным. Кто в заразную зону не уберется, всех выбью! Окстись, Ринат, — серьезно играем. Андрей Петрович, там много людей? Много, Ринат. Не совсем хороших, но где хороших найдешь?
Аделина плакала. Снова полез ведь. Обещал не соваться на пару с молодыми, и снова… Помереть захотел. Я ведь знаю, старости боишься. Круз не ответил — а что тут скажешь? Аделина снарядила десяток бабенок — вроде как медсестры и врачи, но глаз наметанный сразу распознает: если нужно, они на тот свет отправят скорей, чем залечат.
И вот теперь, после всех нервов и треволнений — тишь да гладь. Тревожатся одни ремонтники перед каждым мостом. Платформу с танками тянут впереди, проверяют. Пару раз копошились, укрепляли. Но старое держит на диво прочно — для войны строили.
Куда же подевались люди? Кто-то жил к северу от Минска, кочевал по заброшенным городкам. И банды мальчишечьи — неужели все вернулись? У них же система лагерей была, до сих пор всю не раскрыли, потому что никто ее толком не знал.
Обогнули Москву с запада, двинулись к югу. Великие Луки, Витебск. В Оршу въезжали с особой осторожностью, на окраине спустили танки на дорогу, отправили народ прочесывать. Пусто. У вокзального перрона — взорванная дрезина, ржавый пулеметный ствол уткнулся в небо. Кости в лохмотьях. В глазницах проросла трава. Ветер тащит по бетону клок бумаги — желтой, хрупкой.
Круз велел остановиться. Зашел зачем-то на вокзал, глянул на заплесневелые стекла касс, на лепнину у потолка. Пожал плечами: в памяти было пусто и ровно. Остались лишь слова — равнодушные, вычитанные из книги, описывающей странную жизнь человека по имени Андрей Круз, к нынешнему Крузу отношения вовсе не имеющие.
Выбрался наружу, едва не разломив обветшалую дверь. Позвал Рината. Велел оставить дрезину с платформой, БМП, десяток людей, а с остальными двигать на Минск. Стать за первым поясом мин, в город не въезжать, сколько б ни уговаривали и что бы ни сулили. Отправить послов: пусть объявят, что Котлас готов принять всех, пришедших без оружия.
— Но это же наш дом, мы же работали, сделали столько… — залепетал шатен.
— Вы хотели спасения — вот оно. Все пришедшие будут жить и кушать от пуза — и без налоксона. Но умирать за вашу глупость мы не станем, — сказал Круз шатену.
Потом долго стоял на платформе, глядя вслед погромыхивающему составу. Затем забрался на дрезину и приказал двигать — на юг.
Снова — пустота. Молодой лес, заливные луга. Усталая осенняя зелень, уже подернутая янтарем. Покосившиеся, заросшие дома придорожных поселков.
Подле знакомой круглой башни у вокзала пробилась рощица березок. Асфальт перрона взломала трава. Едва глянув на городок волчьего племени, Круз понял — никого. Выгрузили БМП, пошли осторожно, затем осмелели. Люди ушли отсюда, давно ушли. Остался лишь запах отравы — едкий, пряный, щекочущий нервы, тревожный. Люди ушли без спешки — собрали ценное, заколотили двери.
На площади у почты, где когда-то горел праздничный костер и Последыш танцевал с волками, высились три обложенных кирпичами холмика. Один — с крестом. Круз, щурясь, прочитал нацарапанные на жестянке буквы: «Д. Ю. Буевич». Постоял молча, пожал плечами. Где ж теперь твой народ, знахарь? Ушел к новым землям, спокойным и свободным? Или просто рассыпался пригоршней палых листьев, когда не стало воли, державшей их в кулаке? Тебе уже все равно. И мне тоже. Мне всегда было все равно. Если равнодушие считать смертью, я умер давным-давно, еще до того, как погиб мой мир. Дышал, двигался просто потому, что рассудок упорно твердил: «Надо». Теперь уж точно не надо. Усталый старик не нужен даже самому себе. «До скорого», — сказал Круз кресту, уходя.
Память не подвела: хоть петляли час по заросшим проселкам, Круз в конце концов узнал деревню с древним магазином, холмы и реку. А когда тени поползли на восток, нашел кострище и, невдалеке, висящий на веревке скелет в пятнистых лохмотьях. Вынул кабар, обрезал, опустил мягко наземь.
И сказал, глядя в пустые глазницы: «Извини, Михай, что так долго. Но я вернулся — как обещал».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Из ответного письма хранителя Святого города Высокому совету г. Котласа
…Почтенные матери, безусловно, правы: времена изменились. В самом деле, мы больше не воюем, как в прошлые годы, союз наш незыблем. Те, кто теперь надевает знак зрелости, уже не помнят, с чего начиналось. Но именно потому я не могу согласиться с вашим высоким решением и утверждаю: оно, неся сиюминутную выгоду, способно навредить многим грядущим поколениям.
Умоляю: не разрушайте память великого прошлого! Уже сейчас заметно, как умаляется знание о славных героях, спасших наш мир и чудесные знания прошлого. Есть те, кто отрицает даже существование моего великого предка, не говоря уже про Мудреца и Друга Зверей. Есть те, кто недоволен гармоничным, спокойным и совершенным устройством нашей державы и бунтует, желая покинуть предписанное от рождения место. Они не хотят учиться, забывая, что именно нежелание людей занять положенные места погубило старый мир. Они оспаривают право высокорожденных, тех, кого очистило дыхание зимы, кто родился в краях холода, повелевать теми, у кого в жилах течет яд радости, пусть и укрощенный чудесным средством предков. Как ни горестно, у них есть сторонники в самых верхах — Высокий совет знает, о чем я. Они утверждают, что не все располагают средствами, чтобы отправить беременных на север. Но это возражение смехотворно! Должными средствами обладают как раз те, кто занимает положенное высокое место. Кроме того, Воркутинское поселение невелико и неспособно принять всех — что, безусловно, побуждает поднимать цены. Более того, я протестую против направления провинциалов низшего разряда — тем более обогатившихся смутно и нечистоплотно, — на земли Святого управления. Их достойны лишь потомки тех, кто сражался и творил рука об руку с Великим Крузом.
Высокий совет, мы обязаны соблюдать законы предков, пусть даже войны вспыхивают теперь лишь на границах! Низшие должны служить высшим плотью и делом. Высокие матери, вы же знаете: я отнюдь не желаю прослыть закосневшим ретроградом, я охотно принимаю перемены, если они не вредят нашему общему делу. Я согласился, когда Высокий совет предложил отменить право Священного рабства и распустить Суд чистокровия. Я поддержал вас в запрещении свободным волкам поедать смутнорожденных и тусклокровых, тех, кто погряз слишком сильно даже для благословенного эликсира предков.
Но я против, незыблемо и нерушимо против умаления величия Святого города Инты — главнейшего, важнейшего, чистейшего места нашей державы! Жизнь ее — зеркальное отражение жизни Святой земли. Любое, сколь угодно малое событие здесь разносится стократным эхом. А решение Высокого совета — не побоюсь этих слов, необдуманное и поспешное решение — грозит умалить важнейший праздник Святой земли и всей державы: День Вознесения Великого Круза! Жертвенная кровь, пролитая в этот день, освежает землю и дарит плодородие, капли ее благословленные землепашцы разносят по отдаленнейшим уголкам наших земель. Жертвенный пепел дарит дожди, а жертвенная боль, возносясь к небу, умиротворяет великих предков, дарящих удачу во всех наших делах. На праздник Вознесения собираются тысячи паломников — и вы желаете разрушить веру в сердцах людей, разрушив обычай, предписанный предками?
Почтенные матери Высокого совета, умоляю: отмените ограничение! Девять жертв — лишь треть предписанного ритуалом! Каждая жертва: крови, огня и боли — требует как минимум девяти. Кроме того, нужна сильная жертва для поедания священным волком, из злодеев, недозволенно отнявших жизнь высшего. Из этих девяти ее выделить невозможно, ибо ни одна из жертв не может быть менее другой. Уверяю вас: на — рушение обычаев — первый шаг на пути к вседозволенности и безумию, погубившим старый мир.
Надеюсь, Высокий совет на этот раз внемлет моей смиренной просьбе.
Хранитель Священной земли и города Инты, Владыка рабов и стад, Высокорожденный и Первейший, Хозяин машин железа и пара, Андрей Второй, единокровный потомок во втором колене Круза Великого.Писано в год 97-й от перерождения мира.


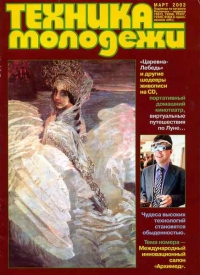



Комментарии к книге «Волчий закон, или Возвращение Андрея Круза», Дмитрий Сергеевич Могилевцев
Всего 0 комментариев